Облава
„ОБЛАВА“ М. ЛАЛИЧА
Не многие писатели так верны одной теме, как югославский писатель — черногорец Михаило Лалич. Все, что написано им после войны — романы «Свадьба» (1950), «Ненастная весна» (1953), «Разрыв» (1955), «Лелейская гора» (1957, 1963), «Облава» (1960), несколько сборников рассказов, в том числе недавно вышедший «Последняя высота» (1968), — то есть, за исключением нескольких рассказов и стихотворений, все его творчество связано с темой народно-освободительной антифашистской борьбы в Черногории.
Чем вызвана столь прочная привязанность к одной теме? Личным опытом писателя, в полной мере изведавшего превратности партизанской борьбы? Принадлежностью к народу, который столетиями воевал за независимость и национальное сознание которого складывалось в этой войне? И одно и другое обстоятельство играют заметную роль в творчестве М. Лалича. Но еще важнее то, что минувшая война вошла в его писательское мировосприятие как «сгусток жизни», если воспользоваться выражением, употребленным в «Облаве», как крутой перелом истории, на котором отчетливее всего обнажается подлинная сущность людей и конфликтов.
Война неизменно служит для М. Лалича исходной ситуацией, позволяющей показать человека во всей его сложности и неоднозначности. Ибо М. Лалича интересуют не события войны сами по себе, а главным образом человек, участник этих событий. На протяжении всего своего творчества писатель решает вопросы, с большой остротой вставшие перед всей европейской литературой, связанной с опытом антифашистского Сопротивления, — о сущности человеческой природы и общественной сущности человека, об исторической обусловленности поведения человека и о личной ответственности каждого за свои решения и поступки. Книги М. Лалича, построенные на конкретно-историческом материале народно-освободительной борьбы в Югославии, привлекают внимание читателя к философским и морально-этическим вопросам, имеющим важный смысл для современности.
В произведениях М. Лалича человек всегда рассматривается в драматический, критический момент его существования.
Партизанская война предъявляла особые требования к каждому участнику. Партизан часто действовал не по приказу командира, а по велению совести, он не всегда имел возможность опереться на товарищей. Как правило, М. Лалич сосредоточивает внимание на человеке, который в силу обстоятельств остается один и действия — или бездействие — которого зависят только от него самого, от его убеждений, от его понимания долга. Такая ситуация, нередкая в условиях партизанской борьбы, дает писателю дополнительные возможности выяснения интересующих его вопросов.
Всем содержанием своих книг, судьбами многих людей М. Лалич показал, что во времена общенародных потрясений каждый человек оказывается перед необходимостью определить свое место в борьбе. Делая выбор, человек преодолевает не только внешнее, но и внутреннее сопротивление — страх за свою жизнь, эгоизм, себялюбие. В романах «Ненастная весна», «Разрыв», «Лелейская гора» внимание писателя сосредоточено на жестокой проверке, которой подвергали человека война и оккупация, на становлении личности в тяжелейших условиях борьбы и моральной деградации тех, кто не смог выдержать эту проверку. Проблема выбора ставится М. Лаличем с абсолютной бескомпромиссностью: человек должен занять свое место в борьбе с фашизмом. Среднего решения быть не может.
Проблема выбора осмысляется в современной литературе самых разных направлений. На этой проблеме сталкиваются различные философские точки зрения. В то время как литература, связанная с философией экзистенциализма, признавая необходимость выбора и даже действия, сводит их исключительно к индивидуальному плану, к проявлению свободы личности и отрицает общественный смысл действия, для писателей социалистического мировоззрения критерием является именно общественная обусловленность поведения человека.
М. Лалич, рассматривая человека, его возможности, его поведение в период важнейших общественных событий, выдвигает в своем творчестве ряд общих с экзистенциализмом проблем. Проблем, но не решений. Решения же, которые он предлагает, по существу являются художественной полемикой с экзистенциализмом.
То, что история входит в жизнь всех людей, определяя, а порой ломая отдельные судьбы, сейчас не является предметом спора. И для М. Лалича это несомненно. Но так же несомненна для него и обратная зависимость: историю делает каждый, каждый человек ответствен перед собой и перед историей за свои поступки — и за бездействие тоже. Признавая безусловный характер зависимости человеческой личности от истории, М. Лалич в то же время далек от ощущения того, что человек всего лишь песчинка в буре, что им безраздельно управляют обстоятельства. Он подчеркивает ответственность человека за любой поступок, за его последствия для всех. На первый план выдвигается вопрос значительности, самоценности человеческой личности.
Всесторонне анализируя характер взаимосвязи истории и личности, М. Лалич утверждает человека социального, человека исторического. Именно с позиции утверждения человека во всей совокупности его общественных связей и вытекающих отсюда индивидуальных, общественных и политических функций писатель обращается к интересующим его в первую очередь вопросам морали. Моральный аспект рассмотрения проблемы человека на войне в творчестве М. Лалича неотделим от вопроса активности личности.
Произведения М. Лалича составляют единое целое, их объединяет общее место действия, близость действия во времени, общий круг действующих лиц, из которых то одно, то другое выступает на первый план, и главное — их объединяет единство темы. Это тема человеческой солидарности как условия победы, одиночества как источника поражения и гибели. Если Тадия Чемеркич в «Свадьбе» был олицетворением воли, силы, морали коллектива, то на судьбе Нико Доселича, главного героя романа «Разрыв», показана обреченность человека, утратившего связь с коллективом и веру в него. В тяжелый период партизанской войны, не выдержав поражения, гибели товарищей, изоляции, Нико Доселич сдается в плен. Его перегоняют из лагеря в лагерь, он видит бесчисленные расстрелы и убийства, ему самому на каждом шагу угрожает смерть, и он становится безвольной жертвой насилия. Он не верит больше ни в кого и ни во что. Хотя впоследствии обстоятельства меняются и Нико Доселич вновь попадает в партизанскую бригаду, он уже не в состоянии преодолеть внутреннюю пустоту и неверие. Партизан, коммунист, утративший ощущение единства людей, связанных общими идеалами, показывает М. Лалич, обречен. Моральное крушение становится причиной его физической гибели.
Человек показан у М. Лалича во всей сложности его проявлений. В одном из своих интервью писатель высказался против поверхностного, фактографического описания «видимой реальности», против сведения многообразия человеческих чувств и разносторонности характеров «к одной-единственной страсти политического убеждения». М. Лалич назвал такой упрощенный подход «компрометацией реализма». Настоящий реалист, считает писатель, не может пренебречь действием тех, не всегда подвластных разуму сил, «которые своими сложными путями разжигают страсти, приводят к столкновениям между людьми и в душе одного человека, иногда разрушают то, что было монолитным, иногда соединяют то, что выглядело несоединимым, создавая бесконечную пестроту человеческих характеров». Стремясь разобраться в неоднозначных, порой противоречивых явлениях, обнаружить истоки самых сокровенных чувств человека, М. Лалич, однако, никогда не изменяет общественному критерию. Моральная сущность человека, по его понятию, неразрывно связана с его общественной сущностью. То, как человек осознает свой общественный долг, отражает и его нравственную сущность. И измена общенародному делу — это прежде всего нарушение нравственного долга.
Этим утверждением устанавливается естественная связь между партизанской, революционной моралью нового времени и нравственным кодексом народа, сложившимся в вековой борьбе за независимость. Слова старого крестьянина в «Свадьбе», обращенные к малодушному племяннику: «Род наш позоришь и партию свою», показывают, как мораль патриархального братства в сознании народа сливается с партизанской моралью. Общее, исходное для них — прославление мужества, свободолюбия, товарищества. Эти качества, которые всегда были мерилом человеческой ценности в народном сознании, превыше всего ставятся и М. Лаличем, ими определяется концепция человека, которую писатель создает в своем творчестве.
В романе «Лелейская гора» — этот роман, как и «Свадьба», известен советскому читателю[1] — тема человеческой солидарности рассматривается в ином аспекте, чем в «Разрыве».
В центре здесь судьба знакомого уже по другим произведениям Ладо Тайовича. Стечением обстоятельств Ладо Тайович остается один в том мрачном краю, ставшем в воображении народа обиталищем Дьявола, где скрывался раньше Нико Доселич, откуда, сломленный одиночеством, он добровольно ушел в четническую тюрьму. Ладо проходит через те же испытания — голод, раны, бесконечные облавы, сомнения в целесообразности своей борьбы. Один в кольце врагов, Ладо переживает тяжелый внутренний кризис. Являющийся ему Дьявол — это и обманчивый призрак расстроенного воображения, и образ, воплотивший в себе сомнения героя, — ставит перед ним разъедающие сознание вопросы. Есть ли смысл в сопротивлении одного человека? Стоит ли жертвовать жизнью за идеалы, которые могут и не осуществиться? Какое значение имеет прекрасное будущее для человека, которому не суждено до него дожить? В споре с Дьяволом — этот спор раскрывает идейную проблематику романа — Ладо оказывается победителем.
Но Ладо Тайович не только размышляет о смысле действия. Он и действует, он, как может, расправляется с врагами. Ладо не уходит в Боснию вслед за отступившей партизанской армией, так как считает, что он нужен здесь, в краю, где пока верх взял враг, нужен для того, чтобы беречь и поддерживать до прихода соратников подавленный, но неугасший дух сопротивления фашизму. В своих действиях он видит исполнение воли товарищей «непременно приставить к этому краю сторожа в нашей шапке, обязав его маячить тут, бегая вверх и вниз по горам и создавая видимость нашего присутствия в этих местах. И я сберег для них, что было можно». Пройдя через суровые испытания, на пороге новых испытаний и трудностей он говорит: «Самое главное для меня — моя жизнь и вера в коммунизм. Только это, а все остальное — предрассудки и православные глупости, в которые давно уже не верят даже звонари». Ладо Тайович ожесточенно борется за свою жизнь, и это естественно, но как личность он утверждает себя тем, что в обстановке смертельной опасности постигает свою ответственность за общее дело.
Пересечение политических и этических проблем, их взаимосвязь, взаимообусловленность в «Лелейской горе» и «Облаве» получают особенно отчетливое и определенное выражение.
В романе «Облава» исследование человека на войне соединяется с большим, чем когда-либо у М. Лалича, эпическим размахом, с более глубоким показом борьбы в Черногории, где сложно переплетались позиции и интересы разных групп населения.
Сюжет «Облавы» предельно прост.
В романе рассказывается об одной операции, облаве, предпринятой предателями своего народа, пособниками оккупантов, четниками при соучастии мусульманских отрядов самообороны и под покровительством итальянской дивизии против небольшой группы коммунистов-партизан, зимовавших в горах, в землянке. Незадолго до того партизаны совершили диверсию и тем самым обнаружили себя. Знакомая читателю по роману «Лелейская гора» Неда безуспешно пытается предупредить партизан; впрочем, плутая в горах, она своими следами на снегу направляет погоню по ложному пути и дает возможность партизанам ускользнуть из землянки. Начинается преследование. В неравном бою почти весь небольшой отряд партизан гибнет.
Описанный эпизод соответствует политической и военной обстановке, которая сложилась в Черногории к началу 1943 года. Партизанское движение переживало трудный период. После отхода в Боснию партизанской армии в Черногории остались лишь небольшие разрозненные партизанские отряды, «бесстрашные, но маломаневренные, исполненные благородства и прямодушия, но лишенные хитрости, без которой на войне не обойтись», как писал о них М. Лалич еще в «Свадьбе». Численно превосходящие, вооруженные до зубов враги учиняли зверские расправы над уцелевшими партизанами и поддерживавшим их населением.
На основе четкого, точного чертежа М. Лалич создал произведение большого обобщающего значения. Художественный строй романа таков, что конкретные ситуации истории переходят в философские вопросы бытия, а психологически достоверно очерченные характеры — в метафорические фигуры. Ни в каком другом произведении М. Лалича общее не показано через частное с такой убедительностью и силой, как в «Облаве». Один и, может быть, в общих масштабах событий не такой уж заметный эпизод партизанского движения в Черногории поднят до значения символа. Облава на партизан становится в книге обобщенным образом, заключающим в себе большое содержание. Трагический эпизод борьбы партизан предстает как часть извечной борьбы между добром и злом, как преследование человека и всего человеческого в мире, где господствует насилие и преступление; преследователи олицетворяют в себе все то античеловеческое, атавистическое, что дремлет глубоко в подсознании людей, а во время войны получает возможность проявиться в наиболее чудовищных формах. Но это только одна сторона образа. Нет оснований, думается, абсолютизировать ее, как это делают некоторые югославские критики, и толковать этот образ только как выражение всеобщей, вневременной облавы на человека. Сложный, многозначный образ облавы создается в книге взаимодействием двух слоев — конкретно-исторического и обобщенно-метафорического. М. Лалич нигде не отрывается от реальной исторической и политической обстановки Черногории военного времени. Центральный образ романа не может быть понят вне его конкретно-исторического смысла. Писатель как бы рентгеновскими лучами просвечивает факт, лежащий в основе романа, и этот факт предстает в своем широком значении, во взаимосвязи и взаимообусловленности со многими важными общественными, историческими, политическими вопросами эпохи.
В обобщении широкого плана, каким является роман «Облава», открываются новые аспекты проблематики, занимающей писателя на протяжении многих лет. Проблемы осознанности действия, героизма и жертвы отличаются здесь той остротой постановки вопроса, которая создается последним, самым высоким испытанием, назначенным человеку, — испытанием смертью.
Струя размышления, пронизывающая всю структуру романа, естественно вытекает из его содержания. Идеи романа органически сращены с описанными событиями и людьми, их поступками, их мыслями, тем более значительными, что для большинства из них это поступки и мысли в последние часы жизни.
Действие романа ограничено одним днем. Он точно назван — 16 февраля 1943 года. Сейчас, когда события той поры стали историей, известно, что менее чем через два месяца после этого дня Пролетарские бригады, вступив в Черногорию, нанесли сокрушительные удары четникам и четническое движение стремительно покатилось вниз. Но в феврале ситуация для партизан была крайне неблагоприятной. Надо ли было в таких условиях, когда все — и люди, и природа, даже снег, может быть, последний в ту зиму снег, предательски открывавший следы, — объединилось против партизан, предпринимать диверсию, обнаружившую их присутствие? Не было ли это безрассудной выходкой молодых горячих голов, как думает один из членов группы? Не разумнее ли было переждать тяжелое время и сохранить себя?
Да, показывает М. Лалич, эта акция не принесла и не могла в тех условиях принести победы, она стоила многих жизней. И все же она была оправдана. Маленький отряд Ивана Видрича, не желавший бездействовать в то время, когда «наши воюют под Сталинградом и Бихачем», своей диверсией сорвал планы четнического командования, задержал намечавшееся выступление четнических частей в Боснию для борьбы с партизанской армией. Большего сделать в тех обстоятельствах было нельзя. За этот скромный успех, о котором их товарищи в Боснии, может быть, и не узнают, партизаны жертвуют жизнью. Таков ближайший, практический смысл действия и гибели коммунистов. Но есть и другой, более высокий, философский смысл этой акции. В борьбе против темных сил истории «человек должен сделать все, что может», говорится в «Облаве». Эта формула, утверждающая активность человека во имя достижения общей цели, во имя борьбы с фашизмом, которая шла и на берегах Волги, и в Югославии, и во всей порабощенной Европе, заключает в себе основной философский смысл романа. Действия отряда Видрича, так же как действия Ладо Тайовича в «Лелейской горе», необходимы, чтобы показать и единомышленникам, и врагам, и тем, кто колеблется, что партизанское движение существует, что дух сопротивления не угас, а палачи не всесильны. В момент, кризисный для движения, это важно вдвойне. Таким образом, проблема активности человека предстает в романе не как абстрактная, а во всей своей исторической и политической конкретности. Вспомним диалог двух партизан:
— Либо мы, коммунисты, покончим с облавами, либо…
— Что?
— Будет то, что пророчил старец Стан: и побежит человек от человека за тридевять земель.
Выраженная здесь мысль об осознанной направленности и результатах человеческой деятельности, воодушевленной коммунистической идеей и являющейся частью всенародной антифашистской борьбы, чрезвычайно важна для творчества М. Лалича. В этом также проявляется его принципиальное отличие от творчества писателей-экзистенциалистов. Экзистенциалисты вообще не ставят вопрос о результатах человеческих действий, их интересует только моральная ценность поступка. Но действие, совершенное «ни для кого, для себя», как говорит юная героиня Ануя Антигона, сводит индивидуальный протест к типичному для экзистенциализма трагическому жесту. М. Лалич же не только выявляет общественный смысл деяния, но и показывает его связь с завтрашним днем, раскрывает историческую тенденцию, ясно проявившуюся сегодня, когда историческая борьба, в которой участвовали его герои, принесла свои результаты.
Подвиг и жертва партизан в «Облаве» освящены великой идеей социальной справедливости и национальной свободы для народа. В романе есть такой эпизод. Командир отряда Иван Видрич, сломленный гибелью жены и товарищей, ослепший от блеска снега, оглушенный выстрелами, не ощущающий ничего, кроме смертельной усталости, теряет волю к сопротивлению. Его соратник Душан Зачанин, сняв шапку с седой головы («а он никогда ни перед кем не склонял головы»), умоляет товарища двигаться дальше. Кто-то должен вырваться из круга облавы, кто-то должен выжить, говорит он, «не ради себя выжить, а ради этого несчастного народа». Диалектичность взглядов Лалича проявилась в том, что он не идеализирует понятие народа и не ослабляет искусственно остроты исторической ситуации в Черногории. Народ — это не только партизаны и те, кто делился с ними последним куском хлеба, это и те, кого заставили принять участие в облаве на партизан. М. Лалич показывает, насколько сложен был путь прогресса и революции в Черногории, в этом своеобразном краю, который, как говорит он в одном из рассказов, «борется за то, чтобы оказаться в двадцать первом веке, а пребывает еще в патриархальной глуши восемнадцатого». Во время фашистской оккупации четническая пропаганда и террор еще более усилили расслоение населения. Гуманизм революции, утверждает М. Лалич своим романом, состоит не в том, чтобы противопоставлять партизан, коммунистов крестьянской стихии, не в том, чтобы готовить отмщение, а в том, чтобы установить правду, разобраться, отделить врагов от введенных в заблуждение и, если понадобится, защитить их от «своих». Об этом заклинает Зачанин Ивана Видрича, который в его глазах олицетворяет партию и революцию. Душан Зачанин не произносит слова «победа», но именно верой в нее, заботой о том, что будет «завтра», продиктованы предсмертные слова и мысли старого крестьянина-партизана.
Самопожертвование партизан не имеет ничего общего с обреченностью. Их подвиг рожден высоким пониманием долга перед народом. В упоминавшемся интервью М. Лалич говорил: «Поскольку мои герои — коммунисты или хотя бы делили кусок хлеба с коммунистами, они умели воспитывать в себе героические качества, а эти качества прежде всего предполагают веру в человека и его светлую перспективу». Эта мысль нашла в романе «Облава» художественное воплощение.
Бесчеловечному миру облав противостоят живые люди с разными судьбами и несхожими характерами. Объединяет их вера в будущее, принадлежность к великой идее, во имя которой они борются за это будущее. Байо Баничич, Душан Зачанин, Иван Видрич, Ладо Тайович мечтают о переменах, которые наступят после войны, о новой Черногории, где не будет социального неравенства, о развитии ее хозяйства, об укрощении ее рек. Каждый из них представляет себе новую Черногорию по-своему. И все они верят в осуществление своей мечты, хотя и отдают себе отчет в том, что не все доживут до этого времени. Осознанное служение делу прогресса дает им то чувство бессмертия, которое непостижимо для их врагов.
Последние часы жизни коммунистов одухотворены сознанием ненапрасной гибели. То, что сделано ими, размышляет Иван Видрич, «оставит нечто невидимое и безымянное в жизни живых и в ее дальнейшем движении». Об этом же думает перед смертью Душан Зачанин: «…нас никто не заставлял разжигать и поддерживать огонь восстания. Мы сами этого хотели, и если пришлось бы снова выбирать, мы снова выбрали бы то же самое. Наверняка бы выбрали, потому что это единственный способ умереть с честью и так, что частица тебя останется и будет жить столько же, сколько живут камни на Свадебном кладбище». Понимание значения своей борьбы для будущего народа сообщает поистине неизмеримую силу духа Вуле Маркетичу, Душану Зачанину, Гаре и другим коммунистам в последние часы их жизни и делает эфемерной победу четников.
Мысль о бессмертии тех, кто гибнет за свободу народа, настойчиво повторяется в романе. «Они уйдут из этого мира, как все смертные, уходящие раньше или позже, но они останутся во времени», говорится в «Облаве» о коммунистах. Есть особый смысл в том, что эти слова принадлежат старому Элмазу Шаману, возглавлявшему мусульманскую самооборону. Мусульмане в Черногории, зверски истребляемые националистами-четниками, видели свое спасение в сотрудничестве с оккупантами, а это приводило к вынужденному пособничеству четникам, как, например, в облаве на партизан, показанной в романе. Главный урок, который усвоил Элмаз Шаман, видевший на своем веку всеобщую вражду, бесчисленные распри и много напрасно пролитой крови, — не верить никому. Все, чего он хочет, — это защитить своих сородичей от уничтожения, их дома — от пламени. Он не верит итальянским оккупантам, у которых ищет защиты и покровительства, не верит четникам. Он не верит и в успех коммунистов, их слишком мало, считает он, чтобы противостоять насилию и убийствам. Но и для него, старого мудреца, коммунисты «великое чудо», которого не могли предсказать пророки прошлого.
Со словами Элмаза Шамана совпадают мысли другого деревенского философа, носящего четническую форму, — Пашко Поповича. Предавая погибших партизан земле, Пашко Попович представляет себя на пахоте, на пахоте непривычной, необыкновенной, ибо «и семена, которые туда опустят, и плоды, которые из них вырастут, совсем иные. Семена эти, дающие плоды человеческой доброты, душевности, чести и милосердия, должны пустить глубокие корни…». Размышления этих персонажей романа воспринимаются как свидетельство о том, что героическая гибель коммунистов пустила глубокие корни в сознании народа, и как ответ на те мысли о народе, которыми в последние часы жизни обменивались Иван Видрич и Душан Зачанин.
В «Облаве» много действующих лиц — в этом состоит одно из отличий этого романа М. Лалича от других, обычно посвященных одному герою, — и каждое из действующих лиц романа по-своему комментирует события. Но главный вывод предстоит сделать самому читателю. «Облава» — это роман, обязывающий к размышлению. Произведения такого рода — они все чаще появляются в современной прозе, драматургии, кино — предполагают участие читателя или зрителя в происходящем, они настойчиво требуют, чтобы читатель или зритель включился в действие, определил свою позицию. Сама форма романа «Облава» служит тому, чтобы возбудить активность читательского восприятия: завязка события вынесена за пределы романа, показан лишь один полный драматизма финал, открывающий большой простор для мыслей. В этом обращении к сознанию читателя таится большое уважение и доверие.
Н. Яковлева
ОБЛАВА
НИКТО НИКОМУ НЕ ВЕРИТ
I
Находившись до устали вдоль речек, Пашко Попович свернул к шоссе на Брезу и оглянулся на покрытые мглой вершины над селениями Меджа и Утрга. Снегу выпало чуть не по колено, — наверное, последний раз в эту зиму; он покрыл разбросанные редкие кровли, сровнял нивы и пастбища; видно только кладбище, вернее — высокие скелеты дубов над беспорядочным нагромождением каменных надгробий. И это напомнило Пашко, как с конца лета и до самой рождественской резни мусульман на мостах, где у камелька в караульных помещениях дежурила милиция, болтали о дьяволе, который якобы появлялся в окрестностях, блеял, как заблудший козленок, или спускался в село и заказывал гробы. На досуге сочинялись всевозможные небылицы — преимущественно о том, как худо приходилось тому, кто пытался его изловить: дьявол заманивал смельчака все глубже в теснины, скатывал на него камни, давал подножки, мутил разум и доводил до того, что он рад был хоть как-нибудь от него отделаться и уйти подобру-поздорову. Не всем это удавалось. Больше всего досталось, согласно рассказам, старому Чаушу, жителю этих мест, — дьявол целую ночь скакал на нем по кустам да оврагам вдоль реки; старик потерял шапку и опанки;[2] шапка отыскалась спустя недели две на кладбище, когда его, умершего от страха и усталости, принесли хоронить.
Небылиц напридумывали уйму, и трудно было понять, действительно ли то был дьявол или просто чьи-то проказы, — однако по ссорам, возникавшим из-за этого, Пашко наконец пришел к убеждению, что тут не обошлось без нечистой силы, которая вечно всюду путается. Путается, рассуждал он, и принимает разные облики. Иной раз точно начисто сгинет, а глядишь, через год-другой, когда люди уже вообразят, будто ее вовсе нет, снова появится. Вспомнив давнишние истории с привидениями, почерпнутые дедами из седой старины, Пашко незаметно перенесся в прошлое и, позабыв о всякой дьявольщине, принялся размышлять о своем братстве Поповичей из Ластоваца и Старчева и о себе.
Зовутся они Поповичи, однако вот уже сто лет никто из братства не был ни попом, ни монахом, ни пономарем. Церковь далеко, ходят в нее одни старики да старухи, и то раз в год — причаститься. Древний поповский корень, по которому они получили имя, зачах и кончился еще во времена владыки Раде[3] мудрым попом Николой. С тех пор ничего поповского — даже лукавства и красноречия — не замечалось у потомков попов, в большинстве своем плечистых, круглолицых и твердоголовых. Как правило, они были русые, медлительные в речах и скорые на руку, охочие до водки и баб, часто болели сердцем, отчего в старости скоропостижно умирали; братство давало хороших пахарей, грубых, неотесанных чабанов, верных ятаков, укрывавших всякого рода бунтарей и разбойников, были они мастаками врачевать раны, дергать зубы и кастрировать поросят, пасечниками и знахарями. В последнее время некоторые показали себя отличными слесарями, шоферами, футболистами, а один даже стал портным и коммунистом. Искусные ко всему, что делается руками, они, казалось, избегали всего, что утомляет голову; дети их сызмалу не учились, а вырастая, не жалели об этом; книги их не интересовали, постов и молитв они не любили, и глубокомыслием никто из них не страдал.
Лишь он один не такой. Даже по внешнему виду отличается от Поповичей: высок и костист, как дядья Маркетичи из Любы, и волосы у него, прежде чем поседели, были темные. От Поповичей он унаследовал только густые брови да синие глаза, которые в молодости резко выделялись на темно-коричневом скуластом лице. Это несоответствие постепенно сглаживалось и с годами исчезло совсем, но раздоры с родичами не удалось сгладить и времени.
Начались раздоры лет тридцать назад, у реки Брегальницы[4], где сербы и болгары ожесточенно сводили счеты за прошлые и грядущие распри, отнимая друг у друга голые взгорья и выжженную, красную от давно проливаемой крови македонскую землю. Явившиеся «на помощь братьям сербам» черногорцы, раздраженные проволочками, потеряли терпение и, желая во что бы то ни стало показать свою отвагу, бешено кидались в атаку с пистолетами. Болгары встречали их пулеметами, сербы смеялись над дурными братьями. Пашко было не по душе подобное геройство, в результате которого на поле боя оставались груды мертвых и раненых. Не нравилась и сама война с вчерашними союзниками. Слушая, как болгары ругались, шутили, проклинали и причитали на понятном ему языке, Пашко не мог понять, почему он должен идти на них в штыки. Он заболел лихорадкой. В жестокой горячке ему казалось, что ребята из Ластоваца разодрались со своими сверстниками из Старчева, и, если не вмешается умный человек, они повыцарапают друг другу глаза. Но ждал он напрасно — умный человек не вмешался.
Все время Пашко болел то одним, то другим. Кормили отвратительно, фасоль была червивой, хлеб ржавый, томил зной, мучила жажда, слепили освещенные солнцем голые горы, а внезапные пыльные бури не давали дышать. От этой пыли у него и у многих его земляков заболели глаза. В больнице, куда его положили, какой-то сербский недоучка-врач — по неосторожности или по незнанию — промыл ему воспаленные веки чистым спиртом. Наступило ухудшение, и его демобилизовали. Вместе с Пашко отпустили еще с десяток людей, но тем покидать фронт из-за таких пустяков казалось стыдно, и они остались. Для Пашко же это была не воина, а бессмысленная бойня, и он рад-радешенек убрался восвояси, а оставшиеся в окопах товарищи, из которых многие не вернулись, по злобе сочинили на него песенку.
Идет по улице юнак, бинты на голове, Задумал он потешить баб в родимом Старчеве. Тетка, милая, впусти и скорее двери затвори, Не то убьет граната такого храброго солдата.Впоследствии за пение этой песенки можно было поплатиться головой. Поповичи восприняли ее как поругание и оскорбление всего братства и отнеслись к ней не столь равнодушно, как он, а хватали за горло всякого, кто ее заводил, и таким образом заставили в конце концов позабыть песенку, хотя сами позабыть ее не смогли. И даже то, что позже, во время войны с Австро-Венгрией, он вдруг проявил подлинное мужество, не очень ему помогло. Все признавали, что Пашко заслуживает награды, однако родичи постарались сделать так, чтобы он ее не получил, боясь, как бы неминуемая зависть не пробудила в памяти людей проявленную им слабость под Брегальницей и связанную с ней песенку. Таким образом, обелив себя перед другими, он остался навеки запятнанным перед своими.
Пашко отделился, зажил отшельником, завел пчел, подписался на журнал «Пчеловодство» и приобрел очки, чтоб его читать. Откуда-то пошел слух, будто он знает наизусть все двенадцать параграфов неписаного Васоевичского[5] законника. Вскоре к нему приехал из Белграда ученый, чтобы послушать его и проверить какое-то спорное место. За ним повалили другие — кто записать сказания о Дукле[6], о Свадебном кладбище, о букумирах[7] или о пророке старце Стане с Бабина, кто изучать произношение и обычаи, пещеры в горах, коммунист Вранович вел разведку источников минеральной воды, и все спрашивали дом Пашко Поповича, сворачивали к нему, ночевали и дарили книги, которые Пашко читал зимой, когда дети уходили на посиделки, а жена дремала. Кафану Пашко не посещал, на поминки не ходил, в грабежах не участвовал, был молчалив, но порой, залучив досужего слушателя, долго и подробно рассказывал что из книг, что из собственной головы о небесных и земных явлениях и непонятной связи, которая между ними существует. Отпустив бороду в знак скорби по одному из близких родственников, Пашко привык к ней и больше уже не брился. Из-за этой бороды и прочих свойств характера его прозвали «Патриархом», а когда убедились, что и это его не злит, стали звать просто Пашко. Так это имя за ним и осталось.
Хозяйство было у него порядочное, подавался даже кофе для нечаянных гостей. Водились и деньги, только он остерегался давать взаймы тем, кто не любил возвращать долги. Пашко выдал замуж дочь, женил сына и, увидев, как свекровь и сноха ссорятся из-за шерсти, продуктов и работы по дому, тут же отделил его. Все было готово, чтобы встретить спокойную старость, но война, которую он давно предсказывал, все перевернула и задела за самое живое. Пашко начал заговариваться: твердил о каких-то разногласиях и партиях, которые расколют народ; одно время даже казалось, что он сходит с ума. Когда после красных появились бородатые[8], он вообразил, что Кровавая Звезда приблизилась к Земле и помутила людям рассудок. Сначала он тщетно искал эту звезду в облачном небе, потом принялся разыскивать ее в книгах. Говорили, будто Пашко что-то нашел, потому что опять успокоился. Борода его уже никому не бросалась в глаза и служила своего рода рекомендацией, оказавшись неким предзнаменованием, бородой-предтечей. Его записали в итальянскую милицию, выдали новые солдатские башмаки, винтовку и приказали сторожить мосты и дороги от коммунистов. Стали выдавать консервы, хлеб, который назывался «паек», и патроны на случай, если придется стрелять. Месяц-другой все диву давались, почему он ничему не удивляется и не протестует, но потом привыкли и позабыли.
Пашко аккуратно являлся караулить мосты на Лиме и его притоках. Итальянские башмаки из желтой кожи оказались как раз по ноге и, смазанные говяжьим жиром, не пропускали воду. Он охотно подменял на часах товарищей, когда те были заняты своим хозяйством или резались в карты. Таким образом, Пашко часто подолгу оставался один на страже и сидел, уткнувшись в свои астрологические книги, наполненные картами, схемами планет и их орбит. Одни считали его чокнутым, другие гордецом, но те немногие, которым он больше доверял, знали, в чем дело, и рассказывали, что он пытается проверить таблицы счастливых и несчастливых дней, которые составил некий Тихо Браге[9]. Данные он черпал из сводок о количестве мертвых и раненых, о пожарах и несчастьях на Лиме, Таре, Тараше и Уздомире, у Никшича, в Дробняке, в Фоче и на Восточном фронте.
Данных было больше, чем нужно, но они никак не укладывались в старые таблицы. И это принудило его составить новые, собственные таблицы. Вместо тридцати двух несчастных дней в году у него получилось почему-то больше ста восьмидесяти. Все дни между девятым и двадцать пятым выходили несчастливыми, чреватыми бедами и неудачами. Затишье наступало лишь в конце месяца, когда Злая Нечисть, насытившись кровью и умаявшись, ненадолго засыпала. Сначала он сомневался: существует ли Нечисть как самостоятельное, сознательное существо, имеющее объем и вес, но со временем убедился, что каким-то образом она дышит, живет, питается и устает. Что она устает и время от времени засыпает, он заключил позднее. Пашко, конечно, не рассчитывал захватить ее спящей и при помощи своих календарей и наук как-нибудь обезвредить — слишком был он для этого слаб и неучен, ему хотелось только изучить законы сна Злой Нечисти и попытаться каким-то образом его продлить.
От этих мыслей всю зиму и весну его мучила бессонница. После трех-четырех томительных ночей он сваливался. Начинался бред. Колесо зодиака с астрологических карт вертелось перед глазами со скоростью электрической пилы. Сквозь мглу невыносимых болей он чувствовал, как на него сыплется откуда-то дождь цифр и знаков, которые нужно запомнить и разгадать. Порой появлялась и сама Злая Нечисть и смотрела на него животом, хвостом или когтями поднятой лапы. Разбросанные по всему ее необъятному телу бегающие глаза щурились и давали понять Пашко, что он и без того знает больше, чем положено знать простому смертному, и поэтому отныне ему запрещается совать нос в запретные тайны. То тут, то там, где только чудище пожелает, раскрывались пасти: внезапно раздвигалась жесткая щетина, кожа лопалась и над Пашко, беспомощно ввергнутым в пучину ужаса и мрака, раскрывалась зубастая пасть.
В мучительном полусне, не в силах побороть охвативший его страх, Пашко вставал и убегал из дому. Он шагал вдоль Лима или одного из его притоков, по узким лесным тропам, мимо спящих селений, вдоль ручьев, заросших ольшаником и орешником, к ключу, окруженному деревьями, с которых, не умолкая, каркали вороны. Люди обычно не спрашивали, кто он и куда держит путь, — само собой разумелось, что человек с седоватой бородой, в итальянских башмаках и с длинной винтовкой за плечами, знает, куда идет. Он шел, а глаза Злой Нечисти один за другим потухали, пасти одна за другой закрывались, а после того, как Пашко умывался ключевой водой, Нечисть исчезала совсем, и мир становился таким, каким был прежде. Тогда Пашко шел домой и принимался за дела.
Вот и сейчас, после одной из таких прогулок, Пашко чувствовал, как к нему возвращается здоровье и вскрывшиеся было душевные раны затягиваются и заживают. Миновал полдень, небо покрылось облаками, тепло. Пашко охватывает дремота, и минутами он шагает без единой мысли в голове. Это приятно, но длится недолго. Мозг, упрямый как осел, продолжает вертеть водоподъемное колесо бесплодных мыслей о черных днях: в понедельник инструмент валится из рук, ранит пальцы и ладони; во вторник первый совет: будь начеку, в дорогу не трогайся, из дому не выходи и никакого почину не делай; в среду и четверг, если остерегаться, даже и во время войны можно уберечься; в пятницу избегай кабаков, мечетей и вообще всяких людских сборищ; в субботу — уйдешь от женщины, ножа и спиртного — доживешь до воскресенья; в воскресенье случаются большие беды — пожары и массовые побоища…
II
На перекрестке, недалеко от моста, Пашко остановился, раздумывая, какой дорогой идти домой. Довольно широкий проселок вел через Житняк, но Пашко не любил это село: все они там пьяницы, картежники, болеют дурной болезнью, с чужими женами путаются, рожают детей-уродов. Идти удобнее по шоссе, но оно ведет в город, в «обезьянье царство», а туда ему не хочется. Каждый раз, когда он там бывает, его обступают итальянские солдаты — народ худосочный, юркий, любопытный и крикливый, невольно вызывая в памяти отвратительную теорию, по которой люди всего лишь хмурые и вялые родственники обезьян. Не желая снова сталкиваться с этим неопровержимым доказательством, Пашко свернул на проселок. На мосту его настиг дождь, зеленое зеркало воды покрылось пузырьками. Пашко заспешил в караулку житнякских милиционеров.
В помещении не было ни души. В обеденное время, когда не приходится бояться контроля, житнякские милиционеры обычно покидали свои посты и отправлялись в ближайшую кафану поразвлечься. В очаге горела огромная головня, оставленная нарочно, чтоб создать впечатление, будто караульные только что вышли; от нее пышет жаром и попахивает дымком. Пашко вытянулся на лавке, испещренной картежными записями и надписями о том, кто чью жену осчастливил, достал из торбы «Жития святых», чтоб не заснуть и, как только кончится дождь, отправиться дальше. В этой книге, где описывалась жизнь всевозможных мучеников, Пашко находил много подтверждений тому, что Злая Нечисть существовала и лютовала в давно прошедшие времена. Жития он в какой-то мере тоже использовал для своей таблицы несчастливых дней. Кое-что он давно уже проверил, некоторые дни из тех времен и своими событиями, и бедствиями удивительно напоминали то, что он переживал теперь.
Книга открылась на житии святого Мартиниана. Его день — тринадцатое февраля — был позавчера и прошел совсем незаметно; житие Мартиниана Пашко знал в общих чертах, вот он и взялся за него, чтобы наверстать упущенное. Погрузившись в чтение, он ясно представил себе, как святой, грязный, небритый, в лохмотьях, стоя на коленях, молится на пустынном острове. Пашко знал, что за этим последует: сначала явится Фотиния, потом блудница Зоя; чтобы спастись от одной, святой прыгнет в воду, а от другой — в огонь. Пашко слышал рокот Лима, и ему чудилось, будто он сам на необитаемом острове. Клонило в сон, но вдруг на мосту послышались чьи-то шаги. Кто же это, подумал он, удивляясь ничуть не меньше, чем святой Мартиниан при виде Фотинии, когда ее выбросила на берег буря. Неужто и тут женщина?.. И бог с ней, пусть идет своей дорогой! Ни в воду, ни в огонь прыгать я не стану — женщины давно уже не будят во мне грешные желания, из-за которых так пострадал святой…
Слышно было, как скрипит снег под тяжелыми неторопливыми шагами, словно надвигалось какое-то знаменье. Пашко не мог решить, к добру это или ко злу. Он отворил дверь и выглянул наружу: в самом деле — женщина! Женщина явно испугалась — дернулась назад и остановилась. Потом оглянулась на пройденный путь с таким видом, точно жалела, что его прошла, и хотела бы вернуться. Глаза у нее забегали, словно ее на чем-то поймали. Должно быть, витала где-то в облаках. Пашко пожалел, что вернул ее к действительности.
— Не бойся, — сказал он. — Иди под крышу.
— Некогда мне, далеко идти.
— Дождь скоро кончится, вот только туча пройдет.
Женщина неохотно и пугливо вошла, и только тогда ему пришло в голову, что у нее есть основания бояться: в караулках у мостов всегда сидели бородатые люди с винтовками, в желтых итальянских башмаках и требовали предъявить бумаги с множеством печатей и неясных подписей. У нее наверняка нет пропуска — либо потеряла, либо никогда и не было, — потому и дрожит.
— Если у тебя нет пропуска, — сказал он, — не важно. Для меня это ничего не значит. Когда я на посту один, то ни у кого не требую этой чертовщины. Зачем мучить народ и врагов себе наживать?
— Вниз иду, — сказала она первое, что пришло ей в голову. — В Рабан.
— Многие идут вниз, — пробормотал он уже рассеянно, ухватившись за давно волновавшую его мысль. — Все мы идем вниз; и даже когда направляемся в другую сторону, нас все равно сносит вниз. Наша жизнь — как вода, а воды наши горные, быстро уносят все, что в них попадает.
Пашко поднял на нее взгляд и увидел, что она брюхатая. Напоролась, бедняжка, парень-то, видать, примера со святых не брал, вот и вспухла. Он улыбнулся, но тотчас опечалился — беременные женщины всего боятся; что-то в них пугается — может, плод, который уже наперед страшится жизни и перемен? А с другой стороны, может, это всего лишь еще не созревшая и не принявшая настоящий облик материнская забота?.. Тут ему вспомнилась святая Зоя: «Поначалу Зоя была развратницей, искусительницей святого Мартиниана, но, увидев, как этот аскет-отшельник встал в огонь, чтобы убить в себе всякое вожделение, она горько раскаялась и ушла в Вифлеемский монастырь, где и подвизалась как усердная постница и затворница. Отмолив свои грехи, она получила от бога дар чудотворства».
— Ты откуда? — спросил он.
— Из Меджи. Горемыка, клянусь богом, нет хлеба в доме.
— Ты не одна такая.
— Как не одна?
— У многих нет хлеба. Кто сейчас его не ищет?
— Окажется человек в беде, и кажется ему, будто никто не знает, что такое беда. И откуда знать? Чужое горе — не горе!
— Всему приходит конец, и мукам тоже, — сказал он. — Пройдет и это.
С самого начала он понял, что женщина что-то скрывает и старается отвести разговор от главного. В Верхнем Рабане, в селе Опуч, живет некий Арслан, зобастый мусульманин, с изрытым оспой лицом (верно, Арслан Бальмез), названый брат ее давно погибшего свекра, вот она и пошла попросить у этого Арслана немного зерна — взаймы или за деньги. Дороги она не знает, не знает, разыщет ли его и как понесет зерно, если даже его получит…
«Все врет, — подумал Пашко, слушая ее. — Либо зачала незамужней и сейчас хочет скрыться, чтобы родить и замести след; либо она партизанская связная и идет с важным поручением; или черт его знает кто! Все может быть, только не то, что она говорит. Беда лишь, что брюхатая. Несчастный народ эти женщины, — подумал он, — чуть только сделает уступку природе, и все уже наружу, а там, смотришь, заплакал, запищал ребенок…»
— И я иду в ту сторону, — сказал он, словно желая ее успокоить. — Я там живу.
— А далеко село Корытар?
— Корытар — долина, а село называется Тамником. Туда, ей-богу, путь далекий. И долина по-настоящему не Корытар, а Караталих, «Черный талан» по-турецки, а наши прозвали его Корытар — долина-то похожа на выдолбленное в горах корыто.
— Мне сказали, что надо идти по долине.
— Да, тебе правильно сказали. А как тебя звать?
— Неда, — сказала она и тотчас раскаялась, что назвала свое настоящее имя. — Там леса, — продолжала она, — боюсь заблудиться.
— Верно, леса и, надо думать, дорог нет. Может, тебе вернуться?
По ее глазам было видно, что она не хочет или не может вернуться. Пашко отворил дверь и посмотрел на небо: рокот Лима стал явственней, и ему вдруг почудилось, будто какая-то новая река, вырвавшаяся из преисподней, грозит затопить этот пасмурный надземный мир. Туча двинулась дальше, и дождь лил теперь над Нижним Краем. Пашко подал женщине знак, что дождя нет и можно отправляться. И они зашагали по утоптанной милицейскими ботинками широкой тропе. Когда они проходили мимо корчмы, милиционеры увидели через окно согбенного старика с винтовкой и кожаной сумкой за плечами и женщину на сносях и решили, что неравная по возрасту супружеская пара собралась к кому-то в гости. Один из милиционеров сострил даже, что дядя с бородой не напрасно ел макароны — пахал да сеял, вот тебе и урожай; другой добавил, что дяде, верно, племянники помогали.
У сельской околицы Пашко сказал:
— Дорога туда мне знакома, все тебе растолкую. Не бойся, не заблудишься.
И оба замолчали, погрузившись в свои мысли. Собственно, это были даже не мысли, а скорее разрозненные картины прошлого — того, что они когда-то видели или слышали, и эти несвязные картины влекли их то в прошлое, уже не имеющее значения, то в неясное, зыбкое будущее.
Перед глазами Пашко встает по-осеннему желтая дубрава в Старчеве, из нее выходит скользкая, облепленная опавшими листьями тропа. Глаза смотрят на заснеженное село Рабан и Пусто Поле по ту сторону Лима, а видят все ту же тропу, но уже не безлюдную, на ней стоит его родич, коммунист Арсо Шнайдер. Арсо не один, с ним Васо Остоич, по прозванию Качак[10]. Было это полтора года тому назад, а вот сейчас ожило.
— Тебе надо записаться в милицию, ее сейчас организуют, — сказал ему тогда Качак.
— Зачем же мне записываться, когда вы других отговариваете? — спросил Пашко.
— Отговаривать — отговариваем, но это бесполезно. Все равно ее создадут, а нам нужно иметь там своего человека.
— Я не ваш человек, ничейный я.
— Тебе только так кажется, потом сам увидишь, да сейчас это и не важно. Важно, чтоб ты, когда понадобится, пропускал бы наших людей через мост…
Пашко с опаской, искоса взглянул на спутницу: не догадывается ли она каким-нибудь образом о том, о чем он сейчас думает?.. Лицо бледное, значит, еще боится и некогда ей думать о другом. «Все мы точно замурованные, — подумал он, — смотрим друг на друга, а не видим, кто о чем думает, хотя, пожалуй, это к лучшему…»
Так он тогда и вступил в милицию, получил, как и все прочие, винтовку и обмундирование и, стоя на часах у мостов, охотней пропускал тех, у кого не было разрешения, чем тех, кто его предъявлял. Первые были ему ближе, — Пашко казалось, что и они, подобно ему, тщетно борются со Злой Нечистью.
Стоило закрыть глаза, и перед ним встает Васо Остоич. Васо щурится от внезапно осветившего дубраву осеннего солнца и, слегка волнуясь, приглушенным голосом говорит:
— Будут жертвы, кто знает, кому доведется остаться в живых, поэтому нам нужно, чтобы кто-нибудь порадел об убитых, предавал бы их земле и запоминал, где они похоронены. Вот ты бы за это и взялся — тебя никто не заподозрит…
С тех пор Остоича он не видел, но со Шнайдером встречался трижды — каждый раз перед тем, когда должны были пройти через мост их люди: сначала незнакомые мужчины, потом какая-то женщина. «Значит, они еще живы, — подумал он, — и, наверно, засели где-нибудь в лесах по ту сторону Караталиха и Тамника — где-нибудь возле Дервишева ночевья, у подножья Орвана и Рогоджи, на мусульманской земле, куда четникам нет ходу. Может, женщина идет туда разыскивать их? Если признаться, кто я, она все равно не назовет себя и не скажет, кого ищет. Да, огородились мы стенами и подняли все мосты. Остоич не приходит и товарищам запретил — опасается, как бы на меня не навлечь подозрение и не навести на след. Это хорошо, а будь по-иному, тут же явились бы бородатые родичи жечь дом Пашко Поповича, уничтожать пчельник, книги и те жалкие открытия, которые я сделал, изучая Злую Нечисть, этот бесконечный источник несчастья во все времена и у всех народов…»
На какую-то минуту его взгляд привлекла бурая стремнина ущелья, которое прорезало Пусто Поле. Совершенно очевидно, что поле было когда-то пологим дном озера, еще до того, как Лим пробил себе путь сквозь скалы. Потом река, точно пилой, рассекла это поле и унесла часть земли в Дрину. Снег на этом отвесном скате не держится, и потому он отливает на белом фоне красновато-бурым цветом, будто глубокая рана на теле земли. «Может, и в самом деле рана, — подумал Пашко. — Все на свете, в сущности, живое, а значит, ранимое, и у всего свои напасти, большие и малые, одни — внешние, другие — внутренние. Если напасть извне не так опасна и близка, тут же, точно цыпленок из яйца, вылупливается напасть изнутри и начинает набирать силу, как запазушная змея, как этот Лим, похожий на змею в зеленой чешуе, что и зимой не знает спячки. Так что гибнут не только люди — у гор и небесных звезд тоже есть свой конец, хоть и далекий…»
Закрыв глаза, Пашко унесся в заоблачные выси, однако какое-то тревожное чувство заставило его снова спуститься на землю. Глядя, как рядом шагает беременная женщина, он опять задался вопросом: куда она идет? Кто она? Шпионка или связная? На первый взгляд она не могла быть ни той, ни другой, но кто знает? Ничего нельзя сказать — когда черт не может справиться с делом, он посылает женщину. Длинные какие ресницы! Видать, была красавицей! О чем она сейчас думает?..
III
Неда бездумно слушала, как рокочет Лим, и твердила то отчетливо, то приглушенно: «Бесплодница, пустовка, бесплодница, пустовка…» И так без конца, совсем как ее свекровь. Свекровь все время пилила ее за то, что она никак не забеременеет; впрочем, если бы это и произошло, свекровь, злясь на свою старость, нашла бы другой повод ее истязать. Ей доставляло удовольствие мучить батрачек, и те постоянно от них уходили, а про сноху, которой уходить было некуда, придумала целую историю.
Бесплодные женщины, уверяла она, бывают обычно те, у кого рано распаляется плоть, и они, еще не созрев, сходятся с мужчинами… Ее сын, Недин муж, запрещал старухе говорить такие вещи, запрещал и свекор, но старая ведьма не упускала случая потешить сердце ядовитой злобой, особенно когда приходили родичи Неды.
Свекор поначалу, помнится, относился к ней неплохо. Вернувшись из Америки с деньгами, он водил ее по базарным дням в город и покупал ей все, что она только пожелает. Но когда началась война и стало известно, что сын в плену, все переменилось. Подарки он делал по-прежнему и даже щедрее, чем раньше, но она чувствовала, что свекор хочет ее задарить, расположить к себе, попросту говоря — купить. Захотелось ему, видать, испытать свою силу и заменить в ее постели сына. Свекор сердился, что она упорствует, не верил, что женщина может обходиться без мужчины, и подозревал, что сноха нашла себе замену на стороне, а свекровь тем временем подозревала, что невестка отняла у нее мужа. Жить так дальше, с двойной петлей на шее, стало невмоготу — одну затягивал ведьмак из Америки, другую — его жена, ведьма. Наконец свекор получил по заслугам, однако старуха нисколько не подобрела. Пришлось бежать из дому куда глаза глядят. Уходя, она сказала свекрови:
— Сейчас я уже не порожняя. И никогда пустовкой не была. И пусть теперь все знают, что пустоцветы ты и твой сын! Стоило настоящему мужчине высечь огонек, и я понесла! — И она хлопнула себя по животу.
Сказала и тотчас раскаялась. Раскаивается и теперь, да что поделаешь — сказанного не воротишь, сделанного не поправишь.
Потом она ушла в село Меджу, на Лаз, и поселилась в проклятом доме.
Это была дача, которую построил на Лазе, на заброшенной усадьбе Чорака, сын дочери Чорака — бездетный учитель, женившийся на богатой венгерке, толстопузый богач, говоривший со странным акцентом, который он усвоил после долгой службы среди национальных меньшинств. С самого начала было ясно, что счастья ждать от дома нечего: ночью, после ливня, рухнула одна стена. Дом был еще не достроен, среди березовой рощи только-только зазеленели оконные рамы — первые крашеные рамы в Медже, когда учитель купил у пастушек два лукошка земляники; угостил соседей, их ребят, женщин и прохожих, съел сам горсточку и тут же умер от разрыва сердца, прежде чем ему успели принести чашку воды, которую он попросил.
На похороны приехала венгерка в сопровождении мужниного племянника. И хоть и была одета в роскошные наряды, убивалась она взаправду: плакала, падала в обморок, едва потом ее оторвали от гроба и оттащили от могилы. И все-таки не нашла времени, вернее, нервы не выдержали, не смогла пробыть там даже дня: испугали горы. Ей все казалось, будто они непрестанно сдвигаются вокруг Меджи и вот-вот задавят ее, и диву давалась, как люди могут здесь жить, почему они никуда не бегут. Язык она знала плохо и потому немногие знакомые ей слова употребляла чаще, чем нужно. Каждое второе слово у нее было «проклятый», она пристегивала его ко всему, что слышала и видела: проклятый ягод, проклятый дом, проклятый гора, вода и земля, отобравшие у нее Владу…
Вечером венгерка приехала в городок, заперлась в номере гостиницы и опустила на окнах занавески, чтобы не видеть, как угрожающе сдвигаются освещенные лунным светом горы. А на другое утро укатила на первой же таратайке, которую удалось разыскать, и больше уж не возвращалась. Захватила с собой и племянника мужа: у бедняги не было даже времени толком повидаться и поговорить со своими. Потом связалась с тем юношей, опутала его по рукам и ногам — не позволила ему ни кончить школы, ни жениться, ни уйти от себя. А про усадьбу и дом в Медже и думать позабыла. Так до самой войны и восстания дача с зелеными окнами оставалась недостроенной и заброшенной, а потом вновь подтвердилось, что на этом доме висит какое-то проклятье.
В августе, когда итальянская карательная экспедиция сожгла старый дом Тайовича, в дачу на Лазе вселилась Джана со снохой Ивой и внуком-младенцем. Перебирая в памяти сгоревшую утварь, женщины ломали головы, чем все это заменить, а мальчик, который только начал улыбаться, улыбался порой над далеко не веселыми вещами. В последний месяц своей жизни, как рассказывала позже Ива, Джана была сама не своя. Боялась самолетов, солдат, редких приходов Ладо, дождя, солнца — и все из-за ребенка. Боялась и самого ребенка. Оставаясь с ним одна и думая, что ее никто не слышит, она спрашивала смешливый сверточек:
— Ты не станешь ненавидеть свою бабку? Не выгонишь ее из этого чужого дома, когда тебе расскажут, как она тебя не хотела?
Ребенок начинал смеяться, а она плакать.
Прошел месяц, и Джана перестала пугаться и плакать…
Однажды в березовой роще, недалеко от дачи, собрались на тайную сходку представители разных партий: коммунист Юг Еремич, националист, участник восстания в Топлице Миго Тайович и член левой крестьянской партии доктор Завишич. Предполагалось организовать что-то вроде Народного фронта, нечто авторитетное, могущее повлиять на массы. Договаривались долго, начался дождь и заставил их искать убежище в даче с зелеными окнами. Таким образом, первый и последний раз Миго Тайович посидел у очага своих родичей, которые ни в чем не хотели признать за ним первенства. Не зашел бы к ним Миго и в тот день, но он, как и все прочие, был захвачен и опьянен событиями. Дождь лил не переставая, долину заволокло туманом, и они не заметили, как их окружают итальянские солдаты, которых привел Джёко Чауш, беженец из Метохии, пытавшийся таким манером удержать и спасти от связи с коммунистами своего лучшего друга Миго Тайовича. Лишь когда ветер рассеял хлопья тумана, они увидели на лугу мулов с минометами на вьючных седлах и у ворот стражу. Еремич и Миго схватились за винтовки, но их остановил доктор Завишич: что-де скажет народ, если погибнут женщины и ребенок?..
В эти дни мнение народа приобрело главенствующее значение, и поэтому они решили сдаться. Им было известно, что им грозит расстрел, поскольку они захвачены с оружием. Из благодарности, что спасают ее внука, Джана спрятала одну из винтовок под матрац. Спрятала бы и другие, да не было времени. Когда солдаты нашли винтовку, Джана упорно стояла на том, что винтовка сына и, значит, ее. Так Джану и взяли как преступницу, хранившую огнестрельное оружие. Трем мужчинам стало ясно, что она хочет спасти кого-то из них. Юг не мог согласиться с тем, чтоб она его заменила, и по дороге при попытке к бегству был убит.
Итальянский гарнизон в городке встретил их с ликованием, палили из пушек, ракеты и трассирующие пули до полуночи чиркали по облачному небу. Все это напоминало турецкие времена, когда после восстаний приводили закованный в цепи ясырь. Утром пленников судил военно-полевой суд. Миго Тайович еще мог спастись — все знали и могли подтвердить, что он не коммунист. Надо было только сказать, что он не участвовал в восстании; однако Миго Тайович не пожелал, чтобы вся слава восстания досталась коммунистам, ему казалось, что это уж слишком. Вероятно, могла бы спастись и Джана, но она просто не захотела. О Завишиче, договорившись по пути, они показали, будто он был приглашен к больному ребенку. А поскольку никто не знал, что он доктор права загребского университета, а знали лишь то, что он доктор, дело выгорело. Таким образом спасли от смерти пришлого человека: пусть хоть он останется в живых. Гара, жена Ивана Видрича, видела Завишича в Албании, в лагере, из которого ему при помощи связей удалось бежать, а потом встретила его снова в Метохии, когда и ей удалось бежать тоже не без помощи своих.
Вместо него над крутым обрывом неподалеку от Лима расстреляли Джану. Держалась она достойно и почти весело. Не согласилась, чтобы ей стреляли в спину, а, повернув стул, села лицом к палачам. Отказалась, как и Миго, от повязки на глаза. Когда ее спросили о последнем желании, она попросила дать ей две английские булавки и зашпилила концы юбки, чтоб не оголилось тело, когда она упадет с кручи.
Думая о Джане сейчас, как и тогда, когда ей об этом рассказывала Ива, Неда снова задала себе тот же вопрос:
«Могла ли бы я поступить так же, как Джана? Нет, наверняка нет! Покуда это далеко и не касается тебя, все кажется не таким сложным. Сидя днем за печкой, никто волков не боится. А ночью всяк от страха трясется… В лесах по ту сторону Корытара, вероятно, много волков. Конечно, много, жилье далеко, кругом пустыня, зови не дозовешься. Лучше об этом не думать, — приказала она себе, — еще успеется. Хорошо бы вообще не думать, а жить, пока жива. Вот дышу, иду вдоль Лима, прошла уже немало, и ничего страшного не случилось. Боже мой, сколько воды! Течет и днем и ночью — и нет ей конца».
IV
Пусто Поле осталось позади, с левой стороны. Ущелье, его рассекающее, издали кажется меньше и похоже на вытянутую на снегу бурую гряду. Неда оглянулась еще раз — гряда стала еще меньше, скоро совсем исчезнет. «Может быть, никогда больше и не увижу», — заключила она и тотчас решила думать только о том, что видит, и не думать о том, что за этим кроется. Перемешавшиеся дымки из труб, точно черный кустарник, стелются по дну долины, указывая место, где раскинулся городок. Все выглядело иначе и красивее, когда свекор водил ее в город на базар за покупками. Судьба к ней ластилась, чтобы заманить и обмануть, да и все — городские купчики, соседи, родичи и трактирщики — старались ей угодить, когда свекор стучал пальцем по столу. Сейчас от этого ничего не осталось — одно воронье расплодилось до ужаса, стаями садится на голые ветви слив и снова взлетает.
У дороги стоит заложенный осенью, еще не доделанный каменный дом под красной крышей. Двери открыты настежь, виден очаг с тлеющими головешками, оставленными рабочими или прохожими.
— Вот здесь и передохнем, — сказал Пашко.
— Может, не надо, — пробормотала Неда, — скоро ночь, а идти еще далеко.
— Потому и надо отдохнуть, что далеко. Было бы близко, ничего бы не сказал. Побереги себя. Ведь не порожняя — силы-то уж не те.
Старик вошел. Какое-то мгновение она колебалась, не продолжить ли путь одной. До вечера еще час-полтора, за это время можно далеко уйти. Потом вспомнила про милицейские посты: пойдешь одна, задержат на первом же шагу. Лучше остаться с бородачом, он не опасен, и, пока она с ним, никто у нее не потребует пропуска. Неда вошла и села на штабель досок.
Пашко разыскал в углу сухие стружки — положил на очаг поверх головешек и зажег.
— Так-то лучше, — сказал он. — Огонь! Усталый человек, отдыхая в холоде, может простудиться и заболеть.
— Случается.
— Случается, а не должно бы! От стольких бед человек не властен оборониться — слабодушен, горемыка, малосилен, но от кое-каких бед можно спастись и ради себя и ради ближнего или хотя бы их поубавить и отдалить. Садись на эту доску! Подвигайся, не бойся. Тебя словно мачеха выкормила — все время чего-то боишься.
Выкормила-то не мачеха, а мать, но все равно боишься. Там, где не чуешь опасности, всегда жди подвоха. Боится она и этого старика, который ей напоминает чем-то свекра — старый лис вот так же подлащивался к ней. Может, и этот захочет того же — все они одним миром мазаны.
Пашко тем временем снял ботинки, завернул штаны, чтобы не прожечь их искрами, и протянул ступни поближе к огню. Потом извлек из сумки «Жития святых» и открыл на странице, посвященной четырнадцатому февраля. Здесь его снова встретил преподобный монах Авксентий, борец против еретиков Евтихия и Нестория. Бегло просмотрев его житие, Пашко подумал: «Много их, этих борцов со всем и вся, и всегда они вызывают подозрение, особенно те, кто борется против людей». Чуть дольше он задержался над житием преподобного Исакия Печерского. «Одолел его демон в ангельском свете, и поклонился он Сатане, думая, что это Христос…» — читал Пашко.
«Эти попы порой просто сумасшедшие, — заключил он, — все пишут, даже против себя. Только что курва стала у них святой, а тут вот демон заставил святого сатане поклониться. Если святые не ведают, что творят, если они не знают, что черное, а что белое, кому же тогда знать? Если черное можно представить белым — а это, оказывается, можно, — то что же нам, грешным, остается и зачем отказываться от того, что нравится? Покаемся перед смертью, когда будем уже ни на что другое не способны, и все простится…»
Он перевернул страницу на пятнадцатое февраля, — Евсевий, пустынник Сирийский, питался исключительно растительной пищей. «Не такая уж это большая заслуга, — заметил про себя Пашко, — и Урош, отец Ново Логоваца, никогда не ел мяса, но это не мешало ему воровать с гумна и хлеб, и сено, красть овец и уводить лошадей и продавать их туркам… Вот святой апостол Онисим дело другое: его привели в Рим и отрубили голову».
— Все-таки в то время было лучше, — прошептал он и устроился поудобней, — отводили людей в Рим и там их казнили, а сейчас Рим вышел из берегов: отправился по свету казнить людей и нанимать других на эту заплечную работу… До того, как Онисиму отрубили голову, он был рабом некоего Филомена из Фригии. Онисим поссорился со своим господином и бежал от него. Апостол Павел мирил их и помирил. В то время, значит, можно было помирить раба и господина, нынче это никому бы не удалось. Сам бог не возьмется, — знает, что не получится…
Так он дошел до двенадцати мучеников, погибших во время царя Диоклетиана в Палестинской Кесарии. Первым был Памфил, пресвитер, исправлявший списки Святого писания; вторым — старый дьякон Валент, тоже ученый человек; третьим — Павел, которого однажды уже бросали за Христа в огонь. Потом пятеро братьев родом из Египта — они возвращались после отбытия наказания на рудниках Киликии и у ворот города назвались христианами. «Все они были казнены, а в их числе и юноша Порфирий, пытавшийся похоронить их тела. Его сожгли на костре; и некий Селевкий за то, что подошел и поцеловал мучеников прежде, чем им отрубили мечом головы; и старец Феодул, слуга римского судьи, поцеловавший одного из мучеников, когда их вели на казнь; и, наконец, Иулиан за то, что целовал мертвые тела мучеников и восхвалял их деяния».
«Вероятно, это была какая-то облава, — подумал Пашко, — вроде тех, что устраивали прошлой зимой на коммунистов. Согнали их с разных сторон и в тот же день перебили. Бог знает сколько воды утекло со времен царя Диоклетиана, и хоть бы что — облавы даже приумножились. Целое государство идет в облаву, а то и три и четыре объединятся, чтоб облава была погуще, а бойня — покровавей. Иной раз большие облавы сталкиваются и дробятся на множество малых облав и упорно продолжают истреблять друг друга. Не ведают, что творят, одна радость, одна забота — упиться кровью, разум не в голове, а в руках и штыке. Должно быть, и это козни Злой Нечисти — ей небось приятно глядеть, как люди друг друга колошматят, а на нее поднять руку не помышляют. Только уж совсем умирая от усталости, люди прекращают бойню и давай каяться и клясться, что никогда больше так не будут. Но верить их клятвам нельзя — люди не держат слова. Просто не могут держать — не в их это власти и не от их желания зависит, все в руках Злой Нечисти, которая где-то притаилась и время от времени напускает на народы волны яда, от которого те и безумеют».
— Вот и в прошлом году были облавы, — шептал он, словно читал вслух, и ему самому было неясно, читает ли он это в книге или вспоминает. — Начали в первых числах Нового года, сразу после разгрома коммунистов под Плевле, в феврале перекинулись к Колашину и покатились по Таре. Как раз тогда захватили раненых коммунистов в больнице. Старый календарь вообще не годится, просчитался Тихо Браге. По его расчетам январь выходил самым черным месяцем в году, с наибольшим числом несчастных дней, но, видно, тут вкралась ошибка — февраль оказался в два раза злополучней. Да это и понятно: ярится старая Нечисть, раненная Новым годом, бесят ее пожелания и надежды людей, вдруг, думает, наступят лучшие времена, и, собрав все силы вод, ветров и тьмы, уничтожает все доброе. В горах завалит снегом, в долинах посеет болезни и ненависть — и в самый короткий месяц года принесет больше опустошений, чем в два-три самых длинных…
И раньше он не любил февраль с его лихорадочными бессонными ночами и представлял его себе злым карликом, размахивающим, как бичом, остовом огромной рыбины. Недомерки, по мнению Пашко, обозленные и обиженные на судьбу, отметившую их малым ростом, всегда стараются как-нибудь отомстить своим более счастливым ровесникам. Обычно эти настырные и ловкие пройдохи мутят воду и ловят в ней рыбку, заводят свары между детьми и войны между взрослыми. С виду они храбрые, и не удивительно — терять им почти нечего, а выиграть иногда можно, хотя бы ратную славу, или деньги, или женщину — то есть то, что обычно им недоступно. «Таких людей, — подумал Пашко, — по возможности надо сторониться. И когда Солнце проходит созвездие Рыб, залезай в мышью нору и остерегайся всего. Зима в те дни будто раненый зверь, погода то и дело меняется, да и люди готовы на стену лезть от постоянного сидения дома, однообразной еды, вяленого мяса и спертого воздуха. Появляются бешеные собаки, вспыхивают эпидемии, пьется пуще прежнего водка, соседи становятся кровными врагами из-за бабьих сплетен… Без нужды до марта не следует выходить из дому, а у этой женщины, видать, большая беда — вот она и сейчас о ней думает».
И в самом деле Неда думала о своей беде, о днях, когда она с легким узелком пришла в проклятый дом на Лазе. Вначале, как обычно бывает, все было хорошо. Ива встретила ее как нельзя ласковей, радуясь, что обрела подругу в лесной глуши. Ладов дядя — Лука Остоин — часто к ним заходил, подбадривал, старался развеселить, а маленький Тайо, Джанин внук, целыми днями веселился и разгонял их тревогу. Потом мало-помалу начало становиться все трудней и трудней. Четнические власти вызывали Неду по делу об убийстве ее свекра; Недины родители и даже сестра, чтобы облегчить себе жизнь, от нее отреклись; родичи Плечовичи, опасаясь мести, порвали с ней всякую связь. Неде казалось, будто все от нее отступились, одни только страшные сны и предчувствия преследовали ее без конца.
Она все могла перетерпеть, кроме одного — Ладо не подавал о себе вестей. Ни разу не пришел, слова ни с кем не передал, словно и он от нее отрекся и сбежал подальше, чтоб она его не нашла. Возникшее подозрение постепенно упрочилось и превратилось в уверенность. Последний раз, когда она видела Ладо, он держался холодно и молчал, словно раскаивался, что с ней связался. Мало того, хотел даже сказать, что раскаивается, но постеснялся друзей, а по лицу его она даже в темноте заметила и по голосу поняла, что он пресытился ею и совсем не рад, что она его разыскала. Вспоминая все по порядку, Неда пришла к заключению, что это началось не в ту дождливую ночь, а задолго до того, тогда, когда Ладо перестал приходить на горное пастбище Яблан; собственно, с тех самых пор, как убил ее свекра в пещере, он не появлялся.
Сначала Неда думала: «Все они на один лад, пресытится женщиной и был таков, и еще уверен, что так поступают настоящие мужчины». Потом она услыхала, как четники, проходя мимо дома Вуколича, распевали:
Тебе, наверно, кто-то измышляет И обо мне плохое говорит, Тебе, наверно, кто-то изменяет, Из сердца вырвать норовит…И удивилась, как она до сих пор не сообразила, что ее очернили перед Ладо, может, это сделал даже сам свекор. Сказал, что жил с нею, или еще что наговорил, кто знает, — он мертв, его не опровергнешь. Гадкий был старик, любил напакостить, даже когда не имел от того никакой корысти — и умереть не смог, не посеяв яда сомнения. Давно уж его нет в живых, а то, что посеял, растет, ширится и душит ее своими ядовитыми испарениями.
Особенно душит по ночам. Невмоготу стало спать одной в маленькой светелке, и Неда перешла в общую комнату, но и это не помогло. Лежит рядом с Ивой и ребенком, а ей сдается, будто она одна, совершенно одна, и кругом невидимое войско лжи. Войско нападает, а она — не в силах оборониться, — втягивает голову в шею, шею в плечи и становится все меньше и меньше. Да и как защититься от подобных ночей, думала она, когда плохо со всех сторон, когда все против нее, когда никто не хочет и посмотреть на нее и слова за нее замолвить?.. Кому пожаловаться? Что сказать? Если сегодня за здорово живешь могут обвинить и осудить, то завтра все грехи, о которых и помянуть стыдно, взвалят. Может, дойдет и до этого или уже дошло — мне ведь ничего не говорят. Шепчутся за спиной, сплетни ширятся, бурлят, точно горная река. Разве в таком грохоте услышат мой голос? На смех поднимут, если начну оправдываться, скажут, что этим я только подтверждаю свою вину. Старый Лука уже догадался и меня винит за то, что Ладо не приходит, и все косится в последние дни, и Качаранда глядит хмуро и ворчит на меня, и Тробрк недоволен, — словом, все, кого я вижу. Может, Ива тоже что-то услышала; а нет, так скоро услышит или сама догадается. Куда податься, если и она догадается и тоже начнет хмуриться? И в Медже не будет мне места — тогда хоть в омут.
Днем становилось немного легче — ходила по воду, за дровами, придумывала себе работу, чтобы отвлечься. Спускалась в село, сославшись, что идет по делу, вступала в разговоры с женами четников, с попадьей или портнихой, стараясь разузнать новости. Так она услышала о гибели Якши. Он нес мотыгу, и убившие его четники заключили, что коммунисты готовят зимовище в какой-нибудь пещере, которую хотят расширить и очистить. Позднее, в снах, это отразилось иначе: в пещере замурован Ладо, он задыхается, сердится на Якшу, что тот не идет с мотыгой его освободить… Как никогда раньше, ее мучили страшные кошмары, в них она часто видела свекра, слушала, как он, весь красный, распухший, скрипучим голосом кричал: «Моя ложь дороже твоей правды! Если я скажу, что ты курва, все поверят, что ты курва. Потому что я умею подойти ко всякому, и если лгу, лгу ловко, а ты и правду говоришь — стыдишься. Вот сейчас я и поймал тебя в свои сети! А сети крепкие, коварные, как еврейский гребень, — чем сильней вырываешься, тем больше запутываешься. Так тебе и нужно, сама того хотела — берег тебя как зеницу ока, а ты меня предала…»
После одной такой ночи она спустилась утром в село — якобы за ключом от поповой мельницы, а на самом деле узнать новости. У нее было предчувствие, что случилась страшная беда. Эмма, сестра Юга Еремича, муж которой осенью был избран четническим взводным, рассказала, что где-то в Нижнем Крае, в мусульманских лесах, по ту сторону Корытара, обнаружена партизанская землянка. Коммунисты этого даже не подозревают, а тем временем милиция уже вызвана и готовит большую облаву, чтобы их захватить и уничтожить. И некому несчастных предупредить; кто может — не хочет, а кто хочет — не может. Отдан приказ никому пропусков не давать, даже в город…
Неда стояла несколько мгновений точно окаменевшая, потом взяла себя в руки и пошла к Луке Остоину разузнать, как добраться до Корытара и тех лесов. Лука сказал, что Корытар — это село в долине между Грабежем и Рабаном; над селом высятся горы Рогоджа и Рачва, по которым они тащили пушки и задерживали австрийцев при отступлении сербской армии. От этой самой Рогоджи и начинаются мусульманские села, там у Тайо, дяди Ладо, есть побратим Арслан — зобастый, рябой и уродливый мужик, но умный и добрый. Может быть, Арслан еще жив; если жив, то он уже не молодой…
Не важно, жив Арслан или мертв, Неда все равно решила ссылаться на него. Послать в Нижний Край было некого, дураков вроде нее не нашлось — искать иголку в стоге сена, да еще неизвестно в каком. Вспомнив, как уже однажды она дождливой ночью разыскала Ладо в горах, куда никогда прежде и не захаживала, Неда понадеялась, что ей снова улыбнется счастье, ведь судьба благоприятствует тем, кто ставит на карту все. А если не судьба, то, наверно, существует какой-то неведомый магнит, какой-то злой рок, благодаря которому Ладо притягивает ее на расстоянии и во мраке. Если он там, она его разыщет.
V
Пашко Попович закрыл книгу и положил ее обратно в сумку. Потом погрел у огня чулки, обулся и снял очки.
— Ну, молодуха, отдохнули, — сказал он. — Собирайся, пойдем.
На дворе было уже сумеречно, хотя до вечера еще оставалось часа два. Они проходили через села; встречая по дороге вооруженных людей, Пашко хмуро здоровался, поднимая руку к шапке. К ночи добрались до высокого плоскогорья Грабеж. Сквозь тучи, освещая тропу, пробивался слабый лунный свет. Потом пересекли село Лису и миновали Ваган: нигде их не останавливали. И только в Побрдже, когда они уже перешли мост, часовой, щелкнув затвором, крикнул вдогонку:
— Кто идет?
— Не шуми, Петр Марков, не пугай на ночь глядючи, — сказал Пашко. — Мы ведь старые знакомые.
— Куда это ты ходил, Пашко? — спросил часовой уже мягче.
— В город, в обезьянье царство.
— Торопись, а то не выспишься, завтра рано вставать.
— Зачем, милый человек?
— Там написано, увидишь. Кто это с тобой?
У Неды подкосились ноги — все кончено! И мгновенно, как бывает только во сне, ей представилось, что ее узнают, хватают, ведут в тюрьму и пытками заставляют сказать, кто ее сюда послал. Неда поскользнулась на ровном месте и упала бы, если бы не схватилась за рукав Пашко. И тут же до ее ушей донесся его торопливый ответ:
— Дочь сестры из Лисы, надо старухе помочь с шерстью. А насчет завтрашнего — я никуда не пойду! Не могу, устал.
— Сможешь, клянусь богом, все сможешь, когда нужно.
— Откуда вдруг такая нужда? Пусть кто-нибудь вместо меня пойдет! Я всех заменял, и тебя по меньшей мере два раза, неужто мне не найдется замены?
— Некому тебя заменить, все идут.
— Коли все идут, никто и не заметит, что меня нет.
— Ты им это говори, мне-то все равно.
— Понадобится, так и скажу, не побоюсь. — И Пашко громко кашлянул, подтверждая свое решение.
Чтобы не остаться в долгу, кашлянул и собеседник. Пашко со своей спутницей отошел уже довольно далеко, да и перекликаться надоело — на том разговор и кончился. С двух концов Побрджа громко залаяли две собаки, — Пашко на какое-то мгновение вообразил, что они с большой охотой подхватили разговор, который он начал с Петром. Вмешались, залаяв на разные голоса, и другие собаки, и каждая изо всех сил старалась показать характер и вкусы своего хозяина или всего хутора. К ним вскоре присоединились собаки соседних сел, но Пашко больше их не слушал. Он думал о женщине, которая, согнувшись, шагает по тропе впереди него. Как судорожно схватила она его за рукав, а рука крохотная, детская, и схватилась-то, как ребенок, напуганный выскочившей из темноты собакой. Таит она что-то, кроется тут какой-то дьявол или другая какая нечистая сила — кто знает? «Давненько я не лгал, — говорил он про себя, — а вот она ввела сейчас меня во грех — гладко солгал. Бог знает еще на что наведет, покуда от нее отделаешься. Скорее всего идет к коммунистам. Лучше, пожалуй, об этом не думать».
— Лучше так, — сказал он вслух.
— Лучше, — согласилась она, полная благодарности, хоть и не знала, о чем он говорит.
— Будет он нас задерживать и морочить голову пропусками.
— Конечно, лучше, ведь у меня и пропуска нет.
Пашко промолчал, словно ничего не слышал. «Может, испытывает, подумал он, — может, для того ее и послали. Они и друг друга проверяют — никто никому не верит. До чего поганые времена! И никак не меняются. Все надеются, что будет лучше, а оно все хуже и хуже. Не только народ, но и семьи и братства дробятся и раскалываются. Если ты вчера кому-то верил, сегодня больше не верь, а завтра уже перестанешь верить самому себе. Что за пакостный бес вселился в людей и ведет их по кривой дорожке все дальше и дальше! Впрочем, один бес сделать такого не в силах, их, наверное, много, — должно быть, и счету им нет. Из одного логова, и всех одна и та же Злая Нечисть наплодила — сейчас ее время. Бог знает, как долго оно продлится; как нагрянет — конца не видно…»
Собачий брех ширился — он то нарастал, то затихал и тянулся от села к селу, подобно разматывающейся переливчатой звуковой вуали, которую ветер нес по плоскогорью. Он замирал где-то в долине и вдруг нарождался в другом, казалось, до того не существовавшем селении, словно бросался в погоню за каким-нибудь зверем или привидением, которое там почему-то бродит и ни за что не хочет или не может оттуда уйти. Какое-то время Неда думала о том невидимом, заколдованном призраке, который тащит за собой собачью облаву всегда в неожиданном направлении. «К добру это или к худу? Скорей всего к худу, ведь на свете мало добра. Этот бородач кажется добрым человеком, но бог знает, что он задумал? На мосту он меня спас, но не для того ли, чтобы завлечь в еще большую беду? Не следовало мне говорить ему о пропуске, сейчас ему известно, кто я. Устала, сама не знаю, что говорю. Боже, до чего велик этот Грабеж, до чего велик этот край — нет ему ни конца, ни предела!»
Ноги у нее совсем онемели от усталости, даже волосы на голове болят. Неда закрывает глаза, чтобы хоть они отдохнули, но тогда подгибающиеся ноги сходят с тропинки в снег. Дорога неровная, с подъемами и спусками — скользкая и в то же время каменистая. Слушать собачий брех — для нее настоящая мука: в нем весь ужас трудной крестьянской жизни, здесь и хриплые басы сельских богатеев, и тявканье подлаживающихся к ним шпиков, и баритоны бывших богатеев и разбогатевших подхалимов, и тенорки щенят, что лезут из кожи, подражая своему сословию. Наконец, когда Неда уже смирилась с мыслью, что лай и дорога никогда не кончатся, ее бородатый спутник остановился и показал на освещенные окна дома.
— Вот мой дом. Тут мы и отдохнем, — сказал он.
— Некогда мне отдыхать, спешить надо.
— Поспешишь — людей насмешишь. Лучше всего тебе и не ходить дальше. Я тебе дам зерна столько, сколько бы дал Арслан, дам и лошадь, чтобы не тащить на плечах. Совесть не позволяет отпустить тебя на страдания и верную гибель.
Неда остановилась: вот то, чего она больше всего боялась! Несколько мгновений она молчала, словно колебалась, на самом же деле обдумывала ответ, потом сказала:
— Раз уж пошла, значит, так тому и быть.
— Ну, как хочешь. Покажу тебе хоть, как идти, — сказал он. И, протянув руку, объяснил, что долина внизу — Корытар, а дорога спускается наискосок к мосту. От моста надо повернуть направо, потому что дорога налево ведет в Баре — в болота, через лед, а лед сейчас ненадежный. А правая тропа ведет верхом мимо Тамника, к ручью Поман-вода. Ручей не надо переходить — там леса и пустошь, и ходят слухи, будто где-то в тех лесах, под Орваном, скрываются коммунисты, и поэтому ей нужно повернуть направо и идти вверх, через поляны. Поляны соединяются одна с другой, точно вериги, потому и называются Веригами. Наискосок она поднимется помаленьку на Рогоджу и там отыщет тропу, которую проложила мусульманская стража. Повернув по тропинке снова направо, надо пройти Повию, Седларац, Кобиль и ровное пастбище, которое называется Свадебное кладбище, и вдоль горы Рачва спуститься в село Опуч, где и стоит дом Арслана Балемеза…
— Поняла?
Неда кивнула головой. Она запомнила лишь то, что было для нее важно: надо перейти мост, потом ручей Поман-вода и углубиться в дремучие леса и пустоши, где может заблудиться и местный житель. Остальное ее не интересовало.
— А сейчас зайди и отдохни, соберись с силами, чтобы усталой не плутать по этим тропам. Жена тебя разбудит с первыми петухами. До рассвета останется еще часов шесть. За это время до самого Рожая можно дойти.
И втолкнул ее в дом прежде, чем она сообразила что к чему. Жена Пашко, сухощавая пожилая женщина, стояла у двери. Предчувствие подсказало ей, что надо ждать гостей, и она встретила Неду у порога. Усадив ее на ослон с подлокотниками, она помогла ей снять обувь и подложила под голову подушку. Покуда она наливала теплую воду в таз, Пашко спросил, не приходил ли кто к нему?
— Только курьер из штаба Бекича. Принес повестку, вон на полке.
По мере того как Пашко читал повестку, лицо его все больше искажала кислая гримаса недовольства, борода вздыбилась, а брови высоко поднялись над очками.
— Не пойду, — сказал он. — Ни за что не пойду. Устал. Можно и мне когда-нибудь отказаться.
— Да и пора, — сказала жена. — Давно бы так!
— Собери-ка поужинать и будем спать. Она торопится, разбуди ее с первыми петухами.
— Куда ей торопиться?
— Туда, куда суждено. Откуда знать, что кому суждено. Чуток попозже и мне придется пойти в Ластовац к Филиппу Бекичу. Опять облава! Дня не проходит без облавы. Нет никому покоя, и никто ничего не знает ни о себе, ни о других.
VI
Неда улеглась под рядном в маленькой комнате и не успела задремать, как тут же вздрогнула от смутного страха. Ей почудилось, будто ветер со злобным зубатым лаем и глухим воем разносит и рвет в клочья кромешную тьму, в которой смешались небо и земля с водами и горами. Первой мыслью было, что она проспала, опоздала, и этим все погубила. Неда не знала, что значит «все», и первые мгновения не могла понять, где она. Потом, точно удар молнии, другая мысль заставила ее содрогнуться: «Ладо, облава, лес…» Волосы стали дыбом. Охваченная ужасом, Неда вскочила с постели на усталые ноги и принялась шарить в тесной, точно мешок, клетушке, разыскивая свою одежду, которая казалась чужой, кем-то подкинутой, заскорузлой и жесткой. Наконец она оделась, нащупала дверь и вышла. Боясь, как бы дверь не скрипнула, она оставила ее раскрытой. Страх перед людьми превозмог страх перед темной и незнакомой дорогой. Ночь показалась ей ласковой и приветливой, а путь именно таким, каким она себе его представляла.
Идя по дороге, она обратила внимание на то, как предательски отдаются в тишине ее одинокие шаги. Дрожа от страха, она попыталась ступать неслышно или хотя бы не так громко, временами останавливалась, прислушивалась и потом ускоряла шаг, чтобы наверстать потерянное время. По телу текли липкие струйки пота, сердце глухо стучало. Сознание полного своего одиночества и беспомощности охватило ее с небывалой силой, всюду ей виделись мрачные силы — одни поджидали ее, оскалив свои пасти, другие крались за спиной. Неда крестилась, призывала бога, но когда попыталась прошептать «Отче наш», убедилась, что все слова вылетели у нее из головы. Эта единственная короткая молитва, которую она когда-то знала наизусть, сейчас представилась ей поросшей быльем заброшенной тропой в неведомом краю, и только где-то далеко на излучине маячило: «Избави нас от лукавого», но как до нее добраться и что там есть еще, она не имела понятия. И Неда мучительно вспоминала молитву и одновременно, боясь позабыть, шептала оставшиеся в памяти слова. Наконец, устав от напряжения, заключила: «Лукавый меня заморочил, он хочет, чтобы я не вспомнила и погибла — он всегда так…»
Вместо молитвы в памяти вдруг возникла давно забытая детская песенка:
Неда, эй, сноха, Выкупа́й сынка, Выкупа́й, молодка, Не то ждет его беда. Унеси его туда, Где чужая сторона…Неду обуял страх: ей почудилось, будто кто-то ее голосом, ее дыханием, передает наказ темных сил, которые ненавидят все живое и ее еще не родившегося ребенка. Эти силы ее откуда-то знают и грозят ей — требуют выкупа. Какого выкупа? Разве им мало того, что она мучается, теряет рассудок и губит свою жизнь в незнакомых пустынных лесах, что она ходит по краю бездны?
Забытая песенка, упорная, как осенний дождик, снова всплыла в памяти:
А на той сторонке, По два солнца греют, По два солнца греют, По два ветра веют…Неда попыталась вспомнить другие песни, все равно какие — лишь бы выбить из головы, позабыть о зловещем мороке, убежать от него, но песенка не отставала ни на шаг. Отвязалась она только тогда, когда Неда, перейдя мост, уже на нивах возле Тамника, услыхала далекий собачий брех с плоскогорья. «Это уже не на меня лают, — подумала она, — и не на старика, а на облавщиков. Либо собирают облаву, либо уже пошли, надо поскорее разыскать этих несчастных, разбудить, прежде чем те нагрянут… Пусть Ладо уходит, пусть все уходят, а я уж не смогу с ними. Меня пусть ловят, наплевать. Меня замучают, и ребенка во мне замучают. Что делать? Кто-то всегда должен платить».
Так добрела она до Поман-воды, перешла через мостки и углубилась в дремучий, вековой лес. Понимая, что партизанская землянка, если она где-то здесь, должна быть в стороне от проселка и тропы, Неда остановилась. Трудно было оторваться от привычного мира — все равно что прыгнуть в бездонную пропасть. Она колебалась, пока не сказала себе: «Так ведь я уже прыгнула, давно шагнула в недозволенное, еще в ту ночь в Яблане, когда мне с Ладо было так хорошо. Мне было хорошо, и я знала, что придет час расплаты, вот и плати». И Неда ступила в нетронутый снег, сначала одной ногой, потом другой. Кончено: оторвалась от берега! И, боясь, как бы врожденное малодушие не заставило ее вернуться, заспешила, не оглядываясь, вперед. Она спотыкалась, раз даже упала на колени, а когда вставала, ей показалось, будто окружающие деревья смотрят на нее с холодным удивлением, словно она забрела туда, где ей не место.
Неда шагала прямо через лес, почему-то ее тянуло влево, и она упорно сворачивала вправо. Вскоре она подошла к отвесному берегу ручья. Прислушиваясь к клокотанию воды, она вдруг уловила запах сырой обуви. Но запах в тот же миг растворился в воздухе. Она кинулась направо, потом налево, а когда ощутила его снова, уже не знала, действительно ли пахнет кожей или это плод ее фантазии. «Может, просто от меня потом пахнет», — подумала она. Неда двинулась дальше, но вернулась, не в силах сразу уйти с этого места.
— Ладо, — позвала она тихо, чтобы не слышал тот, кому не следует.
Она застыла в ожидании ответа. В селе залаяла собака, ей отозвалась другая, третья, и собачий брех потянулся вдоль всей долины за гору. С неясным чувством, что неверным движением стронула с места огромную, незнакомую машину, которую уже не остановить, Неда, скользя и падая, испуганно кинулась прочь. Стволы деревьев слились перед ней в сплошную черную стену, она слепо на нее кидалась, а когда хотела прислониться к ней и передохнуть, падала на землю. Наконец она остановилась, с трудом переводя дух и боясь потерять последнюю крупицу здравого разума, который вел ее сквозь эту темень. Все тело болело, кашель раздирал горло, но кашлять она не смела. Прижав голову к стволу дерева, Неда зажала ладонью рот и заплакала:
«Ладо, горькая ты моя доля, ты для меня никогда бы этого не сделал! Никогда! Никто из вас ради женщины этого бы не сделал. Твердокаменные вы — счастье ваше, что вы такие бесчувственные!»
Немного передохнув, Неда пошла дальше и вскоре оказалась в ровной низине, которая лет двести с лишним тому назад получила название Дервишево ночевье по имени дервиша Джафера Шамана из Гркиня. Вдруг ей почудился запах ракии, и одновременно шагах в десяти от себя она увидела островерхую землянку. Неда подошла ближе, и землянка распалась у нее на глазах, обратившись в треугольник неба между двумя стволами. И запах, такой, как ей показалось, явственный, тоже сгинул, словно призрак. Стараясь снова его уловить, она стала кружиться на одном месте, подняв голову и спотыкаясь на неровной почве. Она выписала на снегу сначала два круга, потом восьмерку, но так ничего и не обнаружила. «И запахи, — подумала она, — точно призраки, один обман. Это меня лукавый морочит, чтобы подольше задержать. Ракия — его выдумка, больше меня этим не проведешь».
Она поспешила дальше, углубляясь все глубже в дикие теснины Орвана. Время от времени ей снова что-то мерещилось, и она лезла в гору, но, убедившись в своей ошибке, снова спускалась к узким, заваленным снегом полянкам. Проходя заледеневший ручеек, она поскользнулась, упала и сильно ударилась затылком — даже в глазах потемнело. С трудом поднимаясь на ноги и потирая больное место, она вдруг увидела землянку, перед которой стоял часовой. «Это, наверно, наш часовой, — подумала она, — ему, по крайней мере, я могу признаться».
— Я Неда, — крикнула она, — не стреляй в меня.
Часовой либо не слышал, либо не понял; он поднял винтовку и целился ей точно между глаз. «Сонный, наверно, — подумала она, — или глухой». Ей стало его жалко — еще бы не оглохнуть в стольких боях, когда все время грохот и треск! А может, и я виновата — потеряла от страха голос, и он не слышал меня.
— Я одна, — крикнула она громче. — Я ищу вас. Не бойся! Позови Ладо, он меня знает.
Но и это не помогло: часовой по-прежнему держал винтовку на уровне ее глаз и ждал, чтобы она сделала шаг вперед. «Нет, это не наш часовой, — подумала она, — наш не может быть таким сонным и глухим. А раз не наш, значит, ихний! Да, конечно, ихний — вон у него борода и меховая папаха на голове, а на шапке снег для маскировки».
— Теперь ты знаешь, кто я, — сказала она. — Сдуру сама сказала. Чего ждешь, почему не стреляешь!
Неда двинулась прямо на него, чтобы заставить его довести дело до конца. Он отступил на шаг, потом еще на шаг. Наконец, подойдя к нему вплотную, она увидела пень с торчащей вперед веткой. Разозлившись, плюнула в то место, где ей виделось лицо часового и пошла дальше. Она потеряла представление о времени, ей казалось, что она совсем недавно сошла с тропы. Они, вероятно, где-то дальше, в глубине леса, куда ни одна живая душа не заходит. Ни один человек их не сможет найти. Да и как найти, если они не хотят, чтоб их обнаружили? Но я их разыщу — всем на удивление разыщу! Сейчас я наверняка на правильном пути. Да нет, устала я, изнемогла, вот и кажется, что уже близко.
Вдруг перед ней вырос каменный дом, оштукатуренный, с большими окнами и фронтоном. Испугавшись, она свернула в сторону, но и там стоял дом, за ним другой, третий — длинный ряд домов с левой стороны и такой же ряд с правой. «Улица, — подумала она, — но не такая, как в Печи, там улицы жалкие, а это какой-то большой богатый город. Не к чему мне здесь болтаться: не любят нас богатеи, и мы их тоже не любим. Увидят — тут же выдадут!..»
Неда побежала по ровной, как ей казалось, улице и упала, со стоном поднялась, поскользнулась и снова упала. После нескольких тщетных попыток подняться она поползла на четвереньках. Протиснулась между двумя деревьями и замерла: забрела в чью-то клеть, решила она. Постель застлана, белеет простыня на соломеннике, и рядно тут. Только Ладо нет: ушел куда-то. Ива сказала, что он скоро вернется. Что ж, она подождет.
ПОД ЗЕМЛЕЙ, ПОД СНЕГОМ
I
Днем раньше по ошибке провожатого Ладо пришел в землянку Дервишева ночевья. Выпавший снег отрезал путь дальше и принудил задержаться здесь, где у него не было никакого дела. В то самое время, когда Неда с Пашко Поповичем пересекала плоскогорье, дрожа от страха за него, Ладо делал все возможное, чтобы только не думать о ней. Скрестив ноги на низком лежаке и упершись спиной в поленницу, он тянул подслащенную горячую ракию. Как гостю и пришлому, ему налили «огненной воды» больше, чем другим — поначалу из гостеприимства, а потом для того, чтобы посмотреть, каким он будет, когда напьется допьяна. Выпил Ладо много. Но, почувствовав на себе взгляды партизан и увидев, как Гара, жена Ивана Видрича, движением глаз сделала ему предостерегающий знак, нахмурился, умолк и вдруг вылил в огонь остаток ракии, вспыхнувшей голубоватым пламенем. В голове стоял туман, и он уже плохо понимал доклад Вуле Маркетича о проникновении и видоизменениях финансового капитала. Сначала Ладо почувствовал, что слишком задерживается на пустяках, потом потерял связь и был уже не в состоянии ее уловить. По давно установившейся привычке, не желая падать в собственных глазах, Ладо с нарочитым пренебрежением стал думать о том, чего не понимал.
«Знаю я эти штучки, — говорил он про себя, — сыт ими по горло, — пошли они все к чертовой матери! Об этом можно сказать в двух словах, а их хлебом не корми, дай покопаться в мелочах. Можно же сказать коротко: та фаза прошла, быльем поросли, пылью покрылись все эти Сименсы, Рокфеллеры, Детердинги… Сейчас другое: огненные кресты, сапог, Геринг и ку-клукс-клан, капитал блиндированный и фашизированный, а не финансовый. Гидра — не капитал! — глотает других гидр, другие страны вместе с их армиями и железобетонными линиями, думая обеспечить себя на вечные времена. Да что толку! Не может она себя насытить, потому что, чем больше жрет, тем больше есть хочет. Я мог бы порассказать много чего любопытного, но лучше помолчать. Я пьян, и сейчас главное не разглагольствовать, а бороться — и это будет последний и решительный бой! И если не ошибаюсь, как раз из-за того мы и сидим здесь так мило…»
Ладо сомкнул веки и забылся. Потом, открыв глаза, напряженно вглядываясь, он вспоминает: яма, земля снизу, сверху, со всех сторон, снег по колено покрыл и православную землю и мусульманскую, и теперь не отличишь, где какая. Наверху поросшая лесом гора Орван, внизу зияет долина Караталих. Уж очень ему нравится это название «Караталих» — так и веет от него древним Востоком, на турецком и арабском языке это слово означает: «Черный талан». В минуту пьяного восторга весь мир начинает казаться воплощением гармонии, сейчас Ладо уверен, что и долина находится в полном согласии со всем прочим. Внизу раскинулся мир жалкой, обманчивой, иллюзорной и злосчастной человеческой юдоли, а высоко над ним, между небом и землей, парит их замок — идеал товарищества, надежд и осуществимых снов светлого и не такого уже далекого счастья…
Восторг быстро прошел — потускнели, развеялись розовые мечты, их сменили мрачные мысли. «Даже наше товарищество не до конца искренне, — подумал он, — хотели напоить меня, а потом вволю потешиться. Э, не выйдет! Не позволю!..» Тут подкралась мысль о Неде, но он тряхнул головой и отогнал ее. «Правда, и бесклассовое общество, — продолжал он про себя, — которое должно образоваться после революции, внушает мне подозрение: уж слишком напоминает оно рай христиан и маздеистов[11], который, согласно пророчествам, воцарится после Страшного суда. Не очень-то мы отличаемся от старых перемешавшихся вер, которые из века в век, и всегда без толку, выкрадывали друг у друга полюбившиеся лозунги. И мы провозгласили своих святых, есть у нас и мученики, и аскеты; наконец и нас загнали в катакомбы, а это значит, что мы победим. Эта вот катакомба сделана искусно, но нам она не поможет. Те, которые придут после нас, превратят ее в охотничий домик, или кому-нибудь придет мысль основать в ней маленький музей для туристов. Выставят на обозрение наши изломанные, заржавелые винтовки, наши зацветшие от сырости книги и повесят в ряд несколько фотографий на манер иконостаса в сельской церкви. Иван Видрич, если его снять вот так, с бородой, мог бы отлично сойти за Христа…»
Ладо раскис, голова его упала на грудь. Несколько мгновений он отдыхал в близком ко сну забытьи. Как приятно лежать и ни о чем не думать! Но Ладо знает, что, если продлить это состояние, снова придут мысли о Неде, и он начнет раскаиваться — сначала в том, что связался с ней, потом в том, что бросил ее. Чтоб избавить его от этого, сидящий в нем занозистый бес шепнул ему на ухо из вороха давно забытого:
Скачет Грета на коне — на Фиумской ярмарке…Ладо не терпел глумления, и порой его доводили до бешенства подлые сплетни о тех, кто не может защититься. А сейчас, в пьяном воодушевлении, которое снова на него нашло, песенка показалась ему довольно остроумной: сердар девятнадцатого века пытается соблазнить киноактрису двадцатого, словом, черногорский вариант рыцаря Ламанчского:
Грета Гарбо, не будь дура, откажись от Голливуда! Пошли вместе на Извор на Изворе ключ студен! Хлеба вдоволь, мяса вдоволь и вина, и берданки лютой громкая стрельба…Волна восторга прокатилась и улеглась, оставив после себя неприятный осадок. Минутное веселье исторгло ядовитые испарения. «Лютые берданки, — подумал он, — давно уже отжили, всюду вызывают смех и только у нас еще остаются единственным украшением. Нет у нас ничего, кроме редких ключей с ледяной водой, к которым и осла не заманишь. Нет и нет — сто лет, двести лет — ничего нет, хоть шаром покати. Голый камень, горсть травы, хлеб, загубленный сушей. Худосочный скот, дикие чабаны, которые промышляют грабежом. Земля не родит, а люди не умеют взяться за дело, да и времени на то нет. А если кто попытается, все, кому не лень, — визири из Скадара, паши из Боснии и Румелии, кесари из Вены, — обрушиваются на него, глумятся над ним, преследуют: держи его, бей дурня, чтоб неповадно было селиться там, где никто не живет, и хотеть того, что никто не может!.. Да и мы не лучше: задумали делать революцию, а рабочих нет; опираемся на крестьянина, а он при первой опасности предает нас, перекидывается на сторону противника и выжидает, когда нас занесет снегом, чтобы перебить, как куниц в норе. Очень не нравится мне эта нора, и как только меня угораздило сюда попасть?»
Байо Баничич вызвал на исповедь, вспоминал Ладо, вызвал раз, потом второй. Подозревая, что причина в Неде, он, не желая исповедоваться, отговаривался погодой и не ходил. В третий раз за ним послали провожатого Раича Боснича. Погода установилась, снег в долинах растаял, а в горах осел — ссылаться было не на что. Боснич довел его почти до землянки у Поман-воды — это было вчера после полудня, а кажется, давным-давно… Но потом он вдруг остановился и по каким-то одному ему известным причинам дальше не пошел. Наткнувшись на подозрительные следы, Боснич заключил, что кто-то неизвестный бродит по лесам, решил выждать — и дождался метели. Во время метели они заблудились и вместо того, чтобы прийти на Поман-воду, попали в Дервишево ночевье. Расстояние между ними невелико, и километра, говорят, нет, но сейчас из-за снега, на котором остались бы следы, это два оторванных мира. И пока снег не стает, — а кто знает, когда это будет, — или не сгонит облава, Ладо вынужден торчать тут, где ему вовсе не место, задыхаться под землей и изнывать от тоски.
— Ты не знаешь, — спросил он Видрича, — чего это Байо по мне так соскучился? Зачем я ему понадобился?
— Черт его знает, — пробормотал Видрич. — Полагаю, не без причины.
— Хвалить меня не за что, значит, за прегрешения. Некого больше школить, так он решил за меня взяться. Интересно только, собирается ли он меня песочить за то, что я убил человека, или за то, что я сделал человека.
— Наверно, услыхал о твоей женитьбе и решил тебя поздравить.
— Женитьба — это мое личное дело, — прошипел Ладо. — И я никому не позволю вмешиваться! Я ведь женился, а не он и не ты, уж, по крайней мере, в своем выборе я свободен! Так или нет?
— Иной раз это и не личное дело — все зависит от обстоятельств.
— От места и времени, знаю, эту песню я слыхал. Сиречь: надо жениться согласно принципам диамата — тезис, антитезис, синтез. Но ведь, кроме диамата, существуют и другие вещи: Тиамат[12], где все это перемешалось, где царит хаос. Человек не может обособиться, ему это никогда не удается.
— Сделай милость, отстань от меня, — сказал Видрич. — Я сказал тебе свое мнение, мог бы и не говорить. Ты уж разбирайся с ним сам, если только у вас будет время разбираться.
Ладо замолчал и задумался. «Видрич чего-то боится, — решил он, — раз полагает, что времени не будет. Боится облавы, а я — нет. И ничего не боюсь, пускай все идет к чертовой матери! Да и чего бояться, какой прок? Так уж этот мир здорово устроен, весь состоит из взаимоуничтожающих и исключающих друг друга страшных сил. Связался с одной, значит, обманул остальных, вот тебе и все! Если, скажем, действуешь заодно с Байо, то четники, баллисты[13], итальянцы, замужние и незамужние женщины, безумие, туберкулез и шпионы от тебя уже ничего не получат. И напрасно будут требовать, все кончено, даже плюнуть на порог не смогут, потому что в той последней землянке нет ни дверей, ни окон. Если смотреть на вещи с этой точки зрения, то каждое место, где оказался человек, ничем не отличается от прочих — обычная западня, и все. И там, откуда я пришел, была западня. Лачуга, правда, наверху, над землей, в ней легче дышится, но зато там гораздо опасней. Ее уже, видно, засекли. Наш друг Чезаре, командир карабинеров, не сможет нам больше помогать — потерял осторожность и забил до смерти шпиона. Четники, заподозрив его в связи с нами, пожаловались на него высшим властям. Если его сразу не переведут, значит, решили заманить в ловушку и поймать с поличным. Невозможно даже представить себе какое-то безопасное место, нет такого ни под небом, ни на небе. Все наши долины как были, так и остались ловушками, а равнина, если она каким-то чудом найдется, лишь большая ловушка. При таком положении вещей надо раз и навсегда вбить себе в голову, что лучшее место на земле именно то, где находишься сейчас. Если это поймешь, сразу станет легче».
— Идет тебе борода, — сказал он Ивану Видричу, — точь-в-точь Иисус Христос.
— Да ну! — сказал Видрич, поглаживая бороду. — А я и не знал.
— И на Дон-Кихота Ламанчского смахиваешь, если это тебе больше нравится.
— Знаешь, ты тоже изрядно на него смахиваешь. Впрочем, все мы на него маленько смахиваем.
— И я так полагаю: у всех мозги набекрень.
— Ты, кажется, обиделся?
— А разве это по-товарищески — напоить, чтоб потом потешаться надо мной?
— А тебя что, убудет, если б мы даже и пошутили?
«Убыть-то не убудет, — подумал Ладо. — Убывать нечему, все мое богатство — скверный характер. И в самом деле — что бы со мной случилось, если бы они немного и пошутили? Надо всеми подшучивают, подумаешь какая принцесса-недотрога, посмеяться над ним нельзя! Но сейчас уже поздно притворяться пьяным, да я бы и не сумел, а надо бы их как-нибудь развеселить. Люди они хорошие, на всем свете таких не сыщешь! Жить под землей хуже, чем в тюрьме. Вечно одно и то же — ни деревца, ни облачка, ни птицы не увидишь, нечем глаз порадовать. Сидят в дыре девять Дон-Кихотов (собственно, восемь, Гара в счет не идет) и таращатся в темноте друг на друга. Изгнанные из реального мира, они заставляют и себя, и друг друга верить больше в свои мечты, чем в действительность, которая схватила их за горло. А увидев, как вот сейчас, что все это безумие и устоять невозможно, еще раз убеждаются, что им остается лишь мечтать. Трудно так жить, долго и не выдержать — надо их как-то развлечь и подбодрить.
— Ну, давай, — сказал он Видричу.
Тот поднял голову и удивленно посмотрел на него.
— Что? Где?
— Отпусти-ка что-нибудь на мой счет — пусть посмеются. И я знаю толк в шутках, посмотришь.
— А, ты об этом! — Видрич грустно улыбнулся. — По заказу не получится, разве что само собой придет в голову.
«Не до шуток ему, — подумал Ладо. — И другим тоже. Измотала их революция, которой они живут и из-за которой мучаются столько лет. Дорогонько обходится, брат, да еще взъелась на нас — все бы у нас забрала, а у других — ничего. Хуже всего, что старые религии столько насочиняли басен об очистительном огне и о Страшном суде, что грешники, а таких всегда больше, решили, будто это время настало и мы и есть тот самый очистительный огонь; страх вливает в их сердца храбрость, и они дружно борются, когда дело идет о том, чтобы оттянуть очищение хотя бы на минуту. Оттого революция так медленно и совершается и стоит так много крови. Свели нас почти на нет, горе одно, а не отряд. Арсо Шнайдер повесил нос на квинту, и Шако молчит, даже о своем пулемете ничего не рассказывает. И Гара бледная, зря Иван взял ее с собой — женщина независимо от убеждений остается женщиной, здесь ей не место, впрочем, и нам тоже; опротивели мы друг другу, бахвалясь своим геройством. Всем не легко, и мне тоже, а труднее всего, кажется, Раичу Босничу — он, как и вчера, когда мы вошли в лес, снова все прислушивается, видится ему злой дракон, который катится по долинам. У него словно третье ухо есть, по мере надобности оно перемещается то на лоб, то на затылок, и он все время им двигает, пытаясь уловить неслышимые звуки…»
II
До войны, будучи еще скоевцем[14], Раич Боснич проявил редкую способность с легкостью решать трудные задачи, причем такими путями и способами, которые никому другому не могли прийти даже в голову. Поначалу, когда техническое оснащение революционеров было весьма скудным, Раич Боснич мог, например, пробраться ночью через окно в полицию, Городскую управу, больницу, или Сокольское общество и, по его выражению, «занять» там пишущую машинку, напечатать на ней прокламации и до рассвета вернуть машинку на место. Когда размноженная листовка попадала в руки полиции, возникало страшное подозрение, что в Городской управе, в Братстве священников или во всецело преданном Лётичу[15] Сокольском обществе кто-то снюхался с коммунистами и тайно им помогает в подрывной деятельности. Потом, догадавшись, в чем дело, они безуспешно запирали помещения и ставили караулы: не было такого замка, которого Боснич не отпер бы, и такого часового, которого он не сумел бы провести.
Кроме того, он фабриковал фальшивые печати, подделывал подписи, выправлял подложные документы. Ему всегда удавалось доставить письмо заключенным или из тюрьмы передать что-то на волю, для него не составляло трудности найти то, что спрятано, или спрятать в надежное место то, что не должно быть обнаружено. И все же величайший его подвиг, так и оставшийся неразгаданным, был совершен в Уездной управе: он устроил так, чтоб его арестовали, ночью выбрался из запертой камеры, находящейся в подвале, пробрался в канцелярию уездного начальника, выкрал секретные донесения с материалами, доказывающими вину арестованных коммунистов, переправил документы куда следует, вернулся в свою камеру, запер ее и заснул.
Байо Баничич, прибывший в качестве делегата высшего форума на Тару и позднее на Лим, уже знал о заслугах Раича Боснича. Знал, правда, только по рассказам, из третьих рук, воспринимал их как дела давно минувших дней и умышленно не желал отдавать им должное, но зато ошибки его и проступки карал по всей строгости. Дело не в том, что в глазах Баничича подвиги Боснича не выдерживали критики с точки зрения морали — так уж он относился к заслугам вообще, независимо от того, каковы они и кому принадлежат. По мнению Байо Баничича, наличие заслуг обязывает приобретать их до бесконечности, и всякая заминка в этом деле не только непозволительна, но и преступна, как своего рода предательство; прошлые же заслуги лишь отягчают вину и сводят на нет любые подвиги, совершенные когда-то.
Ошибки и проступки Раича Боснича начались с первых стычек с четниками, а проистекали они главным образом из его привычки полагаться на собственную смекалку, которая вытеснила все прочие его таланты и склонности. Это было что-то вроде профессионального перекоса. Особенно не по душе ему было встречаться лицом к лицу с неприятелем, где все решалось при помощи винтовки — грубо и быстро. Раича Боснича приводили в ужас эти чудовищные способы борьбы, и он не мог понять, почему им придают такое значение и превозносят их до небес, ему казалось это бесчеловечным и неразумным. Время революционной романтики, когда так много говорилось о чести и героизме, для него было непонятно, и он только озадаченно покачивал головой: «Не понимаю, зачем это?» А не понимал он потому, что принцип «все или ничего», ему был чужд. Он беззаветно боролся за победу революции, ей он подчинил всю свою жизнь, но революционная борьба, по его мнению, это борьба с превосходящими силами противника, которого в лоб не возьмешь, поэтому борьбу надо вести обходными путями, обманом и хитростью, а это его сфера, его специальность. Поскольку революция потерпела бы явный ущерб, лишившись его квалифицированной помощи, Раич Боснич во что бы то ни стало стремился оказать ей эту помощь, то есть жить вопреки всему и вся. Главную свою задачу по сложившейся привычке он видел в том, чтобы любой ценой ускользать от опасностей, выпутываться из переделок, выигрывать время и скрываться в неизвестном направлении, а потом, придумав какой-нибудь новый трюк, захватывать неприятеля врасплох.
Последний раз он прославился тем, что придумал блестящий и на первый взгляд невыполнимый план ликвидации нескольких главарей итальянской милиции. Осуществив его, раненный, обессиленный, он позволил схватить себя патрулю четников, но из тюрьмы вскоре удрал — и не так, как другие, через стену, а с выдумкой: забрался на чердак и по крышам спустился в город. При этом Раич Боснич помог бежать еще четырем заключенным. Однако в глазах Байо Баничича, который видел в нем некоторые свои склонности, только гораздо более развитые, Боснича это не спасало: Баничич проголосовал за расстрел. Дело кончилось тем, что Раича исключили из партии. С тех пор «Б и Б», как их прозвал Слобо Ясикич, не могут смотреть друг другу в глаза. Но если бы в ту пору было известно то, что обнаружилось потом, никакие подвиги, заслуги и оправдания Боснича не спасли бы его кудрявую голову с девичьим лицом и по-детски простодушными невинными глазами.
Все открыли четники Побрджа, родственники и соседи Раича Боснича. Перерыв и перекопав всюду, где было можно, они наконец решили проверить колодец. И верно, в глубине колодца у самой воды был обнаружен шатающийся камень, а за слоем глины и соломы — завернутое в брезент итальянское обмундирование, в том числе и офицерское — ботинки, пояса, сумки, фуражки, мусульманские фески, чулафы[16], чалмы, шали, ахмедии[17] и тому подобное. Правда, ни еды, ни денег, ни оружия не было — эти вещи даже во время величайшего голода и жесточайшей борьбы Раича не интересовали. «Склад товаров» был найден в июне, примерно год спустя после восстания. Четники обрадовались — наконец есть доказательство, что и коммунисты иной раз нечисты на руку, и потому не следует верить их басням о молочных реках и кисельных берегах. Боснич объяснял это по-другому: обмундирование он готовил для товарищей на случай, если понадобится быстро скрыться в городе или идти через мусульманскую территорию… Те, кто знал его раньше, не сомневались в его словах, он вечно носился с идеей переодевания. А если б даже и сомневались, то никакого другого приговора, кроме смертного, ему уже не могли вынести, а смерть и без того стояла за спиной каждого, и потому было решено все предоставить времени. Торопиться было некуда, все знали, что спешкой ничего не исправишь. Единственный, кто, пожалуй, попытался бы исправить, был Байо Баничич, но он в то время занимался другими делами, а потом Боснич старался не показываться ему на глаза и не напоминать о себе.
Укрывшись в глухой избушке у истоков Ибара, где держали раненых и куда Байо Баничич не заглядывал, Раич Боснич до того навострился вылечивать раны, что и в этой области стал незаменимым. Когда его послали «проветриться», то есть разыскать в верховьях Лима Ладо Тайовича и отвести его в землянку на Поман-воде, Раича Боснича испугал не предстоящий путь, не горы, реки и сторожевые посты, а неизбежная встреча с Байо Баничичем. Всю дорогу Раич Боснич думал об этом, но так ни к чему и не пришел. Он лишь избрал кружной путь, через горное ущелье реки Црни, чтобы хоть оттянуть встречу. Вчера утром они с Ладо Тайовичем прошли над Дервишевым ночевьем, до Поман-воды было уже рукой подать — с тех пор, казалось, минуло много дней, — и тут ему отказали ноги. Они долго сидели, прислушивались, осматривали долину Караталих и лес над ней. На небе громоздились тучи, и у встревоженного Боснича было такое чувство, что незримая опасность приближается и с неба и с земли.
Сначала они заметили ту, что была на земле: по лесу брел с ружьем Лазар Саблич, охотник и пройдоха: он переходил от дерева к дереву и искал на оставшихся островках снега следы… Шел он медленно, приглядываясь, принюхиваясь и озираясь… Если бы они в это время не сидели, Лазар Саблич увидел бы их первым. Подойдя к Поман-воде, он свернул в сторону, чуть ниже землянки, и скрылся в лесу. Боснич долго ждал, не вынырнет ли он снова в каком-либо другом месте. Потом они договорились, что Ладо будет вести наблюдение за низиной Дервишева ночевья и поляной под ней, а Раич Боснич — за всем прочим… Так, занявшись землей, они не приметили, как приблизилась другая опасность, — с неба. В лесу вдруг стало темно, и повалил снег, большие мокрые хлопья, точно куски смоченной в извести губки, метались, нагоняли и толкали друг друга, торопясь покрыть, переодеть и проглотить землю. Слепило глаза. Боснич решил, что нет худа без добра, теперь у него была отговорка: из-за метели он сбился с пути и попал в землянку Дервишева ночевья. Тем самым он либо отложил, либо совсем избежал встречи с Байо Баничичем.
Когда они вошли, в землянке горела лампа — в ее желтом свете лица казались незнакомыми: несколько мгновений и гости и хозяева не могли узнать друг друга. Здороваясь, Гара, жена Ивана Видрича, спросила Ладо:
— Откуда ты, Бранко?
А Боснич долго с удивлением таращил глаза на Ивана Видрича, тщетно стараясь припомнить, кто этот долговязый бородач, улыбающийся совсем как в добрые предвоенные времена.
Наконец, опознав и вспомнив друг друга, они пустились в разговоры. Боснич рассказал, как Лазар Саблич высматривал следы. Для них это была не новость — они тоже его видели. Лазар ходил не один, а с Тодором Ставором и Мило Доламичем. Слобо Ясикич засек всех троих и следил за ними, пока они не разошлись в разные стороны. Потом Шако и Слобо спустились вниз, в Клечье, подстерегли там Ставора и Доламича и взяли их на мушку.
— Стреляйте, — сказал Ставор, — но проку от нас все равно никакого! Мясо несъедобное, а кожа не годится даже на ремни для опанок.
— Отпустить мы вас не можем, — сказал Шако. — Приведете облаву, а нам это вовсе не по нутру.
— Мы-то не приведем, да и вы не дураки, чтобы сидеть и ждать ее. Других опасайтесь, скажем — Лазара Саблича, — он где-то здесь бродит, с нами пришел, а от нас и черная земля ничего не узнает: мы себя позорить не собираемся…
Отпустили их под честное слово, а Лазар Саблич как сквозь землю провалился, видно, пошел в другую сторону.
Пока они разговаривали, снежный покров над головами становился все толще; мокрый, тяжелый снег ломал в лесу ветви.
— Раз дело обстоит так, — сказал Раич Боснич, — раз это место у них под подозрением, надо что-то предпринимать.
— Да, — согласился Видрич, — но что?
— Уходить, пока есть время.
— Пожалуй, но куда?
— Не знаю. Пойдемте в нашу избушку. Если потесниться, места хватит, и мука есть.
— К раненым? Нет, мы ведь здоровы! А пока есть силы, нельзя покидать позиции.
— Когда нагрянет неприятель, все равно уйдете. Лучше это сделать сейчас, пока еще есть время, чтобы принять решение. А когда кончится снегопад, думать уже будет поздно.
Они помолчали. Душан Зачанин, самый среди них старший по возрасту, покрутил правый ус, потом левый, откашлялся и наконец сказал:
— Была бы его воля, Тодор Ставор всех бы нас в пушку и в облака. Не может нам простить, что мы защищаем турок. Но раз сказал, что не выдаст, значит, не выдаст.
— Пусть он не выдаст, — сказал Боснич, — и Мило Доламич не выдаст. Так Лазар обязательно выдаст!
— Лазар нас не видел, — сказал Шако.
— Кто знает, что он видел, а чего не видел? Он старая лиса, у него глаза и на затылке, — и увидит, сделает вид, что не заметил. Филипп Бекич знает, кого посылать на охоту. А раз так, мне ничуть не стыдно дать тягу с ненадежного места.
— И мне тоже, — согласился Иван Видрич, — если бы только имелось в запасе надежное.
— Есть пещеры, пастушьи хижины в горах.
— Они знают их лучше нашего. Все на учете, и за всеми следят.
— Ну, как хотите, а я, пока можно, уйду, — сказал Боснич и начал обуваться.
— Погоди, дай хоть чулкам высохнуть.
— Чего их сушить, все равно тут же промокнут.
Он обулся, оделся и сел.
— Чего же ты ждешь? — нетерпеливо спросил его Арсо Шнайдер. — Почему не уходишь?
— Не хочу. Небось моя голова тоже не из золота и не из серебра, пусть и с ней будет то же, что и с вашими.
III
То, чего больше всего опасался Раич Боснич, случилось: часа через два после его прихода снег-лепень перешел в крупу и вскоре прекратился совсем. Снегу выпало по колено, простоит он с неделю, а то и больше, до тех пор, значит, они от мира отрезаны. Даже если бы и нашлось более надежное убежище, сейчас оно недосягаемо: следы на свежем снегу укажут, как ты шел и куда дошел. Теперь они в западне, и единственное спасение в том, что, может быть, еще неизвестно, где именно они засели. До землянки на Поман-воде нет и километра, но пойти туда — посоветоваться и вместе решить, что предпринять, — нельзя: это значило бы выдать то, что, может быть, еще неизвестно.
Так Боснич и Ладо оказались не там, где им следовало быть, и провели здесь ночь, день и еще ночь. В первую ночь было не до сна. Смутная тревога, которую они днем высокомерно подавляли, с наступлением темноты превратилась в неодолимый страх. Партизаны вспоминали, что облава начиналась, как правило, на другой день после снегопада. Долгая ночь тянулась бесконечно, в их памяти то и дело вставали приукрашенные фантазией пещеры и землянки, где было бы выгодней принять бой и прорываться сквозь окружение. Душан Зачанин помянул Букумирскую пещеру и протекавший у ее подножья ручей, там можно было обороняться целый день, а ночью внезапно кинуться на прорыв. Эта пещера была ближе всего. Идея понравилась, ее дружно подхватили. Ладо молчал, ему было все едино. Молчал и Боснич, уверенный, что ничего из этого не выйдет. Слобо мысленно заключил: «Пусть себе идут, если им так хочется…»
Распределили обязанности: кто пойдет к Поман-воде, кто что понесет, кто за кем следует и все прочее, — ждали только, чтобы снова пошел снег или хотя бы дождь — что угодно, лишь бы стер следы. Тучи наплывали, но обманывали. Из них, как нарочно, не выпало ни капли, ни снежинки.
Утром, обозленные на коварное небо, стали готовиться встретить облавщиков, чтоб потом прорываться к горному кряжу Софры на Орван. Но поскольку неприятель не появился ни на заре, ни позже, все, кроме часовых, заснули. Днем внезапно надвинулась тучка, прошел небольшой дождь. У Видрича заныли год тому назад отрезанные в Жаблякской больнице пальцы на ногах, и он проснулся, проснулся и Арсо Шнайдер от голодной рези в желудке. Ладо увидел во сне, как вдоль ручья под Букумирской пещерой, спотыкаясь, бредет печальная усталая женщина в черном, знакомая-знакомая, кажется, даже родственница, но кто, он никак не мог припомнить.
За ними проснулись и остальные. И у всех была одна и та же потребность, одна и та же жажда — посмеяться, как-то иначе взглянуть на жизнь; ведь без этой острой приправы их землянка слишком напоминает загон для скота или тюрьму, где судьба дает временную отсрочку, но где конец всегда известен — смерть. Один помянул ракию, другой шутя спросил, в какой норе она прячется, Шако Челич ткнул пальцем за поленницу, оказалось, что там она и есть, не знал об этом только Видрич. Тут же назначили следствие: кто укрыватели, и, как обычно, ничего не выяснили. Зачанин предложил ракию, как главного виновника, пытать на огне — может быть, это заставит ее говорить. От ракии все развеселились, посыпались шутки и остроты.
Только Ивану Видричу было не до смеха. Ему вспомнилось, что было в Дубе: вечером, накануне боя, в штабе царило вот такое же беспричинное веселье. Перед бедой на людей находит иногда такое настроение — хочется забыться, подавить страх, представить грядущее в лучшем свете. Нападение четников ожидалось лишь через два дня; позиции были удобными, людей достаточно, вестовые были отправлены за подкреплением, чтобы предвосхитить удар неприятеля. Все загубила зимняя ночь с тридцатиградусным морозом. За ночь масло в затворах партизанских винтовок застыло. А четники, идя в атаку, отогревали свои затворы на груди, под джамаданами[18]. И это решило исход боя: утром встретились два неравносильных отряда — один стрелял и убивал, а другой диву давался, кто заколдовал винтовки, почему они не стреляют?
По сути дела, это был не бой, а побоище, где объединились, казалось, все злые силы, чтобы уничтожить как можно больше людей. Пока принесли на железных листах жар с костров — отогревать застывшее масло в пулеметах, убили командира Жаретича и прорвали линию обороны в двух местах. Еще не все было потеряно, но мобилизованная в глухих селах Рупа рота Жаретича, растерявшись в незнакомой местности, да и вообще без всякой охоты выступавшая против четников, с которыми ей до того не приходилось встречаться, дрогнула и сдалась без боя. Поскольку не было сделано ни одного выстрела, рупчане надеялись, что их простят — ведь они месяца не проносили пятиконечные звезды на шапках. Может быть, это кому-нибудь и простилось бы, не случись среди четников Любо Минича с колашинской группой беженцев и оголтелых головорезов, которые помышляли не только о мести, но и о том, чтоб продемонстрировать Юзбашичу, какие они герои и как беспощадны к землякам. Только двоим удалось бежать — все остальные были расстреляны и брошены непохороненными.
Участь партизан из Дуба и его окрестностей была немногим лучше. Сдаваться никто из них не собирался — обороняясь, они отступали по оврагам. Пули четников причинили им немного вреда, но, переходя вброд ледяные потоки, партизаны поморозили ноги. Молодые, неопытные, они окончательно загубили себя, когда наконец добрались до огня. Уже к вечеру люди не могли ступить шагу и стали обузой для других воинских подразделений. На санках их перевезли в Колашин, где они заполонили больницу, кое-кто даже попал в Жабляк. Всю зиму у них отваливались пальцы, а из мяса торчали мелкие кости. Раненые гибли от гангрены; многие умерли от воспаления легких, некоторых захватили в больнице четники и добили, каждого на свой лад. Мало кому из них, как Видричу и Качаку, удалось выжить. От батальона остались считанные единицы.
Не к чему сейчас вспоминать об этом, подумал Видрич. Одно и то же дважды не повторяется! Сейчас тут только штаб и даже не весь штаб; если на нас нападут и уничтожат, создадут новый штаб. Из шестидесяти людей, засевших в разбросанных по горам землянках, всегда найдется человек, способный это сделать. Самое главное, батальон невозможно уничтожить, он неуловим. Его позиции неизвестны — скрыты зеленой листвой весны, которой, правда, еще и не пахнет.
Он сидел и, казалось, внимательно слушал доклад Вуле Маркетича, а в действительности — не прерывал нить своих мыслей, словно готовил сводку, которую собирался кто знает когда и кому представить. Время от времени внутренний голос говорил ему: мы научились многому — кое-чему научила нужда, но больше всего — неприятель. И в первую голову мы овладели искусством скрывать свою боеспособность и беречь силы. Люди у нас больше не замерзают на горных хребтах, как прошлой зимой. Правда, и люди теперь пошли совсем другие — о Марксе мало кто слышал, о Ленине чуть больше, но зато занимать выгодные позиции и стрелять из винтовки они умеют гораздо лучше скоевцев и коммунистов, которых мы потеряли на Дубе. Теперь они отсиживаются по домам в тепле и относительной сытости. Ходят на посиделки, ухаживают за девушками, приударяют за молодками и увиливают от всяких дел. Если не удается увильнуть и получить освобождение от врача, они идут в четники, но при этом от их песен сотрясаются ущелья, а своей стрельбой они оповещают о направлении движения, все время думая о том, как бы в удобный момент внести замешательство, бежать и увлечь за собой других.
«Они похожи на домобранов[19], — подумал Видрич, и эта мысль его оскорбила. — Ну и что из того, что похожи? Время такое, что выбирать не приходится. А впрочем, все на этом свете на что-нибудь да похоже. Таков уж этот край, Нижний Край, граница! Народец здесь пестрый! Долго были под турками, часто бунтовали, никто никогда им не помогал, как и нам сейчас. Когда приходится рассчитывать только на свои силы, и хитрость — сильное оружие. Цетинье и вообще Верхний Край охотнее всего посылали в бой здешних людей, особенно не заботясь о том, как эти «двурушники» из него выпутаются. А когда приходилось спасаться после восстаний, приносили в жертву какого-нибудь всем известного попа или гайдука, — ведь надо было думать о новом восстании, поэтому тайные вожди тщательно укрывались, а люди, смотря по обстоятельствам, — либо прятали, либо выставляли напоказ свои гербы, знаки и знамена. Лгать научились по нужде, и это вошло у них в кровь, и кто знает, когда исчезнет…
Исчезнет, — заметил он про себя, — когда отпадет надобность лгать. Мы-то до этого не доживем, я, во всяком случае, — дважды пережить то, что было на Дубе, невозможно. Не хочу, не обязан — эта ноша мне не по силам. И Вранович не смог, потому и заставил себя убить. Жив еще Пушкар, но от него осталась одна тень. Время идет и требует новых людей. Мое время если еще не прошло, то уже проходит, и потому лучше уйти сейчас, чтобы было людям что вспомнить. Иной раз какой-то свой поступок, память о котором переживет тебя, ценишь больше, чем всю жизнь».
Мысли эти рассердили Ивана Видрича, и он нашел им объяснение: «Ракия в голову ударила — вот и болтаю пустое. Хорош бы я был, если бы выпил столько, сколько Ладо! А ему хоть бы что, только потеет. Привык, должно быть; он ко всему дурному привык. Я думал, он закончит как левый сектант или анархист, да вот не успел. Хитер — умеет молчать. Болтает обо всем, что в голову взбредет, а о своей женитьбе и жене — ни гугу! Есть в этом какая-то дьявольщина, но Байо все же перебарщивает со своими нравоучениями. Каждый вправе иметь жену и ребенка — особенно когда не сегодня-завтра может погибнуть».
Вдруг он представил себе Ладо мертвым: он лежал у дерева, голова его зарылась в снег, видны были только ухо и часть затылка. Видричу стало его жаль, но потом он спохватился: «Чего жалеть, его время прошло! Все равно стал бы забулдыгой — это у них в роду, все Тайовичи отличаются садистскими наклонностями, — если бы партия не направила его по другому пути. В сущности, партия спасла его, а потому у нее есть право (сказать «загубить» — это будет слишком грубо) использовать его, принести в жертву ради общего дела. Почему бы и нет, если даже женщины, как вот Гара, например, и те гибнут. Мне ее жалко не потому, что она моя жена, а потому, что я знаю, какая она трусиха, — темноты боится, палец кто порежет, не может видеть крови. Родила ребенка и сама ребенок, бедняжка даже не успела наиграться с сыном — каким покажется мир малышу, который не знает, что такое мать?..»
Видрич опустил голову на руки, стараясь думать о картелях, только что упомянутых Вуле Маркетичем. Слово «картель» Вуле выговаривал спокойно и безучастно, как сказал бы «раки», «маки», будто не знал, что они чудовища с тысячами присосков, щупальцев и голов. Настоящие чудовища, и каждое из них состоит из многих малых. Государства — их верные слуги, а войска — когти, каждое способно видоизменяться и омолаживаться, когда приходит пора умирать. Омолаживаются они человеческой кровью во время войн, а промежутки между войнами становятся все короче. Чудовища растут, и потому аппетит у них зверский. Трапезы их тянутся годами: и тогда в лесах и городах — все равно каких — православных, католических или мусульманских — облавы и резня не прекращаются. Тени картелей заполняют пространство, а лапы свои они протягивают даже в будущее, пытаясь пожрать и его. И нас здесь картели похоронили заживо в землю и в снег, чтобы нам не видеть солнца. Естественно было бы выговаривать имя этих чудовищ с зубовным скрежетом и воем, но что проку? Их бы это только порадовало.
«Ты, Вуле, — сказал он ему мысленно, — совершенно прав! Лиши их этой радости! Произноси картель, как, скажем, произносишь картошка, лукошко, окошко — словом, какую-нибудь пустяковину, ведь и это пройдет! Отомстить они тебе не смогут; положат в могилу, так ведь это всего-навсего могила, и ничего больше. Все мы где-нибудь будем лежать в могилах, может быть, рядышком на лугу, но разве это важно? И разве вообще важно, где тебе лежать, если ты мертв и если ты отказался поклониться чудовищам? Значит, ты человек-кремень, и, куда тебя ни положат, везде тебе будет мягко и удобно. И Душан Зачанин будет с нами — и он кремень. Закручивает ус, привычка у него такая, а по сути дела, самого себя с молодых лет, со времен балканских войн, закручивает, вот уже тридцать лет подряд. За это время чудища меняли свои названия, облик, цели: турки, немцы, потом радикалы и демократы с Рамовичами и Груячичами, а он был всегда против, жилистый и крепкий как дуб, как сверло, которое насквозь пробуравило все эти годы облав и горя».
Зачанин вызвал и другие мысли. «Не обязательно же, — думал он, — ждать одного худа, может быть, все еще повернется и к лучшему. Близится время перелома, и в природе и у людей. Если, как все полагают, Тодор Ставор окажется человеком слова и если Саблич ничего не заметил, тогда они не знают, где мы. А похоже, что не знают: один день, самый опасный, прошел. Если и завтра не придут, то уже совсем не придут. Ну а если придут, тоже еще не конец. Встретим их двумя пулеметами, пойдем на прорыв и поднимемся на Софру. Там они не посмеют нас преследовать — мусульманская территория, а с мусульманами они на ножах. Разве что итальянцы разрешат продолжить облаву, но и тут не все же погибнем! Такого еще никогда не бывало, чтоб все разом погибли, всегда кто-нибудь вырвется живым».
«Вырвется, — он оглядел всех, — Слобо Ясикич, вожак компании «Это нам легче легкого». Он ловок, находчив, беспечен, и ему все всегда удается. В подобных переделках беспечные гораздо легче сохраняют присутствие духа, может быть, потому, что они не теряют время на бесплодные раздумывания, а бросаются сломя голову вперед, находят слабое место и проходят как через распахнутые ворота. Слобо и сейчас думает, что все это легче легкого, это можно прочесть у него в глазах: живые, ясные, они смотрят прямо, и в них нет ни малейшего страха, словно они никогда не заглядывали в лицо смерти. Пожалуй, он даже не верит в смерть, иначе он не мог бы так смотреть и смеяться. У остальных глаза другие — каждый по-своему боится и по-своему скрывает страх. Раич Боснич смотрит прямо перед собой и о чем-то раздумывает, этот тоже пробьется. Придумает какой-нибудь трюк, который никому и в голову не придет, но в живых останется непременно. Ему всю душу вымотали, а если подумать лучше, так ведь он тоже своего рода фанатик — лично для себя ему ничего не надо: ни еды получше, ни одежды покраше…»
Видрич перевел взгляд на Арсо Шнайдера: его округлое, когда-то красивое лицо сейчас стало желтым и хмурым, волосы на голове встали торчком, кажется, каждый волосок вздыбился, собираясь спасаться бегством. «Да, — подумал Видрич, — есть лишь два пути к спасению: земля и небо. Землю мы уже испробовали, он пытается сейчас найти спасение где-нибудь повыше. Больной он, и давно: язва желудка, пищу приходится выбирать, желчь разливается. Такие люди живут долго, словно самой болезнью живут, — и он тоже, наверно, спасется. Привык в ушко продевать нитку; найдет и для себя игольное ушко и пролезет в него, как это удавалось ему до сих пор. А хмурится он оттого, что не нашел еще этого игольного ушка. Может быть, я несправедлив, но эти мастеровые, так называемые рабочие, для меня хуже интеллигентов: и когда спят, и когда горят энтузиазмом, вечно думают только о себе — куда бы дернуть, кого бы подмазать, как бы спасти шкуру да одеть ее потеплее. Но и без них нельзя: мы должны представлять народ, а он со всячинкой».
Оглядывает Иван Видрич товарищей, словно кого-то ищет. «Есть тут еще один, — заметил он про себя, — и человек немаловажный — нельзя его не помянуть. Вот он: плечистый, с большой лохматой головой — Шако Челич. Он шепчется со Слобо Ясикичем, и они вместе чему-то смеются. — Видрич даже обрадовался — он тоже из компании «Это нам легче легкого», он тоже спасется! Его ни на небо, ни в землю не загонишь, этот ломит нахрапом, пулемет да горло луженое, — что говорить, крестьянин! — Теперь я понимаю, как он умен и хитер, вся его рисовка и молодечество, бряцание оружием, представлявшиеся мне грубым мужицким бахвальством, имели глубокие и обоснованные причины. Он вливал бодрость и храбрость во всех и в самого себя, воодушевлял и поддерживал боевой дух в товарищах. Достаточно, кажется, подумать, что ты дурак или трус, и ты впрямь таким становишься. Так и со смелостью: убедит себя человек, что он храбрый, докажет на деле, и это становится фактом. Может быть, вся прославленная храбрость наших черногорцев одно самовнушение, в котором злая судьба лишь укрепляла людей, подкидывая им все новые и новые тому подтверждения. Народы, у которых есть другие богатства, могут как-то развиваться, отдыхать, а наша нищета принуждает нас жить одним и тем же, вызывая у немногих зависть и у многих ненависть. Ненависть эта часто оправдана, так как человечество вовсе не становится счастливее оттого, что наши четники храбрее прочих. Закостенеем мы в этой храбрости, а потом, когда нужда в ней отпадет, что будет с нами? Ведь у нас нет, и мы не знаем ничего иного!..»
Видричу хотелось отогнать эти противоречивые мысли о будущем — далекие прогнозы всегда казались ему недостоверными и опасными, но мысли не уходили. Точно звенья одной цепи, они текли сами по себе, катились сплошным мутным потоком и снова увлекли его за собой: кто знает, придет ли когда-нибудь время подлинного человеколюбия, когда храбрость станет излишней. И стоит ли жить в такое время?..
«Не стану думать об этом, бог с ним», — сказал он себе и до боли прикусил губу. Видрич мучился, как в тяжелом бреду, когда кошмары представляются совершенно реальными, и решил вырваться из этого бреда, взять себя в руки, опереться на что-то прочное и надежное. Рядом с ним были люди, они о чем-то говорили, но, прислушавшись к их разговорам, он с удивлением убедился, что и их мысли, мечты и речи отданы далекому будущему: одеть в камень Лим, расчистить и обработать прибрежные луга, наводнить Пусто Поле и пустыни плоскогорий…
IV
О том, чтобы одеть Лим в камень, заговорил Душан Зачанин, заговорил не только, чтобы скоротать время; у него были и другие, более глубокие личные причины. Его брат, доктор философии Венского университета и социал-демократ Второго с половиной Интернационала, выдвинул лозунг о Лиме на выборах в 1920 году, когда победил старого лиса, радикала Рамовича, давнего приспешника Пашича[20]. В то время, двадцать три года тому назад, избирателей мало заботило Пусто Поле, так что никто даже не обратил внимание, с каким легким сердцем позабыл доктор Зачанин о своем обещании. Впрочем, он позабыл и о других обещаниях, почти обо всех позабыл или свел на нет — человек шел в гору, попал в Государственный совет и думал уже о теплом местечке в сенате, словно специально созданном для таких забывчивых депутатов. Вероятно, он попал бы и туда, если бы не грянула война. Но Душан Зачанин не мог так легко позабыть об этом обещании — ему казалось, что он сам дал его, ручаясь за брата; оно и поныне камнем лежало на его душе, как долг не только перед избирателями той поры, в большинстве поумиравшими, но и перед их потомками, уже не имевшими о том никакого понятия.
Мечта — укротить, обуздать и заставить Лим работать на людей — время от времени возникала в его голове даже в ту пору, когда никакой надежды на ее осуществление не было. И наконец именно это обстоятельство — больше, чем что-либо другое, — привело зажиточного крестьянина к коммунистам. До войны у коммунистов был такой обычай — рассказывая о Днепрострое, мечтать об осушении Скадарского озера, о Лимострое и тому подобных вещах и осуждать всех и вся за то, что не построили того или другого — не провели железной дороги вдоль Адриатического побережья, не соединили Тару с Морачей, не оросили Лешко и Чемовско поле — что ничего не делают и не думают даже делать… Зачанин во всем с ними соглашался, полагая, что уж они-то непременно возьмутся за Лим. Когда началось восстание, нашлись дела поважнее, отодвинувшие, а потом и заставившие позабыть о Лиме. И сейчас Душан Зачанин хотел напомнить, и не только напомнить, но в случае своей смерти завещать свою мечту тем, которые дождутся лучших дней.
Только он начал, как Арсо Шнайдер, взвинченный резями в желудке, думая, что ему станет легче, если он сорвет злость на других, прервал его:
— Ведь это огромная работа, страшно подумать! Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь за нее взялся. Не окупится, смысла нет!
— Как нет смысла? — Зачанин воспринял эти слова как предательство и личное оскорбление. — Получишь землю, можно будет пахать, жить.
— Ну и земля, — протянул тот насмешливо. — Горе гореванное, а не земля!
— Какая есть — выбирать не приходится. И не такая уж она плохая, как ты думаешь.
— Землей не проживешь. Раньше можно было прожить, а сейчас главное дело — машины.
Зачанин на минуту почувствовал ненависть к машинам, а потом желание как-то их перехитрить, обратить в свою пользу.
— И кукуруза машина, — сказал он, — притом самая главная, без нее и рукой не шевельнешь. Она растет на земле, а как ей расти тут, если Лим уносит всю плодородную почву, а нам оставляет одни камни? На камнях и крапива не вырастет!
— Разве кто сладит с Лимом? Ведь это сущее бедствие.
— А капитал не бедствие? — Зачанин ударил пяткой, будто раздавил змею. — И пожалуй, пострашнее, а все же люди с ним борются и когда-нибудь его добьют и устроят все по-иному.
Арсо понял, что его загнали в тупик и надо как-то выворачиваться. И вывернулся:
— Почва, которую Лим и другие реки уносят в извилистую Дрину, не пропадает, а только перемещается. Наносы отлагаются вдоль Дрины и Савы до самого Белграда. Вот там земля! Спроси Вуле Маркетича, какая это земля, он знает…
Вуле Маркетич вздрогнул и хмуро посмотрел на Арсо. Что это ему взбрело в голову призывать его в свидетели и будить неприятные воспоминания? Молчал бы уж лучше! Да, конечно, он знает тамошнюю землю. Видел, исходил ее вдоль и поперек, не понравилась она ему. Грязная, липнет к ногам, подумал он, и снова представил ее себе в осеннем тумане под треск немецких пулеметов. Там земля так и тянет к себе, продолжал он вспоминать, словно сидит в ней какая-то нечисть, алчущая человеческого, и только человеческого, мяса, нашего мяса. А если не может затянуть к себе, то липнет к обуви, повисает на ногах свинцовыми гирями, чтобы тяжелее было идти, чтоб задержать, пока не подойдет неприятель и не поможет свалить тебя. Она поглотила тогда целые батальоны — сплошь молодежь, улыбчивые скоевцы, — вряд ли когда-нибудь родится еще такое поколение! А может быть, это какой-то неведомый закон, или уж судьба у Сербии такая, что в каждой войне она теряет своих лучших сыновей.
Вуле махнул рукой, не желая больше об этом думать, и услышал, как Зачанин сказал:
— Знаю и я, что там наносная почва, это мне объяснять не требуется. И хорошо, что там почва тучная, она и должна быть такой, раз все добро в нее уходит. Но людям и здесь нужно как-то жить. Вот я и спрашиваю, как?
— Без ворожеи-бабки нету догадки. Видно будет. Думаю, однако, когда надоест голодать, люди спустятся полегонечку вниз и пойдут за Лимом и за той землей.
— Вниз?
— Вполне естественное направление.
— А те, что там обосновались и приросли к земле, встретят их хлебом-солью, да?
— Этого я не говорю, но раз нужда заставит, обойдутся и без хлеба-соли. И надо! Что делать, если природой так устроено.
— Природа дура, — внезапно вмешался Ладо, — с ней тоже не мешает схватиться.
— И мне так кажется, — серьезно поддержал его Зачанин под громкий смех Шако Челича, который понял это как шутку. — Человек не так глуп, чтобы вечно подчиняться нужде. Я не хочу, чтобы нужда гнала меня куда-то, ну ее к черту.
— Тогда ничего другого не остается, — сказал Арсо, — как повернуть реки вспять. Только, думается, трудновато это будет сделать.
— Можно и по-другому, — вмешался Видрич, желая найти средний путь. — Скажем, электричество. Ведь на нашей земле много не получишь…
— Получишь столько, сколько получишь, — прервал его Зачанин. — Земли будет в два раза больше, чем сейчас, и она станет плодородней. Лучше что-нибудь, чем ничего.
— Чего ты так прилип к земле? — спросил его Вуле. — Есть и другие важные вещи.
— Потому что нет ничего важнее земли. Будь у нас земля, а значит, и хлеб, не было бы у нас четников, а без них уже было бы легче.
«Нет, — подумал Вуле Маркетич, — тут дело не только в земле. У крестьян внизу земли достаточно, а все равно многие пошли в четники, — одни, чтобы разделаться с соседями и родичами и получить побольше; другие — чтобы сохранить то, что они заграбастали, и чтобы не отдали их землю безземельным беднякам. И здесь было бы так. Как же иначе? Мы не какой-нибудь богом избранный народ, у нас тоже есть выродки, и, кажется, больше, чем где бы то ни было. Будь четников меньше или плодись они медленней, они и разлагались бы не так быстро, как сейчас. Иными словами, борьба за свободу невозможна без революционных процессов. И что же это была бы за революция, если бы она не проникала в самые толщи народа и не поднимала массы на борьбу не только за себя, но и против себя?..»
Пока он так размышлял, возникло еще одно предложение по борьбе с голодом. Внес его Раич Боснич. Наверху, вокруг Озера, много болот, он видел их с горы — мелководье, поросшее кустарником; без особого труда и с небольшими затратами можно все осушить и получить самую плодородную землю на Балканах, которую не придется даже удобрять. Весь край будет завален хлебом… Казалось, это предложение одержит верх, однако Зачанин, не раздумывая, отверг его.
— Какое мне дело до верхних — у них и так хлеба вдоволь. И в Рабане есть, и в Метохии — всюду, где живут мусульмане, хлеба хватает. Был он у них и в прошлом году, когда тут подыхали с голоду, а они не хотели продавать. Шелудивые басурмане, черт бы их побрал вместе с их муллами! Рассчитывали, что мы все передохнем с голоду, и они займут наши края, как встарь. Четники находили у них горы зерна и жгли его вместе с домами. Вот так-то! Я бы так сделать не мог, но они правы.
— Э-э-э! — протянул Видрич. — Ты, Душан, перегибаешь палку!
— Нисколько, смотри сам: продавай они хлеб хотя бы по двойной, даже по четвертной цене, их ненавидели бы меньше, и нашим не пришлось бы давиться бобами, от которых и ослы дохнут, и у нас не было бы четников.
— Были бы, — сказал Арсо.
— Меньше, чем ты думаешь.
— И больше, чем ты думаешь.
— Спокойно, — остановил их Видрич. — Так можно и переругаться.
— А если бы мы, — продолжал Зачанин, — не защищали этих шелудивых турок…
— Уж и «шелудивые», уж и «турки»! — с укором заметил Вуле.
— Шелудивые, потому что грязные, не моются, от парши не лечатся. Со времен Косова[21], а может быть и раньше, вшей кормят. Болеют сифилисом, гниют заживо. А раз они сами себя считают турками и только и мечтают о том, чтобы вернулись турецкие времена, то почему я должен их величать иначе?.. Хорошо, скажем, мусульмане, коли этим можно помочь делу. Если бы мы их не защищали, несмотря на то, что они не хотели продавать хлеб, больше уцелело бы наших и нам было бы легче. А так — восстановили против себя народ.
— Грабителей, а не народ, — поправил его Видрич.
— И владыка, когда голоден, идет на грабеж.
— Владыка грабит и тогда, когда не голоден.
— Грабит, согласен. Потому-то я и не хочу зависеть ни от турецкого, ни от мусульманского хлеба. Наши сами могут и пахать и сеять, дайте им только землю, чтоб они были уверены, что это их земля, и ничья больше.
— Верно, — воскликнул Шако. — Ты прав, Душан, только так!
— Так ли? Христарадник! — усмехнулся Арсо. — Ты всегда бьешь в одну точку: пахать да сеять, и это все.
— А как же ты думал? Чтобы они всегда пользовались нашей бедой, чуть только увидят, что идет засуха и неурожайный год? Слушай, надо же этому положить конец, где твоя голова! Если ты сбежал от мотыги, то я не собираюсь это делать, — И, рассвирепев окончательно, Зачанин, грозя указательным пальцем, продолжал: — И не очень зубоскаль, я могу и по-другому! Если мы свояки, то это еще не значит, что я должен терпеть тебя до Страшного суда!
V
Одни ссорились, другие их успокаивали, молчала только Гара. Впрочем, если бы ей и было что сказать, она бы постеснялась, ведь она всего лишь женщина, — не пристало ей лезть в чисто мужские разговоры о далеких, а потому неосуществимых и бесплодных вещах. Она простая, необразованная и неученая женщина, нигде она не была, никуда не ездила, не считая того, что на грузовиках их перебрасывали из лагеря в лагерь, ничего не видела, ничего не испытала такого, о чем можно было бы рассказать. Она просто благодарна им за то, что ей наконец позволили жить в одной землянке с мужем и братом, дышать с ними одним воздухом, разделять крупицы их радостей, готовить им еду и штопать чулки. Прежде она жила в землянке раненых, где был и Боснич, и очень там томилась. Тоску нагоняли не раненые и не уход за ними, а собственный ее отец, Йован Ясикич: целыми днями, пытаясь подавить страх и тревогу за детей, он рассказывал о своих любовных похождениях.
Поначалу Гара не очень прислушивалась к разговору мужчин. «Это они решили поразвлечься, страх прогнать», — решила Гара. — Для них первое дело — разговоры, а для меня — вязанье. По мне, наверное, тоже незаметно, что внутри у меня все дрожит от страха, вяжу себе и вяжу. И это не только моя слабость, страх царит не только здесь. В лагере была камера смертников. По ночам ее освобождали, а утром снова наполняли узниками из других камер. И неизвестно, кто испытывал больший страх: тот, кто попадал в камеру, или тот, кто должен был в нее попасть через день-другой. А сколько на земле таких лагерей, и в каждом думают, что их лагерь самый ужасный, что их камера самая плохая, а удел самый тяжелый. И в бригадах немногим легче — особенно, когда ждут атаки или когда идут через проволочные заграждения на бетонные доты. Везде тяжело, всюду стелется туман страха. Кое-где он ненадолго редеет, а потом опять клубится, наплывает волнами и то тут, то там становится таким густым, что дышать нельзя. Сейчас он сгустился здесь, хотя никто не хочет в этом себе признаться…»
Сквозь туман доносятся обрывки фраз, и перед глазами явственно встают, порождая друг друга, странные чудища: Лим — Голод — Ненависть — Четники — Земля… Неизвестно, какое из них главное; как только это узнают, чудище перестает быть главным и его заменяет другое, на него непохожее. Копошатся люди, усталые от напрасных усилий и ударов по пустоте — на ногах не стоят от утомления, сами не знают, что делают: сходятся, чтобы договориться, а встретившись, вступают в рукопашную и хватают друг друга за горло. «Вот сейчас новое чудище, — подумала она, — хочет нас, горсточку горемык, рассорить, раздробить. Поначалу разделились на две группы «Легче легкого» и «Без изъяна» вроде бы в шутку, потом начались взаимные подковырки, и кончилось тем, что брат Слобо поднял винтовку на Байо Баничича. Сейчас оно нас уже делит на четыре части, а завтра…» И Гара внезапно строго крикнула:
— А что, если вам прекратить?
— Почему? — спросил Душан Зачанин и тут же ответил: — Да, ничего умнее не придумаешь.
Мечта об одетом в камень Лиме потухла в его воображении, а вместо нее вспыхнули воспоминания юности: Балканская война, снежная ночь в Ругови у реки; женщины, принесшие в торбах еду для мужей и братьев к Дечанам и Джаковице, подсели к костру погреться, а солдаты принялись на них кричать, замахиваться прикладами — пусть убираются отсюда подобру-поздорову, сначала нужно согреть лошадей, лошади поважнее разных там чужих баб; перепуганные женщины встали, крестясь, не посмев даже слова сказать, но одна вдруг дала отпор — голос у нее был такой же сердитый и неожиданно резкий, как сейчас у Гары. Может, это была ее мать или старшая сестра ее матери, но главное — черногорские солдаты, в то время народ дикий и суровый, привыкший все решать силой, обозленные и усталые, с растертыми до крови ладонями — они тащили по бездорожью и горам пушки, — отступились, нарубили дров и зажгли другой костер для лошадей. Не будь этого, женщины замерзли бы…
— Ничего умней не придумаешь, — повторил он. — Надо спать. «А завтра, — подумал он, — будь что будет!» — И продолжал вслух: — Сходись — бранись, расходись — мирись, дело семейное, первая брань — лучше последней. И ребятишки так волю закаляют да языки острят, чтоб не быть мямлями да тихонями, не поддаваться всякому черту-дьяволу, никому не давать себе сесть на шею. Так-то вот, а разве мы все здесь не семья?
— Само собой, — ответил Шако, — другой у нас сейчас и нет. Ты отец семейства, а Иван, значит, дед.
Утомленные серьезным разговором, снова начали балагурить. Чтобы впредь не допускать групповщины, распределили роли. Вуле Маркетич — старший брат, он привык поступаться своими интересами ради младших, но таскать их за уши тоже его право. Шако — средний, хоть умом не блещет, зато бычья шея и, главное, борозды не портит. Арсо Шнайдер — недоносок, не пахарь, не пастух, быть ему торгашом либо писаришкой. Слобо — самый младший, озорник и общий любимец, ему перепадает лакомый кусочек, когда он есть, и подзатыльник, когда он выводит из себя старших. Боснич — родственник, живущий по соседству, учуял ракию и забежал смочить ус…
— Не годится при госте, — заметил Зачанин, — прямо говорить, кто озорник, а кто недоносок. Перед другими это положено скрывать, а у нас как-никак гость. — И он указал на Ладо.
— Я не в счет, — сказал Ладо. — Незваным явился.
— К нам из Верхнего Края всегда приходят незваные, но мы величаем их «гостями», чтобы хоть немного задобрить.
— И ваши, — не захотел Ладо остаться в долгу, — таким же манером ходят к нижним соседям. Не знаю только, как они вас там величают и чем задабривают.
— Да, — вздохнув, согласился Зачанин. — Что поделаешь с бедным народом: поневоле мечется туда-сюда, смешивается, на то он и народ.
VI
Определили, кому когда стоять на страже, вытянулись на своих ложах, и Слобо погасил лампу. Лишь раскаленное устье печки освещало штабель дров и сложенную на нем посуду. Ладо заснул. Ему приснилась в чуть измененном виде недавно пережитая сцена: собрались люди, что-то вроде монастырской братии, изгои; отказавшись от родных, они задумали сколотить новую семью. И каждый выбирает роль сообразно своему характеру, только он один не знает, есть ли такая роль, которая может подойти ему. Он чувствует свое неравноправие, он чужак, от него что-то скрывают, ему приходится ждать, чтобы другие назначили ему роль. «А если все роли разберут, — думает Ладо во сне, — и мне ничего не останется, надо будет идти дальше, искать место получше. И чего они кочевряжатся, как будто на них свет клином сошелся!»
Из темноты доносится голос Ивана Видрича:
— В хлебе не без ухвостья, а в семье не без урода.
— Выродка, а не урода, — поправляет его Арсо.
— Правильно, выродка, — соглашается Видрич и продолжает: — А если выродок этот здесь, в нашей семье?
Все ждут, что он скажет дальше, ждут долго, а Видрич молчит и только пальцем указывает на Ладо. И вот Ладо узнает свой голос, охрипший от гнева:
— Ты считаешь меня выродком, потому что я женился?
— Нет, потому, как ты женился каким способом, ведь он несовместим…
— Знаю, вопреки предписанию, — признается Ладо, — и это несовместимо с диаматом, но существует нечто и кроме диамата. Существует Тиамат, тесто из тьмы и соленой воды, первобытный хаос, который каждый раз приходит в ярость, когда кажется, что с ним покончено раз и навсегда. Этот хаос сильней всяких наших предписаний и пожеланий, в том числе и смелости. Мы часто в него стреляем, но это все равно что стрелять в туман — рана тотчас затягивается. Стреляя в него, мы часто убиваем друг друга, и Тиамат смеется. Вот и сейчас смеется — слышишь?
Он ждал, что ему ответят, но все молчали. Не слышно ни кашля, ни удивленных возгласов. Никого нет. «Все ушли, — подумал Ладо, — или их водяное чудище разом проглотило. И вот мы одни — я и оно. Собственно, неизвестно, Он это или Она. В ту пору, когда еще не была сотворена первая былинка, когда земля и небо еще не имели названий, существовал лишь темный однородный хаос, в котором смешивались воды. А поскольку у вечности нет ни начала, ни конца, разница не могла возникнуть и позже. Видеть его нельзя, я напрасно напрягаю глаза, эта тьма без границ, она и снаружи и внутри меня. Все равно когда-то это должно кончиться! И нечего зря заглядывать в эту самую вечность, не нужно мне ее, не нуждаюсь, и все тут, плевать я хотел на все это смешение вод, в котором не разберешь, где небо, где земля. У меня отобрали все, и мне больше не надо от него ни одного дня, ни одного часа, ничего. Если у него нет конца, то у меня он есть. А уж раз у меня есть то, чего нет у него и что должно вызывать его зависть, я воспользуюсь этим своим преимуществом, которое называется «концом», и хватану его им по лбу, сверну ему челюсть, всажу свое жало ему в глаз, пусть хоть немного почешется! Вот сейчас же…»
Он стиснул зубы, сжал кулаки, весь напрягся, вытянулся как струна, и ему показалось, будто из глубин мрака, на дне которого был погребен, он летит вверх. Быстро и без всяких усилий поднимается к поверхности, которую он не видит, но чувствует, что она тянет его к себе. Вот он совсем близко, можно уже на что-то опереться, остановиться и передохнуть, и тут он понимает, что это просто сон. «Проснусь, — подумал он, — некуда спешить, и зачем?.. Опасность миновала, времени предостаточно, можно не торопиться. Я здесь один и, значит — на свободе, никто не будет мне читать нравоучений. Не станет будить, только вот кто-то меня вроде зовет. Далеко-далеко. Откуда, как, кто может меня звать?..»
Он проснулся совсем и в полной тишине с нетерпением стал ждать повторного зова. Сразу вспомнилась дождливая осенняя ночь на Лелейской горе, когда вдруг из сожженного леса сквозь туман и дождь раздался зов Неды и Якша его разбудил, чтобы он отозвался. Порывисто приподнявшись, Ладо сквозь щель в дверях посмотрел на заснеженный простор. «Это только воспоминание, — подумал он. — Послышалось или приснилось. Если бы она в самом деле звала, услышали бы и другие. Во всяком случае, часовой или тот, что подкладывал дрова в печку. Вот дурак, как она может меня звать! И Неда не такая дура, чтобы сейчас меня разыскивать. А если все же дура, так кто мог ей сказать, что я здесь, и как могла она догадаться прийти именно сюда, где меня не должно было быть?..»
Ладо сидел какое-то время, отдыхая от сна и стараясь позабыть его. В печке горели дрова, партизаны шумно дышали, чесались во сне. «Не надо больше думать о Неде, — приказал он самому себе, — тошно становится, точно сироту обокрал. Впрочем, так и получилось: полюбил, как волк овцу любит, и бросил истерзанную. Послал жить в тот злосчастный дом к Иве, но это же увертка! То, что сказал мне тот ведьмак, которого я убил, будто она жила с Велько, была ложь, я знал, что ложь, и нарочно поверил, чтобы оправдать себя, что охладел к ней. Мужчина всегда охладевает после того, как совершит что-нибудь серьезное — убьет человека или сделает его. Теперь кайся не кайся — ничего не поправишь. Не жила она с Велько — нет, нет, нет! А если и жила, то это было давно, было и быльем поросло».
«Не стану больше о ней думать, — повторил он. — Сейчас мне ближе вот эти, что рядом со мной. Храпят, чешутся, а ведь на самом деле они герои нашего времени. Если все принять во внимание, они ничуть не хуже героев прошлых времен. Даже самоотверженней. Прежние герои, начиная с вавилонских богов Мардука и Аншара, находились под защитой высших сил, по своей природе были могущественнее своих противников и вполне сознавали свое превосходство. Одни с головы до пят были одеты в броню; другие, одержимые любовью или ослепленные страстью, не видели для себя иного пути. Оно конечно, и нам отступать некуда, и у нас нет выбора, и мы не можем иначе, но встали мы на этот путь сами. Любовь к правде привела нас к нему — ее мы предпочли всему прочему, она стала делом нашей жизни! Мы и тогда знали, что мы слабее злых сил, знали, что на нас нет брони, что мы беззащитны, лишены всякой божьей протекции, и все-таки мы решили пожертвовать собой, отдать свою жизнь в борьбе с вечно голодной Тиамат… Здесь уж Злая Судьба ни при чем. И когда мы веселы, на первый взгляд — беспричинно, то это похоже на веселье зеленеющих дубов, которые знают, что, даже срубленные, они корнями своими дадут жизнь молодым, себе подобным. Те, что по другую сторону баррикад, смеялись бы надо мной, если бы узнали, о чем я сейчас думаю. И будут смеяться, когда мы падем, но это ничего. Зерно, которое, умирая, дает жизнь колосу, гораздо счастливее того, которое томится в амбаре. И прежде выпадали черные годины, когда ничтожные иуды смеялись над героями, поносили их, топтали их мертвые тела, мочились на их могилы, но ничего. Туман иногда совсем затягивает вершины гор, начисто скрывает их, проглатывает, но все равно — мы снова появимся, как зеленые дубы, что выныривают из тумана и снегов».
ТОЛЬКО ВО СНЕ СДАЛОСЯ, БУДТО НА СВЕТЕ ЖИЛОСЯ
I
На берегу Поман-воды в землянке спят четверо. Пятый, Видо, по прозванию Паромщик, стоит на часах и думает о своих: мать больна, сестра запугана до смерти, топить им нечем, всю ночь зубами лязгают и глаз не смыкают от холода. Наверно, и не ужинали — нечем. Паром у берега привязан, чиркает о песок, вздрагивает и скрипит — это все их добро, и корова их, и нива. Горький удой, нищая жатва, проклятое добро! Того, что выколачивали на перевозе, не хватало на хлеб и в лучшие времена. Выручала поденщина, инвалидная пенсия покойного отца, рыба, которую ловил Видо, займы, унижавшие, как милостыня. Сейчас ничего этого нет. Ездят мало, только те, кто может получить пропуск; целыми днями никто не приходит, а кто приходит — не платит. Груячичи не платят, другие четники тоже — лучше проиграть в карты, чем платить презренным беднякам. Пусть чувствуют, что такое настоящая власть! Так они наказывают мать, у которой сын коммунист, и сестру, у которой брат коммунист, да еще выругают, чтоб знали, что они не хотят платить не потому, что денег жалко, а потому, что ненавидят их и мстят им.
И все-таки мать и сестра еще как-то живут — ходят, как всегда, босые, в жалком тряпье, сверкая голыми локтями и коленями. Чем живут, бог знает — водой, терпением, упрямством, но дымок над хижиной в ивняке все еще вьется. Топят сырой вербой. Он видел дым с горы и диву давался, когда проходил там поздней осенью, в тот день, когда на Побрдже погиб Якша, а через двое суток выпал первый снег. С тех пор он и не знает, как они. Может, дымок больше не вьется? Пожалуй, лучше бы он не вился, лучше бы больше не гореть огню в этом горемычном очаге между голодным Лимом и еще более голодным селом. Чего ждать, на что надеяться? Матери уже все равно не поправиться; сестра, если и выйдет замуж, то наверняка за пожилого вдовца с ребятами или за какого-нибудь голодранца-бедняка, у которого хижина, может, еще похуже той, что стоит в ивняке у парома.
Чтобы не думать об этом, Видо начал вспоминать, как в базарные дни крестьяне толпами валили к перевозу, как бросали мелкие монетки в шапку, лежавшую на дне лодки. Шапка была драная и монетки проваливались — потом он собирал их и чистил песком до блеска. Хороши были и те дни, когда кто-нибудь умирал и родственники, одетые в черное, ехали на похороны и потом возвращались с кладбища пьяные и наплакавшиеся. Обычно они расплачивались на обратном пути, и тогда никто не пытался проехаться на даровщинку. Самые же доходные дни были в мясоед, когда игрались свадьбы; тогда он даже собирал малую толику денег и уже подумывал о том, чтобы поправить хижину, купить сестре платье, завести клочок земли и кто знает еще что. Но случалось это редко — два-три раза в году, — только пробудятся мечты, и тут же следует кара за то, что осмелился мечтать. Обычно люди женились в своих же селах или по соседству, на той же стороне реки, и Видо долгое время думал, что они это делают нарочно, чтобы не переправляться через Лим и не платить за перевоз.
У кумовьев в карманах были фляги, и они угощали всех подряд, и его в том числе, подсахаренной ракией, предлагая выпить за здоровье молодых. Видов дед, старый одноногий Гайо, опершись на шест, поджидал их у парома с непокрытой головой. Заткнув шапку за пояс, чтобы освободить руки, он пил, крестился и желал здоровья. Для него это был самый большой праздник и единственная возможность напиться. Потом дед заводил беседу о войнах, о пушках, которые они таскали на канатах по горам через перевалы и по таким кручам, где никто, кроме человека и дикой козы, пройти не мог. Стоило ему выпить, и воспоминания лились рекой, они сидели в нем мучительной отравой, от которой он должен был время от времени избавляться. Он рассказывал о том, как они ночевали в снегу на Богичевице; как дрейфуны, всякие там лавочники, булочники и жестянщики из Печи, бежали с фронта, накидывали на себя чадру и откупались золотыми дукатами, когда их ловили; как их встретили монахи в Дечанах, как Сав-Батара грабил албанцев, как дружил он тогда и делился последней коркой хлеба с отцом генерала Вешовича, ныне покойным Лукой Вешовичем, который так рано состарился… Но до Рабана, где немецкий снаряд оторвал ему ногу, дед Гайо никогда в своих рассказах не доходил. Его развозило, и он засыпал, а проснувшись на другое утро в дурном настроении, говорил:
— Что жизнь, что человек? Горе одно. Только во сне сдалося, будто на свете жилося.
Осенью на пароме переправлялись гимназисты — спрямляли себе путь в город. От них не было никакой корысти — перевозили их бесплатно. Подросли и ровесники Видо, почти сплошь Груячичи, двое Радетичей, Видрич, его потом убила молния, и Момо Магич, тот самый, что спит тут, между Байо Баничичем и Качаком. Видо нисколько не досадовал, что не ходит с ними в гимназию. Он считал естественным, вернее, считал бы неестественным, если бы в гимназию приняли сына паромщика, босого, в лохмотьях, который на досуге любит есть угли и пепел с очага. Завидовал он им в другом: они не одиноки, как он, не ходят босыми, головы их красиво подстрижены, и они носят чистые рубахи — прямо полубаре какие. Потом зависть перешла в ненависть. Одни насмехались над дедом, другие — над сестрой, и он гонялся за ними с камнями по ивнякам. С двумя-тремя он справлялся легко, и поэтому против него объединялись все молодые Груячичи. Собираясь сразу человек по десять, они устраивали на него облаву, брали в кольцо, и он с трудом, избитый и израненный, прорывался сквозь него. Наконец за сыновей вступились родители и пригрозили ему жандармами. Сила была на их стороне, только Момо Магич и двое Радетичей его поддерживали. Но Радетичи с ранней осени гостили у родственника, который жил на окраине города, а один Момо мало чем мог помочь.
Кто знает, до каких пор длилась бы эта безнадежная для него, полная несправедливостей трехлетняя война, если бы внезапно ему не улыбнулось счастье. Недалеко от переправы купался один из Груячичей и, попав в омут, стал тонуть. Видо, как был в одежде, прыгнул в воду и с трудом вытащил его едва живого. И чуть сам не утонул — тонущий судорожно схватил его за шею, но в этот миг выбежала сестра, закричала, полезла в воду, и все кончилось благополучно. С тех пор Груячичи позабыли, что Видо когда-то ел угли, что сестра его женское отродье и что дед у него безногий. Видо начали даже уважать — ведь никто из них не решился бы вытащить человека из такого глубокого омута. Полгода говорили об этом, и не только женщины, но и мужчины, когда перебирались на пароме на ту или другую сторону реки. Сверстники немного завидовали ему, что он не должен ходить в школу, что целые дни он на свободе, может ловить рыбу или убивать змей в ивняке.
И ему самому нравилась эта свобода, полюбился Лим, что у водоворотов шумит по-одному, а у быстрины по-другому, радовали его разливы, интересно было встречать свадьбы, врачей, учительниц и судебные комиссии, которые направлялись выносить решения или объявлять приговоры. Порой приходили жандармы искать коммунистическую литературу или преступников — их Видо заставлял себя звать погромче и ждать паром подольше, а тем временем посылал сестру сообщить о жандармах кому следует. Морочил он голову и таможенникам, и как раз тогда, когда они спешили захватить врасплох выданного им контрабандиста, промышлявшего табаком. Недолюбливал и лесничего, и экзекутора — словом, всех облеченных какой-либо властью. Он старался им доказать, что их власть лишь на суше, а на воде власть — он. То одни, то другие пытались подкупить его посулами, перетянуть на свою сторону, а он притворялся глухим на одно ухо, всегда на то, что было ближе к ним, и делал вид, что не понимает, чего от него хотят. Просто-напросто в то время ему ничего не надо было, он никуда не хотел ехать: ни в жандармское училище, ни в школу таможенников, ни в матросы — ему были не по душе огромные, точно стальные башни, корабли. Нет, ничего этого ему не нужно, он хотел остаться здесь и воевать на свой манер со змеями и властями.
Ему было, как никогда, хорошо: луга, простор, пасутся лошади, подходят люди, контрабандисты, коммунисты, цыгане, и все они немножко зависят от него и, уходя, благодарят его. И только позже, когда тяжкая година заставила его пойти на поденщину, Видо задумался. И Момо Магич навалился на него, стал уговаривать примкнуть к коммунистам, вступить в СКОЙ. Магичу Видо ни в чем не мог отказать. Потом Момо совал ему в руки разную литературу и всеми правдами и неправдами заставлял ее читать. Вот тогда Видо и затосковал по своей вольной волюшке и в то же время стал жалеть, что не проучился хотя бы год в школе.
Дед умер, Лим изменил свое русло. Паром пришлось установить немного ниже, поближе к нему перенесли и хижину. Все менялось, менялся понемногу и он — очень понемногу, совсем незаметно для постороннего глаза. Лишь во время войны обнаружилось, что Видо Паромщик коммунист, и тут же он понял, что Груячичам это не по нутру. После того как он вытащил одного из них из воды и оказывал некоторые услуги контрабандистам, Груячичи заключили, что он в какой-то мере их раб, и хотели, чтобы таковым он и оставался. Они снова попытались приманить его разными посулами, как это делали с теми из своих родичей, что присоединялись к коммунистам, посылали ему письма и сулили золотые горы. Но, убедившись в тщетности своих усилий оторвать его от Магича и Бркича, Груячичи стали их преследовать. И вот загнали их сюда, в эту тесную мышиную нору, где под ногами хлюпает, а над головой капает… Пусть капает, бороться с водой и жить в тесноте — для него дело привычное. А вот другие знавали лучшую жизнь, им труднее, потому он их и жалеет. Сбились в кучу, скукожились, как сиротки в лютую стужу, дышат друг другу в затылки и все вместе занимают так мало места, что даже в полдень все поместились бы в тени старой ивы, в дупло которой вмазана труба железной печки.
II
И хотя жестокая действительность загнала их в тесную нору, во сне все это выглядело по-иному. Люди освобождались, расходились в разные стороны, находили или создавали свои собственные миры в разных, далеких друг от друга краях, и миры эти совсем не походили на реальные. Так воскрешают давно прошедшие события и переживают встречи, которые никогда не состоятся. Тесно связанные одной судьбой, объединенные и сплоченные общностью жизни и смерти, живя в постоянной зависимости друг от друга, они сейчас спят, дышат друг другу в затылок, отдыхают от этой близости и зависимости, которая тянется уж слишком долго; сейчас они превратились в рассеянные в пространстве, забредшие в другие времена, отчужденные друг от друга тени или даже меньше, чем тени.
И сами себя они не воспринимают во всей цельности. Порой они сведены лишь к звуку голоса или к бледному изображению, которое ничуть не ясней отражения во взбаламученной луже. Порой черты на этом изображении искажены, но тем не менее люди узнают себя. Впрочем, разве можно требовать какой-то цельности, если даже и наяву человек ощущает лишь малую долю своего я. Слишком много мрака снаружи и внутри, и человеческое тело часто походит на разбросанное село среди ночи: тут нога, там рука, а где-то вдали голова, точно старый замок, по ступеням которого и в узких коридорах бродит беспокойный дух со свечой или без нее. Иногда это не один, а несколько духов сразу — одни разыскивают в подземельях скелеты, другие копаются в старом хламе на чердаке. И если один из духов случайно осветит усыпанные инеем ветки под окном — глазу покажется, будто он что-то видит; а другой зашуршит старой бумагой — уху почудится, что оно что-то слышит.
Василие Остоич, по прозванию «Селё» и «Качак», несколько мгновений чувствует под рубашкой свои ребра. Не теперешние, а те тонкие ребра, какие у него были в детстве, когда в них тыкался головой золотистый козленок. Самый прелестный козленок из всех, какие только появлялись на свете, отборный, его собственный, и было это почти двадцать лет тому назад. Он делил с ним каждый кусок, и козленок повсюду ходил за ним — через мост, по лестнице и в комнаты, а когда был голоден и хотел получить поесть, напоминал о себе тем, что почесывал свои рожки о его ребра. Взрослые смеялись при виде этой неразлучной пары почти одного роста и одобряли их дружбу. Приятели даже как-то походили друг на друга, казалось, что козленок обладает исключительными способностями, и маленький Васо надеялся научить козленка человеческой речи, чтобы потом тот, в свою очередь, растолковал ему язык животных. Таким образом, с помощью толмача мальчик рассчитывал узнать таинственные непонятные вещи, которые помогли бы обороняться от волков, призраков и чертей, от всего, что по ночам внезапно появляется и нападает.
Долгое время он считал, что люди сами виноваты в том, что не произошло чудо, которое он так готовил и так ждал. Вообразив, что им уже все известно, позабыв, что должно пройти много дней, прежде чем дети начинают говорить, люди не захотели ждать чуда, очень уж им не терпелось отведать мяса. И они зарезали козленка с умными глазами раньше, чем он успел научиться сидеть на стуле и успел показать свои таланты, покончили с ним до того, как мальчик проснулся; плача навзрыд, он глядел на окровавленную шкурку с золотистыми завитками и только тут понял, почему ему не позволяли спать вместе с козленком: козленок позвал бы его на помощь, и они не смогли бы его похитить. Мяса козленка он не ел, ему казалось это предательством, и прошло много времени, пока мальчик привык к отвратительной мясной пище — ему каждый раз чудилось, будто это мясо его козленка и что снова и снова свершается человеческая подлость.
Рука Момо Магича сдвинулась с его спины влево, и вместе с ней сдвинулся — изменился сон. На плече у Васо тяжелые стулья — ноша чувствительная. Гимназисты устраивают выпускной вечер, денег на билет у него нет, но его обещали пропустить бесплатно, если он разыщет и принесет десять стульев, на которые сядут зрители с билетами. Он разыскал только семь, и его, позабыв об остальных, пустили в зал. Давали «Подозрительную личность»[22], громовой хохот мешал ему понять, о чем идет речь. Наконец он понял — о шпионах. Как же так, удивился он, все ненавидят шпионов, каждому противно на них смотреть, над ними глумятся, а все равно шпионы не переводятся и, кажется, их становится все больше… Представление окончено, актеры снимают фуражки с гербами и поддельные усы. Объявляют, что начинается игра в почту, и вдруг вместо шуток принимаются читать нескладные и не совсем понятные слова. Длинный Джёкица Смук, знаменитый тем, что голыми руками ловит змей, носит их в карманах и дает им ползать у себя под рубахой, всегда жаждущий славы, все равно какой, подвизгивая от восторга и невпопад жестикулируя, читает:
— «Вперед на классовую борьбу по принципам диамата!.. Вперед — в интернационалистическую дудучность!»
С парт ему кричат:
— Не дудучность, дундук ты этакий, а будущность!
И он поправляется:
— Правильно, пардон, дамы и господа! Я ошибся, здесь плохо видно. Нужно дундучность, да здравствует дундучность! — И, желая поскорее покончить с этим делом, Джёкица шпарит дальше: — Пролетарии всех стран, объединяйтесь, сбросьте ярмо с шеи!
Выпускники хлопают в ладоши; хлопают и девушки, и их матери — не важно, что они ничего не понимают, главное, выдать дочерей замуж.
Веселье внезапно прерывает известный предатель и доносчик, выпускник Булич. Он залезает на стул и вопит:
— Братья! Здесь пытаются вести пропаганду коммунизма — против короля Александра и нашего святого отечества!
Упоминание о короле и святом отечестве просвистело, точно плеть, загремело, точно рота жандармов в кованых башмаках. Наступила виноватая тишина. Чтобы заткнуть рот Буличу, на сцену выбежал длинноволосый очкарик Рашко Рацич и, грозя пальцем, закричал:
— Булич, Булич, твои предки в гробу перевернулись бы, если бы узнали, каков ты есть! Нет тут никакой пропаганды, мы только шутим и поем! Народ развлекается, хочет делать то, что ему нравится, а глас народа — глас божий, не так ли, братья?
— Правильно! — Зрители закричали, затопали ногами, захлопали в ладоши, и началась давка, воспользовавшись которой Булич незаметно исчез.
На другой день выпускников арестовали, в том числе и Джёкицу Смука, потом ходили слухи, будто им ломают ребра и морят голодом, потому что они ни в чем не признаются…
А он, Васо, в то время еще мальчик, никак не мог понять, почему с ними так поступают. И некого было спросить, дети этого не знали, а взрослым он не верил. И только неясно догадывался, что гимназисты готовились учинить какой-то бум, а жандармы почему-то встали им поперек дороги и запретили это делать. Долгое время мучила его эта тайна, и даже сейчас, во сне, это все еще кажется ему тайной.
Кого бы спросить, думает он, а сон ведет его дальше — через леса, залитые дождем, по грязным топким дорогам, оврагам и приводит к кривой улице на Саве; там он стоит долго-долго и никак не может определить, в какую сторону течет река. Кажется ему, что мутная савская вода бесцельно тащит его по всему его прошлому, которое, оказывается, не исчезло, а сохранилось, и, кружа по нему, можно снова попасть в больницу Жабляка. В больнице есть красавица санитарка, которая все знает и с каждым приветливо разговаривает, он спросит ее, чего хотели выпускники и почему их арестовали жандармы. Мог бы спросить и прежде, все раненые придумывали вопросы, чтобы обратить на себя ее внимание, только он молчал, неловко было ему, руководителю, заговаривать с девушкой и выставлять себя на передний план. Сейчас он не обязан больше сдерживаться, имеет право и он о чем-то спросить — пора наконец ему об этом узнать. Он лежит в постели и ждет ее. Так приятно лежать и ждать: раны не болят, нет ни забот, ни вшей, на душе спокойно. Ждет долго и диву дается, даже начинает сердиться, почему она не приходит, — первый раз он ждет ее, а она, как назло, не приходит. И неизвестно, тот ли это день или уже другой, и небо потемнело, и неизвестно, рассвет это или вечерние сумерки.
На постели рядом, невидимый в этом сумраке, лежит Иван Видрич и глухо стонет от боли.
— Напрасно мы ее ждем, — говорит он, — все равно не дождемся. Не может она прийти, покуда наши ее не освободят. Девушку схватили четники. Схватили и ее, и докторшу на Вратле, внезапно напали, пользуясь туманом.
Голос у него меняется — это уже не голос Видрича, мягкий и сочный, а какой-то сухой, хриплый, с необычными сиплыми переливами, как у жителей Подгорицы, как у Байо Баничича. Да это и есть Байо — прислали его сверху продолжать то, что начал Видрич, вот он и продолжает на свой манер:
— Вечно они застают наших врасплох, шпионаж у них лучше поставлен. Сеть надежнее, опытнее они в таких делах. И сейчас они хоть приблизительно, да знают, где мы, а где они, мы не знаем. И никогда знать не будем, пока у нас такие люди: пошлешь его связаться с людьми, а он свяжется с чужой женой… — пробубнил он и умолк.
В молчании они расстаются и забывают друг о друге. Забытье не обязательно мгла и мрак, порой это пустота, как воздух в долине. Ветер принес с Калемегдана[23] желтый лист, крутит его, переворачивает и несет вниз. Далеко внизу течет Сава. Говорят, течет, приходится верить, поскольку все течет, но этого не видно, по крайней мере, на глаз нельзя определить, течет река или нет. Во всяком случае, ему это не под силу. Реки в долине всегда такие: сытые, ленивые и на вид неподвижные; если человек наперед не знает, трудно определить, куда она течет. И люди там как реки, словно у них научились, ползут терпеливо на брюхе и не торопятся достигнуть цели, к которой наши кинулись бы в атаку…
III
Байо Баничич тем временем без всяких помех прибыл на Мальту. Давно, еще с детских лет, когда он тайком прокрадывался в чердачную комнатушку и рылся там в старых гроссбухах, он лелеял мечту хотя бы разок поглядеть на ту чудесную страну, о которой в его семье говорилось больше, чем об Азии и Америке, вместе взятых. И не удивительно — Мальту для черногорцев открыл дед Байо Баничича по матери, старый Буронич, торговый компаньон и правая рука Машо Врбицы[24]. Открыл он ее самолично еще до того, как вошел в товарищество с Машо, и сбывал мальтийцам по сотне волов зараз. Там он и приобрел торговый опыт, который в старости тщетно пытался передать кому-нибудь из родных. Пытался Буронич передать хоть частицу дорого оплаченных знаний и юному Байо, вначале казалось, что толк будет, мальчик внимательно слушал, переспрашивал и без конца заставлял повторять рассказы о моряках, пароходах, галерах; галеры в его воображении были черными, а пароходы представлялись какими-то морскими железными конями. Брат Байо, старше его больше, чем на десять лет, рано ушел из дому, стал художником, позднее увлекся всем французским и уехал в Париж учиться. Байо, как и сейчас, питал отвращение ко всякой еде, и, когда его пытались подкупить обещаниями: «Ешь, вырастешь большим и тоже поедешь в Париж», он отвечал: «Не хочу в Париж, не люблю его — я хочу на Мальту».
И вот когда Байо и думать позабыл о своих мечтах, он неожиданно очутился на Мальте. Просто поднялся по ступенькам на чердак, собираясь еще раз порыться в старых бумагах, запрятанных в сундуки, и вдруг перед ним открылся другой ход, который вывел его нежданно-негаданно на вершину горы Мальты, окруженную равнинами и морем.
Сверху были видны сады, маслиновые рощи, излучины шоссе и берега. Любуясь открывшейся ему панорамой, он вдруг понял, что все это гораздо сложнее, чем кажется: перед ним лежало прошлое его семьи; прошлое, которое он считал канувшим в вечность, оказывается еще живо и лишь затаилось. На первый взгляд это напоминало географическую карту, испещренную какими-то непонятными значками, но стоило вглядеться внимательнее в какую-либо точку на этой карте, как происходило чудо: точка отмыкалась изнутри, ширилась, росла, начинала походить сначала на план, потом на макет и, наконец, на город, по которому он когда-то ходил и улицы которого он узнавал прежде, чем они принимали свои нормальные размеры. Старый Город он узнал по развалинам турецких башен и, пройдя Юсовачу и посмотрев пещеры, пришел домой. Там все оставалось по-старому, только умер дед, не стало дукатов, да соседки зачастили — очень уж соблазнительно было посмотреть на крушение старого рода. Пришли и сейчас, услышав что-то нехорошее про его старшего брата Дуко, и загалдели:
— Уж больно долго учится ваш Дуко, госпожа Анджё! Что это за школа такая, на кого ж так долго учат, уж не на министра ли?
Спрашивали об этом и вчера и позавчера, пришли бы и завтра, но матери, госпоже Анджё, надоело скрывать позор — она собралась с духом и отрезала:
— Учится мой Дуко малевать голых баб! Вот чему он учится, а вовсе не на министра. Довольны теперь? Радуйтесь на здоровье!
Расходились женщины недовольные. Опять подложила им свинью: вместо того чтобы дать не торопясь посмаковать эту весть, вывалила все разом, и конец. Байо смотрит в окно, как они уходят, и замечает про себя:
«Во всем виноват Париж. Там у них точно правило какое: кто бы туда ни поехал, обязательно учится малевать голых баб. Потому я и не хочу туда ехать: я поеду на Мальту, и помаленьку все приведу в порядок».
И приводит в порядок, но не хозяйство, не былое величие семьи, как намеревался раньше, а прошлое, воспоминания. Иногда он и сам осознает, что это одни лишь воспоминания, что возвращение их и оживление — тот же сон, и все-таки он не может и не хочет с ними расстаться. И ему остается лишь удивляться и спрашивать самого себя: где все это таилось, как сохранилось во всей своей свежести и цельности? И не только то, что можно видеть глазами и пощупать руками, но схвачены и слова, и тембр голосов, а мимолетные мысли сейчас кажутся яснее, чем в то время, когда возникли…
Прошло время, и уже складывалось впечатление, что Мальта утеряна навсегда. Мать не знала или почему-то скрывала, где она находится, а учителя обходили молчанием. Однажды он разыскал ее на карте, но она попыталась скрыться снова. Наконец, когда он прочел о ней полстранички, ему показалось, что это другая, Малая Мальта или жалкие остатки от той старой, что, вероятно, затонула в море. Разочарованный, он заставил себя позабыть о Мальте и о гроссбухах в чердачной каморке и много лет в нее не заглядывал. Он зашел туда уже после получения аттестата зрелости, чтобы спрятать в ней школьного товарища, коммуниста Стево Очкарика, который в те дни крепко насолил жандармам. Томясь от безделья, Очкарик перелистывал старые бумаги и заключил, что они очень интересны и что каморка на чердаке настоящий архив истории черногорской нищеты.
— Почему нищеты? — спросил его Байо. — Мой дед был человеком состоятельным, я хорошо помню, что мы были богаты.
— Знаю, но это ровно ничего не значит. Ты и сам убедишься, если посмотришь, а тебе следует посмотреть — в какой-то мере это история твоей семьи.
В самом деле, позже, когда Очкарик и другие товарищи уговорили его писать докторскую диссертацию на тему «Развитие народного хозяйства в Черногории» и когда он перерыл все доступные архивы, он убедился, что подоплекой всего, главной причиной, тормозившей это развитие и окончательно его застопорившей, была нищета. Склонный в то время к обобщениям и аналогиям, он считал отнюдь не случайным тот факт, что великий жупан, основатель государства и династии, Неманя, родившийся где-то тут, на Рибнице, звался Неманей, то есть Неимущим и что этот Неимущий непрестанно продвигался на восток и юго-восток, пытаясь убежать от страшной нищеты неимущих.
Как порой бывает, привяжется какая-нибудь шахматная партия, и восстанавливаешь ее мысленно ход за ходом, и многие замыслы при этом становятся яснее, чем во время игры, — так неотвязно засела в голове Байо его незаконченная работа. Память услужливо воспроизводила таблицы вывоза и ввоза, долгов — как росли долги и усыхали надежды. Работали, отказывали себе во всем, продавали волов, лошадей, уклейку, масло, отары коз и тысячи овец, шерсть и вино, мед и воск, жир, медь, лекарственные травы; грабили их начальники сверху донизу, грабили купцы от Буронича до Лукачевича, лихоимствовали попы, промышляли воеводы и министры, оголяли землю до камней и крестьян до костей — и напрасно, все уходило мутным потоком в бездонную прорву. С мукой сколачивали деньги Марич и Голиянин, торговали с Мальтой и Марселем, каждый грош считали, отрывали от себя последний кусок и все равно ничего не скопили и даже не смогли со своим ничтожным капиталом ничего толком начать. По сути дела, это было не развитие, а бесплодные потуги, тщетные замыслы, натыкавшиеся на все возраставшую, непробиваемую стену нищеты. Пытались кое-что выкачать отсюда англичане и голландцы, понюхали и удрали; потом влезли итальянцы, эти проявили упорство — им терять было нечего, и принялись хозяйничать по-своему. Вот тогда-то воевода Гавро, министр иностранных дел, и заскулил, как узник в темнице: «Голые бедняки, неимоверно отставшие в промышленном производстве от всех прочих народов, мы были вынуждены волею обстоятельств отдаться в лапы… Мы доведены до того, что маркиз Кузани стал нашим советником в самых деликатных вопросах нашей внешней политики, правда, вопреки моему мнению, ибо я резко возражал против вмешательства итальянцев в наши дела».
«Напрасно возражал, — подумал Байо во сне, — итальянцы снова явились. Если уж повадятся, то, как саранча, всегда в одно и то же место. Не могу я больше так — засело гвоздем в мозгу, не дает спать. Не хочу больше об этом думать, лучше провалиться в туман и хоть минуту отдохнуть. А из диссертации все равно ничего не выйдет — какое уж там развитие, если его невозможно доказать, мука мученическая, а не развитие. Как можно говорить о развитии, если ничего не развилось? Лучше бы уж назвать «Попытки развития» или «Тщетные попытки борьбы с нищетой». Собственно, были две таких попытки: первая — Перо Томов, Никола Буронич, Божичкович, Врбица, Сочица и другие неофеодалы, скототорговцы, две пивные для двух политических партий, две лесопильни, переселение в Америку, грабеж переселенцев при отбытии и возвращении; вторая — попытка белашей[25] включить Черногорию в экономику Югославии, принесшая Черногории величайшую пользу: четыре километра асфальтированной дороги (от Будвы до Милочера) и плюс к тому депутатам Черногории за сидение в Скупщине выплачивалось жалованье, — обязанностью их было молчать, а один из них получил задание застрелить человека[26]. И вторая попытка, как и первая, завершилась приходом итальянцев. Наша попытка — третья, но сейчас я об этом больше не хочу думать — устал и голова болит. Очень устал, — тысячи букв и цифр копошатся, точно муравейник. Когда же наконец я от них избавлюсь? Поразмыслю об этом завтра или послезавтра, хотя можно бы и вовсе не думать — все написано, объяснено, остается только переменить…»
Несколько секунд немой тьмы, и он незаметно переносится в Белград, на Васину улицу, в актовый зал юридического факультета, заполненный гневными голосами. Идут дебаты о красоте, о трагическом, о развитии искусства. Табачный дым клубится над головами, лица едва можно разобрать. Главных ораторов разделили оградой, обложенной пуховыми подушками, чтобы не подрались, когда войдут в раж. По одну сторону ограды стоит Стево Очкарик, товарищ Байо по гимназии в Подгорице, по другую — Бенедетто Кроче[27], во фраке, с бородой, старый, как Фрейд. Ораторы скрестили очки, точно мечи, и Байо воспринял это как некий академический обычай Запада, символизирующий бескровную борьбу мысли и духа. Итальянец начал цитировать на древнегреческом Платона. Между цитатами он что-то бормотал — половина его бормотания оставалась в бороде, остальное — капало на пол. Из этих капель тут же образовывались слизняки, выбрасывали по два рога и тотчас расползались в разные стороны. Тянулось это бесконечно, наконец Очкарик вышел из себя и начал доказывать, что между этим Бенедетто с его слизняками и Бенито[28] с черной, как сапог, бородой не такая уж большая разница, как полагают: и тот и другой сторонники господствующего класса и продолжатели маркиза Кузани, только Бенито не скрывает своих целей, а Бенедетто ходит вокруг да около…
Старик почувствовал себя оскорбленным, схватился за сердце и повис на ограде. Несколько мгновений его трясло и корчило, потом он выпрямился и посмотрел на всех с укором. На его белом, как бумага, лице заблестели слезы. Он разочарованно покачал головой, а когда ему предложили стакан воды с сахаром, повернулся и заспешил, размахивая фалдами фрака, вон из актового зала.
Очки он потерял, споткнулся на лестнице и, шатаясь, обеими руками отворил дверь землянки. Просыпаясь, Байо вскрикнул:
— Что такое?
— Собаки, — сказал Гавро Бекич. — Что-то уж очень разлаялись.
— В Тамнике?
— Не только собаки, — заметил Видо Паромщик, стоя на пороге землянки. — Мне показалось, будто кто-то зовет: женский голос.
— А ты не спал?
— Так же, как и сейчас.
Проснулся и Васо Качак. Река и все то, что снилось, тут же ушло в забвение. Он зажег спичку, посмотрел на часы — три, для нападения рано.
Может, это просто волки — иногда и на них лают собаки; бывает, что матерый волк-одиночка, с тоски, точно женщина, завоет. Все же он зажег лампу — пусть люди успокоятся, придут в себя. Свет разбудил Момо Магича; скрипнув зубами, он схватился за винтовку. Увидев, что никто никуда не идет, что пока опасности нет, он тоже стал прислушиваться. Слышался обычный, ничем не примечательный собачий брех.
— А есть ли следы? — спросил Байо.
— Нет, — сказал Видо. — Ничего, насколько хватает глаз, не видно. Мне показалось, будто женщина плачет. Не знаю, что бы это могло быть. Погодите маленько, может, опять позовет.
Когда лай немного утих, стало слышно, как клокочет вода под льдом, но это было не то. Кругом тихо, белеет снег, чернеют деревья. Проходит минута, наплывает прядь тумана. Кто позвал раз, позовет и второй; если бы кто-нибудь заблудился и плакал, его бы и сейчас было слышно. Но все равно, будь это даже сбившаяся с пути женщина, они не могли бы отозваться, открыть свое убежище. Им пришлось бы молчать и дать ей погибнуть, как бы они про себя ни страдали, и как бы потом их ни грызла совесть. Вот и собаки успокоились, сейчас слышно далеко-далеко, кажется, даже слышно, как шумит Лим и как паром бьется о берег.
— Ничего? — спросил Байо.
— Ничего.
— Если это они, — сказал Гавро Бекич, — значит, вошли в лес.
— Приснился мне Мажибрада, — сказал Момо. — Лучше бы уж кто-нибудь другой.
— Не приласкал тебя резиновой дубинкой? — спросил Васо Качак.
— Нет, но представь себе: назначили его директором гимназии, и вот он явился к нам и разразился речью, что всех нас, дескать, вышвырнет, да так, что мы не будем знать, где у нас голова, где ноги. И потом принялся лаять.
— Это ты слышал лай из долины, — заметил Гавро.
— Наверно.
— Я погашу свет, — сказал Васо и задул лампу.
Свет снаружи виден не был, это они уже проверяли, и все-таки спокойнее, когда он потушен. Огонь в печке давно уже догорел — воцарилась кромешная тьма. Было слышно, как капает сверху, как собравшаяся на земле вода журчит и глохчет, собираясь в маленький ручеек под поленницей. К шуму воды они больше не прислушивались — привыкли к ней, как и к прочим бедам: вшам, тьме и скуке. Время идет, в сущности ползет, от одиночества они не страдают, всем им грозит равная опасность, все накрыты одним покровом тьмы, все дышат одним воздухом, гнилым и спертым, пахнущим землей и червями, даже вши едят их одни и те же, переползая для разнообразия с одного на другого. Только родные братья могут быть так близки друг другу, так сплочены, могут с такой уверенностью полагаться друг на друга, а они больше, чем братья, — они части одного и того же тела, они чувствуют свое единение уж многие месяцы, скоро год, чувствуют, как срослись их помыслы и надежды и как их прижали к стенке непрекращающиеся облавы.
Так, молча прислушиваясь к глохтанию воды, они долго еще живут ощущением своего единения, потом это чувство ослабевает, и один за другим они тихонько расходятся вслед за своими мыслями.
IV
Гавро Бекич вообразил, что захватил живьем своего дальнего родственника, командира четнического отряда Филиппа Бекича. Вот уж полгода, как эта мечта заслонила все прочие: о женщинах, девушках, о будущей жизни. Даже когда он голоден, дрожит от холода или дремлет на страже, стоит ему вспомнить Филиппа, и он тотчас встрепенется, позабудет про голод и согреется ненавистью. Лицо Гавро сводит судорога, когда он думает о своем родственнике, и кулаки сами собой сжимаются и разжимаются, будто он месит крутое тесто. Это напоминает ему далекие мирные дни. Он тогда учился плавать и, выкупавшись, уже далеко от реки все еще взмахивал руками, будто плыл. Ему даже казалось, что он получает частицу того несказанного наслаждения, которое чувствует пловец. Плавать в конце концов он научился и довел свое мастерство до совершенства, постепенно разрешил он и свой спор с женщинами и девушками, а вот с Филиппом никак не может разделаться.
Убивать его из винтовки ему не хотелось. Слишком уж просто, скоро и внезапно, он мечтал сначала вызвать его на разговор, победить его в словесном бою, заставить покаяться и, как на исповеди, во всем сознаться. Впрочем, Филипп Бекич — и воображаемый, и реальный — ни за что не покается. На то у него свои причины, да к тому же язык острый, как у женщины без стыда и совести. Вместо того чтобы отвечать, он умеет сам задавать вопросы; умеет исказить смысл твоего ответа, так что ты же останешься в дураках. Таков, говорят, с детства: избаловали единственного сынка, вот он и привык верховодить и во всем считать себя правым.
Стоя в карауле, Гавро придумывал пространные споры, невольно начинал шептать вслух, но тут же умолкал, боясь, что кто-нибудь его услышит. Вот, к примеру, один такой разговор:
— Ну вот, Филипп Бекич, мы и встретились. Молись богу, если хочешь. Смерть твоя пришла!
На это Филипп отвечает:
— Вижу. Что же она так поздно? Выпью ее, как стакан воды. Что ж, умирать не миновать!
— Да, но как? Люди добрые умирают, защищая свою честь, а ты, Филя, с позором.
— А почему ты думаешь, что с позором?
— Потому, что макароны ел!
— И ты, парень, бросал их не вниз по реке, а сначала в глотку.
— То, что я их ел, это не позор. Я добыл их винтовкой.
— А я помог тебе занять город и раздобыть их, а ты мою долю зажал.
— Зачем же я тебе стану давать, если ты защищаешь Муссолини?
— Муссолини — Европа, как-никак христианин, а ты защищаешь турок — это еще больший позор.
— Турки в Турции, а у нас бедняки-мусульмане; говорят по-сербски, другого языка не знают, значит, наши люди.
— Мы их прижали, вот они и стали бедняками. А раньше барствовали, чванились да самовольничали, ездили на нас, били, хватали, баб наших насиловали.
— Это прошло.
— И Муссолини уйдет. Вчера пришел, а завтра его заставят уйти, турки же тут останутся, а они только и ждут войны, чтобы с чужой помощью сесть нам на шею…
Из-за мусульман они и поссорились — раз и навсегда. Было это в начале восстания. В памяти Гавро ожили те дни, заполненные собраниями, криками и суматохой. Собственно, все продолжалось один день. Орды албанцев и мусульман, собранные итальянцами с помощью мулл и бегов в Призрене и Печи, прорвали слабо обороняемую линию фронта повстанцев в горах над Грабежем и покатились с дикими воплями вдоль горных потоков — одни с винтовками, другие с зажженными головнями, третьи с порожними мешками, чтобы было куда класть награбленное добро. Зрелище было страшное: дым горящих домов и стогов сена указывал, до каких пор дошли мародеры, и эта дымовая завеса быстро приближалась к городу. Невидимые среди дыма, горластые, лихие, стреляя и крича, они походили на какую-то трехголовую гидру разбоя, огня и насилия. Лишь изредка вырывался из этого содома неистовый человеческий вопль:
— А-а-а, скорей, скорей! Хочу еще до обеда выпить кофе в Беран-чаршии![29]
Пули уже щелкали по крышам городских домов, но до города они все-таки не дошли. К поредевшему молодежному батальону Ивана Видрича присоединились прекоселяне и рота городской голытьбы, которой командовал капитан Юзбашич. В результате стычки, которая продолжалась не больше минуты, орда превратилась в бегущее стадо. Забыли и про кофе, и про то, что у них в руках винтовки. Голос у всех точно пресекся, и, освобождаясь от лишнего груза, они побросали сначала головни, потом торбы с награбленным добром и, наконец, собственные драные сермяги и мертвецов с винтовками на полянах. Вместо них принялись кричать прекоселяне. Пулеметы Аксовича, Велевича, Бучича и Шако Челича заглушали крики и гнали стадо вверх по руслам горных потоков. Потерь почти не было, напротив, отрядец капитана Юзбашича по дороге непрестанно рос: в него вступали жители Грабежа, скрывавшиеся до тех пор в лесах. Люди, устыдившись, что они с перепугу бежали и оставили свои села беззащитными, теперь сваливали всю вину на молодежь и коммунистов, которых они же бросили на произвол судьбы. Свою же внезапно вернувшуюся храбрость, — а им казалось, что она окончательно их покинула, — они объясняли умелым командованием капитана Юзбашича и уже на ходу принялись всячески восхвалять и прославлять его военное мастерство и героизм.
Так добрались до половины горы, и тогда из выкопанных на скорую руку неглубоких окопов итальянцы встретили бегущих мусульман лобовым пулеметным огнем, рассчитывая задержать их и снова бросить в атаку. Но дело кончилось тем, что бегущие повернули к богатому мусульманскому селу Благош. Отряд Юзбашича преследовал их по пятам. Село лежало в ровной долине, и люди с удовольствием перестали карабкаться по крутым склонам и дали отдых уставшим ногам. Большое, закрытое с трех сторон горами, земледельческое село будто оцепенело, никто даже не пытался бежать. Крестьяне только ошалело смотрели, как одни, перепуганные насмерть, отходят, а другие, озверевшие, входят, и беспомощно ждали незаслуженной кары. Так оно и случилось — Гавро Бекич ужаснулся, увидев, что войска, победившие трехголовую гидру, сами превращаются в такую же гидру.
Поднялись почти одновременно — прямо к небу — дымы. Заверещали дети, запричитали избиваемые женщины, затрещала в огне пшеница. Грабежане уничтожали пчел, убивали кур. По улице потек мед, заборы стали липкими и вскоре разукрасились перьями, которые летали в воздухе и прилипали к меду. К счастью, в селе не было ракии, впрочем, поссорились и без нее. Сначала в штабе: Качак и Видрич требовали прекратить поджоги и собрать людей, а капитан Юзбашич, напротив, стоял за то, чтобы, воспользовавшись удобным моментом, продолжить наступление до Пазара и вчистую разделаться с исламом. Потеряв наконец терпение, Юзбашич порвал с коммунистами и вернулся с несколькими сторонниками в город. Предчувствуя, что пробудившийся аппетит к грабежу этим не остановить, Качак послал роту из Видричевого батальона на перевал к Дервишевому утесу, чтобы добром или силой остановить дальнейшее наступление.
Рота прибыла вовремя, за ней тотчас повалили грабители, считая ее своим авангардом. В основном это были жители Грабежа и Тамника. Одним из их вожаков, еще не совсем признанным и пока мало известным, оказался Филипп Бекич, человек богатый, а потому и уважаемый, средних лет, языкастый, меткий стрелок и хват.
Все очень удивились, узнав, что наступление прекращается. «Как так? — кричали они. — Что они, смеются над нами или сошли с ума?.. Кто смеет запрещать нам разделаться с этими паршивыми погаными турками и албанцами после всех их поджогов и насилий? Пусть только отыщется такой сукин сын и попытается это сделать, пусть явится — мы его научим богу молиться!..»
Своими криками они рассчитывали запугать молодежь и увлечь за собой на ратные подвиги хотя бы половину. Но сукин сын тотчас явился и встал всем на обозрение — это был известный своим упрямством комиссар Тодович, тоже грабежанин. И он не остался в долгу, отделал их как следует. Люди они, сказал он, или пьяные скоты? Только через его труп они смогут замарать коммунистическое знамя свободы и революции грабежом и убийствами бедняков-мусульман! Достаточно они уже его замарали в Благоше и за это еще кое-кто ответит! Мало там было меда, дыма, яиц и кур? Больше такое не повторится, не может повториться! Партия поставила его для того, чтобы он не допускал разбоя, и он скорей умрет, чем уступит банде грабителей, воров и вечно ненасытных дармоедов, которые, чуть запахнет кровью, удирают.
Посыпалась ругань, пошли хватать друг друга за грудки, за руки, за рукава, наконец взялись за оружие. Люди перемешались, раскололись на группы. Тем, которые успокаивали, — а их было немало и с той и с другой стороны, — работы было по горло. Только утихомирят одного забияку — на его место являются три новых; только погасят ссору на одном конце поляны, она вспыхивает и разгорается на другом. Сводились тут и старые счеты, прорывалась затаенная ненависть прежних лет, зарождались новые свары, которые переживались болезненней, поскольку были свежими и неожиданными. Казалось, кровавой стычки не миновать; ее начало откладывалось лишь потому, что конца у нее не было.
Гавро Бекича, в то время скоевца, раздирали противоречия. С одной стороны, ему было жалко Благош, в этом селе жили его знакомые, как, впрочем, и во всех мусульманских селах вокруг Тамника, с другой стороны, за горами находились неизвестные ему села, откуда пришла эта напасть, их он не жалел, напротив, жалел, что они останутся ненаказанными. Томимый такими мыслями, Гавро вдруг увидел, что Филипп Бекич глазами и жестами подает знаки своим и идет прямо к комиссару Тодовичу. Гавро инстинктивно почувствовал, что наступил решающий момент, быстро схватил свояка за правую руку и сказал:
— Погоди, дядя Филипп, давай-ка простимся!
Филипп попытался вырвать руку, а когда ему это не удалось, вонзил в него злобный взгляд и крикнул:
— Отстань от меня, выродок проклятый!
— Погоди, дядя, мы ведь еще не дрались.
— Нет, но сейчас, клянусь божьей верой, я от тебя мокрого места не оставлю!
— Лучше всего сделать так: давай с тобой устроим поединок, — сказал Гавро, улыбаясь, — а все прочие пусть смотрят. Если я тебя поборю, возвращаешь войско и никакого грабежа! Ты меня — забирайте у них все и про бритвы не забудьте, чтобы турчанкам нечем было побрить внизу!
Поднялся смех, заразивший и тех и других. Всех потрясло открытие, что после пережитого смертельного страха, после безумной жажды мести можно смотреть на вещи с комической стороны и громко, весело, от всей души смеяться. Миновал полдень, прошло и желание ссориться. Кто-то вспомнил пророчество старого дервиша Джафера Шамана: «Придет день, когда сербы дойдут до Утеса, и здесь между ними вспыхнет ссора — и прольется потом много крови».
Люди уселись на поляне передохнуть, а ссору, которую напророчил дервиш, отложили и оставили для будущих поколений. Последним успокоился Филипп Бекич, и то лишь после того, как погрозил Гавро:
— Припомню я тебе это, сукин сын, заплатишь ты мне когда-нибудь!
Потом он то ли позабыл о своей угрозе, то ли образумился. Со шпионами Филипп не связывался и уходил в лес, когда узнавал, что идут итальянцы.
Однажды в Тамник внезапно нагрянули итальянцы, схватили в поле ни в чем не повинных людей, в том числе и Гавро Бекича с отцом — они косили отаву, — привязали к хвостам мулов и повели в город.
В последнем перед городом селе Гавро развязал руки и шепнул отцу, который шел рядом:
— Я могу бежать! Попробуй как-нибудь и ты, вместе побежим.
— Слава богу, если можешь! Беги — и будь что будет, на хорошее все равно рассчитывать нечего. А меня не жди, нет сил.
На первом же повороте Гавро в мгновение ока перескочил придорожную канаву, промчался через сливняк, пробежал под орехом, ветви которого падали, скошенные огнем автоматов. Оглушенный, почти ничего не видя, продрался через кукурузу под огнем целого батальона и, прячась то за водяной мельницей, то за стогами сена, добежал до леса и, уже совсем задохнувшись, остановился. Не остановился бы и тут, если бы не увидел камень: крепкий, немой, надежный, словно первый когда-либо виденный камень, и этот камень свидетельствовал, что он, Гавро, жив и что все это ему не снится.
Захваченных тамничан на следующий день итальянцы расстреляли на окраине города. Говорили, что их кто-то предал, однако никто тогда не заподозрил Филиппа Бекича, уверяли так же, будто и он едва спасся бегством. И после Филипп вел себя как порядочный человек: не пожелал записаться в милицию, ругал предателями и тех, кто ее возглавлял, и тех, кто в нее записывался. Не пошел бы он, как утверждала та же молва, и в четники, если бы ему не дали чин. Между тем оказалось, что дело было не так-то просто. Главари милиции вместо того, чтобы восстать против его руководства, уступили первенство ему. Гавро понял, что в глазах итальянцев заслуги Филиппа гораздо значительнее и относятся еще к тем временам, когда об этом никто не догадывался. Возможно, его связь с итальянцами возникла еще до стычки на Дервишевом утесе и внезапное вторжение солдат в Тамник было делом его рук. Доказать свои подозрения Гавро мог, лишь захватив Филиппа Бекича. Он посадил бы его под замок и три дня, или нет, целую неделю, выщипывал бы из него живое мясо, но и этого мало, чтобы отомстить за отца и тех безвинно погибших тамничан, которые из-за его ссоры с Филиппом были расстреляны на окраине города. Раскалил бы добела клещи и выдергивал бы ему зуб за зубом, пока он во всем не признался бы, не открыл и не выложил все свои связи. Хуже всего то, думал Гавро, что все пришлось бы скрыть от товарищей, особенно от Байо. Байо, рассуждал он с огорчением, пришел сюда только для того, чтоб мучить людей и не позволять им делать то, что им нравится. Оскорбляет, все запрещает, а Васо Качак, Иван Видрич и Арсо Шнайдер ему подпевают. Подпевают и тогда, когда знают, что он не прав, только потому, что он прислан сверху, и, если бы сверху прислали кого-нибудь еще похуже, они бы все равно ему помогали и нашли бы тридцать три причины, чтобы доказать его правоту. Прежде они не были такими. Плохо, что они так изменились. Вот и сейчас Байо молчит — значит, наверняка придумывает, что бы такое запретить, лишь бы всем досадить и доказать, что он, видите ли, не простой смертный, а верховная власть и что мы, которые можем сделать все, перед ним не смеем и пикнуть…
V
Гавро Бекич ошибался. В эту минуту Байо Баничич не думал ни о запретах, ни о приказах, ни о чем-либо подобном. Он даже позабыл о том, что он начальство. Сон напомнил ему о недоконченной работе «Развитие сельского хозяйства в Черногории». Рукопись куда-то задевалась, пропала, точно корова языком слизнула. Черногорский ненасытный дракон нищеты пожрал и эти бумаги… Потом ему пришла в голову мысль, что не случайно первое слово, которое заучили итальянские солдаты, было «нету».
Нету коки, нету яйки, Нету грапа, нету акви, Нету оджи, нет домани, Нонче ньенте, нонче майи[30], —сюсюкая, напевали они песенку, глумясь над ширококостными крестьянами за то, что те не осыпают их дарами, и не подозревали при этом, что вскрывают самую суть черногорской экономики и истории: нищета крепче любой твердыни, она не дает никаких всходов, а если случайно что-то и взойдет, ему не на чем расти и зреть…
Даже время, заметил про себя Байо, которое в других странах приносит какие-то перемены, тут бессильно. Больше ста лет промучались Петровичи[31], чтобы создать государство, и хоть бы что, оно так и осталось раздробленным на племена и нахии[32]. И подобно тому, как нищета одолевала все виды капитала: ростовщический, купеческий, банкирский и жалкие крупицы промышленного — так и пастушеское племя прозябало в глуши, на короткое время оживлялось, а потом снова откатывалось назад, в свою нирвану. Будь у Петра Цетиньского фабрики, или рудники, или поля монастырские или все равно какие, чтобы дать людям работу и тем самым кусок хлеба, ему было бы легче и он, наверное, не писал бы: «Это самовольный и непослушный народ, без сабли и веревки его не направишь на путь истинный». В сущности, кроме проклятий и веревок, у него ничего и не было, впрочем, и сегодня перемен к лучшему не заметно. «Сабли и веревки» — это и цетиньские грабежи кучей, набеги на пешивцев, пиперов и белопавловичей, белградские грабежи ровацей[33] и Катунской нахии. Все это не что иное, как подавление мятежей, которыми крестьяне встречали новые общественные формы, а встречали они их так потому, что не доросли до них и не имели условий дорасти. Крестьянские волнения после первой мировой войны были подобной же волной сопротивления, и четничество стало опираться на это сопротивление прогрессу, до которого оно никогда не созрело бы, если бы ждало у моря погоды. И так без конца — кто-нибудь тащит наших полупастухов, гусляров и полубатраков да все в гору, силой, направляет «веревкой и саблей» на путь истинный — к тому, до чего они еще не доросли. Прежде тащили архимандриты и князья, а сейчас это лежит на нас; у тех хоть какие-то возможности были, а у нас нет ничего, и потому мы должны были бы действовать как слаженный механизм, но и в этом случае едва ли сможем противостоять стихии. Я всячески старался создать такой механизм из людей, которые вот здесь, со мной, и безрезультатно: то и дело в них просыпается наследственное сопротивление и вносит раскол, колебания, сбивает на неверный путь, находит сотни способов отбиться от всех, когда так необходимо быть вместе.
«Ни к чему было меня сюда и посылать, — подумал он, — в эти туманы, болота, леса и снега. Не растерялись бы и без меня; во всяком случае, погибнуть бы сумели, а это было бы самым естественным после всего того, что тут творилось. Неестественно другое, то, что пытаюсь делать я: сохранить под ружьем шестьдесят коммунистов на двукратно оккупированной территории, там, где было восстание и полыхали пожарища и где снова, собрав последние силы, подняли восстание. В нашей вековой истории, которой мы так кичимся, еще не было случая, чтобы гайдуцкая ватага смогла продержаться зиму в том месте, где действовала летом. Зазимовать ей не давали, и если она не уходила, ее уничтожали, как только выпадал первый снег. Только мы остались, понадеялись на удачу, раз все равно не было другого выхода, и это первая глупость!.. Ударились в мечты, составляли планы возрождения армии: взводы по селам, роты по общинам, думая к весне, когда зазеленеет лес, сколотить батальон или два, и это вторая глупость! Даже я поверил, что это возможно, впрочем, такая возможность и в самом деле была — минус на минус, или глупость на глупость, всегда дают плюс, то есть в данном случае способны породить что-то дельное. И все бы кончилось хорошо, если бы мы не совершили третьей глупости. Не понимаю, как я мог зимой согласиться на диверсии и допустить эти акции с телефонными проводами — ведь это все равно, что дразнить медведя после того, как он уже перестал преследовать».
Байо вспомнил весну, когда он пришел сюда: облавы, дожди, леса — все совсем иначе, чем он себе представлял. «Я даже не знал, куда иду, — думал он, — но это не моя вина. Разбитые на нахии, разделенные горами, мы не знаем друг друга и заранее склонны недооценивать товарищей. Мне сказали, что это пограничная область, а на границе народ пестрый, с бору да с сосенки, все двурушники да оппортунисты, в одной руке сербская шапка, в другой — мусульманская феска и надевают их, смотря по обстоятельствам. Презирал я их за это хамелеонство, хотел даже речь сказать о человеческом благородстве. Хорошо, что не сказал. Потом, оглядевшись, убедился, что условия здесь действительно принуждают менять головной убор, если хочешь сохранить голову. И я же сам предложил раздобыть где-нибудь мусульманские фески и носить их на всякий случай в кармане, но они все, как один, воспротивились — не только шальные «Это нам легче легкого», но и такие серьезные люди, как Видрич, Качак, Шнайдер, — все дружно заявили, что это был бы позор, срам, что четники были бы рады-радешеньки и ударили бы во все колокола, как только нашли бы у кого-нибудь из наших феску, а такого срама народ никогда нам не простил бы».
«Что-то уж очень часто они оперируют словом «народ», — услышал он собственный язвительный голос. — Когда им надо чего-то избежать или что-то обойти, тут же ссылаются на народ, как на верховного судью. Из этого можно заключить, что они скорее народники, чем марксисты. Надо будет так им прямо и сказать, только бы не забыть. А вот бороды им не мешают. Некоторые отпустили бороды — Иван Видрич рыжую, чтобы, когда нужно, сойти за четника. Не знаю, почему они думают, что за этот камуфляж и обман народ не станет их упрекать. В каждой группе есть хотя бы один бородач, и я всякий раз ошибаюсь, принимая его за пленного четника. И Ладо летом походил на бородатого атамана-ободранца, а теперь и след его простыл. С каких пор я призываю его к ответу, он знает за что — и увиливает, ждет, пока все уляжется. Потом примутся меня убеждать, будто он женился, чтобы угодить народу. Срам, да и только! Нас преследуют, как чертей, загнали в мышиные норы, а у него, старого, с позволения сказать, коммуниста, не нашлось более срочного дела, как жениться, да еще на замужней женщине. Увел жену у бедняка, который сейчас пухнет с голоду где-нибудь в плену, собственно — украл, мужа-то дома не было. И когда Васо Качак говорит, что это личное дело Ладо, мне становится тошно — даже когда вина очевидна, они защищают друг друга. Какое тут личное дело, если речь идет о воровстве? И с каких пор повелась эта новая мода смотреть на подобные вещи сквозь пальцы?..»
Вопросов — один язвительнее другого — нахлынуло столько, что Байо чуть не задохнулся. Устав, Байо попытался спокойно во всем разобраться. «В Белграде Ладо входил в небольшую группу забияк, которые главным оружием в рабочем движении считали кулаки. Эти люди, влюбленные в подвиги, с врожденной склонностью к дракам и потасовкам, счастливые, что им представился случай все это проделывать во имя высоких целей, все же обладали кое-какими заслугами. Они вовлекали в движение новых, подобных себе, сорвиголов, приезжавших из горных краев, и в то же время открытой борьбой прикрывали планомерную работу организации. Они бахвалились своим героизмом, полиция, конечно, взяла их на заметку, и организация от них отступилась. Одни после этого запутались и попали во фракции, другие заболели и умерли, третьи превратились в лояльных государственных чиновников. Ладо и еще несколько человек случайно выдержали. Что-то их связывало с движением, они выстояли, а сейчас, видно, порвались последние нити. Ладо устал, ему все надоело, досадно, что другие его опередили, может, и на меня злится, потому что он с давних пор презирал терпеливых и скромных конспираторов, которые не хвастаются и не знают, как выглядит Главняча[34] изнутри. Затосковал по собственному гнезду, только вот время выбрал неудачное».
«Его надо было послать в бригаду, — заключил он после долгих размышлений, — здесь слишком тесно для таких широких натур. Тесно, вот и ссорятся, дела себе найти не могут, и только мешают. Во всех ссорах, а их и впрямь много, больше всего виноваты такие неудачники, как Ладо. Раз они борются за свободу, они воображают, что уже свободны, и не терпят никакой дисциплины; в движении они участвуют давно и потому думают, что все уже знают, и знают лучше других, а когда их пытаются поправлять, раздражаются; нервные и вспыльчивые, они делают ошибки и потом стараются их прикрыть былыми заслугами, не желая понять, что партия не приемлет такого обмана. Они умышленно рядились под сермяжников, считая это доказательством верности народу и образцам воспетого в песнях гайдучества; вспыльчивые и скорые на руку, они действовали по принципу сначала ударь, а потом уж думай. И другие с них берут пример. Сейчас в наследники к ним пошли наши «Это нам легче легкого» и принимают с недоверием или вовсе не принимают то, что исходит от меня. Проклятое нетерпение, желание себя показать привели к тому, что мы пустились в авантюры, которые могут нам стоить жизни. Надо их подтянуть, привести в чувство, а то потеряешь из-за этих дураков людей, никто ведь не скажет, что виноваты они, скажут, что виноват Байо, им уступивший».
У него даже заныли кости, стало трудно дышать от раскаяния, что уступил им, от тревоги и затаенного страха за себя и других. Он ни за что бы им не уступил, но его попросту надули — сказали, что зиме конец, что больше снега не будет, по крайней мере, такого, который запер бы их в землянках. Он им поверил, потому что на его родине, в Подгорице, снег никогда долго не лежит. Захотелось громко выругаться — в божью матерь и всех святых, в тысячу чертей. «Почему все так по-дурацки устроено и до чего мы богаты и одарены всем тем, что нам вовсе не нужно?! Камней у нас на всю Европу, и голых скал, и снега, и злодеев, и безрассудной горячности, из-за которой сами себе ломаем шеи. А эта горячность, представляющаяся чем-то врожденным, унаследованным от иллиров или бог знает еще от кого, при которой «умолкает рассудок и кровь бросается в голову», «глаза застилает кровавый туман» и человек хватается за нож или стреляет в первого попавшегося, эта горячность объясняется всего лишь неправильным кровообращением, то есть своего рода болезнью, разновидностью мимолетного склероза мозга, что у нас, к сожалению, почитается как отмеченная богом немочь. Такой нрав терпим у номадов — там срывают ярость на животных, можно его выносить еще в деревенской жизни, где много простора и привыкли зло вымещать на женщинах. Однако сейчас, в эпоху городов и пролетарских революций, когда людские скопления становятся все гуще, следовало бы напрочь избавиться от этого недуга, как бы ни были великолепны сцены внезапных потрясений, которые он может вызвать… Но как от него избавиться, кто излечит его, если даже самые разумные то и дело вспыхивают без всякой причины, торопятся и перегибают палку во всех своих начинаниях».
«Путаюсь я, забываюсь, — подумал он устало, — не могу понять, где сон, где явь. Точно в бреду, душит меня эта сырость! Проклятая вода, откуда она только берется! И сверху вода, и снизу вода, кажется, в воду превращается все, даже и то, что было твердым. Воды столько же, сколько и тьмы, и того больше — тьма хоть днем кончается, а вода и днем и ночью капает и журчит. Хоть бы лампа горела или какой другой свет, хоть бы чей-нибудь голос услышать…»
— Нет, не слыхать, — сказал Момо Магич.
— Чего не слыхать? — точно сквозь сон спросил Качак.
— Собачьего бреха.
— Тебе словно жаль.
— Да нет, просто я люблю его слушать. Когда собаки лают, знаешь, что есть жизнь на земле, а то так и кажется, что гробовая тишина весь мир задушила.
— Не беспокойся, собак еще услышишь. Сейчас на страже Гавро, а ты ухо под голову — и спи!
Байо причудилось, что это ему говорят: «Спи. Так надо. Сон — лучшее лекарство». Голос откуда-то издалека и принадлежит человеку в белом халате. Это седой доктор из гольниковского санатория, советы которого он обязан выполнять беспрекословно. И ему кажется, что все это время он лежал в лодке на берегу и человек в халате одним движением столкнул лодку в глубокую черную реку, на противоположном берегу которой находились лестница и чердачная комнатушка с гроссбухами. Мир закачался и рассыпался. Остался лишь след на воде, но и он погас во мраке.
VI
Это «спи», усыпившее Байо, у Момо Магича пробудило уснувшие миры. Перед глазами зажелтели освещенный лампой буковый тес потолка, полка с яблоками в углу, встали тень железной дымовой трубы, постель. В том мире, который был его домом и который исчез больше года тому назад, ему часто говорили: «Спи, все хорошие дети в селе давно уже спят». Для него этот довод не был убедительным: он уже знал деревенских ребят — сопливых, исцарапанных, полуголых, покрытых коростой и лишаями, — и, пожалуй, единственно интересное, что он узнал от них, была сказка о ведьме Каракондже.
Караконджа, рассказывали ему, живет в пещере над рекой — днем она спит, а ночью выходит и душит то пастуха-одиночку, то рыбака на Лиме. Они показали ему пещеру и подговорили бросить камень в ее черное отверстие. Но камень даже не приблизился к отверстию — Караконджа своим могучим дыханием отшвырнула камень, и он с грохотом скатился вниз. Ребята с визгом разбежались и помчались в сторону села, точно за ними по пятам гналось невидимое и страшное чудовище. Момо с трудом догнал их у околицы. Тут они сказали, что теперь он пропал, не надо было быть таким дураком и бросать камень в Караконджу. Теперь ведьма его приметила и ночью ему отомстит, потому что она мстит всякому — даже тому, кто никогда и не помышлял бросать камни в ее окна.
С тех пор Момо спал с отцом в одной постели. Спать было довольно неудобно, мешали жесткие руки отца, его огромные костлявые ребра, колючая борода, волосатые руки и громоподобный храп, которым огромный Митар Магич отпугивал в темноте призраков, становясь при этом страшнее их самих. Наконец мальчик осмелился спросить его, чем можно взять Караконджу — боится ли она винтовки, ножа или чего другого.
— Нет никакой Караконджи, — сказал отец. — Нет и не было. Это все бабьи выдумки — детей пугать. Шеи бы им за это посворачивать.
— А почему тогда камень полетел назад?
— Камень должен упасть вниз — его земля притягивает.
— Но если Караконджи нет, то кто тогда свалил с моста в реку Ачима Груячича?
— Ракия его свалила. На даровщину пил, хватил лишку, ноги его и не удержали, в этом все дело.
— А он рассказывал, что Караконджа его душила, и он еле отбился.
— Врет он! А ты спи, трусишка, все это выдумки. Нет на свете никого сильнее человека, все боятся человека, спасаются от него.
— Раз ты не боишься Караконджи, почему ты не пойдешь в пещеру?
— Что мне там делать?
— Проверить, что ее там нет и что ты ее не боишься.
— Ну, хватит, сколько можно болтать, спать пора!
— Но если Караконджи нет, кто тогда украл лодку и перегнал ее на другой берег Лима?
— Перекупщики табака. А сейчас замолчи, не то на всю жизнь запомнишь свой допрос.
Спрашивать отца он больше не осмеливался, а мать в этих делах не очень-то разбиралась. Потом Момо пошел к Видо Паромщику на Лим, чтобы разведать об этом получше. Мальчик рассказывал ему о рыбах, показывал мальков, рыбьих деток, лягушек, научил убивать змей: маленьких — прутом, больших — камнем. Но о Каракондже Видо ничего не знал и пещеру не видел. Ненавидел он не ведьму, а жандармов за то, что они не платят за перевоз ни за себя, ни за своих невест, которых они почему-то водят в кусты. Однажды Видо позвал его к себе в лачугу. У очага сидел его дед-великан Гайо Паромщик без ноги и что-то непрестанно жевал.
— Это он рыбу ест? — спросил Момо.
— Нет.
— А что же?
— Ничего. Он так всегда.
Старик внезапно поднял голову и спросил:
— Чей это жеребенок с тобой, Видо?
— Магичев.
— Вот и отлично. Все Магичи добрые люди, спокон веков такими были. Ну и ладно, ну и хорошо, — и снова принялся за свою жвачку.
Момо подошел к нему поближе и дерзко провозгласил:
— Мой отец говорит, будто в пещере наверху нету Караконджи.
— Конечно, нету, — подтвердил старик, — чего ей там делать? Она не дура, нечего ей делать среди камней.
— Отец говорит, что это бабьи выдумки — детей пугать.
— Чего только бабы не придумывают, разве им можно верить? Нету ее в пещере, нету.
— Раз ее нет в пещере, значит, нигде нет. Значит, ее вовсе нет!
— Не так-то это просто, она ведь в самом человеке сидит.
— Как так в человеке?
— Внутри прячется, а потом вдруг как разинет пасть. Вырастешь, сам увидишь.
Последние слова Момо воспринял как неопределенное обещание, напоминавшее обычные посулы что-то купить и позволявшие сначала отложить покупку, а потом и вовсе о ней позабыть. Вскоре он и сам забыл об этом, но сейчас, слушая, как капает и журчит вода, словно кто-то опасливо подкрадывается, он подумал, что старый Гайо Паромщик по-своему был прав. Караконджу можно было увидеть невооруженным глазом во многих людях и в городе, и в селе. И другие ее видели, размышлял он, значит и дядя Раде видел, если, упоминая кого-нибудь из Груячичей, говорил: «Разинет нечистая сила пасть за его спиной — все бы проглотил. Ногу собственной матери обгложет и то не насытится». Пересаливал старик всегда и во всем, но тут не так уж и пересаливал — у Груячичей, почти у всех, это в глаза бросалось. Детей рожали много, и потому земли у них всегда было мало, росли, ширились, оттесняли других, заполонили село на две трети и готовились захватить его целиком… Было им такое предзнаменование. Когда они переселились сюда из Верхнего Края и зажгли первый костер, дым разошелся во все стороны — от отвесных скал с пещерами до Лима, хотя погода и стояла безветренная. И было это истолковано так, что сама судьба предназначила им здесь плодиться и занять эту землю.
Ни большие военные заслуги Радетичей, ни смелость в борьбе с турками Магичей, раздобывавших оружие даже в Сербии (все это славное прошлое не имело к Груячичам никакого отношения: один из них — Омер — служил туркам, а другой — швабам), ни в коей мере не мешали Груячичам захватывать земли, плодиться и наглеть. Краснобаи и крикуны, они умаляли чужие заслуги и выдумывали свои. Был Омер Груячич да сплыл — и они заткнули бы рот всякому, кто попытался бы о нем напомнить. «В семье не без урода», — говорили они, отрекаясь от родича, который работал на немцев. Рослые, породистые, красивые, связанные с властями, кичливые, как сами власти, угодничавшие перед сильными и прижимавшие слабых, они всегда имели несколько своих грамотеев на небольших должностях делопроизводителей, экзекуторов, кассиров и агитаторов, за которыми в предвыборных потасовках они шли сплоченной массой и вымогали себе льготы и поблажки не только тогда, когда их партия одерживала верх, но и тогда, когда она оставалась в проигрыше.
Порознь никчемные, зачастую даже глуповатые, собравшись вместе, они становились если не умными, то во всяком случае хитрыми. Груячичи не лезли на рожон и терпеливо дожидались удобного случая. С Магичами их связывало старое кумовство, с Радетичами они старались породниться, Видричей не задирали, опасаясь вызвать гнев их родичей из Брезы, терпели они и одинокую семью паромщика — у безземельных бедняков поживиться было нечем. Прочих же ели поедом. В якобы случайно возникших ссорах и драках они постоянно оказывались в большинстве, тяжбы при помощи связей и взяток постоянно выигрывали, беззащитных вдов, детей и стариков притесняли и запугивали. Кукичей и Бедевичей они заставили податься в другие места, свели на нет Достаничей, а из Бркичей осталась одна семья — ее последний отпрыск, Драгош, обучился столярному ремеслу, стал коммунистом и в революции и партии искал опору в борьбе с ненасытной Караконджей Груячичей.
Перед войной расцвет Груячичей достиг своей вершины. Дальше идти было некуда. Одни переселились в город и продали землю родственникам, другие порвали семейные узы и присоединились к коммунистам. Война внезапно открыла перед ними новые горизонты. Груячичи вспомнили ловкость Омера, а случай ее применить был налицо. Один из них оказался настолько дальновидным, что даже примкнул к оппозиции, когда стало ясно, что она побеждает, и был избран председателем общины; в этой должности его и застигла оккупация. Оккупантов он встретил приветливо, как гостей, усердно сотрудничал с гражданским комиссаром, во время восстания ругал повстанцев и строил планы борьбы с коммунистической опасностью. После восстания, когда прибыл карательный отряд, он встретил его как освободителя, снова взял в свои руки власть и принялся осуществлять свои планы. Вытащил из забвения Рико Гиздича, немецкого шпиона времен первой мировой войны, и поставил его начальником милиции. Вызволял родичей и свояков из тюрьмы, записывал их в милицию, выдавал им винтовки, деньги, ботинки, консервы. Одного он только не предвидел, но как раз это и случилось — сразила его коммунистическая пуля с первого выстрела.
Кто его убил, осталось неизвестно, и Груячичи решили воспользоваться этим и заявили, будто убил его Момо Магич, а Драгош Бркич ему помогал. В чем и как помогал, они не объясняли — главное, нашелся повод порвать кумовство с Магичами и пойти на них войной. Все им благоприятствовало — зима оказалась необычайно суровой и морозной, мусульмане сократили продажу зерна, ширился голод, четническая организация, пользуясь этим, вербовала в свои ряды, крепла. Партизаны из-за недостатка еды сидели в своих селах, образуя сельские отделения, и их можно было уничтожить поодиночке, прежде чем они соберутся и прежде чем подоспеет помощь по горным дорогам, занесенным глубоким снегом. Капитан Юзбашич двумя внезапными налетами показал, как это делается, однако Груячичи, хоть и было их в три раза больше, чем партизан, сами не осмеливались на такую попытку. Они тайно обратились к итальянцам и начальнику милиции Гиздичу за помощью и, получив ее, на рассвете в лютый мороз пошли в наступление.
Начали с того, что разоружили одного из трех своих отщепенцев с партизанским значком. Отец разоруженного парня прибежал к отцу Момо.
— Митар, брат, что-то новое затевается, беда пришла. Сына у меня эти суки разоружили и увели. Что делать?
Вместо того чтобы собрать отделение и всех родичей, они, недооценив опасности, вчетвером — Митар, Момо, Видо Паромщик и старый Груячич — пошли узнать, в чем дело. Встретил их готовый к бою отряд Груячичей. Посыпались ругательства и угрозы, и пятьдесят винтовочных стволов поднялись на троих. Они отступили, старый Груячич помогал, как мог, — он метался среди своих и мешал им стрелять. Укрывшись за известковообжигательную печь, они принялись звать Магичей и прочих партизан на помощь. Первый попытавшийся присоединиться к ним партизан увидел, как с другой стороны движется развернутым строем итальянский батальон.
Крикнув женщинам, чтобы вытаскивали вещи, пока не подожгли дома, они стали отступать, старый Груячич семенил за ними, причитая, что не может им помочь. Потом Митар Магич залег за куст и, стреляя, крикнул:
— Момо, Видо, бегите скорее в лес. Скорей, скорей, я вас нагоню.
Те кинулись в лес, а раненный в ногу Митар остался и спустя десять минут погиб. Лес оказался единственной лазейкой, которую совершенно случайно итальянцы не закрыли. Все прочее было блокировано дозорами и засадами. Партизан, почти сплошь Магичей, пытавшихся с опозданием вырваться из кольца, подстреливали и хватали кого в ивняках, кого в Лиме или на другой его стороне. В ущелье под пещерой Караконджи Груячичи схватили и Драгоша Бркича — у него не было даже винтовки, один пистолет. Его не убили, а отвели к командиру карабинеров Ахиллу Пари и сказали, что Драгош Бркич — коммунистический вожак. Пари трижды пытался заставить Бркича стать на колени и помолиться богу, сопровождая свой приказ ударом рукоятки пистолета по голове. И когда Драгош не сделал этого, Пари выпустил всю обойму ему в грудь, потом стал в красный от крови снег и неистово заорал:
— Пусть мои подошвы напьются крови, пусть все кругом напьется кровью коммунистов!..
Они поубивали бы и пойманных Магичей, но так как самый из них опасный, Момо, убежал, а его дядя — Раде Магич — в это время находился в Колашине и нашел бы способ отомстить, Груячичи решили, что будет лучше, если прольется поменьше крови, и передали пленников итальянцам, а те рассовали их по лагерям умирать с голоду. И поджогов было меньше, чем ожидали, сгорело лишь два дома — Драгоша и Митара.
Момо и Видо Паромщик тем временем, перевалив через гору, спускались в соседнее село. Когда Момо взглянул на небо и увидел, что к облакам присоединяются густые клубы дыма, он понял, что это пожар и что в дым и пепел превращается та маленькая комнатка с потолком из букового теса, в которой ему отец говорил:
— Спи, трусишка, нету Караконджи, нет и не было.
«Нет, не спи, — приказывал он самому себе. — Нельзя спать, покуда Она скалит зубы. Она сильнее человека, Она засела в нем, как неизлечимая болезнь, как запуганность, голод, подозрительность, сомнения и страхи, обернувшиеся ненавистью, ужасом перед мимолетностью и скученностью жизни. Она сидит не только в Груячичах, Она сидит в каждом и в нас тоже. Разница лишь в том, что некоторые могут Ее укротить, обуздать, заставить Ее не причинять без нужды вред. Днем с Нею совладать легче, ночь Ей почему-то нравится больше. Война для Нее великая ночь и праздник, который тянется непрерывно, месяцы и годы, днем и ночью, в это время Она сводит людей, превращая целые племена и народы в свои движущиеся леса и пещеры. Сейчас Ее время. Все нити в Ее руках, всех собак голодом на травлю разъярила. Меня Она знает уже давно — я бросал камни в Ее окна, еще не понимая, что делаю. Должно быть, меня Она ненавидит больше других. Ей кажется, что, когда Она одолеет меня, с другими будет легче. Собаки лают на Нее, это Она их разбудила — ходит, ищет меня. Страшно. Никак не могу привыкнуть встречать Ее без оторопи. Хорошо, что в темноте не видно и голос не выдает моего страха».
— Слышите? Опять, — сказал Качак.
— Началось в Тамнике, — заметил Гавро. — Сейчас катится дальше. Байо, посмотри, который час? — попросил он и зажег спичку.
— Четыре, — пробормотал тот. — Какой-то черт окотился.
— Для облавы рано, — заметил Качак, — а все-таки подозрительно.
— Когда будет ясно, — сказал Момо, — я не стану их здесь поджидать. Вовсе не желаю, чтобы меня вытаскивали, как облезлую куницу из норы, а потом хвастали, что в яме под землей поймали.
— Рано об этом говорить, — сказал Качак. — Еще два часа до рассвета.
— Ладно, я хочу, чтобы об этом знали наперед, и пусть меня никто не удерживает в этой поганой дыре! Если они придут, я хочу драться, а для этого нужен простор, хотя бы такой, чтобы можно было размахнуться, руки в ход пустить.
— А мне — ноги, — заметил Гавро.
Все рассмеялись, и напряжение ослабло. Покуда они нанизывали шутку на шутку, страх отступил. Поблекла игра воображения, и вещи приняли свои реальные размеры. Если надвигается облава, то облава это не первая и не последняя, вся жизнь — вечная облава. Ни для кого из них это не первая облава, все они пережили десяток, а то и больше таких облав. Можно потерять жизнь, но это не такая уж большая потеря. Они прожили уже по двадцать лет, а старый Мафусаил Байо без трех тридцать, словом, достаточно пожили и убедились: жизнь ничего особенного собой не представляет, один собачий брех, сон и пустота.
ОДУРАЧЕННОЕ ВОЙСКО
I
Ночью, без песен, провожаемые от села до села лишь собачьим лаем, два батальона лимских четников перешли Лим и поднялись на плоскогорье Грабеж. Первый батальон — итальянская милиция в желтых ботинках и длинных плащах, предводительствуемая здоровенным Рико Гиздичем, — разместился в комнатах и коридорах бывшей жандармской заставы в неблагонадежном селе Любе; второй батальон — разношерстная шушера, бывшие нейтралитетчики и даже родичи партизан и сочувствующие им, мобилизованные по селам и поставленные под команду Алексы Брадарича, — остановился на ночлег в классах начальной школы в Доле. Людям выдали солому для постелей и топливо, угостили водкой, и после недолгой суетни, устав от дороги и томительного ожидания, они заснули, несмотря на тяжелый смрад мокрых чулок. Только командиры да взводные остались резаться в карты и ссориться из-за денег, — так и встретили рассвет за картами.
Собранные по тайному приказу и незаметно переброшенные сюда батальоны были убеждены, что идут на турок, на самом же деле их привели сюда скорее в наказание, чем по необходимости. Воевода Юзбашич хотел напомнить людям о неприятных обязанностях военной профессии, разлучить их с женами, пеленками и домашним духом, встряхнуть, отомстить за отвиливания и уклонения от службы, за бесконечную симуляцию, которая, вопреки строжайшим запретам, неизменно подтверждалась врачебными справками. Одновременно он хотел щелкнуть по носу Рико Гиздича за высокомерие, питаемое личными связями с итальянским Овра[35] и военными властями, а также одернуть Алексу Брадарича за его предумышленную медлительность и нездоровое заискивание перед народом. Приволок он их на Грабеж, почти к самой мусульманской границе для того, чтобы показать, как простой командир роты, обыкновенный крестьянин, один, без чьей-либо помощи разделается со всем, никому при этом не уступив ни крупицы своей славы. Воевода Юзбашич рассчитывал доказать, что, если понадобится, он может обойтись и без их присутствия.
Отряд Филиппа Бекича, которому предназначалось сыграть главную роль в боевых действиях, был составлен из милиционеров, отборных четников Грабежа и усилен летучим отрядом из штаба Юзбашича под командой жандармского унтер-офицера Бедевича. В три часа ночи рота должна была собраться возле школы в Ластоваце. Часть людей, живущих в Тамнике, была вызвана раньше — под вечер можно было видеть, как люди с винтовками спешат по крутым тропам из долины Караталих в Грабеж; в сущности, это была уловка: если партизаны или их многочисленные осведомители заметят какие-то приготовления, то пусть думают, что удар направлен в другую сторону. Прочие люди Бекича из Ластоваца, Старчева, Дола и Побрджа ночевали дома, встали спозаранку невыспавшиеся, разбудили по дороге собак и пастухов и прибыли на место вовремя, в том числе и собиравшийся вовсе не ходить Пашко Попович.
Филипп Бекич, который по особым причинам временно оставил свой дом в Тамнике и вместе с женой и взрослыми дочерьми переселился в крепкий каменный дом — «штаб» — в Ластоваце, прибыл еще раньше, разбудил тамничан, упрекнул их в предательстве и приказал быть начеку. Потом дал распоряжения командирам взводов и, призвав бога на помощь, перекрестился над стаканом ракии и пожелал всем счастливого пути. Осунувшийся от беготни, разработки планов операции, забот и бессонницы, обмотав голову длинной шелковой шалью, он позвал наконец Мило Доламича, Тодора Ставора, Лазара Саблича и Ново Логоваца, которых за два дня до похода посылал на разведку в необъятные лесные просторы Орвана, и двинулся во главе этой четверки к Старчеву и лежащей под ним долине. Перед отходом ему показалось, что лицо у Ставора потемнело, а Доламич побледнел и что оба они, скрестив взгляды, обвиняют друг друга в измене. «Что-то знают и скрывают от меня, — подумал он, — знают больше, чем все мы, и поклялись друг другу не говорить, а сейчас допытываются, кто не выдержал и выдал».
Всю эту ночь Филипп Бекич не сомкнул глаз, хоть и улегся засветло, выпив литр горячей ракии, чтобы заснуть и избавиться от простуды. Хоть он и пропотел, но не вылечился — табачный дым все еще вызывал отвращение. Чувства болезненно обострились, он взвинчен и не уверен в себе. Ему кажется, что скрип снега под ногами всколыхнул тишину до горизонта, до самого Клечья и Дервишева ночевья, где, зарывшись в землянке, сидит коммунист Гавро Бекич и насмехается над ним. «Если не слышит нас, услышит собак. Нас выдаст собачий лай. Надо было приказать поубивать собак. И Тодора Ставора надо убить: лгун он. Кто бы подумал, что этот болван попытается меня обмануть! Если уж он таков, то чего стоят другие, которых я веду? Конечно, все люди курвы и лжецы, впрочем, иначе их бы и не существовало. Народ вечно что-то таит, часто и сам не зная зачем; главное для него — обмануть, даже себе во вред. Еще можно было понять, когда он укрывал нас и обманывал красных; но вот почему сейчас он обманывает нас, а красных прячет — прячет, как беременная девка пузо, и не одного и не двух, а шестьдесят — этого я не могу взять в толк. Черт его знает — ради забавы, или по привычке, или еще почему? Скорее всего по темноте или врожденной глупости. Не знает это стадо баранов, что его ждет и что ему потребуется в будущем, и потому на всякий случай хочет сохранить разные семена. Держи карман, сохранит! Если найдется человек, знающий, чего он хочет, да возьмет за горло эту брюхатую девку, этот народ, да без всякого милосердия полоснет плетью по мягкому месту, шлюха скажет, кого прячет в своем пузе и почему!..»
В Старчеве, когда они проходили мимо какого-то огороженного сада, по ту сторону забора в тумане перед ним мелькнула яблоневая ветка. Бекич остановился пораженный, ему показалось, что ветка вся в цвету. В следующее мгновение ему пришла в голову странная мысль, что этот обман зрения, насколько он помнит, недобрая примета: тот, кто увидел прежде времени цветение там, где его нет, теряет право увидеть настоящее цветение. «Это означает, — подытожил он мысленно, — что я либо не доживу до весны, либо ослепну. Но почему? — спросил он неведомого пророка в себе. — Кого мне бояться после того, как я перебью коммунистов и первым Гавро? Зобатые турки ничего не могут мне сделать, да и не посмеют…»
Подумав о турках, он вспомнил вонь прогорклого масла и несвежих продуктов, которыми они питаются. Волна зловонья поднялась в нем самом и подкатила к горлу. Его вдруг одолела мутившая всю ночь и все нараставшая по дороге тошнота. Пошатываясь, он подошел к плетню, схватился руками за два кола и, согнувшись, начал блевать.
Старшина Бедевич, командир летучего отряда, первым подскочил помочь ему, выказав при этом больше заботливости и внимания, чем можно было от него ожидать. То ласково, то по-родственному ворчливо он уговаривал его тотчас вернуться домой и лечь в постель. Все, о чем говорил старшина, было приукрашено и преувеличено:
— Дом отличный, постель мягкая, болезнь опасная. Зачем мучиться, — уговаривал он, — если так тяжело болен? И зачем терять здоровье, которого потом ничем и никогда не поправишь, в то время как столько здоровых и менее ценных людей могут его заменить? То, что вы делаете, — продолжал он, — не входит в обязанности командира и будущего воеводы. Нам надо беречь такие драгоценные жизни, любимые народом люди не должны даже приближаться к партизанскому логову. От офицера требуется, — Бедевич начал уже поучать, — составить план нападения и отдать приказ, а там уж, дело известное, выполнять его должен тот, кто ничего другого не знает и не умеет, чье это ремесло. Я жандарм, и мой отряд для того и находится здесь, чтобы довести дело до конца…
Подавляя все новые и новые приступы тошноты, Филипп Бекич слушал его и думал про себя:
«Ах, оставь меня, ради бога, в покое, фараон проклятый! Ты хуже блевотины. Думаешь, я испугался и хочу словчить, как это делают другие? Так нет же! И не лги! Меня не обманешь, я не передам тебе операцию в руки, чтобы ты потом пыжился, а я смотрел бы себе под ноги. Иди, брат, поищи другого дурака! И потом, почему тебе? Кто ты мне — свояк, что ли? Коммунисты эти мои, потому что они мне досаждали. В мой дом приходили, их приводил мой родич Гавро, желая унизить меня, чтобы я потом не смог укорять других за то, что к ним приходят. Они прогнали меня из собственного дома и поссорили с половиной родни. Тебе не понять, что это значит, у тебя никогда не было своего дома. И потому я и хочу сейчас к ним прийти незваным, как они ко мне, расквитаться за позор. И еще хочу их спросить, почему они не пошли к мулле Растодеру, или к Чазиму Чоровичу, или к Звездичу и Неджибу, к туркам этим вонючим, почему не приняли мусульманскую веру, коли она им так мила, что они защищают ее от моей винтовки… И еще есть у меня кое-какие вопросы, но где тебе это знать, фараон проклятый! Неведомы тебе наши семейные счеты и не суйся в них, отойди!»
Филипп собрался с силами, скрипнул зубами, молча оттолкнул жандарма в сторону, расправил плечи и, чувствуя, что головокружение проходит, зашагал дальше. «Не поддамся, — сказал он себе, — по крайней мере, пока с ними не разделаюсь! Будут тут еще мне проповеди читать, хватит, жизнь отравили — и Юзбашич, и эта брюхатая ослица Рико Гиздич: твой, мол, участок, ты их, дескать, макаронами снабжаешь, из трусости подкармливаешь, они у тебя на посиделки ходят, речи держат… Ну, может, и приходили, больше уж не придут. …«Прибереги их, может, еще пригодятся — кто знает, что принесет день, а что ночь. И смотри подбрось им боеприпасов, а то все расстреляли на милиционеров. И дай, кстати, инструменты получше — пилы, которыми они спиливали столбы, были туповаты!» — и все в таком духе, будто он виноват, что им помогает народ, что люди продажные твари, что никому нельзя верить. Даже этому дураку Тодору Ставору, а ведь два дня тому назад я бы за него руку в огонь сунул. Что с ними сделаешь? Тают люди, как снег, испугались весны, за ночь меняют шкуры. Может быть, как раз Тодор или кто-нибудь из моих родичей — они у нас с Гавро общие — снабжал коммунистов боеприпасами и покупал им в городе табак. Страх шутить не любит. Может, услыхали про Сталинград, или надоело вечно идти по одной борозде. Да и как не надоесть, когда и мне надоело? Нехорошо все это, дурно пахнет. Не следовало нам связываться с итальянцами и есть их макароны. Они известные проститутки и ничего другого не умеют, как только чесать по-бабьи языки да ссорить других, чтобы потом самим сесть им на шею. Всех бы их в море!»
Начали спускаться по крутой тропе в наполненную мглой долину Караталих. На какую-то минуту Бекичу показалось, что за ним движется табун лошадей, что и он сам сидит верхом на высоком вороном жеребце, который скользит по снегу, спотыкается, теряет равновесие и вот-вот упадет. Филипп расставил руки, затоптался на месте, но в последнее мгновенье все-таки успел опереться на винтовку. Повторилось то же самое: его рвало, только сейчас желудок был уже пустой. Он схватился за голову, волосы, шаль были мокрые и липкие от пота. Подбежал жандармский старшина с каким-то незнакомым бородачом и снова принялся пичкать его отвратительной смесью преувеличенной озабоченности, лести и наставлений. Самонадеянности у него хоть отбавляй — вот уж дает распоряжение перенести больного командира в штаб. Помянул доктора, начал расхваливать итальянских врачей: какие они специалисты своего дела, настоящие чудотворцы…
— Какие, к черту, доктора! — зарычал Бекич. — Катись ты в конце концов!..
— Как?.. Почему?
— Без меня вы ничего там не сделаете. Напрасно проходите и только все испортите. Это тебе не в тюрьме заключенных из камер выводить, как ты привык. Здесь лес.
— Разве нет другого проводника?
— Четверо их, но все равно что ни одного. Какие это, к дьяволу, проводники!
Он уже открыл рот, собираясь сказать: «Лгуны это и трусы, а не проводники», — но сдержался и зашагал дальше, чтобы избежать дальнейшего разговора. Силы возвращались, а с ними и ясное сознание: лучше и не заикаться, как плохо обстоят дела. Десять дней тому назад, как раз когда коммунисты свалили телефонные столбы, Ново Логовац углядел тоненькую стройку дыма над Дервишевым ночевьем, которая смешивалась с туманом. Логовац видел все это в бинокль, находясь в Старчеве, и мог, конечно, ошибаться. Два дня тому назад Лазар Саблич почувствовал у Поман-воды запах вареной капусты, правда, он был голодный, и, может быть, это ему только почудилось. На обратном пути Саблич заметил подле Клечья у подножья Дервишева ночевья двух людей — ему показалось, будто один из них Шако Челич из Побрджа. Окажись на месте Саблича смелый человек, он выследил бы их и узнал больше, но Саблич забился в кусты, чтоб не видеть и не слышать. И это все, что известно. Землянку коммунистов никто не видел, и, где они могут скрываться, неизвестно. Другим эти данные ничего не говорили, но для него этого было достаточно: у Филиппа Бекича свои повадки, свое охотничье счастье, благодаря которому он часто пожинал то, чего не сеял. Либо он их унюхает, либо они сами себя выдадут, как бывает со всякой дичью, испуганной облавой. А может, случится и третье — заговорит Тодор Ставор или эта дубина Доламич. Они что-то еще знают — и почему бы им не сказать, если они все равно назначены проводниками?
Некоторое время он наслаждался каверзой, которую подстроит Ставору и Доламичу. «Никто бы до этого не додумался, — заметил он, улыбаясь про себя, — никто, кроме меня! Похоже, что они меж двух огней — виноваты и перед ними, и перед нами. Когда придем на место, я спрошу их еще раз порознь, одного, потом другого. Если не скажут, пусть пеняют на себя! А я нащупаю коммунистов и без их помощи. Боже мой, какие же они дураки! Все коммунисты дураки, но наши всех переплюнули! Чем им мешали телефонные столбы на Пустом Поле? Что они получили от того, что их свалили? Ничего, только себя открыли. Стоило подождать три дня, воевода с войсками ушел бы в Боснию — и никто бы их до весны не тронул. Но они не могут без жертв.
«Мы приносим себя в жертву, — говорил Иван Видрич и словно хвастался этим, — ради боснийцев, а боснийцы ради московских, а московские — ради всего мира и будущего!» Эх, братец мой, раз ты жертвуешь собой ради будущего, я покажу тебе, что телефонные столбы — государственное имущество! И поставлены, чтобы стоять, а не для того, чтобы ты их валил. Государство, все равно какое, требует порядка, головой надо расплачиваться за каждый столб. Столб — голова, столб — голова, и так, пока тянутся провода».
II
Туман становился все гуще, и порой казалось, что колонна разорвана, искромсана на части, разбита наголову, уничтожена. Слышится топот ног, скрипит снег, видно лишь, как две-три заблудшие тени бредут по расквашенной тропинке, скользят, спотыкаются и исчезают где-то внизу в глухой тишине.
Оглянувшись и посмотрев, кто идет сзади, Тодор Ставор, улучив минуту, когда Филипп Бекич поскользнулся и отстал, приблизился к Доламичу и зарычал:
— Хорошо же ты держишь слово, парень!
— Я-то держу, — прошипел тот, — а вот ты сдержал?
— Думаешь, это я донес?
— Нет, мой дед встал из гроба и пошел доносить. Но коли на то пошло, у меня тоже есть язык: я скажу все как было, как нас схватили и как ты договаривался с Шако. Я все время молчал, ты же меня подговорил. А еще пожилой человек, старый четник — сбил меня с панталыку.
— Не говори так, — сказал Ставор. — Если не ты и не я, значит, сказал Лазар.
— Он искал их у Поман-воды и не мог их видеть.
— Откуда мы знаем, что он видел и что прибавил? Может, он нас видел, когда мы разговаривали, потому при встрече и глаза отводит. Он такой, настоящая лисица, подползет и подслушает.
— Тогда мы оба пропали.
Юноша побледнел, глаза от страха расширились. Ему казалось, что он стоит на мосту, оторвавшемся от берегов, и, куда бы ни двинулся, ему грозит гибель; мост распадается на части и лишь каким-то чудом еще удерживается над водой, темной и мутной; еще мгновение, и мост погрузится в пучину. Во рту пересыхает, в поисках надежной опоры Доламич упирается ногой — здесь она, земля, он спасен, но этого мало, чтобы влить в него бодрость. У коммунистов доверие он потерял, а сейчас теряет у этих. И те и другие ему точно предсказывали, что его ждет, если он сойдет с их пути. Он им не верил, любил, чтобы его хвалили, когда он оказывал им услуги или подносил подарки. Он рассчитывал водить за нос и тех и других, а оказалось, что его самого поймали на удочку. Он уже не кредитор, а должник, и все, что делает, делает из страха. И если приходится сделать что-то одной стороне, то другая тотчас узнает об этом и требует сделать для нее в два раза больше. И так его долги растут с каждым днем, и теперь уже собственная голова стоит в закладе…
Глядя на него, Тодор Ставор подумал: у него, видно, на душе не один грех. Гавро Бекич приходится ему двоюродным братом по матери, и он наверняка поддерживает с ним связь; Филипп Бекич об этом пронюхал и теперь держит парня, как змею в лещедке. У него всегда есть люди, которых он держит в своих руках, душит и заставляет душить других, в этом умение тех, кто захватывает власть. Сейчас и я у него в руках, а где-то наверху кто-нибудь держит в руках его. Господи боже, что только стало с миром! Впрочем, кто знает, может быть, он всегда был таким, а я только сейчас это заметил. Нет нигде свободы, все держат друг друга в тисках, все друг друга преследуют, гонят, берут за горло — и нет этому конца-края. Пожалуй, лучше всего было бы, если б нас черт унес всех сразу, а на наше место принес бы других, получше.
— Мы еще можем спастись, — сказал он после долгого раздумья?
— Как?
— Если перебьем сегодня всех коммунистов.
— Это трудно.
— Если никого не останется, никто и не узнает.
— Это невозможно, — сказал Доламич. — Не все сейчас здесь, и всех никогда не перебьешь.
— Если останется хоть один, он ткнет в нас пальцем, и мы пропали. И семьи наши пропали, а они-то ни в чем не виноваты. Виноваты коммунисты, это они поднялись против непомерной силы и полезли, куда не надо. Правда, они сами виноваты?
— Правда, но что мы можем?
— Посмотрим.
III
Спустились в долину. Туман на дне долины густой, гор не видно, и все-таки почему-то чувствуется, что кругом поднимаются крутые скалы. Бекич подал знак идти медленнее и прекратить разговоры. Чуть слышно тоскует речка, зажатая в тесных берегах, позвякивает ледяными четками. Здесь, у моста, летом она внезапно меняет свой цвет, скорость течения и даже имя, превращаясь из журчащей и прозрачной Бисерницы в темную, мутную, окруженную болотами Црню. Зимой болота замерзают, на них собираются ребята из Тамника кататься по льду, ставить силки для птиц, и сверху целыми днями раздаются голоса матерей, обеспокоенных тем, что детей долго нет, что они замерзнут или провалятся под лед. Лишь две последние зимы, с тех пор как началась война и село Тамник вошло в мусульманский округ, власть которого оно не признает, и граница проходит по реке, детей держат взаперти, болота остаются безлюдными и катки погребены под покровом снега.
Людям из отряда Бекича известно коварство этих мест. Ощутив лед под ногами, они идут с опаской, боясь оскользнуться и упасть. Идут молча, говорить запрещено, но если бы и не было запрета, все равно никто не предупредил бы друг друга об опасности — пусть, дескать, всяк смотрит, куда идет, а упадет, да поможет ему бог. Глядя на них, штабные из летучего отряда Бедевича, люди молодые, но бывалые, хоть и не зная, в чем дело, пошли осторожнее, тоже молча и ничего друг другу не говоря. Только один из них, чье имя погребено под нескончаемыми прозвищами, «Шелудивый Граф», думая о своем и всматриваясь в густой туман, откуда доносились недоступные для понимания чужаков звуки замерзших болот, мглы и темных ольх на берегу, не обратил внимания на наступившую вокруг него перемену.
Этот белобрысый человек, лет тридцати, с длинными омертвевшими волосами до плеч, рыжей по грудь бородой, давно уже отбился от людей и волей-неволей должен был искать в жизни окольные пути. Он вечно бродяжничал, делал то, чего не следует, и всюду оставлял после себя недобрую память. От дурной славы Шелудивый Граф избавлялся двумя способами: либо надолго исчезал, и все уже думали, что он мертв, либо, внезапно вернувшись, умудрялся, прежде чем вспомнят, кто он и что, учинить что-нибудь такое, что стирало в памяти все прежние толки. Природа наделила его недалеким умом, противным визгливым голосом и чисто женской болтливостью и страстью к сплетням; в трезвом состоянии Шелудивый Граф мог довести до белого каления не только людей, но и животных, которые его каким-то образом чуяли и всячески избегали. Лишь в минуты пьяной откровенности ему удавалось быть интересным собеседником, и тогда слушатели узнавали, что у него с младенчества мозги набекрень, что его законный отец Андрия Баляш вовсе ему не отец и что он никогда и не узнает, кто его настоящий отец, потому что покойная вдова Андрии Баляша, покуда жила, тоже этого не знала.
А про себя даже тогда, когда был в стельку пьян, он вспоминал Дуна, лживого старикашку с гнилыми зубами, слюнявой бородой и красными лишаями на щеках. В детстве ему говорили, будто он сын этого Дуна и, значит, внук Якова Изгоя — и это было единственное оскорбление, которое попадало в цель, злило и приводило его в бешенство. Сам Дун трижды, как бы в шутку, назвал мальчика своим сыном, после чего тот неизменно находил способ ему отомстить. Первый раз тайком повыдергивал из грядки весь молодой лук и прочую огородину, посаженную за домом. Другой раз крикнул ему: «Лижи, кошка». Это были слова отца Дуна, Якова Изгоя, так он говорил, когда его, прокаженного, бросили сыновья и дочери и к нему повадилась кошка лизать язву; у него не было сил отогнать ее, и он только бормотал:
— Лижи, кошка, лижи, даже от тебя некому меня защитить.
Когда Дун назвал его, уже длинноногого парня, сыном в третий раз, тот загнал старика камнями в чей-то дом и, сидя в засаде, слышал, как Дун похвалялся перед женщинами:
— Что было, то было! Валял его мать на спину! Хороша была в то время для таких дел. Но когда начала путаться с немцами, я уже не захотел — не желаю, сказал я ей, есть из одного котла с немцами.
Не забыл Шелудивый и про шоколад — насчет немцев старик говорил правду, немцы приходили кто днем, кто ночью, и каждый стучал условленным стуком и приносил сладости матери и ему. Те военные годы, подряд неурожайные и поминаемые народом как черные годы, были лучшими в его жизни; он носился босой, свободный и сытый, дети и собаки со страхом разбегались, заслышав его голос. Потом он с грустью вспоминал то время и мечтал о том, чтобы оно вернулось, мечтал о новой войне, оккупации и шоколаде. Благодаря ли хорошей пище или наследственным особенностям, он рос гораздо быстрей своих сверстников; за это его ненавидели и дразнили «Мерином», потом прозвали «Шелудивым» за струпья на лице и на ногах, которые так никогда и не сошли. Третье прозвище — «Граф» — он получил в Панчеве, где вместо того, чтобы учиться ремеслу, выучился красть и промышлять воровством и картежной игрой. Когда его препроводили под конвоем и в кандалах по месту жительства, а такая мера применялась только к важным преступникам, он какое-то время, казалось, взялся за ум и даже поладил с жандармами, а дело кончилось тем, что ему удалось заполучить у каких-то купцов товар, распродать его, а деньги промотать. Из тюрьмы его взяли в армию. В тот год умерла его мать. Узнав, вероятно, что он дока по торговой части, его назначили каптенармусом, и, таким образом, казенные одеяла, обретя крылья, стали разлетаться по свету. В один прекрасный день Шелудивый Граф ушел купаться на Саву и не вернулся, на берегу нашли его одежду, документы и немного денег в кошельке. Решили, что он утонул, только не знали, умышленно или случайно.
Когда в конце 1941 года из Сербии вернулся Юзбашич, бывший капитан, возведенный в чин воеводы, с официальными полномочиями эмигрантского правительства в Лондоне и его министра на родине[36] организовывать четнические отряды, в его конвое, состоящем всего из тридцати бывших жандармов и проходимцев, находился и отрастивший бороду Шелудивый Граф. Нестроевик, не умевший владеть оружием, лгун и трус, Шелудивый все-таки был по-своему намного полезнее националистическому движению Юзбашича, чем любой другой человек. И вот каким образом.
Один из партизанских связных, тайно подкупленный четниками, сопровождал партийного руководителя Велевича и предательски убил его в пути. Вскоре к месту происшествия подоспели штабисты Юзбашича, среди них и Шелудивый. Шелудивый перерезал горло мертвому Велевичу, а четники распустили слух, будто он застал его живым и мучил его так, как это делалось в Сербии с ранеными коммунистами. После этого всех зарезанных и замученных относили за счет Шелудивого. Страх ширился — боялись не столько смерти, от которой все равно не уйти, сколько позора, за который ничем не отомстить.
Находились люди, и их было гораздо больше, чем можно предположить заранее, которые рассуждали так: позорно служить врагу, позорно принимать помощь итальянцев, позорно идти в облаву на своих, но от всего этого есть лекарство: врагу можно отомстить, как только наступит подходящий момент, итальянскую помощь можно оправдать голодным годом и детьми, которых нужно как-то прокормить, облавы на своих можно искупить храбростью, когда поведут облавы на чужих; и лишь от одного нет спасения: если смерть придет от руки Шелудивого Графа, выродка и ничтожества, лучше погибнуть от ножа цыгана; тут не может отомстить ни сын, ни внук, тут тьма без просвета… И многие, гораздо больше, чем думают, после таких рассуждений дрогнули, пали духом, переменили шкуру и записались в четники — только бы освободиться от этого безысходного страха.
В те дни Шелудивый в штабе Юзбашича представлял собой важную персону. Перед ним заискивали офицеры, перебежавшие с опозданием и благодарные судьбе за то, что было куда перебежать. Его непристойное вранье внимательно выслушивали местечковые политиканы, собиравшиеся тайком и строившие всякие планы, причем никто из них не осмеливался вслух усомниться в россказнях Шелудивого. Партизанка, захваченная в Дубе и оставленная в живых только потому, что была женщиной, которую долго держали в штабе как наглядное доказательство поражения и срама партизан, цепенела от страха, когда в дверях ее камеры мелькала его рыжая борода. По дороге Шелудивый подстреливал собак, но так, чтобы они еще долго жили и визжали, этим он пугал малодушных крестьян, женщин и бедняков. Так война снова принесла ему радости, подобные тем, что были в детстве: консервы, мармелад, беззаботность и безделье, оплаченное насилье, сытость и сознание исключительности своего положения.
Однако это время длилось недолго. Почему-то запретили мучить раненых и взятых в плен партизан, были введены суды и расстрелы, после чего значение Шелудивого Графа сразу упало. Какой прок в том, что в качестве штабного он участвовал в расстрелах? Его выстрел тонул в общем залпе, словно его и не было. Единственным вещественным доказательством его участия была пустая гильза, которую он выбрасывал из затвора. Какое-то время он собирал гильзы, набивал ими карманы и показывал женщинам, но потом, когда это получило огласку и его товарищи на месте казни предлагали ему забрать и их гильзы, это удовольствие было тоже испорчено.
Офицеры, получившие высокие посты или хотя бы повышение в чине и жалованье, больше его не узнавали. Политиканы снова запрятались в свои раковины вынашивать другие планы, то есть попросту исчезли. Даже осужденные переменили к нему отношение. Он перестал быть в их глазах средоточием зла, перестал вызывать ненависть, брань, угрозы. Нет, это все кончилось. Люди не замечали его при жизни точно так же, как они не замечали его после своей смерти. Шелудивый Граф стал для них пустым местом, нулем, чем-то несуществующим, на чем не задерживается взгляд. Тщетно он ухмылялся, гримасничал или напускал на себя грусть, чтобы привлечь к себе внимание: хоть бы что, все словно договорились его не замечать. Вот почему с расстрелов, на которые он шел с надеждой, как на праздник, Шелудивый возвращался подавленным и еще более опустошенным.
В утешение ему остались водка и с десяток вдовушек, мужья которых служили у итальянцев милиционерами или шпионами и партизаны расстреляли их в пору своего недолгого владычества. Одно время он подружился с итальянским консулом, по сути дела, интендантским офицером, занимавшимся снабжением лимских четнических отрядов продуктами, бензином, бракованными грузовиками и обмундированием. Шелудивый Граф водил его к вдовушкам. Консул любил напоить их и постепенно раздевать. Потом Шелудивый Граф установил связь с англичанином, членом военной миссии при главном штабе и тоже водил его к этим женщинам. Он надеялся, что знакомство с ними вернет ему авторитет и увеличит доход. Вначале так оно и было. У него появилось больше денег, и потому даже самые заядлые картежники не чурались его дружбы.
Позже, совершенно случайно, обнаружилось, что итальянцу и англичанину каким-то образом стали известны факты, вовсе для них не предназначенные. Подозрение пало на Шелудивого Графа. У него отобрали оружие и посадили. Воевода Юзбашич прибежал, чтоб лично отхлестать его по щекам и надавать пинков. Когда Шелудивый Граф рассказал, как те поступали с пьяными голыми женщинами, воевода за оскорбление национальной чести вышиб ему два зуба. Вскоре были найдены и другие виновники; Шелудивого Графа выпустили из тюрьмы. Воевода направил его в летучий отряд старшины Бедевича и при расставании сказал:
— Постарайся попасть под пулю коммунистов! Надо, чтобы тебя убили, я больше не хочу марать рук.
С тех пор с самой осени Шелудивый Граф бродит с летучим отрядом, служа ему забавой и посмешищем. Ночью в потемках идут, днем сидят в укрытии. Плохой ходок, Шелудивый к тому же плохо видел и не умел карабкаться по горным тропам. Поэтому он то и дело налетал на деревья, спотыкался о корни и падал в ямы, синяки с него не сходили. Однажды он угодил в волчий капкан и теперь прихрамывал. Все знали, что он трус, и от нечего делать придумывали разные страсти, которые их якобы ожидают. Готовясь к операции на партизанскую группу, его уверяли, будто это самая опасная из всех и что первая пуля попадет обязательно в него. Они рассказывали сны, гадали на фасоли или на картах, и всегда выходило так, что для него спасения нет. И хотя он понимал, что его разыгрывают, все равно он не мог им не верить.
Когда отсиживаются в укрытиях, их то заваливают едой, а то оставляют вовсе без хлеба и воды. Водка бывает не часто. Женщин — никаких. Последний раз — это было в сочельник, пять недель тому назад, когда жгли мусульманские села, — в кустах за домом он наткнулся на пожилую мусульманку, дрожащую от холода и полумертвую от страха. Он повел ее в хлев, приказал разостлать сено и раздеться. Она ни за что не хотела раздеваться и сказала, что у нее сифилис. Тогда Шелудивый вытащил из мешка ножницы, которые в это утро взял в доме какого-то портного, и стал ими щелкать, показывая, что перережет ей пояс и все равно добьется своего. Это ее испугало. Раздетая, она походила на труп. Чтобы расшевелить женщину, он принялся ее колоть острием ножниц, сначала легонько, потом все сильней. Она стала кричать и вырываться. Тогда он зарезал турчанку — иначе он не мог заставить ее замолчать. Впрочем, он все равно бы ее зарезал, чтобы она никому не рассказала. Потом поджег под ней сено и хлев, и новый столб дыма поднялся над горящим селом и присоединился к другим. На возню с женщиной и на поджог у него ушло около получаса, и это, судя по всему, спасло ему жизнь: те, что оказались в это время на Зуквице, были скошены пулеметами мусульман. С тех пор он еще больше уверовал в то, что, совершая подлости, он продлевает себе жизнь.
Шагая по замерзшему болоту, он силился восстановить в памяти то смешанное чувство отвращения и торжества, которое он ощутил, овладев женщиной, но это никак ему не удавалось. Только начнет вспоминать и тут же собьется — страх перед коммунистами отшиб память. Говорили, будто там Шако Челич с пулеметом и Василь, который уже дважды заставлял его лететь кубарем с крутого горного обрыва, что с ними Слобо Ясикич и опасный Момо Магич, который всегда найдет лазейку, чтобы улизнуть. Остальных он позабыл, кроме, конечно, Вуле Маркетича. В Сербии, неподалеку от Чачака, батальон Маркетича взял в плен целую роту, в которой был и Шелудивый Граф: отобрали у них оружие, сказали речь и потом поодиночке стали отпускать по домам. Когда очередь дошла до Шелудивого Графа, Маркетич поглядел на него и сказал:
— Сдается мне, большой грех беру я на свою душу, отпуская тебя живым, по глазам твоим видно, что ты порядочный гад. Убирайся поскорей с глаз долой, пока я не сделал то, что надо.
С тех пор он несколько раз видел Маркетича во сне, страшного, в каком-то дыму, и было это еще до того, как он узнал, что Маркетич прорвался из Сербии сквозь кордон немцев, четников и мусульман, где, казалось, не пролетела бы и птица, и вернулся на родину.
«Наведет меня черт на него, — подумал Шелудивый, — вечно меня несет куда не надо. Лучше всего как-нибудь словчить и не пойти туда, но как? Сказать, что заболел живот, — дважды уже говорил, третий раз не поверят. Лучше ничего не говорить, свернуть в кусты и…»
Не успел он додумать до конца, как почувствовал, что ноги его сами по себе куда-то свернули, но не в сторону кустов, а вверх, в воздух, и уже болтаются в темноте над головой. Он грохнулся на лопатки и, как на санках, заскользил по гладкой скользкой плите. И пока Шелудивый Граф соображал, что, собственно, происходит, он очутился у края лужины, покрытой тонким льдом. От его суматошных неуклюжих попыток спастись лед затрещал и проломился. Ему повезло, место было неглубокое, иначе ему пришлось бы долго ждать, чтобы кто-нибудь пришел к нему на помощь. Он лег на брюхо и выполз самостоятельно, с мокрой бородой, перепуганный насмерть подозрительным потрескиванием, которое сопровождало каждое его движение. Когда наконец Шелудивый добрался до остановившейся колонны, ему показалось, что это какая-то ограда, и он даже попытался схватиться за чьи-то ноги. Собаки православных и мусульман из Тамника, Опуча и Страны возгласили об этом событии взрывами лая. Шелудивый поднялся и сунул пальцы в рот, чтобы их отогреть.
Глядя на него, как на какое-то чудо, и не узнавая, Филипп Бекич обратился к Бедевичу:
— Это что за гад?
— Кажется, Шелудивый Граф. Вечно он так.
— Ты зачем привел этого вонючку? Чтобы все дело испортить, да?
— Об этом спроси воеводу Юзбашича, он посадил мне его на шею.
Бекич умолк. Не раз ему затыкали рот, точно подушкой, этим воеводой Юзбашичем. Стыд и срам, подумал он, до чего же они привыкли всякую мерзость сваливать на воеводу Юзбашича. И этого тоже, эту сволочь — убей его бог!.. Он смотрел, как трясется от холода Шелудивый, как стекает с него вода, и не знал, что с ним делать.
— Где твоя винтовка?
Шелудивый только сейчас спохватился, что винтовки, которая минуту назад у него была, сейчас нет. Когда он упал, ремень разорвался, и она заскользила куда-то по льду, может, в воду. Он почти обрадовался при мысли о том, что не такие они уж дураки, чтобы брать его без винтовки на эту проклятую операцию, где и с оружием легко погибнуть.
— Ищи, — приказал Бекич. — Чего ждешь?
— Не могу, под лед ушла.
— Может, мне ее поискать?
— Замерзну, — проскулил Шелудивый, стуча от холода зубами.
— В постель захотелось, сукин сын? Не надейся, первым пойдешь к проклятой землянке коммунистов! Это я тебе говорю! Пусть тебя, мерзавца, кокнут, если, конечно, они уже не дали деру, пусть хоть раз доброе дело сделают!
Потом, повернувшись к Бедевичу, прорычал:
— Ты его привел, ты и смотри за ним в оба, чтоб не улизнул. И, чуть что, бей поганца!
IV
Колонна двинулась дальше. Справа по разлогой долине полыхает надрывистый собачий лай, точно сотня костров, которые то зажигают, то гасят. Слева — теснина Уки с ее мертвенной тишиной, в нее беззвучно стекает вода, а из нее непрестанно валит туман. Посреди, между ущельем и собачьим лаем, лес, тихий и невидимый под завесой густого тумана. Лет двести тому назад, а то и больше, в этот лес пришел Джафер Шаман, родом из Гркиня, дервиш и мусульманский святой; он искал тихое прибежище для молитв и отшельнической жизни. Лес под Орваном понравился старцу обилием родников и полянами. Целыми днями бродил он по лесу и вдруг ушел. В то время у самой реки стояло богатое мусульманское село, окруженное плодородными нивами. Сейчас здесь расстилаются болота.
«Это село Караталих, его ждут черные дни, — сказал святой. — Недолог его век: гора его враг, засыплет все в нем живое…» И еще сказал, что в ту черную годину будет засуха.
Так оно и случилось. Спаслись одни Блачанацы — их разбудил и напугал рев Поман-воды, они убежали и потом поселились в Джердаре. Все прочие погибли: кого завалило землей, кого унесла вода. Позднее из Анатолии приехал отец Каябега. Понравилась ему плодородная пустошь, одичалая, поросшая ольшаником, — выстроил он там башню, в том месте, где стоит сейчас дом Бекича, и привел с Грабежа подневольных крестьян: Бекичей, Доламичей и Ставоров, чтобы они обрабатывали ему землю.
Входя в лес, люди снимали с плеч винтовки, — здесь, где каждую минуту их может застать врасплох недремлющая стража партизан, лучше держать оружие наготове. В голове колонны произошло замешательство: никто не хотел идти первым — одни боялись, другие не желали, чтобы их сочли за проводников. Наконец с трудом договорились: Лазар Саблич и Логовац пойдут впереди вдвоем, а за ними Тодор Ставор и Доламич. Пройдя сотню шагов, снова остановились — увидели следы. Похоже, что прошел один человек, но в это не верилось: иногда коммунисты ходят гуськом, след в след — пройдут десятеро, а кажется, будто прошел один.
— Что это? — спросил Филипп Бекич.
— Ушли, — сказал Логовац.
— Почему? Верно, Графа испугались? — бросил с издевкой Бекич и почти плачущим голосом продолжал: — Не дураки они, чтобы ждать, и я бы на их месте не стал ждать. Вот так всегда бывает, когда ведешь графов и всякое дерьмо.
— А хуже всего, — добавил Ставор, — что расплачиваться придется не тому, кто виноват, обязательно найдут козла отпущения!
— Недавно прошли, — заметил Саблич, ощупав след. — Они должны быть недалеко.
— Им деваться некуда, — сказал Бекич. — Пошли!
Следы вели в сторону Дервишева ночевья. Одно время казалось, что они ведут прямо в ущелье, и Бекич подумал: «Пошли к ручью — хотят войти в воду и сбить нас со следа». Не удивился он и тогда, когда следы повернули к горе. «Видно, решили окопаться наверху Орвана, — подумал он, — на Софре. Если так, я окружу их и забросаю гранатами, живым ни один не уйдет. Когда всех перебью и уложу в ряд, а Гавро Бекича отдельно, жирный Рико Гиздич лопнет от зависти. Ему и следует лопнуть от зависти или от хорошей трепки, не то сто лет еще будет коптить небо и гадить где только можно. А когда со всеми разделаюсь, закачу пир: двух волов зарежу, сто литров водки, баранов на вертеле и беднякам хлеба дам из пекарни. И чтобы звенела песня:
Течет река, и все быстрей, Ой, явор, зелен бор, Поят заморенных коней И Гавро бьют за то, что вор…Созову всех командиров и старого лиса Алексу Брадарича, и всех поганцев, больших и малых, только этого толстого борова Рико Гиздича не позову, пусть знает, что Филипп Бекич ни перед кем не заискивает!»
Мечты его прервались, когда он увидел, что следы снова повернули вниз к ущелью. Раскинув умом, он на минуту заподозрил какую-то случайность, или, кто знает, может, нечистая сила чудит. Пласт снега с качнувшейся ветки свалился ему на затылок, и целая пригоршня ледяных зерен посыпалась за шиворот под рубаху; Филиппу показалось, что это ночная птица извергла на него свой помет. Он вздрогнул от холода и отвращения — заплатят ему коммунисты и за это, и за все муки! Когда он их накроет в ущелье и перебьет, он вернется в собственный дом, в Тамник. Довольно скитаться по чужим домам, коротать свой век, точно в тюрьме, всегда под стражей. Мать осталась дома, не пожелала переселяться, в помощь ей он оставил там и двух дочерей. Теперь они опять будут жить вместе, и это тоже следует отпраздновать. Да и почему бы не отпраздновать, если всего у него вдосталь? Может десять лет пировать и сорить деньгами — и все равно еще много останется. «Немало и зятьям перепадет, — заметил он про себя, — впрочем, пошли они к черту, эти зятья! Пусть слушаются меня как бога, коня мне подводят, ноги моют, иначе ничего не дам! Не позволю крутить да вилять, как эти здесь, пусть знают свое место. Вот тут коммунисты крутят, на кривой меня объехать задумали. Где им, грешным, обмануть меня! Твердят, будто борются за правду да за справедливость, а сами знай себе крутят, больше нашего пускаются на ложь и обман…»
Следы снова всех удивили: спустившись в равнинную часть леса, вместо того чтобы продолжать забирать влево, запетляли восьмерками, кругами, неожиданными поворотами, пересекли сами себя, размножились и запутались в бессмысленном кружении. Видно лишь, что следов много. Бекич остановился.
— Кто знает, что это значит? — спросил он.
— Дискуссия, — сказал Петар Ашич, жандарм из летучего отряда.
— Какая дискуссия?
— Остановились и обсуждали, — сказал Ашич. Он долго был у партизан и хорошо изучил их повадки. — Одни хотят направо, другие налево. Каждый тянет в свою сторону, никто не решается отделиться, вот и кружат, чтобы потрафить и тем и другим.
— Рассказывай это кому-нибудь другому, а не мне!
— Так было.
— Может, давно и было. А сейчас они тоже не дураки.
«Мы же их уму-разуму и научили, — подумал Филипп, — слушают, что старший прикажет. Сейчас они зачастую похитрее нас. Все эти следы мог сделать один человек, скажем, Гавро. Пусть, думает, развлекаются, время теряют, а остальные пока скроются в другом направлении. Если это так, то надо поймать хоть этого одного, пусть за всех расплачивается!.. Нет, один не может расплатиться за всех, мало одного. Что такое один?! Если окажется, что это один человек, отпущу его, пусть себе идет с богом! Ты хочешь принести себя в жертву, скажу я ему, ради боснийцев и русских, ради будущего, а я не дам тебе стать героем, не стану тебя убивать — иди, куда ноги несут и глаза глядят… Ей-богу, так и сделаю! Вот даю слово, а я человек слова, если это не Гавро Бекич, отпущу его живым и здоровым на все четыре стороны. Вот так мне заблагорассудилось, и все, я здесь хозяин! Можно и мне раз в жизни начудить — давно уже ничего такого не делал. Отмочу такое чудо, о котором бы всюду говорили, раз не могу ничего другого, раз не способен даже сына родить, одних дочерей рожаю для зятьев-мазуриков, которые только и помышляют, как бы захватить мою землю»…
Почувствовав жар в голове и слабость в ногах, он признался самому себе: «Болен я, наяву брежу. Проклятая эпидемия! Какой гад заразил меня как раз тогда, когда мне так нужно быть здоровым? Все равно и в постели было бы не легче. Даже еще хуже: обливаешься потом под одеялами, во рту горечь и чудятся драконы, пестрые как ящерицы, муллы и ходжи в фесках и чалмах, пожары. Почему-то, когда я болею, мне всегда мерещатся пожары, может, это какая примета, а что, если коммунисты оставили эти следы намеренно, чтобы нас завести в глухое место? Заведут нас к черту, я уже и не знаю, где мы сейчас, а сами тем временем по нашим следам прямо на Грабеж. Там сейчас все спят — могут их сжечь, как мышей в соломе. И хорошо бы сгореть Рико Гиздичу, этой свинье, этой надутой кишке, этой груде сала и бурдюку водки! Загорелся бы, как бочка со смолой…»
Несколько мгновений Филипп стоял восхищенный и завороженный зрелищем того, как огонь вырывается из распоротого брюха Гиздича. Гиздич лежит весь черный, как подгоревшая колода, и пытается потушить огонь короткими руками, а языки пламени, точно стая хищников с красными и оранжевыми крыльями, клюют его со всех сторон. В горло ему вонзился пепельно-серый стервятник, на лицо уселся и выклевывает глаза синий ворон; хлопают крылья, птицы шипят, бьют друг друга клювами, взлетают, снова садятся и, позабыв о ссоре, принимаются дружно за дело…
Измученный галлюцинациями, Филипп Бекич вздрагивает и трет рукою лоб. Придя в себя, он подзывает командира четвертого взвода, приказывает ему взять своих людей, спуститься беглым шагом в болота и сесть в засаду у моста.
«Вот так, — сказал он самому себе, — чтобы и к родной матери не пробрались! Если же они до сих пор не вышли и спят, я усыплю их так, чтоб больше они уж никогда не проснулись. С Гиздичем и без их помощи я когда-нибудь разделаюсь, а сейчас надо идти по следу и взять того, кто его оставил. Следы должны куда-то вывести, либо вывести, либо провалиться сквозь землю».
Проводники совсем сбились с ног. Наконец Тодор Ставор наткнулся на след, уходивший в густую чащу. Все двинулись за ним. Боясь опять его потерять, проводники согнулись в три погибели, словно принюхивались к нему по-собачьи, готовые вцепиться в него зубами, чуть только он попытается от них ускользнуть. Шли вверх, потом вниз, уже не замечая, что петляют по каким-то узким долинкам, куда никто из них никогда не заходил. Порой след выводил на полянки, напоминающие места по ту сторону Лима, на Еловицу, где прошлой весной они тщетно разыскивали коммунистов, на горы Прекоселья и теснины над Полянской Быстрицей. Приняв какую-то скалу за хижину, они повалились в снег и в ожидании первого залпа, прячась за стволы деревьев, направили на нее винтовки. От пережитого страха они потеряли представление о том, где они и куда идут. Каждый надеялся, что знают другие: столько народа, кто-то должен обо всем этом заботиться. Да и след как-то связывает с миром: пока он есть, заблудиться нельзя. А след свернул налево, туда, где, видимо, проходила нижняя граница леса и начинались луга. Казалось, теснинам и кряжам приходит конец, но когда подошли ближе, никаких лугов не было, всюду клубился свинцовый туман, качая и обгладывая ветви деревьев. Кругом лес, куда ни погляди — один лишь лес, словно за ночь он разросся вширь и вглубь. Под ноги им попался замерзший ручеек, и они заскользили, сбивая друг друга с ног. Поднялся ропот.
V
Проползая сквозь узкую щель между двумя толстыми стволами, в бешенстве, что следы впереди исчезли, Лазар Саблич наступил на что-то мягкое и, словно это был клубок змей, в ужасе отскочил. С размаху ударился головой о дерево и свалился, в глазах потемнело — он мог бы поклясться всем для него святым, что дерево, изловчившись, нанесло ему подлый удар. Ставор, который шел за ним, шарахнулся от неожиданности в сторону, ему показалось, будто это не стволы деревьев, а землянка, он даже увидел, как открывается дверь. Считая для себя неприличным бежать, как зайцу, подобно Сабличу, он только пригнулся к земле, чтобы первые выстрелы его не изрешетили. Но пригнулся больше, чем надо, потерял равновесие, упал на колени и выронил винтовку. И вместо винтовки руки его нащупали женскую одежду, потом лицо, и он крикнул:
— Мертвая женщина, люди!.. Должно быть, это та самая Гара.
И тут же почувствовал, что женщина отталкивает его, пытается вывернуться и укусить. Он схватил ее за руки и крепко сжал, чтобы она не ударила.
— Нет, не мертвая, — поправился он. — Живая еще! — И спросил: — Ты Гара?
Женщина не ответила. Неде, — это была она, — показалось, что на нее сверху скатился черный камень и нарушил ее теплый мирный покой. А она-то думала, что ушла от этого собачьего бреха, от облавы и всего того, что именуют красивым словом жизнь, и вот не удалось. Пронюхали, догнали, приняли облик рокочущих камней, что падают с гор и заваливают. Сейчас эти камни грохочут над ее головой: «Тыгара, тыгара», — и она не понимает, чего от нее хотят. Может, бранят ее по-итальянски — не важно, пусть бранят, ей все равно. Хуже всего, что они вытаскивают ее из-под камней, рвут на части, как сотня грызущихся над добычей псов, ворочают, терзают. Взяли какие-то блестящие клинья и втыкают в глаза тонкие долота света и боли. Неда хочет взмахнуть рукой, защититься, но не может — ее окружили так тесно, что она очутилась как в мешке. Подняли на ноги, заставляют стоять и не видят, что ноги у нее как две охапки сена — толстые, мягкие и немедленно подгибаются, когда она хочет на них опереться. Может быть, это тоже сон, подумала она, только бы знать, где те двери, чтобы проснуться…
— Кто ты? — крикнул Филипп Бекич.
— Не знаю, — сказала она. — Пусти меня, ведь я ничего тебе не сделала!
— Как тебя зовут?
— Надо скорей проснуться, — пробормотала она, — а я не знаю, где дверь.
— Нет, это не Гара, — сказал Ашич. — Гара другая.
Пока одни растирали ей снегом виски и шею, другие оглядывались с надеждой и тайным страхом отыскать дверь хижины, к которой она шла. Но ничего не нашли, только напрасно истоптали снег. Поставив женщину снова на ноги, старшина Бедевич и Логовац осветили ее электрическими фонарями. При свете сознание стало к ней возвращаться; Неда поняла, что это не сон, а явь, и никакой двери тут нет. Она поняла, что виновата, что ее схватили и что все ее муки напрасны. Нет ни Ладо, ни Ивы, все ее бросили, позабыли, как бросили Джану, когда она пошла туда… «Будь на моем месте Джана, она бы плюнула на эти фонари и сказала им, что все они поганые суки, продажные суки и потому всегда голодные. Они сами знают это прекрасно и нисколько бы не смутились. Но я не могу сказать — слишком слаба, несчастна, едва стою на ногах, — они бы только посмеялись надо мной».
— Кто ты? — снова спросил Бекич. — Как тебя зовут?
— Неджелькой, а зовут Недой. Из Меджия.
— Ты от Видрича или от Ясикича?
— Нет, из Печа мы пришли, беженцы.
— «Беженцы», — повторил Бекич. — Поглядим, правда ли это!
Он увидел, что женщина беременна, и ему стало жалко не только ее, но все живое, что в муках рождается и замерзает. А уж какие горемыки эти беженцы, которых албанские беги Драги, Црноглавичи и Сефединбеговичи голыми и босыми согнали с насиженных гнезд! Когда он покончит с коммунистами, он устроит облаву и уничтожит всех бегов и албанцев! Почему они держат в своих руках Дечаны, Патриаршию и Косово, когда это исконные сербские земли? Прогонит их к чертовой матери, разведет костры и нажарит мяса, чтобы все эти несчастные беженцы наелись досыта и закружились в хороводе:
Хороводник, гордость наша, У тебя в руке златая чаша, Медом чистым чаша до краев полна, И не сводит с тебя глаз девица-краса.Почувствовав, что уклонился в сторону, Бекич рассердился.
— Кто знает эту беременную девку? — спросил он.
Ответа он не ждал и удивился, когда Пашко Попович сказал:
— Я знаю. Показывал ей дорогу из Старчева, а она, вишь, заблудилась. И ничего удивительного, в таком тумане может заблудиться и тот, кто думает, что знает дорогу.
— Дорогу куда? — спросил Бекич.
— В Опуч. Рябой Арслан Балемез задолжал им деньги еще до войны, вот они и хотели взять у него хлебом.
— Кто тебе велел показывать дорогу в турецкие села?
— Никто, но когда я могу сделать доброе дело, не во вред себе, я его делаю.
«Молодец, — подумал Бекич, — не во вред себе, но зато на мою голову, совсем рехнулся со своими книгами! Сваливаешь мне на голову лихо с пузом до подбородка, чтобы водила меня за нос по лесу и тащила за собой такую уйму народа! И еще рассуждаешь о добродетели. Ты мне за это заплатишь, я отучу тебя от милосердия и книг! Всякое доброе дело кому-нибудь да в ущерб, а потому — когда тебе приспичит сделать доброе дело, делай его за свой счет! Однажды дьявол обратился в зайца и в тумане завел охотника в глухие горы, где тот и оставил свои кости. Сейчас дьявол, кажется, обратился в эту беременную девку. Наверняка тут замешаны либо черти, либо коммунисты. Почему именно сегодня ее угораздило сюда притащиться? Дух бы из нее вышибить, — он поднял кулак и опустил — нет, не могу. Стыдно убивать бабу, неведомо чью, да еще беременную. Может быть, она действительно беженка, и еще в положении. Нет, пусть идет ко всем чертям. Замерзла, помрет и без моей помощи».
— Слушай, ты, книгочей, — сказал он Пашко, — отведи-ка ее вниз.
— Куда вниз?
— В Тамник, в мой дом. Проверим потом, почему она заблудилась именно здесь и как раз этой ночью. Могла бы забрести в другое место и не водить моих людей по кручам, где сам черт ногу сломит.
Пашко поглядел на Неду, ему показалось, что она походит на овцу, и в то же время он почувствовал, что в ней таится какое-то проклятье. Из-за нее он так и не заснул, как обычно после своих хождений по рекам. Пашко слышал, как она встала, как тихонько вышла из дома, видел через окно, как протерла снегом глаза и ушла. Тогда она впервые напомнила ему одинокую, завороженную злым роком овцу, которая, точно оглушенная, идет прямо на волка, точно зная, где его найти. Час или два после ее ухода он провертелся в постели, стараясь не думать ни о ней, ни о любом другом виде бесчисленных людских бед. Наконец, убедившись, что о сне нечего и мечтать, он встал и пошел в этот ночной поход наперекор какому-то непонятному страху. Сейчас Пашко понял причину своего страха. Женщина не только жертва, она несет в себе и проклятье. В короткое время она заставила его лгать и обманывать так, словно он всю жизнь только тем и занимался. А сейчас эта окаянная баба втянет его в еще большую беду. Наверняка втянет, потому что в здешних лесах она пыталась кого-то разыскать и спасти, но вместо того загубила себя. Если выживет, Бекич или кто другой станет ее пытать, и под пытками она скажет, кто направил ее сюда и кто помог в дороге.
— Почему я должен ее вести? — спросил Пашко.
— Потому что ты знаешь дорогу.
— Другие тоже знают.
— Знают, но не показывают их чужим, не делают добрых дел, как ты.
Пашко скинул с головы шапку. Он хотел попросить освободить его от этой обязанности, но первые два слова, обязательные при обращении к старшему, два обычных слова: «Господин командир», застряли у него в горле и не шли с языка. Он открыл было уже рот, но его передернуло, такие эти слова были лживые и тяжелые, и он не смог выдавить из себя ни звука. «Проклятье, — заметил он про себя. Приведись сказать что-нибудь другое, у него хватило бы голоса даже крикнуть. — Злая Нечисть не дает — играет со мной, как вздумается, и непрестанно заставляет меня покоряться. Она на все способна. Способна выкинуть что-нибудь и похуже, унизить, все может. Напрасно я мучаюсь и сопротивляюсь, напрасно было бы и просить, если бы я и мог просить».
— Ступай, чего ждешь, — сказал Бекич.
— Как же я ее поведу, если она идти не может?
— Не может, вдарь как следует, вот и пойдет.
— Не могу взять греха на душу, не бью я слабых, не могу.
— Не можешь взять на душу, взвали на спину и неси.
— Не понесу — будь ты хоть бог! Есть тут и помоложе меня, пусть они несут.
— Пускай тащит Шелудивый Граф, — сказал Бедевич. — Ни на что другое он все равно не годен.
— Правильно, — согласился Бекич. — Где этот рыжий, эта мокрядь из болота?
Разыскали Шелудивого Графа, толпа, расступившись, вытолкнула его вперед. Он не знал точно, о чем идет речь, чувствовал только, что выберется отсюда, и был этому рад; потом, увидев, что его позвали из-за женщины, он решил, что требуется учинить над ней что-то постыдное. Он широко улыбнулся: есть вещи, которые никто не может сделать, кроме него. Когда ему втолковали, что он должен нести женщину на спине, его и это не опечалило — он взял бы на спину и двух баб, только бы выбраться живым из царства стужи и снега, леса и выстрелов, из страшного царства Вуле Маркетича. Слушая, как четники прокатываются на его счет, что, дескать, кляча только больно тощая, неловко сажать невесту; и вовсе-де не кляча, а осел, и притом без седла и без уздечки, хорошо хоть уши длинные, господь бог не забыл наградить поганца по заслугам, Граф ухмылялся, ему не хотелось портить им настроение: плевать, пусть себе насмехаются, он тоже посмеется, когда у них душа уйдет в пятки, когда они взвоют от ран и станут подыхать по итальянским больницам. Он не герой, как они, и предпочитает иметь дело с бабами, с ними ему всегда было приятнее — бабы умеют быть благодарны и тогда, когда мужик их обманывает, и тогда, когда пользуется этим обманом.
Пашко Попович посмотрел на него исподлобья: тот ковылял, согнувшись в три погибели, кривоногий, горбатый от ранца, в котором что-то дребезжало и позвякивало, голову он втянул в плечи, а руки спрятал куда-то под живот. «Словно и не человек, и вообще не сухопутное существо, — подумал Пашко, — просто какая-то нечисть, по ошибке выползшая из болота, в котором только и должна обитать. Урод и знает, что урод, потому и веселится и смеется, другой причины для веселья тут нет. Боже, какие люди только не живут на этом свете! Одни овцы, другие волки — видать, это зависит от времени, когда их зачали и произвели на свет, немало и псов, и лисиц, и загонщиков, потому и облавам конца-края нет. Если бы милосердный создатель намеревался сотворить из людей, из разумных существ, островок мира и порядка, надо было делать это как-то иначе. Злая сила оказалась могущественней — каждого второго вспоила она отравленными соками звериной крови и горьких трав, потому ненависть так живуча…»
Тем временем Неда выскользнула из державших ее рук и упала в снег. Крики людей, казалось, притупляли боль, успокаивали. В памяти встало воспоминание. Они бегут из Печи, пробираются через Ругову, пала лошадь, и вот все поминают вьючное седло и твердят: седло, седло. Разыскали седло, перенесли поклажу с околевшей лошади на осла без уздечки. Сейчас с этим кончено. Сон наплывает точно туман, и все беды, страхи, беженцы и те, кто их преследует, погружаются во мрак, исчезают. Мир успокоился. «Вот дверь, которую я искала, входят в небольшую комнатку, в ней тепло, уютно, пахнет яблоками…»
— Взвалите ее к нему на спину, — приказал Филипп Бекич.
— Ну и ну, — с издевкой заметил Пашко. — Ведь это тебе не мешок с картошкой, а беременная женщина! Нельзя ее на спину.
— А как же?
— На носилки, иначе нельзя.
— Дам тебе и носилки, только отстань от меня. Но смотри не зевай! Если она у тебя убежит или что другое случится — сразу переселяйся в Турцию, чтоб я тебя не переселил в Италию!
В отряде было две пары носилок — итальянцы выдали каждой роте по одной паре, и они таскали их с собой, когда нужно и когда не нужно, чтобы хоть этим походить на военную часть. Одни отдали им. Бекич смотрел, как они, спотыкаясь о пни, удалялись: Пашко, женщина на носилках и Шелудивый Граф. «У этого гада вовсе нет винтовки, — подумал он, — а длинная «итальянка» Пашко скорей оглобля, чем винтовка. В эту войну она еще не стреляла, боюсь, что ее съест ржавчина раньше, чем она выстрелит. Надо как-нибудь, если не забуду, осмотреть ее и испробовать — и пусть после этого святой апостол Пашко осмелится поклясться, что его оглобля ни разу не выстрелила… Ушли, но почему туда? Дорога не там, Тамник в другой стороне — куда же они пошли? Может, не знают? Надо бы им сказать, да трудно кричать. Ладно, пускай поплутают. А заблудятся, не беда. Есть у меня другие дела, некогда мне показывать дорогу черт знает кому».
VI
Люди молча сидели на снегу и дремали. Дремал и командир Филипп Бекич, — ладно, пускай отдохнут. Ему холодно, он постукивает нога об ногу, чтобы согреться, и вспоминает, как отец сажал его на колено и напевал:
Трюх, трюх, была кобыла, Соли пуд она тащила До попова мочевила…Своих детей он не сажал на колено, ждал сына, а рождаются одни дочери. И когда волочился за другими, делал байстрюков, рождались опять девочки. Иногда счастье улыбается во всем, только не в том, что больше всего хочется. Судьба! Видать, на нем кончится главная ветвь Бекичей; имя Бекичей перейдет к второстепенной ветви, то есть к Гавро Бекичу. А он вместо того, чтобы сидеть тише воды, ниже травы, как это прежде делали все, кто принадлежал к этой слабой ветви, обнаглел и задумал еще при жизни Филиппа стать первым среди Бекичей. Связался с коммунистами — только чтобы его уходить; слушает все, что ему скажут, — только чтобы вперед вылезти. «Нет же, не выйдет, — прорычал он про себя, — покуда жив, ты первым не станешь, сукин сын. Если бы не мой дом, о Бекичах никто бы и не слыхал, никто бы и не знал, что есть такие на свете, и пусть их лучше вовсе не станет, чем ты среди них будешь первым!»
Он захватил пригоршню снега, потер себе лоб и шею, чтобы прогнать сон. Бедевич и другие поспешили последовать его примеру, а он пошел к Сабличу и Логовацу и дал им знак трогаться. Они поглядели друг на друга, пошептались и двинулись в туман. Путь перегородил заледеневший ручеек. Падая на припорошенном снегом льду, люди снова стали ворчать, и тут же им почудилось, что они возвращаются, что это тот самый ручеек, который они недавно переходили. Не желая больше петлять по следу заблудившейся женщины, они поднялись немного выше, чтобы добраться до Клечья и Дервишева ночевья. Полянка, на которую они вышли, на первый взгляд такая ровная, оказалась в действительности каменистой стремниной. Чтобы не слететь в пропасть, они вскарабкались до отвесного гребня и перешли на другую сторону. Небольшой клочок равнины внизу тянул их как магнитом и все время ускользал, точно мираж. Когда они наконец спустились, выяснилось, что это узкая ямина, окруженная скалами.
Люди раскровенили себе пальцы о камни и рычали, как волки. Филипп Бекич то и дело останавливался и призывал к порядку. Лазар Саблич, улучив момент, схватил Тодора Ставора за руку.
— А где это было? — спросил он.
— Что?
— То место, где ты разговаривал с Шако Челичем?
— Ты обалдел? Когда я разговаривал с Шако Челичем?
— Да ты не бойся, Бекичу я ничего не сказал.
— Тебе же лучше. И не говори, потому что все это тебе померещилось! Другой раз, если захочешь получить деньги один и первым заграбастать награду за доводство, смотри в оба! Не заставляй меня протирать тебе глаза — не умею я делать это тонко, протру, знаешь, по-нашенски, а потом тебе и венские лекари не помогут.
— Брось грозить, скажи лучше, где мы?
— Ты же вел, а не я!
— Не важно кто, я не знаю, где мы.
— И я не знаю. Надо сказать Бекичу.
— Боюсь. Не в своей тарелке он нынче, убить может.
Они спускались вдоль отвесных скал в густой, как месиво, туман; пахло болотом и гниющим под снегом папоротником. Когда они добрались до седловины какого-то пригорка, стало слышно, как внизу, борясь с тесными берегами, шумит речка. Ее неумолчное журчание, доносившееся со дна невидимой долины и перемежавшееся сдавленными воплями и стенаниями, привело их в замешательство, словно они в нем услышали старую, давно забытую угрозу. Они позабыли о тех звуках, как забывают о смерти; и вот они напомнили о себе там, где их не ждали, и потому им показалось, будто они несутся со всех сторон. Филипп Бекич, и без того побаивавшийся воды, ее коварного необоримого упорства и постоянства, остановился как вкопанный. У него было такое чувство, что, играя в жмурки с этой отвратительной текучей неизменностью, убегая от нее, он все время шел назад, вопреки жизни назад, и невольно очутился у начального истока тумана, перейти который уже не сможет.
Прислонившись к стволу дерева, он пальцами провел по шершавой коре и немного пришел в себя от боли, которую почувствовал под ногтями. «С ума я сошел, что ли? — недоумевал он. — Или все эти люди спятили? Мы же шли к Клечью и Дервишеву ночевью, а забрели в горы. Все видят, что мы заблудились, но никого это не тревожит. И шум реки никого не удивляет! Как же так? Должно быть, опьянели от ракии или одурели от усталости?»
В эту минуту к нему подошел Тодор Ставор и сказал:
— Нас, сдается мне, сбили с пути, одурачили.
Бекич вздрогнул: как это сбили с пути? Эти слова придумали коммунисты и, когда брали кого-нибудь в плен и не хотели мараться и убивать, говорили: «Тебя одурачили, всех вас сбили с пути, обманули офицеры да богачи — пора вам это понять». Потом, чтобы не остаться в долгу, и четники стали говорить примерно то же самое пленным коммунистам: «Вас сбили с пути комиссары, за это комиссары и расплатятся, а вам нужно только крикнуть: «Да здравствует король!» — и тогда мы, может быть, вас простим». Когда друг друга убеждают в том, что они сбиты с пути, это не страшно, но вот то, о чем говорит Ставор, иное дело.
— Ты что плетешь? — крикнул он. — Кто это нас сбил с пути?
— Частью туман, частью та женщина, проводники не знают, где мы.
— Они никогда ничего не знают.
— А ты знаешь?
— Знаю, — сказал Бекич сначала из упрямства, а потом решил, что на том и надо стоять. — Разве я бы позволил, чтобы меня вели две такие бестии, как Саблич и Логовац, и ты, третья бестия, если бы не знал, куда идти и почему?
«Все войска сбиты с пути, одурачены, — заметил он про себя. — И немецкие тоже, потому и разгромлены под Сталинградом. Невелика беда, даже никакой нет беды в том, что чье-то войско одурачено. Беда наступает тогда, когда обманутые начинают это понимать. Потому всегда и убивают всех, кто каким-либо образом догадается и узнает об обмане. Придется и нам это делать: без суда и следствия, просто ночь проглотит каждого, кто хоть что-нибудь заподозрит или пикнет. Но главное сейчас — до рассвета разыскать землянку или хижину, найти партизанское гнездо, чтобы его сжечь и убить хотя бы Гавро Бекича. Одного только Гавро, это он их сюда завел, а на всех прочих мне наплевать…»
Бекич подошел к Лазару Сабличу, схватил его за ворот куртки и прорычал:
— Я хочу захватить Гавро спящим, а скоро рассветет, и он проснется! Понимаешь? Иначе его не возьмешь, наверняка начнет драться, а потом в кусты улизнет. Понимаешь?
— Понимаю, — пробормотал Саблич, — но я не знаю, как отсюда выбраться.
— К реке и берегом, — крикнул Бекич. — И моли бога, чтобы ночь еще потянулась. Срамота, еще охотником называется! Старый Пашко сразу нашел путь, а ты заблудился.
— Задурила мне голову та женщина.
— Дурнем ты родился!
«Нет, родился я не дурнем, — подумал Саблич, — но женщины всегда приносили мне несчастья и беды. Будь они прокляты, убей их бог, вечно мне пакостят!..»
Саблич сходит к реке, а память невольно уводит его по окольным дорожкам в другие времена и обстоятельства. Лето, хижина в горах, он, жена. Шестеро косарей и среди них Душан Зачанин, приходили к ним ночевать. Однажды утром жена поливала им из кувшина воду. Сначала умылись гости и ушли на работу, потом пришел и его черед. Жена сунула ему мыло; он, как человек бережливый, провел им по ладоням, и положил в сторонку. А жена снова подает ему мыло. Он удивился:
— Что ты пристала со своим мылом, словно я к тебе спать приходил!
— А разве не приходил?
— Я? Нет, клянусь богом, даже в голове не было!
— Не божись, бог накажет.
Он взглянул на жену: сияет от удовольствия. Потом перевел взгляд на разбредшихся по лугу косарей: кто-то из них пробрался к ней в темноте и заменил его. Первое подозрение пало на Душана Зачанина. Ничего он больше не сказал — ни жене, ни Душану, никому, только стал ждать случая, чтобы отомстить…
«Пятнадцать лет ждал, — подумал Саблич, — пожалуй, хватит. Это меня и привело сюда, только это, ничто другое. Если бы Зачанин с сыновьями ушел в четники, я сейчас не делал бы того, что делаю, а как раз наоборот — то, что он делает. Женщина — скотина, от нее все беды. Порой кажется, будто ничего не знает, но стоит бабе впутаться в дело — сам черт его уже не распутает…»
НОЧЬ, ТРОНУТАЯ РАССВЕТОМ
I
Чтобы убить время на часах, Арсо Шнайдер, сидя в землянке Дервишева ночевья, размышляет о компании «Это нам легче легкого». Эта компания, с которой он давно уже не в ладах, состоит из молодежи: Слобо, Шако, Магич, Гавро Бекич и еще несколько человек, разбросанных по землянкам на правой и левой стороне Лима. В большинстве своем это скоевцы, которые без особых трудностей за проявленную отвагу или какой-то подвиг были приняты в партию раньше времени. «Сейчас и видно, что раньше времени, — ворчит про себя Шнайдер, вспоминая, что он всегда был против и всегда говорил об этом. — Надо было другим способом наградить за отвагу — дать медаль или еще как-нибудь, а не принимать в партию зеленых юнцов, слишком нетерпеливых и скоропалительных в действиях. Одни из них, например Шако, никогда и не созреют; думаю, мы ничего не потеряли бы, если бы вовсе не принимали таких в партию. Боролись бы они и так, раз уже пошли, все равно бы остались с нами — самолюбие не позволило бы отколоться. Умение стрелять из пулемета стоя, с руки, без опоры — всего лишь физическая сила, сноровка, а не преданность; и меткость, и резвые ноги даны им природой, а не марксизмом. Они еще дети, это сразу видно, а кто спит с детьми, встречает рассвет в мокрой постели. Здесь же может случиться и что-нибудь похуже, — того и гляди, встретишь рассвет в луже крови, без головы, а им хоть бы что, и в ус не дуют, спят себе…»
Название «Это нам легче легкого» дал компании еще прошлым летом Байо Баничич, думая указать этим на их недостатки, укорить в беспечности и легкомыслии, словно они участвуют в игре, а не в суровой борьбе за существование. Им бы задуматься и исправиться, а они восприняли это прозвище как похвалу и в отместку придумали другое — «Без изъяну», окрестив так старых и осторожных партийцев: Байо Баничича, Ивана Видрича, Васо Качака и его, Шнайдера. Поначалу это походило на добродушную пикировку — подшучивают, чтобы скоротать время, но поздней осенью, когда уже видно было, что зима не принесет особых перемен и надо готовить землянки, дело едва не дошло до разрыва: не желали люди укрываться и думать об убежищах. «И лучше, если бы дошло до разрыва, — подумал Шнайдер, — не дошло бы до этого сейчас! Умные попрятались бы в надежные убежища, подальше от пуль; остались бы «Это нам легче легкого» с их тары-бары-растабары, с бесшабашной отвагой, с ихним «Погибай, но стреляй!». Некоторых уложили бы после первого же снега, а остальные взялись бы за ум…»
В том, что не дошло до разрыва, заслуга (и вина тоже) средней группы, «центристов», таких, как Вуле Маркетич, Зачанин, Видо Паромщик и Якша, — они тогда взялись за молодых, образумили их, заставили смириться, раздобыть инструменты и копать там, где им укажут. Но та же средняя группа, сделавшая такой умный шаг, позже все испортила. Их заразило нетерпение молодых, надоела теснота и тишина, захотелось чистого воздуха, движения, захотелось как-то проявить себя. Снег растаял, и они вообразили, что больше он уже не выпадет; четники готовились к походу в Боснию, и они решили, что будет непростительной ошибкой позволить им так просто уйти. «Надо что-то сделать, — говорили они, — чтобы четники видели, что мы существуем, что не спим как медведи в берлогах или гайдуки в зимовьях. Мы коммунисты, — кричали они и били себя в грудь, — для нас нет отпусков; если наши могут сражаться под Сталинградом и Бихачем, то и мы здесь можем пусть не укусить, так хоть оцарапать…» Им удалось склонить на свою сторону Качака, поколебать и уломать Видрича и, наконец, Байо. Только его, Арсо Шнайдера, они не заставили согласиться с позицией молодых и пойти на диверсии среди зимы, когда вовсе не время для таких дел.
Арсо долго упорствовал и, лишь убедившись, что остался в одиночестве, подчинился решению большинства. Чтобы доказать, что руки у него не дрожат, он подложил динамит и поднял в воздух ничего не значащий мостик на шоссе над безымянным ручьем, потом помогал валить телефонные столбы, однако каждый раз спешил до зари убраться восвояси. Но оцарапать врага, как бы им хотелось, не удалось; только было начали, как похолодало, собрались тучи и повалил снег. И вот теперь они отсиживаются под землей в Дервишевом ночевье. Все здесь, и ясно, что дело их табак! Когда он думает об этом, у него сразу начинает болеть под ложечкой, впрочем, когда и не думает, тоже болит. Через четверть часа надо будить смену, Раича Боснича, и ложиться спать. Но он колеблется: «Чего его будить, все равно не усну, будет только мешать! Не могу я спать, страх не дает. До рассвета, пока окончательно не уверюсь, что облавы не будет, ни за что не усну. И страшно и больно, одно с другим у меня всегда как-то дьявольски связано, особенно в эту отвратительную предвесеннюю пору. И еще с нерешительностью: когда болит, ничего толкового не могу ни придумать, ни решить, ни сделать; остановлюсь на одном, и тут же страх берет, склонюсь к другому — от боли корчусь; потому и жду: пусть все само собой решится, как будет, так будет…»
Сидит Арсо на поленнице, оперся головой о мешок муки, таращит глаза в темноту, испещренную извилистыми разноцветными черточками и кругами. На душе хорошо, пахнет, как в клетушке на водяной мельнице, ольхой, мохом и старой дырявой кровлей. Он и в самом деле на мельнице у монахов, внизу под Старчевом — спрятался от жандармов. Хорошо, мягко, на дворе дождь, сквозь крышу каплет на гнилые доски. Странно только, как он раньше не догадался запрятаться в этот закут — сюда жандармы не заявятся, они не любят мочить свои плащи и пачкать ботинки в грязи мельничных канавок. А если когда-нибудь и придут, то что? Это уж не важно. Главное, что он не чувствует ни страха, ни боли, ничего из того, что ему так надоело. Если идут — пусть идут! Наплевать! Наплевать, что шныряют повсюду, что лают собаки! Правы эти «Легче легкого», когда кричат: «До каких пор можно бояться?», «Кто от страха замирал, себе в душу наплевал!» И еще: «До каких пор мы будем здесь гнить заживо и умирать три раза на дню от страха? Почему мы должны то и дело переселяться из норы в нору, если всем известно, что нет удобной норы, все норы неудобны и отвратительны».
Светлый князь, Никола наш, Честь тебе и слава, Но зачем нам по сто раз Умирать от страха!..И Арсо перенесся в мирные края, где ничего не меняется и не происходит. Не может произойти — нечему и ни к чему, все успокоилось. Еще какое-то мгновение в мыслях у него маячило: надо что-то сделать, прежде чем погрузиться окончательно в этот покой; нужно запереть дверь или окно, или поручить кому-то следить за мостом. Какому-то Божо, Блажо, Благо, кому-то, чье имя ему даже неизвестно, надо его позвать и передать записку. И тут наступил провал, все позабылось, и перед глазами встали другие картины: берег реки, сумерки, бродят собаки, он голый лежит в иле, у него украли штаны, впрочем, точно неизвестно, украли или их унесла вода, но приходится ждать ночи и только тогда уж идти. Но куда идти, он не знает и потому не спешит уходить и ночью. Хорошо ему, зачем уходить, если нет ничего лучше?
Прошло какое-то время, кругом сплошной лес, много воды и мокрых собак, которые грызутся между собой, как люди. Одни рычат, чтобы испугать, прежде чем загрызть, другие тщетно скулят, чтобы их простили. Перешли через гору, стало тише: загрызли и последнюю, потому больше ничего и не слышно. И снова вспомнил: надо разбудить смену, Раича Боснича, а он, как нарочно, спит как убитый. Арсо зовет его, окликает — нужно звать шепотом, чтобы никто другой не услышал. Он шепчет, шепчет, уже губы болят, и хоть бы что! Он хочет встать, но повсюду стекло, кругом какие-то зеркала — достаточно за что-нибудь задеть, поднимется звон. Проснется боль, а вслед за ней тотчас проснется и страх, потому что эти два пса сидят на одной сворке. Все равно, пусть просыпаются — раз надо, значит, надо. Он оперся на локти, чтобы встать, но в темноте кто-то начал ворчать:
— Довольно, дай людям поспать; ты его уже разбудил, передал ему часы — и спи теперь!
— Точно ли, что я его разбудил? — спрашивает он.
— Точно, ложись…
II
Один телефонный столб на Пустом Поле, перепиленный у самой земли, вместо того чтобы наклониться в сторону и упасть, как другие, остался упрямо стоять, словно ничего и не случилось. Партизаны топчутся возле него и диву даются. Кто-то из темноты бросает: «Вампир!» Другой — по голосу Арсо Шнайдер узнает самого себя и собственные мысли — говорит:
— Оставьте его, пусть стоит — сам упадет, когда придет время.
Кто-то из компании «Это нам легче легкого», по всей вероятности Слобо Ясикич, с насмешкой замечает:
— Нет у меня времени ждать, когда придет время, слишком мы отстали от Европы. До того отстали, что все европейские торгаши поминают Балканы со злой издевкой и твердят, как глупые попки, про «дикие Балканы», но притом забывают, что именно с этих Балкан пришла к ним вся культура, которой они сейчас так кичатся. Не желаю больше этого терпеть, пусть идут к чертовой матери! Если время движется медленно и не желает валить то, что становится помехой, его следует подтолкнуть! — И он изо всей силы толкнул подпиленный столб грудью. И повалил, и только тогда оказалось, что это не обычный телефонный столб: падая, он тащит за собой крышу галереи и крепостные стены, которые на нем держались. Все рушится, а столб взвивается до самого неба и, вертясь, летит вниз. «Раздавит нас», — думает в ужасе Арсо Шнайдер, бросается в сторону и просыпается.
Проснувшись и уже зная, где он и что с ним, он все-таки был уверен, что над ним и долиной Дервишево ночевье где-то высоко в небе, вертясь, летит столб из стекла и стали. Арсо схватился за левую руку, где были часы! «Проспал!.. — прошептал он. — Не разбудил смену. Пропал я!..» Ему хотелось закричать от боли и страха. Подавив стон, он подумал: «Они еще не знают, как-нибудь выкручусь». Он сделал шаг, и в этот миг из темноты выскочил Шако и крикнул:
— Вставайте, люди! Что-то неладно!
— Вон идут к нам, — сказал Слобо, стоя у порога землянки.
Арсо выбежал и прежде всего взглянул на небо: пусть столб, если он действительно падает, раздавит первым его. Столба он не увидел. Ночь, тронутая едва уловимыми признаками рассвета, ощетинившийся под восточным ветром лес, туман, холодно, все как обычно. Он уныло опустил взгляд на снег и увидел пригнувшуюся к земле под тяжестью снега ветку и след человеческой ступни у самой ветки. Даже страх не привел его в полное сознание, какая-то часть его еще не проснулась или в этот миг уснула: несколько мгновений он тупо смотрел на след, смотрел на другие следы рядом, и это ему казалось вполне обычным, ни с чем не связанным явлением: чепухой, случаем, ничем особенным. Следы разветвлялись в метрах десяти от землянки и делали круг — его взгляд устремился в этот круг и начал кружить, точно в водовороте. Он смутно чувствовал во всем этом какой-то непорядок и всячески пытался понять наконец, в чем дело. Все смешалось, слишком много всего сразу — он видит только, что ночь копошится, как огромное раненое животное от леса до облаков, и не хочет уходить.
— Сукины дети, — выругался Слобо, — чуть на горло не наступили.
— Могли бы нас перерезать без единого выстрела, — сказал Шако.
— Сейчас нам на них начхать.
— Думаете, это были они? — испуганно спросил Арсо.
— Кто же другой?
— Почему же нас не тронули?
— Почему, почему, — сказал Шако. — Сам господь бог этого не знает. Видать, что-то им померещилось в тумане или черт его знает что. Или напугались, или нечистая сила их завела, ничего другого не придумаешь! И к лучшему, что завела, спасибо ей превеликое!
Из землянки вышел Ладо, застегнул офицерский китель, надвинул шапку и прислушался. Слышно, как в тумане шумит ручей и как ветер то тут, то там раскачивает ветви. А за всем этим звучит что-то неясное и надуманное, как это всегда бывает при беспричинной тревоге. Потом Ладо чуть отступил, чтобы пропустить Вуле Маркетича, взглянув при этом на его короткую крестьянскую куртку и сербские расшитые чулки. Вся эта неразбериха путаных снов, незнакомой местности, рассвета и тревоги, показалось ему, происходит оттого, что человек, знающий о картелях и борющийся против их коварной силы, не должен был бы одеваться в простую крестьянскую сермягу и чулки с поблекшим рисунком… И лишь нагнувшись, чтобы взять пригоршню снега и протереть глаза, Ладо увидел следы и стал внимательно их рассматривать, словно бы читать. Он вспомнил, что во сне слышал чей-то зов, подумал о Неде и покачал головой: нет, не она, не такая уж она дура, да и не могла она оставить столько следов, тут много людей прошло, следы разные…
Вышел Раич Боснич, бледный, как мертвец, в шапке, надетой задом наперед, и накинулся на Шнайдера:
— Ты меня не разбудил! Ты разбудил кого-нибудь другого?
— Нет, никого, — сказал Арсо. — Я заснул за десять минут до смены.
— Скажи, чтобы все это слышали и потом Иван Видрич меня не винил.
— Я же сказал, что признаю. Надо кричать? Если нужно, могу покончить с собой.
— Сейчас поздно, надо было раньше! Если бы мы не спали, все было бы по-иному. Мы могли бы по их следам уйти отсюда.
— Наткнулись бы на засаду.
— Лучше уж на засаду, чем так. Только туман и спас нас. Просто чудо, что нас не перерезали, как кур. Черт его знает, что это было.
— Тсс, — сказал Видрич. — Поговорим об этом потом.
Все вышли наружу — одни рассматривают следы, другие прислушиваются. Душан Зачанин отстегивает шероховатую лимонку и опускает ее в карман. Гара тоже отстегивает гранату и опускает в карман, потом вытаскивает пистолет и заглядывает в его дуло. Готовятся, приготовились, но Арсо Шнайдеру все это кажется каким-то невероятно упорным продолжением кошмара. И ему хочется, чтобы это был сон, только сон может его еще спасти! Он готов все, что выходит за пределы сна, насильно вернуть назад, в землянку, на нары, чтобы было все по-прежнему. «Ошибка в том, что мы вышли, — подсказывает ему частица сознания, — те, кто приходил сюда, убедились, что нас нет, и ушли. Сейчас нет никого, кругом ни души! И они не вернутся, если мы не привлечем их тем, что станем прислушиваться и ждать. Когда прислушиваешься, в воздухе образуется нечто вроде ямы: и в эту яму все валится, и потому всегда можно определить, где она. Не могу я больше ждать, все болит от ожидания. Надо с этим покончить, вот я сейчас!..»
Он закинул винтовку за спину и полез на дуб. Разлапистая ветвь мешала ему видеть, он отодвинул ее. В тот же миг грянуло два выстрела, и ему запорошило глаза желтой пылью пожухлой листвы. Звон в ушах убедил его в том, что голова еще на плечах. Потеряв равновесие, он скользнул вниз по стволу и, очнувшись только на земле, удивился: ничего не болит! Не болит, а он все лежит, как баба, которая поскользнулась на льду и не знает, что ей делать. И лишь увидев, как Раич Боснич, став на правое колено, целится и стреляет, он понял наконец, что следует делать. Арсо опустился на колено и выстрелил. Самое плохое, что после каждого выстрела приходится выбрасывать гильзу, это задерживает. После третьего выстрела он почувствовал, что нашел свое место и, кажется, выполняет свой долг. Он не видит, в кого стреляет, перед глазами лишь серая пелена тумана и качающиеся ветви деревьев, но об этом сейчас некогда думать. У него мерзнет колено, и он боится, что его заденет одна из пуль, которые щелкают повсюду, но это его личное дело, частные трудности, которые тонут в красоте единого порыва: отвечать огнем на огонь.
III
Ручной пулемет Слобо Ясикича, захваченный у итальянцев во время восстания, чиненый-перечиненый, побывавший в земле и переменивший несколько хозяев и прозванный за это «старой шлюхой», стрекочет и время от времени завывает, поднимая вихри снега, сухих листьев и обломанных ветвей. Шако выпахивает на своем пулемете быстрые лучистые борозды — метров десять вправо, метров десять влево, разыскивая прячущихся, и везде их находит: и внизу, и по сторонам, и наверху, над землянкой. Две гранаты, брошенные еще в самом начале и уже позабытые, наконец взрываются и вносят растерянность во второй взвод Бекича. Глухие крики Вуле Маркетича и Шако Челича, идущие точно из-под земли, и веселые бодрые восклицания Слобо Ясикича заглушают резкие и отрывистые приказания Бекича и Бедевича. Хозяева долины Дервишева ночевья не защищаются, а нападают, словно только и ждали незваных гостей.
Слобо уже зовет Шако и Вуле в атаку, но хладнокровный и сдержанный Видрич не дает им ступить и шагу. Окружения он боится больше смерти. Прочертив рукой направление, он стал карабкаться в гору, чтобы добраться до каменистой Софры на вершине Орвана. Гара двинулась за ним; скоро их догнали и перегнали Зачанин, Боснич и Маркетич. Последних отступающих слева атаковал отряд Бедевича.
Обе стороны встретились лицом к лицу и тотчас залегли за стволы поваленных деревьев. В самый разгар боя «старая шлюха» отказала. Слобо бросил гранату. Жандармскому старшине Бедевичу, который встал в эту минуту, чтобы отдать приказ к атаке, оцарапало голову осколком. Бедевич прокричал до половины какое-то ругательство, раскорячил длинные ноги и упал. Кровь залила ему лоб и глаза, казалось, вся голова была размозжена. Отряд, уверенный в смерти своего командира и считая, что одной жертвы с них достаточно, схватил его за ноги и поволок через уже развернутую к атаке роту Бекича. Им и в голову не приходило стыдиться своего бегства, напротив, они собирались даже похвастаться своей потерей. Петар Ашич попытался было их задержать, замешкался и едва выбрался живым, перебегая от дерева к дереву.
Отступление деморализовало и встревожило остальных: еще не рассвело, даже противника не видели, а уже кровь, раны, человека несут головою вперед… Из-за тумана и деревьев кажется, будто группа людей, несущих покойника, каждый раз меняется, и этих групп все больше, и невольно приходит навязчивая мысль, что, если так пойдет и дальше, не останется живых, чтобы таскать мертвых. Перепуганные меткой пулеметной очередью Шако Челича, одни повалились в снег, а все прочие, решив, что их скосил пулемет, отступили, чтобы было кому сообщить об их гибели семьям. Отступавшие последними почувствовали необходимость наверстать упущенное. Да и крутой склон Дервишева ночевья делал свое дело, заставляя их бежать быстрее и дальше, чем они того хотели. Так весь отряд и рассыпался. Оглянувшись по сторонам и увидев лишь Мило Доламича и Тодора Ставора, Филипп Бекич пришел в неистовство, поднял винтовку и принялся пулять в туман, заполненный бегущими.
— Суки, поганые суки! — кричал он не своим голосом, в котором одновременно звучали и слезы и смех. — Хвостатые суки, предатели, мать вашу перемать, вы мне за это заплатите!..
— Филипп, ты с ума сошел! — крикнул Ставор. — Что ты делаешь?
— Стреляй и ты! Поверни винтовку и стреляй, раз я тебе говорю. Может, подстрелим и остановим какую-нибудь сволочь.
— Загонишь их так по ту сторону Грабежа, и что потом?
— Что потом, дело известное, я не знаю, что сейчас делать!..
Поднятая выстрелами и обеспокоенная наступившей затем тишиной, стая ворон закаркала и, заглушив слова Бекича, принялась усаживаться на дубы, поднимая свару из-за лучших мест, чтобы тотчас их покинуть. Их карканье привлекло другие стаи из дальних лесных чащ. В поднятой ими кутерьме таилась какая-то согласованность, нечто вроде условного знака, было лишь непонятно: грозят ли они людям или подстрекают их к новой схватке. «Совсем как люди, — подумал Филипп Бекич, — «кар… карр…», точат лясы, мельтешат, завидуют, вечно кажется, будто у других все лучше. Собираются, глазеют, болтаются без дела, чтобы убить время, бегут и возвращаются обратно. Нерешительные и трусливые подталкивают в спину и подзадоривают стоящих впереди. Учуяли кровь, захотелось мяса. Злятся на меня, точно я им его задолжал. А может, каким-то образом знают, что я должен был им его приготовить…»
Мысль, что в каком-то роде он поставщик мяса для вечно голодной природы, была для него не новой; она приходила ему в голову и раньше, во сне или в шутливом разговоре. Сейчас она стала конкретной, обособилась, переросла в вопрос: если он орудие какой-то могучей силы, которая время от времени прореживает несоразмерно возросшее людское население, чтобы накормить им мух, ворон, леса, рыб, чахлую почву и траву, почему эта сила не сделала его более могущественным и умелым? Или это в самом деле слепая сила, действующая бессмысленно и неразумно, которая не знает, куда наносит удар, и на помощь которой нельзя рассчитывать…
— Что же делать? — спросил он.
— Поищем их землянку, — сказал Ставор.
— Сейчас можем, они ее бросили. А какой толк, если мы ее и найдем?
— Хоть какой-нибудь, чтоб с пустыми руками не возвращаться. Подожжем ее. Может, эти трусы вернутся, когда увидят, что мы подожгли их логово. Они, как стыдом умоются, на какое-то время становятся храбрые.
— Что ж, пойдем поглядим, что там у них.
Подошли к тому месту, где следов было больше всего, огляделись: нет землянки! Уж не в дупле ли, подумал Бекич и, тараща на деревья глаза, споткнулся и упал. Стряхивая с колен снег, он с удивлением увидел землянку и даже оторопел от кромешной тьмы, которая разверзлась перед ним. Когда-то он слышал рассказы стариков о землянках во времена турок, о восстаниях, о беглецах, но последний раз это было в ту пору, когда погиб Омербег. Бекичу казалось это сказкой. Ему и в голову не приходило, что все это может возвратиться вновь, и что возвратят это коммунисты, и что он станет тем Омербегом, который их к этому принудит… Филипп Бекич считал, что коммунисты без всякого на то права проникли в огромные подземелья народного прошлого, прокрались, точно воры, и захватили весь этот не имеющий ценности старый хлам. Наверняка среди них был и Гавро Бекич, это он задумал копать землянки, чтобы уподобить его, Филиппа Бекича, Омербегу, и тем очернить на веки вечные. «Ты мне, Гавро, заплатишь, — поклялся он про себя, — заплатишь, ублюдок без роду без племени! Ты не сын Мирко Чопа, мать твоя, поганая сука, понесла тебя от волка. Присвоил ты себе чужое имя, но, буду жив, долго ты его не проносишь!»
Филипп Бекич осмотрелся, место показалось знакомым. Наконец он вспомнил: это то самое место, где Петар Ашич сказал «дискуссия». «Ну, я ему покажу, что такое дискуссия, — прорычал про себя Бекич, — будет он мне еще втирать очки! Достаточно было сделать всего десять шагов в сторону, и я бы запер их в норе, я бы с ними поговорил, бросил в эту дыру с десяток лимонок, этих бородавчатых лимонок, которые делают в Крагуеваце, и не осталось бы и живой вши. Хватило бы мяса и для ворон, и для сорок: целый месяц затевали бы здесь драки. И вот — ничего. Такого случая в жизни больше не представится. И во всем виновата та брюхатая шлюха, — он заскрежетал зубами, — она все испортила. Что она тут искала, какой черт ее сюда принес? Поджарю ей пятки, все расскажет, расскажет и когда впервые мать за сиську укусила, я из нее душу выну и всякое семя уничтожу — брюхатой уж никогда не походит!»
Он выстрелил в открытую дверь. Вороны черной тучею поднялись и с карканьем снова уселись посмотреть, что будет дальше. Подбежал Тодор Ставор и кинулся внутрь. Он всегда смел и скор, когда можно чем-нибудь поживиться, этому он научился еще на балканских войнах, и ему кажется, что только это может еще время от времени его омолодить. Собрав одеяла, рядна и полотнище итальянской палатки, Ставор с трудом протиснулся в узкий проход. Доламичу остались одни мелочи: котелки, кастрюли, тарелки, ложки, чайные чашки, пахнувшие водкой, баклага с водкой и кадочка с каймаком. Все это он набросал в бельевой бак и вынес наружу. А Ставор тем временем бросился за новой поживой. Он вынес мешок муки, круг говяжьего жира, кисет с табаком, торбу с лекарствами и охапку книг.
Выкладывая все это на снег, он рассовывал, что можно, по карманам и радовался, как ребенок, позабыв обо всем на свете. Сейчас у него будет чем покрыться и что постелить, и когда гость придет к нему в дом, будет на что его положить… И лишь насмешливый взгляд Филиппа Бекича портил ему настроение. Как бы в ответ на этот взгляд вспомнилась старая Цагина песенка:
Ой, кабы те ели Из-под горы Белой Были бы моими, Мой бы Трифун дом построил, Не жила б у Шалого Обрада И была бы весела и рада.Тодор Ставор никогда не видел Цагу, она умерла в тот год, когда он родился. И Цагиного сына Трифу, Трифуна Бекича, он почти забыл, в памяти сохранились лишь его тонкие черные усы и плохонькие, просвечивающие на коленях штаны. Цагина мечта, о которой она распевала на свободе и в одиночестве, когда пасла овец по Рогодже, чтоб Трифун построил дом из елей, растущих за перевалом, по ту сторону горы Белой, никогда не исполнилась. Трифун переселился куда-то на Косово, к албанцам, и сейчас сам господь бог, наверное, не знает, что с ним там приключилось, а его землю купил за гроши отец Филиппа Бекича, у которого и без того земли было предостаточно. Обрад Бекич — их родственник, за свою горячность прозванный «Шалым», в доме которого после турецких поджогов ютилась Цага с сыном, погиб, когда Тодор Ставор был ребенком, а Обрадова жена Василия прожила после него еще много лет, разбитая параличом, на муку себе и детям. Когда смерть наконец смилостивилась над старухой и ее похоронили, сыновья и дочери, которых больше ничего здесь не удерживало, переселились в Банат, а оставшуюся незаложенную землю купил Филипп Бекич, чтобы округлить свое поместье и чтобы земля Бекичей не перешла в чужие руки.
«Я бы тоже посмеивался, будь я на твоем, Свистун, месте и глядя на то, как ты собираешь барахло и тряпье, — подумал Ставор. — Громко бы смеялся, а чтобы тебе насолить, сказал бы, что ты сквалыга, — таков уж у меня нрав, не умею я скрывать. У тебя же всего по горло, ты можешь купить меня с потрохами. Всегда было так — тебе ложку, а мне сошку — и сейчас не переменилось. А почему, скажи? Ты лучше работник, чем я? И говорить нечего! Я за день сделаю то, чего ты и за год не сделаешь. Ты смелее меня? Ничуть не бывало! Только голова у тебя работает лучше, у богатого гумна и свинья умна, и ты умеешь скрывать свои мысли — потому о моей отваге не слыхали и в Грабеже, а о твоей идет слава по всей округе. Если я толковое что сделаю, и это припишут тебе, и здесь ты меня обираешь. Грабишь ты меня, Свистун, грабишь и днем и ночью, и когда хочешь, и когда не хочешь, и сам бог мне не поможет вытащить шею из твоего ярма. Честно это, Свистун, справедливо?..»
Ему показалось, что рассуждения о справедливости и несправедливости затягивают его в коммунистические сети, льют воду на их мельницу, на их заливные луга, и спохватился, что для него это путь опасный, даже гибельный. «Туда нельзя, — заметил он про себя, — в ту сторону податься некуда — с ними разговор окончен! Слово я сдержал, не сказал, где они, и не раскаиваюсь, хоть все равно это не спасет ни меня, ни их. Разве они после того, что случилось утром, когда-нибудь мне поверят? Нет, даже если бы у меня было время оправдываться и каяться, но времени нет, все спешат, скорей-скорей, выстрел — и пикнуть не успеешь. Ничем мой позор не смоешь, только кровью — эх, всех бы их сегодня к ногтю!»
— Ну, вот мы и лишили их дома, — улыбаясь, сказал он, оглядывая добычу. — А сейчас, кончай с ними, Филипп Бекич! Либо мы их, либо они нас. И сегодня, завтра будет поздно.
— Как сегодня? Каким это образом, Тодор? С тремя винтовками?
— Авось тем сволочам стыдно станет, и они вернутся. Вон, слыхать их у Поман-воды.
— Что толку, если даже и вернутся. Коммунисты ушли, все кончено. Не могу я их преследовать, там турки. Ну, что скажешь?
«Будь я командир, — подумал Ставор, — я знал бы, что делать. Нашел бы какой-нибудь выход. Но раз ты командир, ты и думай! Я знаю только одно: лучше меня пусть убьют, чем их живыми выпустить». И вдруг, впадая в ярость, закричал:
— Не желаю я, чтобы страдала моя семья, чтобы на меня пальцем тыкали за то, что ты из ненависти, по злорадству сделал меня доносчиком. Чтобы прикрыть этих двух сопляков, хочешь меня для парада выставить, фуфыря несчастная! Почему ты выбрал именно нас двоих?.. Взял бы своих родичей, племянников, дядьев. Когда что раздавать, им отдаешь, сука двуногая, а вот такое мне подваливаешь! Разве это справедливо? Разве это по-честному? Ты знал, что я не могу, я сказал тебе, что не могу и не рожден быть шпионом, а ты все-таки поставил меня вожатым. Потому слушай: пойдешь за ними, Свистун Бекич, и будешь их гнать целый день, пока глаза не повылазят, не то я за тебя возьмусь! Ты меня хорошо понял?.. Отступать нельзя! Ты меня дотащил досюда, а отсюда потащу тебя я…
Мило Доламич, пяля на него глаза, думал: «Старый человек, бедняк, перевалило за пятьдесят, вот и рехнулся! На сильного пошел, режет в глаза правду-матку и не думает о том, что его ждет! Глаза налились кровью, жилы на шее вздулись, тут без крови не обойдется, вон и воронье учуяло, потому и поднялось. Прольется кровь, как пить дать прольется, не может Филипп Бекич проглотить то, чего и последняя собака, даже помажь ей маслом, не проглотит. Отомстит, он еще ни перед кем в долгу не оставался. Лучше и не глядеть. Ничего не видел, ничего не слышал, а вы валяйте — за косы руками, в ребра кулаками!»
Он зашел за дерево, потом шмыгнул за другое и, не проронив ни слова, удалился.
А Филипп Бекич стоял спокойно, и лицо у него было совсем спокойное, словно все то, что говорил Ставор, относилось не к нему. Мигнет время от времени своими карими глазами, облизнет потрескавшиеся губы и молчит. В руке у него комок снега, он сдавливает его, смотрит, как текут мутные струйки воды, а про себя думает: «Клянусь богом, раскаешься ты, Тодор, ох, как раскаешься! Я покажу тебе, кто из нас фуфыря и кто Свистун, только позже, когда вздерну на дыбу! А сейчас болтай! Сейчас я буду молчать, потому что ничего не могу сделать! Не могу и пальцем тебя тронуть, потому что ты, вечно голодный дурак, в тот же миг меня со страху прикончишь. Со страху и из зависти, а Душану Зачанину скажешь потом, что убил умышленно, — знаю я тебя и всех вас как облупленных. Ждешь, чтобы я поднял винтовку, нет, и не подумаю. Тошно тебе ждать, но и мне не легко. За тридцать лет никто еще меня такой тюрей не потчевал, и вот ничего, глотаю. Никому не позволял орать на себя, точно на жену венчанную, ни Гиздичу, ни Юзбашичу, а тебя вот терплю. Если меня нынче живым выпустишь, то заплатишь мне и за страх, и за крик, и за Гавро Бекича, и за все!.. Ну что, не накричался еще?..»
Впрочем, один только страх не заставил бы его стоять так спокойно. В глубине души он смутно чувствовал, что Ставор, этот жилистый буян, невольно коснулся тех горьких истин, которые не так легко опровергнуть. Есть тут какая-то подоплека, дьявольски запутанная, одним выстрелом от нее не отделаешься. Вначале такую вот толпу прихвостней, сволочей и лгунов с бородами и без бород тянешь силой, а потом наступает момент, когда она сама начинает катиться в ту же сторону, и тогда ее не остановить. Никто уже ни над чем не властен, никто ничего не может; исчезают люди, остаются только винтики машины, потому что игра в политику, власть и смерть превратилась в машину. Ни один винтик этой машины, даже тот, который воображает себя главным, не может выйти из игры, если она ему не по вкусу, и сказать: не хочу или не могу, устал или мне надоело, машина тотчас увлечет его за собой, хоть он и стерся. Надо молоть дальше, и его больше не спрашивают, хочет он того или нет — и так до тех пор, пока он сам себя не превратит в кровавое месиво. Тогда машина выплюнет его, как шлак, и, беззубая, разболтанная, пойдет тарахтеть до Судного дня…
Высказав все, что было у него на душе, Тодор Ставор почувствовал себя опустошенным, понял, что поторопился, что ему за это отомстится, и тут же раскаялся, испугался и начал прикидывать в уме, как бы поправить дело. Он уже и не помнил всего, что сказал, намеренно стараясь позабыть и умалить сказанное, и ждал лишь, когда Бекич вымолвит хоть словечко, чтобы тут же поджать хвост и от всего отречься. Топчась на снегу, будто согревая ноги, он отошел к дубу, чтобы было куда укрыться в случае чего, и стал ждать. Зов с горы, с вершины Орвана, прорвался сквозь туман и воронье карканье. Ставор обрадовался — вот повод прервать бессмысленную ссору, которую он затеял в запальчивости.
— Это они, — примирительно сказал он. — Не убежали. Уж не нас ли ругают? А, Филипп?
— Зовут Сенё, — сказал Бекич.
— Какого Сенё?
— Может, ты скажешь какого? Нет никакого Сенё, это у них пароль. Наверно, кого-то потеряли, вот и зовут, чтобы мы не догадались.
— Боже мой, — забормотал Ставор, — все пустились на обман, даже они! Один я никак не научусь этому делу… Вечно этот туман меня с ума сводит, хуже водки. Стеснит грудь, схватит за горло и душит, как домовой. Не могу ни дышать, ни думать, сам не знаю, что болтаю, как пьяный. А повыше, на Софре, нет тумана.
IV
Туман доходил лишь до половины горы, дальше раскинулось ясное небо, а в нем сверкала на солнце снежная голова Орвана. Среди этого блеска Иван Видрич ощутил неясный страх перед необъятными просторами, грозившими гибелью, исчезновением в зияющих со всех сторон пропастях. Запыхавшись, он нерешительно остановился, чтобы передохнуть, и увидел свою огромную тень — она висела в пропасти вниз головой, и голова терялась где-то внизу, в лесной чаще. Он давно уже не видел свою тень или просто не обращал на нее внимания, а сейчас ему вдруг показалось, будто она неотделимая часть его существа, подобно костям, коже или мышцам, но в то же время инакое существо, верный друг, которым он несправедливо пренебрегал. Глядя, как тень дрожит, корчится, трепещет и прячет голову среди ветвей, Иван Видрич подумал: она словно чего-то боится, хочет остаться внизу. «И я бы не прочь, да нельзя. Туман слабенький, а их сила: окружат нас, как только туман рассеется, и уничтожат, быстро со всеми покончат…»
Товарищи, разгоряченные боем, не обращая внимания на свои тени, поднимались мимо него к каменистой вершине Софры. Ветер, точно метлой, вымел весь снег до земли, а землю до кости, остались лишь голые громады скал, точно скованный из металла серо-зеленый мост, по которому вел древний путь на небо. Вскарабкались на горное плато, заглянули в долину, залитую, точно мутной водой, туманом. Из тумана доносились одиночные выстрелы, голоса людей, карканье ворон. Видны были только стаи ворон: они то устремлялись друг за другом и ныряли в туман, то снова взлетали и кружились над лесом с пронзительным карканьем. Одна стая вилась над брошенной землянкой в долине Дервишева ночевья, другая — над Поман-водой.
И эта вторая стая, беспокойная, остервеневшая, в криках которой звучал неутоленный голод, навела их на мысль о соседней землянке. Поначалу каждый спросил себя, потом они стали строить догадки сообща. Боя там не было, но товарищи не дают о себе знать и не приходят сюда, как договорились еще до того, как выпал снег. Может, их ночью накрыли и захватили, а может, они вышли и не в состоянии пробиться. Мало их, пять винтовок всего, пулемета нет. Во всяком случае, бросить их негоже, не по-товарищески, бесчеловечно и ничем не может быть оправдано: свою шкуру спасли, выбрались всем отрядом без потерь и ранений, а товарищей бросили на произвол судьбы, на съедение воронам. Решили их позвать, но как это сделать? Окликать поименно смысла не имело, это только бы обнаружило их, потому что Васо Качак с товарищами подумали бы, что зовут четники, и повернули бы в противоположную сторону; звать их свистом или еще какими сигналами — никто не поймет, кто кого зовет. Наконец Видрич додумался.
— Кричи Селё, — сказал он Шако.
— Что еще за Селё?
— Качак вспомнит, это была его довоенная кличка.
Так и стали кричать: сначала Шако и Вуле, потом Боснич и Слобо, потом все разом, чтобы лучше было слышно. Никто не отзывался. «Видно, не могут, — подумал Видрич, — боятся привлечь внимание и огонь на себя. Главное, чтоб знали, где мы. Они придут, и все будет хорошо. Вместе мы пробьем себе дорогу где угодно».
— Так дальше нельзя, — сказал Вуле, когда ожидание затянулось. — Надо поглядеть, в чем дело.
— Что ты увидишь? — заметил Видрич.
Мысли у него ворочались медленно. Впрочем, он и раньше быстротой мысли не отличался, любая поспешность всегда казалась ему сомнительной. Сейчас он чувствовал, что слишком медлит, временами его словно охватывала какая-то дрема, и это раздражало и сбивало с толку. Ясно, что надо уходить, и уходить как можно скорей с этой наполненной сверкающим светом и окруженной пропастями Софры, но дрема мешала собраться с мыслями, и он втайне надеялся, что кто-нибудь другой — Шнайдер или Боснич — поймет это и скажет. Вместо них отозвался Слобо:
— Давайте я пойду на Поман-воду поглядеть, что там делается.
— Одного не пущу, — сказал Видрич.
— Тогда вдвоем — Шако и я.
— Вчетвером, — отрезал Видрич, точно просыпаясь. — И поскорей, чтобы не терять времени.
И назначил: Вуле, Слобо, Шако и, наконец, Ладо. Потом почему-то передумал, задержал Шако и вместо него назначил Раича Боснича. Этой переменой все остались недовольны. «И я недоволен, — сказал Видрич самому себе, — уж очень они все разные, но и мне здесь нужен пулеметчик. Надо защищать Орван. Никто, с тех пор как существует мир, его не защищал — ни иллирийцы[37] от римлян, ни византийцы от славян, ни наши, ни турки, ни австрийцы, ни черт, ни дьявол, потому что он стоит словно на краю света, не связан с миром, одна из никому не нужных гор на земле, дурацкая и бесплодная, не стоящая и одного патрона. Но все равно надо упорно ее оборонять, по крайней мере, до тех пор, пока ребята не придут, чтобы им было куда вернуться. И нужно еще сбрить бороду, сам не знаю какого черта я ее отпускал. Нехорошо, если меня найдут убитым с бородой и начнутся в народе пересуды. Не так уж трудно ее сбрить: намочу снегом и потихоньку…»
Он встал, захватил горсть снега, но дрема, будто дым, снова замутила ему сознание. «Что это я хотел сделать, — спросил он себя, — почему встал?..» Он потер снегом лоб, мокрыми пальцами протер глаза и вспомнил, но тотчас передумал: «Рано бриться, будет еще время, а на людей произведет нехорошее впечатление. Они и без того подавлены. Гаре я не удивляюсь, тут ничего не поделаешь. И все-таки она держится лучше, чем я ожидал. Арсо Шнайдер тоже понятно, а вот Шако помрачнел, точно всех родных схоронил, никогда его таким не видел. И у Зачанина лицо потемнело, слова не вымолвит — должно быть, дурной сон видел про себя или про сыновей. Надо их куда-то повести, занять чем-нибудь, чтобы не было времени думать о том, о чем они думают…»
Он приказал спуститься к мелкому кустарнику, на опушку редкого леса. Если погоня двинется снизу, она наткнется на первую преграду там, где менее всего рассчитывает. Шако Челич тотчас расчистил снег, принялся копать сначала ногами, потом прикладом, натаскал камней и построил настоящий окоп. Арсо долго искал подходящее место — ни одно его не устраивало, наконец он подошел к Зачанину и присоединился к нему. Видрич и Гара расположились за большим камнем; впервые за столько времени они остались с глазу на глаз. Он похлопал ее по плечу своей длинной и широкой, как лопата, ладонью.
— Ты, Гара, хороший человек, — сказал он и спросил: — Есть хочешь?
— Я и думать про еду забыла, а неужели ты хочешь?
— Еще бы, с радостью проглотил бы чего-нибудь горяченького, только не свинец.
— Может, и это переживем, — сказала она.
— Наверняка. Они не посмеют идти сюда, это мусульманская территория.
Луч надежды, засветившийся в ее глазах, напомнил ему об их первых встречах. «За анархо-коммунистические настроения и подрывные замыслы, направленные на свержение государственного строя», его выгнали из армии и, когда он вышел из тюрьмы, выслали на родину в Меджу, где у него было пришедшее в упадок хозяйство. Он подновил плетни, плотины, оросительные каналы, залатал прохудившуюся крышу, приобрел кое-какой сельскохозяйственный инвентарь, и потом вдруг оказалось, что делать больше нечего. Замкнутый кругозор узкой долины, похожей на слепую кишку, безысходное деревенское однообразие угнетали его и хватали за горло. Газеты приходили редко, люди отупели или разбежались, революция представлялась такой далекой, что вера в нее была чистым безумием. Выйдя наконец из-под влияния Врановича, создали организацию, правда, довольно своенравную и зябкую: летом, с приездом гимназистов и студентов, она оживала, а зимой либо впадала в спячку, либо с головой окуналась в племенные распри, старые и бессмысленные, как мир. Маленькие ремесленные городки, без настоящих рабочих и прочной базы для работы, удаленные друг от друга села, разобщенные междоусобицами, похороны с пьяной тризной, церковные и народные праздники, увенчанные драками, — все это долго не давало возможности понять, есть ли здесь какое-то движение и делается ли что-нибудь. Изредка приезжал из Белграда какой-нибудь незнакомый фракционер со старыми связями и заваривал такую кашу, что потом не расхлебаешь, а то откалывался доморощенный ликвидатор, напуганный, переутомленный, или много о себе возомнивший, и наносил раны, которые потом долго не залечивались.
От таких склок, поначалу неожиданных, Видрича брало отчаяние, хотелось все бросить и бежать или покончить с собой. И лишь с тех пор, как увидел Гару, ее глаза и этот вот взгляд, он перестал думать о самоубийстве. «Гара меня, вероятно, и спасла, — подумал он, глядя на жену, — во всяком случае, помогла устоять, потом уж все пошло легче. И, если придется сегодня умереть, я все-таки не в накладе. Смерть мгновенна, по крайней мере, три раза я собственной рукой чуть ее не ускорил. Некоторые так и поступали, и потому их давно уже забыли. Забыли очень скоро, потому что они ничего не сделали, ничего не видели, ничего не пережили — словно вошли в жизнь не в ту дверь и, смешавшись, поскорей вышли. Я же нет, у меня по-иному, у меня были чудеснейшие дни и недели: забастовки, выборы, восстания и маленькая коммунистическая республика в этом горном медвежьем углу. Все это сейчас во мне, и оно не хочет, не может умереть со мной, так как запечатлено во времени, как в книге или в каком надежном месте, куда враждебная рука не дотянется».
— Гара, — сказал он вдруг, — если один из нас погибнет, другой…
— У нас есть сын, — промолвила она.
— Да, — подтвердил он, хоть и думал не о том. Ему хотелось сказать что-то другое, но напоминание о сыне вышибло из головы все прочее, и глаза его увлажнились.
— Если мы оба погибнем, — сказала Гара совершенно спокойным голосом, — ребенок все равно останется. И он будет жить, а сироты крепче других детей. Поэтому нам легче.
— Это я и хотел сказать: тем, у кого нет детей, труднее.
А про себя спросил: «От кого она слыхала, что сироты крепче других детей? Не все ли равно от кого, главное, что это правда: в большинстве случаев крепче. Собственно, все люди сироты, разница лишь в том, что одни сознают это раньше, другие позже. В более выгодном положении оказывается тот, кто осознает это раньше — он находит опору в себе самом и еще даже защищает других. После первой мировой войны и испанки в Медже и Брезе осталось много сирот: Юг Еремич, Вуйо, Нико Доселич, Вуко Недич, Ладо и Бранко, — все это были шустрые ребята, их всегда видели вместе, и они всегда друг друга защищали. Наверно, и мой сын будет таким, даст бог и он не останется без друзей…»
Воспоминания снова перенесли его в пору, когда он был холост. Он и Гара еще ничего не сказали друг другу, говорили лишь их глаза. Глядя на то, как они смотрят друг на друга, люди выдумывали небылицы и делали выводы. А он не знал, как ей сказать. Даже боялся: некрасивый, длинный, не захочет она такого, а лучше не станешь. И долго он колебался, особенно, когда начал рассуждать: женитьба — старый обычай, все ему следуют, все кончают женитьбой, значит, это даже не сделка, а просто парное ярмо, которое тащишь до смерти и которое со временем становится все тяжелей. Но тут прибыли Рамовичи, сыновья командира, знаменосца и племенного старейшины, и положили конец его колебаниям. Их было шестеро. Все недовольные доставшейся их поколению ролью и положением, которое не позволяло выдвинуться и стать вожаками, подобно предкам; богатые, незанятые, они образовали сначала обособленную группу свободомыслящих, а потом марксистскую группу, которую жандармы долгое время не смели преследовать. Один из них, Драго, все еще не подыскал себе невесты, хоть время жениться ему давно приспело. И вот один его родственник решил сосватать ему Гару, развитую, грамотную и подающую надежды девушку. Он хотел, как это велось встарь или как это делается теперь некоторыми религиозными сектами, положить начало (а они всегда что-то вводили и начинали) новой формы развития движения посредством родственных связей — для этого была избрана Гара.
Как-то ночью Гара постучала к Видричу в дверь бледная, перепуганная, словно за ней по пятам гнались жандармы.
— Что случилось? — спросил он, а про себя подумал: «Наверно, опять провал!»
— Пришли Рамовичи.
— Разве это так страшно?
— Да. Сватают меня за Драго, а я не хочу.
Он не поверил своим ушам: Рамовичи знали, что у него на нее виды, и вот обошли его, значит, у них совесть нечиста. Разозлившись на них, Видрич набросился на Гару:
— Не хочешь, так нечего лепетать, скажи нет, и все!
— Сказала, но отец и слышать не хочет. Уперся, твердит, что для него это честь.
— И в самом деле честь, они все-таки дворяне, хоть и коммунисты. Знали, к кому обратиться, потому и пришли. Я тут ничем помочь не могу.
— Я бы здесь осталась, — пробормотала она наконец.
— Это бы значило, что я тебя умыкнул, отнял у товарища. Негоже начинать между собой свару — рано, мало нас, пошли бы разговоры, что мы-де ничуть не лучше других. Нет, пусть спор решат наши.
— А мне куда пока деваться?
— Не знаю, только здесь оставаться нельзя.
— Пойду к тетке, только я по лесу боюсь одна идти.
— По лесу я провожу тебя, это я, во всяком случае, могу.
Он проводил ее к тетке, а на другой день Юг Еремич легко разрешил спор. Оказалось, что Драго Рамович не только не участвовал в сватовстве, но даже и не знал о нем — родственники хотели, как это делали Рамовичи в старину, поставить его перед совершившимся фактом. Все осталось «в семейном кругу» и вскоре позабылось. Вспоминая обо всем этом сейчас, Видрич с легким раскаянием подумал: «Каким порой бываешь грубым, суровым без всякой нужды. Мало того что я притворялся высокомерным и безразличным в тот вечер, но я и по сути дела лукавил. Чувствовал подсознательно, что Гара выдержит, потому и взвалил всю тяжесть на ее плечи, а не будь я так уверен в этом — кто знает, остался бы я таким принципиальным? В мире, где основной закон разбой, и коммунисты принуждены иногда показывать зубы и когти. Показывают они их и друг другу, часто без всякой необходимости и даже во вред делу — когда по привычке, а когда в силу характера. И это, кажется, протянется дольше, чем я предполагал: есть вещи, от которых сразу не избавишься, не выбросишь в окошко, а лишь постепенно — по ступенечкам…»
— С тех пор мы никогда не ссорились, — сказал он громко.
— Кто ссорился? — не поняла Гара.
— Мы с тобой. Правда, и тогда была не настоящая ссора, просто я был виноват.
— Я не помню, чтобы мы ссорились.
— Верно, мы жили дружно, на редкость дружно. Хочется мне тебя приласкать, от всей души.
Он провел пальцами по ее лицу, она не закрыла глаз, как обычно, и в ее немигающем взгляде светилась спокойная мудрость, какая появляется в глазах в конце утомительного, длинного рабочего дня. «Она уже не ребенок, — подумал Иван, — быстро развилась. Сейчас она более зрелая, чем я, могла бы меня учить, будь у нее на это время. Вместо того чтобы спрашивать, жалеть или жаловаться, она волнуется за меня, очень ли я страдаю, тяжело ли мне, жалко ли? И вот мне есть кого жалеть, и это лучше, чем если бы не было. И хотя брак штука старая, старое ярмо, мы с Гарой сделали его каким-то другим, не таким тяжелым. Может, невольно мы оказались умнее других, не требуя больше того, что могут дать друг другу два человека. Просто шли одним и тем же путем, глядя вперед, занятые важным делом. У нас не оставалось времени не безделье и скуку, которые порождают измены и ревность. Любовь наша не иссякла в бесконечных потугах стать верными птицами, как это встречается среди людей, и все же, наверное, мы принадлежим к тем, кому это удалось больше других…»
V
Душан Зачанин повернулся, увидел их вдвоем, и ему стало неприятно. Нахмурившись, он подумал про себя: не время сейчас для нежностей, негоже так… И отвернулся, но тут же ему пришла мысль: они ведь прощаются! Ему стало их жаль. «И я простился со своими, — подумал он. — Во сне это было, на рассвете». А когда проснулся, пока будил Слобо Ясикича и глядел, что делается снаружи, сон все еще стоял перед глазами и так хотелось его продлить, увидеть что-то еще. Только стрельба окончательно выветрила сон из головы, а сейчас он снова всплывает в памяти. Начала нет, оно теряется где-то во мраке, и кое-какие картины стерлись; осталось самое главное: нужно уходить, и он, Душан Зачанин, уже идет куда-то по незнакомой дороге. Обувь на нем новая и легкая, гетры-чулки белые как снег, голубые шальвары и красный, шитый золотом, джамадан. Две большие золотые медали Обилича с военных времен позвякивают на груди. Он идет вниз по реке. Осенний день, падают листья, сумерки. Домашние в трауре и безликая толпа соседей и давнишних приятелей идут за ним следом и умоляют возвратиться обратно; он переходит мост, поворачивается к ним и, пятясь, знаками запрещает им идти дальше…
«Куда же я шел, — пытается он вспомнить и никак не может, — это тоже пропало вместе с началом. Может быть, сюда, — подумал он. — Здесь хорошо, как, впрочем, и во всяком другом месте. Зачем мучиться, куда-то идти, если все сводится к одному? Медали — это раны; в грудь, в левую сторону; это лучше всего. Коммунисты не верят в сны, но мне можно верить, я человек старого закала. Мне все позволено, все прощается, и все-таки не следовало бы верить, потому что это — все равно что верить в бога или в черта, во все эти поповские штучки, они ведь связаны друг с другом и вытекают одна из другой. И впрямь, если подумать хорошенько: чего там только нет! Пропасть можно, в самом начале рехнуться, если обращать внимание на всю эту чертовщину. Но даже если сон вещий и мог бы что-то предсказать, то какая радость узнать о том, чего уже нельзя изменить? Только страха наберешься, а значит, лучше все это ногой в зад и пусть катится к чертовой матери! Знаю я и без снов, что будет: пока могу биться — все прекрасно; а нет — уже неважно…»
Почувствовав, что у него зябнут ноги, он поднялся, чтобы размяться, и подошел к Шако.
— А что, если закурить?
— Что ты говоришь? Уши заложило, плохо слышу.
Душан указал на табакерку: можно?
— Можно, даже если придется и круче. А кажись, так и будет.
— Тебе что-нибудь снилось?
— Да. Не знаю. Ударил меня кто-то и повыбивал зубы — нехороший сон.
Шако протянул руку за табакеркой, но тотчас опустил ее и, словно позабыв о том, что хотел закурить, стал пристально всматриваться в лес, потом в свой ручной пулемет, будто вбирая в себя таинственные звуки. Где-то внизу произошла перемена, он заметил ее, но не может еще определить, по каким признакам. В ушах беспрестанно гудит, и ему кажется, что голова его, как телеграфный столб, передает множество сообщений, совершенно их не воспринимая. Перед глазами — желтое, неясное сплетение ветвей и просветов. В одном из этих просветов разом появились колени, плечи и голова, обмотанная шалью. Левой рукой Шако подает Зачанину знак спуститься в укрытие. Есть внизу и другие просветы; когда он пытается одновременно следить за всеми, от напряжения болят глаза. Некоторые из них продолжают оставаться пустыми, по другим молча проскальзывают то нога, то голова, то горб. Много горбов, все горбатые, вроде и ног у них больше, чем полагается. «Стоногая напасть, — прошептал про себя Шако, — длинная и лукавая. Но я сам должен стать для нее напастью. Она знает, что я слабосильная напасть, потому я первым и должен начать. Если я начну первым, может быть, ей покажется, что я сильнее, и я действительно сильнее».
Зачанин подал знак Видричу и пошел подбодрить Арсо Шнайдера. Они ждут и слушают, как едва уловимые шумы, похожие на какое-то похрустывание, растут, ширятся, множатся. Уже отчетливо видны то рука, хватающаяся за ствол дерева, то нога, нащупывающая себе опору. Видрич жестом приказывает ждать еще, у Шако от нетерпения ноет спина, затылок, он весь превратился в комок боли и руками показывает, что больше ждать не может. Цепь преследователей выползла из чащи в редкий лес. Это уже не стоногая напасть, а охотники, которые выныривают из леса и застывают. Застывают, чтобы передохнуть и быстрой перебежкой преодолеть открытый подъем. На подъеме Шако и накрыл их огнем. Видрич и Зачанин бросили гранаты, Гара и Арсо — камни, которые они вытащили из-под снега, и все дружно закричали, будто пошли в атаку.
Ошеломленный близостью противника, отряд Бекича попятился. Трое раненых запричитали так, словно хотели друг друга перекричать. Митар Лафрич, беженец из Гусиня, скатился кубарем и, расширив руки, припал к дереву мертвый. Панто Букар из Побрджа, поворачиваясь, разрезал мушкой винтовки себе лоб, размазал кровь по усам и завопил. Родичи схватили его и поволокли, словно смертельно раненного, который отдает богу душу. Стрелковая цепь разорвалась и спустя мгновение скрылась за стволами деревьев. Оставшиеся храбрецы выстрелами и криками старались рассеять свой страх. Филипп Бекич схватился руками за глаза — нет, его не ранило, просто запорошило пылью сухой листвы и снегом. Саблич и Логовац, не долго думая, потащили его вниз с горы, остальные скатились за ними. Тщетно упирался Бекич, наконец, замахнувшись кулаком, он закричал:
— Пустите, бестии, куда тащите!
— В укрытие тащим, сюда! — сказал Логовац. — Стал под мушку Шако, убьет, а потом будет хвастать.
— Убил у тебя бог разум! Ты что, помешался на этом Шако? Всюду тебе мерещится Шако.
— Совсем и не мерещится, я знаю его почерк.
— Узнает он и мой почерк, — крикнул Бекич голосом, напомнившим ему визг избалованного упрямца, каким он был в детстве, когда требовал невозможного. На мгновение ему стало стыдно за это сходство, но то же упрямство не позволило отказаться от своих слов. «Отступать нельзя», — подумал он, и продолжал уже вслух:
— Узнает, клянусь богом! Грянет гром и над его башкой. В последний раз тешится.
Бекич не был уверен в том, что говорит, и поэтому криком старался заглушить сомнение. Небольшую надежду он возлагал еще на правое крыло: тридцать стрелков (далеко не лучших), два ручных пулемета под командой Петара Ашича, бывшего жандарма и бывшего партизана, молодого и смелого, ненавидевшего коммунистов, которые поначалу прельстили его иллюзорными победами, а потом разочаровали, потеряв все завоеванное. Зная, как Ашич ненавидит коммунистов, как хочется ему обелить себя за партизанское прошлое, как жаждет он славы, чинов, повышений и власти, Филипп Бекич именно ему приказал внезапной атакой справа захватить каменную гряду Софры на Орване. Этим он надеялся добиться того, чего не смог сделать медлительный и упрямый, как осел, старшина Бедевич в первой стычке. В ожидании, пока Ашич подаст с вершины условленный знак, Филипп Бекич повел своих людей вдоль леса — но не в атаку, а в засаду, чтобы у голого крутого ската встретить бегущих коммунистов и перебить их, как зайцев в поле.
Удача отвернулась от него, не везет. Точно с левой ноги встал, а он ведь нарочно встал на правую. «Нога тут ни при чем, — продолжал он свои размышления, — люди ни к черту не годятся — покурвились, испоганились, превратились в последних сволочей. Что с ними случилось? Только и ждут выстрела, чтобы броситься наутек. Должно быть, их коммунисты обработали, как в свое время мы проделали с их людьми, а этих сволочей однажды уже обрабатывали. Хуже всего беженцы — не верят, не держат слова, не задумываясь перебегают с одной стороны на другую. И все время распускают слухи о Турции, о китайцах, о Сталинграде, знают, какой дьявол за тридевять земель женится и какая ведьма идет замуж. И никому не ведомо, какие слухи они разносят в эту минуту, стараясь только, чтобы мы об этом не узнали. Всех бы их надо под арест и в лагеря! Впрочем, и это не поможет: нашлись бы другие сволочи, пошли бы другие слухи. Стоит научить этот крикливый сброд врать другим, больше ему не верь, обманет и тебя! Никому нельзя верить, а тем более этой жандармской дряни, что успела побывать и у партизан и у четников, и — вот, пожалуйста, — до сих пор не дает о себе знать. Где он, мать его жандармскую так, уж не переметнулся ли он там?..»
В этот миг справа от Софры, в логе около Поман-воды, завязалась ожесточенная перестрелка, сопровождаемая криками. Это не удивило Бекича. Он еще раньше подозревал, что обнаруженная в лесу землянка не единственная. Сейчас его подозрения подтвердились: лес полон землянок! Может быть, здесь один авангард, а может быть, Гавро Бекич привел сюда и главные силы партизан, пользуясь бесконтрольностью мусульманской территории. Такой неожиданный поворот мысли ему понравился. Он даже обрадовался: раз коммунисты почувствуют свою силу, они не станут бежать; а коли так, он уничтожит их одним ударом. Удар этот Бекич представил себе так: в руке у него огромный топор, он занес его до самого неба, а все кругом смотрят на него, удивляются и ждут, когда он опустит топор. На какое-то мгновение Бекич позабыл про снег, лес, покрытую горами землю и неверных людей, которые всячески стараются спасти свою шкуру. Он поглядел вверх, но вместо топора увидел ворон, птицы реяли, точно черное знамя, которое то рвалось, то вновь соединялось, и кричали: «Мя-са, мя-са!»
— Будет мясо, — сказал он, слушая заглушенные карканьем стоны раненого Петара Ашича, — Будет вволю, провоняет все мясом, — Бекич с усмешкой вспомнил свои мечты, — но пока что только с нашей стороны…
Гниющее мясо вызвало в памяти раскопанное Собачье кладбище в Лугови у Колашина, где партизаны зарывали убитых шпионов и милиционеров. И сразу пришел на ум начальник милиции, толстый Рико Гиздич: «Этот еще в прошлую войну заслужил, чтобы его похоронили на Собачьем кладбище, — заключил он. — Заслужил, но выкрутился, выкрутится и в этой войне…»
Немного поколебавшись, Бекич уселся на пень и написал ему записку:
«Я выгнал из нор Качака Васу и Видрича Ивана с тремя десятками коммунистов, а может, и больше. Преследую их с рассвета по Орвану и Рогодже, сейчас припер к стене. Есть потери, а вы по-прежнему изволите надеяться, что свершится чудо. Если не хотите прийти мне на помощь, то хоть заставьте турок, через итальянское командование или как знаете, не играть на руку коммунистам и не мешать мне покончить с ними».
VI
С Бекичевым письмом в кармане, счастливый, что хоть на некоторое время покинул поле боя. Мило Доламич торопливо зашагал к Тамнику. Иван Видрич, стоявший, широко расставив ноги на Софре, видел, как Доламич пробегает через поляну. Узнав его по зеленой блузе и шапке, он понял, куда тот идет. Поднял винтовку, нацелился, но стрелять раздумал: «Единственный сын, пятеро сестер, нарядились бы в черное, подняли бы вой, сыпали проклятья — вся его шкура того не стоит. Нет, — решил он, — не стану, пусть себе идет!..»
Видрич смотрел, как он углубился в лес, и слушал, как Шако препирался с Душаном Зачанином, убеждая его спрятать в конце концов свои закрученные усы за камень. Шум не стихал. «Это Шако на меня кричит», — понял Видрич и сделал вид, что не слышит. Из леса, над обрывом, где только что закончилась короткая, но оглушительная перестрелка, вышел Вуле, а за ним Раич Боснич, Слобо с ручным пулеметом и Ладо, как всегда хмурый. Видрич ждал, что появится Качак, или Байо, или еще кто-нибудь из землянки на Поман-воде, и, убедившись, что их нет, забеспокоился.
— Где же остальные? — крикнул он, не дожидаясь, пока они подойдут.
— Все тут, — ответил Вуле. — Отогнали их.
— Где Качак и Байо с товарищами?
— Ушли раньше. Землянка пуста.
— Пуста, — повторил, точно эхо, Видрич и закрыл глаза.
Он представил себе пустую землянку: лежит внизу, черная в белом, будто беззащитная женщина. «Разденут ее, — подумал он, — осрамят, будут показывать на нее пальцем, назовут Полтавой, Одессой или Коминтерном… И пусть называют, — примирился он, — ведь это временно. Лучше так, чем если бы в ней погибли люди. Если хочешь жить, всегда надо что-то покидать, оставлять пустым и беззащитным и завоевывать новое. Жизнь не только вечное движение, в сущности, жить — значит оставлять и брать, гнать друг друга, переходить из одной пустой землянки в другую. Если стать на такую точку зрения, то война лишь сгусток жизни, когда этот переход ускоряется до такой степени, что и та и другая сторона уже не ощущают, как соскальзывают в последнюю землянку, из который уже нет выхода… Наши с Поман-воды, вероятно, пошли вдоль Рогоджи, к Рачве. Хорошо, если они доберутся до Рачвы, там ущелий да оврагов в чащобах хоть отбавляй, траншея к траншее; там и один человек может продержаться до самой ночи, а ночью уйти».
— Видно, они нас звали, а мы не слышали, — сказал он. — Жаль!
— Сомневаюсь, — возразил Арсо. — Если бы звали, они бы выдали себя.
— Наверно, на Рачву пошли. Хорошо, если бы прорвались. И нам легче, будем защищать только себя.
— А мне это как раз и не нравится, — сказал Зачанин.
— Почему же?
— Человек не может бороться как следует, если борется только за себя, одиночки потому и гибнут. Потеряют связь друг с другом, некому на них смотреть, некому о них думать, устанут, и покажется им, будто нет смысла ради собственной шкуры выносить такие муки. Правда, нас тут целая компания — все за одного, один за всех, так-то лучше.
— До сих пор нам везло, — сказал Арсо Шнайдер, — диву даюсь, с чего бы это?
— И дальше так же будет, — подходя к ним, сказал Слобо Ясикич. — Смелым всегда везет.
Туман опустился на самое дно долины, сквозь него неясно виднеются на лугу ольхи, они стоят вдоль реки, точно разрушенные черные башни. Внизу все еще стреляют, время от времени шипит в вышине над головами пуля на излете. Люди сели на гладких камнях Софры между двумя установленными пулеметами — передохнуть, обменяться впечатлениями и похвалить Раича Боснича за то, что он первый заметил опасность и спас их от гибели…
Только Ладо остался стоять: он любовался освещенным солнцем простором, и ему казалось, что он плавно реет над извилистыми долинами, где стоят одинокие домики на два окошка, хуторки и опоясанные плетнями стога сена. «Красиво здесь, — подумал он, — и жизнь хороша — всегда что-то новое открывается. Вот если бы еще столько еды, сколько нужды! Хуже всего, что я никак не могу привыкнуть к этому «нету». Не могу понять, не укладывается в голове и неверно, что нет. Внизу есть! И сало есть, и теплый хлеб, и горячая кукуруза на противне есть — да такая, что пальцы обожжешь, пока отломишь и донесешь ко рту… Молчи, — приказал он самому себе, — и терпи, — нету! Так мать Юга Еремича говорила сыну: «Вечно тебе хочется есть, когда ничего нет, молчи, терпи, не срамись!» Не хочу и я срамиться — здесь я чужой!..»
Он поднял голову и несколько мгновений всем своим существом впитывал в себя теплое солнце и ясное небо. Его звали с Софры, махали руками, а ему кажется, что это чабаны: пусть себе греются на солнце! Черный луч, горячее всех прочих, раскаленный и острый, точно длинное копье, внезапно вонзился в тело. Прежде чем понял, что случилось, он уткнулся головой в снег, и его открытый рот, готовый изрыгнуть ругань, наполнился ледяными кристаллами. Ладо почувствовал, как у него от боли дергается нога. Боясь показаться смешным и осрамиться, он встал. Завертелись круги, забегали в глазах черные мухи. Одной рукой он провел по онемевшим скулам, другой принялся искать пронзившее его копье. Тщетно, ничего нет, — видимо, очень тонкое копье, застряв в теле, переломилось и упало. Чьи-то руки схватили его, и люди, крича и укоряя, потащили его и толкнули в укрытие.
— Куда тебя ранило? В ногу?
— Глупый человек, вот и получил…
— Снимай штаны! — крикнул Шако и отстегнул ему пояс.
— Погоди, — пытался было он защищаться. — Я с Митрова дня не мылся.
— Брось дурака валять!
Его положили на расстеленную шинель, Раич Боснич нагнулся над ним. Ощупав его, он помянул пулю, и в рану вонзилась тупая боль. От боли небо потемнело и начало падать, а огромная Тиамат, личный враг Ладо, устремилась к нему, уселась на грудь и принялась облизывать щеки слюнявым языком, обросшим седой щетиной.
«Знаю я, — дышала она ему в лицо, — тебе хотелось бы, чтобы все это поскорее кончилось. Но у меня времени много — целая вечность, я поиграю, разгоню скуку. Спешить не стану, зачем мне сразу тебя терять, я так — по частям. Пуля, пробив кожу, вошла в мясо, сейчас ее вынимают. Кость не сломана, пуля мимо прошла — будешь попрыгивать, как тот бондарь:
Сокол сизый ввысь взлетает, А средь Меджи бондарь шкандыбает…Потом, когда все отойдут, когда тебя спишут со счета и товарищи тебя покинут, — мы останемся с глазу на глаз. Тогда я тебя парализую, как оса парализует тлю (Фабр это здорово описал), чтобы сохранить ее свежей и потом кормить свои личинки. Это не будет тяжело, — она усмехнулась, — вроде полусна, как вот сейчас, смягченного сознанием, что ты, подобно всем людям, годишься в пищу потомству силы, против которой ты осмелился восстать. А коли это тебя мало утешает, есть еще и другое: твоя жизнь была бы ничуть не лучше, если бы ты и не восставал против меня. Моя бесконечная мудрость и справедливость не считается с тем, что один пытался меня обмануть молитвой, а другой изуродовать саблей — перед моим ликом вы одинаковы и все это ме…»
Тиамат хотела сказать «мелочи», но Ладо прервал ее на полуслове взмахом головы: он целился в подбородок, но не дотянулся и ударился затылком обо что-то мягкое и холодное. От холода он раскрыл глаза и увидел, что ему растирают снегом грудь. «Все собрались, — подумал он, — а я где-то внизу на земле — лежу на спине и барахтаюсь, как овца, которую стригут».
— Чего вы на меня насели! — крикнул он. — Оставьте наконец, кожу сдерете.
— Хорошо, — сказал Слобо, — все в порядке.
— Что хорошо? Какой порядок? Душу мне вытянули из-за одной царапины.
— Не душу, а пулю вытянули. Вот она! — Боснич показал ему пулю. — Возьми себе на память и попытайся встать.
Ладо поднялся, посмотрел на пулю и бросил.
— Поищу на память что-нибудь покрупнее, эта ничего не стоит. Кость не сломана, мимо кости прошла, буду шкандыбать, как бондарь.
Он шагнул, шаг получился короче, чем ему бы хотелось.
Улыбнувшись, Слобо заметил:
— Так дергается Тробрк, у бондаря это ловчее получается.
Остальные молчали. Ладо на мгновенье стало досадно, что они так быстро к нему охладели. Но, увидев их хмурые лица, он понял, что их гложут другие заботы, серьезнее тех, которые он им причинил. Видрич и Вуле вытащили бинокли — итальянский и цейсовский — и направили их в долину Караталих, в сторону Грабежа и вьющегося между холмов шоссе. Ладо посмотрел туда: все ясно и без бинокля, по шоссе двигалась длинная колонна со всадником во главе.
— Что ты думаешь? — обернувшись к Раичу Босничу, спросил Иван Видрич.
— С позавчерашнего дня ничего.
— Как это ничего?
— Так лучше. Пусть думает тот, кому положено, а я свой мозг выключил, чтобы не мешал.
— Надо идти к Рачве, — сказал Видрич.
— Как? — спросил Арсо Шнайдер.
— Не знаю. Как-нибудь. Потому и спрашиваю, надо посоветоваться. Через Рогоджу нельзя, там мусульман как на байраме. Надо проскользнуть как-нибудь за ними. Есть тут долинка, начинается у мельницы и тянется вверх до Кобиля. Может, по ней подняться до Кобиля, а потом как-нибудь перейти через Свадебное кладбище.
— Я бы отсюда не двинулся, — сказал Шако. — Камней хватает и здесь.
— И в Рачве они ничуть не тверже этих, — подхватил Слобо. — Пусть хоть весь день стреляют, ничего тут они нам не сделают.
— Здесь нас легко окружить, — возразил Видрич.
— Ну и что?
— И гранатометами, — криво усмехнувшись, заметил Арсо, — пока всех не переклюют.
Ему показалось, что он уже слышит жуткое завывание нависшей гранаты и что она и есть тот самый подпиленный столб из ночного кошмара. Оставили бы стоять тот подпиленный столб, он упал бы от ветра или сам по себе, когда пришло бы ему время, но этим «Легче легкого» не захотелось ждать. И вот сейчас столб падает — Арсо вздрогнул и от ужаса закрыл глаза. «Дураки, — продолжал он про себя, — можно было бы обойтись и без этого! Все бы само собой рухнуло, естественным путем, когда созрело, но эти нетерпеливые юнцы ничему не дают созреть. У них это, кажется, в крови: еще под носом мокро, подавай ему усы, чуть отрастит усы — не может дождаться, чтобы они поседели. Можешь быть умен, как Соломон, это тебе ничуть не поможет, они все равно настоят на своем. Восстание подняли раньше времени, город освободили прежде, чем получили директиву, и сам черт их сейчас не утихомирит. Впрочем, меня удивляют не они, такие уж они от природы, но какой дьявол заставил меня с ними связаться и сейчас ни за что ни про что платить своей головой?..»
СТЕНЫ ТЬМЫ НАДВИГАЮТСЯ СО ВСЕХ СТОРОН
I
Внезапное скопление мусульман на Рогодже, ставшее неожиданным препятствием на пути отряда Видрича в Рачву, имело свою предысторию, долгую, запутанную и противоречивую.
Подлинный хозяин Верхнего Рабана, командир карабинерской заставы в Топловоде, Ахилл Пари, — тот самый Ахилл Пари, который убил взятого в плен Драгоша Бркича и намочил свои подошвы его кровью, — за день раньше направил нечто вроде послания командирам караулов трех пограничных мусульманских сел. В этом послании он наставлял их, советовал и приказывал сохранять спокойствие и ничего не предпринимать, если они услышат стрельбу в долине Караталих, в лесах Орвана и Рогоджи или заметят движение четнических частей. Эти части, писал он, согласно приказу командира дивизии «Венеция», получили задание уничтожить пресловутую группу коммунистов, которая, найдя себе убежище на их территории, принялась за подрывную деятельность: совершает нападения на итальянские вооруженные силы и уничтожает средства связи. Поскольку у четнических частей нет никаких враждебных намерений по отношению к мирному мусульманскому населению и поскольку их начальники заранее предупреждены, что будут отвечать по всей строгости закона за нанесенный материальный и моральный ущерб, за осквернение веры и за каждое столкновение с населением, последнему не следует поднимать на них оружие и выражать в какой-либо другой форме свою ненависть; напротив, желательно и всячески рекомендуется оказывать им всестороннюю поддержку в благородной цели тотального уничтожения общего врага, то есть большевистско-коммунистической банды партизан.
Бумага была подписана, заверена печатью и доставлена из Топловоды Чазимом Чоровичем, великаном с большой головой и малым умом. И по своей натуре, и по своему прошлому он был точно создан для того, чтобы увеличивать любую неразбериху. Так случилось и теперь. Год тому назад Чазим, будучи командиром городской стражи в Пазаре, заслужил особую благосклонность немецких оккупантов, расстреляв нескольких мусульманских гимназистов, задержанных на тайной сходке, на которой они готовили для распространения коммунистическую литературу. В виде особой награды за проявленное мужество он выпросил себе офицерскую парадную фуражку с козырьком и серебряными орлами. Эту фуражку, хоть она и не налезала на его огромную голову, Чазим Чорович носил и в солнце и в дождь, не снимал ее ни за столом, ни в постели, так что она давно утратила свой первоначальный цвет, форму и блеск. Фуражку эту надставляли и латали многие шапочники, и все-таки она еще служила свидетельством того, что ее хозяин, Чазим Чорович, является капитаном вермахта могучего германского рейха. Наряду с документами — их Чазим носил в кармане и хлопал по ним рукой, если кто-нибудь оспаривал его заслуги, но показывал только итальянским властям, — фуражка была также немаловажным доказательством. Солдат ему не дали и на службу не взяли, форму тоже не выдали; не выдали, объяснял он гордо и убежденно, потому, что у них не было: искали в самых больших и богатых магазинах, вплоть до самого Берлина, и не нашли ничего, что огромный Чазимлия из Рабана смог бы натянуть на себя, не разорвав по швам.
Послание карабинерского командира Ахилла Пари Чазим вытащил из кармана уже совсем измятым и показал его на старом постоялом дворе в Гркине трем начальникам мусульманской сельской милиции — капабандам, пусть-де посмотрят, как оно выглядит. Но читать не стал, полагая, что они такой чести не заслуживают, а громовым голосом коротко и ясно сказал то, что, по его мнению, было самым важным:
— Государство и власти приказывают вам не затевать с четниками свар, а власти есть власти — как скажут, так тому и быть!
На это капабанда из Опуча Таир Дусич заметил:
— Мы и не собираемся затевать свары с четниками — никогда о том и не помышляли, пусть только не переходят Рогоджу.
— Здесь написано: перешли не перешли, оружия не применять и поджать хвост, — рявкнул на это Чазим.
— Если мы позволим им перейти Рогоджу, — сказал Ариф Блачанац, капабанда из Джердара, — то уж лучше нам самим зарезать собственных жен и детей, чтоб не оставлять их на муку и позор четникам. Они отомстят нам за Зуквицу и обратят в дым и пепел весь Верхний Рабан, как это сделали с Нижним шесть недель тому назад.
— И надо обратить в дым и пепел! Того и заслужили, раз у вас такие начальники, что позволяют укрываться коммунистам у себя и наносить ущерб государству.
Старый Элмаз Шаман, капабанда и старейшина Гркиня, дал ему накричаться до изнеможения, а потом вкрадчиво сказал:
— Слушай, Чазим, уважь старика, выпей-ка водки и ложись спать. Хорошо тебе под такой фуражкой — за тобой стоят Гитлер и Германия. Нет у тебя ни жены, ни детей, которых можно поджарить на огне, как бы сделали с нашими. Хорошо и Ахиллу — этому жирному итальянскому борову, за ним стоит великий Рим, перед которым и Стамбул во все времена ломал шапку. Всем легче, чем нам, у каждого есть свое убежище и есть на что надеяться — у мыши нора в запечье, у зайца кустарник, куда можно скрыться, только нам некуда податься. И нет у нас иного пути, как стать с винтовками на Рогодже. Коли с той стороны придет коммунист, мы не позволим ему перейти на нашу землю. А перейдет — убьем. Если в погоню за ним явится четник, мы выдадим ему мертвеца, пусть забирает, пусть вденет его вместо цветочка в петлицу, пусть его съест, если хочет, это его брат, но к нам пусть не идет. Если нас прогонят с Рогоджи, мы отступим до Кобиля, отступим до Рачвы, но дальше нам идти некуда. Не нравится тебе это, Чазимлия, иди откуда пришел и скажи Ахиллу-итальянцу: если даже он приведет ко мне итальянских солдат, чтобы они защищали моих жен и детей, мои дома и скот, потому что без скота тут не проживешь, то я пущу четников на Рогоджу, но не дальше Рачвы. Покуда я жив, за Рачву я четников не пущу. Вот так!
Разговор закончился в сумерки, а с наступлением темноты все пришло в движение. Уведомление, посланное для того, чтобы успокоить мусульман, всю долгую февральскую ночь наполняло страхом и тревогой три мусульманских пограничных села, да и весь Верхний Рабан. Понеслись нарочные в Торово, в Паль, Трпань и Топловоду с просьбой о помощи. В усадьбах закапывали хлеб и прятали снедь в подпол, под очаги, в ямы для хранения овощей, под стога соломы и сена. Вязали узлы с добром, пекли хлебы. Хорошо накормили скотину, чтобы не мычала в пути. Женщин и детей разместили по десять семей в немногочисленные каменные дома; подготовили их, если потребуется бежать и оттуда, и назначили людей, которые поведут их в сторону Калача, Бишева и Тутина. Плакали и прощались, а дети в ту ночь набрались страху на всю жизнь. На рассвете взрослые мужчины, с винтовками и без, заняли позиции на Рогодже: Ариф Блачанац с отрядом из Джердара и пулеметом на Повии; Элмаз Шаман с Шаманами из Гркиня на Седлараце; Таир Дусич с отрядом из Опуча и Страны на Кобиле. Протянули цепь постов под Рачвой, до самого Свадебного кладбища. Только отвесную кручу Невесты оставили без защиты, — кроме птиц, ничто живое туда не поднимется.
Жечь костры и курить они побаивались и потому, спасаясь от ледяного ветра, забирались поглубже в лес, притоптывали и пританцовывали, стараясь согреться. А чтобы скоротать время, отвлечься от горестных дум и развеять страх, ножами вырезывали из сухих веток зубья для граблей или тесали спицы для колес, наготовили их в ту ночь столько, что хватило бы на десять лет. Молодежь принялась за хлеб — кусочек за кусочком, и скоро торбы опустели; старшие завидовали этой на вид беззаботной жадности, которая, по сути дела, объяснялась лишь страхом и тщетными попытками не думать о том, что надвигается. Но ничто не помогало, ими завладел страх, слепой, наследственный, накопленный еще прадедами, колючий, холодный, как слежавшийся летошний снег, страх перед коварным бородатым врагом, перед неверным другом в зеленой форме, перед воеводой Юзбашичем с его поджогами, воеводами Яворским и Кордой с их ножами, страх перед ночью, водой, тишиной, перед своим ничтожеством, страх перед христианскими пророчествами, записанными в древних книгах и предрекающими в этом году гибель всему, что под знаком полумесяца.
Глядя на редкие звезды в небе, на пряди тумана внизу, прислушиваясь к переливам собачьего лая, который несся из долины Тамника и замирал на Рачве, каждый про себя тихонько проклинал своих неведомых прадедов — этих Кучей, Ашанов, Васоевичей и Брджан и всех вместе взятых, кто по различным причинам бросил чахлые родные земли и пришел сюда, вспахал первую борозду, раздул огонь и принял веру пророка. Проклинал не за то, что они покинули старые, насиженные места — тесно им было там, нужда принудила, голод, страх кровной мести либо позор, которого ничем иным нельзя было смыть; и не за то, что переменили веру и взяли другие имена: пришлось, такое время было, — не могут они им простить совсем другое: если уж пустились в путь, то надо было выдержать до конца, уйти как можно дальше от проклятой земли-мачехи, которая немилосердно выгнала их за порог. Бог знает, где у них была голова, или, может, не хватило духу и сил уйти совсем? Может, хотели отомстить, или рассчитывали с новым нашествием ислама вернуться на родину и верховодить там, или им понравилась вязкая красная глина Рабана с его просторными пастбищами для овец; во всяком случае, они остались тут, у порога, и наплодили потомство, чтобы оно страдало, расплачивалось за давнее прошлое, осели между Черногорией и Сербией, как между молотом и наковальней.
Им надо было спуститься вниз по Лиму или по Дрине, к Боснии, но они тогда презирали босняков, считали их коварными, лживыми, ленивыми и лукавыми, о них дервиш Шаман говорил: «Сорок босняков — один человек, да и тот дрянной!» Их не тянуло ни в Далмацию, ни в голодраную Македонию, ни в Турцию: «Будь в Турции хорошо, не покидали бы ее турки и не мыкались бы по свету в поисках лучшего». Просто им понравилось тут, захотелось остаться на границе, бездельничать, пася стада, да время от времени устраивать налеты на Васоевину и грабить села от Комова до Колашина. Они приводили зобастых мужиков из Нижнего Рабана, чтобы те обрабатывали им землю, а сами с оружием спускались к берегам Лима обращать в турецкую веру райю. Никогда им не приходило в голову, что за это придется расплачиваться, и вот пришло время платить; не сразу, а по частям: во время войн — кровью, между войнами — и по́том и кровью, а виноватые во всем деды и прадеды, которые их здесь оставили, лежат себе мирно по кладбищам, и наплевать им на потомство…
II
Сидя на Повии на поваленном стволе дерева, Ариф Блачанац размышлял об этом самом прошлом. Разукрашенное небылицами, покрытое глянцем времени и необратимости, оно казалось почти прекрасным — особенно если его сравнивать с тем, что пришло позже. Сразу после первой мировой войны у мусульман появились даже свои разбойничьи атаманы — харамбаши Вейсил Джюкич и Смай Андрович, чтоб хоть мстить за то, что не могут отстоять. В горах у Шаховича Юсуф Мехонич разбил отряды Косты Печанаца, и это питало их надежды даже тогда, когда жандармы хватали подряд всех взрослых мужчин и посреди села до смерти их избивали. Старики потом лечили их, обертывая в свежесодранные бараньи шкуры. Некоторым на время становилось лучше, и они начинали забывать про расправу, но боль скоро возвращалась на те же места, и, таким образом, стало ясно, что увечья, полученные ими, долговечнее их самих и вылечит их лишь кладбищенская глина, которая вырастет над головой. Ариф, тогда еще мальчик, получил несколько ударов плетью, а кроме того, жандармы частенько таскали его за волосы и за уши. В ту пору он думал, что таскают его за уши для того, чтобы он поскорее рос и чтобы, когда вырастет, забить до смерти, и потому он молил невидимого в небе аллаха сделать так, чтоб ему никогда не вырасти. Наконец нашлись грамотные люди: беги, муллы и торговцы, они написали жалобу в Лигу наций в Женеву, и только тогда прекратилось открытое избиение. Несправедливость же царила по-прежнему. Парни и подростки из Грабежа — те самые, кто сейчас отпустил бороду и взялся за винтовку, — встречали их на дороге в город, разбивали лукошки с яйцами, отнимали и уничтожали все, что те несли на продажу…
Ожесточенный прошлым, так упорно возникавшим в памяти, и страшным роковым будущим, коварно выползающим из тьмы, Ариф подумал: «Все равно нельзя было позволять итальянцам и албанцам заманить нас в ловушку. Итальянцам хорошо, их много. И албанцам просто — они проворней, когда удирают, чем когда наступают. Мы не можем убегать так быстро и так далеко, как они, — не позволяют женщины, дети, родные пепелища, земля. Легко и быстро мы умеем только поддаваться на обман. Едва дождались, чтобы пришли немцы и эти зеленые ящерицы из Италии. Раз они были против сербов, мы и решили, будто они в каком-то смысле наши единоверцы. Позволили нам носить оружие и самим избирать капабанду. И нам тут же почудилось, что из могилы встала старая Турция. Напрасно твердил нам Элмаз Шаман, что из могилы не встают, никто не хотел его слушать, все поднялись, чтобы использовать эти наши пять минут… Впрочем, будь мы поумней и послушай мы старого Элмаза, все равно бы нам досталось. Албанцы собрались в стаи — война для них что декабрь для волков, кричали с горы на гору — сзывали друг друга, пришли из Печи, Джяковицы и Призрена, чтобы навалиться на Черногорию и подавить восстание, поднятое наперекор всем. Они пошли бы и без нас, жгли бы так же, как и жгли, а мы остались бы расплачиваться, как и теперь…»
Прошлым летом, идя с патрулем по лесу между Джердаром и Гркиней, Ариф Блачанац захватил двух четнических нарочных из Новой Вароши. Шли они издалека, и осталось-то им всего час ходу. При попытке к бегству их убили. У одного из них было найдено письмо и четнический план одновременного нападения на Верхний и Нижний Рабан: воеводы Юзбашич, Корда и Яворский с трех сторон внезапным налетом должны были «в три дня очистить от нехристей древнюю колыбель сербов, покрытую слезами Косова»[38]. Все, что принадлежит туркам, сжечь, за все причиненное ими зло отомстить, мечети сровнять с землей и все живое, что попадется под руки, пустить под нож! Оставшиеся с древних времен православные церкви обновить и украсить, раздобыть и повесить колокола и прославить колокольным звоном ближайшее рождество…
Нарочных бросили в одну яму, навалив друг на друга, засыпали землей и покрыли сухими листьями, чтобы не было заметно. Письмо показали только капабандам и влиятельным людям, чтобы не создавать паники. Узнав, какая им готовится баня, многие все же перепугались, особенно торговцы, и тотчас принялись переправлять деньги и семьи в Печ, Скадар и дальше. Другие, во главе с Хасаном Звиздичем из Сеницы, принялись посылать во все стороны гонцов и просить помощи у всех и каждого: у сараевских усташей, у албанских бегов в Косове, у немцев, итальянцев, просили даже у Недича[39] в Белграде. Наобещали три короба, и никто ничего не сделал. Тогда собрали делегацию, многочисленную и разношерстную: были тут Звиздич и мулла Растодер, глупый Ариф Блачанац и мудрый Элмаз Шаман, фески, чалмы, чулафы, шляпы и среди них немецкая фуражка Чазима Чоровича, точно пест между ложками. Верховодил Ахилл Пари, он привез их на итальянских грузовиках в Цетинье и представил губернатору Бироли;[40] тот пожимал им руки, фотографировался с ними, потом они видели эти фотографии в газетах. Встретились они и с воеводой Юзбашичем, долго с ним договаривались, во всем пришли к единомыслию и подписали соглашение: друг друга не трогать. Губернатор скрепил договор своей печатью.
Приближалось рождество. Казалось, оно пройдет тихо и мирно, без резни и колокольного звона. Юзбашич готовился к походу в Боснию, как сейчас — в долину Караталих, разделываться с партизанами. И вдруг, накануне рождества, на рассвете напал на Нижний Рабан — он с одной стороны, а Раде Корда — с другой. На заре заполыхали Бистрица, Шиповицы, Корита, чуть позже задымили Стубо, Медиша и Сипанье. А прежде чем над ними унялся пожар, загорелась Негобратина, потом Црнча, потом Костичи и Иванье. И так подряд и в разбивку — тридцать сел. Спаслись лишь те жители, кто убежал далеко. Ужасно пострадали женщины, их мучали, позорили, резали и бросали в огонь. Детей не осталось совсем: их связывали за руки и ставили вокруг стога сена или дома, которые потом поджигали. Покуда дети кричали и корчились, охваченные пламенем, покуда на них горела одежда и волосы, четники им говорили, что вызволят их из огня, если они споют им песенку:
Вместо бадняка[41] Горит турка голова…С этой песенкой четники двинулись после полудня на Зуквицу, собираясь сровнять с землей Верхний Рабан.
Приди они немного раньше, им удалось бы и это. Защищать Верхний Рабан было некому. Не было ни Звиздича, ни итальянца Ахилла, никакой другой помощи. Все, кто мог, разбежались. Мулла Растодер и Таир Дусич ушли защищать свои села, Чазим Чорович убежал спасать свою фуражку. Остались лишь старый Элмаз Шаман со своими и Ариф Блачанац с джердарцами. Перед самой стычкой к ним нежданно-негаданно подоспела подмога в лице некоего Бахтиара из-под Тутина, бывшего унтер-офицера, маленького и на вид сумасшедшего человека, который рыскал со своим отрядом и сжигал уединенные сербские села. Объединив силы, они встретили врага огнем — скосили пять десятков атакующих, а остальные отступили.
«Пятьдесят человек, — сказал про себя Ариф, — за тридцать сел — разве это месть? Сущие пустяки! А четникам она кажется страшной. Они почему-то вообразили, что только им дано право вести облавы, резать и жечь. Другим ничего нельзя, нельзя защищаться, нельзя плакать, нельзя любить своих близких, нельзя даже собирать их обгоревшие кости у сожженных стогов. И беспрестанно удивляются: как так, почему, как смели мусульмане сопротивляться? Узколобые себялюбцы, они думают только о собственной выгоде, а ко всему прочему слепы и глухи. Они не стыдятся обмана — им не стыдно лгать, не стыдно быть пойманными на лжи или на краже, и все равно удивляются, или, по крайней мере, делают вид, что удивляются, когда после всего этого им не верят. Они глухи к мольбам, греха не боятся, о душе не радеют, милость им неведома, топчут и режут, точно звери, и идут напролом, как машины. И нет от них спасения, пока их не убьешь! Шести недель еще не прошло с рождественского сочельника, когда пахло жареным детским мясом, а они думают, что все уже забыто, и готовят отмщение за Зуквицу, вместо того чтобы идти в Боснию на партизан. Идти им туда не хочется, вот они и придумали, что партизаны здесь. Сами порвали телефонные провода вдоль дороги, заминировали несколько мостиков и сделали с десяток выстрелов, чтобы напугать ящериц. Подкупили итальянца Ахилла, могут подкупить и коменданта — их медом не корми, дай только обмануть, это у них любимое занятие — лишь бы добраться до Рогоджи и Рачвы, лишь бы им туда дорогу открыли».
«Путь им и так откроют, — подумал он. — Кто им что сделает? Нет безумного Бахтиара, как на Зуквице, человека, который умел драться, — далеко он, бог знает куда забрел, и, наверно, никого, кроме меня и моих родичей, тут нет. Предали меня, разбежались, кинулись по домам, всяк свое спасает. И не удивительно — холодно, страшно, словно разом объединились все невзгоды, как вот сейчас объединились снег, дождь, туман и ветер и закрутили такую черную метель, что не видишь перед носом собственного пальца. Вот жду рассвета, а кто знает, что он мне принесет? Может, это последняя заря и для меня, и для моих детей, и для всего несчастного братства Блачанацев, которых я привел сюда молодыми и напрасно обрек на муки, холод, смертную тоску и страх…
По древним преданиям, Блачанацы жили прежде где-то у Скадарского озера, на Бояне. И прозывались они по-другому, однако умышленно предали забвению и скрыли от потомства свое имя, славу справляли на святого Николу, пока из-за земли не поссорились с монахами. Чем-то им монахи напакостили, какое-то проклятье на них наложили, а потом поссорили с сильным братством. Ссора началась из-за девушки и кончилась убийствами. Чтобы уйти от кровавой мести, они бежали к Подгорице, но и там их отыскало длинноствольное ружье сильного братства. Тогда они перешли в долину Караталих, к подножью Орвана, но оттуда их прогнало наводнение. Наконец Блачанацы пустили корни в Джердаре, и снова их настигают беды. Проклятье все еще действует, — подумал Ариф, — все еще живо. Оно точно могущественный злой дух, который не умирает, ничего не забывает и не перестает идти по нашим стопам. Лишь изредка собьется с пути и замешкается, но тут же находит нас в другом месте, собирает все силы и разом наваливается, чтобы истребить самое наше семя».
«Сейчас настал удобный момент, — подумал Ариф, — бежать нам больше некуда. Наш удел меня не удивляет: на нас висит долг, мы бежали, нашу кровь сразу узнают, издалека чуют. Но ведь другие ни в чем не повинны. Зобатые бедняки из Нижнего Рабана никому ничего не должны, а им досталось больше всего. И Шаманы ничего никому не должны, собирали себе лекарственные травы, сушили их на солнце, смешивали и лечили людей от укусов змеи, от накожных болезней и сифилиса. Лечили и сербов и мусульман в равной мере, роднились с Поповичами из Ластоваца и Старчева, мирили поссорившихся, чтобы избежать кровавой мести. Хоть бы их пощадил злой дух. Нет, не хочет. Может быть, ненавидит их из-за нас, за то, что они женились на наших женщинах, и, значит, на них перешла часть проклятья — и вот сейчас вместе с сухим деревом горит и сырое, с Блачанацами горят и Шаманы, и все прочие».
III
В это время на Седлараце, на лесистой гряде в центре Рогоджи, среди своего братства сидел на теплой бараньей шкуре старый Элмаз Шаман. На нем кожух, в руке палка, которой он ковыряет снег. Он смотрел, как плывут пасмы тумана, как они собираются в долине Караталих, и ему вдруг захотелось, чтобы туман превратился в воду и вода заполнила долину. «Может быть, это помогло бы нам дождаться весны, — подумал он, — а в зеленом лесу легче было бы дотянуть до осени. А к осени, может, все переменится к лучшему: кончится война, прекратятся облавы и разум вернется в головы людей. Да нет, не дадут. Не даст великий Дженабет[42], старейшина дженабетов, что ползают по земле, и драконов, водных и огненных, что вьют гнезда в облаках. Тесно стало великому Дженабету, заковали его люди и бросили в пещеру, где он томился узником, пока не перегрыз цепи, вот он сейчас и мстит. А чтоб месть была слаще, напустил на людей безумье, натравил друг на друга, и не могут они насытиться кровью; затуманил им глаза, и не видят они, откуда идет зло; разделил их, рассорил, и режут они друг друга, и никогда уж его не закуют…»
Не желая больше думать о грядущем, которое надвигается, точно стена тьмы, сокрушая все на своем пути, он погрузился мыслями в прошлое, чтобы хоть немного отвлечься, раз уж все кругом так безотрадно.
И снова прежде всего вспомнился Джафер Шаман, прозванный Дервишем. Никто ни до, ни после не пользовался таким влиянием и весом, как он. До него поднимались, после него начали спускаться — он был вершиной.
И как всегда, думая о нем, Элмаз Шаман почувствовал к Джаферу тайную зависть и даже какую-то потребность посмотреть на эту вершину сверху: заслуги его не так уж велики и нетленны, а слава, которую он обрел, не совсем оправданна. «Что, собственно, он сделал такого, — спрашивал себя старик, бог знает в который раз, — чего не мог бы сделать я, и, может быть, даже лучше? Ходил по святым местам, но в то время это было нетрудно: ни тебе паспортов, ни тебе границ, ни тебе жандармов, которые требуют паспорта и сажают в тюрьму тех, у кого их нет. Говорят, мудрствовал Дервиш Шаман, но ведь только от нечего делать, чтобы убить время, и это не каралось и не вызывало насмешек, как нынче. В то время люди уважали умных, а не болванов в немецкой фуражке, вроде Чазима Чоровича, этой паршивой овцы в стаде. А что еще сделал Дервиш Шаман? Ничего. Бродил по белу свету, по лесам да долам, и перебирал четки. Но время и поднимает и низвергает; его подняло, меня низвергает».
У Дервишева утеса, который получил его имя, Джафер Шаман пророчествовал: «Однажды нахлынут сюда сербы, и тут между ними начнется свара, — и много их крови прольется, да и нашей немало…» Элмаз Шаман усмехнулся: «Подумаешь! Найдется ли такое место, куда бы пришли сербы и где бы они не перегрызлись и не выцарапали друг другу глаза? Они не были бы сербы, если бы не грызлись; может, их и прозвали так потому, что у них вечно свербит язык, и в руках свербеж, и во всем теле, и нет им покоя, пока они не почешут друг о друга рога. На кладбище дерутся, на свадьбе дерутся, и сваты, встретившись в горах, убивают друг друга до последнего, и на славе дерутся. Всюду они находят повод расколоться на две веры или на две партии и схватиться за лохмы. И на Утесе рассорятся, почему бы нет, как всюду, но до него они пока не добрались; когда же доберутся, нас не будет на свете, нечему уже будет пролиться.
Одного лишь нельзя отнять у Дервиша Шамана: он дал имя и предсказал судьбу долины Караталих. Но и здесь нет никакого чуда, — заметил про себя Элмаз Шаман. — Просто, когда он искал травы и удобное место для могилы, где-то возле Дервишева ночевья он случайно увидел, что скала в трех местах дала трещину, точно бочка с лопнувшими обручами. Отсюда нетрудно было догадаться, какая судьба ждет село под горой. Он предсказал наводнение, оно и произошло! Но наводнения случаются постоянно, то здесь, то там. У Каябега потом были свои причины повторить это пророчество, широко разгласить его и придать ему более глубокий смысл: он понимал, что подневольные крестьяне-сербы ни за что не успокоятся, и нашел способ вывернуться, продав без убытка для себя Караталих гусиньцам. Его сын, Омербег, не согласился.
— Здесь я родился, — говорил он, — здесь вырос, здесь мой талих[43].
— Не талих, сынок, — поправил его отец, — а Караталих — черная судьба, обманное счастье. Как окрестил мудрый Дервиш Шаман эту долину, такой она и останется!..
И когда посланцы прибыли в Пазар, чтобы сообщить старику, что Омербег погиб от пуль гайдуков Одовича и Бекича, он не дал им и рта открыть:
— Знаю, знаю, какую мне весть несете, — сказал он, — знал это и Дервиш Шаман в свое время, та долина — долина черной судьбы. Говорил я об этом Омербегу, но без пользы. Таков человек: пока жив — не слушает; когда мертв — не слышит.
И не проронил старый Каябег ни слезинки — давно, наперед оплакал сына».
«Несчастливая долина, — согласился Элмаз Шаман и спросил самого себя, словно спрашивал своего невидимого предшественника: — А разве другие счастливее? Нисколько. Все одинаковы! Неплодородная земля, значит — голод; плодородная — грабежи и кровь. Долина хороша, когда на нее смотришь сверху, с горы, — это она таким способом завлекает и заманивает; а как только спустишься в долину — она замкнется вокруг тебя, сдавит и защелкнет, точно капкан. Защемит, и больше уж нет полета, мечты, нет выбора, здесь твое начало и конец, и твой талих, и твой игбал[44], и твое счастье: земля земли. Жить в тесноте суждено не только горцам и сербам — они просто острее ее ощущают и первыми начинают копошиться, но и всем людям: скученность всегда пробуждает желание жить просторнее и подальше от других. Поэтому селения у нас разбросаны далеко друг от друга, а ссоры между братьями и близкими обычное дело. Мы схватываемся из-за воды, пастбищ, женщин, скотины и просто так — ибо каждый из нас в душе верит, что именно ему суждено владеть землей и прожить на ней по меньшей мере тысячу лет, стоит только уничтожить и выселить прочих. Потому мы воюем и в мирное время: взглядами и бранными словами, кулаками и песенками, союзами, которые заключаем и которые обязательно нарушаем. Бахвалятся друг перед дружкой, вливает в них дьявол отраву, изводят себя и до изнеможения рожают детей, чтобы они продолжали то же самое. Так заполнили мы все долины черной судьбой и шумом битв».
«Нет покоя, — думал он, — а война лишь нормальное состояние, подлинная голая правда. Стоит капельку поразмыслить, и прямо бросается в глаза, что все эти войны — сербские, турецкие, немецкие, мировые — рождены теснотой и желанием жить просторней, раз уж нельзя жить дольше. И эта маленькая война, которая вот-вот начнется, — голод по земле, по долинам и пустошам. Подобно хищникам, жаждущим мяса, люди жаждут земли, такой же, но мягче, жирней, плодороднее, чем была у них раньше, земли, на которой можно шириться и размножаться. Дело вовсе не в вере — уничтожают они и своих единоверцев, единокровных братьев. Тут же они придрались к случаю — делают вид, будто убивают нас не за землю, а за веру. Мы убежали бы от всего этого, оставили бы им и землю и скотину, бог с ними со всеми, только бы ноги унести, да поздно спохватились. Упустили время, да и некуда бежать. Пробил роковой час — пропали мы! Вот что надо было тебе предвидеть, Джафер Шаман, да сказать, где искать спасение, а не пророчествовать о сербских распрях и прочих глупостях!.. Впрочем, если бы ты даже все точно угадал и предсказал, не уверен, что тебя бы кто-нибудь послушал. И я, наверно, тоже. Таковы люди: слушают и запоминают лишь то, что им по душе, а все прочее — либо пропускают мимо ушей, либо забывают…»
В небе брезжит рассвет, гаснут звезды. Долина под Рогоджей как-то особенно притаилась, и по одному этому чувствуется, что готовится какое-то вероломство. Не слышно больше собачьего лая, лишь колышется пелена тумана, словно под ним ворочается огромное водяное чудовище. Во мгле, где-то на дне долины, около Дервишева ночевья, прозвучало два выстрела — им ответило десять, двадцать винтовок, затрещали пулеметы, ухнули гранаты. «Хитро придумали, — подумал Элмаз Шаман, — разделились на два отряда и пуляют через головы друг друга, как на маневрах, — точно и в самом деле воюют. Досадно, что они все еще принимают нас за детей и рассчитывают после всего, что было, нас обмануть…»
Быстро оборвавшийся, будто отрезанный ножом крик, долетел до его ушей. Старик вздрогнул: он почувствовал, как боль и страх рвутся из этого крика, даже сейчас, когда его нет. «Это уже не игра, — подумал он, — кого-то ранило. Может, случайно, ненароком, или по неосмотрительности — где винтовка, там и шайтан, а он не может не напакостить. Что бы там ни было, но ранило наверняка — знаю я, что такое боль, знаю ее голос».
Перестрелка утихла, со всех сторон слеталось воронье.
— Вот они поднимаются на Орван, — сказал Ибро, внук Элмаза. — Видишь?
— Вижу, что-то чернеет. Много их?
— Нет. Шесть, семь. Вон еще два, больше нет. Наверно, коммунисты, раз их так мало. Несчастные! Куда они против такой силы пошли?
— Ты себя лучше береги и жалей! Нет здесь коммунистов, это придумано для отвода глаз.
— А почему они идут на Орван, а не к нам, если это не коммунисты?
— Чтобы забраться повыше и посмотреть, где мы. Пусть никто не высовывается из кустов.
Взошло солнце, красное и круглое, — никто его и не заметил, все смотрели в долину. Бой утихал, слышались только редкие, беспорядочные выстрелы. Из тумана, точно из гроба, поднялся хриплый крик и замер в вороньем карканье. Шлепнул одиночный выстрел, точно по влажной гнили почерневшего мяса. Ариф Блачанац на Повии подумал: «Добили раненого!» Он ничего не сказал другим, не следовало их преждевременно радовать, но про себя решил: «Верно, итальянец Ахилл в письме не лгал. Если это так, то облава в самом деле на коммунистов, и тогда еще можно не терять надежды. Коммунисты — крепкие ребята, пока их одолеют, сами вымотаются и нас оставят до следующего раза. А до того времени, смотришь, найдется какой-нибудь выход…»
В тишине с Софры прозвучал зов — два голоса, один хриплый и глухой, другой ясный и пронзительный, окликали кого-то по имени. Чазим Чорович, храпевший до сих пор на поваленном стволе дерева, вздрогнул, поднял тяжелую с похмелья голову и поправил на ней свою фуражку. Руки у него замерзли. То, что он увидел, ему не понравилось. Удивившись солнцу, снегу и вольному простору, он подумал: откуда все это? И с трудом вспомнил, как здесь очутился.
— Что-то кричат, — сказал он. — Зовут на переговоры.
— Почему бы им нас звать, если они даже не знают, что мы здесь?
— Кричат Сейдо, такого имени у них нет. Нужно совместно действовать, присоединиться к облаве и знать, где кто находится. Я сейчас отзовусь. — И хотел было уже крикнуть.
— Ничего не понимаешь, так уж лучше молчи!
— Это ты мне? Как ты смеешь!
— Да, да, тебе! Они кричат не Сейдо, а Сенё или Селё. Это кто-нибудь из ихних, либо условный сигнал для дозорных. А если ты хочешь быть с ними заодно, ступай к ним и там отзывайся за милую душу, но не здесь! Я не хочу, чтобы ты открывал наши позиции, не хочу терять людей. Не верю я им нисколечко и не желаю иметь с ними ничего общего — не надо мне ни облавы, ни содружества. И тебе я тоже не верю! Если придется туго, ты со своей фуражкой в кусты, как это было в Зуквице, а я защищаю семью, детей защищаю! Чтобы не остались от детей одни косточки в пепле, мелкие, желтые, обгоревшие, как ягнячьи.
Уставились друг на друга, впились глазами, не могут оторвать взгляда. Скрипят зубами, губы и щеки дергаются — молча осыпают друг друга отборной бранью, состязаясь в силе ненависти. Кажется им, будто они начали враждовать задолго до того, как встретились и познакомились: исконная, унаследованная от многих поколений предков ненависть поставила их друг против друга и сделала так, чтобы всем с первого взгляда их разность была видна, поэтому один огромный русый, вялый и неповоротливый, другой — маленький, смуглый и юркий. Чазим смотрит на свой сжатый кулак и думает: «Хвачу-ка я его этой кувалдой и вобью в землю по шею!» Ариф непроизвольно поднимает штык итальянского карабина: «Была не была, вспорю брюхо этому пьяному медведю!»
IV
В это время Васо Остоич, по прозванию Качак, с товарищами из землянки на Поман-воде остановились пятьюстами метрами ниже, чтобы перевести дух. Идут они к Софре — надо идти быстро, а быстро не получается. В задержке виноват Байо Баничич: вместо того чтобы намочить новые опанки из яловой кожи, как это сделали другие, он положил их на поленницу, опанки заскорузли, и он едва натянул их на ноги, а теперь они скользят, и он то и дело падает. Ему помогают, подхватывают, когда он падает, поднимают, и все устали до смерти от этой нервотрепки, а больше всех сам Байо. Качак лопается от злости и рычит про себя: «Диво дивное — что за человек, боится воды, сырости, всего, что мокро, — видно, болезнь какая-то! Словно родился на чердаке и рос на чердаках и вообще жил в стране, где никогда дождей не бывает. Воображает, что сахарный, боится растаять, если росинка на него упадет. Нечего было тогда идти в партию, и, во всяком случае, не сюда — у нас нет ни чердаков, ни подходящих сушилок. Куда только не забросила людей эта сволочная война и смута, и кого только с кем не спарила! То и дело задерживаемся. Таким черепашьим шагом никогда не дойдем…»
Призывы с Софры отвлекли его от этих мыслей.
— Это они, — сказал Байо. — Четники. Зовут Сенё, а у нас нет никакого Сенё.
— Никакого не Сенё, а Селё, — возразил Момо Магич, чтобы хоть как-нибудь отомстить ему за то, что он падает.
Качак вздрогнул и остановился:
— Ты уверен, что зовут Селё?
— Есть уши? — сказал Момо, срывая зло и на нем. — Включи и слушай!
— Зовут Селё, — подтвердил Видо Паромщик. — Вот и сейчас. Насмехаются над каким-то селянином.
— Я и есть Селё, — усмехнувшись, промолвил Качак. — Наверху наши, а не четники. Пробился Видрич, жив он. Пошли скорее, пока их не отогнали!
Воодушевленный надеждой, Байо Баничич прошел шагов десять один, без посторонней помощи, не упав и даже не поскользнувшись. Товарищи, у которых и без того было немало забот, не прочь были избавиться хотя бы от одной и потому тотчас скинули его со счета, решив, что наконец-то опанки у него отсырели и он сможет идти самостоятельно. И больше уж не оглядывались на него, словно боялись сглазить или обидеть, и скоро о нем позабыли. Выйдя на поляну, они, вместо того чтобы ее обойти, как того требовали строгие правила предосторожности Байо Баничича, в спешке двинулись напрямик по открытому месту. В лесу над ними двигалась часть рассеянного отряда Филиппа Бекича; жандарм Петар Ашич собрал их у села и снова повел в бой. Захваченный одной лишь мыслью собрать как можно больше беглецов, он больше не удивлялся тому, что на каждой полянке натыкался на уклонившуюся в сторону группу, и теперь ни на секунду не усомнился, что это очередная компания родичей и соседей, которые пытаются словчить и дождаться окончания стычки, чтобы потом появиться живыми и здоровыми, да еще расхваливать друг друга. И он окликнул их, как окликал и других:
— Кто внизу?
— Третий взвод, — ни минуты не колеблясь, рявкнул Гавро Бекич.
— Телячий, а не третий. Что, сберегли свои задницы?
— И вы про свои не забыли. Всяк свою бережет, как умеет.
— Погоди, мы еще потом поговорим об этом. Есть ли еще там кто?
— Есть двое-трое, отстали, вот жду их.
— Поскорей собирай всех, и пошли! Просто позор, со стыда можно сгореть!
— Пусть сгорают французы! — И Гавро замахал рукой, словно звал кого-то сверху.
Выражение «пусть сгорают со стыда французы» было последней крылатой фразой четников, которой они защищались от обвинений коммунистов в нейтралитете: почему четникам должно быть стыдно за то, что они тихо-мирно сидят под оккупантами и сотрудничают с сильными — ведь с ними сотрудничают и французы, и бельгийцы, и голландцы; вся Европа кланяется и прислуживает и ни чуточки этого не стыдится…
Гавро Бекич услышал это выражение за два дня до того, как выпал снег, и сейчас оно ему пришлось кстати, чтобы, как это любят крестьяне, вывернуть на свой лад господские выдумки и увертки. Подождав, пока Ашич повернулся к ним спиной, они свернули в сторону, оставили поляну и быстро зашагали прямо к Рогодже, отказавшись от Софры и Видрича на ней: хорошо им наверху, да с двумя пулеметами, да когда там Слобо, Шако, Зачанин, Вуле Маркетич…
А каково ему с двумя инвалидами на шее: Качак без пальцев на ногах и совсем обезноженный Байо. А он должен во что бы то ни стало рассчитаться со своим родственничком, Филиппом Бекичем, и никакая сила не может заставить его от этого отказаться…
— Куда ты идешь? — спросил его Качак.
— Не спрашивай, знай себе шагай! Наверняка меня кто-нибудь узнал, надо уходить как можно скорей.
— Неужто на Рогоджу?
— А куда еще? Видишь же, что к Софре не пройти!
— А как с чулафами?
— Легче легкого, они не такие ядовитые, как наши змеи.
Про себя Гавро надеялся, что мусульман удастся обойти. Их дозоры, что расставлены на Рогодже скорее для наблюдения, чем для защиты, едва услыхав стрельбу, вероятно, тотчас отступили на Рачву или в села по ту сторону горы. А если каким-то чудом и остались, то, видно, попрятались со страху, и он обязательно отыщет какую-нибудь лазейку — в этом ему всегда везло. В худшем случае, если наткнутся прямо на них, у него там есть закадычный друг Таир Дусич, капабанда из Опуча. Таир пропустил бы его и через собственный дом, пропустит его с товарищами и через глухие горы. А если не окажется Дусича или другого какого знакомого, то и прочие мусульмане сейчас изменились, это уже не бессловесная скотина, какими они были во время восстания; проснулись или, по крайней мере, начинают просыпаться, рождественская резня научила их различать людей и партии, впрочем, и до резни, еще осенью на сходках, они постановили не чинить препятствий коммунистам. Тупоголовых, вроде Чазима Чоровича, осталось мало, и такие, как он, неохотно лезут на Рогоджу, чтобы стоять в снегу на страже и подвергать себя опасности, — маловероятно, что налетишь именно на них.
— Вот и не получается «легче легкого», — сказал Качак, запыхавшись, — видишь, совсем нелегко!
— А разве будет легче, если сказать: «тяжелей тяжелого»?
— Я не о том, мы должны быть готовы к самому худшему.
— Винтовки заряжены, патронов хватает, чего тут еще готовить?
— Раз мы улизнули с той полянки, — сказал Момо, — дальше пойдет легче.
Им не приходит в голову идти след в след — нет времени, да и сейчас это уже ни к чему. Идут то друг за другом, то рядом, временами кто-то вырывается вперед — главное, подальше уйти и поскорее добраться туда, где можно проскочить. Назад не оглядываются, чтобы не вносить лишней тревоги и не обнаруживать собственного страха. Таким образом, никто не заметил, как отстал Байо.
Да он и сам не заметил, все произошло быстро и непонятно, в одно мгновение. Ему показалось, будто кто-то подстерег его, спрятавшись за дерево, схватил за ногу и потащил в пропасть. Байо попытался вырваться, ударить противника ногой, опереться на винтовку, но все было тщетно. Ноги разъехались в стороны, словно убегая одна от другой, и острая боль пронзила его от сердца до горла. На несколько мгновений он почти потерял сознание, как рыба, хватал воздух, потом сквозь холодную мокрую сеть, наброшенную ему на голову, стал различать ветки, тени деревьев и свет. Того, кто опутал его этой сетью, не видно, но Байо чувствует, как он насмехается над ним и его едва слышный шепот летит от дерева к дереву.
Снег попал ему за ворот и начал таять — под спиной образовалась целая лужа; снег попал и в рукавицу и в рукав, у локтя тоже стало мокро, влага холодила, ползла все дальше, пробирала насквозь. Байо посмотрел на валявшуюся в снегу шапку, и она напомнила ему скорбную шапку убитого; посмотрел на винтовку, которая, точно старая никчемная деревяшка, высовывалась из-под снега, а чуть подальше увидел шарф — последнее воспоминание о проведенных в Белграде днях, — зацепившись за ветку, он болтался на ветру, призывая преследователей. Все точно сговорилось против него, все его покидает, предает и стращает. Похоже, и эти неодушевленные предметы каются, что верно ему служили, отворачиваются от него и один за другим перебегают на сторону врагов. И ему пришла в голову мысль, что предметы эти откуда-то пронюхали, что ему уготовано, и на им лишь известном языке сообщили друг другу, что его ждет, и потому так стараются уйти от него подальше.
Байо попытался было встать и с ужасом понял, что не может. Внутри что-то разъехалось, соскочила какая-то кость в пояснице, стала боком, подкосила его красными молниями боли и бросила на живот. Собрав все силы, он сделал вторичную попытку.
Он не почувствовал, как падает. Ему показалось, будто лицо его погрузилось в прохладу росистой травы, только нельзя поднять голову — над затылком свистят пули. Огромная праща на колесах катит и выблевывает ядро за ядром в далекую черную стену. Вот она пробита в одном месте, пробита в другом, в третьем, но слишком рано заключили, что с ней покончено, рано принялись пировать и веселиться, возгордились, зазнались и мигом разбазарили и боеприпасы и радость. Черная стена сама по себе заделала пробоины, выросла и снова стала надвигаться. Бьют по ней без конца, сдерживают ее и вдруг видят, что больше нечем стрелять. Нету, кричат они, а стена, точно эхо, отвечает: нету, нету, откуда чему быть! Нет Европы, нет свободы, нет коммунизма, только сон… Стена приблизилась, черная, громадная, и вот уже запела насмешливыми итальянскими голосами:
Нету коки, нету яйки, Нету грапа, нету аквы, Нету оджи, нет домани, Нонче ньенте, нонче майи…Перековали орала на мечи; перетопили свинцовые кровли Билярды[45] на пули, перетопили и типографский шрифт, чтобы было чем защищаться. Но не стало и этого. Принялись за людей: заряжали ими пушки и выстреливали одного за другим в надвигавшуюся со всех сторон стену. Выстрелили Стево Очкариком, потом пошли партизаны Ловченского отряда, Дурмиторского, Комского и всех прочих. Пришел черед Байо, а кто-то сказал:
— Не может он, кишка тонка. Ему не с винтовкой воевать, а с книгой, о развитии черногорской нищеты писать да в личных делах коммунистов отмечать тех, кто без нужды рискует собой, подвергает себя опасности, когда нужно и не нужно, кто переходит открытые поляны либо женится на чужих женах и кто на все всегда отвечает: «Это нам легче легкого». Нельзя его посылать к этим «легче легкого», не вернется он оттуда.
Кто-то другой ему возразил:
— Некого больше посылать, не можем мы больше выбирать и кого-то беречь. И не вижу я причины, почему его надо беречь. Дед его торговал с Мальтой и Марселем, барышничал волами, продавал сумах, далматский блохомор и нажил на нашей нищете целое богатство. Пусть сейчас Байо расплачивается, раз не пожелал офранцузиться.
Сунули его в пушку и выстрелили прямо в ту стену. На стене никаких следов: ни дыры, ни царапины, а он лежит под стеной, расплющенный в лепешку. Лежит долго, без конца, холодно, мокро, словно в луже лежит. И не видно тому конца-края!
Он открыл глаза, нащупал целлофановый мешочек, — книга личных дел на месте и даже не намокла. «Надо бы ее сжечь, — подумал он, — чтобы не взяли, когда меня обнаружат. Впрочем, еще рано — можно не торопиться. Было бы рано, если бы я не боялся, что потом будет поздно. Подожду еще немного, счастье переменчиво, может, еще и мне улыбнется. Вот, стреляют! Это на той поляне, Вуле Маркетич и Слобо кричат — с Софры пришли меня искать. Дурак Видрич, что их отпустил, надо будет призвать его к ответственности за это, могли бы хоть они уйти… Тот, что кричит «вперед», жандарм, узнаю его по голосу. Где-то я слышал этот голос, не помню где. Вот опять: «Вперед, вперед!» — тот самый, что кричал сверху, над поляной, возводит стену и движется на нас, хочет раздавить. Ради меня жертвовали, а я этого не заслуживаю. Погибнут такие люди, а я тут лежу, как калека, как последний осел! О Байо, неужто ты не способен умереть в бою?..»
Он дополз до винтовки, крепко обнял ее, как обнял бы в ту минуту и змею, и, превозмогая боль, в гневе и отчаянии покатился вниз по обрыву. Перевернувшись несколько раз, он вдруг почувствовал, что боль утихла. Внутри все само собой встало на место — он оперся на колено и встал. Весь в снегу, мокрый, грязный, избитый, но здоровый. Может идти и не спотыкается — какое-то мгновенье ему казалось, что это он во сне видит себя здоровяком, жилистым, выносливым, каким был только в мечтах. Он поднял шапку, надел шарф, добрался до места, где поскользнулся, и повернул в низину. Крики и выстрелы у Поман-воды все еще продолжались. Словно духи воюют: кругом стрельба, а никого не видно. Он поднял винтовку и хотел выстрелить, но не решился, не имея понятия, в какую сторону стрелять, да и побоялся принести больше вреда, чем пользы. Вздрагивая и озираясь по сторонам, он сознавал, что не подготовился как следует к этому последнему экзамену. В десяти метрах под ним появился человек с обвислыми усами, он отделился от дерева и перебежал к другому — Байо выстрелил, промахнулся и увидел, как тот убегает и как за ним бежит другой. Байо взял на мушку его ногу. Некогда целиться, да он и не видит ничего другого, держит мушку на ноге, как единственную связь с миром, наконец он выстрелил, тот споткнулся и упал, точно сброшенная с плеча сермяга. Казалось, что он так и останется лежать, но пока Байо выбрасывал гильзу, раненый исчез, будто его никогда и не было.
— Вуле, — крикнул Байо и почувствовал, как слабо и неуместно звучит его голос.
— Слобо, — крикнул он снова глухо, точно во сне.
Байо хотелось назвать себя, но он удержался. «Все равно не услышат, — подумал он, — да и не поверят, если даже услышат». Ему показалось, что бой удаляется, как нарочно, удаляется от него, выстрелы становятся все реже. Сквозь редкую стрельбу он слышит, как жандарм, сейчас уже ниже поляны, жалким и обиженным голосом бранится:
— Сволочи, курвы, все вы тайные партизаны… Бросили меня раненого, мать вашу перемать…
И вдруг все смолкло. Нет людей, словно их и не было, остались лишь следы на снегу, впрочем, их тоже не так уж много. Внезапно появилась стая ворон и уселась, точно упала на верхушки деревьев; другая с карканьем кинулась туда же и прогнала первую. Потом, покружив, они вместе взметнулись в небо и, дружно загалдев о чем-то, успокоились. «Играют, — подумал Байо, — в войну играют, нас передразнивают. Те, что каркают, диву даются: «Вот дураки, не умеют ни летать, ни каркать, только дерутся!» Меня заметили, собрались в стаю, сзывают других на меня поглядеть. «Кар, кар, — вон он, один. Что он тут один делает? Давайте хоть на него нападем, выклюем ему глаза! Не может он ни защищаться, ни бежать, кар-кар-кар-кар, все сюда!»
Началось головокружение, к нему присоединился страх смерти. Больше он не осмеливался поднять голову: кружение ворон в небе странным образом переносилось к нему в мозг, переносилось даже тогда, когда он не смотрел на них. Байо ускорил шаг, потом побежал, вороны не отставали. Он остановился, воронье полетело дальше и принялось искать его в другом месте. Наступила тишина, и Байо почудилось, что он слышит разговор. Он ясно различал звонкий голос Гавро Бекича и более приглушенный Видо Паромщика. «Вернулись, меня разыскивают, — подумал он, — вот обрадуются, когда увидят…» Он подошел к тому месту, где слышал голоса, — кругом было тихо и безлюдно. Немного погодя ему послышались голоса сзади — Байо остановился, голоса умолкли. Он вынул из кармана часы, золотые «цареградские» часы, доставшиеся ему еще от деда, — без четверти девять. Поднес их к уху и среди лесного шума едва уловил четкое, ритмичное тиканье. «Странно, — подумал он, — заведены, идут, но все равно, должно быть, отстали — не может быть, чтобы прошло так мало времени. И отстали именно сегодня, когда я и сам отстал от своих? Отстал и нагнать не могу. Как их догонишь, если они все время идут вперед?.. И надо идти вперед, я бы на их месте делал то же самое. Пусть спасается, кто может, а кто не может, значит, того не заслуживает. Природа, борьба, да и сама партия не знают жалости, нет у них на то времени».
V
Устав от дороги, от бессонной ночи и от ракии, Чазим Чорович лежал ничком на поваленном стволе дерева на Повии и думал: «Эта сволочь, Ариф Блачанац, эта последняя свинья, начинает на меня покрикивать и угрожать! Много родни, вот он и зазнался, обнаглел. Есть и у меня родня, и не хуже, но они от меня отступились, словно я чужой. Завидуют мне, лопаются от зависти, не могут простить, что я был сербским жандармом, что умею ладить с итальянцами и немцами, что ношу вот эту фуражку, а не чулаф, как они, что я человек, а не такое ничтожество, как они. Я лучше их, выше, больше во всем разбираюсь, а они этого не любят; я не теряюсь и при любой власти на коне, потому меня и ненавидят. Боятся, чтобы я не стал первым, не поднялся бы над ними; равенства хотят, как у коммунистов, а не видят, что природа предназначила мне быть чем-то большим, чем они. Засели в хлевах и грязных своих берлогах, пуще огня боятся четников и нисколечко мне не верят. Не верят, когда я им говорю, что немцы пересажают четников за колючую проволоку, загонят в загон, как овец, и согнут их в бараний рог. И давным-давно бы это сделали, не будь красных, которые где-то рыскают и внезапно нападают. Не будь волков, умный немец не держал бы псов — всех бы отправил на живодерню, содрал бы с них шкуры и делал бы из них клеенку. Тогда мы остались бы одни и могли бы жить припеваючи. Расселились бы вдоль Лима по Васоевине и Черногории до Цетинья, до самого моря, чтобы никто нам поперек дороги не становился…»
Он сжился с этой мечтой, которая в кабаках за рюмкой ракии вот уже два года обрастала и разукрашивалась все новыми деталями. Чазим на минуту позабыл даже об Арифе Блачанаце, о снеге и окружавшем его лесе. «Будь у меня вместо этих слепендряев албанцы, — мечтал он, — да я впереди в этой фуражке, да на коне, с зеленым знаменем, в три дня всех бы бросил под копыта. И тогда зверства четников в Нижнем Рабане показались бы детскими игрушками. Дым дошел бы до Берлина, сам Гитлер закашлялся бы и сказал: «Молодец, Чазим, знал я, что в тебе дремала неуемная силушка, раз ты таким вымахал…»
А потом собрал бы по всей земле войско и пошел на Сербию. Но и там некому обороняться — всех немец пострелял, в Кралеве, в Крагуеваце, каждый день тысячи. Все можно было бы сделать, все мне на руку, только разве с этими здесь сладишь! Эти рабаняне, хоть и называются верхними, ничуть не лучше нижних, калеки шелудивые, трусы и завистники, все, как один, выродились. Только я сохранил старую кровь. Но какой прок, если они меня не слушают, мне не верят, не хотят, чтобы их человек стал для них судьей и вождем. Сидят по горло в навозе и думают, что это золото, боятся высунуть нос и позариться на чужое. Скверный народ, забитый народ, обескровленный, косный, ленивый — вот уж не жалко, если его спалят и уничтожат…
Сквозь грезы он услышал, как кто-то прибежал и, запыхавшись, крикнул:
— Вон коммунисты, четверо их.
— Откуда ты знаешь, что это коммунисты? — спросил Ариф Блачанац.
Тот ответил:
— Их ведет Гавро Бекич из Тамника, за ним еще до войны гонялись жандармы.
Спросонок Чазим почему-то решил, что коммунисты пойманы и разоружены. Вытаращив глаза, он вскочил, чтобы на них посмотреть. Его встретило солнце, блеск утра и черные радужные круги перед глазами. Разглядев кое-как Арифа, он пошел за ним, потом опередил его, — уж на счет коммунистов он мастак, уж их он встретит и напугает первый! Кругом лес, на открытом месте стоит парень с винтовкой, один-одинешенек.
— Ты кто? — рявкнул Чазим.
— Я Гавро Бекич, а ты Чазим Чорович в немецкой фуражке.
— Бросай винтовку!
— Не рычи!
— Ты что сказал?
— Не рычи, говорю. Бросить винтовку я не могу, в ней моя жизнь!
— Бросишь, — заорал Чазим и поднял свою.
— Опусти руки, — крикнул Момо Магич. — Держу тебя на мушке.
Чазим вздрогнул и опустил оружие: его потрясло, что он не видит партизана. Верно, где-нибудь в кустах, в укрытии, и не один, а много. Кто позволил им засесть в засаду и взять его на мушку?.. Его обуял страх, губы затряслись, на глаза навернулись слезы. Что-то внутри, тронутое этими слезами, заплакало от жалости к себе, заскулило от несправедливости. Почему жизнь так отвратительна, почему ни с того ни с сего, ни за что ни про что ты вдруг оказываешься на мушке коммуниста, которого ты не только никогда плетью не ударил, но и в глаза не видел. Немного отлегло, когда подошел Ариф и принялся путано растолковывать, что, мол, нечего кипятиться, что они-де пришли не драться, а разговаривать. Чазим приободрился и крикнул:
— Зачем вы пришли?
— Мы пришли не к тебе, — сказал Гавро.
— Что вам здесь нужно?
— Мы не с тобой разговариваем.
На душе у Чазима отлегло: он не создан для разговоров под прицелом винтовки, которая, того и гляди, выстрелит. Другого человека, например, Арифа, первая пуля может и не задеть, но в великана Чазима, у которого грудь в метр ширины, а рост два метра, и слепой не промахнется. При мысли об этом его прошиб пот. Ноги подкашивались: тяжело стоять на виду у всех когда в тебя нацелена винтовка. Он нагнул голову, потом стал боком, чтобы уменьшить мишень. И постепенно, постепенно отошел, забрался в кусты и прислонился к дереву, чтобы перевести дух. Но тут колени у него подогнулись — уверенности, что Момо в него не целится, у него еще не было, — Чазим плюхнулся прямо в снег и утер потный лоб. «Утешительная штука смелость, — подумал он, — труднее любой работы. И хорошо, иначе все бы верховодили и никто бы не знал, кто первый и у кого власть. Пускай себе Ариф храбрится — потом выясним, кто вступал в переговоры с коммунистами».
Ариф Блачанац тем временем, глядя на Гавро, вспомнил, что до войны встречал его раз или два внизу в чаршии. Было это возле кузницы или у скотного рынка — парень обратил на себя его внимание статностью, величавой походкой, красотой и здоровьем. Одежда на нем была новая и к лицу, да и теперь он не так уж плохо одет. В то время Ариф позавидовал ему, а про себя думал: «Наши парни не могут быть такими красивыми и такими крепкими — ходят на поденщину, носят тряпье, по целым дням работают, едят плохо, да и жандармские дубинки по меньшей мере десять раз в году снятся…» Вся ненависть и горечь тех дней вдруг ожили вместе с воспоминаниями. «Что ему здесь нужно? — спросил себя Ариф. — Почему я должен ему помогать? Ведь я годами мечтал ему отомстить! Из богатеньких, сразу видать. В коммунисты пошел из упрямства да потому, что гусляров наслушался, всех этих лживых песенок о том, как рубили туркам головы и увозили девушек. Может быть, Чазим и прав, все коммунисты одного сорта? Поверили во вранье гусляров, дурная голова ногам покоя не дает, вот и пошли в леса в гайдуки да разбойники резать итальянцев и немцев, раз нет больше турок…»
Исподлобья посмотрев на Гавро, он грубо спросил:
— Откуда ты знаешь Таира Дусича? Почему его спрашиваешь?
— Он служил в батраках у моих родственников, мы вместе скот пасли.
— И это все?
— Потом я скрывался в его доме от жандармов.
— А ты был когда-нибудь в батраках?
Гавро покачал головой: нет, не был.
— Нет! Я так и знал, — сказал Ариф. — Батрачить могут только наши, а ваши ведь господа.
— Мы как раз и боремся, чтобы не было господ.
— Обошлись бы и без вашей борьбы. Горя по горло и без вас.
— Без нас было еще больше.
— Не выкручивайся, виноваты вы — и еще как виноваты.
— Да, виноваты, — согласился вдруг Гавро, — особенно в том, что делали добро, а получали за это рожон в ребро. Вот как сейчас. Помнишь тот день, когда спалили Благош? Сгорело бы у вас все до самого Тутина и Пазара. Винтовок у вас в то время не было, защищаться было нечем, не то, что нынче. Да вы и не думали защищаться, бежали куда глаза глядят, а мы встретили грабителей у Дервишева утеса и повернули их обратно. Правильно ты сказал, виноваты, что не позволили им тогда сделать то, что они хотели, сейчас бы здесь проход был открыт.
Ариф нахмурился:
— Не знаю, как там было и что было.
— Зато я знаю! Мы спасли ваших женщин и детей, а вы нас сейчас за это благодарите: заслон поставили, не даете пройти. Может, ты тоже хочешь, чтобы я отдал тебе оружие?
Ариф покачал головой: нет, не хочет. Не нужно ему оружие, голова — слишком дорогая цена за оружие, а без того его не получишь. Он молча смотрит, как тает снег, как под ярким солнцем на тропинке появляется отвратительная серая кашица талого снега. Снег долго не продержится, думает он. Через день-два склоны запестреют, покажется трава, а люди, многие из них, этого не увидят. Молодые, сильные, горы своротили бы, а вот не доживут и до ночи. И храбрые, дрались с жандармами на базарной площади на каждом углу, а вот здесь застряли, и как раз Арифу Блачанацу суждено их остановить. «За что, брат Ариф? — говорил ему внутренний голос. — Они и пальцем тебя не тронули? Пускай себе идут! Пропусти людей — видишь, ведь это люди!.. Пусть знают, что и у нас есть люди!»
— Кроме вас четверых, есть еще кто-нибудь? — спросил он.
— Нас не четверо, — встрепенулся Гавро, — пятеро нас.
— Мне сказали четверо.
— Неверно тебе сказали. Еще человек десять на Софре — они спустятся к Лиму, там легче.
— Если это все ваше войско, надеяться вам не на что.
— Не все. Мы разбросаны по зимовьям. Когда сойдет снег, опять соберемся.
У Арифа чуть было не сорвалось с языка: «Если только будет кому собираться», но в этот миг на Орване, где-то у подножья Софры, поднялась стрельба вперемешку с криками и стонами. Будто снопы стеклянных и стальных копий ударялись друг о друга и разлетались вдребезги. Одни из них, прямые и крепкие, вонзались в землю и выкапывали в снегу глубокие желтые дыры: другие извивались, как змеи, и завывание их неслось к самому небу. Ожесточенный и стремительный поначалу бой расплылся в ширину, потом разорвался на одиночные выстрелы, словно ими добивали раненых и, наконец, утих. Несколько мгновений казалось, что он прекратится совсем, но вскоре стрельба переместилась в долину Поман-воды и разгорелась с новой силой. Гавро побледнел и закусил нижнюю губу, чтобы она не дрожала. Он понял, что группа Видрича не пошла к Лиму, а упорно держит Софру и тщетно сзывает их, окруженная со всех сторон. «Иван сделал все, что мог, и даже больше, — подумал он, — а мы нет! Свернули в сторону — это я сбил всех с правильного пути. Байо и Качак должны бы меня убить за то, что я завел их сюда, к этим лукавым потурченцам, томиться в ожидании и слушать, как гибнут наши товарищи. Что, если вернуться?.. Нельзя, угодим прямо в западню — только больше мертвых будет».
— Там у тебя брат? — спросил Ариф.
— Нет, у меня нет братьев.
— Отец?
— Нет, и отца у меня нет, но мы друг для друга больше, чем братья.
— Если я вас пропущу, потом беды не оберешься. Ваши пожалуются на меня итальянцам.
— Не наши, а четники. Они пожалуются и так и эдак.
— Это точно. Погоди, поговорю со стариками.
С ним было несколько стариков, которые любили, чтобы спрашивали их совета, а потом только принимали решение; в сущности же, они всегда соглашались с тем, что он скажет. Ариф пошел к ним, но по дороге его остановил Чазим.
— Разоружил? — спросил он.
— Нет, и не стану. Не сдадутся они, будут стоять насмерть.
— Сейчас же окружи их и перебей!
— Окружи, коли охота и нет другого дела.
— Дай мне людей, и я это сделаю. Дай двадцать человек, и увидишь.
— Людей не дам. Мои люди пришли сюда не для этого.
Он сделал шаг в сторону, чтобы пройти, но Чазим кинулся к нему. Вытянув руку, схватил его за куртку и нагнулся, словно хотел укусить за горло. Резким движением Ариф освободился, отступил на два шага и поднял винтовку. Они посмотрели друг на друга налитыми кровью глазами и снова убедились, что примирение невозможно. Ариф весь ощетинился, Чазим, глядя на него, сник и стал опадать, точно продырявленный мех. У него едва хватило духу спросить:
— Зачем же ты держишь здесь людей?
— Ты знаешь зачем. Не для того, чтоб убивать тех, кто не причиняет вреда, за это тоже можно поплатиться. Мы сказали раз и навсегда — коммунистам препятствий не чинить.
— Это сказали дураки и тайные коммунисты — какие-то студенты. Дусич и ты. Правительство требует, чтобы ты их преследовал, потому и поставило тебя начальником, а нет — так будут преследовать тебя. И мудрый Элмаз Шаман сказал: «Если придут коммунисты, тотчас убивать».
— Приведи Шамана, пусть он их и убивает.
— Думаешь, что не станет? Приведу его, или он даст мне людей. Пойду позову его, а раз ты такой герой, попробуй пропусти их!
VI
Глядя, как Чазим шагает к Седларацу требовать помощи от Элмаза Шамана, и слушая, как хрустят под его ногами ветки, словно идет стадо, а не человек, Ариф Блачанац позабыл, что минуту тому назад решил про себя на свой страх и риск пропустить коммунистов; теперь ему казалось, что дело уже не в страхе и риске, а в гораздо более серьезных вещах: самолюбии и ненависти.
«Правительство! — возмущался он. — Какое правительство? Не правительство, а итальянец Ахилл, сын курвы из Рима, лжец и перекати-поле! С какой стати он мне приказывает, что я смею делать на моей Рогодже и чего не смею? Начальником меня поставил не он, а Джердар. Я не обязан этому итальянцу ничем, а вот он должен мне заплатить за пролитую кровь. Разве он что-нибудь сделал для меня и моих земляков? А мог бы спасти, по крайней мере, десяток сел — стоило только звякнуть по телефону куда следует. Видит это Ариф, Ариф не слепой, не бессловесная скотина. А ты, Чазим, медвежий ублюдок, которого понесла медведица от кабана, знай, что Ариф — юнак, он все смеет и все может, особенно, если ты скажешь, что не может! Нет лучшего способа заставить Арифа что-то сделать, если сказать ему, что он побоится это сделать. Нарочно их пропущу, сам проведу — назло ему проведу! И других, если придут с Софры или с какого иного места, пропущу, и посмотрим тогда, что вы сможете мне сделать! Есть и здесь люди, которые не умирают от страха, пора, наконец, об этом узнать…»
Позабыв о стариках, он вернулся к Гавро и сказал:
— Иди, парень! Наперекор одному человеку пропущу вас! Только идите не на Рачву, а к Лиму, не то вас встретят другие, и все пойдет прахом. Я провожу вас до леса, а там вы уже сами. Ну, где твоя компания?
— Сейчас мы не можем идти, — сказал Гавро. — Одного не хватает, где-то по дороге отстал.
— Как отстал?
— Черт не дремлет. Поскользнулся где-нибудь или сломал ногу. Надо искать его.
Ариф нахмурился не от чувства жалости, жалко почти всех, кто ходят по земле на двух ногах, а от досады, он видит в этом козни, направленные против него лично. Если коммунисты повернут вниз, как задумали, Чазим Чорович решит, что Ариф испугался их пропустить.
— Пусть один вернется, — сказал он, — а другим лучше уходить, спасаться. Идти надо сейчас, — кто знает, что может случится позже, — люди у нас всякие.
Тем временем из-за кустов вышли: Магич, Качак и Видо Паромщик. Они переглянулись: «Лучше вернуться одному, правильно говорит человек!» Гавро опустил глаза — все считают, что именно он должен вернуться, но ему не хочется. Конечно, ему знакомы каждый кустик, каждая пядь земли, но что из того: они замешкались, день только начался, до ночи далеко — много людей погибнет. А он не столько боится смерти, сколько не хочет, чтобы Филипп Бекич его пережил и остался ненаказанным… Качак поглядел на Магича: «Видишь, не хочет Гавро, боится. А если никого не посылать?..» Магич побледнел.
— Я пойду, — сказал он, но не сдвинулся с места, все еще надеясь, что Гавро станет стыдно.
— Нет, я пойду, — бросил Видо, вскинул винтовку на плечо и пошел.
— Пойдемте и мы, — сказал Ариф, — я вас провожу. И этого тоже, если придет.
Двинулись неохотно, с тяжелым сердцем. Гавро шел последним, чтобы избежать колких взглядов, подавленный, сгорбившийся, злой на себя и на товарищей. «Почему Качак так сделал? — спрашивал он себя. — Почему ждал, чтобы я сам вызвался, если он мог просто приказать? Назначил бы меня, и все было бы в порядке. Вот выкручусь, спасусь, дождусь ночи, завтрашнего дня, весны, а этого никогда не забуду. И хоть бы случилось это в каком-нибудь другом месте, а не здесь, где мне знаком каждый дуб…»
Они миновали поваленное дерево, где увидели стариков, сидящих на куче паветья и сухих листьев, кустарник, где пряталась засада, и добрались наконец до большого леса. Их удивило, что нигде не видно Чазима Чоровича, а он тем временем уже стоял на Седлараце и жаловался старому Элмазу Шаману, что Ариф Блачанац самовольно нарушает договор, не выполняет должным образом обязанностей капабанды и не только не предпринимает ничего, чтобы уничтожить коммунистов, а даже их защищает, и очень может быть, что давно уже поддерживает с ними связь.
Элмаз Шаман слушает его, сидя на бараньей шкуре, усталый после бессонной ночи, с пожелтевшим лицом. Он бормочет что-то себе под нос и часто мигает отяжелевшими веками — словно только что проснулся и делает неимоверные усилия, чтобы понять бред стоящего перед ним огромного идиота в немецкой фуражке, и тот мир, который встает за ним. Наконец, когда, казалось, он что-то понял, Элмаз, самый храбрый из всех Шаманов, решил расквитаться с Чазимом той же монетой и сказал:
— Полегче, полегче, сынок, больно ты скор! Коммунисты — особь статья, надо хорошенько подумать, прежде чем что-то предпринять.
— Как это особь статья? — удивился Чазим. — О чем тут раздумывать? Ты ведь сам сказал, что их надо убивать.
— Им в мире не тесно, землю они друг у друга не отнимают, нас не трогают. Значит, им нужно время.
— Не знаю, что им нужно, земля или небо, но тебя я не понимаю.
— И не поймешь, если будешь так спешить. Потихоньку! Торопиться жить — скоро умереть; это все равно как болезнь. Есть люди, которым надоедает грабить и шататься из долины в долину. Они отказываются от этого, предоставляя другим рваться к власти, драться за землю, за кур и жареных баранов на ужин, уединяются, находят себе укромное пристанище, где они никому не мешают и им никто не мешает. Так в свое время поступил и блаженной памяти Джафер Шаман, дервиш. Подобные люди обычно устраиваются где-нибудь на горе, вроде этой, откуда лучше видно и мысли легче летят вдаль, сидят, молчат, смотрят. Покинул мало, получил много, расстался с долиной, а нашел целый мир. И что увидел? Вот оно: люди колошматят, обдирают, хватают друг друга за горло, теряют попусту силы, здоровье и превращаются в прах, в ничто. Все ничтожно и недолговечно, лживо и призрачно, у человека на глазах пелена, не видит он, что жизнь, мир, сила и власть человеческая и земная лишь радужный обман, смысл имеет лишь одно время. Оно, это время, для наших с тобою глаз незаметно, мы его не видим, и потому оно представляется нам ничем; но в нем заключено все, оно играет, как вздумается, с человеком, с лесом или камнями, судьба всего записана в нем. И когда научишься читать его великую книгу, тогда тебе станет под силу понять прошлое и увидеть будущее.
— Погоди, Элмаз Шаман, — прервал его Чазим, — не затем я к тебе пришел.
— Нет, ты погоди! Если ты старше по фуражке, то разумом моложе меня. Я знаю, зачем ты пришел, дойдет черед и до этого. Коммунисты для меня чудо чудное. Я все себя спрашиваю: и чего ты, Элмаз Шаман, так долго живешь? Ведь все равно ничего нового не увидишь, не испытаешь… А вот сейчас понял: довелось-таки мне увидеть такое, чего покойный Джафер не предсказывал. Пришли молодые люди, у которых ума и забот под стать седым головам. Набрались они этого в книгах да в тюрьмах — там, где ты их со своими дружками муштровал да избивал. Вот у них и открылись глаза! Увидели они, что мир тесен, раздроблен, закон «око за око» не годится и счастья ни у кого нет. Надо все менять, должно прийти что-то другое, а это другое — во времени. Им кажется, что когда они займут те места, откуда повелевают стихиями, тотчас засияет солнце и расцветут для всех цветы. Они ошибаются, думаешь ты. И я так полагаю: не добраться им до этих мест — ты им, Чазим, не дашь со своими дружками. Мало их, погибнут они, да и нас ждет то же каждого по-своему. Они уйдут из этого мира, как все смертные, уходящие раньше или позже, но останутся во времени, как остался блаженной памяти Джафер, а он ведь и поныне более живой, чем многие из нас, что еще жуют хлеб. Понимаешь сейчас?
— Нет, — сказал Чазим. — Некогда мне, ты мне людей дай!
— Каких людей?
— Твоих людей, что вот здесь с тобой. Мне нужно десять человек, чтобы убить четырех коммунистов.
— Десять мало. Страшен человек, когда к нему приходит смертный час.
— Дай больше.
— Ступай в село, там есть люди. А этих не дам — они мне нужны.
У Чазима потемнело в глазах. «Эта старая перечница, — думал он, — издевается надо мной, столетняя погань, нарочно задерживает! Схватить бы его за ногу и сбросить в пропасть!..»
Он не был уверен, что этого не сделает, но, видя, что старик не испугался и даже не пытается спастись бегством, Чазим сам испугался своего гнева и убежал. Он пошел в сторону Кобиля к Таиру Дусичу. «Возьму его на испуг, — решил он, — расскажу, как коммунисты спрашивали его, называли по имени и что тем самым открыли свою связь с ним. Перепугавшись, Таир даст людей, а может быть, и сам пойдет с ними, чтобы обелить себя, а связан с коммунистами не только он, но и Ариф Блачанац, и, верно, старый Элмаз Шаман тоже. Все насквозь прогнило и ненадежно, нужно будет их потом притянуть к ответу…»
На полпути к Кобилю он встретил отряд из Торова. С полсотни горцев, вооруженных винтовками, шли к Рогодже, но не знали, где их помощь необходима в первую голову. Горцы обрадовались, что видят Чазима живым и здоровым, а он — что встретил их и что они ничего не знают Чазим повел их к Повии — там, сказал он, они всего нужнее.
„ДА ВЕДОМО БУДЕТ, КОГДА ПОГИБЛО…“
I
Бывают минуты, когда человек, точно пробудившись от сна, вдруг убеждается, что попал вовсе не на подобающее ему место, что он в тягость и окружающим и себе. С удивлением он спрашивает, как он очутился здесь, что делает и почему все так получилось, спрашивает и не находит ответа. Надеялся ли он на что-то, обманулся ли в чем-то или во всем? А может быть, какая-то непонятная и, конечно, злая сила сбила его с пути, толкнула в пропасть, где царит мрак, расставлены ловушки, где непрестанно заставляют тебя делать то, чего не хочешь и что нисколько не соответствует ни твоему характеру, ни потребностям. В человеческой жизни, на той высокой ступени развития, на которую поднялось общество, подобные минуты растерянности, точно по волшебству, приходят все чаще и чаще; особенно во время войны, являющейся парадным смотром и квинтэссенцией этого высокого развития, почти все подвержены таким настроениям, даже дети. Утешают себя люди разными способами: одни надеждой, что судьба сыграла с ними шутку по чистому недоразумению и что это дело временное, просто следствие древнего столпотворения и хаоса, которые совместными усилиями в ближайшем будущем человечество преодолеет; другие отводят душу ссылкой на то, что, если-де приглядеться, и остальным ничуть не лучше; третьи — лезут из кожи, дабы неприглядный и плохой для них мир, для своих ближних устроить по возможности еще хуже, чем он есть.
В одну из таких минут Филиппу Бекичу показалось, что глупо, бессмысленно и совершенно безрассудно томиться в лесу, дрожать на снегу, слоняться без дела и таращить глаза на окружающие дубы, слушать воронье карканье и ждать помощи пузатого, уродливого, лопающегося от здоровья Рико Гиздича, который воняет, рычит и громко пускает ветры, того самого Рико Гиздича, который и матери своей никогда не помог и даже не пришел на ее похороны. Стало жутко, ведь Рико, если и придет на помощь, высмеет его на людях, обзовет так, что на всю жизнь кличка прилипнет, а он не сможет стерпеть, впрочем, и не станет. Голова болит, такое ощущение, что она распухла от боли, он то и дело берется за нее руками. Перед глазами туман, в голове муть, все время представляется, будто он совсем в других местах, где-то по ту сторону Лима, на чужой земле, на охоте или на чьей-то пьяной свадьбе, и будто у него оборвались стремена и конь сбросил его с дороги в кустарник, в глубокий овраг. Его ищут, кличут, чтобы он вышел на дорогу, но сами не знают, где дорога, и стреляют, не зная, куда стрелять.
Усилием воли Филипп освободился от галлюцинаций и превозмог головокружение, но раздражение осталось. Все, что он видел и слышал: солнце, пробивающееся сквозь обнаженные ветви, сетка теней на истоптанном снегу, запах ракии во фляге, редкие, беспорядочные выстрелы и переливающийся с вороньим карканьем говор людей, обсуждающих планы нападения, — действовало на нервы. Порой из общего гама вырывался громкий кашель, точно внезапно проглянувший из тумана пень, — это разорялся Тодор Ставор:
— Трижды обозвал его свистуном и сукой двуногой, а он и пикнуть не посмел, вот спросите Мило Доламича, он слышал…
А это уже не кашель, а смех — где-то наверху смеется Гавро Бекич:
Легко тебе, Филипп, плясать И под свирель и дудки, Но коммунистов с гор прогнать — Совсем иные шутки.«Я болен, — твердит он про себя, — едва дышу. Сидит во мне какая-то мерзость, все печенки проела, — боюсь, плохо это кончится. Потом никто меня не поблагодарит, да и за что благодарить? Произнесут над могилой речь и тут же, напившись, позабудут, а зятья прибегут растаскивать наследство. Надо все это оставить, спуститься в село, в Тамник, в родной дом. Мать покроет одеялами, наложит на меня целую груду подушек, наденет на ноги сухие чулки с горячей золой. Согрелся бы, лежал и слушал, как потрескивают в очаге сухие дрова и пахнет капуста с салом. Вот это счастье, настоящее счастье, а все прочее — оторви да брось».
Пашко Попович с рассвета сидит в просторной светлице Бекичевого дома в Тамнике, слушает, как потрескивают дрова, вдыхает запах жарящейся на огне капусты с салом, но никакой радости и утехи в этом не находит. Напротив, ему кажется, что все кругом погрязло в беде и несчастье. Две младшие дочери Филиппа Бекича, тихие, смирные девочки, которым даже мать, увидев впервые, не обрадовалась, носят со двора тазы со снегом, который быстро тает в тепле. Пашко и Бекичева мать Лила, попеременно, пока руки не зайдутся, трут снегом и смачивают холодной водой ступни и лодыжки заблудившейся молодой женщины, которая назвалась Неджелькой, Недой, — может, Неда, а может, и совсем иначе. Одновременно Пашко тщетно старается придумать какую-нибудь историю, которая спасла бы и его, и эту несчастную Неду от того, что их ждет. Спрятать бы ее в надежное место, но надежного места нет нигде; поместить в больницу, но там итальянцы — без письменного распоряжения, скрепленного печатью, они не принимают…
Пашко устал, голова то и дело падала на грудь, его одолевал сон, он наплывал, точно паводок, принося с собою мутную пену, сор и обрывки того, что было или могло быть. Сквозь эту муть он непрестанно чувствовал, что ему, бородатому старику, не пристало ломать голову над тем, как обмануть власти.
Вспомнились вдруг святая Фотиния, искусительница Зоя и святой Мартиниан, привязались — никак от них не избавишься. Известно, что святой отец, едва завидев поблизости женщину, убегал; Пашко охотно поступил бы так же, как и трусливый святой, но куда бежать? Ни дома, ни в лесу, ни на воде, нигде нет больше покоя — люди расползлись во все стороны, вооружились и беспрестанно воюют. Кажется им, что их много и что в этом причина всех несчастий — вот и стараются изо всех сил как-нибудь поредеть. И тысячу лет тому назад, когда людей было гораздо меньше, им казалось, что их слишком много, и они вели облавы, чтобы их стало меньше. Привыкли, всосали с молоком матери, и бог знает, отвыкнут ли когда-нибудь? Не дает Злая Нечисть, вливает в них каждый раз новый яд безумия, едва лишь они пытаются замириться. Разве что спрятаться в сено, может, там не догадаются его искать. Он заметил утром стог сена — недалеко, у обочины дороги, окруженный колючей проволокой — вот бы туда забраться. Поднял бы пласт сена и забрался бы с головой и бородой под него. Там внутри ничего не слыхать — ни стрельбы, ни крика. Заснул бы среди запахов летних трав и тотчас позабыл бы о холоде, облаве и обо всем этом несчастном мире, которому не дает покоя раненая Злая Нечисть.
Лежащая перед ним на постели женщина бредит, она не знает, где находится, забыла о войне, облаве и о самой себе. Чувствует только, как одолевает ее боль, но не понимает, откуда она. Чудится ей, будто свекровь вонзает ей в ступни гребни для чесания шерсти и при этом напевает: «Бесплодная, пустовка, пусто-пусто-пустовка». Гребни натыкаются на кости, зубцы их сгибаются, и тогда старуха изо всей силы тащит их обратно, чтобы вонзить снова.
— Милая мама, — умоляет Неда то еле разборчивым шепотом, то громким криком, — не надо! Не я в этом виновата, не бесплодная я! Отпусти меня, пойду замуж за черного цыгана, за самого черта-дьявола пойду, если только возьмет, но не мучьте меня больше!
Один из зубьев, самый болючий, застрял в пятке, — тонкий, как игла, и раскаленный, он извивается, точно змея.
— Вырви его, — кричит Неда свекрови, — почему ты его не вырвешь? Грех так меня мучить, подумай о душе своей! Не могу я идти, колет, больно, да и не знаю, куда податься, все меня ненавидят. И родные ненавидят. Они-то за что? Боже, как мне избавиться от ведьмы! Чего она меня мучает, ведь может просто удавить! Ой, ой, не могу больше! Скажу, раз она такая, не стану ее щадить. — И громко кричит: — Не я бесплодная, а твой сын — сухой сук, убей тебя бог!
Боли утихают, и Неде кажется, что это Ива прикладывает к ранам вату, пропитанную холодным бальзамом.
— Спасибо, Ива, — всхлипывая от счастья, говорит она. — Спасибо, милая сестрица! — И дальше слышится лишь невнятное бормотание, из которого можно порой расслышать отдельное слово или невразумительный, затуманенный сном набор слов: «Мягкое, пахнет яблоками! Легче мне стало, как рукой сняло, все хорошо теперь. Дай, поцелую тебе руку, дай, пожалуйста! Помогла ты мне, Ива, лучше родной сестры помогла. А может, мы с тобой сестры, Ива, только не знаем об этом? Моя сестра меня бросила, все родные бросили — вроде стыдятся, а на самом деле боятся за себя, потому и ненавидят. Очернила меня эта ведьма, бог знает, что придумала и что наговорила — и как только всюду поспевает со своими сплетнями! Все ей верят, а меня и не спрашивают. Вот она опять, Ива, защити меня! Принесла гребни, чтобы посильнее мучать меня. Запри дверь, Ива, вот так, на ключ, золотая моя сестрица — дай бог здоровья твоему малышу! Ох, ох, вон она у левого окна — размахивает гребнями. Она убила бы моего ребенка и сожрала бы его — сволочь ненасытная. Пора бы и Ладо прийти, а его все нет. Не знаю, что с нами будет, если он к ночи не придет. Ах, Ладо, почему ты такой? Я ради тебя через горы перевалила и в дождь и в снег, а ты про меня и думать позабыл…
Приступ болей возобновился. Они уже не были такими острыми и невыносимыми, как прежде — словно зубцы гребня затупились. Неда открыла глаза и удивилась: борода! Снова приподняла веки — опять борода, седая, как у святых на иконах в церкви!… «Не сон ли это, — подумала она. — Нет, не сон, поймали меня. Но почему же они привели меня в церковь? Лучше бы это был сон. Сон как бальзам — только бы не просыпаться! Но я ведь не сплю, вижу, что это не тюрьма и не церковь. Светло, комната, кто-то лежит на кровати и спит. Благо тому, кто может спать! Кто же это?»
На другой кровати лежал Шелудивый Граф, он спал и чавкал во сне, и казалось, что хоть он счастлив. Но только казалось, на самом деле ему сейчас тяжелей, чем наяву. Вокруг него бабы, вдовы итальянских милиционеров и переводчиков, что закопаны на Собачьем кладбище. Голые до пояса, в турецких шальварах, разозленные на него за то, что он их обманывал, они скрутили ему руки и ноги и топчут его. Бывшие сестры милосердия щиплют его за ступни пинцетами, которые они украли в больнице, выщипывают волосы из бороды. Одна спрашивает:
— Еще снега нужно?
Старая мусульманка, которую он голой сжег на соломе, каким-то образом воскресла, стоит тут же и кричит:
— Нужно! Раздвиньте ему ноги, поглядим, чем он хвастает? Так, хорошо. Клещи раскалили?
— Докрасна раскалили! — отвечает ее помощница.
— Хорошо, пусть докрасна! Он ведь не успокоится, пока ему не выжжешь!
Склонились над ним, качаются пустые мешки голых грудей, шлепают его по носу. Одна говорит:
— Шипит!
Другая:
— Смердит!
— А как же иначе, ведь он давно уже разлагается. Потому ему и не больно.
— Почему разлагается?
— От проказы. Разве не знаешь: он Дунов сын, внук Якова Изгоя. Это у них в крови.
— Осталось что-нибудь?
— Ничего, один след. Теперь угомонится.
— Пусти его, пусть ползет, противно на него смотреть…
Граф медленно встает, пораженный и гневный, как выхолощенный бык, и вспоминает, что все это однажды уже было: он долго разлагался в каких-то огромных корытах из земли и ночи, а когда вода испарилась, он остался на дне и снова возник из лужицы влаги и грязи, смешанной с каплей слизи. Все это повторится, заметил он про себя: разложение, ожидание, слияние и снова я выползень и снова буду досаждать всем и вся…
Поднялся. Страшно жмут и давят новые итальянские ботинки на гвоздях. Он хромает, спотыкается. Болят ступни, словно всюду в них вонзаются гвозди. А может быть, это кусают крысы — живая, издающая пронзительный писк, серая масса, которая все время растет и множится. Он кинулся от них по длинным коридорам военного склада и прибежал на кухню. Запахло вареной капустой, и горячие половники засвистели над его головой. Граф ищет спасения в уборной и там сталкивается нос к носу с воеводой Юзбашичем.
— Тут-то ты мне и попался, — говорит воевода, — я знал, что ты сюда заглянешь. Ну, говори!
Деваться некуда. Стоит он, обливается от страха по́том и нижет ложь на ложь быстро-быстро. Две собаки — старый англичанин инженер Бели и итальянский интендант Чивини — начинают ловить его ложь на лету, одну за другой, точно зайцев. Одну хвать за хвост и — на части, другую хвать за горло и — конец ей; а какая сопротивляется, на ту они налетают вместе и разрывают. Остервенев, бросаются и на него: рычат, щелкают зубами, кусают за ноги, прогрызая обувь насквозь. Наконец валят с ног и тащат к Мршиной Баре, где осталась ржаветь его винтовка. «Это сон, — думает он. — Наверное сон, но если я тотчас не проснусь, они бросят меня в болото, и я уж никогда не проснусь. Подо мной провалится лед, вон как трещит. Страшно трещит, точно из ружья стреляют, сначала вдали, а потом все ближе, и некому мне помочь — все только смеются. Вот отпустили, не до того им, смеются, а Бара все ближе, вот-вот проглотит. Надо было бы бежать на гору, сверху виднее, что делать, но никто не хочет сказать, где она. Благо тому, кто знает, где эта гора…»
II
Видо Паромщик стоит на горе и не знает, что делать. Ослепительно сверкающее солнце ярко освещает покрытые лесом горы, долины, низины — все видно, но ничего не известно. Даже и то, что недавно было ясно, расплылось и помутнело в сверкающем просторе. Он пошел, как ему помнится, вытаскивать Байо из омута, в котором тот утонул; а оказалось, что омут совсем не похож на тот, у перевоза, — он огромный, коварный и полный невидимых опасностей. Видо почти раскаялся, что так, очертя голову, пошел; и даже испугался, что вернуться уже не может. Он вспомнил паром, сестру, мать, хижину и ощутил острую, как нож, ненависть к Байо Баничичу: какого черта он заблудился! Коли ты рохля, ни на что не способен, ходить и то не можешь — чего тебя понесло в гайдуки!.. В следующую минуту от ненависти не осталось и следа — ее сменили жалость и раскаяние: «Все мы виноваты, а я больше всех — хоть раз бы обернулся, и все было бы хорошо…»
Видо даже вспотел от огорчения, прищурил глаза и двинулся дальше. Он шел по следу, глядя по сторонам, чтобы не пропустить то место, где Байо поскользнулся и слетел вниз. Порой ему представлялось, что он уже прошел это место или его совсем не существует. «Нет такого места, это выдумка: Байо не поскользнулся и не слетел вниз, ведь он все время шел за нами след в след, мы слышали его дыхание, скрип снега под его ногами — потому и не оборачивались. И только наверху, на Повии, когда Гавро вел переговоры с мусульманами и когда казалось, что они не договорятся, Байо разыскал в кустах лазейку и прошел один, никого не окликнув, сначала думал, что они идут за ним, а когда спохватился, было уже поздно. Прошел и сейчас где-нибудь по ту сторону живой стены. Может, все они уже прошли и лишь дурак Видо Паромщик тщетно бродит в поисках несуществующего места. Орешник в долинах, мимо которого он проходит, знает это и потому с удивлением глядит на него и машет ветвями: нету, нету, прошел Байо; прошел вместе с вами и больше сюда не возвращался — не такой он глупый, чтобы, как ты, возвращаться прямо в западню…»
Такое же примерно состояние он испытывал, когда нырял в воду и чувствовал, что уже не выдерживает, когда белые камни на дне начинали ему говорить: уходи, беги, спасайся, ты сбился с пути. И сейчас только усилием воли он противостоял этим голосам, звавшим вернуться на поверхность, на Повию. Когда он наконец заметил Байо и увидел, как тот идет, едва передвигая ноги, точно выбравшийся из воды утопленник, он показался ему привидением. У Видо захватило дыхание, он остановился, чтобы вздохнуть, и с трудом вымолвил:
— Байо, что такое с тобой?
— Ничего! Если ты рохля, что ни порог, то и запинка, что ни шаг, то и спотычка.
— Почему не позвал на помощь?
— Не пришло в голову. Где все?
— Прошли, пропустили их мусульмане.
— А тебя послали меня искать. Зря. Кто не может справиться собственными силами, тому и жить не стоит.
— Собственных сил никому не хватит. Пропустят мусульмане и нас, если ничего не изменится.
Видо подхватил Байо под руку. Они посмотрели друг на друга, и им показалось, что теперь у них есть почти все, что нужно, — дорога, проход, общество и то неведомое, что называют одним словом: «будущее».
«В одном слове, — подумал Байо, — заключена порой целая бесконечность. И человек, в сущности, такая же неведомая и непризнанная бесконечность: когда его нет, то кажется, будто все пусто и бессмысленно, а стоит ему появиться — все проясняется и обретает смысл. У меня и этого «Легче легкого» было и раньше что-то общее: пришли мы с противоположных концов, я — от былого богатства, он — от вечной нищеты, и с удивлением обнаружили, что люди одинаковы и тут и там, что они братья, разлученные родичи, несчастные дети, что давно бродят по свету в поисках счастья для себя и других. Похоже, что мы нашли к нему путь и скоро обретем его, если вот так с противоположных концов идем навстречу друг другу».
— Глаза у тебя мутные, — сказал Видо, — словно ты все время нырял.
— Твои тоже ничуть не лучше.
— Правда?
— Это от солнца, никогда так не было. Боюсь за Видрича.
— Они пойдут к Лиму.
— К Лиму не пройти — там шоссе и милиция.
— Может, встретимся с той стороны.
— С какой стороны?
— Когда через Орван перевалят. Чего ты удивляешься?
— Не знаю, — сказал Байо, уже думая совсем о другом. — Может быть.
«Все как нарочно, — подумал он про себя, — и снег, и солнце по-сумасшедшему сияет. Будь туман, или дождь, или хотя бы облака, как вчера и как все последнее время, день был бы покороче и кому-нибудь, может быть, и удалось бы остаться в живых, а так вряд ли. В сущности, если разобраться, то больше всего виноват я! И вечно так — мстит мне какой-то поганый черт. За то, видно, мстит, что я не знаю его нрава и законов, но незнание не оправдывает, напротив… Выбрал землянку у Поман-воды, а она оказалась самой сырой; согласился на диверсию с расчетом, что снег не выпадет, а он выпал; предложил встретиться на Софре в случае внезапного нападения, а у самого нет сил подняться на гору. Из-за меня люди вовремя не поднялись, из-за меня не смогли вовремя пробиться. Сомневаюсь, чтоб нам удалось собраться, плохо наше дело, упустили время — теперь и дохнуть будет некогда, а не то что собраться. Разве только там, где нет ни правых, ни виноватых…»
У подножья Софры все еще стреляют, сверху никто не отвечает. Чаще всего выстрелы одиночные: расстреливают пни, которые кажутся подозрительными, призраков, которые из-за них выглядывают. Со страхом ступают облавщики по земле, на каждом шагу им чудятся землянки, и они криком стараются прикрыть страх и вселить его в своих врагов. Иногда заговорит сразу с десяток винтовок, словно и в самом деле что-то обнаружили, взяли на прицел и уничтожили. Поднимается травля.
— Вон он, вон рыщет. Ну вот и допрыгался!
Другие из оврага спрашивают:
— Что, пристукнули?
— Сейчас, сейчас, не торопись! В ушах зазвенит, когда заденем. Вот перебью хребет, не придет больше на ум резать провода!..
— Смотри лучше: следы показывают, что они двинулись туда.
— Ну теперь ему родной матери не видать.
— Все врут, — сказал Видо. — Шумят для виду.
— Плохо, что следы.
— Они сейчас перемешались, не поймешь, где наши, где ихние. А кричат и шумят потому, что думают, мы разбрелись.
— Так мы и в самом деле разбрелись — на три стороны!
— Соединимся, наши будут ждать.
— Не уверен, разумно ли это?
— И я не уверен. Самое разумное — пусть будет, как будет!
Пока в долинах горных ущелий Уки и Поман-воды перекликаются и дерут глотки крикуны — одни, чтобы отличиться, другие, чтобы открыть коммунистам, в каком направлении они идут, — небольшие группы молча расходятся в засады. Поднялись на Рогоджу, подошли вплотную к позициям мусульман, засели в кустах и ждут. Одну из таких групп Видо заметил, прежде чем она вошла в укрытие. Он подал знак Байо не выходить на полянку и вернулся к нему. Их выдала закачавшаяся ветка, а может быть, увидели так и окликнули:
— Эй, кто там?
— Второй взвод, — сказал Видо, чтобы выиграть время.
— Чего ж убегаете, коли второй?
— Не знаем, кто вы такие?
— Врешь, мать твою коммунистическую так!.. Сейчас узнаешь… — крикнул кто-то и выстрелил.
Открыли стрельбу и другие, посрезали у них над головами ветки и принялись сзывать на помощь разбредшихся товарищей:
— Сюда, братцы, здесь они, мы их нашли. Давай быстрей, кто хочет нынче оскоромить винтовку, тут они!
— Погоди, Коминтерн поганый, не удирай, все равно некуда.
— Бей их, чтоб ни семени, ни племени не осталось!
— Где они?
— За березы спрятались.
Видо и Байо, сделав по три выстрела, чтобы задержать облавщиков, молча свернули направо, на голую седловину между Седларацем и Повией. Мусульмане с Седлараца и Повии дали предупреждающий залп — не приближайся, мол, кому жизнь дорога. Укрывшись за мелкий кустарник, они окинули друг друга взглядом — бледные, усталые, затравленные, — и сердце каждого облилось кровью.
Преследователи набрели на следы, которые оставил Качак с товарищами, видно было, как они их разглядывают и кричат:
— Где они?
— Пошли наверх к братьям туркам.
— Чего же вы их пропустили?
— А коли они такие прыткие? У страха ноги длинные!
— Пускай себе идут! Там их тоже поджидают.
От этих слов, от прозвучавшего в них вероломства Байо стало зябко и страшно: заодно действуют. Православный бог примирился с аллахом, а Юзбашич — с капабандами, объединил их черный интернационал, от которого теперь не скроешься. Видрич это предвидел, а Качак, он и все остальные полагали, что после рождественской резни объединение невозможно. Значит, возможно! Возможно же, что среди зимы так невпопад выкатило такое дурацкое солнце… Да и тот мусульманин, бог знает с какой целью пропустил Васо Качака с товарищами. Может, повел их в какую-нибудь лощину, где засела засада, чтобы ни один не снес головы. А если не перебил первых, то раскаялся и ждет других! Турки народ продувной, испокон веку держали сторону сильного и голосовали за правительство — им ни в чем нельзя верить…
— Пошли, — сказал Видо. — Сам можешь или давай понесу?
— Погоди, надо сжечь книгу личных дел.
— Можно и наверху сжечь, если понадобится.
— Уже понадобилось, хуже некуда. Не хочу больше дрожать из-за нее.
Руки у него тряслись от усталости, спешки и волнения, поэтому все не клеилось. Байо попытался было поджечь книгу целиком, но она не загоралась. Наконец, успокоившись, он стал вырывать страницу за страницей, Видо ему помог, и они быстро с этим покончили.
Вместо того чтобы направиться в чащу на Повии, Байо увлек Видо в седловину в сторону Седлараца. Ободранные колени жгло, руки мерзли. Наконец они доползли до горы, проскользнули в неглубокий овражек, напоминавший корыто, и заспешили к лесу. Обольстила их надежда, заложила им уши — не услышали они криков заметивших их мусульманских дозорных. Так и налетели на Чазима Чоровича с пятьюдесятью людьми из Торова. Винтовки нацелены, все готово, Чазим поднялся и крикнул:
— Вы куда, коммунисты?
— Хотим пройти, — сказал Видо и обернулся к Байо: — Буду стрелять, не теряйся.
— С винтовкой ходу нет. Где двое других?
— Позади, сейчас подойдут, — сказал Видо, пытаясь выгадать время. — А что будет с нами, если мы сдадим оружие?
— Видно будет. Как решат итальянские власти. Всех не убивают, кое-кто остается…
Видо не слышит его, не до того ему, — глазами, ушами, всем своим существом ищет он слабое звено в цепи. Почуяв по какому-то неуловимому признаку, что Байо приготовился, и, услышав его выстрел, Видо выстрелил и сам. Небо потемнело от выстрелов, и он увидел, что лежит на земле. «Не на земле, а на снегу — в него можно нырнуть, как в воду. Чуть трудней и больно, но все-таки можно — главное, не оставаться на одном месте. Но где же Байо? Не видно нигде. Прошел, верно, вперед. Я сейчас тоже…»
Он вскочил и побежал с клубком боли в животе, прямо на залегшую в лесу цепь. Кто-то бежал впереди него; Видо сначала показалось, что это Байо. «Нет, на нем белая феска, бежит, видно, за Байо», — подумал Видо, вытащил пистолет и выстрелил ему в спину. Человек споткнулся, качнулся вправо, влево и упал ему под ноги. На бегу пришлось переступить через него, и Видо почему-то показалось, что это заняло много времени и он потерял следы Байо. «Бог с ними, со следами, — заметил он про себя, — встретимся после — на той стороне…»
Байо лежал изрешеченный пулями. Лежал на заснеженной поляне, а ему казалось, будто он лежит у стены. Ничего не болело, только чуть помутилось сознание, словно белый мячик мельтешит перед глазами. «Я ударил в стену, теперь все! Раз стреляют, значит, я проделал брешь. Стена падает! Она не из камня, она мягкая, сырая, точно земля. И все не так трудно, как я полагал, а следовало бы об этом знать. Заваливает. Ничего, пусть, только бы упала…»
Чазим Чорович встал над ним, раскорячив ноги. Холодный, презрительный взгляд Байо не понравился ему, и одним движением ноги он повернул его ничком. Потом расстегнул у него на спине ранец поглядеть, что в нем есть, и вытащил книгу. До сих пор Чазим чувствовал себя полным победителем, но когда он прикоснулся к гладкой плотной бумаге, испещренной множеством букв, странное сомнение начало подтачивать его радость. «Перебьем и закопаем их всех, а эти книги, это чертово семя, останутся, и снова породят таких же выродков. Потому все печатное надо запретить и сжечь! И хорошо бы выпить кофе, настоящего, потом ракии и закусить чтоб принесли, а то брожу голодный по горам да переступаю от холода с ноги на ногу! Как-никак я офицер, прирожденный офицер и начальник, а наши вшивые поганцы знать ничего не знают. Не знают и никогда не узнают. Нет удачи тому, кто здесь родился! Надо было моей матери выбрать другое место, где меня родить, в Германию, скажем, поехала бы или хотя бы в Италию, и там меня родила, чтоб и мне улыбнулось счастье».
III
И другим, в других местах, не улыбнулось счастье. Ни Петару Ашичу, что лежит на носилках, ни Мило Доламичу, что передает сейчас письмо Бекича Рико Гиздичу, ни самому Гиздичу, который сейчас думает о встрече с Шаманом и Чоровичем, ни старому Элмазу Шаману, который подавлен прошлым и напуган тем, что проглядывает из мутного будущего. Всем нехорошо, куда только глаз достанет. Но и там, куда не достанет, где из затененной теснины выходит на освещенное солнцем плоскогорье Грабеж итальянский батальон дивизии «Венеция», тоже радости не больше. Солдаты идут по три в ряд, обувь жмет, снаряжение тянет к земле. Холодный воздух насыщен страхом — чем больше его вдыхаешь, тем труднее дышать. Солдаты боятся снега, он глубокий и становится все глубже, и нет ему конца; боятся нагромождения горных хребтов, где подстерегают засады, ловушки и неожиданности. Угрожающе смотрит на них чужая земля, этот мусульманский восток с таинственными болезнями, с головорезами-четниками и партизанами, которые после того, как их зарежут, превращаются в вампиров, земля, где не смолкает стрельба и куда они идут ни сном ни духом не виноватые, несчастные, безвольные и незадачливые, с тех пор как оставили за спиной море, и даже задолго до того.
Идут, жалуются, ругаются и в своих бедах на три четверти винят командира. Это он виноват, седой осел с бородавкой, учителишка истории, принесший с прошлой войны не одну медаль, чудак и безумец. Старик, а старости своей не признает; больной, а снисхождения не просит и в лазарет не ложится. Храбр от глупости; хорошо ездит верхом, любит бряцать оружием и выставлять себя напоказ, наслаждается, когда командует. Все бы можно было ему простить: и то, что наказывает за пустяки; и то, что воров видит издалека, точно всю жизнь провел в воровском притоне; и что всюду сует свой нос и не прощает ничего, что делается нечисто, — все это ему простили бы с легкой душой, не будь у него пунктиков, рассуждений и теорий, из-за которых он рассорился с начальством. Рассорился, и не желает ни каяться, ни исправляться; уперся на своем, а начальство за это гоняет его и в хвост и в гриву. Как только что понадобится — в первую голову посылают его; едва он там управится, снова на очереди он. Начальство рассчитывает, что таким образом они заставят его явиться с повинной головой, а он поднимает ее все выше. Так что бог знает, когда кончится этот спор. Им-то легко, и ему не так уж трудно — расплачивается батальон, а ему и горюшка мало: сидит себе на коне, закутанный в шубу, и не холодно, и ноги не устают. И даже если когда-нибудь придется погибнуть, то он уже старик, отжил свое, женщины его не интересуют, с женой развелся, жалеть не о чем…
Покуда они так думают о нем, майор Паоло Фьори, чисто выбритый, застыл в седле; он чувствует, как приятная струя холодного воздуха овевает ему виски, кончики ушей и затылок. Но только лишь это и приятно, все прочее из рук вон плохо. Глаза слезятся от холодного блеска снега — поэтому майор и не позволяет офицерам ехать рядом с собой, чтобы они не усмехались, видя, как он плачет. В коленях стреляет, болит желудок, а он сквозь постоянно набегающий на глаза туман смотрит на волнистое, покрытое снегом плоскогорье, на извилистую узкую ленту шоссе, пересекающую его, и на головной дозор, что скрывается за поворотом. Наконец взгляд его устремляется к горам. Ему показалось, будто они двигаются, толкают друг друга и, борясь, громоздятся друг на друга. «Хаос, — думает он, — был хаос и остался хаос. Что может тут человек, ничтожная вошь, горная или равнинная, которая умеет только ползать да ненавидеть все и вся, а погибая, оставлять после себя недолговечный след? Стоит лишь приподняться на цыпочки и увидеть чуть подальше носа, как заболит живот, подогнутся ноги, откажет зрение или разум. Природа хуже мачехи, шлепает по рукам, едва только попытаешься взять больше, чем тебе положено. И может быть, в этом есть своя целесообразность, потому что с какой стати убогая, двуногая ящерица, которая даже в своей норе не в состоянии навести порядок, посягает на чужие великие миры?
Нагромождения гор теряют свою реальность, становясь воплощением безнадежного беспорядка, неурядиц и повсеместной извечной борьбы людей и в мирное и в военное время, и в дивизии и в личной жизни. Люди ссорятся, ругаются, дерутся, защищаются, выцарапывают друг другу глаза, и не удивительно, что попадает и ему. Все его ненавидят: солдаты, потому что он офицер, офицеры, потому что он кадровик, кадровики, потому что в этом они видят для себя определенную корысть. Ведь проще и выгоднее ненавидеть его, чем стать объектом ненависти полковника Джулио Фоскарио, этого злыдня, который любит мстить и может мстить. Беды Фьори начались еще на школьной скамье, когда он угадал в Фоскарио шарлатана, который с успехом овладевает иностранными языками для того, чтобы применить свои способности на более широком поприще, обмануть как можно больше людей, да так, чтобы во второй раз с ними не встретиться. Только с Фьори он встретился снова, здесь, на войне, которая смешала все, и Фьори вскоре понял, что его школьный товарищ почти не изменился. К прежним наблюдениям прибавились еще кое-какие подозрения: Фоскарио трус (поэтому он так пыжится), крещеный еврей (поэтому он так ненавидит евреев) и английский шпион.
Это последнее подозрение возникло у майора Фьори при виде чрезмерной активности Фоскарио по оказанию всемерной помощи движению четников и их армии. Сторонник честной игры и классических способов ведения войны, Фьори не мог понять, что делается, а Фоскарио ему растолковывал.
— Обстоятельства меняются, а с ними и принципы. Человек должен постоянно приспосабливаться.
— Да, конечно, но до известных границ. Если их перейти, перестаешь быть человеком.
— Не важно, перестаешь или нет — главное, остаться живым.
— С этой лживой бандой в живых не останешься. Вчера они еще были вместе с коммунистами и убивали наших, а сегодня вместе с нами убивают своих, а завтра снова примутся за нас.
— Не наше дело рассуждать, что было вчера и что будет завтра. Главное: настоящий момент!..
Вероятно, Фоскарио располагал достаточно вескими аргументами, если с такой быстротой завоевал симпатии генерала, губернатора Цетинья и всех высших функционеров. По тому, как легко ему все удавалось, Фьори заключил, что аргументы его весьма осязаемого свойства, что-нибудь вроде английских фунтов, золота или другой какой приправы английской кухни, а о таких вещах при всей своей храбрости он не смел и заикнуться.
«Не восстать против этого, значит, быть предателем и подлецом. Но если я восстану, не имея доказательств, то окажусь в дураках. Меня поставят к стенке и продырявят в десяти местах мою шкуру, чтобы не было повадно тем, у кого даже есть какие-то доказательства…» Все это образовало в нем причудливую смесь страха, стыда и неудовлетворенной ненависти и доводило его до исступления. С ума он не сошел, а лишь совершил несколько необъяснимых поступков, которые полковник Фоскарио с деланным добродушием растолковал как следствие климактерического состояния. Коварный и насмешливый по натуре, Фоскарио заключил, что движение и свежий горный воздух лучше всего могут помочь выйти из этого состояния. Он посылал подышать воздухом Фьори и его батальон всякий раз, как четники просили о помощи. Задания были нетрудные, и дело заранее устраивалось так, будто четническо-итальянское сотрудничество возникло совершенно случайно. Батальон якобы без всякого уговора занимал определенную позицию и оставался на ней в виде преграды, заградительной стены или невода, в который другие загоняли то, что следует поймать, и вел себя так, будто убийства и поджоги, совершаемые на его глазах, нисколько его не касались.
За год с лишним такого сотрудничества майор Паоло Фьори волей-неволей познакомился с раскормленным Рико Гиздичем, хвастливым Груячичем, вечно пьяным Джёко Джёшичем, преподобным Алексой Брадаричем, хитрецом и ханжой, с Перхинеко и прочими четническо-милицейскими начальниками, кроме таинственного Юзбашича, который преднамеренно держался подальше от оккупантов, чтобы хоть для виду сохранить чистоту движения. После первых встреч с четниками Фьори пришел к убеждению, что это «содружество воров и убийц», возникшее в некоем югославском Синг-Синге, создано для того, чтобы на практике показать, что оно в состоянии натворить, если дать ему в руки деньги, оружие, людей и власть. Наблюдая, как возрастает мощь этого феномена, Фьори надеялся все же, что явление это временное, вызванное какой-то климатической девиацией — один из тех фантастических кривых путей, с которых обманутые людские массы все-таки сходят, лишь только прекращается действие неведомых высших сил. Порой ему казалось, что он замечает даже кое-какие признаки возвращения, но потом убедился, что все это, как и у него на родине двадцать лет тому назад, катит в том же направлении все дальше и дальше. Толкает их безымянная сила, — может быть, Судьба, а может быть, самое Зло — толкает в пропасть, откуда нет возврата, и непрестанно помогает им с земли, с моря и воздуха.
Днем помогают итальянские самолеты, бомбя определенные объекты, кромсая коров и женщин по всему Дубу и другим горным долинам, помогают и солдаты Паоло Фьори, занимая заранее подготовленные позиции; ночью помогает неприятельская сторона — английские самолеты доставляют снаряжение, боеприпасы и кто знает что еще. Днем их поддерживает итальянская печать, а ночью расхваливает английское радио. Помогает и тот, кто хочет, как Фоскарио, и тот, кто не хочет, как Фьори, и даже те, кто не ведают, что творят, как мусульмане, своей бессмысленной хлебной блокадой… Таким образом, в разгар войны, когда кругом стоял стон, одни четники распевали песенки. Идут убивать и поют; возвращаются окровавленные и опять поют, чтобы уж все до конца было шиворот-навыворот. За эту их песню, всегда одну и ту же, напоминающую гром военных барабанов дикарей, с которой они вторгались в еще не захваченные пределы, которая отдавалась эхом, бьющим в грудь, и восхваляла исконное скотство, майор Фьори ненавидел их больше всего. Ему казалось, что эта песня каким-то образом связывает дикарство прошлого и будущего, что в ней содержится какой-то сговор с будущим и, значит, угроза ему, его батальону, дивизии и нации. Он не знал содержания песни, не знал, есть ли вообще в этой песне слова и смысл, но чувствовал, что их вечное «ду-ду, ду-ду» хочет, не стесняясь, не выбирая средств во что бы то ни стало выжить, пережить всех и своими кровавыми кувалдами забить прочих. Когда им нужна помощь, думал Фьори, они умолкают и превращаются в ласкового теленка, который двух маток сосет, а получив ее и нажравшись, они рычат и воют от радости, превращаясь в свирепых волков… Может быть, виноваты не они одни, может быть, в молоке, которым они питаются, английском и итальянском, есть какое-то ядовитое вещество, которое превращает ягнят в волков…
Не желая больше думать о своих злосчастиях, о том, что он вынужден защищать и помогать чудовищу, которое готовится его прикончить (его и на самом деле прикончат будущей зимой, голодного и больного, в заброшенной хижине на горном пастбище над Дриной), он вытащил из кожаного футляра бинокль и стал осматривать горы слева. Вспомнив несколько названий и мест, подчеркнутых на карте, он узнал обрубленный конус Софры на Орване, точно какого героя, о котором ему рассказывали раньше. Для него это было Sopra, что по-итальянски значит «Над», красивое название и единственное доказательстве того, что древние римляне, осваивая иллирские провинции, были здесь и на своем языке назвали эти горы. Странно, подумал он, как исконное острое Super[46] в одной стране затупилось и стало Sopra, а здесь превратилось в Софру. Изменение небольшое, а все-таки более существенное, чем то, которое претерпели люди за две тысячи лет.
Вероятно, и гора немного затупилась, но все-таки она по-прежнему господствует над окружающими. Безлюдная, как и всегда. Видны только следы на снегу: кто-то туда взбирался, хозяйничал, что-то искал, не нашел, и, наконец, исчез, чтоб никогда больше не возвращаться.
IV
На Софре в самом деле не было ни души. Незадолго до этого Иван Видрич решил отказаться от предложения Шако Челича.
— Нет никакого смысла, — сказал он, — оставлять здесь людей. Пустая затея, и двух часов не продержишься. Это было бы не прикрытие, а жертва — забросали бы гранатами и прошли дальше. Не годится это, не могу я так — людей мало, надо их беречь.
Но, сказав это, он остался стоять на месте, прислушиваясь к стрельбе где-то за Повией, беспорядочно глухим крикам мусульман и думая о том, что стреляют в Байо и Качака. По пронизывающей боли в сердце он почувствовал, что они гибнут. Это вывело его из оцепенения, и он повел товарищей вдоль северного склона Орвана. Шли, сворачивая то вправо, то влево, обходя отвесные утесы, держась леса, чтобы не привлечь внимания дозорных, и бросая по дороге тоскливые взгляды в сторону Рачвы. Хороша Рачва, когда на нее смотришь издали, а вблизи поглядишь — нет ее удобней для боя! Не случайно воевода Лакич во время первой мировой войны выбрал именно эту отрожистую гору, чтобы дать отпор австрийской армии и нанести ей тяжелый урон. На горе повсюду сохранились окопы тех времен. Видрич видел их, когда проходил там, и чутье подсказало ему, что эта напоенная кровью земля когда-нибудь сослужит службу и ему… Ожило давнее предчувствие, манит его туда: надо идти на Рачву, и никуда больше, иного спасения нет, более подходящего места не найти.
Подошли к пологому склону с родниками, ручьем и заброшенной мельницей. Худая крыша, освещенная солнцем и похожая на скелет с поломанными ребрами, привлекла их среди этой белой пустыни останками человеческого жилья. Слобо и Боснич вошли вовнутрь, взяли потемневшие доски и вынесли наружу, чтобы сесть на них. И только усевшись, почувствовали, насколько они устали! Ни голода, ни страха, даже ненависти они почти не чувствовали. Осталась лишь сонная одурь, смутное беспокойство и головная боль от яркого солнца. В тишине сначала неясно, потом все отчетливей слышно, как журчит вода, пробиваясь сквозь длинные, прорытые в снегу туннели и падая в корыта и миски, отороченные стеклянной кромкой льда. И чем глубже тишина, тем вода шумит сильней — клокочет, плачет, гудит, как на гуслях, грустит и печалится, предсказывает, что их ждет, и поэтому ее журчание становится мукой и проклятьем.
— Тебе, Ладо, качамака[47] не хочется? — пошутил Слобо.
— Нет, надоела крестьянская еда.
— Ладо идет хорошо, — сказала Гара. — Почти ничего и не заметно.
— Чего там замечать, вот только уж очень по-злодейски стянул меня наш лекарь Раич Боснич.
— Нужно, потерпишь. Мне сегодня Джана снилась.
— Мне давно ничего не снится, — сказал Ладо. — Я привык никого во сне не видеть, так легче.
— Есть два пути, — прервал их Видрич. — Выбирайте: Лим или Рачва?
— До Лима далеко, — сказал Шако. — И дорога скверная: села, собаки, милиция. Прицепятся — не отстанут.
— И до Рачвы нелегко, — сказал Арсо Шнайдер. — Как ты думаешь, Райо?
Боснич пожал плечами: «Мне все равно».
Арсо посмотрел на покрытое глетчерами плоскогорье, постепенно поднимавшееся к Кобилю и таким образом соединявшее Орван и Рогоджу. Это был единственный путь к Рачве, и его незащищенность не нравилась Шнайдеру. Лишь кое-где на открытом раздолье торчали укутанные снегом скалы или отдельные деревья, точно заблудившиеся дети, все остальное было голо и бело.
К Кобилю и Свадебному кладбищу спешат на подмогу своим вереницы мусульман. Они долго колебались и сзывали людей по дубравам — страх заставил их замешкаться. Солнечный день прибавил им отваги, они наконец собрались и поднялись на горы, чтобы показать себя людям. Идут, согнувшись, оставляя за собой следы, точно искристые борозды. На солнце то блеснет, то погаснет дуло винтовки.
— На Рачву тоже нельзя, — сказал Арсо.
— Всюду можно пробиться, — возразил Слобо. — Почему нельзя?
— Как тут пройдешь, ведь они не сидят на месте и все озираются по сторонам. Вон, погляди!
— Не без конца же, — сказал Раич Боснич. — Угомонятся, их ведь не так много.
— Знаю, что угомонятся, и наступит наконец бесклассовое общество, — попытался пошутить Арсо, — только мы тут не можем ждать.
— Ты что, знаешь лучшее место? — сказал Вуле. — Чего ж молчишь, говори!
— Толку мало, если бы и знал. Тут Шако и Слобо главные умники, они лучше всех все знают.
Арсо махнул рукой — хоть отомстил за то, что вышло по-ихнему, когда голосовали идти на диверсию или нет. Пусть сейчас поразмыслят и посмотрят, куда привело их легкомыслие. Можно было и не дразнить медведя, когда не нужно и где не нужно, спокойно бы перезимовали и дождались зеленой травки… Он бросил взгляд на Ивана Видрича: раскаивается ли он, что уступил? Уловив его рассеянный взгляд, решил: нет, кажется, ему это и в голову не приходит! «Странные все-таки люди: никто не хочет признавать своих ошибок, даже самых явных. Один только я признаю, что напрасно не присоединился к мнению Раича Боснича, когда он хотел уйти из землянки. Стоило только его поддержать — поколебался бы и Видрич, и Вуле, и Зачанин, и мы были бы сейчас в надежном месте, а не здесь».
— Жалеешь, Раич? — спросил он Боснича.
— О чем?
— Что не ушел, когда повалил снег? Хоть бы ты выбрался.
— Один я не собирался выбираться. Нехорошо от своих отбиваться.
— Если бы мы тебя послушали, то не были бы сейчас здесь.
Он пожал плечами:
— Мне лучше, что я здесь.
В долине под ними, в стороне Лима и около шоссе, послышалась разрозненная, затяжная перестрелка и едва уловимые, точно призраки, крики. Они прислушивались несколько мгновений, потом Шако сказал:
— Это стреляют по Васо Качаку. Опоздали мы вниз.
— А перестрелка за Повией что означала? — спросил Зачанин.
— Не знаю. Может, они разбились на две группы.
— Мусульман, — сказал Слобо, — если вы думаете, что они помеха, мы с Райо Босничем разгоним за десять минут. Хотите? — И пошел.
— Погоди, — остановил его Видрич. — Надо все обмозговать.
Про себя он подумал: «Плохо и то и другое. Если спустишься вниз, попадешь в котел, в клещи между двумя облавами. А если мы даже пробьемся к Лиму, то как его перейти? Половина погибнет при переправе, остальных перебьют на той стороне. На Рачве, пожалуй, было бы лучше, если бы не эти проклятые глетчеры и это чертово солнце, которое светит так, что на полвыстрела видно иголку и не промахнешься, взяв ее на прицел…»
Тут его мысли оборвались, и он погрузился в серую кашицу дремы. Долит его какое-то мертвящее головокружение и отпустить не хочет и осилить не может. Он противится, а оно не отпускает. Наконец, словно перебрав все ключи в поисках выхода, он махнул рукой и предался воспоминаниям. Всплывали какие-то лишенные смысла обрывки и клочья воспоминаний, которые словно ветром нанесло: вечерняя заря в казарме, тополя у реки, болота, лягушки, пробор на голове военного прокурора, туман при лунном свете, бомбовозы «Савойя» над Дубом, муэдзин на городской мечети, толпа народа у монастыря и крест с надписью:
«Да ведомо будет, когда погибла братия в Столпах Святого Георгия, и сожжены дома, и бежали монахи от турок, умерщвлены хашские вожаки Радован Злоглавац, священник Вукашин и Милован из Грабежа и Ладо из Луга 1825 года марта 12…»
«Джюлбег их повесил, — заметил Видрич про себя, — во славу Стамбула, а нас умертвит Юзбашич во славу Рима, Берлина, Лондона и всей буржуазной культуры Запада. Хашские вожаки были на целый месяц ближе к весне, чем мы нынче. Черногория была свободной, Сербия наполовину свободной и гайдуки, бунтовщики густой сетью покрыли землю, — у них было больше шансов на спасение, чем у нас, и все-таки их поймали. Нам, кажется, предстоит разделить их судьбу — Ладо заменит Ладо из Луга, я — Радована Злоглаваца, а Зачанин — Милована из Грабежа, каждому нашлась замена, даже с избытком…» Он вздрогнул, пришел в себя и спросил Шако:
— Как ты думаешь?
— К Лиму мне идти неохота. Я уже дважды в эту зиму переходил его, могу и в третий раз, если скажешь, но я лично против.
— И я тоже, — сказал Раич Боснич. — Рачва ближе.
— Все против Лима, — заметил Вуле, — я тоже.
Зачанин откашлялся:
— Надо тебе, Иван, сбрить бороду. Пора.
— Эй, Слобо, дай-ка мне нож, — сказал Видрич.
Покуда он мочил бороду снегом, головная боль утихла, мысли прояснились. «Вот, — подумал он, — и готово решение. Пришло время стать попом расстригой и подбить итог. Что ж, все шло по плану, ничего непредвиденного и особенного не произошло. Мы задержали Юзбашича на две-три недели, не дали ему двинуться в Боснию сейчас, как он задумал, расстроили его планы. Большего сделать мы не могли. Если и другие сделали, что смогли, этого достаточно; тот же, кто не сделал и сохранил голову на плечах, сделает это в следующий раз. Мы знали и раньше, что придется расплачиваться и что нам будет горько в тот час, и все-таки отдали свои души и жизни за тот незначительный успех, о котором наши в Боснии даже не подозревают и, может, никогда не узнают. Вот так оно и идет в лотерее войны: иной раз маленький вклад приносит большой выигрыш, а иной раз большой ничего не приносит. Пришел час расплаты. Подступил вплотную, потому и кажется мне таким большим и страшным. А когда быльем порастет, уменьшится и совсем позабудется. Может, останется в песне, или в устных сказаниях, или в короткой надписи:
«Да ведомо будет, когда погибла братия коммунистов в долине Караталих 1943, февраля 16».
И останется что-то неосязаемое и безымянное в жизни живых и в ее дальнейшем движении».
Мысль о живых заставила его вздрогнуть и достать из внутреннего кармана пачку исписанных бумаг. Он обрадовался, что вспомнил об этом, пока еще есть время спокойно и без остатка все сжечь. За маленьким дымком, как за дымовой завесой, скроется будущий батальон, его командный состав и его неведомые пути.
— Просмотрите свои карманы, — сказал он.
— Поскорее. — Слобо ухмыльнулся. — У Ивана украли деньги.
Видрич с укором посмотрел на него и сказал:
— Шутки тут неуместны. Нельзя оставлять письма или вещи, за которые бы нас потом проклинали.
— Не знаю, что с вами сегодня! — сказал Слобо. — Точно всех хороните.
Сжигать пришлось немного, все быстро кончилось. Когда развеялся дым и был растоптан пепел, им показалось, что они обманули и в какой-то мере победили время. Оно осталось по-прежнему таким же, оно может по-прежнему мчаться, разрушать горы, строить города и превращать их в руины, но они выбились на стрежень, приоткрыли тайны его бытия — и оно теперь им служит, несет и ширит, кормит и не даст ни упокоиться, ни успокоиться. Заключив таким образом втихомолку перемирие со временем, они сразу перестали спешить. Вуле Маркетич не требует быстро вынести решение, а Иван Видрич не мучается, что не может этого сделать. Все стали равнодушными и сговорчивыми, время и без того, раньше или позже, перенесет их с берега на берег, как и все прочее. Спокойные перед великим равенством, которое примет их, как сон после купанья, они отдыхают после бега, шума, мелких дел и ничтожных тревог. И слушают, как течет вода, как меняются ее тоны, когда она протекает под снегом через хрустальные гроты, ледяные вазы и кувшины. Время рвет песню воды и борется с тишиной — вода поет, ее дело петь, а их дело ждать.
V
С другой стороны Орвана, на его южном склоне, на полянке у Поман-воды, время разрывают волны бешенства, криков, рева и рыка Ристо-Рило-Рико Гиздича. Он не сходит с лошади, налился кровью, как вампир, и вздулся, как утопленник. Начальник уездной милиции напоминает перегретый, клокочущий и шипящий котел, а не человеческое существо. Поворачивая лошадь то вправо, то влево, он кружится по поляне, точно молотит хлеб, и его возгласы переходят от хрипа к визгу и обратно. Он не может молчать, стоит только на минутку умолкнуть, как ему тотчас кажется, что он попал в тесную вонючую переднюю, где невозможно передохнуть, где его вынуждают ждать, хотя у него нет времени, и где сердитые начальники и их крашеные секретарши умышленно не желают слышать о том, что он спешит.
Ладно бы уж были начальники, думает он, а то какие-то вшивые капабанды Верхнего Рабана, третьесортная сволочь, которая вечно чешется, воняет, разлагается от коросты и отличается от скотины лишь тем, что не имеет хвоста. Дважды он посылал за ними гонцов, и те самые люди, которые когда-то дрожали при одном упоминании его имени и боялись его больше бога и черта, отказались прийти на совет ни в село Тамник, ни сюда, на эту поляну, ни в любое третье место между Тамником и Рогоджей. Он послал уже и третью записку, но те не спешат с ответом — и по всему получается, будто он зависит от них, просит, как нищий. Гонцы не возвращаются, время идет, а коммунисты ускользают. Если так пойдет и дальше, они ускользнут совсем, и Рико Гиздич останется с пустыми руками — такого с ним еще никогда не бывало. При мысли об этом он запускал пальцы в свою седоватую курчавую бороду и дергал ее изо всей силы, точно она была во всем виновата. Приступы ярости на него нападали так часто, что он непременно остался бы без бороды, не будь рядом Алексы Брадарича и мягких как воск командиров, которые терпеливо сносили его ругань и сопровождаемые завываниями оскорбления.
Наконец явился и Филипп Бекич. Отсалютовав Гиздичу по уставу, он принялся рассказывать, как шло преследование, сколько раненых и убитых, как была обнаружена землянка и задержана подозрительная женщина.
Гиздич, сидя на коне, насмешливо смотрел на него сверху, подняв бровь и прищурив глаза, всем своим видом показывая, что он ничему не верит. И не только ему, но и Юзбашичу, и всем прочим болтунам-националистам, четникам и мошенникам, которые получают лиры, жрут макароны, толстеют от пашташуты[48] и мечтают о победе англичан. Они долго колебались, колеблются и поныне, в глубине души раскаиваются, что связались с итальянцами, и готовятся в удобную минуту перелететь, как вороны, с места на место, с пустого корыта на полное. Потому он им и не верит.
При первой же возможности они перелетят, — знает он их как облупленных! — а вину за содеянное тут же свалят на него, Ристо Гиздича, и на кого-нибудь из покойников. Дело его дрянь: этот сволочной народ злопамятен, ему тотчас припомнят прошлую войну — как Ристо Гиздич ходил со швабами и устраивал со швабами облавы, хватал пособников, изымал продукты и зерно под видом реквизиции и толстел, когда кругом все дохли с голоду. Все припомнят, и никто не подумает, как он до этого дошел. Что иного выхода тогда не было, надо было как-то поладить с сильным, требовался посредник между народом и властью, а никто не хотел им стать. Старые черногорские вожаки, хитрые, как лисы, взвалили это на него, а он — тогда молодой, глупый, никто и ничто, с малым образованием и большим аппетитом — согласился, с того и пошло. Кому бог дал здоровье, тому и вода сладка, но еще слаще власть да сало. Работая больше других, приходилось и есть больше других, и находить способы и в голодные годы добывать эти излишки. Вот Рико и нажил себе брюхо, а потом уж оно толкало его дальше. Толкало и после того, как швабы ушли, и отворяло перед ним все господские двери и приемные, как самая лучшая рекомендация и блестящий диплом. Люди, стоящие у власти, тотчас по брюху признавали в нем своего, сбившегося с пути родственника, прирожденного полицейского, который просто создан для того, чтобы преследовать федералистов, мусульман, албанских голодранцев и коммунистов.
А сейчас, чтобы эти воспоминания, не дай бог, не всплыли, да еще в таком неполном и невыгодном для него свете, он, Ристо Гиздич, должен торопиться и торопить всех прочих, а не слушать бабушкины сказки о подозрительной женщине, которая к тому же как-никак арестована.
— Вы нашли землянку, — прервал он Бекича. — Так?
— Одну, но наверняка есть и другие…
— Женщины или землянки?
— Землянки. Они не могли разместиться в одной.
— Мне нужны не землянки, а коммунисты, живые или мертвые! Сколько человек вы убили или взяли в плен?
— Еще неизвестно, это выяснится позже.
— За это «позже» вы заслуживаете орден сейчас! Получайте!..
Он круто повернул коня, так что Филипп Бекич очутился перед конским задом и тотчас же понял, что это за орден. Однако Гиздич не ограничился этим: он нагнулся в седле и шумно выпустил скопившиеся ветры.
— Понравилось? — спросил он.
— Кабы эта сила тебе усы опалила! — крикнул Бекич.
Он рассчитывал его разозлить и в разгоревшейся перепалке найти честный повод отомстить. Однако получилось не так: облегчившись, Гиздич на какое-то время успокоился, на усы же и прочие предрассудки, связанные с честью, ему было наплевать. К тому же прибыл гонец с письмом. На странице, вырванной из книги Байо Баничича «История ВКП(б)», чернильным карандашом было нацарапано:
«если вам до сговора, приезжайте с четырьмя людьми на седларац к Элмазу шаману, который сам сумлителен в коммунизме они очень боятся, что их обманешь а я не могу ум-разум им в башку втемяшить — потому что они не слушают Чазим Чорович сербский жандарм и немецкий офицер Рейха немецкого вам это пишет».
Держа в руке этот клочок бумаги, Гиздич раздумывал: «Если послать Алексу Брадарича, переговоры затянутся до вечера, и мы ничего не добьемся; если послать Филиппа Бекича, он с ними поссорится, учинит скандал, начнет стрелять, и опять же ничего не добьется. Посылать некого, лучше всего отправиться самому…»
Выбрав четырех провожатых, он поехал на Седларац. Чазим Чорович в немецкой фуражке, стоя навытяжку, поджидал его и хотел было приветствовать по-гитлеровски, но, оглядевшись, все-таки не решился перед народом поднять вверх руку. Элмаз Шаман все еще сидел на бараньей шкуре и посмотрел на него косо, как на незваного гостя. Гиздич сошел с лошади, переложил повод в правую руку и ударил плетью по левому сапогу — словно призывал себя без церемонии приступить к делу. Поняв, что Шаман главное препятствие, к нему первому он и обратился:
— Мы где-то встречались, если не ошибаюсь.
— Клянусь аллахом, пропади пропадом та встреча. Такое не забывается.
— Когда это было?
— В тот год, когда ты принес «перескакалку». Ты ее и сейчас принес?
«Перескакалку», — повторил Гиздич про себя и подумал: — Что бы это могло быть?» Провел рукой по лбу и вспомнил. С тех пор прошло почти двадцать лет, но никогда в жизни он так всласть не смеялся, как тогда. Мусульмане из Верхнего Рабана направили властям нечто вроде петиции: если-де им не сделают того-то и того, они будут вынуждены переселиться в Турцию… Гиздичу через шпионов стало известно, что всерьез переселяться они не намерены — это была детская угроза, глупая надежда чего-то добиться. Взяв с собою жандармов, он направился в Топловоду, созвал сход и объявил: в просьбе им-де отказано, и потому пусть они все без исключения переселяются в Турцию, и причем немедля. Поднялся переполох, вой. Его умоляли, целовали сапоги, след, куда он ступал, — только чтоб он их не гнал с земли или хотя бы отложил насильственное выселение до осени. Наконец он смилостивился. Приказал жандармам воткнуть в землю две сохи и положить между ними на полутораметровой высоте перекладину: кто перескочит через перекладину, у того в жилах, значит, течет сербская кровь и он может не переселяться, а кто не перескочит — пусть сейчас же собирает барахло!..
Тем, кому удалось перескочить перекладину, он велел отойти в сторону, другие падали, тщетно пытаясь доказать свое сербское происхождение, и брали все больший разгон, а он хватался за живот руками, чтобы не лопнуть со смеху.
И сейчас, вспоминая это, он едва удержался, чтобы не рассмеяться. Он сжал челюсти, нахмурился и перешел к делу раньше, чем предполагал:
— Надо, чтобы вы пропустили моих людей, — крикнул он. — Итальянское командование приказало мне выловить коммунистов. Они перешли на вашу территорию — это видно по следам. И не вздумайте чинить мне помехи, не то навлечете на себя беду!
— На нашу территорию перешел один коммунист, — сказал Элмаз Шаман, не глядя на него, словно бросил бродячему псу кость со стола. — Наши его убили, вон он на Повии. Если итальянцам охота на него поглядеть, можем его отнести им. Других коммунистов здесь нет, и делать твоим людям здесь нечего.
— А ты уверен, что их нет?
— Если даже и есть, то твоей гвардии сюда пути нет!
— Как это?
— Сам знаешь как.
Они молча поглядели друг на друга, и каждый подивился друг другу.
«Какой же я осел, — бурчал про себя Гиздич, — что не убил эту вонючую старую собаку. Двадцать лет он от меня прятался, а сейчас вот расселся. Сесть не предложил, не пытается даже обманывать, смотрит на меня, будто я его батрак, а он — бег! Клянусь, дорогой мой бег, если я еще раз доберусь до силы и власти, не умереть тебе своей смертью!..»
Со своей стороны Элмаз Шаман думал: «Много ты, Рико Гиздич, сожрал ягнят и двухгодовалых рабанских баранов! Если бы их выпустить сюда, забелело бы все кругом, как этот снег. А куда ушло? В прорву. По тебе и не заметно — не стал ты ни лучше, ни добрее, а еще хуже, если это только возможно. Словно ел яд и ядом закусывал. Только вот голова и борода побелели — всему на свете есть конец и тебе тоже. И ты уж не одет, как в былые времена, в расшитое тонкое сукно и бархат, напялил старое сермяжное отрепье, чтобы спрятаться среди других, чтобы не отыскала тебя пуля коммуниста. А мне почему-то кажется, да будет воля аллаха, что непременно разыщет тебя либо пуля, либо нож, а может, и от простой дубины погибнешь…»
— Вы не выполняете приказов и нарушаете итальянские законы, — сказал Гиздич.
— Не тебе о том вести следствие!
— А кому же, если вы оказываете неповиновение властям?
— Повинуемся мы всякой власти, даже больше чем следует повинуемся, но итальянцы со своим законом далеко, а вот вы куда приходите, там и беззаконие.
— Итальянцы не далеко. Я позвал их, чтобы они убедились, кто тут самовольничает. — Он повернулся к Грабежу и крикнул: — Вон они идут! Что сейчас скажешь?
— Придут, тогда и буду с ними договариваться.
— У меня нет времени, — заревел Гиздич, — не могу я тут ждать целый день!
— А я могу, — сказал Шаман, поднял старую голову и зевнул, открыв челюсти с крепкими здоровыми зубами. — Я не прочь еще немного пожить, — сказал он кому-то из своих мусульман, — может, еще какое чудо увижу. Насмотрелся я на них, от всех воротило, хоть бы одно потешило. Странное дело, всегда людям мало мук и страданий, которые зовутся жизнью. А-а-ах! — И он зевнул снова.
Гиздич взгромоздился в седло и только тогда повернулся к Чазиму: он-де хочет видеть того коммуниста, которого убили на Повии, чтобы опознать его и убедиться в этом лично. Не отведет ли он его туда? Чазим огляделся по сторонам: в такой фуражке негоже унижаться и идти пешком перед всадником сербской веры — тотчас бы заподозрили, что дело нечистое. Он посмотрел на Элмаза Шамана: «Старому хитрецу надо бы догадаться и хотя бы ради старой турецкой славы предложить своего мерина… Ну, заплатишь ты мне за это! — заключил Чазим, поняв, что Шаман умышленно не желает об этом догадываться. — Заплатишь, Элмаз Шаман, я донесу на тебя, что ты снюхался с коммунистами! И как только тебя посадит Ахилл Пари, я заберу у тебя коня, седло и все. Гроб тебе нужен, а не конь. Возьму себе мерина, я заслужил его, а ты потом дожидайся чуда!»
Байо Баничич лежал на поваленном дереве — его перенесли и положили туда, как на одр, чтобы его одежду и тело не мочил тающий снег. Он один-единственный беззаботно и бесстрашно лежал, вытянувшись на солнышке. Глаза были открыты, в них навеки застыл строгий, презрительный взгляд. Все окружающее, что одолело его, — люди, заснеженные горы, долины с ручьями, — сходит на нет, рушится, дрожит, лишь он один уверен и спокоен, и повернувшись спиной к земле, равнодушно смотрит на солнце. И кажется, что он часть чего-то иного, глыба какого-то непоколебимого материка, который незыблемо стоит среди неустойчивого, переменчивого мира. Те, кто его убил, сейчас побаиваются его и жалеют, хотят как-нибудь угодить ему и немного завидуют.
Частица всех этих впечатлений, точно внезапная волна, перехватила дух и у Рико Гиздича. Но это длилось лишь мгновение. По описанию он понял, что это Баничич, чужак, и с завистью подумал: «Хороший улов достался шелудивым туркам, надо как-нибудь выцарапать его из их рук!..» Он снял шапку, перекрестился, усы у него обвисли, лицо вытянулось, и он грустным голосом запричитал:
— Встретились мы, наконец, несчастный мой сродничек, где не думалось ни тебе, ни мне! Поддался ты обману, причинял зло народу и государству, зло настигло и тебя. Но сейчас, мертвый, ты уже не коммунист. Сошло это с тебя, как краска сходит. Сейчас ты мертв, земля и в землю отыдеши, и мы тебе поклонимся. — Он обернулся к Чазиму и сказал: — У него осталась одна мать… Отдайте его мне, чтобы схоронить по нашему обычаю!
— Бери! — сказал Чазим. — Нам он не нужен.
— Нет, не дадим, — вскипел Ариф Блачанац. — Ничего из этого не выйдет.
— Почему не выйдет, зачем он тебе?
— Наши его убили, нам за него и расплачиваться! Пусть он лежит здесь, не хотим, чтоб ты его тащил туда и хвалился перед итальянцами, будто его убили твои.
— Убивал я сотни таких, — сказал Гиздич, — похвальба мне не к лицу.
— А то возьмете и там, внизу, его мертвого изрежете, — продолжал Блачанац. — Это у вас в заводе — хуже бешеных собак! Все зло, какое только знал мир, вы возродили и превзошли. Твои бешеные псы выколют мертвецу глаза, вырвут сердце и отрежут язык, а потом будут всем его показывать и рассказывать, будто это дело рук моих людей. Не позволю так делать, не хочу, чтобы его мать меня проклинала, потому и не дам!
— Ищешь ссоры, — прорычал Гиздич и топнул ногой. — Так, что ли?
— Так! Она всегда меня настигала, когда я от нее убегал, сейчас бежать не стану.
— Клянусь богом, я никому язык не отрезал, но тебе отрежу первому!
— Брюхо у тебя толстое, прогрызут его до того черви.
С одной стороны ощетинились провожатые Гиздича, с другой — родичи Блачанаца. Того и гляди, грянет выстрел, все точно обезумели, только Чазим Чорович ничего не замечает, смотрит в ширококостное лицо и открытые глаза Байо Баничича, а видит совсем другое. Перед глазами снова возникает стройный парень — тот, кто первый упал, сраженный пулей. Упал лицом в снег, казалось, совсем изрешеченный, все думали, убит, а он вдруг кинулся на них, как сто чертей. Через одного живого переступил, другого убил, ранил третьего и точно сквозь землю провалился. Искали его повсюду, весь лес заследили — нигде ничего.
— Пошли от беды подальше! — сказали горцы из Торова. — Шайтан его унес. — И не захотели больше искать.
«Если его унесли шайтаны, — думал Чазим, — то почему они не унесли его винтовку? Почему оставили, как они могли ее позабыть? Но если шайтанов нет, если не они ему помогали, каким образом он исчез и где сейчас?..»
VI
Видо Паромщик, раненный, и сам давно уже не знает, где он. И если бы даже он знал хорошо все эти мусульманские горы, куда никогда не заходил, сейчас не узнал бы их. Они раскачивались, плыли, пузырились, точно груды негашеной извести, когда в нее пустишь воду. Порой они уходят вниз, порой вздымаются, беспрестанно меняют облик и размеры. Когда Видо идет, они то уходят из-под ног, то внезапно поднимут его и бросят в кусты на сухую листву. Пока горы не пустились в эту безумную пляску, за ним, как ему помнится, бежали и кричали запыхавшиеся люди. Он думал, что это гимназисты Груячичи с новыми пращами, которые они получили от учителя, повели на него облаву, чтобы ему за все отомстить. Видо выстрелил дважды из пистолета, а они, обогнав его, побежали вперед. Они что-то кричали, от спешки у них развязывались пояса и тащились за ними, как хвосты. Это они бегут за Байо, подумал Видо и заторопился к нему на помощь. Может быть, он и догнал бы их, но вдруг перед ним встала гора и скрыла их. Он диву давался, до чего они быстры, но все же надеялся, что следы все-таки помогут ему их нагнать, потом следы пропали, и Видо позабыл, что кого-то ищет. Слепящий блеск, боль и холод то порознь, то разом наваливаются на него, как некогда Груячичи с камнями в ивняках.
Привели жандармов и попрятали в кустах — их не видно, слышно лишь, как они задирают сестру: почему у нее голые локти, почему у нее юбка не короче, почему не покажет все, что у нее есть, а не только колени… Издеваются над сестрой, а он не может ее защитить: окружили его итальянцы посреди Плевля, в здании гимназии, а какой-то поп кричит: «Погибли коммунисты, и следа от них не осталось!» Поп кричит, а итальянцы скрипят: «Что делать паромщику в гимназии? Пришел грызть гранит науки, подавишься!» — и бьют из гранатомета в окно. Попадают в верхний угол, красные куски кирпича и мяса летят вниз сквозь едкую пыль штукатурки. Деваться некуда, облава сомкнулась со всех сторон — больше их уже не обманешь. Тащат мертвых, мещанская сволочь мотыгами добивает раненых, и все кричат. До ночи осталось шесть часов, но это как шесть лет войны — конца ее не дождешься. Установили пулемет на столе, стол пододвинули к окну, и Пулё дал длинную пулеметную очередь — разогнал гранатометчиков по огородам, заткнул им глотки. Так им и надо — пусть им тоже будет несладко! Кто-то притащил ночь, точно мокрое рядно, и покрыл им город, наполненный стонами. Вышли на улицу, спотыкаясь о трупы, — нет больше белого блеска, только холодно. Надо куда-то идти, лучше всего к Лиму, а потом вдоль Лима до парома. Он отвяжет паром и заплывет в глухую заводь, заросшую ивняком, куда ни цыгане, ни контрабандисты не заглядывали и о которой, может, и не знают. Он останется там, пока не затянутся раны, а потом пусть кто-нибудь попытается тронуть сестру! Не так уж тут далеко. Даже близко: слышно, как шумит Лим. Где-то тут, внизу, только не видать его…
Так он дотащился на Белую, спустился на голое место и покатился с горы.
Слобо Ясикич увидел его первый и, вскочив, воскликнул:
— Это наш. Ранен!
— Подожди, посмотрим, — сказал Видрич. — Почему ты решил, что наш?
— Вижу, что наш, нечего ждать. Кто со мной?
— Я, — сказал Боснич и пошел за ним.
Поднялся и Зачанин.
— Не знаю, чего мы здесь ждем.
— Нельзя разделяться, — сказал Вуле и последовал за ним.
Поднялись и пошли все. Гара, за ней Видрич и Шако, ослепленный блеском снега и солнца. Ладо хотелось идти последним, чтобы не видели, как он хромает, но за ним поплелся, понурив голову, Арсо Шнайдер. Они и раньше понимали, что куда-то идти нужно, только не было повода, который подтолкнул бы их и дал направление. Раненый, беспрестанно падая и снова вставая, шел, как лунатик, вытянув вперед руки, одетый в сизое сукно, но эта сизина от снега. Он без винтовки, без шапки — узнать его невозможно. Вот он налетел на куст, схватился за ветку, упал и пополз на четвереньках. Слобо подошел к нему первый, сначала ему показалось, что он никогда его не видел. Схватив раненого за руки и вглядевшись в бледное лицо, спросил:
— Ты Видо?
Видо захлопал глазами — он не может понять, человек перед ним или призрак.
— Куда тебя ранило? — доносится до его слуха из какой-то далекой туманной мглы.
— Турки, — сказал он. — Чулафы. Внезапно. В живот, конец мне пришел.
— Нет, не конец. Когда живот пустой, это не так опасно.
— Только бы добраться до Лима, до парома.
«Наверно, наши, — решил он про себя. — Будь другие, тотчас бы убили. Может, правда, еще сочувствующие, не знают, куда меня спрятать. Лучше всего в ивняк, туда сейчас никто не полезет. Можно и костер разжечь, там есть хворост, он быстро разгорится — лучше мало, чем ничего. Этот похож на Боснича, на… как же его зовут? А по голосу сказал бы, что Слобо. А вот и усатый Зачанин, и Иван Видрич — все собрались. Это по ту сторону стены, только не понимаю, как я перешел через стену… Хорошо, что собрались, теперь будем вместе».
— Сказал я Байо, что мы все соберемся, вот и собрались.
— А где Байо? — спросил Видрич.
— Он шел впереди меня.
— Ранен?
— Не знаю. Бежали быстро, я не мог их догнать.
— И Качак бежал? Он жив?
— Укройте меня одеялом, не жалейте.
— Разве тебе холодно? — спросил Боснич.
— Очень. Ведь целый день нырял. Ноги и руки замерзли.
Они переглянулись — поняли, что это означает. И все-таки Вуле снял с себя куртку, Слобо — шинель. Расстелив их, они перенесли раненого на постеленное и до горла укутали шинелями, которые сняли один за другим. Сняли бы они и блузы и рубахи, отдали бы все, что у них было, только бы сохранить ему жизнь. А тем временем расспрашивали о Байо, о Качаке — до каких пор они были вместе, где расстались, в какую сторону пошли… Раненый то молчал, словно не слышал их, то отвечал неясным, запинающимся бормотанием. Так ничего и не удалось из него вытянуть. Он поминал Груячичей и жандармов, которые его все время преследовали; поминал Драгоша Бркича, без всякой связи поминал Байо, какую-то стену, Лим, ивняк — надо спрятаться в глухом рукаве, куда цыгане давно не приходят и где девушки давно не купаются. И, наконец, заговорил о змеях: они обвились вокруг его ног, ползут к коленям, ползут по рукам, сдавливают горло…
Слобо побледнел и крикнул:
— Нету змей, Видо! Это тебе кажется. Когда согреешься, сам увидишь, нет их.
Видо кивнул головой.
— Нет, — сказал он, — уползли. А где Момо Магич?
— Он был с тобой, — сказал Слобо. — Где вы расстались?
— Бедная моя сестра, не во что ей обуться. Надо бы…
— Что надо бы?
— Запретить бандитам… издеваться над бедняжкой.
— Запретим, для того мы и здесь! Не беспокойся! Тебе холодно?
— Нет, не холодно.
Видо смежил глаза. Да, ему холодно, но он умышленно сказал, что нет, и твердит про себя; «Нет, нет!» Это его постепенно усыпляет и согревает. Лучше так, они не будут тревожиться и мучиться за него. Тяжко им и без того — надо только выбраться из гимназии, а потом из Плевля, там полно раненых. Пулё расчистил путь и притащил ночь, пусть кто как может по садам спасается!.. Только бы выбраться — потом уж пустяки. Кто выберется, запретит бандитам, чтобы никогда над бедняками не издевались и не устраивали на людей облавы. Потом все будут жить хорошо и тепло одеваться, нигде не будет змей.
— Он умер! — крикнул Слобо.
— Это должно было случиться, — сказал Боснич. — Потерял много крови.
— Что будем делать?
— Ничего, — сказал Видрич. — Возьмите шинели!
— Нельзя его так оставить, — возразила Гара. — Давайте отнесем его и положим на доски…
— Это можно, — сказал Вуле. — Давай, Шако!
Они подняли покойника и не успели сделать несколько шагов, как в лесу, за разваленной мельницей, затрещали винтовочные выстрелы батальона Брадарича. С Белой им ответил одинокий выстрел, с Кука — другой, на Повии ухнул гранатомет, оглашая, что туда прибыл и занял позиции пехотный батальон дивизии «Венеция».
ЧЕЛОВЕК — ПРЕДВЕСТНИК БЛИЗКОЙ ОБЛАВЫ
I
Васо Качак с двумя товарищами, перейдя Повию, поблагодарил Арифа Блачанаца и еще раз попросил его тем же путем провести Байо Баничича и Видо Паромщика, когда они подойдут, и двинулся по Северному склону Рогоджи. Вступив в высокий густой лес и понадеявшись на счастье, они решили — вопреки совету Блачанаца — пробираться к Рачве. Их словно магнитом притягивала Рачва, а кроме того, Качак был уверен, что группа Видрича пойдет туда же, и рассчитывал сойтись с ней еще по дороге. Дважды, едва избежав встречи с отрядами мусульман-добровольцев, которые спешили укрепить твердыню ислама и Рабана на вытянутой горной косе, они выбрались наконец на горную вершину Кобиль и с опушки поглядели на Свадебное кладбище: под сверкающим солнцем раскинулась полуголая волнистая равнина, покрытая сетью патрулей и толпами мусульман, снующих между крутой Невестой и подножьем Рачвы. Тени одиноких деревьев на снегу показались Качаку трупами, которые некому подобрать.
— Правду сказал турок, нынче на Рачву нет пути.
— Без потерь, конечно, — подтвердил Момо Магич. — Не знаю, чего нам далась эта Рачва.
— Будь у нас чулафы, может, как-нибудь бы и прошли. Давайте намотаем на головы чалмы из рубах, попытаемся?
— Эта попытка может нам дорого обойтись. Может оказаться последней, да и нет нужды.
— А ты чего молчишь, Гавро? Скажи что-нибудь.
— Не нравится мне ни то, ни другое.
Отказавшись от Рачвы, угнетенные и подавленные тем, что им ничего не удается, они пошли вниз по северному склону, к долине. Спуск кажется им бесконечным, он то реален, то вдруг теряет свою реальность и становится каким-то призрачным. Они потеряли связь с товарищами на Софре, потом с Байо, с Видо, попросили милостыни у мусульманского капабанды, и вот, усталые, растерянные, остались втроем — три человека, которые бегут, пробиваются и которым негде укрыться. Под ними блестит, сверкает долина, погруженная в коварную тишину; кое-где видны селения, межи, тропинки, но Лим, шоссе и засады скрыты от них, скрыто все, что готовится их встретить в штыки. Лишь две-три горы стоят как добрые друзья — боясь их тоже потерять, они пошли на ближайшую островерхую вершину. Проходя мимо початого одонья листовняка, Гавро захватил охапку дубовых веток: «Пригодится наверху, когда будем отдыхать, подстелем, чтобы не сидеть на снегу».
Момо поглядел на него и подумал: «Чувствует, что виноват, хочет нас купить, задобрить. Меня не задобришь — не желаю и говорить с ним! Не нужны мне его услуги, ничего не нужно, бог с ним! Есть и у меня руки, сам возьму…»
Поднялись на голую вершину неизвестной и для них безымянной горы между Лимом и Орваном, уселись друг к другу спинами на охапки веток, и каждый стал наблюдать за своим участком. Внизу, у подножья, Момо увидел человека, он шел по опушке леса один, согнувшись, с винтовкой под мышкой. Про себя Момо пожелал, чтобы это был Видо, но по походке он скорее напоминал Байо. И Качаку показалось, что он похож на Байо. Увидев, что их мнения сходятся, они обрадовались. Только Гавро покачал головой — нет, ни Видо и ни Байо, не ходит так Байо и не держит винтовку под мышкой. Чтобы наказать его за неверие, Качак послал Гавро вниз — пусть посмотрит вблизи. И оба сверху стали наблюдать, как Гавро неслышно, точно тень, спускается с горы, как расстояние между двумя людьми сокращается и увеличивает надежду, что, может, и произойдет что-то приятное. Пора уже этой минуте наступить, но Гавро почему-то мешкает и без нужды теряет время…
По каким-то признакам неизвестный вдруг почувствовал, что он уже не один и что за ним кто-то наблюдает. Подняв голову, он оторопел и поднял руки, чтобы прикрыть испуганные глаза. Винтовка без ремня скользнула в снег, не пытаясь ее поднять, он перескочил через нее и очертя голову помчался вниз. По быстроте, с которой он бежал, они тотчас убедились, что это не Байо: безрассудная и отчаянная выносливость беглеца подтвердила это. Он падал головой вниз, поднимался, налетал на деревья, нырял в снег, выскакивал из него, перепрыгивал через препятствия, как мячик; застревая в кустарнике, ломал ветки, перекувыркивался и катился с горы, точно не имел времени встать. В мгновение ока он слетел на дно долины, перебежал ее и скрылся, ни разу не оглянувшись, чтобы посмотреть, от кого бежит, и убедиться, далеко ли от него преследователи. Исчез, как сквозь землю провалился, и все равно они знают, что он будет бежать и дальше, пока хватит дыхания.
— Словно и не человек, — заметил Момо. — Может, никогда им и не был.
— А кто же он?
— Машина — налаженная так, чтобы бежать, как только увидит человека.
— И не удивительно, такова жизнь. Человек лишь предвестник того, что другие люди рядом и облава приближается.
— До каких пор так будет?
— Не знаю. Либо мы, коммунисты, покончим с облавами, либо…
— Что?
— Будет то, что пророчил старец Стан: и побежит человек от человека за тридевять земель.
— Слышишь?.. Стреляют где-то около Повии.
— Слышу, стреляют. А что я могу сделать?
В эту минуту кто-то с левого берега Лима заметил одинокого беглеца, испугался и выстрелил, чтобы поднять на ноги милицию на шоссе. В ответ, прежде чем убежать в укрытие, выстрелил с моста часовой, потом из села донеслись еще два выстрела, раздался какой-то зов на горе и протяжный зловещий вой собаки, которая не привыкла сидеть на привязи. Запричитали женщины по хуторам и принялись сзывать детей. Закукарекали, увеличивая разноголосицу, петухи, радуясь жизни, солнцу и хорошей погоде. Поредевшие после мобилизации милицейские стражи, не успев опомниться от сна или картежной игры по трактирам и баракам, перепугались и беспорядочной стрельбой еще больше усилили панику. Им казалось, что опасность нагрянула внезапно, подобно второму пришествию. Должно быть, большие силы, если решились напасть среди бела дня. Они выбегали и лихорадочно стреляли во все стороны и одновременно кричали:
— Кто идет?
— Где?
— Откуда?
Другие отвечали на вопросы вопросами:
— Сколько их?
— Где наступают?
— Кого убили?..
Все это вместе с эхом слилось в неразборчивое э-эй-бе-ее-й-не-пу-уу-ска-а-а-й-ай-ай, сопровождаемое визгливым, наводящим жуть, неумолчным воем.
Им казалось, что на их товарищей, внизу и наверху, одновременно произведено нападение, что они в опасности, оттого и взялись причитать. Раз так, пусть всяк спасает свою шкуру, как знает и умеет. Все забрались в укрытия, попадали на животы, взяли на прицел ближайшие рощи и не жалеют патронов. А чтобы подбодрить себя, отпугнуть опасность, кричат во все горло. Кричат все, а поскольку не знают, что кричать, стараются, чтобы их никто не понял, а стреляют все с таким видом, будто совершенно точно знают, куда надо стрелять. И никому не приходит в голову выглянуть, разведать, перейти в нападение, хотя по стрельбе, к которой присоединились села по ту сторону Лима и скрытые от глаз поселки, а особенно по все возрастающему реву можно было подумать, что цепь сомкнулась и облава приближается к островерхой горе, которая стоит между Лимом и Орваном.
— Обнаружил нас тот гад, — сказал Гавро. — Надо было его убить.
— Почему же не убил? — спросил Момо и пожалел: ведь решил, что не будет с ним говорить.
— И вы могли, почему не убили?
— Оставьте, — сказал Качак, — с этим покончено.
— Пощадил я его, несчастный какой-то. И всегда так: как пощажу, потом раскаиваюсь.
— Надо поискать другое место. — заметил Момо.
— Время терпит, — сказал Качак. — Подождем. Который час?
— Часы не у меня, остались у Байо.
«Может, больше и не тикают», — подумал Качак.
Старые царьградские часы, память о деде, о его путешествиях на Мальту и рассказах — все еще тикали в маленьком кармашке под поясом у Байо. Тикали они все то время, пока Ариф Блачанац раздумывал, где бы зарыть убитого и как защитить его от бешеных собак, которые налетают со всех сторон. Наконец он решил похоронить его на старом греческом кладбище за Гркинем, где бог знает с каких времен не хоронили. «Надо бы и свечу зажечь, — подумал он, — как требует их вера, но как ее зажигать, знает только поп, а попа нет. Убежал поп из Топловоды, да если бы и не убежал, то попы с коммунистами не в ладу, и та, и другая сторона была бы недовольна. Когда все враждуют, невозможно кому-нибудь сделать доброе дело, не обидев другого. Пусть уж так, без свечи, с меня хватит и этого. И ему хватит, а мне тем более…»
Он отрядил с десяток родичей, чтобы отнесли Байо. По пути люди разговаривали и не слышали тиканья часов. Отыскали хорошее место для могилы и две надгробные плиты — все честь честью сделали. Взяли в селе лопаты и кирки очистить снег и выкопать могилу. Когда все было готово и люди в напряженной тишине подошли к покойнику, чтобы взять его и опустить в землю, один из парней отпрянул в сторону и закричал:
— У него сердце бьется!..
Все вздрогнули, побледнели от страха и едва решились подойти ближе и посмотреть. Когда они вытащили из кармана Байо часы, почерневшие от запекшейся крови, и открыли золотые крышки, то им показалось, будто из черной коробки на них смотрит таинственное око времени, которое каждому, слышно или неслышно, отсчитывает его минуты. Они стояли так какое-то время и не знали, что делать с часами: оставить их у себя — это все равно что воровство; закопать вместе с убитым — грех, все равно что живую душу в землю закапывать.
II
Около полудня Неда чуть приоткрыла глаза и подумала, что светает. Потом поняла, что уже поздно и что это рассеивается тьма в ее сознании. Удивительный своей беспричинной добротой, высокий, седоватый мужчина с бородой бесследно исчез, как обычно исчезают добрые люди, которых можно увидеть только во сне. Вместо него Неда увидела старуху, она беспрестанно что-то приносит и уносит и вертится около ее постели. Видно, не свекровь, не шпыняет ее, ничем не попрекает, молча натягивает ей на ноги чулки с теплой золой и озабоченно на нее смотрит. Зола теплая, мягкая — ее теплые мелкие порошинки, точно маленькие звезды, щекочут лодыжки, забираются в холодные промежутки между пальцами, согревают их и сквозь кожу вытягивают тонкие иглы. Вытягивают одну за другой, большие и маленькие, и их остается все меньше. Из отверстий, где были иглы, расходятся необычайно сладостные струи, тоже тонкие, волнистые и вязкие, и больной кажется, будто она летит, парит в облаках и лишь изредка сквозь прогалины касается густой теплой травы на лугу.
Наконец Неда решилась и широко открыла глаза: никаких облаков, никакого луга. Перед ней стена и окно, а на дворе солнечный день. Она различает отдельные предметы. На стене висят гусли и портрет мужчины с тонкими усами и бровями: за поясом у него револьвер, рука на рукоятке, джамадан расшит золотом. Неда видела где-то этого человека, но почему-то ей не хочется вспоминать, где именно она его видела, ей кажется, что добром помянуть его нельзя. Глаза у него злые; если уж на портрете злые, то в жизни, наверно, налиты кровью. «Я не сплю, — догадалась она, — и это чья-то комната. Стены побелены, чистые, и все-таки это не больничная палата. В больнице пахло бы йодом, а не капустой. Для чего им капуста после всего, что случилось?.. Боже мой, как же это я, куда я забрела?»
При попытке вспомнить, где она, от напряжения она снова впадает в бредовый полусон, который уносит ее к пропасти над Пустым полем. Мягкая земля с мелкими камнями осыпается, уходит из-под ног, она тщетно пытается схватиться руками за что-нибудь, но собственная тяжесть тянет ее прямо в пропасть. К счастью или несчастью, она скатилась на ровный уступ и задержалась на нем. Но ненадолго, уступ неуклонно оседает, уменьшается и лишь мгновениями представляется ей комнатой — придется ей снова падать и падать бог знает куда. Тем временем она, непрестанно напрягая память, вспоминает то, что давно пережито и прошло; вспоминает довольно смутно, невзначай, наспех и мимолетно, как видишь вещи, когда проносишься мимо них в падении, от этого ей кажется, что вся ее жизнь была падением, прерываемым короткими передышками.
Когда ее семья готовилась к переселению и когда при этом говорили, что на новом месте будет лучше, это, по сути дела, было скрытым падением, а когда приехали и поселились, это означало лишь временную передышку. Неда росла, потом заневестилась и стала готовить подарки неведомым сватам, все с тем же неясным предчувствием, что готовится продолжить падение и что ей суждено попасть из огня да в полымя, потому, верно, у нее и текли слезы, кропя эти подарки. Сосватали ее в богатый дом, битком набитый американскими долларами, и все говорили, что ей улыбнулось счастье, а она спрашивала себя: в самом ли деле ошибаются эти старые, опытные люди, или они совсем слепы, или просто хотят обмануть ее и отделаться от нее?.. Она хорошо понимала, что юноша с гладкими румяными щеками, нежной кожей, мечущийся между наглым бессовестным отцом и озлобленной матерью, единственный сын, болезненный, молчаливый и стеснительный, не скует счастья ни себе, ни ей. И когда немцы увели его туда, откуда не возвращаются, а албанцы прогнали ее семью из Метохии, когда свекор не пожелал принять ее родных к себе в дом и при этом всячески старался пролезть к ней в постель, это было все то же падение, и ухватиться было не за что.
Только один человек протянул Неде руку, подхватил и остановил. Он ничего не обещал, и уже это было чем-то новым. Казалось, он и сам падал и хватался за все, что попадется. Он был не такой, как другие, ядовитый, как бес, остервенелый, натянутый, точно струна на черных гуслях, и невольно он пробудил в ней надежду на какое-то щербатое счастье, о котором не говорят. Проводила она с ним ночи, обманывала себя, знала, что это грех и позор, но она нарочно шла на это, назло всем, чтобы отомстить и хоть что-то сделать по-своему. И все бы как-нибудь утряслось, но он никак не мог утихомириться, а как только пытался, его начинали преследовать, и он сам переходил в наступление. Что-то заставило его насмерть забить лукавого змея, который на какое-то мгновение потерял связь с такими же, как он, змеями и нечистой силой. Змея он убил, но в землю не закопал — никогда ему не научиться прятать концы в воду. По ночам волки, а днем вороны растаскали мясо и кости большого мертвого змея по горам — и другие змеи вскоре узнали, что произошло, и собрались справить поминки и договориться о мести. Некому было передать ему весточку, взяли бы его во время сна, связали бы руки, выкололи глаза, мучали, водили напоказ. Она, Неда, пошла его разыскивать, чтобы разбудить, пока змеи еще не подоспели. Пошла в дождь, бушевали потоки, преграждали ей путь, стояла ранняя осень, на деревьях не опала еще листва — откуда же снег в такую раннюю осень?
Она побледнела, как хмурый рассвет, в голову закралось сомнение, что это была другая ночь. Было две ночи, как две черные обложки, а между ними столько нарисовано дней, людей и судеб, сколько, казалось, и не может там поместиться, как в ночном кошмаре. Были в этой книге и Василь, до того как он выздоровел и ушел, и молчаливый Якша, прежде чем он погиб, и село Меджа с водопадами, кукурузными полями, запыленными котлами, и несчастный дом на Лазе, и бедная Ива с ребенком в большой комнате, и пьяные четники со своей песней:
Партизанка, ты зачем скрывала, Что с пархатым переспала…И тут на мгновенье появляется, чтобы заставить их замолчать, Лука Тайович, старый, нахмуренный, и сразу превращается в озабоченного бородатого человека с винтовкой и в желтых итальянских башмаках. Человек держит ее за руку, ведет куда-то через реку, защищает от собравшихся под деревьями, озлобленных на нее людей.
— Я ее знаю, — говорит он, — вы не за ту ее принимаете, она пошла за хлебом и заблудилась. В таком тумане не мудрено заблудиться.
От его голоса туман начинает рассеиваться. Можно различить следы на снегу, слышен лай, все вокруг становится на свое место. Может быть, все бы и успокоилось, но внезапный грохот потряс землю, и опять все полетело вверх тормашками.
— Что это? — спрашивает она, придя в себя от страха.
— Удача. — Старуха усмехнулась. — Опять встретились и сшиблись.
— Как опять? Разве они и раньше дрались?
— Все утро. Убей бог того, кто дал им столько патронов!
— А как Ладо, жив?
— Не знаю я, кто такой Ладо. Неизвестно, кто жив, кто мертв. А тебе своего горя мало? Лучше о себе подумай, чем о других печалиться.
Неда закрывала ухо ладонью, но от грохота не так просто избавиться. Стрельбу все равно слышно — отчетливо с горы и глухо из-за горы. Старуха натянула ей на голову одеяло, но и это не помогло. Гранатометы утихли, но тем слышней тарахтели пулеметы, и, сталкиваясь, гремели винтовочные залпы один за другим, точно лес черных копий.
Неда попыталась снова погрузиться в дремотно-обморочное состояние. На несколько мгновений ей это удалось, но вскоре звуки выстрелов проникли и туда. Она слышала их не столько ушами, сколько кожей, всем своим существом; ее пронизывало дрожью еще до того, как выстрелы доносились до слуха. Устав от дрожи, которая, казалось, ломала ребра, выворачивала суставы, дробила кости и кромсала внутренности, она собрала все силы, сбросила с головы одеяло и оглянулась по сторонам. «Все по-старому, — подумала она, — только день потускнел. Это он от дыма выстрелов потускнел и помрачнел. До чего отвратительны люди! Все могут зачадить, даже божий день, и все им мало. Может, это болезнь такая у них — люди они, и потому не могут иначе? Однако раз они бьются, значит, должны быть две стороны, значит, и та, другая, еще жива, еще не погибла. Не погибла, не погибла, — все время отвечает, только реже. Может, она не погибнет и Ладо тоже не погибнет, и тогда мой сын не будет байстрюком и ребята не будут над ним смеяться, когда он выйдет погреться на солнце и подивиться миру: маленький такой кудлашка с пухлыми ножками и с двумя вихрами над лбом, как у Ладо…»
— Ладо мой муж, хозяин, — сказала она старухе в смутной надежде ее задобрить. — Мы невенчанные, но это не его вина. Он хотел бы, но никак нельзя — внизу его подкарауливают, хотят убить. Потому я так — одна.
— Бедняжка ты моя, лучше сейчас не думай об этом.
— Лучше бы им не воевать, пусть всяк о своих домашних делах помышляет. Разве их мало — снег, скотина, во всем недостача и всякое такое, еще и дети. И без того едва концы с концами сводишь, а они не дают — почему, не знаю. Есть у тебя сын?
— Есть, вон его слыхать. Не может мой сын не драться с коммунистами, сидит в нем какой-то бес.
— Это его портрет, вон с усами?
— Его. Снилось мне — упал портрет и разлетелся вдребезги. Три дня назад снилось, а и сейчас дрожу.
— Это от тревоги. Нынче каждая мать дрожит от страха. Может, сам дьявол запряг всех в свою таратайку и гонит куда хочет.
— Злоба, а не дьявол: с жиру бесится человек. Мой сын не ради хлеба для ребят, как эти беженцы, воюет. Есть у нас и земля, и хлеб, и к хлебу. От отца ему много осталось, полсела мог бы прокормить, но ему слава нужна, а кто встал на этот путь, ему всего мало.
III
А ее сын, Филипп Бекич, усталый и возмущенный тем, что Гиздич взял дело в свои руки, стоял на Белой, на северном склоне Рогоджи. По узкой долине к Кобилю отступали коммунисты, визжали итальянцы на Повии, а мусульмане с криками «алла-а-а!» бежали с Седлараца и Кобиля к Рачве и к своим селам. Его брало зло на итальянцев — стрелять не стреляют, пришли будто в театр поглазеть. Злился он и на мусульман: долго они будут рассказывать своим бабам, какие мастаки сербы друг другу шеи сворачивать. Злился и на Гавро Бекича — опять улизнул, нет его среди партизан, что идут прямо в лапы к Гиздичу. «С меня хватит, — подумал он, — сыт по горло! Будь я на лошади, как Гиздич (а кто запретил бы мне ехать на своей лошади — так нет, надо было поддаться этой дурацкой заразе, быть в равном положении с теми, кто привык ездить только на краденых), сейчас ускакал бы, чтобы глаза мои не видели этого срама. Бросили два батальона на десяток людей и не справились. Позвали итальянских ящериц потешаться над нами, собрали на спектакль и чулафов, да еще куражимся вместо того, чтобы сквозь землю от стыда провалиться».
Филипп стоял, плевал в снег и чувствовал потребность любым способом оторваться, уйти от этого сброда, что прячется по укрытиям, ползает на брюхе по снегу, вопит и стреляет. Никто не смотрит, куда стреляет; а если смотрит, то старается целить мимо. Все время стоит крик, понять невозможно, что кричат, да это и не важно, главное поднять шум и в этом непрерывном всеобщем галдеже, как в лесу, скрыть свою трусость и перерядить ее в геройство. «В каждой войне это так, — подумал он, — и в жизни тоже. Лучше лишиться чести, чем головы. Дерьмо слаще смерти, и самый большой герой тот, кто выживет. Дети героев по чужим дворам скитаются… А может, не только от страха, — заметил он про себя. — Не такие уж они трусы, и не так уж боятся, да и чего бояться? Просто не хотят люди! Жалко им коммунистов, хотелось бы их приберечь и пропустить, чтобы потом на них опереться, если потребуется. Ведь это их соседи, племянники и двоюродные братья, — не такие они дураки, чтобы, здорово живешь, убивать своих ради прихоти богача Филиппа Бекича или вонючего брюхача Рико Гиздича или ради похвалы майора Паоло Фьори, который будет их презирать независимо от того, убьют они кого или нет.
— Ты чего стоишь, Филипп Бекич? — крикнул ему Тодор Ставор каким-то противным голосом, от которого Бекича передернуло. — Патроны кончились?
— Нет! Патронов у меня хоть отбавляй.
— Почему же не стреляешь?
— Тебе мало, что вы стреляете впустую? Может, еще помощи надо, мразь голодраная!
Ставор посмотрел на него и оторопел: шаль болтается, штаны измяты, лицо землистое, ус изгрызен, глаза налиты кровью и горят недобрым огнем. Ставор пожал плечами: никогда еще он его таким не видел, не знаешь, что и сказать. «Гиздич его уел, — подумал он, — змея змею укусила. В точку попал, пусть и Свистун Бекич почувствует, каково бывает, когда тебя сильный пинает. Гиздичу он ничего не может сделать, вот на мне и отыгрывается. Такое нынче время: сильный слабого повсюду за глотку берет, словно только это дает право на жизнь. Наш человек уж так создан — не может стегануть лошадь, бьет по седлу. Но, во имя творца небесного и его окосевшей правды, до каких пор я буду тем седлом, до каких пор буду позволять, чтоб всякая сволочь, которой подступит к горлу, на меня все выблевывала? Смогу ли я отыграться на ком-нибудь и что тогда будет?»
— Помощи мне не надо, — примирительно сказал он. — Такая помощь ни к чему. От тех, кто стреляет не глядя, проку нет. Ты хоть бы поглядел на них, потому и говорю.
— И глядеть не хочу! Насмотрелся я сраму, но такого еще не было.
— Если мы их сейчас упустим, через пять минут они пробьются до Кобиля, а там и до Рачвы. И тогда будет еще больший срам, потому что там им уже никто ничего не сможет сделать. Не надейся, что их задержат итальянцы или мусульмане.
Ставор вовсе не хотел его задеть, но случайно наступил прямо на больную мозоль. Бекич на мгновение остолбенел, а потом взревел:
— Подлец, когда я надеялся на итальянцев, а тем более на турок?
— Тогда хоть уйди отсюда, видишь же, стреляют.
— Делай свое дело, басурман, поганая душа, а меня не учи! Кто здесь командир, я или ты?
Ставора передернуло, дрогнули губы, — он понял, что его ждет гибель, если он тотчас не проглотит уже готовый сорваться с языка ответ. И Ставор проглотил его, понурив голову. «Вечно меня угораздит забыть о старшинстве и заговорить с ним, как бывало до войны, на равных. Каждый раз попадаю впросак, а потом вынужден терпеть и проглатывать такое, что хоть медом мажь, все равно стоит колом». Он даже побоялся посмотреть на Бекича, чтобы тот не принял это как оскорбление или угрозу. Отвернувшись, раз уже не может от стыда и досады провалиться сквозь землю, Ставор тише воды, ниже травы вернулся к тому, чем занимался до сих пор. Трижды он брал на мушку последнего в удалявшейся цепочке коммунистов. Это был молодой парень в коротком сербском гуне. Этот гунь и привлек его внимание: должно быть, теплый, а парень, верно, не наш, прислали его откуда-нибудь, наверно, важнее прочих. Видать, толковый и ловкий: стреляет то в одну, то в другую сторону, не прячется, презирает опасность и не спешит от нее уйти. Ставор нацелился еще раз, выстрелил и тотчас понял, что попал.
Пуля прошла под ребрами и перебила крестец. Вуле Маркетич остановился и тяжело оперся на винтовку. Потом поднял голову, выпрямился и, словно ничего не случилось, крикнул в сторону Белой:
— Браво! Ты подстрелил Вуле Маркетича, можешь гордиться!
Эхо повторило его громовой голос, придав ему глухой призвук неведомого потустороннего мира, который редко дает о себе знать и тем сильнее поражает тех, кто его вдруг услышит. Стрельба на какое-то мгновение прекратилась, наступила тишина, нечто вроде перемирия, заключенного для того, чтобы каяться и удивляться. И многие в эту минуту вспомнили предсказание пророка с Полицы, слепого старца Стана, когда он впервые услышал выстрел и ощупал винтовку:
— Этим оружием последняя мразь может убить юнака. Изведут со временем юнаков и самое их семя. И когда это случится, станет не лучше, а хуже. И побежит человек от человека за тридевять земель, и не сможет убежать. Так будет — Рим был, Рим и останется…
Для старого пророка Рим был не городом, не страной, не верой, а символом вероломства, обмана, порока и лукавства, и вот сейчас, глядя, как падает подстреленный парень, им показалось, будто на их глазах сбылось пророчество: убили лучшего, чем они, убила какая-то мразь, что прячется в укрытии, и позор этот уже никогда и ничем на свете не смоешь.
Выбитые из колеи, не в силах выбраться из хаоса противоречивых мыслей, люди смотрели, как среди коммунистов наступило замешательство. Они остановились, оглядываются, двое из них, Слобо и Боснич, вернулись обратно; третий — Шако — крикнул:
— Погоди, Слобо, посмотрим сначала!
— Нечего тут глядеть, прикрывай нас, пока мы его не возьмем.
— Погоди, может, он сам!
— Уходи, Слобо, — крикнул Вуле. — Ступайте, ступайте, со мной кончено!
Он хотел подать им знак рукой, чтобы уходили и не гибли понапрасну, но уже не смог пошевелиться. Наконец он перестал их слышать: поняли, отступили, верно, перевалили через гору — так они ушли из его сознания. Перед глазами у него синий круг, он постепенно бледнеет и уменьшается. Вот он сжался до отказа и сыплет без конца разноцветными искрами, что повисают, капают и одна за другой угасают во мраке. Прежнего, освещенного солнцем мира больше нет, есть только темный подкоп под стеной каторжной тюрьмы в Сремской Митровице — коммунисты вырыли этот подземный ход, собираясь по нему выбраться на волю. В подкопе ему вдруг не хватило воздуха, — прорытый для человека средних размеров, он оказался в одном месте слишком узок для его широких плеч. Вуле застрял и ни вперед, ни назад: над ним земля, тысяча тонн земли с червями и волосками корней, под ним черная земля, черная смерть, конец. Он бы смирился и задохнулся, но мысль о том, что за ним ползут другие и он преградил им путь, заставила его втянуть в себя ребра, сжаться и пробиться к воздуху, на волю.
«То было тогда, — подумал он, — сейчас другое. Сейчас позади нет никого. Позади одна лишь смерть, а ей как раз и не надо давать проход. Потому я могу спокойно лежать, пора и отдохнуть, многие моложе меня давно уже на отдыхе».
Вокруг мокро и холодно. Земля, которую он щупает руками, кажется какой-то странной, вроде густой мыльной пены в огромном корыте, из которого он тщетно пытается поднять голову. Но вот он не может поднять и ее — сверху упала черная крышка и закрыла подземный ход без начала и конца. Но теперь это уже не тюрьма в Сремской Митровице, дело происходит в Ужицкой республике, ее теснят немецко-четническо-недичевские полчища. Испанец предлагает перейти Дрину, Попурина его поддерживает; все командиры и комиссары согласны, кроме Затарича, и лишь Радован Вукович молчит и ждет, что скажет партия, — однажды он поспорил с партией и дал слово, что больше никогда не будет. А партия не хочет оставить Сербию без партии, а себя не может оставить без армии, а раз так, проход в Мачву и Посавину закрылся, — прощай осень, земля сверху и позади, винтовки бьют, немецкие танки завязают в грязи, земля же — не немецкие дивизии, как поначалу казалось, а гигантские капиталы Siemens und Halske — Schuckert и AEG, Круппа, Шнайдера, Армстронга и Standard Oil Co. которые без конца пожирают друг друга, и меняют свои названия, и концентрируются в огромной Kartell und Trust, в бронированное движущееся чудовище Drang nach Osten, под которым трещат кости.
Наконец остатки армии пробились к Дрине и ночью перешли в Боснию. Коммунисты уходят в подполье, чтобы перезимовать и до новой травы наладить связи, а для этого нужно время. Кому-нибудь нужно стрелять и отвлекать на себя внимание, лучше всего это делать тем, кто все равно долго не протянет, у кого дни и часы на исходе и километраж исчерпан. Ступай ты, Вуле Маркетич, наступил твой черед. Собери все, что есть, и топай. Тебе уже недолго осталось жить, ты уже стар — двадцать четыре, а это много, если принять во внимание, что давно уже гибнут те, кому нет и восемнадцати, и не только коммунисты, но и те, с другой стороны. Что такое? Не можешь встать? А ты потихоньку, не сразу, где это видно, чтобы раненый человек сразу вставал! Сначала встань на четвереньки, как встает ребенок, знакомясь с миром, который только и создан для того, чтобы хлопаться оземь. Вот так, видишь, можешь! Все можно, стоит только захотеть. Другим удается подняться только раз в жизни, да и то невпопад, а тебе судьба оказала особую честь: подняться дважды, трижды, а это уже четвертый, последний раз. Сейчас поверни винтовку, так, — главное, высмотреть цель и нажать на спусковой крючок, может, еще остался какой патрон…
Вуле выпрямляется, ослепший от боли, мокрый от крови, огромный и тяжелый, как обломок скалы. Он видит, как вздрагивает гора Белая, слушает человеческий гомон, и кажется ему, что он на гулянье. Болит рана, из-за нее болит и сердце. Какое-то странное гулянье, на него не пускают ни чужих, ни коммунистов. Веселье вот-вот начнется, и пока стреляют в цель. «Плохо стреляют, — думает Вуле, — стыдно им. Я стрелял бы лучше, — может, они потому меня и не пускают, знают, что я лучше…»
Он поднимает винтовку, стреляет и, покачнувшись от боли, которую вызвала отдача, делает шаг вперед, чтобы не упасть, потом другой, чтобы уйти от боли, и диву дается: «Ведь иду! Опять иду!..» Перед ним пригорок, а в отдалении пень срубленного дерева качается, как на воде. То пень, то смеющийся дед, то Радован Вукович, — значит, его не зарубили в Посавине, здесь сидит и смеется.
Шум нарастает. «Что это они, — думает он. — Хотят меня криком напугать? Нет, им хочется меня взять живым, как Затарича, и посадить в Баницу[49]. Бросают веревки, свитые из крика, с петлями крика, — все опутано этими веревками. Не дамся!..»
Вуле останавливается. Лицо у него кривится от боли, он ищет патроны в левом кармане, но там их уже нет. Потом он отыскивает их в правом, заряжает винтовку и делает два выстрела, чтобы заткнуть им глотку. Замолчали наконец. Так! С ними бы он легко справился, но на него напал тройной пес боли, Трехголовый, Троепес, до сих пор неизвестный в царстве животных, так как эта напасть принадлежит к неисследованному и неведомому царству смерти. Вцепился зубами Троепес в ребра, в крестец, в грудь под сердцем — и повис, не отпускает, и все тяжелеет от выпитой крови.
Вуле отошел в сторону, чтобы избавиться от него, потом шаг за шагом стал приближаться к пню. Стрельба все еще слышна, только слабее — словно бы удаляется. Это встревожило его: «Видят, что я готов, вот и не хотят убивать, брать грех на душу. Презирают. Не могу даже отвлечь их на себя. Преследуют Видрича. Убьют и его и всех, чтобы и памяти о нас не осталось. Может, смотрят, как я мучаюсь, и радуются. Но если мне удастся добраться до пня и положить на него винтовку, чтобы она меньше отдавала, они еще раскаются, что пренебрегли мной…»
Пуля, точно белая мышь, зарылась перед ним в снег. Другая, как ножницами, полоснула полу расстегнутого гуня. До пня оставалось уже три шага, когда пуля Тодора Ставора подсекла ему обе ноги. Вуле упал в снег и закрыл глаза. Сохранился лишь тоненький луч сознания, — боясь, что исчезнет и он, Вуле несколько секунд лежал не двигаясь, будто мертвый, и думал про себя: «Не могу я так лежать, ни живой, ни мертвый! Не позволю добивать себя, как им вздумается, а потом похваляться!.. Надо самому…»
Он нащупал пистолет, болгарский парабеллум, вытащил его, заглянул ему в дуло и, не в силах выдержать его сосредоточенного одноокого взгляда, закрыл веки. «Ослабел я, — заметил он себе, — бояться стал. Не хватает духу у человека: больно и кажется, что потом будет еще больней. Поэтому калеки и больные долго живут. Впрочем, может, это и не так, а наоборот: страх одолевает оттого, что во мне все остальное здоровое. Сердце выдержало бы еще лет шестьдесят, и легкие не меньше, и в голове порядок. До пояса я здоров, верхний этаж у меня крепкий, без червоточинки, точно молодая сосна, вот он-то и протестует, не желает в землю, не хочется ему во мрак и гниение. Не хочется, но придется: протестует, да ничего не поделаешь. Живое во мне связано сотнями нитей с этим миром, который нужно оставить и в котором есть такое небо! Не хочет рука, и у нее есть свой разум, есть душа, свой безмолвный голос протеста, она дрожит, потому что ей даже подумать больно, что именно она должна все разом оборвать. Можно вырвать из сердца мать, много матерей нынче остаются одни-одинешеньки, можно вырвать сестру, и ее детей, и других родичей, можно позабыть все весны, всех девушек, можно расстаться со Слобо и с Шако, но постепенно, а не со всеми вместе и сразу…
Может, мешает то, что я лежу, — сказал он себе. — Покуда лежишь, ты не человек, а либо потенция человека, либо падаль. Нужно как-то подняться, хоть немного, тогда легче будет решиться».
Вуле пошевелился, снег под ним скользкий от крови. Преодолев боль, он заставил себя сначала сесть, потом встать — для его замысла достаточно. И снова поглядел на пистолет: отвратный, рожа такая же, как и прежде. «Скверная штука смерть, — подумал он, — слабеет человек, когда оказывается один перед горой с пещерами одиночества, мрака и забвения. Хорошо, когда другие помогают, утешают, столпившись у порога, подбадривают, или хотя бы быстро толкают в ее пасть, а они вот молчат. Изверги, им бы только смотреть на меня, спрятавшись за кусты и зарывшись в снег, они, верно, радуются, что все это так долго тянется. Но раз я не могу заставить их подтолкнуть меня, надо постараться заставить это сделать себя — обязать себя, дать им слово, а потом уж ничего не попишешь…»
И Вуле сказал, вернее крикнул, его все слышали и поняли:
— Тяжко умирать, люди! Но раз нужно, значит, нужно!
Он выстрелил себе в висок и упал с размозженной головой в снег.
IV
Тодор Ставор, словно только этого и ждал, вскочил и со всех ног кинулся в долину. Он боялся: вдруг кто-нибудь обгонит его и прибежит первым, чтобы взять с поверженного врага трофей. Ему даже показалось, что люди уже побежали и что они бегут быстрее, чем он, так как они моложе, вот-вот выхватят у него из-под носа и гунь и пистолет, а потом будут похваляться и издеваться над ним, что он-де напрасно старался. Гунь еще как-то можно пережить, его попортили пули, но пистолет — слава и честь, бесспорное доказательство его героизма! За него он будет спорить, бороться, покуда голова на плечах, а придется, то и голову отдаст, но получит то, что принадлежит ему по праву…
Однако никто в эту минуту и не помышлял о соперничестве с ним. То, что они слышали и видели, увело их мысли совсем в другую сторону. Одни еще стреляли в уходящих коммунистов, другие прятались, спасаясь от коротких очередей Слобо Ясикича и Шако Челича. И, таким образом, никто, кроме Филиппа Бекича, не обратил внимания на Ставора.
«За пистолетом пошел, — подумал Бекич, глядя, как Ставор скрылся, спускаясь с крутого обрыва в низину. — А потом сядет мне на голову со своим геройством! Если еще Рико Гиздич его увидит да поддаст жару, совсем жизни не будет…»
У Филиппа сдавило горло, дыхание стало частым и поверхностным, он почувствовал, что задыхается, в глазах потемнело. Не думая больше ни о чем, забыв о коммунистах, о Гавро Бекиче и обо всем на свете, он решил прежде всего разделаться с этой мукой, а там все пойдет уж легче. Он поднял винтовку, прижал ее к щеке и стал ждать, когда снова появится Ставор. Кровь прилила к голове и мешала думать, он стоял, и у него было только одно чувство страха, что зверь, которого он выследил в чаще, больше не покажется ему на глаза. Увидев наконец Ставора, Филипп прицелился и выстрелил.
— Так, — сказал он облегченно, — будешь теперь знать, кто Свистун, кто фуфыря несчастная.
Прошитый на бегу — пуля прошла через шею и вышла ниже пупка, — Ставор выбросил ноги вперед и упал на спину. Опершись на пятки и затылок, он приподнялся и вывернул голову, словно хотел посмотреть, кто его убил.
— Еще один протянул ноги, — крикнул кто-то.
— Туда ему и дорога, — ответил другой.
— Это наш, — крикнул Бекич. — Наш, наш, не стреляйте больше.
— Это Тодор Ставор, клянусь небесным создателем! Эк, его угораздило!
— Был Тодор и весь вышел. Ушел, ровно мутной водой унесло.
— Вот что значит судьба! Сам черт его туда потащил.
— Известное дело, какой черт: беги хватай, вот и нахватался.
У Бекича отлегло от сердца — дыхание стало ровным, кровь отлила от головы. Словно подул откуда-то свежий ветерок и разогнал духоту. Сейчас он хорошо видит, голова ясная. Ни о каком раскаянии или жалости нет и речи. В чем раскаиваться, если Ставор еще утром, в лесу, заслужил то, что он получил сейчас. Чего жалеть — от таких, как Тодор, алчных голодранцев и пустоголовых крикунов, на земле проходу нет…
Надо ведь что-то делать, если не хочешь заживо загнить, вот и приходится время от времени пошире размахнуться, иначе никогда не вырваться из мертвечины. А если при этом кто-то гибнет, то это его удел, а не вина того, кто размахнулся и остался жив. Так уж судили высшие силы, потому мертвые и не говорят. Главное, чтобы все сошло гладко, а раз никто не видел, то так оно и будет. Может, потом и буду немного раскаиваться, — в последнее время и гнев, и радость, и все прочее приходит к нему с некоторым опозданием, придет на часок-другой да приснится разок-другой, в худшем случае помучает ночь-другую, а потом исчезнет, словно ничего и не было.
Вдруг он почувствовал на своей спине чей-то пристальный взгляд, чьи-то глаза смотрели на него в упор, точно целились, точно вспарывали ножом. Бекич заволновался и сказал самому себе: «Нет никого, это мне только кажется!»
Наконец, преодолев страх, он повернулся и весь затрясся, увидав за кустами согнутую фигуру, бороду и желтые глаза Пашко Поповича. Потом окинул его еще раз внимательным, злым, полным ненависти взглядом, как вор, которого поймали с поличным, все еще надеясь, что, может быть, свидетель растает, как привидение, и удивился, что это не происходит. Стоит себе человек с еще довоенной бородой, с поседевшими волосами, с воспаленными от бессонных ночей глазами и смотрит на него — землистый от усталости, весь взъерошенный, то ли призрак, то ли предостережение и нечистая совесть, забредшая сюда так не вовремя, — смотрит в упор и молчит. На ногах у него желтые итальянские солдатские башмаки и теплые шерстяные серые гамаши до колен. Будь это привидение, на нем не было бы итальянских башмаков, будь это совесть — не было бы у нее винтовки…
Филиппу Бекичу захотелось броситься на него, свалить на землю, растоптать и уничтожить. От мысли, что этого он сделать не может, лицо его исказилось, перехватило дух, и он с трудом выкрикнул:
— Откуда ты здесь?
— Пришел, — спокойно сказал Пашко. — Я давно тут.
— Как давно? Откуда давно, я тебя тут не видел!
— А я тебя видел, и видел, что ты делаешь.
— И?
— Моя мать из рода Маркетичей, как и твоя. Душа у меня заболела.
— У меня нет, не знаю, о чем ты говоришь?
— Не ты, злая нечисть это сделала: она неразборчива, ей бы только побольше мяса.
— Ничего не понимаю.
— Сказанного не воротишь, сделанного не поправишь!
Голос у старика скрипучий, полный сиплых нот, как у попа; кроется в нем и что-то загадочное, и какая-то жалость. Бекичу не нравится ни то, ни другое. Ничего ему не нравится, все испортил старик — голова кружится, и снова подступает волна бреда и дрожи. Все видел старый лис, заключил он про себя, и даже не скрывает, потому что дурак. Надо и его шлепнуть. И поскорее, сейчас же, пока тут коммунисты, пока еще стреляют, пусть на них подумают!..
Он взглянул на свою винтовку, взял ее под мышку, чтоб стрелять не целясь, и вдруг почувствовал, что у него дрожат руки. «А если я промахнусь, — подумал он, — или только раню его?.. Все выйдет наружу и пропадет. Он точно знает, что я ничего не могу с ним сделать, — и глазом не моргнет, не говоря уж о том, чтоб уйти от меня… Придется попытаться с ним договориться и выждать более удобный случай. Ну-ка, поглядим, получится ли, а потом уж будет легче…»
— Я приказал тебе стеречь ту женщину, — сказал он. — Где она сейчас?
— Лежит у Лилы. Ее нужно в больницу отправить.
— Лучше бы и занялся этим, чем прокрадываться и совать нос туда, куда не следует. И для меня это гораздо удобнее, не так ли?
— Конечно. Я хотел, но ты снял бы с меня за это голову. Крутой у тебя нрав, запальчивый, больно ты скор на руку, не годится это.
— И сейчас не поздно отвезти женщину, — сказал Филипп в надежде, что Пашко повернется к нему спиной.
— Сейчас не могу, есть более спешные дела.
— Какие дела?
— Дай мне десяток людей — мертвых вынести.
— Куда?
— На Повию, на кладбище. Мертвым надо отдать должное, все там будем.
«Сразу обнаглел, — подумал Бекич. — Шпарит без обиняков, не просит, требует и уверен, что получит. Если только это, то пожалуйста. И денег дам, если попросит, или там клочок земли, у меня этого добра хватает. Надо дать, а потом уж я найду способ отомстить. Главное, чтобы он молчал сейчас, пока свежи следы и пока еще можно доказать. Не думаю, что он много потребует, он не такой, как другие. Глупее. Единственное его желание, кажется, уподобиться юродивому пророку старцу Стану из Полицы. По речам он уже чем-то напоминает его — все какие-то иносказания, не сразу возьмешь в толк, что говорит, да еще вот судьбу предсказывает. Под этим, может быть, что-то и кроется. Никто ничего не знает, люди хитры — мягко стелют, жестко кладут. Тем, кто хвастает, будто говорит одну правду, тоже не стоит верить, зачастую под их правдой скрывается великая ложь…»
— Дам тебе людей, выноси мертвых, — сказал он. — Что еще?
— Еще нужно написать пропуск и записку для той женщины. Чтоб итальянцы пропустили и доктора взяли в больницу. Она обморозилась и воспаление легких — в беспамятстве.
— Как ее зовут?
— Не знаю. Накарябай что-нибудь неразборчивое, лишь бы приняли, а потом как-нибудь распутаем.
— Отложим это до вечера.
— Нет, сейчас. Кто знает, где кто будет вечером.
— Больно ты о ней стараешься. Уж не ты ли набил ей брюхо?
— Брось, сегодня не до шуток.
Бекич написал записку, отрядил десять человек и стал смотреть, как те неохотно спускаются в низину. Они шли медленно и каждую минуту оглядывались, опасаясь, что кто-нибудь пустит им пулю в спину и расквитается с долгом, который остался неоплаченным еще со времен дедов и пращуров. Лишь Пашко Попович не оглядывался — он никому ничего не должен. Понурив голову и опираясь на винтовку, он молча скользил вниз по круче и нарочно обходил укрытия, точно дразнил.
V
Внизу через долину пробивались восемь коммунистов, семеро мужчин и одна женщина. Женщину распознать легко — у нее нет винтовки. Они миновали зону огня отряда Бекича и сейчас проходили под позициями батальона Рико Гиздича. Первым идет Иван Видрич, высокий, с длинной шеей — вылитый журавль, и поэтому весь отряд напоминает маленький журавлиный косяк, отбившийся от главной стаи, усталый, тщетно ищущий выход там, где его нет. Время от времени они оборачиваются, стреляют и ругаются. Обойдут борозды, которые вспахивают в снегу перед ними пулеметные очереди, подождут друг друга и снова продолжают путь. То вдруг заторопятся, словно увидели спасение и поверили в него; то остановятся — перевести дух и ответить огнем на огонь. При этом они строго сохраняют дистанцию и первоначальный строй.
Только Видрич не ругается и не стреляет. Он даже не оглядывается, ему хочется скорей подняться на Кобиль и там, где-нибудь у Свадебного кладбища, погибнуть. Он убежден, что погибнет, чувствует это по той злой силе, которая проникла к нему в душу, сковала ее, погрузив в мертвую спячку. Настолько убежден, что уже какой-то частицей своей души желает, чтобы это случилось быстрей. А движет им уже не слабое и надломленное желание выжить, а долг, он понуждает его уйти как можно дальше и облегчить судьбу других. И Видрич тащит этих других — иначе они остановились бы, вступили в бой и погибли. Но самое интересное — ему кажется, будто он давно все это предвидел, знал и пошел на это сознательно. Дело, помнится, было на Пиве, при отступлении. Внезапно какой-то внутренний голос без всякой причины — как беспричинно порой зазвенит в ухе — принялся его укорять: «Ушел себе в бригаду, где все просто и ясно, от горя убежал; бросил в беде товарищей на милость и немилость народа, который станет их душить, а потом, когда их уж на свете не будет, каяться…» Шептал этот голос денно и нощно, и в конце концов заставил попроситься назад. Люди удивлялись, отговаривали, но тщетно. Тогда он не мог объяснить, что его туда тянет, да и сейчас не смог бы — словами не объяснишь. Разве только так: живет в этом народе кровожадное чудовище, как и где — неизвестно, и кажется, ищет оно именно его, Ивана Видрича, авось успокоится, если увидит мертвым…
За Видричем или рядом с ним — голова отряда должна быть сильной — шагает Душан Зачанин, опытный, хладнокровный стрелок, он бьет из винтовки и стоя и на ходу без единого промаха, словно целится с упора. Когда они отдыхали у развалившейся мельницы, он хотел там и остаться, засесть в развалинах и постараться получше отомстить за себя. Сейчас он понимает, что так все-таки лучше. «Кому мстить, кого убивать? Только своих — тех, кто стреляет поверху или понизу, другие-то прячутся, ждут, пока с нами покончат гранатометами. Если нас и дальше так будут щадить, кто-нибудь, может, живым и выберется. Я-то нет — стар и сил мало. Не могу бежать, да и не к лицу мне, но Слобо и Шако могут, пусть хотя бы они спаслись. Господи, если ты есть на свете, помоги им выбраться! Потом, когда минуют муки и начнут вспоминать, как это бывает после каждой войны, вспомнят они и нынешнюю ночь: как мы спорили и чуть не поссорились из-за Лима, который по-прежнему течет себе, куда хочет. И может случиться, что моя мечта о плотинах и каналах не будет предана полному забвению. Услышат о ней другие и увидят, что в ней что-то есть. А я тогда буду спокоен — буду себе лежать под густой зеленой травой и плитой с надписью:
Здесь покоится
Душан Зачанин,
погибший за правду».
За ними, как за укрытием, идет Гара. Покидая землянку, она вытащила револьвер — не обороняться, а чтобы, когда придет час, застрелиться, — и держит его в руке. Лицо у нее с виду спокойное, но это внешнее спокойствие требует постоянного душевного напряжения. Временами, и это происходит все чаще, Гаре хочется застонать от переполнявших ее горя и тоски, хочется заголосить от жалости к своему сыну, к своему мужу и брату, к Вуле Маркетичу, которого больше нет, ко всем этим несчастным людям, которые защищаются до последнего без всякой надежды на спасение. Причитая, она бы вопрошала: «Кто же придет к ним на помощь? Где ты, великая Россия, и ты, партия, и ты, восставший народ? Мы все за вас отдали, неужто у вас не найдется ничего, кроме посмертной жалости? Неужто все глухи, немы и слепы к нашей беде, неужто все двери закрыты, все замки на запоре и никто не протянет нам руки помощи?..»
Она знает, что ее стенания будут встречены только насмешками, она подавляет их, цепенея от ужаса, что они вырвутся сами собой. Гаре страшно опозориться, а обузданный на минуту вопль снова подступает к горлу и рвется наружу. Когда нет больше сил его сдержать, Гара поднимает револьвер, прижимает его к левой стороне груди и кладет палец на курок. Теперь она может идти дальше и, если Иван Видрич оглянется на нее, лицо ее будет на вид совершенно спокойным.
Захваченный пароксизмом страха Арсо Шнайдер в какой-то момент перегнал Ладо и теперь идет четвертым, следом за Гарой. Он не мог преодолеть искушения перегнать его. Сквозь гром залпов, вихри свинца и железа, направленные в их затылки, смотреть, как ковыляет Ладо, и представлять себе, как болит у него рана, было свыше его сил. Он начинал чувствовать такие же боли, увеличенные страхом. Сейчас ему лучше, он позабыл о Ладо, и в душе даже появилась надежда. Правда, надежда довольно сомнительная и подленькая, продиктованная таким расчетом: «Потери начались с хвоста колонны, как и всегда при отступлении, если так пойдет и дальше, то на очереди Шако, потом Слобо, Раич Боснич и Ладо; я пятый, к тому времени либо я перегоню Гару, либо мы доберемся до Рачвы, либо, наконец, совершится еще какое-нибудь чудо. Почему бы и не произойти чуду, если это будет угодно богу? Разве не чудо, что я до сих пор жив, и разве это не доказывает, что бог и его воля существуют…»
— Великий боже, — зашептал он, — велик мой грех, когда я говорил, что тебя нет, я каюсь в нем! Все говорили, что тебя нет, пришлось и мне говорить то же, чтобы не быть белой вороной, но я и тогда верил: ты там, где мы даже не подозреваем. Всеблагой боже, великий и всемогущий, сделай так, чтобы в меня не попала пуля! У меня двое детей, не оставь их сиротами, как остался я, когда мать вышла вторично замуж, защити ради них, прикрой своей десницей! Вот я крещусь перед всеми, смотри! Пусть видят и свои и чужие, пусть все насмехаются надо мной, что мне они, я уповаю только на тебя и молю тебя ныне и присно, аминь!
Первое желание Ладо, когда он увидел, что Шнайдер крестится, было пнуть его ногой в зад. Будь он поближе, Ладо так бы и сделал, не раздумывая и даже с наслаждением, но нагнать Шнайдера в эту минуту не удалось. Вскоре гнев утих, оставив после себя лишь жалость.
«Вот до чего дошли, — подумал он, — а это ведь еще не конец! Что ж, пусть крестится! Чего еще ждать от маленького человечка, сельского портного, этого кривобокого Андрокла! Он позабыл то немногое, что прочитал, а то, во что поверил, не свершилось. Пали большие города, пали целые страны и великие компартии, которые долго били себя в грудь, бахвалились, — как же не пасть Арсо Шнайдеру? Все больше и больше он сдавал под нажимом могущественной Тиамат, которая бросила на нас все свои злые силы, чтобы сломить одного за другим… Хорошо еще, что не предлагают сдаваться, он тут же попытался бы это сделать, и тогда мне пришлось бы его убить. Трудно его убивать, ведь мы сами виноваты! Увлекли его рассказами, брошюрами, легкими победами, которые потом за одну ночь просадили в карты. Хорошо, что не предлагают сдаваться. Это они первый раз так. Не надеются, вот и не предлагают, так что приходится быть героями, героями без всяких зрителей.
Пуля, прорезав ему, как ножницами, штанину, прервала его мысли, кусок материи повис над коленом. Ладо остановился и посмотрел вверх, на покрытую лесом гору.
— Опять ранило? — спросил Боснич.
— Нет, штаны порвали, погляди!
— Штаны не забота, обзаведешься другими.
— Таких больше нет, довоенное сукно, офицерское.
— Что с ним? — спросил Слобо.
— Продырявили ему брюки офицерские.
— Стянем тебе с офицера другие, потерпи малость, дай только найти!
Ладо подумал, что Слобо хочет шуткой скрасить тяжелые минуты, однако Ясикич и впрямь был уверен, что это не только возможно, но вскоре и состоится. Его мысли, подогретые воображением пламенного скоевца, у которого не было времени для болезней и сомнений, давно уже были заняты одним желанием: перестать прятаться, перейти от обороны в наступление. Это общее желание, выполнение которого откладывалось доводами и решением старших, порождало в его душе мечты и планы молниеносных нападений, прорывов и ударов, которые наносились бы без передышки и сопровождались смелыми террористическими актами.
Несколько часов боя, кипящей ненависти, печали и приглушенного биения крови в голове, которые, казалось, вместили в себя дни, месяцы и годы ожидания, сгустили, распалили ядом мести мечты Слобо и затмили подлинный мир. Великий перелом уже наступил. Нет нужды дожидаться листьев и календарной весны, дожидаться возвращения бригад из Боснии, пусть каждый делает свое дело. Что такое весна, зелень, травушка-муравушка? Все это недолговечно и осуждено на увядание. Они сами весна человечества в непрестанном кипении и порыве! «Какие там почечки-мочечки? — кричит в нем все, — нельзя больше ждать! Если враги могут на нас напасть в такое время, значит, и мы можем. Их больше, но мы смелее — вот и получается баш на баш. Надо только ударить без колебания, прямо по голове — быстро, внезапно и беспощадно. Лучше всего напасть неожиданно, ночью, подобно волкам и призракам. Нож и граната! Снять караулы, жандармов, офицеров, штаб за штабом и разогнать этот шелудивый сброд по долине, не дав ему ни вздохнуть, ни поглядеть, откуда стреляют, и они тотчас поднимут руки вверх и попросят пощады. Одни перейдут на нашу сторону, лишь только увидят, как все это здорово получается, а другие перейдут, когда поймут, что пощады не будет. Перейдут непременно, они ведь и раньше были с нами. Из них получатся борцы, обязательно получатся — вон санитар Раич Боснич мигом превратился в борца…»
Раич Боснич шел впереди Слобо, сразу за Ладо и держался так, будто никогда не был интендантом и санитаром в глубоком тылу. Ему в голову не приходит прятаться или убегать, он все время громко ругается. То на ходу выпустит две-три пули в закачавшийся куст, то, наткнувшись на удобное укрытие, из-за облепленной снегом скалы заставит умолкнуть какого-нибудь горлопана, который бахвалится наверху. Вокруг пузырятся белые мячики взрытого пулями снега, он наступает на них и давит ногами. От крика вздулись на шее жилы. Лицо разрумянилось, глаза мечут молнии, он кричит резко и пронзительно, и каждый раз находит что-то новое, соленое и перченое, чтобы заткнуть рты тем наверху. У Слобо и Шако он вызывает восторг. Порой им кажется, что это не Раич Боснич, а какой-то другой герой — из мечты, из книги, из романа «Как закалялась сталь» или бог знает откуда — внезапно вселился в него, принял его облик, чтобы сыграть трудную роль на этой огромной сцене, перед зрителями, которые ненавидят и презирают героев.
Между тем Боснич вовсе не чувствует себя героем. Болит грудь, избитая отдачей, — он клянется про себя, что к следующему бою разыщет кусок автомобильной шины и заменит ею железо, которым окован приклад винтовки. Горят веки, болят от солнечного блеска глаза, при первой же возможности он решил приобрести и шапку с козырьком, который можно поднимать и опускать, когда нужно. Боснич устал, хочет есть, и ему кажется, что он идет слишком медленно и шатается от усталости и что все это видят на белой сцене, освещенной коварными рефлекторами, видят и думают, что его шатает от страха. Не от страха, кричит все его нутро, не боюсь я вашей слепой стрельбы! Вокруг места много, попробуй попади в меня! Не всякая пуля бьет в цель, и не всякая сотая, — да и та, что попадет, — не обязательно свалит. Не могу я умереть, по крайней мере сегодня! Слишком рано, я только вошел в эту новую игру, а новичкам всегда везет.
— Эй вы, обезьяны, псы бесхвостые, вы у меня полаете из-под забора, погодите малость, я вам покажу, будете меня вспоминать!..
VI
Подошли к подъему на Кобиль, осталось подняться на него и по плоскогорью Свадебного кладбища пройти к Рачве. На склоне стояли буки, торчали высокие пни, за которыми удобно укрываться, но и огонь четников усилился. Пулемет на Седлараце не давал двинуться с места. Чтобы обнаружить пулемет и заставить его замолчать, Слобо стал перебегать от дерева к дереву. Он разгорячился, из носа потекла кровь — щекочет, мешает. Он утирает ее рукавом, а она каплет, горячая, на колени. Боснич кинулся к нему.
— Куда тебя ранило, Слобо?
— Не ранило, вот видишь, какая глупость, — сказал он, глотая сгусток крови.
— Сунь за ворот снега, сразу остынешь.
— Суну побольше, его-то уж вдоволь.
Рой пуль засвистел над их головами и ободрал кору с соседнего бука. Слобо нажал на гашетку, очередь получилась короче, чем он ожидал, и тут же в пулемете что-то зловеще затрещало. Он снова нажал, сильнее, но старый ручной пулемет — «шлюха» — оставался нем. «Опять заело, — подумал он, — вечно заедает в самый неподходящий момент!..»
Разыскивая неполадку и злясь на то, что она так ловко запряталась, он ругался, плевался и глотал кровь. Наконец стало ясно: никакой неполадки не было, все гораздо хуже — вышли патроны. Не было их ни в карманах, ни в сумке, нигде. В первое мгновение Слобо показалось, что он летит в пропасть, которую ему давно уже припасли и запорошили снегом темные силы. Нет, это не пропасть, а коварный заговор, который устроили неодушевленные предметы против него, против весны и великого поворота. Он топнул ногой и с ненавистью посмотрел на старую железину, которую так любил и долго носил на плече, — обманула, пустила по ветру все, что у него было. И раньше ловчила, изменяла, как только могла, но сейчас он ей не простит!.. В два прыжка Слобо подлетел к скале, первым ударом согнул, а вторым перебил ствол на две части.
— Вот, — крикнул он, глядя на оставшееся в руках деревянное ложе. — Обойдемся и без тебя, — и бросил и его.
— Отслужил свое, — заметил Шако.
— Долго держался.
— Вот когда мой мерин нас предаст, тогда…
— Что тогда?
— И божья тетка нам тогда не поможет.
— Не захочет божья тетка, поможет вот этот дядька. — И Слобо снял с плеча карабин. — Больно и от этого бывает.
Шако посмотрел на него с завистью. «Меня переплюнул, — подумал он. — И говорит вовсе не для того, чтобы других ободрить и развеселить, как сделал бы я, он на самом деле верит, что можно отсюда выбраться. Его счастье, что у него такая голова. Умрет и не поморщится. Было у нас много таких, а вот теперь он один остался».
Чуть не плача от жалости, Шако отвернулся и стал смотреть на низкорослый лес под Седларацем. Колючие кустарники, пучки веток и засохшей вики — отвратительное чудовище, протянувшее свои мертвые когти к небу. Всю жизнь Шако провел в подобных краях и только сейчас увидел, до чего они безобразны. Ранят, колют, режут глаза солнечным блеском, на них нельзя прямо смотреть, нужно щуриться. А со всех сторон бранятся сербы, галдят, как сороки, итальянцы, а издалека доносятся приглушенные завывания муэдзина, призывающего мусульман к молитве.
Стрельба все усиливается, увеличивая слепящий блеск. От пуль вздымается поземка, и то тут, то там завихряется над пропастью, как шабаш растрепанных, косматых ведьм, по три, по четыре хоровода разом — одни исчезают, другие расширяют подолы и тянут каждая по три руки с клювами, щипцами и петлями, чтобы схватить и утащить в землю. Одна устремилась на Видрича, — он прошел сквозь нее, точно не заметил. Другая обрушилась на Зачанина, — он оттолкнул ее, споткнулся, поскользнулся, упал на колено и принялся стрелять. «Ранен, — подумал Шако, — надо ему помочь». И пошел к нему, и в этот миг совсем рядом раздался выкрик — чистый, звонкий и, казалось, веселый.
— И-их!
Точно клекот орла, подумал Шако, еще не повернувшись на крик. И на черногорское коло[50] похоже, когда парень, встречаясь с девушкой, прыгает вверх и кричит, как орел. Но здесь коло смерти — тут нет девушек, одни ведьмы, — что может развеселить человека и заставить его так крикнуть? Преодолев наконец внутреннее сопротивление, он оглянулся и увидел, как Слобо, расширив в прыжке руки, падает. Боснич первый подбежал к нему и оттащил в укрытие.
— Готов, — сказал он.
— Как готов?
— Да так. И выстрела не слыхал.
Шако повернулся к Седларацу и погрозил кулаком:
— Позор тебе, лес, ты убил героя! Заплатишь ты мне за это, поганый лес, буду тебя жечь, рубить, помянешь меня лихом!
Потом посмотрел на Слобо: пуля попала в лоб, крови не было — белела кость, белело мясо, белее снега было и овальное лицо с тонкими дугами бровей и удивленными глазами. «Еще краше, чем живой, — подумал он, — даже брови не нахмурил. Жаль, что не может таким остаться!..»
— Надо помочь? — крикнул Ладо.
— Нет. Помоги Зачанину, если можешь!
— Он сам идет. Что со Слобо?
— Погиб Слобо и выстрела не слыхал.
Вокруг защелкали пули. Шако схватил карабин Слобо и устремился вперед. Обогнал Ладо, оставил за собой Арсо, подбежал к Гаре и протянул ей винтовку.
— Возьми, Гара, — сказал он, — это тебе память о брате…
Она молча приняла винтовку, как берут на руки ребенка, как брала она Слобо, когда тот был маленький, и они ходили с ним собирать чернику, и он лепетал: «Пойдем, сесличка, по челнику!» Она знала, нужно что-то спросить или хотя бы что-то сказать, но не могла, боялась, что вместе со словами, сломив ее сопротивление и обнаружив ее женскую слабость, вырвется тот вопль. И она пошла дальше безмолвно, тяжело переступая ногами, опустив глаза долу. Снег кажется ей каким-то серым чудищем — широким, бесконечным мутным потоком, который течет, течет и тащит все за собой. Он утащил уже Видо, потом Вуле, а вот сейчас и Слобо, не выпустит и этих, что еще борются с ним. Не оставит ни скал, ни деревьев, ни долинок, где вьются над хижинами дымки, ни плоскогорий, где растут сосны, ничего, ничего — все накроет своей облавой. Напрасно они поднимаются в горы, и напрасно горы вытягивают свои шеи и задирают лысые головы к небу, — серый, бурный поток все разрушает и уносит вниз, в мутный водоворот, над которым шипят, точно змеи, винтовки.
Временами Гара с трудом поднимает голову и заставляет себя широко открыть глаза и смотреть. Она видит, как стреляет Зачанин, как, щелкая затвором, выбрасывает гильзу и загоняет патрон в ствол. Видит, как впереди широко шагает Иван Видрич, заставляя поторапливаться и остальных. Она слышит, как за спиной у нее шумит и грозит Шако, как ему вторят Ладо и Боснич, уже охрипший от крика. Гара знает, что позади должен идти еще кто-то, чьего имени и лица она никак не может вспомнить. «Мы еще живы, — с усилием думает она, — значит, еще не все пропало. Кобиль уже недалеко. Потом будет легче. Через Свадебное кладбище дорога ровная, как скатерть. Все думают, что там будет легче, потому и спешат. Ну, а если они ошибаются, что тогда?..» И все снова скользит в пропасть, она закрывает глаза, чтобы не смотреть. И все-таки чувствует, как мир распадается на части, которые серое чудище катит и толкает вниз.
ОДНИ ЛИШЬ РАССТАВАНИЯ
I
Стрельба на дне долины, у мостов, на перекрестках дорог и у бродов через Лим продолжалась долго, она то ослабевала и, казалось, замирала совсем, то снова оживала. Достаточно было в минуту затишья кому-нибудь ненароком выстрелить, как в ответ из сел с одной и другой стороны реки снова поднималась яростная перестрелка. Наконец наступила тишина. Все решили, что невидимая опасность, отыскав себе лазейку, двинулась дальше либо повернула в другую сторону. Возвращаясь в трактиры или караулки, чтобы укрыться от солнца, защитить глаза от ослепительного блеска, подогреть консервы, закусить и продолжать начатую игру, милиционеры рассказывали о смертельной опасности, от которой они так дружно и смело отбились.
Поскольку в каждой группе было хотя бы по одному певцу-гусляру, в обязанности которого входило возвеличивать их подвиги перед начальниками и итальянцами, события в их обработке вскоре приобрели невероятные размеры. Оказалось, что это было давно подготавливаемое, хитро задуманное нападение, в котором действовали коммунисты с левого и правого берега Лима с целью снова заминировать мосты. Центром нападения был главный мост у Црквины. Коммунисты пригнали сюда трех вороных лошадей с тремя тюками динамита. Чтобы все это больше походило на правду, четники уверяли, будто собственными глазами видели, как Гара отдавала распоряжения; другие уверяли, что заметили двух женщин — Гару и еще какую-то загадочную женщину. Поддерживая друг друга, мало-помалу сочинили целую историю о том, как Иван Видрич орудовал на правом берегу, а юрист Иванич на левом, как они договаривались, как появился потом Васо Качак и крикнул:
— Лучше отложить и избежать потерь.
Тут Качак был ранен и ушел с рукой на перевязи.
А Васо Качак тем временем сидел на куче ветвей — бледный, озабоченный, с голодной резью в желудке. Ему стало бы лучше, если бы он хоть что-нибудь проглотил, пусть даже комочек снега, раз нет ничего другого, но он по опыту знал, что снег вызывает голод и жажду и утоляет боль ненадолго, а потом еще больше усиливает. И товарищам — Момо Магичу и Гавро Бекичу — он советует терпеть. Рот у него свело судорогой, губы посерели, запеклись, но он молчит, уставясь в сверкающий простор, и все еще надеется, что, когда его мучения дойдут до предела, он вдруг увидит, как идут Байо Баничич и Видо Паромщик. Случись так, все страдания показались бы пустячными, а тяжкий день превратился бы в светлый, незабываемый праздник. Как будто Байо вместе с книгой личных дел в целлофановом пакете притащил бы полный ранец еды и питья, и даже больше того: принес бы в одном кармане победу, а в другом — подписанный договор о мире во всем мире. И он больше не спускал бы с него глаз! Только о нем и заботился бы, не позволил отойти от себя ни на шаг. Берег бы, как зеницу ока, и при первом же удобном случае отослал бы его живым туда, откуда его прислали, чтобы никто не мог его упрекнуть, что он не сумел уберечь непривычного к горам, зябкого и тщедушного пришельца.
Ждет, ждет, и все напрасно. И ему кажется, что у него трескаются не только губы, но и кости под тяжелым бременем томительного ожидания. Становится все очевиднее, что никакой надежды нет, но страх перед той минутой, когда надежда окончательно погаснет, заставляет его упорно хранить горсточку пепла, в котором что-то еще тлеет.
Сначала мешала стрельба. От внезапного шквального огня захватывало дух, он бил по больному месту, по самым слабым нервам. Васо хотелось, чтобы стрельба прекратилась, а когда она прекратилась, он вместо облегчения почувствовал новые муки. Воцарившаяся тишина казалась бездонной пропастью, в которую мир улегся, точно в могилу, — и долина Лима, и вся Европа с ее шоссейными дорогами, запуганная аусвайсами и облавами гестапо. Пусто, мертво, не слышно человеческого голоса — народы покорены, рабочее движение раздавлено, людей превратили в рабов, загнали в концлагеря, застенки, заставили делать оружие. Искусственное, холодное, мертвое эрзац-солнце блуждает над странами, где нет надежды и радости, где царят насилие и убийство, где никто не смеет говорить даже шепотом, где, наконец, и славные компартии свернули свои знамена, попрятались в подполье и гибнут.
То, над чем раньше Васо Качак не осмеливался размышлять, то, что старался изгонять из голов товарищей, как порок или заразное бешенство, внезапно овладело его мыслями и подавило волю.
Признайся, шептало оно ему в ухо, сейчас мы одни! Мы верили, что положение вещей таково, каким нам хотелось его видеть, поэтому мы и ошиблись. Два сильнейших фактора, двигающих массами, — национальный и классовый, — не оправдали себя. И дело свободы, словно какое заблуждение или предрассудок, выдохлось и погибло. Предположим, национальное чувство устарело. Оно долго действовало, иногда и во зло, но вот иссякло, потеряло силу; и тут же нашлись Петены и Недичи, которые извратили его, чтобы успокоить продажную совесть буржуя и заставить сбитое с толку мещанство терпеть все, что бы ни случилось. Пожалуй, с этим можно согласиться: патриотизм исчерпал себя еще в первую мировую войну, но рабочее движение, коммунисты тоже, как мне кажется, выглядят не лучше. Вот, смотри: болгары, например, хвастались бог знает как, дали Димитрова, за ними шла половина народа, казалось, могли сделать все, что хотели, а ничего не сделали. Государственная машина, цела-целехонька, сотрудничает с Осью, служит и везет. У венгров и большой опыт, и революционная слава, и военные специалисты с испанских времен, но и о них что-то ничего не слыхать. В Чехии у коммунистов были свои избиратели и депутаты в парламенте; во Франции была самая сильная партия в стране, но и о них ни слуху ни духу. Было кое-что в Италии, видно, что было: все итальянские солдаты знают и любят петь рабочие песни, но какой прок, если они осмеливаются их петь лишь после того, когда мы их разоружим и освободим от офицеров и фашистов? Известно, что и среди немцев были борцы, — где они сейчас? Были и у других народов, а сейчас ни у кого нет, словно никто и не нюхал этот наш марксистский лук. Если всех их уничтожили в концлагерях, то почему они так дешево себя продали?.. Если не уничтожили, то чего они ждут? Будто какой дьявол в сапогах усыпил их дурманом и сонными извел. Только на нас этот дурман не подействовал. Почему? Если мы глупы, как утверждает противная сторона, то каким образом мы держимся вот уже скоро два года? Если не глупы, в чем мы уверены, а только жилисты, выносливы и у нас выработался иммунитет ко всяким ядам, то почему к нам никто не присоединяется? Стоило лишь кому-нибудь присоединиться, и кругом бы заполыхало, все протянули бы друг другу руки, и получилось бы гораздо лучше, чем то, что называлось в 1848 году Весной Европы.
Стрельба внезапно разорвала тишину, стреляли где-то со стороны Белой, на северном отроге Орвана. Васо Качаку почудилось, будто на его мысли залпами отвечает огромного роста дьявол, волосатый, страшный, всезнающий, с бородой и рогами, и, запрещая даже вспоминать ту не слишком урожайную Весну Европы, сердито гремит решетом, просеивая эти воспоминания: кан-ку, гр-гр, бам-бам-бам, бу-у-у!
Перед глазами Васо Качака горы стали вдвое выше: над дрожащим маревом тех, что покрыты снегом и освещены солнцем, поднялись, покачиваясь от грохота, другие, мрачные и высокие, и закрыли собой все небо. Два мира, подумал он, один живет вечность, а другой — мгновенье, и природа их различна и стремления различны, но сейчас они объединились, точно молот и наковальня, против человека и его весны.
— Пропадает Иван Видрич, — вырвалось у него из уст. — Все! Прощай!
— Пропадаем мы давно, только вот еще живы, — заметил Момо.
— Да, кончено, — подхватил Гавро. — А может, он то же самое о нас думает.
— По кому же им еще стрелять? — спросил Качак.
— И по туркам могли стрелять, и просто так, они патронов, как мы, не жалеют, — сказал Гавро. — Этого добра у них хватает.
Где-то под Белой ответила другая сторона. Выстрелы, поначалу какие-то слабые, точно из могилы, участились, поддержанные короткими и приглушенными очередями. Слышались и крики, расстояние придало им какой-то призрачный оттенок, это были прерывистые стоны бессмысленной людской жалобы, над которой смеялись сверкающие на солнце горы. Однако вместо того, чтобы замереть, чего со страха ожидал Качак, огонь уплотнился, окреп и как бы стал видимым. Словно вихрь, кружащий опавшие листья — точь-в-точь взлохмаченная ведьма, — бой начал перемещаться с подножья Повии вверх по крутому ущелью. Задерживаясь, он взвывал на перевалах и поднимался все выше к Седларацу и Кобилю. Наконец, поднявшись наверх, ведьма собрала силы и новые ворохи сухих листьев, столкнула их и завертела. Расходилась, разбушевалась на вершине, подалась за гору к Свадебному кладбищу — голос ее ослаб, но скелет с лохмотьями остался стоять в воздухе, продолжая свою игру, бросая в пространство то крики о помощи, то потусторонний хохот смерти.
— А мы сидим здесь, — сказал Качак.
— Что же еще делать? — спросил Момо.
— Останься мы на Кобиле, мы бы пригодились.
— Кому? — спросил Гавро. — Это не наши! Как могут семь человек выдержать такое?
— Даже не семь, — сказал Момо. — Гара в счет не идет.
— Может, к ним присоединились Байо и Видо.
— Это мусульмане, — сказал Гавро, — но и они не выдерживают, отступают.
— Ладно бы, если бы мусульмане, — сказал Качак. — Их много, и они знают, что их ждет, пусть обороняются, если хотят жить…
Вдруг Качак умолк: ему почудилось, будто это сказал не он, а кто-то сидящий в нем и что в его словах заключено больше смысла, чем это кажется, — они отвечают почти на все мучившие его вопросы.
«Все как-то изворачиваются, — заметил он про себя, — вот и я этим заразился. Каждый бережет свою шкуру как может, уклоняется от столкновения с сильным, предоставляя встретиться с ним другим. Страх — это тот самый дурман, которым дьявол усыпляет, прежде чем уничтожить силы, которые, будь они дружны, давно бы с ним покончили. Плохо, что люди не способны к согласию — всяк тянет в свою сторону. Только насилием и можно привести их к согласию, а любое насилие отвратительно. Одни от страха глупеют, другие становятся подлецами и переходят на сторону противника, у третьих страх порождает надежду, которой они себя утешают: пройдет, дескать, и это горе, дьяволы были всегда и всегда кто-нибудь находился и обламывал им рога… Вечно вот так, разойдутся на все четыре стороны, а земля горбатая, изрезана реками, разделена горами, словно дальновидная темная сила нарочно устраивала все так, чтобы никогда не сошлись бы вместе те, кому по пути. И у нас то же самое: одни боролись против турок и швабов, а другие их за это хватали, отдавали заплечных дел мастерам или сами сажали на колы. У сербов были потурченцы и янычары, у хорватов — мадьяроны и ватиканцы, — все чему-то отдали дань, наша история кишмя кишит этими выродками, а потому и освобождение шло так туго, со скрипом, тянулось больше двухсот лет и оставило столько язв, ненависти, ран, которые так трудно зарубцовываются…»
Качак закрыл глаза, и в памяти встал Нижний Рабан с выгоревшими селами. Вместе с Видричем он три дня спустя после поджогов и резни был там, они шли по пустыне, по которой тянулся смрад горелого мяса и сена. Над брошенными трупами грызлись своры собак или кружили стаи ворон. В ужасе от всего виденного, они бежали в леса, но и там то и дело натыкались на падаль, на привязанную скотину погибших хозяев, которая жалобным мычанием звала людей или волков, чтобы их прикончили. Тогда ему показалось, что Байо Баничич был прав, когда предлагал помочь мусульманам и заключить с ними нечто вроде союза. «С одной стороны, Байо прав, — думал он сейчас, — а с другой — не прав. Резне нам все равно не удалось бы помешать. Разве что жертв у них было бы меньше, а у других больше. Но как бы мы потом объяснили народу союз с мусульманами? И пойди я сейчас защищать мусульман, это была бы просто глупость! Кого защищать? Итальянских капабанд и Чазима в немецкой фуражке, шайку мошенников, которая и в мыслях никогда не держала оказывать сопротивление силе или защищать стариков и детей…»
II
И впрямь у Чазима Чоровича никогда в жизни не возникло искушения оказать сопротивление силе и власти. В Рабане действует неписаный закон: всякая власть от бога и все, что связано так или иначе с властью, достойно уважения. У Чазима этот закон был в крови, он не только почитал и обожествлял, он любил власть и иноземную больше, чем свою, точно так же, как инстинктивно ненавидел стариков и детей, и мусульман больше, чем православных. Беззащитные люди казались ему ягнятами или травой, которые существуют для того, чтобы их каждую весну резали, топтали, косили, а вовсе не жалели и не защищали. Человек защищает свой луг, если собирается его косить, а нет — он уступает покос другому. Будь Верхний и Нижний Рабан со всем их мусульманским миром его левадой, он без сожаления предоставил бы его косарям-четникам; пусть расправляются с лопающимися от жира бабами, слюнявой чесоточной детворой, нудными главами семейств, которые напоминают тягловый скот, и впавшими в детство стариками, что вечно торчат у очагов, точно горшки, и никак не могут согреться.
Чазиму, таким образом, остались бы парни, те, что способны были убежать, из них он составил бы войско. Они бы уже не оглядывались на родных и задымленные лачуги, которые они называют своим домом, а молились бы на него, как на бога. Он повез бы их в Германию, там они выучились бы воевать; одел бы их в новую форму, пусть знают, что такое просвещение! Пришил бы им на шапки гербы — не албанскую козу, какой дурак козы испугается! — а череп с костями, как у немцев или у четников, чтобы смертный страх обуял всякого, кто увидит оскаленный череп. Вот Рабан впервые и обзавелся бы собственной армией и культурой, а командующий у них уже есть — такого во всем свете не сыщешь. Тогда-то Чазим померяется силами с четниками, да и то спешить не станет, подождет, когда немец совсем обломает им рога и пересчитает поганые ребра. А пока пускай поют, веселятся, придет время — заплачут, еще колотить себя в грудь будут: «Мамочка родная, где была наша голова, как мы обмишулились, оставили в живых юнака, с которым никак не сладить!..»
Так рассуждал Чазим Чорович, сидя чуть подальше вершины Кобиль, стараясь в мечтах забыть про голод, жажду и гнев. Больше всего его разозлил итальянский майор Паоло Фьори. Разозлил даже своим видом — эдакий низкорослый седой козел со слезами на глазах, но еще сильнее — своим поведением: он не пожелал и взглянуть на уже совершенно истрепавшееся удостоверение Чазима, не пожелал арестовать Арифа Блачанаца, который куда-то запрятал труп убитого коммуниста, не приказал отыскать и принести этот труп на место происшествия. И вместо того, чтобы похвалить его, Чазима, и привести в пример другим, как поступил бы всякий разумный командир, итальянец с явным презрением ткнул пальцем в сторону Рачвы и свистнул, как собаке, чтобы он отправлялся туда. Чазим подчинился, но не до конца и остановился на полпути, здесь, на Кобиле, в надежде, что майор все-таки опомнится и позовет его, чтобы поправить дело. Либо сам вспомнит, либо ему напомнит Рико Гиздич, а в крайнем случае подойдет командир карабинеров Ахилл Пари и объяснит ему, что нельзя быть таким неблагодарным. Остановился он и потому, что хотел выглядеть более храбрым, чем Блачанац, Шаман и Дусич, которые, послушно поджав хвосты, зашагали, куда им было указано.
Горцы из Торова остались с Чазимом — им тоже хотелось проявить себя и дождаться награды, которую они заслужили и которую Чазим им обещал. Правда, вскоре им стало скучно, воодушевление погасло. Стрельба приближалась, и торовцами овладел страх, они все больше раскаивались, что не ушли, и, поднимаясь по двое, по трое, якобы, чтобы договориться о каком-то частном деле, исчезали; некоторые расстегивали пояса — мол, идут ненадолго, однако так и не возвращались. Отряд уменьшился наполовину, оставшиеся заволновались. Еще немного, и Чазиму пришлось бы уводить еще не разбежавшихся.
Вдруг на вершине показались коммунисты с винтовками в руках, запыхавшиеся от крутого подъема и почти ослепшие от яркого блеска. Увидав реденький лес и полагая, что там никого нет, они направились под его укрытие. Чазим гикнул и выстрелил. Торовцы, беспорядочно стреляя, готовились бежать. С четнических позиций на Повии и Седлараце посыпались тучи пуль — забурлил снег, белые кротовые кочки, выбиваясь из земли и подгоняя друг друга, быстро забегали по голому склону. Среди этого хаоса перед глазами Чазима встал коммунист — высокий, с рыжими усами. Чазим выстрелил в него, не попал и тут же сообразил, что тот наверняка не промахнется. Стремительно повернувшись, он с налета ударился виском о нарост на буковом стволе, так что дерево задрожало до самой верхушки, и грохнулся оземь.
— Попал, — пробормотал Чазим, — умереть так рано! — И разрыдался от боли и жалости к себе. — Как они смеют в меня стрелять, — удивлялся он, — разве не видно, какая у меня на голове фуражка?.. До чего ж сволочная война, никогда не знаешь, на чьей стороне сила, кто имеет право убивать. Все выжили из ума…
Его стошнило от страха и боли в снег, и он завопил:
— Что за дрянной народ? Не знает ни порядка, ни закона, не смотрят, кто старший, кто может приказывать! Вот и коммунисты добрались до оружия! Все перепуталось — стреляют, убивают, не дают государственным людям выполнять свои обязанности, как положено! Куда смотрит этот слепой бог, в бога его так, кому он дает винтовки, патроны, силу?..
Пуля просвистела у самого его уха и заставила уткнуться носом в собственную блевотину. Так он и замер, напуганный следующей пулей, едва переводя дыхание, уверенный в том, что не может и с места сдвинуться. Он пролежал бы так долго, погруженный в какое-то оцепенение, если бы один из раненых торовских чабанов-усачей, на бегу не споткнулся об его ногу и не заскулил ему в ухо:
— Вон идут! Ножи вытаскивают. Живьем сдерут с нас кожу.
— Близко? — спросил Чазим.
— Близко. С меня, может, и не сдерут, а с тебя наверняка.
— Почему с меня, а не с тебя?
— Ненавидят они командиров и начальников, потому и называются коммунистами.
Чазим вспомнил: он слыхал об этом и раньше и другим рассказывал. Все ему верили, хоть и делали вид, что не верят, потому и удрали к Блачанацам и Шаманам, а его, как дурака, оставили здесь…
Оттолкнув от себя раненого, он пополз на четвереньках, каждое мгновение ожидая, что на него посыплется град пуль. «Плохо, что руки у меня не такие быстрые, как ноги, — подумал он, — не успевают за ногами, вот и падаю…»
Упав в третий раз, Чазим взвыл от боли, поднялся и, согнувшись в три погибели, пустился со всех ног бежать, делая такие огромные прыжки, какие ему и во сне не снились. На Свадебном кладбище он увидел еще людей, кто они, он не знал, но понимал, что ему они не опасны. Узнал он своих торовцев только тогда, когда нагнал их и остановился, чтобы пощупать раненую голову, однако тут же закричал:
— Ай-ай-ай, где моя фуражка? Кто взял мою фуражку? Отдайте мне фуражку!
Торовцы проходили мимо, не узнавая его больше, не понимая, почему он кричит. У них не было времени ему помочь, они торопились — там, за их спинами, все еще гремели винтовочные выстрелы. Чазим преградил дорогу одному из торовцев, тот пытался его обойти, но поскользнулся в своих резиновых онучах и упал. Поднимаясь, он посмотрел на него налитыми кровью глазами и крикнул:
— Дерьма бы навалить в твою фуражку. Пошел к такой-то матери со своей фуражкой!
— Это гитлеровская фуражка, — крикнул Чазим, — ты не имеешь права так о ней говорить.
— Так вернись и разыскивай ее сам. Да другую ищи, ту шайтаны унесли.
III
Гара взбиралась на гребень Кобиля. Она запыхалась и почти теряла сознание от горя и усталости. Глаза ее искали на сверкающем плато спасительную гору Рачву, когда мусульманская пуля, пробив верхний карман блузы и зеркальце, попала ей прямо в сердце. Словно ни в чем не бывало, Гара сделала еще три шага. Она не успела ничего почувствовать, не успела даже испугаться и вспомнить про сына. Глаза еще на ходу остекленели, мир потемнел и покрылся ледяной корой, которая никогда уже не оттает. Земля с деревьями и горами округлилась и стремглав покатилась по гладким рельсам в бесконечные мутные воды и мрак. Винтовка Слобо, на которую она опиралась, простояла еще несколько мгновений и тоже упала.
Арсо Шнайдер видел, как падает Гара, дернулся назад и закрыл глаза. Ему показалось, будто смерть совсем близко, так близко, что перестала быть невидимой. Даже сквозь закрытые веки глаза слепило от черных молний ее бешеных движений. Смерть положила ему на плечо свою когтистую лапу, обожгла горячим дыханием щеку, обняла, царапнула и щелкнула, точно волк зубами. Он вырвался из ее омерзительного объятия и побежал. Осмелев, он открыл глаза и увидел деревья и мусульман с винтовками в побуревших от дыма чикчирах. «Неужто и они, — он скрипнул зубами, — пришли нас ловить? Что мы им сделали? Значит, тоже снюхались с четниками, желтозадые сволочи в полных чикчирах?..» Гнев лишил его страха. Он опустился на колено в снег, приладил винтовку и, не целясь, открыл огонь. Мусульмане быстрее засеменили ногами, и там, где прежде мелькали бурые чикчиры, стало пусто. Не видно было ни души, мусульмане отступили или попрятались, но он все стрелял и не мог перестать — не хватало мужества, знал, что, как только прекратит стрельбу, столкнется с чем-то таким, чего он не хочет видеть. Пусть кто-нибудь другой возьмет это на себя, пусть это сделают без него…
Видрич и Зачанин с криком бежали к деревьям, Шако и Ладо стреляли в направлении Седлараца. То ли умышленно, то ли случайно, каждый устремился куда-то в сторону, предоставляя самую ужасную из всех работу санитара другому. Так получилось, что Раич Боснич первым подбежал к Гаре, посмотрел на нее и опустил голову. Ему показалось, что у нее поседели ресницы и что она смотрит на него с удивлением сквозь оледеневшие слезы. Ему даже хотелось спросить: «Что ты на меня так смотришь, Гара? Здесь я и, как видишь, сегодня не уклонялся от боя и никогда больше не буду! Поздно я подоспел, но, подоспей я раньше, все равно ничем бы уже не помог. Кончено, некуда податься, — все злые силы собрались, чтобы разделаться с нами. Может, и лучше не видеть тебе, как мы один за другим будем гибнуть.
— Ты чего глаза вытаращил? — заорал Шако. — Ранена?
— Убита.
— Так отойди оттуда, видишь, как стригут!
— А где не стригут?
— Уйди с этого гребня, ты что, обалдел!
— Потише! — сказал Боснич и пошел. Но не сделал и трех шагов, как его прошила пулеметная очередь с Седлараца. Он завертелся от боли, как на вертеле, потом боль внезапно прекратилась, и ему показалось, будто пули попадают не в него, а в сверкающую стеклами, полную ребят школу. Он поднял палец, хотел погрозить тем, кто стреляет, и упал.
Душан Зачанин кинулся подхватить Боснича и замер: пуля пробила ему верхнюю часть левой ступни, в тот же миг из пальцев, крови, обуви и снега образовалось бесформенное месиво. Душан сжался от боли. Перед ним проходил бесконечный поток пушек на колесах и перегруженных вагонов; они идут и идут, а он не может двинуться от боли, не может крикнуть, не может ни о чем подумать, только стоит и старается взять себя в руки. Наконец, придя в себя, он с недоумением посмотрел на кровавое крошево под ногами. И вдруг усмехнулся: «Разве это честная игра, сон обещал мне другое! Раны должны быть на груди, там, где носят медали, как пристало настоящему юнаку. Так нет же, ранило в ногу. Последний сон и тот оказался ложью…»
Подошел Арсо, Зачанин схватил его за полу:
— Стой! У тебя есть нож — отрежь мне это!
— Что отрезать?
— Да жилы, что держат мясо, не могу из-за них двинуться.
— Садись на меня, — сказал Арсо, нагнулся и взял его на спину.
Пока Арсо бежал к деревьям, его снова разобрал страх: он наползал изнутри, зарождаясь в мыслях и предчувствиях, которые он не мог подавить, находил волнами, которые все росли и росли. «Пуля перебьет колено, нет, оба колена. Так было с дедом, когда его убили турки: он ехал верхом на лошади, в приукрашенных песнях гусляров лошадь превратилась в арабского скакуна.
Грянул выстрел Блачанаца Османа, И пронзила пуля лошадь и юнака, — Скакуна арабского в оба колена, И юнака Арсо в оба колена; Упал Арсо на зеленую траву…Сейчас нет ни травы, ни коня, но облава пострашнее, чем та, в которой погиб дед. Нет ни гусляров, чтобы приукрасить смерть, ни гуслей, ни времени, чтобы слушать, ничего нет. Пули наверняка не минуют его — простреливают всю поляну, ищут Арсо Шнайдера, профсоюзного деятеля. Одни плачут от досады, что пронеслись мимо, другие с остервенением срезают ветки и сбивают кору с деревьев, недовольные тем, что до сих пор не удалось уложить его. Тянется это долго, но без конца тянуться не может, пули уже все кругом изрешетили, остался один он. Когда они настигнут его, он не сможет ни крикнуть, как Слобо, ни говорить, как Вуле, ни молчать, как Гара, Райо и Зачанин. Нет, он заскулит, и сразу станет ясно, что он всего-навсего ничтожный портной, который, боясь остаться один, впутался туда, где ему не место…
— Опусти меня здесь, — сказал Зачанин. — Так, а сейчас режь.
— Не могу, — сказал Арсо. — Никогда не делал…
— Чего не можешь?
— Не могу резать и смотреть не могу. Позовем кого-нибудь другого, Шако…
— Никого звать не будем, давай нож! Я сам, а ты вытащи рубаху из моего ранца — замотать. И табак вытащи — присыпать.
Он сел на снег и принялся разбирать кровавое месиво и отрезать кусок за куском. И чтобы обмануть Шнайдера и самого себя, все время бормотал:
— Ох, и острый у тебя нож! Хорошо, что острый, с тупым бы намучился.
Он срезал все, что висело и мешало, — сухожилья, раздробленные кости и мясо, посыпанное, точно солью, мелкими осколками. Замазанная кровью и потом, в который его бросило от боли, нога стала скользкой, он легко снял опанок и нахмурился при виде черной, точно обгоревшей культи — это было все, что осталось от ступни. Нет красоты в ранах, даже когда получаешь их за правду! Зачастую они еще уродливей тех, которые получают за кривду, за преступление. Не любит судьба честных людей, вот и подкладывает им свинью, раз ничего другого сделать не может. Не желает судьба выводить на чистую воду преступника, защищает его, курва, для чего-то это ей нужно… Сейчас хорошо бы присыпать ногу солью, — и он ухмыльнулся, — насолить солонины. Ракия еще лучше, спохватился он и поболтал флягу. Услышав, как внутри забулькало, радуясь этой нежданной помощи, он тотчас отпил несколько глотков. Мгновенье поколебавшись, он спросил Арсо, не хочет ли он глоток. Но ответа не получил и второй раз не предложил. «Не хочет, — заметил он про себя, — он никогда не хотел, монах. Тем лучше, здесь и так мало…»
Бережно, дрожащей рукой Душан Зачанин плеснул ракию на рану. Лицо у него сморщилось от новой боли: точно на открытую рану набросились свирепые голодные муравьи. Хотел было плеснуть еще, но передумал: «Зачем добро переводить, — пробормотал он тихонько, — все равно не успеет ни зарасти, ни загноиться, лучше выпью, жажду утолю…
Он осушил флягу и отбросил ее в сторону — кто найдет, пусть порадуется! Ракия его согрела, боль немного утихла, и мир на какое-то мгновение стал не таким страшным. Конечно, это не мир, а сплошная облава, но так испокон веку было. Взяв щепотку резаного табаку, он приложил ее к ране и сказал:
— Дай-ка мне рубаху, Арсо!
Ответа не последовало. Он подождал немного и повторил:
— Дай мне рубаху, замотать это горе!
Удивленно повернулся — Арсо не было. На какое-то мгновение Душан почувствовал себя покинутым, а потом принялся винить самого себя: «Нет времени, дерется и за меня и за себя! Все дерутся, только я тут ковыряюсь, теряю время. Надо скорей кончать и идти на помощь, пока еще дышу…»
Он вытащил из ранца рубаху, обмотал ею ногу. У джемпера оторвал рукав и натянул его как сапог поверх повязки. «Так будет мягко и тепло, немного уж осталось…» Ножом отрезал гайтан от фляги и затянул повязку, чтобы не спадала. Поднялся и, хотя искры сыпались из глаз, сделал шаг и оперся на пятку.
— Больно, — сказал он себе. — На то и рана, должна болеть. Если бы не болела, и раной не называлась бы…
Боль, особенно при движении, пронизывала от пятки до затылка. От боли он закрывал глаза и тут же переносился в другое место — далеко-далеко от этого леса и сверкающего впереди Свадебного кладбища. По узким улицам и тесным площадям проходят шумные толпы, волнами несутся крики, песни, вздымаются сжатые кулаки — приветствие испанских борцов, — бурлят неясные надежды…
Ему все так знакомо — и предвыборные стычки, и собрания, и драки с жандармами, и похороны студентов, убитых в Белграде… «Какие мы были сильные, — думал он, — а сейчас до чего дошли! Обманул нас народ, предал. Народ что вода: то поднимется, то внезапно спадет. Но пора ему подниматься, вот только облавы кончатся, и тогда все это будет не напрасно».
Глаза заволокло от блеска слезами; Душан протер их, но это не помогло. Наконец, он увидел Шако и Ладо, они лежали на снегу возле крутой скалы Невесты и стреляли, сопровождая каждый выстрел криками. Это напомнило ему предание: встретились две свадьбы на Свадебном кладбище и вот так же подняли крик и стрельбу. Сначала убили друг друга девери у двух ключей, которые теперь называются «Девери», а потом сваты поубивали друг друга. Тогда невесты взялись за руки и прыгнули с кручи. «Бог знает, как это случилось, — подумал он, — но что-то, конечно, было, — даже могилы остались. Может, и мы сейчас вроде тех сватов, которые не хотели уступить друг другу дорогу, может, в этих местах таится магнит, который притягивает беду, как горы дождь. А может, всюду на земле так, и просто одна беда эхом разносится и становится известной всем, а другая — замалчивается и забывается».
У ствола дерева стоял, уставясь куда-то в пустоту, Иван Видрич. Зачанин доковылял до него, но Видрич его не заметил:
— Куда ты смотришь, Иван? — спросил он.
— Вот, — сказал он, пожимая плечами. — Погибаем.
— Мы знали, что погибнем еще до того, как начали. Главное, что не осрамились.
— А меня не берет, — сказал Видрич. — Никак не берет, хоть бы волосок задело.
— И хорошо, что не задело, надо же кому-то выбраться.
— Что у тебя такие руки?
Зачанин посмотрел на свои руки и остолбенел: с красными ногтями, черные от крови, точно обгорелые, в мелких чешуйках и трещинах, они, казалось, глядели на него сотнями глазков, — настоящие лапы дракона. Зачанин подумал, что ему подменили руки, но потом припомнил, чем они занимались.
— Ничего, — сказал он и принялся тереть руки снегом. — Возился с ногой — подранили меня малость. Гадость какая, точно натянул какую бедняцкую рукавицу. Ты что-нибудь решил: двинемся вперед или останемся здесь?
— Не знаю, что делать.
«Будь у меня десять здоровых людей, — подумал Зачанин, — я бы пробился к Рачве. А так и я не знаю».
IV
У начальника милиции Ристо Гиздича, возглавлявшего и четников, было под командой два с половиной батальона, но он тоже не знал, что делать. Тревожили его мусульмане, оттого он и не знал. Если ввести в облаву все части — мусульмане перепугаются, убегут и пропустят коммунистов; если послать роту или две, мусульмане, осмелев, могут перебить их. На людей ему, конечно, наплевать, этого добра хватает, но потом ему придется отвечать, оправдываться, а он не любил оправдываться… Так, мучаясь и бормоча себе под нос, он тщетно озирался по сторонам — не подаст ли кто-нибудь добрый совет. Впрочем, это не помогло бы, все знали, что ничьих советов он не слушает. Наконец, позвав переводчика, он повернул коня к итальянским позициям.
Майор Паоло Фьори сидел на поваленном стволе дерева, на том самом стволе, где незадолго до этого лежал мертвый коммунист Байо Баничич. Гиздич сошел с лошади, поздоровался с майором и принялся докладывать ему о своих невзгодах, невольно следя за тем, как итальянский майор, выворачивает меховую перчатку с лица наизнанку и с изнанки на лицо. Закончив, он умолк и стал ждать, какое решение примет майор. Тот молчал, словно ничего не слышал, — взглянет на нос переводчика, на двойной подбородок Гиздича и снова принимается за свою перчатку. Бог знает, о чем он думает, заметил про себя Гиздич, если вообще думает. И чего эти ослы всегда его сюда посылают, — ведь знают, что с ним пива не сваришь…
На самом же деле, пока Гиздич распространялся о том, как мешают им мусульмане, майор Паоло Фьори мысленно составлял письмо, которое он никогда не напишет и не пошлет. Вот уже год он пишет таким образом письма своему школьному другу, в юности охромевшему, теперь уже седому и всеми уважаемому врачу Гаэтано Кузани, который живет в собственном доме с садом в Феррари.
Письма эти неизменно начинались так:
«Дорогой Га, не удивляйся, что пишу тебе. Скучно, а писать больше некому. Всю жизнь я раскаивался и с сожалением размышлял о трагедии, которая постигла нас обоих. Ни ты, ни твои родители — поскольку ты не сказал им, как все произошло, — ни словом меня не упрекнули, тем сильнее это меня мучило. Знай я, что лошади так привязаны друг к другу, так привыкли идти рядом, знай я, что твоя лошадь кинется следом, как только я пущу в карьер свою, я наверняка этого не сделал бы, и сейчас все было бы по иному: ты не стал бы хромым, я не пошел бы в добровольцы и в конце концов не попал бы в тот ад, в котором нахожусь теперь. Вот о чем я размышлял и что мучает меня больше тридцати лет, хотя я никогда не пытался облегчить свою совесть, излив тебе душу, — делаю это только сейчас, когда боль утихает сама собой. Жизнь наша подходит к концу. Наше поколение — точно корчевье с торчащими там и сям изуродованными пнями, и я спрашиваю себя: а может, то, что произошло по моей невольной оплошности, было для тебя лучше? Я говорю это совершенно серьезно. Смотри сам: тот, кто тогда остался «здоров», потерял или ногу, или руку, или голову, а все — свои души. Все мы бесславно погибли, Фоскарио даже стал шпионом. А я? Как думаешь, кто я? Раб этого шпиона! Он держит меня на цепи, крутит мной, как хочет, мстит за то, что его ожидает, и заставляет меня играть роль статиста при резне, которую время от времени устраивают его фавориты. Моя обязанность заключается лишь в том, чтобы присутствовать при этом и спасать преступный сброд, который он собрал…»
Напрасно прождав, что майор обратится к нему с вопросом, и увидев, что не дождется этого, Гиздич через переводчика предложил целиком или хотя бы частично переместить итальянский батальон с Повии на Свадебное кладбище. Это восстановило бы связь с мусульманами и принудило бы их к совместным действиям, в результате которых коммунистическое охвостье было бы уничтожено полностью.
Майор Фьори окинул переводчика насмешливым взором, опустил голову и продолжил свое письмо:
«Знаю, что ты меня не поймешь. Нельзя себе представить, какие коварные западни ставит жизнь некоторым людям, какая ведется подлая игра — если не со всеми, то, по крайней мере, с определенной категорией людей. Пока я тебе пишу, бородатый пират, который давно уже заслужил виселицы, орет, стоя передо мной, и по какому-то праву требует, чтобы я помог ему в его махинациях. Ему надо, чтобы я авторитетом итальянской армии припугнул дикарей-мусульман, которых он со своей шайкой месяц назад резал и жег, чтобы я дал им гарантию, что православные не примутся их снова жечь, помирить их и заставить действовать заодно. И тогда эти две кровно ненавидящие друг друга орды пойдут на коммунистов, а я их начал уважать с тех пор, как увидел, в каких условиях они борются и с каким злом! Вот и получается, что от меня, — а я всегда, хоть и безуспешно, но пытался быть порядочным человеком, — требуют объединить зло и лихо, стать их верховным штабом, неким сверхзлом, которое объединило бы эти дикие и свирепые силы. Ты знаешь, конечно, что я этого не хочу, но ошибешься, если подумаешь, что мне это позволено. Мое желание ничего здесь сделать не может. Они объединятся и без меня, а все, что сотворят объединенными силами — убийства, пожары, насилия, — припишут в первую голову мне, Италии и армии, под знаменем которой я хотел и полагал честно служить до последних минут жизни…»
Майор шевелил губами, и Гиздич подумал: «Что это он там подсчитывает?.. В карты проигрался, что ли? Не спал всю ночь, а теперь на мне отыгрывается — хочет вывести из терпения…»
А майор тем временем продолжал изливать душу своему последнему оставшемуся в живых далекому другу:
«И не только припишут, но это в самом деле так. Мне действительно приходится делать то, чего я не хочу делать, и представлять тех, кого я ненавижу. Без меня, без нас, без Фоскарио с его спекулятивно-шпионскими махинациями эти типы не только не имели бы оружия, снаряжения, денег и орд, они вообще не пикнули бы. Мы повытаскивали их из нор, куда они забились, придя с каторги и бог знает откуда, чтобы они помогали нам, а мы — им. Мы их создали своими руками, а сейчас у нас есть все основания их опасаться; мы их кормим, а они за спиной честят нас последними словами и ждут конца войны; нас называют оккупантами, а, по сути дела, мы снабженцы и слуги этого сброда. Военная машина работает уже против нас, но остановить ее мы уже не можем. Мы всего лишь винтики, завинченные до предела с одной целью — служить ей, «Civitas dei»[51] стало «Civitas diaboli»[52], и я представитель и главная сила в борьбе против ренесансного идеала «regnum hominis»[53], который защищают коммунисты. Я не хотел этого, но это так. Одно дело намерения, а другое — жизнь. Меня не спросят, что я хотел, меня спросят о том, что я сделал. А может, и не спросят, но сам я иногда задаюсь вопросом: что хорошего и полезного сделал я людям на этой земле?.. И, подумай только, как ни крути, выходит, что я сделал доброе дело один-единственный раз, только тебе, и то ненароком, когда неосмотрительно дал коню шпоры и когда ты упал и оказался неспособным быть винтиком военной машины. Поэтому, дорогой друг, если услышишь, что я плохо жил и плохо кончил, не удивляйся, пойми: каждый на моем месте кончил бы так же. Пожалей меня и одно из твоих многочисленных добрых дел посвяти спасению моей души…»
Сначала удивляясь, а по мере того, как шло время, все больше теряя терпенье и наливаясь гневом, Гиздич наконец решил, что итальянский майор пьян. Будь у него власть, он вытряс бы пьянчужку из штанов на снег и заставил бы солдат как следует его растереть. Они охотно бы это сделали, и потом все пошло бы как по маслу… Гиздич вздрогнул, мечты разлетелись: «Это место, это поваленное дерево проклято богом или заколдовано! Тут лежал мертвый коммунист, тут, где-то поблизости, еще витает его грешная душа и мутит людям разум…» Мысль о душе и о всякой чертовщине, которыми так часто спекулируют, в других обстоятельствах рассердила бы его, а сейчас ему стало жутко: Гиздичу показалось, что если он задержится здесь, то и сам станет таким же сонным, ошалелым дурачком, как этот седой бедняга со своей перчаткой.
— У меня нет больше времени ждать, — заревел он во все горло, точно его режут.
Майор вздрогнул.
— Чего он рычит? — спросил он переводчика.
— У него нет времени, — сказал переводчик. — Он ждет вашего решения.
— Во-первых, скажи ему, чтобы он не рычал! — крикнул майор таким зычным голосом, какого никак нельзя было ожидать от такого щуплого человека. — Здесь только я могу кричать. Он слуга, ему платят, и пусть не забывается. А во-вторых: пусть убирается немедленно! Вот мое решение.
— Он говорит, что будет жаловаться, — сказал переводчик, пошептавшись с Гиздичем.
— Меня не интересуют его намерения, пусть он оставит их при себе. — И Фьори взмахнул своей перчаткой.
Солдаты, привлеченные криком, увидели, как пылающие щеки Ристо Гиздича посинели, потом стали землистыми, как дрогнул его подбородок, затрясся живот, как ходуном заходили его широкие чикчиры из домотканого сукна, как ускользал из рук повод и он никак не мог сесть в седло и ускакать. Было приятно, что майор груб и с чужим начальством, а не только с ними; они даже почувствовали к нему уважение за то, что он все-таки над кем-то одержал верх, да еще над таким брюхачом. Солдатам было холодно, скучно, им хотелось отыскать жертву, над которой можно было бы поиздеваться, и вот она нашлась. Их развеселил обиженный вид Гиздича, его невнятное бормотание, и они стали разогревать себя визгом, завываниями и хрюканьем, все это должно было изображать возгласы брюхача. Одни пальцами указывали на его бороду и спрашивали, для чего она? Другие отвечали, что бородой он подтирает пещеру, что находится пониже спины.
Гиздич влез наконец на лошадь и посмотрел на них сверху. «Лягушки, — подумал он, — настоящие лягушатники, — кто что ест, на то и походит!» Он громко обругал их, они хором ответили отборной сербской бранью — первому, чему они научились, оккупировав страну. Солдаты не забыли про жену, спросили, есть ли у него дочь и сколько она стоит. Гиздич поднял плеть, грозя, что научит их уму-разуму, но крики удвоились, утроились, и подняли тревогу на позициях четников. Даже привыкшая к вечному крику четников лошадь не выдержала: встала на дыбы и понесла. Какую-то минуту казалось, что всадник упадет и разобьется вдребезги — в этот момент веселье достигло высшей точки, — но он усидел в седле и овладел испуганным животным. Шум еще не улегся, когда его покрыл голос Гиздича:
— Эй, Чазим Чорович, ты меня слышишь?.. — Он подождал несколько секунд и только собрался крикнуть снова, как раздался ответ, точно брошенный издалека камень.
— Слышу, слышу, говори чего нужно!
— Итальянский начальник велел передать тебе и командирам отрядов: головами поплатитесь, если пропустите коммунистов через Рачву.
— Э-э-й! Тут они, коммунисты, на Кобиле. Вы тесните их к Рачве, а мы с этой стороны, тогда ни один не уйдет.
Осчастливленный тем, что его помнят по имени и обращаются прежде всего к нему, признавая тем самым ею неоспоримое главенство над прочими мусульманскими вожаками, Чазим продолжал кричать, демонстрируя и своим и чужим, что у него и голос позычней, чем у прочих смертных. Спрятавшись в лесу на горе, он рассказал, как боролся на Кобиле, что многие его люди из села Торова ранены и убиты, что и сам он ранен, и что на поле боя осталась его фуражка, и надо эту фуражку во что бы то ни стало разыскать и сохранить…
— Что эта погань кричит? — спросил Гиздич у переводчика.
— Поминает, кажется, фуражку.
— Наверно, потерял ее.
— Не знаю, вот опять «фуражка, фуражка».
— Опростаюсь я в его фуражку, если найду ее. Матери его турецкой черт, ему еще носить немецкую фуражку!
Чазим охрип от крика. Из горла вырывался отрывистый, точно разорванный в клочья и то и дело повторяющийся рев. Но это даже нравилось Чазиму, перед ним вставала незабвенная картина далекого детства: в горах ревет самый могучий в округе бык и заставляет умолкнуть одного за другим своих соперников. Ему тоже хотелось заставить замолчать всех своих соперников, и вот, кажется, это удалось. Теперь он мог наслаждаться победой — все притихли, даже стрельба прекратилась, и с удивлением вслушивались в его голос.
На самом же деле никто его не слушал. Гиздич поскакал готовить нападение на Кобиль, а майор Фьори вытянулся на стволе дерева, закрыл глаза и задумался: «Договорились зло с лихом, пусть хоть временно, угодить какой-то третьей силе, незримой, но гораздо более могучей, чем они. Договорились без моей помощи и вопреки моему желанию — ревом договорились. Боже мой, если бы люди так легко сговаривались на добрые дела, как они сговариваются на злые, как далеко бы мы ушли от той поры, когда Софра получила название!»
V
Скоро на Кобиле почувствовали, что преследователи подошли ближе и заняли более удобные позиции. Град пуль поднял метелицу над головой Ладо, оглушил, залепил глаза и закидал комьями снега. А сквозь снежную бурю проглянула десятиногая паршивая сука смерть: лает, вынюхивает и злобно роет под ним и вокруг него ямы. Дохнула жаром над самым затылком, выдрала клок волос, поскулила над виском и ушла прочь. «Она слепая, — подумал Ладо, — опять я ее провел…» Открыл глаза, левый глаз совсем залепило снегом. Смахнув его рукой, увидел Шако: лицо его перекосилось, будто он с кем-то ссорился, плечи тряслись, весь он извивался — точно ему высыпали за ворот лопату горящих углей.
— Что с тобой? — крикнул Ладо.
— Ничего. Что со мной может быть?
— Ранило?
— Ранило, если тебе это приятно услышать.
— Совсем неприятно. Почему мне должно быть приятно? Могу я тебе помочь?
— Рана пустяковая, хуже другое: вот они подошли, а я их не вижу. Болят у меня глаза от блеска, ничего не вижу. А ты видишь?
— Они за березой, вон под тем кустом.
— Там что-то круглое чернеет? Маленькое такое.
— Это тебе кажется, что маленькое, стреляй!
Ладо нацелился и выстрелил. Шако дал очередь. Куст вдруг вырос и рассыпался, черный ком грязи отделился от него и покатился под гору. По дороге он распадался на длинноногие, расползавшиеся во все стороны фигуры.
— Ага, нащупали! Узнал, чем крапива пахнет? — крикнул Шако. — А наших видишь кого-нибудь?
— Вон Иван и Зачанин, идут в сторону Рачвы.
— Надо и нам. Где Арсо?
— Где-то здесь. Дай-ка очередь подлиннее, почему они у тебя такие короткие?
— Все патроны кончились. Понимаешь, что это значит? — Шако в ярости опрокинул ручной пулемет. Но и этого ему показалось мало, и он ткнул его дулом в снег.
— Не могу его так бросить, — сказал он, — и разбить не могу. Сделай ты, пожалуйста!
— А как? Впрочем, можно!
Ладо заглянул в зияющую под ногами пропасть.
То, что туда упадет, обратно уж не вернуть, подумал он, разлетится на куски… Он взял пулемет за треногу и приклад, встал во весь рост и, подняв его над головой, швырнул изо всей силы вниз. От напряжения у него даже затрещали кости, боль ожгла рану, точно змея укусила. Голова закружилась, из глаз посыпались искры. Нагнувшись над пропастью, он увидел, как огромная железная ящерица, болтая ногами, вертелась в воздухе и потом исчезла. Он услышал только, как пулемет дважды ударился о выступы скал и наконец охнул, словно само железо ужаснулось бесконечному распаду, к которому возвращалось. «Так, — подумал Ладо, улыбаясь, — одной заботой меньше. Избавимся нынче и от других — это же всего-навсего переход из одного состояния в другое, из органического в неорганическое — ничто в ничто. Выпустим в пространство два-три стона или подавим их в себе, чтобы никто не услышал, и все. Суть-то от этого не меняется, дело лишь в красоте — лучше, конечно, когда не слышно стонов, но это зависит не только от нас, но и от удачи — куда угодит пуля. Повезет ли мне в ту последнюю минуту?..»
Сквозь стрельбу откуда-то с отрогов горы все время слышно, как какой-то горластый муэдзин пытается сам себя перекричать. Другой муэдзин с Повии, тоже невидимый, попытался было собезьянничать, но, поперхнувшись, умолк. Третий голос, послабее, подхватил и продержался немного дольше. Слов нет, одни завывания, словно всех людей уже перебили и только две голодные стаи волков среди бела дня договариваются, куда им двинуться.
— Слышишь, как скликают? — спросил Шако.
— Слышу, не нравится мне это.
— И мне тоже. Встретят нас чулафы на Рачве, как пить дать.
— А можно податься в другую сторону?
— Сегодня нет.
— Раз так, выбирать не приходится.
Проходя мимо Гары, Шако взял винтовку и поправил задравшуюся при падении юбку. Ладо остановился поглядеть на нее. Брови у нее и лоб совсем как у Видры, подумал он, у всех Ясикичей такой лоб: овальный, белый, лунообразный. Он закрыл глаза, но картина перед ним не исчезла, а стала еще яснее. Ладо знает, где он, и в то же время ему кажется, будто он на склоне Ташмайдана, в задымленном от бомбардировок Белграде. Запущенная полянка, редкая, чахлая трава — на траве лежит Видра, возле нее Гара. Почти два года разделяют эти два дня, так крепко слившихся в его сознании. И это все, подумал он, что осталось от их красоты и цветения, от того времени, когда они ходили вместе и не было человека, который не остановился бы и не посмотрел им вслед, любуясь их красотой, когда они гуляли, плясали коло и пели о лучших днях, о грядущей весне человечества… Ничего из этой весны не получилось! Не оправдались их надежды, обманула песня. Правду предвещал лишь вой собак Йована Ясикича и Вуколы Таслача из Шлемена. Завывали и скулили эти два пса то по очереди, то вместе всю злосчастную весну, — нюхом чуяли, как издалека подползает шелудивая сука смерть. Потом собак отравили, но только напрасно мучились и брали грех на душу — неумолчный вой продолжал доноситься и из-под земли, продолжается он и поныне, и его отголоски звучат сейчас в этой перекличке.
— Пошли скорей, — сказал Шако. — Чего ты на нее так смотришь?
— На Видру похожа.
— На какую Видру?
— Ее нет больше. Давно нет.
«Не следовало ее и вспоминать, — заметил про себя Ладо. — Права не имею, это была сама чистота, а я уже нечист. Все во мне — и руки, и мысли — нечисто, чего ни коснусь — все гублю. Теперь вот связался с этой несчастной Недой, перед всеми виноват. И как только я умудрился в такое короткое время столько натворить? А больше всего перед Недой виноват — надул в уши баклуши и был таков. Она не бросила бы меня, наверняка не бросила! Она сжалилась надо мной, хлеба мне, голодному, протянула, все отдала, самое себя отдала, чтоб я не обезумел от одиночества. Разыскивала меня под дождем в горах, в выжженных лесах и буреломах возле Лелейской горы и все звала: «Ладо, Ладо», — ночью, в тумане, глухим, дрожащим от страха голосом. И снова бы пришла, если бы только знала, где я или хотя бы в какой стороне, снова пришла бы и звала глухим, жалобным, испуганным голосом, похожим на тот, который я слышал сегодня во сне. Не знаю, что и думать, но я готов поверить в существование и излучение душ — все время мне кажется, будто голос во сне был стоном ее души: проснись, Ладо, вставай, Ладо, беги, Ладо, спасайся…»
Вдруг он остановился и спросил:
— Как ты думаешь, Шако, чей это был след?
— Какой след?
— Тот, у землянки. Может быть, это кто-нибудь из наших проходил?
— И я так думаю. Точно не знал, где мы, ведь никто этого не знал, вот и не нашел нас…
— Но если бы приходил наш человек, был бы один след, самое большое — два, а не много…
— Сначала был один, потом его лазутчики умножили. Они пошли по следу и заблудились, потому и не накрыли нас ночью.
— Значит, ее поймали.
— Кого? — спросил Шако и окинул Ладо удивленным взглядом.
— Женщину, которая приходила.
— Почему ты думаешь, что это была женщина?
— Следы маленькие, наверняка женские.
— Пошли, наши уже далеко, надо уходить.
По Свадебному кладбищу медленно брели Видрич и Зачанин. Шако увидел их и подумал: следовало бы им поторопиться, а то идут, еле ноги передвигают, словно прогуливаются. И так целый день пули над головой свистят — с ума сойти можно, а этот, кажется, уже тронулся. Конечно, и впереди ничего хорошего нас не ждет, но лучше пусть поскорей свершится то, что должно свершиться…
Чтобы занять время, он подошел к Раичу Босничу, оттащил его в ложбинку, куда не долетали пули, и повернул на спину. Шако в свое время посмеивался над Босничем, говоря про него, что ему не нравится запах пороха, — сейчас он почувствовал себя виноватым и подумал, что никогда ему не искупить перед ним вину. Шако никак не удавалось сложить ему руки на груди, левая, сведенная в локте, все время поднималась к голове.
— Положи ее под голову, — сказал Ладо.
— Где это слыхано, чтобы покойнику клали руку под голову?
— А что, будто спит, ведь это тоже сон. И мне так положишь, если будет время.
— Болтаешь ерунду, — прорычал Шако и сердито крикнул: — Где Арсо?
— Не знаю, разве я ему сторож?
— Не валяй дурака, видишь, мне не до шуток.
— А ты мог бы не орать, мне тоже твоего крика не надо.
— Ей-богу, ты, кажется, не прочь подраться? — насмешливо кинул Шако.
— Ты, кажется, тоже и для начала хочешь запугать меня криком.
— Ну и дураки мы с тобой, — сказал, стихая, Шако. — Кипятимся, словно чокнутые! Что бы там ни было, головы терять нельзя… Не знаю, куда девался этот Арсо, вилы[54], что ли, его унесли?
Он пожалел, что сказал про вил, это можно было понять как насмешку, будто вилы страха унесли Арсо. Шако не хотел так сказать. «При расставании так не говорят, — заметил он про себя, — мы сейчас и впрямь расстаемся, ведь жизнь одно лишь расставание».
VI
Арсо Шнайдер и сам чувствовал, что его несут злые вилы.
Началось это под деревом, где Зачанин отрезал свои искромсанные пальцы и бормотал себе под нос, пытаясь скрыть, как ему больно. Арсо не выдержал его бормотания, встал и пошел от дерева к дереву. Куда идти, он не знал и шел наугад, куда ноги вели. Скоро он наткнулся на раненого усача мусульманина. Тот оскалил свои огромные зубы и зашипел. Зашипел, как змея, от страха, однако у Арсо не было времени о том размышлять, он отскочил в сторону и оказался на открытой поляне. На Седлараце его заметили и открыли яростный огонь. Будь даже поблизости укрытие, Арсо не догадался бы им воспользоваться. Не пришло ему в голову и зарыться в снег или откатиться в сторону, как сделали бы на его месте другие. Ему показалось, будто его преследуют, как это ни невероятно, бесчисленное множество остервеневших, взбесившихся белых кур. Одеревеневшая от усталости шея не позволяла повернуть голову, он так и не понял, где находится тот огромный птичник, откуда они без конца вылетали.
В самом начале Арсо еще сознавал, что это не куры, а комья снега, поднимаемые пулями, но здравый разум постепенно гас, переставал доверять себе и бессильно отступал перед больным воображением, которое без конца рисовало одно и то же. Рушился привычный мир: кругом, насколько хватал глаз, кудахтали обезумевшие от голода, взъерошенные белые куры. Некоторые путались в ногах, того и гляди, наступишь, но большинство норовило прыгнуть на голову и выклевать глаза. Куриные перья носились в воздухе, липли к губам, ресницам, попадали в горло, слепили глаза. Арсо на бегу сбрасывал их с плеч, размахивал руками, винтовкой, чтобы уберечь глаза, и вот наконец поляна осталась позади, и он взобрался на первое попавшееся дерево.
Сделал он это инстинктивно, полагая, что куры высоко не летают и не смогут до него добраться. Так оно и случилось, куры устали, попадали на землю, успокоились. Переводя дух и собрав остатки здравого разума, Арсо спросил себя, как он здесь очутился, и тут же ответил: на землю нельзя, на земле плохо — спасение, вероятно, в воздухе… Забравшись между двумя толстыми ветками, закрытый со всех сторон сухой листвой, на несколько минут он погрузился в спокойную дремоту, какая обычно наступает перед сном. Равнодушно, словно шум дождя, слушал он какие-то крики, выстрелы. Все это неважно, пустяки — праздная шумиха времяпровождения ради. Важно, что он избавился от белой напасти и отыскал себе местечко, лучше которого в таких обстоятельствах не найти.
Неясно маячившая в памяти, безликая и безымянная ватага твердолобых ребят, ненавидящая без всякого основания телефонные столбы, догадается, что нужно делать, когда увидит, что его нет, возьмет пример с него, и все кончится прекрасно. А он их подождет, посмотрит пока на этот мир: до чего же он уродлив, долины все извилистые, бугры неровные, косогоры изломанные, бесстыдно голые и непонятно косматые от отвратительной щетины деревьев. Этой мерзости, на которую он смотрит, присущи, как ему кажется, и вполне к лицу коварные обманы, ложь, ненависть, насилие, бесконечные облавы, измены и предательства, подлость и каверзы, большие и малые. И не только к лицу — это те самые способы приспособления, которые на этой дурацкой земле и называются жизнью. И как только люди ухитрились придумать целомудрие, верность, дружбу, любовь, самопожертвование, правду и еще целую вереницу чистейших предрассудков, которые по причине их явной недостижимости называют добродетелями и очень почитают. И как это он, Арсо Шнайдер, которому ума не занимать стать и у которого поначалу были совершенно правильные понятия, умудрился поверить этим сказкам, этим предрассудкам, идущим вразрез с природным ходом вещей?
Мальчишкой он подстерегал на большой дороге в Старчеве мусульманских ребят из Рабана, босых, худых и вечно голодных, — они шли в город на базар продавать то, что с большим трудом накопили их родители на уплату подати или штрафа. Он камнями разбивал им горшки с топленым маслом, миски с каймаком, кринки с молоком или узелки с яйцами и гордился, что он сильнее их и уже в достаточной мере очерствел, чтобы с удовольствием смотреть, как они плачут. И позже он всегда был на стороне сильных — в городе, будучи подмастерьем, не раз подкладывал свинью товарищам, обманывал легковерных крестьян, направляя их за солью в аптеку, а на ночлег — в съезжую или в публичный дом. И только потом все переменилось и пошло вверх тормашками. Вместо того чтобы служить господам, как было задумано, снимать с них мерку и кроить костюмы по последней моде и фасонам, которые приходил из Парижа с годичным опозданием, он по какому-то дьявольскому наваждению оказался среди тех, кто боролся за слепую нищую старуху-правду и за чесоточную бедноту, которую он ненавидел до глубины души.
Молодость виновата, из-за нее он вдруг почувствовал прилив энергии и уверенность; впрочем, и коммунистическое движение виновато, как раз в это время оно набрало силу и как-то сразу изолировало тех, кто не примкнул к нему. Пришлось примкнуть и Арсо Шнайдеру, иначе бы его объявили трусом и жандармским прихвостнем, не позволили ходить на посиделки, где были девушки и гармонисты, танцевать на гулянках, не смог бы он жениться, а может, еще и поколотили бы, как некоторых других упрямцев. Лишь только он вступил в движение, его сразу стали выдвигать, поскольку он был портной, его баловали, рабочий, мол, класс, выбирали в комитеты и советы, где его острый и бойкий язык быстро пробил ему путь к секретарству. Его находчивость и остроты запоминались и повторялись. Успехи кружили голову, он не понимал, что отрезает себе путь к отступлению. Восстание ему не понравилось, но деваться было некуда; начавшийся спад не понравился еще больше, но сделать он уже ничего не мог. Арсо давно чувствовал, что он кончит плохо, а сейчас понял и причину: он сел не в свои сани. Если других в движение привел героизм, то его — тщеславие.
Что-то заставило его взглянуть на Кобиль, — как раз в это время белый снег на косогоре усыпали толпы людей. Арсо скрючился, сунул подбородок в колени, превратился, как ему казалось, в маленького незаметного муравья. Мешала только винтовка, она никак не хотела стать короче и спрятаться. Он закрыл глаза, чтобы не смотреть, но устыдился и с усилием их открыл. Страх прошел, когда он увидел, что идут не к нему, — про него забыли, либо пренебрегли. Прячась за деревьями или окапываясь в снегу, стреляли по отступающим к Свадебному кладбищу. На душе стало веселей, но это длилось недолго. Радость вскоре омрачилась и пропала вовсе.
— Чему радоваться, — пробормотал он, — теперь ты обычный дезертир и предатель. Если кто-нибудь живой выберется, станет известно, что ты бросил, их в самую тяжкую минуту; а если все погибнут, никто не поверит, что ты выбрался честным путем. Лучшее в тебе — твое место среди них — ты предал. Все это видят, оно отступает сейчас вместе с ними и шипит, как змея, которая укусила человека и которую за это не принимает земля, шипит от стыда, что оно пустое и всем видна его нагота, виден его позор: и те и другие спрашивают, где ты, почему тебя нет, какие вилы тебя унесли? Скорей убей себя, не прячься за детей! Для них так будет лучше, ты не оставляешь им богатства, не оставляй и позора! Ну, чего ждешь? Можешь из пистолета, если думаешь, что болеть будет меньше. Эх, какой же ты — смотреть противно! Вечно откладываешь, потому все и кажется страшнее, чем на самом деле.
Арсо торопливо спустился с дерева, он решил, что на земле ему придет в голову что-нибудь более умное. Вот он уже стоит на земле, а в голову ничего не приходит. Вспомнился огонь в очаге, дым ест глаза, вокруг низенькие табуреты, хозяин сидит подле гусляра Аджича, а он тянет:
Я не дерево — верба, Срубишь — не омоложуся, Царь лесов я, Джюрджия, Срубишь — и отдам я богу душу…Арсо посмотрел на пистолет, рука задрожала, и он поскорей спрятал его в карман. Пашко Поповича, который внезапно появился среди деревьев, он принял за призрак. Арсо обалдело смотрел, как призрак машет ему рукой. Сообразив наконец, что Пашко подает ему знак спрятаться за дерево, он послушался без размышлений, — не потому, что понял, от кого надо прятаться, а просто по малодушию. Тут же он услышал, как Пашко хриплым голосом кричит людям, идущим за ним:
— Вон еще один бедняга! А на склоне двое лежат.
— На каком склоне? — спросили его.
— Подле Невест. Боже мой, боже мой, что же ты делаешь? Всех перебили, ни одного не осталось! Ступайте, возьмите их, а я погляжу, нет ли кого еще.
— Смотри, чтоб тебя не стукнули из леса!
— Стукнут, скажу спасибо. Надоело мне смотреть на такое.
Видя, как они побежали наперегонки, чтобы первыми опознать убитых и обшарить их карманы и торбы, Пашко бормотал про себя:
— Все пошло наизворот: в мирное время ни в жизнь не взяли бы у покойника даже безделицы, а сейчас готовы рубашку с тела содрать. Один господь знает, а может, и он не знает, и дальше так пойдет или когда-нибудь все-таки кончится?..
Пересчитав свой отряд и убедившись, что все ушли, Пашко направился к Шнайдеру. Лицо старика было землистое, осунувшееся, он посмотрел на Арсо мутными, глубоко запавшими глазами и сказал:
— Ты, я вижу, не ранен?
— Нет, я бросил товарищей.
— Я знал, что ты их бросишь. Это тебе не языком чесать, тут нужно мужественное сердце, а у тебя его нет.
— Нет, — признался Арсо и удивился, что это было не трудно. — Убитых собираешь? — спросил он.
— Собираю. Итальянское начальство разрешило захоронить, вот и тороплюсь поскорее это сделать, пока Гиздич не запретил.
— Захорони и меня, так будет лучше всего. Жизнь моя ломаного гроша не стоит!
— Не говори глупостей! Каждый хочет как лучше, но не всем это удается. И моя жизнь паскудная, а вот терплю, — может, хоть мертвым пригожусь. Кто там у Невест лежит?
— Гара. А другого не знаю, скорее всего Ладо.
— Это тот Ладо, что из Меджи?
— Тот самый, ранило его, потому и думаю, что он.
— Недалеко отсюда лежит убитый турок, ваши его убили. Сними с него чулаф и прокрадись по лесу к турецким землям, пока шум не уляжется. А потом, если некуда будет податься, приходи ко мне, у меня дождешься весны. — Он опустил голову, повернулся и ушел.
У Шнайдера отлегло от сердца, не потому, что появился луч надежды, а потому, что он снова остался один. Он ненавидел одиночество, но сейчас предпочитал быть один на один с собой, без свидетелей. Ему не хотелось, чтобы его видели в ту минуту, когда он полон омерзения к себе, к своему второму рождению, еще более отвратительному, чем первое. Ему был гадок этот взрослый, усталый человек с замаранным именем, с темным пятном, которое ничем не отмоешь.
Арсо колеблется, раздумывает, согласиться ли на предложение Поповича, и в то же время чувствует, что душа у него разрывается на части.
— Что ж, — говорит он себе — живи! Будет для тебя жизнь что подаяние для нищего; меду соберешь разве что от мертвых пчел, ведь на этом свете счастья, как на могиле — ягод.
ВЫСОКАЯ ЗЕЛЕНАЯ ЕЛЬ ТЬМЫ
I
Иван Видрич помнил, что между Кобилем и Рачвой лежит ровная луговина со стогами сена, оросительными каналами и живыми изгородями желтых и красноватых кустов можжевельника. Сейчас картина эта в памяти подернулась дымкой и поблекла, но луговина с пестрыми купами высоких и низких деревьев оставалась такой же яркой, зеленой и ровной, как спортивная площадка. Где-то посредине, под ветвистой старой черешней, клокотали рядышком два ключа — Девери, а слева и справа от них под большими, обросшими мхом, точно зеленой бородой, камнями мирно почивали сваты из легенды. Деревья напоминали большую молчаливую семью, где старые стволы-деды взяли за руки внучат-кусты и повели их прогуляться к источникам, — они шли, шли, размахивая зелеными рукавами и подолами рубах, неторопливо переступая ногами в зеленых шароварах, но за день так и не успевали дойти до родников.
Он сравнивал то, что когда-то видел и сохранил в памяти, с тем, на что смотрел сейчас, и ему вдруг почудилось, будто он совершенно немыслимым образом забрел в какое-то незнакомое место. Видрич остановился и посмотрел на Рачву: она самая, только тогда не было снега, все же остальное совпадает. Опустив взгляд, он двинулся дальше и снова увидел, что все кругом как-то изменилось, опустело. От деревьев, с тех пор как лесник с ружьем их не охраняет, не осталось и десятой части, все повырубили, торчат одни кусты, словно беззащитные сироты, по ним и направления не определишь. Нет ни стогов, ни плетней, которые их окружали, ни загонов, ни пастушьих хижин, ни водопоев, ни изгородей. Черешню срубили, даже следа от нее не осталось, замерзшие источники занесены снегом, теперь и не узнаешь, где погибли девери, где закопаны сваты. Лишенная красок и примет, однообразно белела пустошь — широкое, изрытое буераками, ямами и овражками плоскогорье, по которому трудно идти усталому человеку.
Взяв Душана Зачанина под руку, Видрич помогает ему идти. Оба молчат. Видрич дважды спросил его, болит ли нога, но дождаться ответа так и не мог — мысли каждый раз принимали другой оборот. Иван Видрич думает о Гаре, о том, долго ли она мучилась, не упрекала ли его за измену, за то, что он еще живой, живет без нее и даже пытается идти дальше по этой гибельной пустыне, которая называется жизнью. А другой частью своего, существа он в то же время думает о Байо Баничиче и Васо Качаке, не теряя надежды вдруг увидеть их в какой-нибудь расселине. Но додумать до конца он ничего не успевает. Преодолевая головокружение, охватившее его при мысли о мертвых, он прислушивается, как Шако, Арсо Шнайдер и Ладо ведут бой позади на скале и как постепенно их сопротивление слабеет. И не удивительно — никто бы не выдержал; удивительно другое — как до сих пор их не подстрелили? Стрельба то замирает, то разгорается вновь. Мысли его снова возвращаются к Гаре; а вдруг, мечтает он, ее не убили, вдруг она упала просто от усталости и страха и немного погодя встанет живая-здоровая и нагонит его, как это всегда бывало раньше. Уж больше он не позволит ей попасть в такую безумную передрягу, где одна лишь смерть да смерть. «Да такое больше и не может произойти, — заметил он про себя, — ведь это последний снег и последняя большая облава, а потом придет весна…»
Шальные пули свистят над покинутыми пастушьими хижинами и пустынными горными пастбищами, крик, хриплый и прерывистый, носится в воздухе, как стая ворон, чье карканье напоминает Видричу, что ничего уже нет — ни Гары, ни красочной весны со знаменами, а одна лишь черная земля, поражение и смерть.
Зачанин остановился, прислушался и сжал ему руку.
— Слышишь? — спросил он.
— Плохо, совсем оглох. Надеюсь, они не послали самолеты.
— Подошли к Невесте. Ступай скорее к Рачве, пока еще есть время!
— Вместе пойдем. Хочешь на Рачву, хочешь под Рачву, только не будем расставаться.
— Иди, когда тебе говорят! Ты мне все равно помочь не можешь, а я хоть немного да могу. Я задержу их, ты успеешь, если быстро.
— Не хочу ни быстро, ни медленно, брось ты это дело!..
Он хотел сказать еще что-то, но все вдруг вылетело из головы, потому что Зачанин снял шапку, открыл свои седые спутанные волосы и молча ему поклонился, — а он никогда, ни перед кем не склонял головы, — и уже собрался стать на колени и умолять его. «Насмехается он надо мной, что ли? — подумал Видрич. — За что? Я ничего плохого ему не сделал. Мне не пристало спасаться одному. Это было бы не по-товарищески… Нет, не в том дело, нервы у него сдали — сам не знает, что делает…»
Раздосадованный всем этим, Видрич крикнул:
— Что ты делаешь, с ума сошел?
— Прошу тебя, уходи! Кому-то надо, обязательно надо выбраться, выжить во что бы то ни стало. Не ради себя, а ради этого несчастного народа. Не виноват он, лжет всякий, кто его виноватит, несправедливо все плохое валить на него! Помнишь, каким был наш народ в начале восстания! Да и потом — поддерживал нас, оберегал, как мог; заклинал быть осторожнее, ты все это знаешь лучше моего. Нужно, чтобы остался свидетель и все рассказал, а после — спасал его:
— От чего спасал?
— От наших.
— Что ты говоришь? Как от наших?
— Могут и наши перехватить через край, когда навалятся злопыхатели с жалобами и доносами. Вся округа злобствует на здешних людей, о долине идет недобрая слава, плетут, что было и чего не было, трудно им придется. Предъявят им счет и за белашей, и за прошлогодний снег, и за тот, что выпал лет сто назад, и спросят не только за зло, но и за добро. Это ты тоже знаешь лучше моего, потому и прошу тебя: уходи! Уходи скорей!
— Иду, — крикнул Видрич. — Надень ты шапку на голову! Ладно, иду!
И он пошел размашистым шагом, все быстрее и быстрее, потом побежал, но так до конца и не понял, уходит он потому, что это нужно, или потому, что у него нет сил смотреть на молящего простоволосого Зачанина. В голове была путаница, и она все увеличивалась, хотя в ней он узнавал кое-какие свои старые мысли и тревоги, которые никому не поверял. С удивлением он обнаружил их в человеке, для которого было бы гораздо естественнее вынашивать месть, чем думать о защите той самой в большинстве своем темной массы, которая преследует его уже больше года и, не ведая, что творит, наносит ему удар за ударом.
«Да, — сказал он про себя, — вражды здесь немало, она зародилась еще в межевых спорах чабанов, бесконечных кражах, распрях и кровавых стычках во времена беззакония и племенной резни, переживших уже два государства и пытающихся впрячь и нашу революцию в этот свой племенной воз мести. Не могут чабаны без этого, и крестьяне тоже, неразвитые, ограниченные и вероломные, какими их сделала жизнь. Была и другая причина: одним улыбнулось ратное счастье, зависть посеяла месть. Злоба живуча, ничем ее не вытравишь, она зарождается сама от себя, тянется в грядущие времена. Потому коммунистам и приходится бороться одновременно на три фронта (а в себе — на четвертом), погибнуть и заснуть вечным сном нетрудно, нужно жить, кому-то нужно выжить…»
Об этом он уже думал однажды. Всю ночь тогда эти мысли сверлили ему голову под шум Пивы, собачий брех и крики сов, а утром он решил вернуться в край, откуда его изгнали, вернуться к этому обезумевшему от голода, сбитому с пути, запуганному угрозами крестьянству и начать все сначала. В глубине души он надеялся, что ему еще раз удастся вырвать заклейменный дурной славой народ из-под влияния кулаков и вернуть его на путь истинный. Рассчитывал Видрич и на подпольную сеть Космета и Албании, благодаря которой и Гара смогла бежать из лагеря и перебраться к нему. Одна надежда поддерживала и укрепляла другую, последняя исполнилась скорее, чем он ожидал. Но сейчас, когда Гара мертва и надеяться не на что, он уже чувствовал себя другим человеком и понимал, что прежним ему уже не стать. Торопясь за своей тенью, которая снова вытянулась, Видрич миновал хаос котловин и буераков и поднялся на первую вершину Рачвы, удивляясь, что попал на нее так быстро. Сгоряча, из последних сил он взобрался на вершину и остановился передохнуть. И только теперь увидел черные орды четников, усыпавших снежный простор Свадебного кладбища.
«Вон он, этот народ, — подумал Видрич, — вот за кого я должен бороться и кого должен спасать. Дикари, ревущие дикари. Не хочу, не могу, устал, пусть с ними возится кто-нибудь другой. Знаю: и те, кто сидит дома, и те, кто еще растет, — тоже народ, но у меня нет больше сил с ним нянчиться. Да и эти с бору сосенки, недружные, как всегда, кричат, стремясь перекричать или прикрыть беса противоречия, который в них сидит. Одни — хотели нас сжечь и пепел развеять, другие кормили нас, когда не хватало хлеба и для своих детей, а сейчас и те и другие честят нас на чем свет стоит: одни за то, что мы коммунисты, другие за то, что мы терпим поражения и позволяем взять себя в клещи. Люди перемешались, и на первый взгляд разницы между ними не видно, но она есть. Офицерам, да и всем ясно, что, если бы все стреляли в цель, мы давно были бы уничтожены, а если бы все стреляли мимо, то я не стоял бы здесь один как перст. Конечно, они держат друг друга на подозрении и точно угадывают, кто какую роль играет в их незримой борьбе, потому заподозренным иногда приходится поступать наперекор самим себе. Надо уходить от этого муравейника, как можно скорее уходить — глаза бы на него не смотрели…»
Поднявшись, он увидел солнце: точно аэростат, сошедший со своего пути из-за криков и выстрелов, оно, поблекнув, свернуло со своего пути и забрело на край серой небесной отмели. Его блеск ослабел, и земля покрылась сетью косых зубчатых теней невидимых выпуклостей. Из одной такой тени выбрался человек с винтовкой, перебежал освещенное солнцем пространство, кинулся за укрытие и открыл огонь по галдящим преследователям; тем временем показался другой, перебежал в новое укрытие и стал прикрывать первого. Так они и чередовались, расстояние скрадывало страх и тревогу в их движениях, просто два человека затеяли какую-то долгую невинную игру. Вот они приближаются к Зачанину, он поджидает их под защитой жалкого кустика, что-то кричит и стреляет через их головы. Должен бы появиться еще один, но его нет. Кого же это нет, спросил себя Видрич и тут же ответил: Ладо нет, с него первого начали. Вместо жалости в голове снова встали строки из Никольца: «…и убили Ладо с Луга…» И это, как нарочно, перенесло его в прошлое, отвлекло от Ладо.
Позабыв о том, где он и куда идет, Видрич положил дуло на ветку, нацелился и выпустил одну за другой пять пуль в начинавшую редеть черную гущу. Галдеж на мгновение умолк и всколыхнулся снова сердито и неистово. Слышно было, как честили турецкую мать, думая, что это стреляют мусульмане, — либо часовой спросонок, либо зарвавшийся задира, который не знает о договоре. Не желая нарушать перемирия, они старались образумить его криками и угрозами. Видрич подождал, пока они осмелеют и вылезут из укрытий, и снова загнал их обратно. Одни воспользовались случаем и поскорее удрали, чтоб их не успели вернуть; другие попрятались. На открытом месте остался один, — выпятив грудь, он размахивал шапкой и хриплым голосом вопил:
— Распоряжение итальянского командования о совместной борьбе против…
Видрич нацелился и прекратил его разглагольствования. В крикуна он не попал, и тот убежал вприпрыжку. На мгновение воцарилось замешательство, до сих пор они полагали, что только им дано право стрелять куда и когда заблагорассудится. Наконец они вспомнили, что и у них есть оружие, и вскоре бугристую гору постепенно затянуло дымом. Одна из пуль срезала ветку, на которой лежала винтовка Видрича, другая прорвала рукав плаща и застряла в швах, тяжелый комок земли ударил Видрича в грудь с такой силой, что у него перехватило дыхание. Ему залепило глаза. Забросало мокрым снегом. Ничего не видя, он спрятался за исчерченный пулеметными очередями камень и выстрелил наугад — только бы показать, что он еще жив.
Так он давал о себе знать через все более продолжительные промежутки времени. Он понимал, что стрелять нужно чаще, но не мог — руки точно налились свинцом, веки слиплись, малейшее движение давалось с трудом.
Среди неясных теней, мельтешивших перед глазами, все чаще появлялся призрак с бессмысленной улыбкой на лице. Улыбка была не насмешливая, как показалось ему поначалу, но и не веселая, она вообще ничего не выражала. Стоило Видричу пристальней вглядеться в призрак, он сразу же исчезал; но как только глаза уставали от напряжения или он пытался о нем позабыть, призрак появлялся снова. Пугливый, но такой настырный, — точь-в-точь человек, которому надо что-то сказать и который не знает, с чего начать. Видрич закрывал глаза, и призрак исчезал. Он понимал, что никаких призраков нет, был убежден в том и раньше, и вдруг услышал и узнал собственный голос, который раздался в нахлынувшем тумане:
— Чему это ты смеешься?
Придя в себя от этого голоса, Видрич загнал в ствол патрон, выстрелил и снова закрыл глаза, — он очень устал. Он совсем перестал думать о призраке, позабыл о нем, но, к своему величайшему удивлению, услышал его запоздалый ответ:
— Смотрю, как вы друг друга убиваете.
Его дремлющее сознание восприняло ответ, как вполне понятный, естественный, как нечто такое, о чем он уже сам размышлял, и он снова услышал свой хриплый и безвольный голос:
— А разве это смешно?
— Нет, — тотчас ответил призрак. — Я и не смеюсь, у меня только такой вид.
— И всегда такой?
— Всегда, не может он измениться.
— А кто ты?
— Надо бы самому догадаться, ты уже давно живешь мной и взываешь ко мне. Все вы бьетесь в основном из-за меня, без меня обойтись не можете.
Видрич задумался и забылся, ему уже кажется, что он не один, что вокруг него много людей. Здесь и погибшие, и те, что еще дерутся — вся коммунистическая братия из долины Караталих, а он говорит им: призраков и привидений не существует, но и с призраками можно вести разговор — разговаривают же с врагами, — порой даже забавно.
— Я не знаю, кто ты, — сказал он. — Я устал, и голова у меня болит. Вижу, что это какой-то обман, лучше скажи сам, кто ты?
— Я — завтра, — сказал призрак, — потому и улыбаюсь ничего не значащей улыбкой.
— Значит, прячешься за ней, чтобы людей не пугать?
— Вот-вот. Чтобы не мешать им. Пусть делают, что хотят, мне все равно.
— Но если ты, завтра, так равнодушно к нам, то ведь есть еще и послезавтра, а оно не такое, как ты.
— Не знаю. Может быть, и не такое, но ведь и оно проходит.
Видрич поднял голову. Какие-то обрывки слов все еще витали над ним, но доносились они откуда-то сбоку, куда он не мог повернуться и посмотреть. Перед ним, по ту сторону камня были не земля и не небо, а какая-то пустота, заполненная призрачным перламутровым блеском. И в этой бесконечной пустоте человек лишь клубочек пара, который с трудом удерживается, чтобы не развеяться и не исчезнуть в пучине зияющих пропастей… «Где это я?» — спросил он себя и еще раз мысленно проделал, переступая через мертвых, пройденный путь. Так он снова подошел к Рачве, к первому из трех отрогов, правая сторона которого обрывалась пепельно-серыми и красноватыми скалами, и тут его снова сморили усталость и сон.
II
На Ледине, между вторым и третьим отрогом Рачвы, собрались, крича и споря, толпы мусульман. Они устали от страха и бессонной ночи, изголодались, соскучились по теплому очагу и домашним. У них уже такое чувство, будто они всю зиму несут караулы и воюют на этой горе, где царят голод и смерть, им хочется наконец вернуться домой, но командир карабинерского поста и подлинный хозяин Верхнего Рабана Итальянец Ахилл Пари их не отпускает.
Ахилл Пари был такой же ширококостный, долговязый и жилистый, как они, такой же смуглый, охрипший и небритый, но он обладал и тем, чего у них не было: он носил кожаные краги, которые до войны выдавались жандармам. Были у него и другие знаки власти на кителе, на фуражке с козырьком и на поясе; был у него и пронзительный взгляд и противный голос, умел он и ругаться, любил рукоприкладствовать, но все это казалось ничтожным, по сравнению с черными кожаными цилиндрами вокруг икр, которые были видны издалека, напоминали былые страшные дни и заставляли подданных опускать глаза долу. С первых же дней по прибытии в Топловоду, Ахилл Пари заметил, что его больше боятся и лучше слушают, когда у него на ногах краги; Пари не понимал, отчего это происходит, впрочем, ему и в голову не приходило докапываться до причины, проще было надеть краги, когда предстояла важная операция.
Именно в таком виде он и остановил их на Ледине, закатив им на сербско-итальянском языке длиннющую речь, да такую путаную и растянутую, что он и сам бы ее не понял, если бы услышал из чужих уст. Про себя же он думал: не важно, понимают они или не понимают, лишь бы время протянуть. Он хвалил их за выказанную смелость и в то же время смотрел на них так свирепо, точно честил последними словами, и не только их самих, но и всех их родичей до девятого колена, и даже их мышей в подполе; он обещал им золотые горы, но не отпускал ни на шаг от этой мерзкой горы, которая даже летом вызывала неприятное чувство. Все понимали, что Ахилл врет, но все молчали — ведь это не простое начальство, а обутое до колен, с ним шутки плохи.
Только капабанда Таир Дусич еще в самом начале незаметно выбрался из толпы, знаками собрал своих людей и тайком отвел их по оврагам в прилепившееся к скалам селение Опуч; но и там он не задержался, — миновав Опуч, отряд спустился к реке, потом, перебравшись на другой берег, вскарабкался на каменоломни и попрятался в кусты. Если четники войдут в селение и станут шнырять по домам, Таир Дусич собирался ударить на них, несмотря на распоряжения начальства и прочее вранье…
Другие капабанды остались на Ледине в ожидании, что Элмаз Шаман и Ариф Блачанац — содружество мудрости и отваги — найдут какое-то решение для всех. Ариф молчал, считая, что уже достаточно испортил отношения с начальством. Он слегка раскаивался, что не сдержался, и завидовал Дусичу, который так ловко улизнул. Элмаз Шаман приказал развести в лесу большой костер: его одолел холод и какие-то недобрые предчувствия, хотелось посмотреть, как вздымается к небу дым. Скоро костер разожгли, вокруг положили пни, на них набросали веток с листьями, на почетном месте, как водится, усадили Ахилла и поднесли ему ракии, припасенной для раненых.
По их примеру зажглись и другие костры. Над живой стеной людей встала стена дыма.
Последним на Ледину пришел Чазим Чорович с капабандой из Торова и его поредевшим отрядом. Увидев над деревьями дым, Чазим решил, что жарят мясо, ему даже почудился его запах, и он побежал. Без фуражки, лысый, с кровавой шишкой, от которой лицо его перекосилось, сгорбившийся от усталости, он заметно пал в глазах людей, но сам этого еще не понимал. С хриплыми криками, в которых ничего нельзя было разобрать, Чазим пробился сквозь толпу к костру Элмаза. Когда ему сказали, что никакой еды нет, он воспринял это как доказательство ненависти к нему и заговора против него. «Сговорились, — подумал он, — все сожрали, а кости закопали в снег. Нарочно перепились свыше всякой меры, только бы мне ничего не оставить…»
Вне себя от бешенства он рычал, бил себя в грудь, стонал, показывал рану, поминал немецкую фуражку, бормотал, что ему известны все тайные коммунисты и что он с ними разделается. Ему поднесли ракии, чтобы он угомонился. Это помогло, но ненадолго. Увидев сквозь дым костра Ахилла и четырех карабинеров, он вскочил и полез к ним целоваться. Ему казалось, будто он вечность их не видел, и с иными целовался по два, по три раза, отсюда он заключил, что карабинеров много и что они настоящие его друзья и родичи. Раззадоренный таким количеством родни, он налетел на Арифа Блачанаца:
— Ну-ка говори, свиное отродье, куда ты запрятал коммуниста!
— Отстань, Чазим, чего ты ко мне сегодня пристал!
— Нет, нет, выкладывай начистоту! Я его убил, он мой, а ты его украл!
— Не размахивай руками, Чазим! Брось, меня на испуг не возьмешь!
— Возьму, свиное отродье! Так сейчас испугаешься, что копыта протянешь. — И Чазим дал ему затрещину.
Чулаф Арифа перелетел через костер. В ответ Чазим получил удар прикладом в живот. Он согнулся в три погибели от боли, недоумевая, как смог и посмел его ударить этот низкорослый гаденыш. А тем временем родичи Арифа, давно уже точившие зуб на Чазима, выхватив из огня головешки, принялись его избивать. У них были и винтовки и палки, более подходящие для такого дела, но они почему-то считали, что Чазима, как волка или оборотня, следует бить головнями. Зашипели отлетающие в снег угли, запахло горелым сукном, дымом, поднялся крик, в котором потонули тщетные призывы Ахилла Пари успокоиться. Сбежались от других костров — смотреть и подначивать. Все смешалось, кипело, волновалось. Спокойным оставался лишь Элмаз Шаман, он сидел со злорадной улыбкой на застывшем посеревшем лице, прижав руки к левой стороне груди. Ахилл, вернувшись к нему, уселся и крикнул в ухо:
— Ты это видишь! Что они делают!?
— Кажется, бьют. Пускай бьют, он первый начал.
— Нехорошо получается. Что нужно сделать?
— Ничего, смотри, удивляйся и береги голову. Они такие: убьют, а потом каются.
— Сдурели, говоришь?
— Сдурели! И он и они! Все нынче сдурели.
— Тутти[55] сдурели. Убьют же человека!
— Пусть себе! Не бойся, все равно ничего не поправишь.
«Нельзя поправить, — бормотал он про себя, — кто может поправить, как? Зараза безумия, подобно испанке, бродит по всему миру, не щадя ни одной веры, для нее все равны. Того, кто пытается помогать или спасать, она тотчас хватает за космы и — в землю. Чабанов хватает подле овец, косарей и ворошильщиков — на лугах, горожан — в городах, взялась и за женщин. Всюду побывала, всех заразила — нет больше здоровых, спокойных, собранных людей. Если уж и мирные Шаманы заразились и стали вояками, а я капабандой у них, чего ждать от других?.. Здравомыслие исчезло, умных людей днем с огнем не сыщешь, впрочем, и раньше их немного было, а проку от них еще меньше. Таков мир: текут воды, точат камни, уходят годы, а безумие остается, меняется лишь его окраска. Прошлое пестрит от этих красок: то желтой — от желчи и голода; то белой — от костей человеческих и страха; то красной — от крови и стыда; а в конце концов появится зеленая — от травы на могилах…»
Толпа вокруг Чазима наконец поредела. Блачанацы отпустили его, выбившись из сил и дивясь его выносливости, так и не дождавшись, что он рухнет на землю. Согнувшись и вытянув вперед огромные руки, Чазим вдохнул в себя воздух, вытаращил глаза и заревел:
— Это вы меня так, а?
— Тебя, тебя! — загалдели они. — Чтоб знал, как бывает битому.
— Заплатите вы мне за это, — сказал он, ощупывая черную от ударов головнями, распухшую плешь. — Я не я буду, если не заплатите!
— Ты знаешь, где мы, вот и приходи! Как только вздумаешь, так и приходи, мы тебе еще добавим!
— Теперь вы смелые, когда на мне нет фуражки.
— Найди себе другую, как в голове засвербит. Эта тебе не Нови Пазар — давить учеников и малолеток, как ты привык!
— Коммунистов, а не малолеток, — зарычал Чазим, выпячивая грудь.
Кружилась голова, перед глазами покачивались деревья, дрожали подколенки. Позабыв про затоптанную в грязный снег винтовку, он едва дотащился до веток и повалился на них. Он ничего не понимал, особенно его удивили карабинеры: они точно призраки, а может, переодетые враги, никак не верится, чтобы настоящие карабинеры, с которыми он недавно целовался, так равнодушно смотрели на то, как его били. Уставившись на Ахилла, он крикнул:
— Надо их всех засадить в тюрьму! Чего церемониться?
— Мало-мало подожди, не торопись.
— И Арифа в тюрьму, и Таира Дусича — все они тайные коммунисты.
— Домани, допо-домани[56], пей ракию, хорошо.
— И старый Шаман заодно с ними! Ты еще не знаешь этого лиса.
Элмаз Шаман не оглянулся, он ничего не слышал. Третий раз его полоснула резкая боль в груди, он знал, что это такое: у всех Шаманов эта болезнь, она начинается внезапно и уносит на тот свет прежде, чем дотащат до постели. Ему не хочется умирать, хоть он и понимает, что никакое чудо уже не случится; жалко, что смерть настигла его здесь, далеко от дома, и что усталым людям придется тащить его, мертвого, вниз по такому снегу, и они будут проклинать его. «Не надо их мучить, — подумал он, — я могу их от этого избавить».
— Ибрагим, — позвал он внука, — подойди ко мне и слушай внимательно!
— Болит у тебя что-нибудь, дедушка?
— Болит. Если я сковырнусь, тут меня и похороните, на Ледине!
— Нет, дедушка, ты здоров, как дуб, устоишь.
— Только не хороните возле дороги, не хочу, чтобы народ пугался и рассказывал небылицы! А вот там, под тем деревом, на горке. Видишь среднее дерево?
— Вижу, дедушка.
— Вот возле него, чуть отступя, чтобы корней не повредить.
И вдруг ему стало легче, и глаза его снова прояснились. Но увидел он не этот холодный и снежный день со стрельбой и дракой, с итальянцем Ахиллом Пари, который готовит засаду коммунистам, а один из тех далеких дней, когда в здешних краях не знали о существовании ни итальянцев, ни коммунистов. То были чудесные дни, заполненные играми; босоногий мальчишка прыгал по траве и распевал на все село Гркине:
Блистала-стала-стала чудесная луна В ливадах-вадах-вадах у города Сараева…Никто из его сверстников и двоюродных братьев не знал столько песен, никто не мог так долго и ладно притопывать себе в такт ногами.
Дай мне, о господи аллах, Узреть твой лик, божественный, И райские врата, И гурий красоту чудеснейших, И райские сады, И райской жизни сладость…В те дни казалось, что аллах услышал его молитву: с весны отворялись высокие врата неба и зеленые калитки долин для чабанов и овец. Вокруг шла резня, гремели облавы, а у Шаманов в Гркине царил мир, они никого не трогали и никто их не трогал. Не заходила в Гркине и турецкая жандармерия, никогда в этом родственном селении не случалось ни воровства, ни грабежа, ни разделов или споров, которых не разрешали бы сами старейшины. Наступало теплое лето, пастухи поднимались на отроги Рачвы и смотрели сверху на родное село; надвигалась осень с райскими красотами зрелых плодов и концом пастьбы, с лунными ночами, приходила пора варить можжевеловую водку, шелушить кукурузу, приезжали торговцы из Подгорицы, Скадара и Салоник, — все были чьи-нибудь родственники или друзья, и весь мир, казалось, оплетали родственные связи и любовь. Вокруг поднимались змеи-горынычи: капитан Джюкич, и воевода Милян Вуков, и князь Никола Черногорский, но их войска останавливались в долине Караталих и до Рогоджи никогда не доходили. В чаршии открылась мусульманская школа — мейтеф, на выгоны приходили новые маленькие певцы и приносили новые песни:
Малые ребята из мейтефа, В руках у них маштрафицы[57] За пазухой суфарицы[58], Идут они к реке Кевсер[59], Чтоб набрать в маштрафицы Воды для милых матушек.Старые драконы погибали и исчезали, приходили новые, более опасные. Начались грабежи, месть, черногорские войска перешли через Рогоджу, через Рачву и дошли до Пазара и Джяковицы, потом нагрянули австрийские войска, разгорелись бои под Рачвой, потом появились жандармы Ристо Гиздича и головорезы Юзбашича под прикрытием коварного итальянца Ахилла, а с ними и Чазим.
«Сгинут и эти, — подумал он, — и придут другие: других я уже не дождусь. Со мной покончено, я свое прожил. От уходящего всегда что-то остается, какая-нибудь отметина, знак, какое-нибудь название: Дервишево ночевье, Дервишев утес, Османовац… А этот пригорок с тремя деревьями, может быть, назовут Элмазовой могилой. Не назовут, тоже неважно — одной отметиной будет меньше на этом и без того пестром свете. Я хоть и носил винтовку, на душе греха у меня нет. Я никого не убил, не ограбил, никого не выдал. Этот свет — пестрый цвет, а человек — белый цветок яблони; цвет опадет и увянет. Каждому придет судный час — и козявке, и айве, и птичке в лесочке, и рыбке в воде, и черному муравью в земле; придет время — положат нас в гроб, а в гробу темная ночка, ни окошка, ни сеней…»
Ахилл Пари с ненавистью посмотрел на старика: уже второй раз он просит его дать десять молодых людей из отряда, а капабанда прикидывается глухим, что-то шепчет, придумывает отговорку… А когда Элмаз Шаман перестал шептать, когда увидели, что он умер, и подбежали к нему, командир карабинеров все еще поглядывал на него с подозрением: вот что напоследок придумал лукавый мусульманский горец, чтобы только помешать делу.
III
Иван Видрич услыхал, как незнакомый голос зовет его по имени, и не удивился: не впервой его окликали незнакомые люди, но сейчас он чувствовал отвращение ко всем звукам и к самому этому то видимому, то невидимому миру. Зов повторился, и снежок попал ему в спину. Только тогда он сердито повернулся и увидел усталое, бледное, в подтеках порохового дыма лицо Шако, оно показалось ему каким-то диким, уродливым и почти незнакомым. «Откуда он меня знает, — подумал он, хлопая глазами. — Я встречал его когда-то давно, он тогда не был таким заросшим, и глаза не были красными. Кажется, это было на Пиве, перед тем как уйти в бригаду. Откуда он тут взялся и чего на меня уставился? Пора бы ему и заговорить…»
— Ты тяжело ранен? — спросил Шако.
— Нет, я не ранен. Устал я только, слишком уж много всего в один день.
— А почему у тебя кровь на шее?
Видрич пощупал шею и удивленно посмотрел на окровавленную ладонь. Ему показалось, что ранен другой, где-то далеко, может быть, Байо Баничич, или Момо, или Качак, и потом это каким-то образом по воздуху перешло к нему.
— Откуда кровь? — спросил он и вытер руку о плащ. А про себя заметил: «Что это на меня нашло сегодня — все спрашиваю, откуда это, откуда то…» — Не знаю.
Шако медленно подошел к нему, нагнулся, чтобы пощупать ему затылок и принялся осторожно перебирать ему волосы, словно выискивал вшей. Это становилось невыносимым. Иван Видрич думал, что голову ему сдавливает шапка, а на самом деле это слиплись волосы от свернувшейся крови и прикрыли рану. Боль он почувствовал только тогда, когда Шако притронулся к ране рукой.
— Оставь, пустяки, — сказал Видрич и поднялся, борясь с головокружением. В глазах прояснилось, сознание окрепло, рана начала болеть. — Кто это идет с Зачаниным? — спросил он.
— Ладо, — сказал Шако и посмотрел ему в глаза. — Ты плохо видишь? Я тоже.
— Нет, я вижу, просто я думал, что Ладо погиб. Кто же мне сказал, что Ладо убит?
— Не Ладо, а Боснич. Не захотел уйти в укрытие.
— А где Арсо?
— О Шнайдере я ничего не знаю.
Они посмотрели друг другу в глаза, и Видрич понял: поскользнулся портной!.. Грызя ус и стряхивая с плаща снег, Видрич почувствовал, как по его лицу пробежала добрая, всепрощающая улыбка: Арсо, может, и найдет игольное ушко, пролезет в него и останется живым. Быть живым лучше, чем быть мертвым, лучше быть воробьем в лесу, чем мертвецом в гробу.
— Вот твоя шапка, — сказал Шако. — Надо идти.
— Клянусь богом, сегодня мы находились, и все из огня да в полымя.
— Придет время — отдохнем.
— Что-то ты голову повесил, дорогой Шако, не в твоем это обычае.
— Приходится вешать, чтобы ненароком не задели.
Они начали взбираться наверх, и Видричу казалось, будто и деревья повесили головы и съежились от страха, все как-то уменьшилось, и даже Рачва, которая представлялась опоясанной стенами крепостью, пригорюнилась, облысела, превратилась в обычную гору, не хуже и не лучше тех, которые оставались за их спиной. Окопы занесло и заровняло снегом; лес поредел, чащи как не бывало — все опустошила осень. Если бы знать, как здесь сейчас, подумал он, то надо бы остаться на Софре или на Кобиле, земля в могилах повсюду черная и мокрая. И все-таки лучше, что не знали. Дольше продержались и задали им больше работы. Будь день покороче, может, кто-нибудь и выбрался бы.
— Нельзя идти туда гурьбой, — сказал Шако. — Надо разбиться.
— И так уже разбиты, — сказал Ладо, — хуже некуда.
— Бывает и хуже, вот увидишь, как мусульмане за нас возьмутся.
— Мусульмане разбежались, — сказал Зачанин. — А стоит им разбежаться, как их уже не соберешь.
— На это я бы не надеялся — на слабого и заяц зубы точит.
— Тс-с, — прошипел Зачанин. — Они где-то здесь.
Каждый прижался к своему дереву и приготовил гранаты. Больше делать было нечего, мучительно потянулось, время. Нервы были натянуты до предела. Мир заполнили призвуки, тени и страшные мороки. То, что забывалось во время ходьбы и боя или оставлялось на потом, внезапно поражало душу. Преодоленный страх возвращался в многоликой форме сомнений, раскаяния и печали и подтачивал волю, отнимал силы и увеличивал усталость. Разделенные расстоянием, целиком уйдя в свои чувства и мысли, они забывали о товарищах, и тогда страх одиночества доводил до головокружения. Время от времени на них находила жалость друг к другу, но они понимали, что это всего лишь ничтожная искорка, так как все их существо, все тепло их душ и все силы разума были поглощены совсем иным. Потом они снова начинали думать о себе, завидовали мертвым, у которых все уже позади и которые избавлены от этих терзаний. А кроме того, в каждом зияло голодное естество, по сути дела, пустота, тщетно стремящаяся вобрать в себя минуты, часы, дни и годы, которые были дарованы и вдруг отняты навсегда.
Зябнут ноги. Чтобы согреть их, они пританцовывают. Возникают сомнения, не ошибся ли Зачанин? Шако пожалел, что ему поверил, и решил пойти разведать, но, сделав лишь несколько шагов, увидел, как мелькают задымленные чикчиры от дерева к дереву. Кто-то выстрелил первым, Шако едва успел выпустить два заряда, — белые фески с криками и ревом откатились назад. Партизаны двинулись за ними, на прорыв, — израненные, оборванные, обессиленные, они совсем не походили на себя. С теми покончено: они исчерпали себя и сгинули навсегда. Остановившись над Лединой, они с изумлением увидели дым костров, услышали крики. Кто же это воздвигает перед ними стену за стеной?
— Второе щупальце, — сказал Ладо.
— Какое щупальце? — сердито возразил Шако. — Это кукиш, а не щупальце.
— У осьминога щупальца. Освободишься от одного, он тебя другим схватит, — сказал он и нацелился.
— Не стреляй, — сказал Видрич. — Не поможет. Тут хода нет.
— Вижу, что нет. Потому и стреляю! — и выстрелил. — А где есть?
Видрич пожал плечами.
— Нигде нет.
— Давайте вернемся, — предложил Шако, — а наверху разойдемся в разные стороны. Если кто останется жив, встретимся на Кобиле, у Невест, там, где Гара погибла.
— Встретимся или не встретимся, это еще бабушка надвое сказала, — заметил Зачанин, — но вернуться нам просто необходимо.
— Почему? — спросил Ладо. — И без того устали.
— Надо, чтоб знали, что мы погибли за правду, а не за веру православную.
«Я умираю от усталости, — думал Видрич, — едва ноги волочу, и все-таки тоже предпочитаю возвратиться. И вовсе не ради отсрочки, мне хочется вернуться туда, где я могу стрелять со спокойной совестью. Пока я выбираю, я свободен, когда этого не будет, не нужно и жить. Смешно об этом думать, когда идешь полумертвый и одуревший, но лучше думать об этом, чем о другом. Не желаю думать о другом, не желаю, и все тут, — ужасно, что дело дошло до того, что приходится все-таки обороняться и от внешних врагов, и от внутренних».
— Можешь идти, Душан? — спросил он Зачанина. — В гору поднимешься?
— Тут недалеко, как-нибудь доковыляю. А ты как?
— Да вот иду. Не так уж трудно, когда нужно.
— Что ж, никто в том не виноват, сами сделали выбор, никто нас не уговаривал.
«Неправда, — заметил Зачанин про себя, — нас давно уговаривали избрать именно этот путь. До нас были Байо Пивлянин, и Стоян Янкович, и гусляры, которые воспевали их и склоняли нас им следовать. И владыки из Цетинья, и Карагеоргий[60], и Милян Вуков[61], и Марко Милянов[62], и Гаврило Принцип[63], — все нас уговаривали, и даже не с детства, а еще до нашего рождения, когда жили наши прадеды. И наш народ — и здесь и в Сербии — вешал предателей, сжигал их дома, чтобы и следов от них не осталось, и завещал нам поступать так же. Когда народу приходится солоно, он всегда находит людей, которые в силах хранить честь и семена свободы до лучших времен, и крепко держится этого обычая. Если бы не мы, он нашел бы других, и мы тогда им завидовали бы, а потому лучше уж так! Да и не могло быть иначе — ведь народ, этот лукавый старый-престарый лис, все время нас обхаживал и непрестанно подталкивал на то, бормоча: «Одни лишь вы у меня остались, одни вы еще меня не предали, можно ли вам верить, можете ли вы это на себя взять?..» Так было до восстания, но и после восстания он продолжал нашептывать нам: «Смерть шпионам, долой предателей, мы их всегда убивали, освободите от проказы загоны, пока не заразился весь народ!..»
«И все же народ успел заразиться, — заключил Зачанин и укоризненно помотал головой. — Прежде чем мы вывели скрытую проказу, большинство уже заразилось и, объявив прокаженными нас, не поддавшихся болезни, повело борьбу с нами. Правда, мы действовали слишком медленно и порой нерешительно, а зачастую допускали промашки, хотели лишь запугать проказу, чтобы не проливать много крови. Вот за свои промашки и расплачиваемся теперь собственной кровью. Впрочем, будь мы и попроворней, итог был бы тот же. Так уж, верно, в природе устроено, что время от времени наступают черные годы, холодные долгие зимы, голод и повальные болезни, при которых заражают друг друга, потурчиваются, а потом из зависти принимаются убивать тех, кто не потурчился. Сейчас вот снова до этого дошло, и бог знает, повторится ли еще когда-нибудь. Потурчиться сейчас не заставляют, требуют лишь не выпускать из рук винтовки и перебить нас всех до последнего. Не жалко погибать от их винтовок, — я пожил вволю, вдоволь насиделась на плечах голова моя, наездился я и на борзых конях, насмотрелся всего, намечтался, с меня хватит! Жаль только, что все мы от первого до последнего погибнем, как мыши в подполье: пи-пи-пи!»
С этим «пи-пи-пи!», жившем в его памяти, было связано семейное предание. Он перенесся в те времена, когда ни одного Зачанина еще не было на свете. Его прадед Аврам Брадарич, или Аврам Зач, прозванный так по горному пастбищу, где он поселился, в одночасье умер на пашне. Спустя неделю умерла от горя его жена. Осталось семеро детей, мал мала меньше — четыре девочки и три мальчика, друг дружке воды подать не могут. В Зач пришли родственники из Аса, Брадаричи, утешить ребят. Один из них, Ноле, сказал:
— Не бойтесь, ребята, не все еще пропало, будем живы, и это быльем зарастет! Немножко потерпите, немножко мы вам подсобим, немножко господь бог с неба, а там и сами вырастете и покажете кулак всякому, кто вам зла пожелает.
Другой родственник, Веко Марков, думал иначе:
— Славно поешь, Ноле, где только сядешь. Бог не коза для сирот, его дело не помогать, а рвать там, где тонко. И мы им не подмога — своя рубашка ближе к телу. Коли здесь тонко, пусть рвется. Девчонки — чужое счастье, пойдут по найму; а мальчики подохнут зимой от холода и голода, как мыши в подполе в голодную зиму: пи-пи-пи!
Предсказание Веко не сбылось ни в тот год, ни позже. Может, именно потому, что было таким грубым и наглым. Дети боролись изо всех сил и помогали друг другу. Одна из девушек не выходила замуж, пока не выросли братья, после выдали и ее. Переженились, разделились, обзавелись хозяйством и скоро стали известны своим достатком и смелостью. Потом так расплодились, что могли даже позволить себе ссориться между собой. Однако при этом стоило только помянуть предсказание Веко Маркова, как тотчас мирились. За это злое пророчество они возненавидели не только Векову ветвь Брадаричей, но и саму фамилию, которая их с ними связывала. Чтобы отгородиться от них и отомстить, уже первое поколение, сыновья Аврама, начало называть себя Зачанами и порвало всякую связь с братством. А их сыновья, отец и дядья Душана Зачанина, приняли эту новую фамилию как завет. С тех пор, когда надо было кого-нибудь укорить в себялюбии, упрямстве или облыжных словах, достаточно было сказать, что это наследие старого корня из Аса, произнести «пи!», и человек раскаивался.
«Если в тот раз предсказание не исполнилось, — подумал Зачанин, — то сегодня оно, по-моему, не может не исполниться. Одни провожают, другие встречают. Некуда податься, разве что вниз со скалы, но это верная гибель. Прижали к стенке, дышать нечем. Труднее всего придется последнему. Надеюсь, что это буду не я. Долго мне не протянуть, если бы и хотел. Болит чертова нога, распухла, стала тяжелой, волоку ее, как волк — капкан. Давно волоку, с самого Кобиля — нет такого волка, а может, и коммуниста нет, который бы столько выдержал. Надо бы передохнуть, да они не дадут — понесут, только сами намучаются и меня намучают. Вон она, вершина! Если бы мы знали, остались бы на ней и там бы погибли. Это было бы лучше. Почему? Совсем и не лучше. Человек должен сделать все, что в его силах. Докарабкаюсь до вершины, и все, пусть останусь в должниках! Там мы разойдемся, они пускай себе идут, а я останусь. Хорошо, что разойдемся, хоть страдать не будем, глядя на муки товарищей. Когда не видишь, как мучается другой, как он покрывается смертельным потом, как сжимает зубы, подавляя стон, то все прочее вроде уже и не мука. Может и стон вырваться, — омрачить память о человеке, и я тоже при всей своей твердости могу застонать, — когда теряешь сознание, уже не можешь собой управлять».
Наступая на пятку, он бередит рану и, подавляя стон, бормочет ругательства:
— Боли, боли, чтоб тебя триста чертей укололо! Давай, давай, пользуйся случаем. Покобенься, и я покобенюсь! Ну, ну, поглядим, кто сильней! Говорю тебе — пока я еще сильней!..
Зачанин остановился на минутку поправить повязку и опять вспомнил свой сон, который он видел перед тем, как проснуться: две золотые медали позвякивают у него на груди… «Приукрасил сон эту штуку, — заметил он про себя, — придется и мне по мере сил ее приукрасить — умирают только раз. Муки не страшны, не век длятся, а всего лишь миг. А если и вскрикнешь, не беда, все мы люди. Покобенься, покобенься, помучай, недолго осталось! Меня врасплох не застанешь, я знал, на что шел. Народ и прошлое наше, конечно, толкали нас на это, но ведь и мы могли терпеть, как другие, а вот не захотели. Нас толкала и партия, не очень приукрашивая конец, который нас ждал. Вначале толкала поднять восстание, после подавления восстания — его возродить, не дать ему погаснуть. Партия всегда считала, что чем больше восстаний, тем лучше. Однако прямо нас никто не заставлял разжигать и поддерживать огонь восстания. Мы сами этого хотели, и, если пришлось бы снова выбирать, мы снова выбрали бы то же самое. Наверняка бы выбрали, потому что это единственный способ умереть с честью и так, что частица тебя останется и будет жить столько же, сколько живут камни на Свадебном кладбище…»
Они поднялись к подножию вершины. Неожиданно Зачанин остановился и стал оглядываться. Что именно заставило его остановиться, он не знал. Следов никаких не было видно. Слышались только приближающиеся с двух сторон крики, но ему кажется, что это еще не все. У него такое чувство, что какие-то люди неслышно засели и притаились в кустах, он сам не может определить, откуда у него такое чувство. «Я как будто слышу, как у них бьются сердца, — думал он, — дыхание-то они затаили, а стук сердца не затаишь, сердца встревоженно бьются, бьются по-разному, весь воздух наполнен перестуком глухих подземных часов».
— Стой, Шако, — сказал он. — Они где-то здесь. Что ж мы прямо на дула прем!
— Они вон там! Еще далеко, — возразил Шако.
— Тех я тоже вижу, но я вижу и этих, что близко. Выбирай удобное местечко и падай, пока они нас не скосили.
— Не знаю, что тебе пришло в голову, успеем еще добраться до верха.
— Вон налево впадина, бросайся в нее, Иван! Нет времени, быстрей!
Неглубокая яма, не больше пулеметного гнезда, расчерченная тенями и окруженная стенами снежных сугробов, из которых едва торчат верхушки кустов, привлекла внимание Видрича. Он узнал ее: это одна из тех рытвин, которые он видел, когда впервые знакомился с Рачвой и которая навела его на мысль о том, что гора точно создана для боя. Он пошел к ней, и в тот же миг за кустами заревела, затявкала и разразилась залпами штабная рота коменданта милиции Ристо Гиздича. Видричу показалось, что все вокруг уничтожено, оторвался даже клочок неба вместе с солнцем, только он один уцелел каким-то чудом. Остановившись, он поглядел в сторону неприятеля, поднял руку с винтовкой и крикнул:
— Не стрелять!
Приказ их ошарашил. Одни решили, что приказу следует подчиниться, так как он исходит от какой-то неведомой и могучей силы, другие понадеялись, что он хочет вести переговоры и сдаться. Все замерло. Пока в засаде ждали, что еще скажет Видрич, Шако и Зачанин добежали до ложбины, Ладо за ними и, наконец, Видрич в три прыжка преодолел пространство, отделявшее его от укрытия.
— А-а-а-а, — поднялась волна возмущенных криков обманутых вояк. Они никак не ожидали этого от человека, который всю жизнь говорил только правду и боролся только за правду. Огонь возобновился и перешел в кинжальный.
IV
В Тамнике, в горнице Филиппа Бекича, лежит Шелудивый Граф и сквозь сон слышит, как толпа людей где-то вдалеке, точно в облаках, ревет: «А-а-а-а!..»
Это ему люди удивляются: как он ухитрился обеими ногами попасть в поставленные рядышком волчьи капканы. От боли он проснулся и прежде всего ощупал ноги: болят, но на месте, видно, кто-то высвободил их из капканов и украл у него ботинки. Неважно, пусть себе носит на здоровье, у народа это сейчас вошло в обычай — хватают все, что попадется под руку. На складе у итальянцев ботинок полно, выклянчит себе пару. А боль можно перетерпеть, главное, он еще раз вывернулся и не оказался там, где убивают. Пускай туда идут другие, те, кому дорога честь, надо и им дать случай поспорить с коммунистами, показать себя и омыть руки кровью.
Граф откинул одеяло и огляделся. Волна смрада так и хлынула с его постели и разнеслась по комнате. Две девочки с косичками испуганно посмотрели на него. Мать Филиппа Бекича, Лила, нахмурилась и поспешила открыть окно.
«Воняет от меня, точно от хорька, — подумал он. — Наплевать! Если в мире только и есть что леса да норы, должны водиться и хорьки. Странно еще, что их так мало. Надо бы нам расплодиться и дружной вонью выкурить всех тех, кто нас презирает, пускай себе уходят, поищут мир получше, а нам этот оставят…»
Он посмотрел на побеленную стену, увидел другую кровать и на ней женщину, Неду. Еще не понимая, как он сюда попал, Граф спросил первое, что ему пришло на ум:
— Это лечебница, да?
— Чтоб тебя черти лечили, — крикнула Лила. — Это мой дом.
— Чего сердишься, хозяйка?
— Еще накличешь на мою голову беду, думай, что болтаешь!
Ее голос напомнил ему сон, из которого он с таким трудом выбрался. Во сне какая-то старая женщина потребовала, чтобы раскалили докрасна щипцы для углей, и потом елозила ими у него под животом, а голос у нее был такой же надтреснутый и сердитый. Граф со страхом подумал, что сон мог быть явью. Он даже пощупал рукой, а женщина не сводила с него глаз и, казалось, читала его мысли. «Из всех творений на земле, — думал он, — нет никого хуже старух. Всегда они меня ненавидели — и когда был виноват, и когда не был. Принудила их старость годами спать в одиночестве и быть добродетельными, надоело им это, вот они и хотят облагодетельствовать своей добродетельностью всех, как коммунисты бедностью и работой. Горе еще в том, что многие из них знахарки и знают тайные наговоры, от которых и здоровому человеку не избавиться. Эта знает все. Надо как-то к ней подластиться, только с какой стороны?»
— Красивый у тебя дом, — сказал он, — уютный.
— Да, особенно с тех пор, как ты сюда явился.
— Вижу, не нравлюсь я тебе…
— Истинный бог, нет! Такие морды никогда мне не нравились.
— Я не виноват, что у меня белые брови: таким меня в темноте сделали.
— Пора тебе идти, откуда пришел, бог с ними с бровями.
— То есть как идти? — Шелудивый Граф замер от страха. «На дворе снег, на льду полыньи, всюду волчьи капканы и коммунисты. Особенно страшны коммунисты. Сейчас их гораздо больше, облава их рассеяла и разъярила. Они разбрелись кто куда и прячутся за деревьями, меня тотчас узнают и кокнут. Будь ночь на дворе, можно хотя бы ускользнуть, но ведь день стоит, солнце светит — издалека бороду увидят… ухвачусь за кровать, стану отбиваться руками и ногами, не дам среди бела дня толкать меня в пропасть, что зияет со всех сторон. У меня в сумке ножницы, пущу в ход ножницы, ногти, что попало, но это потом, если увижу, что другое не помогает».
— Не могу я уйти, — сказал он. — Я здесь на службе, часовой.
— Какой еще часовой?
Он указал рукой в сторону Неды:
— Стерегу партизанку, чтобы не удрала.
— Молчи лучше, не ври! Свою шкуру спасаешь, только и всего!
— И шкуру, и эту еврейку. Меня наши убьют, если она убежит.
— Откуда вдруг она стала еврейкой? Зовут ее Неда, родом из Меджи, вовсе она не еврейка.
— Нет, нет, еврейка она, из Сараева, дважды из тюрьмы бежала.
— Ну, знаешь, встречала я разных лгунов, но таких, как ты, первый раз вижу!
Неда закрыла глаза — нет сил слушать. На нее наводит страх его рыжая борода, исходящая от него мерзость, протканная собачьим лаем, что ширится, точно туман, в клубах которого меркнет и умирает все живое. Туман, собачий лай и горячка перемешались, и все погрузилось во мрак. А в этом мраке кто-то щелкает зубами и спрашивает:
— Кто идет?
Откуда-то доносится ответ:
— Нет, не еврейка!
И начинается перебранка: один говорит еврейка, другой — нет. Увлекшись спором, они не замечают, как Неда, свернув с дороги, оступается и летит в пропасть, что ниже Пустого Поля. Задерживается она на узеньком уступе, который вдруг оказался хижиной Ладо. Неда долго ждет его, а Ладо не приходит, чтобы помочь ей или хотя бы пожалеть. «Ушел куда-то, — думает она в бреду, — может, это и к лучшему. Если мне суждено погибнуть, пусть хоть он живет… Хорошо еще, — замечает она про себя, — что он не слыхал, как меня назвали еврейкой, это совсем отбило бы у него охоту приходить. Я не сказала ему, что я еврейка, не знала, что так называют невенчанных брюхатых баб. Напрасно берет грех на свою душу эта старая женщина — Джана, ведь это Джана меня защищает, — я еврейка. Так называют женщину, которую дьявол лишит разума, и она, не думая ни о ребенке, ни о себе, беременная, идет в леса разыскивать и спасать свою черную долю, хотя не в силах сделать ни того, ни другого. А может, еврейка — это каждая несчастная женщина, которую вот так схватили и которая не в состоянии ни бежать, ни обороняться?..
— Какой черт тебя сюда прислал? — крикнула Лила Шелудивому. — Чтоб тебе собаки могилу разрыли!
— Вот кто меня послал. — Граф ощерился и ткнул пальцем в висящий на стене портрет. — Его и проклинай!
— Хоть с головой накройся, чтоб глаза мои тебя не видели!
Она с наслаждением его избила бы, так он был ей ненавистен. Ненавистен с той самой минуты, как отворил дверь. Ей все время кажется, что она впустила в дом несчастье, нечистую силу. «Беда обычно только заглянет, — рассуждает она сама с собой, — побудет немного и уходит, а эта ни за что не хочет уходить; и нечистая сила обычно прячется, либо обернется чем-нибудь, чтобы ее не узнали, а эта лезет без стыда и совести. Брови белые, зубы черные — дурные приметы. Может, у него и хвост есть; увижу, хвачу головней прямо по хвосту! Голос у него тягучий — ни мужской, ни женский, — жутко слушать, как он лжет, улещивает, болтает сальности и двусмыслицы. От каждого слова смердит. Из всех девяти дырок смрад выходит. И он знает об этом и нисколько не стыдится, лишь посмеивается, и гордится даже, и только диву дается, что мне стыдно. И в самом деле, стыдно, стыдно и за бога, который создал его таким, и за людей, которые терпят, чтобы он загаживал эту землю. Другие воюют в горах, убивают друг друга, теряют головы, а этот вонючий выродок смердит здесь и насмехается над ними. Злой рок будто нарочно задался целью уничтожить все хорошее и оставить все дурное».
Она перекрестилась, прошептала молитву против нечистой силы, но и это ее не успокоило. «Не знаю, что со мной нынче, — сказала она про себя, — леденит меня какой-то страх, даже сердце замирает».
Тем временем Шелудивый Граф разглядывал портрет Филиппа Бекича. Он узнал его и злобно зашептал: «Так это ты тот командир, тот Аника-воин, который всю ночь шумел и рычал. Идиот круглый, ты заслужил картофельную медаль и получишь ее! Осточертел ты мне, как зубная боль, а сейчас — катись! Катись, игумен, и не тревожься о своей обители, ты оставил ее в надежных руках! Я позабочусь о твоем монастыре, о ризнице и обо всем прочем, как если бы все это было мое собственное. Спасибо за доверие, здесь совсем неплохо. Мягко, тепло, на обед мясо с капустой, конечно, найдется и ракия, а я такими вещами не брезгую. Позабочусь я и о дочерях, красивые у тебя дочери, и косички у них и ямочки, благо дяде! Затащит дяденька девочек в кровать, чтобы они его грели и лечили от простуды. Напрасно кричать и возмущаться, все это старо, знаем мы эти сказки, далеко ты забрел, не слыхать ничего от стрельбы. Чего мне стыдиться? Ты стыдись! Не мои, а твои дочери. Дети, говоришь?.. Да ведь мне как раз и нравится, что дети. Надоели мне старые курицы, вышли они из моды, пусть себе идут с богом! Надо же кому-то и цыплятам показать, для чего они созданы, открыть им глаза на эти вещи, негоже им оставаться неучеными и зелеными. Мне бы только избавиться от этой страшной бабищи, что не спускает с меня глаз, я бы им все тихо-мирно объяснил. Бабу я заманю в коровник, привяжу к яслям, набью ей хайло сеном, пусть жует, а на голову торбу из-под овса, чтобы не квакала. Ничего не сделаешь, раз она на меня так свирепо смотрит».
— Ты подоила коров? — спросил он.
— Уж не хочешь ли ты их подоить?
— Могу помочь. Я люблю хозяйничать по дому.
— Поищи какой-нибудь другой дом, может, кто ошибется и примет тебя в работники.
— Коровы могут заболеть, если их долго не доить, перегорит молоко в вымени.
— Дай бог, чтоб у тебя мозги в голове перегорели!
— Ты, старуха, партизанка, — крикнул Граф. — Меня ненавидишь, а еврейку обхаживаешь.
— Не нравится, уходи! Либо убирайся, либо молчи! А еще раз помянешь еврейку или рот откроешь, я тебя вот этой дубиной по голове!
И она взмахнула сучковатой дубинкой, показывая, какая она с виду и как она ею владеет. Шелудивый Граф тут же захлопал глазами, и ему тотчас захотелось очутиться где-нибудь в другом месте, под другой крышей и другим небом. Он резко отпрянул, чтобы избежать удара, коснулся ступней края кровати, и его пронзила острая боль, — точно внезапно пробудился и зашипел целый клубок быстрых змей.
V
В лесу на Кобиле Арсо Шнайдер отыскал застывшее тело мусульманина с красными усами. Впрочем, такими они ему только показались, и он отвел глаза, чтобы не видеть, почему они красные. Он протянул было руку, чтобы снять с головы убитого чулаф, но при мысли о том, что этот чулаф, еще влажный от предсмертного пота, надо будет надевать себе на голову, Шнайдера передернуло от гадливости. Он отскочил назад и огляделся по сторонам, не видит ли кто его. Кругом ни души, стоят одни деревья, но это не просто деревья, они одеты в черные чикчиры и черные свиты до пят и с напряженным вниманием следят за тем, как он приближается к этой последней черте. Стоит ему ее перейти, и они разом заорут, подобно тем, на Рачве: «А-а-а-а!» И потом, куда он ни ткнется, мимо какого дерева или куста ни пройдет, его всюду будет сопровождать это «а-а-а-а!». Арсо отступил еще шагов на десять и продолжал пятиться в страхе, что чулаф с головы мертвеца пойдет за ним, как плохая молва.
— Я не взял его! — крикнул он деревьям. — И никогда не возьму, никогда… Я не хуже других, а тоже могу скрепить сердце и погибнуть. Я теперь не боюсь!
Отзвуки, догоняя друг друга, перемешались и превратились в дружный лай, полный удивления и насмешек:
— Поглядите-ка на него!.. Дурень, дурень… Раньше не догадался?.. А-а-а-а!..
— Это никогда не поздно! — старался он перекричать эхо. — Здесь в любое время можно умереть. Никто не опоздает, не дадут, если даже и захочешь. Тоже мне забота!
Он вышел из леса на открытое место и удивился, что все по-прежнему тихо. Тени, совсем уже черные, вытянулись по снегу — высунутые языки леса лижут снег. Арсо вышел из теней на освещенный солнцем простор, поднял голову, выпятил грудь в ожидании выстрелов. Ждет, ждет — ничего, не видят его, не признают. «Может быть, я уже мертвый, — подумал он, — потому они меня и не видят и не стреляют. А то, что я вижу сейчас — истоптанный снег, солнце, кусты, горы, долины, — лишь плод моего воображения, посмертные воспоминания? Впрочем, если я не мертв в буквальном смысле, то для наших я мертв, а это значит — и для себя и для других. Лучшая часть меня уже мертва, остальное тащится за ним. Я не почувствовал, ни когда пришла смерть, ни когда она ушла, — видимо, когда приходит смерть, уже ничего не чувствуешь. Я слишком много придавал ей значения, а смерть всего лишь ничтожная точка и смысл ее лишь в том, что она последняя в нашем поле зрения. Ноль, и ничего больше. Неважно, больше она или меньше других, главное, что она последняя в долгом ряду цифр и нолей, составляющих неопределенное число, которое, благодаря возможности его продолжить, называется жизнью. Подстановкой ноля смерти завершается наконец число лет, дней и прочей суеты, оно заносится в огромные гроссбухи, в которые никто никогда не заглядывает. И сам бог не заглядывает! Нету бога — напрасно я крестился и срамился — пусть себе идет с богом!»
Он стиснул зубы и оглянулся в поисках того, кому можно было бы это сказать. Никого нет, кругом одни деревья — смотрят на него, будто люди, кто с грустью, кто с насмешкой.
— Нету бога! — крикнул он лесу, как кричат на военном смотру.
— Нету бога! — подтвердил лес надтреснутыми голосами.
— Я жив! — заорал он и удивился силе голоса, которая еще в нем сохранилась.
— Жив? Жив? Жив? — удивленно прозвучали отголоски.
— Удрал! Дезертир!
— У-а, у-а, деети-и-и-ир, — расплывчато заголосило эхо.
Казалось, будто сквозь черную лесную чащу пробираются любопытные духи деревьев и выглядывают, чтобы посмотреть на него, пожалеть и все-таки осудить. Потом все утихло, стало по своим местам. Только горы стоят немного по-другому, но и они на месте — высятся под солнцем и слегка покачиваются, словно плывут по волнующемуся морю. Кусты кажутся выше, и их больше, чем прежде, но это от удлинившихся теней. Белые куры, которые не так давно засыпали его перьями и криком, исчезли, ни одной не осталось. Ушли на Рачву, все там собрались, — слышно, как остервенело хлопают крыльями и квохчут, бегут за Видричем. Иван Видрич их не испугается, ему и в голову не придет спасаться от них на дереве. И Шако тоже, да и другие, если кто еще остался в живых… Арсо остановился и прошептал:
— И я сейчас не испугался бы! Не потому, что они далеко, ведь самое худшее, что они могли мне сделать, они уже сделали, — ошибся я, что не дождался конца. Если бы я его принял, этот конец, то сейчас был бы не полумертвым, а мертвым, и все было бы в порядке.
Раздумывая, что делать и куда податься, он вдруг понял, что мысли его текут вяло, вразброд, что это и не мысли, а отрывочные, быстро сменяющиеся воспоминания, словно выхваченные из темноты внезапной вспышкой молнии. Вот он бежит из-под дерева, чтобы не видеть, как Зачанин орудует ножом; вот упала Гара, а он бежит от нее, даже не протянув ей руки; вот у всех на виду он крестится и призывает бога…
Шнайдеру стало стыдно, лицо его исказилось. Он почувствовал, как у него ощерились зубы, длинные, острые, вот-вот вопьются в горло. На снегу скукожилась и корчилась его тень — точь-в-точь черный скорпион, который готовится убить самого себя.
«Не торопись, — сказал он себе с недоброй усмешкой, — с женщинами и с самим собой ты герой! Дело не в одной какой-то ошибке, за которую можно сразу заплатить; ошибок много, и придется искупать их долго и постепенно, одну за другой. Началось это с того, что я заснул на часах и натерпелся во сне страха, пытаясь удрать от падающего телефонного столба. С тех пор я только и делаю, что даю деру, спасаюсь бегством. Первая моя мысль — пуститься наутек, а не помочь товарищам или защищаться. Весь день у меня нынче будто страшный кошмар с бесконечным бегством. Может быть, я и сейчас все это думаю во сне и не знаю, как проснуться? Надо вернуться туда, где все началось, только там я смогу сбросить с себя чары, заставляющие меня все время убегать. Если я вернусь туда и проснусь по-настоящему, может быть, тогда станет ясно: все, что со мной произошло, было лишь страшным сном…»
Арсо пошел, но, сделав с десяток шагов, заметил, что ходит он как-то странно. Его заносило вправо, непонятная боль укорачивала шаг. Движения стали резкими, изломанными, судорожными, он не шел, а как бы бежал вприпрыжку. Это напоминало ему детство, когда он так рысил, передразнивая лавочника Бучу, который потешно ковылял по лавке и кричал:
— Сначала деньги, потом товар! В кредит не дам и самому господу богу!
Лавочник жаловался на позвоночник; потом он совсем сгорбился и, скоро умер. Арсо понял, что и его болезненные судороги идут от позвоночника. Может быть, ранило, подумал он с радостью, его устроила бы и самая ничтожная рана, все было бы какое-то оправдание. Он сунул руку под шинель, джемпер и рубаху, ощупал себя и помрачнел — снаружи ничего нет, рана, видимо, внутри, а такие раны никто не признает. Он ускорил шаг, и в тот же миг у него потемнело в глазах; попытался выпрямиться и пойти нормально — боли согнули его в три погибели.
Он узнал дерево, возле которого бросил Зачанина, и тотчас свернул вправо. «Подходить не буду, — заметил он про себя, — нет времени. Да и зачем, что мне это дерево? Мне нужно убедиться, что это был только сон, а не разуверять себя в обратном. Не нужна мне правда, если она такая. Это тогда не правда, а сука! Так я ей и скажу — сука! И пусть идет с богом!..»
Он умышленно обогнул место, где погибла Гара, и отвел глаза в сторону, чтобы ничего не видеть, если там еще есть что видеть. Поскользнувшись на спуске, он упал, обнял винтовку и покатился вниз. Долина, где он поднялся на ноги, была покрыта тенью и показалась ему совсем незнакомой. Это его не удивило: не все ли равно, подумал он, может, даже и лучше, что другая. Арсо плохо видит — болит голова, в глазах бегают мушки, веки горят огнем. Лучше всего вообще не открывать глаз, а только щуриться, чтобы было видно на три-четыре шага вперед — не смотрел бы и так, если бы не деревья, они идут снизу навстречу и несут свои твердые круглые животы куда-то вверх. От усталости Арсо забыл, куда идет. Вспомнился Видо Паромщик, для него так и осталось загадкой: откуда он пришел и куда исчез?.. Из слепящего блеска вынырнул вдруг и преградил ему дорогу пень; пока он его обходил, ему почудилось, будто за пнем сидит Ладо и ставит на огонь джезву[64]. Это тот, что здорово пьет, он споткнулся на женском вопросе: пусть себе сидит — всяк за себя отвечает… И даже не оглянулся. Услышал только, как черный человек бросил ему вслед пустую джезву, выругался и пошел куда-то в гору. Доносились и другие голоса, верней — скулеж. Из-за стволов, с чердачных тайников, из развалин выползают, перегоняя друг друга, выжившие счастливцы в рванье и сами рвань. Арсо Шнайдер уже не один, он лишь впереди одной из колонн огромного синдиката изнемогших и раненных изнутри, тех, кого унесли вилы, кто пролез сквозь игольное ушко и спас себе жизнь. Одни стонут и причитают, другие спотыкаются, падают на крутизне и дальше ползут на четвереньках. У них болят ноги и глаза, они не смеют посмотреть друг на друга, они повесили головы и боятся даже воспоминаний. Скрипит снег у них под ногами, катятся комья и комочки, и по этому видно, что их много. Они жалеют, утешают друг друга. Они не знают, где находятся, куда идут, им ясно только одно: надо спускаться вниз. Вот они остановились, чтоб договориться, и бормочут на разные голоса, предупреждая друг друга:
— Нельзя поминать войну, это может быть опасно.
— Какую войну? Мы не видели ее и не слышали.
— Мы мирные люди, это нам все от страха причудилось.
— И облавы не было, ничего не было. Все здесь, а кого нет, сами виноваты. Зачем им понадобилось валить столбы?
— Да, конечно, все это снилось. Лучше всего позабыть.
— Вот сойдем вниз, совсем вниз, и убедимся, что это был только сон.
VI
На Рачве, в небольшой котловинке, на снегу под солнцем отбивается Иван Видрич. Положив винтовку на левую руку, он время от времени стреляет то в качнувшуюся ветку, то в мелькнувшую тень. Минутами ему кажется, что он не из винтовки стреляет в людей, а секачом рубит дубовые ветки. Болит плечо и локоть; хорошо бы повернуться в другую сторону, но нет времени и мешает боль. Он почти привык к пулям. Рой шмелей, золотистых и светящихся, недолго крутился в воздухе, тщетно жужжа, и тут же замирает в снегу. Над шмелями виднеется вспоротое, залатанное небо. Слышатся крики. Видричу кажется, будто он видит эти хриплые крики: они снуют, точно челноки, от четников к мусульманам и обратно. Когда челноки застревают или замедляют свой бег, раздаются сиплые возгласы карабинеров, и челноки начинают сновать с новой силой. Бормочет Шако, рычит Ладо, еще живы, значит! Долго же мы живем, думает Видрич, и диву дается, как это еще служат ему воспаленные глаза, усталые руки. Только в голове не все в порядке, он никак не может вспомнить, кто с ними четвертый. Не Слобо и не Раич Боснич, — те отправились вслед за Гарой. Знает, что и не Арсо, — Арсо где-то пролез. И хорошо, подумал он, пусть хоть кто-нибудь останется в живых, чтобы не говорили потом: вытравили всех до последнего…
Иван Видрич повернул голову, насколько позволяла боль, и увидел сидящего на земле Душана Зачанина. Он сидел, точно бей на коврах, стреляя с руки и не пряча голову. Лицо черное, как черный бор, лоб, освещенный солнцем, покрыт блестящими капельками пота. Это у него от боли, подумал Видрич, нарочно так сел, чтоб наверняка убили.
— Очень больно, Душан?
— Нет, нет! На дурака и муха валится!
— Затянулось все, они, кажется, не торопятся.
— Много их, мешают друг другу — потому так и затянулось…
— Спрячься за что-нибудь, нельзя так сидеть.
— Но ведь ты тоже сидишь?
— Я не могу иначе, рана не позволяет.
«Раны не дают нам головы склонить…» — сказал он про себя — это, кажется, из какой-то песни… Видрич только хотел вспомнить, из какой именно, как пуля, рассыпавшись на десять частей, распростерла над ним ночь.
Черная бездна. Сверкают во тьме молнии, а над бездной, нагоняя друг друга, грохочут громы. Они ищут и зовут его: «Где ты? Чего ждешь? На что надеешься? Ты все потерял. Признайся, подпиши, что проиграл! Подпишешься кровью, если не хочешь иначе. Техника в наших руках, столбы мы снова поставили, телефоны звонят. Алло, алло! Мы мечем в тебя громы, ты нас слышишь? Здесь Тьер и Гизо, и Спартак бросил оружие, и братья Гракхи, и Карл Либкнехт… Вот мы собрались здесь, чтобы и тебя уничтожить, валяешь тут дурака с четырьмя винтовками! Гляди-ка, не хочет!.. Алло, алло! Сейчас наступает другая смена — Петен, Недич и Юзбашич с марокканской кавалерией генерала Франко. Им дано задание выгнать тебя из норы, а потом — как зайцев… Должно быть, он ранен, нет сил выйти. А может быть, ранены его товарищи, потому он и не хочет выходить…»
Рассвет незванно нагрянул с запада, сопровождаемый стрельбой. Пришел, как товарный поезд, вызвав искры боли в левом боку. Прежде всего Видрич увидел свою разбитую на куски винтовку, потом левую руку — она стала длинной и повисла, как сломанная ветка. Несколько мгновений он смотрел сквозь облако дыма и набежавшие на глаза слезы, и не мог решить, что болит больше — винтовка или рука. Он вытянул правую руку, чтобы узнать, что с ней; боль унесла его высоко за горы, бросила на стог черного сена, который сорвался в звездную бездну, далеко за орбиту Земли. «Конечно, — подумал он, проваливаясь, — я ничего больше не могу сделать ни для своего народа, ни для товарищей коммунистов в долине Караталих, ни для Гары. Гара отправилась первым поездом, а я за ней туда же. Пропасти эти, верно, бездонные, трудно даже себе их представить — туда идут все, а никто ни с кем никогда не встречается и никого не догоняет…»
— Попали в него, — сказал Шако. — Вон как мучается.
— В руку, кажется, — сказал Зачанин. — Иван, в руку, да?
— В винтовку, — ответил он. — Сидите, не высовывайтесь!
— Тебе помочь?
— Нет, я еще правой могу. Из пистолета!
Он вытащил пистолет, поднял его и, не целясь, для пробы, выпустил пулю в кусты, в которых до этого нерешительно поднималась лохматая шапка. Шапка упала, а простоволосый человек на длинных ногах подпрыгнул, разинул от удивления рот и зацарапал себя по груди быстро, быстро, точно ловил мышь, которая забралась к нему под одежду, потом принялся проклинать каким-то тонким от невыносимой боли, вибрирующим голосом, — казалось, проклинает не он, а его жена с шестью ребятами. Сзади его схватили за ноги, повалили и оттащили в укрытие. Видричу стало легче, что он скрылся с его глаз. «Покается тот, кто убьет, — заметил он про себя, — но покается и тот, кто не убьет. Настоящая западня, — продолжал он свою мысль, — в самом деле: мир — западня и останется западней до тех пор, пока наши его не перестроят…» Он выстрелил еще два раза в кусты, в те́ни — просто для того, чтобы заглушить в себе голоса сожаления и нерешительности. Незаметно он оказался в середине ложбинки. Острая щепка от разбитого приклада вонзилась под самым глазом, теперь он ее вдруг почувствовал. Он вытащил занозу и закрыл глаза — они жгли огнем. Он вытер их мокрой рукой, но глаза жгло по-прежнему. Всюду раны, подумал он, одни только раны…
Пулеметная очередь, до сих пор бороздившая снег между Шако и Ладо, внезапно переменила направление, и в грудь Видрича вонзилось десять раскаленных вертелов. Из разорванных жил брызнули струи крови в освещенный солнцем простор. Сердце гнало их к солнцу, земля притягивала к себе — перекрещивающиеся дуги образовали красный куст с летающими между солнцем и снегом цветами. Это трепещущее чудо длилось несколько мгновений. Увидев его над собой, Видрич удивился: «Откуда это над моей могилой такой дождь цветов?..» Рука выпустила пистолет, голова упала на грудь. Так он и замер, точно о чем-то задумался.
— Неужели погиб? — спросил Ладо, не веря своим глазам.
— На открытом месте, — зарычал Шако. — Да еще грудь выпятил…
— Что ж ты не сказал, чтобы я оттащил его?
— А ты сам не видел? Глаза и у тебя есть.
— Ссору отложите до завтра, — крикнул Зачанин.
А про себя подумал: «Завтра уж не будет! С нынешнего дня мы земля и навсегда ею останемся. Никогда больше не поглядим друг другу в глаза и не поспорим всласть. Тихо-тихо будем покоиться в земле и во тьме».
«Высокая зеленая ель Тьмы…» — сто раз я спрашивал, что это за песня и что это за женщина такая — Тьма? Никто не знал. Верно, это дано узнать, когда пробьет час смерти? И лучше, что так. Сейчас вот я знаю, кто такая Тьма, и вижу, как одного за другим нас покрывает своей тенью высокая ель Тьмы. Ненавижу тебя, темная Тьма, убил бы тебя, если бы мог! Ты отвратительна, прожорлива вместе со своей елью, которая переплела корнями землю, а ветками закрыла солнце и месяц! Ненавижу тебя за несправедливость, за то, что не знаешь порядка, выхватываешь вне очереди молодых — сука ты, Тьма!..»
— Ребята, — сказал он, — чего вы еще ждете?
— Ждем ночи, — сказал Шако.
— Ночь будет, и долгая. Лучше бы чего-нибудь другого.
— Чего?
— Не знаю. Надо их как-то перехитрить, испортить им победу.
— Арсо ушел, и хватит.
— Нет, не хватит! Шако, дай деру!
— Стреляй, если можешь, не болтай пустое!
Зачанин умолк и стал высматривать себе цель. Цепь преследователей приблизилась, люди остервенели. Те, кто дальше, переходят поляну, не прячась. Он мог бы снять одного или двух, но не хочется стрелять в первого попавшегося. Кокнуть бы кого-нибудь из знакомых. Поэтому приходится ждать. Ясно, что Гиздич не встанет ему под мушку, и Леко Брадарич бережет свою голову, как поп попадью; теплится, конечно, маленькая надежда увидеть Филиппа Бекича. Он иногда любит пофорсить, или хотя бы Тодора Ставора. Еще утром, под Белой, он слышал, как кричал Ставор — с тех пор он все время поджидает его, удивляясь, почему это его не стало слышно. Вдруг ему почудился его голос, он повернулся — да, вроде Ставор: сутулый, коротконогий, с сединой на висках. Старательно нацелившись, он выстрелил — осечка. Зачанин снова начал целиться, но пуля попала ему в лоб, он удивленно поднял брови, голова откинулась назад в тень высокой ели Тьмы…
— Ушел и он, — сказал Шако. — Сейчас уж нам больше нечего здесь ждать.
— Есть, — возразил Ладо. — Ночь будем ждать.
— Не хочется мне сегодня что-то умирать. И, уж во всяком случае, не здесь, тут и без нас довольно! Лучше уж где-нибудь в другом месте!
— Ишь чего захотел.
— И еще хочется разок отомстить всласть.
— Чем дольше живешь, тем больше есть за что мстить. Если этого ждать — никогда конца не будет.
— Пусть лучше не будет конца, чем, как сейчас, никакого выхода.
До сих пор в глубине души Шако верил, что выход найдется, но когда вдруг потерял и последнюю крупицу веры, ему стало тошно. Шум и крики начали напоминать ему громоподобный хохот. Он подумал, что смеются над ним. Смеются не только православные, мусульмане и карабинеры, но и кусты, солнце, смеются так, что в горах грохочет эхо. Шако испугал этот хохот, опостылело бессмысленно повторять без конца три одинаковых движения — зарядить, выстрелить, разрядить, — в то время как весь мир над ним потешается. В голове у него закружилось, — сначала медленно, потом все быстрей и быстрей, — он почувствовал, что немеет правая рука, а вслед за ней и левая. «То же самое, — подумал он, — было со мной на Кобиле, над пропастью Невесты, когда я не знал, что делать с пулеметом. Но тогда на Кобиле Ладо быстро помог: расставил широко ноги, поднял железину над головой и швырнул в пропасть, только два раза и звякнула!» В ушах Шако снова раздалось звякание металла, и его охватило радостное чувство, для которого тогда не было времени: «Мы сделали все, чтобы омрачить им победу… Может быть, и сейчас что-то такое придумать, — подумал он, — выкинуть какой-нибудь трюк. Кручи есть и здесь, голые скалы рядышком, ход к ним свободный. Если бы еще нашелся человек, который столкнул бы меня со скалы, или я сам смог бы себя столкнуть — вот и была бы оттяжка…»
— Как тебе нравятся эти скалы? — спросил он Ладо.
— Разве здесь есть скалы? Не знаю, я их не видел.
— И хорошо, что не видел, — скверные. Но сейчас для нас все скверно, выбирать не приходится.
— Думаешь броситься с них вниз?
— Да, думаю, вверх-то некуда.
— А что ж? И мне тут надоело ползать. Лучше лететь, чем ждать, когда тебя пришлепнут, как почтовую марку.
— Будет тряско, знай, и все равно станем марками, только позже.
— Пусть тряско, зато хоть какая-то перемена.
— Хочешь первый?
— Нет, я за тобой. Ты лучше знаешь местность.
Про себя Ладо и не собирался следовать его примеру, он говорит, лишь для того, чтобы подбодрить и раззадорить Шако. Самому ему никуда не хочется идти, он устал, промок насквозь, весь изломан, окоченел, нет сил подняться. «Да, кажется, и не нужно: слишком уж затянулась эта странная история, которая началась бог знает когда и все равно сведется к одному. Пора наконец поставить точку. Все равно какую — черную или красную. Здесь или среди скал все точки одинаковы, а краски призрачны. Будь что будет — жить живи, да честь знай, чужого века не заедай. Надо и другим оставить кой-какие незаконченные дела и задачи, чтобы и они не жили понапрасну. Будут еще коммунисты, или как их там станут называть, они будут до тех пор, пока страдают люди, а люди будут страдать, пока существует мир. Выдюжат и Тайовичи — жилистый, злой корень. Сейчас там маленький Тайо, Бранков сын; может, появится и второй малыш, Недин сын, — составит ему компанию, чтобы вместе царапать других ногтями. И совсем неважно, мой ли сын этот второй малыш или Велько Плечовича, меня на свете не будет, и некому будет смотреть на него да изучать. Все равно, чей он сын, пусть только родится и пусть вострит ногти…»
Думая об этом, Ладо посылал пулю за пулей через равные промежутки времени. Все так просто — руки привычно делают три движения — зарядил, выстрелил, выбросил гильзу. Ладо совсем позабыл про Шако, про скалы и полет. Но вдруг почувствовал, что в него уже не стреляют, облавщики кричали на кого-то другого, раздавались удивленные возгласы. Он понял, что остался один, и испугался своего одиночества. Ладо вздрогнул и в безумном страхе кинулся вниз. Крики усилились и подталкивали его в спину. Перескочив через кусты, он увидел внизу алчно зияющую бездну с бесконечными зубьями обрыва. Наконец он догнал Шако, обрадованный, что теперь он не один. Крик ширился, стрельба приближалась, а Шако все бегал по краю пропасти, выискивая место, и никак не решался прыгать.
— Ты что? — крикнул Ладо. — Будешь прыгать или нет?
— Плохо вижу, не могу найти места.
— А тут нечего видеть. Зажмурься и вот так, — сказал он и оторвался от земли.
РАДОСТЬ УМЕРЛА ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЕЕ ПОЧУВСТВОВАЛИ
I
Разыскивая убитых и раненых по Свадебному кладбищу, Пашко Попович остановился у чьей-то покривившейся ограды. Плетня из-под снега не видно, торчат только вкривь и вкось колья. Тени от них как длинный ряд винтовочных стволов, направленных в сторону горы. Пашко казалось, что из этих стволов то и дело вылетают черные ящерицы, поднимаются ввысь и часто-часто стрекочут, чтобы не упасть. И с других сторон слетаются ящерицы, словно на шабаш, кружатся, гоняются друг за другом, грызутся и грозят резкими криками. Уже образовалась целая туча, тень ее ширится по плоскогорью и омрачает день. Вверху над тучей и над заходящим солнцем ходят волны выстрелов и, сталкиваясь, грохочут, точно весенний гром.
Пашко знает, что это за гром, знает, что гремит не в небе, а на земле, на Рачве; облава как и повсюду в мире, чтобы хоть в этом не отстать от других. Он и знает об этом и не знает — хочется спать. Воспаленные глаза закрываются сами. Когда он дает глазам отдохнуть, ему чудится, будто картина, которую он видел там, наверху, настоящий морок: призрачные силы обманывают людей, сводят их, заставляют упорно преследовать и убивать друг друга. А за всем этим таится старая Злая Нечисть, за чьими повадками и изощрениями Пашко давно уже следит. Перерядилась, чтобы ее не опознали, и принялась сотнями рук тесать и сколачивать огромный гроб для Гары, для Вуле Маркетича в сербских вязаных чулках, для Раича Боснича, которого они едва узнали, для неизвестного парня, что и мертвый улыбался, для упрямого Тодора Ставора, для мусульман, для святого Памфила, который исправлял ошибки в списках Евангелия, и для пяти братьев из Египта, казненных в Цезарии палестинской… Для всех живых готовит погребение, — ведь облава всюду, и скоро все будут мертвыми, — валит деревья, изводит целые леса, строгает доски, сколачивает гробы, копает могилы. Порой она готова завыть от радости, хохочет над глупостью людей, воображающих, что они свободны и живут согласно своей воле. Ведь на самом-то деле они выполняют то, что она — Злая Нечисть — им внушила и чего заставила желать.
— Ты что, Пашко? Чего зажмурился? Тут впрямь можно ослепнуть от блеска.
— Загон, — сказал Пашко, указывая на торчащие из снега колья.
— Был когда-то, теперь-то пустой.
— Будь он полон, вы бы не ждали, чтобы я вам его показал.
— Истинный бог так, тут же опустошили бы, как уже не раз делали.
— Вот тут были ворота и плетеная калитка. Вот она.
Он ногой разгреб снег, и из-под него показалась сплетенная из прутьев калитка. Его помощники тотчас ее схватили — готовые присвоить и унести все, что может пригодиться.
— Хорошая плетушка, для носилок сгодится.
— И еще как! Мало носилок для такого дня. Черный день — крови по колено.
— Ну-ка, Пашко, разгреби еще одну, можно дома в дело пустить.
Пашко пожалел, что и эту показал: «Теперь из-за нее перессорятся, а то и подерутся, потом жены будут его проклинать — кинул кость раздора… Впрочем, пусть дерутся, решил он про себя, их не переделаешь! Опять долит дрема, кажется, так на ногах и усну. Каждый засыпает прежде времени, никто не успевает довести до конца свои дела — потому беспорядок все и увеличивается, а люди, чем дальше, тем все хуже. Надо сначала найти лошадей и сани, отвезти в больницу ту женщину, а потом уж спать. Если я ее не отвезу, никто этого не сделает. Другие, чего доброго, потащат ее в хлев, — испоганился народ, привыкли над турчанками измываться, к плохому человек скорее привыкает, чем к хорошему; бог знает, наступит ли когда-нибудь порядок… Она не турчанка, наша кровь — не дам ей так погибнуть!.. Куда же меня черт понес на эту гору? Пошел, кажется, лошадей искать. Для чего? Тут нет лошадей, одни волки. А там, где грохочет, коммунисты бьются и гибнут один за другим. Плохо, если все погибнут, один только Арсо останется — никто ему не поверит, что он честно выпутался».
С этими мыслями Пашко поднялся на Рачву и протиснулся сквозь толпу, окружившую убитых. Над головой Ивана Видрича, расставив ноги, стоял Логовац; весь взъерошенный, вытаращив налитые кровью глаза, он приставил дуло винтовки к бледному рту мертвеца, собираясь выломать ему зубы, остальные смотрели на это с явным одобрением.
«Сон это или явь, — подумал Пашко. — Нет, не сон! Мало того что убили, они еще хотят изуродовать мертвого, надругаться над ним, не понимают, что самих себя позорят. Так только турки поступали, а у нас такого еще никогда не было. И не будет, я не позволю». — И он крикнул:
— Ты что, выродок поганый, делаешь, убей тебя бог!
— Тише, — закричали окружающие. — Видишь, человек снимается.
— Чтоб вас черти сняли! Неужели срама не знаете?
— Потише, Пашко, ты что, рехнулся. Хочешь в тюрьму сесть?
Чтобы уберечь Пашко от ареста, толпа заслонила и оттеснила его назад. И только тогда он увидел, что по другую сторону убитого стоит черный, как дьявол, Ахилл Пари в карабинерской форме, перепоясанный ремнями. В руках у него фотографический аппарат, он прижал его к своему крючковатому носу, целился в стеклянный кружок и противным голосом кудахтал, как следует стоять и что делать. Переводчик переводил с итальянского его короткие указания:
— Вытаращите глаза, сделайте свирепое лицо, наставьте винтовку, хорошо бы со штыком. Неужели ни у кого нет штыка? Надо же, чтобы было видно, как вы их ненавидите…
Наконец аппарат щелкнул. Люди загалдели, началась давка. Подошли новые. Одни хотели только посмотреть, другие сфотографироваться — раз бесплатно — и оставить для потомства доказательство своего героизма. Просят итальянца, тащат его за ремни, пытаются подкупить улыбками, предлагают деньги, умоляют переводчика замолвить за них словечко…
Другая группа толпилась вокруг Душана Зачанина — приставляли ко лбу дула винтовок, проводили штыком у горла, толкали друг друга. У Пашко потемнело в глазах. Глупый народ, — кричало все его существо, — негодяи, а не люди! Нет им спасения! Все, что собрались здесь, заражены и отравлены, их не следует и спасать. Пусть пропадают, и чем скорей, тем лучше — земля будет чище. А для этого нужна особая облава, огромная, против которой сегодняшняя ничто. И они накличут ее. Боже мой, сохранит ли хоть один человек здравый рассудок, когда пройдет это безумие?..
Сквозь толпу протиснулся Лазар Саблич, подошел к Зачанину, стал одной ногой ему на грудь и поднес кулак к его остекленевшим глазам.
— Ну, собака, — крикнул он, — получил по заслугам!
— Не лай, — крикнул Пашко неожиданно для самого себя и, прежде чем понял, что делает, ударил Саблича прикладом в грудь. Сообразив, что ничего уже исправить нельзя, щелкнул затвором.
— Что такое? — спросил Саблич, оцепенев перед направленным на него дулом.
— Собака ты, а не Душан Зачанин! Не позволю топтать моего мертвого кума! Двинешься, мозги вышибу!
— Он рехнулся, — сказал Саблич. — Надо ему руки связать!
Поднялся крик — одни за то, чтобы связать, другие против. Казалось, толпа только и ждала повода, чтобы разделиться сначала на две, потом на четыре части — на села, на братства, на старые враждующие партии. Одни были недовольны жалкими результатами облавы, другие, наоборот, встревожены ее результатами, за которые придется расплачиваться; третьи раздражены тем, что не удалось сфотографироваться; четвертые напуганы тем, что попали в объектив аппарата; и все, злые и пьяные от усталости, пытались в громкой сваре излить накопившееся бешенство или хотя бы приглушить его. Верней, приглушить голос совести. Были и более глубокие мотивы, непостижимые для их разумения: пребывание в коллективе, в стаде, ничего хорошего не принесло и потому их инстинктивно тянуло рассориться, раздробиться, разойтись, вернуться к одинокому существованию, снова стать быдлом, свободным от воспоминаний и лишенным дара предвиденья. Они кричали и в то же время чувствовали, как тонки связывающие их общественные узы, как быстро они рвутся. И вот опять они одни, каждый сам по себе, окруженный недругами, и каждому угрожают заклятые враги-соседи, которые ревут и замахиваются; облава, подобная той, что тянулась целый день по горам и долам, поднялась в конце концов и на них.
Нашлось человек десять, которые пытались успокоить толпу. Они вовсю размахивали руками, рвали глотки, и получалось, будто они и есть самые сварливые и отчаянные коноводы.
Филипп Бекич в страхе начал креститься. Ахилл Пари убежал к мусульманам: ему казалось, что через минуту разразится безумная драка, гораздо серьезней той, в которой избили Чазима, и что в общей свалке, как в темноте, посыплются немилосердные удары в кого попало и куда попало. Так бы и случилось, если бы собравшиеся у голых скал мусульмане внезапно не открыли огонь. В тот же миг свалка прекратилась, крики умолкли. Одни кинулись в укрытия и взяли винтовки наизготовку, другие попадали в снег. На ногах остались лишь Пашко и командир Филипп Бекич.
— Вы что, сдурели там, зобастые черти, мать вашу перемать, — закричал Бекич, приставив ладони ко рту. — Почему стреляете?
— Не бойся! Не в тебя стреляем, а вниз.
— В кого?
— В коммунистов. Вон двое внизу, живые.
— Как живые? Они же разбились!
— По ним ничего не видно. Здоровы-здоровехоньки, вон идут.
— Тогда тут какое-то чудо, — сказал Бекич и поспешил посмотреть на чудо.
II
Издалека и сверху казалось, что они целы и невредимы: головы на плечах, винтовки в руках, — значит, все в порядке. Вблизи они выглядели иначе: лица сплошное месиво, видны только налитые кровью глаза. Они с трудом встали на ноги, пораженные тем, что еще ощущают боль, хотя уже перешли последнюю грань, за которой человек становится либо покойником, либо призраком. У Шако такое чувство, будто его провезли по скале от самой вершины до подножья; на камнях остались куски его кожи и мяса, а в теле засели мелкие камни, колючки и обломки сучьев, за которые он цеплялся; он словно смешался с поверхностью, по которой скользил, и она держит его теперь на растягивающихся нитях, тащит назад, не дает вздохнуть от боли, не позволяет прийти в себя, двинуться дальше. Ладо идет впереди в трех шагах от него и не знает, на какую ногу ступить: ступишь на правую — от боли в глазах темнеет, будто нога изломана в десяти местах, и левая ничуть не лучше. Так он и прыгает, как на раскаленных углях, а в голове возникают странные мысли: «Почему у человека всего две ноги, было бы гораздо лучше, будь их несколько!» Или: «Почему бы не попробовать перевернуться вниз головой и идти на руках?..»
Когда Ладо бросился с отвесной голой скалы, остался один на один с зияющей пропастью и ощутил ее холодящее дыхание, он позабыл о людях, о ненависти, о мести, о Неде и обо всем, что привело его сюда. Ладо чувствовал только первобытный страх, чувствовал, как он чередуется с болью, хищно соревнуется и смешивается с ней, неосязаемый, как облако, и вязкий. Ладо проваливался сквозь это облако, судорожно стискивая в объятиях винтовку — единственное, что его еще связывало с людьми. Он смотрел на Шако, видел, как тот с удивлением встает, ощупывая себя, и вдруг испугался, что товарищ попросит у него помощи, а он не сможет ее оказать. Неужели после всего, что случилось, недоумевал Ладо, может существовать еще какое-то «после», какая-то жизнь, похожая на ту, которая прошла и в которой снова нужно шагать в лохмотьях и опанках, будто ничего не произошло.
Шако тем временем встряхивал головой, пытаясь отогнать от себя всякие мысли: можно жить и без мыслей, легче, когда ни о чем не думаешь; надо куда-то идти, надо идти вниз, потому что вниз идти легче. Он шел, спотыкаясь, хватая здоровой рукой то ветку, то воздух, пересеченный длинными тенями. В ушах стоял звон, и ему казалось, что где-то впереди мир гремит пенистыми громовыми раскатами водопада. В налитых кровью глазах прыгали черные точки, то и дело заплывая туманом, в котором ему виделись заборы, распахнутые калитки, коридоры, образованные веревками, с развешанными на них простынями, штабеля дров в дворах, тесных от множества амбаров и клетей, куда вели расшатанные ступеньки из побеленных камней. В этих призрачных селениях, откуда угнано или разбежалось все живое, он временами неясно видел и с неудовольствием полуузнавал Ладо. Ему не хотелось тратить силы и утруждать свой мозг, рыться в запутанном прошлом землянок и смертей и вспоминать его имя. Шако лениво рассуждал: «Вот уж навязался на мою голову, ни на шаг от меня, и без него забот полон рот…»
И только стрельба со скал, смягченная расстоянием и шумом в ушах, подтверждала, что они живы, и напоминала, что они в каком-то роде близкие. Они посмотрели друг на друга, все еще без слов, и им стало жаль друг друга. Вернулось что-то из прошлого: они тут, рядом, части одного и того же организма, правая и левая рука, им есть на кого положиться, есть на кого опереться, по крайней мере, можно думать не только о себе. Их связывает прошлое, а после общего нового рождения они почти близнецы; они нужны друг другу в том неясном грядущем, в которое вступили, чтобы не оставаться одним, чтобы не казаться смешными самим себе, не сойти с ума от одиночества и колебаний на том пути, на который они вступили прежде, чем узнали его бесконечные излучины. Ощущение несокрушимой верности и малая толика молчаливой любви, заменившие им в этот тяжкий час все прочие товарищеские отношения и клятвы, несколько подбодрили их. Даже усталость стала немного меньше и боль слегка утихла. Страх же и раньше не очень им мешал — в течение всего дня он постепенно таял, пока не исчез совсем, точно у них ножом отсекли чувство страха и соответствующий центр в мозгу, который обязан воспринимать знаки опасности.
На стрельбу они уже почти не обращали внимания. Крики сверху стали глуше и слабее. И то и другое превратилось в пустой собачий брех за спиной: тявкает и воет сумасшедшее прошлое — хоть этим хочет отомстить за то, что по старости не может больше кусаться. Шако вдруг засмеялся и каким-то чужим голосом сказал:
— Остались мы с тобой вдвоем — богу и людям на потеху!
— Ты знаешь, куда идти?
— Сначала найдем чего-нибудь поесть, — и машина с места не сдвинется, пока ее не подмажешь.
— Я бы только ракии выпил, — сказал Ладо.
— Будет и ракия, и сало с горячим кукурузным хлебом. Пока жив человек, он должен есть, после уж можно и без этого.
— Потом он свободен, может без всего обходиться.
Они вышли из скалистой, заросшей кустарником местности на почти ровный простор. Солнце опускалось, и большая тень Рачвы добралась уже до соснового леса. Добрались и они, зашли в лес и остановились осмотреть полученные при падении раны и ушибы. Вверху, на скалах, произошли какие-то перемены: стрельба прекратилась, а нестройный хор толпы сменил скрипучий голос со множеством созвучных слогов.
— Это итальянец, — сказал Шако, — стихи какие-то шпарит.
— Не стихи, он говорит кому-то, что нас двое и что мы ранены.
— Коли так, готовь винтовку — придется начинать снова. Черт бы их драл, пропало наше сало! Если ранят одного, другой должен его пристрелить — согласен?
— До этого не дойдет, сейчас уже легче.
— А если дойдет?
— Это он говорит итальянцам. Напрасно трудится, они заглядывать в лес не любят.
— Значит, не согласен.
— Согласен, если тебе так приспичило, — сказал Ладо, — не так уж это трудно.
А про себя заметил: «Наверно, это очень трудно, однако заставить себя как-то можно. Но если Шако ранят, что я буду делать один?» И тут же Ладо попытался задвинуть этот вопрос куда-нибудь подальше и поскорей о нем позабыть, но он выплывал снова и снова, оттесняя другие мысли. Не оглядываясь больше на Шако, Ладо зашагал по лесу, дошел до опушки и стал смотреть, как впереди по крутому пастбищу зеленой лавиной спускаются итальянские солдаты.
Выйди Ладо сюда чуть раньше, он мог бы видеть, как во главе колонны, верхом на лошади едет майор Фьори и указательным пальцем правой руки, одетой в перчатку, пишет в воздухе одно из своих писем доктору Кузани в Феррару.
«Целый день я сегодня наблюдал, как партизанский коммунистический отряд боролся с облавой, организованной националистическими и мусульманскими ордами по приказу Фоскарио и при поддержке батальона итальянской пехоты, которым я командую. У меня разламывается голова от непрерывной стрельбы, уши ничего не слышат от адского грохота, половина моих людей ослепла от сверкающего под солнцем снега — идут и плачут. Всю ночь мне будут мерещиться трупы убитых, которых мне принесли показать. Считается, что я, как майор-людоед, буду бог знает как наслаждаться, их видом. Один двуличный бородач, напоминающий святого с византийской иконы, упросил меня дать ему письменное разрешение схоронить мертвых коммунистов. Я дал — почему бы их не похоронить? Лучше похоронить, чем бросить на растерзание воронам или лисицам. Сейчас жду, что эту мою записку я скоро увижу в руках Фоскарио; он любит устраивать такие штучки: натянуть мне нос, а потом милостиво простить. Вот так я и варюсь в этом соку — то западни, то облавы либо и то и другое. Но не только я — все мы в таком положении. Все ведут облавы друг против друга. Если три банды объединяются, чтобы истребить четвертую, две из них уже договариваются, как напасть не теряя времени на третью. Порой мне кажется, что с тех пор, как существует мир, облава не прекращается, а непрестанно совершенствуется благодаря все новым техническим достижениям. Вероятнее всего, в мире и нет основы для улучшения жизни, а то, что мы называем прогрессом, лишь подтверждает эту невеселую истину…»
У майора Фьори заболела рука, но он продолжал писать — уже нарочно, чтобы отвлечься и сделать вид, будто он не слышит, что кричит ему со скал Ахилл Пари. Как ни в чем не бывало, он спустился к пастбищам и крутым полям села Страна. Ободренные присутствием итальянских войск выползли прятавшиеся по ущельям мусульмане с женами, детьми и скотом и потянулись к домам, неся узлы и подгоняя лошадей, груженных мешками с зерном, шерстью и медной посудой, которую прятали в ямах. Жалкий народ, жалкая защита, на которую он полагается, подумал Фьори и, обернувшись, с грустью посмотрел на своих усталых и голодных солдат. Колонна позади него, почти ослепнув от нестерпимого блеска, подавленная страхом, ощетинившаяся винтовками и обремененная ранцами, безмолвно катилась вниз, бежала сломя голову, спотыкаясь и скользя. Солдаты стремились как можно скорей уйти подальше от соснового леса, от леса вообще и засветло добраться до шоссе.
— Ушли наконец, — сказал Шако. — Теперь и мы можем трогаться.
— Не хочется никуда идти, — сказал Ладо. — Можно бы и здесь дождаться ночи.
— Здесь нельзя.
— Почему нельзя? Что они нам сделают?
— Если еще простоим, раны охладятся. Пошли!
Говорит «пошли», а сам ни с места, и ему не хочется двигаться. Перед ними холмик, что за ним, не видно. Если лес и овраги — они спасены; но там может быть и голая поляна — полигон для установленных наверху пулеметов, тогда трудно будет выбраться… Наконец, собравшись с духом, Шако побежал к холмику. Его тотчас обнаружили, словно только его и ждали, и, точно взбесившись, за ним погналась пулеметная очередь. Пули взрывали под снегом землю, вверх летели комья и колючки, на солнце они казались красными, как кровь, как клочья мяса. Ладо, пораженный, смотрел и диву давался: «Сколько же ран получил Шако? И откуда у него столько сил все еще бежать? Держится, пробежал как ни в чем не бывало! Теперь и мне пора…»
Он закрыл глаза и побежал, и тут же ему почудилось, будто пулеметная очередь, отдуваясь, рысит по пятам за ним. Потом его что-то задело, оцарапало, точно два мохнатых зверя схватили его за штанину. Между ног путались какие-то черные нитки, одни рвались, другие тянулись; на вершине холмика, запутавшись в них, он упал навзничь. Падая, он задел рану, и от боли небо в глазах завертелось, запрыгало и потемнело. Другая очередь швырнула ему горсть снега в лицо; третья, точно шелудивая собака, проехала животом по носу, брызнула на него холодными капельками с хвоста и шарахнулась в кусты. На скалах закаркали вороны и люди, из темного водоворота криков выделились ясные и веселые возгласы:
— Браво! Браво! Прикончил.
— Готов, спекся, одним ме-е-еньше!
— Полежи, сынок, отдохни! Придет братец, поднимет тебя, вон идет!
— Шако это или Качак?.. Кто знает?
— Важный какой-то, в офицерском кителе.
— Вот сойдем и увидим. Сейчас он ручной, подождет.
— Нет, — зарычал Ладо. — Не ручной я, ошибаетесь.
Он протер глаза, вернул небо на место, вытянул для проверки ноги, собрал все силы и в три прыжка добрался до верха. Поднял над головой винтовку, погрозил тем наверху и показал еще для ясности кулак. Он рассчитывал увидать за холмиком лес или хотя бы Шако — вместо этого перед глазами раскинулся голый выгон и на нем десятка два мусульман в чулафах и закопченных чикчирах. Ладо сначала решил, что они ему со страху почудились, что это мстит изгнанный, с презрением отброшенный страх, издалека насылая на него такие невероятные мороки, которые долго не исчезают и кажутся совершенно реальными.
Морок или не морок, Ладо понял, что все равно выбора нет. Зашагал прямо к ним, надеясь, что они сами вернутся в небытие, из которого им и не следовало выходить. Идет, а они не исчезают. Вытянулись цепью на три шага друг от друга, винтовки наперевес, стоят, переминаются с ноги на ногу — один похож на Гувера, а другой, рядом с ним, на попа Гапона.
Ладо почувствовал, что вместо головы, сбитой с толку хаосом неясных мыслей, правая рука сама начала думать и выполнять задуманное: она нащупала в кармане итальянскую гранату, вытащила ее, поднесла к губам, совсем как грушу, чтобы откусить. Вытащив зубами мягкий язычок предохранителя, он сунул туда палец. Смерть теперь приближена на добрый шаг и поймана, как джин в бутылке, теперь ей нельзя ни запоздать, ни прийти раньше времени, она будет сидеть и ждать его приказа. Уже не важно, что собираются делать другие, он их опередит. Все сейчас в правой руке, под пальцем, который вдруг стал огромным, словно затычка от целого мира: нити судьбы, причуды свободы и пути неясного будущего зависят всецело от него. Он положил руку в карман, чтобы не было видно, какое сокровище он в ней держит, и спокойным шагом пошел дальше, медленно-медленно, шаг за шагом, как ягненок, забредший в тесное помещение бойни.
Мусульмане смотрят на него с недоумением. Может, он хочет сдаться, думают они, или попросить пропустить его. Они верят, что это так, потому что это больше всего их устроило бы. Им, мусульманам из ближайшего от границы селения Страна, приходится выкручиваться иначе, чем прочим единоверцам. Они порвали с Таиром Дусичем, и тем самым с Верхним Рабаном, и теперь их подозревают в том, что они тайно крестились и приняли веру четников, никто им больше не верит, перед всеми они виноваты. А упустив одного коммуниста, они лишались теперь и покровительства, которое обещано другой стороной. Единственным оправданием для них было бы схватить второго живьем, разоружить и передать тому войску, которое подойдет первым. Глядя, как спокойно приближается к ним Ладо, они решили, что сам великий аллах посылает его, дабы они могли откупиться его шкурой.
Ладо был уже в десяти шагах от них, когда они увидели, что коммунист вовсе не похож на заблудшего теленка: в налитых кровью глазах таилось коварство. И поняли, что им грозит опасность. Пожалев, что подпустили его так близко, мусульмане крикнули, чтоб он бросал винтовку, и взяли его на мушку. Коммунист сделал еще два шага и вместо винтовки бросил удар грома. Бросил и, еще не опустив руки — точно с разгону прыгал через костер, — пролетел между ними сквозь дым, крик и снежную заваруху.
Покуда они приходили в себя и искали глазами его растерзанное тело, Ладо скатился с пригорка в лес, протиснулся сквозь кусты, добежал до сельской дороги и остановился перевести дух. «Здорово я их обманул, сказал он про себя, попытаюсь еще раз», — и переложил оставшуюся гранату из левого кармана в правый. Потом огляделся по сторонам: дорога, подозрительные кусты, дубовый лес с пожухлой листвой. Все какое-то враждебное. Шако нет. Старый-престарый день, накормленный криками и напоенный кровью, подстерегает, томясь в ожидании. Солнце село на небесную мель и едва ползет. Ладо посмотрел на него и сердито крикнул:
— Шагай, солнце! Шагай, глупое, делай свое дело! Чего волынишь? Чего не заходишь?
Он словно увидел свой голос. Точно мокрая тряпка, он взлетел над деревьями и упал в долину без отклика и отзыва. Освещенная солнцем, раскинувшаяся перед ним низина, коварно разделенная впадинами, начинает перешептываться с оврагами и тенями: «И что за дурак? Думает, что потом легче будет. Почему легче? Отчего легче? Кому ночь приносила облегчение?.. Оставь его, пусть себе надеется. Все у него в голове перепуталось, ничего ему не докажешь. Где он, он не знает, и спросить некого, да и не поверит, если ему даже верно ответят. Один он, а один человек — не человек, он и себе перестает верить…»
III
Васо Качак увидел на северном склоне Орвана одинокую движущуюся точку, всмотрелся в нее и больше не упускал из вида. Чудная какая-то, похожа на черную мушку, появляющуюся перед глазами, когда устаешь. Но обычно мушки плавают в пустоте, расплываются и исчезают, а эта упорная, никак не пропадает. Движется одна-одинешенька, спускается по крутогору и незаметно растет.
Оказавшись на нижнем скате горы, точка превратилась в заблудившегося школьника с ранцем за плечами, который забрел в незнакомые места, проклинает злых вил, заманивших его в неведомую глушь, и рукавом утирает слезы, чтобы увидеть, куда же он наконец попал. Однако школьник вскоре превратился в согбенного старика; он шел, опираясь на палку, и смешно дергался на ходу, часто падал и, прежде чем решался снова встать и продолжить путь, долго размышлял. Поднявшись, он каждый раз менял направление: сворачивал влево и пытался снова карабкаться на гору. Попытки его были тщетны, старик быстро уставал и опять начинал спускаться вниз, — туда, куда вели его ноги, и так до тех пор, пока он снова не падал. А падал он все чаще и чаще, передышки становились все продолжительней, было ясно, что силы у него на исходе. Вот он вошел в лес и застрял там надолго. Когда казалось, что старик уже не появится, он все же как-то доковылял до открытого места и пошел дальше к подножью горы.
— По всему видно, это не Байо, — сказал Качак. — Как думаешь?
— Ни Байо и ни Видо, — ответил Момо Магич. — Я уж потерял всякую надежду, что они живы.
— Рано еще терять надежду, еще ничего не известно. Кто же это может быть?
— Не наш. Какой-то дряхлый старик, едва тащится.
— Может быть, хоть он что-нибудь знает. Наверняка знает. Надо его спросить.
— Давай, он-то от нас не убежит. Ноги не дадут, если даже захочет.
Гавро Бекич молчал. Не желая вмешиваться в разговор, он отошел в сторонку и улегся на куче хвороста, удивляясь про себя, как это им еще не надоело смотреть куда-то и языки чесать. Ему всего довольно. Хочется спать, а не может; стоит только задремать, как перед глазами встает шумный Филипп Бекич с полосатой шалью на голове, намотанной, как тюрбан, точно там поселился клубок разноцветных змей, и в красном джамадане, от которого все превращается в кровь и огонь.
«Ничего не получается, не могу заснуть, — заключил он, уткнулся лицом в листья и захрапел, будто заснул, это был единственный способ показать Момо Магичу, что у него, Гавро Бекича, совесть чиста. — Да, чиста, твердил он про себя, совершенно чиста. Я не раскаиваюсь, мне не в чем раскаиваться — в такой день ничего нельзя было сделать. А говорить с ними не стану, пусть они первые начнут! Пусть наваливаются, а я потом, у меня тоже есть что сказать. Они сами виноваты — Байо и они, а не я! Они знали, что Байо не создан для таких дорог и землянок. Сто раз им твердил: уберите его отсюда, не по силам ему такое! Почему его не отослали в другое место? Он не захотел — приспичило в герои выйти, а они не нажали на него. Нужно было убедить или поставить вопрос на голосование. Любому другому можно навязать решение, которое ему не нравится, так почему нельзя было с ним поступить так же? Не сошла бы с него позолота, если бы он пошел в барак к раненым. Прихватил бы с собой свои книги и тетради и копался бы в них за милую душу. И обувь была бы сухой, и постель чистой и сухой; капелька на бумаги не капнула бы; ни мокряди, ни вшей, ничего из того, что доводило его до сумасшествия. Остался бы жив, дождался бы весны, и нам без его придирок было бы легче. Мы успели бы выбраться на Софру, пока Иван Видрич ее оборонял, и Видо Паромщик был бы с нами, и все было бы как надо…»
— И я не позволю, чтоб меня обвиняли в смерти Паромщика! — прошептал он. — При чем тут я, кто я такой? Я рабочая сила — делаю то, что мне прикажут, протаптываю в снегу тропу по дороге и бездорожью. Разве я толкнул Видо на это? Я предложил его? Я заставил его идти туда, куда мне самому идти не хотелось? Я не послал бы никого, не так я глуп, чтобы отдавать здорового за больного, живого за мертвого. За трех, за десять мертвых я не дал бы одного живого, мертвые есть мертвые, им никто уже не может сделать ни дурного, ни хорошего. А Видо сам виноват. Какой черт тянул его бежать туда очертя голову? Все мы товарищи и больше, чем родные братья, и любим друг друга, и помогаем друг другу, но у каждого из нас только одна шкура, запасной ни у кого нет. Потеряв шкуру, ее ничем не заменишь, а без шкуры человек не нужен ни себе, ни людям! Наплевать мне на то, что Момо сердится! Пусть отдаст свою шкуру, если может, почему обязательно — мою? Если он не желает со мной разговаривать, я навязываться не стану. Могу и без него прожить, и без других, а понадобится — могу и один, как один и родился! И тогда уж, Филипп Бекич, держись — убью в первую же ночь, как останусь без опекунов, а потом уж отосплюсь вволю…
— Гавро, ты видишь человека, что спускается с голой горы? — спросил Качак.
Бекич вздрогнул, будто и в самом деле спал, протер глаза и крикнул:
— Что?
— Не кричи! Старик какой-то идет с Кобиля, он, наверно, что-нибудь знает.
— Это не старик, — сказал Гавро. — Клянусь богом, это Арсо Шнайдер.
— Почему Арсо? Не ходит так Арсо и не спускался бы он по открытому месту.
— Звездануло его пулей, потому он так и идет, — сказал Гавро и встал. — Сам не знает куда. — И пошел.
Они двинулись за ним по лесистому склону горы к подножью. Крутогор, на который раньше они поднялись без особого труда, сейчас казался бесконечным. Они готовились услышать недобрые вести и от волнения дышали часто и прерывисто. Ими овладел страх — хотелось оттянуть встречу, и они инстинктивно противились этому желанию, подогревая в себе нетерпение. Перебегая от дерева к дереву и обгоняя друг друга, они часто закрывали глаза, чтобы не видеть двойную бездну, к которой приближались. Они чувствовали себя как в бою, где любая отсрочка граничит с трусостью, а опоздание ведет к поражению. Они не опоздали — человек лежал немногим дальше того места, где они видели его в последний раз. Лежал он как колода, закрыв рукой глаза, и разговаривал сам с собой. Его бормотание, по мере того как они подходили ближе, слышалось все громче и походило на перебранку, полную злых слов, повторяющихся по два, по три раза сряду. Им стало неловко, словно они подслушивали. Гавро кашлянул.
— Это ты, Арсо? — спросил он.
Тот медленно убрал со лба руку и сказал:
— Да… Я… Я убежал…
— И хорошо, что убежал. Главное, ты жив.
— Резвые ноги выручили — на дерево, потом вниз с горы, и сюда.
— Остался ли еще кто-нибудь в живых?
— Не думаю. Куда там! Как навалились драконы и вороны!
Гавро наклонился к нему.
— Куда тебя ранили? В голову?
— Нет, внутри. Отведите меня в землянку, холодно.
— В землянку? — Момо усмехнулся. — Погоди немного, сразу нельзя.
«Почему сразу нельзя, — подумал Арсо, — что он надо мной насмехается? Здесь Поман-вода, недалеко Тамник и Орван, я знаю теперь, где нахожусь! Как только заговорил Гавро Бекич, тут же все узнал, я и раньше догадывался по небу и деревьям. Землянка недалеко, ее не видно, зато я слышу ручей, который протекает мимо нее, он один так журчит, пробираясь среди корней и камней под снегом. Еле-еле дошел, дальше не могу, пока не отдохну. Сам не знаю, как мне удалось на них набрести; повезло, конечно, тут легко заблудиться. А они вместо того, чтобы обрадоваться, даже не хотят пустить меня внутрь. Как странно, все вдруг сразу охладело — и земля и люди. Должно быть, у них какая-то тайна в землянке. Или Байо приказал никого не пускать, или им кажется подозрительным, что я один спасся. Поторопился я сказать, что удрал, болтаю что попало без нужды. Этот Гавро чудак какой-то! Просто свинья. Чего он там ищет у меня под рубахой и еще пуговицы отрывает? Пальцы у него узловатые, ногти острые, ворочает меня, как мешок, — хватит, наконец! Вообразил, что я ранен в живот, как Видо Паромщик, надо ему сказать…»
— Я не Видо Паромщик, — простонал он. — И не ранен.
Гавро приостановился и спросил:
— Разве Видо ранен?
— Где ты его видел? Куда он ранен? Откуда ты знаешь, что он ранен? — забросал его вопросами Момо.
— Он умер. Турки его… Турки на обман мастера, им ни в чем нельзя верить.
— А Байо тоже погиб? — спросил Качак.
— О Байо не знаю, я не видел его. Разве он не в землянке?.. Турки сволочи, все лукавят! И Гару они убили, внезапно, из засады, и Зачанина в ногу ранили. Я убежал, не мог смотреть, как Зачанин ножом отрезал себе пальцы на ноге. — И он закрыл глаза рукой.
— Был ли еще кто-нибудь, когда Видо умер?
— Были, все мы были: Раич Боснич и Гладо.
— Какой Гладо?
— Черный, тот, что ракию здорово пьет. Он наверху остался, не захотел вниз, у костра сидит.
Они переглянулись. Плохие вести сыплются из Арсо, и они молча, взглядами, убеждают друг друга, что все это не внушает доверия. Рехнулся от страха, бредит, выдумывает, всерьез нельзя принимать. Лучше вообще ни о чем его не спрашивать. Словно это и не Арсо Шнайдер, а злой дух страха и поражения в его обличье. Гавро и Момо поставили Арсо на ноги, Качак понес его винтовку. Тащат его, толкают чуть ли не как пленника к лесу. Как только он пытается что-то говорить, его прерывают: потом, мол, расскажешь, в другой раз. Арсо в смятении терпит и силится вспомнить, что такое он сболтнул. Раскаивается, что помянул Видо и Гару; зарекается не говорить о погибших, чьи имена уже перепутались у него в памяти. Они все шли и шли, лес все тянулся и тянулся, и ему кажется, будто его ведут в землянку у Дервишева ночевья. Его это радует: там тепло, мягко и все знакомо. Когда он снимет обувь и приложит ступни к горячей каменной плите под печкой и закроет глаза, морок мигом исчезнет, и сразу станет ясно, что все эти смерти лишь дурной сон.
Подойдя к початому одонью листовняка, Гавро взобрался на него и стал сбрасывать охапки веток. Уложив на них Арсо, они сняли с него обувь, рубашку, завернули штаны до колен и принялись его тереть и месить, как тесто в квашне.
— А сейчас холодно? — спросил Качак.
— Н-нет, хорошо. А еще лучше будет, если вы мне вздохнуть дадите.
— А теперь скажи: почему Раич Боснич оказался у вас? Ты уверен, что его видел?
— Да, видел, он заблудился.
— Раич и с завязанными глазами не может заблудиться.
— Он привел этого, — не знаю, как его зовут, какое-то чудное имя у него, он еще отбил чужую жену.
— Уж не Ладо ли он привел? — спросил Момо.
— Верно, Ладо. Его надо было привести к Байо, на Поман-воду, а метель помешала.
Качак больше не слушал — все стало ясно. Арсо не бредит, просто люди, когда становится туго, изворачиваются и сходят с ума везде и всюду…
Перед глазами встал Суходол — серое мрачное песчаное ущелье между двумя длинными голыми горами. Однажды налетела вдруг гроза с градом и дождем и загнала в обветшалое строеньице косарей, чабанов, крестьян, отправившихся на базар, двух охотников с собаками, женщину с больным ребенком, и каких-то таможенников, которые шли ловить контрабандистов. Когда люди устроились и разожгли огонь, чтобы обогреться и высушить одежду, вздувшийся от ливня поток в мгновение ока смыл всех, не спаслись даже собаки. Несколько дней тщетно разыскивали мертвых и спорили о месте, где находился дом. Тогда-то и пошли разговоры, будто дома вовсе и не было, был морок — мышеловка, которую использовала со сверхъестественным коварством сама Беда, чтобы заманить в нее как можно больше жертв. Васо Качаку кажется, что и землянка у Дервишева ночевья тоже была такой мышеловкой — заманила их и усыпила, а лазутчики тем временем вынюхали их, и облава собрала свои разбросанные силы. «Есть на свете чудеса, — заметил он про себя, — неверно говорят, будто их нет. Чудо совершается, как только повернешься к нему спиной, чуть упустишь его из вида, оно тут как тут, потому и чудом называется, что отводит глаза».
— Не пойдем больше в землянки! — вырвалось у него вдруг.
— И я сыт ими по горло, — пробормотал Момо. — Осточертело сидеть внизу.
— А куда же? — спросил Гавро.
— Сыра дубрава наша мать!
— Не мать, а мачеха.
— Выбирать не приходится. Стоит обнаружить одну землянку, тут же налетят на все прочие. Теперь надо ждать их, откуда бы они не появились.
IV
По дороге снизу показались безоружные мусульмане — озябшая голь в посконных чикчирах. Шли они друг за другом, согнувшись, встревоженно прислушиваясь к стрельбе, что разгоралась на горе, и время от времени останавливались и раздумывали, что делать. Ладо подпустил их совсем близко и, неожиданно поднявшись из кустов на излучине дороги, привел в замешательство. Тот, что шел впереди, закрыл глаза, побледнел как смерть и схватился за дерево, чтобы не упасть. Другой, с большим зобом, попробовал было что-то сказать. Зоб под горлом запрыгал, словно он проглотил живую курицу, которая трепыхалась в горле, стараясь стать на ноги. И только третий сохранил присутствие духа, прижал руки к груди, выставив вперед землистого цвета щит из мозолистых ладоней, и пролепетал:
— Пощади, прошу тебя!
— Дай мне твою шапку, — сказал Ладо.
Ладо вдруг пришло в голову, что белая феска могла бы кого-нибудь и обмануть. Правда, не наверняка, белая феска не очень подходит к офицерскому кителю, и все-таки надо сделать все, что можно.
— Бедняки мы, — сказал человек с мозолистыми ладонями. — Пощади нас.
— Зачем мне ваша жизнь, мне нужен чулаф! Дай-ка его мне!
Вместо того чтобы протянуть свой чулаф, мусульманин сказал:
— Вон твой товарищ внизу.
— Какой товарищ? — вскрикнул Ладо и вдруг безумно заторопился. — Какой товарищ?
— Тот здоровенный такой, коммунист, роет окоп — защищаться.
«Шако жив!» — подумал он, и вереница мусульман мгновенно превратилась в его глазах в разумные человеческие существа. Позабыв о чулафе, не спросив, где это «внизу», — казалось, теперь ему известно все, что нужно для всей будущей жизни, — Ладо кинулся мимо оцепеневших людей. По сравнению с невероятной надеждой еще раз найти товарища, все в мире вдруг потеряло цену и значение. В спешке он даже не заметил, что лес начал редеть и дорога повернула к полям и огородам, разделенным изгородями и тропами, которые вели к жалким домишкам и стогам соломы. Поняв, куда зашел, он испугался. Селение, правда, разбросанное, и людей нигде не видно, но все кругом может быть использовано как засада. Может, там и есть засада и сейчас за ним следят из-за ореховых стволов, из-за сараев, целятся из-за снопов кукурузы. Ладо попытался хотя бы что-нибудь высмотреть, но тут же убедился, что глаза его бессильны уследить сразу за всем. Он точно в сон погрузился и оказался вдруг посреди оккупированного города, не зная, в какую сторону прежде повернуть винтовку. Чтобы собраться с духом, он остановился. «Шако не здесь, — промолвил он про себя, — не такой он дурак, чтоб забраться в такое место. И я не пошел бы сюда, не обмани меня этот турецкий гад. Ловко он сохранил чулаф».
Его внимание привлек островерхий утес, покрытый чахлым кустарником. Среди приглаженных обработанных полей великан-утес стоял одиноко, без межей и оград, крутой, упрямый и несокрушимый. Ладо направился к нему с каким-то родственным чувством. Вдруг звякнул камень о камень, и он увидел, как Шако хватает винтовку и кричит:
— Стой! Кто идет?
— Ты что, Шако, ослеп, что ли?
— Точно, ослеп. Видишь, какие у меня глаза?
— Потому ты и устроился посреди села.
— Разве здесь село? Тогда надо смываться. — И он пошел.
Наверху, по крутогорам, разгоралась стрельба, люди перекликались испуганными голосами, повторяя какое-то одно слово, видимо, название селения, в которое они забрели.
«Как плохо, — думал Шако, — что у каждого паршивого селения есть свое название, и каждый пригорок не больше бородавки тоже имеет свое название, и про каждый известно, где он находится. Некуда человеку податься при таком количестве названий — все тотчас становится известным. Выходит, будто и прадеды наши, те, что лежат в могилах, ополчились против нас: напридумывали названий, крепко держали их в памяти и передавали от отца к сыну — все для того, чтобы как можно лучше подготовить облаву и чтоб преследователи ненароком не заблудились. И старое боится, объединилось живое и мертвое, не мешают им ни вера, ни границы, — можно только удивляться, как это мы до сих пор еще живы!»
Крики умолкли. По напряженной тишине Шако почувствовал, что тучи сгущаются, опять гроза, и, видно, на этот раз последняя…
— Предали гады, — сказал он. — Иди влево!
— Почему влево? — спросил Ладо.
— А ты что, знаешь лучше, чем я? Тогда иди, куда хочешь.
— Ничего я не знаю, спросил просто.
— Тогда иди направо, лучше направо.
— А почему ты не идешь, если знаешь?
— Болят у меня глаза, вижу плохо. Ну, иди куда-нибудь.
Ладо пошел прямиком через нивы, к рощицам. Его не очень беспокоило, что стрельба возобновилась, он почему-то чувствовал, что все обойдется и он еще долго будет жить. Выберется, это ясно, унизительно только это бегство — гонят как зайца, этого он никогда не забудет. И когда наконец сможет без оружия бродить по улицам, заходить в кафаны и кинотеатры, когда придет на Калемегдан любоваться придунайскими лугами, ему вспомнится все это и станет стыдно. Стыд, точно червь, будет вечно его точить, испортит ему каждое яблоко, каждую грушу, никогда не оставит его в покое. Он никогда не позволит ему простить тех, кто сейчас кричит и стреляет. Даже тогда, когда они согнут головы, примут ханжеский вид, опустят глаза долу, когда будут клясться, что они насквозь красные, — он не поверит им до тех пор, пока не разрежет и не посмотрит, в самом ли деле они красные…
Шако вышагивает за ним. Наклонив упрямо голову, как в ярме, он с натугой тащит свое огромное, разбитое тело через незнакомые места, которые он не видит из-за слепящего блеска. Ноги у него точно налиты свинцом, совсем как на военных маневрах в Струмице и Джевджелии, где он подхватил тропическую малярию. Спина онемела, плечи повисли, от него несет потом, и ему кажется, что он идет через какое-то облако смрада, в котором то и дело сверкают молнии и раздаются хриплые сдавленные стоны. В душе его полный разлад, он сам себе кажется старой развалившейся телегой — и нет страха, который влил бы в него силы и раззадорил. «И совсем не обязан я так рысить и дальше, нигде не написано, что именно мне надо выдержать больше, чем я могу». И лишь нечто неясное, что вот-вот должно произойти, заставляет его идти дальше. Ничего еще нет, но Шако чувствует это в себе, как семя чувствует в себе колошение и шелест летних хлебов. Оно говорит о себе неясным журчанием в мертвой тишине догоревшего и повергнутого в прах и нашептывает ему, что все, что происходит сейчас, пройдет и будет называться летошним. Шако повторяет про себя этот шепот, переводит на свой лад, чтобы кинуть его толпе, что кричит и стреляет: «Давай, давай! Сегодня я бегу, а завтра вы побежите! И этот снег будет летошним…»
Он закрыл глаза, щадя их от блеска, и открывал только время от времени, боясь потерять из вида Ладо, который уходил все дальше и дальше. Стоило открыть глаза, как набегали горючие слезы и невыносимо жгли воспаленные веки. Вдруг вместо Ладо он увидел среди белой пустыни, точно островок, черные кусты. Должно быть, Ладо там, подумал он, надо, видно, отстреливаться; укрытие плохое, отступать некуда, но выбирать не приходится…
За его спиной застрочила пулеметная очередь, обдав его грязью и снегом; запах свежей земли вызвал в памяти похороны во время дождя. Шако поспешил спрятаться в кусты и очень удивился, увидев, что и кусты ударились в бегство. Однако они не очень, видать, торопились — Шако нагнал их; оказалось, что это вовсе не кусты, а мусульманин, ведущий нагруженную хворостом лошадь, и идущая позади жена. Мужчина и женщина что-то одновременно кричали, мешая друг другу, так что он ничего не мог разобрать. Внезапно лошадь замотала головой, словно тоже собиралась крикнуть, расставила ноги и рухнула в снег. А мусульманин вдруг завертелся, запрыгал на одной ноге и упал возле лошади. Женщина запричитала. Шако в смятении остановился, хотел ей помочь, но как, и сам не знал. Чувствуя себя виноватым, что ненароком погубил то, чего уже сам господь бог не поправит, он понял, что спасет его только бегство. И Шако ринулся в сверкающую мглу, которой, казалось, не было конца. Среди крика и стрельбы он услышал далекий хриплый зов:
— Сюда, Шако, сюда!
— Ты ничего не видишь, — сказал ему Ладо, когда он подошел к нему. — Тебя, наверное, ранило в голову.
— Нет, это из-за солнца. В тени я вижу.
— Чего же ты не скажешь, чтобы я шел по тени. Еще немного, и всюду будет тень.
— Ты видел, как мне не везет?
— Это им не повезло, надо было дождаться конца этого бедлама.
— Лес рубят — щепки летят!
— Ну, перевел дух?.. Отдохнешь потом…
Они зарысили по тропе, в тени горного выступа. Придорожный источник привлек их к себе, они смочили губы и глаза. Ладо хотел напиться, но Шако его оттолкнул:
— Нельзя пить холодную воду в такое время да на голодный желудок!
Ощетинились друг на друга, заспорили. У каждого свои доводы, головы упрямые, нервы разгулялись — каждый ждет, что другой уступит и диву дается и выходит из себя, что тот не желает уступать. Спорят молча, только лица искажаются да зубы скрипят. Наверняка подрались бы, ослепленные бешенством, если бы с горы над ними не прозвучал голос невидимого и всевидящего осведомителя:
— Вон они, возле Авдова источника, пьют во-о-оду!
И с этого мгновения, упорный, как проклятье, глашатай не спускал с них глаз, сидя на своем невидимом наблюдательном пункте. Все их попытки уйти от него ни к чему не приводили. Куда бы они не сворачивали, что бы не делали, он тотчас все обнаруживал и сообщал во все стороны по воздушной почте:
— Вон они, подались к Криводолу, до леса думают добраться… Сейчас они у ручья, у Фатина ручья, не пускайте их вниз!.. Так, так, загородите им дорогу! Вернулись, некуда податься… Подошли к обрыву, перескочили через обрыв, а спрятаться негде… Тот, что поменьше, ранен, хромает, опирается на винтовку, далеко не уйдет… Вон сели передохнуть… Опять встали, не до отдыха, брат!.. Пошли через пашни Аджича, идут совсем открыто… Эй, есть кто живой у Крша, чтобы пересечь им дорогу!.. Бегут к Дервовому откосу, сейчас выйдут на Откос. Теперь им деваться некуда, должны пройти мимо дома, мимо каменного белого дома… А-а-а! Встречайте их там!..
Возле белого каменного дома, который они увидели лишь после глашатаева пророчества, их встретил ураганный огонь из леса, растущего на горных откосах. Они попали в ловушку — по крыше защелкали пули, взметнулся снег вокруг стогов соломы и кукурузы. Пулеметная очередь в щепы раздробила забор над головой Шако, прорешетила амбар из прутьев, разнесла пугала с воловьими черепами, забарабанила по пустой кадушке возле дома. Ладо прополз возле поленницы, перебежал двор и бросился со склона вниз. Шако воспользовался поднявшейся тучей щепок и прошел под пулями. Зашли за дом и остановились перевести дух. Молча смотрят на котловину под откосом: внизу шоссе и река, кусты и овраги. Надо идти вниз, можно бы еще немного и здесь повертеться, но им все до чертиков надоело. Вдруг над ними открылось окно, и мусульманка средних лет, высунув непокрытое чадрой лицо, сказала:
— Не ходите вниз!.. Таир с отрядом там — прошли недавно.
У Шако подогнулись колени и задрожали руки. Пытаясь скрыть это, он сказал:
— Таир не дурак, он пропустит нас.
— Пропустил бы, если бы не итальянцы. Лучше идите задами…
— Какими задами? — спросил Ладо.
— Вот вдоль стены, здесь тропа есть. До дубравы, а там уже легко.
— Спасибо тебе, сестра, — сказал Шако.
— Закрой окно, — сказал Ладо. — Еще увидят, всякое может быть.
Тропа вдоль стены, незаметной под снегом, вывела их из простреливаемой зоны. Сверху продолжали вести огонь по двору, по дому, саду и лугу. Сзывают друг друга, подходят новые силы, все кипит и клокочет. Подгоняют себя, кажется, вот-вот двинутся, но никто с места не трогается. Трещит дранка на доме, изрешетили крышу и дверь, а все мало — такой удобный случай отомстить мусульманину, который посмел построить каменный дом. Ему месть, а другим урок: пусть знают, что их ждет, если они останутся без защиты! Пусть переселяются в Турцию, или в Сирию, куда хотят, а эти долины и горные отроги испокон веку сербская земля. А за землю у сербов, да и не только у сербов, брат брату горло перережет, а сын отцу проломит мотыгой голову; не так уж трудно истребить турецкое семя, если нельзя завладеть землей по-иному.
— Ура-а! Бей! Ломай! Не давай дыхнуть!
Ладо и Шако остановились в дубраве. Осмотрелись по сторонам — чудо какое-то: пули не сбивают ветки над головами, никто их не преследует, умолк и горластый глашатай с наблюдательного пункта. Вокруг почти тихо, слышно только их тяжелое дыхание. Бешено колотятся сердца, подгибаются колени. Болит грудь и внутри и снаружи. Больше всего хочется лечь и тут же в кустах уснуть. Ладонями они утирают пот, чтобы не стекал в глаза, все тело покрыто липким потом, ноги утопают в слякоти талого снега.
— Спасибо тебе, сестра, — вдруг брякнул Ладо.
Шако резанул его взглядом и зарычал:
— Насмехаешься надо мной?
— И над собой, весь день только и делаем, что бежим и благодарим.
— Скажи лучше, где твоя шапка.
Ладо схватился за голову и спросил:
— Ты взял?
— Нет, пулеметная очередь. Я видел, как сорвало ее с головы, до земли и клочка не долетело.
— Что ж, спасибо и ей, что не взяла чуть пониже! Будет голова — будет и шапка.
— И еще на выбор, только бы с этим разделаться.
На Дервовом откосе, перед белым каменным домом вдруг кишмя-закишело: высыпали ватаги преследователей, бранятся, кричат, суетятся. Кто-то захотел попугать домочадцев и выстрелил в окна — зазвенели стекла; другой зажег сено и ограду — поднялась суматоха, беготня. Потом вспомнили про итальянцев и приказ, затоптали и загасили огонь снегом. Нестройными толпами повалили вниз, мимо сада, через луг. Наткнулись на след, который оставил Таир Дусич со своим отрядом, нагнулись над ним, словно вынюхивая, и, уже не оглядываясь, заторопились, перегоняя друг друга, в низину к шоссе и реке; и там, где недавно все кипело и бурлило, стало безлюдно и тихо. Кругом ни души, как в пустыне, никто не отстал, всюду глушь и безлюдье. Кольцо замкнулось и покатилось в глубину, в безвозвратность, лишь звучало еще, подобно загробным голосам, эхо.
Шако посмотрел на Ладо и попытался улыбнуться. Но почувствовал, что лицо свело на полпути в судороге. По лицу Ладо тоже скользнуло что-то мало похожее на улыбку, которая тотчас была подавлена. Наступила минута, о которой они так долго мечтали, но мечта эта осуществилась слишком поздно; да, они вне кольца, живые и свободные, но жизнь их — мрачная пустыня, а свобода в пустыне бессмысленна. Радость умерла прежде, чем родилась.
— Может, так же будет, когда кончится война? — спросил Шако.
— Будет еще хуже. Куда теперь?
— Поман-вода недалеко, под ней сразу и село.
— Значит, возвращаемся туда, где мы были утром?
— Ближе перехватить еды нигде не удастся.
— Может, и лучше так — замкнем этот злосчастный круг, чтоб ему больше не отомкнуться.
Размокший на солнце снег на теневой стороне смерзался и превращался в зернистый. Зерна прилипали к мокрой обуви, к лохмотьям, обрывкам шнурков и позванивали, как стеклярусные бусы. Ладо шел впереди, шел медленно, часто оглядываясь по сторонам. Он не боялся, просто все время казалось, что где-то позади судьба затаила какой-то коварный подвох, решив, что смеяться последней должна она. Ничего не видно, ничего не известно, но именно это и страшно…
На долину под ними уже спустилась тень, и она напоминает морской залив с черной водой, которая разливается все шире. Над водой свисают и колышутся гигантские тени откосов — распущенные паруса горных вершин. Лишь на гребнях и соединяющих их седловинах осталась серебристо-алая солнечная пена; скалы, залитые ею, кажутся крепостными башнями, из которых страшные чудовища высовывают свои кудлатые головы и длинные лапы. Они машут черными платками и пронзительными голосами кричат:
«Идите, плывите прочь, жалкие бренные людишки, гонимые и гонители, убирайтесь со своим дурацким грохотом и постыдным скулежом. Ваш век быстротечен, и вы делаете все, чтобы его укоротить, а мы остаемся здесь встречать и провожать другие диковины, прощайте, с богом!..»
«Глупый бред какой-то», — сказал про себя Ладо и принялся искать по карманам табак. Отыскав влажный пакетик, он разворошил его и вытащил из середины щепотку посуше. Скручивая цигарку, он вдруг поднял голову и взглянул на седловину горы с небольшой полянкой над Дервовым откосом и белым каменным домом. Ладо вздрогнул, и глаза его загорелись огнем: три человека рядышком, а четвертый чуть в стороне, стояли в закатных лучах солнца и смотрели на темную долину. За плечами поблескивали винтовки. «Это и есть наблюдательный пункт, — подумал Ладо, — вот откуда они кричали; а тот посредине, с шалью, наверное, и распоряжался…»
— Погоди-ка, Шако, — сказал он. — Стой там, где стоишь.
— Что случилось? — спросил Шако и проследил за его взглядом.
— Тот с шалью вокруг головы ищет кого-то в бинокль.
— Это их начальник.
— Ты его знаешь?
— Видел утром у подножья Софры. Что, если его кокнуть?
— Далеко, а грудь выпятил, точно перед фотографом. Давай попытаемся, чем черт не шутит.
— Его счастье, плохо вижу, смотри, хоть ты не промахнись!
Положили винтовки на развилки веток, стали устраиваться, ворчат — не выходит. Нервы расходились, коленки дрожат, руки трясутся, а тут еще и упоры качаются. Шако улегся в снег, Ладо за ним, приладили винтовки так, чтобы не ходили, нацелились и подали друг другу знак. Выстрелили они почти одновременно — три человека на склоне скрылись из виду. Четвертый, с шалью — Филипп Бекич — отступил на два шага, выпустил бинокль и широко расставил руки. Вила острыми рогами вонзилась ему пониже живота, ломает лопатки, а он все равно не дает ей дороги. До этого он думал о Гавро Бекиче.
— Не Гавро, — сказал он и упал.
— Тебя ранили, Филипп? — крикнул Логовац из укрытия.
— Пустяки, — сказал он. — Мать… — Он хотел обругать разрывающие его рога, но брань перешла в вопль. — Стащите меня с этого, этого… рожна!
Логовац поволок его в укрытие, посмотрел и охрипшим от крика голосом просипел:
— В живот! Счастье, что пустой.
— Цыганское счастье, — сказал Лазар Саблич. — Погляди на его спину.
Бекич услыхал, вскипел и сердито крикнул:
— Молчи, поганец, нечего каркать. Все это пустяки.
— Надо везти в Тамник, — весело проблекотал Мило Доламич.
— Какой Тамник, чтоб тебя черти во тьму утащили! На шоссе и сообщить по телефону, чтобы прислали машину. Заслужил хоть это и заплатить есть чем! — Бекич устал, мучила рана, и он уже тихо добавил: — Мое спасение — больница.
Никогда в жизни он не переступал больничного порога, видел только матовые стекла, чисто вымытое крыльцо больницы и веселых сестер, перешептывающихся с проходящими офицерами. Ему казалось, что внутри больницы все новое, удобное и все спят; и он воображал, что, как только его перенесут через порог, боли утихнут и он тоже заснет. А во сне ничего не чувствуешь, даже рожна. Там итальянские врачи-специалисты в очках с блестящими инструментами; о них давно уже идет слава, будто они все знают, все могут, будто спасают каких-то старух и калек, жизнь которых не стоит ломаного гроша, спасут и его!.. Когда им скажут, кто такой Филипп Бекич, и когда воевода Юзбашич нажмет на свои связи, все врачи сбегутся, сколько их есть, обо всех больных позабудут, пока его не спасут. Может, и лондонское радио скажет свое слово… Быстро это доходит по воздуху до Лондона и обратно, но и боли быстро одолевают. Сейчас соперничают эти две силы — одна тащит его вниз в землю, другая вверх — потому все так и болит. Но что скажет Лондон? Может, ничего не скажет. Охладел к нам Черчилль, сомнение его взяло; видать, и до него эти истории с макаронами дошли. Скверная штука, эти макароны — извиваются как кишки или змеи, гладкие-гладкие и скользкие, а рано или поздно приходится за них расплачиваться. Он чувствовал это, говорил Юзбашичу — бросим это дело с макаронами, пока они у нас через нос не полезли! И все впустую, Юзбашич тоже ничего не может. Вертится машина, и вертит ее бесстыжий Рико Гиздич, немецкий шпион и еще бог знает чей…
— Черчиллю ни слова, — сказал он. — Ни так, ни этак, молчок, словно ничего не случилось.
— О чем ты? — спросил Логовац.
— Курва эта политика, и мы не лучше, когда туго приходится. Пока не явятся мастера подмазать — никому ни слова. А потом главное — без свидетелей.
— Да и нет их, если придут — перебьем.
— Оставь его, — сказал Саблич. — Он бредит.
Доламич принес из леса две сухие жерди, продел их в рукава шинели, они положили Бекича на эти носилки и зашагали по закрытой со всех сторон лесистой долинке.
Бекич, думая о том, куда его несут, вспомнил бородатого Пашко Поповича: он давеча говорил про больницу. Помянул-то он ее вскользь, но сейчас ясно: это он нарочно, чтобы напророчить ему беду. Хитер Пашко, ну ничего, заплатит ему бородач! Не важно, что его мать родом из Маркетичей, это его не спасет, к черту родственные связи, когда дело касается преступника! У Пашко давно преступные намерения, таскает с собой какие-то книги, высматривает из-за кустов, мутит народ рассказами о Злой Нечисти. Эти небылицы — прикрытый коммунизм. Наверняка он связан с тайными силами, а та женщина, что лежала под деревом, его комиссар. Он запрятал ее в больницу, но Филипп Бекич и там ее разыщет. Пятки на противень с горящими углями, как картошку, — рассказывай, сволочь, кто тебя послал заводить людей Филиппа Бекича в дикие ущелья? Пусть вопит! Никакой пощады! Баба водила его за нос, всю ночь водила черт знает где. Не будь ее следов, облава закончилась бы на рассвете. И справился бы он один, собственными силами, честь-честью, без Гиздича, итальянцев и турок. Черчилль тогда не имел бы повода возмущаться: развели кумовство! И это была бы даже не облава, а резня: окружили бы десять спящих коммунистов и усыпили бы их навсегда. Боже, вот был бы праздник! Разожгли бы костры — жарится мясо; пахнет ракией, собаки грызутся из-за костей, а лысые старики славят Филиппа, поют в его честь песни, превозносят до небес…
Он весь ушел в игру воображения, смотрит, слушает, голоса и картины связываются и оживляют друг друга.
На несколько мгновений Бекич забыл о своих ранах. Он был горд и счастлив, и вдруг Логовац поскользнулся, тряхнул носилки, и все рожны разом вонзились в поврежденные ткани тела. Бекич скрипнул зубами и проглотил стон вместе со сгустком крови.
«Это они нарочно, — подумал он, — попал я в руки самой последней сволочи, которая когда-либо ходила по Земле. Так мне и надо, сам выбрал себе такую дрянь в товарищи! Вон подлец Лазар Саблич прячет лицо, чтобы я не видел, как он злорадствует. Еще побаивается меня, потому и отворачивается, а когда убедится, что я уже ничего не смогу с ним сделать, будет в глаза смеяться. Скалит зубы и второй пес, и третий — все они заодно, все против меня. Так всегда: кому худо, на того дружно бросаются, — вот тебе и облава. Радуются, развесили уши: хотят послушать, как я буду стонать, чтобы потом рассказывать женам. А я не буду, назло им не буду! Ни за что не буду, не дождетесь!»
Глаза его обманули — Логовацу и Сабличу не до смеха. Лица свои они прятали, чтобы скрыть испуг и тревогу. Переполошили и обеспокоили их эти два выстрела — им показалось, что стреляли где-то совсем близко, и в любую минуту можно ждать снова. Впрочем, если выстрелов сейчас и не будет, это всего лишь отсрочка. Ни тот, ни другой не допускали мысли, что стреляли коммунисты, они уверены, что это мстил кто-то из родичей Маркетича, Зачанина или Боснича. Всегда находятся сумасшедшие, порой и самые мирные люди взбесятся, как недавно Пашко Попович, за все приходится платить. Главная их опора и защита — Филипп Бекич — пала, а когда его не станет и наступит час расплаты, в первую голову возьмутся за них. Саблич жалеет, что наступал ногой на грудь Зачанина, Логовац — что фотографировался над Видричем, вспоминается и многое другое, они обливаются холодным потом и молят бога, чтобы Филипп Бекич остался жив и взял все на себя.
По-настоящему радуется один Мило Доламич — его устраивает и отсрочка. Он видел, как погиб Тодор Ставор, понял, что его убил Бекич, и не сомневался, что скоро придет черед единственного свидетеля их ссоры. Филипп Бекич не любит свидетелей. Доламич пытался улизнуть, перейти к Гиздичу или Брадаричу, но Бекич не спускал с него глаз и не отпускал от себя ни на шаг. Круг замкнулся и постепенно суживался. Мило Доламич видел, как он суживается, ждал ночи, как овца — ножа, и дыхание у него занималось от страха. Сейчас уже легче. Не совсем еще, да и кому в наше время легко. Еще хватит и муки и горя, будут облавы и с одной и с другой стороны, ему же остается только вилять и надеяться, что в конце концов он найдет способ увильнуть окончательно.
V
Ладо видел, как они шли по лесу, уже далеко от полянки.
— Вон носилки, — сказал он. — Клянусь богом, списали одного в расход!
— Ну что ж, — пробормотал Шако, — сейчас ты не можешь сказать, что мы весь день только и делаем, что благодарим. А пока думают, что нас нет, мы могли бы еще кого-нибудь шлепнуть. Я бы напал на штаб: они ни на что не рассчитывают, дуются в карты, наверно, и часовых не поставили.
— А ты разве знаешь, где у них штаб?
— Другого места, как дом Бекича, нет. Крепко построен и найдется, что выпить.
— Тогда пойдем поглядим!
Согласившись, он вспомнил, что у него осталась всего одна граната, но не сказал ни слова. Впрочем, он не сказал бы, даже если бы вспомнил раньше: получилось бы, что он колеблется, мучается страхом, окружает себя вымышленными преградами и теряет дорогое время. Давно уже в голове у него вертится странная мысль: легче всего удается то, что кажется невероятным. Ладо скрывает эту мысль от других — очень уж она напоминает обычное суеверие — и временами о ней забывает; но когда приходится туго, вспоминает о ней, и она снова и снова подтверждается: каждый раз его спасает какое-нибудь чудо. Вот и сейчас: они вырвались из клещей облавы, дышат, идут, несут винтовки и стреляют — это чудо и одновременно реальность. Нехорошо предавать его и обходить молчанием; да и им не пристало просто убежать и скрыться, как раненым змеям в свои норы.
А Шако думает по-иному — в его голове картина сменяет картину. В доме Филиппа Бекича целыми днями дуются в карты — начальники в горнице, а стража, украдкой, в маленькой комнатке. Обедать они не обедают, только пьют и закусывают и, конечно, изрядно нагрузились — некоторые уже себя не помнят, и все потеряли представление о времени. Выигравшие хвастаются, проигравшие пышут ненавистью, от шума и гама не слышат даже самих себя, совсем одурели от игры и ракии. Когда он отворит дверь, никто и головы не поднимет. Они с Ладо бросят две гранаты и откроют огонь из парабеллумов, поднимется вой, и никакой борьбы не будет. Одни застрянут в окнах, другие нырнут под столы и под животы товарищей. Живые кинутся бежать сломя голову, а в доме останется груда мяса в луже крови. И тогда он заревет: «Вот тебе, получай за облаву, наешься и напейся! Насыться собственным мясом, нажрись на все времена, чтоб не подняться тебе никогда, никогда!..»
С такими мыслями они взобрались на Вериги — цепь полян на южном склоне Рогоджи. Показались Орван с Софрой в вечернем румянце и пустынные леса с покинутыми землянками; а внизу лежала покрытая тенью долина Караталих — поросшие ольхами берега реки, заснеженные левады, изгороди и дома. Шако указал рукой на Бекичев дом у леса, — он выглядел набитым до отказа людьми и зловещим. Они заспешили вниз, чтобы опередить усталость и отогнать миролюбивые мысли, которые все еще в них жили и на сто ладов клянчили и скулили, пытаясь их отговорить. В долине терпение у них лопнуло: оставив кружные тропы и опушку леса, они вышли на открытое место и зашагали, точно два черных факела, через белую равнину прямиком к цели. Шли молча, погруженные в мечты, распаляя в себе ненависть, которая только и давала силы, и обгоняя друг друга.
Случись в это время у дома часовой, он решил бы, что это нарочные несут важные и недобрые вести. Он подпустил бы их близко, спросил, какие новости, и погиб прежде, чем понял, кто это. Но две дочери Филиппа Бекича, которых старуха послала по воду, увидав их издалека, поняли, что приближается опасность. Повернув от источника с порожними ведрами, они прибежали, запыхавшись, домой, и сообщили:
— Какие-то черные люди, двое, с винтовками, оборванные, бегут как сумасшедшие к дому. Надо скорей запереть дверь и закрыть ставни на окнах…
Старуха нисколько не удивилась: день плохо начался, беды не миновать — это она с утра чувствовала. Поглядев на лежавшего на кровати Шелудивого Графа, она крикнула:
— Вставай, вонючий бег, хватит тут смердить! Убирайся в овин скорей.
— Не могу пошевелиться, — сказал Шелудивый. — Совсем обезножил, сплошные раны.
— Можешь, можешь! Все можно, когда нужно! Не хочу поганить свой дом, чтобы потом мне твоя дохлая морда мерещилась. Пошел вон, говорю тебе.
Шелудивый попытался встать, упал на пол, схватился за ногу и завыл:
— О-а-у-у! Не могу! Не могу двинуться, а они меня ищут. Снилось мне, что меня ищут, убьют, если схватят! Спасай меня, как знаешь, тетушка милая!
— Чтоб тебя черти спасали! Клещами бы тебя железными!
Она схватила его за куртку и поволокла через всю комнату, как мешок, не обращая внимания на скулеж, смрад и пыль, — не было ни жалости, ни времени. У порога ей помогли внучки; старуха протащила его, как тряпку, через загон в овин и бросила к коровам в ясли. Потом кинула на него охапку сена и пригрозила:
— Сиди тут! И чтоб не пикнул, падаль белобрысая.
Она заперла овин на засов, остановилась на пороге дома и, уперев руки в бока, приготовилась встретить незваных гостей со всей строгостью, которую те заслуживали.
Неда осталась в комнате одна. Сквозь бред и беспамятство, которые не покидали ее с самого полдня, она что-то уловила из слов девочек, но ей не ясно, сон это или явь. Она слыхала, что идут, но не поняла, два человека, два волка или два ветра, перед которыми надо запирать двери и ставни на окнах. Несколько мгновений в голове у нее вертелась песенка:
По два солнца греют, По два ветра веют…Увидев, как старуха выволакивает Шелудивого Графа из комнаты, она обрадовалась, на душе стало легче, словно свалилась половина горестей. Волкам на съедение потащила, подумала Неда, но они только понюхают и убегут, он для них слишком вонючий. Надо запереть дверь, чтобы он не вернулся… Неду утомили эти маленькие радости и заботы, и она сомкнула веки. К ее изголовью вдруг подошел незнакомый коммунист со шрамом поперек щеки до самого мертвого глаза. Он похож на Василя, но это не Василь, а его сводный брат. Подошел и спрашивает:
— Зачем ты искала Ладо? Разве ты ему родственница?
— Да, я ему жена невенчанная. Из-за него вот и попалась.
— А чего ты теперь хочешь?
— Живой он?
— Живой, конечно! Только у него дела срочные.
— Хорошо, что живой. Главное, что он живой, а со мной уж что будет, то будет.
В душе все улеглось и утихло — мягко, тепло, нет ни гор, ни долин. Ничего не болит, кругом все желто, как осенью, льется тихий свет. Неда попыталась вспомнить, почему ей стало так легко, и вдруг догадалась:
— А Ладо не может прийти сюда?
— Нет! Он на часах.
— Я твоему брату Василю однажды помогла; помоги и ты мне… Замени Ладо на часах, пусть придет! Боюсь, если сейчас не увижусь с ним, то уж никогда не увижусь. Разверзлась подо мной бездна, проглотит меня и ребенка.
Он молчал и колебался.
— Сделай это для меня, я все для вас отдала! Целую ночь вас искала, голову свою загубила, вас разыскивая.
— Где искала? Наверно, под одеялом!
— Нехорошо надо мной глумиться.
— Не глумлюсь я, спрашиваю: тебе что, приснилось это?
— Не дай бог такому и во сне присниться, но это не сои. Я исходила все эти чертовы леса, чтобы предупредить вас, сказать про облаву, но не нашла ни землянки вашей, ни пещеры, ни часового, некого мне было предупредить. Нигде ни души, кругом снег, отвесные скалы да пропасти с вывернутыми деревьями. Я ради доброго дела вас искала и не нашла; а они по злобе — и сразу нашли. Как же так? Это, видно, дьявольская сила, злой рок мне помешали…
Человек со шрамом вдруг превратился в Ладо и заговорил его голосом:
— Знал я, что ты сумасшедшая, но никогда не думал, что такая! Что мне с тобой делать?
Она смутилась и обомлела. Сколько нужно сказать, расспросить, не знаешь с чего и начать. Словно толпа ввалилась в узкие двери, каждый толкается, продирается вперед, не дает другому пройти. Наконец Неда, точно издалека, слышит свой голос:
— Ты голодный, Ладо?
— Голод это пустяки, — говорит он, — вот как мне тебя отсюда вызволить? Кто тебя послал?
— Судьба моя.
— Сама виновата, нечего сваливать на судьбу.
— Я виновата, это правда, но и другие тоже. Наболтали тебе про меня, очернили — вот ты и пожалел, что меня взял. Давно уже жалеешь, но я не хочу тебе навязываться. Ну-ка скажи, что тебе наговорили такого, чего ты раньше не знал?
— Ты только ради этого пришла?
— Я пришла предупредить, что будет облава, повидаться с тобой и поговорить.
— Оставь эти глупости! Можешь идти со мной?
— Разве ты возьмешь меня? Я в самом деле тебе не безразлична? Или ты только так?
— Пошли, некогда мне разговаривать!
— Я не могу даже встать. И никогда, видать, не смогу. Но с меня довольно и того, что ты меня еще помнишь. Коли так, я выздоровлю, раз ты хочешь.
— Не могу я тебя здесь оставить, псам на съедение!
— Не беспокойся за меня, Ладо! Сейчас мне хорошо, ничего не болит, не холодно. Я поправляюсь. Если меня отведут в тюрьму, мне там не будет скучно. А рожу там ребенка, он ведь не будет поначалу знать, что он в тюрьме.
— Погоди, я достану лошадь. На лошади хоть до леса доедешь…
Неда хотела его задержать, но он исчез так же внезапно, как и появился. Ей показалось, что через окно, но окно было закрыто, комната пуста, а портрет на стене висел безмолвный и печальный. Стекла и дальше позванивали, что-то, верно, случилось. На улице сумерки или мглистый вечер, уже темнеет. Перед домом раздаются хриплые голоса, вдалеке лают собаки и слышна песня. Жуткая песня, словно справляют страшную свадьбу со множеством смертей. Неда вздрогнула и в ужасе натянула на голову одеяло.
VI
Подойдя к ограде и калитке, Шако вдруг убедился, что все его мечтания разлетаются, точно весенние листья под ветром. Ни шума, ни часовых, ни оседланных лошадей — кругом безлюдно и тихо. Нет и следов на снегу, никого здесь и не было. Разве может ему так повезти, чтобы он застукал вожака облавы спящим, и вожак не так глуп, чтобы попасться ему в руки… Напрасно он себя тешил и тратил силы… Снова на его израненные плечи навалились усталость и боль. Вновь ожила забытая тоска. У Шако подогнулись колени. Он посмотрел на Ладо. Хотел было на него опереться, но увидел, что и товарищу ничуть не лучше: бледный, изнуренный, он прислонился к забору, чтобы не упасть, и, не в силах даже смотреть, закрыл глаза, и покачивался, как сомнамбула.
Шако рассердился: «Если уж я такой дурак, хоть бы он был поумней, — вот уж парочка, баран да ярочка!..» Он готов был закричать от досады, крик стоял уже в горле, как вдруг увидел на пороге старуху с двумя внучками за спиной, точно перепуганными цыплятами. На какое-то мгновение ему показалось, что это стоит его мать: рассердилась старуха и приготовилась его наказывать… Чтобы отомстить за это видение, он спросил язвительно:
— Ты что, часовой?
— Да! А ты кто таков?
— Я Шако из леса.
Две девочки с косичками склонили головы, — и они признают свою вину и готовы принять на себя часть надвигающегося несчастья. Старуха опустила руки. Она наперед знала, что на хорошее надеяться не приходится, но такой беды не ждала. Всем известный Шако, весь в крови, с налитыми кровью глазами стоит перед ней, как бешеный волк, которого нужда заставила среди бела дня спуститься в село, оглядывает ее дом, примеряется, с какой стороны его поджечь. Пощады теперь не жди. Болезненная судорога пробежала по спине, с трудом преодолев ее, старуха выпрямилась и вскинула голову. «Пусть поджигает, — сказала она про себя, — только бы детей не тронул. Пришел и наш черед, давно пора…»
Заставив себя улыбнуться, — даже в голосе ее чувствовалась улыбка, — она сказала:
— Милости просим, Шако из леса, если уж тебя черт принес! Чего ты здесь ищешь?
— Твоего сына. Где он?
— Это тебе лучше моего известно.
— Узнает он, почем фунт лиха, когда я дознаюсь, где он. Кто в доме?
— Больная женщина. Если задумал жечь, позволь хоть ее вынести.
Ладо показалось, будто он слышал этот разговор когда-то давно и что он знает все до последней мелочи, еще с того времени, когда это происходило первый раз. И дом, эта западня, которая влечет к себе, чтобы захлопнуть, ему знаком, и больная в постели видится ему наподобие бледного призрака. Призрак этот мог бы ожить, обрести лицо, имя, с чем-то связаться, если бы у него было время и силы сосредоточиться на нем. Однако нет ни времени, ни желания, ничего нет, он опустошен, сломлен, и ему до смерти надоели бесконечные варианты насилия и борьбы за жизнь. Хорошо бы очутиться в лесу, большом, с горами и обрывами, и заснуть. И вдруг на этот полный дремы лес, в который он вот-вот войдет и в котором тут же утонет, дунул легкий ветерок, и ветки зашептали друг другу: «Это она, Неда, заблудилась и укрылась здесь — хоть взгляни на нее…» Однако с другой стороны поднялся другой ветер, покрепче, и ветки тотчас отступились от своих слов: «Нет, это не она, Неда далеко, кто позволил бы ей сюда прийти? Оставь Неду в покое — в такой день нехорошо думать о своем…»
— Кто такая эта больная женщина? — спросил Шако.
— Не знаю, — сказала Лила. — Привел ее Пашко Попович, его спрашивай.
— А он хотя бы здесь?
— Нет и его. Пошел подбирать мертвых.
— Каких мертвых?
— Каких найдет. Все мертвые одной веры, у них одна церковь — черная земля.
— Нет, не одна, — сказал Шако и рассердился: — Говори это своему сыну, а не мне!
— И ему говорила, да не помогает.
Ладо не слушал их, его мысли неотступно привязаны к этой больной: странная незнакомка, надо бы зайти поглядеть, но он боится закрытого помещения. Давно уже боится, — и только когда он не один, забывает об этом. Это даже не страх, а какой-то коварный, зловещий, постепенно нарастающий гнет, который вдруг начинает его душить и от которого поднимается такое головокружение, что он не может отыскать дверь. Он устал; он, конечно, в силах заставить себя войти внутрь, но там он застанет незнакомую женщину и только время потеряет. «Не пойду, — решил он про себя, — я не сумасшедший! Мало ли больных женщин на свете, а еще больше заблудившихся. И даже будь это Неда, чем я могу ей помочь? Только сильнее запутаюсь, и будет еще тяжелее. Да и не она это, откуда ей взяться, ее арестовали бы, если б поймали. Просто у меня голова кругом пошла от всех этих фантазий…»
— Я хочу посмотреть на больную, — сказал Шако.
— Чего на нее смотреть? — спросил Ладо. — Какая-то женщина. Лучше пойдем.
— Я быстро. — И Шако торопливо вошел в дом.
Шако думал, что старуха их обманывает, что она скрывает какого-нибудь важного начальника, пьяного или больного; или, может быть, кто-нибудь зашел отдохнуть и застрял тут. Пусть даже это будет не большой начальник, пусть будет средний, гость или приятель Филиппа Бекича, либо по дороге зашел, либо захотел хватить ракии — голодный волк и шелудивым теленком доволен. Главное, пустить кровь, обагрить дом, чтобы пошли толки в народе. Кровь — лучшее доказательство, что коммунисты еще живы и не присмирели от страха. Он взял в руки пистолет и влетел в комнату. Подошел к кровати, ожидая выстрела, приподнял одеяло и встретил испуганный взгляд Неды. Ему стало стыдно, что он напугал женщину, он быстро закрыл ее снова одеялом и больше уж ни на что не смотрел. Вышел он злой: проклятое место, проклятый день, то и дело выкидывает с ним черт шутки.
— Старуха, — крикнул он, — дай поесть!
— Что-нибудь найдется.
— Не что-нибудь, а хлеба, копченого мяса и ракии, да поживей!
— Постараюсь поживей, только бы скинуть тебя со своей шеи!
Втолкнув девочек в дом, чтобы помогли ей и не боялись, она занялась едой. Шако и Ладо остались одни.
Небо еще светлое: солнце зашло, но зато вовсю сияет луна. На поля с реки и озер потянулись пряди тумана, несется бешеный собачий лай, весь день его не было слышно, и теперь он неистовствует вовсю. Временами его перешибают черные волны победной песни.
Одно «ду-ду-ду-ду…» движется по шоссе в сторону плоскогорья, другое — катится вниз по полянам в долину Караталих. Между этими двумя отвесными стенами, которые то и дело поднимаются из пустоты и низвергаются в нее, где-то близко раздается топот лошадей и обрывки разговора. На дорогу выезжают две пары саней; на первых, согнувшись, сидит старик с бородой.
— Пулеметы везут, — сказал Ладо.
— Нет, думаю, убитых. Впереди Пашко сидит.
— Тот с бородой? Может, смахнуть его?
— Нет, пусть едет.
ОДНА ОБЛАВА ЗАКОНЧИЛАСЬ, А ДРУГАЯ, КАЖЕТСЯ, ЕЩЕ НЕ НАЧАЛАСЬ
I
Солнце зашло, а месяц засиял вовсю, леса и горы пожелтели, снег позеленел. Пашко Попович не заметил этой перемены, опустив подбородок на грудь и уткнув лицо в бороду, он закрыл глаза — дремлет. Он возит мертвых и время от времени погружается в их необъятный мир, исполненный тьмы и покоя. Но это лишь короткие минуты сна, в остальное время в сознании возникают ограды, придорожные фруктовые сады, дома, межи, села с собачьим лаем, мимо которых он везет свой груз, вперемежку с далекими воспоминаниями об Обраде Горопаде в ту осень, когда вода сносила мосты. Потом Пашко видится воскресенье — гудят пчелы, подувает ветерок, он сидит на кожухе и перелистывает Жития святых Евсевия и Памфила — как римляне преследовали захваченных христиан в Александрии, Египте, Финикии и Тивериаде.
«Их обоих посадили на верблюдов и так везли по городу и били плетьми, а потом сожгли на большом костре перед собравшимся народом. А когда их повели на смерть, некий воин, сопровождавший мучеников, попытался оборонить их от нападавших. Разъяренная толпа напала на него и в мгновение ока отвела на лобное место, где отрубили ему голову. Так кончил жизнь смелый герой божий, по имени Вис, борьба которого за благочестие достойна великой похвалы. Вслед за ним замучали огнем Епимаха и Александра, которые долго до того были узниками…»
Временами, между строк, Пашко слышал вопрос:
— Куда едешь?
Он отвечал усталым голосом, коротко и враждебно:
— На кладбище.
— На какое кладбище? — спрашивали его из-за ограды.
Живые порой настырнее дьявола, все им хочется заранее узнать, чтобы попользоваться и испортить. В другой раз ему чудится, будто спрашивают мертвые, им тоже не все равно, где они будут похоронены. Он молчит, потому что и сам не знает где. Не думал еще, не может думать, слишком болит голова, придет время — решит. Сначала Пашко хотел их похоронить на Свадебном кладбище. Ближе к небу. Мертвым там будет хорошо, как в сказке: там нет людей, которые радовались бы и блевали на их могилы; Лазар Саблич не станет там фотографироваться, там нет ни шума, ни людской суеты, там тишина и орлы. Было бы легче и Пашко, и его помощникам, которые ждут не дождутся разделаться поскорей с мертвецами и отнести домой свою жалкую добычу. Все было за то, чтобы похоронить их на Свадебном кладбище, но он вспомнил о матерях: у них и так хватит горя, далеко им туда подниматься и неудобно — чужая земля, некрещеная.
На мысли Пашко, прерывая их, набегают волнами песни, крутые и прерывистые, словно удары в спину. Иногда они напоминают бой барабана: «Ду-ду-ду»; а иногда кажется, будто люди, злые от усталости, сами над собой насмехаются:
Войско строится в колонны У котла, где макароны…Он поворачивается в сторону шоссе, что тянется за рекой, и бормочет:
— Ну, ну, братья, черные братья, осчастливили вас, нечего сказать! Здорово вас надула Злая Нечисть, хороший улов для Рима выловили, осыплют вас медалями всему миру на потеху. Пойте, пойте, позора вам вовек не смыть! Пойте всласть, на потом не оставляйте, после таких песен придут плач и рыдания. Ибо за все приходится расплачиваться, а кроме вас и ваших сирот, платить больше некому. Злая Нечисть, насытившись, уберется в свою пещеру отсыпаться в ожидании, когда снова пробьет ее час, и Рим уйдет восвояси, а мы здесь останемся ждать да сетовать. Всяк кует свое счастье, как может, но у нас всегда — и когда встаем на злое дело, как нынче, и когда на доброе — одно счастье, одна судьба, черная от дыма и пороха, от крови, грязи и мести. Не успеешь на свет родиться, а доля твоя, черная, лихая, уже в сыру землю тянет…
На повороте Пашко инстинктивно остановил лошадей, поднял голову, увидел поверх деревьев сада зеленоватый снег на кровле Филиппа Бекича, и вздрогнул: ему показалось, будто сквозь крышу проросла трава и поглотила все, что было между крышей и землей. Так оно и будет, подумал он, успокаиваясь, порастет все травой, точно ничего и не было. Перед домом стояли Лила и двое мужчин с хмурыми лицами и винтовками в руках, — один, застегнув ранец, надевал его на плечи, другой пил ракию, запрокинув бутылку. На расстоянии он не мог их узнать, да и в глазах мутилось, не узнал бы и ближе. Заметил только, что люди как-то странно выглядят и одеты по-чудному — всюду складки, кисточки, бахрома, и решил, что не здешние, видать, нарочные издалека: свернули к Филиппу Бекичу, передали то, что надо, и отправляются дальше. То, что Лила угостила их ракией, еще не значит, что они принесли добрые вести; Лила вся белая, да и они так держатся, что скорей можно подумать, что вести дурные. Усталые, злые, они посмотрели на него, точно ножами полоснули, ушли за сарай и больше не показывались.
— Лила! Жива та женщина? — спросил Пашко, не сходя с саней.
— Жива, — ответила старуха, — В чем только дух держится. Ты за ней приехал?
— Нет, дали мне одно срочное дело.
— Хорош же ты, ей-богу! Посадил мне ее на шею, словно у меня своих забот мало. Разве не могли срочное дело другому дать?
— Только до утра, Лила!
— До утра все помереть можем!
— На рассвете приеду и повезу ее в больницу. Получил разрешение, чтобы ее взяли, скажи ей, пусть потерпит.
— А почему сейчас не берешь?
— Положить некуда. С убитыми ведь не положишь. А могилы еще не выкопаны.
Он только теперь вспомнил о могилах и о том, что это дело нелегкое. Нужно раздобыть лопаты, мотыги, фонари, разыскать в селе сильных парней — ведь не одну могилу рыть, а семь, к тому же он не допустит, чтобы рыли мелко и во влажной почве, где мягко и где могилы быстро завалятся. Придется потрудиться, попотеть, на это уйдет много времени, а времени у него в обрез; ему не совсем ясно, почему в обрез, он только чувствует, что над ним нависла неведомая опасность, которая заставляет его торопиться. Он стегнул лошадей, сани дернулись и заскользили вдоль ограды, мимо побеленных стволов, сквозь собачий лай и лохматые кусты тумана. Проезжая огороженные колючей проволокой стога сена, он вдруг захотел забыть про свою тоску, уйти от новой облавы, которая, может быть, лишь последняя волна старой, пролезть под проволокой, вырыть в сене глубокую нору и спрятаться в ней с головой и ногами. Почему бы и нет? Надо же и ему когда-нибудь отдохнуть, хватит с него чужих забот! Пусть сами копают могилы, сами ищут фонари, где хотят. Мертвым безразлично, а живые обойдутся и без его помощи, свято место пусто не бывает.
И тут же Пашко представил себя в этом своем убежище: завалил вход, чтоб его не нашли, сжался в три погибели, спит и видит сны. Его уже не существует, он превратился в некую туманность, смешение духов давно умерших летописцев, которые, сидя в пещерах, писали о человеческих бедах:
«За один день убито где десять, где двадцать, а где и сто человек. От жестокого побоища одни мечи затупились, одни сломались, да и сами палачи устали и передали свои заплечные дела другим, отдохнувшим. Сколько было убито несчастных христиан! А уж что говорить о тех, кто, блуждая в пустынях и горах, погибал от голода и жажды, от болезней, от разбойников и диких зверей! Для вящей веры приведу лишь один пример. В Никополисе жил глубокий старец Херимон. Он скрылся со своей женой в Синайских горах и не вернулся оттуда. И как ни искали их братья, так и не нашли — ни живых, ни мертвых. Многих из тех, кто прятался в Синайских горах, увели в рабство варвары Сарацины, некоторых выкупили, а остальные находятся в рабстве и по сей день. Об этом, братья мои, я рассказываю не попусту, а дабы вы ведали, какие страшные беды происходили здесь у нас…»
Глухой стук копыт по деревянному мосту вывел Пашко из дремы. Открыв глаза, он долго соображал, где он и что с ним. Последний раз он помнит себя в темной норе: здесь тоже нора и довольно темная, но откуда в ней мост и такой близкий топот?..
На дне долины уже совсем смерклось, лишь по крутым склонам стекают желтовато-красноватые полотнища света, в которых можно различить пни, мелкий кудрявый кустарник и его тени на снегу. Все это похоже на сон: видны и мельчайшие буковки, связанные в слова, и строки, и про них известно, что они означают, а вот человек, их читающий, о себе ничего не знает — ни где он сейчас, ни где был, ни куда идет. «Все вертится, раздваивается, — подумал Пашко, — и начала ничему не найдешь; неизвестно, что было раньше, что позже. В древних книгах тоже заключен двоякий смысл: иногда кажется, будто все, что происходит сейчас, является лишь отголоском несчастий далекого прошлого, а иногда — что древние летописи только отдаленное предчувствие сегодняшних бед. Суть дела в том, что Рим, либо иное какое обиталище Злой Нечисти, которая время от времени любит переселяться, устраивает облавы и рубит головы когда за Христа, когда во имя Христа, — словом, по потребности. Если это имел ввиду старец Стан, говоря: «Рим был, Рим и останется», — то он не ошибался. Но легко было рассуждать старцу Стану, у него была торба за плечами и палка в руках, а не винтовка, как у меня, — винтовка же способна лишить человека и последних крупиц разума…»
Мрак внизу и потоки лунного света сверху изменили долину настолько, что Пашко долго не мог ее узнать. Наконец, с трудом различив поднимающуюся наискосок дорогу к Старчеву, он понял, что находится у выхода дороги на шоссе. И сразу все стало на место, память восстановила реальные события: была облава, она окончилась, он везет мертвых — трое на одних санях и четверо на других, убитых было больше, сколько, никто толком не знает, но других забрали родственники, всяк своего, благо есть предлог поскорей выбраться из переделки. Ему достались эти, они никому не нужны, от них все отрекались, как от прокаженных. И раньше так бывало, всегда от кого-нибудь отрекались и лишь потом присваивали… На мосту снова раздался топот, подоспели другие сани. Слышно, как гомонили его помощники, один горланил точь-в-точь как Обрад Горопад, когда мост строил. Пашко спрыгнул с саней, чтобы размять ноги и чтоб лошадям было легче брать крутой подъем к шоссе. Наверху он остановился подождать другие сани. По шоссе, со стороны турецких сел, во весь дух, без шапки, скакал Мило Доламич. Его спросили, чего он так мчится и от кого бежит. Он только крикнул:
— Прочь с дороги! Еду за доктором.
— А что такое?.. Кому нужен доктор?.. Опять кто-то ранен?..
— Ранен смертельно, и венские доктора не помогут!
— Кто?.. Уж не Лазар?
— Узнаете, не торопитесь, — и пришпорил коня.
Покуда они ругали его на все корки за то, что он не сказал, кто ранен, и гадали, кто пострадал и как, на шоссе показалась двигавшаяся им навстречу черная молчаливая кучка всадников. Пашко испугался, подумав, что это новая облава, что у него хотят отобрать мертвых, спрятать их куда-нибудь или осквернить. Вынув из кармана бумагу с подписью итальянского майора, он решил сослаться еще и на Филиппа Бекича, и на свидетелей, которые слышали и видели… Однако вскоре выяснилось, что ничего этого не нужно: это не облава и Рико Гиздич здесь ни при чем, просто родственники Маркетича Нишичи и Дреевичи из Любы, услыхав, что Вуле Маркетич убит, задумали его разыскать и похоронить.
Собралось их человек двадцать, чтобы сообща защищаться, если дойдет до расправы, и по-братски разделить возможную кару. По дороге они свернули в Дол, к Ериничам, дядьям Раича Боснича, чтобы и их склонить принять участие в этом деле. Убедить их оказалось непросто, но труд не пропал даром: благодаря родственным связям Ериничей с Груячичами, Алексой Брадаричем и другими главарями, теперь никто не решился бы соваться в дела Ериничей; а если бы кто и рискнул, всегда нашлись бы защитники, которые бы никого не дали в обиду.
Все они принялись благодарить Пашко за то, что тот избавил их от трудного пути и мучительных поисков по Рогодже. Он смотрел на них в недоумении: что это, подвох или сон? Давно уж он ни от кого не слышал слов одобрения, похвалы и благодарности, откуда вдруг такая перемена? Пашко привык к тому, что в глазах всех он белая ворона, сумасшедший, старый дурак, тщетно борющийся с драконами, которые его терпят только потому, что видят, какой он слабый, чокнутый и что он ничем не может им повредить. Давно прошло то время, когда он думал, что все это изменится, когда верил, что в людях, в народе еще сохранилось что-то человеческое, исконное, что они способны иногда думать не только о себе, о барышах и грабежах, способны беречь свою честь, способны сказать «нет» и повернуть в сторону, противоположную облавам, — к братству людей. Изо дня в день его вера в людей меркла, пока совсем не угасла. И вот сейчас вдруг начала оживать, хоть он и боролся с этим чувством, боясь обмануться снова.
— Так-то оно так, — сварливо пробурчал Пашко. — Я вам удружил, чтобы вы не блуждали ночью по туретчине. А теперь вы мне должны удружить.
— Как же нам тебе удружить?
— Видите, я устал, еле на ногах держусь, не могу я возить мертвых туда-сюда. Похороните их всех у себя на кладбище, а?
— А чего же? Грех их разделять. Вместе погибли, вместе пусть и почиют. Места на кладбище хватит.
— Нужно достать кирки, лопаты, выкопать могилы.
— Это, по крайней мере, мы умеем. Только и знаем, что лучших хороним, дело привычное.
— И фонари надо загодя раздобыть, луна может подвести.
— И фонари у нас есть. Ступай домой, отдохни, довольно ты потрудился.
Нет, он не станет отдыхать. Во всяком случае, пока не убедится, что дело сделано на совесть, — раз нет гробов, пусть хоть могилы будут сухие и глубокие. И он двинулся вместе со всеми через Старчево, мимо Ластоваца и Дола. По земле за ними тянулся собачий брех, а по небу — тучи. Поднялся ветер, окреп и понес ледяную пыль, — вой, стоны и предсмертные крики вздымались и кружились в высоте. Луна помутнела. Время от времени налетала вьюга, скрывая дорогу, даже пальца перед глазами не увидишь; потом снова открывалась мирная даль гор и траурное шествие деревьев на них. И Пашко чудится, будто это не деревья, а матери, обездоленные облавой, идут отыскивать и оплакивать убитых сыновей. Некоторые причитают, те, что позади, плачут навзрыд. Они далеко, и поэтому их не слышно, только ветер подхватит иногда ворох материнских воплей, поднимет их над плоскогорьем и высыплет на дорогу, по которой везут погибших.
Ериничи наконец согласились не отделять Раича Боснича от товарищей. На кладбище в Любе Пашко выбрал место и показал, где копать могилы. Потом выпил рюмку ракии, повернулся спиной к ветру, уселся и стал смотреть, как Нишичи, Дреевичи и Ериничи разгребают лопатами снег и долбят мотыгами замерзшую землю. Не щадят себя, не отлынивают, чуть устанет один — его тотчас сменяет другой. И не потому, что торопятся, нет, хочется им отблагодарить Вуле Маркетича и его товарищей, отдать долг хотя бы мертвым, если не могли это сделать живым. Чернеет земля на лопатах, пахнет пахотой. Пашко впал в полусон — ему кажется, что он в поле. Но пашут не вширь, как обычно, а вглубь — потому что и семена, которые туда опустят, и плоды, которые из них вырастут, совсем иные. Семена эти, дающие плоды человеческой доброты, душевности, чести и милосердия, должны пустить глубокие корни, потому что эти высокие и красивые человеческие достоинства пышно расцветают и вызывают ярую ненависть драконов, земных и небесных. Не иссякает злоба драконов, злых нечистей и самого Князя Тьмы, насылают они на эти деревья непогоду, громы, дожди и град. Град рвет побеги, ветер уносит их в овраги, но стоит нечестивцу только понюхать оторванную веточку, и он избавляется от проклятого наследия природы…
По шоссе из города прошел грузовик, Пашко скинул с себя дрему. Люди прекратили работу и отошли в сторону, чтобы их снизу не заметили.
— За Филиппом Бекичем поехали, — сказал кто-то.
— Как за Филиппом?
— Ранен он, разве не знаешь? В живот навылет, вряд ли выживет.
— Дай бог ему здоровья, — сказал Пашко, ему вспомнился зеленый, как трава, снег на доме Бекича. — Все ведь уже кончилось, кто его ранил?
— Наверно, тамничане, он у них давно в печенках сидит.
II
Когда Филипп Бекич приходил в сознание, ему чудилось, будто миновал мучительный день и наступила ночь. Три дня прошло или четыре, он не знал, сбился со счета, а грузовика из больницы все еще не было. Рико Гиздич задержал машину, думает Филипп, Мило Доламича арестовал, запер в сарай и посадил под порожнюю кадку — не дал сообщить об этом ни воеводе Юзбашичу, ни Черчиллю, никому. А когда все-таки слух распространился, Гиздич стал на дороге, подбоченился и брюхом своим перекрыл все движение, не пропускает грузовик и только, разве что новую дорогу строить, а это дело долгое. Он, Филипп, еще отомстит Гиздичу. Обязательно отомстит: если человек с раной в животе проживет три дня, значит, ему до ста лет жить, и он успеет отомстить всем своим врагам.
— Сожгу его, — сказал он вслух. — Оболью бензином и подожгу, пусть горит! И пусть только кто-нибудь попробует прийти ему на помощь!
— Кого это ты, Филипп!
— Гизду! Этот бочонок с ракией! Пусть расплачивается за то, что был немецким шпионом!
— Не надо тебе разговаривать, только рану бередишь. Придет время, Гиздич заплатит.
— Не желаю я ждать. Жить из-за него невозможно, отсюда слышу, смердит. Это его жандармы меня подстрелили, потому так и болит.
— Нет, Филипп, — успокаивает его Логовац, — это не они, это коммунисты стреляли.
— Не лги! Гавро там не было, не наводи тень на плетень, прячешь Гизду, как беременная девка пузо. Все вы держите его сторону, мать вашу перемать, — так мне и нужно: зачем связался со всякой сволочью.
— Не бери греха на душу, Филипп! Не такие мы, сам знаешь, не такие.
Ветер относит слова Логоваца, и Бекич тотчас забывает о его существовании. Острые боли, точно длинными штыками, пронизывают его тело: точно знают, куда колоть, где самое больное место. Голыми руками он хватает за один из штыков и сгибает его; но в отместку пять, нет, бесконечное множество других со скрежетом вонзаются ему в спину. Десять на одного, думает он, и не стыдно им! И Рико Гиздич стыда не знает, и собаки не знают, лают и рычат, пока не сдохнут… Штыки малость затупились и порой промахиваются и попадают в пустоту, но и это гораздо больнее, чем можно себе представить. Боль не давала вздохнуть, призвать на помощь бога или хотя бы отвести душу и выругаться, не позволяла ни погрозить кому-нибудь, как он это обычно делал, ни потешить себя будущим отмщением. Он извивался и корчился от мук, и ему становилось все хуже и хуже.
— Не знал я, что бывает такое, — шептал Филипп сквозь застывшую на губах пену, — думал легче и не так долго. Кабы знал, не стал бы так куражиться! Отпустило бы сейчас, никогда бы больше не полез в герои!..
Он попробовал спрятаться, да некуда, слишком велик он и весь открыт для болей, как широкое вспаханное поле для дождей и ворон. Живот у него точно хорошо унавоженный огород, где в поисках червяков копошатся куры, а спина как сливовый сад с побеленными стволами деревьев, что простерся до самого луга. Куда все это спрячешь? И Орван не прикроет, — до устали нашагаешься, пока все это обойдешь. Ограды сломаны, протоптаны тропы, взбухли кротовые насыпи, пробились грязные ключи. Зятья пригнали волов, подкупили батраков, привезли плуги с новыми лемехами пахать его, делить, кромсать на куски. Связали веревки и пояса, протянули их от озера до реки — меряют, топчут, забивают колья, размежевывают и не спрашивают, больно ли ему. Ссорятся и галдят, точно вороны, кричат, каркают, готовы друг другу глаза выклевать из-за клочка болота…
— Какой стыд, — говорит он громко. — Этот Гавро, если он что-нибудь стоит, должен их всех разогнать, раз они такие. Пусть идут с богом, наше это! Бекичевская земля, мы ее кровью, винтовкой добывали, а не мотыгой и женитьбой. Не отдавай им, Гавро, коли ты человек!
— О чем ты, Филипп? — спросил Логовац.
— Да так, семейные дела. Зятья дерутся из-за моей земли, а я еще живой.
— Живой, Филипп, ты еще поживешь — ого!.. Только вот подлатают тебя итальянцы.
— Ей-богу, до чего ты мне надоел, хуже итальянцев!
— Чего ты сердишься?
— Лопочешь, лопочешь, врешь, — ты хуже того жандарма, которого уложили коммунисты. И, слава богу, скинули его с моей шеи!
— Ну, ну, Филипп! Не говорил бы ты такое, если бы не страшные муки.
Но страшные муки только подступали. Все в черном, с чадрами на лицах, как женщины-мусульманки. Взяли в руки черные вилы, колют его, кричат, бегут за ним, а он отступает через двор, изрытый водными потоками, к сараю. Винтовка в его руках внезапно превращается в обрывок веревки — он пытается защищаться, но выходит плохо. Да и как отобьешься, когда вокруг тебя облава, когда нужно действовать быстро и во все стороны сразу. В глаза ему бросилась огромная кадка на тысячу окк[65], ловким движением он перевернул ее вверх дном и залез под нее. Боли остались снаружи — стучат, рычат, дерутся между собой и затихают, думая его обмануть. И все было бы хорошо, если бы не лужа под боком. Мелькнула мысль, что это растаявший снег; потом Филипп догадался, что он сам этот тающий снег! Он непрерывно тает, превращается в жидкость, кровь и пот и поит собой неуемную пьяницу землю. Его становится все меньше и меньше. Ничто уже не может прекратить это неудержимое убывание — ни итальянские врачи, ни Лондон, ни бог на небесах. Уходит Филипп Бекич, и следа после него не останется!.. Досадно ему, что его кровные враги порадуются, жаль мать, которую он оставляет беззащитной горемыкой.
— Кому ее отдать на попечение? — спросил он громко и сам себе ответил: — Некому!
— Кого ты, Филипп, отдаешь на попечение?
— Мать, Лилу. Другие что, как-нибудь устроятся, а она не заслужила того, чтобы мучиться на старости лет, чтобы чужие дети над ней измывались.
— Брось ты это все, Филипп, не глупи! Поправишься, ничего с тобой не сделается!
— Ладно, ладно, смерть моя в головах стоит! А смог бы ты помочь, если придет нужда?
— Как о родной матери позабочусь, но до этого дело не дойдет, не дай бог!
«При чем тут бог, — подумал Бекич. — И бога-то нет, кругом одна пустота. На самолетах летают, все небо немцы своим ревом взбаламутили и англичане тоже, безбожники-русские летают над льдами Северного полюса; годами летают, всюду его ищут, но даже и следа его не находят. Если бог есть, зачем ему прятаться? Если бы он существовал, все было бы по-иному и гораздо лучше. Наперед бы знали, в какой он партии, и других бы не заводили. Знали бы, чего он хочет; отпечатали бы плакаты, параграф за параграфом, и сельские старосты прочитали бы людям, что можно делать, а чего нельзя. Был бы порядок, как у немцев, начальство бы почитали, у бедняков не рождалось бы столько детей, не плодили бы столько голодных и воров; у богатеев не рождались бы одни дочери и земля не уходила бы из их рук; все были бы сыты и не продавались бы за макароны; не было бы причины людям драться, поднимать облавы и вот так, по-собачьи подыхать. А если бы и пришлось умирать, не знаю уж ради чего, бог нашел бы какой-нибудь способ полегче, избавил бы от таких мук. Но бога нет! Нет хозяина на этой земле, нет твердой руки, всюду беспорядок и разбой, прав всегда сильный, и больше получает сильный, и верх держит тот, кто умеет ловчить».
— Почему не поют? — спросил он вдруг.
— Чего им петь?
— Как чего? Чтобы людей пугать! При входе в село надо всегда петь — сто раз вам об этом говорил! Что бы ни случилось, входить надо с песней! Не то дураки могут что-нибудь вообразить и тут же переметнуться, понял?
— Понял. Они пели, когда через село шли.
— Скажи им, пусть опять поют!
— Скажу, как малость передохнут.
Наконец за поворотом послышался гул мотора — показался грузовик. Когда он остановился, из него вышел Мило Доламич и фельдшер в полушубке с меховым воротником. Фельдшер осмотрел раненого и пожал плечами. И только тогда Филипп Бекич открыл глаза и увидел его. Воротник он принял за бороду, а итальянца — за Пашко Поповича, каким он был в довоенные времена, когда еще не начал седеть, но когда уже надоел ему своими мрачными мыслями и честностью. «Пришел шпионить за мной, — подумал Бекич, — а потом донесет обо всем коммунистам и вместе с ними будет кричать, какой богатый улов им достался».
— Где женщина? — спросил он. — Куда ты ее запрятал?
— Не понимай, — сказал итальянец.
— Поймешь, когда возьму тебя в тиски и подожгу под пятками солому. Чего вынюхиваешь? Жив я, видишь, и не дамся!
— Не надо, Филипп, — сказал Логовац. — Ведь это доктор, он за тобой приехал.
— Если доктор, почему не избавит меня от мук?
— Здесь нельзя, нечем, вот приедем в больницу.
Бекич грустно улыбнулся: «Пока взойдет солнце, роса очи выест».
— На машине быстро, через полчаса там будем.
Раненый не очень в это поверил, но не стал перечить, их много, они сильней, пусть делают, что хотят…
Его подняли на грузовик под натянутый брезентовый верх, трепыхавшийся на ветру, а ему мерещилось, будто его втащили в большую кадку на тысячу окк. Кадку толкнули, и она покатилась под гору. Он бьется об нее, с мукой переводит дыхание, сжимает зубы, чтобы не застонать, недоумевая, в какую это бездонную пропасть он катится? Если бы бочку скатили с вершины горы, она уже давно докатилась бы до подножья. Это, верно, какая-то другая гора, или разверзлась «бездна», «пустота», где нет бога, а лишь «геенна огненная». Огонь все ближе, необъятный, полыхающий, как горящий лес. Языки пламени в нетерпении летят навстречу ему, лижут плечи, запускают в него кровавые когти, долбят железными клювами кости. Вспыхивают все ярче, хлопают крыльями и поют партизанские песни:
Муссолини, погоди-ка, погоди — Ждет тебя расплата впереди, Не уйти от мук и горя И тебе, Адольфу, вскоре…Филипп не может с ними сладить — приходится терпеть и молчать. «Потерплю еще полчаса, — думает он, — но полчаса давно уже прошло. Прошло в муках и три часа, а они все обещают и лгут. Впрочем, может, и не прошло, просто мне так кажется; когда мучаешься, время тянется страшно долго. Не знал я, как это тяжко и что нет этому конца-края. Если бы люди знали, как тяжко быть раненым и умирать от ран, все стали бы кроткими овечками, позабыли о партиях, не затевали облав, не убивали друг друга. Плохо, что люди этого не знают. Здоровые не могут знать; раненым никто не верит; мертвые не могут сказать. Это все Злой Рок, который вместо бога управляет миром и делает все наоборот, он не дает мертвым заговорить, не даст и мне…»
— Почему фонари горят на кладбище? — спросил Логовац.
— Не знаю, — сказал Доламич, — сюда ехал, там тоже кто-то маячил.
— Подъезжаем к больнице? — спросил раненый.
— Скоро, скоро, немного осталось.
— Где мы?
— В Любе, — сказал Доламич и, стараясь подсластить пилюлю, добавил: — Полпути уже проехали.
Бекич скрипнул зубами и проглотил то, что рвалось с языка. Раз больница далеко, а конец близко, надо молчать, он не покажет своих мук. Так, в полном молчании, они миновали Побрдже, Ваган и Лису. Ни звука не проронил он и тогда, когда спускались с гор и шофер часто и резко тормозил. Но на равнине, уже недалеко от города, он вдруг почувствовал, что перед ним разверзлась бездна, черная и бесконечная… Она манила к себе, засасывала все глубже и глубже, знаками убеждая, что его место внизу. Он судорожно отбивался руками и ногами, потом из последних сил закричал:
— Не хочу! Не хочу, н-е-е-ет… — и умер.
Проехали еще добрую часть пути, пока убедились, что он умер, и приказали шоферу остановиться. В больницу ехать не было смысла, и они решили повернуть обратно.
Шофер вздохнул. Он устал и дрожал от страха. Не хотелось ему возвращаться в эту тьму по крутым поворотам, в такой ветер, в пасть смерти с этим страшным мертвецом за спиной. Но он не посмел ничего сказать, они бы ему тотчас отрезали путь назад. Проклиная все на свете, он развернул грузовик и поехал с такими рывками, будто сто чертей вселилось в его руки. Те, кто сидел в кузове, крепко ухватились за раму. Тело Филиппа Бекича покатилось по дну кузова и навалилось на них. Им почудилось, что он впал в ярость, как это случалось с ним при жизни, расширил руки, бьет ногами, опрокидывает бидоны с бензином, чтобы освободить себе проход и удрать. Наконец грузовик остановился поперек дороги. Мотор взвыл, воем ему ответил ветер. То врозь, то вместе выли эти два неистовых чудовища, долго избегавшие встречи и теперь пугавшие друг друга и мерявшиеся силами. Потом грузовик задергался, подался назад, проехал несколько метров, скрежеща железом, захрипел как зарезанный и умолк.
Кривоногий, перепуганный на смерть шофер вышел из кабины, ругаясь на чем свет стоит.
— Надо подтолкнуть машину, — сказал он, — иначе не заведется.
Все вышли и принялись толкать машину, — старались изо всех сил, но все было напрасно. Помогал и фельдшер, ругаясь, как и все, но ничего не помогло. Мотор заглох, шофер проклинал какую-то бомбину. Лазар Саблич подумал, что Бомбина — это женщина или ведьма, что для него было одно и то же. Заколдовала их, вот они и не могут сдвинуться с места. Логовац и Доламич решили, что это таинственное сердце машины, которое испугалось и лопнуло от страха. Перекинувшись взглядом, они поняли, что как началось нелепо, так нелепо и кончилось, — проклятый день, проклятое дело, которому нет конца-края.
Шофер потребовал отпустить его в город за новой деталью; они согласились, пусть делает, как знает, хуже ничего уже быть не может. С шофером ушел и фельдшер, четники даже обрадовались; надеясь, что он унесет с собой хотя бы половину невезения. Кабину шофер запер, а в кузове невозможно было сидеть от холода. Чтобы согреться, они бегали, прыгали, тщетно искали затишек. Устав, вернулись, влезли под брезентовый навес, прижались друг к другу, наконец, переругались, но и ругань их не согрела. Ветер доносил обрывки каких-то криков. Логовац сказал, что это первые петухи. Доламич упрямо твердил, что вторые. Саблич, вспомнив про шофера, заметил, что итальянец, разумеется, их обманул: он спит, а они тут мерзнут. Все их обманули, все спят, только они дураки…
Чтобы не быть дураками и дальше, они, согнувшись в три погибели, спотыкаясь под порывами ветра, пошли в село искать ночлега.
III
Согнувшись, спотыкаясь под порывами ветра, Шако и Ладо шли через пустынные восточные горы. Шли без дороги, тут никогда и не было настоящих дорог, сел, пастушьих хижин и даже волков — нечего им тут делать. И деревьев нет, одни голые скалы, мертвая пустыня, которую секут бешеные порывы ветра, срывающегося откуда-то с облаков, точно с того света.
Шако казалось, что облава продолжается, только меняет свой облик. Когда они обходили село Благош, она превратилась в яркое сияние месяца, потом в собачий лай и в погоню мусульман; сейчас она встречает их темнотой, по которой летают крылатые змеи. Есть и драконы, их только не видно, они рычат хриплыми голосами, спариваются и плодятся на лету и со страшными воплями рвут друг друга на части. На земле они оборачиваются в белых стервятников, хлопают крыльями, громко сзывают друг друга, водят на вершинах гор хороводы и с хохотом скатываются в пропасть. Тяжело шагать между ними, трудно дышать; нельзя открыть глаз, когда проходишь сквозь вихревые клубки завывающих и резвящихся ведьм с распущенными волосами. Подолы у них — из холодного тумана, волосы — из колючей пыли и щепок. Временами их волосы сплетаются в узловатые плети и бьют по лбу, по глазам, а с неба раздается хриплое карканье: «Бей коммунистов, бей, не жалей! Они басурманы, все их ненавидят. Богу не молятся, дьявола не боятся, королей ругают, с властями воюют, еврея святым объявили! Не давай им передышки, бей по глазам, пусть идут вслепую! Убивай, души, четвертуй, забивай, забивай насмерть!..»
Они молчали. Все признают, со всем согласны. Долго они бунтовали, защищались и вот наконец выбились из сил — злые духи перекричали их, победили, оглушили. Молчат уже давно, как зашел месяц, не проронили ни слова. Вдруг Шако захотелось услышать в этом реве человеческий голос, пусть даже свой собственный, чтобы хоть на мгновение прервать дьявольское завывание, которое все кружит и кружит над головой. Обернувшись, он приставил ладони ко рту и крикнул:
— Дышишь еще, Ладо?
— Дышу, дышу, а как же, раз дело пошло наперекор. Могу и завыть, как волк, вот послушай…
— Не надо! Накличешь, чего доброго, что тогда будем делать?
— Да нет их здесь, разбежались кто куда. Им такое не выдержать, они не люди!
— А знаешь, почему заяц бежит в гору?
— Потому что не хочет попасть в горшок.
Испробовав голоса, они заканчивают разговор. Больше спрашивать и рассуждать не о чем, чтобы каким-нибудь воспоминанием не задеть рану. На перевале Ядиково сильный порыв ветра отбросил Шако назад, другой свалил с ног. Он попытался снова пойти вперед и натолкнулся на непреодолимую воздушную стену. Тогда он пополз на четвереньках. Тщетно выли над ними чудища и возводили одну за другой стены из ненависти и пустоты; Шако и Ладо подкапывались под них и прорывались дальше. Но постепенно незаметно для себя свернули в сторону. Перевалив гору, они скатились вниз и по горло утонули в мягком сыпучем снегу, из которого с большим трудом вылезли. Ледяная долина с оврагами разветвлялась тут на три рукава; Шако знал это, но, выбираясь из сугроба, заторопился и направился по первому ответвлению, только чтоб поскорей миновать снежный занос. Они должны были пройти мимо небольшого озера; его не было, но Шако и это не смутило, он решил, что его, видимо, сковало льдом и занесло снегом. Вдоль тропинки торчали кусты можжевельника и высились утесы, днем он, конечно, узнал бы их, но сейчас все это поглотили мрак и метель. Шако удивился только, что ветер бьет не прямо в лицо, а в бок, но и тут ничего не заподозрил. Шел себе вперед и вперед. Он устал, но это лишь доказывало, что он еще жив; Ладо шагал за ним, ни о чем не спрашивая, значит, все как надо…
Время от времени Ладо оглядывался и смотрел, как ветер заметал за ними следы. Они тут же один за другим исчезали, а любое исчезновение удивительно, понять его глазами нельзя, только воображением. Он чувствовал даже какое-то удовольствие, думая о том, как злятся бледные голодные небесные псы бесконечной межзвездной бездны на то, что бессильны нашкодить людям, что они могут лишь бросаться на их следы. «Пускай, — заметил Ладо про себя, — надо же и им чем-то разговеться. Мы бросаем им крохи, как путешественники с корабля — акулам. После нас все останется чистым, будто нас и не было. Это даже к лучшему. Одна облава закончилась, другая, кажется, еще не началась, однако нам на всякий случай спокойней, чтобы не знали, в какую сторону мы пошли. Когда вот так исчезаешь без следа, люди думают, что ты ушел в какой-то другой мир и сжег за собой мосты. Все тебе немножко завидуют, потому что любой чужой мир всегда лучше своего, но и побаиваются: вдруг человек внезапно вернется и отомстит за все содеянное зло…»
Ладо подкрепило вяленое мясо, ракия согрела, рана не болит, он чувствовал себя почти хорошо. Он всегда чувствовал себя хорошо, когда выбирался из очередной передряги и уходил в неизвестные края. Он знал и довольно точно представлял себе, что он там найдет: затерянную кучку людей, ютящихся в каком-нибудь тайнике, точно в тюрьме, и раздраженных теснотой. И тем не менее в глубине души в нем жила упрямая надежда, что в новой среде он начнет все сызнова, чисто и умно. Ладо казалось, что там он хоть на какое-то время освободится от тяжелого бремени прошлого. И не без основания, ведь расстояние стирает горы и леса и все, что о чем либо напоминает, поэтому мысли о прошлом становятся бледней и приходят реже. И устарелая, отсталая, небольшевистская тяга к семье, доставшаяся ему по наследству и выраженная у него больше, чем у других, которую он скрывал уже многие годы, как нечто постыдное, тоже становится бледней. А вместе с тем и бессмысленнее — какой толк в его тревоге за Иву, за ее ребенка, за старого Луку в Медже и за Лукиного Ненада в Боснии. Живые, когда они далеко, постепенно отождествляются с мертвыми, которые уже оплаканы, как оплаканы Видра и Джана, Бранко и Юго, Слобо Ясикич. Ладо больше не видит их мук, а это почти все равно, что этих мук нет.
Если бы ветер обладал такой силой, чтобы стереть и более глубокие следы — тот живой, болезненный и запутанный узел его отношений с Недой, Ладо поклонился бы ему до земли. Его связывает с этой женщиной какое-то колдовское переплетение чувств, чувств крайне противоположных, постоянно меняющихся, вечно борющихся и снова возрождающихся. Иной раз от одной мысли о ней весь мир озаряется ярким светом; другой раз надвинется вдруг громовая туча и омрачит все кругом. Как она была хороша, как он любил ее в пустынном уединении на Лелейской горе! Он бы и продолжал ее любить, да устыдился своей любви, украденной в такое тяжкое время. Стало стыдно перед людьми, он чувствовал себя ниже их, не хватило духа ни защитить свою любовь, ни скрыть ее. Отсюда и ненависть к Неде, как к западне, которая его заманила и поймала на всю жизнь. Он готов ее убить, но потом вдруг ненависть уходит, и он понимает, что во всем виноват сам. Это он из темноты налетел на нее, как волк на овцу, прирезал и, прирезанную, бросил на муки. Он и палач и жертва, в нем и ненависть и жалость, любовь и раскаяние. Все его усилия не думать о Неде ни к чему не приводят, она приходит к нему во сне, внезапно возникает во время разговора, и нет такого ветра, который мог бы замести ее следы. Ветер бессилен, он берет поверху, завывает впустую — только вздымает снежную пыль да скребет оголенную землю.
Длинная, узкая и извилистая долина, по которой они идут, неожиданно оборвалась. Перед ними встала осаждаемая со всех сторон завывающими оголтелыми ветрами крутая гора, высится точно стена до самого неба, «Откуда здесь гора», — недоумевал Шако, пытаясь обойти ее то с правой стороны, то с левой. Путь повсюду преграждали неприступные скалы. Тяжело признаваться в ошибке, не привык он к этому, ждет ругани и проклятий и приготовился выслушать их безответно.
— Ты хоть знаешь, где свернул в сторону? — спросил Ладо.
— Под Ядиковом. Сбил меня с толку этот проклятый занос, я даже толком и не поглядел.
— Значит, опять полезем через него?
— Да нет, как-нибудь обойдем.
— Или попадем еще в более глубокий. Дай-ка ракии — подогреть мотор!
Они повернули назад, ветер все крепчал. Казалось, буря достигла предела своей ярости и вот-вот начнет утихать; однако в следующую минуту, набравшись новых сил, она преодолевала и этот предел. Глаза беспомощны, кругом головокружительная кипящая масса, наполненная призраками мутная мгла, только слух и осязание подсказывают, что ярость злых духов растет и что их становится все больше.
«Это тоже похоже на облаву, — подумал Ладо. — Пришли в движение темные силы, раздраженные человеческой сумятицей и стрельбой. Раздразнил их запах крови и шум тризны — досадно им, что они запоздали. Не могут простить земле, что не позвала их вовремя, что сама все съела и выпила, — обшаривают переметные сумы гор, когтями разрывают карманы долин, рыщут по пещерам и диву даются, что ничего нет, переворачивают все вверх дном и жалуются друг другу, что ничего не находят. Они объединяют свои усилия, тем более что и раньше были неразлучны, от одной матери родились — Киямет[66] и Тиамат, Тьма и Темень, Тайфун и стоглавый гонитель облаков старый Тифон[67], размах крыльев которого от Востока до Запада, а голова касается звезд… Пускай касается чего хочет, мне он не может уже ничего сделать! Вот покажу ему фигу и плюну в морду… Слишком мягкие у него щупальца, клювы тупые — не на таковского налетел. Даром рычит и пугает, слыхали мы и другой рык, и никто из нас не умер от страха…»
— Ты не знаешь, какое сейчас время, Ладо? — крикнул ему Шако.
— Поганое, хуже быть не может, двадцатый век — одни облавы.
— Я тебя не об этом спрашиваю, полночь прошла?
— Прошла давно, а зачем тебе полночь?
— Не нужна она мне, я просто так говорю, чтобы сон не одолел. Сейчас все спят, одни мы не спим.
IV
Не спит и Арсо Шнайдер в Букумирской пещере, он знает, где он и как сюда попал, слышит завывание ветра в овраге, который то удаляется, то возвращается и бьет крыльями о каменные косяки входа, где Гавро Бекич сидит на страже. Шнайдеру холодно, мозолят бока дубовые ветки, болит все, к чему ни коснешься и что ни вспомнишь. Он закрывает глаза и пытается заснуть, чтобы уйти от болей и холода. Время от времени Арсо окутывает на несколько мгновений легкая пелена дремы, но тотчас доносится шепот и будит его. Васо Качак и Момо Магич договариваются, что надо сделать до того, как начнется новая облава. Землянки обнаружены, и лис Гиздич, того и гляди, кинется их искать. Хитер и ловок старый лис, надо вывести людей из-под земли, не дать ему захватить их в норах. Есть и другие тайники, есть пещеры, где можно защищаться, они вспоминают их, называют самые подходящие.
Арсо же втемяшилось в голову, что речь идет о нем: «Хитер, ловок, крестьянское лукавство соединилось в нем с изворотливостью ремесленника, для него главное выбраться живым, его надо замуровать в пещере, чтобы он больше не выбрался…» Затаив дыхание, он слушал, что же они порешат. Но Качак, словно заметив это, сказал:
— А сейчас давай спать! Устали, потом договорим.
Момо закрыл глаза и мгновенно заснул. Но тут же вздрогнул и проснулся — слишком перенапряглись нервы за целый день. Кругом кромешная тьма, вместе с ветром бегут вооруженные винтовками усатые Груячичи, бегут, кричат, толпами наваливаются на пещеру. Момо знает, что их нет, что они устали и пошли по домам, и тем не менее он слышит голоса, разбирает слова. Собравшись на реке у хижины Видо Паромщика, они ругают его мать: «Где твой сын, паскуда, этот оборванец, что грозил лишить нас нашего добра и осчастливить коммунизмом? Не принес еще котел? Тот общий, русский, из которого все село станет хлебать, и вы, голь перекатная, и мы, хозяева? Не надейся на это, косомордая, куцая собака, не выйдет! Не будем мы смешивать наши миски, не выйдет, голодная шпана! Не позволим, нам и так неплохо живется, никогда так хорошо не жилось, как сейчас! Радеет обо мне оккупант, он для меня не каратель, а радетель — кормит лучше, чем собственных солдат, мне не нужно другого хлеба! А твой Видо грызет землю, побежал заменить Момо Магича и лежит теперь. Осчастливил его Момо Магич — послал к братьям мусульманам, чтобы они с него сняли мерку и скроили саван…»
— Не могу спать, — сказал он, — ветер мешает.
Качак промолчал, будто не слышал. И ему не спится — в душе все так же взбудоражено, как и снаружи, где бушует буран. Ему кажется, что одно связано с другим и зависит одно от другого, — человек лишь маленькое зеркальце, где попеременно отражаются штормы и штили. В мысли Качака беспрестанно врывается черноволосый мусульманский капабанда Ариф Блачанац. Он пропустил их на Повии, а мог бы не пропускать, он показал им дорогу, а мог бы направить по ложному пути. Ариф показался им человеком разумным, с которым можно разговаривать, и вероятно ли, что спустя час он скосил Байо Баничича и Видо Паромщика?.. «Скорее всего это сделал Чазим, — решил Качак про себя, — надо будет это выяснить, чтобы не пострадали невинные. Ничего нельзя делать наспех, можно очень ошибиться. А если все-таки Ариф? Ведь человек неустойчив, когда у него нет сдерживающего начала; у каждого свои приливы и отливы; испугавшись, что поторопился совершить доброе дело, он в следующее мгновение постарается поскорей замарать его пакостью. Может, и мы были бы такими, если бы нас не удерживало то, что нас держит…»
Не спит и Ариф Блачанац в своем старом доме в Джердаре. Мешают петухи, собачий лай и ветер, а когда они устают и утихают, спать не дает тишина, в которой слышно, как тикают часы. Старые цареградские часы с золотыми крышками, страшные часы, украденные у покойника. Никогда Блачанацы не грабили мертвых; не ограбили бы они и коммуниста, но им показалось, что часы живое существо, которое своим тиканьем умоляет не закапывать их заживо в землю. Им стало жалко закапывать часы, они принесли их старейшине, думали этим подарком его порадовать, а, по сути дела, только взвалили на его плечи заботу. Не нужна ему чужая вещь, пусть даже золотая; не взял бы он чужого, а особенно от покойника, если бы даже нуждался, чужое тоску наводит, а ему и без того тоскливо. Охотнее всего он отослал бы эти часы коммунистам с сообщением о том, как погиб и где похоронен их товарищ, но Ариф не знал, как установить с ними связь; попросил бы передать Таира Дусича, но Таир никому не верит — тотчас заподозрит, что его испытывают, и откажется… Вертясь в постели, Ариф ломал себе голову, но ничего путного не придумал и встал. А часы тикали, точно предрекали беду. Даже ветер не заглушал их упорного и все более громкого стука — точно это было какое-то проклятье, наложенное на дом, чтобы отсчитывать последние часы старой лозе Блачанацев в Джердаре.
Не спокойно и в Гркине, что в часе ходьбы от Джердара. В селе собрались Шаманы, чтобы оплакать старого Элмаза Шамана и избрать нового капабанду. Чазим Чорович заночевал на постоялом дворе и напился. Напился быстро, еще до ужина, и вот теперь валялся на полу и плакал, умоляя хромого хозяина постоялого двора пойти с ним утром в горы — на Рачву и Свадебное кладбище — поискать фуражку. Пошел бы он и один, уверял Чазим, никого бы не стал просить, раз к нему так относятся, но не может: он плохо знает дорогу, боится заблудиться, боится коммунистов, которые как черти возникают там, где их не ждешь. Хозяин всячески отнекивался, ссылаясь на ногу, на старость, на то, что никогда не был в горах, да и жить ему еще не надоело — лучше уж ему умереть у родного порога, чем идти в сугробы, где даже с самим блаженной памяти Элмазом такое произошло… Но все эти отговорки не помогали. Чазим его не слушал и твердил свое: пока у него нет фуражки, он ничто — все над ним издеваются, обманывают, бьют; но стоит ее найти — в Рабане тут же запоют другие песни. Отомстит он и Арифу Блачанацу, и Таира Дусича посадит. Накажет он и итальянцев за то, что проклятые лягушатники стакнулись с четниками и не хотят наводить порядок. Вот так! Ведь итальянцы всего лишь подмастерья, ходят под рукой главного хозяина — немцев! В Рабане немец никого не признает, кроме Чазима Чоровича и его фуражки. А когда хозяин высунет голову и поманит Чазима пальцем, тогда увидят, чего он стоит и что может сделать. Есть в Пазаре два отеля, большой и малый, и тот и другой Чазим подарит трактирщику за то, что тот остался ему верен до конца. А другие не получат ни шиша! Другие будут раскаиваться — особенно Блачанацы, итальянский майор с бородкой и Ахилл Пари, который не пожелал слушать, что ему Чазим говорил, и позволил избивать Чазима тайным коммунистам из Джердара…
В Топловоде, в натопленной комнате, в постели лежит Ахилл Пари. Он не слышит угроз Чазима, и они его нисколько не заботят. Он позабыл про то, как били Чазима, и про его россказни об измене мусульманских начальников — все это уже кануло в прошлое, а прошлое его не интересует. Из дивизии ему телеграфировали, чтобы он разыскал и собрал трупы погибших коммунистов — вот что не дает ему уснуть. Несколько секунд он таращил глаза на депешу, спрашивая самого себя: для чего им понадобились трупы? Потом заметил, что он тут вовсе не для того, чтобы задавать вопросы, а для того, чтобы выполнять распоряжения начальства. Приказы полковника Фоскарио, поступавшие из штаба дивизии, всегда казались поначалу странными и глупыми, и только потом открывался их глубокий смысл. Вероятно, что-нибудь подобное происходит и теперь. Может быть, Фоскарио хочет проверить, обманывают ли его четнические командиры, а может быть, еще что-нибудь. Ахилла беспокоит одно — он не имеет понятия, где находятся трупы. Сказали, будто их двенадцать, он видел и сфотографировал только двоих. Но что сделали с ними, не знает — его сбили с толку истошные крики и яростная свалка, из которой он едва ноги унес. Ничего другого не остается, как утром завести мотоцикл и ехать к начальнику милиции в его крепость на краю города. Если кто и может знать, так только этот надутый брюхач. Покончив с этим делом, а с ним как-то надо покончить, он доложит о странном поведении майора Фьори. А покуда надо хоть немного поспать, но вместо этого Ахилл Пари представляет себе, как он стоит перед низеньким полковником и докладывает, взвешивая каждое слово и стараясь ничего не пропустить. Он злится на себя, клянется, что больше не будет об этом думать, и через минуту все начинает сначала.
Не спит и майор Паоло Фьори в своей городской гарсоньере, Рико Гиздич в своем штабе — тюрьме на краю города, Шелудивый Граф в коровнике Бекича. В коровнике темно даже днем, черные коровы, встревоженные непогодой, бродят в нем точно драконы. Шелудивому холодно, его пронизывают ветер и страх; ступни у него распухли, затвердели и болят. Ползая в поисках двери, он влез в лужу коровьей мочи и весь вывалялся в навозной жиже. Наконец он добрался до двери и, собравшись с духом, принялся звать — ему ответили свирепый вой ветра и собачий лай. Устав, он лег возле старой коровы в надежде согреться, но корова сердито раздула ноздри, боднула его и побрела в темноту. Графу мерещится, что он замурован и осужден жить в этом подземном мире, среди паутины, луж и навоза. Это наказание, думает он, за то, что уже целых шесть недель, а может и больше, он никому не причинил зла и никого не опозорил. Если еще пройдет день, другой так вот попусту, иссякнут его жизненные соки, высохнет сам корень, и он станет честным человеком, а честные люди быстро гибнут, потому что их ненавидит судьба. Испугавшись, что завяз в порядочности, из которой не может выбраться, он снова тащится к двери и в отчаянии колотит пистолетом по доскам, кричит, умоляет, грозит.
Когда ветер утихает, Лила, мать Филиппа Бекича, слышит его мольбы и угрозы: «Заколю корову, переколю коров, подожгу все, если сейчас же не откроешь!..»
Пусть колет, думает она, пусть палит, если может. Что мне за дело до коров или дома — пришла большая беда, по сравнению с которой все остальное мелочь. Она давно уже предчувствовала градовую тучу, она надвигалась, но могла еще и повернуть в другую сторону, теперь эта туча разразилась над ее кровом, и больше уже ничего не поправишь. Это уж не тревога, не страх; смягчавшая их неизвестность отпала, остался лишь холодный свет пустоты, в котором ясно видно, что вся ее жизнь, все, что составляло ее мир, оборвалось и полетело в тартарары. Ничего подобного раньше она не ощущала, слышала только от других матерей, что такое бывает, оттого и знает: сын ее канул в бездну. Никто к ней не приходил, ничего ей не говорили — может, он где-то один, на ветру, в темноте лежит мертвый, и, кроме нее, никто этого не знает. Она бродит по дому как шальная, не может найти себе места, хотя и нет больше сил двигаться; каждую минуту ей хочется громко зарыдать, и она с большим трудом, боясь встревожить детей, сдерживается. Время от времени она подходит к больной — ладонью утирает крупные горошины пота с ее лба и прислушивается к ее бреду:
— Он пошел за лошадью, скоро придет. А если меня не застанет, ничего не поделаешь, значит, так было суждено, скажи, пусть не сердится.
— Скажу, скажу, не беспокойся, — утешает ее старуха и подносит чашку с молоком. — Ну-ка, выпей молока! С сахаром, сладкое, вот попробуй!
— Не хочу с сахаром. Дай молоко детям, ведь плачут все время!
— Каким детям?.. Где плачут?..
— И женщины плачут. Старухи какие-то, слышишь, как одна причитает?
— Плачут сейчас многие, только это ветер.
Неда открывает глаза, смотрит, с усилием что-то припоминает и улыбается: это Джана, о которой ей рассказывала Ива!.. Ей так хотелось, чтобы Джана осталась в живых, и вот она живая. Каким-то чудом не погибла, а может, на кладбище как-то очнулась и пришла. И по лицу видно, что побывала в земле, рука дрожит, но это все пройдет, когда кончится облава. Любит ее Джана, любит неизвестно почему — просто так.
— Тот, что идет с Василем, впереди Василя — это Ладо. Мой сын не сирота безродный — у него есть отец.
— И у моего Филиппа был отец, но сейчас ему больше не нужны ни отец, ни мать.
— Другие дети не станут презирать, когда отец есть.
— Зачем же презирать?
— Будут с ним водиться, вместе бегать по лугам, вот он и не останется один. Негоже, когда ребенок сам по себе, когда его мучают, оскорбляют с малых лет. Мой сын не будет один — каждый знает, что его отец Ладо. И за ним Ива присмотрит, правда, Джана? Присмотрит, как за своим, будет играть с ребятами на травке.
— Дети добрые, пока они дети, только потом люди начинают ненавидеть друг друга. Откуда в людях столько ненависти?
— Дьявол в них забирается. Кормим их мясом, луком, горькими травами, вот с пищей в них и входит ненависть. Может, все, что сеем и жнем, отрава — на крови да на поту растет.
— Не говори так, Джана! Страшно мне, если это так, значит — нет тому конца-края.
Старуха вышла во двор, на ветер, чтобы не заплакать. Ночь вокруг дома ощетинилась, точно облава, угрозами, призывами и стонами. Буря уходилась, выбилась из сил, не может больше пригибать фруктовые деревья к земле, ломать им ветки. Утихает медленно, много еще времени понадобится, пока отведут душу те, кто грозился, пока похоронят мертвых и раненые поумирают… Стоит старуха, смотрит во все глаза на плоскогорье — хочется ей увидеть, что делается по ту сторону, но темнота мешает.
А по ту сторону плоскогорья, в ближайшем от города селе, слушает, как утихает ветер, Ново Логовац. Ему досадно, что буря кончается, он бы предпочел, чтоб и ночь длилась подольше, и ветер не унимался, и раздоры продолжались. То, что для других раздоры, для него жизнь и деньги. В бумажнике Филиппа Бекича остались деньги — вот что его мучает. Трижды он пытался их вытащить, — зачем мертвому деньги? — но Саблич и Доламич мешали. Сейчас эти деньги посреди дороги в накренившемся грузовике — пройдет кто по шоссе, заберет и уйдет. Но вряд ли, тешит он самого себя. Кто сейчас пойдет? Все смертельно устали, напуганы, спят. А если случайно кто и пройдет, не осмелится и коснуться — грузовик штука казенная, можно головой поплатиться, да и мертвец для дураков святыня… Размышляя так, Ново Логовац прислушивался к храпу Доламича и к тому, как вторит ему, тонко посвистывая носом, Саблич. Чтобы проверить, крепко ли они спят, Логовац спросил:
— А что, если придет шофер?
Саблич промолчал — он привык ловить исподтишка, а не пускаться в разговоры.
— Придет, а нас не будет, — продолжал он, — вдруг возьмет и уедет на грузовике в город?
Когда и этот вопрос остался без ответа, Логовац поднялся и вышел. Перед рассветом совсем стемнело. «Утро будет облачным, а день пасмурным — тяжко придется тому, кто надеется на ясную погоду!..» Быстро зашагав вдоль плетней, он добрался до шоссе и как вкопанный остановился у грузовика: здесь уже побывали, сняли переднее колесо, чтобы из резины сделать обувь, и грузовик еще больше накренился в сторону. Воры разбили стекло кабины, влезли и унесли все, что можно. С полной безнадежностью он подошел к кузову, отбросил брезент и посветил фонариком: Филипп Бекич лежал без шали, без джамадана, без рубахи, голый и босый, в чем мать родила, весь окровавленный, скорчившийся, с ощетинившимися усами, словно и мертвый защищался. Логовац перекрестился и вместо молитвы выругался:
— Мать их переэтак, обогнали, проклятые, ободрали как липку!
V
Перед рассветом совсем стемнело. Стены мрака, гонимые ветром, со всех сторон стеснили ущелье — то и дело закрывают и меняют его направление. Ладо лезет вверх и наталкивается на скалу, возвращается обратно, спотыкается о кусты и попадает в ямины, которых раньше не было; только выберется из сугробов, и снова путь преграждает скала с противоположной стороны.
Шако некоторое время молча идет за ним, а потом обеспокоенно кричит:
— Чего ты мечешься, иди по следу!
— По какому следу?
— По нашему! Мы же здесь проходили.
— Здорово живешь-можешь, следов здесь нет. Их занесло сразу, как мы прошли.
— Пусти меня вперед!
— Иди! Кто тебе мешает?
Шако молча его обошел и встревоженно подумал: «Опять этот невезучий черт ищет ссоры, плохая примета…» И тут же принялся метаться из стороны в сторону в надежде найти занесенные следы. Шако ничего не нашел — впрочем, если бы и нашел, все равно их не увидел бы. Скоро он понял, что не знает, где они. Он потерял всякие ориентиры, опереться было не на что, все расплывалось и ускользало. То ему казалось, что распутье под Ядиковом еще далеко, то будто уже давно его прошли. Они словно вертелись по кругу. Вой ветра немного утих, и шаги стали звонче. Сквозь звон шагов они оба слышали глухие удары, повторяющиеся через определенные промежутки времени. Все прочее кружилось и уходило, лишь эти глухие удары раздавались на одном и том же месте, будто из какой дьявольской кузни. Похоже, что ветер взялся за какой-то тяжелый молот и непрестанно бьет им по твердой коре земли. Высекает черные искры, от которых ночь становится темней. Удары все громче, а в промежутках между ними слышен бешеный топот — словно дьявол подковывал вороных коней и выпускал их одного за другим во мрак. Но Шако все равно тянет туда — хочется ему добраться до этого единственного незыблемого места в этом зыбком пространстве.
Скоро он уловил запах влажной травы, и ему показалось, что ночь зазеленела. Шако удивился, что счастье избрало именно этот запах, чтобы ему улыбнуться. Желая порадовать и Ладо, он спросил:
— Ты догадался, что это так ухает?
— Нет, — ответил Ладо. — Пытался, но не смог.
— Почему ж меня не спросишь?
— А не все ли равно! Знаю, что проку от этого никакого — ни огня, ни постели.
— Тут озеро. Ветер оторвал лед и бьет им по берегу.
— А теперь дорогу знаешь?
— Вот дойдем до воды, буду знать.
К воде они подошли с совершенно незнакомой стороны, Шако даже показалось, что это совсем другое озеро, что он попал в край, где живет хохочущая нечисть. Он испугался, но ничего не сказал. А Ладо ничего не спросил. Они шли вдоль берега и сквозь тьму прислушивались к борьбе поссорившихся водяных и надземных призраков. И только на пригорке, среди кустов можжевельника, они узнали завывание ветра с Ядикова — их словно осенило, и они тотчас обнаружили среди этой сумятицы тьмы и звуков нужное направление. Глухое уханье было теперь за спиной и становилось все слабее. На втором повороте оно заглохло окончательно. В долине им все чаще попадались тупики-заветрия, и они слушали, как ослабевал ветер. Даже на возвышенностях у него не было прежней силы: начнет неистово, потом заскулит и утихнет. Они вышли на гребень, под ними на востоке засерел, точно грязная лужа, кусок неба с беспорядочным нагромождением облаков, напоминающих истлевшие тряпки. Стали вырисовываться голые, округлые горы с седыми вершинами, — нахохлившиеся, неповоротливые и тяжелые, они высовывались одна из-за другой и глядели на лежащую под ними пустыню.
Ладо сник. По-другому представлял он себе наступающий день и местность, по которой они шли. Ему казалось, что он сполна заплатил за то, чтобы новый день принес удачу, а не сонную ходьбу по бессмысленному нагромождению гор. Он шел медленно, едва передвигая ноги. Время от времени спотыкался и скользил. И воздух, который он вдыхал, казался ему тошнотворным, и горы перед глазами, и жизнь, состоящая из одним облав. Безвольно опустившись на снег, он с наслаждением отдыхал.
Шако оглянулся и крикнул:
— Ты чего? Вставай, уже немного осталось.
Ладо закрыл глаза и пробормотал:
— Ступай себе с богом!
— Потри лицо снегом, — сказал Шако и вытащил флягу. — Хлебни немного.
— Иди один!.. Я не могу больше.
— А подойди к тебе сейчас женщина, ты бы смог.
— Ты что, судья мне?
— Нет, но ведь надо идти. А нести тебя я не могу, сам едва держусь.
— А кто тебя просит нести?
Шако понурил голову: наступило то, чего он все время боялся. Это могло произойти и раньше, гораздо раньше. Не уговоры, ни угрозы тут не помогут — человек не в силах вынести больше, чем он может. Шако поднес к его носу горлышко фляги, ожидая, что Ладо протянет руку.
— Почему не хочешь?.. Когда нужно, отказываешься, а то наливался как губка.
— Противно, оставь меня в покое со своей ракией! Пей сам, тебе еще поможет.
— У меня еще есть мясо в торбе, оно тебе даст силы. — Шако начал расстегивать торбу.
— Хватит с меня и мяса и всего, ничего не хочу! Оставь меня в покое!
— Зря упрямишься, нам осталось не больше двух километров.
— Врешь, врешь! Гораздо больше, а я не могу и шевельнуться.
— Ну, три. Честное коммунистическое, не больше!
— Если так, иди и пошли кого-нибудь за мной.
Сквозь сон Ладо слышал, как Шако пообещал ему это, как он бормотал еще что-то, кружил около него, уходил и снова возвращался, пытался что-то сделать, ругался. Потом силился его поднять, не смог и отступился. Его шаги удалились, и воцарилась долгая тишина. Тишина, пустота, в которой без ветра и независимо от времени кружится, будто обрывок старой газеты, ничтожная горсть пепла.
Желтый день, преобразившись в бродячего пса, обнюхал его у самого горла и зарычал. Потом, осмелев, лизнул его холодным языком под глазом. Ладо оттолкнул его локтем:
— Пошел вон, шелудивая гадина, еще раз лизнешь, получишь кулаком по морде! Сверну тебе челюсть и выбью все твои гнилые зубы, так что потом не соберешь! Чего тебя жалеть? Кто ты мне? Я тебя звал сюда, такого? Убирайся в другое место, к тому, кто не сладит с тобой! А я еще могу, я еще плюнуть на тебя могу — вот видишь! Убирайся на Лелейскую гору, там сейчас никого нет. И черта нет — убили его вместо меня. И если Неда пойдет туда меня разыскивать, как в прошлый раз, пропадет, потому что…
Ладо вздрогнул и открыл глаза — вокруг пусто. Тишина стала гнетущей, он пополз на четвереньках, чтобы уйти от этого гнета, и едва осмелился подняться. Осознав свое одиночество, он даже прищурил глаза, будто оно ослепило его своим блеском, и оперся на винтовку. На снегу виднелись следы Шако, ветер лишь надкусил их — Ладо пошел по следам. Суставы окоченели, рана при движении болела — он ускорил шаг, пытаясь согреться. Цепочка следов потянулась с горы на гору. В седловине между двумя горами цепочка вдруг оборвалась — точно сгинула. С той стороны начинался седой лес.
Должно быть, это лес, где берет начало Ибар, приток Моравы, землянка где-то там, в лесу. Шако не дошел до нее. Где же он? Всего себя на следы извел…
Внезапно Ладо остановился: в снегу, как мертвый, лежал Шако, шапка свалилась с головы, волосы рассыпались по снегу, лоб уткнулся в приклад.
— Шако, ты жив?
Тот вздрогнул, завертел налитыми кровью глазами и пробормотал:
— Жив… Кажется, я заснул.
— Ты помнишь, что мне обещал?
— Помню. Прости, пожалуйста, я сейчас.
— Хоть полпути мы прошли?
Он поднял веки и сказал:
— Тут где-то должен быть лес, а его нет. Сам не знаю почему.
— Лес перед нами. Землянка в лесу или за лесом?
— Нет, где-то тут близко.
Пошли. Им казалось, что они идут быстро, но они все время спотыкались и все больше выбивались из сил. Их увидел дозорный, выбежали люди из землянки. Ладо никого не узнавал, а его откуда-то знали все — называли по имени, о чем-то беспрестанно спрашивали и удивлялись, что он не отвечает. Их было много, и все походили друг на друга, как братья, лица настырные, зубы острые, голоса неприятные. Наконец всех перекричал Шако: «Погибли, нет их больше, земля…»
Вошли в землянку, а Шако все называл имена, от которых прошлое заколыхалось, вернулось и встало перед глазами. Ладо рухнул на утрамбованную землю возле мешка муки и котлов. На него больше никто и не оглядывался: залетная птица, незваный гость — только в тягость. Ладо не удивился, он и самому себе в тягость. От теплого воздуха, водоворота голосов, сетований и воспоминаний ему стало совсем плохо.
Прошло наконец и это, и воцарилась, точно мрак, мертвая тишина поражения. Утихли люди — пни на порубке в тумане, немое пустынное корчевье. Только старый Йован Ясикич от горя не может найти себе места, бродит в тумане по корчевью — все его дети погибли. Согнулся, глаза мечут молнии — невыносимо ему смотреть на людей, которые вдруг превратились в пустынное корчевье. И, внезапно выпрямившись, он кричит:
— Что же это такое?.. Что за мертвечина! Чему вы удивляетесь? Или вы думаете даром выигрывают сражение? Те, кто погиб, знали, что даром это не дается. Они мертвы, им сейчас легко, а живым надо жить и продолжать их дело. Ну-ка, люди, вставайте, довольно плакать! Снимайте с них обувь, облепите им ступни илом, чтобы не остались калеками? Пусть выпьют что-нибудь теплое с сахаром, раны надо осмотреть. Ну-ка, ну-ка, слезами и стонами не поможешь! Пусть каждый делает свое дело, а я возьмусь за свое!
Он взялся за гусли — это было его дело, — сел и провел смычком по струнам. Он заставил их рыдать вместо себя и всех других; заставил их прийти в ярость и захлебнуться от угроз и наконец заговорить ясным человеческим голосом:
Грозна туча на солнце надвинулась, Мрак черный на лес навалился…VI
Тем временем Ахилл Пари, начальник карабинеров, в кожаной куртке и таких же штанах, мчал на мотоцикле с надетыми на колеса цепями, чтобы не скользить по скверным дорогам. С рассвета он искал трупы убитых коммунистов, а они, точно живые, все время от него ускользали. У Рико Гиздича он ничего не узнал; Груячич, который даже не участвовал в боевых действиях, тоже не знал ничего. И только Алекса Брадарич навел его на след: Пашко Попович, милиционер из Старчева, чудаковатый старик, собирал мертвых, но что с ними сделал — неизвестно… Брадарич предложил срочно вызвать Пашко; Пари не согласился: слишком долго ждать; и чтобы ускорить дело, поехал сам. По дороге он наткнулся на грузовик, окруженный толпой, как это обычно бывает. Люди уступили ему дорогу, думая, что он приехал для расследования, а он промчался мимо, оставив их с открытыми ртами. Прибыв в Старчево, Пари Поповича дома не застал — Пашко уехал на лошадях в Тамник незадолго до того. Пари решил, что сани взяты для того, чтобы перевозить мертвых, обрадовался и, желая как можно скорей догнать его, заторопился. На крутом подъеме ниже Старчева он спешился и повел мотоцикл до моста, на мосту сел на него снова и с ревом и треском под собачий лай въехал в село.
Возле дома Филиппа Бекича стояли сани, но, к удивлению Пари, на них лежало всего два трупа. А когда оказалось, что это не трупы, а больная женщина и подозрительный рыжебородый тип, Пари растерялся окончательно. В Пашко Поповиче он узнал зачинщика сумасшедшей драки, затеянной на вершине Рачвы. Он тут же заметил, что борода у него не такая, как у других, а лопатой, поповская, и тотчас заподозрил в нем скрывающегося попа, или по меньшей мере — знахаря. Поманив его пальцем, он заставил его сойти с саней. Измученный бессонной ночью и лихорадкой, Пашко принял карабинера за дьявола, охотника за душами; нехотя сойдя с саней, он, спотыкаясь, побрел по снегу.
— Где мертвые? — спросил Пари.
— В земле, — ответил Пашко. — Где же им еще быть?
— Как в земле? Почему в земле?
— Таков обычай: умерших предают земле.
Пари посмотрел на Шелудивого Графа, который сидел на санях, и велел ему проехать несколько шагов вперед; он хотел поговорить без свидетелей, без рыжей бороды и белесых ресниц, которые его почему-то злили. Легче говорить без свидетелей, люди становятся скромней, когда остаются с глазу на глаз с начальством.
— Я спрашиваю о коммунистах, — сказал он.
— Какая разница — и они люди.
— Надо их немедленно выкопать из земли! Сегодня же, и всех!
— Ничего не выйдет, их и тронуть не посмеют.
— Это приказ командования.
— Бог повыше командования. Церковь не разрешает, закон божий, крест! — И он рукой начертил на снегу крест, чтобы объяснить и одновременно защититься от нечистой силы. Собравшись с духом и осмелев, Пашко посмотрел ему в глаза и подумал: «Узнаю тебя, меня не проведешь. Тебя послала сюда Злая Нечисть, ты приказчик Князя Тьмы.
«Когда князь бесовский увидел, как нечестивые хватаются за сладкие веточки, которые буйная непогода посбивала с чудодейственного дерева, когда увидел великий вред и убыток ему нанесенный, он направил бурю на юг, а под дерево поставил приказчика, дабы тот собирал веточки, упавшие с дивного дерева. Когда нечестивые пришли и спросили, где чудесные, придающие силы веточки, приказчик стал продавать их за деньги, чтобы иметь от дерева корысть. Этого требовал Князь Тьмы, потому что дерево росло на его земле и портило его ниву. Когда стало известно, что плоды чудодейственного дерева продаются за деньги, грешники повалили толпами и раскупали их…»
— Ты хочешь сказать, ваша церковь защищает коммунистов? Так?
— Нет, не надо под меня подкапываться!
— И что их защищает бог, так ведь ты сказал?
— Церковь защищает могилы. Все, что лежит в могиле, становится неприкосновенной святыней.
— Для дураков, — сказал Пари и тотчас раскаялся в своих словах.
Ему показалось, что он ввязался в религиозный спор, а его уже несколько раз предупреждали, чтоб он избегал всяких споров с упрямыми попами и муллами о мечетях, церквах и святых. Поняв наконец, что и кладбище и покойники в какой-то мере принадлежат к этой, запретной для него области, Пари попытался схитрить.
— Кто их хоронил? — спросил он.
— Крестьяне, народ.
— Где их похоронили?
— Кого здесь, кого там — по разным кладбищам.
— Кто дал разрешение хоронить?
— Командир батальона. Вот его подпись.
Пашко извлек из обшлага шинели две бумаги и протянул ту, где стояла подпись итальянского майора с бородой. Пари жадно схватил ее, три раза подряд прочел и обрадовался: ему надоела эта езда по кочкам от села к селу, по снегу, трухлявым мостам без перил, сейчас можно с этим покончить. Вместо убитых коммунистов он представит полковнику эту бумажку — пускай он сам договаривается с попами и церковными законами, которые он так чтит. Согнув бумажку пополам, он сунул ее в карман.
— Отдай, — крикнул Пашко, протягивая руку. — Это мое, мне дали!
— Домани![68] — сказал Пари, и его губы искривила улыбка.
— Не хочу я домани, отдай сейчас же! Я не знаю, куда тебя черти унесут еще до ночи.
— Завтра, завтра, — осклабя зубы, бросил Пари и завел мотор.
И тут только Пашко заметил, что сани с больной исчезли.
Шелудивый Граф воспользовался первым удобным случаем, чтобы избавиться от угрюмого старика с бородой и винтовкой и остаться наедине с беззащитной молодой женщиной. А когда Ахилл Пари дал ему знак отъехать, он воспринял это как перст судьбы, которая угадала его желание и предоставила ему возможность удовлетворить его. Он с давних пор привык ладить с ней — и никогда не колебался и не терял времени, когда судьба оказывала ему знаки внимания. Шелудивый имел дело с разными женщинами; одни были старые и апатичные, другие молодые, но некрасивые; воспоминания о некоторых связях были настолько отвратительны даже ему, что хотелось вытеснить их из памяти чем-то другим. Чего у него никогда не было и чем ему именно поэтому страстно хотелось обладать — так это женщиной, которая не поддается, царапается, кусается и неистово защищается от мужчины, как от несчастья и позора. Ему иногда рассказывали о таких женщинах, о том, как трудно ими овладеть, и о том, как потом бывает хорошо; рассказывал и он, даже показывал царапины, но все это было вранье, и все знали, что он врет. Лишь однажды ему не сказали, что он врет, но на то были политические причины, — женщина, о которой он рассказывал, была партизанкой. А по сути дела с партизанками ему очень не везло, — взятых в плен или тотчас расстреливали, или передавали итальянцам в лагеря, другие же сразу попадали под защиту влиятельных родственников, кумовьев или друзей, которых всегда было достаточно.
На подъеме у моста Шелудивый придержал лошадей, чтобы посмотреть, не едет ли кто за ним. Убедившись, что дорога безлюдна и впереди и сзади, он совсем успокоился, — никто не помешает, можно не торопиться, судьба устроила все так, как только она одна умеет. Посмотрев на болота, он узнал место, где под ним подломился лед, потом вспомнилось, как тащили его во сне два пса прямо к этому месту. Он дал лошадям перейти через мост, предпочитая, чтобы река отделила его от этих злосчастных болот. Вначале подъема на шоссе он остановил сани, связал уздечки так, чтобы лошади не тронулись с места, и улегся рядом с Недой.
Почувствовав на своем затылке его бороду и дыхание, Неда сначала не поняла, что это, хоть и было противно и становилось все противней.
Она приподнялась и, еще не открыв глаз, оттолкнула его.
— Ты чего толкаешься? — спросил Шелудивый.
— Отодвинься от меня, тут что-то вонючее.
— Чем тебе воняет?
— Многим — навозом и еще чем-то.
— И ты не цветочек, сама знаешь, что не цветочек.
— Знаю.
Граф вспомнил четнический суд в Колашине, который скрасил ему много скучных осенних дней. Он сидел в натопленном помещении суда и слушал, как судят пойманных коммунистов и заподозренных в пособничестве крестьян. В те дни он завидовал и председателю и прокурору и никак не мог решить, какой из двух должностей он отдаст предпочтение, когда после окончательной победы четников придет время награждать его по заслугам. Сейчас ему представилась возможность стать одновременно и одним, и другим, и даже третьим — зевакой-горожанином, который, разинув рот, все одобряет и хлопает в ладоши.
— Налицо явные и неопровержимые доказательства, — сказал он, читая приговор со своих ладоней, — что обвиняемая совершала блуд с коммунистами и евреями. Тем самым она наносит оскорбление королю и отечеству и одновременно подрывает устои закона, порядка и общественной морали. Содеянное преступление наказуемо по статье «второй», пункты «а», «б», «в», «г», «д» и «е», «Закона о защите государства». Чье патриотическое сердце не заплачет горько от подобных оскорблений? Исходя из этого, я требую строжайшего наказания в назидание прочим… «Пра-а-а-вильно-о-о, долой, на виселицу-у-у!..» Принимая во внимание то смягчающее обстоятельство, что обвиняемая, по всей вероятности, была введена в заблуждение, суд решает уменьшить наказание, а именно, передать виновную на попечение уважаемому националисту Шелудивому Графу, который применит все возможные меры для исправления морального облика обвиняемой… Правильно-о-о-о! Смерть международному коммунизму!
Неда почувствовала, как из-под нее уходит земля. Сначала посыпались мелкие комья, потом отделились подкопанные камни и покатились, подталкивая друг друга. Она куда-то падала, кажется, в болото на самом дне пропасти. Неда хватается за корни, за камни, но все, за что бы она не ухватилась, либо обламывается, либо падает вместе с ней. Нет больше тех, кто поддерживал ее, нет времени их позвать. От страха она поднимает голову и собирается с силами, чтобы сесть.
Очнувшись, Неда смотрит на окружающий ее позабытый мир: конские хвосты, гора с чахлым кустарником, облака — все это возникает разом и сначала находится в движении, а потом становится на свои места, словно невидимые свидетели ее падения. Слышен лай, эхо голосов. Долина и река кажутся ей знакомыми — она давно знала, что умрет в такой вот мрачной долине. Все это длится несколько мгновений. Ее бьет лихорадочная дрожь, она словно качается на ее волнах, постепенно опускаясь все ниже и ниже. Потом все заволакивает туман с бегающими глазницами пустот. Из земли вдруг высовывается седая голова ее свекра — он кивает и щелкает челюстями: «Щелк, щелк».
«Долго ты от меня ускользала, теперь уж не уйдешь!»
«Чего ты удивляешься? — слышит она сквозь туман. — Ничего здесь нет особенного. И другие так».
«Что другие?.. Что делали другие?»
«Легли и отдались. Потом и не узнаешь — все равно что прут по воде ударил».
«Не понимаю, о чем ты говоришь?»
«Сейчас поймешь, я тебе все наглядно объясню».
Это уже не свекор из могилы, а Шелудивый Граф с рыжей бородой и гнилыми зубами. Он вытаскивает из тумана ножницы — показывает их, протягивает, щелкает ими и грозит: если она сама не разденется, как другие, как ей суждено и как гласит приговор, он этими ножницами разрежет все застежки и пояски, которые держат юбку. И юбку разрежет на куски: щелк, щелк — никто ей не придет на помощь. Останется совсем голой, с обеих сторон голой, и он поведет ее от села к селу, чтобы все над ней глумились. И нарисует у нее на животе красной краской серп и молот, а сзади красную звезду, пятиконечную, чтобы знали, в какой она была партии. По иному с коммунистами не разделаешься: больно жилистые и сумасшедшие, смерть свою прославляют, потому к ним и примыкают все новые охотники. Только позор способен запятнать их славу, которая влечет к ним других, а вот когда убьешь его, да еще мертвым опозоришь, другой уж не сразу кинется заменить опозоренного, по крайней мере здесь, среди этого глупого народа, для которого позор страшнее смерти. А он главный специалист по этой части — он такое может придумать и вытворить, что никому другому и в голову не придет…
«И в самом деле, — заметила Неда про себя, — потому от него и воняет. У них все распределено — одни убивают, другие позорят. До чего ж противный! Джана его ударила бы. И я бы тоже, да нечем. Нет ничего твердого, только бутылка с молоком. Та, другая Джана, которая жива, положила бутылку в торбу, у подушки, чтобы была под рукой. Может, как раз об этом и думала, когда клала, чтобы была под рукой…»
Как в тумане, Неда нащупала торбу и крепко схватилась за узкое горлышко бутылки.
Ножницы залаяли вокруг пояса; она скрипнула зубами и со всего размаха ударила его бутылкой по бровям. Стекло разбилось, все закачалось, и рыжая борода исчезла. Неда наклонилась и, точно с горы, увидела далеко внизу, как он извивается и корчится в луже молока и крови. Кровь лилась из ран, и ее становилось все больше. «Я убила его, — подумала она. — Ну и пусть! Может, это лучшее, что я когда-либо в своей жизни сделала, по крайней мере, никого больше не опозорит…» У нее закружилась голова, и она сама погрузилась в забытье.
Шелудивый Граф очнулся от обморока и почувствовал боль — точно тяжелый клубок колючей проволоки ударил его по голове. Он провел языком по губам — рот был полон крови. Приоткрыл веки — снова кровь и боль. Притронулся к тому месту, где был нос, но он оказался расквашенным куском мяса и болел от одной мысли, что к нему можно прикоснуться. Он вспомнил, что это ударила его женщина, подло ударила тяжелой стеклянной долбней. Ударила и сейчас выгадывает, как бы ударить снова, а он не может убежать. Нарочно мучает его, не торопится, думает Шелудивый и, закрыв глаза, молча трясется от страха. Трясется долго, до устали, наконец, потеряв терпение, тихонько приоткрывает глаза: долбня оказалась далеким облаком. А женщина тут, совсем рядом, лежит как мертвая. Он нащупал в луже подле себя ножницы и с размаху ударил. Женщина вскрикнула, он пресек ее крик новыми ударами. Струя крови стеганула его по уху, Шелудивый нагнулся и продолжал наносить удары. Он бил то в ребра, то между ребер, бил в шею, мстя ей за красоту, и в лицо, карая его за то, что даже мертвое оно прекрасно.
Он предавался бы этому наслаждению весь день, если бы его не заставил очнуться приближающийся к мосту шум мотора. От страха Шелудивый никак не мог сообразить, кто бы это мог быть, он понимал лишь одно: его поймали с поличным, лишили удовольствия вразрез со всеми законами судьбы. Видать, и у судьбы бывают ошибки, подумал он, порой и она запутается и сама себе наступит на мозоль. Он оглянулся и увидел быстро приближавшегося к нему мотоциклиста в кожаном костюме. Шелудивому показалось, будто их несколько и будто они несутся прямо на него. Если он останется здесь, он погиб. Если погнать лошадей по дороге, далеко ему не уйти — мотоциклы быстро его нагонят. В первое мгновение он решил поджечь сани вместе с трупом, но тут же понял, что поджечь нечем, да и нет времени. Тогда он решился на последнее: натянул на голову торбу, чтобы скрыть окровавленное лицо, повернул лошадей к мосту, стегнул их и погнал что есть мочи. Лошади понесли.
Ахилл Пари, застигнутый врасплох посреди моста, спрыгнул на землю, прижался к самому краю и выставил вперед мотоцикл, как единственную защиту. Он очень испугался, колени подкосились, не было сил даже крикнуть. Буйные конские гривы завихрились над самой головой. Решив, что опасность миновала, он прошептал:
— Сумасшедшая страна, сумасшедшие люди, сумасшедшие лошади, все рехнулось от этой стрельбы! Еще немного, и я погиб бы самым дурацким…
Пари не успел закончить, широкий задок саней столкнул его вместе с мотоциклом в зияющий пролет моста.
Шелудивый Граф уже на спуске с горы услышал его крик. Ему почудилось, что это не крик ужаса, а что его предупреждают об опасности: наверно, лошади свернули к проруби. Дважды он пытался снять с головы торбу, чтобы посмотреть, где он. Но застрявшие в ранах осколки стекла при малейшем прикосновении к ним пронизывали такой болью, что он почти терял сознание. Страх шепнул ему: «Спасайся, прыгай!» Шелудивый Граф спрыгнул — и прямо под копыта. Правый полоз раздробил ему бедро, переломал ребра, ударил в плечо и бросил лицом в ледяную корку дороги.
Тем временем Пашко Попович в совершенном изнеможении брел в полусне по дороге к мосту и казнил себя за то, что упустил сани. Он то и дело забывал, куда идет, кого ищет и куда опаздывает. Он останавливался, пытался припомнить и тотчас, точно раненный неприятным воспоминанием, содрогался и спешил дальше, словно хотел уйти от самого страшного. Голова у него тяжелая, борода тяжелая, винтовка мешает, одежда обжигает каждым своим прикосновением. Но что-то его толкает вперед, какие-то невидимые руки тащат его к вырытым ночью и запорошенным утренним снегом колдобинам. Перед глазами встают сверкающие развалины — одни тут же рассыпаются и гаснут в глубине долины, другие парят над снегом вдоль дороги и, куда бы он ни повернул голову, они возникают перед ним, точно сказочные церкви.
— Это от усталости, — шепчет Пашко, — сон меня одолевает. Всякая всячина мерещится, никак от нее не избавишься. Провела меня нечистая сила и сейчас глумится. Обобрала, обжулила — все взяла! Что мне теперь делать с пустыми руками? Кому жаловаться? Разве что ей самой на нее же и жаловаться? Впрочем, и ее нет, скрылась куда-то. Вечно бежит, и не посмотришь на нее.
Пашко и самому неясно, что у него взяли и кто взял. То ему кажется, будто его обобрал Князь Тьмы, верней, его приказчик на мотоцикле с цепями на колесах и цепочкой на шее, то итальянский карабинер с гнилыми зубами и белыми бровями, до глаз затянутый в кожу. Быстер, умчался через море или прямо в море. Напрасно он идет за ним, никогда ему не нагнать его и не встретить — тот и не узнает его в этой кромешной тьме.
Услыхав крик у моста, Пашко вздрогнул: никак облава не кончится. Да и не может кончиться, вопль за воплем несется из пустыни, где смерть играет с жизнью, как кошка с мышкой. Он опустил голову. В сверкающих развалинах стали появляться знакомые и незнакомые лица с широко открытыми глазами. Мелькают ножи и вонзаются в эти большие глаза, и они гаснут, а он ничем больше не может помочь.
Вдруг на дороге раздался конский топот, и скоро показались лошади. Он не узнал их, забыл. Огромные вороные лошади в бешеном галопе мчатся и тащат что-то страшное, втаптывая в землю липкий вопль. Скакали они прямо на него. Пашко сошел с дороги, скатился в кювет и перебрался на другую его сторону. Топот и звяканье усилились, и ему показалось, будто лошади мчатся за ним. Ноги у него заплетались, точно во сне, и он упал возле изгороди из колючей проволоки. И нет больше ни времени, ни сил подняться. Винтовку он уронил, ног вроде как и нет, остались одни поднятые над головой руки. Он приподнял проволоку и прополз за ограду. Лошади промчались мимо, и он сразу о них позабыл. Добравшись кое-как до початого стога, он приподнял пласт сена и сунул голову под душистое одеяло. Темно, мягко, пахнет летом, о котором он так мечтал среди тех безумцев на Брегальнице. Безумцы всюду — мошенничают и лгут без всякой нужды. Та женщина, о которой говорят, будто она из Меджи, на самом деле из «Жития святых» — вышла ненадолго, чтобы только поглядеть, исправился ли мир; посмотрела, нет, не исправился: бьют, грабят, воруют, ходят с облавами. Она и вернулась во тьму, во тьме ничего не болит. И у него тоже ничего не болит, наконец-то все успокоилось — трава внизу и над головой трава.
Примечания
1
Михаило Лалич. Свадьба, «Художественная литература», М. 1964; Лелейская гора, «Прогресс», М. 1968.
(обратно)2
Опанки — крестьянская обувь из сыромятной кожи типа постолов.
(обратно)3
Раде — светское имя Петра II Петровича Негоша (1813—1851), митрополита Черногории.
(обратно)4
В ночь на 30 (17) июня 1913 г. болгарские войска без объявления войны совершили нападение на сербские части, расположенные в Македонии, в бассейне реки Брегальницы, что положило начало второй балканской войне.
(обратно)5
Васоевичи — одно из черногорских племен.
(обратно)6
Дукля — славянское племя, объединившее вокруг себя соседние племена и после ряда восстаний против Византии образовавшее самостоятельное Дуклянское королевство (V—XII вв.).
(обратно)7
Букумиры — по народным поверьям, добрые волшебники, живущие в горах и возле родников.
(обратно)8
Имеются в виду четники, сербские пособники фашистов. Используя традиции старого четничества, они давали обет не бриться до победы.
(обратно)9
Тихо Браге — датский астроном (1546—1601).
(обратно)10
Качак — разбойник (сербскохорватск.).
(обратно)11
Маздеизм — религия Ирана и Средней Азии, основой которой является культ доброго божества Мазды.
(обратно)12
Тиамат — в старовавилонской религии богиня первичных мировых вод.
(обратно)13
Баллисты — члены буржуазной националистической партии Албании «Балли Комбетар», возглавлявшие борьбу с партизанами.
(обратно)14
Скоевец — член Союза коммунистической молодежи Югославии (сокращенно — СКОЙ).
(обратно)15
Д. Лётич — глава фашистской молодежной организации «Збор».
(обратно)16
Чулаф — неглубокая белая феска, которую носят турки и албанцы; прозвище мусульман (турец.).
(обратно)17
Ахмедия — тонкое полотно, которое наматывают вокруг фески (турец.).
(обратно)18
Джамадан (или джемадан) — род верхней мужской одежды без рукавов (сербскохорватск.).
(обратно)19
Домобраны — солдаты фашистского «Независимого Хорватского государства».
(обратно)20
Никола Пашич (1845—1926) — сербский политический деятель, основатель партии радикалов, глава правительства Сербии, а затем Югославии.
(обратно)21
Косово — имеется в виду знаменитая Косовская битва 1389 г., в которой сербы потерпели поражение от турок. В народе день этой битвы считается днем гибели самостоятельного сербского государства и началом турецкого ига.
(обратно)22
Пьеса югославского комедиографа Б. Нушича (1864—1938).
(обратно)23
Калемегдан — средневековая крепость на Саве в Белграде.
(обратно)24
Машо Врбица — черногорский воевода.
(обратно)25
Белаши — сторонники черногорской политической партии, ставившей своей целью объединение Черногории с Сербией.
(обратно)26
Депутат скупщины Пуниша Рачич по наущению правящей верхушки совершил покушение на лидера хорватской крестьянской партии Степана Радича, возглавлявшего антиправительственную оппозицию, тяжело его ранил и убил двух других депутатов.
(обратно)27
Бенедетто Кроче (1866—1952) — итальянский философ-идеалист.
(обратно)28
Бенито — имя главаря итальянского фашизма Муссолини.
(обратно)29
Чаршия — торговый квартал города (турец.).
(обратно)30
Нету куры, нет яиц, нету водки, нет воды, нет нынче, нет завтра, ничего нет, никогда нет (итал.).
(обратно)31
Имеется в виду династия Петровичей — черногорских владык.
(обратно)32
Нахия — область (турец.).
(обратно)33
Кучи, пешивцы, пиперы, белопавличи, роваци — черногорские племена.
(обратно)34
Главняча — политическая тюрьма в Белграде.
(обратно)35
Овра — итальянская охранка.
(обратно)36
Имеется в виду Драже Михайлович — военный министр эмигрантского королевского правительства, возглавивший четническое движение.
(обратно)37
Иллирийцы — древние племена, жившие на Балканском полуострове и неоднократно поднимавшиеся на борьбу с Римом за свою независимость.
(обратно)38
На Косовом поле (вблизи теперешней сербо-албанской границы) турки нанесли поражение сербскому войску. В народе день Косовской битвы считается днем гибели самостоятельного сербского государства и начала турецкого рабства.
(обратно)39
Милан Недич — премьер-министр правительства Сербии, учрежденного германскими оккупационными властями.
(обратно)40
Пирцио Бироли — наместник Черногории, командующий итальянскими оккупационными войсками в Черногории
(обратно)41
Бадняк — дубовое полено или ветка, которые, согласно обряду, православные сербы и черногорцы сжигали в сочельник.
(обратно)42
Дженабет — несчастье, проклятье (турец.).
(обратно)43
Талих — судьба, счастье (турец.).
(обратно)44
Игбал — судьба, доля, счастье (турец.).
(обратно)45
Билярда — дворец в Цетинье.
(обратно)46
Над (лат.).
(обратно)47
Качамак — каша из кукурузной муки (турец.).
(обратно)48
Пашташута — итальянское блюдо из макарон и мяса.
(обратно)49
Баница — концлагерь недалеко от Белграда.
(обратно)50
Коло — южнославянский народный танец.
(обратно)51
«Божье царство» (лат.).
(обратно)52
«Царство дьявола» (лат.).
(обратно)53
Владычества человека (лат.).
(обратно)54
Вила — по старому народному поверию южных славян, мифическое женское существо, необычайно красивое. Они бывают добрые, злые, морские, водяные, горные, лесные, заоблачные и т. д.
(обратно)55
Все (итал.).
(обратно)56
Завтра, послезавтра (итал.).
(обратно)57
Маштрафица — маленькая чашка для воды (турец.).
(обратно)58
Суфарица — буквари (турец.).
(обратно)59
Кевсер — река, протекающая через рай (турец.).
(обратно)60
Карагеоргий (1768—1817) — вождь первого сербского народно-освободительного восстания против турок (1804—1813).
(обратно)61
Милян Вуков — черногорский воевода и писатель.
(обратно)62
Марко Милянов (1883—1901) — черногорский воевода, писатель, прославлявший героизм черногорцев.
(обратно)63
Гаврило Принцип (1894—1918) — член террористической организации «Молодая Босния», совершивший в Сараеве убийство Франца-Фердинанда, что послужило поводом для начала первой мировой войны.
(обратно)64
Джезва — медный сосуд для приготовления кофе (турец.).
(обратно)65
Окка — старинная мера веса, равная примерно 1280 граммам (турец.).
(обратно)66
Киямет — Судный день, конец света (турец.).
(обратно)67
Тифон — в древнегреческой мифологии стоглавое огнедышащее чудовище.
(обратно)68
Завтра (итал.).
(обратно)
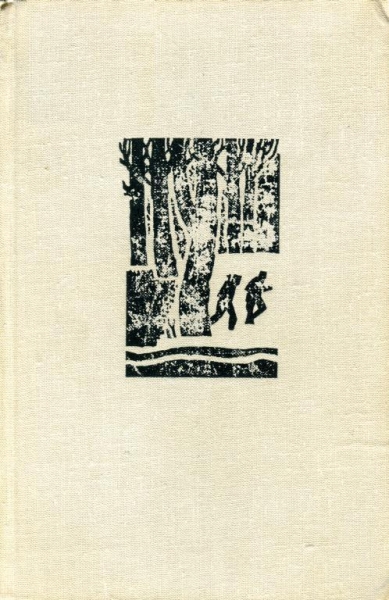

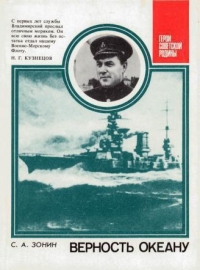






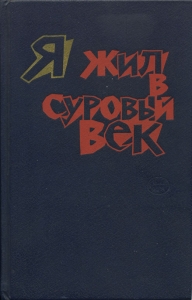
Комментарии к книге «Облава», Михаило Лалич
Всего 0 комментариев