Воспитание чувства
Мытье посуды, как известно, дело грязное и надоедливое, особенно если им приходится заниматься изо дня в день. Но в тесном командирском буфете миноносца, о котором идет речь, для этой цели существовал некий сложный агрегат, в корне менявший дело.
Агрегат этот занимал собой весь правый угол буфета, где сверкал медью и шипел паром самовар — маленький, но злой, фыркающий и обжигающий. Цинковый его поддон был загроможден проволочными стеллажами для тарелок, гнездами для стаканов, особой подвесной сеткой для ножей и вилок. Сложная система медных трубок соединялась резиновым шлангом с краном самовара. Струи кипятка сильно и равномерно били сквозь дырки на стеллажи и смывали с посуды застывший жир, липкие следы компота и консервированного молока (которое почему-то любил комиссар миноносца). Сам же хозяин буфета, командирский вестовой Андрей Кротких, презрительно предоставив воде грязную работу, уходил в крошечную каюту, гордо именовавшуюся «командирским салоном». И пока, в знак окончания обеда командира и комиссара, он менял там белую скатерть на цветную, автомат исправно делал свое дело.
Вернувшись, Кротких намыливал узкую щетку и с тем же презрительным выражением лица протирал ею в стеллажах тарелки, потом, смыв шлангом мыльную пену, закрывал воду. В жарком воздухе тесного буфета посуда обсыхала сама собой, и через час сухие диски тарелок сверкали уже в гнездах, оберегающих их от последствий качки. И только воинственная сталь ножей и вилок требовала полотенца: во избежание ржавчины.
Вся эта сложная автоматика была рождена горечью, жившей в душе Андрея Кротких, краснофлотца и комсомольца. Грязную посуду он ненавидел, как некий символ незадавшейся жизни. В самом деле, его товарищи по призыву готовились стоять у клапанов в машине, стрелять из орудий, вертеть штурвал, а ему выпала на долю странная боевая часть: посуда. Причиной этому было то, что Кротких, выросший в далеком колхозе на Алтае, по своим личным соображениям простился с учебниками еще в четвертом классе и поэтому при отборе во флотские школы специалистов остался не у дел.
Правда, по боевой тревоге Кротких был подносчиком снарядов кормового зенитного автомата номер два. Но вся его боевая работа была ничтожна: он вынимал из ящиков острожалые снаряды (которые больше походили на пули гигантской винтовки) и укладывал их на подстеленный возле орудия мат. В дугу обоймы, торчащую из автомата, их вставлял уже другой краснофлотец — заряжающий Пинохин, и оставалось только с завистью смотреть на него и запоздало проклинать опрометчивый поступок юности.
В первом же бою с пикировщиками Кротких с горечью понял, что на таком боевом посту Героем Советского Союза, пожалуй, не станешь и что комсомольской организации колхоза «Заря Алтая» гордиться им после войны, видимо, не придется:
Орудие номер два и подсказало ему буфетную автоматику. Перемывая как-то посуду, Кротких неожиданно для себя подумал, что тарелки ведь тоже можно расставить на ребра, вроде как в обойме. Тогда не придется по очереди подносить каждую под струю воды, обжигая руки, а можно будет обдавать крутым кипятком сразу все. Он перепортил массу проволоки, пока не добился того, что смутно мерещилось ему в мыслях и что, как с огорчением узнал он после, было давным-давно выдумано и применялось в больших столовых и ресторанах. Это сообщил ему военком миноносца батальонный комиссар Филатов в первый же вечер, когда, заглянув в буфет в поисках чая, он увидел «автоматику», построенную Кротких.
Однако огорчение его неожиданно обернулось удачно: военком разговорился с ним по душам, и Кротких вылил ему всю свою душу, смешав в кучу и посуду, и «Зарю Алтая», и мечты о Герое Советского Союза, и неведомую комиссару Олю Чебыкину, которой никак не напишешь письма о войне, где он моет посуду, тем более, что и слова-то вылазят на бумагу туго, и даже самому невозможно прочесть потом свои каракули…
Военком слушал его, чуть улыбаясь, всматриваясь в блестящие смекалистые глаза и с любопытством разглядывая его лицо — широкое и скуластое лицо сибиряка с чистой и ровной кожей. Улыбался он-потому, что вспоминал, как когда-то, придя комсомольцем во флот, он сам также страдал душой, попав вместо грезившегося боевого места на скучную и грязную очистку трюма восстанавливаемого линкора, как мучился он над первым своим письмом к друзьям и как беспощадно врал в нем, описывая дальние походы, штормы и собственные ленточки, развевающиеся на мостике (не иначе, как рядом с командиром).
Молодость, далекая и невозвратная, дохнула на него из этих блестящих глаз, и он всей душой понял, что этой самой Оле Чебыкиной о посуде, и точно, никак нё напишешь: она, конечно, была такая же насмешливая, верткая и опасная на язык, какой была когда-то Валя с текстильной фабрики родного городка.
И он с таким живым интересом стал расспрашивать Кротких о «Заре Алтая», об Оле, о том, как же так вышло у него со школой, что тому показалось, будто перед ним не пожилой человек, пришедший на корабль из запаса, и не комиссар миноносца, а погодок-комсомолец, с которым хочется говорить обо всем и которому надо обязательно выложить всю душу. И глаза комиссара, внимательные и дружеские, подгоняли и подгоняли слова, и если бы в салоне не появился политрук Козлов, разговор долго бы не закончился. Военком отставил стакан и стал опять таким, каким его привык видеть Кротких: сдержанным, немного суховатым, и глаза его опять сделались усталыми и взрослыми.
— Кстати пришли, товарищ политрук, — сказал он обычным своим тоном, негромко и раздельно. — Значит, так вы порешили: раз война, люди сами расти будут. Ни учить не надо, ни воспитывать. Как говорится, война рождает героев. Самосильно. Так, что ли?
— Непонятно, товарищ батальонный комиссар, — ответил Козлов, угадывая неприятность.
— Чего ж тут не понимать… Спасибо, товарищ Кротких, больше пить не буду, можете быть свободным.
Кротких быстро прибрал стакан и банку с молоком (чтобы комиссару не пришло в голову угостить им Козлова), но, выйдя, задержался с той стороны двери: речь, видимо, шла о нем самом. Комиссар поинтересовался, известно ли политруку, что у краснофлотца его боевой части Андрея Кротких слабовато с общим образованием и что ходу ему дальше нет. Он спросил еще, неужели на миноносце нет комсомольцев-вузовцев, и сам назвал химиста Сухова, студента педагогического вуза. Козлов ответил, что Сухов активист и так перегружен всяческими нагрузками — и боевым листком, и комсомольским бюро, и докладами, — что времени у него нет. Комиссар рассердился. Это Кротких понял по внезапному молчанию: когда комиссар сердился, он обычно замолкал и медленно скручивал папиросу, посматривая на собеседника и тотчас отворачиваясь, как бы выжидая, пока уляжется гнев. Молчание затянулось. Потом щелкнула зажигалка, и комиссар негромко сказал:
— Это у вас нет времени подумать, товарищ политрук. Почему все на Сухова навалили? Людей у вас, что ли, нет? Не видите вы их, как и этого паренька не увидели. Наладьте ему занятия да зайдите в буфет: поглядите, что у него в голове…
С этого вечера перед Андреем Кротких раскрылись перспективы. Война шла своим чередом. Были бои, штормы, походы, ночные стрельбы и дневные атаки пикировщиков, зенитный автомат жадно втягивал снаряды в ненасытную свою обойму. Кротких подтаскивал их на мат и мыл посуду, но все это приобрело будущее: перед ним стояла весна, когда он пойдет в школу оружия. Он наловчился не терять ни минуты времени. Регулируя свой буфетный автомат, он держал в другой руке грамматику. Драя медяшку в салоне, твердил таблицу умножения. Дежуря у снарядов по готовности номер два, решал в блокноте задачи. Блокнот был дан комиссаром. Все было дано комиссаром — блокнот, учеба и будущее.
И в девятнадцатилетнее сердце краснофлотца Кротких плотно и верно вошла любовь к этому спокойному пожилому человеку.
Он радовался, когда видел, что комиссар весел, когда он шутил на палубе или в салоне за обедом. Он мрачнел, видя, что комиссар устал и озабочен. Он ненавидел тех, кто доводил комиссара до молчания и медленной возни с папиросой. Тогда бешенство поднималось в нем горячей волной, и однажды оно вылилось в поступке, от которого комиссар замолчал и закрутил папиросу.
Была тревожная походная ночь. Черное море сияло под холодной зимней луной, и хотя ветер был слабый и миноносец не качало, но на палубе была жестокая стужа. Корабль был недалеко от врага, и каждую секунду пустое белесое небо могло обрушить на него бомбы: на лунной дороге миноносец был отчетливо — виден. Весь зенитный расчет должен был провести ночь у орудий.
Комиссар сошел с мостика;и обходил палубу. Видимо, он промерз сам порядочно. Подойдя на корму к автомату номер два, он вдруг раскинул руки и начал делать гимнастику.
— И вам советую, — сказал он краснофлотцам. — Кровь разгоняет.
Кротких подошел к нему и попросился вниз: он согреет чая и принесет командиру и комиссару на мостик. Филатов улыбнулся.
— Спасибо, Андрюша, — сказал он, называя его так, как звал в долгих неофициальных разговорах. — Спасибо, дорогой. Не до чая. И потом, всех не согреешь, они тоже замерзли…
Он повернулся к орудию и стал шутить, привычно проверяя взглядом, на месте ли весь расчет. В велосипедных седлах, откинувшись навзничь, лежали наводчики, всматриваясь в смутное сияние лунного неба. Установщики прицелов сидели на корточках, готовые вскочить и завертеть свои штурвальчики. Командир орудия старшина первой статьи Гущев стоял в телефонном шлеме, опутанный трубками и шлангами, как водолаз. Орудие было готово к мгновенной стрельбе. Но комиссар вдруг перестал шутить и нахмурился.
— А где заряжающий? Товарищ старшина, в чем дело?
Гущев доложил, что Пинохин отпущен им оправиться, и вполголоса приказал Кротких найти Пинохина в гальюне и сказать ему, чтоб не рассиживался.
В гальюне Пинохина не оказалось. Кротких нашел его там, где подозревал: в кубрике. Пристроившись на рундуке, у самого колокола громкого боя, Пинохин спал, очевидно, решив, что в случае тревоги успеет выскочить к орудию.
Кротких смотрел на него. Ярость вскипала в его сердце. Он вспомнил, как грелся физкультурой комиссар, как отказался он от стакана чая, как стоит он сейчас там, на холоде, молчит и ждет, — и вдруг, стиснув зубы, размахнулся и ударил Пинохина.
Разбор всего этого происходил после выполнения миноносцем задания. Комиссар молчал и крутил папиросу — крутил из-за него, из-за Кротких, и это было невыносимо. Жизнь казалась конченной: теперь никогда не назовет его комиссар Андрюшей, никогда не спросит, сколько будет девятью девять, никогда не улыбнется и не скажет: «Ну, студент боевого факультета…» Слезы подступали к глазам, и, видимо, комиссар понял, что они готовы брызнуть из-под опущенных век.
Слова его были медленны и казались жестокими. Филатов как-то удивительно все повернул. Он начал с того, что будь на его месте другой комиссар, Кротких не так близко к сердцу принял бы поведение Пинохина. Комиссар сказал, что он давно видит, как преданно и верно относится к нему Кротких, но что все это не очень правильно. Оказалось, комиссар заметил однажды ночью, как Кротких вошел к нему на цыпочках, прикрыл иллюминатор, поправил одеяло и долго смотрел на него, улыбаясь. Он назвал все это мальчишеством, никак не подходящим для краснофлотца. Если бы Кротких ударил Пинохина потому, что тот оставил свой боевой пост, навредил этим всему кораблю и, по существу, изменил родине, то это комиссар мог бы еще как-то понять. Но ведь Кротких действовал совсем из других причин, и причины эти высказал сам, крича, что у него, мол, за комиссара сердце горит, такой, мол, человек на палубе мерзнет, а эта гадина в тепле припухает…
Филатов говорил резко, и Кротких мучился. Комиссар, наверное, заметил это, потому что закурил, наконец, папиросу, и Кротких, изучивший его привычки, понял, что он не сердится. Но Филатов выдохнул дым и неожиданно закончил:
— Взыскание — само собой. По комсомолу вас тоже вздраят. А вас придется перевести.
У Кротких поплыло в глазах.
— Товарищ батальонный комиссар… мне на другом корабле не жить, — сказал он глухо.
И голос комиссара вдруг потеплел:
— Да я не собираюсь вас с миноносца списывать. Где вы там другого Сухова найдете, вся учеба пропадет… Перейдете вестовым в кают-компанию. Автоматику свою в тот буфет заберите, — пригодится. Так, что ли?
И хотя Кротких внутренне считал, что совсем не так, что комиссар не понял его любви и преданности и что вся жизнь теперь потускнела и уходить в кают-компанию просто тяжело, он все-таки вытянулся и ответил:
— Точно, товарищ батальонный комиссар!
Это было настоящим горем. Кроме того, Кротких не предполагал, что на свете, кроме любви, существует еще и ревность. Здесь он впервые познал это горькое и обидное чувство. Другой заботится теперь о комиссаре, другой, а не он, слышит его шутки за обедом, с другим, а не с ним, комиссар ведет душевный вечерний разговор, прихлебывая чай с консервированным молоком. И уж, конечно, новый вестовой не догадается припрятывать молоко от гостей и не сумеет накормить комиссара в шторм…
Кротких повзрослел. Он стал серьезнее, сдержаннее и, невольно подражая Филатову, выдерживал паузу, если гнев или обида требовали немедленного поступка. Крутить папиросу ему не приходилось: не везде закуришь. Поэтому он приучил себя в этих случаях шевелить по очереди всеми пальцами (что удобно было делать, даже держа руки по швам).
Филатова он видел теперь много реже, чем раньше: на официальных собраниях или в кубрике, когда комиссар приходил туда для беседы. На палубе он старался пристать к кучке людей, обступившей комиссара, но Филатов говорил с ним, как со всеми, и в глазах его ни разу не мелькнуло то ласковое тепло и живое любопытство, к которым так привык Кротких и которых ему так теперь недоставало. И постепенно Филатов, родной и близкий человек, заменялся в его представлении Филатовым — комиссаром корабля. Но, странное дело, именно Теперь Филатов окончательно вошел в его сердце.
Это была не та мальчишеская, смешная и трогательная, но глуповатая любовь, которой он горел прежде. Теперь это была новая, глубокая, военная любовь.
Черное море показало свой грозный нрав, миноносец нырял в волне, как подводная лодка, и вся палуба была в ледяной воде. А в кубриках ждал горячий кофе, глоток вина и сухие валенки, и вахту сменяли через час, — и Кротких понимал, что это подсказано комиссаром. На маленькой базе, куда зашли ремонтироваться после шторма, к трапу подъехала подвода, где лежали восемь барашков, две гитары, мандарины и капуста. И люди в косматых шапках ломаным русским языком спросили, как передать этот маленький подарок храбрым морякам, о которых рассказывал вчера у них в колхозе комиссар. В каждом большом и малом событии корабельной жизни, в бою и в шторме, в работе машин и орудий, везде чувствовал Кротких комиссара — его мысль, его волю, его заботу.
В смутный день странной южной зимы, когда солнце греет, а ветер холоден, все на миноносце с утра ходили молчаливыми и хмурыми: дошло известие, что немцы взяли Ростов. Мысли, тяжелые и тревожные, уходили на Кавказ, к нефти, к прерванной линии железной дороги. Люди не разговаривали друг с другом, думая о своем, и дело валилось из рук. Но потом головы стали подниматься, глаза блестеть надеждой и ненавистью, руки работать яростно и быстро: теперь все говорили о Москве, об ударе наших войск, подготовленном Сталиным, о том, что удар этот вот-вот грянет, — и Ростов встал на свое место в огромной схеме войны. И Кротких с гордостью подумал, что об этом напомнил комиссар Филатов. Он стал понимать, почему с таким уважением и любовью говорят о комиссаре остальные краснофлотцы, мало знающие его в частной, каютной жизни. Он стал понимать, почему каждый из них готов рискнуть головой, чтобы спасти в бою комиссара, — не просто Филатова — хорошего, честного, отзывчивого человека, а военного комиссара Филатова, партийную душу и совесть корабля.
По-прежнему стоял Кротких у своего ящика со снарядами, выкладывая их на мат, не дальше. Но мальчишеская зависть к заряжающему (теперь уже не к Пинохину, отданному под суд, а Трофимову) больше не терзала его, как не мучило и сознание, что подвига тут не совершишь. Новое понятие — корабль — значительно и серьезно вошло в него. Он полюбил корабль, его силу и его людей, его сталь и его командиров, его ход и его название. И даже посуда, которую он так ненавидел и презирал когда-то, теперь совсем перестала беспокоить его воображение.
Это новое ощущение корабля, как живого, сильного и ласкового друга, настолько захватило его, что однажды вечером он сел писать свое первое письмо Оле Чебыкиной.
Но из письма ничего не получилось. Буквы теперь были четкими на загляденье, но передать это удивительное ощущение корабля и любви к нему он никак не смог. Он написал целую страницу затертых, невыразительных слов— и в ярости разорвал письмо, даже забыв перед этим пошевелить пальцами. Два дня он ходил мрачный, отыскивая нужные для корабля слова, но корабль сам отвлек его мысли новым событием.
Готовился десант. На комсомольском собрании все объявили себя добровольцами. Но с миноносца требовалось только пятнадцать человек, умеющих хорошо владеть ручными автоматами, штыком и минометом. Кротких под эти требования никак не подходил, и командир боевой части на него даже не взглянул. Кротких пошевелил пальцами и промолчал: в десанте он, несомненно, был бы лишним человеком.
Однако, когда миноносец подходил на рассвете к месту высадки и когда десантника вышли на палубу с оружием и ящик с минами для миномета был поставлен рядом с его ящиком со снарядами, готовый к погрузке на шлюпку, — вся душа в нем заныла. Мины лежали в ящике ровным рядом, пузатые и понятные, и, конечно, он лучше всех мог бы вытаскивать их из ящика и подносить к миномету. Но тут миноносец резко повернул, заверещал свисток командира автомата номер два: налетели самолеты, и пришлось отбиваться.
Автомат залаял отрывисто и четко, но что-то простучало по палубе, как горох. Трофимов упал, выронив снаряд, и автомат захлебнулся: пикировщик дал очередь из пулемета. Кротких подскочил к орудию и, быстро нагибаясь к снарядам, им же самим приготовленным на мате, накормил голодную обойму. Автомат вновь заработал. И все внимание ушло на то, чтобы успеть брать из ящика новые снаряды и вставлять их в обойму, и совершенно некогда было подумать, что вот наконец он, Кротких, сам ведет бой. Рядом с бортом встал огромный столб воды и дыма, что-то провизжало мимо орудия. Вслед за бомбой в ту же вздыбленную воду с воем и ревом врезался самолет. Кротких заметил лишь хвост с черным крестом и понял, что они все-таки сбили немца, нахально «пикнувшего» на миноносец, у которого замолчал автомат. Но и этому он не успел ни обрадоваться, ни удивиться, потому что сзади него закричали:
— Мины!..
Он обернулся. Ящик с минами горел, сильно дымя. Мины в нем вот-вот должны были начать рваться. Он увидел, как в дыму мелькнула чья-то фигура, как чьи-то руки пытались приподнять ящик и как потом краснофлотец (кто — он так и не разобрал) отскочил… Гущев отчаянно махнул рукой, сорвал с себя телефонный шлем и крикнул:
— Все с кормы!
Каждую секунду могли рвануть, два десятка мин, из которых и одной хватило бы на весь орудийный расчет. Кротких вдруг подумал, что вслед за минами начнут рваться в пожаре и его снаряды, а за ними — погреба и весь корабль, и шагнул было к ящику. Но тут за кормовой рубкой грохнуло четвертое орудие, и ему показалось, что уже грянула взрывом пылающая в ящике смерть. Это было так страшно, что он ринулся с кормы вслед за остальными. Шаг в сторону ящика оставил его позади всех, и отчаяние охватило его: если он споткнется, ему никто не поможет. Подлое, паническое малодушие подогнуло его колени. Он сделал, усилие, чтобы шагнуть, — и вдруг далеко впереди, у носового мостика, увидел комиссара.
Филатов, расталкивая встречных, бежал на корму, и Кротких понял, зачем. Догадка эта поразила его. В два прыжка Кротких очутился у ящика и, обжигая ладони, ухватился за дно. Ящик был слишком тяжел для одного человека. Второй бежал на помощь. Но этот второй человек был комиссар корабля, и подпустить его к ящику было нельзя.
Кротких присел на корточки и схватил раскаленный стабилизатор крайней мины. Ладонь зашипела, острая боль на миг захолонула сердце, но мина вылетела за борт. Он тотчас схватил вторую.
Может быть, он что-то кричал. Так потом рассказывали, ему товарищи: говорили, что он прыгал на корточках у ящика, танцуя какой-то страшный танец боли и ругаясь во весь голос бессмысленно и жутко. Но мины летели за борт одна за другой, быстро освобождая горящий ящик. Выпрямляясь с очередной миной в руке, он увидел комиссара: тот был уже у кормового мостика, рядом со смертью. Тогда Кротких, надсаживаясь, поднял на поручни опустошенный наполовину ящик. Пламя лизнуло его лицо. Бушлат загорелся. Он отвернул лицо и сильным толчком сбросил за борт ящик. Потом ударил по бушлату ладонями, уже не чувствующими огня.
Тут кто-то крепко и сильно обхватил его плечи. Он повернул голову. Это подбежал комиссар.
— Ничего, товарищ комиссар, уже тухнет, — сказал он, думая, что комиссар тушит на нем бушлат.
Но, взглянув в глаза комиссару, он понял — это было объятие.
Волшебный крысолов
К вечеру секретарь парткомиссии полковой комиссар Дорохов закончил вручение партийных билетов на командном пункте бригады морской пехоты. В сумерки он надел каску, взял автомат и пошел в третий батальон: моряки сидели там в сотне метров от немцев, и попадать туда можно было только с темнотой.
Вечер ложился прохладный и ясный. Небо над горами еще сияло бледным зеленоватым светом, но скоро черное сухое кружево голых зимних сучьев утратило отчетливость своего узора, и на тропинке стало почти темно. В дубняке стояла тишина — если можно назвать тишиной тяжкое шуршанье своих снарядов, предваряемое глухим ударом залпа, и быстрый свист немецких, кончающийся плотным разрывом неподалеку. Но это и была тишина переднего края: винтовки и пулеметы молчали и чавканье сапог связного казалось слишком громким.
Дорохов шел за ним быстро и сноровисто, сторожко ожидая того нарастающего свиста, который может быть последним, что услышишь в жизни, если не сумеешь отличить этот звук от других, безопасных, и не успеешь до разрыва снаряда упасть ничком. Это стало привычкой: сколько уже раз ходил он так под мины а снаряды, чтобы своими руками передать бойцу или командиру признание партии и высокий знак ее доверия — новенький партийный билет. Нынче он нес их пять, и один из них капитану Митякову, командиру третьего батальона.
Связной остановился и, пошептавшись в кустах с кем-то невидимым, доложил Дорохову, что капитан выставил на ночь заслон с тыла, ожидая нынче немецких автоматчиков, и что теперь придется обождать краснофлотца, который ушел провести новым проходом обогнавшего их почтаря.
Дорохов присел на камень.
Артиллерийская дуэль прекратилась, и в дубняке стало удивительно тихо. Обе ночи Дорохов провел в других батальонах, а днем довелось поспать часа полтора. Он шепнул связному: «Буди, коли что», прислонился к скале и тотчас уснул.
Хорошо, что война иногда разрешает нам сон — короткий, военный сон в оружии, на коне или в машине, на штормующем корабле, под грохот снарядов или в ожидании атаки, — скупой, суровый, но полный отдых. Короткий и плотный, этот военный сон подкрепляет, как глоток свежей воды. Глубокое, совершенное забвение гасит для тебя бушующую по всей земле войну, и ты впитываешь в нем новые силы для души и тела.
Но помни, товарищ: если мелькнет перед тобой в коротком этом сне дорогое лицо ребенка или дальняя тихость забытого дома наплывет на тебя нежно и коварно, если плечо, затянутое боевыми ремнями, стынущее у стенки окопа или мокрое от волны, одинокое твое плечо почует милую тяжесть сонной родной головы, — проснувшись, не следи отлетающего виденья. Вокруг тебя — бой. Мечтать не время. Спокойствие, любовь и счастье — все, о чем тоскует в войне человеческое сердце, — все это сведено войной к одному понятию: победа. Ты отдохнул: улыбнись благодарно милым виденьям, собери всю волю и всю ненависть; будь быстрее, отважнее, хитрей и осторожней, чем враг, чтобы вырвать у него победу, без которой (ты сам это знаешь!) никогда не будет для тебя ни покоя, ни счастья, ни жизни.
Дорохову приснилась почему-то песня, которую пел глубокий женский голос. И в невыразимом волшебстве сна встало перед ним чье-то лицо, прекрасное и небывалое, но знакомое и дорогое, а за ним — жаркий простор родных, забытых полей юности и в них — ленивый покой и долгая тишина. Но рядом хрустнула ветка, и он проснулся, так же как заснул: внезапно и без движения, только раскрыв глаза.
Перед ним была неясная тьма дубняка. Он тотчас вспомнил, где он, какой драгоценный груз лежит в кармане у сердца, и, прогнав обманы сна, приподнял автомат и прислушался. Но странное дело: привыкший сразу же возвращаться от сна к действительности, на этот раз он, вероятно, продолжал грезить с открытыми глазами: песня звучала в лесу вольно и властно.
Ее пел голос необыкновенной чистоты я силы. Он пел свободно и просто, тем богатым и глубоким звуком, который умеет найти в старинной скрипке настоящий артист. Над передним краем, над винтовками и минометами, готовыми к стрельбе, над темным дубняком, где, может быть, уже крались немецкие автоматчики, песня плыла величаво и спокойно, как полная светлая луна, и ни один выстрел не нарушал ее плавного хода. Песня была незнакомая, но слов ее Дорохов и не старался разобрать. Он просто слушал чудесный этот звук, и хотелось одного: чтобы он не замолк.
Песня томила и колдовала, она затягивала в себя, как теплое и сильное течение, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не поддаться желанию забыть обо всем и только следить за мягкими и плавными волнами удивительного этого голоса. Он с раздражением подумал, что такая песня на войне ни к чему: можно так заслушаться, что прозеваешь то, что делается вокруг тебя во тьме. И тут же он решил сказать военкому батальона, что если уж затаскивать к себе в окопы артистов, то музыку надо давать пободрее, а то, гляди, такой концерт и боком выйдет… Но голос звучал — и он снова заставил себя думать о другом, чтобы освободиться от коварного его обаяния.
Вернулся провожатый. Связной тронул Дорохова за рукав, и они молча пошли навстречу песне. Она закончилась, но тотчас же голос начал другую.
Скоро, пригнувшись, они вышли узким ходом сообщения в глубокий окоп, я Дорохов понял, что поют совсем рядом. Он заглянул за скалистый траверз окопа и увидел того, кто пел.
Это был мальчик лет двенадцати-тринадцати. Рядом с ним стоял старший политрук Галкин, военком батальона, светя на планшет карманным фонариком.
Блики света падали на лицо певца. Оно было совсем детским, и когда он подымал глаза в темноту, взгляд его сиял всей безмятежной чистотой начала жизни. Он пел с видимым удовольствием, склонив голову набок и как бы сам. прислушиваясь к тому богатому звуку, который вырывался из его губ. Порой губы эти улыбались, и он хитро подмигивал Галкину, который также хитро отвечал ему ободряющей улыбкой, отрываясь от карты. Дорохов тронул его плечо, и Галкин погасил фонарик.
— Неудачный концерт, товарищ старший политрук, — сказал недовольно Дорохов, здороваясь. — Никуда такая музыка не годится, совсем не военные мысли под нее идут.
— Точно, — ответил Галкин. — Приметил — ни одного выстрела: слушают гансы… А у меня матросики тем временем выспятся, что надо… Третий вечер так припухаем, красота!
— Вот и заслон у тебя на тропинке заслушается… Этакий голос, всю мечту из души подымает. Прямо — сирена…
Галкин обиделся.
— Сказал! Сирена!.. У сирены звук подлый. Воет, душу тянет. А у него…
— Я не про ту, — усмехнулся Дорохов. — Про ту, что в море поет, память и волю отнимает… Слыхал, были такие морские певицы, которые древних штурманов на камни заманивали?.. Русалки…
Галкин неожиданно засмеялся.
— Это голые, с рыбьими хвостами… — Сравнение, видимо, ему понравилось, и он опять засмеялся. — Это точно, сирена… Черноморская сирена. Только насчет заслона ты не беспокойся: у моряков против этой сирены слово есть. Они песню не слушают, они другого ждут.
— А что?
— Обожди, увидишь. Чего раньше времени хвастать. Думка у нас с комбатом одна есть. Как вот выйдет…
Песня кончилась на глубокой замирающей ноте. Галкин посветил на часы и озабоченно нахмурился.
— Не устал, Павлик? — спросил он ласково. — Давай еще. Пожалостнее какую. Самое время.
— Я лучше веселую, товарищ старший политрук, — ответил Павлик, — про мельничиху. Они слушать лучше будут. Можно?
— Это которой вчера хлопали? Добро, — сказал Галкин, и Павлик свободно и сильно начал шубертовскую песню.
Дорохов поинтересовался, откуда появился у них этот мальчик, и Галкин рассказал, что его нашел у соседей слева, мор яков — минометчиков, связной Потапов. Послушав, как он поет, Потапов подумал, что у минометчиков есть уже хороший баянист и что две музыки на одно подразделение будет, пожалуй, жирно, — и подсел к Павлику. Оказалось, что сестра у него — артистка, он учился в муз-техникуме и шел отличником, но ребят вывезли на Кавказ, а он спрятался, потому что не мог же он бросить Севастополь, если умеет стрелять (тут он вынул из кармана значок ворошиловского стрелка). Однако на фронт ему удалось попасть только тогда, когда увезли на пароходе и сестру, и он опять спрятался и остался сам себе хозяином. Но войны тут мало, и минометчики не дают ему даже винтовки.
Тогда Потапов коварно объяснил ему, что минометчики только издали швыряются в Гансов, а настоящая война идет в бригаде и главным образом у них, в третьем батальоне, где, кстати говоря, каждому добровольцу сразу дают две гранаты и трофейную винтовку. Павлик пришел в гости, спел «Цусиму», и Галкин, не колеблясь, снял с пояса две гранаты и тут же провел его приказом как воспитанника батальона, чего минометчики сделать не догадались. Галкин рассказал еще, что парнишку трудно удержать в блиндаже, когда начинается какой-либо переплет, и что пришлось специально поручить это дело связистам на ком-пункте батальона.
Но тут песня кончилась, и Галкин, оборвав себя, прислушался к темноте. Над окопом некоторое время стояла тишина. Потом у немцев сухо и одиноко щелкнул выстрел.
Павлик встревожился;
— Стреляют, — шепнул он, чуть не плача. — Товарищ старший политрук, что же это — стреляют?
— Ясно, стреляют, раз ты замолчал, — сказал вдруг голос сверху.
В темноте зашуршал щебень, и в окоп спрыгнул капитан Митяков.
— Ну, как там? — спросил его Галкин.
— Как будто в порядке, — ответил он и тотчас повернулся к мальчику. — Только пой, Павлик… Пой лучше… Вся надежда на тебя, — сказал он умоляюще, и Павлик опять запел.
Он запел серенаду Шуберта, и капитан облегченно вздохнул.
Песня, плавная и пленительная, торжествующе полетела в ночь, и казалось, что ее поет спокойный и счастливый человек. Но когда капитан посветил фонариком на часы, Дорохов увидел, что глаза Павлика были полны тревоги. Он пел и вопросительно смотрел на капитана, а тот всматривался в темноту, угадывая в ней что-то ожидаемое, волнующее и важное.
Потом, видимо, что-то решив, он погасил фонарь и негромко сказал:
— К бою!
Команда молнией пробежала по дозорным, нырнула в блиндажи, и окоп- стал быстро наполняться моряками. Они пробегали мимо Дорохова, поправляя снаряжение и каски, некоторые, несмотря на темноту, надевали вместо касок бескозырки — гордость моряка, и скоро присутствие многих сильных, горячих тел почувствовалось в этой живой темноте.
Песня продолжала звучать, подчиняя себе сердце и завораживая ум. Любовное томление, ожидание встречи, страстный и медленный призыв звучали над затихшим передним краем, а моряки на приступках окопа стояли сурово и грозно. Они ждали — и Дорохов понял, чего: сигнала к атаке.
Он подощел к капитану Митякову и просто, без лишних слов передал ему маленькую твердую книжечку.
— Возьмите в бой, товарищ Митяков.
— Спасибо. Оправдаю, — так же коротко ответил тот.
Сильный взрыв впереди заглушил песню. Небо перед окопом справа осветилось высоким пламенем, и окоп ответил громким «ура». Капитан сунул книжечку в левый карман кителя, под орден, и вспрыгнул на бруствер. Моряки лавиной ринулись за ним. На склоне впереди забили автоматы, заработали с флангов пулеметы, поддерживая атаку. Тени моряков мелькнули на миг на фоне перебегавших огоньков стрельбы и пропали во тьме.
— Ну, Павлик, тикай… война пошла… — сказал торопливо Галкин, выхватывая гранату. — Товарищ полковой комиссар, давайте тоже в блиндаж, сейчас мины посыплются… Второй взвод за мной!
Павлик повел Дорохова в блиндаж компункта. Три-четыре мины с треском разорвались у бруствера, пока они добрались до укрытия. Блиндаж сотрясался, а Павлик, сев за стол, стал жадно пить чай.
— Охрип, — сказал он деловито. — Всю тетрадку пропел, покуда они доползли.
— Кто они?
— Кандыба, Баймуратов и Вася Петров, — точно ответил Павлик, и Дорохов попросил его объяснить.
Павлик, вкусно прихлебывая чай и прерывая себя, чтобы ответить восторженным «вот это да!» на особо близкий взрыв мины или снаряда, рассказал;, что нынче комбат и старший политрук раскрыли ему военную тайну: ночью сегодня пойдут к фашистам добровольцы-саперы, чтобы доползти до того дзота, что справа, и постараться его подорвать. Комбат просил припомнить все, что пела сестра, — а она целыми днями бубнила этого Шуберта, даже навязло в ушах. Комбат сказал еще, чтобы он пел нынче как можно лучше: надо, чтобы фрицы заслушались и прохлопали саперов, которые поползут мимо них в темноте.
Павлик засмеялся: наверное, он пел хорошо, — вон как ахнул фашистский дзот… Теперь, конечно, к утру, моряки будут сидеть в немецких окопах, и Галкин подберет для него парабеллум.
В углу запищал телефон. Связист ответил, что Фиалка слушает. Потом он вызвал Незабудку и попросил передать Резеде, что Фиалка требует огоньку по северному склону высоты 127,5, куда отступили выбитые из окопов немцы.
Мины закончили уже свою трескотню, и в блиндаже стало тихо. Павлик вдруг зевнул и откинулся на нары. Он прикрыл глаза, подложил ладонь под щеку и заснул. Он спал спокойно и уютно, как спят набегавшиеся за день дети. Дорохов смотрел на него и думал о том, что придется выдержать большой бой с Галкиным: мальчика нужно было отправить на Большую землю, — чтобы сберечь этот чудесный голос.
Павлик пошевелился. Дорохов заботливо накинул на него брошенный кем-то перед атакой полушубок. Мальчик сонно открыл глаза.
— Спи, спи, ты… сирена… — сказал Дорохов негромко. — Спи.
— Крысы, — ответил Павлик и улыбнулся. — Крыскжи поганые… Я их… погоди… в самое море…
Он пробормотал что-то еще сонное, свое, и опять уснул.
Дорохов, ожидая, когда в блиндаж придет кто-нибудь, кто мог бы провести его на компункт, подсел к столу и потянул к себе потрепанную книжку.
Книжка, очевидно, принадлежала Павлику. На обложке ее был нарисован бородатый человек в странном, цветистом, фантастическом костюме, идущий по колено в воде. Он играл на флейте, и за ним черной отвратительной лавиной ползли в воду крысы.
Они ползли, оскалив мерзкие пасти и блестя злобными глазами, кусаясь и отпихивая друг друга в стремлении быть ближе к чудесной флейте, заворожившей их тупые умы, а быстрая вода относила их от колен музыканта, и множество крыс плыло вниз по реке брюхом вверх.
Дорохов раскрыл книжку и, усмехаясь, начал читать старую сказку о волшебном крысолове. На полях книжки стояли птички, что, как ему было известно, очень любил делать старший политрук Галкин, когда чтение его увлекало.
Брошка
Когда в отряд прибыло пополнение в шесть лошадей, присланных из Кронштадтского порта, капитан Розе окончательно расстроился.
Три месяца назад, при формировании этого балтийского берегового отряда, капитан Розе, читавший в школе оружия курс двигателей внутреннего сгорания, никак не мог предполагать, что он превратится из техника в хозяйственника. Он занялся автотранспортом, и все было привычно и понятно. Но когда пришли на фронт и отряд продолжал расти, когда завернули эти необыкновенные морозы и целый подземный городок вырос в заснеженном лесу, как-то само собой получилось, что именно на капитана Розе свалились все хозяйственные заботы. Командир отряда, старый балтийский матрос, в свое время повоевавший «на сухом пути» и под Царицыным и под Перекопом, все чаще и чаще поручал ему разные снабженческие дела и, наконец, однажды вечером вызвал его в землянку и жестко распушил за невкусный борщ. Капитан Розе изумился, но, решив, что комбригу виднее, кто за что должен отвечать, побежал к походным кухням и тотчас собрал коков на совет: что делать, чтобы картошка не мерзла и не гадила борща? И когда в очередном приказе было уже прямо сказано: «Начальнику тыла капитану Розе обеспечить…» — капитан философски решил, что кому-нибудь в отряде надо же быть начальником.
Но лошади вывели его из себя. Все-таки между автотранспортом и картошкой была какая-то логическая связь: картошку привозили на его машинах, — значит, он должен был не только довезти эту картошку до лагеря, но, так сказать, довести ее до бойца, то есть сберечь от порчи, сварить и раздать, для чего нужно было позаботиться и о дровах, и о соли, и о мастерстве коков. Но лошади?..
Было ясное морозное утро. Из землянок тянулся легкий дымок, и снег, нависший на ветвях, таял и капал, сразу же превращаясь в лед. У гаража, образованного парусиновым обвесом меж елей, стояли возле машин шесть загадочных существ, заиндевевших и мохнатых.
— Нет, вы подумайте, так на мою голову еще и лошади! — восклицал капитан Розе. — Ну, что мне лошади и что я им? Может быть, кто-нибудь покажет, как в них наливать бензин? И где я построю им гараж? Они же лопнут на этом проклятом морозе, это же не машины, чтобы из них выпускать на ночь воду!..
Тут стоявший впереди огромный серый битюг вкусно фыркнул и ткнулся носом в карман капитанского полушубка.
— Нет, вы посмотрите, оно уже хочет кушать! — в отчаянии воскликнул капитан и, достав из кармана горбушку, протянул битюгу, который и зажевал ее с видимым удовольствием. — Ну, чем я буду тебя кормить, дорогая крошка?.. Вы не знаете случайно, товарищ Андреев, они консервы кушают? Или, может быть, как-нибудь проживут на одном хлебе?..
В шуточном отчаянии капитана сквозило, однако, серьезное беспокойство. Лошади были голодные, усталые от долгого перехода по снегам, и, как ни велико было отвращение техника к этому виду транспорта, надо было все же немедленно «поставить их в человеческие условия», как выразился капитан Розе. А для этого надо было найти людей, которые понимали бы толк в этих чуждых флоту и технике существах. И когда в ответ на призыв капитана вперед вышел комсомолец Савкин, один из лучших учеников в школе оружия, готовившийся стать штурманским электриком, капитан Розе облегченно вздохнул и пошел с докладом к комбригу, не удержавшись, впрочем, от совета Савкину обращаться с битюгом осторожно, чтобы не устроить где-либо в нем «короткого замыкания».
Комбриг лежал в своей землянке больной. На его стареющем, но еще крепком теле было уже тринадцать ран, полученных в гражданской войне и в амурских боях 1929 года. Сейчас к ним прибавилась четырнадцатая. Она, правда, давно затянулась, но нога плохо работала, и комбрига опять лихорадило. Поэтому капитан Розе снова отложил давно намеченный крупный разговор о том, что он— техник и преподаватель двигателей внутреннего сгорания— не может, не умеет, наконец просто не хочет быть «начальником тыла» и что он просит поручить ему командование приданными отряду танками. Он ограничился докладом о прибывших лошадях и о Савкине, которого просил утвердить в должности «флагманского конюха», дав ему в помощь пять краснофлотцев «такого же лошадиного склада мыслей», и добился своим докладом и шутками того, что комбриг повеселел и выпил горячего чая. Потом, плотно укутав больного, он вышел из землянки, строго приказав часовому со всеми вопросами посылать к нему и не беспокоить комбрига.
Так штурманский электрик Савкин стал «флагманским конюхом» балтийского отряда.
В лесу выросла конюшня, сложенная из тонких елей, на которые набросали ветви. В аккуратных стойлах появились фанерные дощечки с надписями: «Линкор», «Торпеда», «Компас», «Ураган», «Мина». Так по-флотски окрестил Савкин безымянных друзей. И только над огромным серым битюгом висело мирное слово «Крошка» — в память первого знакомства капитана Розе с лошадьми.
Крошка стал любимцем Савкина. Быстро отъевшись на овсе, для которого «флагманский конюх» с боями вырвал у капитана Розе место на очередной машине, могучий серый конь стал гладким, веселым и не отказывался ни от какой работы. А работы хватало. «Лошадиный дивизион» принял на себя и подвоз снарядов на передовые батареи, где машины вязли в снегу, и доставку бойцам на передний край позиции горячего борща в двухведерных термосах, бережно привозил он из боев раненых, волоком тащил по снегу лес для новых землянок. И раз даже сам капитан Розе, прикрывая смущение шутками, поручил Савкину вызволить из заноса грузовик, застрявший в лесу, и шесть нормальных лошадиных сил дружно сдвинули с места тяжелую машину вместе со всеми ее пятьюдесятью условными лошадьми, замерзшими в ее моторе.
Пошептавшись однажды с разведчиками-лыжниками, Савкин заложил Крошку в розвальни и затрусил в лес. Два дня Крошка таскал неведомо откуда бревна, полы, двери и кирпичи, и скоро в отряде появилась настоящая баня. Это был домик лесника, каким-то чудом уцелевший от поджогов. Его распилили на месте, Крошка перевез на себе весь сруб, и баня распахнула- перед балтийцами свои горячие желанные двери. Честь париться первыми была предоставлена капитаном Розе «флагманскому конюху» и лыжникам, отыскавшим домик. Они принесли в баню больного комбрига, и тогда состоялось торжественное открытие «дворца культуры». В бане же комбриг пригласил Савкина и лыжников к себе в землянку пить чай, и там за столом Савкин внес еще одно предложение по лошадиной части.
В десяти километрах по льду от берега выдавался в море мыс — правый фланг укрепленной финской позиции. Перед ним в торосах залегли балтийцы. Уже третий день они лежали на льду, прячась в торосах от меткого огня снайперов, которыми кишел весь прибрежный лес и которые не давали возможности перебраться на берег по открытому голому льду. Третий день балтийцы были без горячего- супа, потому что лыжники могли по ночам приносить им лишь маленькие термосы с какао, заботливо сваренным каштаном Розе. Савкин предложил попытаться доставить им суп, а заодно и запас патронов, которых Крошка сможет взять любое количество.
Комбриг внимательно разглядывал Савкина. Ладный и крепкий юноша с простым веснущатым лицом, несколько смущаясь, продолжал говорить. Оказывается, он уже все подсчитал и прикинул. Луна заходит в начале ночи; стало быть, до рассвета он поспеет к торосам. Там он положит Крошку за большую льдину, чтобы его не пристукнул снайпер, переждет день и ночью вернется. А что до того, что на льду нет санной дороги, то Крошка дорогой не: интересуется, вывезет и по брюхо в снегу любой воз.
Комбриг смотрел на Савкина, и перед ним вставали давние дни, когда в сугробах Донбасса балтийские моряки также за кружкой чая спокойно обсуждали боевой день. Юноша-комсомолец, молодой краснофлотец чем-то напоминал тех, прежних… В повадках его, в жестах и разговоре не было и тени крутого матросского нрава. Глаза, еще по-юношески ясные, были совсем другими, чем усталые и гневные глаза тех людей, которые прошли тяжелую царскую службу, пережили четыре года войны и вновь по своей охоте ринулись под пули и снаряды в неведомые флоту степи и леса. И самый тон его, сдержанный и спокойный, ничуть не был похож на соленый и резкий разговор старых балтийцев.
Но в нем жило то, что в академии называлось «волей к победе» и что сам комбриг называл «боевым упорством», «балтийским упрямством» или — по-давнему, по-матросскому — «марсофлотством».
Собственно, ничего особенного Савкин не предлагал. Ну, какое геройство было в том, чтобы подвезти на лошади по льду термосы с супом и цинки с патронами? Но, вглядевшись в его глаза, где сидело это самое «марсофлотство», комбриг понял, что суп — это только разведка, что Савкин задумал другое, о чем пока не говорит, и что этот юноша из тех, кто найдет выход из любого положения, кто пойдет сам и поведет за собой людей куда угодно.
— Ну, вези борщ, балтиец, — сказал он, называя его словом, которое у него означало высшую похвалу. — Вези, вези… я тебя насквозь вижу!.. Адъютант, начальнику тыла сказать, чтобы борщ мировой был!
И ночью Савкин выехал с борщом на лед. Десять лыжников сопровождали розвальни. Савкин направлял Крошку по их лыжням, как бы стараясь расширить полозьями эту узкую дорогу, но Крошка то и дело проваливался в снег по брюхо.
Невнятная, неясная мгла висела над заливом, — белое марево снега и луны. Где-то далеко ухали залпы, порой в небе, шурша, пролетал над головой снаряд. Потом лука зашла, и к этому времени Крошка задымился, тяжело повода боками. Савкин дал ему передохнуть; лыжники разобрали по рукам концы, которыми прихвачены были к розвальням термосы, цинки с патронами и тюк с газетами, подкинутый начальником тыла, и впряглись в сани, помогая Крошке.
Уже светало, когда из снега донесся негромкий окрик:
— Пропуск?
Это был секрет перед торосами…
Через сутки Савкин вернулся, привез трех тяжело раненных снайперскими пулями. Он тотчас же прошел к комбригу, и тот понял, что не ошибся: борщ был только разведкой — разведкой пути и силы Крошки. Настоящее дело начиналось теперь.
Ночью с берега на лед съезжала тройка. В корню был Крошка, в пристяжке — сильный Линкор и выносливая Торпеда. В розвальнях было, очевидно, что-то потяжелее, чем борщ, потому что полозья, несмотря на дважды прокатанную Крошкой колею, вязли в снегу, и вся тройка задымилась далеко от места, где в первую ночь остановился Крошка. Но Савкин на этот раз не щадил коней, понукал их, дергал вожжи, и тяжелый воз все ближе и ближе подходил к торосам.
Там его ждали. Неслышно и быстро распаковали воз. Тускло блеснула в рассветной мгле сталь. Тупое рыльце орудия хитро выглянуло из рогожи.
Орудие появилось на льду, перед самым лесом, орудие, которого враг не мог ожидать!
Его собрали, лежа за льдинами, потому что снайперы, еще не видя в неясном свете цели, услышав возню, не давали приподняться над торосами. Савкин заботливо повалил на льдину коней, сперва Крошку, за ним и остальных двух. Торпеда заупрямилась, и Савкин возился с ней, негромко приговаривая:. «Ложись же, дура, подстрелят!», когда рядом с ним рявкнул звонкий орудийный выстрел, потом другой, третий… Торпеда испуганно взметнулась и встала во весь рост, но стрелять по ней уже было некому.
В прибрежном лесу, кишевшем на каждом дереве снайперами — этим тайным, скрытым, невидимым врагом, — теперь свистела между ветвей шрапнель прямой наводки. Орудие, привезенное Савкиным, в упор било по лесу. Шрапнель отряхивала с елей пласты снега, подсекала суки, сшибала, как яблоки, закутанных в белое людей с автоматами.
— Один! — крикнул Савкин, забыв про Торпеду. — Еще один! Третий!
В трехстах метрах от торосов падали на снег под сосны неподвижные фигуры;.
В лес, освобожденный от снайперов, кинулись балтийцы. Они перепрыгивали через торосы, бросались в снег и ползли к берегу, достичь которого не могли все эти четверо суток. Уже слышны были взрывы ручных гранат — бойцы добрались до проволоки; уже яростно загремели пулеметы дотов, лишенных передовой своей охраны — снайперов. Савкин схватил винтовку, лежавшую у раненого, и кинулся было на лед, но, вспомнив, крякнул и вернулся к коням.
— Вставай, Крошка, поехали обратно! Такая уж у нас работа — и повоевать нельзя!..
Он подобрал четырех раненых, мягко уложил их в санях на солому, где только что лежало орудие, сейчас осыпавшее шрапнелью окопы перед дотами, и поехал к отряду.
Розовый и морозный вставал над замерзшим морем рассвет. Сразу у торосов Савкин встретил на льду первую группу лыжников-краснофлотцев, подальше вторую, за ней третью — и так до самого своего берега он ехал, как на людной улице. Уже показалось солнце, веселые и ясные его лучи освещали разгоряченные и серьезные лица друзей, и по коротким их возгласам Савкин понял, что отряд вышел на лед еще задолго до первого выстрела орудия, доставленного им в торосы. Видно, крепко поверил комбриг в выдумку своего «флагманского конюха», что бросил вслед за ним балтийскую силу, чтобы использовать прорыв правого фланга и ударить в тыл этим мрачным, скрытым в земле вражеским дотам. Видимо, понял это и враг, потому что все чаще вставали на льду тяжелые черные столбы разрывов крупных снарядов и на чистой пелене снега темными озерками сияла вода. Но балтийцы все шли и шли, мерно и неотвратимо, и над их головами, шурша и воя, неслись туда, за торосы, наши снаряды, расчищая им путь в тыл и фланг врага.
Через три дня весь балтийский лагерь со своими лазаретами, кухнями, гаражами и машинами снялся с якоря, чтобы продвинуться вперед. Лошадиному дивизиону снова пришлось жарко, а Крошка и Савкин приказом капитана Розе были откомандированы в распоряжение комбрига, который все еще не мог. ходить. То и дело в лесу раздавалась странная команда: «Флагманский катер к трапу!» — и Савкин, лихо развернувшись меж сосен, подавал «катер», то есть розвальни, заботливо устланные полушубками. Комбрига переносили в сани, и Крошка пробирался по тропам или целине к переднему краю позиций.
Однажды «флагманский катер» возвращался с переднего края. В этот день было очередное передвижение лагеря. Лесная дорога была сплошь забита машинами и людьми, возами и танками. Саперы спешно строили мост через оборонительный ров перед разбитой и уничтоженной линией дотов, и весь огромный караван тыла вытянулся по дороге. Комбриг приказал проехать к строящемуся мосту.
Дорога, черная и накатанная, здесь обрывалась, и на белом снегу виднелись лишь следы краснофлотцев-мине-ров. Савкин придержал Крошку. Впереди, медленно шли краснофлотцы, держа в руках легкие бамбуковые палки и водя ими перед собой. Могло показаться, что они удят в снегу рыбу. Гибкие палки размеренно описывали в воздухе широкие полукруги, и время от времени кто-либо из краснофлотцев становился на колени и осторожно разгребал руками белую пушистую пелену снега. Через минуту в руках его блестела медная маленькая трубка. Это был запал мины, теперь обезвреженной, и тогда из-под снега доставали круглую металлическую коробку, в которой была за консервирована смерть.
Вся дорога была минирована. Мины были хитрые: они были способны выдержать тяжесть человеческой ноги, но обязательно взрывались под тяжестью танка или машины.
Крошка нетерпеливо фыркал, ожидая, когда люди с удочками двинутся вперед, и охотно шел вслед за ними. Так добрались до места. Комбриг дал указания и приказал ехать обратно.
Колонна танков и грузовиков уже шла Навстречу, медленно поднимая пушистый снег, в котором зияли черные ямы от вынутых мин. У большой сосны комбриг остановил свой «катер», и Крошка уткнулся мордой во встречный танк.
Солнце празднично освещало заснеженный тихий лес, где-то плотно и бодро гудели орудия, и казалось странным, что три-четыре дня назад здесь на каждом шагу подстерегала смерть. Она таилась везде — в минах, в амбразурах дотов, теперь разрушенных и немых, на каждом дереве. Сейчас здесь кипела жизнь, раздавались громкие голоса, шутки, смех, — и одно нетерпеливое стремление вперед и все вперед, к новой линии дотов, к новым славным и трудным победам увлекало всю массу людей. Но краснофлотцы с удочками еще не окончили работы, еще могли Впереди лежать под снегом, тайно и коварно, металлические ящики со смертью, — и комбриг задержал колонну. Приподнявшись в санях, он крикнул, чтобы нашли начальника тыла. И Савкин из разговора комбрига с командиром танка понял, что капитану Розе сильно попадет, за то, что он выслал с удочками мало людей.
Капитан Розе скоро появился. Он ехал на велосипеде, изумляя всех (и, вероятно, самого себя) таким странным способом передвижения в снегу. Это было подобранный им на дороге велосипед, ободранный и погнутый, без шин и покрышек, но отлично пробивавшийся по накатанной колее и сохранивший начальнику тыла немало времени в его бесконечном мотанье вдоль колонны. Крошка покосился на велосипед, фыркнул и рванулся вправо, высоко взметнув передние ноги. Савкин, невольно засмеявшись, натянул вожжи, но внезапно плотный и тяжкий звук ударил ему в уши, черный столб встал перед глазами, горячий удар сбросил его в сани прямо на комбрига… Когда, выдохнув из легких ядовитый сладкий дым, он открыл глаза, Крошки перед ним не было.
Рядом на дороге ничком лежал капитан Розе, сброшенный с велосипеда; комбриг ворочался в санях под Савкиным, но стонов его тот не слышал, потому что в ушах гудело и выло. Савкин соскочил с саней, потряс головой и, убедившись, что все в порядке, поправил на полушубках комбрига. Тогда и капитан Розе поднял голову, не понимая, что произошло. Командир танка протирал глаза, засыпанные землей. Все были целы, кроме Крошки.
Оглядевшись, Савкин увидел в снегу шагах в тридцати распластанную серую шкуру огромного битюга. Он лежал, раскинув пустые ноги и отбросив в сторону пышный хвост, и было похоже, что мастер своего дела долго и тщательно свежевал коня, выделывая шкуру. Все остальное, что составляло крупный и могучий организм коня, висело на ветвях сосен и елей, подброшенное силой взрыва. Так рвались эти мины — все вверх и ничего в стороны.
К месту взрыва бежали саперы. Комбриг, морщась и потирая ногу, растревоженную падением Савкина, укоризненно смотрел на них.
— Что ж прошляпили, рыболовы? — сказал он недовольно. — Товарищ капитан, как же у вас так?
Капитан Розе опять, как и с борщом, почувствовал себя виноватым. Война снова меняла его специальность, и теперь приходилось думать об удочках и минах. Он нагнулся над ямой, поковырял ее и потом поднял голову.
— Они ни при чем, товарищ комбриг, — сказал он, показывая обломок доски: — Мина не металлическая. А на дерево наши удочки еще не обучены… Надо все сначала думать…
Была ли это очередная хитрость врага или у финнов уже кончился запас мин, аккуратно заделанных в металлические коробки, похожие на большие консервные банки, и на этой линии дотов они вынуждены были прибегнуть к кустарной выделке, но мина действительно была в деревянном ящике. И первым обнаружил это Крошка.
Колонна задержалась. Капитан Розе, командиры и краснофлотцы-минеры стояли у развороченных оглобель, из которых вылетело на сосны тело Крошки, и между ними пошел серьезный разговор о деревянных минах и о том, как их находить. Савкин плохо слышал, в ушах у него все еще гудело, и он смотрел в сторону, туда, где на снегу лежала распластанная шкура, Крошки. Потом он вздохнул и пошел разыскивать Торпеду или Линкора, чтобы отремонтировать «флагманский катер», лишенный своего могучего двигателя. Он нашел Торпеду за шестым грузовиком и начал убирать из розвальней поклажу.
— Спасибо Крошке, — сказал Андреев, хозяин Торпеды. — Боевой был коняга!
— Боевой, — ответил Савкин, и тяжелая военная грусть легла на его сердце, как будто он потерял в бою испытанного и верного боевого друга.
Колонна медленно двинулась. Краснофлотцы-минеры второй раз проходили перед ней дорогу, очищая ее от новых, невиданных мин, обнаруженных Крошкой — флагманским конем балтийского отряда.
«Держись, старшина…»
Черноморскому подводнику, старшине группы товарищу Пустовойтенко, его стойкости и героизму.
1
На этот раз командир лодки поймал себя на том, что смотрит на циферблат глубомера и пытается догадаться, сколько же сейчас времени. Он перевел глаза на часы, висевшие рядом, но все-таки понять ничего не мог. Стрелки на них дрожали и расплывались, и было очень трудно заставить их показать время. Когда, наконец, это удалось, капитан-лейтенант понял, что до наступления темноты осталось еще больше трех часов, и подумал, что этих трех часов ему не выдержать.
Мутная, проклятая вялость вновь подгибала его колени. Он снова, в который раз, терял сознание. В висках у него стучало, в глазах плыли и вертелись радужные круги, он чувствовал, что шатается и что пальцы его сжимают что-то холодное и твердое. Огромным усилием воли он заставил себя подумать, где он, за что ухватились его руки и что он, собственно, собирается сделать. И тогда он вдруг понял, что стоит уже не у часов, а у клапанов продувания, схватившись за маховичок. Видимо, снова он потерял контроль над своими поступками и теперь, вопреки собственной воле, был уже готов продуть балласт и всплыть, чтобы впустить в лодку чистый воздух.
Воздух… Благословенный свежий воздух без этого острого, душного, проклятого запаха, который дурманит голову, клонит ко сну, лишает воли… Воздуха, немного воздуха!..
Его очень много было там, над водой. Несправедливо много. Так много, что его хватало и на врагов. Они могли не только дышать им, они могли даже сжигать его в цилиндрах моторов, и — их самолеты могли летать в нем над бухтой и Севастополем. И поэтому лодка должна была лежать на грунте, дожидаясь темноты, которая даст ей возможность всплыть, вдохнуть в себя широко открытыми люками чистый воздух и проветрить отсеки, — насыщенные парами бензина.
Уже тринадцатый час люди в лодке дышали одуряющей смесью этих паров, углекислоты, выдыхаемой их легкими. и скупыми порциями кислорода, которыми командир, расходуя аварийные баллоны, пытался убить бензинный дурман. Кислород, дав временное — облегчение людям, сгорал в их организме, а бензинные пары все продолжали невидимо насыщать лодку.
Они струились в отсеки из той балластной цистерны, в которой подводники, рискуя жизнью, привезли защитникам Севастополя драгоценное боевое горючее. Цистерна ночью была уже опорожнена, бензин увезли к танкам и самолетам. Оставалось только промыть ее, чтобы при погружении водяной балласт не вытеснил из нее — паров бензина внутрь лодки, и проветрить отсеки. Но сделать это не удалось. С рассветом началась одна из тех яростных бомбежек, длившихся целый день, которые испытывал Севастополь в последние дни своей героической обороны.
Лодка была вынуждена лечь в бухту на грунт до наступления темноты.
Первые часы все шло хорошо. Но потом стальной корпус лодки стал подобен гигантской наркотической маске, надетой на головы нескольких десятков людей. Сытый, сладкий и острый запах бензина отравлял человеческий организм, и люди в лодке поочередно стали погружаться в бесчувственное состояние. Оно напоминало тот неестественный мертвый сон, в котором лежат на операционном столе под парами эфира или хлороформа.
И так же, как под наркозом, каждый человек засыпает по-своему — один легко и покорно, другой — мучительно борясь против насильно навязываемого ему она), так и люди в лодке перед тем, как окончательно потерять сознание, вели себя по-разному.
Одни медленно бродили по отсекам, натыкаясь на приборы и на товарищей, и бормотали оборванные, непонятные фразы. Другие, лежавшие терпеливо! и спокойно в ожидании всплытия, вдруг принимались плакать пьяным истошным плачем, ругаясь и бредя, пока отравленный воздух не гасил в них остатков сознания и не погружал в молчание. Кто-то внезапно поднялся и начал плясать. Может быть, в затуманенном его мозгу мелькнула догадка, что, этим он подымет дух у остальных, — и он плясал, подпевая себе и ухарски вскрикивая, пока не упал без сил рядом с бесчувственными телами, для которых он плясал.
Большинство краснофлотцев, стараясь сберечь силы до того времени, когда можно будет всплывать, лежали так, как приказал командир. — молча и недвижно. Но и они в конце концов были побеждены бесчувствием, неодолимо наплывавшим на мозг. И только глаза их, неподвижные, не выражающие уже мысли глаза были упрямо открыты, словно краснофлотцы хотели этим показать своему командиру, что до последнего проблеска сознания они пытались держаться и что они ждут только глотка свежего воздуха, чтобы встать по своим боевым местам.
Но дать им этот глоток командир не мог.
Всплывать, когда над бухтой был день, означало подставить лодку под снаряды тяжелых батарей, под бомбы самолетов, непрерывно сменяющих друг друга в воздухе. Нужно было лежать на грунте и ждать темноты. Нужно было бороться с этим одуряющим запахом, погрузившим в бесчувствие всех людей в лодке, кроме него. Он должен был держаться и сохранять сознание, чтобы иметь возможность всплыть и спасти лодку и людей.
Но держаться было трудно. Все чаще и чаще он переходил в бредовое состояние и уже несколько раз ясно видел на) часах двадцать один час — время, когда можно будет всплывать. Глоток свежего воздуха, только один глоток — и он продержался бы и эти три часа. Он завидовал тем, кому привез бензин, мины и патроны: они дрались и умирали на воздухе. Даже падая с пулей в груди, они успевали вдохнуть в себя свежий, чистый воздух, и, вероятно, это было блаженством. Стоило только повернуть маховичок продувания балласта, отдраить люк, вздохнуть один раз — один только раз! — и потом снова лечь на грунт хоть на сутки… Пальцы его уже сжимали маховичок, но он нашел в себе силы снять с него руки и отойти от трюмного поста;.
Он сделал два шага и упал, всей силой воли и мысли сопротивляясь надвигающейся зловещей пустоте. Он не имел права терять, сознание. Тогда лодка и все люди в ней погибнут:
Он лежал в центральном посту у клапанов продувания, скрипя зубами, глухо рыча и мотая головой, словно этим можно было выветрить из нее проклятый, вялый дурман. Он кусал себе руки, чтобы боль привела его в чувство. Он бился, как тонущий I человек, но сонная пустота затягивала в себя, как медленный, сильный омут.
Потом он почувствовал, что его приподымают, и сквозь дымные и радужные облака увидел лицо второго во всей лодке человека, кто, кроме него, мог еще думать и действовать. Это был старшина группы трюмных:
— Товарищ капитан-лейтенант, попейте-ка, — сказал тот, прикладывая к его губам кружку.
Он глотнул. Вода была теплая, и его замутило.
— Пейте, пейте, товарищ командир, — настойчиво повторил старшина: — Может, сорвет. Тогда полегчает, вот увидаете…
Капитан-лейтенант залпом выпил кружку, другую. Тотчас его замутило больше, и яростный припадок рвоты потряс его тело. Он отлежался. Голове действительно стало легче.
— Крепкий ты, старшина, — сказал он, найдя в себе силы улыбнуться.
— Держусь пока, — сказал тот, но капитан-лейтенант увидел, что лицо его было совершенно зеленым и что глаза блестят неестественным блеском.
Командир попытался встать, но во всем теле была страшная слабость, и старшина помог ему сесть.
— А я думал, вам полегчает, — сказал он сожалеюще. — Конечно, кому как. Мне вот помогает: потравлю — и легче…
Командир с трудом раскрыл глаза.
— Не выдержать (мне, старшина. Свалюсь, — сказал он, чувствуя, что сказать это трудно и стыдно, но сказать надо, чтобы тот, кто останется на ногах один, знал, что командира в лодке больше нет.
И старшина как будто упадал его чувство.
— Что ж мудреного, вы же в походе две ночи не спали, — сказал он уважительно. — Я и то на вас удивляюсь.
Он помолчал и добавил:
— Вам бы, товарищ командир, поспать сейчас. Часа три отдохните, а к темноте я вас разбужу… А то вам и лодки потом не поднять будет.
Командир и так уже почти спал, сидя на разножке. Борясь со сном, он думал и. взвешивал. Он отлично понимал, что если он немедленно же не отдохнет, он погубит и лодку и люд(ей. Он с усилием поднял голову.
— Товарищ старшина первой статьи, — сказал он таким тоном, что старшина невольно выпрямился и стал смирно, — вступайте во временное командование лодкой. Я и точно не в себе. Лягу. Следите за людьми. Может, кто очнется, полезет люк отдраивать… или продувать примется… не допускать.
Он помолчал и добавил:
— И меня не допускайте к клапанам до двадцати одного часа. Может, и меня к ним тоже потянет, понятно?
— Понятно, товарищ капитан-лейтенант, — сказал старшина.
Командир снял с руки часы.
— Возьмите. Чтобы все время при вас были, мало ли что… Меня разбудить в двадцать один час, понятно?
— Понятно, — повторил старшина, надевая на руку часы.
Он помог командиру встать на ноги и дойти до каюты.
Очевидно, тот уже терял сознание, потому что повис на его руке и говорил, как в бреду:
— Держись, старшина… Выдержи… Лодку тебе отдаю… людей отдаю… На часы смотри… Выдержи, старшина…
Старшина уложил его в койку и пошел по отсекам.
2
Он шел медленно и осторожно, стараясь не делать лишних движений, потому что и у него от них кружилась голова. Он шел между бесчувственных тел, поправляя руки и ноги, свесившиеся с коек, с торпедных аппаратов, с дизелей. Порой он останавливался возле спящего или потерявшего сознание краснофлотца, оценивая его: может, если привести в чувство, пригодится командиру при всплытии? Он пробовал расшевелить тех, кто казался ему крепче и выносливее других. Из этого ничего не получилось. Только трое на минуту пришли в себя, но снова впали в бесчувственность. Однако он их приметил. Это были нужные при всплытии люди: электрик, моторист и еще один трюмный.
Трижды за первые два часа ему пришлось прибегать к своему способу облегчения. Но в желудке ничего не осталось, и рвота стала мучительной. По третьему разу он почувствовал, что его валит непобедимое стремление заснуть. Чтобы отвлечься он опять пошел по отсекам, пошатываясь. Когда он проходил мимо командира, он подумал, не разбудить ли его, потому что сам он мог неожиданно, для себя заснуть. Он остановился перед командиром. Тот по-прежнему продолжал бредить:
— Двадцать один час… Боевая задача… Держись, старшина…
— Спите, товарищ командир, все нормально идет, — ответил он, но, видимо, командир его не слышал, потому что повторял однотонно и негромко:
— Держись, старшина… Держись, старшина…
Старшина смотрел на него, взволнованный этим бредом, в котором командир и без сознания продолжал верить тему, кому он поручил свой отдых, нужный для спасения лодки. Ему стало стыдно за свою слабость. Он пересилил себя и пошел в центральный пост.
Но там, оставшись опять один, он снова почувствовал, что должен забыться хоть на минутку. Голова сама, падала на грудь, и он боялся, что заснет незаметно для самого себя. Тогда он пошел на хитрость: он прислонился и двери, взялся левой рукой за верхнюю задрайку и привалился головой к запястью с тем расчетом, что если он случайно заснет, то пальцы разожмутся и голова неминуемо стукнется о задрайку, что несомненно заставит его опомниться.
Какое-то время он сидел в забытьи, слушая громкий стук в висках. Потом этот стук перешел в ровное, убаюкивающее постукивание, равномерное и не очень торопливое. Это тикали у самого уха командирские часы на руке. Они тикали и как будто повторяли два слова: «Дер-жись, стар-шина… Дер-жись, стар-шина…» Он понял, что засыпает, и тут же хитро подумал, что пальцы обязательно разожмутся, как только он уснет, и что пока можно сидеть спокойно, отдаваясь этому блаженному забытью. Но часы тикали надоедливо, надоедливо звучали слова: «Держись, старшина… Держись, старшина…» И вдруг он вспомнил, что они значат…
Он резко поднял голову и хотел сиять руку с задрайки. Но пальцы так вцепились в задрайку непроизвольной цепкой судорогой, что он испугался. Их пришлось разжать другой рукой.
Ему стало ясно, что нельзя итти ни на какие сделки с самим собой: несмотря на свой хитрый план, он, мог сейчас заснуть, как и все другие, и погубить лодку. Чтобы встряхнуться, он запел, громко и нескладно. Он никогда не пел раньше, стесняясь своего голоса, но сейчас его никто не слышал. Он пел дико и фальшиво, перевирая слова, но песня эта его несколько рассеяла. Вдруг он замолчал: он подумал, что наверху, может быть, подслушивают вражеские гидрофоны. Потом, с трудом вспомнил, что никаких гидрофонов нет — лодка лежит в своей бухте.
Время от времени в лодку доносились глухие взрывы. Наверное, фашисты бомбили наши корабли. Он вспомнил, как перед погружением, когда, сдав груз и бензин, лодка отходила от пристани, в небе загудело неисчислимое количество самолетов, и светлые столбы воды встали на нежном небе рассвета, и один из них, опав, обнаружил за собой миноносец. И снова с потрясающей ясностью он увидел, как корма миноносца поднялась над водой и как одно орудие на ней продолжало бить по самолетам, пока вода не заплеснула в его раскаленный ствол.
— Держись, старшина, — сказал он себе вслух. — Держись, старшина… Люда же держались…
Его охватила жалость к этим морякам, погибшим на его глазах, и внезапная ярость ожгла сердце. Он поднял к подволоку кулак и погрозил.
— Еще и лодки ждете, гансовы дети!.. Прождетесь!.. — сказал он тихо и отчетливо.
Ярость эта как будто освежила его и придала ему силы. Он пошел по отсекам, чтобы найти тех, кого он наметил, и перетащить их в центральный пост, чтобы при всплытии привести их в чувство. Он наклонился над электриком, когда услышал в конце отсека шаги. Перегнувшись и посмотрев вдоль лодки сквозь путаную сеть труб, штоков и приборов, он увидел, что кто-то, шатаясь, подошел клюку и взялся за задрайку. Старшина быстро прошел к нему.
— С ума сошел? Кто приказал?
Но тот, очевидно, его не понимал. Старшина попробовал его оттащить, но тот вцепился в задрайки с неожиданной силой, покачивая опущенной головой и повторяя:
— Обожди… на минутку только… обожди…
Он боролся со старшиной отчаянно и упорно, потом вдруг весь ослаб и упал возле люка.
Борьба эта утомила старшину, и он вынужден был отсидеться. Едва он отдохнул, как упавший снова встал и потянулся к задрайкам. На этот раз схватка была яростней, и, может быть, тот одолел бы старшину и впустил бы в лодку воду, если бы не пустяк: старшина, почувствовал, что рука с командирскими часами прижата к переборке, и ему почему-то померещилось, что если часы будут раздав! — лены в этой свалке, то он не сможет разбудить командира во-время. Он рывком дернулся из зажавших его цепких объятий, и бредивший снова потерял силы. Для верности старшина связал ему руки чьим-то полотенцем и, долго сидел возле, задыхаясь и вытирая пот. Когда он смог подняться на ноги, было уже десять минут десятого. Он прошел к командиру и тронул его за плечо.
— Товарищ капитан-лейтенант, время вышло, вставайте.
— Старшина, — тотчас же ответил тот, не открывая глаз. — Хорошо, старшина… Держись… Не забудь разбудить…
— Пора всплывать, товарищ командир, двадцать один час, — повторил старшина и поднял голову к подволоку, где за толстым слоем воды была спасительная тьма и воздух, чистый воздух, который сейчас хлынет в лодку.
Нетерпение охватило его.
— Вставайте, товарищ командир, можно всплывать, — повторил он, но командир очнуться не мог. Он подымал голову, ронял ее обратно! на койку и повторял:
— Держись, старшина… боевой приказ… двадцать один час…
Разбудить его было невозможно.
Когда старшина это понял, он просидел минут пять, соображая. Потом прошел к инженеру и попытался поднять его. Но тот был совершенно без сознания.
В отчаяньи старшина попробовал заставить очнуться кого-либо из тех, кого он наметил ранее. Но и они поднимали голову, как пьяные, отвечали-вздор, и толку от них не было:
Тогда он решился.
Он перенес командира в центральный пост и пристроил его под самым люком, чтобы воздух сразу хлынул на него: Потом подошел к клапанам и открыл продувание средней.
Все было в порядке. Знакомый удар сжатого воздуха хлопнул в трубах, вода в цистерне зажурчала, и глубомер пополз вверх. Лодка всплыла на ровном киле, и глубомер показал, что рубка уже вышла из воды. Теперь оставалось лишь отдраить люк и впустить в лодку воздух. Тогда, под свежей его струей, командир очнется и все пойдет нормально…
Во всей этой возне старшина очень устал. И, как бывает всегда в последних секундах ожидания, ему показалось, что больше он выдержать может. Свежий воздух стал нужен ему немедленно, тотчас же, иначе он мог упасть рядом с командиром, и тогда все кончится и для лодки и для людей. Сердце его билось бешеным стуком, голова кружилась. Он полз по скобтрапу вверх к люку медленно, как во сне, когда руки и ноги вязнут и когда никак нельзя дотянуться до того, что тебя спасет. Руки его и в самом деле ослабли, и, взявшись за штурвал люка, он едва смог его повернуть. Еще одно огромное усилие понадобилось, чтобы заставить крышку люка отделиться от прилипшей резиновой — прослойки.
Свежий, прохладный воздух ударил ему в лицо. Он пил его всей грудью, вытянув шею, смеясь и почта плача, но вдруг с ужасом почувствовал, что голова кружится все сильней. Он сумел еще понять, что люк надо успеть задраить, иначе лодку начнет заливать, если разведет волну, и не будет уже ни одного человека, кто это сможет заметить. Теряя- сознание, он повис всем телом на штурвале люка, крышка захлопнулась под тяжестью его тела, руки разжались, и он рухнул вниз.
3
Очнулся он оттого, что захлебнулся. Рывком он поднял голову, пытаясь понять, где он и что случилось.
— В лодке по-прежнему было светло и тихо. Он лежал рядом с командиром, лицом в небольшой луже, заливавшей палубу центрального поста. Командирские часы на руке показывали двадцать один час пятьдесят минут. Значит, он только что упал, и откуда появилась вода, было непонятно.
Он встал и с удивлением почувствовал, что силы его прибавились, — видимо, так помог воздух, которым ему только что удалось подышать. Но открывать вновь люк было опасно: раз в лодке была вода, значит рубка не вышла целиком над поверхностью бухты. Он в раздумье обвел глазами центральный пост, соображая, что же могло произойти. Тут на глаза ему попались часы на переборке у глубомера. Они показывали ноль часов и восемь минут.
Это значило, что командирские часы разбились и что он пролежал без сознания больше двух часов. Все это время лодка дрейфовала в бухте и с ней могло произойти что угодно, раз вода выступила из трюма на настил палубы.
Он пошел осматривать отсеки и понял, откуда появилась вода.
Тот, кого он связал полотенцем, сумел освободиться от него и все-таки отдраить носовой люк. Но, по счастью, он только ослабил задрайки. У него или не хватило сил открыть его, или вода, полившаяся в щель, привела его на момент в чувство и он понял, что делает что-то не то. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы вода, покрывавшая над люком верхнюю палубу лодки, всплывшей только рубкой, уже залила трюмы.
Поняв, что очнулся как раз во-время, старшина тотчас довернул задрайки носового люка, вернулся в центральный пост, пустил водоотливные помпы и только после этого решился открыть рубочный люк. Воздух снова ударил его по голове, как молотом, но на этот раз он сразу же перевесился через комингс люка и удержался на трапе. Скоро он пришел в себя и поднялся на- мостик.
Торжественно и величаво стояло над бухтой звездное чистое небо. Вспыхивавшее на горизонте кольцо орудийных залпов осеняло мужественный, израненный город огненным венцом славы. Шумели волны, разбиваясь о близкий берег. Свежий морской ветер бил в лицо, выдувая из легких ядовитые пары бензина.
Старшина стоял, наслаждаясь ветром, воздухом и возвращенной жизнью. Он стоял и дышал, он смотрел в звездное небо и слушал глухой рокот волн и залпов.
Но лодка напомнила ему о том, что по-прежнему он остается единственным человеком, от которого зависит ее судьба и судьба заключенных в ней беспомощных, одурманенных людей. Она приподнялась на волне и ударила носом о грунт. Тогда он перегнулся через обвес рубки, вгляделся во тьму и понял, что за эти два часа лодку поднесло к берегу и, очевидно, посадило носом на камни.
Опять следовало действовать, и действовать немедленно. Нужно было сняться с камней и уйти в море, пока еще темно и пока не появились над бухтой фашистские самолеты.
Он быстро спустился вниз, включил вентиляцию и с трудом вытащил командира на мостик. На воздухе тот очнулся, но так же, как недавно сам старшина, сидел на мостике, вдыхая свежий воздух и еще не понимая, где он и что надо делать. Старшина оставил его приходить в себя и вынес наверх еще одного человека, без которого лодка не могла дать ход, — электрика, одного из троих, намеченных им для всплытия.
Наконец они смогли действовать. Командир приказал продуть главный балласт, чтобы лодка, окончательно всплыв, снялась с камней. Электрик, еще пошатываясь, прошел в корму, к своей станции, старшина — к своему трюмному посту. Он открыл клапаны, и глубомер пополз вверх. Когда он показал ноль, старшина доложил наверх, что балласт продут, и командир дал телеграфом «полный назад», чтобы отвести лодку от камней. Моторы зажужжали, но лодка почему-то пошла вперед и вновь села на камни. Командир дал «стоп» и крикнул вниз старшине, чтобы он узнал, почему неверно дан ход.
Электрик, стоя у рубильников, с напряженным и сосредоточенным вниманием смотрел на телеграф, ожидая приказаний.
— Тебе какой ход был приказан? — спросил его старшина.
— Передний, — ответил он. — Полной мощностью оба вала.
— Ты что, не очнулся? Задний был дан! — сердито сказал старшина.
— Да я видел, это телеграф врет, — сказал электрик спокойно. — Как же командир мог задний давать? Сзади же у нас фашисты. Мы только вперед можем итти, в море.
Он сказал это с полным убеждением, и старшина понял, что тот все еще во власти бензинного бреда. Заменить электрика у станции было некем, а ждать, когда к нему вернется сознание полностью, было нельзя. Тогда старшина прошел на мостик и сказал капитан-лейтенанту, что у электрика в голове шарики вертятся еще не в ту сторону, но что хода давать можно: он сам будет стоять рядом с электриком и посматривать, чтобы тот больше не чудил.
Лодка вновь попыталась сняться. Ошибка- электрика — поставила ее в худшее положение: главный балласт был продут полностью, и уменьшить ее осадку было теперь уже нечем, а от рывка вперед она плотно засела в камнях. Время не терпело, рассвет приближался. Лодка рвалась назад, пока не разрядились аккумуляторы.
Но за это время воздух, гулявший внутри лодки, и вентиляция сделали свое дело. Краснофлотцы приходили в себя. Первыми очнулись те упорные подводники, которые потеряли сознание последними. За ними один за другим вставали остальные, и скоро во всех отсеках началось-движение и забила жизнь. Мотористы стали к дизелям, электрики спустились в трюм к аккумуляторам, готовя их к зарядке. Держась за (голову и шатаясь, прошел в центральный пост боцман. У колонки вертикального руля встал: рулевой. Что-то зашипело на камбузе, и впервые за долгие часы подводники вспомнили, что, кроме необходимости! дышать, человеку нужно еще и есть.
Среди этого множества людей, вернувших себе способность чувствовать, думать и действовать, совершенно затерялся тот, кто вернул им эту способность.
Сперва он что-то делал, помогал другим, но постепенно все больше и больше людей появлялось у механизмов, и он чувствовал, будто с него сваливается одна забота за другой. И когда наконец даже у трюмного поста появился краснофлотец (тот, кого Он когда-то — казалось, так: давно! — пытался разбудить) и официально, по уставу попросил разрешения стать на вахту к трюмному посту, старшина понял, что теперь можно поспать.
И он заснул у самых дизелей так крепко, что даже не слышал, как они загрохотали частыми взрывами. Лодка снова дала ход, на этот раз дизелями, и винты полными оборотами стащили ее с камней. Она развернулась и пошла к выходу из бухты. Дизели стучали и гремели, но это не могло разбудить старшину. Когда же лодка повернула и. ветер стал забивать через люк отработанные газы дизелей старшина проснулся. Он потянул носом, выругался и, не-в силах слышать запах, хоть в какой-нибудь мере напоминающий тот, который долгие шестнадцать часов валил его с ног, решительно вышел на мостик и попросил разрешения у командира остаться.
Тот узнал в темноте его голос и молча нашел его руку, Долго, без слов командир жал ее крепким пожатием, потом вдруг притянул старшину к себе и обнял. Они поцеловались мужским, строгим клятвенным поцелуем, связывающим военных людей до смерти или победы.
И долго они еще стояли молча, слушая, как гудит и рокочет ожившая лодка и подставляя лица свежему, вольному ветру. Черное море окружало лодку тьмой и вздыхающими волнами, сберегая ее от врагов.
Потом старшина смущенно сказал:
— Конечно, все хорошо получилось, товарищ капитан-лейтенант, только неприятность одна все же есть…
— Кончились неприятности, старшина, — сказал командир весело. — Кончились.
— Да уж не знаю… — ответил старшина и неловко протянул ему часы. — Часики ваши… надо думать, не починить… Стоят…
Батальон четверых
Этот бой начался для краснофлотца Михаила Негребы прыжком в темноту. Вернее — дружеским, но очень чувствительным толчком в спину., которым ему помогли вылететь из люка самолета, где он неловко застрял, задерживая других.
Он пролетел порядочный кусок темноты, пока не решился дернуть за кольцо: это был его первый прыжок, и он опасался повиснуть на хвосте самолета. Парашют послушно раскрылся, и если бы Негреба смог увидеть рядом своего дружка Королева, он подмигнул бы ему и сказал: «А все-таки вышло по-нашему!»
Две недели назад в Севастополе формировался отряд добровольцев-парашютистов. Ни Королев, ни Негреба не могли, понятно, упустить такого случая, и оба на вопрос, прыгали ли они раньше, гордо ответили: «Как же… в аэроклубе — семь прыжков». Можно было бы для верности сказать — двадцать, но тогда их сделали, бы инструкторами, что, несомненно, было бы неосторожностью: достаточно было и того, чтобы при первой подгонке парашютов обоим пришлось долго ворочать эти странные мешки (как бы критикуя укладку на основании своего опыта) и косить глазом на других, пока оба не присмотрелись, как же надо надевать парашют и подгонять лямки.
Однако все это обошлось, и теперь Негреба плыл в ночном небе, удивляясь его тишине. Сюда, в высоту орудийная стрельба едва доносилась, хотя огненное кольцо залпов поблескивало вокруг всей. Одессы, а с моря били корабли, поддерживая высадку десантного морского полка (с которым должны были соединиться парашютисты пройдя с тыла ему навстречу). В городе кровавым цветком: распускался большой высокий пожар. Там же, где должен был приземлиться Негреба, было совершенно темно.
Впрочем, вскоре и там он различил огоньки. Было похоже, будто смотришь с мачты на бак линкора, где множество людей торопливо докуривают папиросы, вспыхивая частыми затяжками. Это и была линия фронта, и сесть следовало на ней, в тылу у румын. Он потянул лямки, как его учили, и заскользил над боем вкось.
Видимо, он приземлился слишком далеко от боя, потому что добрый час полз в темноте, никого не встречая. Внезапно что-то схватило его за горло, и он с размаху ударил темноту кинжалом. Но это оказалось проволокой связи. Негреба вынул из мешка кусачки и, продолжая ползти вдоль проволоки, перекусил ее в нескольких местах. Тут ему пришло в голову, что проволока может привести к какой-либо румынской части, где можно устроить порядочный аврал огнем из автомата.
Через час проволока привела в бурьян. Всмотревшись в рассветную мглу, Негреба увидел трех коней и поодаль — часового. Кони, почуяв человека, захрапели, и пришлось долго выжидать, пока они привыкнут. За это время Негреба надумал, что можно снять часового, вскочить на коня и помчаться по деревне, постреливая из автомата. Он медленно пополз к часовому, держа в левой руке автомат, в правой кинжал: Именно эта правая рука: провалилась на ползке в непонятную яму и тотчас уперлась во что-то Мягкое. Его кинуло в жар, и он замер на месте. Откуда-то из-под земли шли громкие голоса.
Наконец он понял: мягкое и упругое препятствие оказалось одеялом, закрывавшим отдушину погреба. Там слышался чужой говор, звенели шпоры, стучала пишущая машинка. Негреба осторожно прорезал кинжалом дырку а заглянул в погреб. Очевидно, это был штаб батальона, может быть — полка. Румынские офицеры сгрудились у стола за картой, по которой им что-то раздраженно показывал черноусый и давно не бритый пожилой офицер. В углу на корточках сидели телефонисты. Они подозвали одного из офицеров, и тог начал кричать в трубку. Негреба под этот шум вынул из сумки гранату. Одной ему показалось мало. Когда в подвале снова начался громкий говор, он достал вторую, потом третью и связал их вместе. Он собрался было кинуть их в отдушину, но тут зацокали копыта и к погребу подскакали еще двое. Негреба дал им войти и тотчас же похвалил себя за это: все офицеры в подвале вытянулись и встали смирно — очевидно, один из вошедших был большим начальником.
Негреба швырнул гранату в отдушину и кубарем покатился в бурьян. Часовой крикнул, но в подвале грянуло и рвануло, и часовой исчез неизвестно куда.
Уже рассвело, когда Негреба вышел в тыл переднего края румынских окопов. Он залег в копне и стал выжидать. Промчался одинокий всадник. Он скакал, во весь дух, оглядываясь и пригибая голову к шее коня. Негреба прицелился, но где-то близко простучал автомат, и всадник свалился. Негреба обрадовался: видно, рядом прятался еще один наш парашютист. Снова простучала очередь, и теперь Негреба понял, что автомат бьет из кустов неподалеку по румынам, которых отсюда не было видно.
Он решил переползти по кукурузе к товарищу (все же вдвоем лучше), но тут завыли мины и стали рваться у кустов одна за другой, и автомат замолк. Тогда из ложбинки показались десять-двенадцать румын. Двое тащили миномет, остальные беспрерывно стреляли по кустам, где сидел неизвестный Негребе товарищ. Под этот шум Негреба тоже начал стрелять. Несколько румын упало, остальные кинулись в кукурузу, бросив миномет. Все снова стихло, только издали доносилась стрельба.
Он пополз к кустам и нашел там Леонтьева, одного яз моряков их парашютного отряда. Тот лежал ничком, раненный осколками мины. Негреба повернул его. Леонтьев открыл глаза, но тут же закрыл их и негромко сказал:
— Миша… пристрели… не выбраться…
Негреба взглянул в его белое восковое лицо «и вдруг отчетливо понял, что тут, в этих кустах, он найдет и свой собственный конец: пронести Леонтьева через фронт один он не сможет, оставить его здесь или выполнить его просьбу — тоже. Все в нем похолодело и заныло, и он ругнул себя, — нужно ему было лезть сюда!.. Шел бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы… Но хотя жалость к себе и своей жизни, с которой приходится расставаться из-за другого, и сжимала его сердце, он прилег к Леонтьеву и сказал так весело, как сумел:
— Это, друг, всегда поспеется… Сперва перевяжу… Отсидимся: двое — не один…
На перевязку ушли оба пакета — и леонтьевокий и свой: После перевязки Леонтьев почувствовал себя лучше. Негреба устроил его поудобнее, всунул ему в руки автомат и сказал:
— Ты у меня за кинжальную батарею будешь. Лежи и нажимай спуск, только и делов. Отобьемся. Слышь, наши близко.
В самом деле, впереди, за румынскими окопами, шла яростная стрельба. Видимо, десантный полк атаковал румын. Но от этого было не легче: скоро румыны, выбитые из окопов, хлынут назад, — и кустик с двумя моряками окажется как раз на пути их отступления. Надо было приготовиться к этому. Негреба выложил перед собой гранаты, запасной диск к автомату и повернулся к Леонтьеву:
— Гранаты у тебя есть?
— Есть, — отвечал тот, примеряясь, сможет ли он хоть немного водить перед собой автоматом. — Три штуки.
Гранаты возьми, а диск мой не тронь. Сам стрелять буду…
Наложим их, Миша, пока дойдут?
— Факт — наложим, — сказал Негреба, и они замолчали.
Бой приближался. Стрельба доносилась все ближе: Солнце уже грело порядочно, и теплый, горький запах трав подымался от земли. Ждать последнего боя и с ним смерти было трудно. Сбоку, метрах в трехстах, виднелась глубокая балка, где можно было бы отлично держаться и бить румын с фланга. Но перенести туда Леонтьева он не мог.
Он заставил себя смотреть прямо на ложбинку, откуда должны были появиться враги, И уже хотелось, чтобы эта-было скорее: ему, показалось, что нервов у него нехватит и что, если это ожидание еще продлится, он оставит Леонтьева в кустах и один поползет к балке, в сторону от пути отходящих батальонов.
— Наши-сзади, — сказал вдруг Леонтьев. — Слышишь?
Негреба и сам слышал сзади четкие недолгие очереди, но боялся этому верить. Теперь он приподнял голову. Сзади, и точно, время от времени, трещали автоматы. Леонтьев зашевелился и закричал слабым, хриплым голосом:
— Моряки!.. Сюда!..
Он попытался подняться, но сил у него не хватило. Негреба высунул голову из куста и в желтой кукурузе увидел неподалеку черную бескозырку, левее — вторую. Он встал во весь рост и замахал рукой:
— Моряки!.. Перепелица, чертяка, право на борт, свои!
Два парашютиста выскочили из кукурузы и перебежали к кустам. Это были Перепелица и Котиков. Они прилегли в куст, и Негреба! наскоро сообщил им обстановку и свой план: перебежать в балку и бить отходящих румын с фланга.
— Тут нам не позиция, тут нас, как курей, задушат, — сказал он. — Хватайте гранаты и тащите Леонтьева, я прикрывать буду.
Котиков и Перепелица подняли раненого. Тот стиснул зубы и закрыл глаза: каждый толчок на бегу отдавался острой болью. До балки оставалось еще метров восемьдесят, когда из ложбинки затрещали выстрелы и выскочило больше десятка румын. Негреба ответил огнем из автомата, но и Котикову с Перепелицей пришлось положить Леонтьева и вступить в бой. Часть румын повалили пулями, часть гранатой, которую кинул Негреба, выдвинувшись к ложбинке. Побежали дальше, но снова пришлось залечь» уничтожить еще девять солдат, которые, видимо, предпочли раньше других податься в тыл. Отбившись от них, моряки, наконец, скатились в балку и там нашли еще одного парашютиста, Литовченко. Он лежал, хозяйственно обложившись гранатами и выставив из травы черное дуло автомата. Увидев краснофлотцев, он возбужденно сказал:
— А я уж думал — мне труба. Лежу один, как перст, а их сейчас попрет — только считай… Ну, теперь нас — сила! Продержимся.
Леонтьев был без сознания. Негреба осмотрел повязки— они были в крови. Тогда он снял с себя форменку, разорвал ее и сделал новую перевязку. Перепелица тем временем достал бисквиты и шоколад.
— Позавтракаем пока, что ли, — сказал он. И остальные тоже вынули свои пайки. Но сухие бисквиты не лезли в горло, а шоколад забивал рот, и проглотить его было трудно. Во рту пересохло от бега, солнце уже пекло, и каждый из них дорого дал бы за глоток воды. Но все, оказывается, опорожнили свои фляги еще ночью. Только у Литовченко случайно оказалось немного воды, и он протянул фляжку Нерребе:
— Дай ему. Горит человек.
Негреба осторожно влил воду в рот Леонтьева. Тот глотнул и открыл глаза.
— Держись, Леонтьич, — сказал Негреба. — Гляди, нас теперь сколько! Факт, пробьемся!
Леонтьев не ответил и снова закрыл глаза. Перепелица вдруг выругался.
— Не то мы сделали. Нам бы не завтракать, а миномет стащить. Пропадает хозяйство. И мины рядом лежат…
Все посмотрели на брошенный румынами миномет, и Литовченко тотчас поднялся:
— Давай со мной кто, притащим!
— Лежи уж, — сердито сказал Перепелица. — Поперли руманешти, вляди!
И точно, из ложбинки прямо на те кусты, где недавно еще были моряки, выбежала первая толпа отступающих румын. Впереди всех и быстрее всех бежало несколько немецких автоматчиков. Они добежали до кустов, залегли и открыли огонь по отступающим румынам.
— Вот это тактика! — удивился Негреба. — Что ж, морячки, поможем фрицам?.. Только, чур, не по-ихнему: прицельно бить, не очередями.
Он засучил рукава тельняшки и выстрелил первым в офицера, размахивавшего пистолетом. Из балки во фланг отступающим ударили пули моряков.
Можно было и не стрелять. Румыны не заметили бы этой горсточки, спрятанной в балке. Но тогда они прошли бы к себе в тыл без потерь. И моряки стреляли, открывая огнем свое присутствие здесь, стреляли, потому что каждый их выстрел уничтожал еще одного врага, стреляли, помогая атаке моряков десантного полка.
Под этим огнем офицерам не удалось ни остановить, ни собрать выбежавшие из окопов роты. Тогда немецкие автоматчики перенесли огонь на моряков, и кто-то из офицеров собрал десятка два солдат и повел их на балку. Это был уже настоящий бой. Моряки отбили две атаки. Наконец, волна румын прошла, оставив в кукурузе и у балки неподвижные тела.
Перепелица оглянул поле боя.
— Порядком наложили, — оказал он удовлетворенно. — А как у нас с патронами, ребята?
С патронами было плохо. На автоматчиков и на отражение двух атак моряки израсходовали почти весь запас. Это было тем хуже, что теперь должны были побежать румыны соседнего участка, и, по всем расчетам, они неминуемо должны были наскочить на балку.
Негреба предложил повторить маневр и перебраться в соседнюю, которая опять окажется с фланга отступающих, но, посмотрев на Леонтьева, сам отказался от этой мысли. Моряки помолчали, обдумывая. Потом Негреба сказал:
— Что же… Видно, тут надо держаться. Патроны беречь на прорыв. Отбиваться будем только гранатами. По тем, кто вплотную набежит.
Они замолчали, выжидая, когда появятся враги. Потом Перепелица достал из мешка офицерский пистолет и посмотрел обойму.
— Шесть патронов, — сказал он. — А нас пятеро. Хватит. Разыграем, что ли, кому? Понятно?
— Понятно, — сказал Литовченко.
— Ясно, — подтвердил Котиков.
— Точно, — добавил Негреба.
Он сорвал четыре травинки, откусил одну, подровнял концы, зажал в кулак и протянул Литовченко.
— Откуда у тебя ихний пистолет? — спросил тот Перепелицу, вытягивая травинку, и закончил облегченно: — Не мне, длинная.
— Пристукнем ночью офицера в кукурузе, — ответил Перепелица. — Вещь не тяжелая, а пригодится… Тащи ты, Котиков.
— Может, лучше свои патроны оставить? — раздумчиво сказал тот, осторожно таща травинку. — Погано ихними-то пулями…
Его травинка тоже оказалась длинной.
— Коли ранят, с автоматом не управишься, а этим и лежа всех достанешь, — сказал Перепелица деловито и потянул травинку сам. — Тоже длинная. Выходит, Миша, тебе… Только ты не торопись. Когда вовсе конец будет, понятно?
— Ясно, — сказал Негреба и положил пистолет под руку.
— Кажись, пошли, — негромко сказал Котиков. — Ну, моряки… Коли ничего не будет, свидимся.
И моряки замолчали. Только изредка стонал Леонтьев; Перепелица перекинул Негребе бушлат:
— Прикройся. Лежишь, что зебра полосатая. За версту видать.
— Все одно видать, — ответил Негреба. — Лучше уж так. Хоть узнают, что моряки.
И они снова замолчали, вглядываясь в лавину румын, покатившуюся к балке.
Румыны выбегали из окопов, падали на землю, отстреливаясь от кого-то, кто наседал на них, снова вскакивали, перебегая метров на пять-шесть. Они двигались плотно цепью, почти рядом друг с другом, и с каждой перебежкой все ближе и ближе были к горсточке моряков. Около сотни их побежало прямо на балку, видимо, чуя, что тут они смогут укрыться от огня преследующих их моряков десантного полка. Они еще раз залегли, отстреливаясь, и потом, как по команде, вскочили и ринулись к балке.
Уже видны были их лица, небритые, вспотевшие, искаженные страхом. Они были так близко, что тяжелый запах пота, казалось, ударял в нос. Они бежали к балке молча и дружно, упрямо и скученно, как испуганное стадо, которое все сметает со своего пути.
И тогда на их пути встал Негреба, встал во весь рост, — крепкий и ладный моряк в полосатой тельняшке, с автоматом в левой руке и с поднятой гранатой в правой.
— Эй, руманешти, огребай матросский подарок! — крикнул он в (исступлении и швырнул гранату. Вслед за ней из балки вылетели еще три. Он тотчас упал, шаря в траве вторую гранату.
Четыре взрыва ахнули в потном стаде. Румыны попадали. Другие отшатнулись и, петляя, как зайцы, кинулись по сторонам. Моряки бросили еще четыре гранаты. Проход расширился. Перепелица крикнул:
— Мишка, а ведь прорвемся! Хватай Леонтьева!
Моряки мгновенно поняли его, и каждый свободной рукой подхватил раненого. Они ринулись в образовавшийся проход между румынами, и Леонтьев от боли пришел в себя и снова стиснул зубы, чтобы вытерпеть этот стремительный яростный бег. Они проскочили уже самую гущу, когда он увидел, что румыны кинулись за ними. Он разжал зубы и глянул на Перепелицу:
— Бросьте меня… Пробивайтесь…
Перепелица выругал его на бегу, и он замолчал.
Румыны подскочили уже близко. Моряков было всего пятеро, а их сотни. Они, видимо, поняли это и решили взять моряков живьем. Рослый солдат прыгнул на Перепелицу, пытаясь ударить его штыком. Котиков выпустил ногу Леонтьева и выстрелил румыну в затылок, но другой кинулся на него. Перепелица подхватил румынскую винтовку и сильным ударом штыка повалил солдата, за ним второго и третьего-. Потом он бросил винтовку, сорвал с пояса гранату и далеко кинул ее в подбегавших солдат. Те отшатнулись, но граната взорвалась среди них. Оставшиеся в живых залегли и открыли огонь. Пули засвистели вокруг моряков. Перепелица упал и крикнул:
— Тащите вдвоем, мы с Котиковым задержим)!
Моряки тоже упали в траву и стали отстреливаться последними патронами. Негреба и Литовченко тащили ползком Леонтьева, а остальные двое, одерживая румын редким, но точным огнем, ползли за ними. Наконец румыны отстали, спеша уйти в тыл, а моряки неожиданно для себя провалились уз опустевший румынский окоп.
Тут они опомнились и осмотрелись. У Котикова пулей была пробита щека, у Перепелицы две пули сидели в ляжке, Литовченко тоже обнаружил, что он ранен. На перевязки ушли все форменки.
Румыны были уже далеко за кустами, и впереди, очевидно, были только свои. Моряки устроили Леонтьева в окопе поудобнее, принесли ему воды, обмыли и напоили, положили возле него румынский автомат и гранаты, найденные в окопе. Он смотрел на все эти заботы, слабо улыбаясь, и глаза его, полные слез, лучше всяких слов говорили о том, что было в его душе. Взгляд этот, вероятно, смутил Негребу, потому что он встал и сказал с излишней деловитостью:
— Полежи тут, больше трясти не будем. Сейчас носилки пришлем… Идем своих искать!
И они встали в рост — четыре человека в полосатых тельняшках, в черных бескозырках, окровавленные, перевязанные обрывками форменок, но сильные и готовые снова пробиваться сквозь сотни врагов. И, видимо, сами они поразились своей живучей силище, и Перепелица сказал:
— Один моряк — моряк, два моряка — взвод, три моряка— рота… Сколько нас? Четверо?.. Батальон, слушай мою команду! Шагом… арш!
Морская душа
Морская душа
Шутливое и ласковое это прозвище краснофлотской тельняшки, давно бытовавшее на флоте, приобрело в великой отечественной войне новый смысл, глубокий и героический.
В пыльных одесских окопах, в сосновом высоком лесу под Ленинградом, в снегах на подступах к Москве, в зарослях севастопольского горного дубняка — везде видел я сквозь распахнутый как бы случайно ворот защитной шинели ватника, полушубка или гимнастерки родные синебелые полоски «морской души». Носить ее под любой формой, в которую оденет моряка война, стало неписанным законом, традицией. И как всякая традиция, рожденная в боях, «морская душа», полосатая тельняшка, означает многое.
Так уж повелось с времен гражданской войны, с орлиного племени матросов революции: когда на фронте нарастает угроза, Красный флот шлет на сушу всех, кого может, и моряки встречают врага в самых тяжелых местах.
Их узнают на фронте по этим сине-белым полоскам, прикрывающим широкую грудь, где гневом и ненавистью горит гордая за флот душа моряка — веселая и отважная краснофлотская душа, готовая к отчаянному порой поступку, незнакомая с паникой и унынием, честная и верная душа большевика, комсомольца, преданного сына родины.
Морская душа — это решительность, находчивость, упрямая отвага и непоколебимая стойкость. Это веселая удаль, презрение к смерти, давняя матросская ярость, лютая ненависть к врагу. Морская душа — это нелицемерная боевая дружба, готовность спасти раненого, поддержать в бою товарища, грудью защитить командира и комиссара.
Морская душа — это высокое самолюбие людей, стремящихся везде быть первыми и лучшими. Это удивительное обаяние веселого, уверенного в себе и удачливого человека, немножко любующегося собой, немножко пристрастного к эффектности, к блеску, к красному словцу. Ничего плохого в этом «немножко» нет. В этой приподнятости, в слегка нарочитом блеске — одна причина, хорошая и простая: гордость за свою ленточку, за имя своего корабля, гордость за слово «краснофлотец», овеянное славой легендарных подвигов матросов гражданской войны.
Морская душа — это огромная любовь к жизни. Трус не любит жизни: он только боится ее потерять. Трус не борется за свою жизнь: он только охраняет ее. Трус всегда пассивен, — именно отсутствие поступка и губит его жалкую, никому не нужную жизнь. Отважный любит жизнь страстно и действенно. Он борется за нее со всем мужеством, стойкостью и выдумкой человека, который отлично понимает., что лучший способ остаться в бою живым — это быть смелее, хитрее и быстрее врага.
Морская душа — это стремление к победе. Сила моряков неудержима, настойчива, целеустремленна. Поэтому-то враг и зовет моряков на суше «черной тучей», «черными дьяволами».
Если они идут в атаку, то с тем, чтобы опрокинуть врага во что бы то ни стало.
Если они в обороне, они держатся до последнего, изумляя врага немыслимой, непонятной ему стойкостью.
И когда моряки гибнут в бою, они гибнут так, что врагу становится страшно: моряк захватывает с собой в смерть столько врагов, сколько он видит перед собой.
В ней — в отважной, мужественной и гордой морской душе — один из источников победы.
Федя с наганом
В раскаленные дни штурма Севастополя из города приходили на фронт подкрепления. Краснофлотцы из порта и базы, юные добровольцы и пожилые рабочие, выздоровевшие (или сделавшие вид, что выздоровели) раненые — все, кто мог драться, вскакивали на грузовики и, промчавшись по горной дороге под тяжелыми разрывами снарядов, прыгали в окопы.
В тот день в Третьем морском полку потеряли счет немецким атакам. После пятой или шестой моряки сами кинулись в контратаку на высоту, откуда немцы били по полку фланговым огнем. В одной из траншей около брошенного немецкого пулемета краснофлотцы нашли тело советского бойца.
Он был в каске, в защитной гимнастерке. Но когда в поисках документов ворот ее расстегнули, под ним увидели знакомые сине-белые полосы флотской тельняшки. И молча сняли моряки свои бескозырки, обводя глазами место неравного боя.
Кругом валялись трупы фашистов — весь пулеметный расчет и те, кто, видимо, подбежал на выручку. В пруди унтер-офицера торчал немецкий штык. Откинутой рукой погибший моряк сжимал немецкую гранату, и вражеский автомат, все пули которого были выпущены в фашистов, лежал рядом. За пояс был заткнут пустой наган, аккуратно прикрепленный к кобуре ремешком.
И тогда кто-то негромко сказал:
— Это, верно, тот… Федя с наганом…
В Третьем полку он появился перед самой контратакой, и спутники запомнили его именно по этому нагану, вызвавшему в машине множество шуток. Прямо с грузовика он бросился в бой, догоняя моряков Третьего полка. В первые минуты его видели впереди: размахивая своим наганом, он что-то кричал, и молодое его лицо горело яростным восторгом атаки. Кто-то заметил потом, что в руках его появилась немецкая винтовка и что, наклонив ее штык вперед, он ринулся один, в рост, к пулеметному гнезду.
Теперь, найдя его здесь, среди десятка убитых им фашистов возле отбитого им пулемета, краснофлотцы поняли, что сделал в бою безвестный черноморский моряк, который так и вошел в историю обороны Севастополя под именем «Феди с наганом».
Фамилии его не узнали: документы были залиты кровью, лицо изуродовано выстрелом в упор.
О нем знали одно: он был моряком. Это рассказали сине-белые полоски тельняшки, под которыми кипела в бою смелая и гневная морская душа, пока ярость и отвага не выплеснули ее из крепкого тела.
Неотправленная радиограмма
Маленький катер, «морской охотник», попал в беду.
Он был послан для ночной операции к берегу, захваченному врагом. В пути его захватил шторм. Катер пробился сквозь снег, пургу и седые валы, вздыбленные жестоким ветром. Он обледенел — и сколол лед. Он набрал внутрь воды — и откачал ее. Но задание он выполнил.
Когда он возвращался, ветер переменился и снова дул навстречу. Шторм заставил израсходовать лишнее горючее, а потом волна залилась в цистерну с бензином. Катер понесло к берегу, занятому врагом.
Дали радио с просьбой помочь — и замолчали, потому что мотор радиостанции работать на смеси бензина с водой отказался.
Катер умирал, как человек. Сперва у него отнялись ноги. Потом он онемел. Но слух его еще продолжал работать. И он слышал в эфире свои позывные, он принимал тревожные радио, где запрашивали его точное место, потому что без точного места найти маленький катер в большом Черном море трудно.
Двое суток моряки слышали эти поиски, но ответить не могли.
На катере между тем шла жизнь. Командир его, старший лейтенант Попов, прежде всего разрешил проблему питания. Ветер мог перемениться — и тогда катеру предстояло дрейфовать на юг неделю, может, две. Попов приказал давать краснофлотцам сколько угодно сельдей и хлеба и не ограничивать потребление пресной воды, которой было много. Расчет его оправдался. Когда к вечеру он спрашивал, не пора ли варить обед, краснофлотцы, поглаживая налитые водой желудки, говорили, что аппетита еще нет и консервы можно пока поберечь.
В кубрике, как на вахте, постоянно стояли по-двое краснофлотцы, широко расставив ноги и держа в руках ведро. Они старались держать его так, чтобы оно не болталось на качке. Еще один расчет командира оправдался: бензин в ведре, выключенном из качки, отделялся от воды. Его осторожно сливали, вновь наполняли ведро смесью и вновь держали его на руках, дожидаясь, пока бензин отстоится. Так к концу вторых суток получили, наконец, порцию горючего, достаточную для передачи одной короткой радиограммы.
Она была заготовлена Поповым в двух вариантах. Первый был одобрен комсомольским и партийным собранием катера и заготовлен на случай, если радио заработает в видимости вражеского берега:
«…числа… часов… минут… Вражеский берег виден в… милях тчк С каждой минутой он приближается тчк Выхода нет тчк Будем драться до последнего патрона в последний момент взорвемся тчк Умрем живыми врагу не сдадимся тчк Прощайте товарищи привет родине товарищу Сталину тчк Командир военком команда катер 044».
Но ветер изменился, и катер стало относить от берега. Поэтому отправили второй вариант: свое точное место и сообщение, что радио работает последний раз и что катер надеется на помощь.
Она пришла своевременно.
Матросский майор
В тяжелых осенних боях под Перекопом небольшой красноармейской части пришлось влиться в соседний отряд морской пехоты. Командиром этого сводного отряда был немолодой уже майор, артиллерист береговой обороны. Краснофлотцы любовно прозвали его «матросским майором». Он сразу расположил их к себе отвагой, спокойствием, веселым своим нравом и упрямой волей к победе.
«Матросский майор» перед атакой обычно поворачивал морскую свою фуражку золотой эмблемой к затылку. Пояснял он это так:
— Две задачи. Первая — фашистские снайперы эмблемы не увидят, стало быть, не будут специально в меня целить. Вторая — войско мое, надо понимать, у меня сзади, я же впереди всех в атаку хожу. Вот оно и спокойно — эмблема сияет и показывает: тут, мол, командир, впереди… стало быть, все в порядке…
И он деловито добавлял:
— Вот при отходе, ежели то случится, командир должен фуражку нормально носить. Бойцы назад обернутся — тут эмблема им и доложит: все, мот, в порядке, командир последним отходит…
Но однажды «матросский майор» был вынужден сам изменить этому своему правилу.
Сводный отряд попал в окружение. Кольцо врагов сжималось, оттесняя его к берегу. К ночи моряки я красноармейцы заняли последнюю позицию у самого моря, установили оборону и решили держаться здесь до конца.
К какому именно месту берега вышел отряд в многодневных боях на отходе — сказать было трудно. На карте путалось кружево заливчиков, лиманов, озер, бухт, на местности были одинаковые камыши, кусты да вода. Было ясно одно: впереди и с боков надвигался враг, сзади лежало море. Отступать было некуда.
Конца ожидали утром, когда немцы подтянут силы для уничтожения «черных дьяволов», попавшихся наконец в мешок. Пока все было тихо, стрельба прекратилась. В ночи шумел ветер, светила луна. Черное море поблескивало сквозь камыши и кусты широкой и вольной дорогой к Севастополю, бесполезной для отряда.
Просторная даль тянула к себе взоры, и бойцы отряда молча посматривали на море. Но если красноармейцы с горечью и досадой отворачивались от него, негодуя на препятствие, кладущее конец боям и жизни, то моряки, прощаясь с морем, вглядывались в него с тоской, и надеждой, все еще веря, что оно не выдаст и выручит.
Но в лунном серебряном море не было ни корабля, ни шлюпки.
«Матросский майор», обойдя охранение, прилег рядом с военкомом в камыши на плащ-палатку и тоже стал смотреть на Черное море. Вся его военная жизнь — с тех самых дней, когда в гражданской войне он вступил добровольцем-юношей в матросский отряд и ворвался с ним в Крым по этому же узкому перешейку, — была связана с морем. Каждый день, в течение двадцати лет, он видел его в прицеле орудия, в дальномер, потом в командирский бинокль или в окно, сквозь цветы, когда семье удавалось жить с ним вместе на очередной береговой батарее. И теперь мысль, что он видит море в последний раз, казалась ему дикой.
Военком, видимо, разгадал его чувство, или, может быть, и у него защемило сердце от лунного этого простора, неоглядно распахнувшегося над широким морем. Он шумно вздохнул и сказал:
— Да, брат… Хороша вода…
— Хороша… — сказал майор, и они опять надолго замолчали.
Обоим многое хотелось сказать друг другу в эту ночь, которая, как оба отлично понимали, была последней ночью в жизни. Слова сами возникали в душе, необыкновенные и яркие, похожие на стихи. Но произнести их было нельзя.
В них было только прошлое — и не было будущего. В них были далекие, дорогие сердцу люди — и не было тех, кто лежал рядом в камышах и верил, что эти два человека совещаются о том, как спасти отряд. Море, прекрасное и родное, вольной своей ширью звало к жизни, и такая нестерпимая жалость к себе подымалась в душе, /что если произнести блуждающие в ней слова вслух, голос мог дрогнуть и глаза заблестеть.
Поэтому оба говорили другое.
— Ветер нынче какой, — сказал военком. — В море шторм, верно?
— Наверное, шторм, — ответил майор.
И они опять замолчали. Потом майор приподнял голову и посмотрел на море с таким неожиданным и живым — любопытством, что военком невольно приподнялся за ним и шепнул, не веря надежде:
— Корабль, что ли?
Майор повернул к нему лицо, и военком заметил в его глазах, освещенных луной, знакомую веселую хитрость.
— Военком, — сказал майор с неистребимой подначкой, — ты и вправду думаешь, что это — море?
— А что ж, степь, что ли? — обиделся военком. — Конечно, море.
— Эх, ты, морская душа! — покачал головой майор. — Моря от луны не отличил… Кабы мы у моря сидели, тут такая бы волна ходила, будь здоров! Понятно?
— Ничего не понятно, — честно сказал военком.
— Ну, так поймешь. Фонарь у тебя еще живой?
Майор выдернул из-под себя плащ-палатку и накрыл ею с головой себя и военкома.
Когда командир пулеметного взвода подошел с докладом, что огневые точки готовы к бою, он увидел на песке странное четырехногое существо с огромной головой. Оно, ворчало двумя голосами и шелестело бумагой. Потом оно засмеялось басом военкома и высоким заразительным смехом майора, подобрало ноги, и майор вскочил, пряча в планшет карту.
— Окопались? — спросил он оживленно. — Вот и хорошо. Вытаскивайте обратно все пулеметы к воде…
Через час отряд осторожно, стараясь не плескаться, пробирался друг за другом по грудь в холодной воде, подняв над головами автоматы и оружие. Пулеметы несли на связанных винтовках, а пять их еще стояло в кустах, охраняя отход, и возле них лежал военком.
Море, к которому немцы прижали отряд, оказалось лиманом, мелким и спокойным. Ветер распластывал над водой ленточки бескозырок, но по лиману бежали только короткие, безобидные волны. Настоящее Черное море премело и перекатывалось рядом, за низкой песчаной косой.
И хотя это было отходом, а не атакой, майор на этот раз шел впереди, повернув фуражку эмблемой назад. Эмблема блестела в лунных лучах, указывая путь отряду, и «матросский майор» нащупывал ногой дорогу к Севастополю, то и дело погружаясь в воду по горло, — так же, как тогда, когда двадцать лет назад он переходил Сиваш и когда впервые узнал, что. не всякая широкая вода — море.
Привычное дело
Передний склон высоты 127,5, расположенный у хутора Мекензи, обозначался загадочной фразой: «Где старшина второй статьи на танке катался».
В начале марта в одном из боев за Севастополь морской полк перешел в контратаку на высоту 127,5. Атака поддерживалась танками и артиллерией Приморской армии. Высота была опоясана тремя ярусами немецких окопов и дзотов. Бой шел у нижнего яруса; артиллерия била по вершине, парализуя огонь фашистов; танки ползли вдоль склона, подавляя огневые точки противника.
Один из танков вышел из боя: командир был тяжело ранен. Танк спустился со склона и остановился у санчасти. Не успели санитары вытащить из люка раненого, как из кустов подошел и танку рослый моряк с повязкой на левой руке, видимо, только что наложенной. Оценив обстановку и поняв, что танк без командира вынужден оставаться вне боя, он ловко забрался в танк.
— Давай прямо на высотку, не ночевать же тут! — сказал он водителю и, заметив его колебание, авторитетно добавил: — Давай, давай! Я — старшина второй статьи, сам катера водил, дело привычное… Полный вперед!
Танк помчался на склон. Он переполз и первый и второй ярусы немецких окопов, забрался на вершину и добрых двадцать минут танцовал там, крутясь, поливая из пулеметов и пушки, давя фашистов гусеницами в их норах. Рядом вставали разрывы наших снарядов — артиллерия никак не предполагала появления нашего танка на вершине. Потом танк скатился с высоты так же стремительно, как забрался туда, и покатил прямо к кустам, где сидели корректировщики артиллерии.
И тут старшина второй статьи изложил лейтенанту свою претензию:
— Товарищ лейтенант, нельзя ли батареям перенести огонь? Я бы там всех Гансов передавил, как клопов, а вы кроете — спасу нет! Сорвали мне операцию…
Но, узнав с огорчением, что его прогулка на вершину мешает заградительному огню, моряк смущенно выскочил из танка и сожалеюще похлопал ладонью но его броне:
— Жалко, товарищ лейтенант, хороша машина… Ну, извините, что поднапутал…
И, подкинув здоровой рукой немецкий автомат (с которым он так и путешествовал в танке), он исчез в кустах. Только о нем и узнали, что он «старшина второй статьи», да запомнили сине-белые полоски «морской души» — тельняшки, мелькнувшей в вырезе ватника, закопченного дымом и замазанного кровью.
Вечером мы пытались найти его среди бойцов, чтобы узнать, кто был этот решительный и отважный моряк, но военком полка, смеясь, покачал головой:
— Бесполезное занятие. Он, небось, теперь мучается, что не по тактике воевал, и ни за что не признается. А де-лов на вершинке наделал! Танкисты рассказали, что одно пулеметное гнездо он с землей смешал: приказал на нем крутиться, а сам из люка высунулся и здоровой рукой кругом поливает из своего автомата… Морская душа, точно…
Пушка без мушки
Бак известно, на каждом корабле имеется своя достопримечательность, которой на нем гордятся и которой обязательно прихвастнут перед гостями. Это или особые грузовые стрелы неповторимых очертаний, напоминающие неуклюжий летательный аппарат и называющиеся поэтому «крыльями холопа», или необыкновенный штормовой коридор от носа до кормы, каким угощают вас на лидере «И», ручаясь, что по нему вы пройдете в любую погоду, не замочив подошв. Иной раз это скромный краснофлотец по первому году службы, оказавшийся чемпионом мира по плаванию, иногда, наоборот, замшелый, поросший седой травой корабельный плотник, служащий во флоте с нахимовских времен.
Морская часть на берегу во всем похожа на корабль. Поэтому в той части морской пехоты, которой командовал под Севастополем полковник (ныне генерал-майор) Жидилов, оказалась своя достопримечательность.
Это была «пушка без мушки».
О ней накопилось столько легенд, что нельзя уже было понять, где тут правда, где неистребимая флотская подначка, где уважительное восхищение и где просто зависть соседних морских частей, что не они выдумали это необыкновенное и примечательное оружие.
Кто-то уверял меня, что полковник взял эту пушку в музее севастопольской обороны. Кто-то пошел еще дальше и утверждал, что «пушка без мушки» палила по Мамаю на Куликовом поле, но, видимо, вспомнив, что тогда еще не было огнестрельного оружия, спохватился и сказал, что исторически это еще не доказано, но то, что пушка эта вывезена в Крым еще Потемкиным, уж, конечно, неоспоримый факт.
О ней говорили еще, что она срастается по ночам сама, вроде сказочного дракона, который, будучи разрублен на куски, терпеливо приклеивает потом отделенные части организма, поругиваясь, что никак не может отыскать в темноте нужной детали — глаза или правой лапы. Впрочем, рассказы этого сорта родились из показаний пленных немцев; примерно так они и говорили о какой-то «бессмертной пушке» под Итальянским кладбищем, которую они никак не могут уничтожить ни снарядами, ни минами.
Все это так меня заинтересовало, что я специально для этого выехал в бригаду, чтобы посмотреть «пушку без мушки» и собрать о ней точные сведения. Вот вполне проверенный материал об этой диковине, за правдивость которого я ручаюсь своей репутацией.
Где-то в Евпатории на складе Металлом а полковник Жидилов еще осенью наткнулся на четыре орудия. Это были вполне приличные орудия: каждое на двух добротных колесах, каждое со стволом и даже с замком. Самым ценным их качеством, привлекшим внимание полковника, было то, что к ним прекрасно подошли 76-миллиметровые снаряды зениток, которых в бригаде было хоть пруд пруди. Недостатком же их была некоторая устарелость конструкции (образец 1900 года) и отсутствие прицелов.
Первая причина полковника не смутила. Как он утверждал, в войне годится всякое оружие, вопрос лишь в способе его применения. Раз к данным орудиям подходили снаряды и орудия могли стрелять — им и полагалось стрелять по немцам, а не ржаветь бесполезно на складе.
Вторая причина — отсутствие прицелов и решительная невозможность приспособить к этой древней постройке современные — также была им отведена. Полковник, выслушивая жалобы на капризы техники, обычно отвечал мудрой штурманской поговоркой: «Нет плохих инструментов, есть только плохие штурмана». И он тут же блестяще доказал, что для предполагаемого им применения этих орудий прицелы вовсе не нужны.
Одну из пушек выкатили на пустырь. Удивляясь перемене судьбы и покряхтывая лафетом, старушка развернулась и уставилась подслеповатым своим жерлом на подбитый бомбой грузовик метрах в двухстах от нее. Наводчик, обученный полковником, присел на корточки и, заглядывая в дуло, как в телескоп, начал командовать морякам, взявшимся за хобот лафета:
— Правей… Еще чуть правей… Теперь чуточку левей… Стоп!
Потом замок щелкнул, проглотив патрон, и старая пушка ахнула, сама поразившись своей прыти: грузовик подскочил и повалился на бок.
Именно так все четыре «пушки без мушки» били впоследствии немецкие машины на шоссе возле Темишева. Их установили в укрытии для защиты отхода бригады, и они исправно повалили девять немецких грузовиков с пехотой, добавив разбегавшимся немцам хорошую порцию шрапнели прямой наводкой. Именно так они били по танкам, и так же работала под Итальянским кладбищем последняя «пушка без мушки». Три остальные погибли в боях: их пришлось оставить при переходе через горы, где тракторы были нужны для более современных орудий. Но четвертую все же полковник довез до Севастополя.
Здесь ей дали новую задачу: работать как кочующее орудие. Ее устанавливали в двухстах-трехстах метрах от немецких окопов и, выбрав время, когда артиллерия начинала бить по немцам, добавляли под общий шум и свои снаряды. Маленькие, но злые, они точно ложились в траншей, пока разъяренные немцы не распознавали места «пушки без мушки». Тогда на нее сыпался ураган снарядов.
Ночью моряки откапывали свою «пушку без мушки» из завалившей ее земли, впрягались в нее и без лишнего шума перетаскивали на новое место, поближе к немцам, отрыв рядом надежное укрытие для себя. Немцы снова с изумлением получали на голову точные снаряды бессмертной пушки — и все начиналось сначала…
С гордостью представляя мне свою любимицу, военком бригады бригадный комиссар Ехлаков подчеркнул:
— Золото, а не пушка! В нее немцы полторы сотни снарядов зараз кладут, а сделать ничего не могут. Расчет в блиндаже покуривает, а ей, голубушке, эта стрельба безопасна. Ты сам посуди: прицела нет, панорамы нет, ломких деталей нет, штурвальчиков разных нет. Есть ствол да колеса. А их только прямым попаданием разобьешь. Когда-то еще прямое будет, а на осколки она чихает с присвистом… Понятно?
В самом деле, все было понятно.
Подарок военкома
Мы сидели в подвале разрушенной чайханы под Итальянским кладбищем, где было что-то вроде клуба для моряков третьего батальона, и снайпер Васильев показывал мне свою записную книжку. В ней стояли только цифры. Так, запись «14—9/1—2» означала, что четырнадцатого числа Васильев убил девять солдат и одного офицера и ранил двоих (кого именно — офицеров или солдат — Васильев из самолюбия не помечал: промах, не очень чистая работа). Он рассказывал мне, как сговаривается с минометчиками (они дают залп по траншее, а он бьет выбегающих оттуда немцев), как выслеживает он тропинки, как выползает на свою позицию на откосе скалы, — и, говоря, все время с завистью косил взглядом в угол «клуба».
Тим, в полутьме, играл баян, и военком бригады плясал. Это был его отдых.
Военком был удивительным человеком, сгустком энергии, пружиной, все время жаждущей развернуться и увлечь за собой других. Везде на переднем крае, куда бы он нынче меня ни приводил, я замечал оживление, неподдельную радость и в то же время некоторую опасливость: а не скажет ли, мол, сейчас военком знакомой и обидной фразы: «Заснули, орлы? Чего фрицев не тревожите? Может, война кончилась, я нынче газету не читал…»
И везде, где я его сегодня видел, он «тревожил фрицев». Так он нашел цель для минометчиков, дождался, пока они ее не накрыли, перетащил знаменитую «пушку без мушки» на новую позицию и не успокоился, пока она не вызвала на себя яростный, но бесполезный огонь («пускай гансы боезапас тратят!»), снарядил разведчиков на ночь за «языком»., отправил в тыл раненых й теперь, томясь безработицей, плясал.
— Сколько же всего у вас на счету? — спросил я Васильева.
— Я месяц раненый пролежал, — ответил он, как бы извиняясь. — Тридцать семь… То есть, собственно, тридцать пять: двоих мне бригадный комиссар от себя подарил.
И он рассказал, что вначале стрелял из обыкновенной трехлинейки. Когда же он уложил десятого фрица, военком, следивший за каждым снайпером, сам приполз к нему на скалу, чтобы торжественно вручить ему снайперскую винтовку с телескопическим прицелом. Он полежал с ним рядом, в его укрытии, рассматривая передний край немцев и отыскивая, где бы их вечером «потревожить». Но тут на тропинку вылезли два солдата, и военком не выдержал. Он молча взял у Васильева новую винтовку и пристрелил о§о-их подряд.
— Я, конечно, в свой счет их бы не поставил, — закончил Васильев. — Но военком приказал: «Бери, — говорит, — их себе. Во-первых, я просто не стерпел, во-вторых, винтовка не моя, а в-третьих, мне счета вести не к чему, я им и счет потерял».
И я вспомнил, какой счет имел бригадный комиссар.
В декабрьский штурм Севастополя командный пункт части вместе с военкомом оказался отрезанным. Командира бригады не было (раненный, он был увезен накануне), но военком спас и штаб и всю бригаду. Он выслал ползком через фашистские цепи восемь отважнейших моряков-автоматчиков. Пункт уже забрасывали гранатами, когда эти восемь начали бить в спину наступающим, а военком с оставшимися у него моряками встретил врагов в лицо огнем и гранатами. «Кругом компункта все сине было от мундиров» — так рассказали мне исход этого боя краснофлотцы бригады.
Баян замолк, и военком подошел к нам.
— Ну, наговорился, что ли? Время-то идет, — сказал он и стремительно пошел к выходу.
Ватник его был расстегнут, и сине-белые полосы тельняшки, с которой он не расставался с времен давней краснофлотской службы, извилистой линией волн вздымались над его широко дышащей грудью.
Страшное оружие
Бомбардировщик возвращался с боевого задания. В бою с «Мессершмиттами» он израсходовал почти все патроны и оторвался от своей эскадрильи. Теперь он шел над Черным морем совершенно один во всем голубом и неприятно высоком небе.
Именно оттуда, с высоты, и свалился на него «Мессершмитт-109».
Первым его увидел штурман Коваленко. Он пострелял, сколько мог, и замолчал. Стрелок-радист дал врагу подойти ближе и, тщательно целясь, выпустил свои последние патроны, потом доложил об этом летчику.
— Знаю, — ответил Попко. — Будем вертеться.
И самолет начал вертеться. Он уходил от светящейся трассы пуль как раз тогда, когда они готовы были впиться в самолет. Он пикировал и взмывал вверх. Он делал фигуры, казалось бы, невозможные для такой тяжелой машины. Пока что это помогало: он набрал только несколько безобидных пробоин в крылья.
Фашистский летчик, очевидно, понял, что самолет безоружен. Но, видимо, он слышал кое-что о советском таране и побаивался бомбардировщика. Вся игра свелась теперь к тому, что «Мессершмитт» старался выйти в хвост на дистанцию бесспорно верной стрельбы.
Наконец ему это удалось. Стрелок-радист увидел немца прямо за хвостом и невольно нажал гашетку. Но стрелять было нечем. Стрелять мог только враг. Это был конец.
Тут что-то замелькало вдоль фюзеляжа бомбардировщика. Белые странные цилиндры стремительно мчались к «Мессершмитту». Они пролетали мимо него, они стучали по его крыльям, били в лоб. Они попадали в струю винта и разрывались невиданной, блистающей на солнце, очень крупной и медленной шрапнелью. Один за другим вылетали из кабины штурмана эти фантастические снаряды.
«Мессершмитт» резко спикировал под хвост бомбардировщику, в одно мгновенье потеряв выгодную позицию. Теперь уйти от него было легко, и скоро фашист отстал, видимо, сберегая горючее для возвращения.
Радист передохнул и вытер на лбу пот.
— Отвалил фриц, — доложил он летчику и любопытно спросил — Чем это вы в него стреляли, товарищ капитан?
— Нечем нам тут стрелять, — ответил в трубке голос Попко. — Я и сам удивляюсь, с чего это он отскочил.
Тогда в телефон ворвался голос штурмана Коваленко:
— Это я его отшил. Злость одолела, ишь как подобрался, стервец!.. Чорт его знает, думаю, а вдруг он их за какие-нибудь новые снаряды примет?
— Чего это — их? — не понял Попко.
— Листовки. Я же в него листовками швырялся, всю руку отмотал… Пачки-то увесистые…
И весь экипаж — летчик, радист и штурман — засмеялся. Смеялся, кажется, и самолет. Во всяком случае он потряхивал крыльями и шатался в воздухе, как шатается и трясет руками человек в припадке неудержимого хохота.
Потом, когда все отсмеялись, самолет выправился и степенно пошел к базе совершенно один в чистом и очень приятном голубом высоком небе.
Поединок
Группа моряков-добровольцев была отброшена ночью на парашютах за линию фронта с целью, во время атаки Третьего морского полка, уничтожать связь врага, наводить панику и пробиваться на соединение со своими. Среди них был краснофлотец Петр Королев. Ему не повезло: висевший на нем мешок с автоматом, кусачками, гранатами и прочими необходимыми на земле предметами на прыжке с размаху ударил его в лицо. Королев потерял сознание.
На секунду он очнулся в темной пустоте, успел выдернуть кольцо парашюта и снова впал в беспамятство до самой встречи с землей. Новый удар привел его в себя. Он понял, что лежит на земле, что лицо его разбито, кровь ручьем хлещет из носа и что вдобавок сильно болит нога, вывихнутая при падении. Он уничтожил, как полагается, парашют, хозяйственно сунув в карман два клина шелка, чтобы вытирать кровь, струящуюся по лицу, распаковал свой мешок, прислушался к стрельбе вокруг и пошел в нужном направлении.
Итти пришлось во весь рост — ползти не давала нога, а каждый наклон головы вызывал сильное кровотечение. Однако он сумел подобраться к вражеским окопам, перерезав по пути две-три линии связи. К рассвету Королев совершенно ослабел. Он присмотрел подходящую канавку, положил возле себя автомат и приготовленные к бою гранаты, но потеря крови снова лишила его сознания.
Очнулся он при ярком свете утра. Над канавкой стояли два фашиста — молодой и постарше, — рассматривая его: очевидно, они решили, что перед ними труп. Королев схватился за автомат, но диск выпал. Молодой солдат, увидев его движение, закричал: «Матрозен!» и ринулся бежать; пожилой замахнулся винтовкой, чтобы приколоть некстати ожившего моряка. Королев ухватился за ствол и рывком дернул фашиста. Тот упал в канавку, а моряк подмял его под себя.
Началась страшная, неравная борьба обессилевшего от потери крови моряка со здоровым и сильным врагом. Королев нащупал на поясе нож, но приподняться, чтобы освободить ножны, не хватало сил. Тогда он схватил гранату (запал которой был уже вставлен) и стал бить солдата по голове. Но, видимо, мало было у моряка сил — удары его никак не могли оглушить фашиста. Так бывает во сне, когда движения вязнут в томительной вялости кошмара. На четвертом ударе пальцы моряка разжались, и граната, выпала. Фашист подхватил ее и со всей силой здорового человека ударил Королева по голове.
— У меня шарики в глазах запрыгали, — рассказывал потом Королев. — Только, знаете, как-то так вышло, что я не только с того не окосел, а, напротив, даже очнулся… Такая меня злоба взяла — моей же гранатой меня же и по башке!.. Откуда силы взялись — я ка-ак психану на него! Заорал что-то, ударил его по руке… Граната у него и выпала, я ее опять ухватил. А он уже на мне сверху. Я снизу бью его по черепу, и развернуться неловко, и сил нет… А он перепугался, кричит так, что меня дрожь пробрала, — как заяц… Молочу его, а тут граната пришла в негодность: ручку свернул. А кулаком что сделаешь… Тут он чем-то меня огрел, я опять ничего не помню…
Придя в себя, Королев увидел, что солдат выскочил из канавки, захватив его пустой автомат и бросив свою винтовку. Подобрав ее, Королев понял, почему немец не стрелял: она тоже оказалась без патронов. Тогда, приподнявшись, он кинул вслед солдату вторую гранату, откатившуюся в борьбе в угол канавки. Опять не хватило сил — граната разорвалась слишком далеко от солдата и слишком близко от Королева.
Забыв о ноге, он побежал за солдатом: тот уносил оружие, без которого — вернуться к своим было стыдно. Он догнал его и ударил прикладом по затылку. Солдат закричал и обернулся. Королев бросил винтовку и потянул к себе свой автомат — и опять началась неравная борьба сильного и здорового солдата, единственной слабостью которого были страх и неуверенность в победе, с шатающимся, обессилевшим моряком, страшным в своей упрямой настойчивости и желании победить.
Они тянули автомат друг у друга, ругаясь каждый на своем языке. Потом Королев заметил в глазах солдата радость и злобу. Обернувшись, он увидел вдалеке скачущего всадника. Солдат снял левую руку с автомата и призывно замахал всаднику. Королев тоже снял одну руку с автомата, вспомнив, что на поясе еще висит последняя граната. Он поднял ее над головой, решив дождаться всадника и тогда бросить гранату себе под ноги, чтобы взорвать и себя и обоих врагов.
— Стоим так и ждем. Я все на фашиста смотрю, думаю, не оглушил бы он меня свободной рукой… Тогда живым заберут. Много ли мне было надо: дать раза — ив глазах потемнеет. А у него выражение лица вдруг изменилось: глаза выкатил, коробочку раскрыл и глядит мне через плечо. Я обернулся — всадник уж рядом… Гляжу — мать честная! — это ж Коровников из первого батальона. Скачет к нам на полном газу, и ленточки вьются… Бросил солдат мой автомат — и тикать. Коровников его с хода одним выстрелом положил — и ко мне… А у меня и сил никаких нет — кончились…
Оказалось, что к утру первый батальон полка уже вышел к этой высотке. В кустах наткнулись на брошенную повозку с лошадьми. Очевидно, двое фашистов, кинув повозку и отходя к своим, и натолкнулись на Королева. Заняв вражескую позицию, батальон готовился продвигаться дальше. И тут политрук, осматривая местность в бинокль, увидел на высотке двух борющихся людей.
— Что за чорт! — сказал он недоверчиво. — А ну-ка, гляньте в снайперский прицел, он посильнее: никак там морячок французской борьбой с фашистом занимается…
В прицел рассмотрели, что это был, и точно, моряк. Все подробности этой борьбы снайпер передавал любопытным, выжидая момента, когда можно будет безопасно для Королева выстрелить в солдата. Но политрук уже распорядился: Коровников вскочил на трофейную лошадь и весьма кстати прибыл на помощь Королеву.
Последний доклад
С берега, вероятно, казалось, что на середине реки росла какая-то странная, передвигающаяся рощица белоствольных деревьев. Светлые и зыбкие, возникающие из воды и медленно опадающие, они прорастали на пути маленького катера, и пышные, сверкающие водяной пылью их кроны осыпались металлическими плодами.
Это был ураганный минометный и артиллерийский огонь с обоих берегов по узкости реки. Катер, пробиравшийся в этом лесу всплесков, метался вправо и влево.
Командир его был уже ранен. Он навалился всем телом на крышу рубки и смотрел только перед собой, угадывая по всплескам, где вырастет следующая смертоносная рощица. Он командовал рулем, и каждая его команда спасала катер от прямого попадания. Чтобы проскочить эту узкость и спасти катер, надо было все время кидаться из стороны в сторону, сбивая пристрелку врага. И командир выкрикивал слова команды, и рулевой за его спиной повторял их, и катер рвался вперед, все вперед, беспрерывно меняя курс.
Но порой рощица светлых зыбких деревьев прорастала у самого катера, иногда сразу с обоих бортов. Это было накрытие. Тогда вода обдавала катер обильным душем, и вместе с водой на палубу падали осколки, грохоча и взвизгивая. После одного из таких накрытий рулевой не ответил на команду, и командир подумал, что тот ранен или убит, и хотел обернуться к нему, хотя двинуться ему было трудно. Но катер выполнил маневр, командир понял, что все по-прежнему в порядке, и продолжал командовать рулем, — и катер послушно выполнял малейшее его желание, мчась по реке зигзагами.
Наконец водяные рощи стали редеть. Только отдельные всплески преследовали катер. Потом и они остались за кормой, и впереди распахнулся широкий и мирный плес. Катер выскочил из обстрела, и на реке встала тишина, показавшаяся командиру странной.
И в этой тишине он услышал за собой негромкий доклад:
— Товарищ командир… управляться не могу…
Он обернулся. Рулевой всем телом повис на штурвале. Лицо его было белым, без кровинки, глаза закрыты. Руки еще держали штурвал, и когда он медленно пополз по нему, падая на палубу, эти руки повернули штурвал. Катер резко метнулся к берегу.
Командир перехватил штурвал и крикнул с мостика, чтобы рулевому помогли.
Когда его подняли, он был мертв. Нога его была разворочена осколками, и вся палуба у штурвала была в крови.
Рулевым катера был старшина второй статьи Щербаха, черноморский моряк.
Воробьевская батарея
Зенитная батарея Героя Советского Союза Воробьева была уже хорошо знакома фашистам по декабрьскому штурму. Тогда длинные острые иглы ее орудий, привыкших искать врага только в небе, вытянулись по земле. Они били бронебойными снарядами по танкам, зажигательными — по машинам, шрапнелью — по пехоте. Краснофлотцы точным огнем из автоматов и бросками гранат останавливали фашистов, яростно лезших на батарею, внезапно возникшую на пути к Севастополю.
Теперь, в июне, батарея снова закрыла собой дорогу к городу славы.
На этот раз фашисты бросили на нее огромные силы. Самолеты пикировали на батарею один за другим. Дымные высокие столбы разрывов закрывали собой все расположение батареи. Но когда дым расходился и дождь взлетавших к небу камней опускался на землю, из пламени и пыли вновь протягивались вдоль травы острые длинные стволы зениток, и снова точные их снаряды разбивали фашистские танки.
Наконец орудия были убиты. Они легли, как отважные бойцы, лицом к врагу, вытянув свои стройные изуродованные стволы. Батарея держалась теперь только гранатами и ручным оружием краснофлотцев.
Как дрались там моряки, как ухитрялись они держаться еще несколько часов, уничтожая врагов, что происходило на этом клочке советской земли, остававшемся еще в руках советских людей, — не будем догадываться и выдумывать. Пусть каждый из нас молча, про себя, прочтет три радиограммы, принятые с воробьевской батареи в последний ее день:
«12–03. Нас забрасывают гранатами, много танков. Прощайте, товарищи, кончайте победу без нас».
«13–07. Ведем борьбу за дзоты, только драться некому, все переранены».
«16–10. Биться некем и нечем, открывайте огонь по ком-пункту, тут много немцев».
И четыре часа подряд била по командному пункту историческая батарея — двенадцатидюймовая морская береговая. И если бы орудия могли плакать, кровавые слезы падали бы на землю из их раскаленных жерл, посылающих снаряды на головы друзей, братьев, моряков — людей, в которых жила морская душа, высокая и страстная, презирающая смерть во имя победы.

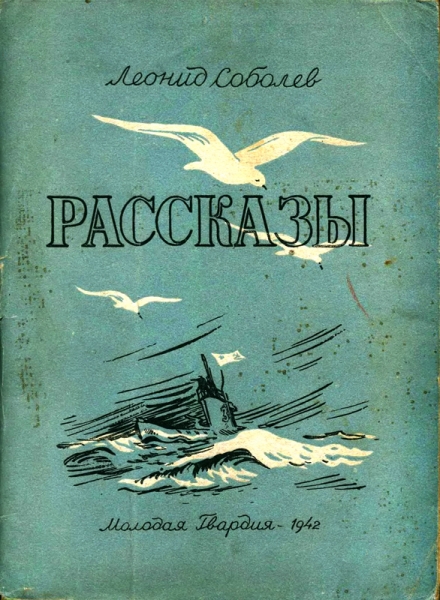
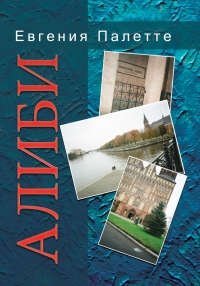

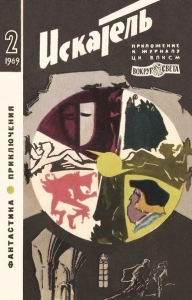








Комментарии к книге «Рассказы», Леонид Сергеевич Соболев
Всего 0 комментариев