Виктор Драгунский ОН УПАЛ НА ТРАВУ… Автобиографическая повесть
Виктор Драгунский Он упал на траву…
1
Очень тёмная была ночь, когда я, нагруженный разными свёртками, усталый как чёрт и голодный, подошёл к своему переулку. Здесь, у аптеки, я должен был подождать её. На улице уже было тихо и глухо. Москва отдыхала после тревожного дня перед тревожной ночью. Все мы, москвичи, знали, что через несколько минут обязательно прозвучит сигнал воздушной тревоги, фриц опять начнёт рваться к нашему городу и мы уведём женщин, детей и стариков в бомбоубежище, а сами побежим на свои места — в лестничные клетки, в подъезды и на крыши, будем слушать надсадный вой чужого мотора и с надеждой смотреть на кинжально-перекрещивающиеся лезвия прожекторов. Нетерпеливым сердцем будем подгонять зенитчиков и будем радоваться, когда услышим первые удары наших батарей, — они такие сильные, молодые и стучат полновесно, как весенний первый гром, когда, резвяся и играя, — как там дальше? Ах да, — грохочет в небе голубом! Знал я также, что молодой командир батареи у зала Чайковского будет командовать: «Огонь!», и после каждого залпа он будет звонко материться, и это всем нам, дежурящим на окрестных крышах, будет как маслом по сердцу.
Да, скоро объявят воздушную тревогу, а пока Москва немножко отдыхала, и я стоял на перекрёстке, в полной темноте, и, видно, никогда не забыть мне этого часа в последнюю августовскую ночь в Москве, когда я ждал на углу возле аптеки эту женщину и знал, что завтра я уйду из моего врезанного в сердце города, и от неё уйду, и буду делать что-то большее, чем дежурство на крышах и тушение зажигалок.
А время всё шло, и от нетерпения я уже насчитал несколько раз по пятьсот, а Валя всё не приходила. Я вошёл в парадное, где стояла будка автомата, опустил гривенник и, отсчитывая в синей темноте буквы и цифры на телефонном диске, набрал её номер. Телефон басисто прогудел, и Валя сняла трубку. Это сразу ударило меня по сердцу. Я слышал её голос, а ведь она должна была отсутствовать. Это поразило меня. Она, значит, дома, а я стою на ветру и жду её, а она вовсе и не собирается проводить меня, провести со мной вечер, проститься…
Я сказал:
— Это я, что ж ты не идёшь?
И я услышал, как она ответила мгновенно, как будто знала, что я позвоню, и как будто давно уже отрепетировала свой ответ.
— Понимаешь, Зойка, — сказала она, — ничего не выйдет, мне не вырваться сегодня. Семейные дела заели. Да и поздно уже!
Какая, к чёрту, Зойка? Я почувствовал, что у меня упало сердце. Я сказал:
— Я не Зойка. Это Митя говорит.
Она засмеялась.
— Нет, Зойчик, не могу. Не проси.
Я сказал:
— Я завтра уезжаю. Ведь ты же плакала. Что ты несёшь? Мы не простимся?
Она помолчала, потом сказала тихо и очень внятно:
— Неудобно. Надеюсь, ты напишешь. Будь здорова.
Я услышал комариный писк разъединения и механически повесил трубку.
Вышел я из будки, так резко толкнув дверь, что ушиб кого-то, стоящего там в темноте.
— Ох, — сказал кто-то, — чуть-чуть не убил.
В парадном стояла девушка. Синий свет не давал возможности разглядеть её лицо.
Я сказал:
— Извините, — и хотел было уйти.
Но она сказала:
— Я вас давно жду. Одолжите мне гривенник, пожалуйста, или разменяйте двадцать копеек.
Я протянул ей монету. У меня их всегда полны карманы. Она взяла гривенник, нашарив в темноте мою руку, и я ощутил прикосновение горячих и сухих пальцев. Она сказала:
— Если можно, не уходите. Я мигом.
Я остался в парадном. Я не мог как следует осознать всё случившееся, и на душе у меня было непоправимо скверно.
Ведь, чёрт побери, честно говоря, я был в эти дни, в эти ужасные первые дни войны, как какой-нибудь сумасшедший: я был счастлив. То есть я был потрясён войной, я ненавидел фрица, я знал, что уйду на войну во что бы то ни стало, но вот в глубине сердца у меня, несмотря на такое ужасное горе, как война, светилось счастье. Это было потому, что я верил в Валину любовь и сам любил её всем сердцем. А теперь, после разговора по телефону, особенно после её правдивого голоса, который так здорово врал и обзывал меня Зойкой, после этого я почувствовал, что ничего хорошего в моей жизни не осталось и что я теперь как солдат, у которого отняли его личное оружие и все могут стрелять в него, как в бессмысленный столб. Я совершенно растерялся от этого разговора и не знал, что делать. Из автомата вышла девушка. Она сказала:
— Спасибо, что подождали. Вы меня знаете?
— Нет.
— Да мы же рядом живём, вы в конце переулка, а я не доходя, наискосок. Я недавно в Москву переехала, а раньше жила в Туле. А теперь мама там, а я у тёти… А вас я часто встречаю в переулке, и одна девочка мне про вас всё рассказала.
Ну и ну, всё ей рассказала. Вот это да. А что рассказывать-то?
— Так что я всё про вас знаю, Митя Королёв. Дайте руку, а то я боюсь ходить по этому переулку.
Она взяла меня за руку, и мы вышли. Ночь стала ещё темней. Вокруг слышались сдержанные голоса прохожих, люди говорили тихо, как будто боялись, что их услышит какой-нибудь фриц, там, наверху.
Мы постояли немного с незнакомой девушкой на краю тротуара и пошли домой. Не хотелось мне идти домой, прямо скажем — противно было, особенно потому, что я весь был обвешан покупками, как какой-нибудь пижон. А ещё противней было, что покупочки эти оказались ни к чему, ни для кого. Все эти пакеты и свёртки хрустели новой бумагой как окаянные, словно смеялись надо мной. Девушка вдруг сказала:
— Значит, никто не придёт проводить вас и проститься?
Я сказал:
— Это не ваше дело.
Она вздохнула.
— Всегда, когда стоишь у автомата, слышишь чужой разговор. Конечно, это нехорошо.
Мы сделали ещё несколько шагов, и девушка вдруг остановилась.
— Это, наверно, горько и обидно — звонить куда-то и узнавать, что тебя не придут проводить и проститься?
— Да.
Она как будто рассердилась, потому что спросила сухо:
— Может, мне отстать от вас?
— Да. Отстаньте, пожалуйста.
Она крепче сжала мою руку.
— Это не дело — прогонять меня, раз я боюсь ходить этим переулком. Ладно, я буду молчать и не буду мешать вам переживать.
Я с удовольствием дал бы ей затрещину, но меня мучило сейчас другое, и я промолчал.
Мы проходили мимо большого серого дома, когда она сказала:
— Вот я здесь живу.
Я сказал:
— Ну, пока.
Но она не отпустила мою руку.
— Я провожу вас, мне не хочется домой.
Мы вошли в наш двор, где нас тихонько окликнули дежурные, и прошли в самый дальний конец. Моя дверь была налево от садика, я жил теперь один на нашем первом этаже. Я пошарил в почтовом ящике и взял ключ.
Я сказал:
— Ну вот. Пока.
Но она сказала:
— Можно, я к вам зайду? Давайте уж я провожу вас, раз никого больше нет.
Я никак не реагировал на её слова. Меня мучило совсем другое, и то, что говорила эта девчонка, не имело никакого значения. Я отпер дверь и впустил её к себе. В темноте я проверил, опущены ли шторы затемнения, и зажёг свет. Потом я свалил всю эту сотню свёртков на стол и вынул из бокового кармана плоскую бутылочку старки — я купил её в коктейль-холле, мне нравилось, что она плоская, как у какого-нибудь отчаянного героя старого кинофильма.
Девушка в это время, не дожидаясь моей помощи, сняла плащ и повесила его на гвоздик, торчавший в стене у дверей. Она с любопытством осмотрелась. Особенно её заинтересовали Валины карточки в разных ролях, которые я развесил в своей комнате.
Я сел на стул у окна. Она подошла ко мне и сказала:
— Хотите есть?
— Нет, — сказал я.
— Надо поесть, — сказала она и показала на свёртки. — Вон сколько еды, у меня слюнки текут. Сейчас я накрою на стол, у нас будет прощальный ужин, а потом я уйду, и вам не надо будет меня провожать. Здесь я не боюсь — совсем ведь рядом.
Я сказал:
— Действуйте как хотите.
Она принялась вертеться вокруг столика и хлопотать, и на лбу у неё появились забавные заботливые морщинки, она начала играть во взрослую хозяйку, брала с полки посуду, и всё это получалось у неё очень симпатично и ловко. И как она комкала освободившийся пергамент и обсасывала палец — было тоже очень забавно. Я подумал: как жалко, что у меня нет никого на свете близких, и как хорошо было бы иметь такую вот забавную сестрёнку с девчонскими повадками и серьёзным личиком. Я бы уже смог сделать так, чтобы моя сестрёнка меня любила, я бы ей покупал всякие ленточки и вообще баловал бы.
Я сидел у окна, больная нога привычно ныла, и хотя меня непрерывно мучила вся эта подлая история с Валей, я всё-таки вдруг захотел есть и подсел к столу.
Девушка сидела напротив меня, она тоже ела и всё поглядывала на меня, словно удивлялась, что вот я такой невежливый, ужинаю с дамой и не веду оживлённую светскую беседу. В общем-то она была права. Она-то ни в чём не была виновата.
Поэтому я сказал:
— Давайте выпьем!
— Ну что ж…
Я налил из плоской бутылочки ей и себе.
— В общем, — и она подняла рюмку, — в общем, я пью за то, чтоб вы были счастливы.
Я сказал:
— Спасибо.
И увидел, что она никак не может решиться выпить.
— А вы в общем-то пили когда-нибудь?
Она поставила рюмку и прикрыла её сверху ладошкой.
— Честно?
— Да.
— Это в первый раз.
Она сконфуженно улыбнулась. Просто давно не видел такой занятной девчушки. Я сказал:
— Если в первый раз, — лучше не пейте, не надо. Обожжёт горло, захватит дыханье, слезы побегут.
Я выпил свою рюмку. Она смотрела на меня и явно побаивалась. Я налил себе ещё.
— Ну хорошо, — сказала она, — я не буду пить. А вам интересно узнать наконец, кто же я такая?
— Нет. Неинтересно. Мама в Туле, тётя здесь. Чего же ещё?
— Ну, а как меня зовут, — тоже неинтересно?
— Абсолютно, — сказал я. — Ну так как, будете пить, нет? А то ваша рюмочка выдыхается, давайте её сюда — я сам её выпью…
— Нет, — сказала она и отодвинула от меня свою рюмку, — нельзя! А то вы узнаете все мои мысли…
— Ого! Значит, вы скрываете свои мысли. Любопытно, какие же это ужасные мысли, если их нужно скрывать?
Честное слово, она покраснела. Она отвернулась к окошку, и я увидел, что она вся покраснела, у неё шея стала розовой. Я пожалел даже, что так сказал.
— Слушайте, — сказал я, — только не обижайтесь. Я сам обиженный. Скажите мне, наконец, как вас зовут.
Она вся засияла и благодарно взглянула на меня.
— Меня зовут Лина…
Я сказал:
— Знаете что? Тяпнем, Лина. Тяпнем за нашу с вами мужскую дружбу.
— Тяпнем! — сказала она.
Она довольно мужественно глотнула и стала закусывать с таким обыкновенным видом, как будто делала это на дню три раза. У неё такая была напряжённая мордочка, и вся она такая была забавная и трогательная — ну, сестрёнка, просто сестрёнка моя, которой нет.
Я сказал:
— Вы домой шли, Лина. Вас, наверно, ждут?
Но она махнула вилкой, на которой висела шляпка белого грибка.
— А… была не была!
— Отчаянная, да? — сказал я. — Сорвиголова?
— Оторви да брось, — сказала она и засмеялась, и было видно штук шестьдесят белых зубов, один в один, крепких, как орешки.
Я налил ей совсем немного, чуть покрыв донышко. Вот уж не стал бы спаивать такую славную девочку, она была просто прелесть и такая забавная- сказать нельзя.
— Вот, — сказал я, — спивайтесь, заблудшая душа.
И тут она меня удивила. Она скинула туфельки, вскочила на стул и высоко подняла свою рюмочку.
— Я пью за самое большое в нашей жизни, — сказала Лина, и её милое юное лицо стало торжественным и важным. Она трезво и строго посмотрела на меня. — Я пью за Победу.
Она это так тихо и значительно сказала, что у меня сжалось сердце. Я выпил свою рюмку, и Лина выпила тоже. Она всё ещё стояла на стуле и смотрела на меня трезво и сурово. Я подошёл к ней, взял её за талию и опустил на пол. Она всё смотрела мне в глаза без улыбки. Я крепко прижал её к себе и поцеловал. Никогда не забуду прохладное прикосновение её губ. Как будто меня отбросило назад в детство, и я пробежал по июльскому росному лугу босиком, и где-то за зелёным лесом в синем небе звенели колокола. Я держал Лину в своих руках и слышал, как бьётся её сердце, и вдыхал запах её волос, её платья, всего её милого девичьего существа. Я долго так стоял, очень долго, целую вечность, и кровь гудела во мне, шумела и билась. А Лина всё глядела на меня, потом словно устала и закрыла глаза. В это время завыла сирена. Я разжал руки. Лина заметалась по комнате.
— Тревога, — шептала она. — Боже мой, опять тревога! Что же делать?
Она была бледная, и губы у неё дрожали, у бедняжки, — так испугалась. И всё это росистое утро на цветущем лугу, что сейчас цвело в этой комнате, отлетело, ушло от нас, развеялось как дым, поглощённое страшным, рвущим душу воем сирены. Мне нужно было идти на крышу. Я подал Лине плащ.
Её недопитая рюмка осталась на столе. Мы вышли во двор. Ночь была бодрая, свежая, и в небе ясно блестели небрежно насыпанные звёзды. Лина сказала:
— Я тётю возьму. Отведу в метро, она больная.
Она пошла по двору и исчезла в темноте, только слышно было, как простучали её туфельки и где-то в глубине двора хлопнула наша входная калитка.
2
А я помчался по чёрной лестнице вверх, быстро добрался до седьмого этажа и сделал ещё несколько шагов по железным ступенькам маленькой лестницы, ведущей на чердак. Пахло старой чердачной пылью, все балки были покрыты этой мягкой пылью дома, они были словно замшевые, эти балки, добрые и тёплые, я знал их каждую в лицо. Наш мальчишечий мир лазил сюда ещё в «те баснословные» года, когда мы играли в «казаки-разбойники», и каждый чердачный поворот, каждый каменный уступ был знаком мне и дружествен, я мог пройти по чердаку до любого слухового окна, закрыв глаза и не рискуя ушибиться.
На крыше уже сидел дядя Гриша — дворовый водопроводчик, мой напарник по посту ПВО. Брезентовые рукавицы, щипцы и ящик с песком были в полном порядке — мы с дядей Гришей считались лучшими дежурными. Мы гордились этим, особенно дядя Гриша, он был в нашей паре начальником. Сейчас его силуэт темнел возле люка, я окликнул его и сел рядом. После чердачной непроглядной тьмы здесь, на крыше, было совсем светло, я видел маленькую тощенькую фигурку дяди Гриши, замасленную его кепочку с умилительной пуговкой и хитроватые, круглые сорочьи глаза, настороженно поблескивающие в темноте. Он поднял короткий твёрдый палец, ткнул им в небо и сказал:
— Подходит…
Я уже давно слышал этот накатный злой звук и тоже уставился в небо. Прожекторы наши метались по небу, толкались, на мой взгляд, без всякого смысла и всячески суетились. Бомбежка ещё не начиналась, зенитки молчали, и в этой погоне прожекторов за невидимым зудящим звуком, за этой личинкой смерти, которая его издавала, было что-то в высшей степени странное, лихорадочное. Так протянулись несколько томительных минут, и вдруг далеко на горизонте, как мне показалось, где-то за Самотёкой, а то и за Марьиной Рощей, прожекторы вдруг сбежались к одной точке на ночном небе, скрестились, образовав в центре своего соприкосновения как бы маленький молочно-голубой экран, и все вместе плавно потянули этот экран направо. Мгновенно грянули зенитки. Это было в самом деле как музыка, как весенний радостный гром, и я услышал, как рядом со мной засмеялся дядя Гриша.
— Схватили, — сказал он и всхлипнул. — Повели!
Я ничего не мог разглядеть, волнение ослепило меня, но дядя Гриша точно уставил свой маленький твёрдый палец куда-то вверх, крепко стиснул мое плечо, не отпускал его и всё приговаривал:
— Вот он, фриц, вот он, гляди же, раззява!
Я наконец увидел небольшое серо-металлическое пятно, тускло поблескивающее в тисках прожекторов. Вот когда мне сжало сердце! И хотя чудеса редко бывают в жизни, но здесь чудо случилось. Немецкий самолет вдруг резко клюнул, потом замедленно, нехотя лёг на крыло, неожиданно круто дёрнулся вниз и полетел, уже без порядка вертясь и кувыркаясь, как лист, и оставляя за собой чёрный коптящий след. Прожекторы провожали его за небосклон до земного предела, зенитки умолкли, и суровая тишина, сладчайшая тишина первого отмщения, повисла над московскими крышами. Я закрыл лицо руками. Дядя Гриша вынул из кармана краюшку хлеба и разломил её пополам.
— На, — сказал дядя Гриша, — покушай хлебца.
Я взял хлеб и стал жевать. Да будь оно проклято, вот когда я понял своё несчастье! Хромой. Хромуля. Хромоног. На призывной комиссии, когда пришёл мой год, меня даже не стали осматривать. Они сидели все рядом, все в белом, важные и властные, и, когда увидели меня, сразу согласно зачиркали карандашами. Один из них сказал:
— Негоден.
И все неторопливо покивали головами. Я тогда пошёл домой не слишком огорчённый. Я не думал, что будет война. Я не знал, что эта проклятая нога не даст мне делать самое нужное дело — бить врага. Я тогда увлёкся живописью и решил стать художником. Я прочитал, наверно, тыщи полторы книг и целыми днями ходил по музеям. Осваивал наследство. А потом высокий худой человек завербовал меня в театр. Он привёл меня за кулисы, дал мне краски, кисти, научил варить клейстер и кроить полотна, и театр покорил меня, поглотил меня всего, околдовал и поработил. Я ничего не видел тогда на свете, кроме кулис и декораций. Я полюбил запах клейстера и холста, волшебный запах грима, сухой запах париков и терпкий запах дешёвого одеколона. Я знал и любил запах сырых афиш и горячий запах раскалённых ламп. Театр ухватил меня крепко, и ничто, кроме писаных задников, картонных замков, фанерных Бастилий, слюдяных речек и электрических звёзд, не интересовало меня. Там, в театре, я и увидел эту удивительную женщину. У неё были прекрасные тонкие руки, и она не посмотрела, что я хромой. Нет, она не посмотрела, не сказала «негоден». И когда я сказал ей вчера, что ухожу в ополчение, она упала головой на гримировальный столик и заплакала. Она здорово плакала — я поверил. И как она спокойно предала меня сегодня. Как это у неё просто получилось. Обещала прийти и не пришла, только и всего. Мило и грациозно…
— …Второй заходит, — сказал дядя Гриша.
В небе опять плясали прожекторы. Били зенитки. Рычал, словно собираясь залаять, немецкий мотор.
И вдруг в воздухе что-то завыло, засвистело с ужасающим нарастанием. Воздух как бы заколебался, разорвался, меня вдруг бросило и втиснуло в крышу и потянуло с силой вниз, я распластался, заскользил и зацарапал ногтями, пытаясь вцепиться в уходящую жизнь, но смерч всё нёсся надо мной, и меня тянуло за ним, увлекало всё дальше и дальше к краю крыши семиэтажного дома. Носки моих ног упёрлись в водосточный жёлоб, воздух давил меня в затылок, пихал, чтобы проломить мною эту ничтожную жестянку, а я упирался ногами и кричал, но огромный взрыв заглушил мои крики. Дом задрожал весь, как в ознобе, и во внезапно наступившей тишине я услышал мелодические, робкие звуки разбивающегося стекла.
— В шестьдесят восьмой угодило, — сказал дядя Гриша, высовываясь из-за люка. — Разбомбило, видать. На палку-то, держись, ай встать не можешь?
Он протянул мне сверху багор, я взялся за него мягкими бескостными руками и полежал так несколько секунд, набираясь жизни от дяди Гриши. Это было как переливание крови. Потом я сжал пальцы посильнее и сказал:
— Подтяни чуть-чуть!
И дядя Гриша втащил меня.
— Мог слететь, — сказал он, — и очень просто.
Мы опять сидели с ним рядом, уже светлело, и мы смотрели на огромный столб пыли и дыма, подымавшийся совсем недалеко от нас.
— Везучие мы с тобой, — весело сказал дядя Гриша. — Ей-богу, везучие. Ведь это фугаска, полтонны, а то и тонна, не меньше, били небось по нас, да промазали.
Я сказал:
— Я пойду туда.
Но дядя Гриша не пустил меня.
— Мы на посту, парень, — сказал он. — Дай дождаться отбоя. Ещё не вечер.
Но всё-таки это был конец. Наступал рассвет. Побелевшие лучи прожекторов словно истаяли в огромном небе и исчезли один за другим. Снизу послышался звон колоколов пожарной команды. Долетали какие-то крики — видимо, начинались спасательные работы.
Было трудно сидеть здесь и ничего не делать, но приходилось терпеть.
Так прошло ещё с полчаса. Когда диктор наконец объявил отбой, я спустился вниз и побежал к разбомбленному дому. Он был оцеплен, пожарники и милиционеры никого не пускали. Их одутловатый начальник распоряжался работами. Сбежавшиеся со всех концов Москвы машины «скорой помощи» стояли с открытыми дверями и включёнными моторами. Отдельно стоял большой чёрный фургон. Под ногами хрустело битое стекло. Утренний ветер перегонял с места на место обрывки газет и лёгкие ватные хлопья. Горький запах пепелища, запах несчастья и сиротства пронзал душу. Два высоких санитара пронесли мимо меня носилки. На носилках лежала Лина. Она была голубая. На левой Лининой ноге не было туфельки. Санитары несли Лину бегом, неосторожно, не боясь причинить ей боль. Они вошли в большой чёрный фургон вместе с Линой и почти мгновенно вернулись уже без неё. Фургон никуда не уехал.
Я повернулся и пошёл домой.
3
Я вошёл в маленькую, обитую тёмной жестью дверь одной из комнат в подвале нашего театра. Было девять часов утра, и кладовщик Борис Филиппыч сидел уже на своём месте. Он не оглянулся, когда я вошёл, он барабанил пальцами по аккуратно прибранному столу. Набарабанившись, старик неприязненно глянул на меня из-под нависших лысых надбровий и протянул мне новенький, приятно пахнущий грецкими орехами, защитного цвета ватник:
— Прикинь.
Я надел ватник прямо на пиджак, он был мне чуть широковат. Борис Филиппыч посмотрел на меня и неодобрительно качнул головой. Потом он пошарил под столом и вытащил оттуда пару новых яловых сапог. Он кинул их мне под ноги. Сапоги упали, тяжёлые, как утюги.
— Примерь, — сказал Борис Филиппыч.
Я разулся. Сапоги тоже оказались немного великоваты, но я не обратил на это внимания и надел их без портянок, прямо на носки. Свои ботинки я оставил у Бориса Филиппыча, он взял их не глядя, кинул под стол и протянул мне какую-то серую разграфленную бумагу — это была, по-видимому, ведомость. Старик ткнул в неё пальцем.
— Распишись. — Он посмотрел на меня и побарабанил пальцами по столу. Потом сказал: — Ну, будь.
Сапоги стучали и плохо сгибались при ходьбе. Они касались острыми краями голенищ моих подколенок. Они стучали очень красиво, так, наверно, стучат голландские сабо. Добротные были сапоги, громоздкие, как рояли.
Волоча их по пустынному фойе театра, я прошёл на сцену. Было очень рано. Сцена была обставлена вчера ночью, рабочие ещё не появлялись. Артисты приходят позже рабочих, но всё равно я не хотел никого дожидаться, потому что не мог себе представить, как я буду себя держать, если придёт Валя. Слишком мне это было бы трудно. Я вышел на улицу и постоял у рекламных щитов, в холодке. Валя смеялась мне с этих щитов щедрой солнечной улыбкой. Она была здесь в разных видах, дирекция делала на неё ставку — молодая звезда. Солнце стояло над городом, оно лило свою благодать на пустынную площадь, оно припекало во всю ивановскую, и меня совсем разморило в моей ватной кольчуге. Мне стало жарко и не захотелось по жаре стучать в тяжёлых сапогах до дома, чтобы собирать вещевой мешок, но там на столе стояла недопитая Линой рюмка и одиноко торчал в стене гвоздик, на который она вешала плащ.
Из-за угла вышел Федька, наш молодой режиссёр. Он подошёл ко мне, ухватил меня своей мясистой рукой за локоть и сказал, поправляя роговые очки:
— Вот чёртова жара, пошли в Эрмитаж, а? Там певец какой-то приехал из-за границы. Прослушивание идёт.
Федька хрипло засмеялся, закашлялся, засипел, глазки его стали серьёзными, он поправил очки и невесело добавил:
— Фриц прёт как скаженный, а нам понадобились интимные песенки. Пошли — полюбуемся?
Я сказал:
— Не хочется.
Федька близоруко сощурился и спросил:
— Ты чего это в ватник нарядился, как Чайльд-Гарольд? И при сапогах?
— Я в пять часов уезжаю.
— Куда?
— В ополчение.
— Так, — сказал Федька.
Он постоял, помаргивая и томясь и растерянно переступая с ноги на ногу. Потом он решительно шагнул ко мне.
— Слушай, — сказал Федька, — у меня вопросик: а не наплевать ли нам на интимные песенки? Пошли погуляем, пока тихо.
У меня словно камень с души свалился. Я сказал:
— Ну что ж, пошли…
И я пошёл с Федькой, с этим тюленем, с этим близоруким бегемотом. Я шёл с ним рядом, скинув ватник, стуча сапогами, и радостно было мне, потому что человеку нужен друг, и на войну его должен провожать друг, а без друга человек не человек.
Мы пошли с ним по улице Горького, вышли на Красную площадь, постояли перед храмом Василия Блаженного. Мы всегда им восторгались. Потом мы перешли через мост, походили по Болоту и — снова под мост, на набережную. Москва-река дышала в наши лица, остужая их, и Кремль глядел на нас своими несказанными куполами, и зелёной травы на спуске у Большого дворца было так много, и такого она была изумрудного яркого цвета, что действовала просто как болеутоляющее.
Мы перешли ещё один мост и пошли Александровским садом обратно к улице Горького. Она была красива и широка, и нам, москвичам, всё ещё трудно было привыкнуть к новым её масштабам и к новым огромным домам, выросшим так недавно. Мягкий асфальт таял под ногами, и мои сапоги уже давали себя знать неприятной болью где-то над пятками. Мы шли вверх по улице Горького, прошли телеграф и Моссовет. Мы больше помалкивали, но когда дошли до Елисеевского магазина и прошли его, Федька вдруг сказал:
— А может быть, выпьем?
— После, — ответил я, — ближе к отъезду.
— А может быть, выпьем?
— После, — ответил я, — ближе к отъезду.
— Завтра, завтра, не сегодня — так ленивцы говорят, — сказал Федька. — Никогда не откладывай такие дела. Увидимся ли…
Мы вошли с ним в ресторан, где директором был знаменитый Борода, седой, красивый, весёлый человек. В этом ресторане питались почти все артисты Москвы да и вообще театральный народ. Я был здесь несколько раз с Федькой, бывал и с Валей.
В дверях нас встретил бритоголовый, с красным склеротическим лицом официант Лебедев.
Он сразу признал меня и показал глазами на свой столик. Этот старик служил здесь испокон веку, всю свою жизнь, и мне было приятно, что вот он, видите ли, узнал меня. Мы сели за столик, Федька хрюкнул и поправил очки.
— Дайте нам водки, — сказал он деловито.
— В такую-то жару? — усомнился Лебедев. — Может, пивка?
— Не надо нас воспитывать, — отрезал Федька. — Мы уже большие. Мы уже ополченцы. Сегодня уходим. Последний нонешний денечек. Видите, мы в ватнике! Когда ещё достанется? Потом будешь вспоминать — слезами обольёшься. Да и увидимся ли…
Мы выпили, поговорили с Федькой о театральных делах, и Федька налил по второй.
— Не стоит, — сказал я.
— После слезами обольёшься, — строго сказал Федька, — надо выпить, куме, тут, на том свете не дадут!
Мы выпили ещё.
— Не удовлетворяют меня театральные формы, — объявил Федька, — обветшали! Честное слово! Все стригутся под Станиславского. А надо, брат, работать! Понял? Надо искать! Где? В формах, вот где. Формализм — великая вещь, если им правильно пользоваться. Да-да. Давай, слушай, пей, не задерживай.
— Не охота, тебе говорят, — сказал я.
— Если ты уверен, что мы увидимся с тобой, друже, — сказал Федька, — тогда не надо… А если не уверен…
Мы выпили. Федька откинулся на спинку стула.
— Ты бы хоть рассказал, что такое твой формализм? Как ты его понимаешь? — спросил я.
Федька копался в своей тарелке, придирчиво рассматривая каждую капустинку сквозь очки.
— Формализм, брат, я понимаю, как формальное отношение к форме и формалистам!
Он захохотал и стал устанавливать тарелку на горлышко графина.
— Я, — сказал он надменно, — ищу новые формы! Довольно бриться под МХАТ! Что когда-то было прогрессивным, может сегодня оказаться глубоко реакционным. Ты об этом думал?
Он взялся за графин:
— Вот мы сейчас выпьем за то, чтобы нам увидеться! За чудную нашу землю минус фашизм! Давай!
Тарелка, конечно, вырвалась всё-таки из его толстых пальцев, упала и разбилась.
Лебедев стал собирать осколки.
— Это к счастью, — сказал Федька и полез под стол помогать Лебедеву.
Я наклонился к нему и тоже помогал.
— Значит, ты, Митька, вернёшься в полном порядке, — сказал Федька под столом и вылез оттуда, пыхтя и отдуваясь, — это к счастью, уверяю вас. Лебедев, голубчик, принесите нам ещё водки.
— Дудки, — сказал Лебедев, — вы уже.
— Что — уже? — удивился Федька. — Лебедев, поймите, мы провожаем его в ополчение. Ведь он у нас ребёнок. Он, может быть, там заболеет или что-нибудь ещё. Ведь его же жалко? Лебедев, у вас есть дети?
— Две персоны, — сказал Лебедев.
— Девочки?
— Мальчики.
— Большие?
— Одному сорок два, другому тридцать восемь.
— Вот видите, — сказал Федька, — принесите выпить.
— Всё, — твёрдо сказал Лебедев, — разрешите получить. После благодарить будете.
Я сказал:
— Пошли, Федька, собираться надо.
Я заплатил Лебедеву деньги и дал ему пять рублей на чай.
Когда я встал, Лебедев тронул меня за плечо.
— Увидимся, — сказал он, — крепко надеюсь!
4
Мы с Федькой пошли ко мне. Дома у меня всё было по-прежнему неприбрано. Линина недопитая рюмка стояла на столе, и гвоздик, на котором висел вчера её плащ, торчал на своём месте.
— Плохо у тебя, — сказал Федька. — Это чья рюмка?
— Не тронь, — сказал я.
Федька отдёрнул руку.
— Дамы? — сказал он. — Красотки кабаре?
— Она уже умерла, — сказал я.
Федька посмотрел на меня странно увеличившимися глазами.
— Я пьяный, да? — спросил он. — Ничего не понимаю.
— Сегодня разбомбило дом, в котором она жила, — сказал я. — Я, видел, как выносили её тело.
Федька отошёл от стола.
— Хорошая? — сказал он. — Красивая?
— Ты не про то, — сказал я.
— Любил? Крепко?
— Совсем не любил, — сказал я.
— Жалко как мне тебя, и эту девушку жалко, всех так жалко, хоть помирай.
Он скрипнул зубами и лёг на постель.
А я быстро стал собираться. Положил в мешок полотенце, рубаху, чашку, носки, булку, остатки вчерашней колбасы, ножик, галстук, сахар и карандаш. Подпершись локтем, Федька лежал на боку и смотрел на меня молча и сочувственно.
— Ну, а она? — сказал он.
— Кто? — сказал я.
— Сам знаешь.
Я промолчал.
— Тяжёлый ты человек, — пробормотал Федька, уминая под себя подушку. — Потому что хромой. Ты думаешь — ты гордый, а ты просто тяжёлый. — Он укоризненно покачал головой. — Может быть, что-нибудь передать на словах? — крикнул он. — Не молчи!
Но я всё-таки промолчал. Федька сел на кровать и стал причесывать прямые волосы толстой пятернёй.
— Вот что, — сказал он неожиданно. — Я решил: я с тобой поеду. Нельзя тебя одного отпускать. Слышишь? Я еду с тобой!
Это он говорил совершенно серьёзно, даю голову на отсечение.
— Не смеши народ, Федька, — сказал я.
Он погрозил мне кулаком и снова улёгся на спину. Кровать прогибалась под ним, он покряхтывал, глядя в потолок, а я вышел на кухню, разделся до пояса, умылся холодной водой и потом долго стоял, не вытираясь, от этого было ещё прохладней и благостней. Опьянение слабело во мне, выходило через поры освежённого тела, выдыхалось постепенно, и от этого на душе становилось всё лучше и лучше.
Потом я прибрал на столе, вылил старку из Лининой рюмочки, подобрал с пола обрывки бумаги, взял мешок, надел, встряхнул, чтобы он улёгся на спине посноровистей, и сказал:
— Пошли, Федька. Пора.
Он вскочил с кровати и тоже побежал к крану. Я оправил за ним кровать. Федька кончил мыться. Он сказал:
— Пошли.
Мы вышли в коридор. Я запер дверь комнаты и положил ключ в почтовый ящик.
Федька спросил:
— Это зачем?
Я сказал:
— Для ребят. Мало ли кто зайдёт, Андрюшка или Санька Гинзбург, у меня так всю жизнь.
— А может, сдать в домоуправление?
— У них есть запасной. Да они и про этот прекрасно знают.
— Ну что ж…
— Да, — сказал я, — пора. Пошли, Федька.
Мы пошли со двора. Солнце уже не палило так нещадно, и идти по теневой стороне было приятно.
— Далеко нам? — спросил Федька.
— Пять минут ходу, — сказал я.
Мы уже подходили к углу, когда кто-то окликнул нас. Это был наш актёр Зубкин. Маленький, надутый, с большим лягушачьим ртом, этот деятель давно действовал мне на нервы. Ставка на карьеру во что бы то ни стало, при сером характере дарования, неукротимый подхалимаж и хамелеонская способность ежеминутно перестраиваться отталкивали меня от него. Он кричал на уборщиц и гнул спину перед первачами.
Зубкин шёл за нами, через плечо у него была перекинута солдатская скатка — ярко-голубое детское одеяльце. В руках Зубкин держал большую хозяйственную сумку.
— Далеко собрались? — молодцевато спросил он.
— Недалеко, — сказал я.
— Он уходит в ополчение, — объяснил Федька. — Сегодня. Сейчас.
— А ты, значит, его провожаешь?
— Да.
— Ну что ж, — сказал Зубкин. — Всё правильно. Ты, Королёв, ведь сам просился?
— Сам, — сказал я.
— Значит, исполнилась твоя мечта.
Можно было подумать, что он мне завидует, что у него была такая же мечта, но она не исполнилась.
Мы подходили к залу Чайковского. Там стояла длинная очередь стариков, детей и женщин. Они ждали открытия метро. С четырёх часов метро открывалось как бомбоубежище. Зубкин замедлил шаг и пристроился к печальному этому хвосту.
— Ну, бывай, — сказал он браво. — Желаю успеха в борьбе с озверелым фашизмом.
Он протянул мне руку, я не взял её. Зубкин покраснел. Мы пошли дальше.
— Подожди, — сказал Федька.
Я остановился. Федька вернулся к Зубкину. Он тронул рукой свои очки и, уставив толстый палец Зубкину в грудь, громко сказал:
— Зубкин! Ты сволочь!
Мы пошли дальше.
— Он тебя съест, — сказал я Федьке.
— Подавится, — ответил он. — Не мог я себе отказать в этом. Если бы я сдержался, я бы сам был сволочь.
— Не кипятись, — сказал я.
Мы пошли ещё веселей, снова мимо нашего театра, я ещё раз увидел, как смеётся на афише Валя. Скоро мы пришли в большую школу-новостройку, стоявшую в маленьком, мохнатом от зелени дворе.
Народу здесь было видимо-невидимо, и особенно бросалось в глаза, что это в большинстве своём пожилой народ. Молодых было мало, очень мало, а вот морщинистых, толстых, седых было вполне достаточно. Все эти пожилые, толстые и седые люди были окружены жёнами и детьми. Во дворе стояла та особенная тишина, которая часто бывает в приёмных больниц, когда человек знает, что ложиться на операцию нужно, это неизбежно, тут ничего не поделаешь, и всё это на пользу, во имя здоровья и, может быть, самой жизни. А всё-таки внутри у тебя сиротливо, и боязно тебе, и торжественно. Близкие люди смотрят на тебя с любовью и страхом, с надеждой. И ты сам ощущаешь, что ты уже не с ними, а там, за чертой, ты сел на пароход, плывущий в неведомые суровые края, низко и протяжно запел гудок, швартовы отданы, судно отваливает от дебаркадера, и на берегу осталась твоя прежняя милая жизнь с васильками и веснушками. По мере того как пароход выходит на середину реки, струна, связывающая тебя с берегом, натягивается всё туже, становится всё тоньше, и от этого больно, но ты знаешь, что струна эта не лопнет никогда, она только истончается от расстояния и времени, и пронзительней делается боль.
Я пошёл в глубь двора, где стояли столики с цифрами и буквами, разыскал свою литеру, отметился и спросил у человека в железных очках, что мне делать дальше. Он сказал:
— Ступай, Королёв, за дом. Там котелки выдают, получи себе. Ты теперь под моим началом будешь, я твой командир. Бурин Семён Семёнович. Жди во дворе команды.
И он улыбнулся мне, но тут же насупился. Видно, считал, что командиру не к лицу улыбаться.
Я пошёл за Федькой, потом мы вместе пошли за котелком, и Федька ни с того ни с сего взял котелок и себе. Он был угрюмый и всё время поправлял очки. Мы стояли во дворе и ни о чем уже больше не говорили, а я всё думал, что во дворе много, очень много женщин, и как же это Валя сидит сейчас дома, или репетирует, или слушает интимные песенки, когда я стою тут в сапогах, у меня уже натёрты ноги и котелок в руке, и скоро-скоро поезд грянет, и прости-прощай, прогревай пока… Мне было непонятно её отсутствие, но я не ругался, не клял, просто я совершенно ничего не мог понять.
Так длилось довольно долго. Наконец ко двору подъехало несколько старых грузовиков, раздалась команда: «По машинам! Второй взвод, ко мне!» Я протянул Федьке руку, и он пожал её. Мы обнялись. Котелки гремели в наших руках во время объятья, я взял Федькин котелок и нацарапал на нём ножом: «На память» — и расписался. На зелёной краске было приятно резать, и получилось совсем неплохо. Федька ещё раз пожал мне руку, снял очки и стал их протирать углом пиджака. Я побежал строиться. Началась перекличка. Потом мы сели в машину, поехали на Киевский вокзал, повыскакивали из машин и погрузились в вагоны. Провожающих не было, мы сидели кто на скамейках, а кто на полу на корточках, ещё не знакомые, ещё не сдружившиеся, но уже связанные одной солдатской ниточкой. Вечерело, и за окном было слышно, как поездная бригада постукивает молоточками по колёсам, и доносился тихий чей-то разговор: «Отправляемся?» — «Да, с минуту осталось».
В это время в дверях нашего пахнущего карболкой вагона появилась стройная маленькая женщина… Она остановилась, держась за концы накинутого на плечи полушалка, и поглядела тёмными исплаканными глазами в глубь вагона. Негромким тоскливым голосом женщина крикнула:
— Василь Сергеич, ты здесь? Отзовись!..
Тотчас откуда-то из темноты кто-то испуганно откликнулся:
— Галя?
И, шагая прямо по ногам, мимо меня пробежал высокий седой человек. Женщина прильнула к нему, было слышно, как она плачет. Седой человек поднял её на руки, как маленькую, и вынес из вагона. Состав дернулся, седой вскочил на подножку, что-то неразборчиво крича, за окном бежала маленькая женщина, держась за концы стянутого на груди платка, колёса тарахтели, поезд набирал скорость. Мы поехали.
5
Тепло было в этом трясущемся вагоне, тепло и уютно. Где-то в самом отдалённом уголке горела единственная тусклая лампочка, в полураскрытые окна задувало прохладительным ветерком, сладко и ново пахло махоркой. Высоко в синем небе зажглись бледные звёзды и побежали за нами, я смотрел на них, смотрел неотрывно, и, хотя в вагоне было чересчур тесно и в общем очень неудобно, я чувствовал, что здесь уже поселился и жил невидимый, но горячий дух солдатского братства. И я сразу пошёл с ним на сближение, я раскрылся ему, и мне тотчас стало спокойней, даже душевная боль как будто немного притупилась.
Я старался не думать о Вале, просто сидел в темноте и вроде дремал. Я вообще дьявольски устал за эти мои последние сутки. Я привалился к стене, осторожно протянул ноги и задремал чуть-чуть покрепче, и тут-то оказалось, что прошедшие сутки не отпускают меня. Дремля и качаясь вместе с вагоном, я всё звонил куда-то в полусне, звонил, звонил и не мог добиться ответа и исходил бессильным отчаянием и сердечной тоской.
Видно, кто-то, проходя по вагону, толкнул меня, и я проснулся от несильной боли в боку. В вагоне стало ещё теплей и немного светлей. Прямо против меня, на уголышке, сидел русоволосый складный парень с простым и добрым лицом. Он снял с себя верхнее и сидел в одной майке, сверкая мощным разворотом белых плеч и бильярдными шарами бицепсов. Маленький человек, которого в полумраке можно было бы принять за мальчишку, маленький, но вполне взрослый человек, с седеющими висками, в огромном кожаном пальто и в такой же кожаной кепке, сидел рядом с русоволосым богатырём. Кепка спадала на уши маленького, и рукава его пальто были много длинней рук. Тут же, сложив на коленях загорелые мосластые руки, сидел человек, на три четверти состоящий из буйной ячменного цвета бороды. Я подумал, что такая борода немыслима без ярко-голубых глаз, похожих на цветок льна. Да, глаза у этого медведя были льняные, голубые, весёлые, смекалистые, такие глаза имеют только бывалые, настоящие люди, и мне очень понравились Лён и Ячмень. Там была ещё и Кукуруза. В улыбке человек обнажал ряд ровненьких, уже пожелтевших, как кукурузные зёрна, зубов. За ним — некто высокий в сером, с лошадиной челюстью, дальше виднелись бухгалтерский профиль, ёжиковая голова, орлиный нос, слоновое ухо и много, много ещё…
— Надо спеть, — сказал маленький человек и вздохнул, — надо спеть хорошую песню.
— Верно, — сказал сидевший в майке. — Валяй, Тележка, затягивай!
Меня поразило, что они уже были знакомы, были на «ты» и что у них даже и прозвища какие-то появились.
Маленький человек закрыл глаза.
Там вдали за рекой Загорались огни… —начал он, и в вагоне сразу стало тихо, и над перестуком колёс поплыл, зазвенел тонкий качающийся голос маленького человека, запевшего первую нашу общую песню:
В небе ясном Заря догорала…Он перевёл дыхание, получилась маленькая пауза, все мы вдохнули воздух и -
Сотня юных бойцов(это пели уже все)
Из будённовских войск На разведку в поля поскакала…Когда повторяли во второй раз, русоволосый парень взвился голосом куда-то высоко-высоко, в самое поднебесье, словно задумал совсем от нас улететь, -
Из будённовских войск… —но его удержал на земле чей-то глубокий тёмно-синий бас:
На разведку в поля поскакала…И тут мы все стали глядеть на маленького человека, стали глядеть с надеждой, нетерпеливо, торопя его и понукая, поощряя и прося…
Они ехали молча В ночной тишине, Ах, по широкой Украинской степи…С виду как бы совершенно спокойно повёл рассказ дальше маленький человек, но все мы знали, что встреча и бой неминуемы:
Вдруг вдали, У реки, Засверкали Штыки, Это белогвардейские цепи.И тут маленький человек заторопился, он пел, захлебываясь от ветра, свистящего в ушах, и дрожа от бешеной скачки:
И без страха Отряд наскочил На врага!..Теперь песня уже не гремела, она стлалась по низким волнам седого ковыля:
Он упал на траву, Возле ног У коня И закрыл свои карие очи… — Ты, конёк вороной, Передай, дорогой, Что я честно Погиб за рабочих!Слушая эту песню, я пел её вместе со всеми и думал, что это хорошая песня, что её не забыть никогда и что теперь пришла моя очередь её петь. То дело давно было, в восемнадцатом году, а теперь уже сорок первый, но это всё равно, пришла моя очередь, и пусть это будет не так красиво, без тонконогих быстрых лошадей и без свиста серебряной сабли, всё равно я горжусь тем, что пришло время, пришла моя очередь, и я пою эту песню вместе с моим отрядом и без страха иду на врага. И, может быть, думал я, у меня когда-нибудь будет сын, и я научу его этой неумирающей песне.
…Тусклая лампочка вдруг часто замигала, поезд как будто споткнулся на ходу, залязгали, набегая один на другой, буфера, и мы остановились.
Тотчас же от дверей вагона раздался негромкий, но повелительный голос:
— Выгружаться! На платформе повзводно стр-ройс-сь!
Один за другим мы протиснулись к выходу и попрыгали на платформу. В этой толчее и суете я потерял своих новых товарищей. Когда спрыгнул вниз, отбежал два шага в сторону и встал, озираясь по сторонам. Было здорово темно. Тучи плотно задёрнули небо, и в воздухе запахло крепким спиртовым запахом ночного дождя. Две-три капли, тяжёлых, как монеты, упали мне на плечо.
Я не знал, куда мне идти, не узнавая в этих суетящихся в темноте тенях никого из моих товарищей по вагону. Вдруг откуда-то слева донёсся протяжный и требовательный голос:
— Второй взвод, ко мне-е-е!
Я обрадовался этому голосу как родному и побежал к нему. У палисадника я остановился, узнав в кричащем человеке командира Бурина. Он раскинул руки и крикнул:
— Ста-а-новись!
Я встал в строй. Дождь усилился. Послышалась команда: «Направо! За мной ша-гом арш!» — и мерное похрустыванье наших шагов. Мы обогнули палисадник, прошли позади станционного здания и снова услышали строго-заботливый голос взводного:
— Под ноги! Ноги!
Впереди идущие чуть замешкались. Потом и я перепрыгнул через какой-то брус, взвод свернул вправо, прошёл мимо плоских и длинных амбаров, обогнул молчаливую группу огромных вётел и вышел на мягкую, мокрую, начинающую раскисать от дождя дорогу.
Сзади кто-то сказал:
— Мы на фронте.
6
Мы шли через тёмную дождливую ночь по размытой вязкой дороге, и я чувствовал, как набухает от дождя мой новенький ватник и въедливая, холодная сырость просачивается сквозь него. Лямки вещевого мешка натёрли ключицы, и они ныли и саднили. Я поминутно оступался, спотыкался, терял равновесие и хватался за товарищей по шеренге, чтобы удержаться на ногах, но всё это была бы ерунда, если б не ноги. Ещё сегодняшним далёким утром сапоги начали свою чёрную работу, и они не прекращали её ни на минуту, скребли и натирали мне своими каменными задниками пятки. Но по сравнению с теперешней болью утренние ссадины были просто пустяки. Сейчас сапоги разрушали мои ноги по-серьёзному, и я понял, что мне несдобровать, что с этим делом не шутят. Я шёл, не видя дороги, а ноги мои грызла страшная боль, каждую минуту я говорил себе, что не дойду, что больше уже не могу сделать ни шагу, и всё-таки шёл.
Я не знаю, сколько это продолжалось, наверно, очень долго. Темнота всё сгущалась, мы шли через самую толстую завесу ночи, был слышен наш недружный разрозненный шаг, и впереди иногда что-то неразборчиво выкрикивал взводный.
Наконец часа через три мы втекли в какую-то маленькую настороженную деревушку, и в рядах стало известно, что здесь мы будем ночевать.
— Да в любом сараюшке, — говорил кому-то человек (по голосу я узнал ячменную бороду. Он шёл почти рядом со мной). — Сено, солома, сухо — чего ещё? Отоспимся, а там дале пойдём, к месту назначения…
Я сказал голосу:
— Я с вами пойду.
Он живо откликнулся:
— А то с кем же? С нами, с нами, конечно. Вон и Тележка с нами, и Лёшка, да и ты тоже. Мы вроде как своя компания. Тебе как фамилия?
Я ответил. Он сказал вдруг важно, и мне показалось, что я вижу в темноте Ячмень и Лён.
— А меня будешь звать Степан Михалыч, я постарше тебя.
Этот разговор очень пришёлся мне по душе. Хорошо, что уже есть своя компания и что я тоже в компании, а я этого совершенно не знал. Я теперь шагал особенно внимательно и всё поглядывал в сторону Степана Михалыча.
Мы шли ещё и ещё, кружась по деревне и плутая в её переулках, случайно набрели на колодец, услышали скрип, увидели маленький огонёк, и тотчас к колодцу побежали прямо из строя многие из наших ребят. У меня давно уже пересохло горло, во рту было сухо, хоть помирай. Пот бежал по лицу и сейчас же высыхал, — такой я был разгорячённый, а дождём не напьёшься, особенно на ходу, так что я вместе с другими тоже отбежал к колодцу.
Там стоял маленький керосиновый фонарик. Как он дожил до нашего времени — непонятно, такой он был старомодный, древней формы, как паровоз, на котором ехал Стефенсон. Колодец был обыкновенный «журавль», распоряжалась здесь молодая женщина, она опускала лёгкое ведёрко вниз, ловко перебирая руками, как будто мерялась в чижика, жестяное ведёрко шлёпалось где-то неглубоко, и женщина подымала его кверху. Подавая нам воду, женщина глядела на пьющих, и из прекрасных огромных её глаз бежали небыстрые слёзы. Мы пили из её тёплых родных рук чистую холодную воду.
Старые, молодые, хорошие или плохие, мы все пили из её рук, это была наша женщина, и хотя она была молодая и очень красивая, я услышал, как старый человек с толстым носом сказал ей, отдавая ведёрко:
— Спасибо, мать.
Я напился воды досыта, а всё стоял. Жалко было уходить. Здесь на ветру, у маленького фонаря, в брызгах и скрипе старого колодца, сияли добрые прекрасные глаза, они отогревали душу, и не хотелось уходить. Но откуда-то издалека раздался негромкий, но слышный тенорок Степана Михалыча:
— Ми-и-тя-я!..
Я взглянул на женщину, она улыбнулась мне сквозь слёзы, я кивнул ей и побежал на зов, прихрамывая сильнее, чем обычно.
…Это был довольно большой сарай, наполовину набитый соломой, в темноте уже пахло чёрным хлебом, и слышно было, как возятся люди, шурша соломой и устраивая себе ночлег. Слышно было уже сладкое позёвывание с подвыванием, и звякание отстегиваемых ремней, и только что народившийся ядрёный храп.
Я сказал наугад:
— Степан Михалыч?
Он как будто ждал меня.
— Митька? — отозвался он строго откуда-то слева.
— Ага, — сказал я и двинулся к нему.
— Шляешься, — сказал Степан Михалыч. — Иди сюда, тут вся наша публика. Иди, малый, не бойсь. Тележка, посунься-ка малость. Лёшка, пусть-ка он с тобой лягет.
Степан Михалыч был за старшого. Все его слушались.
— Давай сюда, — сказал Лёшка.
Я пошёл на его голос и, дойдя, опустился на солому. За моей спиной солома стояла твёрдой колючей стеной, на неё можно было опереться. Надёрганная из этой стены, она лежала подо мной, как хрустящий, роскошный пуховик. Мне казалось, она светится в темноте небывалым золотым светом.
— Ещё суток двое пройдёт, пока до места доберёмся, — сказал Степан Михалыч. — Есть-то хочешь, малый?
— Нет, — сказал я, — устал…
— Отдыхай, — сказал Степаныч. — Устал, так отдыхай.
Я снял с себя ватник и положил его в головах. Теперь я пытался снять сапоги. Они не давались, и я сопел от напряжения.
— Давай помогу, — сказал кто-то рядом, и на фоне открытой двери я узнал маленького Тележку.
Я сказал:
— Не надо, я сам.
— Давай я, — сказал лежавший рядом Лёшка. — Сиди, Тележка.
Он встал на колени и помог мне стащить сапоги.
Снять носки я побоялся, потрогал только руками, носки прилипли к пяткам, и я знал, что под ними раны.
— Ноги сбил, — сказал я, — стёр к чёртовой матери, еле дошёл.
— Ноги надо беречь, за ноги солдата на губу сажают, — сказал Степан Михалыч.
— Ну и сапожищи же, — сказал Лёшка, — тут сотрёшь! Как из листового железа.
— Ты, Лёшка, — опять вмешался Степан Михалыч, — ты завтра разбей ему, ведь погибнет.
— Ладно, сделаем, — сказал Лёшка. Он помолчал, а потом спросил, чуть придвинувшись, как бы уже заводя разговор, касающийся только нас двоих: — Парень, а ты кем?
— Маляр я, — сказал я, — в театре маляр.
— В театре? Вот интересно! — живо воскликнул Лёшка. — Там всегда интересно. Артисты… Слушай, скажи, верно говорят, что артисты, когда на сцене плачут, они себе незаметно глаза луком натирают, чтобы слёзы текли?
— Брехня, — сказал я.
— А артистки красивые? — спросил Лёшка.
— Красивые.
— Все?
— Все.
— До одной?
— До одной!
— Врёшь.
— Лёша, — спросил я, — а ты кем работаешь? Кто ты?
— Я разнорабочий, — сказал он, — на заводе болванки таскаю. Делу ещё не выучился. Года не те, на фронт и то года не подошли.
— Выучишься, — сказал Степан Михалыч, который, видно, слушал нас. — Выучишься и будешь инженер или, как Тележка, — архитектор.
— Воевать нужно, — сказал Тележка. — Вам понятно? Нужно воевать, а мы что? Грыжевик да хромой, младенец да старик, да изжога…
— Не скажи, — сказал Степан Михалыч. — Ты, может, и грыжевик, а я изжога, а мы всё равно дело сделаем. Мы своё дело сделаем. Не скрыпи, Телега.
— Я не скриплю, — сказал Тележка. — Не в том дело, Просто хочется дать больше, чем можешь, понял? Больше и ещё в два раза больше.
— Это-то я понял, как не понять. Это в тебе душа горит, рвётся душа! Это понятно, это я вижу!
— Всё-то вы видите, всё-то вы знаете, дорогие наши Степаны Михалычи, — вздохнул Тележка. — Не вахтёр с «Самоточки», а чистый профессор кислых щей. Всё про людей понимает.
— Не строй из себя, — сказал Степан Михалыч, — брось смешки. Не глупей вас.
— Да нет, я серьёзно, — сказал Тележка и снова вздохнул. — Может, поспим?
— Пора, верно, — сказал Степан Михалыч. — Мить, ты что, уснул, что ли?
— Да нет, — сказал я, — нога болит.
— А ты где её взял… эту твою… хромость-то? — деликатно, боясь обидеть, спросил Лёшка.
— В детстве. Машиной стукнуло…
— Беда, — сказал Степан Михалыч.
— Но он ловко шкандыбает, — заступился Лёшка. — Ничего не скажешь, управляется. Это как у тебя получилось?
Он уже меня спрашивал. Но мне не хотелось об этом говорить, и я сказал:
— В другой раз, Лёша. Спать охота.
Он ничего не ответил, замолчал. А мне уж очень не хотелось вспоминать. Не хотелось, но оно само пошло. Всё-таки я снова увидел, какой я был тогда маленький, — я ещё поднимался на цыпочки, вставал на приступку, чтобы позвонить домой. На дворе было солнечно и весело, мы играли с ребятами в салочки. Отец вышел из дому с соломенной корзинкой в руках, он шёл на рынок, а мне всегда нравилось ходить с ним, не только на рынок, а куда угодно, и, когда я увидел его, я помчался к нему, уцепился за корзинку и стал просить его взять меня с собой. Но отец сказал, что ему нужно очень быстро обернуться и что я буду только мешаться под ногами. Я отстал, и он вышел из ворот, помахал корзинкой, а мне вдруг стало обидно и тоскливо, и я побежал посмотреть, как он свернёт за угол. На улице было мало народу, я видел, как отец свернул за угол, и я стал возвращаться, а в это время из каких-то ворот задом выскочил грузовик и огромной своей шиной переехал мне левую ногу.
Когда отец вернулся с рынка, я уже лежал в больнице. Я долго там лежал, а когда вышел, уже был хромой. Отец никогда не мог простить себе, что не взял меня тогда. С тех пор он всюду меня брал, всегда держал меня на коленях или, если это было нельзя, старался погладить по голове. И когда он меня так гладил, мама всегда плакала.
Я лежал в сарае, в темноте, закинув руки за голову, укрытый соломой, рядом со мной лежал разнорабочий Лёшка, обдавая меня своим молочным дыханьем, за широко открытыми дверьми в огромном небе бегали рваные тучи, дождь возился в соломе, как осенняя мышь…
7
Утром нас снова построили, и мы, отдохнувшие за ночь, пошли дальше и двигались довольно бодро. Ноги мои ещё болели, но Лёшка перед выходом взял у меня сапоги, долго колотил камнем и в конце концов раздробил чугунные задники и насовал по полпуда соломы в каждый сапог. Сейчас я шёл почти не страдая и чувствовал себя как в раю. К тому же и утро было весёлое: светило солнце, молодые облака разбегались по небу врассыпную, словно стараясь поскорее скрыться от строгого хозяина. С небольшими привалами шли мы почти весь день, и наконец нам сказали, что мы пришли.
Это было огромное поле, распластавшееся подле небольшой деревушки, стоявшей на двух берегах маленькой речки, от неё метрах в пятистах. Мы остановились на этом поле и вытянулись длинной, неровной, пёстрой шеренгой. Теперь на солнце хорошо была видна наша разнопёрая одежда, возрастная наша путаница и полная несогласица во всём, начиная от манеры двигаться до манеры стоять вольно. Нет, это была не армия, куда там, никакого сравнения! И у меня снова заныла старая косточка обиды на судьбу, не давшую мне стать настоящим солдатом.
Тем временем среди нас появились люди с верёвками и колышками и стали натягивать эти верёвки и колышки по одной прямой, только им одним ведомой линии. Это продолжалось довольно долго, шеренга наша расстроилась, многие уже сидели на земле или лежали, покуривая. Вдруг мы услышали звук автомобильного мотора, и прямо к нам, переваливаясь через кочки и ухабины, откуда-то выскочила маленькая «эмка», по уши заляпанная грязью. Машина не успела ещё остановиться, как из неё вырвался человек с измятым, жёлтым, нездоровым лицом. Человек этот взбежал на пригорок, повернулся к нам лицом и заговорил. Он был довольно далеко от меня, сильный ветер хватал слова у самого его рта и отбрасывал на правый фланг, и я почти ничего не слышал. Но по тому, как крылато взметались руки этого человека, по злому напряжению всего его тела было видно, что говорил он хорошо. Он потрясал кулаками и показывал в землю, он грозил врагу, и приказывал, и вёл нас за собой, и, когда правофланговые нестройно закричали «ура», мы, ничего не слышавшие, но хорошо почуявшие ненависть, пылающую в сердце оратора, мы тоже крикнули «ура».
Подъехали грузовики, нам роздали лопаты, и человек, говоривший речь, первым схватил лопату и со страшной силой вонзил её в землю. Он выворотил здоровенный ком, было слышно, как трещал дёрн. Не раздеваясь, не ожидая команды, мы похватали свои лопаты и накинулись на землю. Земля сотрясалась от наших ударов. Человек, говоривший речь, вскочил в машину, и она поскакала вдоль фронта работ. Вслед за её колёсами катилось горячее «ура». Мы рыли землю, мы копали, мы строили рвы, эскарпы и контрэскарпы… Как мы хотели, чтобы здесь, о сделанные нами укрепления, споткнулся и сломал бы свои омерзительные лапы коричневый паук! В этом был смысл работы, в этом была цель нашей жизни, и нас нельзя было остановить. Это было вдохновение. Потное, алчное до успеха, до осязаемых результатов.
Через час огромный вал свежеотрытой коричневой земли протянулся по трёхвёрстному фронту. Это было ослепительное начало. Мы смотрели и не верили, что это сделали мы. Мы гордились этой комковатой неприбранной землёй, и, хотя самое трудное было впереди, мы уже видели, что сможем — можем, чёрт побери! Вот они, результаты нашего труда, они пахнут сыростью, в них копошатся дождевые черви, но намечена первая линия огромного рва, значит, дело будет доделано и сослужит свою службу.
Я захотел пить. Река была неподалёку. Низкий неказистый кустарник рос на её берегу. Спустившись, я увидел нашего Тележку. Он сидел, сняв шапку и распахнув грудь. С седых его висков сбегали струйки, под глазами лежали лиловые тени, щёки пылали. Небольшой кружечкой Тележка черпал воду из реки и пил. Я взял у него кружечку.
— Митя, — сказал Тележка, клацая зубами. — Ты ноги сбил, а я руки натёр до крови — два сапога пара.
Он показал свои руки. На ладонях были огромные, уже успевшие лопнуть волдыри, из-под них выглядывала нежная, розовая, вся в кровавых ссадинах кожа.
Из-за куста вышел Степан Михалыч.
— Надо перебинтовать, — сказал он. — Не набрасывайся на лопату, не жми, не в том дело. Здесь умом надо, а так ты совсем из строя выйдешь, Телега…
Тележка сидел и смотрел на реку.
— Меня знобит, — сказал он.
— Ты эту воду пил?! — закричал Степан Михалыч. — Ну что мне с вами делать, интеллигенция необразованная! Ведь она речная, зябкая, в ней бог весть что плавает. Ведь это рыск! Не смей пить! — крикнул он мне и вышиб кружечку из моих рук. — Привезут воды или отведут на ночёвку — колодезной попьёшь! Посдыхаете тут, а кто работать будет?
Я прополоскал водой рот, зубы заныли, заломило челюсти. Я с удивлением посмотрел на хлипкого Тележку, — как он мог пить такую?
Мы снова вернулись на место и стали копать. Оратор давно уехал, многие бегали по нужде за кусты, первый порыв пролетел, и на нашем участке как бы наступили будни.
В это время к нам пришёл ещё один парень, я уже видел его издалека. Он был в очках, с наискосок сломанным передним зубом, щёгольски одетый в галифе и ковбойку.
— Кто здесь отделённый? — спросил парень.
Мы переглянулись. У нас не было отделённого. Лёшка сказал:
— Пусть Степан Михайлович.
Парень в очках сказал:
— Норму задания будете получать на пятерых. Я пятый. Меня Бурин прислал. Прошу любить и жаловать — Сергей. Любомиров.
Степан Михалыч сказал:
— Студент?
Парень сказал:
— Откуда вам это известно?
— По запаху чую, — улыбнулся Степан Михалыч. — Во мне рентген сидит на вашего брата. Становись.
Любомиров снял свитер и обнажил жёлтые неширокие плечи с рельефно выступающими узкими тугими мышцами. Не торопясь он взял лопату и отрезал аккуратный полновесный ломоть земли и аккуратно, как пекарь только что испечённый хлеб, ссунул эту землю позади себя.
Степан Михалыч сказал:
— Вполне.
Мы стали работать впятером. Мы работали так почти до вечера, и у нас дело здорово двинулось вперёд. Наша пятёрка ушла почти по пояс в землю, когда Тележка отложил лопату в сторону и сел на сырую землю.
— У меня температура, — сказал он, и все мы услышали его хриплое дыханье. — У меня, наверное, не меньше тридцати восьми.
— Час от часу, — сказал Степан Михалыч. — Говорил я тебе.
Лёшка положил свою выпачканную землей ладонь на лоб Тележке.
— Ага, — сказал он, — можно оладьи печь.
— Мне бы попить, — сказал Тележка тихо.
— Терпи, — попросил его Степан Михалыч.
— У меня там фляжка, я сейчас, — сказал Серёга Любомиров и ловко выскочил наверх. — У меня есть немного кипячёной.
Он убежал. Мы стояли вокруг маленького хилого Тележки, смотрели на его взъерошенные редкие волосы и не знали, что делать. Тележка дышал ртом, и хрипы резвились в его груди.
По гребню земли пробирался человек в перевязанных бечёвками бутсах. Торс его был обнажён и разукрашен разнообразной татуировкой. На груди, конечно, «Боже, храни моряка» и «Не забуду мать родную» — литература не новая. Длинный, кривой, как турецкая сабля, нос.
Человек подошёл к нам и уставился на Тележку спокойным и наглым взглядом выпуклых глаз.
— Доходяга, — сказал он, мотнув носом в сторону Тележки. — Фитилёк. Когда догорит, отдайте мне его пайку.
— Здесь тебе не малина, — сказал Тележка. — Иди, блатной, я ещё тебя переживу.
— Я не блатной, — сказал человек нагло. — Осторожней выражайтесь…
— Каторжан ты, — перебил его Степан Михалыч. — Самый что ни на есть каторжан. Форменная каторга.
— Ну, отделенный! — восхищённо засмеялся Лёшка. — Ведь как прилепил! Каторга — каторга и есть.
Человек на гребне, видно, не захотел скандала.
— Наплевать на вас, — сказал он презрительно. — До следующего раза!
И ушёл. А к нам спрыгнул вернувшийся Серёжа Любомиров. Он открыл фляжку и дал её пососать Тележке. Тележка устал сосать и сказал, отворачиваясь:
— Себе оставьте.
Наверху стоял Семён Семёныч Бурин — наше высшее начальство. Его привёл с собой Серёжа. Бурин сказал сверху:
— Обычная история. Работает горячо, вода ледяная. Пьёт эту воду, устал, вспотел, ветер, а он грудь растворяет. Чего же ждать? Только воспаления лёгких. А ну, подсадите его сюда!
Мы стали подсаживать Тележку. Бурин протянул ему руку.
— Сегодня ночуешь в школе со мной, — там штаб. Таблетки, то да сё. Если завтра полегчает, поставлю на лёгкую работу: гальюны будешь рыть. Не полегчает — отправлю в Москву.
— Полегчает, — сказал Тележка. — А что это за птица — гальюны?
— Это морское выражение, — серьёзно ответил Бурин, — а по-нашему, по-пехотному, — значит отхожие места.
— Но почему же именно я? — вскинулся Тележка. — Людей мало?
— Не разговаривать, слабосильная команда! — сказал Бурин. — Счастья своего не понимаешь! Иди за мной!
Он вроде бы улыбнулся, но, видно, опять спохватился, что командиру нельзя.
— Сказал и в тёмный лес ягнёнка поволок, — вяло пошутил Тележка и поплёлся за ним следом.
8
Это просто удивительно — до чего у меня болело всё тело. То есть не было буквально ни одного мускула, ни одного сустава, который не болел бы. Цирковые артисты называют это явление странным, царапающим словом: креппатура. Это случается, когда, давно не тренированные, они вдруг сразу в один прекрасный вечер бросаются в работу. Тут-то их и настигает эта самая «креппатура», явление крайней болезненности в мышцах, вызванное непомерной нагрузкой. Потом постепенно в результате ежедневной тренировки оно исчезает бесследно. Я, во всяком случае, надеялся, что оно исчезнет, потому что я так наломался за первый день нашей работы, что еле добрёл до предоставленного нам овина и грохнулся на солому, чуть не воя от страшной разрывающей боли во всех мышцах. Руки я, к счастью, почти не натёр, потому что всю жизнь у меня были довольно крепкие мозоли, да и краски растирать в десятилитровом ведре — дело не для слабеньких.
Но с ногами было худо. Утром Лёшка подарил мне пару новых портянок, но теперь, сняв сапоги, я с трудом оторвал портянки от пяток. Было темно, рассмотреть я не мог, да и всё равно заживить-то невозможно — ведь работать нужно каждый день, а босиком много не накопаешь.
Разговоров вокруг меня уже не было слышно, все спали, встать предстояло в пять утра, и я растянулся на соломе рядом с Лёшей. Я стал засыпать и, засыпая, подумал, что вот сон сразу одолевает меня и я могу не думать о Вале. Война и моя работа на войне вытесняют её из моей жизни. Эта мысль задела меня самым тоненьким краешком, она словно пролетела мимо моего сознания, едва коснувшись его, но потом покружилась где-то и прилетела обратно. На этот раз она дала знать о себе сильным и грубым толчком в сердце — и сна как не бывало. И я опять стал думать о моей невезучей и удивительной любви.
…Я нёс тогда за нею цветы.
Первый взрыв аплодисментов отбушевал, а на стихающую, вторую волну, когда зрители аплодируют уже от желания убить время, которое всё равно пропадёт в очереди на вешалку, на эту волну Валя не выходила. Она пробежала мимо меня и сказала на ходу:
— Цветы принесите мне, ладно?
Я стоял у кулисы возле выхода. Она успела ещё и улыбнуться мне, и я, как обожжённый, побежал к середине сцены, где стояли её цветы. Это была большущая безвкусная корзина, в ней застыли, словно сделанные из маргаринового крема, гортензии. Эти ресторанные цветы, мёртвые, ничем не пахнущие, всегда меня раздражали, и всё же я поднял эту тяжеленную пошлость и понёс, хромая и спотыкаясь. Когда добрёл до Валиной маленькой двери, я, не стучась, толкнул её ногой, вошёл и сразу опустил корзину на пол. Когда я разогнулся, Валя стояла передо мной. Видно, она только что сняла с себя театральное платье и халат успела надеть только в один рукав.
Я до сих пор не понимаю, что со мною сталось.
— Извините, — сказал я и схватил её за плечи.
Я хотел поцеловать её, а она отворачивалась, и я всё время думал, что сейчас она вырвется и я поцелую ухо или подбородок, и это будет самое ужасное. Всё это мелькало в моей голове со страшной быстротой. Но всё-таки я поцеловал её в губы. Да, это было так. Потом выпустил её. Она надела халат и сказала:
— Ну и ну! Смел, нечего сказать! Ступайте. Подождите на улице.
Я шёл по коридору, и все, кого я встречал по пути, казались мне красивыми и добрыми, даже этот новый гусак в лосинах, поступивший к нам не иначе как в поисках брони, артист на роли молодых подлецов, фашистов и разных дантесов. Совершенно одуревший, я вышел на улицу. Стал ждать Валю и дождался её. Она прошла мимо и процедила сквозь зубы:
— Перейдите на ту сторону и сверните налево…
Я опять молчаливо покорился ей, пошёл на ту сторону и свернул, догнал её в тёмном переулке с подслеповатыми фонарями. И тут она подхватила меня под руку и прижалась ко мне.
Дома у себя она быстро всё устроила, выпила водки сама и дала выпить мне, и такая она была весёлая и простая, что даже странно было, почему её в театре называют стервой…
Она налила ещё водки. Я раньше мало пил, то есть совсем не пил, и меня нельзя было уговорить, потому что мне не нравилась водка, её в общем-то противный вкус, но тут, у Вали, я пил как миленький, стоило ей только налить и предложить. Я живо научился. И вот она взяла налитую рюмку и, держа её в своих длинных пальцах, отошла в глубь комнаты.
— Вы мой поклонник? — сказала она.
Я сказал:
— Это какое-то не такое слово. Поклонник — это ерунда…
Она поправилась:
— Я имею в виду, ну, знаете, — театральный поклонник! Болельщик… Вам нравится смотреть меня на сцене?
— Я всегда смотрю вас.
— Я знаю… Я всегда вас вижу. Ага, думаю, хроменький опять здесь.
У меня застучало в висках.
— Над этим не смеются.
Она отошла ещё дальше.
— Байрон был хромым… Вы знаете, о ком я говорю?..
Я встал.
— «Прощай, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай…».
— Ого, — сказала она, — смотри-ка — интеллектушко! Не уходите, с вами стоит пить. Тем более что, по-моему, вы и ещё кое-чем похожи на Байрона.
— Чем же?
Она села на край дивана, рюмка всё ещё плескалась в её руках. Она сказала тихо и внятно:
— Байрон тоже был красивый…
«Значит, она уже пьяная, — подумал я, — пошла чепуху городить». Я так ей и сказал:
— Вы уже пьяная, да?
Она засмеялась, но тоже очень тихо и внятно, а потом сказала:
— Вот что: после всех ваших безумств там в театре нам ничего не остаётся другого, нам нужно выпить на брудершафт.
Я подошёл к ней. Мы переплели наши руки и выпили.
И она поцеловала меня, а я её… Трудно про это вспоминать.
А в ту ночь на дворе стоял май, я был совсем молодой, и я шёл по моей прекрасной Москве, впервые в жизни пьяный и впервые в жизни познавший женщину, честное слово, впервые в жизни! И всё-таки не было полного счастья во мне. Не знаю почему. Впрочем, к чему же притворяться, — знаю. Прекрасно знаю.
Я всё это понял много дней спустя. Я как-то лежал у себя на кровати, в окно начинал входить рассвет, и я вдруг подумал, что тогда, в первый вечер, она боялась пойти со мной рядом. Потом я подумал: а почему же она в театре никогда не разговаривает со мной, виду не подаёт, что любит меня? Ведь она же не замужем.
В общем, если мы были не в постели, мы были на «вы»…
И я любил, любил её…
…А потом началась война. Я узнал, как бомбили Брест и Киев и как гибли тысячи людей. В это время начали бомбить и нас, Россию залило кровью, и я не находил себе места. Я пошёл в военкомат, но меня не взяли, и это было хуже всякого оскорбления. Я был обречён на тыловое прозябание, я не находил себе места и метался по городу в поисках возможности попасть на фронт.
Были дни, когда казалось, что мне повезло: я сумел попасть в списки добровольцев кавалерийского корпуса, который формировался в Москве. У меня там был знакомый парнишка из осоавиахимовских активистов, он-то и подсунул мою фамилию эскадронному. Я возликовал, начал ходить на Хамовнический плац и ждал окончательного сформирования. Не хватало конского поголовья, лошадей проминали немногие ребята — старички этого дела, и все ждали: из армии обещали подкинуть конского брачку.
Я ходил на плац и стоял в сторонке у изгрызанной коновязи, все привыкли ко мне, и мечта моя, может быть, и исполнилась бы, но я сам себя разоблачил. Однажды, когда я только входил на плац, мимо пробежал какой-то старшина и крикнул, подтолкнув меня в спину:
— Седлай Громобоя, скачи на Плющиху к Никитченке, он тебе пакет даст. Духом! Аллюр — полевой карьер!!!
Не стоит об этом вспоминать. Ну его к чёрту! Они выгнали меня, едва увидели, как я вхожу в стойло. Этот сволочной Громобой за версту почуял, какой я кавалерист. Не успел я с уздечкой в руках войти к нему, как он тут же, без промедления, прижал меня своим косматым боком к стенке и стал давить.
В фиолетовом его глазу, в каждой кровавой прожилочке играла насмешка. Я застонал, пихая его кулаками, но он всё нажимал и, наверно, раздавил бы меня, если бы кто-то не крикнул в это время настоящим, серьёзным кавалерийским голосом:
— Пррринять!..
Тут он сразу отскочил как ошпаренный.
В общем, меня выгнали, и комэск Иванов химическим карандашом вычеркнул меня из жизни добровольного кавкорпуса. И я ушёл с Хамовнического плаца, сопровождаемый визгливым хохотом кобыл.
Да, теперь это вроде смешно, а тогда я думал — совсем пропаду.
Вале я про всё это не рассказывал, она ходила в последнее время какая-то притихшая, словно оглядывалась, словно искала своего места. Мы встречались с ней по-прежнему, только, может быть, не так часто, как в мае, и я крепко верил, что она любит меня. Эта вера держала меня на поверхности, а то бы давно бросился с Крымского моста в реку. Я тоже продолжал искать своё место в этой войне и однажды услышал, что набирают людей в ополчение, рыть окопы в Подмосковье. Я быстро всё разведал, вцепился в глотку райкомщикам, и тут уж я своего не упустил, я своего добился, и меня зачислили. Нельзя рассказать, как я обрадовался, что хоть куда-нибудь годен. Я первый из театра уходил туда, ближе к войне, артисты ещё только сколачивались в агитбригады или готовили репертуар для раненых бойцов, чтобы выступать перед ними в госпиталях. А в действующую армию, так сложилось, у нас пока никого не взяли.
И вот я зашёл к Вале, она сидела в своей уборной и учила какую-то роль. Когда я вошёл, она сказала:
— Среди бела дня, могут войти, уходите…
Я сказал:
— Валя, прощай! Я послезавтра ухожу в ополченье.
Я сказал ей «ты», поэтому она поверила сразу.
Она спросила:
— А как же…
Я понял.
— Там хромота не мешает.
Тогда она медленно положила голову на гримировальный столик, прядь волос опустилась в пудру. Она плакала. И я почувствовал, что буду любить её всегда. Я сказал ей, плачущей, придерживая плечом дверь:
— Завтра в девять приходи к аптеке. Проводи меня. Это прощание.
Она согласно качнула головой. Я вышел и отправился за разными справками, а весь следующий день мотался как проклятый, но к вечеру, к девяти, я был уже свободен, я накупил всякого барахла для закуски и стоял у тёмной аптеки и ждал. Напрасно, зря стоял.
…Так и не удалось мне спать в эту ночь, хотя всего меня ломило и здорово ныли побитые ноги. Не вышло мне тогда спать в открытом ветру и звёздам сарае, хотя все кругом давно уже спали, потому что вставать надо было в пять утра.
9
Когда где-нибудь в доме отдыха целый день забиваешь козла или когда в выходной выедешь с ребятами за город и тоже целый день собираешь землянику, то потом, ночью, когда земляника уже давно съедена или костяшки убраны, всё равно перед глазами долго ещё мелькают красные ягодиночки или белые очочки, и никак от них не избавишься. Так было и сейчас. Что бы я ни делал, в голове моей мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в своих железных ладонях, баюкали её или резали аккуратными ломтями. Лопаты шлёпали по земле, били по ней, дробили её, поглаживали, рубили и терзали, заравнивали и подскрёбывали её каменистое чрево. Иногда одна лопата, которой орудовал стоящий глубоко внизу человек, взлетала кверху только до половины эскарпа, до приступочки в стене, оставленной для другого человека, тот подставлял другую свою лопату и ждал, пока нижняя передаст ему свой груз, после чего он взметал свою ношу ещё выше, к третьему, и только тот выкидывал этот добытый трудом троих людей глиняный самородок на гребень сооружения. Лопаты, лопаты, только лопаты, ни бадей, ни блоков, ни тачек, ничего, кроме лопат. Дерьмо это было, а не лопаты. Они гнулись от жёсткого грунта, у них были плохо зашкуренные рукоятки, часто ломающиеся и занозящие наши руки. Какая беспримерная сволочь равнодушно подсунула нам эти лопаты? Ведь мы вышли защищать наших женщин, наших детей, нашу Москву?..
И всё-таки мы держались за эти лопаты, — это было наше единственное орудие и оружие, и всё-таки, что там ни говори, а мы отрыли этими лопатами такие красивые, ровные и неприступные ни для какого танка рвы, что сердца наши наполнялись гордостью. Эти лопаты, любовь к ним и ненависть крепко сплотили нас, лопатных героев, в одну семью.
Постепенно, день за днём, я узнавал новых людей на трассе. Теперь я уже знал, что вон там, за леском, показывает небывалые рекорды казах Байсеитов, батыр с лицом лукавым и круглым, как сковорода. Учёные говорят, что нависающие веки у азиатов появились для защиты глаз от ветра и солнца. В таком случае Байсеитов защитился особенно надёжно. Я его глаз никогда не видел. Две чёрточки, и всё. Но им гордились, его знали все, и я гордился тоже, что знаю его. Я знал также, что слева от меня работает Геворкян, оператор из кино, знаток фольклора и филателист, а с ним рядом Ванька Фролов, голенастый пекарь, белый, словно непроявленный негатив. Вон частушечник, толстый, как сарделька, Сечкин, он любит показывать фотокарточку своих четырёх ребят, похожих друг на дружку точно капельки. Это вот Киселёв, печатник, он хворый — грудь болит. Вот неугомонный шести десяти летний бабник — аптекарь Вейсман. Волосатый гигант Бибрик, задумчивый пожарник Хомяков. Масса ополченцев, такая безликая вначале, распалась для меня на сотни частичек разных, по-разному интересных, построенных на свой манер каждая. Снег падает, вон его сколько, сугробы, а каждая снежинка откована по-особому — протри глаза!
В эти дни установилась славная, почти летняя погодка, здесь не было затемнения, налётов не было и бомбёжек, не было патрулей, ночных дежурств, и все мы немного окрепли, подзагорели, налились в мускулах. Работали горячо, на совесть, потому что отчаянно верили, что делаем самое главное, помогаем своими руками, своим личным трудом близкому делу победы. Так что настроение могло быть и ничего, но мешало, что не было радио и газет. Это очень нам мешало и срывало душевный настрой, люди всё ждали чего-то, томились, болели сердцем за близких и за всё общее, и при встречах, когда шли на работу, или домой, или на перекуре, всё спрашивали друг друга, не слыхал ли кто чего? А слыхали, конечно, часто и всё больше плохое…
Тяжело это было, люди тревожились и теперь уже не бросались молча в солому после восемнадцати часов труда, не засыпали сразу, нет. Теперь подолгу сидели, покуривали, вглядывались в темноту и разговаривали негромко. По вечерам и ночью на соломе — я заметил — говорят тихо, настороженно, как будто враг близко, где-то рядом, и может услышать наши голоса и открыть по ним шквальный, смертельный огонь.
10
— Орёл отдали, — сказал холодным ветреным утром Степан Михалыч.
— Да, — сказал Фролов, — прёт, зараза, на Тулу… Есть сведения.
— Скоро сюда объявится, — сказал Лёшка и улыбнулся. Ему казалось, что он шутит.
Но Серёжка Любомиров крикнул так яростно, что стало жутко:
— Хрен ему в горло! Здесь ему конец!!!
Мне вдруг стало тошно от одной мысли, что фриц может подойти так близко к Москве. Меня сразу всего покрыло испариной, и, в который раз кляня свою мешающую идти на фронт уродскую ногу, я взял лопату и пошёл. За мною потянулись все, и мы снова начали работать, и работали сегодня особенно яро, молча, без разговоров.
Дело было на новом участке, я уже выкинул с кубометр. Лёшка был где-то рядом. Мы с ним теперь крепко сдружились, потому что он был золотой, золотой человек, иначе не скажешь. Мы работали с ним на склоне. Вокруг торчало много пней, видно, здесь сводили когда-то лес, а фронт наших эскарпов тянулся как по ниточке, и если нам по пути попадались пни, то мы их корчевали.
Мы с Лёшкой стали как раз корчевать огромный пнище. Пень запустил свои берендеевы пальцы глубоко в землю и не хотел вылезать. Мы собирались поотрубать ему все щупальца и спихнуть его в реку. Дело было нелёгкое, мы с Лёшкой сопели и пыхтели, не зная, как бы управиться половчей. В это время недалеко от нас раздался крик. Мы выскочили из окопа. За гребнем стоял Каторга. Увидев людей, он замахал руками и завопил:
— Кро-от! Давай сюда-а-а! Кро-от выкопался!!!
Мы сбежались и сгрудились вокруг Каторги. У него на лопате лежала маленькая чёрная шерстистая свинка. У неё был розовый подвижный пятачок. Свинка упористо шевелила передними сильными и когтистыми лапами. Городские жители, мы уставились на крота, как на чудо. Лёшка улыбнулся и наморщил лоб. Тележка присел на корточки, чтоб лучше видеть, Байсеитов сказал:
— Животная…
И на странное, ханское его лицо легла лёгкая, нежная тень.
Каторга пошевелил лопатой, чуть-чуть тревожа крота, ему хотелось отличиться, наглый, кривой его нос висел в задумчивости. Наконец вдохновение осенило его, и он заорал:
— Топить!
И, широко размахнувшись, подкинул крота к небу. Маленькая свинка взлетела, превратилась в точку и, описав кривую, булькнула в речку. Всё это произошло очень быстро, и можно было расходиться.
Но Геворкян тихо сказал:
— А жаль. Крот — он ведь нашей породы. Слушай, он же землекоп.
По реке плыла щепочка. Щепочка вдруг клюнула, как поплавок, а через секунду рядом с ней уже торчало маленькое рыльце: это наш бодрый работяга крот подумал, что жизнь — чересчур распрекрасная штука, чтобы расставаться с ней на заре туманной юности, всплыл и уцепился за щепочку. Лёшка первый это понял и, хлопнув себя по бокам, закричал, повизгивая от восторга:
— Ай, кротяга! Всплыл! Ай, чёртова сопелка! Спасать!!! — И, в чём был, золотой наш Лёха пошлёпал по течению вниз, зашёл в воду, подождал и вытащил крота.
Он вынес его на берег, встал на колени и, подув зачем-то на землю, положил крота. Крот трясся, и мы опять стояли над ним тесным кругом. Лёшка сказал строго:
— Дайте солнца!
И мы раздвинулись, чтобы крот мог отогреться.
А Лёшка снял сапоги, портки и трусы и стоял в одном ватнике, — мальчик с круглыми коленками.
Крот грелся, оживал, и всё становилось на место.
Нужно было идти работать, и так сколько времени потеряли. Я прошёл и задел Каторгу плечом. Я это сделал без умысла. Он посмотрел на меня и сказал, ухмыляясь:
— Ходи вежливо, жлобяра. А то тебе выйдет боком. Я накопляю на тебя матерьял.
Я не стал ему отвечать. Я пошёл к своему пню, стал с ним возиться и ждать Лёшку.
11
А ночью вдруг задул северный леденящий ветер, он сотрясал ветхий наш сарай, расшвыривал солому на крыше, и в открытые двери полетела сухая белая крупа. Мы проснулись полузамерзшие и сбились в кучу. Ветер пробирал до костей, было тоскливо, хоть вешайся, да иначе и быть не могло — на дворе стоял октябрь, проклятый октябрь сорок первого года, такой несчастливый для нашей земли.
— Теперь сарайной жизни конец, надышались вольным воздухом, — сказал Лёшка и вздохнул. — Чуть рассветлит — надо в деревню перебираться.
— Переведут организованно, — сказал Тележка. Он уже давно вырыл гальюны на всю нашу армию и теперь снова жил и работал с нами.
Но Лёшка, несмотря на свой незрелый возраст, был мужичок себе на уме. Предприимчивость так и кипела в нём.
— На Бога надейся, — сказал Лёшка с мудрой улыбкой.
Деревня Щёткино лежала немножко левее нашего фронта работ, километрах в полутора. Мы жили в её гумнах, совсем неподалеку от крайних домов, не встречаясь с её обитателями, занятые только своей работой, не имея никакой возможности выбиться из жестокого её ритма. Мы уходили затемно и приходили в темноте. Полевая наша кухня окопалась в лесочке, там мы и ели. Деревня нам была не нужна, мы были сами по себе, они — сами по себе. Знали только, что стоит Щёткино на двух берегах расширявшейся в деревенской своей части речки, что большая часть деревни стоит на той стороне, ближе к нашей трассе, и там же помещается наш штаб, и что есть ещё малая часть Щёткина, как бы затыльная, заречная его часть.
В сарае становилось всё холодней, но небо начало светлеть, и было уже видно, как серые недобрые тучи всползали на небо. Мы все стояли у сарайных дверей и смотрели в поле.
— Сходим постучимся, — сказал Лёшка. — Чем зябнуть, всё лучше.
Он двинулся к двери. Я пошёл за ним.
— А ты посиди, — сказал Лёшка, не оглядываясь, — чего тебе-то. Я всё сделаю.
— Я с тобой, — сказал я.
Мы пошли по узкой невидной тропке, по застывшей, сцепленной крепким заморозком земле. Было ещё темновато, и, хотя брезжило утро, казалось, что это сумерки и скоро настанет вечер. Деревня была голая и грязная, как немытая ладонь, вся какая-то пустая. Безрадостно было идти по её неприветным улицам.
Дома были какие-то полуслепые, и по Лёшкиной походке я видел, что ему неохота идти и проситься на ночлег ни в один из этих домов.
— Пойдём туда, за речку, через мост, — сказал он.
Мы спустились и пошли через мостик, ветхий, пугливо вздрагивающий под нашими шагами, потом поднялись в гору. Здесь у домов не было даже палисадников, ограды дворов сплетены чёрт знает из чего — из веток, из пиалок с надетыми на них ржавыми банками, из обрезков старой кровли, разноцветных тесинок, хвороста и прочего барахла.
— Бедность, — сказал Лёшка пригорюнившимся голосом. — Бедность, куда там. Толканёмся сюда?
Я кивнул. Дом был серый, старый, с похилившейся набок крышей, похожий на больного человека, которому уже трудно держать голову прямо. В окнах мелькал слабый огонек; видно, хозяйка встала спозаранку и теперь растапливала печь.
Лёшка взошёл на крылечко и постучал. Дверь открылась.
Лёшка сказал:
— Баушк, мы хочем у тебя ночевать.
Она сказала:
— А вас сколько?
Лёшка сказал:
— Ну, пятеро! Не замерзать же в сарае!
— Вы московские, что ль, ополченцы?
— Ну да.
— Прямо не знаю. Не знаю и не знаю. Изба-то махонькая, кроватев нету.
— Мы на полу, что вы, баушк.
— Было бы тепло, — сказал я.
— Топить-то мы топим…
— И мы когда дров притащим, — сказал я.
— Мы каждый день будем таскать, — сказал Лёшка. — Ведь мы из лесу ходим. Насчёт дров не сомневайтесь, баушк.
— Прямо и не знаю. Тесно уж очень. А люди, видать, хорошие.
— Мы очень хорошие, — сказал Лёшка. — Мы платить будем вам, баушк, у нас деньги есть.
— Деньги — это не надо, — сказала она. — Стесняюсь я, плохо вам будет у нас. Ведь нас трое. Да вас вон сколько — пять душ!
— В тесноте да не в обиде. Верно, баушк?
— Это-то верно, — сказала она, и мне послышалась какая-то невысказанная обида в её голосе.
А Лёшка пошёл с козыря:
— Мы вашей внучке сахарку будем давать, баушк.
— А когда придёте-то? — сказала она. — Я полы вымою. А так у меня мальчик, Васька, есть, ему если только сахарку, а внучек нет никаких…
— Мы вечерком придём, — сказал Лёшка. — Вы только нам соломки натаскайте. Как стемнеет, мы придём.
— Ну, я буду в ожидании, — сказала старуха и протянула Лёшке руку, — ребята вы больно участливые.
— До свиданья, — сказал я.
— Спасибо, баушк, — заключил Лёшка.
— Да не зови ты меня баушкой, — вдруг встрепенулась старуха. — Какая я баушка, я хозяйка, а не баушка. Это я неприбранная, утрешняя, вот тебе и мнится всё баушка. Я ещё хоть куда!
Она улыбнулась тихо и несмело.
— Вы зовите меня тёткой Груней, — сказала она, вдруг повеселев. — Ну, а вас как?
Мы назвались ей поочерёдно, и она сказала:
— Очень приятно…
Ещё раз простившись, мы ушли. Несколько минут мы шли молча, а когда сбежали к мостику, протопали по нему на штабную сторону и пошли потише, я сказал:
— До свиданья, баушк. Спасибо, баушк. Уж вы как-нибудь, баушк! Верно, баушк! Мы, баушк, да вы, баушк.
Лёшка схватился руками за живот, остановившись у края дороги, согнулся в три погибели.
— Сдохну! — закричал он. — Сейчас лопну! Ой, перестань!
— Что с вами, баушк? — сказал я.
— Замолчи! — орал Лёшка. — Умру! Я, говорит, ещё хоть куда!
— Я вас не понимаю, баушк.
— Перестань! — застонал Лёшка. — Ведь я подольститься хотел, повежливей чтоб выходило, понял, нет?
— Понял, баушк.
— Ой! — И Лёшка снова схватился за живот.
Наконец, отдышавшись, мы пошли с ним дальше.
— Устроились всё же, — сказал Лёшка. — Теперь в тепле будем, а это, брат, великая вещь. Возьмём Серёжку, Степан Михалыча и Тележку, напишем на доме: второе отделение второго взвода, — и ура.
Я сказал:
— Надо бы Геворкяна к нам и ещё казаха.
— Ага, — сказал Лёшка, — обязательно. И Фролова бы хорошо, и хворого этого, как его, забыл фамилию…
— Киселёв, — сказал я.
— Во-во. Его, — сказал Лёшка. — И еврея этого, что баб любит, хороший мужик, и пожарника, конечно, Хомяка.
— Давай, давай, — сказал я, — будем жить в одном доме тыща человек.
— А хорошо бы, — засмеялся Лёшка. — Я согласен. Гляди-ка!
Он показал пальцем в проулок. Там стояла замурзанная деревенская лошадка ростом с небольшого ослика, а за ней, на земле, лежала телега, гружёная брёвнами. Телега лежала на боку, и, видно, брёвна были увязаны ладно, по-хозяйски, потому что они не рассыпались, а только съехали набок и своею тяжестью перевернули телегу. Простоволосая девчонка в клочковатом полушубке пыталась поставить телегу на колёса. Она кричала на лошадь свирепым мужичьим голосом:
— P-разом! Давай! Ну, господа бога, давай же!
Лошадь корячилась задними ногами, тужилась, отставляя репицу, девочка налегала ключицей, а телега, конечно, оставалась на месте. Я пошёл в проулок к этой девчонке, и Лёшка пошёл за мной. Мы подошли поближе. Девочка разогнулась, обернулась к нам лицом, и тут у меня похолодело в груди. Передо мной в стареньком рваном полушубке стояла васнецовская Алёнушка. В руках её был кнут, и она тяжело дышала, платочек висел на шее, держась одним концом. Так вот она какая стала, когда подросла! Мастер, написавший её у ручья, наверно, не знал её дальнейшей судьбы, вот почему так задумался он вместе с нею тогда. Теперь Алёнушка уже заневестилась, ей можно было дать на вид лет шестнадцать, и как же была она красива, передать нельзя! Увидев нас, она перевела дыхание, поправила платочек и сказала хрипловато и дерзко:
— Давай, помогай, кавалеры!
Мы поставили её телегу на колёса. Когда ставили, я видел рядом со своей Алёнушкину руку, озябшую и красную и такую удивительно маленькую. Мы все кричали на бедную коняшку, и Алёнушка кричала что-то дикое и устрашающее.
Потом она поправила волосы и сказала:
— Ай да мужики! Что значит мужики-то… Плохо бабам без мужиков!
Лёшка сказал строго:
— Тебе сколько лет?
Она удивилась.
— А тебе на кой?
— Больно ругаться здорова. Не дело.
Она отвернулась и сказала, уставившись в забор:
— Это я без души и мысли. От тягости. А тебе не нравится — вали отсюдова.
Я сказал:
— Как вас зовут?
Она обернулась и посмотрела недоверчиво.
— Дуня. Табариновы мы.
Я протянул ей руку, и она тотчас, улыбаясь, протянула мне свою озябшую, маленькую ручку.
Я сказал:
— Мы теперь у тёти Груни будем жить.
— За речкой?
— Да.
— Там тише…
— Вот и хорошо.
— Кто как любит…
— Верно.
— Ну что ж. Спасибо.
Она взялась за вожжи.
— Не стоит, что вы. Увидимся?
Она снова посмотрела удивлённо.
— А у вас есть желание?
— Есть.
Она ответила:
— Было бы желание, а там, бог даст, увидимся…
Она задёргала вожжами, закричала на лошадь, быстро глянула на меня из-под шёлковых, небывалых ресниц и пошла за лошадью, пошла такая маленькая и такая гордая и сама по себе. Только она уже не ругалась больше, нет, она только помахивала своим умилительным кнутиком. А я остался и не мог двинуться с места, а рядом со мной стоял Лёшка, и, наверно, у меня был не совсем обычный вид, потому что Лёшка вдруг толкнул меня и окликнул испуганно:
— Ну? Ты что? Окаменел, что ли?
12
Как только мы с Лёшкой пришли, товарищ Бурин, наш командир, собрал нас всех, построил и сказал:
— Наступает зима. Вот. Чего же ожидать? Безусловно холода. Переходим, значит, на зимнее положение. Уже договорились: спать будем в домах. Теперь новые распоряжения: побудка устанавливается в четыре утра. Перекуры — это бич. Сокращаем перекуры с десяти минут ежечасно до пяти. Обед — час. Много. Полчаса. Из этого приказа мы видим о том, что рабочий день выигрывает сами считайте насколько. Чем вызывается? Последним напряжением. Прёт, бл…га. Так что надеюсь на вас.
Он кончил свою речь и ушёл, поблескивая железными очками. А мы разошлись и снова стали грызть нашу землю. Буринский приказ иссушал душу. Не потому, что он ухудшал нашу жизнь, а потому, что было ясно: это не его приказ, не он это выдумал, чтоб нам меньше спать, этот приказ — результат обстановки на фронте, этот приказ идёт сверху, а если там так приказывают, значит, дело наше плоховато, значит, пока ещё ничего нет хорошего после трёх месяцев войны.
Горько это было, сказать нельзя как. Оторванные от мира, от близких, без газет, замёрзшие, плохо оснащённые и безоружные, мы готовы были работать, работать, работать — только бы увидеть в глазах командира светлый отблеск успеха, услышать в его голосе торжествующий отзвук первых побед.
Небо было серое, цвета солдатских шинелей. Ветер усилился, и скоро пошёл дождь, осенний, крупный, седой от горя дождь. Над трассой висело молчание. Лопаты шли туго, темп работы упал. За этой завесой дождя, снега и туч послышался одинокий саднящий звук. Над нами пролетал фриц. Все подняли головы к небу. Звук ушёл по направлению к Москве. В перекур мы развели костёр. Голая ольха, стоящая на берегу реки, ломалась легко, как сахар, и шла в огонь. Она горела ярко и красиво, почти не давая тепла. Я стоял близко у костра, и, когда отошёл, — мой ватник тлел в двух местах. Я прибил огонь ладонью.
— Хоть бы по винтовке дали, в случае чего, — сказал Лёшка.
— Да, лопата не стрелит, — поддержал его Горшков, беззубый плотник с «Борца».
Вот, вот. Это было то самое, что давно уже глодало наши души. Серёжа Любомиров остервенело ударил по комку глины, навалившейся ему на сапог.
— Ах, чёрт его раздери, — он весь затрясся и стал растирать себе шею. — Это-то и терзает. Драться же хочется, драться! Разгромить его в порошок, в пыль, в тлен и прах, чтобы кончить раз и навсегда. А где оружие? Я вас спрашиваю, где оружие, ну?
— У армии есть оружие, — сказал Степан Михалыч. — Не робь, Серёга!
— Да я тоже хочу, пойми ты! Я что, рыжий, да?! — Серёжа кричал как безумный. Ой поднял лопату над собой и, не в силах сдержаться, вымахнул на гребень. Он потрясал лопатой. — Вот она, — кричал он, срываясь и захлёбываясь. — Вот она, лопатка, старый друг! И всё! А что ещё? Когти, да? Зубы, да? Мало этого, мало!
— Всё сгодится, — снова сказал Степан Михалыч и покачал головой. — На этот раз, сынка, всё сгодится. Одному там танк или, скажем, миномёт, а нам с тобой лопата. Не впадай ты, Серёжка, в панику, без тебя тут не ай какой вечер танца.
Серёжка снова спрыгнул к нам и принялся за работу. Ветер полоснул как ножом, деревья завыли и стали бить веткой о ветвь в тщетной надежде согреться. А мы работали молча и зло, и я всё время думал, что Серёжка тысячу раз прав.
А к полудню ветер немного расчистил небо, стало виднее вокруг, и долгий седоволосый дождь прекратился. Солнце блеснуло, яркое и холодное. Близилось время обеденного перерыва, и к нам на участок принесли газету. Номер этот был недельной давности, но мы и такому были рады. Степан Михалыч бережно развернул газету и передал её голубоглазому наборщику Моте Сутырину. Мы встали вокруг Моти широким полукругом, закурили, наскрёбывая остатки махорки, и засунули застывшие руки в карманы. Степан Михалыч убедился, что мы готовы.
— Давай, Мотя, — негромко сказал он. — Послухаем наши дела…
Да, плохие вести читал нам свежим певучим голосом Мотя Сутырин, плохие, не дай бог. Каждое слово сводки резало нас как ножом, било безменом по темени, валило с ног.
«Оставили». «Отступили». «Отошли». «Потеряли». И это всё мы должны были слышать про нашу армию, про нас? А немцы, значит, гуляли по нашим полям, они топали и свистели, жгли что ни попадя и пытали комсомольцев?! И всё это мы слышим наяву, не в кинофильме, не в старой книжке про гражданскую войну, а сегодня, сейчас, под Москвой, мы, живые, стоим и слушаем это, засунув руки в карманы?!! Это было невозможно, нельзя, нельзя понять…
— «В деревне Дворики, — читал Мотя, — фашистский ефрейтор изнасиловал четырнадцатилетнюю Матрёну Валуеву…»
— Громче! Не слышно… — перебил Мотьку Каторга и стал расчёсывать грязные цыпки на потрескавшихся руках.
Мотька замолчал и поднял на Каторгу свои пасхальные глаза. Было видно, как задрожала газета в Мотькиных руках.
— Врут это, — снова сказал Каторга, глумясь. — Один на один не изнасилуешь!
Я обошёл Лёшку, пройдя перед Бибриком и Киселёвым, вышел вплотную к Каторге и прямо с ходу дал ему по морде. Он зашатался и отскочил.
— Ну, всё! — торжественно сказал Каторга и выплюнул длинную тесёмку крови. Он всё ещё отступал, словно для разбега. — Уж пошутить нельзя человеку! — крикнул он надрывно. — Шуток не понимаешь, хромая ты гниль? Теперь всё! — Он стал приседать в коленках для пущей зловещности. — Теперь пиши скорей мамаше, чтобы выписала тебя из домовой книги!
Каторга выхватил нож и, горлопаня и матерясь, стал исполнять увертюру перед тем, как ударить. Он жеманничал, и красовался, и рвал на себе рубашку, и всё время напоминал мне о прощальном письме к мамаше.
Но у меня не было матери. Я побежал к нему навстречу, нога мешала мне, но я добежал и снова дал ему изо всех сил.
Теперь он упал, и я кинулся ему на горло. Каторга изловчился и тусклым свои ножом резанул меня, где сердце. Ватник спас меня. Нас растащили. Шуму не было. Я пошёл на место. Каторга кликушествовал, не отдавая ножа, и клялся, что мне не жить.
Я видел, как рвётся к нему Лёшка. Но Байсеитов остановил Лёшку и вежливо взял Каторгу за руку. Каторга мгновенно позеленел, руки у Байсеитова были страшней волчьего капкана. Байсеитов отпустил его.
— Читай, Мотя, дальше, — тихо сказал Степан Михалыч.
И Мотя стал читать дальше.
13
Наш учётчик Климов заболел. Он метался на соломе, хрипел, никого не узнавал и дико кричал: «Бей» на каждого, кто подходил к нему. Случилось это на второй день нашей жизни у тётки Груни. Маленький желтоволосый её сынок смотрел на Климова и боялся. Я сходил к Бурину и доложил ему обо всём. К концу дня стало известно, что Климова повезут в Москву на каком-то чудом добытом грузовике. Повезёт Климова наш Вейсман, аптекарь, старик с лицом президента, бабник и звонарь. Представлялась возможность написать письмо. После работы мы сидели кто где и строчили.
Я сидел у изголовья Климова, слушая его бред, и писал письмо Вале:
«Валя, я жив. Я посылаю тебе это письмо с оказией, чтоб ты знала, что я жив. Ты плакала в тот день, когда я сказал тебе, что уезжаю. Ты плакала, Валя, и я вдруг поверил, что ты любишь меня. Верно ли я подумал? Ведь ты никогда ещё не говорила мне о любви. Но когда ты заплакала, узнав, что я уезжаю, я вдруг совершенно поверил, что ты меня любишь. И понял ещё и то, что я-то тебя люблю, и что это написано во мне большими буквами, и я всегда могу сказать это при всех, не стыдясь. Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.
Почему ты не пришла проводить меня? Ведь мы бог знает когда встретимся. Я ступил на тропу войны, как говорили индейцы моего детства, и теперь не сойду с этой тропы до самого конца. А если я выживу сегодня, здесь, я пойду дальше, а если и там я выживу, в пятистах боях, я пойду в пятьсот первый. Я пойду несмотря на то, что хочу быть рядом с тобой, живой и желанной, я пойду несмотря ни на что. И это не мальчишеская жажда подвига, нет, это железная необходимость, это моя правда, мой долг, мне иначе не жить. И вот вопрос: зачем я пишу тебе об этом? Тут ответ простой, Валя: сказать нужно, нельзя молчать, а ты вот меня любишь — значит — тебе. Но ты пойми правильно, это не печальное письмо, я хочу дожить до Победы, и я доживу до неё, я вернусь домой живой и здоровый, и я тебе очень понравлюсь, потому что я буду весь в орденах и со шпорами, и я увижу тебя и обниму.
Я сижу сейчас в полутёмной комнате тётки Груни, приютившей нас в своей ветхой хибарке. Нас здесь немного, четырнадцать человек да трое хозяев. Невообразимо тесно, мои товарищи тоже пишут письма, они яростно скребут карандашами. Карандаши скрипят, я слышу любовный хор карандашей, их соловьиный мощный разлив…
Если бы ты написала мне! Это письмо передаст тебе один из наших, верный человек. Напиши хоть три слова, ты сама догадаешься, какие слова я хочу услышать от тебя. М.»
Я сложил нескладное это письмо в треугольник и заклеил его сахаром. Аптекарь Вейсман сидел в углу и штопал носки. Я подошёл к нему.
— Вейсман, — сказал я, — хотите иметь слугу и раба?
— А на хрена? — сказал Вейсман. — Что я — барон?
— Слушайте, старик, урвите для меня десяток минут. Заезжайте по этому адресу и передайте это письмо в собственные руки. И возьмите ответ.
Он поскрёб в затылке и сказал:
— Если дело любовное, то я постараюсь.
— Любовное, — сказал я, — не беспокойтесь.
— Красивая? — спросил Вейсман, и в глазах его зажглись недобрые огоньки.
— Ну, — сказал я, — вы таких и не видали.
— Почём ты знаешь, что я видал и чего не видал?.. — Он посмотрел на меня с превосходством. — Я такое видел в этом смысле, что тебе и не снилось… Так красивая, говоришь?
— Да, — сказал я твёрдо, — красивая!
— Приложим усилия, — сказал Вейсман важно, как президент. — Только бы не подвели с обратной машиной. Готовсь, привезу тебе целую жменю маринованных поцелуев. Иди, не мозоль глаза!
И он сунул моё письмо в карман, как суют измятый носовой платок.
14
Этот собачий пень портил нам с Лёшкой линию нашего участка, его обязательно нужно было свалить в реку. Я возился с ним долго, срубить корневища лопатой было очень трудно. Лёшка возился немножко ниже по склону. Мы с ним договорились, что когда пень будет подготовлен, мы вместе спихнём его. А пока я уже настолько взмок, что мне нужно было скидывать ватник. На таком холоде. Вообще я никогда не думал, что ватник может так быстро износиться и продырявиться в стольких местах. Ветер свободно простреливал его во многих направлениях, и я прямо не знал, что делать с этим треклятым холодом. Я был весь замёрзший. Я был всегда и везде замёрзший. Снизу доверху, и вдоль и поперёк, и внутри тоже. Согревался я только тогда, когда непрерывно махал лопатой, вот тогда было ничего, тепло. Поэтому я работал бойко. Ещё я согревался ночью в избе у тётки Груни и дяди Яши. Славные были они люди, и тётка эта и дядька. Жаль только, что мы не успели ещё толком познакомиться, две-три раскуренные в дружелюбном молчании самокрутки — вот, пожалуй, и всё. Времени у нас не было на знакомство. Ночь, темнота, теснота, храп. Стук в окошко. Темнота, теснота, оделись, пошли. Лопаты, лопаты, лопаты. Земля, земля, земля. И снова ночь, темнота, теснота, храп. Вот как оно было. Но всё-таки дядю Яшу я полюбил. Он был похож на Иисуса Христа или на князя Мышкина. Они вообще, по-моему, похожи. Дядя Яша дома всегда ходил в рубашке враспояску. Дядя Яша был слабогрудый и говорил глухо. Вместо прощания он всегда по утрам изрекал:
— Бей фрица, и больше ничего!
И уходил, прямой, с чахлой бородой, ну пророк и пророк.
Он уходил ещё раньше нас. Трудно было прокормить даже себя и сына, война несла с собой и голод, и отсутствие рабочих рук в деревне, как и в городе, — словом, всё, как полагается…
Когда дядя Яша уходил, мы кормили его Васятку, маленького, хилого и милого, как больной котёнок, мальчонку. Мы давали Ваське хлебца и сахару. Тётка Груня плакала неслышно, когда мы кормили малыша, а он грыз сахар и протягивал на липкой ладошке матери, — делился, значит, угощал. Она отказывалась, а мы отворачивались, чтоб не видеть всего этого. Потом мы уходили, напившись кипятку. Два раза я в сырой предутренней мгле за мостиком видел васнецовскую Алёнушку, Дуню Табаринову, я махал ей рукой, и она приветливо отвечала мне тем же, милая, сказочно красивая девочка с красными, ознобленными руками.
В эти дни мы должны были соединиться с идущими нам навстречу ополченцами, и линия контрэскарпов казалась мне бесконечной. Я представлял себе всех нас сидящими внутри этого прочнейшего пояса. Вот он, фашист, прёт, прут его танки, пехота, они наступают, но стоп! Шалишь, фашистская морда, не тут-то было, не пройдёшь! Танки их растерянно тычутся вправо и влево, — шутка ли, перед ними неодолимое препятствие, они замешкались, выключили моторы, а мы их поливаем, а мы их поливаем огнём! Они валятся во рвы, вырытые нашими руками, и здесь находят свою смерть, и благодарная история вписывает наши безвестные имена золотыми буквами на свои сияющие страницы…
…Но пень покамест портил мне всё дело. Он всё-таки заставил меня скинуть ватник, в такую-то погоду. Пень уже висел на одном корешке, но сколько я его ни пихал, он и не думал двинуться с места. Я решил подрыть его ещё немного. Невдалеке, немногим пониже меня, копошились Лёшка с Тележкой. Они выкорчевали уже три пня. Чуть левее их орудовал Степан Михалыч с Серёжкой Любомировым, и у них тоже были успехи, а я всё ещё возился со своим Берендеем. Я стал сбоку подрывать под ним яму. Здоровый был пнина и страшный, как леший. Я выкинул две-три лопаты из-под туго вросшего, похожего на морской канат корня и увидел, что пень пошёл. Он наклонился вперёд всем своим почерневшим, заросшим плесенью срезом и, видно, собирался кувыркнуться. Он уже заходил на кувырок и мог меня придавить. Я отскочил, положив руку на его жёсткий кабаний бок и подпихивая его. В двух шагах под пнём, спиной к нему, стоял на четвереньках Лёшка. Пень заходил уже за ту точку, перейдя которую, он понесётся вниз стремглав, страшный, как зверь. Я попытался остановить его и схватил за торчащий снизу сук. Лёшка всё ещё возился. Язык у меня стал толстый, он не поворачивался во рту, это было как во сне, но я превозмог наваждение и крикнул:
— Лёшка! В сторону! Берегись!
Он сразу понял, пригнул голову и быстро передвинулся на коленях вправо, а пень повалился боком, очень мягко подвернул мой палец под сучок и наконец, словно окончательно надумав, как мальчишка, ринулся галопом вниз, скача и подпрыгивая легко, несмотря на свой вес. Он так и докатился до самой речки, скача и приплясывая, вбежал в речку по сукастые свои колени и встал.
А я смотрел на свой большой палец. Он висел почти отдельно, как с чужой руки. Он уже синел. Испарина выступила у меня на висках. Лёшка подбежал ко мне. Он сказал:
— Сломал?
Я сказал:
— Не знаю.
Вокруг уже собралось много народу. Степан Михалыч положил мою кисть на свою широкую ладонь.
— Нет, — сказал он, — не сломал, нет.
— Растяжение, — сказал Тележка.
— Вывих…
— Теперь тебя отправят…
— Не работник, ясно.
Стоявший неподалеку Каторга, вытянув шею, каркнул:
— Это он сам над собой сделал, самострел клятый…
Лёшка погрозил ему кулаком.
— Позовите Сёму, — сказал Байсеитов.
Серёжа Любомиров сказал:
— Сейчас.
Но кто-то уже вёл Сёму. Он был как гном, бородатый и горбатенький. Я его знаю по Москве, он расклейщик афиш, свой брат, такой же, как и я, служитель муз.
— Ну-ка, — сказал Сёма, — покажь.
Он погладил мой палец осторожно, не причинив боли, наоборот, даже приятно было.
— Этот палец, — сказал Сёма важно, — этот самый палец выскочил из своего гнезда. Держите огольца. И ничего особенного.
Лёшка обнял меня сзади за плечи и прижал к себе. Мне было слышно, как в левую мою лопатку сильно стучится Лёшкино сердце. Сёма взял мою руку и сказал убаюкивающе:
— Закрой глаза.
Я закрыл, но не сдержался. А Сёма сказал, отходя:
— А зачем орёшь? Орать не надо. Операция закончилась. Затяни чем-нибудь. Освобождение, конечно. Ну, хошь на день. Доложись командиру.
Я смотрел на его горбик, бородку, кривые ноги и подумал, что он, наверно, в самом деле гном и колдун, это он притворяется, что он расклейщик. Палец, хоть и болел, и был синий, и опух ужасно, а всё-таки он болел нормально, как-то по-другому, чем минуту назад. Да здравствуют гномы!
Я пошёл к штабу и разыскал Бурина. Он долго и пытливо рассматривал мою вздутую кисть и синий палец, потом подозрительно спросил:
— Это как же вышло?
Я рассказал ему. Он рассердился.
— Испугался, значит, за дружка?
— Да.
— Он бы сам отбёг. Надо бы тебя на губу или судить как дезертира!
Я сказал:
— Ты спятил, Бурин. А если бы задавило Фомичёва?
— Брось, — сказал он жёстко. — Не ной. Я тебя знаю, не думай. И только поэтому, чёрт с тобой, отдыхай, гуляй, ваше сиятельство, барствуй! Валяй, значит, лодыря, через свои нерьвы. — Это он в насмешку так сказал — «нерьвы», и покривил едко губы. — Но завтра выходи на трассу! Не сможешь — отправлю. Иди.
Он отвернулся. Ишь ты, какой железный командир! Он меня отправит! Ты подавишься семь раз, прежде чем меня отправишь. Я тебе покажу «нерьвы». Я шёл от него, проклиная всё на свете.
15
— Здравствуйте. Что не на работе?
Она окликнула меня из своего проулка, когда я шёл от Бурина, злой как чёрт. Я шёл к нам в избу, к тётке Груне. Не обратно ж на трассу идти, стоять там столбом. Я очень обрадовался, когда увидел её. Я просто опять окаменел: да разве бывает такое лицо не на картинах?.. В кино у нас все уступили бы ей по красоте; если честно подходить — они и пятки её не стоили.
Я сказал:
— Здравствуйте, Дуня. Освобождение получил. Вот палец…
Она осматривала палец, а я думал: ландыш. Только ландыш такой красивый, и Дуня — это ландыш.
— Чем бы перевязать? Вы знаете, Дуня, его надо подзатянуть.
— Ну да, — сказала она заботливо. — Зайдём-ка до нас.
Она взяла меня за руку и повела к себе. Дома у неё никого не было. Против печи шкафчик со стеклянным верхом, там стояла кой-какая посуда. Герани и фикусы на подоконниках и на полу, а пол дощатый, голый, чисто вымытый, по такому полу хорошо ходить босиком. Левый угол был отделён занавеской, видно, там стояла кровать. Ещё там была скамья, старая, серо-белая, я очень люблю этот цвет старого домашнего дерева.
— Садитесь, — сказала Дуня, — я сейчас.
Она скинула свой клочковатый полушубок и оказалась в простом ситцевом платье. Она была стройная и держала торс очень прямо, как цирковая балерина. Обута она была в огромные валенки с калошами. Калоши она тоже скинула, а валенки нет. Так и ходила — ноги слона и торс юной балерины, и лицо. Она принесла какую-то тряпочку и села передо мной. Я повернулся к ней, и она стала перевязывать мне руку. Пальчики её согрелись, прикосновение их было ласковое, и русая её головка с недлинной косой, и неслыханной красоты лицо — всё это брало за душу, и славно становилось жить подле неё, как-то доверчиво и любовно.
— Вы сами московский будете? — спросила Дуня.
— Московский.
— С матерью живёте?
— Один.
— Что так?
— Она умерла.
— Ах ты… давно?
— Год уже…
— Отчего она, бедная?
— У неё болезнь была… тяжёлая… Она в больнице лежала.
— В больнице?
— Да.
— Плохо в больнице лежать…
— Это всё от людей, какие люди…
Я сам не знаю, почему мне вдруг захотелось рассказать Дуне. Хоть немного. Я сказал:
— Я один раз был у неё в больнице, раньше не пускали, а тут вызвали. Посиди, говорят, с мамой, повидайся. Я и не понял ничего, с радостью пошёл. И когда я пришёл, я пожалел. Там у них был доктор. Наглый такой, сановитый… Ему всё можно. Например, резать правду-матку в глаза. То есть такую правду, которой не надо. Терпеть не могу. Я к нему пришёл, и дожидался очереди, и случайно услышал, как он одному тихому такому парню, рабочему, говорит: «Послушайте, любезнейший»… Слышите, Дуня? «Любезнейший» — в наши дни в обращении к рабочему. Вы чувствуете, что стоит за этим словом «любезнейший»?
— За этим словом стоит, что доктор сволочь, — сказала Дуня. Я обрадовался, что она поняла, уловила, в чем дело.
Я вообще не очень-то людимый стал в последнее время, но, странное дело, я чувствовал, что говорить с Дуней можно. Вот именно — можно, она меня поймёт так, как я хочу быть понятым.
— Ну, а дальше-то что? — поторопила меня Дуня.
Я сказал:
— Так этот доктор и лепит ему в глаза: «Вот, любезнейший, должен вас огорчить, надеяться не на что, жена ваша плоха, предвижу летальный исход». Тот так и закачался, ноги подкосились, сел, воздух ловит ртом.
— Это что ж за исход такой? — спросила Дуня.
— Летальный? Это смерть. От слова Лета — река забвения. Я и дожидаться его не стал, так мне противно было. Я пошёл в палату, сидел у матери и держал её руку. И вот в какую-то минуту ей стало больно и, видно, уж очень. Лицо исказилось, и она отвернулась, чтобы я не видел. А меня насквозь пронзило…
— Как это всё тяжело и прискорбно, — грустно сказала Дуня и замолчала. Глаза у неё стали влажные, и она сказала, положив мне руку на плечо: — А батя ваш где?
Я сказал:
— Отец погиб на Хасане. Он герой.
— О господи, — сказала Дуня. — Значит, вы сирота?
Я сказал:
— Да.
Она задумалась.
— Круглый, значит, сирота. — Она посмотрела на меня каким-то новым взглядом, более близким взглядом старшего и сильнейшего. Ах, славная, бесценная Дуня. Она сказала: — Жалею я вас, нельзя сказать, как жалею! Вы сами с какого?
— С двадцать второго. А вы с какого?
— Угадайте.
— С двадцать второго.
— Что вы? Неужели я выглядываю на с двадцать второго?
Она обиделась. Вот история! Я сказал:
— Ну, с двадцать третьего.
Она сказала недовольно:
— Конечно, теперь будете перебирать по одному.
— Я не умею угадывать!
Она улыбнулась.
— Молодой ещё.
Я сказал:
— Так с какого же вы, Дуня?
Она сказала, словно желая сделать мне радостный сюрприз:
— Я с двадцать четвёртого!
— Ну да? — сказал я. — Значит, вы маленькая?
— Семнадцать годов — маленькая?
— Ну, не грудная, конечно, но всё-таки маленькая. Очень молодая…
— Самые года.
Я сказал:
— Конечно! Невеста!
— Не смейтесь!
— Нет, — сказал я, — я не смеюсь. А сватались? Только честно!
Она притворно зевнула:
— Глупости всё это. Учиться надо.
— А на кого?
— Я на учительницу хочу. Я очень понимаю маленьких ребят. Я с ними, хоть с каким, сразу как своя.
— Хорошее дело, — сказал я. — Я тоже ребят люблю, всех маленьких люблю, жеребят и щенят. Ну а ребята, конечно, всех лучше. Они воробьями пахнут.
Она засмеялась и снова глянула на меня долгим, испытующим взглядом.
— Вот вам и надо сто ребят завести своих. А вы холостой?
— Да… Я холостой…
— Что это вы как будто сомневаетесь… Может, неправда?
— Нет, нет, что вы. Я холостой.
— И никого нету?
— Где?
— Ну, на примете.
— Ох, так нельзя.
— Почему же?
— Ну, нельзя… А если бы я вас так спросил? Вы что бы мне сказали?
— Я?
— Да. Вы.
— Раз у меня никого бы не было, я бы так и сказала, а если бы я виляла, значит, что-то бы у меня на уме было, что я бы скрыть хотела…
— От кого?
— От вас. Да что вы всё на меня-то повернули?..
— Я не сворачивал… Дуня, мне, пожалуй, идти надо…
— Куда же вы так быстро? Поговорите ещё со мной.
— А про что?
— Да про что хотите, мне всё интересно. Хоть про книжки…
— Да про книжки что ж рассказывать, их читать нужно. Вы что читали?
— Я? Много кой-чего… Ну, Толстого читала «Анну Каренину», Пушкина «Капитанскую дочку», Бляхина «Красные дьяволята» — много вообще… «Железный поток»… Это Станюковича…
— Серафимовича…
— Ой да, Серафимовича…
— Ну а что больше всего понравилось?
— «Анна Каренина», конечно. Ах, бедная, несчастная… Я всегда слезами обливаюсь, как она с сыночком своим виделась. Несчастная Аннушка, красавица, а несчастная.
Я сказал:
— Да ты сейчас-то не плачь. Конечно, она несчастная, да ведь это книжка.
— Нет, — живо сказала Дуня, — это хоть и книжка и про старое время, а всё-таки так было. Это жизнь. Так в жизни бывает. Это всё про жизнь.
— Дуня, — сказал я, — Дуня, ты просто я не знаю какая!
Она быстро повернулась ко мне, балерина в валенках.
— Понравилась? — сказала она.
У неё было радостное лицо.
— Выше макушки, — сказал я с таким видом, что шучу.
— Сватайся! — сказала она.
Я сказал, но не сразу:
— Война.
— Да, — задумчиво сказала она, опустив руки, — война! Не можешь ты свататься. Скоро вас под присягу повезут.
— Это как? — У меня забилось сердце.
— Так. Привезут знамя — и под присягу, и всё. И на фронт.
— Дуня, вы это серьёзно или так? Неужели правда?
— Да вы чего всколыхнулись-то? Ай на фронте сладко?
— Слаще, чем здесь.
Она задумалась, подошла к окошку и закинула руки за голову. Потом обернулась ко мне и сказала укоризненно:
— А кто же с нами будет? С бабами и с девками да с малыми ребятами? Ведь мы бьёмся, сил нет никаких. Я вот девушка, а тогда ругалась при вас на лошадь, как пьяный бандит; разве это хорошо? Зачем это так жизнь заставляет? Я раньше никогда себе этого не позволяла, да и сейчас с души воротит от дурного слова, а вот поди ты… А где мои папаня с братом? А, вот то-то… Мы с матерью работаем, а у ней кила, разве ей можно? Значит, всё я да я. А тётка, она придурок, всё с сектантами шушукается, кто ей мозги вправит? Опять я? Да она меня так шуганёт, что я и костей не соберу! Вот… А вы всё на фронт тянетесь, души у вас нет…
Она с досадой задёрнула марлевую занавеску. Рука у меня успокаивалась, она пульсировала ровно и болела сладко, выздоравливала. Я подошёл к Дуне. Мы стояли рядом и молчали.
— Осерчал? — сказала она тихо.
— Нет, — сказал я, — и нисколько.
16
Никогда ещё ни с одной женщиной или девушкой я не чувствовал себя так легко, как с Дуней. Мне с ней и говорить было легко, и дышать легко, я ей рассказал про больницу, и даже это мне с ней было легко. Такого ещё ни разу в моей жизни не случалось. Не рассказал бы я этого Вале — внутри затормозило бы. Она назвала бы меня сентиментальным, но это не сентиментальность. Нет. Чувства ведь всё-таки есть? Бывает тебе грустно или нет? Вот тут-то и нужно, чтоб тебе попался такой человек, как Дуня… Но это редко бывает, я таких не встречал. Я вообще до Вали никого не встречал, у меня, кроме Вали, никаких романов не было. Нельзя же считать романом наши поцелуи с Адой Ляминой. Давно это было, ещё в пятом классе. Мы выходили после школы на бульвар, она заставляла меня прятать руки за спину и сама прятала свои. Мы стояли на расстоянии двух шагов и наклонялись друг к другу, выпятив губы и приблизившись, сухо и быстро клевали друг дружку носами. Это называлось целоваться и считалось страшным грехом. А потом выяснилось, что нет в классе мальчишки, не целовавшегося так с Адой. Нет, это был не роман. Это всё детство… Какой это роман.
…В избе у тети Груни было пусто и неуютно, я даже пожалел, что так быстро ушёл от Дуни. Там было чисто, а здесь солома лежала на полу, сбитая, старая, в комнате стоял наш знаменитый ополченческий запах, воздух был синий от невыветрившегося махорочного дыма. Маленький Васька играл в чурочки возле холодной печи. Я сел к окну и подозвал его и отдал ему два кусочка сахару, они лежали у меня в кармане — я ещё утром припас. Васька снова сел на пол, босые его ножки, грязные и твёрдые на подошвицах, были раскинуты. Он поел сахару, глядя на меня неотрывно. Дело это было минутное, и Васька обтёр мокрые руки о женское лиловое трико, в которое был одет. Подошёл ко мне и приткнулся у колена, и искательно погладил мой сапог.
— Ты, Митька, всегда носи мне сахару, — сказал он.
— Ладно, — сказал я, — а где мама?
— Пошла. Сказала, чтоб я не баловался.
Я взял его под локотки, поднял эти полфунта рёбрышек и посадил на колени. Он стал смотреть в окошко. Я понюхал его всклокоченную головёнку. Пахло воробьями. Под моей рукой билось маленькое сердце, билось гораздо чаще, чем у меня. Мы сидели так с Васькой и молчали. Он пригрелся у меня на коленях, растаял, притих и, видимо, боялся, что я взял его ненадолго, сейчас снова уйду и оставлю его на весь день. Поэтому он затаился, как мышонок, — не хотел спугнуть меня, боялся шелохнуться, чтобы не напомнить мне о моих непонятных взрослых делах. А я снова думал, что если я люблю этого Ваську и всех других, таких же, кто сиротливо сидит один на полу в грязи, у холодной печи, то чего же я здесь сижу, надо идти, идти, идти на большую войну и сделать что-то большее, чем я делаю сейчас. Опять заскрипела душа, заныла гордость, и долг застучал кулаком в сердце.
За окном уже стало темнеть, скоро должны были прийти наши. Впервые я встречал их здесь, и я решил прибрать избу, проветрить её, вскипятить воду. Неловко мне было, что я весь день проваландался с пальчиком, как обыкновенная рохля. Я встал, Васька соскочил с колен и уставился на меня. Я сказал:
— Большая приборка! Свистать всех наверх! Эй, на юте! Пошевеливай! За мной, Василь Яклич!
И мы с ним начали орудовать. Он мне здорово помогал. Такой маленький, а работу он знал. Я подмёл пол, принёс свежей соломы, открыл надолго дверь и впустил свежего воздуха. Затопил печь, поставил кипятить чугун воды. Хлеб ополченцы должны были принести свой, а может быть, и кашу или консервы. Мы долго возились с Васькой, и он всё время помогал и шлёпал за мной маленькими ножками и стукался об углы. Я вытер ему сопливый нос, пригладил всклокоченные волосы, и он оказался очень даже ничего себе. Мы крепко с ним вообще подружились. Я решил прилечь и подождать, уложил Ваську на кровать, а сам лёг на солому и, как только лёг, мгновенно заснул. Спал я крепко и проснулся оттого, что Лёшка укладывался со мною рядом.
— Это ты, Лёшка?
— Ага, — сказал Лёшка, — болит рука-то?
— Утихает…
— Что ж ты не ужинал?
— Проспал.
— На вот хлеб. Освободил Бурин-то?
— Ругался. Судить бы, говорит, тебя как дезертира!
— Плюнь. Это он сгоряча. А ты думал, меня раздавит пнём?
— Он уж начал переваливаться на тебя.
— Что ж руку-то не выдернул?
— Да не успел, чёрт его знает.
— Я теперь должен тебе отплатить!
— Спи, друг.
— Да. Это так, я тебе друг, запомни.
— Так и я тебе друг. Так и знай.
Лёшка придвинулся ко мне ещё ближе.
— Слушай, — сказал он. — Серёжка-то прямо спятил. Бежать хочет в Москву.
— Не может быть!
— Сражаться надо, — спокойно сказал из темноты Серёжа.
— Ты не спишь? — спросил я.
— Я все ночи не сплю!
— Это не дело!
— А ты не учи! Не учи учёного!
Я хотел ему ответить как-нибудь порезче, но в это время что-то завыло, загудело, и страшный нарастающий визг пронёсся над нами, как будто ведьма на помеле пролетела, потом ужасно трахнуло, дом наш зашатался из стороны в сторону, и в углах его послышался треск.
— Бомба! — крикнул с постели дядя Яша. — Васька, ты где?..
Васька откликнулся ему, тётя Груня заплакала и запричитала в темноте, а мы повскакивали с соломы. Кто-то чиркнул спичку, мы стали одеваться, толкаясь и хватая чужую одежду.
— Пойти взглянуть, — сказал Степан Михалыч в случайно образовавшейся паузе.
Его голос подействовал успокаивающе. Стало тише, люди, уже не теснясь, вышли на улицу. Было темно. На горизонте пылало зарево.
— В лес, что ли, упала, — сказал дядя Яша. — Но то не эта, нет. Больно далеко. Горит где-то около Боровска. Видно, фриц за Боровск взялся терзать. А если он его возьмёт, нам всем хана.
— Это почему же? — зло спросил Серёжа Любомиров.
— Отрежет, — просто сказал дядя Яша, — отрежет, и нету нам никакого пути. Если только левее, на Наро-Фоминск. Ну, так и фриц, коли он Боровск возьмёт, неужели он Наро-Фоминском погребает?
— Не каркай, дядя Яша, — сказал Тележка. — Как вы это все любите в хате сидя располагать.
— Думать надо, умом надо своим пользоваться, — сказал дядя Яша, — и тогда картина сама себя окажет.
— Наполеон, чисто Наполеон, — сказал Бибрик.
Киселёв тяжко дышал, слышно было, как он скребёт свою щетину.
— Стой не стой, завтра рано на работу, — сказал Степан Михалыч. — Наша война продолжается.
Он пошёл в избу. И все пошли за ним. А я пошёл на деревню. Спать не хотелось, вот что было странно. Ну, да я ведь поспал уже часа три. Почти норма. Я перешёл через мостик, и он опять пугливо задрожал под моими ногами. На этой, штабной, стороне было как-то тише и спокойнее, и люди, которых я встречал, все держались спокойно, а если и были встревожены, то друг перед другом этого не показывали. И я подумал, что надо бы мне пройти мимо Дуниного дома, — мало ли что, может, я им понадоблюсь.
Как только я вошёл в маленький проулок, так сразу от забора отлетела лёгкая тень, и Дуня прильнула ко мне.
— Испугалась? — сказал я. — Дунечка ты моя маленькая.
— Испугалась, — сказала Дуня и вздохнула прерывисто, по-детски, — ужас как испугалась. Я в амбарушке спала, там у меня жаровенка есть, а он как тарарахнет, ну, думаю, конец света…
— Нет, это ещё не конец, — сказал я, и мне стало тоскливо. — Много ещё будет бомб, надо привыкать…
— Холодно, — сказала она и повела плечами.
Я сказал:
— Пойдём провожу.
Мы пошли с ней в глубь проулка, вошли к ним во двор, и я увидел, что слева от ворот стоит крохотный нахохленный домик, просто как декорация, такие строят у нас в Сокольниках под Новый год для детей.
— Вот здесь и сплю, — сказала Дуня и открыла дверь. — Входи.
Там были нары или скамья, прикрытые какими-то дерюжками и веретьём, и красным раскалённым глазком смотрела маленькая железная жаровенка, похожая на керогаз. Дуня села на скамью, в красном призрачном свете были видны её таинственные глаза.
— Как хорошо, что ты пришёл, — сказала Дуня. — Я так хотела, чтобы ты пришёл.
— А я стоял на крыльце с нашими, смотрел, где бомба упала. А потом все пошли спать, а я сюда.
— Само потянуло?
— Само…
— Сердце сердцу весть подаёт… Садись, что ты…
— Да я не устал, ведь я не работал.
— Садись со мной, — сказала Дуня.
И я сел с ней рядом. Она положила свою руку в мою, и долго мы так сидели с ней, и я держал эту милую руку и глядел на эти несказанные глаза, на жемчужные зубы несмело улыбающегося рта…
— Ну а если бы не война? — вдруг сказала Дуня.
— Что?
— Я говорю, если бы не война, а вот мы с тобой встретились, и тебя бы сюда тянуло, как сегодня, а меня к тебе. Вот если бы можно нам было, ты бы посватался ко мне?
Как она сказала это слово «можно»! Я сегодня всё время думал, что вот с тобой мне всё можно. Болтливым быть или даже глупым, молчать или хромать, заплакать тоже можно, всё можно. И насмешек не будет, и зла за пазухой не будет, и оглядки и фальши не будет, нет.
— Что молчишь-то? — сказала Дуня. — Не посватался бы, значит?
Да что я, каменный? Кто же это выдержит. Ведь всё равно мне с ней нельзя, по десятку причин, но зачем же обижать — ведь лучше её нет в целом свете, и потом ведь это правда.
— Посватался бы, — сказал я, — ещё как. Семьсот верст пешком бы к тебе бежал.
Она придвинулась, и прильнула ко мне, и положила мне голову на плечо, и я почувствовал её маленькую твёрдую грудь.
— Ты девочка, Дуня, — сказал я. — Ты маленькая. Нельзя тебе стать сейчас моей женой, война раскидает нас завтра, как пылинки, в разные концы…
Она заплакала, я погладил её лицо и омыл пальцы её слезами. Я понимал, что наш с ней разговор в этот странный час, при свете маленькой жаровни, это и есть высшее счастье нашей жизни, какого я, может быть, никогда уже не достигну, и горячая тоска давила мне на горло, не давала биться сердцу.
Дуня говорила, глядя в окно и сложив руки на груди, и слёзы всё бежали по её лицу:
— Возьми меня с собой! Ведь я, Митя, не вдруг это говорю. Я как тебя в первый раз увидела, тогда, с товарищем твоим, когда ты мне телегу поднял, я тогда сразу поняла, что ты верный человек. Не умею сказать… Ты верный человек, это по лицу видно. Детей как хорошо любишь… Вон ты какой… Мне без тебя нельзя здесь оставаться. Кто защитит? Как подумаю о фрице, как подумаю…
Она это так говорила, что лучше бы вынула из жаровни уголья и прожгла бы мне глаза…
Я сказал:
— Не плачь, Дуня, родная моя…
Она потянулась ко мне, и я обнял её и поцеловал, и она тоже меня поцеловала, и время летело мимо нас, и я всё целовал Дуню, её маленькие твёрдые ручки, и губы, и шёлковые мокрые ресницы, и ситец на её коленях целовал, и это было лучшее, что я испытал в своей жизни.
Я ушёл от Дуни за час до побудки. Она плакала беззвучно и всё не отпускала меня и ещё, и ещё целовала. Я ушёл от неё в ту ночь. Я не сделал её своей женой. Я любил Валю.
17
Утром приехал Вейсман. Он очень осунулся. Когда он стоял над нами на гребне, было видно, какой это старый и больной человек. Лишняя кожа свисала с его лица. Стоя на ветру в вытертом своём «цивильном» пальто и качаясь от ветра, Вейсман сказал:
— Шоссе обстреливают насквозь. Я отдал Климова в больницу и позвонил его родным. Плачут. Я говорю: как вам не стыдно, надо радоваться, парень в больнице, уход как за графом. Вы плачьте не по нём, говорю я, вы плачьте по мне, мне ещё обратно ехать. Никакого впечатления… Между прочим, я заезжал в райком, скандалил насчёт махорки. Они мне стали вкручивать, что через недельку, и пятое, десятое, но когда я взял их за грудки, сразу нашлась пара ящичков.
Внизу восхищённо засмеялись. Старый враль никого не мог обмануть, но всё-таки приятно было представить, что Вейсман кого-то там мог брать за грудки. И потом, он привёз махорку! Ванька Фролов, больше всех страдавший без курева, подбросил в воздух монетку.
— Мировой старик! Жук, а не старик! Докладывай дальше.
— Ещё в райкоме говорили, что скоро сюда придут боевые части нашей армии. Они здесь займут оборону. И может быть, нас тоже вооружат…
Серёжка Любомиров крикнул коротко:
— Ура! — И ещё раз: — Ура!
Вейсман поклонился, как будто это он приведёт сюда Красную Армию и выдаст нам оружие. Отойдя в сторонку и поймав мой взгляд, он деловито кивнул мне. Я взлетел кверху.
— Не волнуйся, — сказал он и положил мне руки на плечи.
— Я всё сделал.
— Ну?
— Я её видел, хотя мне это было дьявольски трудно устроить, — старик набивал себе цену, а мне было стыдно его доброты, и набивать ничего не надо было. Просто это был геройский старик. — Я её видел, — сказал Вейсман. — Хорошенькая, ничего не скажешь. При титечках и всё такое… Но ты не расстраивайся… — Вейсман отошёл на шаг, чтобы мне удобнее было падать. — Она сказала: ответа не будет.
Удивительно, что я это знал раньше. Никакого впечатления это известие на меня не произвело. Провожать — неудобно. На письмо — ответа не будет. Вот так. Вот так.
Вейсман смотрел на меня с мудрой проникновенностью.
— Да, — сказал он, — такие вещи убивают. Тут не до слёз. Я всё это хорошо понимаю. Что мне тебе сказать?
— Вейсман, — сказал я ему. — Милый ты человек. Спасибо за хлопоты.
— Иди сшей себе шубу из твоего спасибо! — закричал Вейсман грубо. Он, видимо, был растроган. Неловко пятясь, он задрал полу своего пальто и полез в карман. — На, развеселись, вот тебе письмо! Какой-то обормот подошёл, когда я говорил с твоей красоткой, симпатичный такой обормот, в очках, толстый как боров.
— Федька! — сказал я и вырвал у старика клочок бумаги, сложенный пакетиком.
«Друже! — это были ужасающие каракули. — Во первых строках сопчаю, что я жив и здоров, чего и вам желаю, а второе — огромная новость: я иду на фронт. Как говорится, следую примеру лучших, читай — твоему! Приедешь в Москву живой, позвони моей матери. Она будет знать, как и что.
Жму. Твой Фёдор».
Я сжал эту бумажку, как Федькину руку, и мне захотелось повидать его. Я спрятал Федькино письмо в нагрудный карман и начал спускаться. И тут я услышал их снова. Они летели звеном прямо над нами. Широкие кресты лежали на их фюзеляжах. Когда они пролетели, у одного из них из брюха выпала какая-то масса. Я подумал — бомба, но цвет и форма были непохожи на бомбу. Все вокруг застыли в ожидании, подняв головы кверху. Масса, оторвавшаяся от самолета, вдруг рассыпалась на тысячи мелких, величиной с игральную карту, пластинок, и эти пластинки, кружась, планируя и вертясь, стали снижаться.
— Листовки, — сказал кто-то.
Они летели, колеблемые ветром, отравленные эти листовки, они летели в нашем подмосковном небе, фрицевские самолеты скрылись, оставив в воздухе эти вонючие бациллы. Они низвергались на нас, потом ветер отнёс их в сторону, и они осыпались на оголённый угрюмый лес. Один из листков упал шагах в двухстах от нас. Серёжка Любомиров кинулся к нему. Мы следили за ним. Он возвращался, держа двумя пальцами сероватый листок. Лицо его было ужасно. Взглянув в текст, как бы опасаясь осквернить свои глаза, он произнёс прерывающимся голосом:
— «Массами к нам перебегайте!»
И тотчас бросил листок наземь. Потом Серёжа Любомиров резко размахнулся и с ужасающей силой рубанул бумажку лопатой, как живого и ненавистного врага. К нему подбежал Лёшка, и оба они, Серёжка и Лёшка, стали мочиться на этот листок.
В это время снова послышался вой его моторов, и мы увидели, что вдоль вырытой нами линии, на небольшой высоте, летит фриц. Он летел как мог медленно и низко, и снова мы стояли, задрав голову, а он пролетел и превратился почти в точку, но развернулся и опять пошёл по линии, снизившись до бреющего полёта. Он выпустил короткую очередь, никого не ранил, но когда пролетел, мы высыпали наверх и кинулись к деревьям. По двое, по трое вцеплялись мы кто в осинку, кто в ольху, стараясь слиться с ними и оберечь себя. Фриц снова пролетел по трассе.
— Фотографирует! — крикнул Тележка с отчаянием. Мы стояли бессильные, держась за стволы подмосковных деревьев, ища у них защиты, замёрзшие и ненавидящие. Фриц же по-хозяйски летал над нами, делал что хотел, изредка постреливая для острастки, чтоб мы не смели носу высунуть из лесу. И такой дул стылый, проклятый ветер, и так мы замерзали без движенья, и такое горькое отчаяние вцепилось в наши сердца, что в эту минуту уже не верилось ни во что хорошее. И тут из леса на гребень наших контрэскарпов с громким посвистом выбросился Каторга. Он разорвал на себе ворот, двумя руками сдёрнул с головы шапку и что было силы шлёпнул её в грязь.
— А ну, больше жизни, лопатные герои, — закричал нам Каторга. — Что вы там затухли? Жизнь продолжается! Давайте спляшем! — И он топнул двумя ногами, и грязь, как фейерверк, брызнула из-под его перевязанных верёвками бутс. — Что?!! Или мы уже не советские?! А? Неужели мы скиснем из-за этого летучего дерьма?! — Он вложил в рот два стянутых в кольцо пальца, дико свистнул и забил ладонями по груди и бёдрам. — Алёш-ша, ша! Держи полтона ниже! — крикнул он в небо. — Заткнись там, подонская морда! Да здравствует Евгений Онегин!
Он заплясал в грязи, этот чёртов проходимец, этот непонятный человек с кривым носом, заплясал с ужимками и «кониками», по всем правилам одесского шика, и открылся нам в эту стыдную минуту нашей слабости чистой и прекрасной своей стороной. И мы, словно опомнились, скинули наваждение, словно обрели себя, мы кинулись все на гребень и пошли плясать всею ватагой, смеясь, и толкаясь, и размахивая руками, как малые дети. Мы жили, жили, жили так, как считали нужным, мы жили своим законом под обстрелом фашистского гада. У нас в руках были только кривые затупленные лопаты, а вот же мы знали, что мы сильнее того растленного типа там, наверху, куриное сердце которого позволяло ему бить в безоружных.
18
В обед я сидел у окна в нашей избе и поджидал Серёжку с Лёшкой. Они должны были принести из кухни щи. Мы съедали наше варево в доме, это давало возможность подкормить хозяев. Так делали почти все. Я сидел один в избе. Васька ещё не появлялся, видно, заигрался где-то с ребятами, я скучал по нём. Ни тёти Груни, ни дяди Яши тоже не было. Лёшка освободил меня сегодня от очередного дневальства и не в очередь пошёл за щами. Рука моя всё-таки давала себя знать, и на работе я ещё ворочал с трудом. Я сидел у окна, смотрел на деревенскую улицу, лежавшую передо мной, и думал, что, слава богу, наша работа подошла к концу. Было приятно видеть бесконечную ровную линию наших контрэскарпов, их трёхметровую ширину и страшную глубину, их насыпи и зализанные закраины — работа была отличная, мы сознавали это и гордились своим трудом. Всё это было ещё более приятно и потому, что вейсмановская версия подтверждалась и шли усиленные разговоры о том, что сюда со дня на день, с часу на час придут наши части и встанут здесь защищать Москву. Здесь, у сделанных нами рубежей. Да, время приходить нашим, самое время!
В эту минуту я увидел, что через мостик, осторожно ступая, идёт Лёшка, держа в одной руке дымящиеся котелки, а другой прижимая к груди полкирпичика хлеба. Я помахал ему из окна, и он широко улыбнулся и кивнул головой. Я вышел к нему навстречу и помог донести котелки. Мы поставили еду на стол, положили по углам алюминиевые ложки.
Я сказал:
— А Серёжка где?
Лёшка мотнул головой.
— Следом идёт.
За окном послышался треск моторов. Я кинулся к окну. По улице шла танкетка, за ней другая, за той третья. Я обернулся к Лёшке и сказал, улыбаясь:
— Ну, кажется, наши пришли!
Лёшка тоже прильнул к окошку. Теперь уже было лучше видно, первая танкетка подошла ближе к нам. Вдруг она остановилась, не дойдя до нашей избы метров пятнадцать, развернулась и пристроилась задом к огородному плетню. Тотчас из короткого ствола её пушки вылетел белый дымок, раздался выстрел, и возле красного флага нашего штаба на той стороне взлетели кверху щепки, пыль и дым. В эту страшную минуту мы, наверно одновременно с Лёшкой, увидели чёрный крест на боку танкетки — такой же мы видели на фюзеляжах самолетов. Всё это происходило очень быстро и не сразу дошло до сознания. Из-за танкетки вышел длинный фриц. Он двигался в сторону нашей избы. Через плечо его неряшливо висел автомат. Мы замерли. Фашист шёл к нам. Навстречу ему бежал через мост Серёжа Любомиров. Он что-то кричал скривлённым набок ртом и бежал на немца, высоко замахнув через правое плечо лопату. Немец остановился, расставив ноги, и смотрел на него — глаза его ничего не выражали, они были тусклые, задёрнутые плёнкой, как на плавленом олове. Видно, не раз уже на него бросались безоружные люди, и немец знал, что ему делать. Он ждал удобного момента.
Серёжка бежал на немца, и когда он уже почти добежал, тот небрежно шевельнул автоматом. Я услышал очень короткое: та-та. Немец отступал, пятился, а Серёжка всё бежал на него с лопатой, но я уже видел, что Серёжки нет, что он уже мёртв, что это бежит одна неутолимая Серёжкина ненависть, которая не умирает.
Лёшка схватил меня за руку и дёрнул за собой. Мы выбежали на задний двор и легли наземь.
— За огород, — прохрипел Лёшка, — под плетень, а там вырвемся.
Я пополз за его сапогами по мокрой грязной земле, а позади слышались выстрелы; пушки работали исправно, чередуясь. Мы ползли не оборачиваясь, бежали, а немец бил по красному флагу нашего штаба. Там сейчас было много народу, много наших друзей, они собирались сейчас похлебать горячих щей, а немец крыл их без пощады хладнокровным огнём, а мы с Лёшкой всё ползли, проползли под плетень и ещё ползли, а потом встали и побежали за деревню. Минут через пятнадцать мы достигли леса. Мы остановились. Я сказал:
— Откуда, откуда они?
— Десант, верно, — сказал Лёшка. — Перелетел, гад. Целый месяц строили. А он и воевать не стал… перелетел и высадился. Опоздали наши-то…
Лёшка задёргал губами и заплакал.
— Пойдём, Лёша, — я тронул его за плечо, — надо отходить.
Он пошёл за мной покорно, как мальчик, и огромным, грязным своим кулаком утирал глаза. Надо было спасаться, бежать от верной и бесполезной смерти, дорваться до Москвы, получить оружие и вернуться, вернуться во что бы то ни стало! Нельзя было оставлять эти места — в эту землю была вбита наша душа, наша вера в победу, слишком близкие люди остались там за нашими плечами у домика с красным флагом.
Меня всего жгло. Слава богу, никто не видел, как мы шли вдвоём с Лёшкой и ревели. Я ковылял впереди, Лёшка за мной. Мы шли напрямик через лес примерно с полчаса и ушли версты за две, потому что выстрелы стали тише, и здесь нам показалось гораздо безопасней.
— Что теперь? — сказал я. — Дальше что?
— Кабы знать, куда идти.
— Ищи дорогу, — сказал я. — Ищи, Лёшка.
— Надо искать — да, — сказал он, — а то заплутаем, как бы в обрат не наскочить…
— Левей надо.
— Верно, и я так помню. Там много дорог должно сходиться, помнишь? Когда сюда шли, я запомнил.
А я ничего не запомнил, я тогда не обращал внимания на дороги. Я горожанин, и не было у меня этой привычки. Я сказал:
— Теперь ты иди впереди, Лёшка.
Он прошёл мимо меня вперёд, и я побрёл за ним.
Ах, горько так идти по своей земле среди бела дня, идти и знать, что ты идёшь не по своей воле, не гуляешь, не грибы собираешь, нет, ты бежишь, скрываешься, спасаешь свою жизнь от злого и наглого осквернителя, и нельзя тебе остановиться и принять бой. Горько так идти, никому не пожелаю, трудно! Но мы шли, нужда гнала. Мы шли напролом, продираясь сквозь подмосковный подлесок, сквозь тесные группы молодых деревьев, стоящих густо, непроходимой стеной. Исцарапались мы, ещё больше изодрались и плутали, но был у нас всё-таки какой-то собачий нюх, да и сама земля, наверно, помогала, ведь мы были её дети, и минут через сорок мы всё-таки выскочили на дорогу.
— Смотри-ка — никого, — сказал Лёшка.
Он посмотрел на меня, и я понял, о чём он думает… Я и сам этого боялся.
— Неужели мы одни? — спросил я у Лёшки. — Неужели мы одни ушли?
— Прямо не знаю, — сказал он упавшим голосом.
— Может, постоим немного?
— Дай освоиться, — сказал Лёшка.
Мне почудился треск сучьев.
— Тихо! — сказал я шёпотом. — Идут!
— Фриц?
— Не знаю…
— Прячься…
И Лёшка зашёл за огромную ветлу, стоявшую у дороги. Мы спрятались за кривое двустволое её тело.
— Не может быть, чтоб фриц, — шепнул Лёшка.
Треск становился всё сильнее, ближе к нам, и противно было то, что у меня забилось сердце. Но я решил, что, если это фашисты, я брошусь к ним навстречу и хоть одного да задушу. Среди деревьев замелькали какие-то силуэты, и я увидал ватники. Лёшка перевёл дыхание: наверно, и он переживал. На дорогу вырвались люди. Это были Степан Михалыч, Каторга и Тележка.
— Вот она, дорога, — сказал Степан Михалыч. — Сейчас определимся — что и как. Не робь, Телега!
— Москва где? — жадно спросил Каторга.
Степан Михалыч встал на дорогу и резко рубанул рукой куда-то наискосок и вправо.
— Вот, — сказал он, — так держать, и будет тебе Москва.
Мы с Лёшкой вышли из-за ветлы.
— Глядите, товарищи, Митя, — сказал Тележка и нежно улыбнулся. — Митя и Лёша. Наши.
Мы подошли к своим. Мы молчали, они трое и мы с Лёшкой. Мы только смотрели друг на друга. Как будто десять лет не виделись. Я чувствовал, что все сейчас плачут.
— Вот оно как вышло, — сказал Степан Михалыч виновато.
— Да, — сказал я, — хуже не бывает.
— Серёжка-то… — сказал Лёшка и отвернулся.
Все замолчали. Словно сняли шапки у свежей могилы. Степан Михалыч двинулся первым. Мы пошли за ним.
— Наших там тыщи три осталось, — сказал Тележка.
— Больше.
— Уйдут! Многие ушли, многие вырвутся.
— Где ж они?
— Прячутся…
— Или другими дорогами идут…
— Тут кто как сможет, — сказал Каторга.
На дороге, по которой мы шли впятером, было пусто, и лес стоял сквозной и пустой, и небо было пустое. Стрельба позади прекратилась, и это был плохой признак.
— Всё, видно, заняли Щёткино, — сказал Степан Михалыч.
— Теперь польётся наша кровь…
— Пойдут теперь расправляться… Коммунистов искать… — сказал Лёшка.
— И некоммунистов тоже, — сказал Тележка.
— Коммунистам хуже всех, — повторил Лёшка печально.
— У меня отец коммунист и брат тоже.
— Теперь и не узнаешь, кто коммунист, кто нет, — процедил Каторга.
Степан Михалыч остановился и поглядел на него в упор.
— Я член партии непобедимых коммунистов, — громко сказал Степан Михалыч, и губы его побелели. — Я член партии, и ты можешь называть меня комиссаром, Каторга.
Он отвернулся и пошёл дальше. Мы двинулись за ним. Каторга перегнал его и заступил дорогу.
— Каторга да Каторга, — сказал он тихо. — Сколько можно? Какой я Каторга, я Гришка Полещук! Я вас очень уважаю, Степан Михалыч.
Тот двумя кулаками расшебаршил свою бороду.
— Пойдёшь со мной, Гриня, — сказал он Каторге. — И ты, Телега, пойдёшь со мной. Нельзя мне вас всех вместе вести, а вдруг да я что и не так сделаю. Не туда вас заведу. Пусть мы разделимся.
— Нет, мы вместе, — сказал я.
— Это мой приказ, — сказал Степан Михалыч. — Теперь пришло расставанье, Митя. Мы трое вон там пойдём, — он показал направление. — На Боровск. Мы будем его огибать справа и, может, выйдем на железную дорогу. А вы, Митя с Лёшей, вот здесь идите. — Он и нам показал, где бы нам, по его мнению, лучше было идти. — Вы всегда вместе, вы дружки, вам вместе надо. Теперь: в Москву придёте, вступайте в армию, ребята, добровольно идите. Вы теперь народ подготовленный. Ну всё. Два, значит, у нас отряда во временном отступлении. Всего вам, ребята!
Он протянул мне тёплую, согретую добром руку. Я пожал её. Прощай, Ячмень и Лён! И если навсегда, то навсегда прощай. Тележка протянул мне свою узкую руку, я взял её и покрыл сверху левой рукой. Он тотчас же положил свою левую руку на мою. Мы трясли так руками, смотрели друг на друга, что-то хотели сказать друг другу и не смогли, постеснялись.
— До свиданья, — сказал Тележка.
— До свиданья, — сказал я.
Потом я пожал корявую руку моего товарища Гришки Полещука — грязную корявую руку человека, которого мы несправедливо дразнили Каторгой…
Лёшка простился тоже. Они пошли по большой пустой дороге к далёкому горизонту, а я смотрел им вслед и понимал, что это уходят из моей жизни люди, без которых мне никогда не будет вполне хорошо.
— Айда и мы, — сказал Лёшка.
19
Мы шли с ним скорым приёмистым шагом по огромной размётанной дороге, тянущейся сквозь низкий красноватосерый осинник. День перевалил на вторую половину, грязь на дороге уже начала застывать в предчувствии ночного заморозка, идти стало легче, и мы прошли уже вёрст шесть или восемь, не встретив ни одного человека.
— Где теперь наши? — сказал Лёшка.
— Какие?
— Кто вышел оттуда.
— Плутают…
— Повидать бы…
— А может, кто-нибудь сзади идёт, кто позже добрался до дороги.
— Покричим?
Мы несколько раз останавливались и кричали. Никто не откликнулся.
Мы были одни с Лёшкой. Словно одни во всей России, так пусто было вокруг. И мы снова шагали с ним по дороге вперёд и сворачивали у развилков, не раздумывая. У нас появилась уверенность, что мы не можем ошибиться и мы выйдем к Москве. Крупинки железа притягиваются к магниту, они не ошибаются никогда.
— Такому человеку, — сказал Лёшка, и голос его дрогнул, — такому человеку надо поставить памятник. Узнать, где он жил, и на его улице поставить памятник. Пусть малые дети на него восхищаются и все другие тоже.
Я сказал:
— Да. Серёге надо памятник.
— Приду домой, — сказал Лёшка, — доберусь только до дома, мать повидаю и спать не лягу, побегу записываться в добровольцы. Теперь-то меня возьмут… Теперь люди нужны. Верно?
Я сказал:
— Верно.
Лёшка посмотрел на меня и понял:
— Хорошо бы, — сказал он, — нам быть вместе. Да, Митя?
Я сказал:
— Гроб дело. Меня не возьмут.
Несколько минут он молчал, потом зашёл ко мне слева и горячо заговорил:
— Я знаю, что надо делать. Нам с тобой, Митя, одна дорога. Нам надо в партизаны идти, вот куда!
Я посмотрел на Лёшку. Это было как озарение. Как я сам не додумался до этого?
Я сказал:
— Ты, Лёшка, бог!
— Верно? — Он как будто даже удивился похвале. — Значит, пойдёшь? В партизаны, да, Митя?
Я сказал:
— Я тебе могу поклясться. Я не знаю даже, как я это сам не дотумкался. А что ты это так быстро сообразил, я тебе никогда не забуду. Значит, идём?
Лёшка сказал:
— Факт. Возьмут, не бойся. Мы вместе будем. И не беспокойся, что ты хромой, ты молодой, ты сильный, у тебя руки, как камень.
Он просто лечил меня, этот парень.
— Ты ходкий, ты же быстро ходишь, ты никогда не отставал. Я тоже, как медведь, здоровый. Мы с тобой так возьмёмся, мы такое ему устроим! У него и правда под ногами земля загорится.
Ну и здорово же он говорил, Лёшка Фомичёв — златоуст, ничего не скажешь. Я даже засмеялся от удовольствия.
А он продолжал:
— И мы с тобой ещё до победы доживём, увидишь! Она скоро будет, не думай! Это он временно прёт, на шарапа берёт, а мы ещё не опомнились. А потом такое будет, что он и кишок не соберёт, да, Митя?
Я сказал:
— То есть конечно!
— Вот, — сказал Лёшка удовлетворённо, — мы его добьём, а потом вернёмся домой и будем жениться…
Я сказал:
— А на ком? У тебя есть?
Лёшка засмеялся и стал глядеть в сторону.
— Есть одна.
— Как звать?
— Таська! — сказал он и улыбнулся снова. У него улыбка была замечательная, добрая очень.
Я сказал:
— Что ж ты невесту так называешь несолидно — Таська!
— Какая ж она невеста. Она в седьмом классе. Таська и есть!
— Ну да? — я очень удивился. — Она что, школьница? А как же она согласилась?
— Она не соглашалась, она и не знает даже ничего…
— То есть как не знает? Чего не знает?
— Ну что я на ней женюсь!
— Как же она не знает?
— Ну, не знает, и всё. Это я пока один решил. Я её заприметил и решил.
Я сказал:
— Ну ты и ловок. Прямо чёртов сын!
Лёшка снова засмеялся. Этот разговор будоражил его и счастливил, и ему ещё хотелось про это говорить, он ведь мальчик был, совсем мальчик.
— Вот, значит, годика через три я на ней и поженюсь!
— Ну, победа-то раньше будет, — сказал я.
— Это конечно, но я всё равно подожду. Тут особо торопиться нельзя, да и родители её не отдадут раньше…
— А у неё кто родители?
— Академики какие-то…
— Значит, ты будешь тоже академик?
— Нет, куда там, мне бы хоть на инженера пока… по металлу. Ну а ты? — вдруг спросил Лёшка. — У тебя тоже есть невеста?
Я сказал:
— Нет, Лёша, у меня нет никого.
Не знаю, что меня заставило так сказать. Но у меня не было права сказать, что есть у меня невеста.
Дорога лежала перед нами нескончаемая и грязная, и мы пробирались теперь не так уж ходко. Вдруг позади что-то бахнуло, и нам показалось, что это поблизости. Лёшка прибавил шагу. Я сказал:
— Я так быстро не могу.
Он сейчас же пошёл потише и сказал:
— Я не спешу. Это ноги сами.
Я сказал:
— Выйдем мы, Лёша, как думаешь?
Он помолчал. Оживление его уже прошло, он понимал, что дело наше нелёгкое, но он был настоящий человек. Он сказал тихо, но твёрдо:
— Иначе не может быть.
Мы замолчали опять. Стало холодней, время шло уже к четырём. Не помню, сколько мы так шли с Лёшкой. Потом опять услышали мотор. Он рычал ещё где-то далеко, но мы сразу услышали его. Мы остановились с Лёшкой и стали глядеть в небо. Рокот становился всё ближе, и вдруг мы увидели, что с вершины далёкого неба, как на салазках с невидимой снежной горы, катился самолёт. Он снизился, выровнялся уже совсем недалеко от нас и потом низко-низко по-над самым леском рванулся в нашу сторону. Он давно нас заметил и теперь снизился специально из-за нас, дерьмо.
— Беги, — крикнул Лёшка, побежал вперёд, метнулся в сторону, перепрыгнул заросшую пожухлой травой обочину и бросился под невысокую ольху, обнял её и втянул голову в плечи. Я сделал то же самое. Мы под одним деревом лежали, я — с одной стороны, Лёша — с другой, и держались мы с ним за одно дерево. Я лежал, вдавливаясь, вжимаясь в землю, зажмурил глаза и поджал плечи. Я слышал рокот и услышал длинное, не в пример утреннему: та-та-та-та-та-та. И ветер. И дерево гнётся и дрожит: р-р-р-та-та-та-та-та-та. Стихает… Да, слава богу, я почувствовал, что стихает звук и напряжение уменьшается, слабеет, удаляется… Дерево, в которое я судорожно вцепился, уже не трепещет больше, и, выждав ещё несколько секунд, я из-под руки глянул в небо. Фрица уже не было. Он побаловался и пошёл дальше.
Я сказал:
— Ушёл, дерьмо такое.
Я приподнялся на локтях и переполз на другую сторону, где лежал Лёшка. Он всё ещё лежал на животе, так же, как я секунду тому назад. Он обнимал дерево, и было похоже, что он целует землю, на которой лежит. Возле его уха лежала тугая, нерасплывающаяся лужица. Она не блестела. Она лежала выплеснувшись вся, как в блюдечко. Тёмно-красная тусклая лужица, и это была убежавшая из весёлого Лёшкиного тела жизнь.
Я не знаю, что со мной случилось и почему я это сделал. Я, наверно, соскочил с зарубки. Со мной случилось что-то странное. Я не знаю. У меня всё заболело сразу, опоясало, и перекрестило, и запеленало болью. И ощущая невыносимую боль во всём теле, и стоная от боли, и плача, я приподнялся, подтянулся и сел, прислонившись спиной к нашему с Лёшей дереву, рядом с ним. И вот тут-то я услышал в себе:
Он упал На траву, Возле ног у коня…Я услышал это четверостишие до конца и посидел потихоньку, покачиваясь, и услышал снова:
Он упал На траву, Возле ног у коня…Ничего другого я не мог делать. Я сидел так, как самый настоящий тяжёлый псих, и повторял эти слова, наверно, пять тысяч раз подряд:
Он упал На траву, Возле ног у коня.Я пел эту песню и видел свою Дуню, ненаглядную свою Дуню, родимую свою, которая осталась там, в Щёткино, за мостиком, в своём проулке, её сейчас, верно, ломают и гнут, и крутят руки, и бесстыдно рвут её платье, и хрустят её косточки. И я видел маленького Ваську, как бьют его пахнущую воробьями головёнку об угол сарая. Я видел Вейсмана, как его сжигают живьём, и я видел распятого дядю Яшу, и лежащего на деревенской улице мёртвого Серёжу, и мёртвую девочку Лину…
Я ничего не мог с собой поделать. Я сидел у дерева, и рядом со мной холодела живая человеческая золотинка, мой друг, мой товарищ, мой брат Лёша. А я не мог встать и похоронить его, оказать ему последнее уважение. Я смотрел вперёд перед собой и держал руку на безответном Лёшкином плече и всё повторял и повторял одни и те же слова:
Он упал На траву, Возле ног у коня…Я сам себя не слышал, вернее, слышал, но так, как будто я пою где-то вдалеке, а здесь вот сижу тоже я и плохо слышу того себя, который поёт вдалеке.
Уже совсем стемнело, когда ко мне подошёл Байсеитов. Он подошёл, как будто всё давно знал, постоял возле нас с Лёшей и ничего не говорил. А потом опустился на колени и стал рыть, рыть своим ножиком землю. Я слышал его удары о землю и короткое дыхание. Он долго копал и скрёб, и до меня дошло тогда, что ему одному не управиться. Я встал, подошёл к нему и стал помогать. Я рыл сначала пряжкой пояса, а потом просто ногтями, и мы наконец вырыли вдвоём с Байсеитовым неглубокую овальную яму, неровную и некрасивую, и я взял Лёшу за плечи, а Байсеитов за ноги, и мы его, как сонного, уложили в сырую, безвестную, ненадёжную постель. Мы засыпали его землей и заложили голыми безлистными ветвями, и я опустился на колени и поцеловал эти ветви там, где у Лёши сердце, и Байсеитов сделал так же. Мы встали потом у могилы, и Байсеитов спел со мной:
Он упал На траву, Возле ног у коня…Потом мы пошли по дороге вперёд.
20
Он пытался меня пожалеть и два раза брал меня под руку, как старуху, но я пихнул его локтем в грудь, и он отстал. Мы шли с ним уже часа два-три, над лесом встала кривобокая луна, и на дороге были видны замёрзшие лужицы. Под тонкой прозрачной корочкой льда переливалась нежным узором ещё живая вода, и лужицы были похожи на кружева. Они были похожи на узоры из наряда царевны Волховы. Они были похожи на серебряные слитки. И на причудливые обломки зеркал. И на удивлённые глаза.
Мы давно уже шли с Байсеитовым и ещё не сказали друг другу ни слова. Часа полтора тому назад небо за нашей спиной заполыхало кровавыми перьями пожаров, и бомбы стали разрываться за нашей спиной. Они прямо наступали на пятки. Видно, фриц двинулся вперёд. Надо было нажимать, и мы шли очень быстро, не так, как ходят в строю, а просто вовсю, и мне было трудно. Да и Байсеитову тоже, ведь мы давно ничего не ели, а шли уже в общей сложности часов десять, а впереди ничего не было — ни огня, ни жилья. Но всё-таки мы шли и шли, влекомые Москвой, всё вперёд и вперёд, несмотря на то, что ноги у меня опять болели и мне казалось, что они кровоточат. Мы шли вдвоём с Байсеитовым. Теперь Байсеитов был моим спутником, а Лёшка отстал в пути, прилёг на дороге и не догонит никогда…
— Потерять друга — счастье потерять, — сказал Байсеитов. Он догадался, понял, о ком я думаю, идя с ним рядом.
Я сказал:
— Да.
Байсеитов расстегнул ватник. Прямо в лицо нам дул ледяной ветер, но Байсеитов подставил ему свою коричневую дублёную грудь, которая не чувствовала холода.
— Обида жгёт, — сказал он гортанно, — когтит душу, как кобчик перепёлку.
Он замолчал и потом снова сказал кому-то гневно, с укором:
— Нельзя так, слушай, — так нельзя!
Да, обида грызла нутро. И с этой обидой, как с пулей в груди, закусив губы и шатаясь, в тяжёлых сапогах, мы шли с Байсеитовым, мы шли, шли, шли, шли без конца. Мы только с ним и делали, что шли, шли, шли, шли… Дорога лежала перед нами, бесконечная ночная дорога, стылая и молчаливая, холодюга стоял собачий, ветер подвывал в голых вершинах, и два десятка километров остались за нашими плечами, как два десятка лет. И казалось, что конец нам, никогда мы не выйдем из этой тьмы и холода, и всё равно надо было идти, идти, идти и идти. После полуночи силы отказались мне служить, мне стало наплевать на всё на свете, и снова боль охватила всё тело. Она сжимала меня обручами, особенно грудь, и не давала мне ни вдохнуть, ни выдохнуть. В глазах моих встало какое-то марево, оно кружило голову, и странная полусонная одурь нашла на меня. Я хотел спать. Плюнуть на всё и завалиться поспать. Простое желание, и я высказал его Байсеитову.
— Я посижу, Байсеитов, — сказал я, садясь. — Иди. Я догоню.
Я сел у дороги и уютно привалился к дереву.
Байсеитов стоял подле. Он попытался поднять меня, но я выскользнул из его рук и снова стал моститься у дерева.
— Встать! — крикнул Байсеитов, как командир. — Встать немедленно!
Я встал, пошатываясь. Это было неожиданно для меня самого. Я встал и вытянул руки по швам и закрыл глаза. Меня качало.
— Открой глаза, — сказал Байсеитов. — На!
Я увидел в его руке маленькую круглую жестяночку из-под вазелина, она была открыта, в ней что-то белело. Байсеитов приподнял мою левую руку и подставил под неё своё плечо. Рука его опоясала меня, это был спасательный круг.
— Масло, — сказал Байсеитов. Он поднёс вазелиновую баночку к самому моему лицу. — Двадцать пять граммов. Паёк. Я со стола ухватил, когда побежал.
Он сунул палец в банку, подковырнул масло и вложил мне палец в рот. Оно растаяло во рту мгновенно и сделало своё дело. Я сказал:
— Пошли, Байсеитов.
Он лизнул пустую банку два раза и отшвырнул её. Мы двинулись по дороге. Он шёл впереди, и мы опять занялись с ним делом: мы шли, шли, шли… Сколько — не знаю. Знаю, что бесконечно долго. Я опять начал пошатываться и засыпать на ходу, и железный Байсеитов тоже шёл неверной походкой, плечи его опустились, голова подалась вперёд вместе с шеей, и он шёл, шёл, шёл под горящим небом, а за ним, то догоняя его, то далеко отставая, шёл, шёл, шёл я. Ночь застыла, она отказалась двигаться, она забыла про нас, и до рассвета было ещё сто лет. И никого, никого, кроме нас, на дороге.
Идём, опять идём, опять идём, идём, ковыляем, идём, спотыкаемся. И вдруг, спустившись в маленькую ложбинку, мы увидели бредущую нам навстречу лошадь.
— Ну вот, — сказал Байсеитов облегчённо, — вот и всё! Сейчас мы верхом поедем!
Он стал подходить к лошади, протянув перед собой руку ладонью кверху. Лошадь доверчиво шла к нему навстречу. Она подошла к нам и стала тыкаться нежным храпом в руку Байсеитова.
— Хлеба хочет, — сказал Байсеитов.
Я сказал:
— Нету хлеба.
Байсеитов прислонился к лошади, и она пошатнулась. Он повернулся к ней лицом и взял её за холку левой рукой. Он попытался вскочить на неё, на костистую жалкую её спину. Он бормотал:
— Счас… Счас… я сяду. Потом тебя втащу. Прр, тпру…
Но сесть ему не удавалось, он слишком устал, ослаб и отощал, и слишком тяжёлые были на нём сапоги, он только тщился бесполезно и корябал бока лошади сапогами. Лошадь терпела всё это. Но Байсеитов не мог на неё взобраться. Тогда он взял её за ноздри и повлёк за собой, он брёл так, покуда не увидел того, что искал. Это был пенёк. Байсеитов поставил лошадь у пенька и взошёл на него. Лошадь стояла тихо, она понимала наше положение и хотела нам помочь. Я это видел. Байсеитов подпрыгнул и лёг животом на острый хребет. Он повисел так, отдуваясь, и, наконец, перекинул правую ногу. Он уже сидел, когда лошадь вдруг подогнула передние ноги и рухнула на колени. Байсеитов сполз к шее и слез на землю.
Я сказал:
— Она умирает.
Байсеитов закрыл лицо руками. Лошадь легла на бок и пошевелила ногами. Она хотела нам помочь, я это знал. Но у неё не вышло. Она была стара, и она умирала. Байсеитов пошёл по дороге. Лошадь тихонько ржанула ему вслед. Байсеитов не оборачивался. Я пошёл за ним.
21
Утром мы увидели Наро-Фоминск. Первый же косматый старичок, встретивший нас у самого выхода дороги на окраину города, увидев нас, замер от испуга, и когда мы попросили у него воды, вынес нам целое ведро. Он долго глядел на нас и наконец сказал хрипло и натужливо:
— Вы откуль вышли-то, ребята?
— Из Щёткина, — сказал Байсеитов.
— Вона, — сказал дед. — Как же вы из Щёткина? Из Щёткина много народу пришло ещё ночью.
Мы переглянулись с Байсеитовым.
Я сказал:
— Где же они выходили?
— Да вона, — дед показал рукой, — у вокзала — во-она!
— А мы отсюда выходили, вот здесь, за вашим домом, — сказал я.
— Вот что, — дед показал два зуба на голых деснах, — это, милые, старая дорога, по ней никто не ходит, это вы крюку дали верстов двадцать, а то и двадцать пять!
И он засмеялся добродушно так, сердечно.
И мы пошли с Байсеитовым через весь город и увидели, правда, другую дорогу, по которой шло множество всякого народа, двигались машины и крестьяне на телегах, и скотина, и весь этот живой поток вливался в широкую улицу, ведущую к вокзалу. Мы шли вдвоём, опираясь на суковатые палки — на рассвете Байсеитов оснастил нас этими чудовищными полупосохами-полукостылями. Мы шли и чувствовали на себе внимательные взгляды встречных, идти было невыносимо трудно и больно, и хотя я знал, что скоро конец этому моему походу, но я всё равно каждую минуту думал, что умру. Нас догнала телега, рядом с ней шла высокая костистая старуха в мужском пальто и шляпе поверх платка.
— Садись, — сказала старуха зычно. — Подвезу.
Мы еле всползли на телегу, и старуха подсаживала нас.
Она была громогласная и разговорчивая. Мы неудобно пристроились с самого края. Телега была завалена маленькими полосатыми, как арбузы, мандолинами и крутобёдрыми гитарами. Наверху лежала гигантская балалайка. Весь этот странный товар позванивал и потренькивал от тесноты, и когда Байсеитов неловко шевельнулся, жалобно зазвенела какая-то басовая струна.
— Полегче, полегче, — сказала старуха трубным своим голосом. — Смотри не раздави мне музыку — она государственная. Оркестр народных инструментов колхоза «Восход»…
Она шевельнула вожжами, и мы заскрипели по улице. Старуха шагала рядом с нами. У неё были удивительно крупные шаги.
— Спасаю музыку от фрица, — сказала старуха. — Ему на ней не играть… Одна я в клубу-то — все на войну ушли. И заведующий, значит, и библиотекарь, все побегли душить проклятого. Ну а я гляжу, этак он ненароком до нас дорвётся, шалавый чёрт, — запрягла да всю музыку-то и навалила валом. Пережду где-нибудь, пока его отобьют, а потом в обрат. Не играть ему в нашу музыку, лешему, нет! Так, что ли, ребята?
— Вы правильно делаете, бабушка, — сказал я.
Старуха удовлетворённо хмыкнула. Лошадь двигалась медленно, улица была запружена народом, забита транспортом, глаза мои слипались, но я не спал, не мог спать, наверное, от голода. Я смотрел на дорогу, на людей, которых обгонял, и видел, как в толпе мелькнули Киселёв и, кажется, Ванька Фролов, и ещё кто-то, не Хомяков ли? Не узнал, не успел догнать взглядом, а окликнуть просто не было сил. Только я видел многих наших и видел, что они были такие же слабые, как мы, если не слабее.
Байсеитов тоже не спал, он растирал свои набитые ноги, налитые кровью пятипудовые ноги.
Старуха остановила лошадь.
— Стой, тпрр, — сказала она. — Вам куда?
— На вокзал, — сказал я.
— Слезайте тогда — вот он, вокзал!
Перед нами была маленькая площадь. В центре стояло здание вокзала. Мы слезли с телеги. Не успел я встать на ноги, как меня резанула по пояснице резкая боль. Байсеитов вскрикнул тоже.
— Ослабли мы, — сказал он и смущённо улыбнулся.
Старуха всё не отъезжала. Я спохватился.
— Спасибо, — сказал я.
Байсеитов тоже сказал:
— Большое спасибо!
Старуха взмахнула кнутом, свистнула и, пробежав за телегой несколько шагов, вскочила по-мужицки на бочок. Телега скрылась. Перед нами был вокзал. За невысоким его палисад ничком был виден небольшой ладный паровоз, он пыхтел, выпуская плотные клубы дыма. Зелёные вагончики пристроились к нему длинной очередью. Было до них рукой подать. Но Байсеитов не двигался. Он показывал пальцем за угол.
— Смотри, — сказал Байсеитов странным прерывающимся голосом. — Скорее смотри!
Я глянул туда, куда указывал Байсеитов, и чуть не закричал. Это была армия! Да, это шла наша армия! Был слышен её мерный, твёрдый, уверенный шаг. Может быть, это была одна только рота, но мне показалось, что я вижу необозримую массу солдат, полки, дивизии, корпуса. И главное чудо было в том, что они шли нам навстречу. Они шли туда, откуда мы ушли. Они спешили, они торопились, они двигались на ускоренном марше, они бежали вперёд на выручку, на помощь к своим, на бой кровавый, святой и правый.
Они шли, придерживая автоматы на груди, шагали упругими, здоровыми, молодыми ногами. Здесь не было плохо навёрнутых портянок, здесь всё было пригнано удобно, точно, наилучшим образом, и земля хрустела под сапогами, как кочерыжка на молодых зубах, и для меня не было ничего слаще этого звука, любимого ещё с детских лет, звука, с которым была неразрывно связана в моей душе память об отце, звука похода, неотвратимой поступи приближающейся Победы, идущей с развевающимися алыми знамёнами впереди. Да, наверно, всё было не так красиво на самом деле, и солдат было мало, и много грязи налипло на их сапоги, но всё равно наша Победа шла сейчас нам навстречу, это наша Победа собирала свои войска в подмосковных лесах, и это было наше светлое будущее, и мне сжало горло…
Солдаты проходили мимо нас. Лица их были чисты и строги. Мне хотелось побежать с ними рядом и показать им дорогу на Щёткино, и сказать на ходу каждому из них, чтобы они шли скорее, и дрались беспощадно, и спасли бы мою Дуню, перед которой я виноват без вины, и спасли бы всех наших, которые ждут их сейчас, призывают и кличут. Солдаты шли мимо нас, и я не успел побежать за ними, потому что вдруг понял, что не нужно мне делать этого, солдаты всё знают сами. Они сделают своё дело во что бы то ни стало, у них такое же сердце, как моё, и бедное сельцо Щёткино для них Родина, и Дуня для них тоже Сестра и Любовь.
Байсеитов негромко крикнул:
— Бей фрица, ребята, бей!
И в колонне блеснули ответные горячие взгляды, и замыкающий солдат, проходя мимо, метнул на нас быстрые огневые свои глаза и негромко и страстно сказал Байсеитову:
— Будь спок!
Он улыбнулся краем рта и прошёл вперёд. И мы долго ещё смотрели им вслед, как они идут быстро и согласно, и Байсеитов сказал по-восточному напевно:
— Сердце мое идёт с ними рядом…
Мы двинулись. Паровоз всё дымил.
На вагонных окнах белели чистенькие занавески. Это было странно. Просто невероятно.
— Чудно, — сказал Байсеитов, словно не понимая и не веря, что после прожитой ночи в мире могут существовать такие белые занавески…
— Скорее, — прокричал на ходу какой-то парень, — скорее, поезд отходит в десять!
Мы заторопились, вдруг смертельно испугавшись, что опоздаем.
На площадке последнего вагона стояли две рослые девушки в шинелях, краснощёкие грудастые девушки с наведёнными бровями. Они протягивали нам руки, и мы, стыдясь, протягивали им свои, и девушки втащили нас в вагон. Когда поднимали Байсеитова, его ноги стучали о ступеньки, как деревянные.
— Этот полегше будет, — сказали девушки про меня, и, когда втащили, одна шлёпнула меня пониже спины, — давай, хромай веселее!
Я вошёл в вагон. Он был набит до отказа. На чистых сверкающих скамейках и на чистом сверкающем полу, под чистыми сверкающими занавесками сидел измазанный наш, усталый, измученный и голодный народ. Странно было знать, что это те же самые люди, которые так недавно ехали сюда такие чистые, сытые и здоровые. Но это были они, те же самые, и вид у них был отработанный, они смахивали на отходы, на второй сорт, потому что горе и обида иссушили их за одни сутки. Но я-то хорошо знал, что этот народ не сдался, нет, не сдался! Просто мы все ехали перезаряжаться.
Байсеитов нашёл мне место в дальнем углу вагона, рядом с собой, и я опустился на пол. Было тепло и, несмотря на большое количество людей, очень тихо. Народу всё прибывало. Потом больше уже никто не входил, — видно, грудастые проводницы никого не пускали; люди шли вперёд, к голове состава, я слышал голоса за окнами. Вдруг дверь открылась, и к нам в вагон вошёл слепой старик. Лысая его голова была обнажена, водянистые серые глаза смотрели строго. Старик всё время что-то неслышно шептал, губы его непрерывно шевелились. Впереди него пробиралась крохотная девочка-поводырь. Она была в ладненьком, перевязанном верёвочкой зипунчике, головка повязана платочком. В больших, наморщенных, синеватых своих руках старик держал каравай хлеба. Он прижимал его к груди. Войдя в вагон, старик остановился и строго сказал что-то шедшей за ним проводнице. Она скрылась и быстро вернулась, протянув старику длинный и острый нож. Тонким и осторожным движением старик отрезал от буханки небольшую горбушечку. Он отдал её девочке, и та подошла к первому из нас и протянула ему хлеб. Человек взял, а девочка тотчас вернулась к старику. Он уже ждал её с новым небольшим ломотком чёрного хлеба. Девочка взяла ломоток и отдала следующему. Так шли они по вагону, старик и девочка, и оделяли голодных людей, и мы принимали этот хлеб с благодарностью, и грудастые проводницы стояли и плакали.
22
Совершенно не помню, сколько я спал и сколько мы ехали, какие места проезжали, ничего не помню. Вскочил я, когда поезд стоял у перрона Киевского вокзала и половина наших людей уже покинула вагон. Надо мной стоял Байсеитов, он трогал сапогом мои ноги.
— Вставай, — говорил Байсеитов, — вставай же. Москва!
Не передать того, что я почувствовал, когда услышал это слово. Не стоит об этом. Я жадно, до исступления жадно вбирал глазами Киевский вокзал, его грязный, немытый стеклянный купол, нехитрые киоски вокруг и большой разлёт площади. Мы стояли на ступеньках вокзального здания, на площади было пустынно, знакомые с детства камни лежали передо мной. Да, это была Москва, в этом было всё дело, и сердце билось тяжело и сильно, как язык многопудового колокола.
Слева, с Бородинского моста, четыре девочки вели аэростат. Четыре ладные девочки с узенькими талийками вели под уздцы допотопное чудище. Девочки знали, как с ним обращаться, и чудище безропотно подчинялось им. Байсеитов не смотрел на девочек.
— Мне на Можайку, — сказал Байсеитов и переступил с ноги на ногу, — прощаться надо.
— Напиши адрес, — сказал я.
Мы пошли к перронной кассе, попросили карандаш и кусочек бумажки и обменялись адресами.
Я сказал:
— Я написал тебе адрес, Байсеитов, не просто так. Байсеитов, слышишь, приходи ко мне. Мой ключ лежит всегда в почтовом ящике, и если меня не будет дома, ты входи и обожди. Я тоже к тебе приду.
Мы протянули друг другу руки, и Байсеитов раскрыл глаза. Я увидел глаза Байсеитова. Оказывается, это были прекрасные глаза, не маленькие, не узкие, нет. Это были огромные человеческие глаза, наполненные нежностью и грустью. Я долго смотрел в эти глаза. Мы обнялись. Он спустился по ступеням и быстро пошёл, не оглядываясь. Он шёл, а я смотрел ему вслед. Без него тоже никогда не будет совсем хорошо.
И я пошёл домой. Быстро идти я не мог, да и не хотел. Коряга-костыль был теперь моим спутником. Он постукивал слева, и ноги саднили, но сердце оживало, — дело было в Москве, идти было легко.
Над городом висел странный и неприятный запах гари, чёрный дым вываливался из многих труб, людей было мало, изредка проносились машины, гружёные узлами и разной рухлядью. На узлах сидели насупленные люди. Окна магазинов были завалены мешками. Мрачно было и строго. Москва была сжатая, подобранная, и мне показалось, что я вижу её лицо, подлинное лицо, без гари и машин с узлами. Многое в ней изменилось за время моего отсутствия, в самом воздухе изменилось, и я чувствовал, что это неспроста, что ещё серьёзнее дело стало. Москва напоминала мне сейчас бойца, что стоит вот так же сумрачно и тихо, широко расставив ноги, и глядит исподлобья, прежде чем одним разом, одним ударом смыть с себя позорное оскорбление, скверное надругательство врага, которому если не отомстить, то и жить уж нельзя на свете. Я вспомнил строки и сказал вслух:
Изловчился он, Приготовился… И ударил!!! Своего ненавистника! Прямо в левый висок! Со всего!!! Плеча!!!Это было у Смоленского. А на Арбате мимо меня проскакал конный. Лошадь стлалась по центральной улице Москвы, всадник свистел плетью и жёг коня, он гнал его как безумный, стоя в стременах и качая поводьями, чтобы ещё ускорить этот дикий бег. Бледные искры взлетали из-под конских копыт. Да, наверняка дело серьёзное.
В нашем дворе никого не было, и никто не видел, что я пришёл домой бородатый, с костылём, и я долго стоял у своего почтового ящика, не в силах побороть волненье. Потом я наконец решился и пошарил в нём рукой. Он был пуст, в нём не было ни одного письма, и ключа от моей комнаты тоже не было. Я нашарил в полутьме свою дверь и толкнул её. Она была открыта.
Вот он, гвоздик на стене, где висел плащ девочки Лины.
Я шагнул в комнату. За столом, на стульях и на кровати сидели женщины. Много женщин. Старые и молодые, разные. Они повернули ко мне головы. Все молчали. Первой заговорила стриженая курчавая женщина, стоявшая у стены. Она сказала требовательно и сухо:
— Вам кого, товарищ?
— Никого.
— Не понимаю вас, — сказала она и прищурилась.
— Я пришёл домой, — сказал я. — Я здесь живу.
Женщина ещё не понимала.
— Чёрт знает что, — воскликнула она. — Райсовет предоставил нам это помещение для занятий медсестёр.
— И прекрасно, — сказал я, — молодец райсовет.
— Но нас уверили, что помещение совершенно свободно!
— Я не помешаю вам, — сказал я. — Занимайтесь, сестрички, меня действительно не было, но я пришёл. Я из ополчения, — добавил я. — Я спать хочу. Занимайтесь, сестрички.
Те из них, кто сидел на кровати, вскочили. Я прошёл к кровати и снял сапоги. В комнате сразу запахло портянками. Я лёг в чём был и повернулся к стене.
— Занимайтесь, — сказал я. — Занимайтесь, сестрички.
23
Было совсем темно. Я вскочил и начал лихорадочно одеваться, мне показалось, что это побудка и нужно растолкать Лёшку, но рядом никого не было, рука моя ткнулась в подушку, соломы не было, воздух был чист, не слышно было храпа. Я вспомнил, что я дома. Медленно, ощупью пробрался и проверил затемнение. Оно было в полном порядке, можно зажигать свет. Я щёлкнул выключателем. В комнате всё было чисто прибрано, всё было как всегда, только на стенах не было Валиных фотографий — на стенах висели прибитые большими гвоздями плакаты, объясняющие, как лучше переносить раненых, как накладывать повязки, делать уколы и так далее. На столе лежало несколько кусков хлеба, куски эти имели разные оттенки и даже разные цвета, ещё там лежал небольшой кусок колбасы, конфетка «прозрачная» и кусок сахара. Я вспомнил женщин с курсов медсестёр и понял, что это они оставили мне поесть, позаботились обо мне и собрали между собой кто что может. Я налил в огромную кастрюлю воды и поставил её на керосинку. Пока вода грелась, я нашёл чистую рубашку, трусы, носки и снял с полки красивый плотный кусок мыла. Потом я подождал у керосинки и водил пальцем в воде, пока она не согрелась.
Я налил немного воды в таз и вымыл голову. Нельзя сказать, что вода была грязная. Просто невероятно грязная, чудовищно грязная — тогда, может быть, будет верно. Потом, в новой воде, я мыл ноги, они тоже были ужасающе грязные. Но главное было в том, что там, где у меня были язвы, теперь была новая розовая кожа.
Потом я разделся весь донага и развёл оставшуюся воду холодной и кое-как вымыл тело. Живот у меня так ввалился, что я удивился даже. А грязи на мне было столько, что когда вода стекала в корыто, я смотрел на неё и только приговаривал сто раз подряд:
— Ну-ну! Ну и ну!
Я вымылся начерно, чтобы потом не стыдно было идти в баню, убрался, подтёр пол и надел чистое бельё. Потом я встал у стола и поел оставленного мне медицинскими сестрами разнокалиберного и разноцветного хлеба: чёрного, серого и коричневого. Я съел сахар, конфету, маленький кусок колбасы и запил всё это холодной водой. Потом потушил свет и, отодвинув штору из чёрной бумаги, глянул в окно. На дворе было светло. Значит, был день и я проспал часов шестнадцать. Нужно было идти…
24
Войдя в театр, я почувствовал странную атмосферу безлюдья. Никто не встретил меня в служебном проходе, и я, опираясь на байсеитовский костыль, прошёл через внутренний коридор, не встретив ни одного человека. В коридоре, загораживая проход, стоял ящик. На нём было написано: «аппаратура». Он был перевязан толстыми верёвками. Протиснувшись боком, я прошёл дальше и увидел сквозь неплотно закрытую дверь следующей комнаты Зубкина. Он был похож на лягушку больше, чем когда-либо. Воровато озираясь, он вытащил какую-то папку и разорвал её в клочки. Я смотрел на него. Я не понимал, что он делает, но во всей его повадке в эту минуту было что-то такое мерзкое, подлое и даже предательское, что у меня просто почки заболели от отвращения, и я ушёл.
Пройдя налево, я услышал голоса в буфете.
«Вот и еда», — подумал я и толкнул дверь.
Валя шла через комнату на подламывающихся каблучках. Она шла, обходя голые мраморные столики, прямо к стойке. Там стоял человек. Он был в узких брюках, мне показалось, что это лосины, — так туго они облегали его. Валя шла, протягивая к нему руки. Он подал ей стакан. Валя взяла его и пошла за свой столик. Она меня не видела. Я шагнул к ней навстречу.
Я сказал:
— Почему ты не ответила на письмо?
Она взглянула на меня и выронила стакан. Он упал на каменный пол, и кисель разлился розовой лужицей.
А Валя смотрела на меня, и вдруг я увидел, что её глаза до краёв переполнены злостью. Она сказала негромко и внятно:
— Как вы изменились. Вы что, с того света, что ли? Я получила вашу записку, она патетична. Меня тошнит от патетики!
Она подошла ко мне близко, и никто не мог слышать её слов. Я ожидал чего угодно, но она всегда была полна неожиданностей. И тут она сказала мне, глядя в глаза очень откровенно:
— Письмо — это документ, братец… — И пошла мимо.
Значит так: я получу твоё письмо и потом буду показывать его каждому встречному и поперечному и буду похваляться?!
Сука.
Я спустился вниз, в кладовую, кладовщик сидел и барабанил пальцами по столу. Увидев меня, он сказал:
— Вернулся?
Я сказал:
— Да. Примите.
Я снял с себя ватник и, привалившись к стене, стянул сапоги. Старик долго и сокрушённо осматривал прожжённый истёршийся ватник. Он поворачивал его и так и этак, поближе к свету, и всё поглядывал неодобрительно на меня, качал головой и цокал.
Сапоги мои окончательно расстроили его, и он сердито бросил мне мои ботинки. Я снял портянки и переобулся. Стало удивительно легко ногам. Просто казалось, что я босиком. Я поднялся наверх и вышел из театра.
Мне надо было попасть на Тверской бульвар, в райком. Я знал, что делать. Пусть попробуют мне отказать. Я не от себя прошу. Так мы сговорились с Лёшкой Фомичёвым. Он упал на траву, там, на этой проклятой дороге, он упал на траву и закрыл свои карие очи. Меня надо взять, это за меня просит моя единственная, моя ненаглядная Дуня, она ждёт, что я приду и возьму её в жёны. Серёжа Любомиров просит за меня и те, кто остался позапрошлой ночью на той стороне, у нашего штаба, когда фриц перелетел и отрезал им путь к жизни. Они посылают меня к вам, товарищ Райком. Я остался цел, но это чудо, и значит только то, что я должен доделать работу. Эту страшную работу войны. Я буду делать её всегда, пока цел. А если я цел не останусь, — то останется другой.
Вот так я и скажу в райкоме, пусть попробуют меня не послать, я чёрт знает до кого дойду — не имеют права меня браковать!
25
Я еле протолкался через толпы людей. Повсюду стояли столы, кого-то записывали, выкликали, проверяли. Здесь были студенты, рабочие, служащие и даже школьники. Здесь никто не собирался зажимать меня. Просто мне сказали, что я пришёл не туда, и сочувственно и благожелательно посоветовали:
— Иди в МК. Раз ты в партизаны, иди туда. Колпачный переулок.
— Возьмут? — грубо спросил я, нервы мои были напряжены.
— Иди сходи, — уклончиво сказал вихрастый инструктор. Хотелось мне тогда иметь крылья, но пришлось всё-таки идти пешком. Но я не такие куски хаживал, я отдохнул, я надеялся и поэтому дошёл быстро и споро.
В коридоре толкался народ. Я увидел женщину в чёрном платке, крест-накрест, туго-натуго облегавшем грудь. Она была похожа на ту, которая звала с плаката «Родина-мать зовёт».
— Двух сынов убили и мужа, — сказал кто-то за её спиной. Я с любовью смотрел на её прекрасное лицо. К человеку, от которого всё зависело, была очередь, входили по двое, а то и по трое. Я долго ждал. Когда меня вызвали, я вошёл в просторную, плохо прибранную комнату, в ней тяжело пахло холодным табачным дымом, и за столом сидел человек с густо заросшим зелёной бородой лицом. Он сидел на табуретке, она скрипела под ним, под его вёртким телом. Он был в кожанке. Перед этим человеком стояла девочка в синем пальто. Из-под пальто торчала коричневая юбка, а из-под юбки красные лыжные штаны. Из-под огромной шапки-ушанки свисали две косички. Я видел её худенькое личико, освещённое серыми глазами, огромными и чистыми. Девочка стояла перед человеком в кожанке и что-то говорила. В голосе её была мольба. С решимостью и надеждой смотрела она на привыкшего к запаху холодного табачного дыма человека. Он же смотрел на неё из-за барьера своих бессонных ночей и моргал красными, воспалёнными веками. Он всё наклонялся вперёд, табуретка скрипела, — видимо, человек хотел получше разглядеть девочку. Выслушав её, он болезненно поморщился и спросил:
— И что же ты собираешься делать в наших партизанских отрядах?
Девочка взмахнула худенькой рукой и шагнула к столу.
— Взрывать, — сказала она.
Человек в кожанке взглянул на неё, и вдруг что-то осветило его заросшее зелёной щетиной лицо. В глазах появились нежность и боль. Но он тотчас сдержался, погасил свой свет изнутри и сказал, отвернувшись:
— Иди, девочка, домой…
Она отошла от него и, прислонившись к грязной стене, заплакала. Он скрипнул табуреткой и сказал:
— Следующий.
Я подошёл к нему, стараясь не хромать, он поговорил со мной и сказал, что ладно, я вполне подойду и что завтра меня, возможно, отправят к месту назначения, и чтоб я не уходил.
— А пока, — сказал он мне, черкнув что-то на бумажке, — а пока, Королёв, можешь спуститься вниз в подвал, найдёшь там товарища Андреева, предъявишь ему эту записку, и он тебе выдаст сапоги и ватник…
От редактора серии «Как это было»
И на самом деле — как?
Любое прикосновение к «военной»[1] теме — литературное, историческое, мемуарное — болезненно. И потому, что «военные» раны заживут ещё нескоро, и потому, что эта тема так долго была — и остаётся — идеологическим инструментом (или даже оружием). Причём и во «властных», и в «оппозиционных» руках. Власть создаёт удобный ей образ «подвига советского народа», а неприемлющие эту власть разрушают её «миф», создавая взамен свой собственный.
Хрестоматийный пример — судьба Зои Космодемьянской, первой женщины — героя Советского Союза (звание присвоено ей посмертно). О казни юной партизанки страна узнала 27 января 1942 года из статьи «Таня», опубликованной газетой «Правда»; автор этой статьи (и последующей, от 18 февраля — «Кем была Таня»), журналист Пётр Лидов, писал: «Небольшая, окружённая лесом деревня Петрищево была битком набита немецкими войсками <…> Однажды ночью кто-то перерезал все провода германского полевого телефона, а вскоре была уничтожена конюшня немецкой воинской части и в ней семнадцать лошадей.
На следующий вечер партизан снова пришёл в деревню. Он пробрался к конюшне, в которой находилось свыше двухсот лошадей кавалерийской части <…> В этот момент часовой подкрался к нему и обхватил сзади руками. Партизану удалось оттолкнуть немца и выхватить револьвер, но выстрелить он не успел <…> Партизана ввели в дом, и тут разглядели, что это девушка».
Сегодня мы знаем, что рассказ Лидова неточен: в первый свой приход в Петрищево партизаны сожгли не конюшню, а три жилых дома[2]; задержана Зоя была не немцем-часовым у конюшни, а колхозником Свиридовым при попытке поджечь его сарай (Свиридов после освобождения Петрищево был арестован, судим и расстрелян)… Важно для «оппозиционного» мифа и то, что комсомолка Зоя Космодемьянская была внучкой казнённого большевиками священника; известны и другие не вписывающиеся в официальную версию подробности.
Что это меняет? Умаляет ли подвиг партизанки «Тани»? Может ли что-то бросить тень на мученичество девушки, отдавшей жизнь за Родину? Видимо, главное, что здесь недопустимо — это фальсификации (фактические и «интерпретационные»): ложь пятнает всё.
«Таню» ведут на казнь. Происхождение снимка доподлинно неизвестно.
Всё сказанное относится и к другой «военной» истории, которой посвящена повесть Виктора Юзефовича Драгунского «Он упал на траву». Трагическая страница войны: не призванные в действующую армию (по здоровью, возрасту и т. п.) москвичи добровольцами отправляются на рытьё окопов и гибнут — необученные, не-обмундированные и даже не вооружённые, — когда до них докатывается уже никем в тот момент не сдерживаемая волна немецкого наступления осени 1941 года.
Серию «Как это было» составят книги, посвящённые подобным трагически-неоднозначным (а есть ли они, однозначные?) страницам войны. Важнейшее условие: эти книги написаны очевидцами, непосредственными участниками — Драгунский сам был московским ополченцем и всё описанное пережил лично. Книги писались в «подцензурную эпоху», их авторы не всё могли сказать, а многого и сами не знали. Потому мы стремимся насколько возможно объективно установить (кстати, и восстановить, — повесть «Он упал на траву» после смерти Драгунского подверглась обширной цензорской правке, и наше издание возвращает читателям авторский вариант) истину — фактическую и художественную.
Станислав Дудкин «Он упал на траву…»: автор и книга
После войны о войне не писали долго. У этого молчания — несколько причин.
Во-первых, невозможность рассказать о войне правду. Слишком много тем было под запретом: поражения первого года войны, «котлы»[3], судьба остарбайтеров[4] и военнопленных, попадавших из фашистских лагерей в советские. Две честные книги, нарушившие молчание, — «Звезда» Эммануила Казакевича и «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова — ожидала странная судьба: вначале их авторов наградили премиями, а затем последовал шквал обвинительных статей. Послевоенная цензура была очень жёсткой, контроль государства над литературой — абсолютным.
Вторая причина — психологическая. Отечественная война стала душевной травмой, запредельным шоком. Не было семьи, так или иначе не пострадавшей. Похоронки на близких, ужасы оккупации, стремительное продвижение фашистов — всё то, от чего в мирной жизни можно было бы сойти с ума, становилось обыденным и привычным. В послевоенной жизни не было места фронтовому опыту — и от него пытались избавиться, замолчать, забыть. Даже День Победы до 1965 года не был официальным праздником.
Опыт войны невозможно забыть, но его нужно было осмыслить. Для этого требовалось время. Поэт Давид Самойлов, встретивший войну двадцатилетним студентом, писал:
«Как это всё в меня запало И лишь потом во мне очнулось».«Очнулось» в начале шестидесятых — тогда и родилась «лейтенантская проза» (книги Григория Бакланова, Василя Быкова, Константина Воробьёва, Бориса Васильева). Главными героями их книг (а многие из них автобиографичны) были молодые лейтенанты, вчерашние школьники и студенты, отправленные на фронт после нескольких месяцев обучения.
Появились первые фильмы о войне (в 1957 году Михаил Калатозов снял замечательный фильм «Летят журавли»). Всё это стало первой попыткой искреннего разговора о том, что было пережито на войне и осмыслено в последующие годы.
Отчасти примыкает к «лейтенантской прозе» и написанная в 1961 году повесть «Он упал на траву….» Виктора Драгунского. Писатель родился в 1913 году — в начале войны ему двадцать восемь лет, он актёр московского театра-студии (в повести упоминается актёр подобной же студии Саша Гинзбург — будущий Александр Галич, поэт, бард и драматург, изгнанный в 1974 году из СССР). Не попавший на фронт из-за астмы, Драгунский добровольцем ушёл в московское ополчение, откуда, измученный и оборванный, вернулся прямо в театр, ставший к тому времени фронтовым. Конечно, герой книги не равен автору: он моложе, на фронт его не пускает не астма, а хромота. Но главное, что объединяет их, — опыт участия в московском ополчении, первым литературным памятником которому стала повесть Виктора Драгунского. В ней соединилось пережитое автором и то, что он услышал от других защитников Москвы. В нашей статье речь пойдёт об историческом контексте повести.
Виктор Драгунский. 1946.
Начало войны: как фашисты оказались под Москвой?
Идея «блицкрига» («молниеносной войны») была очень важна для стратегического планирования военных операций Третьего Рейха. Германских ресурсов не хватило бы на долгую войну, к тому же воевать пришлось бы на два фронта — на востоке с СССР и на западе с Англией и присоединившимися к ней США и французскими отрядами де Голля. Напротив, быстрая победа над СССР позволила бы Третьему Рейху овладеть колоссальными ресурсами (хлебом, нефтью, углём, железом) и применить их в войне против «союзников». Стратеги Рейха считали, что после взятия Москвы война на востоке закончится.
Всего за два месяца — с 22 июня до середины августа 1941 года — германские войска заняли огромные территории: почти всю Украину и Белоруссию, Прибалтику, западные области России. Советский Союз был слабо подготовлен к войне, но так же молниеносно фашисты захватили Францию, Грецию, Бельгию, Норвегию, — в сущности, всю Европу, двенадцать государств.
В первые же дни войны советские войска Западного фронта оказались перед угрозой полного уничтожения. Запоздалое получение (в 0 часов 30 минут 22 июня) неконкретной Директивы № 1, приводящей войска в боевую готовность, поздняя мобилизация, приведшая к разгрому значительной части армии на марше, потеря господства в воздухе — всё это привело к разгрому войск Западного фронта и позволило Вермахту наступать очень быстро, пройдя в первый же день войны до 60 км вглубь советской территории.
Начало войны. Снимки, сделанные немецкими солдатами (внизу — советские военнопленные).
Также необходимо учитывать, что немецкие генералы ввели в наступление огромные силы — 70 % дивизий и 90 % танков и самолётов — почти всю германскую армию, нанеся удар по всей длине фронта — от Балтики до Чёрного моря.
Лишь к середине августа напор немецких войск начинает немного ослабевать: хотя в ходе «блицкрига» была уничтожена или взята в плен большая часть войск Западного фронта, Вермахт также понёс огромные потери, поэтому был вынужден перейти от наступления по всему фронту к ударам на важнейших направлениях. В сентябре 1941 года германский генеральный штаб определяет три первоочередные направления: Ленинградско-Тихвинское (задача — окружение Ленинграда и уничтожение Балтийского флота), Московское (овладение столицей и оккупация Центрального промышленного района) и Ростовское, с дальнейшим выходом на Сталинград, а затем на Северный Кавказ и Баку — к центрам нефтяных месторождений. Основные усилия Вермахта осенью 1941 года направляются на захват Москвы.
Воздушные битвы над Москвой
В первые дни войны германский генеральный штаб принял стратегию нанесения массированных воздушных ударов по столице СССР. Но реализована она была не сразу — из-за больших расстояний между первоначальными аэродромами Люфтваффе и Москвой. Только после того, как был созданы дополнительные «аэродромы подскока», ровно через месяц после начала войны в ночь с 21 на 22 июля 1941 года немецкие бомбардировщики попытались нанести первый удар по Москве. На столицу шли более 220 самолётов.
Но Москва уже была хорошо подготовлена к атаке с воздуха. Немецкую армаду встретили 174 экипажа ночных истребителей, тысяча зенитных орудий малого и среднего калибра, прожекторы и аэростаты заграждения… Бой, названный позже «Воздушное Бородино», продолжался больше пяти часов. Немецкие самолёты смогли сбросить только 79 фугасных и около 5000 зажигательных бомб. Вначале бросали зажигательные бомбы, а затем — вторая волна атакующих — фугасные, чтобы помешать тушению пожаров. Во время налёта было сбито 22 немецких самолёта. Поражения оказались относительно незначительными: бомбы упали в районе Белорусского вокзала, разрушили одно здание на Моховой и несколько — на других улицах. Самым серьёзным было разрушение в районе вокзала, но, к счастью, оно лишь ненадолго вывело его из строя.
С этого момента авианалёты на город не прекращались до начала зимы 1941 года. Однако Москва была мастерски замаскирована. Строения (в том числе — заводы) маскировали централизованно, при участии архитекторов. Это лишало ориентиров даже опытных пилотов, участвовавших в налётах на Англию. На площадях возводили ложные постройки или разрисовывали асфальт так, что площади казались застроенными зданиями. Крыши цехов превращались в окраинные домики и бараки. Маскировочные сети совершенно изменяли силуэты «исторических» зданий. Кое-где на крышах даже устроили пруды. Убедительность маскировки проверяли с наших самолётов.
«Спрятанная» Москва: Манежная площадь в супрематической раскраске (фото из журнала Life), Манеж и Большой театр (фото А. Красавина) в камуфляже.
Иногда сооружали ложные цели грандиозных размеров, хорошо прикрытые зенитной артиллерией, — «дублёры» заводов и аэродромы-«призраки». В пяти километрах от Тушинского аэродрома был построен ложный аэродром с ангарами, макетами аэродромных зданий, «Яков» и «МиГов». На такие объекты было сброшено 156 осветительных бомб, 687 фугасных и много (возможно, десятки тысяч) зажигательных — примерно треть от всех немецких бомб.
…Четыре ладные девочки с узенькими талийками вели под уздцы допотопное чудище…
На снимке: бойцы ПВО несут газгольдер у Заставы Ильича. 9 октября 1941 (в повести речь идёт об аэростате воздушного заграждения; в этом качестве использовались и газгольдеры — резиновые резервуары для хранения природного газа).
Фашистские листовки предупреждали: «Лучше не пытайтесь ничего сделать с зажигательными бомбами, их температура доходит до тысячи градусов, вы погибнете». Однако с зажигательными бомбами успешно боролись добровольные дежурные — помощники Московской противовоздушной обороны.
«Состояла „армия“ МПВО преимущественно из женщин, заменивших ушедших на фронт мужчин, и тех, кто по молодости или, наоборот, старости или хворости не мог держать в руках оружие. Да, это наши матери, жёны и сёстры, старики и „подставочники“ — мальчишки и девчонки 12–15 лет, которым для того, чтобы достать до станка, требовалась подставка, — ковали грядущую победу, работая по 10–12 часов, а ночами сражаясь с бомбами…»[5]. Для подростков, дежуривших на крышах, страшные бомбёжки были своего рода игрой: американская корреспондентка вспоминала: «На крышах домов позади посольства перекликались дежурные. Голоса были ребячески звонкими, и я поняла, что там дежурит одна из детских пожарных команд, которые начали организовываться в последние дни. Когда вновь посыпались зажигательные бомбы, я разобрала, как мальчишеский голос кричит:
— Следующая, чур, моя!
— Как бы не так! Моя очередь!
Мы с генералом сообразили, что мальчишки спорят за право погасить следующую бомбу — каждый жаждал поставить личный рекорд!»[6]
…На крыше уже сидел дядя Гриша — дворовый водопроводчик, мой напарник по посту ПВО. Брезентовые рукавицы, щипцы и ящик с песком были в полном порядке — мы с дядей Гришей считались лучшими дежурными…
Девушка-наблюдатель МПВО. 1941 год (фото Наума Грановского).
Люди постарше, конечно, воспринимали это по-другому. Вот как описывает один из немецких авианалётов на Москву опытный офицер-связист: «…Это одно из самых страшных воспоминаний моей жизни. На горизонте, видимо, появлялся вражеский самолёт. Сотни прожекторов, сотни разноцветных трассирующих пулемётных очередей, разрывающихся снарядов сосредотачивается на пространстве, в котором предположительно он находится. Вся эта масса огненного неба медленно, со всё возрастающим грохотом, надвигается на нас…. Глаза невозможно оторвать от ослепительного неба, уши глохнут, какая-то пронизывающая боль в ушах. Железная крыша нашего семиэтажного дома содрогается, и я начинаю медленно сползать по ней, ложусь на спину и судорожно вцепляюсь руками в рёбра между листами железной кровли, а грохот всё усиливается. Вся крыша усеяна падающими с неба пулями и мелкими осколками снарядов. И кульминация. На крышу падает несколько зажигалок.
Тут чувство долга берёт верх. Я вскакиваю на ноги и заранее приготовленной лопатой засыпаю огненные шары песком из ящика. Я не один, нас на крыше человек двенадцать, и за несколько минут нам удаётся погасить все зажигалки. Страх навсегда забывается»[7]. На крышах домов дежурили многие: так, в книге воспоминаний Н.М. Любимов пишет о том, как всё лето 1941 года поэт Борис Пастернак неукоснительно дежурил, когда это полагалось ему по расписанию, на крыше писательского дома в Лаврушинском переулке.
Архитектор Б. Кулумбеков, командир роты Краснопресненского ОГБ МПВО[8], рассказывал: «В один из налётов прямым попаданием фугасной бомбы разрушен жилой дом в Среднекисловском переулке. В цокольном этаже в заваленном убежище укрылись несколько десятков человек. Расчистили подход, я с двумя бойцами проник внутрь сооружения. В одном углу несколько человек оказались под обломками конструкций, они нуждались в срочной помощи. Среди погибших под завалом увидели молодого человека в форме майора. Он, проездом из госпиталя, решил навестить семью. Сигнал воздушной тревоги застал его в воротах своего дома…».[9]
Укрывались от бомбардировок в так называемых «щелях» (узких ямах в земле во дворах) и в бомбоубежищах (чаще всего — в подвалах кирпичных домов). «…Мы выкопали квадратную яму два на два метра и глубиной метра полтора. На дно положили ковёр. На ковёр поставили шесть стульев. Сидели на стульях, прижавшись друг к другу, и напряжённо смотрели на небо. Один за другим пролетали над нами немецкие самолёты…. Самолёт загорался и падал, а в поле прожекторов оказывался лётчик на парашюте. Всё это видели не только мы, но и немецкие лётчики. Они стремительно разворачивались, снова появлялись над нами и снова летели на Москву. И снова огненная стена пугала их. Десятки кругов, небо над нами гудело, от нас — к нам, а мы на стульях, и страшно, и уже шея болит, а всё равно смотрели на небо…»[10]
…И хотя чудеса редко бывают в жизни, но здесь чудо случилось. Немецкий самолет вдруг резко клюнул, потом замедленно, нехотя лёг на крыло, неожиданно круто дёрнулся вниз и полетел, уже без порядка вертясь и кувыркаясь, как лист, и оставляя за собой чёрный коптящий след…
Сбитый Ю-88 выставлен для обозрения на площади Свердлова, Москва, лето 1941 (фото Александра Устинова).
Самым большим бомбоубежищем Москвы стал метрополитен: «…после того как поезда заканчивали свой бег по тоннелям, в половине девятого вечера, в метро пускали детей и женщин с детьми до двенадцати лет. Ночевать в метро было надёжнее, чем дома… Взрослым „Правила“ запрещали вечером и ночью, до сигнала воздушной тревоги, входить в метро. Нарушителям грозил штраф… однако, войдя в метро с вечерней бомбежкой, многие оставались в нём до утра. Ночевали москвичи в тоннелях на деревянных щитах, которые укладывались на рельсы. На платформах и в вагонах разрешалось оставаться только детям и женщинам с детьми до двух лет…»[11]
…Лина сказала: — Я тётю возьму. Отведу в метро, она больная…
Станция «Маяковская». Фото из журнала Life (вверху) и Аркадия Шайхета.
В налётах Люфтваффе, продолжавшихся до апреля 1942 года, было задействовано 8600 самолётов (уничтожено 1392 — почти пятая часть). К Москве смогли прорваться лишь 234 самолёта — менее трёх процентов. Эти самолёты сбросили более полутора тысяч фугасных и около ста тысяч зажигательных бомб, из-за чего возникло семьсот крупных и около двух тысяч мелких пожаров. Примерно третья часть бомб попала в ложные цели и вреда не принесла.
Были разрушены девятнадцать небольших предприятий, насчитано более двухсот попаданий в жилые дома, школы, больницы, театры, около ста восьмидесяти повреждений водопровода (заранее созданная резервная система водоснабжения сделала ущерб практически незаметным) и электросетей.
Вверху: разбомбленное здание театра им. Вахтангова. Внизу: налёт немецкой авиации на Москву 26 июля 1941 года (фото Маргарет Бурн-Уайт). Тонкие трассы — работа ПВО, толстая белая линия — немецкие осветительные ракеты на парашютах для корректировки бомбовых ударов.
С каждым днём уменьшалось число самолётов, летавших на Москву: 180, 140, 120 и ещё меньше. Ни одна из целей бомбардировки не была достигнута. Немецкая авиация несла большие потери; её встречали лучи прожекторов и зенитный огонь, не дававшие возможности бомбить прицельно. Бомбы чаще всего сбрасывались куда попало или на намеренно демаскированные ложные цели. Бомбардировки шли каждый день по шесть часов — таких массированных налётов во время Второй мировой войны не было больше нигде.
Народное ополчение
2 июля 1941 года Военный совет Московского военного округа принял постановление о создании московского народного ополчения. Подобные ополчения собирались в годы тяжёлых испытаний — в 1612-м, в 1812 году.
За первый неполный месяц войны погибло или попало в плен около 800 тысяч наших солдат и офицеров — это треть из размещённых в западных военных округах. 28 июня — на седьмой день войны — пал Минск. На Украине к 29 июня войска Вермахта продвинулись на 220 км вглубь территории. Было потеряно около трёх тысяч танков — больше половины довоенного танкового парка Юго-Западного фронта. Нанесённый в первый день войны удар по нашим аэродромам привёл к полному господству в воздухе авиации Люфтваффе. Войска из восточной части страны на запад перебрасывать было нельзя — ожидали нападения японской армии.
Добровольческие народные отряды создавались с первых дней войны. В Москве для охраны заводов, военных объектов, борьбы с воздушным десантом противника НКВД формировал истребительные батальоны. В эти батальоны вступило 12,5 тысяч человек. Добровольцы перешли на казарменное положение.
Создать для обороны Москвы две-три армии народного ополчения Г.К. Жуков (тогда — начальник Генерального штаба) предложил уже 26 июня 1941 года. Ополчение должно было, во-первых, строить оборонительные рубежи под Москвой, во-вторых, стать резервом действующей армии. 4 июля 1941 года Государственный комитет обороны издал постановление, в котором была указана общая численность ополчения — 200 тысяч москвичей и 70 тысяч жителей Московской области. Планировалось сформировать 25 дивизий ополченцев; каждый район города формировал свою дивизию, в которую входили и группы из Подмосковья. Районы должны были снабдить эти дивизии транспортом, рабочим инструментом, кухнями. Оружие и боеприпасы должен был обеспечить штаб Московского военного округа. За мобилизованным в ополчение сохранялось ежемесячное денежное содержание, а его семье гарантировалась военная пенсия.
В течение четырех дней — со 2 по 5 июля — поступило больше 300 тысяч заявлений от москвичей и жителей Подмосковья. Один из ополченцев — Николай Ипполитович Обрыньба — рассказывает: «Заходим в институт, и — наше счастье! — только что началась запись в ополчение. В маленькой канцелярии на площади Пушкина шумно и людно, над столом сгрудились люди, идёт запись… Здесь же жены многих студентов живо обсуждали, что им делать, они тоже пошли бы, да детей некуда девать…Комната не вмещает вошедших, те, кто записался, довольные отходят и толпятся в коридорчике. Народа набирается на целый взвод, а то и роту, и нам кажется, что это будет очень большой силой и сыграет важную роль в войне; нам кажется, что стоит нам появиться на фронте — и война будет кончена, мы так и жён уговариваем…
…Мы — ополченцы. Наш строй в самых пёстрых костюмах — белых, чёрных, серых, синих; во всех оттенков брюках, пиджаках, рубахах. Единственное, что объединяет нас и заменяет форму, — это стриженые головы. Нас ведут по родным улицам Москвы, ещё таким мирным, но уже озвученным нашей солдатской песней и командой: „Левой! Левой! Ать, два, три!..“»[12].
Но первые конфликты начались ещё при формировании дивизий. Считалось, что ополченцы будут жить у себя дома и заниматься военным делом в свободное от работы время. Когда же начался вывод сформированных дивизий из города для обучение в пустующие военные лагеря, многие руководители заводов, выполняющих срочные военные заказы, потребовали вернуть специалистов на их рабочие места. Одновременно часть ополченцев признали негодными по возрасту и состоянию здоровья. Многие добровольцы возмущались отправкой домой, писали жалобы.
Сложнее всего было обеспечить ополчение оружием — оно ведь предназначалось действующей армии. Добровольческие дивизии можно было вооружить лишь на 20–25 процентов — вот почему нередко рассказывают об «одной винтовке на четверых».
…Народу здесь было видимо-невидимо, и особенно бросалось в глаза, что это в большинстве своём пожилой народ. Молодых было мало, очень мало, а вот морщинистых, толстых, седых было вполне достаточно…
…— Воевать нужно, — сказал Тележка. — Вам понятно? Нужно воевать, а мы что? Грыжевик да хромой, младенец да старик, да изжога…
Бойцы московских рабочих батальонов (внизу: инженер В.П. Иванов и машинист метро Д.С. Дьячков; фото Александра Устинова, ноябрь 1941). Вверху: пёстрое вооружение ополченцев: винтовки Лебель 1886/93, польский ручной пулемёт WZ28 и немецкий станковый пулемёт MG08.
В то же время в Москве было огнестрельное оружие — в военных учебных заведениях, штабах, тыловых частях, в Осоавиахим[13]. В их запасах были даже ручные и станковые пулемёты. В ополчение направили весь запас иностранного оружия, хранившийся ещё со времён Гражданской войны.
«…В пути нас догнали первые машины с обмундированием и вооружением. Так как мы были вновь сформированной дивизией ополченцев, то и вооружали, и обмундировывали нас на ходу. По дороге подъезжали машины, колонна останавливалась, быстро сбрасывали тюки, и тут же нам выдавали их содержимое. Вначале мы были пёстрой, разномастной колонной, винтовки нам дали польские, потом немецкие старого образца, патронов к ним не было. Вот на марше и получали мы день за днём всё необходимое для войны. Получили наши винтовки „СВТ“, десятизарядные; получили обмундирование, его сначала на всех не хватило, но постепенно все получили гимнастёрки, брюки, обмотки, ботинки…
…Наконец четвёртый день пути, и нас осчастливили, сняли с машин тяжёлые английские пулемёты „Гочкисы“ и к ним комплекты коробок с лентами, набитыми патронами. Нести теперь стало совсем невмоготу. Щит пулемёта, тяжелейший, несёт один, „ноги“ — другой, патроны — третий и четвёртый. Так же поступали с миномётами и запасом мин к ним. Пулемёты тоже разбирались и распределялись между бойцами. Тяжёлые станковые пулемёты, ротные миномёты, боеприпасы — всё было погружено на спины солдат, а переходы тяжёлые, длительные, пятьдесят-семьдесят километров, и несёшь всё, что полагается солдату, плюс всё, что должно ехать в обозе, и то, что размещалось на каждом, было трудно поднять, если всё сложить на одеяло и завязать в узел. Ко всему мы были обвешаны гранатами и бутылками с горючкой для борьбы с танками. Сделалось совсем не под силу держаться целый день на этой добела раскалённой, посыпанной белой мукой пыли дороге. Но мы всё шли и шли, оглашая воздух песнями…»[14]
Девушки-ополченки готовятся к отбытию на защиту Москвы. 1941 (фото Ивана Шагина).
В середине июля начались бои под Смоленском. Войска Резервного фронта, а в их числе и дивизии народного ополчения, были направлены на строительство Можайской линии обороны.
Там и состоялись первые «встречи» с врагом, например такие:
«…Движется дивизия к фронту, вечер с догорающей зарёй, пыль розоватая тёплая висит над дорогой, полностью занятой колоннами войск, ещё не обстрелянных, идущих к передовой. Вдруг на тропинке за бруствером появляются два мотоциклиста в зеленоватосерых френчах с засученными рукавами, в стальных тупых касках, с чёрными автоматами на шее. Не сбавляя скорости, они продолжают двигаться навстречу колонне, один кричит, обращаясь к идущим:
— Сколько километр Москва? — И оба заливаются смехом.
Идущие в колоннах оборачиваются, улыбаются и продолжают идти. Внезапно раздалась длинная очередь, и мотоциклисты, перекинувшись через голову, упали, одна машина продолжала биться в судорогах по земле, яростно крутя колёсами»[15].
К сентябрю в дивизии народного ополчения стало поступать и современное оружие — например, Ленинская дивизия получила около 200 автоматов, более 200 пулемётов, 33 орудия калибра 76 мм, двенадцать 88 мм и пятнадцать 55-мм миномётов. В 60-й дивизии появились даже танки — 15 лёгких плавающих Т-37, Т-48 и Т-40.
К началу октября дивизии ополчения были оснащены примерно так же, как другие соединения Красной Армии. Общими были и изъяны — не хватало средств связи, автотранспорта. Вовсе отсутствовала артиллерия крупных калибров.
26 сентября 1941 года командование Резервного фронта присвоило всем ополченским дивизиям наименования кадровых стрелковых дивизий. Под этими номерами дивизии народного ополчения прошли от Москвы до Восточной Пруссии.
Строительство оборонительных рубежей
К началу июня 1941 года почти все войсковые инженерные части и подразделения западного направления были задействованы на создании новых пограничных укреплённых районов (Западная Украина, Западная Белоруссия и страны Прибалтики вошли в состав СССР в 1939 году). К началу войны новые фортификации не успели достроить и занять войсками, поэтому немцы легко их захватили, а инженерные подразделения, не располагавшие ни автотранспортом, ни оружием (кроме карабинов), частью взяли в плен, частью уничтожили.
Таким образом, в первые недели войны мы потеряли почти половину довоенного состава строителей. Именно их должны были заменить на строительстве оборонных рубежей Москвы ополченцы, старшеклассники, студенты.
Решение о начале строительства Государственный комитет обороны принял 18 июля. Можайская линия обороны общей протяжённостью в 220 километров должна была пройти от Московского моря (Волжское водохранилище), западнее Волоколамска и Можайска до слияния рек Угра и Ока. Предстояла огромная работа: поднять 7,5 миллионов кубометров земли, уложить около 25 тысяч тонн цемента, 51 тысячу тонн гравия и щебёнки, использовать 590 тысяч кубометров лесоматериалов. Сроки установили жёсткие — первая очередь должна была быть подготовлена к обороне 15 октября, вторая — к 20–26 ноября. Предполагалось, что ежедневно на этих рубежах будут работать свыше двухсот пятидесяти тысяч жителей Москвы, Московской и других близлежащих областей.
Вот как вспоминает о строительстве укрепрайона Анатолий Черняев: «…Это был истфаковский отряд, пара сотен ребят со всех курсов… началась работа — противотанковые рвы вдоль берега. Взялись яростно, весело, с энтузиазмом. По мере того, как ров углублялся — до трёх метров, землю приходилось бросать всё выше. И через пару дней от непривычной физической нагрузки ломило по ночам всё тело… Атмосфера сгущалась, тревога закрадывалась в наши души… На западе и на севере от нас уже отдалённо погромыхивала артиллерия… По тревоге нас снимали с недорытых рвов ещё три раза…Немцы легко обходили эти „линии Мажино“[16] — мы это определяли по отдалённым взрывам снарядов и бомб, которые рвались уже с боков и даже, казалось, в нашем тылу… Наше поэтапное отступление от Снопоти к Москве продолжалось до начала сентября. Мы рыли, немец обходил наши сооружения, нас срочно отвозили дальше, мы опять рыли, он опять оказывался у нас за флангами…»[17]
Можайскую линию обороны строили и ополченцы. Из «Дневника ополченца» Петра Пшеничного, комиссара полковой артиллерийской батареи 4 дивизии народного ополчения (той самой, что позже будет сражаться под Наро-Фоминском — см. далее):
«16 июля. Начались земляные работы широкого масштаба по восточному берегу Днепра…
18 июля. Продолжаем возводить укрепления на возвышенностях у деревни Нероново, пренебрегая осторожностью и маскировкой. В 16 часов фашистский разведчик на бреющем полете начал нас расстреливать, к счастью, никто не пострадал; но этот случай научил людей осторожности…».
…Иногда одна лопата, которой орудовал стоящий глубоко внизу человек, взлетала кверху только до половины эскарпа, до приступочки в стене, оставленной для другого человека, тот подставлял другую свою лопату и ждал, пока нижняя передаст ему свой груз, после чего он взметал свою ношу ещё выше, к третьему…
…— Десант, верно, — сказал Лёшка. — Перелетел, гад. Целый месяц строили. А он и воевать не стал… перелетел и высадился. Опоздали наши то…
Строительство оборонительных сооружений (вверху — женщины роют противотанковые рвы под Москвой; внизу — рубежи Можайской линии обороны). 1941.
…Фрицевские самолеты скрылись, оставив в воздухе эти вонючие бациллы…
Немецкие агитационные листовки, 1941 г. Текст гласит: «Пропуск действителен для неограниченного количества переходящих на сторону германских войск командиров и бойцов РККА».
Пропуск. «Пред’явитель сего, не желая бесмыссленного кровопролития за интересы жидов и комиссаров, оставляет побеждённую Красную армию и переходит на сторону германских вооружённых сил. Немецкие офицеры и солдаты окажут перешедшему хороший приём, накормят его и устроят на работу».
К концу сентября система оборонительных рубежей перед Москвой включала Вяземскую и Можайскую линии обороны, а также Московскую зону обороны. Вяземская линия проходила в 250–300 километрах западнее Москвы по рубежу Осташков-Селижарово-Оленино-Дорогобуж-Ельня-Жуковка-Брянск. Небольшой город Наро-Фоминск стал одним из узлов Можайской линии обороны.
Операция «Тайфун»
Первоначальный план (операция «Барбаросса») предполагал, что Москву возьмут в первые три или четыре месяца войны. Первое время ход войны соответствовал этому плану, но затем сопротивление советских войск усилилось. Так, битва за Смоленск (с 10 июля по 10 сентября 1941) задержала немецкое наступление на Москву на два месяца. К тому же битвы за Ленинград и за Киев оттянули часть немецких сил, которые должны были наступать на Москву.
Командование Вермахта от 6 сентября предписывало начать наступление на Москву после уничтожения окружённой под Киевом группировки советских войск. К 19 сентября была разработана операция «Тайфун». Ведущая её группа армий «Центр» по своей мощи значительно превосходила силы трёх советских фронтов (Западного, Резервного и Брянского), прикрывающих московское направление. Начало операции 2-й танковой группы было назначено на 30 сентября; других частей — на 2 октября. Цель — захват Москвы до наступления холодов.
Германское командование считало: после разгрома сил Юго-Западного фронта под Киевом о боеспособности противника можно будет забыть. Гитлер после битвы под Киевом заявил: «С Россией в военном отношении покончено». Немцы не ожидали, что РККА сможет так быстро подготовить и перебросить к линии фронта новые части.
…В эту страшную минуту мы, наверно одновременно с Лёшкой, увидели чёрный крест на боку танкетки…
Танки Pz.HI и пехотинцы 11-й танковой дивизии Вермахта. 1941.
2-я танковая группа Гудериана сразу достигла серьёзных успехов. Уже 3 октября части 24-го моторизованного корпуса ворвались в Орёл в двухстах километрах от полосы наступления. Вторжение фашистов было для жителей Орла настолько неожиданным, что когда немецкая 4-я танковая дивизия вошла в город, по улицам ещё ходили трамваи и лежали ящики с так и не эвакуированным заводским оборудованием.
Вечером 3 октября в Мценск прибыла 4-я танковая бригада полковника М.Е. Катукова. 4 октября на окраине Мценска советская 4-я танковая бригада при поддержке дивизиона гвардейских миномётов капитана Чумака атаковала маршевые колонны немецкой 4-й танковой дивизии и фактически вывела её из строя. Бои за Мценск на неделю сковали немецкие войска.
5 октября основные силы группы армий «Центр» вышли в район Вязьмы. Прорыв танковых и моторизованных соединений в направлении на Юхнов случайно обнаружили воздушные разведчики 120-го истребительного авиаполка. До Москвы оставалось лишь 200 километров.
… — Отрежет, — просто сказал дядя Яша, — отрежет, и нету нам никакого пути. Если только левее, на Наро-Фоминск. Ну, так и фриц, коли он Боровск возьмёт, неужели он Наро-Фоминском погребает?
Вверху: немецкие солдаты на бронеавтомобиле возле дорожного указателя, на котором написано, что до Москвы 100 километров. Внизу: 11-й танковая дивизия Вермахта движется к Спас-Дёменску. Калужская область. 1941, октябрь.
Генералу Н.А. Сбытову, сообщившему о прорыве, не только не поверили, но и обвинили его в паникёрстве (даже после того, как в 15.00 он доложил: «Данные полностью подтвердились. Это фашистские войска. Голова танковой колонны уже вошла в Юхнов. Лётчики были обстреляны, среди них есть раненые».)[18]. Генштаб не имел других сведений о приближении немецкой танковой колонны к Юхнову, который был занят в ночь на 6 октября. В бой была брошена вся имеющаяся в Московском военном округе авиация и последний резерв: курсантские полки из солдат и сержантов — слушателей московских командных училищ.
Генерал Н.А. Сбытов писал: «…Если учесть, что в то время на направлении Юхнов-Малоярославец-Москва, кроме строительных батальонов, готовивших оборонительные сооружения, никаких войск не было, то без преувеличения следует сказать: авиация и курсантские полки закрыли перед носом гитлеровцев „ворота“ на Москву, заставив их топтаться в районе Юхнова несколько суток…»[19]
…И мы пошли с Байсеитовым через весь город и увидели, правда, другую дорогу, по которой шло множество всякого народа, двигались машины и крестьяне на телегах, и скотина…
Осень 1941 года. Вверху: пленные красноармейцы, внизу — беженцы под Истрой (фото Аркадия Шайхета).
6 октября немецкая 17-я танковая дивизия захватила Брянск, а 18-я танковая дивизия — Карачев, отрезав, таким образом, силы Брянского фронта. В окружение под Брянском попали 27 дивизий, 2 танковые бригады, 19 артиллерийских полков. При попытке выхода из окружения погиб командующий 50-й армией генерал-майор М.П. Петров, а командующий Западным фронтом А.И. Ерёменко был серьёзно ранен и самолётом эвакуирован в Москву.
Для флангового контрудара по наступающей группировке была создана фронтовая группа И.В. Болдина, потерпевшая поражение в танковом бою южнее Холм-Жирковского. 7 октября две немецкие танковые дивизии замкнули кольцо окружения войск Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы. В окружение попали 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк.
Всего под Вязьмой и Брянском в плен попало около 700 000 советских солдат и офицеров, было захвачено 1 242 танка и 5 412 орудий. До 11 октября окружённые войска предпринимали попытки прорваться, но только 12 октября удалось ненадолго пробить брешь. Из окружения удалось выйти лишь 85 тысячам человек. В вяземском «котле» попали в плен командующий 19-й армией генерал-лейтенант М.Ф. Лукин и генерал-майор С.В. Вишневский, а командующий 24-й армией генерал-майор К.И. Ракутин погиб.
К середине октября пути на Москву оказались открытыми. На всём фронте от Московского водохранилища до Калуги в составе Западного фронта насчитывалось лишь около девяноста тысяч человек. Теперь в непосредственной опасности оказалась Москва.
Эвакуация из Москвы
Уже через два дня после начала войны был создан Совет по эвакуации — он определял, куда перевозить предприятия, находил здания, пригодные для их размещения, выделял вагоны. Тогда же началась и эвакуация детей: за месяц из Москвы было вывезено почти полтора миллиона человек, главным образом, маленьких детей с родителями.[20] 26 июля 1941 года, в связи с приближением фронта и началом массированных бомбардировок Москвы, Совет по эвакуации постановил ускорить эвакуацию гражданского населения столицы. Наркомат путей сообщения должен был с 26 июля по 2 августа вывозить не менее 64 тысяч человек ежедневно.
Вот фрагмент из дневника врача «Скорой помощи» А.Г. Дрейцера: «Вокзалы запружены уезжающими. На привокзальных площадях очереди с вывесками организаций на шестах. Толпы людей сидят на своём скарбе… Наживаются носильщики, люди с тачками и воришки…».[21]
Эвакуация московских предприятий с сотрудниками ускоряется с началом операции «Тайфун». Эвакуируют все заводы Наркомавиапрома, Наркомбоеприпасов из Тульской и Московской областей, Московский Автомобильный завод им. Сталина.
C началом войны у населения были изъяты все радиоприёмники (см. на фото: «Не сдача будет рассматриваться по закону военного времени») и фотоаппараты. Поэтому так редки любительские советские снимки времён войны. Вся «профессиональная» фотосъёмка подвергалась цензуре, поэтому эвакуация Москвы (приведшая к панике) запечатлена на плёнке не была. Фотографии на этой и следующей странице сняты в Ленинграде либо почерпнуты из немецких архивов, (а значит, сделаны на оккупированных территориях).
13 октября отдан приказ об эвакуации Большого и Малого театров, МХАТа и театра им. Вахтангова. И, наконец, 15 октября Государственный комитет обороны принимает «Постановление об эвакуации из Москвы иностранных дипломатических миссий и высших государственных органов СССР»:
«Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии Государственный Комитет Обороны постановил:
1. Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев…
2. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также правительство во главе с заместителем председателя СНК т. Молотовым (т. Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке).
3. Немедля эвакуироваться органам Наркомата обороны и Наркомвоенмора в г. Куйбышев, а основной группе Генштаба — в Арзамас.
4. В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД… произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также всё электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию).
Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин».
Это постановление современные историки считают причиной нескольких дней паники, возникшей в середине октября в Москве. Находившийся в те дни в Москве офицер-связист вспоминает: «Мы едем по Покровке и из окна трамвайного вагона видим, как группы обезумевших москвичей разбивают витрины магазинов и растаскивают что попало по своим квартирам.
У Разгуляя пьяный мужик садится в трамвай, с презрением смотрит на нас.
— Убегаете, — говорит, — как крысы с тонущего корабля…»[22]
Начинается стихийное бегство из города: «…Узнав о положении на вокзалах, масса людей бросилась вон из города пешком по шоссе, ведущим на восток; прихватывали из дома что попало; говорили, что к вечеру на этих дорогах валялись брошенные патефоны, чемоданы, даже пальто. Комиссионные магазины ломились от вещей: тем, кто торопился бежать из города, нужны были деньги, чтобы где-то потом устроиться и прокормиться, а предметы роскоши были ни к чему. Многие из тех, кто остался, сожгли свои комсомольские билеты и прочие документы»[23].
Уничтожаются оставшиеся в Москве архивы заводов, управлений, даже вузов: «В условленное время мы с Таней Родзевич подошли к институту. Толкнули дверь — внутри было пустынно. Только в углу вестибюля ярко пылал огонь в старинной печи, и перед ней на корточках сидел старик и подкладывал туда всё новые пачки бумаг… из валявшихся вокруг него мешков. Мы подошли к нему. „Вы чего — вам кого — тут никого нет, не ходите наверх“, - пробурчал он. „Я один тут остался. Все вчера — выкувырывались. Весь ваш институт. И студентки и учителя ихние. В Ташкент, что ли, уехали“. „А как же мы — первый курс? Все на трудфронте, и ничего не знают“. „Ну, уж — про то не ведаю. Институт закрыт, нет его — понятно? Мне, вон, велели, я жгу документы все. Чтоб немцу не достались“[24].
Дни паники породили и то народное презрение к бегущему из столицы мелкому начальству, о котором пишет в своих мемуарах главный маршал авиации А.Е. Голованов: „…В середине октября, числа 15-17-го, мне пришлось выехать из штаба в Монино в Ставку. Я почти не мог продвигаться по шоссе к Москве: навстречу шли сплошные, нескончаемые колонны различных машин, не признававшие никаких правил движения. Пришлось взять с собой несколько машин вооружённых солдат, чтобы, с одной стороны, пробиться в Москву, а с другой — навести хоть какой-то порядок. Из встречных машин кричали: „Немец в Москве!“ Подъехав к столице, мы увидели группы рабочих, которые останавливали легковые машины, выезжавшие из Москвы, и переворачивали их в кюветы. Честно говоря, я с радостью смотрел на то, что делают рабочие, и даже подбадривал их. В легковых машинах сидело разного рода „начальство“, панически бежавшее из столицы… Оставив солдат навести порядок и назначив старшего, я поехал дальше. В Ставке доложил, что делается на дороге из Москвы, и о мерах, которые пришлось принять…“[25]. „Рабочие отряды“ описывают многие: несмотря на реальную угрозу взятия Москвы, подобное бегство для множества людей было неприемлемым. Через два дня, когда было принято постановление ГКО „О введении в Москве осадного положения“, ситуацию отчасти удалось нормализовать: „…с 19 октября город жил более или менее нормальной жизнью. Город охранялся войсками, патрулированием как днём, так и ночью“[26].
Отношение к „беглецам“ характеризует приведённая Л.Б. Беленкиной частушка: „…народ придумал, что будто бы фашисты сбрасывают листовки с текстом: „Дорогой товарищ Сталин, мы Москву бомбить не станем, полетим мы за Урал и посмотрим, кто удрал““.
Немецкое наступление под Боровском и Наро-Фоминском
13 октября, через десять дней после взятия Орла, в ходе массированного немецкого наступления была занята Калуга. Ещё через два дня пал Боровск, а 18 октября были сданы Можайск и Малоярославец. Вермахт остановили лишь на рубеже рек Протва и Нара. К концу октября немецким войскам удалось сбить соединения Западного фронта с Можайской линии обороны практически на всём её протяжении. В конце октября бои шли уже в восьмидесяти-ста километрах от Москвы.
10 октября Боровский истребительный батальон и мотострелковый батальон дивизии НКВД им. Дзержинского отражали атаки немецких танков в районе деревни Ищеино. 11–13 октября два полка 113-й стрелковой дивизии вместе с Боровским, Подольским и Краснопахорским истребительными батальонами, перекрыв дорогу со стороны Малоярославца и Медыни, держали оборону на ближних подступах к Боровску. Утром 13 октября начались бои за Боровск. Силы были слишком неравными, но всё же врагу взять с ходу город не удалось. Только после дня ожесточённых боёв к вечеру 14 октября вражеские танки прорвали оборону на правом фланге и пошли по берегу Протвы, угрожая выйти в тыл оборонявшимся частям. Защитники Боровска вынуждены были оставить город.
Среди других частей Боровск защищала и 4-я Московская дивизия народного ополчения Куйбышевского района (110 стрелковая дивизия).
Первые эшелоны дивизии прибыли в Наро-Фоминск на рассвете 11 октября. Вечером 12 октября дивизия получила приказ командующего 33-й армией генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова выступить к Боровску и перекрыть дорогу на Наро-Фоминск и Москву до подхода регулярных кадровых частей.
Уже к исходу 13 октября части 110-й дивизии вступили в бой с передовыми частями противника, отбив все их атаки, захватили пленных солдат 258-й фашистской пехотной дивизии. К вечеру 14 октября командование дивизии получило сведения, что гитлеровцы заняли в районе Наро-Фоминска село Митяево и другие населённые пункты.
8-я Краснопресненская стрелковая дивизия народного ополчения. Сформирована в начале июля 1941-го. После боёв под Ельней 6–7 октября 1941 года практически перестала существовать: погибло более половины личного состава, дивизия была отрезана от основных сил. Часть уцелевших бойцов пополнила партизанские отряды, часть вышла к своим. Официально расформирована в конце ноября.
15 октября, на рассвете, когда противник крупными силами пехоты и 30 танками перешёл в атаку, завязались ожесточённые бои.
В „Дневнике ополченца“ П. Пшеничный пишет:
„…18 октября. Потери наши очень большие. В 9-й роте комсостав выведен из строя. Что-то похожее на бессилие. Авиация противника господствует, а нашей не видно. Неужели мы так воюем? Местное население деморализовано. Сведения о сдаче Мелитополя и Одессы усиливают унылое настроение бойцов, вызывают в них отчаяние, неверие в наши силы….
Немецкие танки Pz.ll проезжают мимо подбитого в районе реки Истры советского танка „Валентайн“ Mk.III. Это один из первых танков, полученных СССР по ленд-лизу[27] из Великобритании.
…Утром мы увидели Наро-Фоминск. Первый же косматый старичок, встретивший нас у самого выхода дороги на окраину города, увидев нас, замер от испуга…
Вверху: в бою за Наро-Фоминск, декабрь 1941. Внизу: передовые немецкие части под Волоколамском. Декабрь 1941 (фото Артура Гримма).
20 октября. …После развёрнутого наступления и миномётного огня наша пехота начала отходить, мы стали вывозить орудия, отступать…. Всю эту деморализованную и в панике отступающую массу людей, подвод, орудий неприятель погнал самым решительным образом. Никто не мог ему дать отпор, закрепиться в обороне…
21 октября. …От полка осталось не более 300 человек, полковой обоз, противотанковая батарея с 2–3 пушками и наша 76-миллиметровая артиллерия с двумя пушками. Командования и штаба нет. Где они — никто не знает. Все в растерянности. Задаёшься вопросом — кто виноват? Кто довёл до такого состояния нашу сильнейшую армию?
23 октября. …Нужно переформирование дивизии. То, что мы имеем сейчас, — это деморализованная, небоеспособная масса. Командование не отличается ни энергией, ни умением руководить боем. Мы уже стоим под Москвой. Предвижу огромные жертвы ввиду жестоких сражений, которые будут вестись на подступах к столице. Враг у Наро-Фоминска.
24 октября. Стоим в дер. Пучково. Разослали связных-разведчиков для отыскания командования дивизии… Чувствуется бездеятельность и отсутствие воли у командования. От полка здесь, в селе Пучкове, не более 500 человек, остальные разбрелись в направлении Наро-Фоминска, Подольска и даже Москвы. Состояние людей подавленное, при первой же стычке бойцы опять разбегутся в разные стороны. Нужно отвести наши остатки подальше от фронта и переформировать, вооружить и обмундировать“.
На территории оккупированного Боровского района начали действовать партизанские отряды. Они осуществили несколько диверсий на железной дороге, в частности, пустили под откос воинский эшелон с боеприпасами на перегоне Ворсино-Башкино, разгромили немецкий отряд, расквартированный в деревне Павлово, проводили разведывательные операции для армии.
Продолжая наступление, немцы частично захватили западную часть Наро-Фоминска, и линия фронта прошла прямо через город по реке Нара. В течение двух месяцев бои шли на улицах города. „…Танкисты уже тогда имели танки КВ и Т-34. Батальон был вооружён автоматическим оружием. В каждом танковом экипаже, в каждом отделении автоматчиков на видном месте висела клятва гвардейцев-танкистов: „Мы клянёмся матерям, давшим нам жизнь. Клянёмся народу, партии. Советскому правительству, что, пока держит винтовку рука, пока бьётся сердце в груди нашей, мы будем беспощадно громить врага, уничтожать фашистскую мразь. Клянёмся сделать подступы к столице могилой для фашистов!““.
Военный совет армии и командование дивизии поручили танкистам оборону каменного моста и весь участок справа и слева от него, длиной около четырёх километров. Танки по башню были зарыты в землю. Экипажи жили в землянках под танками. Такие убежища могли сделать люди, которые решили стоять насмерть…»[28].
Контрнаступление
В октябре 1941 года советскому командованию удалось перевести блицкриг в «войну на истощение». Но если все резервы немецких армий были исчерпаны, то советской стороне удалось передислоцировать армии, размещённые в Сибири[29], подготовить и вооружить резервистов и ополчение. Благодаря этому 5 декабря началось общее контрнаступление под Москвой.
26 декабря части 33-й армии генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова, включавшие и ополченческие формирования, освободили Наро-Фоминск.
…Да, это шла наша армия! Был слышен её мерный, твёрдый, уверенный шаг. Может быть, это была одна только рота, но мне показалось, что я вижу необозримую массу солдат, полки, дивизии, корпуса.
И главное чудо было в том, что они шли нам навстречу. Они шли туда, откуда мы ушли…
Солдаты-сибиряки едут на защиту Москвы (фото Марка Маркова-Гринберга).
В ночь под Новый 1942 год части 93-й и 113-й стрелковых дивизий перерезали важную в стратегическом отношении дорогу Малоярославец-Боровск и вышли к Боровску. Наступавшая от Наро-Фоминска 201-я Латышская дивизия в это же время подошла с боями к селам Инютино и Ермолино. Утром 1 января 1942 г., когда гитлеровцы ещё не ожидали атаки на Боровск, со стороны д. Уваровское на занесённом снегом поле показались лыжники 93-й стрелковой дивизии. Они с ходу завладели батареей тяжёлых орудий на окраине Боровска и ворвались на городские улицы.
Почти одновременно стрелки 1288-го полка 113-й стрелковой дивизии ворвались в Боровск и заняли территорию фабрики «Красный Октябрь». 3 января Боровск был взят в клещи; части Вермахта панически отступили к единственной ещё не перерезанной нашими частями дороге, ведущей на Верею.
Январь 1942 г. (фото Дмитрия Бальтерманца).
Ранним утром 4 января над городской площадью взвился красный флаг. Но оккупация нанесла Боровску невосполнимый ущерб. За два с половиной месяца более тысячи жителей были убиты или угнаны в неволю. Один из освободителей Боровска вспоминал: «Наряду с могилами техники врага мы видели и другую картину, которую забыть никак нельзя… На площадь были согнаны жители города — женщины, дети, старики, построены в колонны и тут же расстреляны. Трупы покрыли всю площадь. И здесь впервые нам пришлось рыть ямы и в мёрзлый грунт спускать мёрзлые трупы. С появлением наших войск город ожил, заработали хлебопекарни и магазины, почта и другие учреждения»[30].
Зима 1941–1942 гг.: пленные немецкие солдаты; разбитая немецкая автоколонна в районе деревни Крюково.
Под Москвой немецкая армия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне; она была отброшена на 100–250 км. Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей.
Маршал авиации Голованов писал: «Октябрь и ноябрь были воистину месяцами самой ожесточённой битвы за Москву. Само слово „битва“ говорит за себя. Вспомним Куликовскую битву, Ледовое побоище с псами-рыцарями. Масштабы тех битв, с современной точки зрения, были, конечно, невелики, но они решали судьбы Руси…»[31].
Примечания
1
Трудно определиться даже с названием. Написавший «Великая Отечественная» тем самым теряет возможность обсуждать события 1939–1940 годов и начала 1941-го, видеть картину этой войны во всей её полноте; словосочетание «Вторая мировая» как бы умаляет величие и отдаляет войну от читателя-россиянина, превращая её из битвы за Родину в очередное глобальное столкновение военно-политических коалиций.
(обратно)2
17 ноября 1941 года был издан приказ Ставки ВГК № 0428: «…лишить германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах <…>. Разрушать и сжигать дотла все населённые пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40–60 км в глубину от переднего края <…>, широко использовать <…> диверсионные группы».
(обратно)3
Котёл (нем. Kessel) — разработанный в XIX веке германскими стратегами тактический приём: противник охватывался с флангов и затем — окружался. В начале войны Вермахт превосходил советскую армию в бронетехнике, поэтому активно применял этот приём. После изменения соотношения сил в котлы начали попадать уже немецкие войска.
(обратно)4
«Остарбайтер» (нем. Ostarbeiter — работник с Востока) — так называли мобилизованных для работы в Германии жителей оккупированных территорий СССР и стран Восточной Европы. Всего из СССР за годы войны было угнано на работы в Германию до 5 млн. человек: фашисты фактически возродили рабовладение. К выжившим «остарбайтерам» власти СССР относились как к изменникам.
(обратно)5
Каммерер Ю.Ю., Караулов B.C., Лапиров С.Е. «Москве — воздушная тревога». Местная ПВО в годы войны. М… Агар, 2000.
(обратно)6
Вострышев М.И. Москва сталинская. Большая иллюстрированная летопись. М.: Алгоритм, Эксмо, 2008.
(обратно)7
Рабичев Леонид. Война всё спишет. Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941–1945. М.: Центрполиграф, 2010.
(обратно)8
ОГБ МПВО — отдельный гражданский батальон местной противовоздушной обороны.
(обратно)9
Каммерер Ю.Ю., Караулов B.C., Лапиров С.Е. «Москве — воздушная тревога». Местная ПВО в годы войны.
(обратно)10
Рабичев Леонид. Война всё спишет. Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941–1945.
(обратно)11
Андреевский Георгий. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940-е годы. М., Молодая Гвардия, 2008.
(обратно)12
Обрыньба Н. Судьба ополченца. М: Яуза, Эксмо, 2005.
(обратно)13
Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству.
(обратно)14
Там же.
(обратно)15
Там же.
(обратно)16
Линия Мажино — французская система укреплений на границе с Германией длиной около 400 км, названная по имени инициатора её сооружения, военного министра Франции Андре Мажино. До Второй мировой войны считалась самым неприступным фортификационным сооружением в мире. Немецкие войска обошли её через Арденнские горы.
(обратно)17
Черняев А.С. Моя жизнь и моё время. М.: Международные отношения, 1995.
(обратно)18
Телегин К.Ф. Войны несчитанные вёрсты. М., Воениздат, 1988.
(обратно)19
Сбытов Н.А. Авиационный щит столицы//Битва за Москву. М.: Московский рабочий, 1966.
(обратно)20
Записка секретаря исполкома Моссовета В.Н. Кудрявцева //ГА РФ, ф. 259, оп. 40, д. 3064, л. 9.
(обратно)21
Вострышев М.И. Москва сталинская. Большая иллюстрированная летопись.
(обратно)22
Рабичев Леонид. Война всё спишет. Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941–1945.
(обратно)23
Беленкина Л.Б. Война: воспоминания о Москве 1941–1943 годов и фрагменты дневника //
(обратно)24
Там же.
(обратно)25
Голованов А.Е. Дальняя бомбардировочная… М.: Дельта НБ, 2004.
(обратно)26
Из воспоминаний коменданта Москвы генерал-майора К.Р. Синилова//Вострышев М.И. Москва сталинская. Большая иллюстрированная летопись. М.: Алгоритм, Эксмо, 2008.
(обратно)27
Ленд-лиз (от lend — давать в долг и lease — сдавать в аренду) — государственная программа США помощи союзникам в борьбе с Гитлером. По ленд-лизу СССР получал грузовики (легендарные «студебеккеры») и армейские автомобили-вездеходы («виллисы»), а также танки, самолёты, армейскую обувь и т. п. Подобную помощь СССР получал и от других союзников. К концу войны треть автомобильного парка РККА была «ленд-лизовской».
(обратно)28
Котцов Л.В. Наро-Фоминск в огне // О Московской битве и Великой Отечественной. М.: Издательство объединения «Мосгорархив», 1997, с. 62
(обратно)29
Япония к этому моменту вступила в войну с США, Великобританией и Голландией, одновременно атаковав 7 (8) декабря 1941 г. британскую колонию Гонконг, Филиппины, Тайланд, Малайзию и военную базу США Пёрл-Харбор (Pearl Harbor) на острове Оаху (Гавайи). Поэтому можно было, не опасаясь нападения на востоке, перевезти воинов-сибиряков под Москву.
(обратно)30
Маковейчук Борис. По дорогам войны и партизанским тропам. Дневник партизана. Б/м, 2011. С. 28–29.
(обратно)31
Голованов А.Е. Дальняя бомбардировочная…
(обратно)
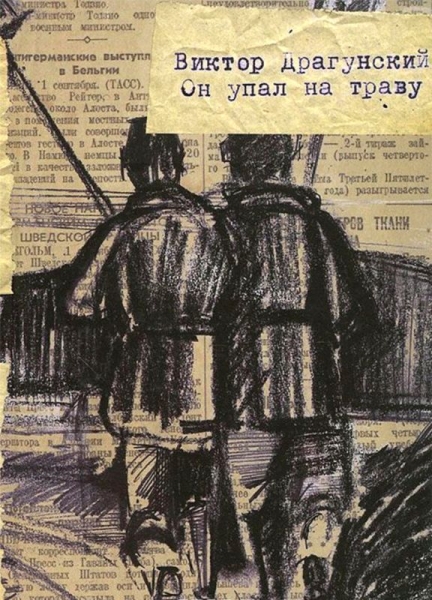



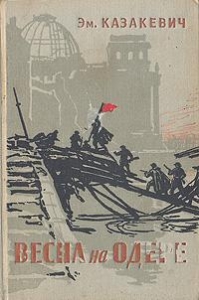
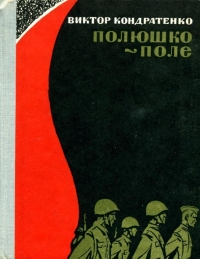

![Стон березы [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/542648/primary-medium.jpg)
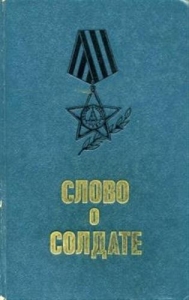

Комментарии к книге «Он упал на траву…», Виктор Юзефович Драгунский
Всего 0 комментариев