Александр Коноплин СЕРДЦЕ СОЛДАТА Повести и рассказы
ЖУРАВЛИ (Повесть)
Глава первая
Разгружались ночью. Эшелон подошел без гудков, без света, и Лузгин проспал команду «подъем». Проснулся, когда в вагоне никого не осталось. В распахнутые настежь ворота «пульмана» ветер задувал рассеянные капли дождя. Подойдя к краю вагона, Лузгин немного помедлил: высоковато все-таки, да и холодно на воле, мокро… Если б мог, все тепло вагонное с собой унес! Снаружи до него доносились крики, ругань, свистки, команды, скрежет металла. Вздохнув, Иван подобрал полы шинели и прыгнул. Гравий хрустнул под ногами, каблуки мягко вдавились в насыпь.
Тяжело раскачиваясь на ходу — с полной боевой выкладкой не больно-то взыграешь, — шел Лузгин в неведомую кромешную тьму. Шел туда, откуда неслись крики и где строился весь маршевый батальон. Мысли… торопливые, сбивчивые мысли, тесня одна другую, копошились в его мозгу.
— Станция «Раздольное», — прочитал кто-то валявшуюся на земле вывеску.
«Какая там станция! — думал Лузгин. — Была на этом месте когда-то, а теперь — так… груда кирпичей да развалины башни. Может, водонапорной. Они завсегда рядом с вокзалом строятся. И все. А то — станция! Ну да пес с ней, станция так станция…».
Оглянувшись в последний раз на эшелон, Лузгин с сожалением покачал головой. Все-таки там было лучше. Тепло! И спи, сколько хочешь. Если не в наряде. Питание вот тоже… На остановках горяченького хлебнешь и — жить веселее. А здесь концентрат в пачках выдали. Знать, не скоро кухню думают наладить. Трепались писаря, будто прямо в бой двинут… Ну их-то не двинут, они завсегда в тылу, а батальон к какому-то полку в придачу, говорят, привезли. Ну что ж, все может быть, на то война.
А дождь — в лицо. Сырость проникала всюду. Ворот у Лузгина широкий, хоть кулак суй, с каски, должно быть, течет по груди и по спине. А снизу — обратно: ботинки хоть и новые, а текут, чтоб им пусто было! Помощник старшины, земляк — с одного району — хотел сменить — опять незадача. Такого размера ботинки в армию не присылают.
— Что ж ты, земеля, такой маленький? — спросил каптенармус. — Как же ты дома обувку подбирал?
Лузгин не ответил. Постеснялся. Обувь он всегда покупал в детском отделе. Был такой отдел в сельпо. Тогда этим не тяготился. Даже наоборот, радовался: в детском-то отделе — дешевле!
Перелезая через навороченные шпалы и скрюченные рельсы, Лузгин едва не упал, запутавшись в полах шинели, и вслух ругнул старшину:
— И чего не сменил на маленькую? Обещал же! Да и были у него поменьше. Сказал: «На месте». Не этого ли места ждал щербатый леший? В самый аккурат здесь шинелки примерять!
Строились за станцией на большаке. Длинная неровная лента вытянулась на полкилометра, то выпирая вперед, то заваливаясь назад. Не строй, а горе. Не то что в учебном. Там — по ниточке! И тишина. А тут стоят, меж собой переговариваются, цигарками светят. А и много же тут людей собралось! Правофланговые у самой станции, а левофланговых и не видно. Утонули, пропали в ночи. Даже цигарок не видать.
Командиры бегают, строй выравнивают. Не иначе большое начальство прибудет. В эшелоне про это вроде бы говорили… А может, и не говорили. Теперь разве припомнишь?
— Рррравняйсь!! — гаркнул кто-то впереди, и Лузгин припустился бежать. Найдя своих, тихонько встал в строй, будто все время тут стоял. Даже помкомвзвода ничего не заметил. Пальцем на всякий случай погрозил издали. Ребята — те поняли, засмеялись.
— Братцы, Лузгин здесь! Теперя — все. Можно начинать.
— Егор, подь доложи полковнику-то, дескать, генерал Лузгин прибыли и его доклада дожидаются!
— Та нехай бегом! Що вин там спыть, чи шо?
— Зараз прибуде. Тремайте, ваше превосходительство!
— Ха-ха-ха!
— Тихо, вы! Не слыхать команды!
— Зараз почуешь. Ось, кажись!
Строй колыхнулся, вытянулся, замер. Теперь уж не кривая линия, а ровная линеечка, как на параде!
Подъехал на машине большой, важный. Вылез, захлопнул дверцу. Когда говорил, рукой махал то вверх, то вниз, будто на каждом слове печать ставил.
Когда ветер дул вдоль строя, до Лузгина долетали короткие обрывки фраз. Иногда он различал отдельные слова. Спросить же, о чем говорит этот высокий, толстый, ему было не у кого.
Рядом с ним Мурзаев. Не то татарин, не то казах. Он по-русски далеко не все понимает, разве что такие слова, как «обед», «отбой», «котелок»… Эти он сразу выучил. Выучит, конечно, и остальные, нельзя ж без этого, да только сейчас с ним трудно. Командир отделения сержант Митин с ним мучается. Сержант ему «направо», а он налево бежит. Прикажет встать, а он ложится… Терпение надо!
Следующий за ним Минько Степан. Этот хоть и понимает по-русски, ни за что не скажет. Посмеется, и только. Или наврет. Он все время врет. Командиру роты и то сумел соврать. Отсидел трое суток на «губе», и все неймется. В эшелоне взять. Когда стояли на одной станции, он никому не сказал, разрешения не спросил, выскочил из вагона — и к торговкам. Гимнастерку на яички менять. Хорошо, вовремя заметили, привели обратно. Так и не сознался. «Я, говорит, менять не хотел. Я, говорит, гимнастерку снимал, чтобы в нее яички завернуть». А на что он их покупать собирался, спросить бы его! Не на что ему было покупать! Все деньги он еще в Москве проел. Они там целый пир устроили. Картошки накупили вареной, огурцов соленых, сметаны… И старшину с отделенным пригласили. Старшина поел, а сержант отказался. «У вас, говорит, у самих мало…» Конечно, так шиковать — никаких денег не хватит! Сейчас вот курить стреляет… Лузгин так не любит. Уж на что другое, а на табачок всегда рублишко найдется. Табачок душу согревает и нехорошие мысли разгоняет. Нельзя без табачку.
Кончил говорить высокий. Сказал что-то стоявшим рядом командирам. Вышел вперед другой. У этого голос зычный. Его Лузгин слышал хорошо и все до последнего слова запомнил.
— Товарищи, — сказал он, — вы теперь являетесь воинами сто четвертой стрелковой дивизии! Батальон вошел в состав ее согласно приказу командования. Для чего это, сделано, товарищи? Как вы уже слышали, наша дивизия с начала войны ведет непрерывные бои с противником. За это время она прошла с боями от границы. Не буду скрывать, товарищи: очень, очень мало светлых дней выпало на нашу долю! В боях дивизия потеряла своих лучших сынов! Месяц назад она была пополнена за счет остатков шестьсот седьмой, сто двадцатой и двести сороковой стрелковых дивизий и в последних боях под городом Великие Луки покрыла себя неувядаемой славой! Наши бойцы и командиры выдержали натиск превосходящих сил противника, держались стойко и нанесли врагу громадный урон в живой силе и технике. Вам предстоит закрепить эту славу и разгромить немцев в районе Демянска. Для чего я это говорю вам, товарищи? Для того, чтобы каждый из вас почувствовал большую ответственность и личным примером поднимал боевой дух своих товарищей по оружию! Наше дело правое! Смерть немецким оккупантам! Ура, товарищи!
— Уррра-а-а! Урр-а-а-а! — прокатилось многоголосо, мощно по-над лесом, зазвенело над голыми безлюдными полями и затихло в непроглядной ночи.
И не успело еще смолкнуть эхо, как из-за небольшого леска начали бить немецкие минометы.
— Ух! Ух! Ух! — ухали мины, вгрызаясь в землю.
— Та-та-та-та! — строчили пулеметы.
— А-ах!! — гулко рвались снаряды.
Рассыпался строй по полю, раскатился как горох, кажись, не собрать теперь и половины!
Да об этом ли думал Лузгин, когда без памяти бросился прочь от большака? Опомнился, почувствовав боль в колене. Сгоряча не разобрал, сунулся в первую попавшую воронку, а там железяка кореженная, ну и разбил колено. Сам виноват, немец тут ни при чем. В другой раз не теряй головы, поглядывай!
Командир построил взвод, посмеялся:
— Ну вот и получили боевое крещение! — глянул на всех, покачал головой. — Неужто все совершеннолетние? — И к Лузгину: — Ты тоже паспорт имел?
Тут уж не растерялся Лузгин. Больно хорошо смеется взводный. Решил: пусть еще посмеется.
— А как же, товарищ лейтенант! Не успел родиться — выдали.
— Как так?
— Девятнадцатого числа день рождения справлял, а двадцатого за паспорт расписался.
— Почему только расписался?
— В сельсовете сказали: «Все равно не сегодня-завтра забреют. Пускай уж у нас полежит».
— Так и сказали?
— Так. Им что! Они и не то скажут!
Знал Лузгин, что не совсем так все было. Знал, а рассказал, будто и правда ему так ответили. Пусть лейтенант посмеется. Председательнице сельсовета Анне Ивановне от этого хуже не будет. Да и далеко, не услышит… Кабы поближе — не сказал бы, постеснялся. Страсть, не любит председательница, кто заливать мастер! «Пустющий, говорит, человек, который выдумывает, чего не было!»
Ишь ты, «пустющий»! А если есть такое время, когда смех дороже хлеба, тогда как?!
Снова команда. Заколыхался строй, загремел котелками, полез в гору. Гора не велика, да снег, глина. Скользко. Однако одолели, перевалили. За той горкой — другая, за ней — третья. И так без конца.
Идет полк вдоль фронта, а горкам конца не видно. И каждая лесом поросла. Лесная дорога — как на Ярославщине: вьется промеж деревьев, петляет. А деревья-то! В пол-обхвата и больше. Высота — шапка валится.
Сержант Митин поравнялся с Лузгиным. Тоже вертит головой направо, налево. Любопытствует.
— Что, Лузгин, устал?
— Нет, товарищ сержант, не устал! — ответил Лузгин и сам удивился: так-то бодро получилось.
— А я вот притомился немного. Ну да ладно. Придем на место — отдохну.
И видит Лузгин, что Митин, хоть и отделенный, а тоже вроде не старше самого Лузгина. Шея тонкая, мальчишеская, из-за воротника видать. И руки тоже тонкие, нежные. Лицо у Митина круглое, словно девичье, с ямочками на щеках. Только разве что пушок на подбородке. Как и Лузгин, небось недавно бриться начал.
И все-таки есть в Митине что-то такое, что мешает Лузгину смотреть на него как на равного. Умный он очень, грамотный. Говорят, в институте учился.
— Тихо здесь, — сказал сержант, и Лузгин согласился: верно, тихо. — Как будто и не на фронте мы. — И снова согласился Лузгин: в самом деле, будто и не на фронте.
А Митин вдруг глянул Лузгину в самые глаза и спрашивает:
— А ты, Ваня, не боишься смерти?
Растерялся Лузгин. Конечно, кабы знать, что такое спросит, можно бы ответить как положено, а то так, сразу… Не получится, наверное, как положено. И Лузгин промолчал. После-то уж пожалел: ведь мог бы ответить как следует! Дурень, дурень! Что теперь о тебе товарищ Митин подумает? Небось вроде того: был ты, дескать, Лузгин, вахлаком, вахлаком и остался! Нельзя из тебя сделать настоящего солдата!
Очень может быть, что так и подумает. Недаром после таких слов вздохнул и зашагал вперед быстро-быстро!
Первый привал устроили возле какой-то речки. Костров разводить не разрешили. Впереди все небо в ракетах. Одна тухнет, другая ей на смену загорается.
Говорят, теперь близко…
Близко-то близко, это солдат и сам понимает, а ты лучше скажи, когда концентрат сварить можно. Всухомятку сколь ни ешь, не наешься, а горяченького две ложки хлебнешь — и чувствительно.
Снова команда. Опять пошли. Теперь ракеты остаются справа. Похоже, полк все время двигается вдоль передовой. Перешли вброд речку, вторую, вошли в лесок. Здесь темень еще гуще. Нет хуже осени! Летом не успеет стемнеть — тут же и рассвет. Зимой от снега светло. Сейчас снегу мало. Лузгин раньше любил зиму. Особенно первый снег. Чистый он, радостный. Нет его, долго нет, а потом вдруг возьмет да и выпадет. Утром выйдешь на крыльцо и двора не узнать: все бело. Весело, а отчего и сам не знаешь. И не один человек радуется. Всякая тварь — тоже. В лесу весь снег истоптан. Тут и зайцы носились, и лисы играли, и тетерева. О домашнем скоте и разговору нет… Долька аж сатанеет! Прыгает, лает, по снегу катается, сам с собой играет. Гуси такой крик подымут…
Интересно, в этих местах снег всегда так рано выпадает? Да, наверное, так же. Как ему еще выпадать?
Ах ты, господи, до чего ж томительно этак-то! Хоть бы уж скорей начинали… Либо повеселил кто. Хоть бы музыка заиграла!
Задумавшись, Лузгин не слышал команды и налетел на остановившегося Мурзаева. Тот чуть не сшиб с ног Минько. В одну секунду взвод сбился в кучу, и теперь, гремя котелками и наступая друг другу на пятки, солдаты разбирались по два. А впереди уже новая команда:
— На-ле-во! Ря-ды — сдвой! Сом-кнись!
Повернулись налево, забежали друг другу в затылок, сдвинулись. Пока все. Что еще скажут?
И вдруг:
— Разойдись! Проверить оружие!
Значит, пришли. Наверное, это и есть исходная, о которой еще в эшелоне говорили на занятиях. Ни травинки, ни пригорочка сухого. Несколько старых окопчиков в земле — и все. Как хочешь, так и располагайся.
Выбрал Лузгин кочку посуше, привалился к ней спиной, воротник поднял. И дремлется ему, и уснуть боится. Вдруг какую команду проспишь! Достал кисет, развязал веревочку, отсыпал на ладонь щепоть махорки. Там же, в кисете, сухая бумага, газетная. Спасибо, старый солдат подсказал спрятать ее туда, а то бы сейчас и не закурил в такой мокрети. Расстегнув шинель, накрылся с головой, достал кремень, принялся высекать искру. И кто ее придумал, такую хреновину? Пока фитиль загорится, семь потов сойдет. Хотя без нее еще хуже. Спичек вовсе нет. Коробочек на базаре рублей пять теперь стоит. Эх, костерочик бы сейчас! Сухими еловыми веточками заправить. Через полчаса вся амуниция высохнет. Да нельзя костерочик-то: немцы увидят. Цигарку и ту велено в рукав прятать.
В первый взвод Лузгин попал случайно. Не захотел отставать от сержанта Митина. Очень уж он привязался к своему командиру. Когда из учебного полка стали отправлять на фронт, Митин первый попросился, а за ним, как-то само собой получилось, и Лузгин. Митин бы мог остаться. Его при учебном полку оставляли молодых учить. И Лузгин мог. Имел право: всей его учебы было двенадцать дней, не считая дороги.
В строй они тогда встали рядом. Потом, когда желающих идти на фронт поднабралось, Лузгина снова оттеснили на левый фланг. От него до Митина теперь целых двенадцать стоят.
В пути остановки долгие. Иногда по нескольку суток. Загонят эшелон в тупик и — закуривай, ребята! Митин, чтобы время не терять, обучал их помаленьку. Например: как надо «языка» брать без шума. Стоит «язык», не шелохнется, а ты подползаешь, левой рукой его за глотку, а правой кляп в рот вставляешь, чтобы не орал. В это время второй напарник ему руки назад крутит. Будьте здоровы! Одним воякой у Гитлера меньше.
Немца всегда Минько представлял. Прямо как настоящий немец: его тащат, а он — хоть бы что. Не шелохнется.
Его еще и потому за немца ставили, что ростом он не велик. Легко тащить. Поставь такого верзилу, как Варин, намаешься. В нем чистого весу без каски и противогаза, наверное, килограмм сто. Тут тоже соображать надо. Варин всегда разведчика представлял. Взвалят на него Минько, он и тащит. Так и тренировались. А чего еще надо? Гранаты бросать все умеют. Учили. Стрелять— и подавно. Лузгин стреляет хорошо. Сам командир взвода — того, учебного — сказал как-то: «На фронт приедем, а тебе снайперскую винтовку дам». Да только на фронт его не пустили. Вместо него другой сопровождал взвод. А здесь принимал третий. Молодой, шустрый. Лузгин его и разглядеть-то как следует не успел, и фамилий толком не знает. Не то Дохтуров, не то Доронин. Одно точно: на «д». Нет его сейчас. И ротного нет. К начальству вызвали.
Приметил Лузгин, что старые солдаты портянки перематывают. Принялся и он. Раз люди делают, значит, не зря. Кто его знает, что дальше будет? Может, опять подымут полк и дадут бросок верст на сорок…
А это точно, что скоро — в бой. Теперь уж не брехня. Сам взводный сказал. Будто бы и артиллерию подвезли.
Сидит Лузгин, мотает портянку, думает. Письмо бы черкнуть домой. Мол, так и так, прибыли на место. Жив, здоров, чего и вам желаю, и так далее, да небо, как назло, темным-темно. По времени-то вроде пора и рассветать, а оно и не думает.
Минько спит. И другие тоже. Как пришли на место, так и притулились кто где. Отделенный и тот дремлет. Один Лузгин да еще Мурзаев не спят. Сидит Мурзаев, скрестил под собой ноги, раскачивается и не то стонет, не то поет. У него что стон, что песня — не разберешь.
— Мурзаев, — говорит Лузгин, — ты о чем поешь?
Повел Мурзаев головой, блеснул раскосыми глазами и опять за свое. Поговорили… Лузгину спать не хочется. Дома он в это время, бывало, давно на ногах. Особенно летом. Это когда пастушил, приучился. Развиднеется чуть, а он уж на ногах. Хорошо пастушить! Пастуха хозяйки уважают, кормят по очереди: сегодня одна, завтра — другая. И — друг перед другом: одна в яичню — пяток яиц сует, другая десятка не пожалела, третья — сковородку картошки с салом. Так накормят другой раз, что еле ноги волочишь, а не то и вовсе не доешь — оставишь. Сюда бы ее, эту картошку недоеденную!
Конечно, не всегда так Лузгин жил. Бывали годы и не такие сытные. Шестеро их было у матери. Отец помер— Лузгин и не помнит когда. Манька, Ленька да Петька не от отца уж. От другого. Да жили дружно, чего там! Изба большая, мебели почти что никакой, места всем хватало. Старший, Степан, в финскую погиб, так вся деревня ревмя ревела. Девки прямо под окна приходили и выли в голос.
Первый парень был Степан-то… Лузгину до него далеко. И ростом не вышел, и пригожести нет. Волосы — и те, ровно пакля какая, торчат во все стороны, ни пригладить, ни зачесать. Не больно и жалел их Лузгин, когда в военкомате оболванили. Другие жалели… Говорили, девки любить не будут. А Лузгину — что? Его и так не любили. К другим парням жмутся, а от него, как от мухи, отмахиваются: «Иди ты! Соплей перешибешь, а туда же: лапать!» И надо же так: зазноба его, Варвара, Трофима Силина дочка, по которой тосковал он, была выше его на полголовы! А уж красива! Рядом с ней Лузгин и сесть-то боялся. Ну как засмеет! Да только, оказалось, не такая она. Поздно он понял это. Когда уж в армию уходил. Подошла она прямо на вокзале и при всем честном народе обняла и поцеловала в губы. Свои, деревенские, так и ахнули. А после в вагоне парни проходу не давали. Расскажи да расскажи, тихоня, когда этакую девку успел захороводить. Скольким парням отбой дала и, надо же, кого полюбила! Ни кожи, ни рожи! Бока хотели наломать. А он и поцеловать-то ее не успел. Растерялся. Несмелый он. Теперь вот пишет. Три письма прислала. И фотокарточку. Ее прячет Лузгин подальше. Письма-то все читают, в том беда не велика, а вот фото смотреть — это ни к чему. Да и далеко онo убрано у Лузгина, и некогда его доставать для всякого.
Поднимает голову кверху Лузгин, на небо смотрит. По-прежнему темным-темно. Разве тут чего напишешь? Да и сержант спит, а один Лузгин писать не решается. Не получится складно.
В последний раз и сержанту, видать, надоело. «Скоро ли ты, говорит, Лузгин, сам писать будешь? Пора бы!» Да не научится, видать, Лузгин складно. В писарях все равно ему не бывать, а другая работа в полку для всех одинаковая.
Есть, правда, одна работенка, что зовут «не пыльной, но денежной»: ординарцем быть у кого-нибудь из командиров. Из нового пополнения некоторых звали… Лузгину тоже предлагали. Сгоряча-то хотел согласиться. Питание получше, на работы не берут, строевой не гоняют, да и спать удается все-таки больше, а как подумал, что придется Варваре писать, дескать, удрал от товарищей, нашел жизнь полегче, так и не смог, отказался. Смеялись парни. «Дурачком ты был, Лузгин, дурачком и останешься!» Да только не все так-то. Варин с Минько аж поругались. Минько говорит: «Не знали, кому предложить. Предложили бы мне, я бы с радостью! У командиров хлеб белый к пайку полагается…». Тогда Варин и говорит: «Лакейская у тебя душа, Степан, мелочная!» Другой бы, наверное, в драку, а Степке хоть бы что. Знай свое твердит: «Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше».
Плохо теперь Лузгину. Холодно, сыро. Но если бы сейчас опять предложили, все равно не пошел бы в ординарцы. Не может он бросить своих товарищей в эдакой обстановке…
На исходе ночи он задремал, но именно в это время начался бой. Начало его Лузгин проспал. Снилось ему в это время, будто мать запаривает кадушку под огурцы. Накалила в печи камни и ухнула их все сразу в кипяток. Забурлила вода, закипела, заворочались камни, стукают по днищу, перекатываются. От их стуканья дрожит пол в лузгиновской ветхой избенке. Лузгину страшно: вдруг камень пробьет стенку и хлынет кипяток ему под ноги. Стоит Лузгин босиком, примерзает подошвами к холодному полу, а уйти в избу почему-то не может. Силится оторваться от пола и не может. Наконец оторвался, но вместо того, чтобы просто перешагнуть через порог, взлетел к самому потолку. Прежде во сне не раз случалось Лузгину летать, только в этот раз летел он уж очень легко и плавно, как ястреб. Руками не шевелил, ногами не дрыгал. Прилетел прямо на печку и сел на свое любимое местечко по самой середке, где кирпич от времени малость поистерся и получилась удобная ямка. Только в этот раз не пришлось погреться Лузгину. То ли мать забыла протопить печь, то ли выдуло все тепло, но только печь показалась Лузгину еще холоднее, чем пол в сенях. Подпрыгнул он, ухватился за край полатей и хотел перелезть туда, а младший братишка — такой озорник — ухватил его за плечи и давай трясти что есть силы. Трясет и кричит грубым мужицким голосом:
— Земляк, а земляк! Замерз, что ли?
Открыл глаза Лузгин, огляделся. Все тот же лес кругом и тьма. Стоит перед Лузгиным пожилой усатый солдат, дышит в сложенные ковшиком ладони. А над головой солдата зарево полыхает, будто в деревне дома горят. И земля легонько подрагивает. Нет-нет, да и посильнее дрогнет, так, что с елок посыплется снег.
— Чего это, чего? — заволновался Лузгин. — Наступление, да? Началось? Я — счас!
Схватив винтовку, он вскочил, готовый бежать, куда прикажут. Однако никто ничего не приказывал. Кто сидел, как и он, привалившись спиной к пеньку, кто стоял, повернув голову в сторону зарева. Невдалеке собрались в кучку командиры, среди которых был и его взводный. «Дымов. Лейтенант Дымов», — почему-то только сейчас вспомнил он такую простую фамилию. Самый высокий среди командиров — лейтенант Колесников — батальонный. Голос зычный, взгляд орлиный, на поясе наган, на шее автомат. Возле него неотлучно — ординарец, по фамилии Митрохин, шустрый малый, чистый цыган. У этого тоже автомат на шее, только не наш, немецкий. Раздобыл где-то. В наступлении трофейное оружие иметь удобно: возле каждого убитого немца запас пополнить можно.
А солдат все стоял перед Лузгиным и грел дыханием ладони.
— Говорят, у тебя, земляк, самосад имеется. Дал бы на одну закрутку!
Лузгин вроде слышал его, а вроде и не слышал. Стоял и смотрел, не отрываясь, на светлые сполохи, пока не догадался присесть на старое место. Чего стоять без толку — в ногах правды нет…
— Так как же насчет табачку? — сказал солдат и присел рядом с Лузгиным на корточки. Он был высок ростом, широк в плечах, и ему было неловко просить, глядя на Лузгина сверху вниз. — Дашь или не дашь?
— Дам, конешно, дам! Ты обожди, не уходи только! — Лузгин искал кисет с махоркой и никак не мог найти. Он не замечал, что раза два коснулся его кончиками пальцев… — Это что же, бой, значит? Началось? А нас что же? Как же мы? Там — бой, а мы — здесь!
Солдат с интересом разглядывал его, усмехаясь в усы. Когда Лузгин достал кисет, он, не торопясь, свернул цигарку, закурил от трофейной зажигалки и, сильно затянувшись, с блаженным стоном выпустил первую порцию едкого самосадного дыма.
— Сосед воюет. Сто двадцатый полк. Мы пока в резерве. Вот когда слева восемьдесят девятый вдарит, тогда наш черед.
На дымок от его цигарки потянулись солдаты. Один из них, длиннорукий, костистый, будто слепленный наспех неумелым скульптором, спросил:
— Почем ты знаешь, Леонтьев, какой полк за каким пойдет? Ты что, генерал?
— Генерал — не генерал, а кой-чего смыслим, — ответил Леонтьев, — любой, если мозгой пошевелит, может догадаться, как оно дальше все обернется.
— Ну и как оно обернется?
— А вот так, я думаю… Ты, Москалев, место наше приметил?
— Какое место?
— На котором сейчас полк стоит?
— Чего его примечать? Болото.
— Так. А какая у немца техника на этом участке?
— Откуда мне знать?
— Ну так я скажу: танки у него здесь.
— Неужто танки?! — ужаснулся кто-то.
— Да брешет, — сказал Москалев, — откудова ему знать?
Услыхав слово «танки», солдаты придвинулись ближе, сгрудились вокруг Леонтьева. А тот — словно на занятиях по тактике:
— Стало быть, товарищи, наш, двести двадцатый, занимает оборону в районе болота. Подступы к нам с фронта и флангов для тяжелой техники противника закрыты естественным препятствием… — вывернув из чьей-то винтовки шомпол, он стал рисовать на снегу непонятные для Лузгина линии и кружочки. Остальные следили за ним более внимательно, и Лузгин понял, что большинство понимает, о чем говорит Леонтьев.
— Позади нас болота нет. Но именно здесь находится штаб дивизии…
— Все знает! — воскликнул Москалев. — Ну что ты скажешь!
— Немцы тоже знают, не волнуйся, — заметил Леонтьев и продолжал: — Соседние полки расположены на возвышенности. Позади них деревень нет. Вот теперь и соображайте, куда немец двинет свои танки: к нам в болото или на деревни.
— Я так думаю: непременно двинет на деревни! — сказал один из солдат. — Закрепится на высотках и двинет в глубину обороны.
— Правильно, Саватеев, — сказал Леонтьев, — быть тебе нынче же командиром отделения!
— Если раньше не шлепнут, — заметил Москалев.
— Меня не шлепнут, — спокойно отозвался Саватеев, — я махонький, а вот ты, дядя, — дылда. Тебя издаля видать, так что поглядывай…
— Гляжу. Вторую войну гляжу, а ты без году неделя как в полку, а туда же: в командиры метишь…
— Да будет вам! Давай дальше, Леонтьев!
— Значит, немец попытается взять деревни. Там суше. Если это удастся, он, разбив оба полка, выводит на большак танки и захватывает штаб дивизии. — Шомпол сделал два больших зигзага и нарисовал кружочек возле ног Лузгина. Все подавленно молчали. — Вывод один, — сказал Леонтьев, — пока он не разбил фланговые полки, надо немедленно вводить в бой наш полк! — При общем молчании он вытер шинелью шомпол и ввернул его на прежнее место. — Дай, землячок, еще на одну. Хороший у тебя самосад.
— Коли все так, чего ж тогда стоим? — волновались одни.
— В штабе не хуже нашего знают! — отвечали другие. — Раз стоим, значит, так надо. Начальству виднее.
Когда все разошлись, Лузгин спросил у сержанта Митина о Леонтьеве.
— Голова! — коротко ответил сержант. — Без образования, а — голова! Вторую войну топает. Мог бы служить в кадрах — не захотел. Теперь вот рядовым… Вчера его парторгом выбрали. Ты затвор почисти. Вода попала…
Далекая вначале стрельба на правом фланге постепенно приближалась. Шальные снаряды стали залетать в болото, где стоял двести двадцатый. Скоро еще более громкие звуки боя послышались слева, и там тоже заполыхало небо. Наверное, немцам удалось поджечь и эту деревню.
Протяжный надрывный крик-команда родился неизвестно где, пролетел над болотом и оборвался. И сейчас же его подхватили десятки голосов:
— Первый взво-од!.. Второй взвод! Тррретий…
— Отделение! Становись!
Из болота вышли, когда совсем рассвело.
Лежа в наспех вырытом окопчике, Лузгин, сам не зная зачем, то и дело открывал и закрывал затвор винтовки. Не то чтобы надо было. Просто муторно очень лежать вот так, без дела. Хоть бы уж начинали скорей, что ли! В соседнем окопчике Минько. Он тоже вертится, возится, устраивается поудобнее, будто навек лежать собрался. Мурзаева совсем не видать. Только винтовка торчит дулом кверху. Как стрелять будет — не понятно. Командира отделения, если б захотел — не докричишься. Его место на самом правом фланге. Лузгин рад и тому, что лежит он не последним. Еще левее его лежат люди. Чужие только. Не его роты даже. Оттуда раза два кричали, табачку спрашивали, да Лузгин не ответил. Может, не положено, кто знает!
Давно лежит Лузгин. Успел отлежать один бок, на другой перевернулся, а наступления все нет. Только спереди, оттуда, где немцы, все сильнее какой-то гул. Навроде бы гусеничные тракторы, только погромче. Неужто и вправду танки? Засосало у Лузгина под ложечкой. Такого с ним еще не было. Трусит он, что ли? Беда, коли так. Говорил давеча взводный: кто трусит, того первого убивает. Закон, говорит, в бою такой неписаный: смелого и пуля щадит.
А гул все ближе. Теперь уж точно не трактора. Танки. Идут они прямо на него, на лежачего… Еще муторней стало на душе. Чего тянут, чего ждут? Но вот высоко в небо взлетели две зеленые ракеты, загорелись ярко, рассыпались искрами. И не успела еще погаснуть первая из них, как встал во весь рост командир взвода.
— Вперед! За Родину! Ура!!
Больше ничего не слышал, не помнил Лузгин. Не помнил, как вскочил на ноги, как закричал, как побежал следом за лейтенантом. Ослеп и оглох он в ту минуту, как поднялся. Земля под ним дрожала, как дрожит пол на молотилке в страдную пору. Нет, верно, не совсем оглох. Слышит он, как гудят танки, как рвутся снаряды, как стреляет его винтовка. Пришел в себя только в траншее. Не наша, немецкая. Трупов полно и воды по колено, однако все лучше, чем в мелком окопчике. Хороший у Лузгина лейтенант, заботливый. Это он нарочно бросок подальше сделал, чтобы траншею занять. Ребята повеселели. Размещаются по-хозяйски. Теперь им и танки вроде бы не страшны.
Лейтенант смеется:
— Ну что, Лузгин, испугался? Привыкай, брат, еще не то увидишь.
Глянул на трупы, помрачнел:
— Оттащите в сторону. По ним топтаться будете?
Мертвого тащить вдвое тяжелее, чем живого. Не знал раньше этого Лузгин. В воде они, что ли, намокают?
Когда кончил — посунулся ближе к лёйтенанту. Хоть и он не железный, а все кажется, с ним рядом не так боязно. Весь в грязи, а шинелка как положено: на все пуговички и подворотничок на гимнастерке белый. Лузгину перед ним совестно трусить.
— Может, закурите, товарищ лейтенант?
— Спасибо, не научился. А ты давно куришь?
Лузгин курил давно. В деревне тот не парень, который не курит.
Покачал головой лейтенант и снова взялся за бинокль. А к чему бинокль, когда танки под самым носом!
Лузгин хорошо видел, как лежавший недалеко от него пэтээровец выстрелил в ближайший танк, как блеснул огонек где-то около башни и как после этого танк продолжал двигаться вперед как ни в чем не бывало. Ружье выстрелило во второй раз. Ударившись о броню, пуля срикошетила и зарылась в землю, не причинив танку никакого вреда. Упрямый боец выстрелил в третий раз. Тогда стальная махина развернулась и пошла прямо на окопчик пэтээра. Между ним и траншеей, в которой находился Лузгин, было не более тридцати метров. Когда машина приблизилась, солдат выстрелил в четвертый раз, но в этот момент гусеницы наехали на окоп.
Секундой раньше командир взвода лейтенант Дымов швырнул под танк гранату и теперь нагнулся, прячась от осколков. Услышав взрыв, он снова высунулся из траншеи и увидел, как по-прежнему невредимый танк переваливает через окопчик пэтээра. Длинное ружье согнулось и вдавилось в землю. Дымов приготовился бросить вторую гранату, когда из полуразрушенного окопа позади танка показалась стриженая голова без каски. Вслед танку полетела бутылка. Лузгин едва услышал слабый звук и тут же увидел пламя, разом охватившее броню над моторным отделением. На этот раз танк не пошел дальше. Круто развернувшись, он двинулся на окопчик вторично и, затормозив одну гусеницу, сделал полный разворот, сровняв окоп с землей. Однако танк уже горел, из его люков выскакивали танкисты. По ним отовсюду стреляли из винтовок, кидали гранаты.
Одному из танкистов осколком выбило глаз. Остановившись в полусотне шагов от Лузгина, он ловил в ладони ускользающую массу.
Лузгин сполз на дно окопа и, встав не четвереньки, изрыгал из себя съеденную утром пшенку, покуда кто-то не стукнул его по затылку:
— Эй ты! Чего разлегся?
Другой голос сказал миролюбиво:
— Оставь его. Не видишь, сомлел желторотик!
Лузгин приподнялся.
— А танки… танки где?
Зубы у него стучали, руки дрожали. Он лег рядом с Митиным, высунул вперед винтовку и огляделся. По косогору вверх бежали немецкие пехотинцы. То один, то другой падал и оставался лежать, зато другие все приближались и приближались к Лузгину.
— Стреляй! В душу твою мать! — закричал Москалев и погрозил кулаком. Лузгин выстрелил. Бежавший прямо на него человек споткнулся и упал. Лузгин не понял и приподнялся, ожидая, что человек сейчас поднимется и побежит снова.
Он догадался присесть, только когда пуля щелкнула о каску.
— Есть один! Давай дальше! — крикнул Митин.
Но дальше стрелять не пришлось. Полежав еще немного, Митин перекатился на спину, сказал громко:
— Шабаш, ребята! — и — Лузгину: — Чего глаза таращишь? Закуривай!
Потом они с час или больше сидели на дне траншеи и отдыхали. Подошел командир взвода, присел рядом, снял каску. Под каской оказались светлые волосы.
— Ну как, Митин, жарко?
— Терпимо, товарищ лейтенант. Лузгин счет открыл.
— Да ну?! Офицер или рядовой?
— Сейчас узнаем.
Раскрывши рот смотрел Лузгин, как Митин выскочил из окопа, ящерицей скользнул между камней и скрылся в неглубокой ямке. Когда он вернулся обратно, в руках у него была небольшая книжечка, завернутая в непромокаемую бумагу, и фляга в чехле.
— «Отто Майер, — прочел он, — одна тысяча девятьсот двадцать пятого года рождения». Годок, значит… Рядовой оказался.
— А что это у тебя? — спросил лейтенант, указывая на флягу.
— Где? Ах, это… Сам не знаю. Взял на память…
Сидевшие подвинулись ближе.
— Давай попробуем!
Москалев отвинтил крышку, понюхал.
— Спирт! Не сойти мне с этого места!
— Дай сюда! — Леонтьев отобрал флягу, положил в карман. — В санчасть отдам. Если правда — спирт, для раненых он нужнее.
Москалев бросил на Леонтьева свирепый взгляд, но ничего не сказал.
Довольно скоро немцы снова пошли в атаку. Цепи их приближались, тускло поблескивая воронеными касками. Лузгин видел их очень близко и непроизвольно вжимал голову в плечи, чтобы стать еще меньше… Под ноги подкатилось что-то большое, упругое и, вместе с тем податливое, мягкое…
— Не видишь? Убери! — закричал над его головой Москалев.
Лузгин понял не сразу. А когда понял, ощутил новый приступ тошноты. «Как же это никто раньше не заметил?»— сокрушенно думал он, приноравливаясь половчее взять труп. Минько лежал лицом вниз, словно нарочно весь испачканный зловонной траншейной жижей. Лузгин хотел перевернуть Степана лицом вверх, чтобы поглядеть, в какое место тому угодило, — может, домой написать придется, — но сверху посыпалась земля и тяжелые сапоги больно стукнули Лузгина по спине. Он обернулся. Вместо правой половины лица у человека закопченная маска с обгорелой, в клочьях, кожей. Рядом с Лузгиным — командир взвода и сержант Митин. Они тоже смотрят во все глаза и молчат.
— Что, не узнаете? — спросила маска голосом командира батальона.
— Товарищ лейтенант Колесников! — крикнул Митин.
— Геннадий, ты?! — Дымов схватил своего друга за руки.
— Огнеметом попотчевал, ни дна бы ему ни покрышки! — сказал комбат. — Как я теперь с такой харей целоваться буду?
— Тебе в санбат надо немедленно!
— Обойдется. Жаль, водки нет! В самый бы аккурат теперь!
— Есть водка, — сказал Дымов. — Даже спирт, Леонтьев, налейте! Как там у соседей?
— Да так же, как у вас, — ответил Колесников, возвращая флягу, — четвертую атаку отбили, теперь сидят гадают, сколько еще будет. — Ну-ко, дай еще глоточек! Знобит вроде…
— Глаз-от цел у вас, товарищ лейтенант? — сейчас Москалев говорил тихо, проникновенно, с какими-то старушечьими интонациями.
— Раз тебя насквозь вижу, значит, цел.
— Я к тому, что, может, надо помочь вам дойти до санинструктора…
— Москалев! Займите свое место! — приказал Дымов.
— А комбат тебя и впрямь насквозь видит! — хохотнул Митин, провожая Москалева.
— Мочой надо ожог-то! — пробасил Варин. — Моя бабка завсегда ожоги мочой излечивала. И следов никаких.
— Сюда бы твою бабку! — сказал Колесников. — Вместо нашей Зинаиды.
Варин с сомнением покачал головой.
— Н-не знаю… Все-таки шестьдесят скоро! Напишу, конечно… А лечит — что надо. Главное — без следов.
— Товарищ лейтенант, подходят! — крикнул кто-то.
Бойцы, расталкивая задремавших, поднялись, прильнули к оглаженным, кое-где наполовину осыпавшимся краям траншеи, защелкали затворами винтовок. Колесников тоже поднялся — его место в бою не здесь, — но еще с минуту не уходил, о чем-то раздумывая.
— Как у тебя с патронами? — спросил он наконец. — Может, подбросишь немного во вторую роту? Я сейчас пришлю подносчиков…
Дымов, не оборачиваясь, выкинул на бруствер пустой подсумок. Сержант Митин сделал то же. Колесников повернулся и, лишь слегка нагнув голову, пошел на свое капэ. Лузгин, подставив ящик из-под концентратов, взобрался на него и с опаской выглянул. На этот раз впереди пехоты шли танки. Лузгин насчитал сначала девять, потом появилось еще пять, потом еще семь. С флангов ударили тяжелые минометы. Огненный шквал прижал дымовцев к земле. Ведя огонь с ходу, танки подошли совсем близко. По ним все время била противотанковая артиллерия и от лесочка, и со стороны деревни, и, наверное, поэтому основная масса танков устремилась прямо на Лузгина. Еще немного — и они обрушатся на него, но прежде чем это случилось, над бруствером показалась белокурая голова лейтенанта Дымова.
— Назад — ни шагу! Гранаты к бою! За мной, товарищи!
И первым перевалился через бруствер. Метрах в десяти перед траншеей он поднялся на ноги, оправил на себе гимнастерку, оглянулся и вдруг махнул рукой Лузгину, дескать, давай, Иван Митрофанович, поспешай. И Лузгин побежал. Он видел, как лейтенант был ранен, как, раненный, продолжал идти вперед, зажимая рукой левый бок. Потом Лузгин упал. То ли споткнулся, то ли испугался слишком близкого разрыва, а когда поднялся, то увидел лейтенанта Дымова далеко впереди себя. Шел взводный прямо на танк один на один с гранатой в правой руке, а левой по-прежнему зажимал бок. Лузгин видел, как он взмахнул рукой, как подался вперед всем корпусом, как упал головой вперед. И тогда раздался взрыв. Танк остановился будто в недоумении, и только башня его продолжала вращаться. Сержант Митин крикнул:
— Взво-од! Слушай мою команду! — а какую, Лузгин так и не расслышал.
Митин побежал вперед. Петляя, падая и снова вставая, он увертывался от пулеметных трасс и все ближе подбирался к танку. Попав в «мертвую зону», где его не могли достать пули, он скатился в снарядную воронку и оттуда швырнул связку гранат. В густом черном дыму кто-то кричал надсадным, не то бабьим, не то детским криком. Не выдержало сердце Лузгина, бросился он туда, да немного не добежал. Словно обухом его по голове ударили. Зашатался Лузгин, стал падать, земля пошла у него под ногами кругом, словно карусель. Да нет же, не земля это! Мальчишки-озорники поднимают кверху край доски, на которой стоит Лузгин. Только вот зачем он стоит на ней — неизвестно. Вот-вот упадет он с той доски. А внизу вода. Целое озеро воды. Кабы еще умел плавать, а то ведь этак и утонуть недолго! Просит Лузгин мальчишек, молит не перевертывать доску — не слушают, смеются. Вот уж и край доски.
От страха Лузгин широко раскрывает глаза и видит перед собой что-то громадное, страшное, темное, которое надвигается на него, понемногу заслоняя небо.
Хотел Лузгин шевельнуться и не мог, хотел закричать— не кричится. А чудовище все ближе, ближе… Собравшись с силами, закричал Лузгин, да, видно, поздно. Навалилось на него громадное, страшное, опалило жаром, прошло над ним. И тотчас все смешалось: земля, небо, люди, кустики невдалеке.
Первое, что Лузгин различил вполне реально, была фигура Мурзаева. Склонившись над Лузгиным, он придвинул свое скуластое, в оспинах, лицо вплотную к лицу товарища и вслушивался в его дыхание. На миг приоткрыв глаза, Лузгин тотчас закрыл их, так как свет причинял нестерпимую боль. Он хотел попросить пить, но ставшие чужими губы никак не хотели выговорить нужное слово. Несмотря на это, он почувствовал, как в рот ему сквозь стиснутые зубы льется вода. Неужели он все-таки попросил пить? Вода была затхлой и отдавала ржавчиной, но Лузгину показалось, что он еще никогда в жизни не пил такой вкусной воды.
После этого ему стало легче. Даже боль в глазах поутихла. Приоткрыв веки, он с удивлением и жадностью разглядывал небо. Разглядывал так, будто опасался, что сейчас придет кто-то большой и жестокий и навсегда закроет его от Лузгина.
Но вместо того чтобы закрыться, небо, наоборот, стало постепенно светлеть. Было оно пасмурным, но не таким, как два часа назад, а по-осенному ласковым и грустным. Лузгин понял, что не умрет, и стало ему так хорошо и радостно, что глаза сами собой наполнились слезами. Мурзаев заметил, наклонился ниже, спросил озабоченно:
— Ай, худо! Асан думал — хорошо! Глупый Асан!
— Нет, навроде бы отошло, — сказал Лузгин. — Где наши?
— Нет наши, — сказал Асан, — ушли.
— Куда ушли? Ты догони, скажи, дескать, тут мы…
Мурзаев покрутил головой, вздохнул.
— Далеко ушел наши. Пешком не догонишь. На ишаке не догонишь. На хорошем коне догнать можно. Нет коня, нет ишак. Один пешком остался.
Асан щурит и без того узкие глаза. Лицо, шея, руки его черны от грязи, одни зубы блестят. Взял друга двумя руками за плечи, приподнял, прислонил к сосне.
— Вот так. Отдыхай теперь. Асан ягод принесет. Обедать будем.
И ушел куда-то. Сидит Лузгин, словно колода, прислоненный к дереву, руки поднять не может. Да что же это за напасть такая?! Ведь не ранен, нет! Оглядел себя со всех сторон, крови не видно, только в спине боль и голова дурная: как после похмелья кружится… Хоть бы Асан скорей приходил!
Вдруг Лузгин видит: из соседнего куста торчит ствол винтовки. Бросил кто-то. А может, это его, лузгиновская винтовка? Достать бы! Нехорошо оружие бросать. Командир взвода говорил: покуда жив солдат, винтовка должна при нем быть. Повернулся на бок, лег на живот— ничего. Так даже лучше. Голова меньше кружится и мутить перестало.
Пополз Лузгин. От сосны до куста метров десять. На учениях, бывало, он такое расстояние по-пластунски в один миг перемахивал, а тут метр-полтора проползет и отдыхает. Кое-как добрался, ухватил за цевье, потянул к себе, а она не поддается. Что за чудо? Глянул Лузгин за куст и обомлел: с той стороны винтовку держит за ремень мертвый солдат! Голова, как у Лузгина, под машинку стриженная, только вместо пилотки на ней снег лежит. А за тем солдатом — другой. Уткнулся лицом в землю, будто спит. За ним — третий, за третьим — четвертый, пятый…
— Асан! Асан!
Бежит Мурзаев, торопится, перемахивает через валежины и воронки.
— Чего кричишь? Хочешь, чтоб немец услыхал? На, ешь бруснику! Другой ягоды нет.
Мурзаев — ягоду себе, другую Лузгину в рот, опять себе и опять Лузгину. Пообедали…
— Ты зачем от сосны ушел?
— Винтовку свою хотел взять.
— Вон твоя винтовка! Зачем чужую трогал?
— Асан, ты ведь сказал, что наши ушли. А они — вон они! Как же это ты?!
Рассердился казах:
— Мурзаев правду сказал: мало ушли, много здесь остались. Мурзаев стрелял, граната бросал… Нет патрон, нет граната. Что делать? Мурзай в ямку лег, глаза закрыл. Хотел молитва читать — не знал никакой молитва. Дед знал, отец тоже знал, Асан ничего не знал! Пушкин, Лермонтов читал. По-казахски и по-татарски. Шибко громко читал, уши зажимал, танк не слышал. Прошел мимо танк, немец тоже прошел, не заметил… Вылез из ямки Асан, посмотрел кругом… Ай-вай, — он закрыл лицо руками. — Что делать? Хоронить нада. Нельзя не хоронить. Волки съедят! Варин тут, Шейков, Дымов… Мурзай туда-сюда ползал, кинжалом ямка рыл… Гляди, шинелка стала какой! Что будем делать? Нет другой шинелка!
— А сержант Митин? Ты его схоронил, Асан?
Мурзаев подумал, покачал головой.
— Нет Митин. Мурзай везде ползал, искал — нет сержант. Наверно, немец забрал…
— Расскажи, что видел, — просит Лузгин. Мурзаев хмурится, прячет глаза.
— Можно не нада, Ваня?
— Говори, чего уж…
— Чего говорить? Асан не может по-русски, Ваня не поймет по-казахски…
Хитрит Асан. Не хочет вспоминать Асан. Трудно говорить Асану о том, что видел, но друг просит, нельзя отказать другу.
— Раненого лейтенанта танк давил, много раненых тоже давил, стрелял из пулеметов! Не забудет Мурзай, не простит! Мой дед басмачей бил, отец басмачей бил, Асан фашиста бить будет. Нет патронов, штыком заколет! Нет штык — кинжалом зарежет! Нет кинжал — зубами, как собака, грызть будет! Эй, что говорить?! Немец— фашист бить нада! Вставай, Ваня, Асан поможет! — Ухватил за воротник, потянул на себя, посадил и опять зубами блестит, улыбается. — Где твои ноги? Ага, здесь ноги! Руки где? Есть руки. Винтовка где? Есть винтовка! Держи! — схватил под мышки, поставил на ноги, в одну руку сунул винтовку, другую перекинул себе через плечо. — Айда, пошли, Ваня!
Ноги словно ватные, не слушаются. Тянет их за собой Лузгин, а они отстают, одна за другую цепляют. Ботинки разве скинуть? Так, пожалуй, застудишь, еще хуже будет. Пройдут метров сто — остановка, еще сто, опять остановка.
— Хорошо! — говорит Мурзаев. — Так мой старый ишак ходил.
Постепенно легче становилось Лузгину. Все длиннее переходы, все короче остановки.
— Теперь, — говорит Мурзаев, — как молодой ишак ходишь!
С грехом пополам преодолели небольшую горку.
— Совсем хорошо! Как верблюд ходишь!
С горки долго шли без остановки. Лузгин считал шаги, потом сбился. Не то двести сорок три, не то триста сорок два шага. Мурзаев совсем из сил выбился. Положил друга на сухой пригорок, сам рядом лег и тут же забылся, задремал.
Лузгин тоже задремал и вдруг услышал странно знакомые колеблющиеся звуки. Сначала они неслись из-за его спины, потом постепенно переместились вправо. Словно кто-то, балуясь, трогал пальцем туго натянутую суровую нитку. Курлы-курлы! — пела нитка, все приближаясь и приближаясь к солдатам. «Батюшки, да ведь это журавли!» — сам не зная чему, обрадовался Лузгин.
— Асан, ты слышишь? Летят журавли!
Мурзаев поднял к небу плоское, испачканное землей и пороховой копотью лицо, повертел головой туда-сюда, сказал что-то по-казахски.
— Где они, где? — не понял Лузгин и вдруг сам увидел косяк. Большие, важные птицы, неторопливо махая крыльями, летели туда, где было тепло, где пряталось за тучами ласковое солнышко. Косяк был большой и сильный, и все птицы летели ровно, соблюдая положенную дистанцию, и только две отбились от остальных, летели позади, отстав на несколько сотен метров.
— Курлы-курлы! — кричал время от времени вожак, но обе птицы, как ни старались, не могли догнать стаю.
— Эх, пропадают, бедолаги! — горестно сказал Лузгин и крикнул вслед улетающему косяку: — Разве ж так можно?! Эх, вы..
Но стая скрылась за лесом, и теперь только две одинокие птицы, жалобно курлыкая, чертили низкое серое небо усталыми крыльями.
Они были почти над самой головой Лузгина, когда из-за леса показалось острие журавлиного клина. Послушные воле вожака, птицы описали над полем большой круг и догнали отставших. Теперь слабые птицы оказались в середине, между самыми сильными, и журавлиная стая как ни в чем не бывало продолжала полет прежним курсом.
С удивлением и радостью смотрели им вслед солдаты. Мурзаев покачал головой:
— Пора, однако, и нам, друг Ваня! Ночь скоро… — и повернулся, чтобы поднять с земли товарища. Но Лузгин уже стоял на ногах, только слегка придерживался рукой за ствол молодой березки.
— Не держи меня. Я теперь сам дойду. Сдается, будто жилье близко: стойлом коровьим запахло и еще вроде печеным хлебом… Ты не слышишь? Или мне это с голодухи чудится?
Мурзаев улыбнулся. Наверное, оттого, что жив, что друг его стоял на ногах, что журавли не бросили своих и еще, наверное, оттого, что в самом деле запахло свежеиспеченным хлебом…
Между тем поднялся ветер. Сначала будто играя, а потом все злее, все настойчивее швырял дождь в лицо солдатам, запутывал травы у них под ногами, пробирался сквозь мокрые шинели к самому телу.
Глава вторая
Только к ночи немцы прекратили преследование. Не слыша позади выстрелов, Колесников остановился. Дышал он тяжело, как дышат загнанные лошади, со стоном, мокрые волосы липли ко лбу, по давно не бритым щекам струйками стекал пот.
Сунув револьвер в кобуру, лейтенант огляделся. Он стоял почти по колено в воде, и кругом ничего, кроме воды и островков камыша, не было видно. Несмотря на мороз, вода не замерзла, однако там, где были островки или кочки, лежал снег. Не то кусты, не то деревья почудились лейтенанту невдалеке, но, шагнув в ту сторону, он провалился по пояс. Над ним качались лишь высокие пушистые метелки. Это их Геннадий принял за верхушки деревьев. Он пошел обратно, осторожно прощупывая дно. Постепенно подводный грунт стал не таким зыбким, а еще через некоторое время Колесников увидел силуэты низкорослых деревьев. Оказалось, что это ивняк и редкие сосенки, но лейтенант был рад им.
Возле самых кустов его окликнули. Геннадий остановился.
— Сюда, товарищ лейтенант, немного левее, — сказал знакомый голос, и через минуту сержант Митин протянул руку своему командиру. — С благополучным прибытием вас! Какие теперь будут указания насчет дальнейшего?
Колесников повалился на снег. Понемногу подходили другие. Их также осторожно окликали и помогали выбраться из трясины. То, на чем они теперь находились, казалось небольшим островком, размеров которого никто не знал. Многие вышли из болота без оружия. Эго особенно беспокоило Колесникова. Когда бойцов набралось больше трех десятков, он приказал Митину осмотреть местность. Помкомвзвода вернулся часа через два и, хотя не нашел выхода из болота, привел с собой группу бойцов, среди которых были два сержанта.
Остров оказался довольно большим. Колесников находился на его южном берегу и не подозревал, что в двух километрах от него коротает ночь около сорока советских военнослужащих. Почти все они были из соседнего полка. Пока солдаты знакомились и искали земляков, а за неимением таковых «тезок», «годков», словом, всего, что в какой-то мере роднит, сближает совершенно незнакомых людей, к лейтенанту подошел Леонтьев.
— Живы, значит, товарищ лейтенант? А я вот к ним прибился…
— Наших много прорвалось?
Леонтьев вздохнул.
— Все тут. Что дальше делать будем, товарищ комбат? Обратно прорываться или тут, в болоте, отсиживаться?
Комбат не ответил. Появился откуда-то ординарец Колесникова Митрохин, грудью оттеснил Леонтьева от сидевшего на моховой кочке командира.
— Чего пристал? Не видишь, человек думает?!
— Подождем, — сказал Леонтьев.
Колесников словно только тут очнулся от крепкого сна. — Душа не на месте! Неужели погибла наша сто четвертая стрелковая?
Леонтьев шумно выдохнул, прокашлялся, крикнул кому-то:
— Першин! Объяви новеньким: командира звать лейтенант Колесников. Пусть подойдут познакомятся. Ну а комиссаром, должно, мне придется быть.
— «Самозванцев нам не надо, бригадиром буду я»… — съязвил Митрохин. Леонтьев посмотрел на него без улыбки.
— Между прочим, право имею. В гражданскую комиссарил в партизанском отряде на Дальнем Востоке. Кто сомневается, можете взглянуть на документ…
— Убери! — сказал Колесников. — Ну-ко, ребята, дайте моему ординарцу по шее, а то мне не положено.
Между тем вокруг Колесникова сгрудились не только чужие, но и свои, из его батальона. Стояли и ждали чего-то. Леонтьев понял, покрутил головой, заговорил глуховато, глядя в землю:
— Ну что я вам скажу, братцы? Писем мне не шлют, радио не слушаю, газет не читаю, так что знаю не больше вашего. Хочу с вами думками поделиться. Старый я. Иной раз и дома-то не спится, не то что здесь… Так вот: сижу это я как-то ночью у костра и думаю. Сколько же лет это я служу? Посчитал по пальцам, получилось ровно двадцать пять! По-старому, выходит, я свой срок отслужил и могу теперь восвояси домой возвращаться. В аккурат в эту пору в шестнадцатом году прибыл я, молодой новобранец, в седьмую армию в Ахалцикский полк, в самую как есть Румынию. Вот тогда я с немцами первый раз столкнулся. Ну что ж, били мы их, да еще как били! Побьем и этих! Ей-богу, побьем! Потому, как мы другими стали, а немец — он все тот же. Мы свое защищаем, а он на чужое зарится. Слов нет: сейчас он сильнее…
— Еще бы! — перебил его кто-то из солдат. — Такую силищу — дивизию разбросать!
— Танки у него! — отозвался второй. — Кабы не танки, разве бы мы уступили?!
— А мы и не уступим! — сказал Леонтьев. — Уступить— это значит покориться! А мы не покоримся! Разбросал, говоришь, дивизию? Может, и разбросал. Я не видел, не знаю, а поэтому и врать не буду. Разбросать нас можно, а вот победить — нельзя, потому как мы, разбросанные-то, все одно в кучку соберемся! И уж тут держись, доннер веттер, дьявол тебя побери! Вот так я, братцы мои, это дело понимаю. Если кто со мной не согласен, давай высказывайся! Послушаем и тебя!
Но высказываться никому не хотелось. Не хотелось и уходить от Леонтьева. Стояли и смотрели на него, как будто в нем одном сейчас собралось воедино все: и надежда, и уверенность, и знание чего-то такого, чему нельзя не поверить. Вытирая потный лоб, Леонтьев сказал Колесникову:
— Ну, я свое комиссарское сделал. Теперь ваше дело — командовать.
— А чего тут командовать? — сказал Митин. — Раз-виднеется, и пойдем! Только вот не худо бы кольев нарубить. Без них по болоту идти трудно.
Солдаты разбрелись кто куда. Колесников и Леонтьев сели рядом у костра.
— Курить хочется, прямо хоть плачь! — сказал Леонтьев. Колесников достал из кармана трубку, пососал, передал комиссару.
— На, может, легче станет!
Леонтьев с жадностью несколько минут втягивал в себя насыщенный никотином воздух, потом нашел сухой листочек, мелко искрошил, сунул в трубку, прикурил от головни, затянулся. Возвращая трубку хозяину, загляделся на искусную работу мастера.
— Это что же, домовой, никак?
— Сам ты домовой! Мефистофель!
— Кто?
— Мефистофель. Ну черт, что ли, по-нашему. Между прочим, довольно известный персонаж в искусстве. Странно, что ты не знаешь.
Леонтьев откинулся назад, лег, положив локоть под голову.
— Я многого не знаю. Читать, писать выучился в армии, да и то после революции.
— Как же ты комиссаром стал?
— А так же, как ты комбатом! Убили нашего комиссара, командир отряда и говорит: «Из коммунистов, Леонтьев, нас с тобой двое осталось. Мне командовать, тебе — комиссарить». Так вот и стал.
Колесникову показалось, что слова его были неприятны товарищу.
Когда, накурившись листьев, Леонтьев стал возвращать ему трубку, он сказал:
— Оставь у себя, если нравится.
Леонтьев подобрел. Морщины на лбу разгладились. Некоторое время он держал трубку в руке, поглаживал ее пальцами, потом спрятал в карман.
— За это спасибо. Буду беречь. Жалко, отблагодарить нечем. От сапог одни голенищи остались… Однако не худо бы нам соснуть часок. Чует мое сердце: жаркий будет завтрашний день.
Он лег у костра, накрывшись с головой полой шинели.
Колесников сидел, не шевелясь. Слушал ночь. Где-то работал пулемет. Над головой в голых сучьях ивняка свистел ветер. Мела поземка. Над незамерзающим болотом стлался туман.
Только на седьмые сутки, после упорных поисков, нашли наконец проход через топь. Митин с Леонтьевым дважды прошли туда и обратно, прежде чем согласились вести за собой людей. Но, как ни хорошо они знали дорогу, не обошлось без того, чтобы кто-нибудь из отряда через каждые двести — триста метров не проваливался в топь по шейку. Его вытаскивали дружными усилиями, награждали тумаком в спину, и движение возобновлялось. Случалось, что и сам Леонтьев, шедший впереди, сбивался с пути и проваливался.
Движение еще затруднялось тем, что в отряде были раненые. Два легкораненых солдата тихонько плелись в самом хвосте, а санитарку Зину несли на самодельных носилках. Осунувшееся, побледневшее лицо ее не казалось больше таким некрасивым, и только веснушки предательски выступали даже там, где раньше их вовсе не было видно.
Но главное страдание Зины заключалось не в веснушках и даже не в ранении, а в том, что Колесников по-прежнему не обращал на нее никакого внимания. Для него она была такой же боец, как и все, и даже немножечко хуже. Правда, он не выгнал ее из батальона, как выгонял других, но кто знает, что в таком случае лучше: быть любимой вдали от него или нелюбимой — близко… Впрочем, для нее имело значение то, что именно ее, а не другую Колесников вынес из боя на руках… Сейчас, покачиваясь на носилках, она решала очень сложный вопрос: совсем или не совсем безразлична она для Геннадия Колесникова. От этих мыслей у нее разболелась голова, и Зинка не раз уже подумывала о том, как хорошо было в ее жизни, пока не пришла эта незваная и такая неудачная любовь.
Только к вечеру, изрядно поплутав, головные отряда ступили на твердую землю.
Игнат Матвеевич, закрыв с вечера жарко натопленную печь (внучке занедужилось — простыла где-то), мучался теперь у себя на полатях, не зная куда деваться от жары. За ночь несколько раз вставал, садился к столу, курил, даже выходил в сени. К утру начал подремывать и тут услышал, как кто-то осторожно постучал в окно. Сперва старик подумал — чудится ему. Из деревни в глухую ночь никто приехать не мог, немцы по ночам тоже не ходили — боялись партизан. Игнат Матвеевич долго лежал, слушал, про себя соображая, кто бы это мог быть. Хутор его стоял в такой глуши, куда добрый человек, разве что с помощью нечистой силы, иначе и не попадет без провожатого. Сам-то хутор на взгорочке, а вся, как есть, низина вокруг — сплошное болото. Ни вспахать, ни посеять, разве что — сенокосы. Раньше Игнат Матвеевич ими и кормился: накосит сам, либо пустит кого на свой покос — глядишь, и денежка завелась. Свое хозяйство, хоть и небольшое, а было. В колхоз не вступил не потому, что был против колхозов. Считал, что стар и не хотел быть людям обузой. В последнюю зиму и вёсну перед войной особенно сильно нездоровилось. Раз уж под образами лежал… Из села священник приходил, исповедовал. Ничего, понемножку отдышался. Не иначе господь не допустил внучку оставить круглой сиротой.
…А стук все громче, все настойчивей. Уж не пожар ли? Долго ли до греха? Нынче пришлых людей по лесам шатается — страсть! В воскресенье деревенские за медом приходили, рассказывали: в Красном у Прохора Васильева четыре стожка спалили.
Кряхтя, сполз старик с полатей, подобрался к окну сбочка, глянул сквозь мутноватое стекло.
На дворе какие-то люди стоят. Прямо перед собой, нос к носу, увидел Игнат страшное, воспаленное ожогом лицо. Два больших глаза смотрели на него, не мигая. Жуть взяла старика. Засуетился по избе, заметался из угла в угол. Что за люди?
А в окно все настойчивей, все громче стучат. «Ах, господи помилуй! Спаси и сохрани, матерь Пресвятая Богородица, Никола Чудотворец!» Ноги в коленях дрожат — не унять, в сенях насилу крючок откинул, толкнул дверь, сам у порога присел: от страха ноги не держали.
Первым шагнул высокий с обожженным лицом и наганом в руке.
— Кто здесь? — Взял Игната Матвеевича за плечо. — Хозяин? Немцы есть? А ну, веди в избу!
Ноги у старика слушаются плохо. Высокий оглядел хату, заглянул на печь, крикнул в сени:
— Входите, мужики!
Затопали, повалили друг за другом.
— Свет давай, старик!
Спички, как на грех, запропастились куда-то… Пока искал, гости сами разыскали лампу, засветили огонь.
— Ну, здравствуйте, папаша, принимайте гостей! — сказал высокий.
Наган за поясом, сам не поймешь кто. Вроде командир. Самый пожилой из них, усатый, толстогубый, сказал басом:
— С вами живет кто-нибудь еще?
Глянули за перегородку, увидели Манюшку, отошли на цыпочках, зашикали на тех, кто громко разговаривал.
— Пошамать нет ли, отец? Четверо суток маковой росинки не было во рту!
Старик собрался с силами, спросил:
— Кто такие будете? Разбойнички али как?
— Русские мы, отец, советские.
— Не дезертиры?
— Нет, папаша, из окружения выходим. Через Непанское болото шли. Думали, вовсе не выбраться.
— Через Непанское, говорите? А в каком месте? — спросил, осмелев, старик. Усатый, как мог, объяснил. Игнат Матвеевич недоверчиво покачал головой: через эти места четвероногая тварь, окромя лося, еще не хаживала, да и то разве когда его волки гонят, а чтобы люди… Ничего не сказал, промолчал. Им виднее. Из печки достал чугунок щей небольшой, литров на пять. Им с внучкой на три дня в аккурат хватало. Достал чугунок каши. Поставил на стол.
— Не обессудьте. Чем богаты…
Высокий поджал губы.
— Не жирно на всех-то! Картошечки нет?
— Утром варю. Теперь нету.
— А это что? — двое солдат в сенях разыскали ведро вареной картошки. — Пожалел, старый хрыч! Мы ж за тебя кровь проливаем, а ты…
— Обожди-ко! — Леонтьев движением руки остановил молодого. — Для кого картошку припас, дед? Скотины ведь нет у тебя!
Колени Игната Матвеевича опять начали мелко дрожать. Сказал, еле ворочая языком от страха:
— Едим… Со внучкой едим! За целый день все ведро и охолостим! Любим мы с ней картошку-то…
Усатый покачал головой, но другие уже тянулись руками к ведру, и он отдал, а сам сел за стол. Высокий перевернул ведро над столом, сосчитал картофелины, роздал каждому в протянутые ладони. Ели торопливо, жадно, кто стоя, кто присев на корточки. Кожуру не обдирали.
Дрогнуло сердце старика. Сходил в погреб, принес крынку молока. Солдатка Марья из Березовского принесла вечор больной внучке. Старшой крынку в руки — и в угол. Там на лавке раненый лежит, стонет. Игнат Матвеевич не разглядел его сначала, другие застили. Ему-то молоко и споил высокий.
Игнат Матвеевич начал было понемногу успокаиваться, но кто-то в углу под лавкой нашел ботинки солдатские. Показал высокому. Тот подошел, спросил:
— Чьи?
— Мои, — сказал старик и не узнал своего голоса.
Ровно кто горло у него веревкой перехватил. А высокий глаз не спускает. Подвинул ногой ближе:
— Надевай!
А куда там надевать?! Ботинки разве что на пальцы влезут, да и то вряд ли. Уродятся же такие недомерки, прости господи! Пропадай вот теперь из-за него… Высокий ручищу свою на плечо положил, сжал пальцами.
— Ну, давай выкладывай: кого прячешь?
Как тут ответить? Сказать, дескать, такие же, как вы, окруженцы спрятаны, а вдруг эти и не окруженцы вовсе, а какие другие? Пропали тогда ребята! Как пить дать пропали! Молчит Игнат Матвеевич, в догадках теряется. Коли бы верно могли они через Непанское пройти, тогда бы он враз поверил. С той стороны, кроме как советским, и прийти некому. Да только знает Игнат Матвеевич: невозможно это. На немцев переодетых тоже не похожи. Тощие очень, бородами заросли и картошку нечищеную едят… Однако, чтобы сюда попасть, либо Березовское, либо Тихое не миновать. В Тихом гарнизон, а в Березовском с прошлой недели рота егерей стоит, круглыми сутками наряды дежурят, окруженцев поджидают. Как ни думай, все получается, что эти, хоть и русские, а не иначе как немцами подосланные.
И решил Игнат Матвеевич не говорить ни слова. Будь что будет! Про то, что старость его пожалеют, не думал тогда. Сидел насупившись, ожидая либо удара, либо выстрела в голову, а вокруг него босяки грудились, шумели, спорили. Один из них говорит:
— Чего с ним церемониться? Поставить к стенке — сразу расскажет! Ишь трясется! Это тебе не дезертиров прятать!
На беду сказал. Так бы, может, и просидел Игнат Матвеевич, отмолчался и отступились от него эти люди, а после таких слов будто захлебнулось у него внутри.
— Меня, милый, стенкой не испугаешь! Мне уж и так девятый десяток идет. Пора на покой. А вот служивым, что у меня запрятаны, помирать раненько! Не ищите их. Не найдете. — Опустив голову, сказал со вздохом — Вот и обувка ихняя… Латаю, как умею. Энти, никак, Ивана ботинки… Ну что ж, видно, не судьба мне их починить! — Обшарив всех хитрыми старческими глазами, остановился на ординарце комбата Митрохине, сказал, усмехаясь:
— А ты, милок, когда еще кого обмануть захочешь да себя за красного выдать, спрячь подальше френчик-то! Под шинелку спрячь. Дурни вы, дурни! Я ведь вас по этому самому френчику и распознал! Ну ладно! Покуда внучка не проснулась, ведите! Нехорошо, коли увидит.
Первым опомнился Митин.
— Обожди, дед! О каком френчике речь? Уж не об этом ли? — Подскочив к Митрохину, распахнул шинель. — Если об этом, тогда, Митроха, становись к стенке! Тебя, собачьего сына, за это шлепнуть надо!
Под шинелью у Митрохина и в самом деле оказался новенький немецкий френч.
Все засмеялись, но Леонтьев зло оборвал смех.
— Нечего ржать! Таким маскарадом кого хочешь с толку собьешь! — И уже мягче — Игнату Матвеевичу: — Все ясно, дед! Ну, а теперь веди, показывай своих квартирантов! Нам сейчас каждый человек нужен!
Курносый шустрый Митрохин оправдывался жалобно и растерянно:
— Для тепла надел, братцы! Ей-богу! У меня и телогрейки-то нет! Пропадать, что ли?!
Леонтьев совал под нос старику красную книжечку и кричал в ухо:
— Читай, дед! Ну, читай же! «Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков!»
Игнат Матвеевич наконец поверил, но идти в лес ночью наотрез отказался.
— Было бы из-за чего помирать, а то так, за здорово живешь!
— Да ты чего, опять не веришь? — рассердился Колесников.
— Чего тут не верить? Дело ясное! А в лес не пойду, хоть режьте! Мурзай за полверсты услышит — убьет! Я и днем-то к ним хожу с опаской. Мурзай велел белую тряпку на палке над головой держать заместо хоругви. А то, говорит, «долой твоя башка!».
— Ну черт с ними! — сказал, подумав, Колесников. — После заберем. А сейчас спать, ребята! Утро вечера мудренее.
Легли кто где. Пятьдесят с лишком человек в одной избенке — не шутка. Леонтьев с Игнатом Матвеевичем до света у стола просидели. Один выспрашивал, другой рассказывал. Что сам видел, о чем люди поведали. Рассказывал и про березовского коменданта господина гауптмана и его помощника нового, про их последний налет на Боровое.
— В аккурат в ту ночь, как Мурзая с Иваном мне из Борового свояк привез, приключилась у них беда. В ту же ночь налетели егеря и всех, которые раненые были спрятаны по амбарам, порешили. Кого повесили, а кто на ноги подняться не мог, того на месте застрелили. Коли б свояк с часок замешкался, болтаться бы на дереве и Мурзе, и Ивану, да, наверное, и самому Артему!
Колесникову тоже не спалось. Пошел, проведал Зину, потом присел к столу, жадно курил душистый Игнатов самосад, смотрел в мутный квадратик окна.
— Жена или как? — осторожно спросил Игнат.
— Какая тебе разница, дед?
— Это так…
— Ты вот что лучше скажи: сможешь приютить ее на время или нет?
Игнат Матвеевич беспокойно заерзал на лавке, неистово теребя бороду.
— Приютить бы можно. Живая душа, человеческая… Да ведь ее одну в лесу не оставишь, надо в избу. А в избу опасно. Ну как немцы наскочат?
— Скажешь, дочка. Или племянница. Что они, в метрики глядеть будут?
— Может, и будут. Я, сынок, не столько немцев, сколько своих, деревенских, опасаюсь. Про то, что за племянницу выдать — не моги и думать. В деревне каждая собака твою родословную до десятого колена помнит. Попробуй тут придумай! Немцы из тебя все жилы вытянут! Мало здесь, еще в Березовское отправят к самому господину гауптману, а от него живыми не возвращаются.
Леонтьев вышел во двор и вернулся быстро.
— Давай, командир, поднимай ребят. Часа через два — рассветет.
— Ну так как, папаша, берешь нашу дочку? — спросил Колесников. — Или нам ее за собой тащить?
— Ладно уж, ступайте, придумаю что-нибудь. Только вы уж Мурзая с собой заберите! Не под силу мне, старому, его кормить.
— Митрохин! — крикнул Колесников. — Пойдешь со стариком. Да гляди, чтобы не подстрелили спросонок.
Еще не рассеялась тьма над землей, еще злые болотные туманы не успели подняться, когда отряд Колесникова покинул Михайловский хутор. Старый Игнат отдал им все, что имел: каравай хлеба да мешок картошки.
— Не горюй, дед, возьмем Березовское, вернем сполна!
— Ладно, чего уж…
Стоял на пороге, смотрел вслед. На смерть идут верную, словно на праздник! И те, из леса, тоже с ними. Березовское брать пошли. Ну что ж, вольному воля. Игнат Матвеевич свое дело сделал: упредил. В Березовском немцы при пулеметах, а у ентих, окромя голых задов, ничего, считай, нет. Винтовки и те без патронов! И жалко их Игнату Матвеевичу и зло берет: больно умны все стали, старших слушать не хотят, поглядеть, так самые мальчишки как есть! Разве что в шинелках.
Долго вглядывался в темень дальнозоркими глазами. Дождавшись, когда последний солдат исчез в лесу, вернулся в избу, посидел на лавке, потрогал бумажки, на столе оставленные. Много бумажек. Прежде деньгами назывались, а теперь — бумажки. От нечего делать посчитал. Сорок семь рублей как одна копеечка. Прежде он не такие деньги топориком выколачивал. Золотым его топор называли! Вся округа — нарасхват: «Игнат Матвеевич, баньку сруби! Игнат Матвеевич, наличнички бы покрасивше! Игнат Матвеевич…» Вздохнул Игнат, посмотрел на свои руки. Вроде и прежние, и вроде какие-то другие. Давеча горшок в печь ставил, едва не опрокинул. Летом на косьбе палец порезал. Никогда такого не бывало. Внучка и та смеется:
— Ты, дедушка, теперь деревянный стал, а прежде каменный был! — И верно, что деревянный!
И вдруг тревога полоснула сердце. «С чего бы это?» — подумал Игнат Матвеевич и сразу же ясно, как наяву, вспомнил всех, кто ночевал у него в эту ночь. Вот они сидят, горемычные, оборванные, исхудавшие. Сидят, смотрят… Глазами-то, наверное, давно бы уж все пожрали, что видели, а они — нет! Раненым да ослабевшим, говорят, отдай. Хоть бы обсушились, что ли! Так и пошли, в чем из болота вылезли. И стыдно теперь Игнату, что принял их сперва за дезертиров, и боязно за них: как-то они там? Дорогу он им указал. Все прямо и прямо, потом налево, потом опять прямо и вправо до ручья. А от ручья влево… Нет вправо! Господи, помилуй! В жар бросило Игната Матвеевича: неужели влево велел идти? Там же топь! Вправо надо, вправо!
Кинулся к печке, сорвал с гвоздя полушубок и, как был без шапки, побежал прочь из дому.
Глава третья
Рассвет едва тронул небо бледно-сиреневыми всплесками, на востоке более светлыми, на западе темными, плотный, густой, как дымовая завеса, туман низко висел над землей, а над ним плавали, как миражи, верхушки деревьев и кустов.
Километров шесть прошли в молчании. Старик сказал, что идти им осталось еще столько же. Он шел все время впереди отряда. Глядя в его согнутую спину, Колесников думал о том, что вот так же, наверное, сотни лет назад прадедам нашим под старость лет приходилось становиться на дорогу войны. Кто он, этот Игнат Матвеевич? Как прожил свою долгую жизнь? Не раскаивается ли в том, на что решился два часа назад? По всей вероятности, нет.
Уже давно отряд вышел из диких лугов, покрытых тонким слоем первого снега и ступил на торную тропу, уже две или три дороги пересекли ту тропу, уже два или три раза бойцы заявляли, будто слышат запах жилья, а старик все шел вперед, словно забыл куда и зачем ведет полсотни красных солдат…
Колесников тронул его за плечо.
— Не проглядеть бы Березовское, отец!
— Далече еще, не тревожься.
И не обернулся, не взглянул на лейтенанта.
Протяжный, тоскливый вой послышался в стороне. Родившись внизу у самой земли, он поднялся над туманом, поплыл, колыхаясь, и замер далеко позади у опушки леса.
— Никак, волки? — удивился Лузгин.
— Это хромой Кучум воет, — отозвался старик нехотя. — Навражного Тихона пес.
Лузгин поежился.
— Чего ж он воет, когда ему брехать положено?
— Такая уж у него доля не собачья. Человеческая доля. Хозяина его Тихона Навражного немцы на березе повесили. Вот с тех пор Кучум от той березы ни на шаг. Ребятишки ему еду носили — не подпускал и ребятишек. Издаля кидали хлебушек-то.
— За что повесили мужика?
Игнат Матвеевич подумал, пожевал губами.
— Это дело такое, что скоро-то и не расскажешь… В общем, жил когда-то в Березовском один человек… Обнаковенный. Как все, в ту ерманскую на службу пошел, до поручика дослужился, а когда революция произошла, он в красные пошел. Да… Знать, не такой уж и обнаковенный был… В генералы вышел! В деревню, когда на побывку, бывало, с адъютантом приезжал! В хромовых сапожках адъютант-от!
— Не забывал, стало быть, родину-то! — заметил Колесников.
— Ни в жисть! Да не то что забыть, а дома своего тут, в Березовском, не оставлял! Ему говорят, продай, на кой он ляд тебе! Одни хлопоты! А он — ни в какую. «У кажного, говорит, человека где-нито на земле место такое должно быть, где он родился и где в землю лечь должон… Сколько бы, говорит, его, сердешного, по свету ни носило, а места этого терять али забывать никак нельзя, потому как в этом месте корни его остались». Так говорил. Ну и ездил. Не сказать, чтобы часто, но наведывался. Приедет, дом оглядит, поживет сколь придется и обратно к себе в часть али там куда… Перед самой войной приказал два нижних венца сменить. Подгнили. Денег плотникам дал столько, что на них новый сруб можно было отгрохать! Да, дорожил он домом… Да и как не дорожить? Большой, крепкий. Пятистенок. Такой дом бросать, это головы на плечах не иметь! Немцы, как пришли, так его и облюбовали первым делом. Штаб тама свой разместили. Никто им не перечил, окромя Тихона. Уж не знаю по какой такой причине, а только не стерпел он. Старый, еле ходил, а на такое дело решился…
— На какое?
— Спалить надумал он этот дом. Вместе с офицерьем. Сперва часового топором зарубил. Подкрался ночью и зарубил. Потом солому таскать принялся… Тут его и застукали. Сапогами топтали и прикладами били. Хотели полдеревни расстрелять для острастки, да, слава богу, пронесло. Тихон-то один старался, про его дело больше никто не знал. Одного его и казнили. А кобель вот сторожит… И спит тут же. Совсем одичал.
— Почему он хромой?
— На немца бросился, тот его и саданул с автомата. Ногу ему прострелил. Страсть их не любит, немцев-то.
— Почему не хоронят? — спросил Мурзаев. — Хоронить нада!
— Да сперва-то немцы не разрешали… А после Кучум не давал. Мужики не раз пробовали — куды там! Пес, того гляди, вязы порвет. Так и отступились. А однажды сам в деревню прибежал. За помощью. Вот, ей-богу! Коли не верите, людей спросите. Бегает по деревне среди бела дня от избы к избе, воет, скулит. Вышли люди, а он их в поле ведет к березе той… Собрались человек десять, пошли поглядеть. Подходят, а на покойнике-то вороны сидят. Кучум кидается, лает, а достать птиц не может. А те — хоть бы что: сидят и клюют Тихоново тело. Постояли люди и обратно пошли, потому как ничем тут не поможешь, так Кучум за ними следом до самой деревни на животе полз! Просил, чтоб вернулись. Такая собака верная!
— Где сейчас тело? — спросил Колесников. — Неужто висит?
— Люди сказывали, сорвалось. То ли веревка попрела, то ли позвонки не выдержали. Теперь не видать.
Береза смерти осталась далеко позади. Вершина ее, и без того чуть заметная, растаяла в тумане. Давно умолк верный Кучум, а люди все шли, погруженные в молчание. Наконец старик остановился. Пятьдесят человек столпились вокруг него, ожидая, что скажет.
— Дальше вдвоем идти надо. Лесу нет, через поле все на виду. На рассвете-то оно опасно…
Колесников обернулся.
— Митрохин и вы двое, новенькие, со мной. Остальные ждут здесь. Леонтьев, остаешься за меня. Если все тихо — пришлем связного. Вот этого. Как тебя звать, солдат?
— Асан меня звать, — ответил Мурзаев.
— Добро. Веди нас, старик!
Скоро поле пошло под уклон. Глубокий овраг преградил путь. На другой его стороне лаяли собаки, перекликались часовые.
— Пришли, — сказал Игнат Матвеевич, — это и есть Березовское. Днем его отсюда как на ладони видать…
Цепляясь за кусты, начали спускаться. Неожиданно из-под ноги Мурзаева вырвался камень и понесся вниз, увлекая другие. Все пятеро замерли на месте, приникли к земле. Но часовой услышал.
— Стой, кто тута?!
Митрохин тронул лейтенанта за рукав, шепнул:
— Засыпались, командир. Когти рвать или как?..
А часовой ближе. Шелестит под ногами сухой пырей.
— Стой, говорю! Стрелять буду!
— Русский! — ахнул Митрохин. — Полицай! Ах ты, паскуда!
Еще минута, и весь гарнизон будет на ногах… Но раньше поднялся с земли Игнат Матвеевич.
— Семен, ты, что ли? — голос у старика скрипучий, незнакомый, дрожащий. Поднявшись, подошел к полицаю вплотную. — Ты чего это, негодник! В полицию записался?
— Записали, дедусь… — парень успокоенно закинул винтовку за спину. — А ты чего по ночам шастаешь?
— Внученька, Сёма, заболела, в горячке лежит. С вечера-то вроде ничего, а к утру совсем плохо изделалось. Фершал-то в деревне?
— Уехамши. С господином гауптманом.
— Ах ты, беда какая! — всплеснул руками старик. — Куды ж это оне ночью-то?
— Тебе етого знать не полагается.
— Да я к тому, Сёмушка, что ежели далеко уехали, так скоро не воротятся, а коли недалече, так я бы и обождал…
Семен подумал.
— Не дождешься. Ступай в Бельцы к знахарке, это дело вернее. Наши-то в Мурашове гуляют. Престол там ноне…
Неслышная тень поднялась за спиной Семена. Увидев ее, старик задрожал телом, подался вперед и даже схватил полицая за рукав.
— Слышь-ко, Сём…
Но полицай отпрянул от старика и угрожающе поднял винтовку.
— Уйди от греха, дедусь!
И вдруг ахнул, раскинул руки и повалился к ногам Игната Матвеевича.
Будто в тумане смотрел старик, как берут из рук убитого винтовку, снимают ремень с подсумком, телогрейку, сапоги… Господи, да что же это?! Зачем?! Он закрыл лицо руками.
— Ты чего это, папаша? — спросил Колесников. — Уж не жалеешь ли полицая?
— Пошто убили? — сердито спросил Игнат Матвеевич. — Чего он вам сделал?
— Он предатель, дедушка! — сказал Мурзаев. — Предателей убивать нада.
— Глупый он! Сёмка-то. Молодой еще. И ты глупый! Отняли бы винтовку, поговорили как след, пристыдили б…
— Ну хватит! — сказал Колесников. — Развел антимонию! Что он тебе, родственник?
— Племянник он мне…
Колесников присвистнул от изумления.
— Ни хрена себе ситуация! Ну и как же теперь?
— А никак. Дальше без меня пойдете. Не нужен я вам. Березовское — вот оно.
— Ладно. Укажи, где немцы стоят.
— Чего указывать? Почитай, в кажной избе. Начальник ихний в том самом доме, что Тихон спалить хотел. Тама его и пымаете, коли надо. А меня отпустите с богом. Не помощник я вам…
— Ну что ж, и на том спасибо. А за полицая на нас зла не держи. Сердце огнем горит! Племянник, говоришь? Да будь он хоть сын твой — все равно бы прихлопнули! Под самый корень будем рубить эту заразу! Мурзай, беги к Леонтьеву! Пусть ведет людей!
Старик вытер ладонью глаза.
— Бог вам судья, делайте как знаете.
Колесников сказал на всякий случай:
— Насчет Зинки — гляди! Если что случится…
Игнат Матвеевич не понял, ответил по-доброму:
— Не бойсь, угляжу. Не впервой.
Лейтенант прикусил язык, сказал как можно мягче:
— Да уж постарайся… Девка она, конечно, шалая, но добрая. Встанет на ноги, тебе помощницей будет, покуда мы тут… Пока не вернемся за ней.
— Прощевайте, — сказал старик.
Подошел Леонтьев с людьми. Геннадий разъяснил обстановку.
— Нападать прямо на штаб бессмысленно. Немцы, расквартированные по домам, стрельбу услышат, прибегут, и нам каюк, не прорваться. Обойти Березовское невозможно. Кругом топь. Есть только одна дорога: через мост, а это значит, через всю деревню. Полтораста человек с автоматами — для нас не шутка. Пулеметы, видно, имеются…
— Что предлагаешь? — спросил Леонтьев.
— Предлагаю вырезать гадов к чертовой матери! — лейтенант обвел взглядом притихших бойцов. — Всех, конечно, не ликвидируем. Одно неверное движение, крик — и мы обнаружены. Это случится наверняка, а пока не случилось, какая-то часть будет нами уничтожена. — Все молчали. — Старик сказал, что где-то престольный праздник. Значит, и тут гуляют. Ситуация подходящая.
— Все так, — сказал Леонтьев, — только ведь это не из винтовки палить. Для такого дела навык нужен…
— Никто не родился убийцей! — взорвался Колесников. — Я сам дома курице рубил голову, отворотись…
— Я говорю: навык нужен! — Настойчиво повторил Леонтьев. — И потом сперва разведать надо. Без шума… Ты дай мне кого-нибудь.
— Ну нет! — отрезал Колесников. — Сам пойду. Митрохин! Мурзаев!
Однако вместо двоих к нему подошли трое. Рядом с Мурзаевым стоял Лузгин.
— Пускай идет, — сказал Леонтьев, — дружба — дело святое.
Перейдя овраг, Колесников поднялся по крутому склону к огородам. Здесь он остановил Митрохина, а сам с двумя остальными подошел к ближайшей избе и поднялся на крыльцо. Неожиданно за его спиной залаяла собачонка. Этого Геннадий не предвидел. Обычно немцы уничтожали всех собак в деревне, особенно вот таких, маленьких пустолаек. Но отступать было поздно. Громко топая сапогами, он сердито крикнул на собаку и кулаком постучал в дверь.
Женский голос спросил:
— Кто там?
— Господина унтера — к господину начальнику! Срочно!
— Батюшки! — изумленно воскликнула женщина. — Да нету у меня никого!
У Колесникова моментально вспотела спина.
— Это как же нету? А мне сказали, будто он к тебе пошел!
— И кто ж это набрехал? И как же людям не совестно?
— Ладно, — сказал Геннадий, — знаем мы вас! Все монахинь из себя корчите… Вот я сейчас гляну, какая ты есть монахиня. А ну, открывай живо, не то дверь высажу!
Затаив дыхание, все трое слушали, как возилась в сенях, причитала испуганная женщина. В последний момент она заколебалась, спросила с тревогой:
— Ты, что ли, Петр Лукич?
Дверь приоткрылась, Колесников рванул ее на себя, одним прыжком миновал порог. Еще не понимая, что произошло, женщина отступила назад в темноту, и Геннадий, боясь ее потерять, шагнул за ней. Она вскрикнула, но лейтенант успел зажать ей рот ладонью:
— Успокойся, гражданка. Я не разбойник. Просто заблудился в лесу. Ничего плохого тебе не сделаю.
Женщина продолжала биться у него в руках, словно пойманная птица, даже расцарапала Колесникову лицо, но крикнуть так и не смогла. Постепенно она стала уставать. Движения ее слабели. К тому же незнакомец не делал ей ничего плохого. Он только не давал кричать. Когда ей удалось освободить лицо, она спросила возмущенно:
— Чего тебе, ирод окаянный?
И тогда Геннадий сказал то единственное, что могло успокоить женщину больше всего:
— Хлеба! Хлеба кусок! Из окружения я…
Женщина ахнула.
— А обниматься лез! Голодный, а обниматься лезет!
Впрочем, она прошла на кухню, вздула огонь в еще не остывшей печи, сунула туда несколько лучинок, укрепила их на шестке. Стало светлее. Затем она достала чугунок щей, от каравая отрезала ломоть и стала возле печи, спрятав под фартук не по-женски большие руки. Геннадий взял ложку, но есть не стал, медлил. Хозяйка поняла это по-своему. Молча достала из горки старинный граненый штоф, стакан, наполнила его мутноватой жидкостью и снова отошла к печке.
— Ждала кого? — спросил Колесников.
— Пей, коли дают, да уматывай поскорей! — посоветовала она.
— Немцев много?
— Хватает.
— Стоят где?
— По-разному стоят. Которые у хозяев, а которые в школе. Казарма у них тама.
— И в вашем крыле есть?
— Есть и в нашем. Четверо у Зеленковской стоят, пятеро у Беловых, а староста у старика Дубова.
— Где это?
— По нашему порядку третья изба от моей. А зеленковская — четвертая. Дранкой крытая… Да тебе-то зачем? Ты туды не иди, а сейчас в огород, мимо баньки, после в овраг спустишься. Там до лесу — всего ничего.
— Спасибо, хозяюшка. — Колесников отодвинул в сторону нетронутые щи, а хлеб положил в карман. — Чего ж староста один живет?
— Так не немец он. Русский. Глебов по фамилии. А величают Петром Лукичом.
— Величают, говоришь? Это кто же его величает?
— А все. Начальство же!
— А… Ну пойду я повеличаю. Ты сходи к Дубову-то, проверь, на месте ли начальник. Вдруг ушел куда.
Хозяйка начала о чем-то догадываться, сказала нерешительно:
— Куды ж ему уйти в эдакую рань?
— Иди, иди. Коли он дома, вызови. Скажи, человек из лесу заявился. Раненый. В твоей избе лежит. Командир, мол. Со «шпалой». Гляди сюда! Вот с этакой, только подлиннее… Запомнила? Ну иди. Да иди же!
— О господи, чего же теперича будет?! — охая, она накинула на плечи ветхий кожушок, сунула в ноги валенки и обмотала плечи большим шерстяным платком. Стараясь не потерять ее из виду, Колесников с солдатами шел напрямик через огороды.
К избе Дубова они подошли одновременно. Понуждаемая энергичными жестами лейтенанта, женщина выпростала руку из-под платка, робко постучала и обреченно поникла головой. В сенях послышались осторожные шаги, которые вскоре смолкли.
— Кто такой и по какому делу? — спросили за дверью.
— Это я, Петр Лукич, — заторопилась она, — Евдокия Селезнева, вдова бригадира Якова Ивановича. Вы еще ко мне за самогончиком приходили…
— Ну признал, — нехотя отозвался Петр Лукич, — так что из того?
Женщина качнулась вперед и, чтобы не упасть, ухватилась за косяк.
— До вас я, Петр Лукич. Да вы отворите, не пужайтесь, одна я…
— Мне пугаться нечего, — помолчав, сказал Глебов, — а только ни к чему в такое время двери отворять. Баба ты молодая, а тут одни мужики… Так что ступай.
Евдокия обрадованно метнулась было прочь, но бросив взгляд в сторону, замерла на месте. От страха она заплакала, но робко, по-детски, стараясь своим плачем не слишком тревожить людской покой.
— Чего ж делать-то мне, Петр Лукич! Он ведь не уходит! Страшно мне! Хошь бы ты дверь отворил! Со страху боюсь ума лишиться!
Дверь слегка приоткрылась.
— Кто не уходит? Говори толком.
Захлебываясь слезами, Евдокия лепетала что-то малопонятное и все норовила юркнуть в избу, но Глебов почему-то удерживал ее на крыльце. Выслушав все, он сказал:
— Не мое это дело. Коли ты на него донести хочешь — бог тебе судья, доноси. А меня не впутывай. По мне что командир, что рядовой — все едино душа человеческая. В молодости не был Иудой, а в старости тем более не стану. Ступай с богом. Делай, что тебе совесть велит.
Он хотел закрыть дверь, но Евдокия боком пролезла в щель, и Колесников услышал ее громкий, рыдающий голос:
— Петр Лукич, Христа ради, не гони! Боюсь я! — и еще что-то, чего лейтенант уже не расслышал. Кинувшись к двери, он потянул ручку на себя. Из сеней пахнуло овчиной, луком и старой, лежалой соломой. В темноте кто-то вскрикнул, загремел жестяным ведром.
— Ни с места! — крикнул лейтенант, наугад продвигаясь вперед. — Кто шевельнется, пристрелю! — рукой он нащупал слева бревенчатую стену. — Всем — в избу! Отворить дверь в комнату!
Кто-то шарахнулся прочь, скрипнув половицами, в глаза лейтенанту ударил показавшийся слишком ярким свет керосиновой лампы.
В избе у печки стоял с поднятыми вверх руками высокий худой старик в домотканой рубахе и подштанниках. Другой, тот, что вошел впереди лейтенанта, был немного моложе, шире в плечах и бороду имел широкую и густую, по бокам сильно тронутую сединой. Евдокия, сжавшись в комок, забилась в угол, где стояли ухваты и висели на гвоздях связки красного лука.
— Хозяин? — лейтенант в нетерпении слегка поигрывал наганом перед лицом высокого старика.
— Теперича хозяин тот, у кого в руках вот эдакая штука, — ответил старик, опуская руки.
— Хозяин, хозяин, — подтвердил другой и сел на лавку, — а я погорелец. Живу тут покуда…
— Из Мурашова, — пояснил высокий, — когда его избу тама спалили, сюда ко мне перешел. Товарищи мы… Сесть-то можно? Али до утра стоять?
Колесников убрал наган.
— Садитесь. Так кто же из вас Глебов?
Мужики переглянулись.
— Ну я буду Глебов, — сказал тот, что был пониже ростом, — а вы, извиняюсь, не тот раненый командир, про которого Евдокия говорила? Не дождались, стало быть, подмоги, сами заявились… И сильно вас ранило?
Лейтенант покраснел.
— Здесь не вы, а я задаю вопросы.
Широкоплечий усмехнулся и погладил бороду. Нет, он был не из робкого десятка, этот Петр Лукич. Тогда почему отказался пойти к Евдокии? Ведь за каждого пойманного красного командира немцы давали деньги!
— Немцам служишь? И дорого платят? Наличными или натурой? Отвечай, немецкий прихвостень, когда с тобой советский командир разговаривает!
Глебов слегка побледнел, но продолжал сидеть и взгляда своего не отвел. Подождав, когда гнев лейтенанта пройдет, сказал:
— Можно и так считать. Сполняю, что требуют. А плата… Тут всем одинаково платят: не повесили нынче, значит, наградили…
— Приказы немцев выполняешь! — не сдавался Геннадий. — Значит, предаешь Родину!
Глебов опустил глаза.
— Экой ты скорый, парень! Сполняешь — значит, предатель. Так ведь приказы по-разному сполнять можно… — он покосился на застывших у дверей с оружием в руках солдат Колесникова. — Ты лучше скажи, зачем к нам пожаловал? Чего тебе надобно?
Лейтенант думал, при свете лампы разглядывая лица мужиков.
— Немцев в деревне много?
Старики снова переглянулись.
— Как для кого, — сказал Глебов, — ежели ты смелый человек, для тебя это пустяки, а коли трус, лучше сюда не суйся.
— Загадками говоришь.
— А ты разгадывай!
Лейтенант нервничал, не зная, как поступить. С одной стороны, угрозой от стариков ничего не добьешься— не таковские, с другой — у него не было времени на то, чтобы завоевать их расположение.
— Я не гадалка. Если хотите помочь — помогайте. После… обоим зачтется…
Глебов засмеялся, толкнул локтем Дубова.
— Слыхал, Денис? Зачтется, говорит! Ну спасибо, парень, обнадежил! — он поднялся над столом, широкоплечий, кряжистый, будто вырубленный из целого смоляного комля, посмотрел на лейтенанта в упор из-под косматых черных бровей. — Милостей нам твоих не надо, награды тоже оставь при себе. У меня за ту германскую два Георгия, у Дениса — полный бант…
— Врешь! — вырвалось у Геннадия. — Такие герои немцам служить не будут!
Глебов с укоризной покачал головой, сказал тихо:
— Откуда тебе знать, кому мы служим! Вот у тебя рота… Или взвод. Скомандовал — пошли. «Огонь!» — стреляют… Всё — на виду. А мы — вдвоем! И вся оружия— вот она! — Глебов постучал себя по лбу. — Длинным с выпадом, коли! «Герои»… Мы свое отгеройствовали. Теперь ваш черед.
— Мужики! — сказал Геннадий. — Мне нужно к своим! Очень нужно! Помогите. Не ради себя прошу, ради товарищей своих!
Приступ страшной усталости, как тогда, по выходе из болота, внезапно одолел его, заставил сесть. Минуты три все молчали. За печкой трещал сверчок, в углу сонно вздыхал теленок, в подполье глухо пропел петух.
— Видать, не помереть нам с тобой своей смертью, друг Денис! — проговорил Глебов, поднимаясь. — Штаны-то одень, без них в рай не пустят…
— И то… — сказал Денис, натягивая портки. — Чего делать-то будем? Я, чай, и стрелять-то разучился!
— Найдется без тебя кому стрелять. Ты что надумал, лейтенант?
— Проведи меня к штабу, а там…
— А там? — Глебов смотрел строго, как смотрят на ученика. — У тебя сколько людей? Рота? Взвод? Али, может, батальоном командуешь?
— Тебе не все равно, дед?
— Большая разница! Так сколько?
— Полсотни наберется…
— Полсотни? Дура! Куды ж ты в лоб-то лезешь? Веди его к штабу! Слышь, Денис! Я-то проведу, мне — что! Только что останется от твоей полусотни?
— Пулеметы?
— Не без того.
— Много?
— Два. Один крупнокалиберный. При нем круглосуточно — два немца. Часовых возле штаба трое. И караулка рядом…
Лейтенант огорченно сказал:
— Опоздал я. Рассветало. Надо было сонных…
— И это бы не вышло, — отрезал Глебов, — кроме солдат в избах бабы и ребятишки. Это ты учел? — Лейтенант отрицательно качнул головой. — То-то. Ну а теперь слушай меня. Комендант наш теперь в Мурашове. Гуляет. С ним два офицера. И цельная машина солдат. Вечор уехали. Утром, надо понимать, вернутся. Дорога из Мурашова идет через дамбу… Смекаешь!
— Смекаю. Предлагаешь взять гауптмана, перебить солдат и тогда уж атаковать штаб?
— Точно! — Глебов восхищенно хлопнул лейтенанта по плечу. — Тогда уж тебе никто в спину не ударит! Некому будет. Да и офицеры там все в кучке… Немец — он без офицера не вояка! Как думаешь, Денис?
— Куды им!
— Вот и я думаю. Так что гляди, парень, упустишь момент, век тебе из Непанского болота не выбраться.
Наше Березовское — это замок. Отопрешь его — молодец. Не сумеешь — никто тебе не поможет. Так что давай, не мешкай. Рота-то твоя где? Веди к дамбе, а я за штабом приглядывать буду. Ежели что — Дениса пришлю. Он у них истопником. Ну а я все-таки староста!..
* * *
Колесников разбил отряд на три группы. Одна, самая большая, обходит Березовское со стороны леса, рассредоточившись вдоль всего оврага, другая блокирует выход на дамбу и одновременно держит под обстрелом всю северную часть деревни на тот случай, если немцы вздумают помочь своему начальнику. Первой группой командовал Леонтьев, второй Митин. На себя Колесников взял гауптмана и его свиту.
— Начнешь сразу после меня, — сказал он комиссару, — атакуй одновременно по всему порядку. Расставь ребят по два-три на каждую избу. Главное, не давайте фрицам выбегать на улицу! Держите под огнем двери. Хорошо бы предварительно снять часовых!
— Попробуем. Я тут подобрал кое-кого…
— Вот что: оставь Митину семерых, остальных забери.
— А как же он?
— Отдай ему пулемет. Автоматы тоже забери.
— А если фрицы полезут к дамбе? Не удержит ведь!
— Удержит, я его знаю. Ну, ребята, либо грудь в крестах, либо голова в кустах!
* * *
В ночном бою инициатива — всегда на стороне нападающего; днем часто бывает наоборот. Когда Колесников с дюжиной бойцов подошел к дамбе, почти совсем рассветало. Вспугнутые появлением людей, из кустов выскочили два зайца и, петляя, помчались к лесу. По обе стороны дамбы, очевидно, была топь. Темные продухи на белом снегу едва заметно курились, моховые кочки, присыпанные снежком, чередовались с ровными, гладкими полями, темневшими проталинами, черные корявые сучья давно погибших деревьев отмечали места редких островков. Видневшийся вдали лес скорей всего был непроходимым для автомашин. Через Березовское вела только одна дорога: из Мурашова через дамбу и мост на ту сторону Ловати.
В одном месте дамба делала довольно крутой поворот. Здесь спешно соорудили завал из вытащенных наверх бревен, оставшихся в воде со времен сооружения дамбы, свеженарубленного хвороста и пней. Окончив работу, долго отдыхали, лежа на пружинящих ветках ивняка, наслаждаясь последними минутами покоя. Небо по-прежнему было затянуто низкими серыми тучами. Казалось, пропустив в положенное время рассвет, некий распорядитель спохватился и теперь старательно удерживал над болотом расползавшуюся во все стороны тьму.
Вскоре в морозной тишине послышалось далекое шмелиное пение. Вначале едва различимое, оно с каждой минутой усиливалось, и вот уже над кустами поплыла брезентовая крыша грузовика, исполосованная темными комуфляжными пятнами.
Крутой поворот дороги мешал немцам увидеть завал издали, но даже обнаружив его, шофер не сразу остановил машину, так как позади него на длинном тросе тащилась легковушка. Дав команду атаковать грузовик, лейтенант вскочил на ноги и приготовился бросить гранату в приземистый черный «мерседес», но тот неожиданно вильнул в сторону, ткнулся радиатором в кусты и, наклонившись на один бок, остановился, удерживаясь тросом на самом краешке дороги. Колесников подскочил к машине, рванул дверцу.
— Хенде хох!
Наружу, прямо под ноги лейтенанту вывалилось безжизненное тело в офицерской шинели. Фуражка с высокой тульей покатилась вперед, лысая голова глухо стукнулась о землю, между тем как ноги продолжали оставаться в машине. Офицер, сидевший рядом с шофером, выстрелил в Колесникова и промахнулся. Вторично выстрелить ему не пришлось. Открылась дверца с другой стороны, на миг показалось возбужденное лицо Мурзаева, и офицер обмяк, пополз с сиденья вниз. Рядом виднелось бледное лицо третьего офицера, поблескивали стеклышки очков. Колесников ухватил его за плечо, выбросил из машины.
— Комендант?
— Nein, Nein, — запротестовал немец, поднимая руки. — Ich bin Militärfeldscher![1]
Где комендант?
— Herr Kommandant ist da, aber er ist wie ein Bürstenbinder betrunken[2].
Оружия у фельдшера не оказалось. Взяв парабеллум коменданта, лейтенант направился к деревне, на ходу крикнул Лузгину:
— Фельдшера забери с собой, остальных — в расход!
— Ты чего, сдрейфил? — поинтересовался Митрохин, заметив, что Лузгин колеблется.
— Непривычно как-то. Ежели бы в бою…
— Эх ты! А ну отойди! — Митрохин поднял винтовку, отошел на шаг, клацнул затвором. — Вот гад! Хоть бы шевельнулся! — он опустил винтовку. — А может, он уж дуба дал, а? А мы тут время теряем! Эй ты, чего вы там лопали? Пили, пили чего? Тринкен вас там, в деревне? Понял?
Фельдшер проговорил по слогам:
— Са-мо-гон, — и добавил, покрутив головой — О! Das ist schrecklicher, als der Krieg![3]
Митрохин удовлетворенно кивнул.
— С непривычки свободно мог околеть. Я знаю, какой тут первачок… Ты, Иван, вот что: если он шевельнется — стреляй! За такого гада тебе на том свете сотню грехов скостят. Точно! — и подтолкнув фельдшера в спину, погнал его по дороге.
Глава четвертая
Выполняя приказ Колесникова, Леонтьев начал атаку после первых выстрелов на дамбе. Однако они оба не подозревали, что за ночь обстановка изменилась. Не знал этого и Петр Лукич. Минут через десять после начала боя он прислал Дениса сказать, что этой ночью в Березовское скрытно прибыла рота егерей, надо понимать, специально для борьбы с партизанами и что Колесников, выходит, просчитался, но Леонтьев понял это и сам. Вначале на его выстрелы никто не отвечал, и комиссар решил, что в домах пусто, но стоило его бойцам выйти из укрытий, как по ним открыли бешеный огонь из автоматов и винтовок. Со стороны караульного помещения ударил пулемет, ему откликнулся другой, находившийся, вероятней всего, на чердаке школы. Отступать было нельзя — егеря могут двинуть на дамбу — да и некуда: отрезая русских от леса, вдоль его опушки двигалась цепочка автоматчиков, и Леонтьев принял решение атаковать штаб. Расчет оказался верным: штаб был единственным местом, где партизан не ждали так скоро. Быстро овладев домом — защитников было немного, — Леонтьев сам определил каждому из бойцов его место, вместе со всеми таскал к окнам мешки с мукой, кадушки, перины, двигал к дверям старинные дубовые сундуки. Под звон разбитых стекол — егеря пошли на приступ — устанавливал в окне трофейный пулемет. Отбив первую атаку, повеселел: его потери были невелики. Лежа у пулемета, шептал, как заклинание:
— Ну давайте, давайте, голубчики фрицы, еще разок! Еще бы десяточек ухлопать! Полтора!.. Он же понятия не имеет, сколько вас тут…
Колесников мог появиться с минуты на минуту.
Когда Лузгин и Мурзаев вошли в деревню, бой уже переместился к мосту. Быстро оценив обстановку, Колесников оставил в покое штаб и казарму и всеми силами обрушился на слабое прикрытие, оставленное немцами на восточной окраине. Разбегаясь, гитлеровцы все-таки успели поджечь мост. Как раз этого Геннадий опасался больше всего. Он дал приказ Леонтьеву отступать.
Даже когда кончились патроны, Лузгин не бросил своей винтовки. Все-таки имущество казенное, к тому же стыдно предстать перед лейтенантом с одним «шмайсером» в руках: может подумать, нарочно бросил Лузгин свою трехлинеечку… Так и воевал Лузгин в Березовском: в руках немецкий автомат, а за плечами русская трехлинейка без патронов с примкнутым штыком. Вдоль улицы, перегоняя Лузгина, отстреливаясь от наседавшего противника, бежали бойцы Колесникова. Между домов рвались мины. Вспыхнул, как свеча, обложенный со всех сторон соломой, бывший дом генерала, детскими хлопушками захлопали разрывы гранат. Леонтьев повел своих на прорыв.
На выгоне за деревней партизан обстреляли сзади, из-за ближайших овинов. Скатившись в канаву, Лузгин и Мурзаев немного полежали не шевелясь, потом осторожно высунули головы. Над Березовским стлался густой дым. Теперь уже горело несколько домов. Стрельба еще более приблизилась к реке. Возле того места, где недавно был мост, она казалась особенно ожесточенной.
— Гляди, Ваня! — сказал Асан.
Прямо на них от Березовского мчалась толпа немцев. Далеко опередив их, одной рукой волоча по земле станковый пулемет, другой придерживая коробку с лентами, бежал сержант Митин. В него не стреляли. Похоже было, что Митина собираются взять живьем. Заметив притаившихся в канаве солдат, сержант крикнул:
— Не знаете, наши переправились на тот берег или еще нет?
— Не знаем! — ответил Мурзаев и вскрикнул: пуля, едва не задев его макушку, зарылась в песок. Лузгин потянул сержанта вниз. Втроем они быстро установили «максима», повернув его в сторону немцев. Митин снова глянул на реку.
— Узнать бы, перешли наши мост или нет! Может, кто из вас сгоняет по-быстрому, а? Я прикрою.
Лузгин поднялся, положил к ногам Митина тощий мешок.
— Сухари там. Две штуки. Ешьте, а то пропадут…
Пока Лузгин выбирался из канавы, Митин длиннейшей очередью прижал немцев к земле. Потом они снова поднялись, и сержант бил по ним точно и экономно и, довольный, следил, как падают люди в серо-зеленых шинелях, как прячутся, залезая в канавы и ямы. Потом он долго отдыхал полулежа, прислонившись спиной к холодной, охваченной морозом, глиняной стенке. Он бы, наверное, задремал, продлись это неожиданное безделье еще несколько минут. Мурзаев протянул сухарь. Митин взял его, хрустнул с краешка крепкими зубами, блаженно вздохнул:
— Дух-то какой! Аж внутри заныло…
— Гляди, идут! — крикнул Мурзаев.
Митин кинулся к пулемету.
— Подавай ленту!
Взбаламученная дождями желтая вода реки тихо плескалась у ног лейтенанта Колесникова. Ради того чтобы до берегов Ловати дошла меньшая часть солдат, большая сложила голову в Непанском болоте и по выходе из него. Прорыв группы Колесникова сквозь густую цепь немецких порядков, наверное, неслыханная дерзость. Но ведь благодаря этой самой дерзости он, Колесников, еще жив и стоит сейчас на берегу Ловати, за которой все: хлеб, патроны, отдых…
Он поймал себя на том, что думает так, словно все самое трудное уже позади… Сняв каску, зачерпнул ею воды и стал пить жадными большими глотками, пока от холода не зашлись зубы. Вода пахла тиной, землей и снегом. Сзади кто-то негромко сказал:
— Позавчера Лёха, кореш мой, от брюшняка помер. В воде, сказывают, такая зараза водится…
Лейтенант поднял голову, взглянул на высокий берег. Наверху, скрытый от его глаз, заканчивался бой. Его гулкое эхо раздавалось в корабельных соснах на той стороне реки. Невдалеке догорали остатки деревянного моста. Стоя по пояс в воде, солдаты связывали бревна и доски обмотками, поясными ремнями, лозой. «Медленно! Ох как медленно идет дело! — сокрушался лейтенант. — Успеть бы хоть раненых переправить!» От Леонтьева дважды прибегал посыльный. Комиссар передавал, что немцы наседают, вот-вот прорвутся к реке, и просил поторопиться. Сбросив шинель, Колесников сам полез в воду помогать бойцам. Наконец первые плоты, нагруженные ранеными, отчалили от берега. Они не доплыли и до середины, когда с берега ударил пулемет. Стало ясно, что Леонтьев отступил. Вскоре на берегу начали появляться его бойцы. Теперь один Митин сдерживал натиск немцев.
Между тем его окружали. Стрельбу и крики он слышал за своей спиной и все чаще посматривал в сторону реки, но Лузгин не появлялся.
— Может, все уже на той стороне? — заметил Мурзаев. Митин не отозвался. Прижатые им к земле немцы приближались ползком. Сержант и его товарищ отступили еще немного. Когда в просветах между деревьями мелькнула вода, они поняли, что отступать больше некуда. Отсюда с высоты было видно, как к противоположному берегу причалили два больших плота, как двигались люди, сгружая раненых.
— А как же мы? — спросил Мурзаев.
— Кому-то надо и горшки мыть, — загадочно ответил Митин. Сейчас он, против обыкновения, не шутил.
Стоя на берегу, Колесников беспокойно оглядывался по сторонам. С обрыва по одному скатывались бойцы, стараясь не смотреть на командира, разувались, готовясь пуститься вплавь.
— Комиссара ждешь? — спросил один. — Навряд ли дождешься. Он первым без команды бросился в воду, даже не сняв сапог. Беспокойство Геннадия усилилось. О Леонтьеве никто ничего толком не знал. В последний раз комиссара видели минут десять назад. Наконец один из бойцов принес и отдал Колесникову партбилет Леонтьева и тощую пачку писем, перевязанную потемневшей от времени веревочкой.
— Трубка еще при нем была, — сказал боец, — да ребята взяли на память…
Наверху слышался пулемет Митина. Сержант бил короткими очередями — у него, по-видимому, — подходили к концу патроны. Вскоре он замолк окончательно.
— Все! Крышка парню! — выдохнул кто-то из бойцов.
Вдоль берега над самой водой прошла огненная трасса, от спаленного моста неслись автоматные очереди.
— Обходят, братцы! Нас обходят!
Нестройной толпой кинулись в воду. Колесников их не удерживал. С ним осталось человек двадцать. Митрохин, стоя по колено в воде, изо всех сил тянул большую связку бревен. За другой конец ее вцепилось трое солдат из отряда Леонтьева. Обстрел с каждой минутой усиливался.
— Чего мы-то стоим? — тихо спросил один из солдат. — Больше, кажись, ждать нечего.
— Нечего, — подтвердили остальные и начали потихоньку подвигаться к воде.
Подбежал мокрый, но радостный Митрохин.
— Порядок, товарищ лейтенант! Уговорил! Сознательные попались мужички. Идемте скорея, а то как бы не увели дредноут-то!
У берега на легкой волне колыхался плотик. Возле него нерешительно топтались «дядьки». Колесников махнул рукой: отчаливайте! Бойцы не поняли, стояли, переглядывались. Тогда лейтенант крикнул громко:
— Отчаливайте!
Митрохин заругался страшно, витиевато и сел на землю.
— Мне — что. Как хотите. Только вплавь не советую. Вода ледяная. — И принялся стягивать сапоги.
В это время Колесников увидел Лузгина. Подобрав полы шинели, солдат скатился с обрыва прямо к ногам лейтенанта, еще издали крикнув:
— Ну что же вы? Там — сержант Митин! Мурзаев там! Пропадают ведь ребята!
Геннадий взглянул вверх, на гребень обрыва, где пули секли голые ветви кустарника, и сказал тому, кто стоял ближе:
— Собери всех, кто остался на берегу.
— Да нету никого! — завопил боец. — Одни мы остались!
— Иди, — повторил Колесников, — там, в лозняке, есть люди. Наверное, плавать не умеют…
Солдат пустился бежать на звуки редких винтовочных выстрелов и через минуту действительно привел бойцов. Увидев лейтенанта, они приободрились, повеселели.
— А мы уж думали, бросили нас командиры…
Колесников объяснил задачу, позвал Митрохина.
Всегда такой послушный ординарец на этот раз даже не повернул головы. Сняв один сапог, он принялся стаскивать другой. Затылок и спина солдата выражали такую явную обиду, что лейтенант невольно рассмеялся.
— Егор Прохорыч! — позвал он. — А, Егор Прохорыч! Вы, никак, вплавь собрались?
— Собрался, — ответил ординарец, — вот только сапог скину.
— Ну что же, не смею задерживать. Скатертью дорога! Только помните, Егор Прохорыч, что сейчас вы совершаете величайшее свинство по отношению к своему лучшему другу!
Сапог в руках Митрохина замер на полпути.
— А я не для себя. Для вас старался. Мне на себя чихать. Плот упустили… А, дьявол, не снимается! Размок…
— За верную вашу службу — мое вам нижайшее… — продолжал лейтенант, кланяясь до земли. — Коли обидел когда — не взыщите.
Хитрый лейтенант хорошо знал своего ординарца. Подметил он одну митрохинскую слабость: не терпел Егор «жалких» слов.
— Вот что, ребята, — сказал Колесников, — не хочу в таком деле приказывать. Разрешаю: плывите, пока есть время, а я тут останусь. У меня тут дела.
Никто не шелохнулся.
— Знаю я ваши дела! — бубнил Митрохин. — Костю Митина хотите выручить? Так знайте: его не спасете и себя погубите! Да его, чай, уж давно в живых нет…
— Прощай, Митроха! — жестко сказал Колесников. — Думалось мне, что и ты — человек, да, видно, ошибся. За мной, товарищи!
Увлекая за собой солдат, Геннадий стал взбираться по крутому обрыву. Так и не успев обуться, Митрохин с трудом поспевал за ними.
СЕРДЦЕ СОЛДАТА (Повесть)
1
Часу в одиннадцатом вечера Юзиков проснулся от громкого стука в парадное крыльцо. Так стучат, когда у хозяина над головой горит крыша… Разбуженная мужем Капитолина Егоровна, сладко зевая, накинула на плечи шаль, сунула ноги в валенки и вышла в сени, оставив дверь в комнату приоткрытой. Ефим Гордеевич слышал, как она, тихонько ворча, спускалась по лестнице, как скрипели ступени под ее ногами.
Он лежал в темноте и злился: Капитолина Егоровна раз десять переспросит, кто, откуда и по какой надобности пришел, прежде чем откинет щеколду. Такая уж у нее привычка.
Наконец внизу стукнула дверь. Ефим подождал немного, давая жене время подняться наверх, и, не раскрывая глаз, крикнул:
— Мать! Что там?
— Ну чего ты так кричишь? — сказала над самым его ухом Капитолина Егоровна. — Чай, не в лесу!
Ефим Гордеевич устыдился, но виду не подал: жену надо держать в строгости.
— Чего еще там? Сказывай.
— Да… пакет тебе, Ефимушка. Должно, с Москвы. Нарочный принес. Лексей, слышь, Леонидыч своего Ондрюшку прислал.
При слове «пакет» он уже сидел на кровати, а поскольку жена говорила медленно, сильно растягивая слова, то и получилось, что он уже сидел, а она все еще не могла закончить свою речь.
— Ясно, мать! — прервал жену Юзиков. — Пакет давай. Где пакет?
— Вот он, батюшка, вот!
Ефим даже плюнул с досады: до чего же глупа старая!
— Свет! Свет зажги!
— Сейчас, сейчас, не гневайся! — говорила она, шаря рукой совсем не в том месте, где был выключатель. Ефиму стало жаль ее.
— Ну чего ты, глупая, перепугалась? Может, опять орден али медаль какая… Постой-ко! В самом деле, кажись, чтой-то тарахтит!
Наконец под жестяным абажуром вспыхнула лампочка. Посмотрев на конверт, Ефим Гордеевич понял, почему Алексей Сутохин прислал нарочного. Такие письма в Антоново приходили не часто. Вернее, это было даже не письмо, а тоненькая бандероль. На обратном адресе стоял штамп Комитета ветеранов войны.
Ефим Гордеевич, кряхтя, слез с кровати и сам принялся искать ножницы. Разрывать этот конверт, как разрывают письма, ему не хотелось. Руки его дрожали, а в ящиках комода, как назло, попадалось все не то, что надо. Он старался успокоиться и не мог.
Лет пять назад в таком же вот конверте пришло из Москвы извещение о том, что Ефим Гордеевич Юзиков награжден правительственной наградой, орденом Красной Звезды, и может его получить в любое время в районном военном комиссариате. А через день из военкомата пришла повестка, в которой вызывали его ко стольким-то часам в пятницу восьмого числа в райвоенкомат, имея при себе ложку, кружку, полотенце и продуктов сухим пайком на двое суток. За неявку же он несет ответственность по всей строгости закона… Только его фамилия да число были нанесены от руки, все остальное отпечатано.
Беда от такой бумажки была невелика: она пришла после московского извещения, и Юзиков понял: в ней просто кое-что забыли вычеркнуть, однако же в военкомат заторопился.
От Антонова до Пречистого добрых пятнадцать километров. Это если зимой. Летом еще три накидывай. Летом Дедовское болото непроходимое. Уж на что Юзиков свои места знает, но и он бы не мог указать дороги через топь.
Вышел тогда из дому рано утром, прикинул: если идти по два километра в час, то к обеду можно прибыть в Пречистое. (Раньше так ли еще хаживал!) Но то ли шел не по расчету, медленнее, то ли отдыхал слишком часто, а в военкомат опоздал. Окошечко уже закрылось, хотя через щелку Юзиков видел, как дамочка, что там работает, красит губы, пудрится и надевает пальто. Беспокоить ее, когда у всех кончился рабочий день, Ефим, понятно, не стал.
Ночевал он не то чтобы у родственницы, а так… у неудавшейся невестки. Сын его Гришуха до призыва на военную службу крутил любовь с одной вдовушкой. Ему — семнадцать, а ей — под тридцать. Ефим смотрел на такое дело сквозь пальцы: Вдова — не девка и не мужняя жена, такую приласкать — не грех, а благодеяние. Его же сына не убудет. Мать — та переживала. Даже к бабенке той бегала, стыдила, упрашивала, грозила…
Давно это было. Гришухины косточки на неметчине, поди, уж сгнили… Может бы, и лучше, если бы у них тогда кто-нибудь народился! Глядишь, Ефим теперь не к чужому человеку ночевать просился бы, а ко внуку в гости пришел!
Орден он получил утром. Вручал его военком Иван Севастьянович — старший лейтенант. Хорошо так вручал. Душевно. Поздравил. Не соврал, стало быть, тогда писарь Иван Ковальчук! «Тебя, говорит, к ордену Красной Звезды представили. Хотели, говорит, к Красному Знамени, да вроде неудобно при отступлении-то… Вот если бы армия наступала, тогда твой подвиг свободно можно было на героя аттестовать!»
Приврал, конечно. Никакого геройства Юзиков не совершал. Просто выполнил приказ командования: задержал немецкие танки, пока народ через реку переправлялся.
С войны Юзиков вернулся с шестью медалями и запасной ногой в вещевом мешке. К мирной жизни привыкал тяжело. По ночам вскакивал от малейшего стука, во сне видел передовую, бомбежки, «языков». Постепенно, когда появились другие заботы, война стала забываться и вспоминалась только при случае: заговорит кто или кино привезут такое… Да вот еще когда орден получил… Но и то не сам вспоминал. Девчушечка из редакции приезжала, обо всем подробно выспрашивала.
Хорошая такая девчушечка, бойкая, смышленая, а сердцем добрая. Молоко очень уважала. Попьет молочка, запишет страничку, опять попьет. Целую тетрадку школьную исписала. Обещалась еще приехать, да что-то нет… А в газете, между прочим, напечатали крохотную статейку «Награда нашла героя». И орден, и газетка та у Капитолины Егоровны в сундуке хранятся. Мало ли, может, кто и поинтересуется, как Ефим Юзиков прожил свою долгую жизнь!
Пять лет назад это было. Сейчас опять письмо. Как тут не взволноваться? Остаток ночи он, можно сказать, не спал. А когда забывался на минуту, видел все одно и то же: пыльную, бесконечно длинную дорогу. Вернее, даже не одну, а несколько дорог. Тянутся они рядом, почти параллельно, то приближаясь друг к другу, то расходясь. И идут по этим дорогам мужики в гимнастерках с винтовками, скатками за плечами и касками на головах. Посмотришь вперед— спины колышутся, словно рожь в поле, посмотришь назад — лица… Одинаковые, как спины. Колонна… А над ней — пыль. А позади колонны, там, где заходит солнце, тянется черный дым в полнеба. Время от времени из-за этого дыма выныривают крошечные черные мушки, и тогда над колонной несется знакомое: «Во-озду-ух!». И вот уж нет никого на дороге. Одни убитые лежат. Бежит Юзиков вместе со всеми. До лесочка метров двадцать остается, не больше. Все уже там, а Юзиков, как ни старается, не может сдвинуться с места. Будто ветер дует ему в грудь со страшной силой и не пускает вперед. А позади снова: «Воздух! Воздух!». Опускается Юзиков на колени, хочет ползти. Хотя бы до кювета добраться… «Воздух!» — слышит он, пулеметная трасса с самолета сечет землю. Ближе, ближе… Брызжет земля у i самых ног… «Товарищ младший лейтенант, сюда!» Кто-то хватает его за руку, стаскивает вниз, на самое дно канавы, наваливается сверху, больно сдавливает грудь, не дает дышать… Юзиков начинает задыхаться от запаха чужого пота и горелой материи.
Затем сон кончается. Ефим Гордеевич открывает глаза и видит над собой знакомый до последнего сучка щелястый потолок, лампочку под потолком, пожелтевшие фотографии в рамках на стене, слышит, как торопливо отсчитывают секунды деревянные ходики и поет за печкой, наверное, такой же древний сверчок.
2
Еще не взошло солнце, а вся деревня уже знала, что Ефиму Юзикову прислали значок и приглашение на встречу с товарищами — ветеранами войны.
В этот день Юзиков не работал. Он принимал гостей.
Первым появился Алексей Сутохин. Бросив велосипед у плетня, пригладил ладонью остатки огненно-рыжих кудрей на висках, шагнул в дом.
— Здорово ночевали, хозяева!
Перед войной в Антонове было шестьдесят парней призывного возраста. Человек тридцать ушло в сорок первом, остальные в сорок втором, сорок третьем. Вернулся один Алексей. С тех пор незамужние антоновские бабы рожали детей только одной масти: рыжих, кудрявых и голубоглазых.
— Здорово, Гордеич! Ну как почта работает?
— Зря беспокоился, — сказал, пожимая ему руку, Ефим, — полежало бы и до утра, ничего бы не сделалось.
— Не скажи! — блеснул золотым зубом Алексей. — А вдруг бы в эту самую ночь моя почта сгорела?
— Типун тебе на язык! — замахала руками Капитолина Егоровна. — Лысый ведь, а все, как и раньше, не дело мелешь!
Следом за Сутохиным пожаловал сосед Матвей Калабанов. У этого — особый нюх на угощение. Покуривая самосад, сидел на корточках у порога, ждал, когда все сядут за стол.
За Калабановым пришли Володька Воротов, Степан Лапшин и Еремей Лапшин. Больше мужиков в Антонове не было. Самому молодому — Алешке — сорок три, самому старшему — Еремею — восемьдесят два. Есть, правда, еще председатель колхоза Мартынов, но о нем разговор особый.
Каждого входящего Ефим Гордеевич приветствовал по достоинству. Матвею только кивнул. Знал, что явится. С утра у кухонного окна торчал… На Воротова даже не взглянул. Пустой мужичонко! Всю жизнь от настоящей колхозной работы бегает. То почтарем был, то писарем в сельсовете, а в шестидесятых и вовсе из деревни подался. В Пречистом при магазине шестерил. Года два, как вернулся. Приехал, два окна в доме открыл, а два так и стоят заколоченными. Не человек, а отсевок какой-то: попадет на удобренную кем-то другим землю — даст махонький росточек, попадет на бесплодную, ни за что держаться не станет — улетит.
Когда вошли Лапшины, Ефим Гордеевич поднялся из-за стола. У старого полный бант Георгиевских крестов. У его сына — медаль «За доблестный труд». Когда-то это была первая семья в деревне. Пятеро сыновей вырастил Еремей. Один Одного лучше. Трое трактористами стали, двое — агрономами. В сорок первом старшие ушли на фронт. Младшего, Степана, не взяли. Был он слегка горбат.
И вот теперь остался один Степан. От старших — память: фотография с надписью: «Танковый экипаж братьев Лапшиных».
Степан сейчас — лучший агроном в районе. О нем даже в газетах писали. Старик тоже сдаваться не хочет: сторожем работает на ферме. Жаль только, ему, как и Ефиму, не пришлось понянчить внуков!
У Капитолины Егоровны о каждом госте свое мнение имеется. Для нее Володька Воротов — не Володька, а Владимир Венедиктович. Золотые руки у человека! Шиферу ли достать на крышу, кирпича на ремонт фундамента, стекла для парников — это только он один может. И пьет не так чтобы сильно. Пьянеет быстро… Другое дело — старый бес — Лапшин! Девятый десяток разменял, а пьет что твой унтер! Когда он приходит, Капитолина Егоровна спешит убрать «Столичную» с глаз долой, выставляет что попроще. Матвея Калабанова она, как и Ефим, не любит. Нахален, нечист на руку. Намедни из колхозного амбара мешок овса утащил. Хорошо, бригадир, Анна Евлампиевна, встретила случайно, отобрала! По делу-то его надо бы судить, да вот беда: шорник он! Один на весь колхоз шорник. Засудят — некому будет сбрую ремонтировать.
После третьей чарки у мужиков развязались языки. О колхозных делах судили, будто они — министры сельского хозяйства, о политике — и того круче. Председателю Мартынову досталось больше всех. Заносчив, горд не в меру, требует, чтобы его по имени-отечеству величали, а как это сделать, если все помнили его, когда он под стол пешком ходил, звали Павлушкой, Пашкой и к тому привыкли? Делов-то, что в институте учился! Все учатся! Степан Лапшин тот же институт окончил, а чтоб перед своими нос задирал — этого в нем нет. Да и ни при чем тут образование. Юзикова всю жизнь Ефимом Гордеевичем кличут, хоть нет у него и среднего…
Первым полез к нему целоваться Володька Воротов. «Ты меня уважаешь?» Юзиков — человек прямой, и будь Володька трезв, высказал бы ему все. А с пьяным какие могут быть разговоры? Кивнул Юзиков головой, только чтоб отвязаться, а Володьке и этого довольно. «Очень я тебя, Гордеич, люблю! За тобой в огонь и в воду! Хоть ты и не бригадир сейчас, а для меня все равно что бригадир. Вон они, дела твои: молочная ферма, силосные башни, зернохранилище, телятники, ток с молотилкой, баня, прачечная! А что было в Антонове после сорок пятого? В пяти домах только и горел свет, остальные заколоченными стояли! Я, шедши сюда, нарочно подсчитал: семнадцать новых срубов стоят! Это ж понимать надо!» Дипломат, сукин сын! Капитолину Егоровну аж слезой прошибло. Матвей Калабанов по-медвежьи сгреб Юзикова в охапку и замычал. Долго бы еще мычал, да поднялся Еремей Лапшин, бороду пригладил.
— Желаю слово сказать! Перед вами сидит не просто человек — Ефим Гордеевич Юзиков, а первый наш председатель, зачинатель колхоза, вечный труженик. В колхозной работе, как и на фронте, не отступал, не пятился и в кусты, как некоторые, не прятался. Вот ты, Володька, дела его хвалил… А чем ты сам помог ему, когда он все это зачинал? Когда на своем горбу с костылем под мышкой бревна для этой самой фермы таскал? Когда с одной-то ногой на верхи забирался стропила ставить? А ведь и он мог бы, как другие, в город удрать! Мог бы! Кому-кому, а ему — фронтовику, все дороги были открыты! Так не ушел же, остался! За палочки в книжке работал! Это сейчас в колхозе просто: что заработал, то и получай, а ведь такое не всегда было! Вот такими, как он, наша русская земля и держится! Теперь ты, Калабанов… Тоже целоваться лезешь, а когда Юзиков за травополье с бригадиров сымали, первый руку тянул! Запамятовал? А народ помнит. И какие ты речи при этом говорил — тоже помнит! Говорил ты, что бригадир строг без меры, за невыход на работу взыскивает с тебя, бедного. Умолчал только, за что он тебя этак-то… Привык ты, Матвей, все к себе грести, а ведь иной раз приходится и от себя… Ну да ладно, чего старое ворошить в такой день! Авось и ты когда-нибудь за ум возьмешься!
— Черного кобеля не отмоешь добела! — сказала Капитолина Егоровна, сердито поглядывая на Матвея. На прошлой неделе у нее со двора пропало аршин пять льняного холста…
Матвей сидел, низко опустив голову, делая вид, будто сильно захмелел, но слушал до того внимательно, что большие волосатые уши его шевелились.
Сутохин, который вообще не любил серьезных речей, скучал и потихоньку выпрашивал у Егоровны Гришкин баян. Как пропал Гришка, положила она музыку в сундук на самое дно и двадцать шесть лет не тревожила, а тут — на-ко! Дай-подай! Добро бы еще свадьба чья или крестины, а то ведь и праздника-то нет! Собрались мужики так, по ее разумению, об деле потолковать, все сидят чинно, благородно, и только у одного Алешки на уме шум да пляски!
Посидев еще немного в кухне на сундуке, она успокоилась и возвратилась в комнату. И ахнула. Говорил Степан Лапшин! Да как говорил! Прежде от него и слова не вытянешь, а сейчас хоть в книгу записывай!
— Когда Ефим Гордеевич с фронта вернулся, мы думали: «Вот человек, который отдал войне все, что имел, и себе ничего не оставил! Ходил по деревне на костылях, молчал да самокрутки крутил. А еще бывало, выйдет в поле, упадет на землю и лежит… Вот тетя Капа не даст соврать. Сама его домой приводила. Потом меня учиться послали. Через пять лет приезжаю — что за диво? Ефим Гордеевич по полям на мотоцикле носится! Бригадир! Не успел я оглянуться, он и меня в свой хомут впряг. И отдохнуть после института не дал. „Построим, говорит, коммунизм, тогда и отдохнешь…“».
— Его еще «трехжильным» звали, — вставил Бремен. Степан повернулся к нему.
— Это те звали, батя, кто его на своем горбу полумертвого домой не притаскивал! Я-то знаю. Да вот еще тетя Капа…
Капитолина Егоровна всхлипнула и утерлась занавеской. В руке Ефима хрустнул стакан.
— Хватит, Степа! Молчал-молчал, да и наговорил с три короба! Поаккуратней надо бы…
Алешка наконец выпросил баян. Капитолина Егоровна всхлипнула последний раз, отперла сундук, вытащила баян. Алешка, сыграв сперва для приличия что-то грустное, потом рванул плясовую, да так, что к дому Юзиковых стали собираться со всей деревни бабы и ребятишки. Даже бригадир, Анна Евлампиевна, не утерпела: шла мимо с вечерней дойки, остановилась, постояла сначала под окном, потом в избу вошла. Увидев ее, Матвей сорвался с места, хлопнул шапкой оземь, выбил сапожищами частую молодецкую дробь, приглашая ее в круг. Аннушка было взглянула на него строго: как-никак провинился перед ней мужик, но поняла, что сейчас Матвея ругать — все равно что пятак медный тереть, и махнула рукой. Капитолина Егоровна у нее подойничек приняла из рук, гостью за стол проводила, усадила, а уж водочкой ее попотчевать мужички не забыли…
Раскраснелась Аннушка после первой рюмки, помолодела, похорошела. Кабы не седая прядка надо лбом — и тридцати бы ей не дал! А ведь она только на четыре годочка моложе Гришки!.. Капитолина Егоровна ее ой как давно заприметила! Аннушке лет тринадцать было, когда Егоровна впервые об ней и о Гришке вместе подумала.
Между тем освободили место для танцев и все стали смотреть на бригадиршу, Аннушка зарделась, начала отказываться, но Володька Воротов подхватил ее со скамьи и на руках вынес на середину избы. Алешка рванул кадриль. Воротов, уперев одну руку в бок, другой крепко обнял Аннушку поперек груди, закружил по избе.
Из сеней, подталкивая друг друга, поперли бабы. Каждой хотелось поглядеть, как пляшет бригадирша.
3
К ночи Ефиму Гордеевичу сделалось худо. Капитолина Егоровна хлопотала возле него, ворчливо выговаривала:
— Потому и болеешь, что все не как у людей! Ведь хорошо сперва-то сидели! Тихо, спокойно! И надо же было этому Алешке баян выпросить!
— Ладно, мать, — сказал Ефим Гордеевич, — ты уж меня не вини! Не каждый день такой праздник бывает. Подумай: со всей страны слетятся ребята! Это ж понимать надо!
Однако поездка эта и радовала, и беспокоила. Сердце? Оно пройдет. Бывало такое и раньше… Другое дело— дорога дальняя. Киев — не деревня, жизнь там, наверное, дорогая. Пожалуй, меньше чем полетами и не обойдешься. Но ведь и то важно, что о Юзикове вспомнили! Юзикова ждут! А могли бы и не вспомнить. Теперь ему об этом и подумать страшно. Юзиков ведь не просто свидеться хочет с товарищами. Ему одно щекотливое дельце выяснить надо. Припомнить кое-что. В одиночку эти вопросы, сколько ни бейся, не решишь, разве что опять бессонницу заработаешь. Собраться бы всем вместе и припомнить…
Он беспокойно заворочался на своей перине и постарался отогнать нехорошие мысли прочь. Те самые мысли, что нет-нет да и начинали мучить его. Чаще всего они приходили во время болезни. В последние годы он стал часто прихварывать. Простудился как-то на торфяном болоте и полторы недели провалялся в больнице с воспалением легких. А и был-то всего-навсего сентябрь. В войну разве гак приходилось?! И в ледяной воде плавал, и на снегу спал, и в замерзшем болоте сутками сидел — и все ничего. Даже не чихнул ни разу. А тут ноги промочил и — готово! Обидно, хоть и понятно: дело-то не к петрову, а к покрову…
Ребятам легче. О старости, поди, еще и не думают. Бузин постарше всех, а ведь ему тогда и тридцати двух не было. Костя Лапшин его на три года моложе. Этому теперь, значит, за пятьдесят. Молодые еще. Вся жизнь впереди!
Капитолина Егоровна, заметив, что он перестал ворочаться, потушила свет и ушла на кухню. Ефим давно уж никуда не уезжал надолго, и поэтому собрать его в дорогу представлялось ей сейчас делом далеко не легким.
Через час-полтора Ефим Гордеевич и в самом деле начал засыпать. Однако сон, который он видел в прошлую ночь, словно бы перешел вместе с ним в другие сутки и снова начал тревожить его и без того воспаленное воображение. Юзиков делал над собой усилия, просыпался, но видения прошлого оставались, и в конце концов он начал путать, где сон, а где давняя явь…
Начинались эти сны-воспоминания, как и накануне, с пыльной дороги, у которой, в отличие от вчерашней, появился конец: разрушенный мост через реку Великую. Видится Юзикову, будто посмотрел он на карту и определил, что полк находится на расстоянии одного пешего перехода от города Остров. Обычно пехотные полки такие преграды форсируют с ходу. Сейчас полк такой маневр совершить не мог: позади стрелковых батальонов на многие километры растянулись обозы. За долгий путь с запада на восток войсковая часть обросла беженцами, полевыми лазаретами, штабами каких-то, давно не существующих частей и соединений, громоздким хозяйством районных больниц и исполкомов, гуртами овец и стадами коров. Всех приютил, взял под свою защиту сто шестьдесят четвертый стрелковый. Оторваться от всей этой орды даже ради военного маневра было невозможно: когда полк ускорял движение, дядьки-возницы и старухи тоже принимались нахлестывать своих лошадей; когда полк делал привал, беженцы располагались широким полукругом поодаль, жгли костры, ходили к солдатам за табачком, сами делились последним… Все одинаково страдали от налетов вражеской авиации, вместе хоронили погибших, оружие которых иногда переходило в руки стариков и подростков.
До реки Великой полк почти сорок километров прошел без отдыха. Разведка докладывала, что немцы обходят справа и слева, и все спешили уйти от них подальше. Когда впереди блеснула спокойная гладь реки, все живое почувствовало сильнейшую жажду и усталость. Забыв об осторожности, люди растянулись вдоль берега, поили скот, пили сами, даже купались. Вместе с толпой военных и штатских Юзиков спустился к воде и долго пил ее, уже по-осеннему холодную, отдающую тиной и рыбой. Над рекой далеко разносились людские голоса, ржанье лошадей, стук топоров: саперы чинили разрушенный мост.
…Первых выстрелов Юзиков не слышал. Понял все, увидев, как засуетились, заметались люди, как устремились куда-то в сторону от реки бойцы с винтовками наперевес. Когда он подбежал и лег в цепь, немцев уже не было видно и только неподвижно лежавшие тела да стоны раненых говорили о том, что враг снова идет по пятам.
Поглядывая по временам в сторону моста, Юзиков видел командира полка. Верхом на белом коне, в длинной черной бурке и папахе, Овсянин слишком явно напоминал ему легендарного комбрига гражданской войны. Своего командира младший лейтенант Юзиков уважал и без этого. Овсянин нравился ему своей решительностью, и даже крутой нрав его Юзиков принимал как должное: в такое время одной личной храбростью дисциплины не удержишь, нужна еще и железная рука…
Чего, пожалуй, не хватало Овсянину, так это осторожности. Одно дело — рисковать только своей жизнью. Пожалуй, гарцуй на белом коне! И совсем другое — когда людей подвергаешь опасности.
Полежал Юзиков еще немного в цепи, подумал и пошел прямо к Овсянину. Так и так, товарищ подполковник: раз появились мотоциклисты, значит, надо ждать танков и пехоту.
— Что ты предлагаешь? — спрашивает Овсянин.
— Переправиться на тот берег на подручных средствах, мост сжечь.
— Для чего? Мост уже заканчивают!
— Не успеют, товарищ подполковник!
Овсянин посмотрел на Юзикова, потом на равнину позади него, прищурился.
— Давно служишь?
— С первого дня войны, товарищ подполковник.
— Ясно! Ступайте на свое место, младший лейтенант. Здесь есть кому решать, а ваше дело — выполнять беспрекословно!
— Есть идти на свое место! — ответил Юзиков.
Не сказал он подполковнику, что еще перед войной окончил полковую школу и, если бы не потянула обратно земля, остался бы в кадрах и был бы сейчас не младшим лейтенантом, а кем-нибудь повыше… Ничего этого не сообщил Юзиков Овсянину.
Он еще не добежал до «своего места» в цепи, как рядом с мостом разорвался первый снаряд. Вспомнил ли в эту минуту командир полка своего разведчика? Если и вспомнил, то поздно: к мосту понеслись подводы беженцев, бабы, ребятишки, и остановить их не было никакой возможности. Стояли возле моста упряжки с орудиями и снарядами, молча провожали бегущую орущую толпу. И Овсянин стоял тут же. Крутой его нрав и железная рука оказались бессильны против баб и ребятишек.
Дальше Юзиков смотреть не стал. И так все ясно: если через десять минут артиллерия не будет на том берегу, первыми от немецких снарядов погибнут беженцы, потом немцы прижмут полк к реке и тогда уж никому из бойцов не спастись.
Как удалось Овсянину выйти из такого положения, Юзиков так и не понял. Увидел только, как по мосту понеслись артиллерийские упряжки, запрыгали на бревнах повозки с минометами. Далее, вперемежку с беженцами, потянулись полковые тылы, обозы, раненые. Много их еще, на этом берегу, но уже хорошо то, что пушки — на том. Теперь хоть переправа будет прикрыта. Прав оказался комполка!
Вскоре начали переправляться стрелковые роты. Оборона вокруг моста поредела. А немцы начали бить прямой наводкой по уходящим.
Тут Юзикова вызвал Овсянин.
— Бери свою роту, взвод бронебойщиков и занимай с ними вон ту высотку! Покуда последний солдат не переправится— стой! Стой, пока я не дам приказ отходить!
От разведроты у Юзикова к тому моменту оставалось, вместе с бронебойщиками, пятьдесят два человека. Поглядел Юзиков в глаза каждому, ни один не моргнул, не отвел взгляда.
— Ну, ребята, — сказал Юзиков, — либо грудь в крестах, либо голова в кустах! За мной!
Первый танк подбил Костя Лапин. В это время с правого берега ударила полковая артиллерия, повеселели ребята. Еще два танка подбил Игнат Бузин со своим вторым номером. Они выдвинулись далеко вперед, и вначале немцы их не заметили. Но вот видит Юзиков, как к оврагу, где залегли его пэтээрщики, помчались сразу два танка. Третий спустился к реке и стал обходить позиции бронебойщиков сзади.
Тут-то и замолчала артиллерия. Удивился Юзиков. Огня надо, огня! Что они там, с ума посходили?! Только от его ругани пользы мало. Схватил Юзиков гранаты и прямо через поле побежал наперерез танкам. Но и Бузин свое дело знает. Ох как знает! О нем еще раньше слыхал Юзиков, будто нет в дивизии лучшего бронебойщика…
Задымил ближайший к Юзикову танк. Ефим Гордеевич проскочил мимо и уже позади себя услышал, как его бойцы ударили по танкистам из автоматов. Свою гранату Юзиков уложил как на учении: точно под гусеницу. Завертелся фашист на месте, полоснул из пулемета и срезал бежавшего за своим командиром Кольку Стороженко.
— Ах ты, сволочь! — крикнул Юзиков и метнул вторую гранату. Был Стороженко любимцем всей роты. Лихой разведчик, гармонист, весельчак. Никто не верил, что его могут убить, а пуще всего — он сам.
— Меня, — говорит, — маманя от пули еще при рождении заговорила!
Вот те и заговорила! Скатился Ефим к Бузину в овражек.
— Кольку убили! И какого дьявола там артиллеристы?!
Игнат, злой как черт, глаза выкатил, будто командир во всем виноват, орет:
— Не видишь, отходят! Струсили, паскуды!
Глянул Юзиков и глазам своим не верит: на правом берегу упряжки разворачиваются и на рысях уходят прочь…
— Чего это они?
— Не знаю! — орет Игнат. — У меня второго номера убило, давай замену!
— Нет замены, Игнат. Давай я покуда помогу…
Выждав момент, выскочили из овражка, петляя, понеслись к берегу. Отсюда лучше обзор и Юзикову все поле видать. А на мосту и возле него еще много народу. Пожалуй, не успеют перейти. Выручать надо. Поднялся Юзиков во весь рост. «Гранаты к бою!» У самого моста бьются врукопашную. Повел Юзиков своих на выручку.
Вся левая сторона оказалась незащищенной. Теперь все дело в быстроте. Коротким ударом отбросили немцев, залегли в кювете подле моста, сдерживая новые атаки, выжидали. Наконец проскочили последние подводы, отстреливаясь, пробежали отставшие бойцы. Пора бы вроде и о Юзикове вспомнить! Овсянин обещал лично отдать приказ об отходе его роты. Для этого Юзиков к нему и связного послал — первогодка Василя Галузю.
Ефим Гордеевич снял фуражку, вытер лицо, оглянулся на правый берег. Там полк непременно должен занять оборону. Лучшего места придумать трудно. Берег высокий, обрывистый, с него левый виден километров на двадцать. Если стрелковые роты расположить умело, артиллерию оттянуть к лесочку, а минометы выставить в низине, то даже их сильно потрепанный полк смог бы здесь продержаться несколько суток, пока подойдет подкрепление. Еще тогда, когда подходили к Великой, заметил Юзиков по сторонам дороги обширное болото. Конца ему не было видно. По некоторым признакам определил, что по нему не только машинам — солдатам и то, пожалуй, не пройти. Значит, ударов с флангов можно не опасаться. И непонятно Ефиму, почему молчит правый берег. Бойцы тоже головы приподнимают, оглядываются. Чтоб развеселить их, Ефим шутки ради крикнул: «Тому, кто первым увидит Галузю, дарю горсть табаку из своего кисета!» Да только что-то никто не засмеялся.
Когда снова появились танки, на мосту уже никого не было. Юзиков на глаз прикинул расстояние до передней машины. Если сейчас скомандовать отход, можно успеть проскочить. Вот-вот на том берегу взовьется зеленая ракета! Бойцы без команды начали понемногу оставлять свои места, подтягиваться ближе к мосту. Вот сейчас! Еще секунда!
Юзиков с беспокойством оглянулся. Расстояние между ним и танками стремительно сокращалось. Их было не меньше двадцати. За танками бежала пехота.
Спиной, затылком Юзиков чувствовал на себе пристальные взгляды бойцов. Ему приходилось делать неимоверные усилия, чтобы казаться спокойным, делать вид, будто ничего не случилось…
Тогда ни Лапин, ни Данилов, ни даже всегда такой нетерпеливый Савушкин не проронили ни слова. Но они смотрели на своего командира так, словно видели его впервые!
Через много лег Юзиков все еще видел этот взгляд… Кто знает, что думал в эти секунды каждый из них? А он, если и был неправ, то не по своей вине.
Приказал отходить, когда надежды добраться до правого берега почти не оставалось.
Юзиков отлично помнит, с какой детской радостью кинулись в воду солдаты. Все до одного! И как потом, заметив оставшегося на берегу младшего лейтенанта, вернулись четверо: сержант Лапин, сержант Данилов, рядовой Савушкин и бронебойщик Игнат Бузин… Под пулеметным огнем они минировали мост и бросились в воду только тогда, когда головной танк взлетел на воздух вместе с горящими остатками переправы.
И хотя помнит Юзиков, как было на самом деле, во сне все представляется ему иначе. Будто на самой середине реки он начал тонуть и, сколько ни бился, не мог больше двинуть ни рукой, ни ногой. Так и проснулся в холодном поту. От сна такого, а еще больше от воспоминаний нехорошо стало на душе у Ефима Гордеевича.
Теперь он больше не сомневался: что бы ни случилось, а ехать надо. Нужна еще людям нестареющая солдатская память Ефима Юзикова и его товарищей!
4
Вот и второй раз побывал старый солдат в Москве. Первый раз — в сорок первом. Тогда он только станцию видел, сортировочную. С эшелонов никого в город не пускали, никто не знал, когда и куда пойдет состав и где придется воевать их дивизии.
Проснулись, помнится, ночью. Из теплушек ни зги не видно, только вдали из заводских труб вылетают искры и бесшумно шарят по небу прожектора.
О том, как с Казанского вокзала попасть на Киевский, ему еще в вагоне объяснила проводница, а потом и попутчики стали попадаться. Первого он приметил еще в метро. Мужчина лет пятидесяти в синем пальто, кепочке. Подошел, спрашивает:
— Случайно не в Киев?
— Случайно в Киев. А ты почем знаешь?
Мужчина свое пальто расстегнул, показал такой же, как у Юзикова, значок.
— Ну, здорово!
— Здорово! Ты какой дивизии?
— Семнадцатой.
— А я — сто двадцатой. Петухов моя фамилия. Андрей Петухов, минометчик. Бывший. Сейчас в Саратове на хлебозаводе работаю.
Юзиков, насколько мог, подробно рассказал о себе и о ребятах своих, с которыми ему надо увидеться. Петухов слушал внимательно, запоминал. Вдруг придется знакомиться, так чтобы знать, с кем имеешь дело. На вокзале в буфете выпили по кружке пива. За встречу. Юзиков мог бы чего-нибудь и покрепче, да Петухов отказался.
— Остерегаюсь. Сердце пошаливает. Иной раз ночью просыпаюсь от того, что оно вроде как бы останавливается… Такие дела! А мне до пенсии еще десять лет.
— Привет однополчанам!
К их столу, бесцеремонно расталкивая посетителей, протиснулся невысокого роста белозубый и белобровый человек. — Я вас еще раньше заприметил. Слышал у кассы, что вы на Киев билеты компостировали… Давайте знакомиться! Никишин Григорий Иванович. Разведрота триста второго полка восемьдесят первой стрелковой дивизии.
Поместиться им позволили в одном купе. За такую доброту все трое сложились и купили проводнице коробку шоколадных конфет.
Легли спать далеко за полночь. Когда Никишин уснул, по-детски сжавшись в комок, притянув колени к подбородку, Юзиков долго смотрел на него. Сколько ему было тогда, в сорок третьем? Семнадцать? А может, и меньше. Говорит, из оккупированной зоны. Такие обычно добровольцами шли, а годы сами себе выдумывали.
Если сбоку посмотреть, немного на Костю Лапина смахивает…
Юзиков лег на спину, закинул руки за голову. Кто же все-таки вспомнил о нем? До сих пор не вспоминали. Чудно! Вспоминают, а не пишут! Хотя… Вон у Марьи Власовой, что за прудом живет, сын после армии на завод устроился… Лет пять прошло, а он в деревню — ни одного письма. Так ведь не женатый еще! А у тех, поди, ребятишки! О детишках, помнится, особенно Иван мечтал. Только и разговору… Хотел, женившись, народить сразу не то пятерых, не то семерых, только чтоб нечет был… Мальчишки! Как это у них все просто!..
Он понял, что не уснет. Осторожно, чтобы не разбудить товарищей, встал, оделся и вышел покурить. Но и тут мысли о предстоящей встрече не оставляли его. Надо же так! Ведь живут с ним рядом в одной деревне Алешка Сутохин, Еремей и Степан Лапшины, Аннушка, другие хорошие люди, живут много лет, а так и не прикипело сердце ни к одному из них. Другое дело — те… Говорят, день на передовой равен пяти годам мирной жизни. Очень возможно. Перед лицом Костлявой все равны, а ведут себя по-разному. Иной об одном себе думает. Такому поверить — все равно что третьему от одной спички прикурить на глазах у снайпера. До войны Ефим в людях разбирался плохо: верил всякому.
Есть такая рыбешка — плотва. Ее, что на муху, что на червяка, что на хлеб — в любое время поймать можно. Так и Ефим раньше: человек, что называется, отпетый, а Юзиков и ему верил. Честное слово с него брал! После войны — не то. После войны Ефим глянет в глаза и сразу представляет себе, каков этот человек есть на самом деле. И никакие поллитры тому не помогут. Не клюнет на них Юзиков!
Кто-то сказал, что первую половину пути человек думает больше о том, что оставил, а всю вторую половину— о том, что его ждет впереди. У Юзикова все наоборот. Перемешались в его голове Киев и Антоново, скачут друг перед другом. Интересно все-таки, где теперь больше — впереди или позади?
Он оглянулся. Коридор был пуст, как казарма перед прибытием начальства. Ефим Гордеевич прижался лбом к холодному стеклу. Навстречу поезду неслось утро. Промелькнули тусклые огоньки какого-то разъезда. Юзиков вгляделся в высокую насыпь напротив. Едва различимая в мутном рассвете, землю окутывала сероватая пелена. Опять иней! Что-то будет нынче с урожаем! Председателю не позавидуешь. Да и бригадирам — тоже. Аннушка, поди, сна лишилась. Беспокойная она… Юзиков тоже был беспокойный. Хорошо это или плохо— кто знает, а только и сейчас иной раз становится жалко ему прежней должности. Не почему-нибудь… Юзиков от своего бригадирства ничего, кроме хлопот, не имел. Жаль, что силы уходят, и не только ему, а и всем это видно. Плохо, что бог не дал ему такого характера, как у Алешки Сутохина. Был бы такой характер — легче б, наверное, жилось. Ведь что получается: и не бригадир он сейчас, а все равно во все суется, до всего ему дело. То ли больше замечать стал с годами, то ли по пословице: «В чужом глазу и соломинка — с полено». Хотя при чем тут пословица? То, что овощехранилище не на месте строят, это и дураку видать. На гнилом месте строят. Вёснами вода вплотную подступает и уходит не скоро. Ох, много ошибок делает новый председатель! А советов слышать не желает. «Сам разберусь!» Разбирайся, председатель, только ведь это — не Завод, а ты — не слесарь. Там деталь запорол, выбросил под верстак, чтобы мастер не заметил, и — валяй, точи другую! Здесь свой брачок под верстак не кинешь. Он у всех на глазах взойдет и опозорит тебя лучше любой стенгазеты. Вот как ты, например, выкрутишься с яровой пшеничкой? Не у места ведь ее посеял! Взойти — взойдет, а урожая настоящего не жди! Надо было на Ведринском поле сеять и не за речкой, а ближе к лесу. Весна нынче холодная, ветра злые и дождя много. Глядишь, в том месте лесок-то пшеничку и прикрыл бы. И землица посуше, попесчаней. Опять же огородами пора заняться. Земли вокруг болота много, зачем ей пустовать? Юзиков давно хотел там парники построить, да все руки не доходили. Строил по плану: сначала клуб на четыреста мест, потом избу-читальню, потом показательную ферму с молокопроводом… Теперь все это есть. Самое время парниками заняться.
Еще мечтал Юзиков Леонтьевские пруды зеркальным карпом заселить. Старый председатель был с этим согласен, а новый приказал туда отходы с маслобойни спускать! Эх, Мартынов, Мартынов! Не лежит твоя душа к колхозному делу! Земле ведь только тот нужен, кто сам к ней тянется, кто любит ее, родимую! Конечно, не легко сейчас таких по городам собирать, а надо бы… Помнится, на фронте встретил Юзиков мужика, который носил на шее завернутую в тряпицу землю… Этак со щепоть. На фронте и то не хотел с ней расставаться!
Кто знает, может, он не один такой-то. Может, стоит сейчас на каком-то заводе слесарь, точит болванку, а на шее — ладанка со щепотью родимой земли! В трудное время заслабило, подался в город, а сейчас как будто и не прочь вернуться, да пуповина отрезана: в деревне своего хозяйства нет и людей совестно. Найти бы такого, потолковать по душам: так, мол, и так, дорогой товарищ, того, что было, не повторится, и никто тебя не осудит за твое бегство… Ну, конечно, помочь на первых порах встать на ноги. Дальше-то он сам пойдет. Такого в спину толкать не надо, но и поперек дороги становиться не стоит. Такому простор нужен. Юзиков все это по себе знает. Как вернулся с войны, так на землю, словно голодный на хлеб, набросился. И то хотел сделать, и это. Многое, конечно, успел, но еще больше не пришлось. Ту бы ему силушку, что до войны в нем была!
Ефим Гордеевич не заметил, что давно уже разговаривает вслух. Опомнился, когда проводница, проходя мимо, спросила:
— Что вы сказали? Не поняла.
— Киев… Киев скоро ли? — пробормотал смущенный Юзиков.
— В шесть ноль-ноль прибываем.
Значит, теперь скоро. Он прошел в купе и остаток ночи провел в ногах крепко спавшего Никишина.
5
В гостинице Юзиков первым делом справился, в каких номерах проживают Константин Лапин, Иван Якимов, Сергей Савушкин, Иван Данилов и Григорий Трофимов.
— Вам всех сразу или можно по одному? — деловито осведомилась регистраторша.
— Можно по одному, — ответил Юзиков.
Оказалось, что Лапин остановился в номере семьсот сорок девятом. Сначала Юзиков хотел забежать к себе, умыться, переодеться с дороги, но потом махнул рукой и, как был с чемоданом, поднялся на пятый этаж.
Еще внизу, стоя у окошечка дежурной, он приготовил сердитые слова, которые скажет каждому из этих шалопаев. Прежде всего скажет, что разочаровался в них, что на фронте был о них лучшего мнения и что вообще со старыми друзьями так не поступают… Но у самой двери 749-го передумал. Пожалуй, так будет слишком… Еще неизвестно, почему они молчали. Лучше так: войдет и скажет «здравствуйте» и будет ждать, что скажут они и как станут себя вести. В конце концов и у него своя гордость имеется…
Дрогнувшими пальцами Юзиков поправил ворот рубашки, одернул пиджак, застегнул его на все пуговицы и только тогда позвонил.
Дверь открыл пожилой, почти квадратный человек с головой, похожей на хорошо вымытое гусиное яйцо. С минуту или больше оба молча смотрели друг на друга. Потом человек сказал:
— Что-то не узнаю. Может, Золотайко из второй палаты?
— Мне нужен Лапин, — сказал Юзиков, — Костя Лапин. Он здесь живет.
— Лапин — это я, — сказал мужчина, — только почему Костя? Меня Григорием зовут. Григорием Степановичем.
— Извините, — сказал Юзиков, — должно быть, в регистратуре чего-то напутали…
— Ничего, — сказал мужчина, — нынче все друг друга ищут. Да ты заходи, чего стоишь? Посиди, отдохни, до завтра успеешь найти своего Костю. Чемоданчик-то поставь, нечего его держать. Так, значит, моего тезку разыскиваешь? А в какой части служил?
— В семнадцатой дивизии, сто шестьдесят четвертом полку.
— Что ты говоришь? У меня ведь там приятель был! Ну, не то чтобы приятель, а хороший знакомый, командир полка Овсянин. Он у меня в госпитале лежал. Ты-то его помнишь?
— Как не помнить! — сказал Юзиков, и брови его грозно нахмурились. Лапин не заметил, обрадованно хлопнул Ефима Григорьевича по плечу.
— Вот видишь, и нашли общего знакомого! За это стоит выпить!
Юзиков остановил его движением руки.
— Обожди. Овсянин — не тот человек, чтобы об нем вот эдак… радоваться, что ли…
Он виновато поднял глаза на Григория Степановича.
— Ты уж извини, тебе Овсянин, может, и друг, а мне нет.
Лапин покраснел.
— Видишь ли, на гражданке все субординации…
— Не в этом дело. Виновным его считаю в одном… — он запнулся, подыскивая нужное слово, — в одной неприятной истории. В напрасной и глупой трате людей, а может, и в преступлении.
Лапин растерянно потер подбородок, прошелся по комнате.
— Может, это другой Овсянин? Тот — Яков Юрьевич.
— Он!
— Высокий такой, с большим носом…
— Да он, чего там!..
— Странно, — Григорий Степанович закурил. — У меня о нем сложилось впечатление, как об очень умном и волевом человеке.
В молчании он несколько раз прошелся по комнате, часто и сильно затягиваясь папиросой.
— Если не секрет, что же все-таки произошло?
Юзиков пожал плечами.
— Сам толком не знаю, а врать не хочу. Вот выясню до конца, тогда уж…
— Но у тебя есть основания не верить своему бывшему командиру полка?
— Есть!
— А свидетели этого его… проступка имеются?
— Имеются.
Лапин буравил его маленькими сердитыми глазками. Коротко приказал:
— Рассказывай!
Юзиков понимал, что Лапин имеет право не доверять ему, хотя и считал, что Григорий Семенович не мог узнать Овсянина настолько, чтобы стоять за него горой. Скорее всего, Лапину просто не хочется слышать плохое о человеке, с которым сдружился в тяжелое время.
Путаясь в излишних подробностях, Юзиков, как мог, рассказал все, начиная от той самой пыльной дороги, которая снилась ему по ночам, и жестокого боя у моста. Труднее всего достался конец, поскольку именно здесь для него начиналось самое непонятное, и Юзиков уже не раз пожалел, что начал этот разговор.
— Когда мы переплыли Великую, на том берегу нашего полка не было. И дальше… тоже никого не оказалось.
— Совсем никого? — удивился Лапин. — Были же наверное убитые, раненые?
Юзиков упрямо помотал головой.
— Раненых не было, а убитых… Убитый был один. Мой связной Василь Галузя, которого мы так ждали. Костя Лапин его в кустах обнаружил. Подходит ко мне и этак тихо говорит: «Давай, командир, обещанную махру. Первым связного увидел я». Смотрю, в самом деле наш Галузя. Должно быть, шальной пулей. Только вот к кому шел Галузя, когда его смерть подобрала, — от нас к Овсянину или от него — к нам? Трое суток блуждали мы по правому берегу, потом у одной деревни — забыл как она называется — напоролись на немцев. Мотоциклисты и пехота на автомашинах. Я кричу: «Всем за мной!» И — в овраг, а оттуда — к лесу. Немного не успели. У самой опушки выскочили наперерез мотоциклисты. У них пулеметы, у нас винтовки. Кричу: «Бросай гранаты!» Кое-как отбились. Костю ранило, еще двоих убило. Осталось нас четырнадцать. Отсиделись в болоте, покуда стемнело, и пошли искать выход. На какую дорогу ни сунемся — всюду немцы. На этот раз мы долго бродили. С неделю, должно быть. Потом понял я: они на всех тропинках, что из болота ведут, охрану выставили. Вроде как обложили нас. А ребята мои, между прочим, от голода шатаются, почернели. Питались-то грибами да ягодами. Решил я прорваться. В одном месте нашел слабинку… Там у них в пикете полицейские стояли. Молодые еще, должно быть, и не служили никогда. Их человек десять, но у них пулемет. И еще: они на взгорке, а мы перед ними как на блюдце…
— Ну и как же? — спросил нетерпеливо Лапин.
Глаза Юзикова впервые блеснули по-молодому.
— Да уж так! Хитрость, дорогой товарищ! Без нее не было бы и разведки! Значит, так: когда до пикета осталось немного, вскочил я, замахал наганом, а сам говорю своим тихонько: «Вяжите меня, братцы! Ведите к пикету!» Они сначала обалдели вроде, потом сообразили. Навалились на меня скопом. Я, конечно, отбиваюсь, последний патрон в воздух выпалил… Со стороны посмотреть — настоящая драка. Наконец повалили меня ребята, вяжут… Я шепчу: «Как только крикну „Гады!“, — режьте их кинжалами!» Подняли они меня. Вперед толкают, раза два по шее съездили. Ну, натурально, ведут комиссара или командира… Полицаи, как суслики, приподнялись, гогочут, матюгаются. Срезать бы их, да у нас патронов нет, а гранатой не докинешь. Подошли мы. Ребята меня вперед толкнули. Упал я. Полицаи ко мне. Обрадовались. Старший меня сапогом в бок… Смотрю, мои ребята стоят вплотную к полицаям. Игнат Бузин даже у кого-то из них закуривает… Чувствую, пора. Только я крикнул: «Гады!» — как ребята мои словно тигры кинулись на полицаев. Минута — и все! Пленных, сам понимаешь, не было… Ну, забрали мы автоматы, пулемет, поели плотно. Дальше уж легче. Вышли к деревне, зашли в домишко. Хозяйка, знать, солдатка, не испугалась. «Бейте, говорит, их, родимые! Они в том конце села в крайней хате у Изотихи стоят. Сейчас, должно, спят. Вечером-то уж больно шумели. Перепились, наверное». — «Сколько их?» — спрашиваю. «Полную машину привезли». Послал я Савушкина с Якимовым узнать. Вернулись, говорят: точно, автомашина грузовая и двое часовых при ней, а боле никого не видно. Пошли мы… Одного часового снял я, другого — Данилов. Тогда, в сорок первом, немцы непуганые были. Диво еще, что двоих оставили. Да… Савушкин сел за руль, остальные в кузов попрыгали. На прощанье мы им пару гранат в окно кинули и подались своих искать.
— Мне не понятно, при чем здесь Овсянин? — не выдержал Лапин.
— А при том, что он был обязан обеспечить наш отход там, на Великой, тем более что сам обещал оставить справа пулеметчиков, слева — минометы Кожевникова. А оказалось, ни тех, ни других. Выкручивайся сам как можешь. Мы свой долг выполнили: продержали немцев, сколько могли!
Оба долго молчали, потом Лапин спросил:
— В боевом донесении ты об этом писал?
— А как же! Только без пользы. Свой полк мы так и не нашли. К чужому пристали. Даже не нашей дивизии А о нашей никто и не слыхивал. Всех, в том числе и меня, в стрелковую роту зачислили. До выяснения… А потом весь полк, в котором мы оказались, перевели на юг. Там я снова разведроту получил. А про Овсянина я, честно говоря, нарочно не вспоминал и ребятам своим наказал, чтоб ни гугу… По Уставу мне не положено критиковать действия начальства. К тому же бои шли тяжелые и не до того было. Вот сейчас хочу с ребятами посоветоваться: то ли бросить все это дело, то ли продолжать и довести до конца.
— А может, лучше поговорить сначала с самим Овсяниным?
Юзиков удивленно вскинул брови.
— Думаешь, и он приехал?
— А почему нет?
— Что ж, если не откажется, то и с ним…
В дверь постучали. Вошел Петухов.
— Насилу нашел вас! Хорошо фамилию запомнил! Что ж, будем знакомы! Петухов.
— Лапин.
Петухов чуть задержал руку Григория Степановича в своей.
— Очень рад! Очень! Ваш друг мне такое рассказывал!..
— Андрей! Это не тот Лапин! — вяло сказал Юзиков и поднялся.
Петухов растерянно переводил глаза с одного на другого. Не розыгрыш ли?
— Так просто я вас не отпущу, — сказал Лапин, доставая коньяк и разливая его в чайные стаканы. — Тот — не тот, какая разница? Все мы советские солдаты, а значит, друзья. Верно я говорю?
Петухов ответил: «Так точно!» Они выпили. Лапин, нюхая апельсиновую корочку, спросил:
— А ты, Ефим Гордеевич, не согласен?
— Отчего ж? Наша дружба — дело святое.
— А правду все-таки будешь искать?
— Если ребята поддержат — будем вместе.
— И за давностью лет не простишь?
— Если не виноват — простим. Друзьями станем. А насчет давности лет… Ты уж меня извини, что я так прямо… Больно много мы прощаем! То за давностью лет, то по доброте душевной, а подлость ведь как пырей! У нее корни знаешь как глубоко сидят! Бывает, конечно, кто и по дурости дров наломает, так ведь с него какой спрос? Дурак — он дурак и есть. Тут спрос с того, кто его поставил на высокий пост. А Овсянин ведь дураком не был. Как же тогда его поступок понимать?
Лапин молчал. Юзиков рассказывал теперь больше Петухову.
— Каких ребят я потерял тогда! Каждый из них стоил целого батальона! Я ж их одного к одному подбирал, как патроны в обойме! Собрал, думал, не разорвать никому вовек!..
Он налил одному себе, выпил, потом обвел всех глазами и, поняв, что пьет один, покраснел.
— Что ж это я? Никогда не бывало…
Лапин, задумчиво вертя в руках пустой стакан, произнес:
— Ты говоришь о том времени, которое от нас пока еще слишком далеко. Дальше, чем война с Наполеоном. Ты говоришь о сорок первом годе. Трудное было время. Но еще труднее о нем рассказывать. Документов сохранилось мало. Свидетелей становится все меньше. И тут уж никто не поможет. Слишком много у них взяла война. А поэтому, Ефим Гордеевич, те, кто остался в живых, должны быть предельно объективными. Ведь каждое их слово в конце концов — история! Вот ты говоришь, виноват Овсянин… А что скажет он сам? Возможному него были какие-то свои причины для такого решения, о которых ты мог и не знать. Может, то, что случилось с твоей ротой, еще не самое страшное. Вспомни: неудачи преследовали нас до самой зимы!
Он долго ходил по комнате, курил одну папиросу за другой.
— Что же касается вашего сто шестьдесят четвертого, то, мне думается, я могу вам кое-чем помочь. В августе или в начале сентября, точно не помню, нашу армию, попавшую в окружение, спас какой-то пехотный полк. Всего один полк! Говорили, что он сам находился в частичном окружении, но сумел внезапным ударом во фланг, опрокинуть немецкую моторизованную дивизию и разорвать кольцо вокруг нас. Было это севернее города Острова. Я хорошо помню потому, что сам через этот коридор эвакуировал раненых. Вот только, какой полк нас выручил, не могу припомнить. Сдается все-таки, сто шестьдесят четвертый!
— А если не он? — быстро спросил Юзиков.
— Тогда откуда в моем госпитале появиться Овсянину? — ответил Лапин. — Ведь мы с ним как раз в это время познакомились.
Помолчали.
— Где он сейчас? — спросил Юзиков.
— Понятия не имею, — ответил Григорий Степанович, — одно знаю наверное: в строй вернуться не мог. Мы отправили его в тыл в тяжелом состоянии.
Юзиков простился, взял пальто, чемодан и спустился вниз к дежурной.
— Больше Лапиных нет, — ответили ему, — и Якимовых нет, и Савушкиных. Обратитесь в другую гостиницу.
Ночь Юзиков провел плохо. Окно его комнаты выходило на людную даже в ночные часы улицу. Мимо на большой скорости проносились машины, громко смеялись девушки, орали транзисторы.
6
Встреча ветеранов была назначена на двенадцать дня, поэтому у Юзикова хватило времени позвонить во все городские гостиницы и даже съездить в одну из них. Там оказался человек по фамилии Якимов. Но это был совсем другой Якимов.
Юзиков начал падать духом. Найти друзей в городском парке, где, наверное, соберется несколько тысяч, представлялось похожим на поиски иголки в стоге сена. Но делать было нечего, и он отправился в парк.
У самого входа стояла вовсе небольшая толпа — человек пятьдесят, не более. Дальше за воротами по аллеям бродили еще люди, сидели на скамейках, позировали фотографам, обнимались, целовались, иногда плакали. Сердце Юзикова то начинало сильно биться, то вовсе замирало, и тогда холодели ноги и концы пальцев. «Нервы-то, нервы что делают!» — подумал он и двинулся вперед.
Постепенно он начал понимать, что людские группы— не просто группы, а подразделения. Пять человек— батальон, десять — полк, сорок, пятьдесят — это уже дивизия…
На одной из скамеек возле жиденького столика примостился плотный, аккуратно причесанный мужчина лет тридцати с небольшим и регистрировал тех, кто еще не нашел места в гостинице или прибыл в парк прямо с вокзала. А они понемногу прибывали. Шли с чемоданами, портфелями, солидные, седоголовые, неузнаваемые. Подходили к столику, нагибались, называли свою фамилию, имя, отчество, номер воинской части.
И вдруг Юзиков вспомнил, что уже видел такую картину. Только те люди были намного моложе, стриженные под «нуль», с длинными цыплячьими шеями и широко раскрытыми глазами…
Было это двадцать второго июня сорок первого года в Костроме. Первые добровольцы… И мужчина, который сейчас регистрировал ветеранов, был чем-то похож на того, другого мужчину из сорок первого, которому теперь, наверное, далеко за шестьдесят…
Когда очередь у столика поредела, Юзиков подошел к регистратору.
— Тут у меня друзья должны прибыть. Однополчане. Что-то я их не замечаю. Не поможешь ли, браток?
Регистратор спросил ласково:
— Чем же я вам помогу, товарищ?
— Мне бы узнать точно, здесь они или еще не подошли, — сказал Юзиков, чувствуя, как снова начинают холодеть пальцы, — потому как если они тут, мне надо рысью бегать, а если не подошли — у ворот стоять.
— В парке несколько ворот, — сказал регистратор.
— Ну все равно, посмотри по своим бумагам, не записывались ли у тебя Константин Петрович Лапин, Иван Данилович Якимов, Сергей Савушкин… Извини, отчества его не знаю.
Регистратор взял список, начал листать. На одном он остановился, перечитал еще раз.
— Какой дивизии Якимов?
— Семнадцатой, дорогой товарищ, семнадцатой! Мы с ним здесь под Киевом, в тридцати километрах…
— Не тот, — сказал регистратор, — этот девятой механизированной. — И хотел положить листок, но Юзиков поспешно удержал его руку.
— Мо… может, после перевели. Звать-то Иваном?
— Илларионом.
— Не он…
Ефим Гордеевич устало опустился на скамейку.
— А других списков у тебя нет?
— Нет. Да вы не отчаивайтесь. Народу здесь не так уж много, найдутся! А еще лучше — позвоните в гостиницу «Украина».
— Узнавал.
— А в «Киеве»?
— Тоже нет, нигде нет.
— Может, просто не захотели приехать? — пожал плечами регистратор. — Мало ли…
— Да ты что, очумел?! — глаза у Юзикова сердито заблестели.
Чтобы не наговорить лишнего, он повернулся и пошел от этого человека и снова принялся ходить между группами, внимательно вглядываясь в лица. Иногда что-то знакомое чудилось ему в постаревших чертах, и тогда он спрашивал неуверенно:
— Извините. Ваша фамилия Терехин?
Или:
— Послушай, ты не Иван Ковальчук?
Потом извинялся и шел дальше. Один раз еще издали заметил знакомую фигуру: широкие плечи, руки почти до колен и голова, словно с силой всаженная в эти плечи… Игнат Бузин!!
Он растолкал людей, крикнул: «Игнат!» и поспешил вдогонку. А Игнат — от него. Да ходко так… Юзиков еще приналег на свою клюку. Ближе, ближе… И тут вспомнил: сержант Игнат Матвеевич Бузин двадцать второго года рождения, житель деревни Крутая Гомельской области умер в сентябре 1956 года…
Сам же такой ответ на свой запрос получил! Память подводит? Нет, не память. Солдатское сердце не хочет мириться с тем, что боевой друг умирает, не дожив и до сорока лет!
Повесив голову, шел Юзиков обратно и вдруг услышал:
— Гордеич! Давай к нашему костру!
У Ефима захватило дух. Однако это был Петухов со своими. У него многие приехали. Из одного полка человек двадцать собралось. Веселые, галдят как на толкучке.
— А ты все один?
Глаза у Петухова чуть пьяненькие и добрые, как у Капитолины Егоровны в те дни, когда Ефиму недужилось…
— Плакатик бы, что ли, приспособил какой! — говорит Петухов. — Дескать, так и так, ищу своих. Кто знает таких-то и таких-то — сообщите.
Или напиши номер батальона. Может, ходят мимо тебя твои ребята и не узнают. Четверть века прошло! Вон ты какой белый! Чисто голубок.
«В самом деле, — подумал Юзиков, — где же им меня узнать? И как это я сам не додумался?!»
В поисках подходящего материала он обошел весь парк и только у самых ворот в углу приметил небольшой фанерный павильон. Должно быть, вечером в нем продают мороженое. Воровато оглянувшись, Юзиков отодрал от задней стенки павильона фанерку и куском мела написал на нем следующее: «Разведрота 164 с. п. Ребята, отзовитесь!»
Теперь он гулял по парку, держа фанерку прямо перед собой. Петухов увидел, похвалил. Однако время шло, а к Юзикову никто не подходил. Тогда он зачеркнул «разведрота» и пожирнее обвел цифру «164».
И опять никто не отозвался.
Многих из тех, что стояли кучками, Ефим Гордеевич начал узнавать в лицо. Заприметили и его. Но только после того, как он крупно написал один только номер дивизии, к нему подошел человек.
— Мустафа Каримов. Служил в семнадцатой, двести второй полк, второй батальон, первая рота. Тебя как звать?
Вдвоем с Каримовым они обошли весь парк. Потом репродукторы, что висели на деревьях, пригласили всех в Зеленый театр на торжественный митинг. Где-то далеко, должно быть у самого входа, грянул военный оркестр и вскоре появился на центральной аллее. Молодые музыканты, одетые в новые темно-зеленые мундиры, с усердием били в барабаны, дули в медные трубы. Над цветочными клумбами, над крышами павильонов, над деревьями парка поплыла, колыхаясь, тяжелая, как поступь солдата, как земля на братской могиле, знакомая, но почти забытая мелодия. Ветераны поднимались со своих мест, распрямляли спины и плечи, пристраиваясь позади музыкантов, шли, привычно держа равнение на правофланговых.
Встали в строй и Юзиков с Каримовым, потом подошел Петухов, Никишин. На торжественном митинге они сидели вместе.
Между тем со сцены какой-то полковник предложил почтить память погибших товарищей минутой молчания. Все встали и стояли, не шевелясь, и было слышно только дыхание соседа. Потом на сцену поднялись генералы, из которых Юзиков узнал одного, да и то с трудом. Было это уже в начале нашего наступления в сорок втором году. Ребята Юзикова привели очень важного «языка». Так этот генерал… он тогда еще майором был… на самолете за ним прилетел и сам его допрашивал, а Юзиков при этом присутствовал и все слышал. Иван Данилов тоже должен этого бывшего майора помнить. Когда тот спросил, кто взял «языка», Юзиков Данилова и Савушкина вперед подтолкнул. Брали-то, конечно, отделением, и командир взвода покойный Красиков сам его водил, но уж так повелось, что награждали орденом одного, остальных — медалями, да и то, если операция была очень серьезной. Вот Юзиков и прикинул: если назвать все отделение, пожалуй, дадут две-три медали на отделение — операция-то была не сложная, — а если назвать одного-двух, — непременно к ордену представят! Данилов же перед тем только из пехоты пришел и в тонкостях ремесла разведчика еще не разбирался. Надо было его поддержать…
Награждать тот майор сам не мог, но обещал присоединить к наградному листу и свое прошение, от себя лично…
Надо бы подойти сейчас, поблагодарить за ребят, да вроде неловко: наградные листы подписывал один командир полка, награды вручал другой, уже через год, в сорок третьем, а этот майор, поди, уж и думать забыл, что когда-то посодействовал в получении орденов двум ничем не примечательным разведчикам…
Только к концу дня Юзиков понял, что искать товарищей дальше бесполезно. Он никого из них не осуждал, ни на кого не сердился. Ему просто немного стало жаль себя. И еще он понял, что страшно устал и хотел сейчас покоя.
Однако, по программе встречи, ветераны должны были посетить памятник павшим, побывать на братском кладбище. Преодолевая усталость, пошел со всеми и Юзиков.
Стоит высоко над Днепром на крутолобом холме белый мраморный обелиск. Полыхает у его подножия Вечный огонь. А сквозь кущи деревьев видны заднепровские дали. Это оттуда хмурой ноябрьской ночью сорок третьего года подходил к городу младший лейтенант Юзиков со своей ротой. Недалеко от того места, где сейчас перекинут через реку огромный мост, принял он свой последний бой. Отсюда у Юзикова был один путь — на восток, а у его друзей — дальше, на запад.
Когда короткий ритуал возложения венков закончился, ветераны двинулись в обратный путь. Юзиков, тяжело опираясь на палку, плелся позади всех. По обеим сторонам бетонной дорожки — ряды мраморных надгробных плит. Есть плиты с одной только фамилией. Это или Герой Советского Союза, или большой военачальник. Есть с несколькими фамилиями. Все одинаково золотом расписанные, видные издалека.
Кто-то рядом сказал:
— Помню, как в войну хоронили. На памятнике писали просто: «Здесь похоронено 78 человек». И все. Номера частей писать не разрешалось…
— Фамилии писали, — возразил его товарищ.
— Писали. Когда время было…
— А что, братцы, — вмешался третий, — неужто все, кто погиб за Киев, тут и похоронены, или здесь только ихние имена записаны?
— Должно быть, здесь и лежат ребята… — неуверенно ответил первый.
Неожиданно все завертелось, закружилось перед глазами Юзикова: поплыли прямо на него золотые буквы. Знакомые такие буквы. Как в букваре, только не на белом, а на сером с черными прожилками… Складывались они в фамилии, одна из которых начиналась с буквы «Л», вторая — с «Я», а третья — с «С»…
Качнулся Ефим Гордеевич назад, потом вперед, потом снова назад. Подхватили его, не дали упасть. Справа Петухов, слева Каримов, сзади еще кто-то.
— Что с ним?
— Должно, от солнца. Вон как наяривает!
— Какое там от солнца! Что он, городской, что ли?
— Товарищи, расступитесь, дайте пройти!
— Вы что, доктор?
— Да.
— Проходите. Может, «скорую» вызвать?
— Сейчас узнаем.
Юзиков открыл глаза. Перед ним склонился тот самый человек, к которому он так неудачно вломился в номер.
— Это ты, Лапин?
— Я, как видишь.
Он расстегнул Юзикову рубашку, приник ухом к тому месту, где было особенно больно.
— Пока ничего страшного. Устал, поволновался. Нужен покой.
— Жаль, — вдруг сказал Юзиков.
Те, кто стоял поближе, переглянулись.
— Чего жаль? — недоуменно спросил Лапин.
— Жаль, что тебя не Костей зовут! — ответил Юзиков.
Опираясь на палку, он приподнялся, движением руки раздвинул стоявших вокруг. Снова стали видны золотые буквы на серой плите. «Сержант Липатов К. М., — читал он, — сержант Стрельников А. С., рядовой Яшенко…».
— Что же это, мать честная? Никак, померещилось! — прошептал Ефим Гордеевич.
7
Вечером следующего дня Юзиков прощался с Киевом. Провожало его человек двадцать. Правда, не его одного. В этом поезде с ним до Москвы ехали Петухов и Никишин. Вещи были уложены, билеты спрятаны, в ларьке на вокзале куплены подорожники. Дело оставалось за стрелкой на огромном светящемся циферблате. Она же точно смеялась над людьми: когда на нее не смотрели, неслась будто угорелая, когда же начинали смотреть — замирала неподвижно… Петухов на всякий случай вошел в тамбур, Юзиков на перроне докуривал «последнюю»…
В это время кто-то громко сказал:
— Юзиков, где ты?!
— Здесь! — не своим голосом крикнул Ефим Гордеевич, и сердце его снова заколотилось неровно и торопливо.
Подбежал Григорий Степанович, взволнованный, запыхавшийся, взяв Юзикова за локоть, отвел в сторонку.
— Понимаешь, какое дело, Ефим! Я вчера после вас еще долго по кладбищу ходил… Там, на самом краю, почти у дороги… вторая плита слева…
— Hy!! — воскликнул Юзиков неестественно тонким голосом.
— В общем, они там, Ефим! — сказал Лапин.
Как тогда в парке, у Юзикова мелко-мелко задрожали руки, потемнело в глазах, Лапин, не спускавший с него глаз, вовремя подставил чей-то чемодан…
— Сколько? — спросил Юзиков.
— Из тех фамилий, что ты называл, трое. А вообще много…
— Кто именно?
Григорий Степанович вынул блокнот.
— Сержант Якимов И. Д., рядовой Савушкин С. И…
— Что же ты замолчал? — спросил Юзиков. — Кто третий?
— Третий Костя Лапин.
Стрелка на циферблате наконец-то шагнула к заданной черте. Проводники подняли зеленые флажки, последние пассажиры, подталкивая друг друга, полезли в тамбур, а Юзиков, словно не понимая, что делает, двинулся по перрону совсем в другую сторону…
Растерявшийся Лапин шел за ним следом.
8
Затерянная в дремучих лесах станция Дьяково встретила Юзикова проливным дождем. Над домами поселка широким развернутым фронтом неслись тучи, настолько низкие, что казалось, вот-вот заденут рваными краями за верхушки молоденьких тополей или запутаются в телевизионных антеннах.
Никакой платформы в Дьякове пока что не было. С подножек вагонов пассажиры прыгали прямо в песок, а влезали, подсаживая друг друга. Раньше Юзиков этого как-то не замечал. Наоборот, когда проложили новую ветку и деревня Дьяково стала станцией, гордился и даже написал своему другу в Донбасс, что станция у них, хоть и маленькая, но вполне благоустроенная, и есть даже буфет…
С высоты последней подножки он еще раз взглянул на приземистое, крашенное охрой, деревянное здание вокзала с двумя большими трубами, дым из которых полз по крыше вниз, наполняя все вокруг едким зловонием.
«К ненастью», — подумал Юзиков и начал спускаться.
Он уже стоял на земле, когда сердце кольнуло с такой силой, что он не удержался и застонал.
Думая, что его встречают, он обогнул здание вокзала и вышел на то место, которое здесь называется площадью и где разворачивается автобус «Дьяково — Пречистое».
И долго стоял там под дождем, пока не узнал, что автобусные рейсы по случаю ненастной погоды отменены. Юзиков не удивился. Может, где-нибудь в Киеве это и показалось бы смешным, но здесь все было серьезно. Вешние воды и сильные дожди в любое время года превращают новое, недавно построенное шоссе в глинистую тестообразную массу. Эта масса постепенно, но неуклонно сползает в те самые кюветы, из которых была поднята с таким трудом…
Юзиков пошел в билетный зал и удачно занял место возле теплой печки. Он не знал, как будет добираться до Антонова. Через окно ему было видно вереницу людей, среди которых были и подростки, и старики, и дети, направляющихся в сторону Пречистого. Для деревенского жителя ходьба на дальние расстояния — дело привычное. Есть автобус или попутная — едут, нет — идут пешком. Раньше Юзикова это не смущало, но нынче он с ними не пошел, а смотрел в их удаляющиеся спины и завидовал. Часа через два они будут сидеть в Пречистом, в маленькой уютной чайной и пить горячий крепкий чай…
Ефиму Гордеевичу хотелось раздеться и лечь в теплую постель или, еще лучше, на печку. В последние годы его порядком донял ревматизм.
Он постарался сесть поудобней, вытянул ногу и прислонился спиной к горячим кирпичам. Сколько раз случалось ему попадать в ситуации, из которых, казалось, не было выхода, но стоило только взять себя в руки, посидеть или полежать с полчаса, хорошенько подумать, и выход непременно находился.
Так было и на этот раз. Посидев и подумав, Юзиков прошел в комнату дежурного по станции и оттуда позвонил в сельсовет — попросил лошадь. Ему ответили, что единственная свободная подвода повезла в район роженицу, но как только вернется, ее пришлют на станцию. Успокоенный Ефим Гордеевич вернулся в зал ожидания, сел на прежнее место и, обласканный теплом печи, скоро заснул.
Снился ему Киев. Будто идет он с Григорием Степановичем по той самой аллее, что у дороги, и читает надписи на мраморе. Но, странное дело: нет там никаких надгробий! На мраморе золотом написаны совсем другие слова, вроде тех, которые Юзиков видел на транспарантах. С удивлением и упреком взглянул он на спутника, и Григорий Степанович, устыдившись, спрятал блокнот и ушел прочь. А вместо него рядом с Юзиковым оказался его бывший командир полка подполковник Овсянин. «Здравствуй, Юзиков!» — «Здравия желаем, товарищ подполковник!» — ответил Ефим и непонятно отчего сробел… А Овсянин смотрит не на него, а куда-то в сторону и строго так спрашивает: «Доложили мне, будто ты, Юзиков, нехорошие слухи обо мне распускаешь. Так ли это?» Сглотнул Юзиков слюну, подобрался весь… «Так точно, товарищ подполковник, распускал! Очень я тем делом на Великой возмущен был. Интересуюсь…»— «Чем ты интересуешься, Юзиков?» — спрашивает Овсянин, а головы не поворачивает. И голос его звучит раскатисто, как в церкви. «Интересуюсь, — отвечает Юзиков, — почему я со своими разведчиками остался один против двадцати танков; куда девался полк и где в это время были Кожевников и пулеметчики. Почему ускакали орудия? Вот сколько лет прошло, а забыть тот день не могу. Ведь не могли же они самовольно сняться с позиций, да и струсить, я думаю, не могли! Не такие люди! Как же все получилось, товарищ подполковник?»
Тогда повернулся к нему Овсянин, очки поправил. «Никого не вини, Юзиков! Я отдал приказ отходить. Нужно было выручать из окружения целую армию. Только я… только мой полк это мог сделать. И ты дал мне эту возможность. А вот прикрыть твой отход у меня людей не осталось. Прости. Всех до единого бросил в бой! И неправым себя не считаю. А тебе, за то, что выстоял, от лица службы — спасибо!»
Смутился Юзиков. Вот оно, оказывается, как обернулось! Что ж, если армию спасать, тогда… конечно…
Хотел у Овсянина извинения попросить за свои мысли нехорошие, голову поднял и вдруг видит: за очками у командира полка ничего нет. Череп один голый. С мертвым, стало быть, пришлось Юзикову разговаривать. Недаром Овсянин все время отворотясь стоял!
Повернулся Юзиков, чтобы отойти подальше, а Овсянина уж и след простыл. На том месте, где он стоял, две ямки от сапог остались…
А потом Ефим Гордеевич увидел своих. Шли они, обнявшись, занимая всю ширину дорожки от одного газона до другого. Четырнадцать! Все, кто остался в живых после отступления на Великой. В самой середине Костя Лапин, справа от него Якимов, слева Савушкин, дальше Данилов, Терехин, Бузин, еще кто-то. И у каждого гранаты у пояса и вообще полная боевая выкладка. «К чему бы это? — подумал Юзиков. — Войны-то давно нет!»
Подошли они, поприветствовали, как положено, а Лапин обнял его и говорит: «Где же ты до сих пор был? Мы тебя по всему Киеву ищем!» — «Еще не известно, кто кого дольше ищет! — отвечает Юзиков. — Я вас по всему свету двадцать пять лет ищу! Думал, никого и в живых-то нет!» Засмеялся Лапин. «Разве ты не знаешь, что нас еще в сорок третьем в бессмертные произвели?» — «Это что же, титул или воинское звание?» — «А то и другое. И титул, и звание. Если разобраться, так выше его и на свете нет!»
А сам все толкает и толкает Ефима Гордеевича в левое плечо…
«Я очень рад, ребята, что наконец нашел вас! — сказал Юзиков. — Только что же ты, Костя, меня все время в больное-то плечо толкаешь?»
Но тут и Лапин, и все, кто с ними были, начали медленно растворяться в воздухе, голоса их постепенно ослабли, потом и вовсе пропали, и все вокруг начало заволакиваться непрозрачным туманом.
А еще через минуту не стало ничего на свете.
Похоронили Юзикова не в районном центре, где с недавнего времени начали хоронить некоторых ветеранов, но и не на Антоновском кладбище, а далеко за деревней на высоком холме, что над всей равниной, пожалуй, главный. В хорошую погоду с него виден почти весь колхоз «Коммунар» от Дедовского болота до Махотинских лугов, где в иное лето трава вырастает в пояс, и даже до Парамоновских земель, где родится лучший в области лен.
Место это Ефим Гордеевич выбрал сам, должно быть, в один из тех дней, когда ему особенно недужилось…
Хоронили его с воинскими почестями, и в карауле стояли солдаты соседней воинской части. На могиле установили обелиск и на нем золотыми буквами написали три слова: «Твое имя бессмертно!»
Если ехать в Антоново не от Пречистого, а от Перхурова, то памятник, пожалуй, станет виден уже от плотины, тем более что светлая краска, наверное, еще не успела потемнеть…
СЕМЕЧКИ (Повесть)
Глава первая
Тетю Полю уволили в пятницу. В субботу днем она еще ходила, хлопотала по хозяйству, пробовала даже шить, а к вечеру того же дня слегла. Соседка Марья Матвеевна, уходя утром на рынок, очень удивилась, увидев дверь в комнату тети Поли приоткрытой. А удивившись, не утерпела, заглянула вовнутрь. И забеспокоилась. Раньше тетя Поля никогда не болела. Не было у нее такой привычки.
Сначала она и сама не поняла, что с ней. Не могла подняться вовремя, и все тут. Будильников у нее не было. Вернее, был один, да уж больно характерный. С норовом. Как его ни заводи, на какое время ни ставь, он все равно будет звонить, когда захочет. Отнесла в ремонт— еще хуже: стал будить среди ночи. Можно бы, конечно, вернуть. Дескать, что же вы, товарищи, так чините? Да тетя Поля постеснялась. Не нарочно же люди ломали ее вещь! Может, он в самом деле ехидный, будильник-то. Ведь ему без малого годков шестьдесят. Старик. Старики всегда себе на уме. Не каждого сразу поймешь. Хотя, если разобраться, он тете Поле и ни к чему. Вставать она смолоду привыкла рано. На поезда торопиться не приходилось. Не ездила она на поездах. Некуда ей было ездить. А если б и случилось такое, она бы загодя на вокзал приехала, чтоб без торопливости, не бегом. Торопливость она не уважает. Все у нее в жизни было в свое время. Вставала в половине седьмого. Без четверти восемь шла на завод. В пять возвращалась. Это когда в бригаде работала. Секретаршей при директоре стала — и на работу шла, и возвращалась позднее, а вставала все равно рано. Как-никак в бригадах она тридцать два года проработала, а в секретаршах только три месяца. Без двух дней…
Чудно ей лежать сейчас среди бела дня. Гляди в потолок, любуйся! До чего же он невидный, оказывается, ее потолок! Серый какой-то, неровный, в трещинках. И паутинка в углу… Должно быть, недавно сплел ее хозяин. Ну, конечно, недавно! На прошлой неделе в субботу прибиралась. Или в пятницу? Нет, в субботу. Потому как в пятницу у директора совещание было и домой она пришла в десятом часу…
От нечего делать, она стала вспоминать по порядку весь этот злосчастный день — пятницу шестнадцатого сентября.
И ведь бывают же такие дни: как не повезет с утра, так до самой ночи все летит кувырком. Началось с того, что сосед Горшков опять свой велосипед возле умывальника повесил. Тетя Поля, идя утром умываться, понятное дело, на него наткнулась. Да и как не наткнуться? Коридор узкий, вдоль стен лари с имуществом стоят, и темнота…
Очень ушиблась тогда тетя Поля, даже в глазах потемнело. Потом ничего, отошло. Однако ж за этой неприятностью потянулись другие. Только собралась уходить, ключ от комнаты пропал. Все время висел на гвоздике в углу и вдруг исчез. После-то уж узналось: сосед, пенсионер Галкин, опять свой ключ потерял. А с тетей Полей у них ключи одинаковые. Он и взял свою комнату отпереть, да, видимо, забыл возвернуть.
Так и пришлось оставить дверь незапертой. Страшного тут ничего нет. У тети Поли красть нечего. Разве что самовар. Или картину со стены. Ей заводом подаренную. На ней ее фамилия золотыми буквами написана.
Из-за этого проклятого ключа на завод тетя Поля пришла поздно. Не то чтобы вовсе опоздала — до этого еще не дошло, — но когда отворила дверь в приемную, новый директор был уже на месте и, по всему видать, ее дожидался. Только она села за свой стол, а он и говорит:
— Срочно представьте мне черновик той рекламации, которую мы посылали в Челябинск в прошлом месяце. Завод-поставщик с этой рекламацией не согласен и подал жалобу в министерство.
Как сказал это, у тети Поли внутри все похолодело. Черновик тот она в корзину бросила. Где же его теперь найдешь?
Между прочим, у тети Поли с новым директором с первого дня как-то все неладно пошло. В первый же день он ей замечание сделал.
Было это сразу после похорон Григория Петровича. То ли от расстройства, то ли от того, что работа предстояла трудная, ходил новый чернее тучи. Сначала по кабинету шаги мерил, потом в приемную вышел, где тетя Поля промеж телефонов сидела и семечки щелкала. Прежде, в войну, она этими семечками голод глушила. Пайка хлеба махонькая, и не заметишь, как проглотишь, а семечки на весь день растянуть можно.
Это прежде гак было. А после, должно, в привычку вошло. Как замечтается, так за семечки…
— Неприлично, — говорит директор, — в моей приемной семечки лузгать. Если хотите кушать, сходите в буфет и купите булочку с кефиром.
В тот раз он больше ничего не сказал, а в эту злосчастную пятницу взорвался. Конечно, тетя Поля сама виновата: надо было послушаться либо прятать семечки, когда директор выходит в приемную, а она забыла. Юрий Осипович на нее и накричал. Обидное слово сказал, будто она его приемную в хлев превратила… Зря он это. От семечек никакого мусора не видно. Прежний директор на это внимания не обращал, потому что знал: ее семечки никак работе не мешают. Уважал тетю Полю товарищ Самсонов за хорошую память и расторопность. Бывало, наговорит, наговорит всего, нанаказывает, а потом, как уходить, остановится в дверях, глянет на нее и спросит:
— Неужели все запомнила? Может, запишешь?
А она ему:
— Не беспокойся, Григорий Петрович, ступай себе домой, все сделаю, как надо. А к бумажкам я не привыкла.
Покачает Самсонов головой, усмехнется и уйдет, а в восемь утра у него на столе и графики, что он наказывал, и справки, какие надо, лежат, и люди в приемной дожидаются…
Разные бывают директора. Сколько их за эти годы на заводе перебывало!..
Тетя Поля закрывает глаза и неторопливо начинает вспоминать их одного за другим.
Самым первым директором был Степан Павлович Головнин. Тетя Поля при нем в бригаде землекопов работала. Пришли они на завод разными путями, но в одно время. Он к работе привыкал и она. В годах, правда, разница была большая: ему под пятьдесят, ей только-только восемнадцать исполнилось. Друг друга они видели редко, а дело делали одно, и оба это дело любили. Солидный был директор Головнин, обстоятельный. Не слышно, чтоб на кого-то накричал, но уж если приказал, умри, а сделай, потому как он, прежде чем приказать, сам сто раз обдумал и прикинул. Подчиненных знал наперечет. Когда предстояло очень важное дело, бригадиров вызывал. Подход к людям особый имел. Тогда на заводах была мода вешать рядом «красную» и «черную» доски. Кто работает хорошо, того на «красную», а кто плохо — того на «черную». Повесили и на ремзаводе. Головнин посмотрел и велел вывешивать фамилии на эти доски не раньше, чем он сам с тем рабочим и его бригадиром побеседует…
Потом Степана Павловича перевели в Москву, а Полина осталась. Директором стал его заместитель Григорий Николаевич Лобанюк. У этого к людям подход другой. Проще сказать, никакого подхода. Кричать очень любил, а в делах разбирался плохо. А как завод принял, власть свою решил показать: уволил с завода семерых парней и Мотю Яркову. Шестеро — из одной деревни. Накануне там престольный был. Родственники им всякой всячины навезли и, между прочим, четверть самогону. Наутро они еще с похмелья, а их в контору: получите расчет! Парни носы повесили. Да это-то ладно, не пропали бы. Беда в другом: у Полины в бригаде ихние подружки работали… Когда пришли те семеро прощаться, поняла Полина, что назавтра у нее в бригаде будет недостача ровно на семь девок, схватила платок и в контору. Возле директорского кабинета красавица сидит, одним пальчиком на машинке постукивает. Увидела Полину, вскочила дорогу загораживать…
Отодвинула ее Полина плечом, вошла. И вовремя.
Совещание кончилось, все встают, директор бумаги в портфель сует. Еще минута, и нет его…
В кабинете директора кроме своих чужие сидели, должно быть, большие начальники. Директор с ними разговаривает вежливо, улыбается.
Встала Полина в дверях.
— Обождите, товарищи! Дело есть!
Директор на дыбы:
— Если вы ко мне по личному вопросу, то зайдите завтра.
А свои:
— Да не пойдет она к вам по личному! Давай, Одинцова, выкладывай!
Лобанов на начальство посмотрел, развел руками, дескать, полюбуйтесь, дорогие товарищи, какое наследство оставил предшественник, анархия!
О каждом из семерых уволенных Полина рассказала особо — может, где и приукрасила, — никто не заметил, — а вот про то, как с ними вместе завод начинали, — не приукрашивала. Тут лишнего не скажешь…
— Многие от такой жизни поразбежались, а эти — нет. Любой директор таким, как они, в ноги бы поклонился!
Может, и зря сказала такое, да уж одно к одному получилось. А приезжие на Лобанова во все глаза глядят.
— Ты что же это со старыми рабочими кадрами расправляешься?
— Так ведь напились они, дорогие товарищи!
— А ты в праздники трезвый бываешь?
— Матерщинничают…
— Что ж они, за пять лет перековаться должны? Сам-то ты острое словцо тоже любишь…
— Чуть что — в спор вступают, на собраниях мой директорский авторитет подрывали!
— Авторитет не на собраниях завоевывается…
— В стенгазету про меня стишки напечатали! Ну, ошибся малость, просчитался, так ведь я же сам и признал!
— Значит, правы те, кто тебя, Лобанов, критиковал?
— А это как посмотреть. Смотря кто критикует…
— Что, они план не выполняют? Саботируют?
Замялся директор.
— Этого я сказать не могу. Завод большой, народу много, а я один… Да и никто вам сразу не скажет, надо документы поднимать.
Тут Полина вмешалась:
— Не надо ничего поднимать. Я скажу. Попов, Самохвалов, Логунов по сто двадцать дают с хвостиком, Петровы Иван и Михаил сто пять — они в паре работают, Опорков ровно на сто выполняет. Мог бы и больше, да у него целую неделю ноги болели. Ревматизм. Седьмой, Ильин Колюшка, тоже от других не отстает…
Дивятся приезжие.
— Неужели все верно? А если по документам проверим?
— Проверяйте, — говорит Полина, — и если что не так, гоните меня с завода в шею! Бригадир я. Ихняя бригада по соседству с моей работает, а живем в одном бараке.
Подумали.
— Хорошо, товарищ Одинцова, идите, работайте. Мы здесь разберемся.
Оставили тогда этих ребят. Всех оставили. После из них такие ли работники вышли! Оба Петрова прорабами стали, Опорков до начальника цеха добрался, Попов, Самохвалов, Логунов на инженеров выучились. Колюшке Ильину, помнится, уж как трудно было! Не деревенский он, городской. Из интеллигенции. Тачку так и не сумел обломать, как ни старался. Хотели вовсе из бригады выгнать, да Полина вступилась. Не может быть, чтобы человек в жизни ни на что не годился. У каждого свой талант есть. Только человек с ним не всегда попадает в то место, которое ему на роду написано. Ему бы, скажем, людей лечить, а его заставляют полы красить, ну и пропадает талант. Ведь с Ильиным как получилось… Совсем было затыркали парня, да он и сам опустился дальше некуда. Умываться — и то перестал! Смотрела, смотрела на такое дело Полина, а потом взяла его за руку и повела в контору. Там за перегородкой сидели мужики и чертили на больших листах бумаги разные придумки. Начальником у них был Кузьма Кузьмич Горохов, тоже вроде бы интеллигент, но мужик свойский. К нему Полина и привела Николая.
— Проверь, Кузьмич, парня! Не пристает к его рукам тачка. Не тот талант!
А через месяц Николай сам к ней прибежал. Сияет.
— Спасибо, — говорит. — Меня в штат зачислили и отдельный стол дали! Обещали на курсы послать!
Честно говоря, она тогда сама удивилась.
— Врешь, поди! А ну, рассказывай по порядку!
Полчаса рассказывал. А и всего-то было: дал ему Кузьмич какую-то железку вычертить, он вычертил свою. Кузьмич говорит: «Не то!» А Николай упрямится: самое, говорит, то, что надо! Заказали ту железку по Колькиному чертежу, приладили к машине, оказалось — в аккурат. И будто бы от этой железки какая-то там хитрая часть в машине начала работать (а до этого не работала!). Кузьмич ему сказал, что упрямых любит и его к себе берет за упрямство…
— Как хоть та механизма называется, к которой ты железку приладил? — спросила Полина.
— Реверс, тетя Поля.
Тут все, кто в бараке в это время был, со смеху попадали. Полина сначала подумала, над «реверсом» глупые бабы смеются, а оказалось, над ней: Колюшка ее в «тети» произвел… Так с тех пор и зовут: главного инженера Николая Евграфовича Ильина «реверсом» — за глаза, а ее — «тетей Полей» — за глаза и в глаза.
После Лобанюка директора менялись часто. Завод план не выполнял, только половина цехов основным делом занималась, остальные уж перешли на плуги и бороны. Хорошие мастера стали уходить на другие заводы. Их называли «летунами» и в газетах пропечатывали.
Когда война грянула, вовсе обезмужичел завод. У станков бабы, и в конторе бабы, и во дворе, куда ни глянь, всюду бабы.
В этакое время и пришел на завод Григорий Петрович Самсонов. С войны пришел. Ногу ему там в первый же месяц, в июне, оторвало. На внешность — из себя невзрачный, голос имел тихий, а в короткое время все на заводе перевернул. Снова стали машины починять, только уж не трактора, а танки.
Бабы и подростки, конечно, хорошо работали, да сила у них не та, что у мужиков. Бывало, так заработаются, что и домой не идут, боятся где-нибудь по дороге свалиться…
Пошла Полина к директору.
— У станка, Григорий Петрович, ребята засыпают. Трудно им. Ты вон, хоть и в кабинете спишь, а все — на диване…
— Что предлагаешь?
— Поставить койки во всех свободных помещениях. И чтоб постельное белье и всякое такое…
— Нет у нас свободных помещений.
— Красный уголок займем, клуб вместе с фойе, бухгалтерию потесним.
— Согласен. Дам команду. Иди.
В другой раз пришла:
— Прикажи, Григорий Петрович, поле распахать, на котором до войны собирались строить филиал.
— Это зачем?
— Картошку посадим. Сейчас самое время. Осенью будем со своими овощами.
— Вот как? Подсобное хозяйство, значит… А потом столовую потребуешь?
— Старую расширим.
— Все так, только кто твое поле пахать будет? Это ведь не приусадебный участок…
— Трактористы. Договорилась уже… Просят только, чтобы за бензин не вычитали. А пахать будут в нерабочее время.
— Однако ж хватка у тебя, Одинцова, — говорит Самсонов. — Ладно, скажи, чтобы приказ печатали. Фамилии сама подскажешь.
Так и жили. Парторг Лосев — из армейских политруков— когда только из госпиталя прибыл, не переставал удивляться:
— У вас, товарищ директор, свои тайные советники имеются? Это что же, по штату полагается или как?
Григорий Петрович сначала отшучивался, но однажды между ними состоялся серьезный разговор.
— Понимаешь, — сказал Самсонов, — есть в ней что-то такое, чего нет в нас. Во мне, в моем заместителе, в тебе, хоть ты и пар торг. С годами, а может, в суете дел мы что-то растратили в себе, в своей душе. А она сохранила.
Лосев только головой покрутил:
— Мистика какая-то, уважаемый товарищ Самсонов. Что мы с тобой могли потерять? Опыт? Так он, говорят, с годами приходит, совесть тоже вроде на месте…
— Не то. Может, я не так выразился, но мне все время кажется, что у Одинцовой есть какие-то свои способы воздействия на человека, на его психику, что ли. На прошлой неделе первый литейный пожалел дать второму два вагона кокса. Вызвал Сергеева, спрашиваю, в чем дело. Знаешь, что он ответил? «Запас, говорит, шею не трет»… И ведь знает, что Турков по его милости простаивает! Местничество? Факт. А почему? Как, скажи, втолковать ему, что не только цех, но и весь завод — это одно целое. И что все это — его, Сергеева! Ему принадлежит?! А таких, как он, много.
— Не вижу связи с вопросом об Одинцовой, — сказал Лосев.
— Сейчас объясню. Года три назад ей выделили квартиру. Отдельную, со всеми удобствами. Так что ты думаешь? В последний момент отказалась! В пользу Вязникова…
— Пожалела?
— Я сначала тоже так думал. Потом оказалось — нет. Вязников — столяр-модельщик. Таких мастеров, как он, поискать. Мы ж сами его с РТИ переманили. Квартиру обещали… Ну с жильем, сам знаешь, а Вязникову — вынь да положь! Прошу его по-человечески: «Обожди полгода!» — «Не хочу. Не дадите, уйду на моторный!» Что делать? Пока я голову ломал, Одинцова быстрей меня решила… Скажешь, мелочь? По сравнению с масштабами производства — да. А для нее не мелочь. Она эту квартиру сколько лет ждала! Многие ли у нас способны на такое?
Лосев с сомнением покачал головой.
— Не знаю, Григорий Петрович, нужны ли в наше время такие жертвы вообще. В конце концов можно было и на завком поднажать.
— Стоп, Лосев! Вот тут-то и загвоздка! Поднажми я, и потеряли б еще больше. Знаешь, что мне рабочие по секрету сказали? Вязников хотел получить у нас квартиру и уйти с завода! Каково? А теперь не ушел. Совесть не позволила.
Лосев усмехнулся:
— И впрямь, не пойти ли к ней в ученики?
— Зря иронизируешь. У таких, как она, не грех и поучиться!
Когда тетя Поля об этом узнала, слова директора приняла за шутку. На кой ляд ему к неграмотной бабе в ученики идти? Чему она его научит? Пироги печь? Так она сама печет их с грехом пополам. Не научилась она хитрому бабьему ремеслу. Некогда ей было учиться, да и не для кого. Это которая баба в молодых летах замуж выскочит да к строгому мужу попадет или к свекрови дельной, вот та становится мастерицей. А у тети Поли личная жизнь не получилась. С малолетства мечтала о ребенке. Лет шестнадцати влюбилась в Шурку Слепцова, Лешкиного брата. И он вроде бы всей душой к ней. Может, со временем и поженились бы, да незадача вышла. Как-то после комсомольского собрания пошел Слепцов ее провожать. Вышли за околицу, он и спрашивает: «Не осердишься, ежели я тебя поцелую?» — «Не осержусь», — ответила Полина. Тут ее Шурка обнял, а в это время, откуда ни возьмись, председатель Петр Сальников… То ли почудилось ему что нехорошее, то ли просто был он от природы злым человеком, а только пришел он на следующее комсомольское собрание и принялся стыдить обоих и разные обидные слова говорить. «Страна, говорит, социализм строит, за пролетарскую культуру борется, а у нас двое лучших комсомольцев забыли о своем интернациональном долге и предаются личным мещанским страстишкам и прочему блуду, чем позорят имя комсомольцев и подают нехороший пример несоюзной молодежи».
После такого собрания Полине впору было утопиться. Все смотрели на нее, как на порченую, а от того, что молчали, даже хуже: не начинать же самой объясняться! Шурке — что! Уехал на стройку, и все. Ему бы остаться… Может, как случайно и прояснилось бы… А он уехал. Мол, расхлебывай тут одна…
Больше уж она ни с кем в любовь не играла. Сначала Шурку ждала. Потом узнала, что он женился, и ждать перестала, но к парням с тех пор относилась с осторожностью. Так и проосторожничала до самой войны. Когда последних ухажеров забрили, пожалела, да уж поздно. С войны мало кто вернулся. Из ее товарок самой счастливой оказалась Мотя Яркова. Ее Лешка целехонький возвратился, с орденом и пятью медалями. Между прочим, Полина с ними обоими новую жизнь свою начинала. Дома их в деревне стояли рядом, и грамоте они учились вместе. Отца Полина не помнила. Жили они с матерью страсть как бедно. Может, потому она и в активистки первой записалась: болтали, будто кто — за Советскую власть, тому пайки выдавать будут… Спервоначалу-то не одна она этак-то вписалась. Мотя Яркова вписалась из-за Лешки, это все знали. Такой она и осталась: ничего своего, куда Лешка, туда и она. А Полина — наоборот. Ей чужая голова — не указ. Выучилась грамоте, стала книжки читать, поняла, что не зря вписалась, что и революция, и Советская власть, и комсомол — все это как раз для нее и для таких, как она.
Когда комсомольского секретаря Егора Чернова убили, она стала секретарем. При ней над Лешкой разразилась беда. Послали его как-то в город за газетами, а он возьми да и вступи там в спор с каким-то грамотеем. Начал свою точку зрения на мировую революцию излагать. Как же: сами с усами! Слово за слово… А Лешка — он такой: если что не по нем, лезет драться. Должно быть, он того грамотея тряхнул маленько, чтоб правоту доказать, а грамотей-то оказался кляузным. Написал куда-то, будто Лешка — троцкист или там еще кто-то…
Шумное было время, горячее. Под стать времени был у них председатель Петр Сальников. Чуть что не по нем — за наган. Стрелять — не стрелял, а грозился страшно. «Я, говорит, не я буду, ежели всю контру в Огаркове не изничтожу!» Поставил вопрос о Лешке, выступил, убедил… Выгнали Лешку из комсомола. Его выгнали, а Матрену пожалели, оставили. Ограничились выговором за связь с контрой. Только Матрена на этот выговор наплевала и Лешку не бросила. Вдвоем они из Огаркова уехали, и Полина их провожала, да еще Матрене на дорогу свою кофту отдала. Сальников рассвирепел, стал требовать, чтобы и ее исключили, да ребята-комсомольцы заупрямились: кому, как не Одинцовой в комсомоле состоять!
Не вышло тогда у Петра. Горячий был парень. С горячности своей и поскользнулся. Когда началась коллективизация, он уж больно круто за дело взялся, ни с кем не посоветовался, наган в руку и пошел по дворам… А потом комиссия приехала из области, разбиралась и Сальникова сняли. Думали, он в колхозе останется, который сам зачинал, а он — ни в какую: «Раз, говорит, меня здесь не поняли, прощайте! Петр Сальников еще себя покажет!» И уехал в город. С тех пор про него ни слуху ни духу.
С Лешкой и Мотей Полина встретилась уже здесь, на стройке. Жили опять вместе, в одном бараке. Налево женская половина, направо — мужская. Это которые холостые. Женатики — за занавесочками. Потом им новый барак построили. С перегородками.
Он и здесь работал хорошо. Другой раз Мотька заленится — она на четвертом месяце беременности ходила— Лешка ее пристыдит: «Ты чего это? Социализм строить не хочешь?» Кабы троцкистом али еще каким порченым был, наверное, таких слов не говорил бы…
Когда первый корпус построили, всех ударников, в том числе и Лешку, послали учиться. Выучился, вернулся, опять они с Мотей вместе. Счастливые! В горе ли, в радости — всегда вместе. Семья! А у Полины — бригада… И в войну, и после войны, и в будни, и в праздники— бригада. Иной раз, бывало, взгрустнется по-бабьи и плакать вроде захочется, а нельзя: на Полину Одинцову люди смотрят!
В войну к ним на завод прямо с фронта танкисты приезжали. Мужики что надо! Теперь таких вроде бы и нет… Один ей запомнился особенно. Вениамином звали. Приехало их тогда сразу пять человек. Иван, Гриша, Степан, Иосиф и этот… Вениамин. От самой Москвы на грузовике ехали, устали, а вошли в цех, улыбаются. «Мы, говорят, товарищи женщины, к вам, можно сказать, на минуточку. Пока вы нашего „Клима“ отремонтируете. Так что просим любить и жаловать»… Девчата и бабы заволновались, а самый высокий, самый красивый подходит прямо к Полине и говорит:
— Разрешите представиться? Старший лейтенант Вениамин Рябухин, сын собственных родителей, родился по собственному желанию без помощи соседей… — и понес, и понес! Девки рты разинули, слушают его прибаутки. Евдокия Сорокина Полину в бок толкает:
— Ох, подруженька, с этим держи ухо востро!
А на Полину в тот час словно оцепенение нашло. Умом-то понимает, что парень не дело мелет и не гоже ей, бригадиру, у всех на виду его байки слушать, а удержаться не может: глядит на него и глаз не сводит.
Стали они прощаться, Рябухин шепчет:
— После смены — у проходной!
Весь день она была словно в бреду. Что говорят — вполуха слышала, что сама делала — вполглаза видела. Бабы, глядя на нее, потешаются:
— Ай да старший лейтенант! Сразил бригадиршу наповал!
— Долго не прицеливался: хлоп! и — в яблочко!
— На других пристрелялся…
— И то сказать: девка все еще нецелованная ходит.
— Токо бы он ее не обидел!
— А, чего там! Для таких, как мы, перестарков и обмануться — счастье!
Перед концом смены — митинг. Парторг Лосев речь говорил.
— Товарищи женщины! Коварный враг рвется к Москве! Долг наших воинов — не пустить его в столицу. Наш с вами долг — помочь воинам. Партийная организация предлагает всем рабочим остаться в цехах, пока боевые машины не будут отремонтированы! Кто — за?
Хотела Полина отпроситься на часок, да передумала. Чем она лучше других? У Евдокии Сорокиной дома трое ребят, у Капитолины — пятеро, у Фроськи братишка трехлетний и больная мать… К тому же Одинцова не рядовая. Одинцова — бригадир, на нее народ смотрит! Когда Лосев спросил: «Кто — за?», — все на нее оглянулись. Подняла она руку, и все подняли… Нет, нельзя ей отлучаться из цеха!
Вениамина она увидела через три дня, когда танкистам вручали их машины. Стоял он на трибуне серьезен, задумчив и все поверх людских голов кого-то высматривал. Может, ее… Только она не подошла. Боялась расплакаться у всех на глазах…
Был еще один из тех, что ей самой нравился. Иваном звали. Пришел в цех прямо из госпиталя. До войны немного слесарил, а тут его сразу мастером сделали. Поработал с неделю и явился к Полине — она тогда в механическом была профоргом…
— Не могу! Совестно! Девчонки умеют работать лучше меня! Завтра пойду проситься в слесаря, а сегодня дай мне тридцатку до получки!
— На что тебе тридцатка?
— Пойду напьюсь.
Долго они говорили в тот вечер. И ссорились, и опять мирились. Напоследок решили: Иван поработает мастером до конца квартала. Не получится, уйдет из мастеров.
Задумчив ушел Иван. И про тридцатку забыл…
А со следующей недели все пошло у него как по маслу. Металл ему нужен — пожалуйста, в первую очередь. Премировать кого надумает — начальство не откажет. Девчонки в цеху работают на совесть, водопроводчики (есть же на свете добрые люди!) в механическом первую на ремзаводе душевую соорудили и из котельной горячую воду подвели. Девчата из дому цветов натаскали, электрики дополнительное освещение сделали, а главное, к концу квартала весь цех, прежде отстающий, стал передовикам на пятки наступать…
Повеселел мужик. Как-то спросила его Полина:
— Ну что, Тузов, уходишь из мастеров?
Засмеялся, почесал в затылке.
— Обожду. Мои девчата Знамя у литейщиков отобрать надумали… Не могу я их в такой момент оставить.
Однажды, накануне Первомая, видит Полина: топает Иван не в ту сторону, в какую весь народ идет…
— Куда, Ванюша?
— Известно куда, в общежитие.
— А в клуб не хочешь? Там сегодня молодежный вечер, весь твой цех там. Танцуют.
Нахмурился Тузов, пошевелил костылями, сказал, точно выстрелил:
— Я свое под Курском оттанцевал!
Знала Полина: в последнее время у него дружки завелись. Тянут в свою компанию, водкой поят…
— Вот что, мастер, помоги-ко мне картошку до дому донести. Тебе все одно делать нечего.
Взялся нехотя, донес до ворот…
— Ну, все, что ли? Тогда я пошел.
— Ты чего же это женщину посередь дороги бросаешь? Кавалер называется! В лестницу-то помоги взойти!
Так полегонечку и в комнату к себе заманила.
— Без ужина не отпущу! Скажешь, плохая хозяйка…
Отказаться бы, да вдруг подумает, бабы испугался!
— Я ж прямо с работы! Руки вон какие…
Отвела на кухню, мыло дала духовитое, полотенце белоснежное. Покуда он, умытый и причесанный, журнальчики в ее комнате разглядывал, она и ужин сготовила. Иван ел и похваливал: вроде еда та же, что в столовой, а есть куда приятнее, и запах такой от еды, что у голодного человека голова кружится и в животе стонет…
После ужина дотемна сидели, говорили о житье-бытье. Не сразу, понемному оттаивал Иван, словно сильно замороженный судак. Потеплели глаза, заулыбались. Уходя, совсем осмелел, признался:
— Я думал, ты меня к себе в постель ведешь. Не обижайся, видывал таких… Не уважаю! А ты — вон какая!
— Какая же?
Он смутился, покраснел, долго искал подходящее слово.
— Свойская ты, вот какая! И добрая. Тебя обидеть — что ребенка ударить!
И, пожав ей руку, он ушел, а она еще долго стояла, опершись о притолоку и думала: «Останься, глупый! Не обидишь…».
Сказать этого вслух Полина не могла. Сначала она и сама не знала, чего в ее чувстве к нему больше: бабьей любви или материнской нежности. Был Тузов неприкаянный, неухоженный, в одной рубашке с шинельными пуговицами на воротнике, в солдатских брюках, из которых вместо носового платка выглядывал штангенциркуль…
Вернувшись в комнату, она легла ничком на кушетку, с удивлением прислушиваясь к сильным толчкам сердца. Только выпив воды, начала понемногу успокаиваться. Уже засыпая, подумала: «Не забыть завтра наказать девчатам, чтобы постирали с него все… Клаве скажу, она тоже… „свойская“…»
Дня через два Тузов появился в цеху в новой рубашке.
— Вот, девчата пристыдили, велели купить новую… Нравится?
Волосы его были коротко подстрижены и пахли одеколоном. Еще через месяц Полина увидела на нем новый костюм. Костыля больше не было: мастер опирался на палку.
— Знаешь, Полина, — сказал он, доверительно взяв ее за руку, — с тех пор, как у меня в цехе дела пошли в гору, я сам начал быстрей выздоравливать! Человеком себя почувствовал!
— Жениться тебе надо, Ваня! — сказала Полина и смутилась. Он понял по-своему.
— И то! Слушай, может, Клавдия пойдет? Ты уж ей подскажи, тетя Поля!
Свадьба была веселой, шумной. Клавдия — баба красивая, разбитная, по годам не старше Полины, но нрава легкого, неунывающего. Гости — весь механический цех да половина литейного — чувствовали себя как дома, веселились, пели и пили напропалую. Война только-только кончилась, фронтовики возвращались пачками, свадьбы, как праздничные салюты, гремели повсюду. Кто-то дождался своего, кто-то в суматохе подхватил чужого… После полуночи Клавдиной свадьбе стало тесно в четырех стенах. Сначала она выплеснулась в общий коридор, захватив его во всю длину, потом хлынула на лестницу и дальше, в светлую, теплую, майскую ночь. Плясали и под гармошку, и под гитару, и под радиолу, и просто так, под «тра-ля-ля», под разудалые, незнающие стыда деревенские частушки. Клавдия, красная от вина и от счастья, плясала и пела больше всех. Кавалерами ее были подружки да иногда единственный на свадьбе парень — гармонист, шестнадцатилетний племянник Евдокии Сорокиной Сашка.
Иван, почти трезвый, — много пить остерегался, чтобы не натворить глупостей, — сидел в стороне, не выпуская из рук палку, растерянно и ласково улыбался, не сводя глаз с Полины. Она же, взяв из рук свахи стакан с водкой, храбро отпила половину и вдруг пошла прямо на него, крикнув Сашке:
— Играй польку!
Иван побледнел и перестал улыбаться.
— А ну, жених, — сказала Полина, — бросай палку к чертовой матери, я с тобой танцевать хочу?
Ночь гремела от бабьего хохота, а она тянула его в круг, и кто-то во хмелю дурашливо помогал ей, вырывая из его руки палку. Наконец он сдался, а может, снова поверил ей, как привык верить во всем, одернул на себе гимнастерку, звякнул медалями во внезапно наступившей тишине и пошел, осторожно ступая, с благодарностью чувствуя на своей спине сильную руку Полины, сразу оглохший от волнения и одуревший от счастья. Позови его Полина в эту минуту, и он пошел бы за ней на край света, стал драться за нее с кем угодно, отверг любимую женщину… Но она ничего не сказала, не позвала, а Иван не знал, как ей трудно.
Еще труднее стало после, когда приходилось постоянно сталкиваться по утрам возле умывальника, на кухне, на лестнице… Должно быть, и ему было не легче, потому что года через три он забрал Клавдию, маленького Юрку и уехал в Рязань.
Только через десять лет Иван подал о себе весточку: прислал сына учиться в техническое училище, а Полину попросил за ним присматривать,
Глава вторая
К тому времени, как Юрке приехать, жизнь Полины Одинцовой прочно вошла в глубокую и ровную колею и катилась без встрясок и волнений. Теперь уже все начальство, независимо от возраста, называло ее «тетей Полей». Поскольку ее всегда куда-нибудь избирали, никто не помнил ее недолжностным лицом и никому не приходило в голову взглянуть на нее просто как на женщину. Кто-то ошибался, нарушал, давал слово исправиться и исправлялся или вновь нарушал, а она, непогрешимая и бесстрастная, строгая и до невозможности правильная, шла по жизни, гордо подняв голову с коротко стриженными волосами.
Голова у Полины Одинцовой была красивой, но у нее были плечи грузчика и руки покрытые жесткими мозолями. Еще у нее была привычка ходить и в будни, а иногда и в праздники в старой спецовке и мужских кирзовых сапогах. Полина принадлежала всем и никому. Ее любили, чувствуя по-детски привязчивую душу и доброту, и равнодушно пользовались ее услугами. Они, эти услуги, подразумевались сами собой, вытекали из ее бесчисленных общественных нагрузок и ее характера и тут же забывались, потому что она сама не понимала, что можно жить иначе. Завод стремительно летел в будущее. Он разрастался ввысь и вширь и давно уже перестал именоваться «ремзаводом». Появились новые цеха, оборудование. Старое довоенное и даже послевоенное откатывалось все дальше от основных цехов, а то и вовсе шло на переплавку. Вместе с оборудованием уходили, откатывались назад люди, которые некогда осваивали то, что сейчас безнадежно устарело. Большинство уходило на пенсию. Их провожали торжественно и вскоре забывали, уносимые скоростями атомного века.
Полина еще некоторое время работала в механическом цеху. Сначала она была бригадиром, потом помощником мастера. Затем ее карьера круто пошла под гору. Ее никто ниоткуда не увольнял. Она уходила сама, понуждаемая одним лишь здравым смыслом и интересами производства. Уходила без сожаления, уступая место молодым, грамотным, способным. Время требовало от людей все больших знаний, и трудно приходилось тем, у кого этих знаний не было. Правда, некоторые хитрили. Иной у себя в цеху вовсе не «тянул», но состоял одновременно на нескольких выборных должностях, охотно выполнял поручения, был активен на собраниях, и уволить такого у директора как-то не поднималась рука.
Полина хитрить не могла и не хотела. Из поммастеров она перешла в слесари. Совсем оставить цех было свыше ее сил. Несмотря на то что он изменился сверху донизу от станков до живых людей, Полина продолжала жить его жизнью, его интересами, понимала его, этот новый цех и новых людей. Они были мало похожи на прежних. У них все было иное, чем у нее в этом возрасте, и в то же время много общего. Многое было лучше, светлее, чище, и тогда Полина радовалась вместе с ними; кое-что ей не нравилось, и тогда она мучалась, но уже в одиночку. Полина старела на глазах у всех, и поэтому никто не замечал, что она стареет, да и она сама как-то забывала о своих годах. Глянув ненароком в зеркало и увидев свои, еще более поседевшие волосы, удивленно приподнимала брови. Она не представляла себя вне этих людей и не знала, что станет делать, если начальству вдруг придет в голову перевести ее в другое место. За эти годы она успела поработать в разных бригадах, сейчас большинство из них были ликвидированы за ненадобностью. Бетон, например, на заводе больше не делали, а привозили в готовом виде на самосвалах, котлованы копали машины, в литейном, механическом, сборочном ту работу, которую она с товарками делала вручную, производили автоматы. Ее старая спецовка теперь странно выглядела среди обычных костюмов, платьев и белых рубашек.
Одинцова ушла в бригаду строителей и стала заниматься тем, с чего начинала трудовой путь много лет назад, но вскоре поняла, что работа строителя для нее тяжела. Перейти в заводоуправление ей не приходило в голову. Даже в прежние времена люди, работавшие в заводской конторе рядом с директором, были для нее существами высшего типа.
Однажды, когда они со своей напарницей Зиной Сачковой сидели на лесах почти готового к сдаче корпуса, Полина сказала, мечтательно глядя вокруг:
— Красотища какая! Век бы отсюда не уходила!
Зина тоже посмотрела вокруг, но ничего не увидела, кроме серых прямоугольных корпусов, огромных труб, из которых валил дым, и чахлых тополей на центральной аллее, которые, сколько ни растут, не могут вырасти.
— Нашла красоту! А воздух — одна отрава! Володька мой говорит, будто я с лица спала… Верно, ай нет?
Ни та, ни другая не видели, что позади них стоит сам директор завода. После подъема, он тяжело дышал и поэтому заговорил отрывисто, словно сердясь:
— Красота, в самом деле, перед вами. Вы только присмотритесь хорошенько, вот как ваша напарница… — и запнулся, узнав Одинцову. — Так ты здесь, тетя Поля?!
— Здесь, Григорий Петрович.
— Так, так… Ну, здравствуй!
— Ой, нет нет! — она испуганно спрятала свою испачканную в цементе руку. — Только не это!
Ей было стыдно и страшно оттого, что она обидела хорошего человека, а он, как нарочно, не торопился убирать свою белую, с синими венами руку…
— Здравствуй, говорю, тетя Поля! Что же, ты мне и руки не хочешь подать?
Она укоризненно покачала головой:
— И как же это вы могли такое сказать, Григорий Петрович?!
— Тогда в чем же дело?
— Да вы гляньте, какие они!
Она, смеясь, протянула ему свои руки, ладонями вверх. И вдруг все увидели, как директор завода взял ее ладони в свои, наклонился и поцеловал грязную, жесткую руку Полины Одинцовой.
— Что вы! Зачем? — ужаснулась Полина, пятясь назад. В ее глазах стояли слезы.
Не говоря ни слова, Самсонов повернулся и пошел вниз по лестнице. За ним, переглядываясь и пожимая плечами, двинулись какие-то люди с портфелями, за ними десятник Иван Палыч, мастер Старостин и прораб Макурин. Последний несколько раз оглянулся на Полину, но пальцем погрозил почему-то Зине Сачковой…
Утром Полина узнала, что ее работа на строительной площадке закончилась. Впервые ее переводили на другую работу без ее согласия.
— Эка невидаль! — сказала Зина. — Штаты урезали, вот и рассовывают, кого куда. Сегодня тебя, завтра меня…
— Ежели бы чего со штатами, я бы знал… — раздумчиво проговорил Макурин. — Пойти разве узнать у Сметанкина?
Через полчаса он вернулся и, глядя на Полину, произнес:
— Не ожидал я от тебя такой прыти, Одинцова! Эк, куды взлетела! Добро бы еще Зинка, а то — ты!
За неимением других вакантных должностей Григорий Петрович предложил Полине место своего секретаря. Приемная и кабинет директора находились на пятом этаже, только кабинет выходил окнами на городское шоссе, а приемная — во двор. Из окна тете Поле был виден весь завод до самых дальних складов, до железнодорожных путей и дальше, до бывшего картофельного поля, где теперь строился третий литейный. Для Самсонова Полина была человеком проверенным, поэтому он к ней не приглядывался, а сразу определил круг ее обязанностей…
— Привыкай, вникай во все дела, а если я что забуду, напомни…
Все, кроме самой Полины, догадывались о причине столь странного назначения и молчаливо отдавали должное доброте и человечности директора. Что касается тети Поли, то она отнеслась к своей новой должности без тени сомнения: начальству лучше знать, кого к какой работе приставить… Впрочем, она довольно быстро сделала успехи, которых от нее никто не ожидал: научилась обращаться с телефонами, справочниками, картотекой и довольно сложной сигнализацией. Недоверие вызывал у нее только огромный аппарат — новейший тип селектора со множеством рычажков, лампочек и кнопочек. Вскоре селектор перетащили в кабинет директора, и тетя Поля осталась одна в приемной в окружении трех телефонов, громадного сейфа и строгих стульев с жесткими сиденьями.
В первый же день подружка Евдокия Сорокина — она здесь давно уже работала уборщицей — подсказала ей, что директор уважает очень крепкий чай и обязательно чтоб был горячий. Вечером тетя Поля сбегала в магазин и купила электрическую плитку. Потом зашла в булочную и взяла два кило сушек и два кило пряников. Сахар здесь тоже имелся, но только рафинад, а тетя Поля рафинад не уважала и была уверена, что Самсонов тоже не станет пить чай с рафинадом.
Кусковой она нашла далеко за городом в поселке и, довольная, возвратилась домой. На другое утро все это, вместе с чайником было перенесено в приемную директора.
В тот же день на работу вышел Лосев. Тетя Поля не видела его почти полгода, а когда увидела, ахнула. Партийный секретарь в свои неполные пятьдесят лет выглядел стариком. Даже волосы его, прежде черные, сделались наполовину белыми. Двигался он, опираясь на палку.
Они молчаливо обрадовались друг другу, хотя Лосев немного удивился, увидев тетю Полю на месте секретаря. Должно быть, на ее лице он прочитал сострадание, потому что нахмурился и спросил, беспокойно заглядывая в глаза:
— Чего испугалась, Одинцова? Страшен, да? Это меня немцы — медики в Баден-Бадене так измотали. Ведь не хотел туда ехать, не хотел! Лучше бы в лес. В деревню. Давно бы здоров был.
— Операцию делали? — спросила Полина.
Он махнул рукой:
— А! И оперировали, и так лечили. Водами… Петрович у себя?
Лосев прошел к директору, а Полина занялась делами. Не умела она сидеть сложа руки. Очень уж они с Самсоновым в этом были похожи. Он на завод приходил первым, а уходил последним. Обойдет участки, с кем надо побеседует на месте, кого надо вызовет в кабинет.
Потом если не совещание, то еще что-нибудь. В два часа ровно посылал в буфет за бутербродами и до половины третьего никого к себе не впускал. Обедал… Потом принимал по личным… А после уходил в цеха до самого вечера.
Пряниками и сушками тетя Поля его все-таки попотчевала. Случилось это так: однажды Лосев, проходя мимо, заметил пар в приемной директора, шедший из-за несгораемого шкафа, заглянул туда и увидел электроплитку, на которой парил старый нэпмановский чайник.
— Ты чего это придумала, тетя Поля? Столовой тебе мало?
Подошел директор и тоже заглянул за шкаф.
— Гляди, спалишь приемную!
Полина объяснила, в чем дело. Глянули парторг и директор друг на друга, хотели рассмеяться, да раздумали…
— Может, в самом деле, почаевничаем? — спросил парторга директор.
— Отчего бы нам и не почаевничать, Григорий Петрович? — ответил Лосев.
В самый разгар чаепития в приемную ввалилась целая толпа. Полина думала — иностранцы. Оказалось — горьковчане. Приехали опытом обмениваться. И чудные какие-то попались. Вылупили глаза и стоят, молчат. А директор сидит, развалясь, блюдечко в растопыренных пальцах держит, парок отдувает и спрашивает:
— Где же ваше «хлеб-соль», уважаемые? Нехорошо!
А Лосев сахар с треском разгрызает и говорит:
— Чему только нынче в институтах учат?
Посмеялись. И Полина вместе со всеми…
С того дня Григорий Петрович частенько к ней на чай стал напрашиваться. Особенно когда допоздна засидится. Лосев тоже никогда не отказывался от угощения, потому как у тети Поли всегда наготове и чай крепкий, свежий, духовитый, не то что в столовой, и пряники или сушки. Вот только с сахаром она опростоволосилась: оба мужчины любили все-таки рафинад…
Раз как-то засиделись за чаем дольше обычного. Григорий Петрович о жизни своей рассказывал. В гражданскую служил в кавалерии, потом был комиссаром продотряда, секретарем райкома партии. В эту войну пошел добровольцем на фронт, а после госпиталя сам на завод попросился. Особенно тете Поле пришлось по душе, когда он про деревню рассказывал, про раскулачивание.
— Кулакам и «долгогривым», — сказал он, — от меня пощады не было!
— Небось в церквах тебе с тех пор «анафему» провозглашают… — заметил Лосев.
— А вот и не угадал! «Во здравие» помянули! Однажды…
— Поп был пьян?
— Опять не угадал. Вот как это было: еду раз с совещания из района. Ночь темная, дождливая. А в те времена, надо сказать, у нас в городе сильно пошаливали… Вижу, в свете фар старушка. Спешит куда-то. Одна посреди дороги и ни души кругом. Долго ли до греха? Остановил машину. «Садись, мамаша, подвезу». Старушка попалась бойкая, забралась в машину, командует: «В церкву! Скорея! К заутрене опаздываю!» Делать нечего, повез. Возле церкви остановился. «Вылезай, мамаша, приехали». — «Сперва, говорит, деньги получи». — «С богомольцев не беру». — «Коли так, я тебя в поминание запишу. „Во здравие“. Звать-то как?» — «Поминай, мамаша, старого грешника Григория!» Вот так, а ты говоришь, анафема!..
Первого сентября Григорий Петрович скончался. Пришла Полина утром на работу, села на свое место и видит: сидит в углу парторг Лосев. Мужик громадный, а плачет словно дитя малое. Тут она все и поняла.
Хоронили его всем заводом. Как стали из красного уголка выносить, литейщики свой гудок включили… За литейным загудел сборочный, за ним инструментальный. У этого голос побасовитей других, на всю округу слыхать… Новый директор, товарищ Балабан, вызвал главного механика:
— Прекратить сейчас же! Такие гудки можно подавать только в случае крупной аварии или воздушного налета.
А тот ему:
— Разве ж это не авария для всего завода? Какой человек ушел из жизни!
Говорят, авторитет приобрести трудно, удержать еще труднее, а потерять легче легкого. Лежа сейчас в своей комнате, оказавшаяся не у дел, тетя Поля перебирала в памяти все эти последние три месяца. Те самые, что без двух дней… Так, должно быть, грешники, попавшие в ад, силятся вспомнить грехи свои, однако ничего, кроме семечек, будь они неладны, припомнить не могла. Много раз перебирала она в памяти свой последний разговор с Балабаном. Понимала тетя Поля, что на каждый гнев у начальства должна быть своя причина. Та пятница и для директора выдалась не сладкой. Ждал он из Москвы комиссию… Но ждал с пустыми руками: квартальный план по основным показателям завод не выполнил, новое оборудование застряло где-то в пути, в семье у Балабана тоже что-то не ладилось. От всего этого, понятно, не возрадуешься. А тут еще семечки… Ну и сорвался человек. Не на московское же начальство ему кричать!
Простила тетя Поля директору его крик. Простила потому, что понимала: его работу с ее работой равнять никак нельзя. Думала, на этом все и кончится. Оказалось, только начиналось. Не забыл Юрий Осипович, не простил своей секретарше ее промаха.
От мыслей разных тоже устать можно. Раньше тетя Поля этого не замечала. Думала, мозгами ворочать — не бетон мешать…
Часу в восьмом вечера крикнула Марью Матвеевну:
— Будь добра, сходи в аптеку.
— Пошто?
— Лекарства купи. Лекарства мне надо. Заболела я.
— Какого тебе лекарства?
— Какого-нибудь. Которое подешевле.
Матвеевна оделась и пошла, но через минуту вернулась и преспокойно стала раздеваться: в самом низу лестницы ей опять перебежал дорогу горшковский кот.
— Непошто теперь идти. Хошь бы пришиб его кто, окаянного, холеру такую! Ей-богу, я бы гривенника не пожалела! Только б кто взялся. Вчерась соседка Рябова кричит в окно: «Беги, Матвеевна, в Лобановском селедку дают!» Выхожу я, а он, гад, холера эта, спокойненько этак мимо меня шествует… Хошь и знала я, что пути не будет, пошла на авось…
— Ну и что?
— Известно! Перед самым носом кончилась селедка! Да это уж точно: коли он дорогу перебежал, пути не будет!
Чтобы Полине не было скучно, она принесла из своей комнаты рукоделие и, удобно усевшись в кресло возле окна, принялась вязать чулок. Под стать шерстяной нитке было ее ворчание: неторопливое, бесконечное, тоскливое, крутившееся вокруг одного и того же: людской неблагодарности. У Матвеевны лицо похоже на большую вялую репу, а вся фигура, повыше живота, на вылезшее из опарницы тесто. Бровей у нее нет и, должно быть, никогда не было, глазки маленькие, круглые, светлые, не то серые, не то голубые, ротик маленький и губы собраны в куриную гузку или, как любила говорить сама Матвеевна, — в бантик. Эти губы — особая гордость старушки.
— Меня Левонтий за красоту взял, — говорит она, кокетливо поводя головой и самодовольно улыбаясь, — село наше большое, дворов двести, девок хоть пруд пруди, а он выбрал меня!
— Счастливая! — говорит Полина.
— Многие завидовали, — скромно опускает глаза Матвеевна, — мужчина был — что надо. Настоящий хозяин, не то что нынешние: законной жене слово поперек боятся сказать. В наше время все было не так. Бывало, мой приедет с базару — злющий-презлющий… «Чего, батюшка, не весел? Али приключилось чего?» А он молча — хлесь в ухо! «Пошто спрашиваешь? Жди, когда сам скажу!» В другой раз приедет, я уж молчу… Он меня опять в ухо. «За что, голубчик ты мой?!» — «Пошто не спрашиваешь про дела?»— «Так ведь ты серчаешь, мой ангел!» — «Дура! Всякому спросу — свое время». Так-то учили нашего брата!
— Узурпатор твой Леонтий, — сказала Полина.
Матвеевна подумала и расцвела.
— Уж не знаю, как там по-ученому, а мужчина был правильный.
Хлопнула, как выстрел, входная дверь, и в комнату влетел Юрка, сын Клавдии и Ивана. Работал он теперь на заводе, а жил в общежитии недалеко от тети Поли. Когда надоедали столовские обеды или свои деньги подходили к концу, Юрка появлялся у тети Поли. Исчезал он сразу же после получки, но тетя Поля упорно продолжала покупать для него сладости и вешать ключ от двери на видное место.
Сейчас у Юрки период безденежья. Одним движением он сбрасывает в угол куртку и садится за стол.
— Хошь бы руки помыл! — ворчит Матвеевна, но Юрке не до таких мелочей. Он даже не догадывается спросить, почему тетя Поля в такой час не на работе…
Но вот он справился с первым, включая добавку, уплел мигом сковороду жареной картошки, тарелку гречневой каши с молоком и уже с некоторым усилием выпил кружку киселя, икнул и уставился на тетю Полю.
— А ты почему дома?
— Уволили ее с работы! — заторопилась Матвеевна.
— Как это уволили? — удивился Юрка. — За что?
— За семечки.
— За какие семечки?!
— Подсолнечные, жареные, нешто не знаешь, какие оне бывают?
Юрка покрутил пальцем возле виска.
— Ты, Матвеевна, часом, не того?..
— Да что с тобой, с дураком, говорить-то! — рассердилась старушка. — Ветер еще в голове гуляет!
— Да расскажите толком! — завопил Юрка. — При чем тут семечки? А может, это детектив на местном материале?
— Сам ты дефектив! Человека уволили за то, что начальству не потрафила. Ей было сказано, не лузгать семечки, а она лузгала! А начальство этого не любит. Начальство уважать надо. Кто она такая супротив него?
Юрка в изумлении уставился на Полину.
— Кто бы мог подумать?! Нехорошо получается, тетя Поля!
— Вот и я говорю, нехорошо, — подобрела Матвеевна, — зачем начальству перечить? Оно на то и поставлено, чтобы его…
— Ведь как все было-то… — начала Полина, но Юрке снова не хватило времени ее выслушать. Молниеносно натянув куртку и подняв вверх кепку, он сказал:
— Салют революционерам!
Тут Матвеевна, вспомнив самое главное, ухватила его за полу.
— Слышь, Юрка, убей кота! Очень тебя прошy!
Глаза у парня стали круглыми.
— Позвольте уточнить: «кот» в прямом смысле или переносном? Если «кот» это наш уважаемый директор, то я на мокрое дело не пойду. Из принципа…
— Какой такой директор? — опешила Матвеевна. — Кот Мурзик, черный такой…
— Понятно! — зловеще проговорил Юрка. — Директор уволил тетю Полю… Мне предложено убить его любимого кота…
— Да не его кота, осел ты эдакий, а соседского! Горшковского Мурзика! Понял или нет? Я тебе за это гривенник дам.
— За гривенник не пойдет, — сказал Юрка, — хозяева заявят в Общество охраны живой природы. Нынче всем, кто природу обижает, — крышка. Прощайте.
— Обожди. Вот тебе двугривенный, только убей!
— Меньше рубля не возьму.
— Разбойник! — закричала Матвеевна. — За этакую тварь да целковый! Да я лучше сама себя поколотить дам…
Юрка убежал, напевая чудную песенку: «Черный кот, черный кот, с головы до хвоста — черный кот», а Матвеевна долго еще не могла успокоиться. Путаясь в нитках, ворчала:
— Из молодых, да ранний! Рубль ему отдай! Ишь ты!
Полина смеялась. После ухода Юрки ей показалось, что чувствует она себя немного лучше. Ей захотелось уехать куда-нибудь навсегда или очень надолго, где никто не слыхал о ее позоре.
— Уеду я, — сказала она, — в деревню уеду. Погостить. Побуду там с месяц или два и вернусь. Места у нас в Огаркове красивые. Лес кругом… А может, на работу устроюсь…
Матвеевна хотела возразить, но передумала.
И то верно. Чего тебе здеся околачиваться? Была бы у меня родня в деревне, и я бы поехала. Пра… Чего здеся хорошего? Пыль да копоть. И не мерекай, поезжай. Я тебе на дорогу сухариков насушу, а ты мне оттедова грибочков соленых привезешь. Груздочков али рыжичков. Грибы-то уж неделю как на рынке появились…
Глава третья
На директорскую должность Юрий Осипович не рвался. Тем более на ремзавод. Его устраивала должность главного инженера моторного. Отпускали его оттуда неохотно: Балабан умел работать сам и заставить работать других. Трошин, теперь уже его бывший директор, сказал на прощанье:
— Если бы не первый секретарь, ни за что бы не отпустил! До Москвы бы дошел, вселенский хай поднял! Но уж раз сам Лазарев сосватал, делать нечего, иди, брат. Не поминай, как говорится, лихом. Может, не всегда мы с тобой ладили, но ведь люди есть люди…
В Балабане счастливо сочетались редкостная память и талант организатора. Он строил, расширял, реконструировал завод, совершенствовал в нем каждый цех, стремясь до минимума сократить непроизводительное время. В мечтах он видел что-то вроде завода-автомата. За десять лет, пока Балабан был главным инженером, количество рабочих в основных цехах сократилось вдвое, состав КБ обновился на три четверти. На Балабана обижались, строчили жалобы директору, в главк, в министерство, не выдержав борьбы, увольнялись. О таких Юрий Осипович не жалел. Он называл это «естественным отбором». Оставшиеся были перспективны, полны сил и зарождающихся планов. Завод стремительно набирал темпы. Переходящее Красное знамя, казалось, навечно поселилось в кабинете секретаря парткома. О моторном говорили на всех совещаниях, на моторный водили экскурсии, иностранных специалистов и гостей, Трошин и Балабан были почетными гостями любых празднеств, их портреты висели на городской доске Почета. Любая инициатива моторного тотчас подхватывалась другими заводами, моторным интересовалась пресса, центральное телевидение, радио.
Перевод Балабана на ремзавод явился для всех неожиданностью. Пустили слушок, будто Юрий Осипович заслужил немилость вышестоящего начальства. На самом деле все вышло иначе.
Секретарь обкома Лазарев, сам в прошлом неплохой инженер, давно уже присматривался к инициативному, способному Балабану. Однажды на каком-то совещании Юрий Осипович случайно или намеренно вторгся с критикой во владения Самсонова и высказал, правда вскользь, дельную мысль о возможной реконструкции ремзавода. Лазарев записал его слова в книжечку. Вот почему, когда после смерти Самсонова возник вопрос, кого поставить на его место, Лазарев, не задумываясь, назвал кандидатуру Балабана.
На ремзаводе Юрий Осипович бывал довольно часто раньше. С покойным Самсоновым приезжал ругаться. Трудный был мужик, непокладистый, не легче самого Балабана. Ну да ведь им не детей крестить. Балабан мог поссориться с целым светом, если от этого будет польза производству. Придя на завод, он с неделю ходил по цехам, осматривал, выспрашивал, прощупывал. Девятого сентября в восемь ноль-ноль собрал мастеров, бригадиров, прорабов. В двенадцать у него сидели начальники цехов и смен, а в три Юрий Осипович беседовал с инженерно-техническим составом.
На следующий день он снова посетил цеха и горе было тому, кто на совещании девятого числа сказал неправду!
Большинство директоров начинают со знакомства с личными делами подчиненных. Ждали этого и от Балабана. Не дождавшись, начальник отдела кадров сам пришел к нему с кипой аккуратно прошнурованных папок. Балабан поднял на него свои черные цыганские глаза, всегда слегка прищуренные, и сказал:
— Прошлое работников меня не интересует, а чего каждый стоит в настоящее время, я узнаю сам.
У Балабана имелось какое-то особое чутье на никудышных людей. Не видя ни разу человека в глаза, он чувствовал его присутствие по едва заметным следам: ошибке в расчете конструкторского бюро, путанице в документах, бестолково составленной прорабом докладной, а бухгалтером— смете. Не доверяя никому, не желая ошибиться на первых порах, он сам контролировал работу цехов и проверял вместе с ОТК выход готовой продукции. Результаты такой проверки сказались быстро: из ОТК были уволены два контролера, из механического— четверо бракоделов. Начальнику цеха и бригадирам был объявлен строгий выговор. Железная рука Балабана привела в движение дремавший до этого товарищеский суд. Из инструментального цеха исчез наконец сутяга и склочник Антипов, из литейного двое пьяниц. Кривая директорского авторитета набирала высоту.
Однако недаром говорится, что и на старуху бывает проруха. Увлекшись, лихой всадник не удержался: рубанул по тому, на кого нельзя было даже замахиваться. Вместе с пьяницами из литейного он уволил Полину Одинцову.
Новость эту на заводе восприняли по-разному. Одни кинулись на защиту тети Поли, другие глубокомысленно раздумывали: ну как, в самом деле, чего натворила по своей доброте и неопытности! Но вот стала известна причина ее увольнения, и сомневающиеся прикусили языки. Были на ремзаводе разные директора: буйные, тихие, справедливые и не очень, капризные и покладистые. Не было только самодуров. Слово это сорвалось у кого-то с губ после того, как Юрка во всеуслышание рассказал про семечки… Когда шум, возникший в курилке, перекинулся на строительную площадку, прорабу Макурину ничего не оставалось, как оставить бутылочку с кефиром — дело было в обеденный перерыв — и идти к начальству. Своего парторга он застал в обществе главного инженера Ильина. Поняв, в чем дело, парторг побагровел.
— Что будем делать, Николай Евграфович? Самодур, выходит, наш новый-то!
Ильин ответил более сдержанно:
— Зря горячитесь, товарищи. Юрий Осипович показался мне человеком деловым, принципиальным. Вряд ли из-за такой чепухи мог уволить женщину. К тому же без согласия завкома это невозможно.
Разыскали председателя завкома Гусева. Выслушав всех, Гусев понял, что надвигается гроза, и спорить не стал:
— Очень возможно, что мы проглядели. Согласен. Бывает…
Вызвали двух членов, из тех, кто знал о приказе директора и был с ним согласен. Оказалось, каждый из них слышал о Полине Одинцовой, но кто она такая, толком не знал. Портить же отношения с «новым» им не хотелось.
Последним об увольнении Одинцовой узнал Лосев. Хромая сильнее обычного, вошел в приемную, где на месте тети Поли сидела разукрашенная, как клоун, девица и бойко стучала на машинке. На Лосева она взглянула краем глаза. Он рванул дверь директорского кабинета, запнулся о высокий порог, чертыхнулся. Увидев его, взъерошенного, красного, Балабан недовольно поморщился. Лосев начал, как всегда, без обиняков, глядя прямо в директорскую переносицу:
— С каких это пор директора начали увольнять рабочих, не посоветовавшись с парткомом?
Юрий Осипович нехотя оторвался от бумаг и поднял на Лосева затуманенные усталостью глаза.
— Насколько мне известно, вы были больны, Артем Иванович…
— Незачем было торопиться. Не навек еще залег Лосев!
— Я прошу ближе к делу, — мягко сказал Балабан, — с чем вы не согласны?
— С твоей манерой расправляться с неугодными!
— Артем Иванович, — Балабан слегка повысил голос, — я просил бы выбирать выражения. Уволить пьяниц — не значит расправиться с ними…
— Ты уволил Полину Одинцову!
— Одинцова? Кто такая? — брови Юрия Осиповича слегка приподнялись. Он вспоминал. Постепенно натренированная память стала рисовать ему нелепейшую фигуру в старомодной, почти по щиколотку, черной юбке, белых носочках и туфлях без каблуков…
— Ах, вот в чем дело! Да, уволил. Совершенно бесперспективная работница. — Он сделал небольшую паузу. — Скажите, Лосев, кому из вас пришло в голову сделать малограмотную, малокультурную женщину секретарем директора? Только честно! Обещаю: все останется между нами. А? Артем Иванович? Может быть, родственные чувства? Нет, не то? Но ведь и не… Да что я говорю: ей же пора на пенсию!.. Тогда что же? Это же, извините, черт знает что!
Лосев не мог не признать, что директор по-своему прав. Ну какой секретарь из тети Поли?
— Конечно, ей далеко до иных мамзелей… — начал Лосев, — но ведь она такой человек! Такой…
Нужное слово застряло где-то недалеко, но никак не находилось, а вместо него в голову парторга лезли стандартные, избитые, какие-то холостые слова. Так было с ним однажды, когда на батарею подвезли снаряды другого калибра. Сейчас единственным оружием Лосева могло быть красноречие, но Артем был хорошим солдатом и плохим оратором.
— Чего вы хотите? — перебил Юрий Осипович.
— Вернуть Одинцову на завод!
— Это невозможно. Я уже подписал приказ. И потом у меня план. План огромный. Мы его принимали и обязаны выполнить. А выполнить сможем, если каждый будет на своем месте, в том числе и управленческий аппарат, и работать в полную силу. Может быть, ваша протеже в бригаде еще поработала бы некоторое время… Что делать, такие, как она, к сожалению, еще есть, но раз уж так случилось… В общем, балласт нам не нужен. Извините за прямоту. Даю слово: через два-три месяца на заводе не останется ни одного человека, который бы не соответствовал занимаемой должности! Таков мой принцип. Он продиктован только интересами производства. Личной неприязни ни к кому из уволенных у меня нет.
— По отношению к Одинцовой ты поступил бесчеловечно!
— Я поступил так, как мне подсказывала моя партийная совесть.
— Совесть не может быть ни партийной, ни беспартийной, — сказал Лосев, — если ты поступаешь бессовестно, ты плохой коммунист!
— А вы, извините… — Балабан сдержался. — Идете на поводу у несознательных элементов! Не ожидал. Ну на что вам сдалась эта женщина? Да и кто она такая, чтобы из-за нее тратить дорогое время и портить друг другу нервы?!
— Кто она такая? — Лосев наконец понял свою ошибку: надо было в самом начале разговора рассказать Юрию Осиповичу о Полине… — Да ты только послушай, что я тебе расскажу! — он начал рассказывать о долгой и трудной жизни Полины Одинцовой, о первых днях ремзавода, о красных косынках и ударных бригадах, о субботниках и воскресниках, обо всем, что знал сам или слышал от других. Балабан слушал внимательно, с сочувствием глядя в багровое от напряжения лицо парторга, и часто кивал головой в знак того, что это ему хорошо известно. Ободренный этими кивками, Лосев увлекся, голос его зазвенел, в нем появился пафос, тот самый вдохновенный подъем, которого ему так не хватало во время официальных выступлений… Лосев не знал, что, слушая, Балабан думал о другом. О том, что ведь может же человек, на вид больной и вообще не слишком разговорчивый, найти в себе силы и красноречие, чтобы доказывать почти недоказуемое…
Лосев наконец замолчал. Он понемногу успокаивался, уверенный, что его страстная речь произвела нужное впечатление.
Но парторг плохо знал Балабана. Выждав ровно столько, сколько было нужно, чтобы не нарушить приличие, он взглянул на часы. Затем встал и заученным жестом почти обнял сидящего парторга за плечи.
— Дорогой мой партийный секретарь! Если бы мы имели возможность всем людям без исключения делать только добро, мы давно бы превратились в ангелов! Но мы строим не царствие небесное, а завод. Нам некогда! От нас уже сейчас ждут продукции по новому плану, а мы еще только разворачиваемся. Почему? Да все потому… Припомни, сколько народу работало раньше в третьем цехе?
— Около ста пятидесяти человек.
— Правильно. А сколько осталось, когда установили автоматы? Тридцать. А где остальные сто двадцать? Да все здесь же, на заводе! За счет третьего в восьмом, девятом и пятом раздули штаты. Выиграл завод в конечном счете? Проиграл! Недавно я уволил пьяниц. Завком и ты были с этим согласны. А нынче эти пьяницы подали на меня в суд…
— Но Одинцова — совсем другое дело, пойми ты! — Лосев поднялся, но Балабан решительно и осторожно придавил его своей рукой, заставил снова сесть.
— Артем Иванович, мне так же, как и вам, дорога история завода. Дороги и люди ее создавшие, но, поймите меня правильно, те, кто в свое время двигал эту историю вперед, теперь, оставаясь на производстве, зачастую становятся ее тормозами. Я имею в виду не только таких, как ваша Одинцова, но и тех, кто повыше… И не только из-за собственной немочи. Многие еще достаточно сильны телом и духом, и если бы жизнь стояла на месте, они бы по-прежнему приносили пользу. Беда для них в том, что она двигается.
— Тетя Поля к заводу пуповиной приросла.
— Знаете что, Артем Иванович, не верю я что-то в эти приросшие пуповины. Привычка, конечно, есть у многих, но чтобы до такой степени… В конце концов здесь не санаторий какой-нибудь, не дом отдыха, а завод. Дым, копоть, шум и, конечно, работа. Тяжелая работа! Особенно для женщины. Женщина самой природой создана для семьи, а не для… отбойных молотков и вагранок. Мы автоматизируем многие процессы. Если бы ваша Одинцова имела специальную подготовку, я, уж так и быть, поставил бы ее на контроль, но у нее нет даже семи классов… Что же вы от меня хотите? Она может работать только там, где нет математики, а таких мест на заводе становится все меньше. Лучше давайте поможем ей устроиться где-нибудь на другом предприятии. Я сегодня свяжусь кое с кем.
— Не нужна Одинцовой твоя помощь. И другой завод ей не нужен. Она этот своими руками построила, ей здесь каждый кирпич дорог. Нет у нее другого интереса в жизни, кроме интересов нашего завода. Так уж получилось: ее товарищи образование заимели, растут ввысь, иные кандидатами наук стали, а она как была, так и осталась рабочей. Другим уступила свое место за партой, хотя, может, больше других прав на него имела. А время упустила, потом уж учиться поздно. Так и получилось, что работа для нее единственная радость. Я на фронте силу и здоровье потерял, ты, говорят, диссертацию пишешь, значит, тоже здесь ненадолго, а для нее — радость. Многим, особенно молодежи, она кажется странной, а я ее понимаю. Понимаю все поколение таких женщин. Оно, в самом деле, особенное, это поколение. Кто из нас сейчас согласится работать бесплатно, без надежды вообще получить сполна за свои труды? Думаю, немногие. И не потому, что люди хуже стали. Просто они привыкли за эти годы жить широко, ни в чем себе не отказывая, а это, сам знаешь, какая вязкая привычка. Моя теща шестьдесят лет прожила без ванны и душа, в туалет, извини, ходила через весь огород и не жаловалась, а теперь на полдня горячую воду отключают, так дома кавардак: никто не хочет мыть посуду, все горячей воды дожидаются. Так это мелочь, а с большими деньгами еще сложнее. Сейчас любой молокосос, не успев закончить ПТУ, уже ищет, где больше платят. А ведь Полина не спрашивала, сколько ей заплатят. Надо было идти в горячий цех — мужиков всех навыгреб забрали на фронт — шла, случился прорыв в механическом — пошла в механический. Думаешь, почему она в свои немолодые годы на стройке очутилась? У прораба Макурина, видишь ли, людей не хватало… А ее сверхурочные! Да если их всe сейчас собрать, то у нее года два отпуска получится! Спрашивает она с завода эти годы? Не спрашивает. Ей такое и в голову не приходит. А ведь это все частицы ее личной жизни, ее нервные клетки, ее молодость! Как бы они ей сейчас пригодились, эти нервные клетки! Говорят, не восстанавливаются… Как-то я на днях твою супругу встретил и не удержался, сравнил ее с нашей Полиной и кое с кем из ее товарок… Ты, Юрий Осипович, только не обижайся, но, должно быть, твоя половина и дня на производстве не рабатывала. Не вставала ни разу к заводскому гудку, не знает, что такое ночная смена…
— Не о том речь ведете, товарищ Лосев, — поморщился Юрий Осипович, — в конце концов я ее на свою зарплату содержу. Нашему брату нынче по-иному нельзя. Если жена в определенный час тарелку с супом перед носом не поставит, так про обед три дня и не вспомнишь. Не до того…
— Я же сказал, не в укор тебе, а для сравнения…
— И сравнивать незачем. Тогда было одно время — сейчас другое, а завтра, может, третье. Назавтра мне, возможно, по штату домработница будет положена! Когда-то, я слышал от отца, всех, кто носит галстук, причисляли к буржуям и из комсомола выгоняли, а теперь, попробуй, явись в министерство без галстука! Кстати, ты, кажется, обратил внимание на мою новую секретаршу… А видел, какие секретарши в министерстве? Прическа по последней парижской моде, манеры безукоризненные, улыбка — и та отрепетирована. Артистки и дипломатки вместе! А как иначе? Со всем миром торгуем, культурой обмениваемся, сотрудничаем, разговариваем. Уважать надо деловых людей! Уважать и привечать, если хочешь добра своей стране…
По-бычьи наклонив голову и глядя в пол, слушал парторг своего директора. Кто плохо знал Артема Лосева, мог подумать, что это человек упрямый и твердолобый. Мелькали такие мысли и у Балабана. «Пожалуй, нам с ним не сработаться, — думал Юрий Осипович, прохаживаясь в нетерпении по тесноватому для него кабинету предшественника, — что за странные люди собрались на этом заводе? Перед ними открывается широкая, светлая дорога прогресса, а они за старье цепляются».
— Деловых людей уважать, конечно, надо, — после долгого молчания заговорил Лосев, — но и своих обижать не стоит. Тете Поле, верно, далеко до тех министерских барышень, да только ведь и сами барышни, и их шефы со всеми своими персональными автомашинами обязаны все той же нашей Полине, ее подругам и товарищам, а не заграничным дипломатам и торгашам. Не их мошной, а руками наших отцов и матерей построено то, что мы имеем сейчас. Не было у Советской власти толстой мошны ни в двадцатые, ни в тридцатые, ни в сороковые годы, а ведь строили! И заводы строили, и Днепрогэсы, и в Америку через Северный полюс летали! И никто, заметь, больших денег за свой труд не требовал! Понимал, что не на дядю работает. Теперь, через столько лет, Советская власть и рада бы их труд компенсировать, да платить некому. Разве что надписью золотом по белому мрамору: «…от благодарных потомков»… Мне недавно один знакомый рассказывал: был он в одном южноафриканском порту, не то в Кейптауне, не то еще в каком-то и захотел сфотографировать на память группу молодых людей — по всей видимости бездельников, сидевших на пирсе. Очень, видишь ли, компания живописной показалась… Ну, сфотографировал и пошел своей дорогой, а они его за воротник — цап! «В чем дело, ребята?»— «Плати!» — «Так я же у вас ничего не покупал!»— «Все равно плати. Мы позировали»… Привычка, брат! Эти в долг работать не станут. Им сразу наличными подавай, а мало заплатишь, еще и морду набьют. Это не Полина Одинцова или Евдокия Сорокина. Не выгодно, говоришь, держать на заводе таких неквалифицированных рабочих? Эх, Юрий Осипович, если бы мы делали только то, что выгодно с экономической точки зрения, мы давно бы уже перестали считаться коммунистами. Переродились бы как общественная формация. Тем и трудна наша задача, что приходится в первую очередь думать о людях и только во вторую — о выгоде и целесообразности. Америку ни богатством, ни техникой не удивишь, а вот таких людей, как наша Полина, у них нет. Она не капиталы свои, не доллары, а жизнь свою в этот завод вложила! За границей те, кто выгодно капитал пристроил, в старости купоны стригут… Полине купонов не надо. Она довольна тем, что и сейчас еще пользу заводу приносит. А ты ее — раз! и уволил! Я-то теперь понимаю, в чем причина, да повод ты выбрал неудачный. Из-за семечек! Как бы тебе эти семечки боком не вышли!
Балабан в это время надевал плащ — собирался уходить. Один рукав он уже надел и хотел надевать другой, но вдруг замер, удивленно глядя в сутулую спину парторга.
— Из-за каких семечек?
Но Лосев уже вышел из кабинета.
Фраза, брошенная парторгом, была столь нелепой, что Юрий Осипович и не подумал догнать его и переспросить. Он пошел вниз к машине, но отголосок этой фразы, должно быть, все-таки засел где-то в мозгу, потому что, садясь рядом с шофером, Балабан вспомнил ее.
Подъезжая к зданию облпартпроса, где происходило совещание директоров родственных предприятий, вспомнил во второй раз и сердито сказал вслух:
— Какая чушь!
Но фраза от этого не исчезла. В течение дня она несколько раз возвращалась к нему и во время совещания, и после, по дороге домой. И каждый раз он повторял «какая чушь!», потому что ничего другого придумать не мог.
Жена удивилась: так рано он никогда не возвращался, и поспешила на кухню готовить ужин. Юрий Осипович посмотрел ей вслед, впервые отметив про себя ее сильно раздавшиеся формы… «Наверное, и сегодня будет все то же, что вчера! — раздраженно подумал он. — Никакой фантазии у человека!»
На столе валялся журнал мод. Франция предлагала пальто до пят с удлиненной талией и брюки клеш, похожие на матросские. Балабан отшвырнул журнал и взял газету, но в комнате дочери работал телевизор, и сосредоточиться было невозможно. Юрий Осипович ногой отворил дверь. Дочь сидела с ногами в кресле и грызла семечки. Шелухой был завален ее письменный стол, ковер на полу и страницы книги. Юрий Осипович для порядка несильно шлепнул ее по затылку и вдруг отчетливо вспомнил виденное недавно: свою приемную, странную пожилую женщину с коротко стриженными волосами. Она читала какие-то бумаги и грызла семечки, аккуратно собирая шелуху в подставленную ковшиком ладонь…
«Значит, все-таки были! — со злостью подумал Балабан. — Были проклятые семечки!» — и уже не помня себя, еще раз дал дочери подзатыльника…
На другой день первым в его кабинете появился заместитель Лосева Вихров. Во время болезни Лосева Вихров исполнял обязанности секретаря парткома. Поговорив немного о текущих делах и о предстоящем открытом партийном собрании, Вихров сказал:
— Хочу предупредить, Юрий Осипович: с Одинцовой вы дали маху. Могут быть неприятности.
Не глядя на Вихрова, Балабан спросил:
— В чем дело?
— Да в общем-то правильно уволили. Бесперспективная работница. Но… резонанс, понимаете, не тот на заводе! Неожиданный, я бы сказал, резонанс. Я, конечно, кое с кем из актива побеседовал, разъяснил, в чем дело, но… Если бы не эти проклятые семечки!
— Уйдите! — попросил Балабан. Вихров пожал плечами и ушел.
Следом за ним появился председатель завкома Гусев. Помявшись немного, начал окольными путями подбираться к тому, зачем пришел. Едва услышав, что они «поторопились, недоглядели» и что поднявшаяся в механическом «буза» может принести большие неприятности, Балабан и ему предложил уйти. Но тут из райкома партии позвонил первый секретарь Пирятинский. Оказывается, вчера вечером у него была делегация женщин с завода, требовавших возвращения на завод некой Одинцовой.
Юрий Осипович молчал.
— Ты меня слушаешь? — спросил Пирятинский. — Так вот учти и разберись. Человек этот, судя по всему, уважаемый, иначе бы народ ко мне не пришел. И еще: они тут толковали насчет каких-то семечек… Якобы ты из-за них уволил старейшую работницу. Я, разумеется, не поверил, но, похоже, что ты своих привычек не бросил…
— Это недоразумение, Николай Васильевич! — в отчаянии крикнул Балабан. — Уверяю вас!
— Не знаю, не знаю, — с сомнением проговорил Пирятинский, — если факт подтвердится, сам понимаешь… Такая реакция на заводе — не шутка…
Домой тетя Поля вернулась не через месяц, как обещала, а через два дня. По дороге с вокзала зашла на рынок, купила связку сушеных грибов, сметаны и творогу для Матвеевны. Старушка особенно обрадовалась грибам, как оказалось, сплошь белым, и только посетовала на свою память: забыла наказать привезти меду!
Огаркова на свете больше не существовало. Из писем троюродной сестры Алевтины Полина знала, что деревня признана бесперспективной и многие уже сейчас уезжают в город или в соседнее село, однако еще год назад в Огаркове оставалось домов пятнадцать…
— Чего ж теперя на том месте? — спросила Матвеевна, скорбно сложив пухлые ручки на коленях.
— А ничего. Глину какую-то там нашли, так все перекопали. Вот-вот промышленные разработки начнутся. Уже и бульдозеры пригнали, и вагонки для рабочих стоят, электролинию тянут.
— Да люди-то, люди где?! — трагически воскликнула Матвеевна.
— Что ж, люди… Теперь им не хуже. Болтали бабы в автобусе, будто и наша Алевтина в поселке живет в отдельной квартире с водопроводом, ванной, газом — все у нее есть. Только вот не написала раньше — это плохо. Этакую дорогу пришлось зазря ехать!
— Поселок-то далеко?
— В четырех километрах.
— Чего ж не сходила?
Полина не ответила.
Дня три она вообще никуда из комнаты не выходила. Будильник звенел, когда хотел, она по-прежнему вставала рано, одевалась, как раньше, на работу и… садилась у окна. Над крышами домов виднелись трубы ремзавода. Они давно уже не дымили — завод перешел на газ, — но Полина то и дело забывала об этом, и смутная тревога прокрадывалась в душу. На четвертый день она не выдержала: надела свое лучшее платье и пошла на завод. Стоя невдалеке от проходной, долго ждала, когда ночная смена пройдет мимо контролера. Сквозь стеклянную дверь она видела непроницаемое, подозрительно строгое лицо Трифоныча, проверявшего пропуска. Только немногие, и среди них Полина, знали, что Трифоныч наполовину слеп. Многолетняя привычка и усердие позволяют ему нести службу хорошо, и пока никто из начальства не догадывается, что Трифоныч давно уже не видит ничего, что написано мелким шрифтом…
Когда проходная опустела, Полина подошла, поздоровалась. Трифоныч едва заметно кивнул.
— Пропусти меня, Трифоныч, — попросила она, — к Тюнькину надо.
— Пропуск давай, — ответил Трифоныч, но руки не протянул.
— Нет у меня больше пропуска. Отобрали. Уволили меня с завода, чай, слышал…
— Пропуск! — сказал Трифоныч.
— Да ты что, не узнаешь меня, что ли? Одинцова я. Полина Одинцова. Я только войду и выйду. Мне к Тюнькину надо. Уборщицей хочу устроиться. Либо подсобницей. Не могу я без завода, пойми хоть ты!
— Пропуск! — сказал Трифоныч.
— Да нету у меня его! Отобрали.
— Разовый.
— Сама знаю, что разовый, да паспорт дома забыла, а возвращаться далеко. Сделай такую милость, пропусти!
— Гражданка, освободите помещение! — потребовал Трифоныч.
— Ух, аспид! — не выдержала тетя Поля и поплелась домой, ругая Трифоныча и его бестолковое начальство.
Ночь она не спала, лежала, глядя в потолок, на котором играли электрические сполохи. Будь Полина дряхлой старухой, ей, наверное, было бы легче. Вот Матвеевна живет — не тужит. Получит пенсию, отнесет в сберкассу и снимает каждый понедельник по пятерочке. Только и заботы, что в баню сходить или в магазин напротив. И руки у нее давно заплыли жиром, размягчились. А у Полины рука крепкая, мускулистая. Конечно, завод ей теперь уж не поднять, а что поменьше — она бы с радостью…
Следующее утро началось с чудес. Сперва появился Юрка. Он сильно стосковался по домашним обедам и набросился на вчерашние щи, мурлыкая и постанывая от удовольствия.
— Ну как там на заводе? — спросила Полина.
— А все в порядке. Тебя директором назначили, — сказал Юрка.
Матвеевна ахнула и уронила клубок. Полина укоризненно покачала головой. За такое издевательство она бы обиделась на любого, но Юрке все сходило с рук: очень уж он был похож на Ивана Тузова…
Матвеевна нашла клубок и, не вылезая из-под стола, уставилась на Юрку.
— Это сколь же она теперя получать будет?
Ответить Юрка не успел. В комнату вошел потный, раскрасневшийся Трифоныч. Не здороваясь, сел на табурет, вытащил из кармана большой, с детскую пеленку, платок и принялся неторопливо вытирать им шею.
— С тебя причитается, Одинцова, — произнес он, — должность тебе определили. Теперь до пенсии живи спокойно.
— Я говорил, а они не верят, — сказал Юрка.
— Хватит дурака-то валять! — рассердилась Полина. — Добро бы малый, а то и старый туда же!
Горечь обиды выплеснула наконец через край. Скомкав в руке занавеску, Полина уткнулась в нее лицом. Заводские трубы в малиновом зареве казались сегодня особенно далекими.
Ничего не понимавший Трифоныч решил напомнить о себе:
— Слышь, Полина, причитается, говорю, с тебя!
— Да ведь ты не пьешь! — сказала Матвеевна.
— Это на службе, — уточнил Трифоныч, — а нонче я — выходной. Зашел вчерась после смены в кадры, а там и говорят: ты живешь на Луговой недалеко от Одинцовой, так передай, чтоб зашла. Вчерась-то я не зашел: с приятелем посидели немного… А нонче вот…
Ему никто не ответил. Поняв, что угощения не будет, Трифоныч досадливо крякнул и поднялся.
— Стало быть, счастливо оставаться, хозяева. Изменилась ты, однако, Полина. Прежде-то не такой жадной была…
— Обожди.
Тетя Поля насухо вытерла слезы, достала из буфета запечатанную поллитровку «Столичной» — мужики обещались дров подвезти, да, видно, обманули, — из чулана принесла тарелку холодца, нарезала хлеба. Довольный Трифоныч, сохраняя для порядка выражение строгости, сел за стол, налил стопку с краями, расправил усы.
— Ну, дай бог, не последняя…
— Что за люди! — бубнил Юрка. — Наврешь с три короба — верят. Правду скажешь — ругаются!
— Помолчи, балаболка! — тетя Поля придвинула стул поближе к старику. — Скажи толком, Трифоныч, куда меня назначили? Хорошо бы к Макурину. Я ведь и штукатуром могу…
Трифоныч оттопырил нижнюю губу:
— При посторонних не имею права…
— Да директором ее назначили! — закричал Юрка. — Я же говорил! Директором столовой!
Трифоныч между тем опрокинул третью…
— Добрый, Полина, у тебя холодец.
Не слушая, она подошла к окну, распахнула обе створки, сорвала с головы косынку, потом прошлась по комнате нешироко, но упруго ступая, как привыкла ходить в молодые годы, спросила, глядя в пушистый затылок пьяненького Трифоныча:
— Сметанкин-то все еще на месте?
— Куды ж ему деваться?
— Да, с этим трудненько придется. Прижимист, черт. И к начальству через его голову не попадешь…
— А ты с другого конца!
— Это как? — она даже остановилась в изумлении.
— А обнаковенно: перекрестись да с мыльцем…
— Тьфу!
Трифоныч едва ворочал языком. Матвеевна хотела попросить Юрку проводить его, но парень уже исчез. Вздохнув, она на глазок прикинула вес старика и, обхватив его поперек туловища, поволокла к выходу.
Часа через полтора она вернулась. Ей навстречу, решительно сжав губы и глядя куда-то поверх домов, шла Полина. На ее голове алела застиранная, старенькая красная косынка.
«МЫ ВЕРНЕМСЯ!» (Рассказ)
Глава первая
Младший лейтенант Петер Кампа шел последние километры по родной Латвии. Он уходил на восток.
Кампа не был профессиональным военным. В начале июня его, учителя начальной школы села Виляны, что стоит на реке Малте, вызвали на военные сборы. Говорили, что они будут проходить в Риге, продлятся месяц и десять дней, и Кампа рассчитывал, возвращаясь домой, побывать у своих стариков в Модоне. Вместе с ним из Вилян вызвали еще сорок мужчин от двадцати до тридцати пяти лет.
Когда впервые прошел слух о близкой войне, Кампа этому слуху не поверил. Однако ни в самой Риге, ни в Майори, где в самом деле были летние военные лагеря, команда, с которой ехал Петер, не остановилась. Двенадцатого июня их привезли в лес где-то между Либавой и местечком Гробиня в палаточный лагерь и сразу зачислили в часть. Год назад Петер проходил переподготовку, имел звание младшего лейтенанта запаса, и поэтому его назначили командиром стрелкового взвода.
Сказать, что Кампа особенно возгордился новой должностью, нельзя: учитель не был честолюбив, но работа пришлась ему по душе. В конце концов солдаты — те же дети, разве что немного постарше…
Первые тактические занятия принесли Петеру новые радости. Оказалось, что он находится в отличной спортивной форме и ничего не забыл из того, чему его учили ранее. Подчиненные выполняли его приказания охотно, может быть, даже более охотно, чем приказы командира роты, строгого старшего лейтенанта Зыбунова. Во взводе Кампы было только пять русских бойцов, остальные латыши, эстонцы, литовцы, украинцы, карелы. Все прибалтийские языки Кампа знал в совершенстве и лишь на русском говорил с легким акцентом.
Как-то проходя мимо полевой походной кухни, где под брезентовым навесом варился борщ для всей роты, Петер услышал разговор о самом себе.
— Наш он, наш! — доказывал пулеметчик Крутов. — Если не воронежский, то уж курский — наверняка! Я по обличию вижу.
— По какому обличию? — с трудом выговаривая русские слова, переспрашивал красноармеец Антанаускас.
— По натуральному обличию: волос светлый, глаза голубые, душа добрая, голос тихий…
— Это у карелов волосы светлые, а глаза голубые! — перебил его молчаливый боец с трудной фамилией Белоояйнен. — Предки нашего взводного — скандинавы. Точно!
— Э! Какая разница? — крикнул из-за плиты повар. — Он хороший человек! Приедет ко мне в Кахетию, я для него лучшего барана зарежу!
Никто не заметил Петера, но взводный поспешил скорее миновать кухню. Он испытывал неловкость еще и оттого, что все эти люди, кроме повара, были им наказаны и сейчас отбывали наказание — чистили картошку…
«К Антанаускасу после сборов непременно съезжу домой, — думал он, — объясню, почему командир иногда бывает вынужден давать наряды вне очередь… И к Белоояйнену — тоже. Возьму в школе отпуск и поеду». Крутову он решил завтра утром дать увольнительную в город. Во-первых, свое наказание он отработал честно, а командир взвода должен уметь не только наказывать, но и поощрять. К тому же Крутов — один из лучших пулеметчиков в полку. Во-вторых, у него в городе есть невеста или, как говорят русские, зазноба — девушка с очень капризным характером. Если Крутов не явится в воскресенье, она, чего доброго, порвет с ним дружбу. Латвийские девушки не понимают, что командир может не отпустить парня к любимой… Пусть идет. Петер желает им обоим счастья. Девушку он видел только раз. Она провожала Крутова до самого лагеря, а это в Латвии кое-что значит!
Но в воскресенье утром началась война. Дежурный по полку младший лейтенант Кампа был одним из немногих офицеров, оказавшихся на месте, остальные с вечера уехали специальным автобусом в Либаву. Двадцать второго июня там должен состояться большой спортивный праздник — соревнование на первенство Прибалтийского военного округа по боксу, плаванию, стрельбе и легкой атлетике. Тогда, в субботу вечером, он жалел, что не принял в них участие, но теперь, наоборот, был доволен: ведь именно ему выпала честь дать отпор врагу. Младший лейтенант был уверен, что все происходящее — очередная провокация на границе…
Переждав бомбежку и артобстрел в угольной яме, Кампа попытался собрать оставшиеся на территории лагеря подразделения. Однако большинство из них успели покинуть никем не защищенный лагерь и скрыться в лесу, где находились учебные траншеи, блиндажи и пулеметные гнезда. Не будь Кампа дежурным, он бы последовал за ними, но сейчас он не мог этого сделать и, собрав человек тридцать оставшихся в лагере бойцов, организовал круговую оборону. После артобстрела в лагерь вошли немецкие танки. Петер встретил их гранатами и даже подбил один, но следовавшие за танками автоматчики выбили его бойцов из наспех вырытых ячеек и заставили отступить на север. Петер не знал, кто остался жив, но еще несколько часов не уходил от бывшего палаточного лагеря, скрываясь в ближнем лесу, и только к вечеру покинул его.
Подумав, он решил, что, двигаясь по бездорожью напрямик, скорее догонит отступающие части, а если и не догонит, то самостоятельно выйдет из окружения в самый короткий срок. У него не было компаса, но он хорошо ориентировался по солнцу, звездам, моховым болотным кочкам и находил дорогу благодаря отличной памяти.
Сначала он выбрал направление на северо-восток, так как был уверен, что бои идут где-то возле Риги, но уже на второй день изменил маршрут: на Ригу день и ночь двигались танковые колонны, автомашины с пехотой и мотоциклы. В деревнях они останавливались на короткий отдых и не было ничего проще, чем попасть в лапы убийц в серо-зеленых мундирах. Простая догадка подсказала ему, что надежная защита от них находится сейчас только на востоке, и Петер стал мечтать поскорее добраться до старой русско-латвийской границы. Уж там-то, думал он, немцев непременно остановят!
Однажды, идя лесной тропинкой и, по обыкновению думая о своем, он услышал знакомый окрик:
— Стой! Кто идет?
Сердце Петера замерло. Из кустов вышел пожилой красноармеец, настоящий, живой и, главное, с винтовкой. Петер в изумлении разглядывал его, еще не вполне веря своим глазам, и вдруг протянул ему горсть ягод земляники — все, что собрал дорогой.
Боец подозрительно покосился на ягоды и потребовал документы. Пока он, морща лоб и шевеля губами, читал временное удостоверение младшего лейтенанта, Кампа засыпал его вопросами. Больше всего его интересовало, как идут дела на фронте, когда остановлены немцы, какая дивизия стоит здесь, далеко ли отсюда до границы и где находится штаб полка. Он хотел представиться командиру.
Выслушав все, часовой, не говоря ни слова, повел Петера в глубь леса. На солнечной, пахнущей смолой и цветами поляне спиной к Петеру стояло несколько военных.
— Вот вам и полк, и дивизия, а может, и фронт, — сказал вполголоса часовой. — Докладывайте…
Военные обернулись все сразу и взглянули на Петера.
— Подойдите ближе, товарищ младший лейтенант! — приказал полковник.
Не успел Петер поднять ладонь к виску, как стоявший рядом майор с совершенно белыми висками и глубокими носогубными складками сказал:
— Доложите товарищу полковнику, кто вы, откуда, предъявите удостоверение и прочие документы, если таковые имеются…
Полковник закашлялся в клетчатый шелковый платок, на котором проступила кровь, и сам шагнул к Петеру.
— Сколько тебе лет, сынок?
— Двадцать один, — ответил Кампа. — Будет в августе.
— Двадцать один… — повторил полковник и больно сжал плечо Петера крепкими пальцами. — В эти годы я, брат, эскадроном командовал! А тебе взвод дали? — Петер кивнул. — Ну ничего, не горюй. У тебя все впереди, все. А вот у Егора Реутова уже ничего…
В нескольких шагах от них, укрытый от солнца густой кроной сосен, лежал на земле раненый. От множества бинтов он походил на уродливую куклу с кудрявой головой и закрытыми глазами. Рядом с ним сидела женщина — то ли врач, то ли медсестра с заплаканными глазами и распухшим носом на круглом добром лице. Каждые две-три минуты она снимала марлевую салфетку со лба раненого, мочила ее в котелке с водой и снова клала на лоб. Из другого котелка она поила раненого, насильно раздвигая его сухие губы. Поодаль сидело человек пять или шесть красноармейцев и один сержант.
— Что, Машенька, плохо ему? — спросил, подходя ближе, полковник.
— Плохо, Иван Семенович, — ответила женщина и спрятала лицо в ладонях.
— Да… Что делать, что делать… Война! — ответил сам себе полковник и опустился рядом с ней на траву. — До вечера-то протянет или нет? Как думаешь? — Она только плечами пожала. — Экая беда! Надо бы Галкина спросить. Он в этом знает толк… Онуфриев, где Галкин?
— Галкин на посту, товарищ полковник, — ответил сержант, — токо-токо заступил.
Полковник подумал.
— Пришли его.
— Лахнов, — сказал сержант, — иди подмени. Скажи, полковник Чоботов зовет.
Минут через пять из кустов вышел тот самый часовой, который остановил Петера, и молча приблизился к полковнику.
— Вот что, Галкин, — сказал тот, — взгляни на своего капитана. Лучше ему или нет?
Солдат не шелохнулся.
— Ну, что же ты стоишь?
— А что мне делать?
— Выполняй приказание.
— Так я ж не доктор, товарищ полковник! Санитар я.
— Все равно должен знать…
— Ничего я не знаю. Не обучен…
— А ты взгляни хорошенько, взгляни. За пульс подержись, сердце послушай. В гражданскую небось лечил, не стеснялся. Забыл? А я помню!
Солдат молчал.
— Экий ты упрямый! — рассердился полковник. — Ну что тебе стоит?!
— Ничего не стоит, — сказал санитар, — а только ни к чему это…
— Как так ни к чему? Да ты что говоришь?
— А так ни к чему. Сами все понимаете…
Чоботов взял его за рукав и отвел в сторонку.
— Я все понимаю, Николай Иванович. Ты мне как старому знакомому скажи. Нам всем это знать надо. Ведь сам-то ты знаешь точно.
Галкин покосился через плечо на женщину и хмуро произнес:
— К обеду отойдет.
Полковник покачал головой.
— Таким, как он, только бы и жить! Какой командир! Ах, Николай, Николай, убил ты меня!
— Будто вы сами не знали!
— Надеялся… Лучший комбат! Думал в случае чего ему полк передать…
— Полк-то наш, Иван Семенович, накрылся, — очень тихо сказал Галкин, — один штаб остался. Так что и передавать нечего…
— Полк будет! Будет, Галкин! Он и сейчас есть!
— Семьдесят человек…
— Молчи, Галкин! Молчи! Есть знамя, значит, жив наш двести сороковой! Дойдем… Доползем до своих и восстанем из небытия! Иди, Галкин, на пост и стой твердо! Я знаю, ты хороший солдат. Иди!
Капитан Реутов умер после полудня. Его хоронили тут же на поляне под соснами. На внутренней стороне его каски — чтобы не смыл дождь — и на всякий случай на ближайшем стволе дерева написали все, что полагается писать в таких случаях: год рождения, дату смерти, коротко — его ратный подвиг и — это уже для добрых людей — адрес жены и матери, чтобы сообщили когда-нибудь, если другие, знакомые, не успеют этого сделать…
После похорон все, кроме часовых и Марии Никитичны, легли спать: на рассвете полк должен был тронуться дальше на восток. Петер наломал хвойных веток и улегся на них рядом с Галкиным. Земля успела остыть, и от нее несло холодом.
— Ты спи, — сказал Галкин, — через два часа поднимут…
Кампу разбудила перестрелка. Мимо него, отстреливаясь на ходу, бежали люди. Он вскочил и тоже побежал, стараясь не потерять бойцов из виду. На его счастье, они скоро залегли, и Кампа лег вместе с ними среди болотных кочек, так же, как они, старательно высматривая нечто в бледных сумерках.
Час или полтора над лесом царила тишина. Потом где-то за спиной Петера послышался рокочущий бас полковника Чоботова.
— Может, кому из часовых спросонок померещилось?
Ему ответил капитан Богданов:
— Онуфриев сам видел автоматчиков.
— Если бы вы, товарищ полковник, согласились тогда оставить Реутова в деревне, мы бы не сидели двое суток на одном месте! — сказал майор Бахтин.
— Оставить такого человека, как Реутов, на произвол судьбы?! На верную гибель?!
— Стой! Кто идет?!
Из кустов, мокрые по пояс, выходили бойцы, коротко докладывали либо капитану Богданову, либо самому командиру полка:
— Выход на север закрыт!
— На северо-восток дороги нет.
— На южной окраине болота — немецкие автоматчики!
— Вдоль восточной опушки леса — немцы с двумя пулеметами!
Командиры молча выслушивали донесения. На их лицах не было ни страха, ни сомнения, а только озабоченность и необыкновенная усталость. Все ждали последнюю группу, ушедшую на юго-запад. Ее повел старший лейтенант Масленников.
— Если и там нет «окна», придется идти на прорыв, — спокойно сказал Чоботов.
Масленников вернулся, когда солнце поднялось над горизонтом. Два бойца вели перед собой пленного немца со связанными за спиной руками, двое других несли раненого товарища.
— Вот… трофеи… — сказал Масленников, кладя на землю автоматы. — Троих на месте уложили, этого взяли сюда…
— А выход? Выход из болота есть? — спросил полковник.
— Выход? — Масленников удивленно вскинул брови. — Выход, по-моему, один: собраться в кулак и двинуть напрямик. Конечно, выбрать, где немцев пожиже…
И разведчики, и пленный немец, которого допросил майор Бахтин, сходились на одном: самое слабое место немецкого кольца — южная часть болота. Здесь, по уверениям пленника, нет пулеметов, в то время как в других местах имеются даже минометы.
— Ну что ж, — сказал Чоботов, поднимаясь с земли, — на юг так на юг. Капитан Богданов, вам — первому… А тишина-то какая, други мои! Даже не верится, что может быть такая тишина. И ведь вот что удивительно: птицы поют!
Все оторвались от карты и недоуменно посмотрели вверх, на макушки сосен, где, в самом деле, наперебой заливались какие-то пичуги.
Глава вторая
Выход из кольца был назначен на двенадцать ночи — самое темное время в эти дни июня, но в половине десятого вечера заскучавшие от безделья немцы начали обстреливать лес из минометов. Судя по всему, немцы довольно точно знали, где находится полк, но не знали даже приблизительно, сколько от него осталось, и поэтому не решались атаковать.
После первых же разрывов появились убитые и раненые. Мария Никитична и Галкин не поспевали делать перевязки. На бинты рвали нательные рубахи и гимнастерки, снятые тут же с убитых. После минометного обстрела островок стал похож на кладбище, куда свезли умерших, но не успели похоронить. Полковник Чоботов сам обошел этот клочок леса и вернулся удрученный: двенадцать убитых и восемнадцать раненых!
Даже если дать на каждого раненого по два носильщика, то боеспособных останется меньше сорока человек.
— Такими силами разве что против спящих идти или вдребезги пьяных, — мрачно сказал он.
— Будем надеяться на один из этих вариантов! — не то пошутил, не то съязвил Бахтин. — Кстати, товарищ полковник, не пора ли сейчас всерьез подумать о той большой ответственности, которую мы берем на себя в данной ситуации? Нашу смерть нам охотно простят, а вот потерю знамени — вряд ли. Ведь оно может попасть к врагу.
Чоботов покосился на него и ничего не ответил. Как понял Кампа, разговор о знамени возникал и раньше, но тогда за то, чтобы с ним не расставаться, были все командиры батальонов.
Сейчас их нет, а единственный из оставшихся в живых капитан Богданов на этот раз промолчал…
— Ты что предлагаешь?
— То же, что и раньше: спрятать понадежнее, отметить место, а потом вернуться…
— А если не вернемся? Ты понимаешь, что это значит? Оно же пропадет! Дожди, сырость!
— Понимаю, товарищ полковник. Но даже это лучше, чем отдать его в руки врага.
— А что скажешь ты, Богданов? — спросил полковник.
— Я согласен с начальником штаба, — ответил капитан. — Из сорока человек кто-нибудь непременно выживет…
Полковник ушел на другой край лесочка и долго бродил в одиночестве возле самой опушки.
До назначенного им самим часа прорыва оставалось меньше сорока минут, когда он вернулся, сам нашел и разбудил Онуфриева.
— Давай, брат, ничего не поделаешь! Капитан Богданов, постройте полк! Для прощания…
Заспанный сержант Онуфриев снял с себя шинель, гимнастерку и принялся разматывать бинты, окутывающие его грудь и живот. Из-под бинтов вынули алое шелковое полотнище и, развернув, подняли над головами.
Полковник первым приблизился и отдал честь, но вдруг ладонь его, поднятая к виску, дрогнула и сам он неожиданно для всех опустился на одно колено и, взяв край полотнища обеими руками, прижал его к губам…
Ритуал этот, как понял Кампа, не был известен никому, да и было ли это вообще ритуалом, но все, кто стоял тогда перед знаменем, исполнили его и сделали это так, как если бы иного прощания быть не могло.
И Петер Кампа повторил все вслед за всеми, потом вместе со всеми смотрел, как знамя завернули в плащ-палатку и уложили в цинковый ящик из-под винтовочных патронов. Сержант Онуфриев взял этот ящик и опустил его в только что вырытую ямку под корнями самой высокой сосны. Лопатами и руками ямку быстро сравняли с землей, а сверху накатили огромный камень.
— Запомните это место, товарищи! — сказал полковник. — Придет время — наш полк возвратится. В строй встанут новые бойцы, и только вы будете знать, где лежит знамя. И вы приведете их сюда! Запомните же это место хорошенько!
И Петер Кампа вместе со всеми сказал:
— Запомню!
Все дальнейшее припоминалось, как тяжелый сон. В час ночи Богданов повел людей на прорыв. Следом за ним должен был двинуться штаб и носильщики с ранеными, но капитан не успел еще перейти болото, как вдруг немцы снова открыли минометный огонь. Они перешли болото и с двух сторон ударили по лесочку из пулеметов. Оставшиеся с Чоботовым люди отошли к востоку, но здесь их ожидали автоматчики. Петер видел, как одним из первых упал командир полка, как свалилась рядом поспешившая ему на помощь медсестра, как дрались врукопашную Масленников и Онуфриев, прижавшись друг к другу спиной…
Видел, но не слышал, не мог поднять руки, пошевельнуть ногой. Взрывной волной его ударило о дерево и, должно быть, контузило. Как бы нарочно давая ему время увидеть все происходящее, контузия стала отнимать у него все постепенно: сначала слух, потом способность двигаться и, наконец насладившись его беспомощностью, опустила над ним черный бархатный полог…
Очнулся он на латышском хуторе и долго не мог припомнить, кто он и откуда и что произошло с ним несколько дней назад.
Старик Рундале — так звали хозяина — велел перенести его из комнаты на сеновал. Здесь было не так жарко, больше воздуха и меньше опасности быть обнаруженным.
Как ни жалок был вид младшего лейтенанта, взрослые дочери Рундале ухаживали за ним. Если верить старикам, война будет долгой и кровопролитной и немногие дождутся своих мужей и возлюбленных…
Но Кампа вовсе не собирался долго задерживаться в тылу. Ему казалось, что фронт находится где-то близко.
Однажды ночью он проснулся, услышав отдаленный гром пушек на юго-востоке, который все приближался и приближался к хутору. Петер откопал свою винтовку, надел шинель и стал ждать. Однако начиная со следующей ночи звуки боя стали слабеть и к концу третьего дня прекратились вовсе. Было ли это контрнаступление на фронте, или билась, выходя из окружения, какая-то часть, Петер не знал. Он просто смотрел из чердачного окна и плакал.
Старик Рундале сказал:
— Теперь — все, сынок. Ждать тебе больше нечего. Фронт далеко, немцы близко. Оставайся у нас! Если Советской власти суждено вернуться, она вернется и без твоей помощи, а ты паши землю и жди ее возвращения. Уж так и быть, если придут боши[4], я выдам тебя за моего зятя Урмана, что утонул в реке два года назад… — при этом он посмотрел на дочь Марите.
— Спасибо, дядя Рундале, — сказал Петер, — но я офицер и, пока идет война, мое место в строю, а не в поле…
Петер видел, как огорчил этими словами всю семью Рундале и особенно женщин, но сказать иначе он не мог. Впрочем, провожая его, старик признался, что иного ответа и не ожидал.
— Я дал бы тебе приют, как обещал, и Марите, возможно, стала бы твоей женой, но уважения моего ты бы не дождался. Знай, парень: я сам — старый солдат и знаю, что такое долг солдата!
Как и предсказывал Рундале, через три дня Петер благополучно перешел фронт, который не был сплошным, и однажды догнал колонну красноармейцев, численностью до батальона, и попросил разрешения следовать дальше вместе с ними. К его удивлению, командовавший батальоном майор потребовал у него документы и долго изучал их, щурясь от яркого солнечного света. Потом пришпорил лошадь и поскакал куда-то вперед колонны, где медленно двигалась легковая автомашина. Минуты через три он вернулся и, отдавая Петеру документы, повелительно бросил:
— Дойдем до пункта назначения, разберемся, почему вы шатаетесь в одиночку, а пока становитесь в строй!
«До какого пункта назначения?» — хотел спросить Кампа, но воздержался. У майора был слишком суровый вид…
В самом хвосте колонны, где пристроился Кампа, народ был не такой строгий и даже не такой воинственный. Здесь Петера сразу приняли за «своего», угостили табачком и даже глотком водки из алюминиевой фляжки. Солдат с забинтованным глазом и ручным пулеметом за спиной сказал, кивнув в сторону грозного всадника:
— У нас в полку начпродом был, а теперь гляди куда взлетел!
— В каком полку? — машинально спросил Кампа.
— В двести пятом стрелковом, — ответил одноглазый, — да только мало нашего брата осталось. Остальные — кто куда…
Вместе с солдатами в одной шеренге шли младшие командиры, такие же усталые и запыленные, в почерневших гимнастерках, с потрескавшимися от жары губами. Легкораненые шли в строю, «тяжелых» везли в армейских двуколках. Шедший с Петером пограничник, вытирая подолом гимнастерки мокрый лоб, сказал, подняв глаза к небу:
— Не ндравится мне такой парад! Ох не ндравится! Не ко времени!
Остальные только взглянули на небо, покачали головами, но ничего не сказали: начальству виднее…
Соседом Петера слева оказался старшина танкист. Ему было особенно жарко в комбинезоне и кожаном шлеме с наушниками.
— Понимаешь, — сказал он, словно был знаком с Петером лет десять, — черт знает что! Выхожу я, значит, на шоссе… «Тридцатьчетверку» мою подбили возле Курмене… Ну, натурально, выхожу из лесу, потому как вижу, что — свои! А он, этот…
— Майор Дегтярь! — с готовностью подсказал пулеметчик, — Гришуха, на-ко понеси игрушку-то! Мой второй номер, — пояснил он, отдавая пулемет рослому красноармейцу.
— Дегтярь так Дегтярь! — согласился танкист. — Только этот, значит, майор у меня — документы… И — раз! В карман! Пистолет — тоже в карман! Ты, говорит, трус! Бежал с поля боя! Перед трибуналом ответишь! Ну что ты будешь делать? И ведь не докажешь ему!.. Кабы с ротой связаться, да где ж ее теперь найдешь, мою роту? У нас и так из тридцати машин только двенадцать были на ходу. У остальных накануне вечером весь бензин слили…
— Как так слили? Зачем? — спросил Кампа.
Танкист пожал плечами.
— Приказ, говорят, такой был. В ответ на провокации немцев доказать, что мы их не боимся… Наш взводный лейтенант Иванихин как чуял: «Обождите, говорит, ребята, весь сливать. Как бы беды не было!» Как в воду глядел! Когда, значит, немцы двинули на рассвете, Иванихин нам: «По машинам!» А из штаба ему: «Не стрелять! Провокация!» А в полку уж дым коромыслом: наших бьют! Иванихин кричит: «Лобов! — это я — Лобов… — Выводи свою машину, прикрой цистерну с горючим! Сейчас будем дозаправляться!» У меня, «тридцатьчетверка» новенькая, прямо с завода. Не машина — зверь! Кричу механику: «Жми на всю!» Выскочил из-под навеса, а тут снаряд в цистерну… Факел до самого неба! Повернул я на шоссе, а за мной остальные машины. Гляжу — немцы! Прямо на нас прут! Кричу Иванихину: «Гриша, что делать будем?» А он: «Бей их, Леня, я за все отвечу!» Ну и дали же мы им, братишка! Век не забуду! Короче, я тебе так скажу: ихнему танку против нашей «тридцатьчетверки» не выстоять! Кишка тонка! В лоб ее не возьмешь. Броня — что надо! Думаю, мой батька делал. Он у меня сталевар… Вот только мало у нас таких машин!
— Что было после? — спросил Кампа.
Танкист ответил не сразу. Он весь был во власти пережитого.
— Потом отошли мы! Я же тебе говорю: у них много, у нас мало! Окружать нас начали…
— Во-оздух! — протяжно закричали впереди.
Толкая друг друга, люди кинулись врассыпную, но особой паники Кампа среди них не заметил. Матерясь, привычно скатывались в канавы и воронки, бежали к лесу, вслух радуясь, что канава глубока, а лес близко (вот вчера налетели в поле — уложили человек двадцать!) и что короткая, но все же передышка обеспечена.
Лобов прыгнул следом за Петером, мельком глянул из-под ладони.
— Пикирующие. Сейчас начнется! Голову береги, лейтенант!
Дикий, рвущий за душу вой, который сопровождал самолеты, рассчитан был, по-видимому, на то, что люди, вспугнутые им, поднимутся с земли и побегут в панике под бомбы, но они не поднялись, а еще плотнее прильнули к земле, досадуя на то, что вот опять приходится ложиться лицом в пыль, вместо того чтобы двигаться дальше или, на худой конец, просто посидеть в холодке, отдохнуть…
В овражке, куда забрались Кампа, Лобов и еще десяток бойцов, было сыро, несмотря на царившую кругом полдневную жару, и даже прохладно. Вверху, почти загораживая небо, сходились ветви ракит.
— Славяне, родник близко! — сказал Лобов, ощупывая ладонями землю. — Да вот он, глядите!
Под корнями старого вяза в маленькой, чуть больше лошадиного копыта, ямке блестело зеркало чистой воды.
— По одному и быстрее! — командовал Лобов. — Сейчас строить начнут.
С дороги, и в самом деле, закричали: «Становись!», однако весть о роднике уже разнеслась, он притягивал, звал, его, как оазис в пустыне, не могли так просто миновать истомленные зноем путники. Они сбегались отовсюду, ложились грудью на мокрую землю, долго и жадно пили, фыркая, охая и ругая тех, кто сует в родник котелки и мутит воду. Напившись, сами лезли в ямку с котелком, флягой или даже каской, набирая впрок уже мутную, но по-прежнему удивительно вкусную воду.
Впрочем, строиться колонне было еще рано. Самолеты вскоре вернулись и, зайдя со стороны солнца, начали по одному пикировать на дорогу. Земля вздрагивала от взрывов фугасок.
— Вот навязались! — возмутился Лобов.
— Не надо было парад устраивать, — спокойно заметил пограничник, — не на плацу!
— Разбежаться, что ли, надо было всем? — спросил одноглазый пулеметчик. — А если впереди противник?
— Зачем разбегаться? Скрытно надо двигаться, лесами. Или дорогой ночью.
— «Ночью. Лесами!» — передразнил пулеметчик. — Немцы, может, под Новоселками стоят, а мы тут будем прохлаждаться! Нам поспешать надо! Айда, Гришка!
Он полез наверх, за ним потянулись остальные. Самолеты улетели, но на дороге не было видно ни легковой машины, ни бравого майора на пегом мерине. Из леса группами и поодиночке выходили бойцы. Теперь их было не так много — основная масса успела построиться и уйти под командой майора. Озираясь и поглядывая на небо, солдаты стекались к дороге.
— Принимай командование, товарищ младший лейтенант, — сказал Лобов, — ты теперь самый старший.
— Что ты! — запротестовал Кампа. — Скажут, самозванец! И потом… я ведь еще и месяца не служу…
— Как хочешь, но иначе в армии нельзя. А ну, братва, становись по два! Шагом марш!
Досадуя на свою застенчивость, Петер задумчиво шел в хвосте колонны. Странное это было подразделение. Почти никто здесь не знал друг друга, но все были охвачены одним желанием, как можно скорей найти свою часть, а если нет, то любую другую и избавиться от неприятного чувства одиночества и беззащитности. Это желание сплачивало сильнее всякого знакомства и даже родства.
Последующие три дня прошли без особых тревог. Люди упорно шли на восток, придерживаясь крупных лесных массивов. Четвертого июля они вышли к Даугаве, форсировали ее и углубились в хорошо знакомые Петеру леса. Все надеялись, что здесь наступление немцев захлебнется и фронт стабилизируется. Но в Дубне их остановила и заставила принять бой какая-то воинская часть, а на шоссе возле Шпог они сами наткнулись на немецкую танковую колонну и спаслись отчасти потому, что в стороны от шоссе тянулись болота, отчасти потому, что немцы торопились на север, где, наверное, еще продолжались бои…
Чем дальше Кампа с товарищами продвигались на восток, тем больше встречалось им групп и одиночек, выходящих из окружения. Некоторые пристраивались к их колонне, другие продолжали идти самостоятельно. Кампа не мешал им. Вчерашний учитель еще не знал, имеет ли он право заставить их повиноваться…
Для всех теперь уже было ясно, что на латвийской земле немцев остановить не удалось. В стороне от дороги лежали хутора, жалкие, одинокие, наивно прячущие в июльской листве свои яркие соломенные крыши. Эти хутора, темные, молчаливые, с чисто подметенными дворами, стожками пахучего сена, аистиными гнездами, узорчатыми половиками на желтых ошкуренных колышках, провожали Петера до старой русско-латвийской границы, а потом исчезли.
То, что в этом месте проходила граница, Кампа узнал не только по исчезновению хуторов, но еще и потому, что грейдерная, обсаженная с боков деревьями дорога сменилась проселочной грунтовой и еще потому, что леса вокруг становились все более дремучими. Об этих знаменитых псковских лесах Кампа слышал раньше, но видел их впервые.
Древние болота, бурелом, непроходимые топи и бездорожье не мешали Кампе, а помогали ему. Немецкие танки, временами пускавшиеся в погоню, отставали, увязнув в болотах, самолеты не могли обнаружить людей под плотным навесом ветвей. Кампа с товарищами шел теперь не только ночью, но и днем. В глухих, затерянных среди леса деревушках их встречали теплым парным молоком, свежим ржаным хлебом, а изредка даже русской баней с веником, горячим паром и ковшом ледяного кваса…
И Кампа ожил. Отступление, горечь поражения, даже потеря Латвии не казались ему больше непоправимым несчастьем, и черные мысли, преследовавшие его, улетучивались вместе с сизыми дымками бивуачных костров.
Кроме того, он был не один. Когда он спал, его охраняли товарищи, а когда ложились они, младший лейтенант Петер Кампа становился на пост, чтобы охранять их сон…
Учитель был уверен, что этому движению на восток рано или поздно наступит конец и тогда он повернет дуло своей винтовки на запад и вместе с остальными пойдет освобождать Латвию.
Между тем жизнь шла своим чередом. Военная жизнь Петера Кампы — младшего лейтенанта.
Однажды его догнала машина — потрепанная «эмка» в комуфляжных зеленых и черных пятнах. А может быть, это он догнал остановившуюся посреди дороги «эмку» и почти машинально хотел ее обойти, но дверца неожиданно отворилась, и резкий, привычный к командам, но уже стареющий, с хрипотцой голос произнес:
— Товарищ младший лейтенант, потрудитесь подойти ко мне!
В первые секунды Кампа решил, что это относится не к нему, но, заметив, как дружно отхлынули все, кто шел рядом, понял, что случайно попал на глаза кому-то из начальства. Он был еще очень молод и не привык к проборциям «ни за что», и когда генерал в запальчивости назвал его трусом, щеки молодого человека побледнели, глаза сузились.
— Насчет ума — не знаю, товарищ генерал, — произнес он, — может, и не больно умен. Не мне судить… А что касается трусости — извините! Вы меня в бою не видели, и поэтому прошу вас…
Петер поднял глаза и замолчал. Перед ним в форме генерала стоял пожилой и очень уставший человек. «Наверное, ему далеко за пятьдесят, — вдруг подумал Петер. — Ах, как неудобно, что я погорячился!»
Идущие по дороге солдаты, заметив генерала, поправляли шинели, подтягивались.
— Мальчишка! — сказал громко генерал. — Молоко на губах не обсохло, а туда же: дерзить! Подчиненных распустил! Не рота, а толпа!
Впрочем, теперь в его голосе не было прежней неприязни. Гордый и, наверное, в самом деле, храбрый младший лейтенант ему понравился…
— Извините, — сказал Кампа, — но здесь нет моих подчиненных. Они погибли…
— Все равно, — сказал генерал, — постройте всех.
Петер подал команду. Бойцы заторопились, загремели котелками и оружием, толкаясь, выстроились вдоль обочины. Пока они строились, подошло еще несколько одиночек и небольших групп. Их тоже поставили в строй.
— Разрешите продолжать движение? — спросил Кампа, но генерал медлил. Лицо его подобрело. Вот он подошел совсем близко.
— Так вы латыш? — спросил он. — Я узнал это по вашему акценту. А я — литовец. Из Шяуляя. Желаю вам… скорейшего возвращения на родную землю! Прощайте!
— До свидания, — сказал по-литовски Кампа.
Глава третья
Машина генерала давно уже скрылась из глаз, а построенные им люди все еще продолжали старательно держать равнение, и Петер время от времени покрикивал:
— Взять ногу! Задние, подтянись!
Постепенно рытвины, ухабы, воронки сделали свое дело: поломался строй, колонна разбилась надвое. Одна половина шла по левой стороне дороги, другая — по правой. Сначала бойцы шли по двое, потом растянулись гуськом. Разговаривали, курили, не дожидаясь разрешения, отходили по нужде и догоняли своих бегом по луговой траве. Сейчас они явно воспряли духом. Теперь у них было свое подразделение, свой командир. Молодой, правда, но все же командир…
Кампа шагал впереди правой половины колонны. За ним след в след шел невысокого роста первогодок. При встрече с генералом затянулся ремнем — едва дышит, воротник у гимнастерки узок, не сходится. Ногти поломал, а застегнул!
Когда остановились передохнуть, достал расшитый цветочками кисет, доверчиво протянул Петеру.
— Закуривайте, товарищ младший лейтенант!
К кисету, не дожидаясь приглашения, потянулись десятки рук. Солдат радостно кивал, раздвигая завязки, чтобы удобнее было брать.
— Берите, берите, у меня еще есть!
Не обиделся, а засмеялся, когда кто-то, завертывая «козью ножку» толщиной с палец, заметил:
— Правду говорят: у дурака махорки — всем селом не перекурить.
У солдата было совсем плоское, веснушчатое лицо. Курносый нос задорно сидел между щек. Казалось, его втиснули туда с такой силой, что все, от переносицы до крыльев, вошло значительно глубже положенного и только самый конец его, розовый, облупленный, нахально торчал кверху, открывая широкие ноздри.
— Спрячь кисет, пригодится, — сказал Петер. Он хотел еще что-то добавить, но в это время над головами людей послышался шум мотора. Кто-то крикнул: «Воздух!», и тотчас все смешалось на дороге. Так мешаются люди на перроне вокзала во время прихода поезда. Встречающие и отъезжающие бегут впопыхах в разные стороны, натыкаясь друг на друга, а поезд пролетает мимо, равнодушно светя ярким глазом.
Когда все кинулись врассыпную, Кампа остался на месте. Он только присел на корточки и, подняв голову, смотрел в небо. Трое или четверо солдат, лежа в канаве, целились в самолет из винтовок. Тот самый первогодок, что угощал всех махоркой, растянулся совсем рядом, метрах в десяти. Он лежал на спине, раскинув ноги в синих, еще не успевших выцвесть обмотках, и целился в самолет из винтовки с примкнутым штыком.
Сделав круг, фашист приблизился. Вначале была видна только точка, но через несколько секунд у нее выросли тонкие изломанные крылья. Вместе с тем все нарастал и нарастал рев. Первыми не выдержали, открыли стрельбу лежавшие в канаве. Солдат в синих обмотках не стрелял, выжидая. И потому, что он не стрелял, Кампа вдруг поверил, что именно он, а не кто другой может попасть в самолет.
Он выстрелил в тот момент, когда, по мнению Петера, фашист был на самой короткой дистанции. У противоположного склона оврага он взмыл вверх почти вертикально, показав на миг черную спину.
— Вот, гад, промазал! — удивился первогодок. — Ну ничо, я ишшо разок попробую! — он улыбался, раскрывая до самых десен щербатый рот. И оттого, что солдат не злился, а улыбался, что хотел «ишшо разок» поиграть со смертью, тяжесть, давившая душу Петера, начала отходить, рассеиваться понемногу. Он ответил тоже улыбкой, но солдат ее уже не видел. Он устраивался поудобнее на своем жестком ложе, для чего, повозившись, выкинул камешек, попавший под спину, нашел удобный упор для ног.
— Ты из какого полка? — спросил Петер.
— Чо?
Вой мотора заглушал голос лейтенанта. Солдатик озабоченно приложил к уху ладонь: может, важное что? О пустяках в такой момент говорить не станут!
— Как твоя фамилия? — крикнул младший лейтенант. Солдат снова не расслышал. Кампа безнадежно махнул рукой, показав на самолет: давай! Солдат деловито кивнул, прицелился.
— В сопатку его, в сопатку! — крикнул Лобов. Метрах в тридцати разорвалась небольшая осколочная бомба, за ней другая, третья.
Кампа лежал, уткнувшись носом в землю, загораживая руками голову. Комья глины барабанили по спине, в уши набилась пыль. На минуту Петеру показалось, что он оглох.
Он вскочил первым, когда все еще лежали, и поискал глазами самолет. И очень удивился, увидев его невредимым. Тогда он повернулся к тому месту, где лежал стрелок. Взрывной волной солдата отбросило в сторону. Ноги в ботинках бестолково двигались, толкая землю каблуками.
Кампа присел к раненому, расстегнул шинель. Солдат был еще жив. Смертельная бледность быстро разливалась по его лицу. Он, как рыба, вытащенная из воды, жадно ловил ртом воздух. Глаза по-прежнему оставались открытыми, и слезы безмерной муки его, перелив через край, скатывались по грязным щекам. Сделав последний вздох, солдат вытянулся и замер.
Стоявшие кругом, как давеча Кампа, спрашивали друг у друга фамилию солдата или хотя бы имя, но никто ничего не знал толком.
— Сдается, будто Иваном его звали… — задумчиво проговорил одноглазый пулеметчик. — А может, и не Иваном. Разве всех упомнишь!
— Где упомнить! — согласились другие. — Здесь небось не с одной дивизии собрались. И танкисты есть, и пехота, и артиллеристы.
— Летчики тоже есть, — мрачно проговорил человек в авиационном шлеме и обыкновенной солдатской гимнастерке.
— Во-о-оз-ду-у-х!! — протяжный крик этот, повторенный многократно, снова вспугнул людей. Большинство побежало на прежние места, где укрывались раньше, наивно полагая: то, что спасло однажды, спасет и в другой раз… И только немногие залегли тут же, невдалеке. В руках у Петера оказалась винтовка убитого. Прицеливаясь, он подумал, что сейчас, наверное, за ним наблюдают так же, как он сам недавно наблюдал за солдатом в синих обмотках…
Самолет улетел, прострочив дорогу пулеметной очередью. Рядом с Петером лежал одноглазый пулеметчик.
Он был необыкновенно длинен, и лицо его чем-то напоминало лицо убитого: те же веснушки, тот же приплюснутый нос. Он молча смотрел, как младший лейтенант выбросил гильзу, дослал патрон в патронник и сделал бесполезный выстрел вслед самолету.
— В хвост что птице, что фрицу палить без пользы, — заметил он, — лучше прицел проверь. Сбился небось.
Кампа проверил. Прицел, и в самом деле, был сбит. Фашист приближался. Люди снова прижались к земле. Не тронулись с места лишь Петер, Лобов и одноглазый пулеметчик. Они продолжали наблюдать даже тогда, когда косой очередью рядом срезало куст боярышника.
— Может, с пулемета попробуешь? — спросил одноглазый. — Токо ты прицельно, товарищ младший лейтенант, а то патронов маловато.
«Ишшо разок попробую…» — вспомнилось Петеру. Нащупывая единственно уязвимую точку на брюхе самолета, Кампа на миг предельно ясно увидел пружинные амортизаторы на неубирающихся шасси, нижний, наглухо закрытый люк и швы в местах соединения дюралевых листов и плавно повел стволом вправо, думая о том, чтобы не упустить драгоценные пули в пустоту. Он нажал спуск секундой раньше, чем пулеметчик крикнул за его спиной:
— Ну! Давай же!
Петер не видел, что произошло с самолетом: выглянувшее из-за облаков солнце слепило глаза, но понял все по тому, что люди, лежавшие в канавах, поднялись и бежали к нему. Лобов тряс его за плечи и орал:
— Так его! Знай наших!
Одноглазый протягивал кисет с табаком, по привычке следя, чтобы к кисету не протянулись еще чьи-нибудь руки. Он был, пожалуй, самым старшим из собравшихся здесь. От всей его большой, нескладной фигуры веяло тем неистребимым спокойствием, которое, говорят, составляет основную черту русского характера.
— Теперь тебе медаль либо орден, — сказал он не то с одобрением, не то с завистью, усаживаясь на землю рядом с Петером. — Скажи хоть, как твоя фамилия!
— Кампа моя фамилия, — ответил Петер, — а тебе зачем?
— Да так. Убьют, как того первогодка, и фамилии никто не узнает…
— Тогда скажи мне свою.
Пулеметчик усмехнулся.
— Я заговоренный. Меня простая пуля не возьмет, — Помолчав, он сказал: — Вообще-то, ежели разобраться, так с пулемета его сбить проще простого. Кабы мне немец глаз не вышиб, я бы и сам его шпокнул.
— Конечно, — сказал Петер и, сняв фуражку, долго вытирал ее пахучим дном свое мокрое от пота лицо.
Небо между тем понемногу заволакивалось тучами. О новом налете авиации можно было не думать, но зато вскоре пошел неприятный мелкий дождик. Вначале он был робким, нерешительным, но постепенно становился сильнее. У Петера не было карты, и он не знал, сколько километров до ближайшей деревни, но приказал двигаться.
Уже подав команду, он вдруг вспомнил об убитом первогодке. Остановив колонну, приказал поднять убитого и отнести на самый верх ближайшего холма.
— Здесь похороним. Чтобы издали было видно.
Стоя наверху, услышал чей-то испуганный крик:
— Немцы!
По дороге из леса двигались автомашины. Впереди ехал средний танк с включенными фарами. Около Петера в это время были пулеметчик и его второй номер. А у подножия холма те, кто не успел взобраться наверх, услыхав панический вопль «немцы!», уже поворачивали обратно, готовились уходить. И то, что немцы ехали, пренебрегая элементарными правилами маскировки, и то, что его бойцы собирались уходить без боя, привело Петера в ярость.
— Стой! Назад! — закричал он, выхватывая пистолет, в котором не было ни единого патрона.
Они едва успели залечь у обочины, когда из-за деревьев показался танк. Пропустив его, Кампа вскочил и метнул связку гранат под колеса идущей за ним машины. Лобов и его взвод атаковали две другие. Из горящих грузовиков выскакивали немцы и попадали под огонь пулемета и саперов. Успевший уйти довольно далеко танк развернулся и ударил из пушки по кустам, совсем не в ту сторону, где находились нападающие. По команде младшего лейтенанта бойцы пошли на немцев в штыковую атаку.
Через несколько минут все было кончено. На дороге осталось лежать более двух десятков трупов, на запад спешно уходил танк, провожаемый разрывами гранат. Петер, еще не вполне веря в победу, удивленно смотрел ему вслед. Подошел Лобов.
— Вот это панихида! — сказал он, вытирая рукавом пот и чью-то кровь. — Что с нахлебниками будем делать, младший лейтенант? С собой заберем или… как?
— Доставим, куда положено, — ответил Кампа.
Над вершиной холма взвилась зеленая ракета. Это Григорий подавал условный сигнал. Бойцы построились.
У могилы Неизвестного солдата они остановились, сняли каски. На большой, вертикально поставленной плите известняка Григорий штыком нацарапал два слова: «МЫ ВЕРНЕМСЯ!» Это был один из немногих памятников первых дней войны. Стоял он на высоком бугре у самой дороги, по которой совсем недавно отступали измотанные в непрерывных боях наши подразделения и вот-вот должны были пройти немецкие передовые части.
Кампа оглянулся. Бойцы стояли плечо к плечу, сосредоточенно глядя на каменную плиту. Сегодня они победили— многие впервые — и вместе с ними победил тот, кто лежал здесь, под грудой камней. Молчание это было похоже на клятву, на обещание живых живому.
И они действительно ушли с холма, когда захотели. Они одни были настоящими хозяевами этой земли.
ЖИЛИ-БЫЛИ КОРОЛЬ С КОРОЛЕВОЙ… (Рассказ)
1
Почему именно эту избу отвели под медпункт, Лидия Федоровна не знала. Это произошло без нее, пока она ездила в медсанбат «выбивать» медикаменты и перевязочный материал, которого здесь всегда расходовалось больше нормы.
Издали домишко выглядел совсем плохо: кривобокий, с развалившейся трубой и подслеповатыми оконцами. Однако искать другое помещение было некогда, и Лидия Федоровна согласилась.
В огороде трое бойцов копали котлован под землянку. Руководил ими солдат, по фамилии Галкин. Сейчас все стояли без дела. Хозяйская дочь Варвара, широкоплечая и сильная, как грузчик, уперев руки в бока, стояла наверху, а Галкин — внизу, на полутораметровой глубине. Подняв глаза, он видел ее полный мясистый живот, большую грудь, бесстыдно открытые ноги. Вероятно от этого лицо Галкина было красным, будто ошпаренным…
— Уйди, девка, — говорил он глухим басом, стараясь не смотреть наверх.
— Не уйду, — отвечала Варвара, — ишь, чего надумал! Другого места, окромя нашего огорода тебе нет! Сколь трудов положили, а он — на-ко! Да ты на землицу-то глянь, на землицу! Как пух! Одного навозу летошный год убухали возов десять!
— Никуда он не денется! — ворчал Галкин, косясь на выкинутый из котлована бесплодный серовато-желтый песок. Котлован у Галкина почти закончен. Осталось совсем немного, и можно возводить накат. Еще мечтал солдат поставить в землянке небольшую печурку. Трудно спасаться от холода в окопе. Иной раз так намерзнешься— зуб на зуб не попадает. А печурку ему обещали сделать славную. И всего только за десять пачек махорки.
— Никуда не денется твой навоз! Ясно? — кричит Галкин. — Вон он лежит под песком! Уйдем — котлован закидаешь и сей себе на здоровье чего хочешь!
— То-то и есть, что под песком! — сердится Варвара, — сразу видно, что ты в крестьянстве ни уха ни рыла не понимаешь!
— Это я — ни уха ни рыла?! — возмущается Галкин. — Да я до войны бригадиром был! Лучшая бригада в районе! Вот же нарочно не уйду с твоего огорода за такое оскорбление! Мне здесь больше нравится! Вот тебе и «ни уха ни рыла»!
— Оставь их, Николай Иванович! — сказала Лидия Федоровна. — Тебе ведь, и в самом деле, все равно где копать.
Она поднялась на крыльцо, старательно вытерла сапоги о край ступеньки, толкнула дверь.
Слышала, как Галкин сказал Варваре:
— Уж разве из уважения к товарищу доктору! А то бы ни за что!.. Ставь пол-литра, девка!
Бросив вещмешок в угол, Воронцова устало села на лавку, осмотрелась. С десяток раненых на первый случай, конечно, поместится. Нужно только сделать генеральную уборку: вымыть стены, потолки, пол.
На печке в темноте идет какая-то возня, кто-то кого-то толкает, и от этого ситцевая занавеска колышется и вот-вот упадет. Сквозь ее многочисленные дыры на доктора смотрят любопытные детские глазенки. Она подошла, отдернула занавеску. На печке притихли, насторожились, поползли в темноту. Воронцова поймала маленькую босую ногу, потянула к себе.
Глаза у девочки не испуганные. Скорее задорные. Поняла, что с ней играют. Села на край печи, аккуратно расправила платьице.
— Мама где?
— По картошку ушла с Мишей, — ответила девочка. — А ты Варьки не бойся! Только под ногами у нее не путайся. Как закричит или ругаться начнет — лезь сюда к нам на печку!
— Хорошо, — сказала Воронцова. — Как тебя зовут?
— Меня — Фрося. А вот его — Петькой. Он у нас еще маленький. Ему четырех нет. Мы из Старой Руссы от немца убегли. Наш папа комиссар. Мамка говорит, нас бы за это всех изнистожили.
— Значит, здесь не одна семья?
— Не одна. Еще Грошевы. Они — хозяева. А мы — Савушкины. А ты, тетенька, у нас жить будешь, да? И раненых привезешь, да? А можно мы их водой поить будем? У нас с Петькой своя чашка есть! Бо-ольшая пребольшая!
— Не знаю, не знаю, ребята. Скорей всего, надо мне другую избу искать…
Другой ей так и не дали. В наполовину сожженной деревне их оставалось шесть — темных, покосившихся от времени, с провалившимися крышами и широкими русскими печами. На них грелись после караула, отогревали капризную рацию радисты, сушили одежду разведчики после возвращения из поиска. На них же бредили тифозные и о них мечтали солдаты, замерзая в траншеях на холодном осеннем ветру…
Стемнело, когда Воронцова после бесполезных хлопот, усталая, возвращалась к Грошевым. При тусклом свете потухающего дня, заметила в углу худенькую женщину.
— Кто это?
Хозяйка, бабка Ксения, с готовностью откинулась:
— Жиличка наша, беженка. Настей звать. Настенка, а Настён! Подь сюды! Тебя тут доктор спрашивает! — и — шепотом: — Как приехала со своим выводком в августе, так и живет, и уходить не собирается. Ты уж, будь ласка, поговори с ней! Пристращай ее, коли что. Она боязливая!
Настя робко подошла, поздоровалась. Это была совсем еще молодая женщина с белокурыми жиденькими волосами, аккуратно заправленными под платок. Лицо у Насти не старое. Мелких морщин почти нет, зато крупные залегли глубоко: поперек лба две, две — на переносье и две у рта — скорбные, старушечьи.
Стояла, смотрела в пол, мяла пальцами старую, застиранную косынку.
— Куды ж нам теперь? Дети у меня…
Лидия Федоровна спохватилась, взяла ее за руку.
— Что вы, что вы! Конечно, поместимся! Да и нам помощница нужна. Одним санитарам не справиться.
Старуха не слышала разговора. Подошла, затрясла в воздухе длинным узловатым пальцем:
— Говорили: уходи подобру-поздорову — не слушала! Тогда лето было. И в овине жить можно!
Воронцова обняла беженку, увела за печку.
— Здесь и живете?
— Здесь и живем. Младшие на печке. Когда свободно… Я — на лавке, Миша — на полу. Да вы садитесь, а то, право, неудобно как-то… Может, уж нам уйти?
— Живите. А правда, что вы Грошевым родственники?
— Дальние.
Поздно вечером пришла румяная, веселая Варвара. Обломком гребня долго расчесывала густые сбившиеся волосы.
— Сегодня опять вчерашний лейтенант приставал с глупостями. — Отодвинула в сторону зеркальце, разглядывала себя со спины, — и чего надо — не пойму!
Старуха загремела чем-то в своем углу, с сердцем отбросила в сторону попавшийся под руку ухват.
— Сама виновата! Не пяль глаза на каждого, бесстыдница! Есть один, и остепенись! Какого тебе еще надо?!
— Я! Пялю? — изумленно пропела Варвара. — Очень надо! Вы, маманя, не трепитесь, коли не знаете! — и пошла к себе за занавеску.
Глаза ее при этом блестели как-то по-особому и даже на вошедшего в эту минуту Галкина посмотрела доброжелательно. Все-таки мужчина…
Воронцова ее не осуждала. Варвара была из тех молодаек, которые, еще не пожив, уже успели овдоветь. Им, познавшим мужскую ласку, было труднее даже, чем тем, кто ее так и не успел узнать. Не удивительно, что такие, как Варвара, улучив момент, нет-нет да и прошмыгнут в батальон. Посидят, поворкуют под кустиком, пока старшина или комбат не прогонит… Не до хорошего! Посидеть бы просто, прижаться щекой к жесткому сукну шинели — и то большое счастье! Трудно любить на войне, но еще труднее быть любимой.
Понимая, что не заснет, Воронцова встала с топчана, накинула шинель и вышла на улицу. Ноябрьская ночь бросилась в лицо усталым холодным ветром.
2
Старшему Савушкину, Мише, лет десять. Держится он солидно, говорит неторопливо и мало. По всему видать: подражает мужчинам.
Без него Савушкины за стол не садятся. После обеда Настя обычно устраивается в уголке, что-нибудь перешивает из старого либо штопает, а Миша принимается оделять младших подарками. Неторопливо и раздумчиво вынимает из карманов игрушки. Кому достанется стреляная гильза, а кому и целый патрон. Не забывает и себя: раз принес запал от гранаты и уселся с намерением, как видно, разобрать его. Случайно оказавшийся в это время в избе Галкин увидел, отобрал. На глазах испуганной Насти показал, что это за штука и для чего служит…
— Горе мое! — сказала Настя, — вроде и большой уже, а ума еще как у Петьки! Тот в войну играет и этот… Пошли с ним вчера за картошкой, нашли целый бурт. Только принялись набирать, а немец — вот он, рядышком! Стоит под деревом, на нас смотрит. Я — мешок в руки и бежать, а мой-то пострел лег в межу и в немца из лопаты целит, ровно с пулемета. «Отходи, говорит, мама, я твой отход прикрою!» Насилу увела! И смех, и грех, право! Спасибо, немец сознательный попался, не стрелял…
— Куда же вы за картошкой ходите? — спросила Воронцова. — На передовую?
— Куды ж больше-то? Здесь поближе все люди посбирали, а там на ничейной полосе ее в земле много остается. Иной раз целый бурт найти можно. Колхозный который… Чего ж ей пропадать? И картошка не гнилая, хорошая картошка.
— Убить могут.
— Ничего, теперь тихо. Мы ведь, когда стреляют-то, не ходим…
Картошку ели все вместе, окружив стол плотным кольцом. Солили экономно, просыпанную соль подбирали языком.
— А мясо в армии дают? — вдруг спросил Петька.
— Дают, — ответил Галкин, — иногда…
— Почему иногда? — спросила Фрося.
— Кончится война — каждый день давать будут.
— А бабка Ксения говорит, тебе и сейчас дают.
— Ксения говорит? Ну, раз говорит, значит, и вправду дают.
— А почему ты нам одни сухарики приносишь?
Галкин поперхнулся картофелиной, встал из-за стола, напился в сенях холодной воды и ушел к себе в роту.
Настя сказала укоризненно:
— Ну вот, ни за что обидели хорошего человека!
Ко всем, кто приходил в избу Грошевых, она относилась одинаково: по-матерински ласково и дружелюбно. Было в ней так много от жены, матери, сестры, что встретившийся с ней впервые, через несколько минут начинал чувствовать себя как дома. Когда она, собрав вокруг себя ребятишек, начинала проникновенно и неторопливо:
— В некотором царстве, в некотором государстве… — ее слушали все, кто находился в это время в комнате. И хотя большинство сказок было давным-давно знакомо, слушали с удовольствием. Тихий, ласковый голос успокаивал, отрывал от надоевших будней войны, протягивал незримые нити к бесконечно дорогому, далекому, оставшемуся за огненной чертой…
А вечером, позвав Мишу, она уходила с ним к переднему краю. Возвращались поздно, иногда под утро. Принесенную картошку ссыпали в выкопанную в огороде яму.
— Наберем полную, — говорила Настя, — на всю зиму нам с вами хватит.
Ее младшие, едва проснувшись, топали в огород смотреть и возвращались радостные.
— Во, сколь осталось!
Грошевы к затее Насти относились серьезно.
— Экую прорвищу запасает! — ворчала старуха. — Ровно век здесь жить собралась!
Когда Насти не было дома, подходили к мешку, брали в руки крупные клубни.
— Из Апатьевских буртов, — говорила уверенно бабка. — Там, слышно, немцев вчерась погнали…
— И не из Апатьевских, — возражала, дочь. — Из-под Старкова картошка. Вон глина на ей. А в Апатьеве скрозь песок.
И каждый раз старуха начинала осторожно:
— Сходила бы ты с ней, посмотрела. Может, и не так страшно…
— Иди сама, коли жить надоело! — отвечала Варвара.
— Настёнка-то ходит…
— Настьке все равно помирать. Придут немцы — первую повесят за мужа-комиссара, а мне еще пожить охота,
3
Настя погибла в один из дождливых дней в начале декабря. Маленькая, худенькая, словно подросток, лежала на той самой лавке, на которой спала раньше. Впервые Воронцова видела ее без платка. Белокурые жиденькие волосы откинуты назад, светлые глаза чуть приоткрыты и смотрят на мир серьезно и задумчиво. Одна нога в ботинке, другая — разутая, в одном чулке с прорванной пяткой.
Размазывая слезы по лицу, Миша говорил:
— Подошли мы к тому месту, где раньше брали, а там пусто. Кто-то до нас поспел. Маманька и говорит: «Ты посиди тут, а я пойду посмотрю другое место». И не пришла…
Солдаты, принесшие Настю, стояли тут же. Галкин часто и сипло кашлял, сморкался в рукав, вытирал глаза заскорузлыми пальцами. Другой, совсем еще молодой парнишка, хмурился, на людей смотрел исподлобья. Оба дымили махоркой и шумно вздыхали. Галкин несколько раз принимался рассказывать одно и то же. При этом он неловко шевелил правой рукой.
— Идем мы с Саватеевым за этой картошкой, будь она неладна, глядим, у бурта ровно кто-то сидит. Думали, немец. Залегли. Лежим, это, ждем. Стрелять — не стреляли. Потому как шум подымать нам никак нельзя. Немец зараз начнет бить из орудий либо из минометов. Ждем мы, и вдруг чудится мне, будто человек стонет… Этак тоненько, вроде бы как пугливо. Саватеев — было пополз, а я его придержал. Говорю, можа это немец приманывает. Он это любит — приманывать! Сколь наших ребят зазря погибло через это. Застонет в кустах, ну, известно, у кого сердце выдержит? Пойдут на стон, а он с автоматом… Словом, не пустил я его. Ан, выходит, зря. После-то и сам полез, а Настёнка-то уж кровью истекла. Такое вот, стало быть, дело.
Покашляв, Галкин продолжал:
— Взяла, видать, первую картошку, а в мешок положить не успела. Так с ней и сидит, к груди прижимает, Большая такая картошка, белая…
После смерти Насти жизнь в доме Грошевых как-то притаилась, замерла. Неожиданно все сразу почувствовали, что в доме не хватает кого-то очень хорошего и нужного.
Галкин с удивлением заметил, что ходит в аккуратно заштопанной гимнастерке, легкораненые, приходившие в санчасть на перевязку, признались, что они своими латаными гимнастерками обязаны беженке. Воронцова вспомнила, как долгими ночами сидели они вместе с Настей за печкой и беженка говорила ей своим ровным певучим голосом:
— Кончится война, приедешь к нам в Руссу, я тебя в городскую больницу устрою. Будешь работать и учиться, а потом, глядишь, и в институт поступишь, настоящим доктором станешь. А то фельдшером — ни то ни се… Так жизнь-то и наладится.
— Думаешь, скоро кончится? — спросила Воронцова.
— А как же?! Вот опомнятся наши маненько, поднакопят силушки и тронутся.
— Ох, не случилось бы, что немцы раньше в Москве будут.
Настя ответила уверенно:
— Не будет этого. Не отдадут им наши Москвы. Все до единого полягут, а не отдадут! Москва — это все равно что сердце наше. Вынь его из груди — и нет нас!
Маленькая ростом, она стала сейчас большой и сильной.
— Какая ты… — сказала Лидия Федоровна, откровенно любуясь ею. Настя покраснела, крепко зажмурила глаза.
— Эх, Лиданька, только б до победы дожить! Ничего бы не пожалела, только бы ее приблизить хоть на денечек!
Такой она и запомнилась Воронцовой.
Грошевы Савушкиных не обижали, но питались по-прежнему отдельно от них. Раза два приходил Саватеев, приносил хлеб, сахар, селедку. Посидев молча, уходил, аккуратно притворяя за собой дверь, Галкин приходил чаще. Сидел у порога, курил вонючую махорку, хмуро смотрел на детей. Иногда неумело гладил кого-нибудь по голове, шепча себе под нос:
— Ах ты, беда какая!
Однажды принес завернутые в тряпку сапоги.
— Перешил вот свои. Может, подойдут мальчонке. А коли не подойдут, пускай на хлеб сменяет. Много не дадут, а буханки две просить надо. Головки почти что новые. И двух годов не носил.
Поставив сапоги у порога, свернул тряпочку, высморкался в нее, убрал в карман и вышел.
Миша по-прежнему ходил за картошкой каждый вечер. Похоже было, что он задался целью завершить начатое матерью. В новых сапогах он казался намного старше. На лбу у него так же, как у матери, залегли складки, правда, пока еще чуть заметные. Иногда с ним вместе ходила Фрося. Вдвоем приносили килограммов десять — двенадцать. И теперь уже Миша говорил, собрав вокруг себя малышей:
— Засыпем до краев, тогда вовсе ходить не будем. Тогда нам зима не страшна.
Воронцова ходила к командиру роты, рассказала про Савушкиных. Капитан только развел руками:
— Сама видишь, весь батальон который день без горячего. Все дороги перерезаны. В тылу хозяйничают фрицы, а у нас сил нет им по шапке дать. Вся оборона на нашем участке на одном честном слове держится. Узнают немцы, что нас здесь — с гулькин нос — двинут! Как пить дать двинут в наступление!
Сам он отдал все, что у него было: килограмм сухарей и пять кусков сахару.
— Бери, все равно без толку лежит. Я и раньше-то сладкое не уважал.
Как-то Галкин появился возбужденный, сияющий. Убедившись, что Грошевых нет дома, скомандовал:
— Мишка, Фроська, забирайте мешки и айда за мной! Будут и у вас нонче оладышки!
Он привел их далеко за деревню, где начинался лес. Несколько больших куч хвороста и сухих листьев прятались в сосняке. Галкин разбросал одну из них, кинжалом разрыл тонкий слой земли. В яме, прикрытые соломой, лежали мешки с мукой.
— Берите, не стесняйтесь. В случае чего скажете: в батальоне выдали как семье фронтовика… Ну, чего вы?
Миша и Фрося не шелохнулись.
— Очумели с радости? Ну-ко дайте мешок-от!
Насыпать муку одной рукой было неудобно. Галкин сперва черпал пригоршней, потом приспособил пилотку. Работая, солдат не забывал поучать несмышленышей, учил их жить на белом свете. А когда, окончив работу, оглянулся, возле него никого не было. Далеко, у самой деревни, виднелись две детские фигурки, одна маленькая, другая немного побольше. Они шли, взявшись за руки, и скоро скрылись за крайней избой.
— Мать честная! — выругался Галкин. — Чего ради старался? Вас ради! Жалко ведь: пропадете! Кабы не это, рази бы я…
Дойдя до грошевской избы он решительно взялся за ручку, но передумал, не вошел. Стоял, насупясь, ковырял ногтем сучок на косяке двери. Потом поправил ремень, выколотил пилотку о столбик, надел ее и пошел к себе во взвод.
Миша отправился за картошкой на рассвете. Стоя на посту, Галкин видел, как он вышел из дома, спустился по тропинке вниз к ручью, напился и, затянув потуже ремень, не оглядываясь, пошел в сторону нейтралки.
Только поздно вечером, улучив момент, Галкину удалось заскочить в избу Грошевых. Младшие Савушкины были одни. Фрося, подражая голосу матери, рассказывала:
— В некотором царстве, в некотором государстве жили-были король с королевой… — она посмотрела на темные окна, на старого солдата, молчаливо стоявшего у порога и добавила: — И еще у них был старший братик Миша…
Галкин вышел тихо, как Саватеев, притворив дверь.
Через полчаса полк был поднят в наступление.
ПЛЮШЕВЫЙ ЗАЯЦ (Рассказ)
Бой, который партизаны начали на рассвете, закончился только к вечеру. Немцы оставили село, но не в беспорядке, как о том доносил партизанскому штабу Наумов, а, наоборот, в полном порядке, унося с собой не только раненых, но и убитых. Понимая, что до полной победы над карателями еще далеко и что егеря в любой момент могут вернуться, Наумов все-таки разрешил отряду занять село и расположиться на отдых в домах, выставив только двойные посты.
Когда Анюта на своей двуколке с красным крестом подъехала к Боровому, все целые дома были заняты партизанами. Большинство спали на полу, не раздеваясь, не успев даже разуться и во сне крепко прижимая винтовку. Только на самом краю деревни в покосившейся от старости избенке, нашлось свободное место. Возница, он же санитар, Никита Зяблов вошел первым, придирчиво осмотрел стены, потолок…
— Неказисто живете!
— Некому и ране-то причередить было, — сказала хозяйка избы, женщина лет тридцати с побуревшим морщинистым лицом и тусклым старушечьим взглядом. — Мужика мово в запрошлом годе медведь задрал, а сама я хворая. Вот Любку не знай как родила, с той поры и хвораю.
Любка, ее дочь, бледнолицая и худенькая, как мать, но с живыми светлыми глазами. Подражая матери, она садится, складывает на коленях ручонки ладонями вверх и говорит, коротко вздыхая:
— Как жить дальше — не знаю! Придет немец — того гляди, заберет мою Пятнашку!
Пятнашка — игрушечная корова, сделанная в одночасье каким-то солдатом. Что бы там ни было, а хвост, и громадное вымя, и кривые ноги, и загнутые рога, и даже грустные коровьи глаза, нарисованные чернильным карандашом — все было на месте.
Игрушка сделана грубо, немцу она вряд ли бы приглянулась, но Любка свою корову обожала и была уверена, что ее Пятнашке грозит опасность. Впрочем, в ее заботах было больше игры, а во вздохах — подражание матери.
Анюта ей понравилась с первого взгляда. Никита — чуточку меньше.
— У него бровев нету! — сказала она. — И лицо в ямочках!
Сели за стол. Хозяйка, стыдясь своей бедности, принесла чугунок мелкой картошки, поставила соль и отошла к печке, вытирая концом подола глаза. Любка, не мигая, смотрела Анюте в рот, провожая каждый кусок. От картошки она отказалась, но зато сухарь съела с удовольствием и попросила еще. Сухарей у Анюты больше не было, и она предложила Любке кусок сахару.
— Балуете вы ее! — строго сказала мать и, взяв сахар из Любкиных рук, поколола его на мелкие кусочки. Одну частичку, самую маленькую, отдала Любке, несколько кусочков побольше положила в граненый стакан и спрятала за занавеску, остальное, в том числе и крошки, вернула Анюте со словами:
— Потейте с кипяточком-то, оно посытнее будет…
Кипяток она заварила какой-то травкой, приятной на вкус и очень душистой.
После чая Лукерья, так звали женщину, села рядом с Анютой и, пользуясь случаем, начала жаловаться на свои болезни и при этом называла ее «товарищ доктор». Анюта призналась, что она не доктор, а всего лишь медсестра, да и то без специального образования, что раньше она была в партизанском отряде обыкновенным бойцом… Лукерья замолчала, пожевала губами и сказала:
— Помру вот, с кем Любка останется?
И Анюта пожалела, что назвалась медсестрой. Оставаясь в глазах женщины доктором, легче было развеять ее черные мысли о близкой смерти…
Когда в избу вошел командир разведки отряда, старик Котков, Анюта очень удивилась, что Лукерья его знает и обращается к нему запросто: «Трофимыч». Вскоре все разъяснилось.
Перед войной Коткова выбрали председателем колхоза здесь же, в Боровом, и все, в том числе и Лукерья, за него голосовали. Мужик он непьющий, рассудительный, в крестьянском деле понимал, хотя до этого работал в конторе.
Став председателем, Котков первым делом на каком-то собрании в районе дал обещание увеличить производство зерна по своему хозяйству вдвое. Слова его записали куда надо, похлопали в ладоши и разошлись.
Осень в этот год стояла сырая, дождливая, для хлеба самая никудышная. Не собрал Котков и десятой доли того, что наобещал… И тогда решил он исправить положение по-своему: приказал распахать под озимые хлеба луга, ту землю, что прежде шла под клевер, вику, и даже лесные просеки и полянки… Семена для такого невиданного посева попросил в долг у своих же колхозников. Думал Котков на будущий год и с ними рассчитаться, и свое слово сдержать перед районным начальством…
Может, и впрямь вышло бы по его, если бы не война.
На нивах дремали тучные, редкостные в этих местах хлеба, когда налетела беда нежданно-негаданно, раскидала пахарей, отняла у земли ее богатырскую силу. Разлетелись люди по белу свету. Тучные хлеба частью потоптали солдатские кованые сапоги, частью спалил огонь. И не стало в деревне хлеба, а чем дольше голодал желудок, тем чаще заставлял он молчать разум. Нет-нет да и вспоминались старые обиды, давние долги…
Все это Трофимыч поведал Анюте и Никите, потому что они здесь были людьми чужими и могли подумать о Коткове бог знает что. Рассказывал, чтобы хоть немного объяснить промашку, в которой сам был не повинен. А чтобы не подумали люди, будто он старается обелить себя вовсе, рассказывал все это громко, в присутствии самой Лукерьи и при этом время от времени обращался к ней и спрашивал строго:
— Так я говорю, Лукерья Аверьяновна? — на что Лукерья всякий раз согласно кивала головой.
Она, и в самом деле, была согласна со всем, о чем говорил председатель, и понимала, что не виноват он в ее несчастье и что не может он ей помочь сейчас ничем, но, понимая, она все-таки спросила у него, когда он собрался уходить:
— Так как же, Трофимыч, когда долг-то отдашь? Чай, нам с Любкой есть надо!
Котков замер у двери, хотел что-то сказать, но вместо этого плюнул, махнул рукой, толкнул дверь и выбежал на улицу. Лукерья проводила его взглядом, полным растерянности и недоумения.
— Чего это он? Осерчал, побег…
Занятые разговором взрослые не обращали внимания на Любку. А между тем в ее крохотной душе жила любовь ко всем, кто окружал ее, кто хоть раз посмотрел на нее, погладил, хотя бы мимоходом, по голове. Выбрав момент, она подошла и ткнулась вечно мокрым, как у щенка, носом в Анютины колени.
— Тетя Аня, хочешь, я тебе живого ужика покажу? Он у нас за сараем живет. Его мальчишки палками били, да не добили, а он залез к нам в погреб, дак там и спасся. А не хочешь, я тебе грачиные гнезда покажу! Только теперя в них птенцов нету. Приезжала бы раньше! Или лучше я тебе кукол покажу!
Взяв Анюту за руку, она повела ее за собой. Разобрав завал из старых досок, она отворила дверцу в загородку наподобие овечьего закутка и, торжественно сложив руки на груди, проговорила:
— Вот они, мои степки-растрепки!
Анюта увидела трех кукол, сделанных из тряпок с одинаково длинными волосами. Тут же рядом, привалившись одним боком к стене, стояла деревянная корова, боявшаяся немецких солдат, и совсем отдельно, на чистой белой тряпочке, прикрытый лоскутным одеяльцем, спал длинноухий плюшевый заяц. И у кукол, и у зайца выделялись старательно нарисованные чернильным карандашом глаза.
— Вот эта, — говорила между тем Любка, — Манька-пересмешница. Она всегда всех пересмеивает. За это ей одну руку оторвали. А это — Дарья. Она у меня тихая, смирная, только вот плачет много, прямо не знаю, что с ней делать. Видишь, какие у нее глаза заплаканные!
У куклы в самом деле были заплаканные глаза. По-видимому, ее мыли, но неудачно, и от этого по всему тряпичному лицу тянулись следы грязевых потоков.
Третья кукла звалась Пелагеей и ассоциировалась с местной учительницей, доброй и простоватой.
Когда очередь дошла до зайца, девочка на минуту замолчала, потом подняла зайца на руки, поцеловала и сказала:
— А это — мой самый любимый Зайка-зазнайка. Зазнается он, а я его все равно люблю, потому что он купленый, а не домодельный, за него деньги плачены.
Заяц и впрямь оказался купленым, сделанным из дешевого плюша и опилок. Такие игрушки изготовляют обычно в артелях и рассчитаны они на невзыскательного покупателя.
— Замечательный заяц! Просто прелесть! — сказала Анюта.
— Правда? Тебе тоже нравится? — спросила девочка и вдруг проговорила: — Хочешь, я тебе его подарю?! Мне не жалко, ты не подумай!
Ответить Анюта не успела. Сильный взрыв снаружи потряс стены ветхой постройки, сдернул крышу с сарая, поднял столб пыли и соломы.
И тотчас все засуетилось, задвигалось в селе. Партизаны выскакивали из домов, падали на землю, ползли вперед, занимая оборону, командиры отделений выкрикивали слова команды.
Забыв про Любку, Анюта схватила санитарную сумку и побежала к избе, где жил командир отряда.
Наумова она увидела еще издали. Он стоял, прижавшись к сараю, и отдавал распоряжения. Прихрамывая и на ходу привязывая к поясу гранаты, приковылял Котков. За ним, волоча по земле станковый пулемет, пробежали два паренька и залегли недалеко от Анюты. Появились первые раненые. Она не успела добежать до одного из них, когда снаряды начали рваться совсем близко от партизанского штаба.
— Куда бежишь?! — закричал Наумов. — Ложись! — и пригрозил ей пистолетом. Анюта легла.
Один взрыв следовал за другим, веселыми трелями заливались пулеметы, пули со свистом пролетали мимо Анюты и откалывали от стенки сарая над ней смолистые пахучие щепки. С крыши дома Лукерьи, срезанный осколком, упал скворечник.
Когда раздался крик: «Доктора!», Анюта поднялась и, прячась за домами, побежала. Потом ее позвали обратно. У самого штаба истекал кровью пулеметчик. Потом она снова бежала на середину села, и санитарка Зина почтительно называла ее «товарищ военврач»… Вдвоем они перевязывали раненых, поили водой умирающих.
Немцы наступали. Дважды легко раненный Наумов подал команду отходить. Увлекшись работой, Анюта не слышала команды, а санитарка в это время была далеко. Опомнилась, когда пробегавший мимо партизан больно ткнул ее прикладом.
— Оглохла, что ли?! Отходи!
Этот же боец подхватил под мышки раненого, которого она перевязывала и почти побежал с ним наискосок через дорогу к спасительному оврагу. Анюта последовала за ним, но на какой-то миг задержалась и в последний раз оглядела село. Ей показалось, что где-то стонет раненый.
И увидела Любку.
Девочка бежала вдоль улицы, быстро перебирая босыми ногами, пугливо озираясь, шарахаясь в сторону от горящих изб. И прежде чем Анюта успела сообразить, в чем дело, Любка, увидев ее, радостно закричала:
— Тетя Аня! Тетя Аня! Возьмите Зайку!
При этом она показывала что-то зажатое в ладонях.
— Остановись! Ложись! — не помня себя, закричала Анюта.
Несколько бойцов наперерез бросились к девочке, но было уже поздно. Впереди Любки разорвался снаряд. Девочка остановилась, вытянула вперед руки и, как подкошенная, повалилась на землю.
— Любка! Любушка! — плача, говорила Анюта, подхватив на руки легкое тельце ребенка. — Зачем же ты? Ну зачем же так?
Она не понимала, что стоит во весь рост посреди улицы, что в нее стреляют и только случайно не могут попасть.
Вихрем налетел Зяблов. Он разыскивал Анюту с самого начала боя и только сейчас заметил. Вероятно, все продолжалось несколько секунд, но Никите показалось, что прошла вечность, пока он бежал несколько метров, отделявших его от Анюты.
Подоспел он в тот момент, когда в конце улицы показались фигурки в серо-зеленых мундирах.
Только перенеся Любку в овраг, Анюта пришла в себя, огляделась. На краю оврага Наумов с горсткой партизан с трудом сдерживал натиск карателей. На противоположной стороне оврага под деревьями стояла лошадь, запряженная в волокушу. Несколько бойцов и санитарка Зина торопливо грузили раненых.
На коленях Анюты, словно уснув, лежала Любка. Старенькое, много раз стиранное платьице было залито кровью. Правой рукой девочка по-прежнему крепко прижимала пучеглазого плюшевого зайца.
Анюта осторожно разжала ее пальцы и взяла игрушку. Одно ухо зайца было в крови.
— Спасибо, родная, — сказала Анюта, — теперь он всегда будет со мной.
Она опустила Любку на землю, сняла шинель и накрыла девочку с головой. Потом подняла винтовку убитого парня, приладила на место штык и стала подниматься по склону оврага.
Навстречу ей сверху сыпались люди. Некоторые неслись до самого низа без остановки, другие останавливались, делали несколько выстрелов и тоже бежали вниз. Четверо партизан помогали спускаться Наумову. Между ними и карателями оставалась только грива оврага.
Увидев медсестру, Наумов закричал:
— Спускайся вниз! Садись на лошадь! Быстрее!
Она не обратила на него никакого внимания. Он оттолкнул бойцов, крикнул громче:
— Беги вниз! Приказываю!
И опять она не ответила. Когда до края оврага оставалось несколько метров, Анюта упала, запнувшись за корень, и сейчас же над ее головой хлестнула по кустам пулеметная очередь.
Она поползла вперед, но кто-то схватил ее за ногу, и оба скатились в расщелину.
— Сумасшедшая! Куда ты? Убьют!
Никита еле переводил дух.
— Командир приказал тебе вернуться! Говорит, за невыполнение приказа — под трибунал!
Она медленно приходила в себя, остывая не сразу.
Внезапно на той стороне оврага, где, она видела, грузили раненых и куда стремился уйти отряд, раздались пулеметные и автоматные очереди, послышались разрывы гранат.
— Обошли, гады! — проговорил Никита, грузно оседая на землю.
Одновременно пулемет, что стоял наверху, начал поливать огнем оба склона оврага, заперев оставшихся с Наумовым партизан в узкой щели на самом дне в русле ручья. Никиту и Анюту пулеметчик тоже заметил, но ему мешали поваленные деревья, поэтому трассы его пока что шли через их головы.
— Зяблов! — сказала вдруг Анюта. — Убей его!
Безбородое лицо Зяблова вытянулось, посерело.
— Ты что, девка, сдурела? Давай отсидимся здесь, а наши подойдут, тогда уйдем…
Она хотела сказать ему, что наши уже не смогут подойти к ним и им самим не выйти из этой мышеловки, но Зяблов неожиданно вскрикнул тоненько и жалобно, и Анюта, обернувшись, с удивлением увидела, что он совсем еще мальчик, что он ранен, что у него дрожит подбородок и руки странно мечутся возле горла…
— Ладно, я сама! — сказала она. — Ты только прикрой меня немного. Мне бы чуть ближе подобраться! Боюсь, издали не смогу…
Она усадила Зяблова в ямку, сунула в руки винтовку, сняла с его пояса гранаты.
— Никита, милый, потерпи! Подержись еще немного! После я тебя перевяжу! А сейчас некогда! Прости…
— Хорошо, — проговорил он тихо, — я все сделаю, не сумлевайся…
Потерявший надежду выбраться из оврага, раненный в третий раз командир отряда лежал в воде в самом глубоком месте ручья и с тоской прислушивался к звукам боя на той стороне оврага в лесу. Слух не обманывал его: партизаны отступали, уводя за собой карателей в сторону, противоположную той, в которой оставался Наумов. Из бойцов рядом с ним оставался один старик Котков. У командира с Котковым договор: в случае чего Котков стреляет командиру в голову, а сам подрывается гранатой не раньше, чем на него, лежачего, навалятся фашисты… До этого они несколько раз пытались выйти из ручья в ту или другую сторону, но всякий раз возвращались обратно: пулемет наверху не давал им выйти.
Неожиданно он замолчал. Наумов полежал немного, послушал, приказал Коткову выставить свою фуражку на колышке… Пулемет не отозвался. Полежали еще немного. Первым не выдержал Котков.
— Попробую, командир! Двух смертей не бывать, а одной все равно не миновать! Если останешься один, не вылазь, лежи. До ночи они тута не будут сидеть. А ежели и подойдут, виду не подавай. Кровищи на тебе — страсть! За мертвяка примут… Ну, пока!
Но и Коткова пулеметчик не тронул. Трофимыч осмелел, встал во весь рост, отряхнул зачем-то колени, осторожно позвал:
— Анюта! Никита!
Ему ответило только слабое эхо. Перестрелка на той стороне оврага отдалилась настолько, что даже разрывы гранат были еле слышны. Котков спустился в ручей, ухватил командира за рукав, взвалил на спину.
Смерть могла встретить его за каждым деревом, поэтому особого выбора у Коткова не было. Он пошел вправо к селу. Тропочка, что вела по крутизне, сбегала вниз к самому ручью и рассыпалась там мелкой галькой, местами укрытая снегом, чтобы возродиться снова на том берегу. У самой воды лежало несколько убитых партизан. Только один, самый маленький, был накрыт шинелью, к остальным, должно быть, никто не подходил.
На Зяблова он наткнулся случайно и долго приводил его в чувство: дул ему в рот, похлопывал по щекам, дергал за руки, пока тот не открыл глаза.
— Дяденька Трофимыч! — сказал он. — Анюта гранатой пулемет подорвала. Вы гляньте, что с ней. Обещалась подойти, как управится, да все нет…
— Где она? Где? — закричал Котков, но Никита снова впал в беспамятство. Лежавший тут же Наумов сказал, не открывая глаз:
— Пулемет справа от тропинки на два пальца левее сломанной березы. Как же ты, старина, не заметил?
Возле пулемета, ткнувшись носом в снег, валялся немец. Туловище второго, отброшенное взрывом, перекинулось через поваленное дерево. А метрах в пяти от него лежала Анюта. Котков бросился к ней, стал искать рану и очень удивился, не найдя нигде крови. Тогда он припал ухом к ее груди. Сердце билось слабо, но все-таки билось. Трофимыч перекрестился.
— Взрывной волной шарахнуло. От своей же гранаты пострадала, бедолага. Ну ничего, это пройдет.
Анюта слабо застонала, открыла глаза. Котков, вытряхнув на снег содержимое ее санитарной сумки, перебирал порошки и пузыречки, шевеля губами, читал мудрые названия.
— Ас-пи-рин. Пи-ра-ми-дон… Рази это лекарства? Выкинь к чертовой матери! Вот у нас в полку фершал был, Николай Иванович Седякин. Так тот никогда порошками не лечил. «Вредно, говорит, русскому человеку порошки глотать!» Микстуры делал. Перец на спирту настаивал. От всех болезней помогало. Выпьешь, и глаза под лоб…
— Дай-ко сумку! — попросила Анюта. С помощью Трофимыча она поднялась, но тут же снова села на снег. — Не могу, голова кружится.
Воровато оглянувшись, Трофимыч достал трофейную фляжку, отвинтил крышку.
— На, глотни. Хоть и не прежняя микстура, а все-таки…
Анюта храбро сделала большой глоток и задохнулась. Трофимыч радостно кивал головой.
— Видишь ты! От кружения, стало быть, тоже помогает!
— Что за гадость? — у Анюты на глазах выступили слезы.
— Ром называется, — Трофимыч убрал фляжку в карман. — В России прежде его помещики да фабриканты пили, а в Германии не иначе только генералам выдают…
Подошли партизаны, молча подхватили на руки Наумова, Никиту, подобрали оружие убитых. Анюта пошла сама, опираясь на плечо Трофимыча. В ее санитарной сумке, которую нес Трофимыч, лежала игрушка — не то заяц, не то собака с длинными ушами и коротким хвостом.
— Лукерьиной дочке отдай, как вернемся, — подсказал Трофимыч, — пускай ребенок порадуется.
Анюта не ответила, только посмотрела на Коткова странными, какими-то одичалыми глазами.
* * *
Потеря Борового не обескуражила Наумова. Он знал, что это может случиться в любую минуту. Расположенное на узком перешейке между двумя широкими и длинными болотами, село как бы запирало на замок отвоеванный у немцев еще в октябре клочок советской земли. Позади, в сожженном селе, находился штаб отряда «Смерть фашизму», далее, в лесу, основная партизанская база, склады продовольствия, беженцы, еще дальше— аэродром. Все это, кроме аэродрома, с воздуха не просматривалось. В ноябре сюда был переброшен из-под Старой Руссы восьмой егерский батальон и два батальона СС. Эсэсовцев вскоре отозвали, а егеря остались. За последние две недели Боровое шесть раз переходило из рук в руки. Впервые оно было взято немцами в августе. Наумова тогда в отряде не было. Он еще командовал стрелковым взводом под Москвой.
Лежа на волокуше, он смотрел в небо и думал. Волокушу тянула чем-то знакомая Наумову тощая партизанская кобыла, тянула безостановочной старательно, и лопатки раненого осязали каждую кочку, каждый попавшийся под волокушу сучок, но Наумов старался этого не замечать, упорно заставляя себя думать совсем о другом. Нет, неудача не убила его. Она только разозлила, а злость — это как раз то, чего Наумову недоставало. Через день-два он вернется сюда и возвратит Боровое. Непременно возвратит!
Стало совсем темно. У Анюты потерялся сапог, и она долго искала его среди горелых сучьев, и рассвирепевший неожиданно для всех Наумов, не стесняясь, материл ее и Трофимыча, стоявшего рядом, и даже после того, как она нашла сапог, они долго еще ругались, и Наумов обвинял Трофимыча в подрыве его, наумовского, авторитета.
Ночевали они на зеленом болотном мху, освобожденном от снега и покрытом сверху лапником, а с рассветом двинулись дальше, и снова Наумов и Котков спорили, на этот раз из-за выбранного направления. Котков советовал идти влево, а Наумов приказывал двигаться вправо.
Утром Анюта с удивлением увидела, что кроме нее и Коткова с Наумовым идут только восемь бойцов. Куда девались остальные, никто не знал и каждый гадал по-своему.
День выдался пасмурный. Время от времени принимался лениво падать снег, потом переставал, и без того тонкий ледок на болоте начал подтаивать.
Отношения с Наумовым обострились, когда последний понял, что Анюта не может извлечь застрявший в его руке осколок. Напрасно Анюта уверяла, что делать хирургические операции ее не учили. Раздраженный болью и еще чем-то, о чем Анюта могла только догадываться, Наумов ее не слушал. В довершение ко всему он случайно обнаружил Любкин подарок. Делая перевязку, Анюта нагнулась, и плюшевый заяц выпал из-за пазухи. Потеряв самообладание, Наумов пнул зайца ногой и закричал на весь лес:
— В куклы играете, мать вашу!.. В куклы! Зайцев носите, а раненых вынести не сумели!
Он долго бушевал, хотя, наверное, сам отлично понимал, что остальные переживали гибель отряда не меньше, чем он. Анюта с ужасом думала о судьбе оставшихся в селе раненых.
Полдня просидели на месте в ожидании отставших и только к вечеру добрались до небольшого хутора, спрятанного в глубине леса. Здесь их поджидали восемнадцать бойцов отряда и санитарка Зина. Никогда раньше Анюта не думала, что можно так обрадоваться человеку, с которым едва была знакома. Для Зины же находиться рядом с «товарищем доктором» было, по-видимому, величайшим счастьем.
Ночь прошла сравнительно спокойно, если не считать, что Наумов бредил, кричал на всю избу, будил товарищей. К утру ему стало совсем плохо. Раненая рука побагровела и распухла, ртутный столбик термометра перевалил за «40».
Неожиданно Анюта оказалась в центре внимания. С нее не сводили глаз, готовясь выполнить любое приказание, санитарка Зина несколько раз принималась кипятить воду. Когда вода начинала остывать, Зина недоуменно поглядывала на Анюту.
А она все не решалась. Она то подходила к топчану, на котором лежал командир, то выходила из избы, не в силах смотреть в глаза товарищей. «Трусиха! Жалкая трусиха!» — терзала она себя, стоя одна в темных сенях.
Прошли еще сутки. За это время она почти не входила в избу, а сидела или лежала в сенях на соломе. Там ее и нашли, прикорнувшую возле мешков с половой и корзин, и позвали к командиру.
Осунувшийся за двое суток Наумов встретил ее горячечным взглядом.
— Ты мне скажи, чем я тебя обидел?
Голос его звучал хрипло, дыхание прерывалось.
— Вы меня не обижали, — ответила Анюта.
— Так что же ты?!! — закричал Наумов, но тут же сник и сказал чуть слышно: — За что же ты меня на муку-то кинула? — И замолчал.
Не он один ждал ответа. Оглядевшись, Анюта увидела двадцать пар устремленных на нее глаз.
— Не умею я, товарищи, поймите! — сказала она. — Ну не учили нас этому! Осколок же глубоко! Понимаете? Надо разрезать, а потом сшивать… Это же хирургическая операция, и делать ее может только хирург, а я — медсестра. Я могу перевязку…
Она с надеждой и отчаянием взглянула на товарищей, но те, на кого она смотрела, опускали глаза. Даже санитарка Зина.
— Знаете, какой он был хороший? Добрый такой… — сказала она, блеснув темными влажными глазами. Она так и сказала «был», потому что теперь ее командир был обречен и только несколько часов отделяло его от гибели.
Первым опомнился Котков. Шумно вздохнув, нахлобучив на голову меховую шапку, поправил ремень.
— Будя, мужики. Видать, девка и взаправду не могет… Пошли отсюда!
Бойцы по одному выходили из комнаты и оставались стоять на крыльце с непокрытыми головами…
Анюта увидела глаза Наумова. Ставшие непомерно большими, они странно потемнели и походили теперь на глаза лошади. Не было в них больше злости, но не было и мольбы, которую она заметила раньше. Сейчас в них было какое-то странное спокойствие, какая-то затаенная нечеловеческая тоска. Сознание, по-видимому, возвратилось к нему полностью, потому что он сказал сидевшей тут же Зине:
— Ребятам скажи, чтобы Коткова слушались. Передай: я приказал.
Он замолчал, пережидая приступ боли, а когда она немного отпустила, продолжал:
— Скорей бы уж… Сестрица, сколько там осталось?
Он спрашивал, как спрашивают о приходе поезда, который должен отвезти его в другой город…
И Анюта не выдержала. В ее душе проснулось что-то властное, которого не было раньше, заставившее, если не поверить в свои силы, то, по крайней мере, что-то делать, а не сидеть сложа руки. Начав двигаться, она уже не могла остановиться. Глаза умирающего следили за каждым ее движением сначала безразлично, потом со все возрастающей надеждой.
Анюта еще ничего не успела сказать, а Зина уже, раскрыв дверь, кому-то махала рукой. Вокруг Анюты засуетились люди. Один кипятил воду, другой, отобрав несколько нижних рубашек, рвал их на ровные полосы, третий точил на припечке кинжал. Потом всех лишних удалили и в комнате остались Анюта с Зиной, Трофимыч с засученными по локоть рукавами и еще четверо партизан, из тех, кто потяжелее и посильнее. В санитарной сумке не оказалось наркотических средств…
Анюте дали вымыть руки. Потом все расступились. Она увидела лежащего на боку бледного, обросшего щетиной человека. Не командира, нет, но мало знакомого ей человека. Правая рука его, поднятая вверх и туго перетянутая у самого плеча жгутом, была очень толстая, красная с синевой, покрытая гладкой, лоснящейся кожей.
«Гангрена», — подумала про себя Анюта и тут же сказала вслух:
— Товарищи, это гангрена!
При этом слове все подались вперед, словно рассматривали что-то микроскопически малое. Котков сказал, жарко дыша над самым Анютиным ухом:
— Гангрена так гангрена, тебе лучше знать. Давай, дочка, не тяни, делай, что надо!
Кто-то подал остро отточенный кинжал. Четверо партизан по команде Зины навалились на Наумова, сама Зина держала деревянный поднос с иголками и суровыми нитками. Операция началась.
Прижав руку командира к груди, Анюта сделала первый круговой надрез. Наумов не проронил ни звука. Врезаясь дальше в упругую ткань, Анюта чувствовала, как под ножом напрягается, дрожит, как струна, тело больного. Когда боль становилась особенно нестерпимой, он только скрежетал зубами. Потом он потерял сознание. Анюта начала пилить кость.
Никто не знал сколько часов длилась эта операция. Люди потеряли счет времени. Даже стоявшие под окнами бойцы не могли после припомнить, кто говорил — два часа, кто утверждал — четыре…
Раза два Наумов приходил в себя, но от сильной боли снова впадал в забытье. Иногда выдержка изменяла ему, и тогда в комнате раздавался крик, от которого кровь стыла в жилах.
Рано или поздно всему приходит конец. Сделав последний шов, Анюта, шатаясь как пьяная, вышла на улицу, забыв вымыть руки. Здесь, не отвечая на расспросы и не глядя на столпившихся бойцов, она опустилась на крыльцо и замерла, обхватив руками гладкий деревянный столбик.
Через два дня Наумову стало лучше. Температура спала, боль утихла. Партизаны решили оставить хутор. Людей повел Котков. Вел днем без дорог, руководствуясь ему одному известными приметами. Ночью давал отдохнуть. Люди уставали, неся на себе раненых, да и места здесь были поистине гибельные: что ни шаг, то болото, что ни два, то озеро либо непроходимая чаща. На третий день пути до них начали доноситься звуки боя. Трофимыч на слух определил, когда «работает» артиллерия, когда — минометы.
— Похоже, к передовой вышли, — сказал Трофимыч.
— Откуда ей тут быть? — удивился Наумов. — Мы же на запад шли.
— Не на запад, а на юг. К тому же теперь ни одна душа на разберет, где фронт, где тыл, все перемешано. Вот в ту германскую — другое дело! Никто тебя не окружал, не забегал в тыл. Шла стенка — на стенку, и все. Бывало, взберешься на какой пригорок, все как на ладони: тут наши, тут немцы. Здесь артиллерия бьет, там конница в боевой порядок строится. Фронт как фронт: в одну линию!
— Тоже — война! — усмехнулся Наумов, — на пасху, на рождество перемирие заключали..
— На пасху — это верно, — согласился Трофимыч, — потому такой праздник… А насчет рождества это тебе уж кто-то сбрехал! Вот я помню…
Договорить он не успел. Из кустов раздались выстрелы.
— Отходи! — закричал Котков, выхватывая наган, но отходить было некуда. Стреляли и справа, и слева, и сзади. Партизаны приготовили гранаты, но чей-то голос крикнул по-русски:
— Бросай оружие, фашистская сволочь! Все равно попались!
— Не стрелять! — приказал Котков, садясь на снег. — Свои…
* * *
На другой день партизаны отправляли раненых на Большую землю. Их было необычайно много, и Анюта с трудом разыскивала своих. Все приготовленные к отправке сидели и лежали на окраине деревни, неестественно белея в полутьме свежими бинтами и бледными лицами. Наумов сидел, придерживая левой рукой опустевший рукав, и ритмично покачивался.
— Болит? — спросила Анюта и, не получив ответа, присела рядом с ним на корточки. — Давайте я вам сменю повязку. Дорога дальняя, а она у вас намокла.
Он молча отодвинул ее руку и продолжал свое покачивание. Она настаивала. Между ними произошло что-то вроде настоящей борьбы. Плюшевый заяц, лежавший у Анюты за пазухой, от резкого движения вывалился. Анюта поспешила нагнуться, испуганно глядя на командира. Он отвернулся.
И вдруг девушка услышала шепот.
— Простите… Простите меня… — тихо говорил Наумов. — За все простите. И за это тоже… Теперь я знаю… Все знаю…
«Никита рассказал, — догадалась она. — Ну что ж, тем лучше». Она огляделась. Вокруг сидели незнакомые ей раненые партизаны, и один радостно говорил товарищу:
— Не знаю, как ты, Степан, а я после этой беготни по лесам никак не могу нажраться! Будто прохудилось что во мне: ем, ем, и все мало! Слушай, правда ай нет, мне повар сказал, что ежели человек будет два дня есть столько, сколько я, то на третий день у него непременно произойдет заворот кишок?
У тебя, Вася, не будет, — заверил его сосед, — ты у нас закаленный.
— Вот и я думаю: не должно бы…
Подошли грузовики, и раненых. начали грузить на них, укладывая рядами поперек, чтобы больше ушло. Те, кому лежачих мест не хватило, устраивались вдоль бортов. Неожиданно пошел снег с дождем, раненые забеспокоились, принялись переползать в кузове, жаться друг к другу. При этом они материли и худую осень, и разъезженную вкривь и вкось дорогу, и подмоченную махру, и еще многое, многое другое, что разом свалилось на их стриженые головы…
И только один человек был рад этому внезапному дождю. Капли, стекая по слипшимся, спутанным волосам Наумова, бороздили его худые щеки, и никто, ни один человек теперь не мог бы заметить его минутной слабости.
— Я буду писать вам, — сказала Анюта.
— Куда?
Она пожала плечами.
— Лучше какой-нибудь знак подайте, что живы, — попросил он.
— Какой? — моторы грузовиков работали, раненые громко переговаривались, остающиеся кричали им, и разобрать слова было трудно. Тогда Наумов нагнулся и на забрызганном грязью борту машины пальцем нарисовал голову зайца.
В это время подошел Трофимыч и остальные партизаны его отряда.
— Понятно, — сказала, улыбнувшись, Анюта.
— Понятно, командир, — сказал Трофимыч и строго посмотрел на Анюту.
— Понятно, — негромко повторили партизаны. Машины тронулись. За одну ночь им предстояло проделать огромный путь по бездорожью, через леса и равнины, через болота и овраги, и никто не знал, удастся ли им достичь желанного берега.
* * *
Стояли последние дни сурового в этом году ноября. Намертво скованная морозом земля гудела, когда по ней, расчищенной от снега, шли немецкие танки, катились, подпрыгивая на кочках, колеса дальнобойных орудий. Когда же в нее, оголенную, закладывали взрывчатку, она рвалась, как рвется гранит в каменоломнях, и мороженые осколки ранили насмерть, словно шрапнель. Воздух звонок и прозрачен, и видно сквозь него на многие километры, а если треснет сучок под ногой незадачливого разведчика, звук этот, как выстрел, далеко разносится по лесу.
Такие дни — самое неудобное время для диверсий. Полежи в снегу, не шевелясь, и через полчаса можешь отправляться в медсанбат; замешкался при отходе от места диверсии и тоже погиб: подстрелят каратели из крупнокалиберного или найдут твое логово по следам, может, через сутки, а может, и через двое, когда ты и думать о них забудешь…
Клянут партизаны на чем свет стоит такие погожие дни, как когда-то радовались им, и ждут не дождутся непогоды — бурана или снегопада, чтобы малыми силами и малой кровью выполнить невыполнимое. Впрочем, ждут — это так, случайное слово. Никто им ждать не разрешит, да и сами все понимают, и тянутся, тянутся от леса к железной дороге, к шоссе, к немецким постам через гладкое ровное поле хорошо видимые издали голубые полосы — цепочки следов, и падают, падают, застывая в глубоком снегу, темные силуэты в драных крестьянских зипунах и лохматых лисьих малахаях.
В один из таких неудачных дней группа Коткова — все, что осталось от Наумовского отряда, — занималась несложным, на первый взгляд, делом — подпиливала телеграфные столбы на шоссе Каменка — Осташков. По нему второй день подряд с небольшими перерывами двигались на север немецкие части. Подпилив несколько десятков столбов, Трофимыч с мужиками цепляли веревками один из них и принимались тянуть на себя. Падая, он увлекал остальные, провода путались и рвались, а Трофимыч, забрав плотницкий инструмент, уходил с мужиками в лес, чтобы, сделав большую дугу, снова выйти к шоссе в другом месте.
Работа их напоминала труд ремонтников железной дороги: трудятся, пока нет поезда, а показался вдали паровоз, бросай дело, уходи в сторонку и сиди, жди, пока длинный состав, лязгая буферами, не протащится мимо. Начав еще до рассвета, к обеду они успевали повалить лишь около пятидесяти столбов — по шоссе то и дело проносились бронетранспортеры, танки и машины, битком набитые солдатами. Этих, идущих мимо, Трофимыч не боялся. Им не было дела до поваленных столбов и даже, пока на то не получен приказ, до партизан, сидевших в лесу, но покидать на время шоссе приходилось. Лежа в снегу и поглядывая издали на неуклюжие, испачканные комуфляжными пятнами машины, Трофимыч нервничал и матерился. Партизаны тоже нервничали. Пожилые, непривычные к такой дурной работе стремились уйти обратно в лагерь, в душные и жаркие землянки, к раскаленной докрасна железной печке, молодые, наоборот, рвались в бой.
— Чем мы хуже других? — говорили они. — Или нам не доверяют?
— Сколь добра пропадает! — вторили им другие, глядя на большие, заботливо укрытые брезентом грузовики. — Семенов со своими ребятами намедни два грузовика подорвал, один с консервами, другой с одежей! Конвой перебили, а добро с собой уволокли. Видал у них комбинезоны? Офицерские и вовсе на меху, а солдатские — так на байке. Одел поверх своего и носи…
Трофимыч и сам был не прочь пощипать фрицев, да с одной стороны — приказ не ввязываться в драку, себя не обнаруживать и делать дело, с другой — у Семенова тридцать шесть человек в группе, а у него восемнадцать…
По шоссе по-прежнему двигались автомашины, вдоль обочины стояли крепкие, из свежего соснового леса, невысокие столбы, гудели от натуги заиндевевшие провода…
— Петлей надо, петлей! — в который раз говорил помощник Трофимыча Елизар Уткин. — Или крюком. Накинул и — готово!
Трофимыч отмахнулся. Уткин в отряде недавно, о том, что провода рвут петлей, слышал от кого-то, но не понял, что людям, хоть их и восемнадцать человек, такую связку проводов не порвать, нужен трактор или хотя бы несколько лошадей. Кроме того, рвать провода — дело пустое и невыгодное. На столбы очень быстро вешают новые, и тогда все начинается снова…
— Шел бы ты, Лизар, проверил посты! — сказал с досадой Котков. — Не ровен час, заснет который из ребят, и нас с тобой немцы голыми руками схватят.
— Как же, заснешь на таком морозе! — буркнул Елизар, но ослушаться побоялся. В лесу затрещали сучья под его большими, сорок пятого размера, сапогами. Через десять минут он вернулся, лег на прежнее место, протянул Трофимычу обсосанный окурок.
— Позамерзаем тут без толку! А крюком бы порвали к чертовой матери и — домой…
— Обожди! — Трофимыч поднял палец. — Чего это там гудит в лесу?
— Бронетранспортер застрял, — беспечно ответил Елизар, — ребята говорят, с полчаса уж немцы возятся…
— Далеко?
— Километрах в трех. Да тебе-то что? До нас им не добраться, а доберутся, успеем уйти.
Неожиданно глаза Трофимыча заблестели по-молодому. Он поднялся, поправил гранаты, висевшие на поясе.
— А ну, поднимай ребят!
— А как же это?
— Один черт, сегодня тут не работа! Пошли!
Пройдя частый ельник, Трофимыч вышел на опушку и километрах в двух действительно увидел немецкий бронетранспортер, возле которого у костра грелись немцы. Дорога, выходившая на шоссе, была пустынна.
Бронетранспортер — не грузовик с продуктами, поживиться тут нечем, разве что взять лишний десяток автоматов, но сейчас в отряде недостатка в них нет. Однако остановить Трофимыча уже нельзя.
— Подойдем близко и забросаем гранатами.
— Не подпустят!
— Подпустят. Им солнце в глаза. — И когда до транспортера оставалось меньше трехсот метров, предупредил — Я бросаю первым. Все — за мной. Отходить будем через дорогу и дальше через Васютинский бор на Яремное. В случае провала никому назад не пятиться! На шоссе нас будут ждать и тогда уж рассчитаются заодно и за столбы…
Руслом реки прошли еще двести метров. Дальше речка поворачивала вправо. Ее высокий заснеженный берег мог служить неплохой защитой при обороне, но сейчас его пришлось покинуть. Оставшееся расстояние ползли на брюхе, сдерживая дыхание. Немцы разогревали на костре консервы с мясной тушенкой, затолкав несколько банок в огонь, и при этом громко разговаривали и смеялись. Два человека копались в моторе, еще два стояли рядом и смотрели через их спины. По дороге взад и вперед прохаживался офицер в начищенных до блеска сапогах и курил сигарету, держа ее между пальцами. На головах солдат были стальные каски, под ними виднелись подшлемники, а офицер, молодой румяный юноша, щеголял в новой летней фуражке с высокой тульей и лишь изредка незаметно для солдат, потирал уши кожаной перчаткой. Еще дальше, у самой обочины, стоял часовой и смотрел в сторону дальнего леса. Шум проезжавших по основной магистрали грузовиков и ясный морозный день, открытое, ослепительно ровное поле, с редкими рядами заиндевевших кустов, похожих на рождественские елки, успокаивали, вселяли в людей беспечность. Солдаты, увидев разогретые банки, принялись за еду, офицер, подняв к солнцу круглое мальчишеское лицо, закрыл на минуту глаза…
Граната Трофимыча разорвалась возле самого костра. Немцы повскакали, опрокидывая консервные банки и котелки, но тут же стали падать, сраженные осколком или автоматной очередью. Офицер даже не успел вынуть парабеллум. Фуражка с его головы скатилась под откос. Часовой и еще двое солдат пытались отстреливаться, забравшись внутрь бронетранспортера, но Елизар кинул туда гранату…
Обеспокоенные шумом, немцы сигналили с шоссе — кидали ракеты.
— Пора сматываться, — сказал Елизар, — сейчас нагрянут.
Захватив трофеи, партизаны спешно отходили к лесу, когда на самой опушке Трофимыч остановился и, хлопнув себя ладонью по лбу, сказал: — Вот же память стала! Едва не забыл!
— Чего? Чего забыл? — крикнул ушедший далеко Елизар, но Котков уже не слышал. Прихрамывая, он бежал обратно к дороге. Партизаны остановились, нерешительно поглядывая на его заместителя. У поворота показалась немецкая автомашина.
— Пойду помогу командиру, — сказал Елизар озабоченно, — верно, что-то важное…
Он был моложе и легче на ногу и скоро догнал Каткова. Из-за поворота вывернулась вторая машина, за ней третья, Партизан заметили, но они были уже возле бронетранспортера.
— Документы вон у офицера, — догадался Елизар.
Вместо ответа Трофимыч взял из костра уголек и принялся рисовать на бронированном борту странный овал с двумя точками в верхней части.
— Ты чего это? Рехнулся? — спросил Елизар, прячась от первых пулеметных очередей. — Бери документы и айда!
Так же молча Трофимыч пририсовал к овалу сверху две вытянутые петли. От непосильного труда он вспотел, но не бросил работу, пока не нарисовал снизу кривую дугу.
— Теперь все! — сказал он, удовлетворенно рассматривая рисунок.
Елизар минутой раньше забрался в бронетранспортер и вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Немцы оставили машины и залегли вдоль обочины. Они стреляли из автоматов. Трофимыч побежал к лесу. Его заметили, и человек десять немцев устремились ему наперерез, но огонь «эм-га» прижал их к земле.
— Так-то, сукины дети! — приговаривал Елизар, высматривая новую цель. — Думаете, мы тут зря с вами балуемся?
Чтобы выручить Уткина, партизанам пришлось вернуться. Завязался бой. Не зная, сколько партизан находится в лесу, немцы не осмеливались уходить далеко от дороги. Очередь «эм-га» попала в бензобак, и передняя машина вспыхнула. Немцы на время отступили, дожидаясь, по-видимому, подкрепления. Воспользовавшись этим, Уткин выскочил из бронетранспортера и побежал к лесу. Только после этого начали отходить и партизаны. К счастью, никто не был ранен и люди шли быстро. Дойдя до первого привала, Уткин не утерпел:
— Ну давай, командир, не томи душу, покажи, чего нашел! Ежели документы, сдадим в штаб, а карты не отдавай. Самим пригодятся. Я немного по-немецки читаю… Да ты чего это? Чего?
Котков рисовал на снегу сломанной веточкой овал с двумя точками.
— Братцы, да он спятил! Где карты?
— Отставить! — глаза Трофимыча сердито сверкнули. — Сам товарищ Наумов приказал такой знак оставлять на каждой уничтоженной вражеской боевой единице! Понятно?
— Понятно, — проговорил, сраженный наповал Елизар, — если сам товарищ Наумов… Тогда хоть объясни, что это за птица!
— Не видишь? Заяц!
— Заяц?!
Партизаны придвинулись ближе, старательно запоминая рисунок.
ЧЕЛОВЕК В ШИНЕЛИ (Рассказ)
В марте сорок второго года я окончил шестимесячное военное училище и в звании младшего лейтенанта был направлен в одну из действующих частей. Прибыл я туда солнечным утром. У входа в блиндаж командного пункта меня встретил сам командир полка. Был он высок ростом, несколько тучноват и, вероятно, красив, если бы не глубокий, безобразный, через все лицо шрам. На вид ему было не больше пятидесяти, но в густой шевелюре пробивалась седина.
Единственный глаз его смотрел не только приветливо, но, как мне показалось, даже ласково. Приветливость старого вояки я приписал исключительно собственной выправке, которой очень гордился в училище.
В блиндаже, куда я спустился следом за хозяином, оказалось очень чисто, тепло и уютно. Дощатый пол белел, как у хорошей хозяйки перед праздником, стены поверх досок были завешены плащ-палаткой, чтобы не сыпалась земля, крохотный столик в углу застлан бумагой. Две карты на стене, чадящая коптилка, сделанная из снарядной гильзы, и бревенчатый накат над головой нравились мне своей несомненной принадлежностью к «передку», как здесь называли передовую линию фронта. Даже ящик, на котором я сидел, был не из-под каких-нибудь консервов, а из-под снарядов, опустевший не далее как вчера…
— Нравится? — спросил полковник. — Ну вот и отлично! Сейчас я прикажу, чтобы вас накормили.
Ординарец полковника принес котелки с дымящимся супом. Полковник, порывшись в чемодане, достал начатую бутылку коньяка и налил в алюминиевые кружки.
— За встречу! — сказал он, — За встречу и за человека в шинели! Это он должен принести Победу! Выпьем, значит, и за Победу!
Когда я, плотно поев, вышел на свежий воздух, настроение у меня было преотличное. Губы сами собой складывались в глупейшую улыбку. День стоял солнечный, на небе ни облачка, и такая тишина кругом, что если бы не стук лопат и голоса, казалось, можно бы слушать биение собственного сердца.
Кругом работали солдаты. Пользуясь неожиданной передышкой, командование решило укрепить позиции. Углублялись орудийные ровики, перетаскивались с места на место пушки, прочищались стволы. Люди работали дружно, с шутками, смехом. Там, где работа была не особенно тяжелая, пели.
Внимание мое привлекла небольшая группа солдат, безучастно сидевшая в стороне. При моем приближении солдаты поднялись, и только один продолжал сидеть. Теперь я понимаю, что, сидя спиной, он мог просто меня не заметить, но тогда я воспринял это как неуважение к моему званию. Вот почему я подошел к нему вплотную и крикнул прямо в согнутую спину:
— Встать!
Солдат вздрогнул и торопливо поднялся, успев, однако, бережно поставить котелок на землю. Но, поднимаясь, задел его полой шинели и опрокинул. Содержимое вылилось на снег. Не обратив на это внимания, я принялся отчитывать солдата за то, что у него безобразно топорщится шинель, за то, что пряжка съехала на бок, за ботинки, покрытые грязью, и за неправильно накрученные обмотки.
Солдат молчал. Это был уже не молодой человек, из тех, что воюют с самого начала войны, не единожды штопанный полевыми хирургами, мудрый и молчаливый.
Только раз он поднял голову, но и то посмотрел не на меня, а на что-то за моей спиной, где, кажется, в это время ротный старшина заменял желающим старые сапоги на новые…
Кажется, я жалел тогда о том, что рядом нет никого с нашей улицы, что меня не видят мои одноклассники, не видит Любаша…
Довольный собой возвратился я в блиндаж командира полка. Полковник сидел у стола, накрепко сцепив пальцы, и смотрел на меня своим единственным глазом, Но, бог мой! Что это был за взгляд! В нем не было и капли того, что так согрело меня в нашу первую встречу, но зато было осуждение и откровенная неприязнь.
— Ну что, познакомились с личным составом?.
— Так точно. В общих чертах.
Он усмехнулся.
— Ну и как ваше просвещенное мнение?
— По-моему, народ, в основном, неплохой.
— Что ж, и на том спасибо.
— Но людям не хватает боевой выправки, а следовательно, от этого боевой дух подразделений не может быть достаточно высок.
Полковник смотрел с любопытством.
— И как же вы предлагаете поднимать наш боевой дух?
Я был слишком молод, чтобы заметить насмешку в его словах, и поэтому ответил с горячностью:
— Необходимо регулярно проводить строевые занятия. И чтоб непременно — с песней! Это бодрит. Кстати, я захватил с собой сборник… Извините, товарищ полковник, но здесь многие просто спят среди бела дня! Конечно, во фронтовых условиях заниматься строевой труднее, чем в тылу, я это понимаю, но есть выход.
— Интересно, какой?
— В трехстах метрах отсюда, вот в том лесочке, имеется небольшая полянка…
Полковник одним пальцем почесал подбородок и кивнул:
— Имеется.
— Она укрыта со всех сторон, даже с воздуха. Сосны очень высоки, и заметить поляну с самолета можно, только пролетев прямо над ней. Кроме того, можно выкопать укрытия, Хороша идея?
Полковник смотрел на меня и чему-то улыбался.
— Хороша, — сказал он наконец, — придите ко мне с этой идеей… ну, скажем, через неделю. Тогда поговорим серьезно. А сейчас вы свободны.
Я обиделся и, преувеличенно громко топая сапогами, вышел из благоустроенного блиндажа с дощатым полом. На болотной кочке как раз напротив двери сидел ординарец полковника рядовой Редькин и пришивал черную заплату к своим зеленым штанам. Рядом с ним примостился молодой боец с гармошкой. Вокруг них на снарядных ящиках сидели и лежали человек десять, из которых только у троих не было видно бинтов.
— Почему раненые не отправлены в госпиталь? — спросил я, придавая своему голосу строгость. Гармошка продолжала играть «Дунайские волны». Легкий дым от самокруток не поднимался вверх, как прежде, а висел над головами солдат. Приближалось ненастье.
— Я спрашиваю, почему раненые не отправлены в госпиталь? Кто здесь старший?
— Самый старший здесь теперь я, — сказал Редькин, перекусывая нитку.
— Полковник твой старше, — отозвался один из солдат.
— А вот и врешь, Дмитро, — сказал ординарец, — он с девяностого года, а я с восемьдесят девятого. Его к Фрунзе комиссаром полка направили, а я уже до него там был.
— Тоже комиссаром?
— Да нет, рядовым…
Подошел санитар, устало козырнул мне, взял у кого-то прямо изо рта цигарку, затянулся. Его руки, белый халат, даже шапка были в крови.
— Ну как там наш капитан? — спросили у него.
— Помер ваш капитан, — ответил тот.
Жалобно охнув, замолчала гармонь. Какая-то птица сорвалась с ветки и, крикнув, полетела прочь. На той стороне реки грохнул одинокий выстрел.
— Полчаса, как помер, — сказал санитар. — Доктор говорит, еще удивительно, что вы его живым до лазарета дотащили. Сердце, говорит, хорошее.
— Сердце у него было хорошее, — задумчиво проговорил Дмитро, — доброе было сердце у нашего капитана!
— Я к вам, мужики, с просьбой, — сказал санитар, — табачку надо. Раненых накрошили страсть, а табачку нет. Болтали, будто немцы последнюю дорогу на Смоленск перерезали. Теперь, надо понимать, в окружении мы…
Он снял шапку и обошел всех солдат, а на меня даже не взглянул. Я дал себе слово немедленно научиться курить…
А ненастье приближалось. Сначала повалил снег, потом закрутила метель.
— Быть тебе, Дмитро, нынче же командиром взвода! — сказал вдруг Редькин. — Помяни мое слово!
— Не… — отозвался Дмитро. — Вот товарищ младший лейтенант, надо понимать, будет нашим взводным.
— Ему роту дадут, — сказал Редькин, — это как пить дать. Заместо лейтенанта Хлопова, земля ему пухом…
Они ушли прощаться с капитаном, а я побрел куда глаза глядят. И в одном месте чуть не упал, поскользнувшись на замерзшей лужице разлитого по снегу пшенного супа. Солдат, с которыми я разговаривал утром, здесь не было. На их месте были другие, незнакомые. Под руководством сержанта они копали котлован, — должно быть, для нового блиндажа.
— Послушайте, а где те, что были здесь до вас?
— Вы, наверное, из газеты? — в свою очередь задал вопрос сержант.
— Да нет, не из газеты…
— Все равно обождать придется. К немцам в тыл ушли ваши разведчики. Такая у них работа, товарищ корреспондент.
— Разве они разведчики?
— А вы что же, не знали? — сунулся курносый веснушчатый и живой, как ртуть, солдат.
— Откуда им знать? — заступился сержант. — Они токо-токо прибыли. Прохоров, сбегай на кухню! Мол, из газеты товарищ, так чтоб черпачком-то со дна поддел! Вы тут посидите, товарищ младший лейтенант, он мигом сгоняет!
— Я — мигом! — подтвердил Прохоров, хватая котелок.
— Не нужно, я сыт. По горло…
— Ну как знаете. Отставить, Прохоров, бери лопату… Прохоров, где ты?
Но Прохорова уже не было в траншее.
— От же — сукин сын! — сказал сержант. — До чего легок на ногу!
К вечеру начался артналет, потом пошли танки, за ними пехота. После двух или трех атак наступила передышка, Видимо, немцы ждали подкрепления. В конце дня я зашел на командный пункт и спросил, не вернулись ли разведчики. «Нет, — ответили мне, — не вернулись». Не было их и утром следующего дня.
А потом начались жестокие бои за Смоленск. Полковник, фамилия которого была Бородин, погиб в одном из боев. Часть наша потеряла больше половины личного состава. Как и предсказывал Редькин, мне дали роту.
Затем был госпиталь, потом снова полк, потом снова госпиталь и, наконец, фронтовая газета «За Отчизну».
Долго я не встречал никого, с кем познакомился в сорок втором, и только в самом конце войны под Берлином мне неожиданно повезло: встретился знакомый сержант.
— А я смотрю — и глазам не верю, — хохоча, говорил он, — наш ротный — покойник, царство ему небесное, — по пришпекту топает! Ну, думаю, Иван Гаврилович, допился ты, братец, до зеленых чертей! Ротный твой и росточком пониже этого…
— Брось! Не видишь — каблуки новые подбили!
— …и в плечах пожиже…
— Да у меня шинель на вате!
— …и не курил!
— Вот это верно. Недавно начал.
Он смотрел на меня, как смотрят на живую обезьяну, и сумасшедшая радость билась в каждой жилке его обветренного лица.
— Говорят, до победы самый чуток остался… Неуж правда? Батюшки светы! Мама родная! Ванька Семин— тверской мужик — Адольфа Гитлера в его берлоге дожимает! И живой, вот ведь чудо! Шесть раз в госпиталях валялся, два раза похоронку домой посылали, а он все живой. Везучий, стало быть?
Мой однополчанин был сколь разговорчив, столь и памятлив, Подумав, я решил спросить его о разведчиках… Давно, правда, это было, но вдруг помнит! Оказалось, помнит и это.
— Как же, как же! Я ведь сам для них проход в минном поле делал! Еще Федьку Прохорова тогда убило. А тем ребятам повезло.
— Значит, вернулись?!
— А как же! Хотя, обождите, товарищ старший лейтенант, не все, Одного они все-таки похоронили!
— Которого, не помнишь?
— Да был у них один такой пожилой, с усами… Остальные-то молодежь, а этот — старше. Приметный. И так, говорят, глупо погиб. У самой нашей передовой— шальная пуля, и готов. Награда как раз ему вышла, так семье отослали вместе с похоронкой.
— Как его фамилия? — спросил я, холодея от мысли, что это мог быть тот самый солдат с пшеничными усами.
Сержант добросовестно морщил лоб.
— Хоть убейте, товарищ старший лейтенант, не могу вспомнить! Да на что вам его фамилия? В газету все равно не напишете. Это мы вас сперва за газетчика приняли!
— Вот и второй раз ошибся! Теперь газетчик. Военный корреспондент.
— Понятно. Факт решили осветить? Очерк о разведчиках? Или, может, рассказик? А вы пишите просто: «Человек в шинели». Вернее не придумаешь. Наш покойный комполка товарищ Бородин так говорил. Уважал он нашего брата!
Примечания
1
Я военфельдшер!
(обратно)2
Господин комендант тут, но он пьян, как сапожник.
(обратно)3
Это страшнее войны!
(обратно)4
Немцы.
(обратно)




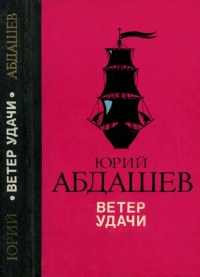



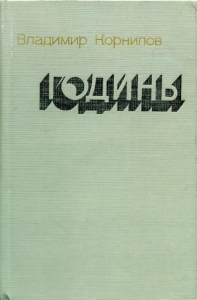
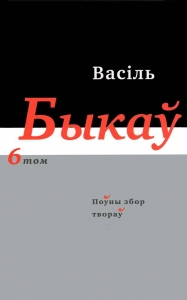



Комментарии к книге «Сердце солдата (сборник)», Александр Викторович Коноплин
Всего 0 комментариев