Михаил Крикуненко Планета Райад. Минута ненависти или 60 секунд счастья
Если бы у нашей планеты не было имени, ее следовало бы назвать Райад. Потому что Рай и Ад сосуществуют в нашем мире. Попав в земной Ад, мы отправляемся на поиски Рая…
В этой истории вымышленные события и персонажи настолько тесно переплелись с реальными, что я и сам уже не могу отличить одни от других.
Основано на реальных событиях. Все совпадения считать случайными.
Автор
Пролог
Горячий ветер вдохнул белый тюль в комнату, лениво поиграл с ним и исчез. Лопасти вентилятора с трудом разрезают густой, как кисель, воздух и отправляют его с потолка вниз, к моей кровати. Время не спеша течет мимо вентиляторным потоком и, рикошетя от пола, уходит в открытое окно. Его приятно трогать рукой, ощущая теплую, неторопливую вязкость бытия.
За окном, в котором безвозвратно исчезает мое время, орут чайки и шумит прибой, не имеющий ни начала, ни конца, как сама Вечность. Пытаюсь представить вечность, бесконечность и космос, в масштабах которых мучающий меня сушняк после вчерашнего злоупотребления виски на карнавале в Панаджи кажется ничтожным пустяком.
Я перестал ловить рукой время и пошарил по столу в надежде найти стакан с какой-нибудь жидкостью, но наткнулся на мобильник, который сразу же зазвонил.
— Алло, Майкл? — услышал я в трубке голос исполнительного продюсера телеканала Василия Петрова. Он всегда называет меня Майклом на американский манер. Сказывается стажировка в Штатах. — Что делаешь?
— Пью охлажденный порто и ем мясо акулы, — с трудом ворочая языком, огрызнулся я и, сглотнув слюну, покосился на пустую бутылку из-под минералки.
— Ну и сволочь, — беззлобно ответил Василий. — Ладно, дело есть. Доедай свою акулу, заканчивай с Робинзонадой и возвращайся на родину — нам в Чечню некого отправлять.
— Я же только в прошлом месяце там три недели торчал, — на всякий случай открываю дверцу холодильника, хотя точно знаю, что воды там нет.
— Зато на халяву в Индию слетал. В Москве минус двадцать пять, между прочим. В Грозном группу надо менять через неделю. И не забудь привезти мне бутылку какого-нибудь местного пойла в коллекцию.
Спорить с Петровым бесполезно. Особенно в депрессивном состоянии похмелья, когда тайны мироздания больше всего не дают покоя.
Зовут меня Михаил Корняков. Мне 33. Возраст Христа. Я — специальный корреспондент одного из федеральных телеканалов России. Если бы я подавал объявление в рубрику «Он ищет ее», там бы значилось: «Стройный, спортивного телосложения, рост 182 см, вес 78 кг, глаза серо-голубые, волосы темные». В общем, вполне привлекательный мужчина, в меру упитанный и в полном расцвете сил. Таких, как говорила Фрекен Бок, на телевидении хватает и без меня. Как и у большинства репортеров, работа занимает практически все моё время. Я делаю репортажи для «Новостей», снимаю авторские документальные фильмы и в перерывах между командировками встречаюсь с Настей, молодой женой одного известного банкира. Последнее обстоятельство характеризует меня не только как человека непорядочного, но и крайне легкомысленного, ибо только камикадзе, которому наплевать на собственную жизнь, может наставлять рога столь могущественному человеку. Работа, еда, сон и иногда Настя. Это то, из чего состоит моя нынешняя жизнь.
…Выхожу из бунгало и уныло плетусь в сторону океана. На самом деле это Аравийское море, являющееся частью Индийского океана. Но всем нравится называть его так за силу, сбивающую с ног, и за дыхание — мощное, как у титана. Но если серьезно, просто «океан» звучит круче, чем «море».
Дешевые забегаловки Мирамара, что в северной части Гоа, неровной линией расположились на набережной, повторяя изгибы берега. Белозубые индусы предлагают искусно приготовленные ими дары моря. Яростное декабрьское солнце плющит о раскаленный белый песок. «До Нового года меньше месяца, а здесь в тени градусов тридцать пять», — плещется в мутном сознании вялая мысль. Ядовитым ультрафиолетом солнце будто норовит выжечь на моей макушке слово или даже целую фразу из трактата какого-нибудь индийского мыслителя. Что-нибудь о вреде пьянства.
На жаре от похмелья совсем худо. Я несу собственную голову как драгоценный сосуд, наполненный чем-то очень важным, боясь расплескать содержимое. С большим трудом доставляю ее вместе с остальными частями тела к ближайшему открытому ресторанчику и с удовольствием располагаюсь в тени. Я знаю это заведение и его хозяина, старого хромого индуса. Он называет себя Максом, чтобы иностранцы не мучились, выговаривая его настоящее индийское имя, для воспроизведения которого нужно уметь произносить сложные гортанные звуки. Ресторанчик Макса пользуется хорошей репутацией. Ему можно доверить свой желудочно-кишечный тракт. Еще никто, пообедав у Макса, не заболел дизентерией, желтухой, брюшным тифом или еще какой-нибудь диковинной болезнью, проживающей в любой экзотической стране, где санитарные нормы и личная гигиена для местных — не самоцель. Макс — бывший рыбак. Это единственная профессия, доступная здесь мужчинам. Нищие рыбацкие деревни, словно ракушки, облепили берег океана. Когда акула покалечила Максу ногу, он перестал выходить в море и с помощью брата жены, владельца продуктового магазина в Панаджи, открыл свое дело. Теперь он покупает рыбу у друзей-рыбаков и готовит ее для туристов в своем ресторане.
Жадно осушив два стакана воды со льдом, я покосился на изуродованную акулой ногу Макса и пришел к мысли, что все в этом мире кого-то едят. Термиты, например, жрут деревья, а муравьеды — термитов. Природа даже оснастила муравьедов длинными узкими мордами и такими же длинными, проворными пальцами с крепкими когтями, чтобы им было удобнее добираться до своих жертв. В свою очередь, на муравьедов охотятся индейцы. Им нравится их мясо, по вкусу напоминающее гусятину. Но чаще всего люди охотятся друг на друга. И так в природе до бесконечности. Словно участие в смертельном круговороте — единственная возможность выжить самому. И никому не известно, кто на чьем столе окажется завтра. Даже самого грозного хищника может съесть безобидное млекопитающее из отряда приматов вроде меня. И без особой на то нужды.
Чтобы отомстить за индуса Макса, я заказал акулье мясо, а назло продюсеру Петрову — прекрасный гоанский порто.
* * *
— Я устал жить в постоянном страхе, — говорит Ларри, тучный бухгалтер из Нью-Йорка. — Я боялся всего: потери работы, атак террористов, измены жены, повышения налогов.
Бывшие бизнесмены, ученые. У каждого из них была своя причина, чтобы сменить городскую одежду на набедренную повязку. Они сбежали из каменных джунглей мегаполисов в джунгли натуральные, надеясь обрести рай на земле. Уже почти две недели мы с моим товарищем оператором Пашкой Гусевым, или Гусем, как его зовут в редакции, снимаем в Индии документальный фильм об этих чудаках. Наш фильм так и называется — «В поисках рая». Новые робинзоны устали от постоянной гонки на выживание в большом мире, от погони за деньгами, от борьбы за достойное место в обществе. Они сошли с дистанции. Палатки небольшой общины разноцветными грибами проросли среди камней и песка на берегу океана. На деревянном флагштоке развевается голубое полотнище с пацифистским символом, известным как крест мира.
— В Большом мире люди постоянно сравнивают себя друг с другом, пытаясь придерживаться эталонов, которые навязало им общество, — продолжил Ларри. — А что такое общественный эталон? Это миф, созданный бездушными потребителями! — при этих словах толстяк обвел взглядом соплеменников, призывая поддержать его. Те одобрительно закивали. — Я боялся даже смотреть на себя обнаженного в зеркале, — сказал Ларри, — потому что общество заявило, что быть полным и иметь маленький пенис — это стыдно!
— Но, приехав сюда, вы лишились всего, что так боялись потерять, — язвительно сказал я. — Семьи, работы, социального статуса. Правда, заодно вы избавились от нескольких лишних килограммов, но это незначительный бонус. Вы без боя сдали свой рабочий кабинет в небоскребе на сорок втором этаже в центре Манхэттена, бросили жену с двумя детьми и преданную таксу, которая каждое утро приносила вам тапки, облизывала ноги и любила вас больше всех на свете!
Это был запрещенный прием. При упоминании о таксе в глазах бухгалтера появились слезы. То, что надо! Я почесал мочку уха — условный знак Гусеву, чтобы снимал крупный план — глаза, наполненные слезами.
— Вы полагаете, я эгоист, неудачник, трус, испугавшийся трудностей? — к слезам Ларри о брошенной им таксе добавились слезы обиды, и я почесал мочку уха еще раз. Чтобы добить толстяка окончательно, собираюсь затронуть тему его маленького пениса, но меня перебивает женщина, кормящая грудью грязного младенца:
— Лично я не хочу, чтобы мои дети росли в мире, где правят деньги, власть, конкуренция и царит постоянная депрессия.
— Но без конкуренции не было бы прогресса, — не унимаюсь я.
— Конкуренция делает нас похожими на животных. Люди готовы идти по костям, лишь бы оказаться как можно выше на этой чертовой лестнице успеха. Те, кому удается подняться, презирают тех, кто стоит хотя бы на ступеньку ниже, — ответила женщина и швырнула камень в черного скорпиона, который полз в ее направлении.
— Но самой природой нам завещано конкурировать. Посмотрите вокруг — вы на пляже, за которым непроходимый дикий лес. Где, как не здесь, нужно обладать сноровкой и ловкостью, чтобы не стать чьим-то завтраком? — И я привел пример с термитами и муравьедами из своих утренних похмельных размышлений.
— Человеку дан разум, чтобы отличаться от животных и насекомых. Но интеллект не сделал людей добрее. Они также алчны и жестоки, как тысячелетия назад, хоть и живут в мегаполисах со всеми удобствами. Мы вернулись в пещеры, чтобы все изменить. Для начала в самих себе. А потом и в мире.
Мне не удалось скрыть усмешку, но женщина не обиделась:
— Я понимаю, вы считаете нас сумасшедшими. Но для нас Большой мир — то еще сумасшествие. Вот вы работаете на телевидении, которое тиражирует зло и насилие. В погоне за рейтингами вы в первую очередь показываете катастрофы, войны и смерть (тут я вспомнил об утреннем звонке продюсера Петрова и предстоящей командировке в Чечню), спекулируя на самых низменных человеческих качествах. Вы пропагандируете силу денег и власти одних людей над другими, забывая о духовности. Героями ваших репортажей и передач становятся те, кто взобрался на очередную ступеньку этой чертовой лестницы, кто успешен, по мнению большинства.
— Да, но в данный момент мы снимаем документальный фильм о вас. И это тоже телевидение! — Я сделал вид, что обиделся.
— Бросьте, мы для вас как экзотические животные в зоопарке, чудаки, которые бросили всё и живут в пещерах и шалашах. И чего нам, дуракам, не хватало?
Это было правдой. Я убрал с лица обиду, а англичанка снова принялась тыкать грудь в лицо своему детёнышу.
— Большой мир — это мир дьявола, это ад, в котором мучаемся мы, грешники, — поддержал кормящую ее муж, бывший программист из Лондона. — Все думают, что грешники попадают в ад после смерти. На самом деле ад — это наша планета. Люди искупают здесь свои грехи. Только не все об этом догадываются и грешат еще больше. Мы же хотим создать духовный оазис, маленький островок покоя и счастья посреди этого ада. Земля — это космическая тюрьма для душ неких сущностей из лучшего мира. Это обитаемый остров, где каждый день приходится выживать и где до ближайшей возможной цивилизации тысячи световых лет. В любом случае даже подходящей «шлюпки» у землян нет, чтобы попытаться сбежать отсюда. Это ли не наказание? Мы живем в космическом Алькатрасе, закованные, как в кандалы, в оболочки из плоти и крови. Выход из этой тюрьмы только один — смерть. Но чтобы лишить нас этого соблазна, нашу память о прежнем мире стерли. И не только из трусости мы цепляемся за эту жизнь. Добровольно ушедших с Земли постигнет еще более страшная кара. Чтобы нас простили там, — мужчина поднял палец к небу, — нам надо очень постараться здесь.
— Оригинальная трактовка Библии, — сказал я. — Вы верите, что в каком-то уголке этого космического Алькатраса можно обрести Рай? Это все равно, что попытаться отгородиться ширмой от сокамерников и попросить их не беспокоить вас.
— Большой мир уже не властен над нами. Да, мы верим в то, что такие райские островки можно создавать на планете. Когда люди увидят это, они начнут меняться, — ответил сумасшедший программист, одетый лишь в клетчатый саронг — длинную набедренную повязку, одновременно заменяющую индийским мужчинам трусы и брюки. — Человечество запуталось в сетях своих пороков. Еще немного — и люди истребят сами себя, — добавил он, и я снова вспомнил о своих размышлениях про термитов и акул, отметив, что даже таким разным людям, как мы с этим чудаком в саронге, в голову могут приходить одни и те же мысли. «Наверняка, — подумал я, — об агрессивной человеческой сущности иногда задумываются даже киллеры».
…Вечернее солнце заливает розовой пастелью океан и теплый белый песок, в который приятно зарывать ноги по щиколотку. Наблюдая за тем, как песок из белого превращается в розовый, за редкими розовыми облаками, за розовыми коровами, забредшими на пляж, я теряю ощущение реальности. Коров в Индии нельзя ни доить, ни есть. Для индусов коровы священны. Ощущая свою невостребованность, коровы слоняются всюду без дела, сбиваясь в стада, наподобие стай бродячих собак. Низкорослые и тощие, они находятся в постоянном поиске пищи.
Я принялся рассматривать группу молодых людей с дредами на голове. Они по очереди раскуривают чилос — толстую глиняную трубку, набитую марихуаной. Многие любители этого занятия специально приезжают в Индию, чтобы покурить дешевой травы, благо местная полиция закрывает на них глаза.
Обладатели длинных дредов, пытающиеся попасть в нирвану при помощи глиняного приспособления в свете угасающего заката походят на каких-то инопланетных существ. От поднявшегося со стороны океана теплого ветра дреды на их головах извиваются подобно змеям на голове горгоны Медузы. Я представил, что сам прилетел с другой планеты и пытаюсь взглянуть на все глазами пришельца. Мне нравится эта игра, которую я придумал когда-то в детстве. Однажды в синем безоблачном небе я увидел объект, похожий на большую гантель. Он выделывал немыслимые пируэты. Его явно внеземное происхождение не вызвало у меня тогда ни сомнений, ни удивления, как будто это было абсолютно естественно. «Гантель» приблизилась, мигая разноцветными шарами, и какое-то время мы изучали друг друга. С тех пор для меня не существует вопроса — есть ли жизнь где-то еще? Я твердо знаю — да. И часто представляю себя на месте инопланетянина, который впервые попал на Землю. Эта игра забавляет меня. Многие вещи начинают казаться смешными и нелепыми. Ты как бы видишь все со стороны. Сейчас я вижу перед собой забавных, зеленых от натуги человечков, всасывающих в себя дурманящий, вонючий дым. Наркотические вещества, содержащиеся в нем, попав через легкие в кровь, достигают мозга, а затем и центра удовольствия. Собственно, получение удовольствия и есть единственная цель человечков. Возможно, даже смысл жизни. «Инопланетяне» по очереди зажимают конечностями короткую глиняную трубку с тлеющим внутри нее огнем и прикладывают к отверстию в голове, которое обхватывает эту трубку круглой присоской. Затем человечек издает громкий втягивающий звук, и пламя в трубке разгорается сильнее, выхватывая из наступающей темноты другие отверстия в голове «инопланетянина». Два маленьких отверстия прямо над присоской, два других — выше, они закрыты влажными пленками. Еще два отверстия расположены по бокам в виде морских раковин. «Видимо, эти дырки служат им органами обоняния и осязания», — подумал я, вообразив себя бестелесным исследователем из далекой галактики, прилетевшим на Землю.
Когда присоски «инопланетян», обхватывающие трубку, открывались шире, в их глубине были видны острые, как у хищников, резцы.
— Ты заснул, что ли? — Гусев толкает меня в плечо. — Я с тобой разговариваю!
— Чего тебе? — я неохотно отвлекаюсь от своих наблюдений.
— Ты Петрову насчет Чечни что ответил?
— А что я ему мог ответить? Какие у меня были варианты? Группу в Грозном надо менять через неделю. Вернемся в Москву, пару дней отдохнем, и компания «Чечен-трэвел» доставит вашу задницу, Павел, в самое пекло земного Ада!
Журналисты любят шутить по поводу «Чечен-трэвел». Возможно, после окончания войны туристическая компания с таким названием действительно появится.
* * *
Продюсеру Петрову я привез темный ром в пузатой бутылке и гоанский порто. Он покрутил бутылки в руках, посмотрел сквозь них на зимнее солнце за окном, потом на меня. Его гигантский глаз плавает и переливается в жидкости, как заспиртованный. Но глаз живой. Он моргает и изучает меня как насекомое через лупу.
— В Чечню надо ехать через три дня, пятнадцатого декабря, — сказал Петров, продолжая смотреть на меня сквозь бутылку с ромом, и его увеличенный рот кажется хищной акульей пастью. — Работать в этот раз будешь для «Новостей». Но, если успеешь, можешь снять какое-нибудь документальное кино. Это у тебя неплохо получается. Только тему не забудь с нами согласовать.
Довольно крякнув, Петров убрал бутылки в шкаф.
— Кого возьмешь оператором?
— Гусева, как всегда, — ответил я.
Петров кивнул.
Настя встретила меня в двухкомнатной квартире на Новослободской, которую купила тайком от мужа-банкира на сэкономленные от карманных расходов деньги. В моей съемной квартире она отказывается встречаться. Говорит, продавленная тахта и обшарпанные обои мешают ей возбудиться.
Она прыгнула на меня сзади, как дикая кошка на долгожданную добычу, как только я переступил порог. Кстати, именно добычей я себя чаще всего и чувствую. Одним из ее удобных приобретений. Но меня устраивает такое положение вещей. Настя никогда не задает лишних вопросов, умеет слушать, и у нее красивая грудь. Не большая и не маленькая, где-то между вторым и третьим размером, как раз такая, как я люблю, — упругая и почти помещается в ладонь. В общем, «правильного формата», говоря телевизионным языком. Но главное в женской груди для меня не размер, а форма и соски. Они у Насти идеальные. Ко всему перечисленному прилагается стройная фигура, длинные ноги, милое личико со слегка вздернутым носиком, голубые глаза и стильное каре. К тому же Настя далеко не дура, хоть и блондинка. На вид ей чуть больше двадцати, но на самом деле думаю, что под тридцать. Глаза выдают некоторый жизненный опыт. Свой возраст она скрывает даже от меня, но я никогда не настаивал на этой эксклюзивной информации.
— Как я соскучилась по моему сладкому пончику! — Настя впилась зубами мне в шею.
— Привет! — сказал я. — Я же просил не называть меня пончиком! У меня ни грамма лишнего жира!
— Пончик не потому, что толстый, а потому, что тебя хочется съесть. Придется терпеть! Буду называть тебя пончиком, пока мне не надоест! — Настя соскользнула с моей спины на пол. — Есть будешь?
— Нет, спасибо. Перекусил в Останкине.
Когда Настя предлагает поесть, это вовсе не означает, что она бросится к плите готовить или уже напекла к моему приходу блинов. Еду она всегда заказывает домой в одном из ближайших ресторанов. В сами рестораны мы с ней никогда не ходим. Настя боится столкнуться со знакомыми или деловыми партнерами мужа. — Его знает вся Москва! — говорит Настя про своего мужа-банкира Бориса. — Ну, и меня тоже, ведь я почти всегда с ним.
Так что мы с Настей никуда не выходим вместе, и меня это абсолютно устраивает. Я ненавижу шумные места, потому что устаю от людей на работе и в командировках. Я называю это интоксикацией от общения, а Настя называет меня мизантропом. Что ж, людей я действительно люблю гораздо меньше, чем, например, животных.
В итоге наше с Настей общение сводится к сексу. Мы с ней — идеальная пара, потому что получаем друг от друга то, что нам нужно. Мы никогда еще не ругались, хотя встречаемся уже полгода.
Познакомились мы случайно, как и большинство людей. Как ни странно, впервые я увидел Настю на премьере нового художественного фильма о чеченской войне. В редакции раздавали пригласительные, и мне как репортеру, периодически освещающему эту самую войну, дали два билета. Видимо, в расчете на вторую половину. Место половины было недели две как вакантным, и я предложил второй билет оператору Гусеву, от которого тогда ушла жена к массажисту, которому Пашка однажды доверил шейно-воротниковую зону любимой. Но подонок вероломно пошел дальше, не остановившись ни на пояснично-крестцовом отделе, ни на ягодичных мышцах. И когда Пашка вернулся из командировки на день раньше, то застал свою неверную, похабно раскрасневшуюся под рыжим массажистом и мычащую от счастья, словно священная корова, которую наконец-то кто-то подоил. Банальная, в общем, история.
Фильм, как и следовало ожидать, оказался пафосным и скучным. Томные актеры с влажными глазами делали мужественные лица и, стреляя в неприятеля, успевали геройски шутить друг с другом. Когда главного героя в середине фильма ранили и он стал театрально страдать, Гусев громко заржал. Еще бы! Перед самым показом мы видели этого актера в фойе здоровехонького. Он что-то плел на ухо краснощекой девице. Половина зала с негодованием обернулась, и нам пришлось ретироваться в буфет. В буфете я и увидел Настю. Она появилась в моей жизни между второй и третьей рюмками «Хеннеси». Как потом выяснилось, на премьеру ее пригласил знакомый продюсер.
— Как ты загорел, стал совсем черным! — после бурного секса, который я предпочел китайской еде из ресторана, Настя гладит меня как кота. Я с удовольствием играю роль уютного домашнего животного, попавшего в руки гламурной девушки. Тихо радуюсь, что сегодня Настя не взяла с собой на конспиративную квартиру моего конкурента — йоркшира, гадкого кобелька по кличке Тони, с которым мы люто ненавидим друг друга. Однажды Тони нагадил мне прямо на подушку, за что я едва не вышвырнул его в окно, а в другой раз — на абсолютно новые ботинки. По-мужски я понимаю Тони, он ревнует хозяйку и демонстрирует это, как может. Но с тех пор Тони — единственное животное на Планете, которое я ненавижу.
— Как там в Индии? — спросила Настя.
— Там океан, — лаконично ответил я и включил телевизор. Мне не хочется развивать тему. Телевизор я смотрю только у Насти или на работе. Хозяйский, в съемной квартире, не работает, и я вижу в этом только плюсы.
— …На западе Кении обезумевшая толпа заживо сожгла 15 женщин. Их обвинили в колдовстве, — бодро объявила диктор.
Я стал переключать каналы.
— Откровения маньяка, серийного убийцы и насильника в нашем специальном выпуске… задержана подозреваемая в убийстве собственного ребенка… в результате дорожного конфликта мужчину забили битами…произошли столкновения на национальной почве, есть жертвы… в США от пули каждые 30 минут погибает ребенок… в Индии 10 мужчин до смерти изнасиловали студентку… люди гибнут от голода… очередной теракт…
Я выключил телевизор.
— Через пару дней уезжаю Чечню, — сказал я Насте. — Недели на две.
— Бедненький пончик! — она снова стала меня гладить, почесывать за ухом и нарочито причитать, изображая дурочку. Почему-то ей кажется, мне должно это нравиться. — Пончика снова отправляют в командировку! На войну! Ты же недавно там был!
— К Новому году, если все будет хорошо, вернусь. Хотя мы с тобой все равно праздники никогда не отмечаем вместе.
— Глупый! Ну конечно, вернешься! Какой же ты пессимист! — вздохнула Настя. — Зачем так говорить?
— У нас так принято. Никогда ничего нельзя знать заранее на сто процентов. Поэтому со словами надо быть осторожным.
— Я приготовлю тебе подарок, — сказала Настя.
— Мужу своему приготовить не забудь, — я встал с кровати.
— Хам!
— Я позвоню.
Кажется, мы только что почти поругались. В первый раз.
Часть первая Добро пожаловать в ад
За время, пройденное мною от сперматозоида до специального корреспондента, я научился любить, ненавидеть, лгать, приобрел некоторые знания и первый сексуальный опыт в университете, отслужил в армии, освоил ремесло журналиста, прочел немало книг, расширил кругозор и сексуальный опыт. Одним словом, начал кое-что понимать в женщинах и жизни. У меня появились привычки, цели, расставились приоритеты. Всё вышеперечисленное моя память сохранила где-то в глубинах серого вещества, сформировав мою личность. Ведь мы состоим из знаний о себе. И существуем, пока помним сами себя. И вот здесь таится загвоздка. Мысль о том, что всё рано или поздно пойдет прахом только потому, что все мы смертны, то есть когда-нибудь забудем себя, иногда ввергает меня в уныние. Наверняка так или иначе об этом думает каждый из семи миллиардов гостящих на Планете землян. Но я утешаю себя — мог бы вообще каплей на простыне высохнуть и ничего не увидеть! А аргумент, что именно я, будучи сперматозоидом, добился успеха в битве за яйцеклетку, внушает оптимизм и наполняет смыслом мое существование. Если смог я тогда, еще бестолковым головастиком, пробиться к своей цели, опередив миллионы конкурентов, то не зря, стало быть, все это и есть у меня здесь какая-то своя, особая роль и миссия. Но все-таки миссии мне мало. Как и большинство землян, я хочу верить, что личность живет вечно. Особенно остро мне требуется убедиться в этом перед военными командировками. Поэтому сейчас я иду в церковь.
«Пошла отсюда!», — шикаю на ворону, но та и не думает отставать. Она летит совсем низко, почти касаясь меня крыльями и что-то каркает мне прямо в ухо. Со стороны может показаться, что мы заодно и идем куда-то вместе. Точнее, я иду, а она летит рядом, иногда скача по веткам, встречающимся на ее пути, и отчитывает меня за что-то, как сварливая жена. Черные бусины глаз норовят заглянуть прямо в душу, и я отворачиваюсь, отмахиваясь от вороны. А она все каркает и каркает, словно пытается сказать что-то важное на своем вороньем языке.
Захожу в церковь, покупаю свечки в маленькой церковной лавке. Старушка, которая их отсчитывает, похожа на няню, которая была у меня в детстве. У нее такие же грубые руки с въевшейся в них землей и нарочито строгое лицо.
Когда мне было полтора месяца, умерли мамины родители. Сначала умер дедушка, а через пять дней бабушка. Она не смогла жить без него. Меня простудили на похоронах — стоял холодный апрель, а квартиру часто проветривали. Врачи констатировали двухстороннее воспаление легких и сказали родителям: готовьтесь — не выживет. Старухи у подъезда шипели: два покойника в доме, третьего не миновать. Но Господь решил иначе. И я выжил. Тогда, чтобы сидеть со мной после выздоровления, позвали няню. Бабу Таню. Набожную деревенскую женщину, которая каждый день обтирала меня холодной водой, чтобы закалить хилый организм, и выводила гулять, даже если на улице стоял мороз. Родители считают, она меня выходила. Несмотря на кажущуюся грубость, руки ее были очень мягкими и нежными.
Старушка в церковной лавке похожа на бабу Таню. Мне стало уютнее, осадок от встречи с вороной ушел. Встаю прямо под купол церкви и неумело, чуть стесняясь, крещусь. Прошу Бога оставить меня в живых и не калечить. Я считаю молитву делом очень интимным. Поэтому специально прихожу в церковь, когда в ней не идет служба. Нет посторонних людей, неистовых старух, разбивающих лбы о церковный пол, и косых взглядов. Мне всегда почему-то кажется, что в церкви на меня кто-то осуждающе смотрит. Я плохо разбираюсь в именах святых, церковных праздниках и ритуалах. Но я всегда молюсь. Молюсь как умею. Искренне. У меня есть свои молитвы и слова, с которыми я обращаюсь к Богу.
Надо сказать, я хожу в церковь, не только когда мне что-то надо от Господа. Стараюсь заходить и просто так, чтобы Бог не думал, что я корыстен.
Но сегодня я прошу:
«Спаси и сохрани, Господи! Господи, Отче наш, Иже еси на небесех…»
Восковые свечки тают в моих руках, гнутся, и я спешу предать их фитили пламени, выпрямляя мягкий воск руками, ставлю свечи перед распятием и образами святых.
«Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли…»
Свечи разгораются, не чадят, пламя ровное. Я вижу в этом хороший знак.
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого!»
Ставлю оставшиеся свечи перед иконами, крещусь и бормочу уже на свой лад слова благодарности Богу, прошу за родных и близких.
Зимнее солнце бьет в оконные витражи, его лучи прыгают солнечными зайцами по рамам и подсвечникам. Сегодня в это время в церкви я совсем один. Только «баба Таня» беззвучно шевелит губами, читая молитвы по такой же старой, как и сама она, книге.
Выйдя из церкви, я еще раз перекрестился, задрал голову к сверкающим куполам, вдыхая морозный воздух. Все будет хорошо…
* * *
— Тебе снова повезло, Ваня! — хлопнул Гусь по плечу Ивана Севрюгина, видеоинженера, страдающего аэрофобией, когда самолет приземлился.
В Грозном нет аэропорта. За восемь лет войны от него ничего не осталось. Как и от самого Грозного. Летать в мертвый город гражданским бортам незачем. В чеченском небе появляются только истребители, бомбардировщики да военные вертушки, которые боевики периодически сбивают. Поэтому мы пробираемся в Чечню через Минеральные Воды. Это курортное место известно лечебной минеральной водой и первоначальной могилой убитого на дуэли Лермонтова, находящейся в соседнем Пятигорске. Со времен Лермонтова на Кавказе мало что изменилось. Русские солдаты по-прежнему воюют с «горцами».
Аэропорт Минвод наполнен преимущественно бородатыми мужиками, которые кого-то встречают или куда-то улетают. Они шумно обнимаются, похлопывая друг друга по плечам, трутся щетинами в знак приветствия. На Кавказе так принято. Большинство из них смахивают на боевиков, которых полевые командиры поощрили краткосрочным отпуском.
Лема позвонил мне на мобильный, как только мы получили багаж.
— Алло, Миша, — слышу в трубке знакомый, низкий, с хрипотцой голос. Лема говорит с легким акцентом, — я на месте.
— Хорошо, будем минут через десять, — ответил я.
Лема — чеченец, ему за пятьдесят. Подрабатывает тем, что возит в Грозный телевизионщиков. Мы доверяем ему. Лема никогда не опаздывает и всегда конспирируется. Он опасается, что нас могут похитить и потом требовать выкуп у телеканала. Мы тоже этого боимся. Журналисты — лакомый кусок для местных торговцев людьми. Стараемся не привлекать к себе внимания, но нас выдает аппаратура.
— Эй, какой канал? — кричит бородатый таксист, видя большую камеру «Бетакам» в руке Гусева. — В Грозный едете? Давай отвезем, эй, недорого!
— Отвезешь, отвезешь. К брату своему в зиндан отвезешь, — злобно шипит Гусь бородачу.
— А что, много за тебя дадут? — хохочет тот. — Я слышал, тут одних телевизионщиков за миллион долларов выкупили! Правда, э?
— А ты у своего брата-миллионера спроси. Он с тобой не поделился, что ли? — огрызается Гусь.
Бородатому шутка понравилась, и он снова захохотал, скаля белые резцы.
Несмотря на середину декабря, погода почти весенняя. Солнце, выглянувшее из-за горы Змейки, покрытой Бештаугорским лесом, растопило редкие островки снега на площади, и мы пытаемся обходить лужи и грязь, в которой тощие голуби делят корку хлеба.
— Смотри, не то что в Москве. Там голуби жирные, падлы, даже летать разучились, пешком ходят, — прохрипел Иван Севрюгин. Две огромные сумки с аккумуляторами и другим съемочным «железом», килограммов по тридцать каждая, висят на нем крест-накрест. Лямки от сумок — как пулеметные ленты на груди матроса мятежного корабля. Они впиваются Ивану в его полное тело, сдавливая шею и мешая говорить.
— С приездом, парни, — Лема каждому жмет руку и приобнимает. Мы тоже приветствуем его на кавказский манер, слегка приникая щеками к щеке и похлопывая по широкой спине.
Североосетинский Моздок между Минводами и Грозным. Как в любом прифронтовом городе, здесь чувствуется дыхание войны. На улицах много боевой техники и военных, санитарных машин с красными крестами, везущих раненых в госпитали или в аэропорт, для отправки в Москву. Моздок — крайняя точка мира. Слово «последний» на войне не говорят. На войне за это слово бьют по морде. Потому что оно больно режет ухо острой, как бритва, тоской. Нельзя говорить «последний день, последний кусок хлеба, глоток воды»…
Перед тем как въехать в зону боевых действий, журналисты на здешнем рынке закупают продукты и водку на все время командировки. И частенько коротают крайний перед Чечней вечер в обществе недорогих местных проституток. Но сегодня мы не будем ночевать в Моздоке, а сразу поедем в Грозный. Группа, которую мы меняем, уже снялась с места. Теперь эфир голый и времени у нас в обрез. Главное — успеть приехать на базу до темноты. Ночью и федералы, и боевики без разбору стреляют по всему, что движется.
На рынке «Газель» заполняется коробками с макаронами, китайской лапшой, тушенкой, колбасой, хлебом, консервами. Бывший мичман, а ныне видеоинженер Иван Севрюгин по-хозяйски торгуется с рыночными тетками, пытаясь сбить цену. Но те твердо стоят на своем, зная, что деваться нам все равно некуда и заплатим столько, сколько просят. Через моздокский рынок ежедневно проходят десятки офицеров, контрактников, солдат-срочников и журналистов. Покупают все одно и то же. Для местных рынок — стабильный, хороший доход. Берем несколько ящиков водки. Водка в Чечне — валюта. За бутылку можно организовать БТР, чтобы добраться до места съемок. С помощью водки можно узнать много полезной информации, завязать нужные знакомства, снять напряжение. Словом, без водки на войне — никуда. Подумав, я взял еще ящик. Пятый…
В машине всех, кроме Лемы, сморило, а через какое-то время он нас разбудил, остановившись перед мрачным дорожным указателем «ЧЕЧНЯ»:
— Просыпайтесь, парни, въезжаем.
Мы разлепили веки и вывалились из машины.
— Кому отлить — делайте прямо здесь, на дороге, — сказал Лема. — На обочину не суйтесь — могут быть мины. До самой базы останавливаться не будем.
Да мы и так все это знаем. Помочились на дорогу. Обычно техником в Чечню со мной ездит Влад Шестунов. Но недавно в небольшой автомобильной аварии он потерял зуб, а операция по внедрению в его челюсть чужеродного импланта пришлась как раз на сроки нынешней командировки. Вместо Влада в этот раз поехал Иван Севрюгин. Наверняка Шестунов сейчас елозит в кресле стоматолога, мокрый от страха… О том, какую роль его выбитый зуб сыграет в нашей судьбе, мы узнаем чуть позже…
Иван закурил. Гусь не курил никогда, а я бросил лет восемь назад. Поеживаясь, все уставились на изрешеченный пулями, превратившийся в сито указатель «ЧЕЧНЯ», символизирующий условную границу между двумя мирами. Еще в середине девяностых, во время первой чеченской, кто-то чуть ниже приписал на нём: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД!» Такая же надпись есть при въезде в Грозный…
* * *
Первые километры территории Ада ничем новым не удивили. Всё, как месяц назад, когда мы с Гусем были в Чечне крайний раз. Так же, как и в другие наши осенне-зимние командировки. Те же серые, унылые кавказские степи — местами заснеженные да поросшие сухим бурьяном. Вдалеке — плоский силуэт гор, словно нарисованный карандашом на бумаге, вырезанный ножницами и искусственно приклеенный к общей картинке.
Редкие блокпосты федералов: бетонные блоки под масксетью, мешки с песком, красно-белые полосатые шлагбаумы да полинявшие от солнца, дождя и снега, кое-где пробитые пулями российские триколоры. Бойцы в камуфляже проверяют документы и груз, стреляют закурить, справляются о земляках среди нас. Иногда встречаются чеченские села. Многие абсолютно целы, как будто и войны никакой нет. Только редкие жители с любопытством рассматривают белую «Газель» с тонированными стеклами, да собаки лают нам вслед. Но буквально кожей ощущаешь напряжение взведенной до отказа пружины, готовой в любой момент сорваться и запустить какой-то чудовищный механизм. Села стараемся проезжать быстрее. В них даже федеральные войска без крайней нужды и крепкого боевого прикрытия не заходят. Поскреби любое село — и найдешь боевиков, факт! Словно читая вслух мысли остальных, Гусь кричит Леме, имитируя кавказский акцент:
— Давай, Лема, давай да-ра-гой! Пока они нас как баранов в горы нэ увели или нэ за-рэ-за-ли!
Лема жмет на газ. Ему тоже не хочется общаться с «бородатыми зайцами», как иногда называют боевиков. Он чеченец, сотрудничающий с федеральными властями.
Впереди показался очередной блокпост. Даже издалека видно оживление. Бойцы напряженно смотрят в нашу сторону, кто-то поднял снайперскую эсвэдэшку и изучает машину в оптический прицел. Между бетонными блоками люди в камуфляже таскают ящики. Когда мы подъехали ближе, навстречу вышли сразу четверо бойцов, держа машину на прицеле. Блокпост ощетинился стволами.
— Ваня, не вздумай громко портить воздух, — язвит Гусь, — изрешетят в ответ и даже не моргнут.
— Тогда я по-тихому испорчу, — зловеще отвечает техник.
— Кто такие и куда? — задает вопрос старший. Судя по всему, офицер, но знаков различия на камуфляже нет. Конспирируется от снайперов боевиков.
— Телевидение, — отвечает Лема. — Журналисты из Москвы в Грозный. Мы протянули аккредитационные и журналистские удостоверения.
— Что-то припозднились вы сегодня в Грозный, — сказал офицер, возвращая документы. — Через час темнеть начнет, а в нашем районе уже сейчас команда «стоп колеса». Вон за тем холмом, — он махнул рукой в направлении Грозного, — банда орудует. Прямо к ним в лапы попадете. Так что не могу я вас пропустить, парни. Останетесь у нас до утра.
— У меня свое начальство, товарищ…
— Майор, — ответил он, поёжившись. Вместо «звездочек» на плечах его камуфяжа я разглядел по дырке.
— У меня свое начальство, товарищ майор, — сказал я, удивляясь, что делает целый майор на этом забытом богом блокпосту. — Сегодня группа должна быть в Грозном. Сейчас на базе никого нет, кроме технарей. Случится что-то, а в эфир выходить некому. Для телеканала это катастрофа.
— Тоже мне — катастрофа! — отогнув брезентовый полог, заменяющий входную дверь, офицер крикнул в черноту дота: — Столетов!
В бетонной утробе раздалось шарканье сапог, сопение, и через пару секунд в проеме показался черный силуэт.
— Размести журналистов на ночлег, накорми и покажи, что к чему, утром поедут в Грозный, — приказал майор и, давая нам понять, что разговор окончен, добавил: — Вечером посидим, расскажете московские новости.
В ноздри ударил запах кирзы, кислого человеческого пота, перловой каши, гуталина и печного дыма. Свет тусклой керосиновой лампы выхватывает из темноты фрагменты железных коек с панцирными сетками, босые ноги, лежащие на голых, без постельного белья, матрасах, пустую оружейную пирамиду. Автоматов в пирамиде нет, они стоят с пристегнутыми магазинами рядом с койками, прислоненные к бетонным блокам, из которых составлены стены дота. Бревна подпирают деревянные доски, заваленные сверху мешками с песком и обтянутые снаружи масксетью. Несколько бойцов спят. Они даже не шелохнулись, когда наш провожатый громко гаркнул:
— Не обращайте внимания! Не проснутся, суки потные, даже если из пушек палить начнут!
Мы пробираемся вдоль бетонных стен, обклеенных фотографиями голых девиц и увешанных гранатометами, в самый конец помещения. Там стол, сооруженный из пустых ящиков, над ним тлеет еще одна лампа. Рядом трещит поленьями буржуйка.
Старший сержант Федор Столетов, контрактник, оказался довольно словоохотливым. Ловко накрывая на стол, рассказывает, что стоят они здесь пару недель и скоро их должны сменить. Что блокпост укомплектован исключительно контрактниками, всего их вместе с майором 15 человек, а сам Федор приехал на войну из вологодской деревни на заработки. Дома работы нет, а если бы и была, то получал бы он за нее раз в пять меньше, чем здесь, на войне. В Чечне Федя Столетов уже полгода, успел повоевать и даже «завалить» двух «духов» во время одной из зачисток, которую их подразделение проводило вместе с «вованами». Говорит он обо всем этом спокойно, обыденно и без бахвальства, словно обсуждает последние деревенские новости — у кого корова отелилась, к кому родственники из города приехали, а кому глаз на дискотеке подбили. Деловито нарезав буханку чёрного широкими ломтями, он мастерски открыл штык-ножом одну за другой четыре банки тушенки и, нацепив на белобрысый ёжик волос ушанку, отправился за дровами для буржуйки. Мы тоже достаем свои запасы, увенчиваем гору консервов парой бутылок «Столичной». Лема вздыхает, он планировал к ночи вернуться домой. Гусь осоловело молчит, ему уже все равно — завалиться бы побыстрее на боковую. Но тут с треском рвется брезент. В проеме за майором мелькает топленое молоко угасающего дня. Уверенно обходя торчащие босые ноги и острые углы ящиков с боеприпасами, он бесшумно приблизился к столу. Зыркнул на «Столичную», присел на пустой ящик. Сняв ушанку без кокарды, положил ее рядом:
— Ну как там Москва?
* * *
…Пацан лет пяти, босой, бежит по пыльной дороге. На нем только шорты, сам мальчишка весь черный от южного загара и похож на индейца. Его русые волосы выгорели и стали белыми. Ноги зарываются в дорожную пыль по икры.
— Миша-а-а! — доносится из-за забора голос его бабушки. — Со двора ни ногой! — Вернись сщас же! — бабушка делает строгий вид и грозит кулаком. — Вот я папе с мамой телеграмму дам и расскажу, что ты бабушку не слушаешься!
Мальчишка уныло плетется обратно, по дороге прихватив длинную палку, и чертит ею круги и полосы в пыли, которая хорошо подходит для рисования. Можно, как на грифельной доске, вывести рожицу, а потом разровнять босой ногой пыль и нарисовать что-то снова.
— Иди, черешню поешь, я тебе целую миску намыла, — лицо бабушки уже не такое строгое.
— Не хочу я черешню, я купаться хочу! — ноет мальчишка.
— А кто ж тебе не дает, я вон тебе корыто во дворе водой наточила, купайся!
— Я на речку хочу! Не хочу в корыте!
— Вот папа приедет, будешь с ним и на речку ходить, и на море! А пока я за тебя отвечаю, будешь в корыте купаться!
Пацан этот — я. Баба Миля, Мелания Емельяновна — моя бабушка, мать моего отца. К ней на Кубань родители привозят меня каждый год.
Вздыхаю, смотрю на высокий-превысокий тополь, упершийся вершиной в выцветшее от солнца бледно-голубое небо. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ух!» — шумит тополь листвой, когда его верхушку качает горячий кубанский ветер. Шелест этот волнует меня. Тополь будто зовет, разговаривает о чем-то, спорит, бунтует, размахивая задранными кверху лапами. Тополь ничей, он сам по себе вырос на улице лет сто назад и, хотя стоит ближе к дому соседей Щипалиных, растет все-таки перед их калиткой, а не за ней. Значит, тополь ничей и по нему можно лазить. Если из бабушкиных простыней соорудить парашют, можно попробовать прыгнуть с тополя, прикидываю я. Но пока у меня есть другие важные дела.
Крадусь вдоль белой стены хаты, пачкаясь в побелке, мимо колючих кустов шиповника, малины и черной смородины, листья которой, разогретые солнцем, источают дурманящий аромат. В самом конце стены под камнем спрятаны спички и целлофановые пакеты. Беру палку, обматываю ее целлофаном и подбираюсь к муравейнику, облепившему угол дома. Муравьи, похоже, чувствуют себя здесь хозяевами и частенько захаживают по своим тайным проходам внутрь бабушкиной хаты. Они проложили тропы к буфету, в котором всегда есть драже и сахарные трубочки, купленные в местном сельпо бабушкой для меня.
Поджигаю целлофан. Горящие капли с ревом «катюш» устремляются на землю. Огненный дождь, обрушившийся «с небес», вызвал панику среди трудяг-муравьев. Основной удар пришелся на тропу, по которой насекомые организованным караваном таскали яйца личинок и соломинки в свои жилища. Толпа муравьев несла даже огромную полураздавленную пчелу. Пчела была еще жива и отчаянно сопротивлялась. Но это не помогало. Муравьи деловито тащили ее в свое жилище, не спрашивая на то желания. Страдания пчелы и страшный ее конец — быть съеденной заживо толпой настырных насекомых — прервала огненная лава, которая лилась откуда-то с неба. Возможно, муравьи подумали, что это их муравьиный бог, прогневавшись за что-то, наслал на них небесный огонь, убивший и пчелу, и тех, кто хотел ее съесть, превратив в пластиковое плато муравьиную тропу. Конечно, несчастным было невдомек, что причина их страшной, но быстрой смерти — всего лишь в сахарных трубочках и разноцветном драже. Порой невозможно понять, почему в жизни случаются те или иные вещи.
Но тут прямо надо мной прогремел гром. Оглушил. Я посмотрел в почерневшее небо, на согнутый ветром тополь, и мне показалось, что сам я превратился в муравья.
— Миша-а-а-а! — зовет меня бабушка Миля, стоя на крыльце. Ее голос тонет в раскатах грома. — Миша-а-а-а! Гроза идет, быстро в дом!..
* * *
— Миха! Миха! — я медленно открываю глаза и первое, что вижу — фотографию мулатки с грудями, похожими на дыни сорта «Торпеда». Мулатка похотливо улыбается мне с бетонной стены, но я не могу сосредоточиться на ее сиськах— все трясется. Наконец соображаю, что трясусь я сам, точнее, это Гусь трясет меня за плечо, пытаясь разбудить:
— Вставай быстрее, «духи» на блокпост напали!
Недалеко ухнуло, потом сразу еще раз. Бетонные блоки-стены подпрыгнули, и с потолка просыпалось немного песка. Шлюхи на постерах мерзко выгнулись, тряхнули сиськами и снова замерли в развратных позах. Началось, сука!
Блокпост теперь напоминает муравейник, который кто-то пытается разорить.
— Живее, суки! Всем разобрать патроны и гранаты! — орет откуда-то из дальнего угла майор.
Я не вижу его, но точно знаю, что это он, хотя и голос какой-то другой. Вспоминаю, что накануне пили с ним водку часов до двух ночи, говорили про Москву, женщин и мирную жизнь. Зовут его Саша. Кажется, он из Марьина. Смотрю на часы — половина четвертого ночи. Выходит, спал всего полтора часа. Хмель слетает мгновенно, под ложечкой начинает мерзко сосать. Ненавижу это состояние, которое уже не раз испытывал в «горячих» командировках. Каждый раз возвращается этот мерзкий животный страх, доставшийся от моих первобытных предков. Страх, за который себя ненавижу и к которому никак не могу привыкнуть. Страх за собственную шкуру. Инстинкт самосохранения.
— Гусь, камера! — ору Пашке, пытаясь подавить внутреннюю панику. Но это лишнее. Гусь профессионал и сам знает, что делать. Вместо большого «Бетакама» они с Иваном готовят к съемке маленькую цифровую «Соньку», которая может снимать даже в темноте в инфракрасном режиме. Военные сейчас делают свою работу. А мы обязаны делать свою. Через маленькую амбразуру дота расстреливает ночь из крупнокалиберного пулемета какой-то парень. Широко расставленные ноги в коротких берцах, камуфлированные штаны, а сверху — гражданский, не по форме, джемпер — «вшивник». По белобрысому ежику узнаю Столетова. Стреляет Столетов длинными очередями и, судя по всему, вслепую. Не видно же ни черта, просто стрижет сухие кусты, чтобы боевики не подобрались вплотную.
Зацокали, застучали пули по бетонке свинцовым дождем. Страх тошнотворным комом подкатил к горлу. Хочется блевать. Заснуть и проснуться, когда все закончится. Или просто проснуться, чтобы все это оказалось сном. Спрятаться. Убежать. Прикинуться страусом и засунуть голову в песок. Вернуться на машине времени назад, к бабушке в кубанскую станицу Варениковскую, когда о войне узнавал только из книг о пионерах-героях. Бабушка брала книги для меня в станичной библиотеке. Я читал их, страшно завидовал пионерам-героям и точно знал — войны в моей жизни не будет никогда.
— Ща из граников долбить начнут, и хана нам всем, братская могила! — орет, мечась между койками ошалевший контрактник, здоровенный детина. — Неделя до дембеля, до конца контракта, как знал, сука!
— Как раз помылись сегодня с утреца на ключе, чистое все надели. Не зря, стало быть, — спокойно набивая магазин патронами, сказал другой контрактник, с всклокоченными рыжими волосами и заспанным лицом.
— Заткнись, сука, хорош каркать, застрелю, падла! — детина с перекошенным лицом передергивает затвор, но падает, сраженный ударом в челюсть. Из темноты, как привидение, появился майор. Посмотрел на нас:
— Вот что, парни, хреново дело. «Духи» на нас вышли, похоже, много их. Пока издалека щупают, но если всерьез возьмутся, долго не продержимся. Минут десять, и то при удачном раскладе. Говорю как есть.
Новый ком блевотины подкатил к моему кадыку. Хочется метаться, орать еще громче, чем отправленный майором в нокдаун детина, хлопающий сейчас, как бык, глазами навыкате. Из глаз детины текут слезы, из носа — кровавые сопли. Всхлипывая, он размазывает их по лицу.
Мой мозг парализован страхом. Истеричной птицей мечется и бьется о стенки черепа, пытаясь найти выход и не находя его. Одна-единственная мысль — на хрена мне все это? Что я тут делаю? Почему так рано, ведь мне всего тридцать три? Зачем выбрал эту дурацкую профессию, зачем поехал в Чечню, ведь столько раз зарекался? Какое дело мне до всего, что тут происходит? А ведь народ сейчас спит себе в Москве и других городах родины-гиганта и до одного места им вся эта Чечня! Настя! Что ей снится сейчас в постели с мужем? Чувствует ли, как близко стою я к черте, за которой, всем хочется верить, что-то есть, а на самом деле — неизвестность. И от этой неизвестности становится еще противнее, потому что билет в один конец — это слишком. Билет в страну Неизвестность — это чересчур, я на такую командировку не подписывался, не так рано, во всяком случае. Господи, ну пожалуйста!
«А что ты хотел? — спрашивает, как всегда некстати, мой внутренний двойник. — Ведь ты знал, что так может быть. Знал, но не хотел думать об этом. Об ЭТОМ люди вообще предпочитают не думать. Словно дети, которые прячутся под одеялом от чего-то страшного и непонятного, земляне гонят мысли о смерти. При этом каждый втайне надеется, что будет жить вечно. В сознании человека не укладывается мысль, что этот мир может обойтись без него. Большинство людей относительно спокойно воспринимают чужую смерть, отказываясь верить в свою». Но мое первое «я» не слушает двойника. Оно орет внутри: «Стоп, мы сейчас сойдем на этой станции, мы гражданские, а вы тут без нас разбирайтесь!» Но ведь не скажешь и не сойдешь никуда. Не убежишь в поле, не спрячешься за холмом, пока все утихнет, не вгрызешься зубами в землю, притворяясь сухой травой, пылью, снегом, грязью, лишь бы не заметили, лишь бы миновало, пронесло…Господи, как же хочется жить! Я сглатываю ком и сиплю Гусю с Иваном:
— Камеру не выключать, совсем. Писать все подряд.
— Да знаю я, — отвечает невесело Гусь. Внешне каждый из нас спокоен. Что происходит внутри — личное дело каждого.
— Мы по рации запросили помощь, но приказали пока держаться самим минимум час, пока не подойдут «вованы» — сказал майор. — Меньше километра к югу самарчане стоят, но их тоже долбят. Две красные ракеты с их поста видели, убивают их совсем. Вертушки работать не могут — темно. Остается артиллерия, но это крайний вариант, сровняют вместе с нами. Вы, это, в армии-то служили?
Мы киваем.
— Нас тут пятнадцать человек, — продолжает майор, — с вами — девятнадцать. Каждый ствол на счету, — офицер говорит быстро, но отчетливо, твердо как-то. — Заставить не могу, могу предложить — вон там, у стены, на плащ-палатке автоматы и боеприпасы трофейные. Возьмите, хотя бы за себя постоите, чтобы не просто так «духам» отдаться.
— Мы журналисты и не имеем права брать в руки оружие, — говорю я ему.
— Какие уж тут права! — машет рукой майор. — Впрочем, решайте сами! Хотя бы броники наденьте, — он исчез за брезентовым пологом.
Основная часть бойцов рассредоточена вне бетонного дота, по периметру блокпоста, между мешками с песком. Совсем рядом тяжело заработал АГС, с небольшими интервалами вдалеке стали рваться его гранаты. Гусь снимает в режиме ночной съемки какого-то бойца, поливающего темноту матом и свинцом. Оружие мы решили взять только в самом крайнем случае. Про бронежилеты спросить оказалось не у кого, все заняты делом. Вместе с Иваном мы присели на корточки, спрятавшись за мешками с песком. Гусю в его работе мы помочь сейчас ничем не можем. Несколько пуль противно свистнули, как показалось, совсем близко, над головами. А может, так только показалось. Над мешками проворно вскочил какой-то боец с гранатометом. Не целясь, саданул заряд в темноту и тут же снова присел. Сноп пламени от выстрела на мгновение выхватил из темени кусок масксети, бетонный блок стены и грязную глыбу льда под ней. Затем на долю секунды все снова погрузилось во мрак, еще больший, чем прежде, и одновременно новой короткой вспышкой от разорвавшейся гранаты вздрогнула земля. Бойцы беспорядочно расстреливают заснеженную степь, словно она повинна в их страхе, и лишь снайпер, сросшийся веком с резиновым окуляром прицела ночного видения, без лишней суеты выискивает свои жертвы, изредка делая выстрелы. В этот момент на противоположной стороне обрывается чья-то жизнь. Острая пуля эсвэдэшки разбивает чей-то череп, пронзает сердце. Те, кто пришел забрать наши жизни, лишаются своих. Щелк! Щелк! — выполняет свою работу совсем молодой парень, лет двадцати двух, не больше. Он стоит прямо надо мной, просунув винтовку в узкую щель между мешками, совершенно спокойный. Лишь изредка деловито вытирает со лба струйки льющегося, несмотря на мороз, пота. Со стороны кажется, что боец стреляет в тире по жестяным зайцам и носорогам, пытаясь заполучить призовую плюшевую игрушку.
Чтобы хоть как-то успокоиться, я «включаю инопланетянина» и пытаюсь посмотреть на происходящее его органами зрения. Как будто я инопланетный репортер, ведущий трансляцию на Галактику:
«Небольшие группы землян-самцов вступили в противоборство и пытаются умертвить друг друга с помощью железных трубок, плюющихся огнем. Вместе с огнем из трубок с большой скоростью извергаются куски металла. Металл может с легкостью пройти сквозь тело землянина или разорвать его на куски, поскольку оно состоит на семьдесят процентов из жидкости и, несмотря на твердый скелет, напоминает желе, обтянутое тонким пергаментом. Злоба, ненависть и страх — эти чувства сейчас испытывают земляне-самцы по отношению друг к другу.
Что стало причиной конфликта в этой части планеты, как и в других ее точках, где люди ежедневно истребляют друг друга, нашему разуму понять сложно».
Все закончилось также внезапно, как и началось.
— Прекратить огонь! — захрипел откуда-то слева майор. Разом все стихло, и в темноте стало отчетливо слышно, как где-то хрустнул снег, лязгнул затвор, кто-то сплюнул, где-то истерично хохотнули, а внутри дота громко и протяжно заматерились.
— Столетов! — позвал майор. — Проверить личный состав, доложить о потерях!
Минуты через три Федя Столетов доложил, что потерь нет. К счастью, никого не зацепило. Есть ли потери со стороны боевиков — точно определить невозможно. Предположительно трое убитых нашими снайперами, но трупы, если они были, «духи» наверняка забрали.
До утра уже никто не спал. Первый шок прошел, на смену ему пришло возбуждение, все стали делать шумные предположения — что это вообще было и почему банда оставила блокпост в покое. Майор сказал, что нам всем повезло, потому что был это никакой не бой, а так — боестолкновение. По оперативным данным, банда была человек сто, не меньше, из них обстреливало нас не более двух десятков, но если бы «духи» захотели, то легко взяли бы блокпост, не оставив камня на камне. Вероятно, это был отвлекающий маневр. По рации передали, что самарчанам повезло меньше. У них два двухсотых и четыре трехсотых.
Как только рассвело, мы собрались в дорогу. Удивительно, но ни одна пуля не попала в Белянку — «Газель» Лемы, которую он заботливо спрятал с тыльной стороны блокпоста, за бревнами и мешками с песком. Все время, пока шел обстрел, Лема был рядом с машиной.
Простились с майором и бойцами. Майор извинился за то, что задержал нас до утра. Все, мол, могло закончиться иначе. Напоследок, отведя в сторону, протянул мне две гранаты-«эфки». Протянул суетливо, как заботливый дед отдал бы внуку пирожки.
— На вот, возьми. В дороге всякое может случиться. Шляетесь тут без охраны и оружия. Легкая добыча для шакалов!
Гранаты я не взял.
«Добро пожаловать в Ад!» — вспомнилась надпись при въезде в Чечню. Через минуту блокпост растворился морозной дымкой вместе с майором, который крестил нас автоматом. Как его фамилия, я так и не спросил…
Если у городов существуют лица, то лицо Грозного конца 2002 года — все в язвах, как у человека, переболевшего проказой. Кажется, нет ни одного квадратного сантиметра на стенах, не тронутого пулей или осколком. Город-призрак. Он и есть, и нет. Ни одного целого дома. Сильно разрушенный во время первой и окончательно во вторую чеченскую войны, Грозный напоминает теперь Сталинград из кинохроники Великой Отечественной. Огромные дыры от ракет и снарядов в панельных многоэтажках, одинокие фасадные стены, почему-то оставшиеся стоять после того, как дома рухнули, горы битого кирпича и руины, руины, руины…
Из разных концов города фоном доносятся короткие автоматные очереди, иногда слышны взрывы. В большинстве случаев бойцы федеральных сил стреляют просто так, на всякий случай, по подвалам во время зачисток территории от боевиков. Забрасывают гранатами подозрительные подъезды, прежде чем туда войти. Но где-то все-таки вспыхивают короткие стычки с боевиками.
Мы прибываем на базу, в центральную комендатуру. За охраняемым периметром, как за небольшой крепостью, маленький оазис относительно спокойной жизни. На территории базы комплекс правительственных зданий, военные подразделения и журналистский городок, именуемый телевизионщиками ТВ-юртом. Нас веселым улюлюканьем встречают коллеги — журналисты разных телеканалов и радостным визгом два пса — Вермут и Вискарь. Примерно год назад дворняги стали членами большой журналистской семьи. Подобрал их кто-то еще щенками во время одной из зачисток в руинах. С тех пор они живут на базе. И собаки, и наши коллеги-журналисты чтят традиции ТВ-юрта. Вновь прибывшая группа должна проставиться, а значит, вечером будет пьянка. Кто-то предлагает начать уже сейчас, но я отмахиваюсь, ссылаясь на то, что день в разгаре.
Техники-флайвэйщики, Виталик с Серегой, сообщили, что Москва оборвала спутниковый телефон, разыскивая нас. Уже прошла информация о боестолкновении на блокпосту. С одной стороны, в редакции волновались. Но с другой — они хотят получить от нас сюжет.
* * *
Спутниковая тарелка поймала останкинскую студию в Москве. Электричество на базе вырубилось, и техники запустили дизельный генератор, сквозь звук которого я с трудом разбираю слова ведущей праймового девятнадцатичасового выпуска Елены Соколовой. В глаза бьет свет от ламп, которые Гусь направил мне прямо в лицо, чтобы хоть как-то высветить его в темноте. Я почти не вижу камеру и поэтому смотрю прямо на сумасшедшее белое солнце, которое светит, но не греет.
— …Свидетелем боестолкновения банды боевиков с блокпостом федеральных сил в Чечне стала съемочная группа нашей телекомпании, — слова ведущей летят из космоса через спутник, с трудом продираясь к моему уху. Успеваю подумать о том, что спутник был бы сейчас абсолютно бесполезен без обыкновенной солярки и примитивного раздолбанного дизельного агрегата. Пытаюсь прижать плотнее крошечный наушник, не видимый зрителям, но слышимость лучше не становится. Кошусь вправо. За столом, под знаменитым ТВ-юртовским навесом, прямо на улице, несмотря на холодный декабрьский вечер, уже собралась толпа единомышленников, объединенных целью напиться водки. Навес, под которым обычно проходят все журналистские пьянки, скрыт от зрителей армейской маскировочной сетью, но мне хорошо видно, как коллеги, не дожидаясь окончания прямого включения, разливают ледяную водку по пластиковым стаканам в каких-то двух метрах от меня. Запах нарезанной колбасы, хлеба и открытых шпротов дурманит мой рассудок и отвлекает от информации, которой я сейчас по долгу службы должен поделиться с Планетой.
— На прямой связи с нашей студией мой коллега, специальный корреспондент… — генератор молотит, захлебываясь соляркой, ведущую почти не слышно. Главное — не облажаться и вовремя начать говорить. Наш материал идет первым в выпуске как самый важный. Сердце с бешеной скоростью бьется где-то у кадыка. Прямой эфир — каждый раз стресс, сколько бы ты ни работал. Говорят, журналистам за вредность полагается молоко, как и летчикам-испытателям. Снова смотрю на водку. Уже не слышу ни генератора, ни ведущей. Только стук собственного сердца в ушах в ритме пасадобля. Камеры по-прежнему не видно, лишь ядовитые лампы-«пятисотки» слепят глаза до красных зайцев. Мне нужно за кого-то зацепиться, найти кого-то живого, кому я буду рассказывать новость. Под слепящими приборами замечаю Вермута с Вискарем. Склонив головы, псы осуждающе смотрят на меня. Они ожидают своей порции колбасы и водки, к которой успели пристраститься за время общения с телевизионщиками, а я всех задерживаю. Решаю, что Вермут с Вискарем и будут моей аудиторией.
— Пожалуйста, Михаил, вам слово, — будто с другой планеты, все-таки долетают до меня слова ведущей, и я, почему-то сразу успокоившись, начинаю рассказывать собакам. Сначала коротко об увиденном на блокпосту, затем предлагаю посмотреть двухминутный сюжет, смонтированный и перегнанный в Москву также по спутнику перед эфиром. Сюжет идет почти без закадрового текста, на живых лайфах, состоящих из пальбы и криков. По его окончании ведущая задает еще пару вопросов, после чего прощается со мной и переходит к другой теме.
Замолк дизель. Гусь вырубил свет. Вермут с Вискарем дружно залаяли, бросились под навес к своим мискам. ТВ-юрт оживленно загудел басовитым роем мужских голосов. Словно гигантские пчелы, решившие все вместе опылить один цветок, деловито вьются и жужжат над длинным столом корреспонденты, операторы, техники ведущих каналов России. Расставляются стаканы, закуска. Первый тост, как положено, за встречу. Второй (между первым и вторым — чтобы пуля не пролетела) сразу — тоже за встречу. Все мы знакомы не первый год, многие кочуют вместе по разным войнам, случающимся на Планете. Хоть и работаем на конкурирующих каналах, кажется, даже скучаем друг по другу. Третий тост по традиции — за тех, кого нет. Молча. Стоя. Не чокаясь. На «стене плача» в строительном вагончике, в котором живет наша группа, фотографии коллег-журналистов и военных, с которыми мы успели сдружиться за время командировок. Все они погибли в Чечне. Каждый раз, возвращаясь в Грозный и заходя в вагончик, первым делом смотришь на «стену плача», в надежде, что фотографий там не прибавилось.
— Третий, мужики! — поднимается Вадик, техник одного из телеканалов. Пластиковый стакан в его ручище кажется маленькой мензуркой. Все шумно шаркнули, отодвинули скамейки, торжественно встали. Напряженно глядя в водку, как в кофейную гущу, где гадалки видят судьбу, синхронно выпили, присели. После третьего тоста я почувствовал, как спирт, проникнув в кровь, горячими толчками разносится по телу. Стало теплее, мысли нащупали позитивную волну и стали плавно раскачиваться на ней. Вспомнилось жаркое индийское лето, в котором мы с Гусевым были всего неделю назад. Новые робинзоны, ищущие рай на Земле. Пастельно-розовые закаты, белый песок и метафизические беседы под шум океана о смысле жизни, добре и зле и о том, чего все-таки на нашей планете больше — Ада или Рая? Все это кажется теперь обрывками яркого, цветного сна и совсем не вяжется со «стеной плача» в нашем строительном вагончике и кусающим щеки чеченским декабрьским морозцем. Не таким сильным, как в России, но из-за влажного воздуха подло пробирающим до самых костей.
Со стороны Ханкалы один за другим стали раздаваться глухие выстрелы гаубиц, и через секунду над нашими головами в сторону гор полетели стопятидесятидвухмиллиметровые снаряды.
— «Саушки», — прокомментировал Иван.
— Традиционное ночное выравнивание гор, — подхватил Гусь.
— Теперь на полчаса, не меньше, — сказал какой-то рыжий военный без знаков различия.
Я только сейчас заметил, что за столом оказалось несколько незнакомых мне людей в камуфляже. Наверное, их пригласил кто-то из корреспондентов. Каждый репортер, как может, ищет информацию для своего телеканала. А потому все пытаются обзавестись личными источниками. Военные, с которыми удается подружиться, не только делятся нужными сведениями, но и часто помогают добраться до мест событий. Сделать это без их помощи в зоне боевых действий непросто и небезопасно.
«Интересно, — подумал я, — а как расслабляются инопланетяне? Что они пьют, нюхают или вкалывают себе, чтобы затуманить сознание и хоть ненадолго уйти от реальности? Может, они слушают какую-то специальную музыку? Или погружают себя в транс усилием мысли, как йоги? А может, также бухают, как мы? Или им там ничего такого не требуется? И мир, в котором они живут, вполне их устраивает?»
— От нашего стола — вашему, — от размышлений меня отвлек голос, показавшийся знакомым. К столу подошли четверо военных, но лиц не видно из-за тени. Тонкая, смуглая рука поставила на стол бутылку дагестанского коньяка. Вслед за рукой из тени вышло хитрое раскосое лицо. Зула! Узнаю разведчика-калмыка. Зула во весь рот улыбается ослепительно белыми зубами. Света от них больше, чем от фонаря над столом. Другого выражения лица у него и не бывает.
— Здорово, братаны! — Зула пробирается к нам, а за ним его друзья-разведчики: Стас, Сашка Погодин (Погода) и их командир Степан, возглавляющий особое подразделение разведки.
— Как узнали, что наши братья-телепузики приехали, решили навестить, — говорит Степан, устраиваясь на скамье. — Калмык изнылся весь, скучал без вас.
Мы встаем навстречу, приобнимаемся с каждым, щека к щеке. Братания у военных на кавказский манер.
— Зула, ты же в отпуске должен быть, дома! — говорю я.
— А я был там, — калмык хитро улыбается. — Целых три дня был, родню повидал и обратно приехал. Скучно там. Все другое стало. Люди злые, как собаки. Деньги все хотят. Не понимаю я там ничего. Скучно. Поеду, думаю, лучше обратно к братьям моим.
— Чурка ты косоглазая! А где ты здесь-то добрых людей увидел? — Стас, снайпер, шутя, дает Зуле подзатыльник. — Ему отпуск дали, а он вернулся. Нет чтобы с девками там целыХ три недели салямалейкум делать, он в Чечню обратно приперся!
— Девки чужой не хочу, я на твой сестра женюсь, — Зула специально коверкает русский и лукаво улыбается. Это его любимая шутка. — Фото видел — красивый баба! Молодой!
— Баран ты киргизский! Не «красивый», а «красивая»! — Стас накладывает в тарелку Зулы тушенку. — Так и пошла она за тебя, за чурку косоглазую!
— Я не киргиз, я калмык, — Зула совсем не обижается.
— Да какая разница! — машет рукой Стас, и все смеются.
Я знаю Зулу и Стаса уже второй год, почти с самого начала второй войны. И каждый раз при встрече с ними слышу шутку про женитьбу хитрого калмыка на сестре его названного брата. Каждый раз это ничем не заканчивается. Стас — снайпер, а Зула — универсальный солдат, как его называет Степан. Может и с пулеметом, и со снайперской эсвэдэшкой побегать, и за механика-водителя на бэтээре, если надо. Степан, подполковник, наблюдая за своими бойцами, только усмехается. Он отбирает к себе в разведку только самых отчаянных и безбашенных. Тех, кто успел как следует повоевать.
Зула воюет в Чечне с конца 1994-го, еще с первой кампании. Участвовал в двух штурмах Грозного и уцелел. Во время первого, самого кровавого новогоднего штурма города Зула проходил срочную службу. Ему было восемнадцать. Тогда погибли тысячи необстрелянных пацанов, вчерашних школьников, ровесников Зулы, которых бездарные министры и генералы словно оловянных солдатиков швыряли в огонь. На вторую чеченскую войну он пришел уже по контракту, с куском льда вместо сердца, так и не прижившись на гражданке. Зула всегда улыбается. Кажется, у него не бывает плохого настроения. Но в узких глазах-щелках живет печаль. Я безумно рад видеть Зулу, Стаса, Погоду и Степана…
* * *
Сегодня мы сняли только инженерно-саперную разведку. Ничего интересного. С разминирования дорог в Грозном начинается каждое утро.
Петрович сидит под навесом и ждет нас. Собственно, ждет Петрович водку, но поскольку выдать ее можем только мы, ему приходится ждать нас. Я знаю Петровича второй год. По званию он майор, а вот чем занимается и за что отвечает в комендатуре, понять не могу. Прямо об этом Петрович не говорит. Иногда я его вижу на зачистках руин или в других военных операциях, где задействованы подразделения комендатуры, но чаще на базе. Каждый день, как на работу, Петрович является к нашему вагончику, поскольку знает, что водка у журналистов имеется. Получив пол-литра, делится информацией — где что случилось, где и какая операция будет проходить. Нередко помогает с транспортом — добраться до точек съемок. Выпив, Петрович любит вспоминать о своих военных подвигах. Однажды, изображая, как он расправлялся с боевиками и рвал их на куски, Петрович вошел в раж и, выхватив из кобуры «макаров», несколько раз шарахнул в воздух. Одна из пуль пробила нашу спутниковую тарелку. Корреспондентам, работавшим тогда в Чечне, пришлось докладывать в Москву о случившемся. Петровича, правда, не сдали и списали все на войну — шальная, мол, пуля. Никто не думал, что такая мелочь вызовет реакцию, но в Москве решили: надо рассказать о том, в каких условиях работают наши журналисты! И заставили сделать сюжет. Парням пришлось потом, действительно рискуя жизнью, специально выезжать на боевые операции, где стреляли уже по-настоящему, чтобы сказать: «И вот одна из таких пуль попала в нашу спутниковую тарелку!»
Петрович после того случая, чувствуя вину, не приходил за водкой целую неделю.
— Здорово, Петрович! Ты, как всегда, на боевом посту! — ехидничает Гусь, завидев майора.
Тоскливое лицо Петровича моментально озарилось. Завидев нас, он довольно крякнул, поправляя густые черные усы. Под его расстегнутым бушлатом виднеется неизменная десантная тельняшка с голубыми полосами. Ушанка с кокардой по-дембельски сдвинута на затылок. Еще раз крякнув, майор не без усилия поднял грузное тело и одновременно в приветствии правую руку. Вермут и Вискарь, лежавшие до этого с грустными мордами у ног Петровича, тоже привстали и начали радостно повизгивать.
— Да ты не один, а с собутыльниками! — не унимается Гусь.
— Когда-нибудь, Пашок, я тебе что-нибудь отстрелю, — для виду обижается Петрович.
— Здорово, Петрович, — приветствую майора. — Не успел соскучиться, как мы снова тут! Что нового?
— Да ничего нового. Воюем помаленьку. Пацанов вот троих из второй роты неделю потеряли. Пошли утром на инженерную разведку с саперами. «Духи» фугас взорвали и обстреляли потом. Засада, в общем. Но ты их не знал, по-моему, — Петрович назвал фамилии. Да, я действительно не знал погибших. — Неделю назад один наш бэтээр подорвали, но там без двухсотых обошлось, контузило только всех, двоих осколками зацепило, сейчас в госпитале тащутся.
— Нам бы тему какую-нибудь нормальную, Петрович! Готовится что-нибудь тут у вас интересное? — спрашиваю я.
— Да ничего у нас интересного, — уклончиво отвечает Петрович, — зачистки да разминирования. «Духи» по ночам закладывают мины, а мы утром выковыриваем их. Сам же все знаешь.
Петрович хитер, конечно, и совсем не так прост, как кажется. Ясно, что он только прикидывается простаком-выпивохой. Я уверен, что он связан со спецслужбами и приходит к нам не просто за водкой, а пронюхать, что мы наснимали за день и под каким соусом все это будет выдаваться в эфир. Есть, правда, еще пресс-служба Дома правительства, с которой у нас часто бывают скандалы. Но эти действуют открыто. А Петрович косит под «своего» и делает вид, что, кроме водки, его ничего не интересует. Сливает нам всякую ерунду, которую мы и без него знаем.
Петрович получил заветные пол-литра, а Вермут с Вискарем — колбасу и тушенку. Спаивать собак я запретил, и теперь они жалобно смотрят на Петровича. В принципе могли бы объединиться: у псов есть закуска, у него водка. Петрович собирается расположиться под нашим навесом, но я прошу его не разлагать группу и покинуть территорию, раз у него нет для нас никакой информации. Про себя думаю, что пора перестать тратить на него водку. Что-то и с транспортом в крайнюю командировку он подводил. Видимо, получил распоряжение больше не помогать нашему каналу. Значит, какой-то материал не понравился военным.
Декабрьское кавказское солнце растопило корки льда и подмороженные комья земли. Теперь к берцам прилипает жирная и липкая, как пластилин, чеченская глина. Ее очень трудно счищать с обуви и одежды. Когда нет облаков, то солнце на Кавказе светит и греет даже зимой как-то по-весеннему. Я решаю воспользоваться кратковременным теплом и принять душ. Трогаю бак, наполненный водой, — он слегка нагрелся на солнце. Душевую мы соорудили прямо на улице, между двумя строительными вагончиками. Бак с водой закреплен деревянными распорками выше человеческого роста. От него идет железная трубка с краном и лейкой на конце. Женщин на базе практически нет, но на всякий случай «душевая» закрывается полупрозрачной полиэтиленовой пленкой. Долго настраиваю себя, прежде чем раздеться. Наконец складываю снятую одежду на скамейку и, дрожа от холода, становлюсь на деревянную обледенелую решетку босыми ногами. Снимаю с шеи цепочку с металлической пластиной, на которой выгравированы мое имя, группа крови и название телекомпании. Вешаю медальон на гвоздь и с диким воплем открываю кран. Как ни странно, вода теплее, чем я думал, и в первые секунды кажется, что все не так страшно. Но легкий ветерок, проникающий со всех сторон, холодом обжигает тело. На улице плюс пять, не больше. Лихорадочно намыливаю шампунем голову, яростно тру тело, пытаясь хоть чуть-чуть согреться. Бормочу себе под нос песню, которую отец в детстве часто напевал мне вместо колыбельной. Иногда ее слова почему-то сами собой вспоминаются в экстремальных ситуациях: «Налили негру стакан вина, он залпом выпил его до дна…» Уже почти не чувствуя конечностей, пытаюсь смыть мыльную пену тонкой струёй воды, которая едва сочится из бака над головой. «Шляпу надвинув, он зал покинул, и поглотила его ночная мгла…» — отбивая зубами чечетку, допеваю куплет. Неожиданно на словах «ночная мгла» полиэтилен отдернулся, и сквозь мыльную пену, начинающую щипать глаза, я увидел силуэт девушки. В тот же миг пленку шумно задернули. «Извините!» — донеслось до меня под дружный гогот Гуся, Ивана и наших техников — Виталика и Сереги. Холод сразу прошел. Меня будто обдали кипятком! Какая-то девушка заглядывает в душевую, когда я, весь в мыле, голый, выбиваю зубами барабанную дробь и напеваю песню про негра! Более дурацкую ситуацию трудно вообразить. Конечно, это проделки Гуся. По-другому и быть не может. Наспех вытершись полотенцем и напялив одежду, выхожу из душевой. Гусев и компания, довольные представлением, радостно скалятся.
— Гусь, иди-ка сюда, — бросаю на ходу и ныряю в вагончик. — Что за хрень? — набрасываюсь на оператора, как только он входит.
— Она подошла, спрашивает: «Можно в Москву позвонить?» — Гусь еле сдерживает хохот и постоянно прыскает. — Мы сказали, это вообще-то запрещено. И разрешить может только старший. Она спросила — а где ваш старший? Мы сказали — там и показали. Мы даже не успели остановить ее! Ей же и в голову не могло прийти, что кто-то может мыться на улице зимой. — Гусь не выдерживает и снова начинает ржать.
— Придурки, блин! — я наливаю в стакан немного водки и выпиваю залпом, чтобы согреться. — Кто она такая?
— Я не знаю, раньше не видел никогда на базе, — Гусь стал понемногу успокаиваться. — Как она засмущалась! Покраснела вся! Убежать прямо хотела, но мы ее задержали. Сейчас у флайвэйщиков в вагончике сидит.
— Зачем?
— Тебя ждет. Я же сказал, ей очень надо позвонить в Москву.
— Ладно, я сейчас подойду.
Кое-как пригладив волосы, захожу в технический вагончик, где располагается аппаратура. Здесь же база спутникового телефона — единственная связь с другим миром. С миром, в котором нет войны и до которого всего-то два часа лету. На стуле, перед монтажной «парой», скромно опустив глаза в пол, сидит девушка лет восемнадцати. Подняв глаза на меня, она тут же снова опустила их в пол, вспыхнула и тихо сказала: «Здравствуйте». Даже при тусклом свете видно, как щеки ее зажглись румянцем.
— Здравствуйте, — ответил я. — Мне казалось, что девушки уже давно разучились краснеть.
— Чеченские девушки не разучились, — едва заметно улыбнувшись, ответила она.
— А вы чеченка?
— Наполовину. У меня мама русская, а отец чеченец.
— Меня зовут Михаил, — представился я.
— Ольга, — ответила девушка и снова покраснела.
— Вы хотели позвонить в Москву?
— Да, если можно. Буквально на минутку. Мне сказали, что к вам военные часто ходят звонить, вы им разрешаете.
— Иногда разрешаем, но далеко не всем военным, а только тем… кого давно знаем, — у меня едва не слетело с языка «только тем, кто нам бывает полезен». — Хорошо, Оля, звоните, только недолго. Москва нас сильно ругает за перерасход спутниковой связи.
— Спасибо, — Ольга достала из кармана короткой синей куртки с меховым капюшоном маленькую потертую записную книжку, открыла на нужной странице. Я попросил техника помочь девушке набрать номер. Пока Сергей набирает сложную комбинацию спутниковых шифров и кодов, я изучаю Ольгу, прижавшую длинную кривую трубку к уху и слушающую гудки. Она оказалась не просто симпатичной девушкой. Она очень красива. Видимо, это тот случай, когда смесь восточной и славянской кровей дарит восхитительные черты лица. Она совсем не похожа на чеченку. Но и на русскую в полной мере тоже. Скорее, я бы сказал, что в ее чертах есть что-то итальянское. Девушки похожего типажа встречались мне на севере Италии. Правильные черты лица, чуть выдающиеся скулы, абсолютно прямой, аккуратный нос, высокий прямой лоб и огромные глаза цвета темного янтаря. Кожа при этом совсем не смуглая. На голове нет традиционного для чеченки платка. Темные, с шоколадным отливом волосы убраны перламутровой, под слоновую кость, заколкой, открывая красивую шею и трогательные, идеальной формы уши. Точнее, сейчас мне видно только одно ухо — левое, к правому прижата трубка спутникового телефона. Отдельные пряди волос, случайно выбившиеся из прически, придают лицу Ольги какую-то особенную нежность.
Слышны длинные, долгие гудки. Наконец девушка отнимает трубку от правого уха. Теперь я могу рассмотреть и его.
— Не отвечает, — грустно сказала Ольга, возвращая Сергею телефон. Да, уши у нее особенно красивы. Никогда не думал, что уши могут быть так сексуальны. Две идеальной формы морские раковины с очень аккуратными, изящными завитками в центре. Нежные, почти детские мочки с едва заметными дырками от сережек, но самих серег нет. Я завороженно уставился на ушные раковины, изучая совершенство их спиралей, будто в этих линиях скрыты вся тайна мироздания и смысл человеческого существования.
— Я пойду, — снова немного краснея, сказала девушка, чувствуя мой взгляд, и, неожиданно подняв длинные ресницы, посмотрела прямо. Без вызова, скорее, с любопытством и какой-то легкой дерзостью в огромных карих глазах. Теперь пришел мой черед смущаться. Уловив это, девушка улыбнулась кончиками губ, в глазах пробежали веселые искорки. В этом раунде она победила.
Мы вместе вышли из вагончика, я подал Ольге руку, помогая спуститься по крутым железным ступеням. Подобрав одной рукой полы длинной шерстяной юбки, под которой угадываются стройные ноги и изящные, упругие бедра, она протянула узкую, прохладную ладонь с длинными пальцами, на которых я с удивлением отметил хороший маникюр с бледно-розовым, не бросающимся в глаза лаком. Я вызвался проводить девушку до ворот базы, она согласилась, и мы пошли в сторону КПП. Ольга уже не смущается, смотрит на меня прямо и спокойно, даже с какой-то легкой иронией. Возможно, она вспомнила, как застала меня в душевой. Или поняла, что понравилась мне, и теперь это ее забавляет. А я, старательно изображая равнодушие, словно беря интервью, задаю вопросы о ней и ее семье, исподтишка продолжая разглядывать девушку и недоумевая про себя, как такая юная, хрупкая красавица могла оказаться в этой космической черной дыре, где правят силы зла. Где нет ничего, кроме крови, грязи, страха и смерти. Мне очень любопытно, кому Ольга звонила в Москву, но спросить не решаюсь.
— Родилась я в Москве, а в Грозный мы переехали с родителями, когда мне было семь лет. Мой отец из Грозного, я уже говорила, что он чеченец, — начала Ольга свой рассказ.
— С отцом все в порядке? — осторожно спрашиваю я.
Ольга улыбнулась:
— Да, он жив, здоров, с боевиками не связан и снова живет в Москве. Он вернулся туда задолго до войны. Они с мамой развелись, когда мне исполнилось десять. Мама музыкант по образованию, окончила консерваторию. Коренная москвичка.
— Вы, выходит, тоже?
— Что тоже?
— Коренная москвичка?
— Да, москвичка. Только большую часть жизни прожила здесь, в Грозном. Теперь даже не знаю, чего во мне больше: русского или чеченского? Я ведь очень маленькая была, когда мы уехали.
— А почему вы с мамой не вернулись в Москву?
— Так получилось. Мамины родители, мои бабушка с дедом, не очень хорошо приняли отца. Они всю жизнь сдували с мамы пылинки и считали, что ее избранник должен быть особенным. Отец в то время был простым инженером-строителем. Я — плод любви горячего чеченского парня и русской красавицы из интеллигентной московской семьи, которой родители запрещали прикасаться к грязной посуде и поручням в метро. Кстати, мне к поручням тоже запрещали прикасаться. Бабушка — известный в Москве хирург, была уверена, что я непременно подхвачу какую-нибудь заразу. Дед ее в этом поддерживал. Видели бы они все это! — Ольга кивнула в сторону виднеющихся за воротами базы руин. Потом она замолчала, и мы какое-то время шли молча мимо избитого пулями и осколками бетонного забора. Я тоже молчал, и через какое-то время Ольга продолжила сама:
— Дед был профессором филологии. На нашей даче в Быкове собирались известные актеры, музыканты, писатели. Я хорошо помню эти встречи. Было очень шумно, весело, постоянно играла музыка. А меня каждый раз непременно ставили на стул, и я под мамин аккомпанемент пела «Подмосковные вечера» или «Выйду ль я на реченьку». Все очень умилялись и наперебой говорили, что я, как и мама, буду певицей. Всю жизнь бабушка с дедом видели в качестве маминого мужа сказочного принца. Выпускника МГИМО, например, а не «джигита», как они всегда называли отца. В принципе они неплохо относились к отцу как к человеку, но постоянно давали понять, что он из какой-то другой сказки, что ли.
Впереди показался КПП, и мы с Ольгой, не сговариваясь, сбавили шаг.
Я молча слушал, и она продолжила:
— Маме все предрекали блестящее будущее. После консерватории ее звали в оперу, но она всегда хотела петь на эстраде. Она и сейчас прекрасно поет, а тогда… Ее звал на гастроли с собой сам Давыдов! Предлагал создать дуэт.
— Давыдов? — я не удержался. — Врешь! — неожиданно для себя перешел я на «ты».
— Нет, не вру. Тогда она была потрясающе красива. Даже сейчас, спустя годы, и после всего, что ей пришлось здесь пережить, она все еще очень красива. А тогда толпы мужчин-поклонников, перспектива сольных концертов, ее даже на телевидение звали ведущей. Говорили, вы, главное, приходите, а какую передачу будете вести — придумаем. Отец очень ревновал. Просто места себе не находил. А потом поставил вопрос ребром — или я, или сцена. А тут еще ему предложили место заместителя генерального директора в крупной строительной компании в Грозном. Для молодого, амбициозного парня это была хорошая карьера. В принципе я понимаю его. Он хотел быть главным в семье, не оглядываться на родителей жены. Для мужчины это важно, а для кавказского мужчины — важно особенно.
Мы вышли за ворота базы и медленно идем по направлению к небольшому рынку, расположенному на площади перед комендатурой. На рынке чеченки торгуют всем, что может заинтересовать военных: тушенка, макароны, сигареты, пиво, можно купить даже обмундирование. Я хочу дослушать рассказ Ольги. Совсем не хочется ее отпускать. Кажется, я давно ее знаю. Так бывает: видишь человека, и кажется тебе он своим. Как будто видел ты уже когда-то это лицо, глаза, слышал этот голос и чувствовал запах. Ученые называют это химией. Я подумал о том, что, возможно, Ольга — землянка женского пола, подходящая мне по химическим и биологическим признакам.
— Что было потом? — я не заметил, как мы миновали рынок на площади и подошли к шлагбауму, за которым начинаются руины. Млеющие на пригревающем солнце контрактники, облокотившись на мешки с песком, с любопытством разглядывают Ольгу.
— А потом мы переехали в Грозный. Тогда это был очень красивый, цветущий город. Маленький Париж, так здесь говорили.
— Да, я слышал.
— Бабушка и дедушка остались в Москве. Они поругались с мамой и почти не общались. Отец стал работать заместителем гендиректора в строительной компании, а мама сначала сидела дома, как и подобает жене чеченца. Это ей не нравилось. Со временем начались скандалы. Отец разрешил ей устроиться в школу обыкновенным преподавателем музыки, но этого ей было недостаточно, конечно. Бабушка с дедом умерли. Мама продала их московскую квартиру, но началась перестройка, и деньги прогорели. В итоге родители все-таки развелись. Отец оставил нам квартиру, а сам ушел на съемную. Потом наступили девяностые, и компания, в которой он работал, закрылась. В Чечне стало совсем плохо с работой, многие стали уезжать. Друзья отца предложили ему в Москве начать небольшой строительный бизнес. Он снова отправился в Москву, а мы остались в Грозном. А потом началась война. Отец всегда нам помогал. У него давно другая семья, но он несколько раз приезжал, чтобы увезти нас, а мама каждый раз наотрез отказывалась. Никак не могла простить ему загубленной карьеры и, как она говорит, жизни. Да и возвращаться в Москву уже не к кому. Ни родных, ни друзей, ни квартиры. Здесь сначала были хорошие соседи, друзья, но и их не осталось. Кто погиб, кто уехал. А потом как-то и отношение к русским семьям изменилось, мягко говоря.
Мне известно про тот период. Тогда нечеченские семьи вытеснялись, вплоть до убийств. И не только русские. Многие стали уезжать, пытаясь продать квартиры, но их никто не покупал. На стенах домов часто можно было встретить надпись: «Не спешите покупать квартиры у Вани и Маши, они все равно будут наши». Русских выгоняли с работы, убивали, насиловали, выбрасывали из окон собственных квартир, вешали во дворах, отбирали имущество, угоняли в рабство. В почтовых ящиках русские находили «письма счастья»: «Русские, не уезжайте! Нам нужны рабы и проститутки!» Все это мне неоднократно рассказывали бежавшие из этих мест люди, с которыми встречался во время съемок репортажей. Непонятно, как Ольга с матерью выжили в этом кошмаре. Словно прочитав мои мысли, Ольга сказала:
— Нас не тронули, потому что отец чеченец и семья русская только наполовину. Но не всем так повезло.
— Ты сегодня отцу в Москву звонила? — наконец, не удержавшись, спросил я.
— Да. Думаю, теперь уже мама готова уехать. Хочу попросить его помочь.
— Где же вы живете сейчас?
— Там же, где и жили до войны. В Октябрьском районе, на Фонтанной улице.
— В руинах?! — вырвалось у меня.
— Да, от дома мало что осталось, — Ольга горько усмехнулась, — мама работает здесь, в Центральной комендатуре, секретарем в Доме правительства. Я иногда помогаю ей перебирать бумаги. А в свободное время подрабатываю переводчиком и заодно проводником для западных журналистов.
— Так ты переводчик?
— Вообще-то я немного художник и хотела стать дизайнером интерьеров. Но не сложилось, как видишь, — она снова повела головой в сторону руин, — при таком экстерьере интерьер невозможен. А английский выучила просто так, чтобы занять себя чем-то и не думать о войне. Мне иностранные языки всегда легко давались. Еще на итальянском говорю. Только итальянцев я здесь что-то не видела.
— И чеченский знаешь?
— Конечно, знаю. Я же выросла здесь.
— А с нами можешь поработать? Проводником, если понадобится?
— Могу, конечно, если платить будете, — Ольга строго посмотрела на меня. — Западные телеканалы хорошо платят.
— Будем, конечно, нам выделяют для этого деньги. Только…
— Что только? — Ольга уловила недоверие в моем взгляде.
— Прости за прямоту, сколько тебе лет?
— Я не стану кокетничать, — она улыбнулась. — Мне двадцать четыре.
— Честное слово, я бы не дал больше восемнадцати.
— Да ладно, это в маму. Она очень моложавая. Такая конституция. А у нее от бабушки. А бабушка всегда молодо выглядела в свою маму и так далее, — Ольга засмеялась. — Меня и сейчас иногда за школьницу принимают. Ну, мне пора, — Ольга в который раз посмотрела на руины и вздохнула. Видно, что ей совсем не хочется туда возвращаться. Находясь на базе, она ненадолго забывает о кошмаре, в котором живет уже много лет.
— Как же ты добираешься до дома? — спросил я и вдруг заметил стоявшую неподалеку грязную «шестерку» с тонированными стеклами. На капот машины облокотился совсем юный чернявый парень с бледным, болезненным лицом. С хмурым интересом он наблюдает за нами.
— Это Рустам, — сказала Ольга, перехватив мой взгляд. — Он живет в нашем подъезде и иногда по-соседски подвозит нас с мамой.
Парень явно нервничает, и взгляд его на Ольгу не показался мне соседским. Я вдруг поймал себя на том, что очень не хочу отпускать ее в эти страшные, черные руины, где нет ни воды, ни тепла, ни света, ничего, кроме страха и неизвестности, с этим недобро глядящим на меня чеченцем.
— Ты заходи в любое время, если нужно будет позвонить, — предложил я ей. — Если меня не будет, техники в курсе. Они тебя уже видели. А о гонорарах проводника договоримся!
— Хорошо, — улыбнулась Ольга и зашагала в сторону машины.
* * *
Ночью «саушки» снова принялись ровнять горы. Строительный вагончик, в котором спим мы с Гусем и Иваном, вздрагивает от каждого выстрела гаубиц и будто поеживается, когда над ним со стороны Ханкалы с протяжным свистом пролетают тяжелые, начиненные смертью металлические болванки. За окном повалил снег, и Вермут с Вискарем жалобно подвывают у крыльца в тон пролетающим снарядам. Пришлось открыть дверь и впустить собак в вагончик. Темными мохнатыми клубками ворвались они в сени и уселись на специально отведенные для таких случаев места. Высунув языки, горячо и часто задышали, благодарно сверкая в темноте глазами. Где-то далеко в горах слышны глухие, ухающие, словно из-под земли, разрывы и доносится едва различимый стрекот вертолета. Это он наводит артиллерию на цели, зависнув над горами, с помощью тепловизора выискивая теплокровных существ. На экране тепловизора тела животных и людей загораются красным. Большое скопление двуногих красных существ ночью означает банду боевиков. Туда и летят снаряды.
— Ну наконец-то, спят усталые игрушки! — бормочет Гусь. — Я уже без этой музыки и не засыпаю, она для меня вместо «Спокойной ночи». Дружок, а хочешь, я расскажу тебе сказку? — обращается он к Севрюгину и пинает его кровать. В ответ из-под одеяла раздается сонный мат техника.
— Ну, как хочешь, — говорит Гусь и мгновенно засыпает.
Я думаю об Ольге. Вспоминаю изящные ушные морские раковины. Спелые черешни карих глаз, локоны каштановых волос, изгиб тонкой шеи. Раковины. Ушные. Морские. Ну конечно, морские! Ведь и кровь человека по составу близка к морской воде. Создатель всего, что есть на этой Планете и во Вселенной, един. Во всем живом есть одни и те же химические элементы, повторяемость линий. В нас природа — и мы в природе.
Думаю о том, что сейчас делает Ольга в своем полуразрушенном войной доме, где нет ни тепла, ни воды, ни нормальной еды. Куда в любое время могут вломиться какие-то подонки и сделать с ней и матерью все что угодно. Захотелось хоть как-то помочь Ольге, но я не знаю как.
В прежних военных командировках я никогда не думал о мирных жителях. То есть искренне сопереживал им, делая материалы про жизнь обычных людей на войне, но никогда не пропускал через себя их боль и проблемы. Старался не знакомиться без необходимости и интересовался дальнейшей судьбой только в случае, если из этого мог получиться репортаж. Будешь слишком эмоционально сочувствовать одним — не сможешь рассказывать о других. Журналист должен быть беспристрастен и иметь холодную голову. Он простой рассказчик, который обязан максимально объективно описать ситуацию. Я давно понял — если позволю себе слишком проникнуться чьим-то горем, не смогу писать. Так же, как врач не сможет оперировать. Здоровый цинизм и юмор — буфер, который всегда меня выручал. Встретив Ольгу, я незаметно для себя нарушил одну из важнейших заповедей репортера-стервятника. Я думаю об Ольге. Странно, но мысль о том, что они с матерью ночуют в руинах, мешает мне заснуть.
Чтобы отвлечься, пытаюсь представить, как выглядит их жилище сейчас и как выглядела комната Ольги до войны. Плюшевые игрушки, всякие девчачьи штучки и, конечно, пианино. Пианино обязательно должно быть… Ушные раковины. Идеальные спирали. Вселенная. Раковины. Морские…
* * *
Ольга появилась на базе через два дня. Все это время, выезжая на съемки в город или возвращаясь с них, я с надеждой смотрел в сторону КПП — не мелькнет ли синий, отороченный мехом, капюшон?
Я перегоняю в Москву материалы об уничтожении федералами подпольных нефтеперерабатывающих мини-заводов и о бунте контрактников в одной из военных комендатур Грозного. Солдаты сложили оружие и отказались воевать, потому что финансисты не выплачивают им положенных «боевых» денег, требуя «откаты». Руководству этот материал нравится особенно. Это бомба, и когда она рванет в эфире, непременно будет грандиозный скандал, а это принесет каналу дополнительные рейтинги.
Дверь за моей спиной приоткрылась, пропуская снаружи лучи света, забелившие мониторы. В белом прямоугольнике стоит Ольга. Она приветливо улыбается и слегка краснеет, как и в первый день нашего знакомства.
— Я стучала, — говорит она, смущаясь.
Снимаю наушники и, стараясь не выдать неожиданную радость, машу ей рукой — заходи, мол! Сегодня на ней вместо синей куртки короткое черное пальто. Волосы гладко убраны назад и собраны на затылке черной заколкой, полностью открывая замечательные ушные раковины и подчеркивая изящный изгиб шеи. Как и в прошлый раз, на лице почти нет косметики — лишь легкая пудра на персиковой коже, длинные ресницы чуть тронуты тушью и почти бесцветная помада на полных чувственных губах. Ей снова надо позвонить в Москву. Набираю на спутниковом телефоне шифры и мобильный номер ее отца, который Ольга диктует по записной книжке, кожаная обложка которой в некоторых местах протерлась насквозь.
— Это дедушкина, — заметив мой взгляд, говорит Ольга.
— Алло, — после нескольких длинных гудков раздался мужской голос, который показался мне молодым. Передаю трубку Ольге и выхожу из вагончика, чтобы она могла спокойно поговорить с отцом.
Ольга выходит через несколько минут. Как и в прошлый раз, помогаю спуститься ей по железным обледенелым ступенькам, держа за тонкую, прохладную ладонь. Ольга выглядит взволнованной. Спрашиваю, все ли в порядке.
— Да, просто мы так редко с отцом созваниваемся, последний раз это было полгода назад. Мне немецкие журналисты давали позвонить, — слезы затопили янтарь ее глаз, и от этого они кажутся еще крупнее, словно под увеличительными линзами.
— Папа сказал, что постарается помочь нам с мамой как можно скорее выехать отсюда. Он обрадовался, что мама наконец согласилась. На первое время обещал снять квартиру в Москве, а там видно будет, — она улыбнулась, и два ручейка горными потоками брызнули из глаз по щекам, увлекая за собой едва заметные крупинки пудры. Ольга смахнула ручейки и виновато улыбнулась:
— У отца давно уже другая семья. А тут мы еще. Впрочем, это я уже говорила…
Мы сидим с ней в столовой Дома правительства — единственном месте на базе, где можно поесть. Как альтернатива есть еще чеченская шашлычная на площади перед КПП, но я не люблю ее за тесноту, накуренность, липкие столы и пластиковую посуду.
Ольга отказалась от еды, как я ни уговаривал, согласившись только на стакан яблочного сока и шоколадку. Мы рассказываем по очереди каждый о себе. Она мне — про музыкальную школу, своих подруг, которые давно покинули Чечню и с которыми утеряна связь, про довоенный Грозный. Я — о родном Нижнем Новгороде, Москве и всякой ерунде, о которой говорят с человеком, когда с ним просто хочется говорить. В какой-то момент Ольга посмотрела в сторону, заулыбалась, замахала руками. Обернувшись, я увидел достаточно привлекательную женщину средних лет. Улыбаясь, она идет к нашему столику.
— Это моя мама, — шепнула Ольга. — Она здесь работает, я говорила.
— Здравствуйте, я Ольга Ивановна, Олина мама, — представилась женщина, целуя дочь в щеку и протягивая мне руку.
— Да, мы две Ольги! — засмеялась Оля.
— Здравствуйте, — отвечая на рукопожатие, я слегка привстал и неуклюже показал на стул, предлагая присесть.
— Я ненадолго, — сказала женщина, присаживаясь.
Судя по Ольгиным рассказам, ее матери должно быть за пятьдесят, но на вид я не дал бы ей больше сорока пяти. Ясно, что в молодости эта женщина была очень красива и пользовалась вниманием мужчин. Видимо, муж-чеченец ревновал не зря, опасаясь соперников. Неглубокие морщины уже тронули ее лицо в уголках рта и век, но сами глаза, большие, как и у дочери, только не карие, а зеленые, смотрят на мир с живым интересом. Правда, иногда они внезапно замирают и тускнеют изумрудами, от которых убрали луч света, когда она вспоминает что-то неприятное. Но через мгновение Ольга Ивановна находит новый повод для веселья:
— Ольгуш, ты пригласи ребят к нам в гости, пусть снимут, как выживает в руинах недобитая русская интеллигенция, — и тут же изумруды в глазах гаснут, подергиваясь болотинкой, — а вы знаете, какой красивый был город!
На ней строгий, немного старомодный, видимо, из начала девяностых, довоенный еще костюм: узкая, длинная тёмно-серая юбка, подчеркивающая стройную фигуру, и такого же цвета приталенный пиджак с большими накладными карманами. Белая блузка под пиджаком с небольшим кружевным воротником. Наверное, этот костюм Ольга Ивановна надевала, когда еще преподавала в школе музыку. Косметикой, как и дочь, она почти не пользуется. Скорее всего, чтобы не раздражать радикально настроенных мусульман. В ее взгляде, повороте головы, осанке что-то гордое и величественное, как будто она до сих пор на сцене: встанет сейчас и пойдет выступать дуэтом с Давыдовым, а не перепечатывать бесконечные приказы и распоряжения, да мыть полы, когда все уйдут, надев поверх серого костюма синий халат.
Ольга Ивановна просидела с нами целый час, а когда спохватилась, стало смеркаться. Им с дочерью надо возвращаться в руины, чтобы успеть до комендантского часа. Я проводил их до ворот базы, где на белой «шестерке» поджидал все тот же мрачный, настороженный Рустам. Рынок перед комендатурой стремительно пустеет, торговки торопятся по домам. С разных концов города доносятся автоматные очереди, иногда глухие разрывы гранат. Привычная какофония заменила обычный городской шум. Мне стало стыдно, что эти две женщины едут на ночь глядя в грозненские руины, куда даже федералы суются только днем. А я остаюсь на базе, где есть хотя бы иллюзия защищенности. Ольга Ивановна сразу как-то сгорбилась и теперь выглядит на свои пятьдесят с хвостиком. Уже без особых церемоний прощается и как-то суетливо усаживается в машину.
— Скажи хотя бы адрес, — попросил я у Ольги.
— Ты не найдешь, — грустно говорит она, — теперь здесь ни улиц, ни домов. Одни битые кирпичи. Я покажу в следующий раз на карте, — и захлопнула дверь с черными стеклами, за которыми уже ничего нельзя разглядеть. Ни изящного изгиба шеи, ни прекрасных морских ушных раковин. Молчаливый Рустам, мрачный кормчий, повез на своей «шлюпке» их с матерью — живых в мертвый город, в царство Аида, в само чрево Ада.
* * *
Ближе к ночи пришел Степан. Подполковник всегда вежливо стучит, прежде чем зайти, что не характерно для ТВ-юрта. Следом за ним тенями скользнули в вагончик Стас и Зула. Невысокого роста, крепко сбитый, всегда трезвый и подтянутый Степан не похож на большинство военных в Чечне. Он интересуется историей вообще и военной историей в частности. Изучает биографии великих полководцев всех времен. Не скрывает восхищения наиболее талантливыми и решительными как советскими, так и немецкими военачальниками времен Второй мировой. Степан считает себя патриотом, но его боевой позывной — Карл — в честь нацистского адмирала-подводника Карла Дёница. Степану нравятся военная дерзость и непотопляемость во всех смыслах, которые были свойственны Дёницу. Боевики боятся Карла, а потому ведут на него охоту. А он — на них. Неофициально группу Карла и военные, и боевики называют «Ночными призраками». «Хороший индеец — мертвый индеец», — говорит подполковник о боевиках словами белокожих завоевателей Америки, и глаза его колют синим льдом.
От водки разведчики отказались, сославшись на ночную работу. У нас в гостях они всегда почему-то держатся чуть стеснительно. Едят немного и с достоинством, неторопливо отхлебывая терпкий горячий чай из керамических кружек. Ни за что не скажешь, что убивать для них — обычное дело.
Зула со Стасом в «гражданке» вообще сошли бы за студентов. Вот Зула. Очень легкий человек. У него никогда не бывает проблем. Всегда рот до ушей. Зубы — белоснежный фарфор. Откусывает крошечный кусок печенья, на мгновение хмурится, но только для того, чтобы подуть на чай так, что его и без того узкие калмыцкие глаза-щелки закрываются полностью. Делает осторожный глоток и снова расплывается в улыбке. «Человека убивать только сначала трудно, потом привыкаешь», — как-то делился Зула. «Через нож вообще не нравится мне, — говорил он, скаля белоснежные клыки и щурясь. — Кровища, грязь… Лучше просто: шлепнул из автомата — и все».
В 1996-м Зулу и таких же, как он, пацанов-срочников, предала страна. Тысячи мальчишеских жизней признали напрасными жертвами. Войска из Чечни стали выводить. Покидать Ичкерию, по словам Зулы, было приказано без оружия, оставляя его чеченцам. Многие попадали в засады, где с безоружными солдатами и офицерами жестоко расправлялись боевики.
Зула с друзьями припрятали трофейные автоматы, завалив их ветошью на дне «Урала». Их машину «вели» две тонированные «Нивы», набитые вооруженными до зубов бородачами. Но когда «Урал» завернул за крайний дом перед выездом из села и на несколько секунд стал невидим боевикам, бойцы, взяв оружие, высыпали из машины, разбежались и залегли. Как только показались «Нивы» с чеченцами, Зула с товарищами открыли огонь, расстреляв всех, кто был в машинах. С тех пор Зула твердо усвоил, что бить и стрелять надо всегда первым. Если не съешь ты — сожрут тебя. В этом заключен простой закон выживания всех живых существ на планете Земля.
То ли вкус крови оказался так сладок, то ли душу свою Зула потерял в Чечне тогда, в восемнадцать, и найти никак не может. Но на вторую войну он пришел уже сам, по контракту.
А вообще Зула очень добрый и надежный. За друга жизнь отдаст и последнюю рубашку снимет. И скромный. Ордена и медали свои никогда не надевает, даже в отпуске. И подвигами боевыми не хвастает. Но есть у Зулы одна страсть. Кто-то собирает марки, кто-то значки или редкие монеты. Зула коллекционирует человеческие уши. Насобирал уже несколько ожерелий. Уши он отрезает у мертвых врагов, а затем по каким-то специальным рецептам вымачивает, высушивает и нанизывает на леску, как воблу. Как-то раз он пришел к нам, как всегда, белоснежно улыбаясь, увешанный своими трофеями. На самом деле не Зула это придумал. Кто первым из землян собрал коллекцию вражеских ушей и срезал первый скальп — неизвестно. Может, индейцы, а может, еще первобытные люди. Но потом так делали на многих войнах. Вот и Зула теперь делает. Он говорит, что начал собирать уши боевиков после того, как увидел труп своего друга, ранее захваченного в плен чеченцами, с отрезанными ушами и половыми органами. Тогда Зула поклялся собрать сто ушей с пятидесяти «уродов», как он называет боевиков. Гениталии Зула отрезать брезгует. «Духи» еще не то делают, — говорит Зула, — головы нашим отрезают живьем, к крестам прибивают, скальпы снимают. Так что моя коллекция — так, ерунда. Немного еще осталось», — он скалится, обнажая белоснежные клыки, и трясет связками высохших, неестественно маленьких, но сохранивших форму человеческих ушей.
— Сегодня ночью в разведку идем в город, — Степан-Карл смотрит на меня исподлобья колючими синими точками. — Можете с нами, если хотите. Сделаете репортаж.
Мы с Гусевым и Севрюгиным переглянулись. Выехать на боевое задание с разведчиками, с одним из самым секретных подразделений, «Ночными призраками»! Конечно, я хочу. О таком эксклюзиве можно только мечтать. Но и риск высок. Хотя на дворе конец 2002-го и широкомасштабных боевых действий в Чечне не ведется, как, например, в 2000-м или даже в 2001-м. Сейчас война больше партизанская. Но ночью Грозный контролируется федеральными войсками формально. Боевики активно перемещаются малыми группами, нападают на блокпосты, караулы, минируют дороги, обстреливают комендатуры. Постоянно гуляют слухи о том, что вот-вот боевики попытаются штурмом вернуть себе Грозный. К слову, в 1996-м боевиками были атакованы Грозный, Гудермес и Аргун. Тогда федеральные войска вели тяжелые бои в Грозном, потеряв контроль над большей частью города. После этого были заключены известные Хасавюртовские соглашения, положившие конец первой чеченской войне.
Я соглашаюсь на предложение Степана. Упускать такой эксклюзив нельзя.
— Одно условие, — Степан продолжает сканировать своими глазами мои. — Если тебя завалят, я тело твое на базу не повезу, а прикопаю где-нибудь на помойке. Мишань, без обид. Говорю сразу и честно. То же самое касается и вас, — кивнул Степан Гусеву с Севрюгиным. — Сами понимаете, официально брать я вас не могу и проблемы мне не нужны. Если все пройдет удачно и те, кому надо (Степан поднял глаза в потолок и постучал себя по погонам, имея в виду спецслужбы), после репортажа поймут, что вы лазали с нами, у меня проблем не будет. Но случись с вами что-то, меня замотают.
Я сказал Пашке, что могу пойти один с маленькой камерой «Сонькой» и сам управлюсь, но Гусь обиженно промычал, что сниму я без него «непременно говно». Ивана решили оставить на базе, чтобы не рисковать зря еще одним человеком, хоть он и сопротивлялся.
Быть закопанным на помойке не хочет никто. Но вариантов нет. Соглашаюсь на это условие, мысленно отдав должное честности Степана. Гусь кивнул, также завещая разведчикам распоряжаться своим телом.
…Два бэтээра, «Боревар» и «Кондор», без опознавательных знаков и с выключенными фарами пыхтят соляркой во внутреннем дворе комендатуры, перед воротами, которые бойцы прозвали «Вратами в Ад». «Врата» выкрашены синей, местами облупившейся краской. Снаружи к ним приделаны красные пятиконечные звезды — давно дырявые от пуль. Сразу за вратами — черные руины, откуда уже привычным фоном доносятся выстрелы — одиночные и очередями, да редкие глухие разрывы. На все это никто не обращает внимания. Только опытные бойцы способны отличить по звуку — идет где-то перестрелка, бой или какой-нибудь пьяный контрактник от нечего делать либо от страха лупит из пулемета по руинам.
Степан построил разведчиков у раскидистого каштана, под которым летом хорошо укрываться от палящего чеченского солнца. Сейчас каштан выглядит черным скелетом, цепляющимся костлявыми лапами за морозный воздух.
— Идем двумя группами, — шепотом инструктирует Степан бойцов, — задача: выдвинуться в город в район возможного обстрела блокпостов и при обнаружении противника уничтожить его.
Ночью блокпостам достается от боевиков. Чечены выходят из руин, обстреливают посты, нередко пытаясь их захватить. Почти каждую ночь Степан отправляется со своими разведчиками на охоту. Молва о том, что в Грозном действует особая группа спецназа, рыскающая, подобно волкам, по ночам и уничтожающая боевиков, давно разошлась по городу среди мирных и военных. Я не знаю, где базируется Степан с бойцами. Они появляются в комендатуре словно из воздуха. А потом также растворяются. Одно слово — призраки! Иногда даже командование не в курсе вылазок разведчиков. Это делается для того, чтобы информация не просочилась и «духи» не устроили на «призраков» засаду.
Разведчики проверили боеприпасы, попрыгали на месте — не шумят ли? У кого-то брякнула фляга, Степан приказал поправить. На броню каждого бэтээра бесшумно вскарабкались по пять бойцов. Мне досталось место на «Бореваре», Гусю — на «Кондоре». Степан рассадил нас по разным машинам из простых соображений — не класть яйца в одну корзину. Яйца в данном случае — мы. Если подорвут один из бэтээров и погибнет один репортер, другой может уцелеть. Самое главное, когда сидишь на бэтээре, — крепко держаться за ручки, приделанные к броне, чтобы не слететь, когда машину подбрасывает на ухабах. Но еще важнее — занять правильное место. Так как обочина справа, первыми в случае взрыва фугаса гибнут те, кто сидит на правой стороне. Поэтому все стремятся занять левую. Военные корреспонденты — не дамы, и блатное место им никто не уступает. Но и суеты никакой перед усаживанием разведчиков на броню никогда нет, все занимают места с достоинством. Где успел присесть, там и поехал. Только Богу известно, как там будет. Сегодня мне удалось «зашарить» правильную, левую сторону. На броне рядом со мной — Стас и Зула. Стас ковыряется с «Оксанкой» — так он называет свою снайперскую винтовку. То ли в честь подруги, то ли от тоски по женщинам. То ли просто от тоски. На войне почему-то принято давать имена неодушевленным предметам, как бы одушевляя их. У механика-водителя Лехи — бэтээр «Боревар». У Стаса — винтовка «Оксанка». Он настраивает ее как гитару перед игрой. Подкручивает колесики на прицеле, проверяет прибор ночного видения.
Мне снова приходится бороться с тошнотворным комом в горле, пересиливая свой страх. Смотрю на разведчиков. Они абсолютно спокойны. Они привыкли к войне настолько, что их не тошнит. Завидую им.
Вообще, думаю я, трусость и смелость — понятия неоднозначные. Один и тот же человек в одних и тех же ситуациях может повести себя по-разному. Сегодня он может закрыть амбразуру телом и стать героем. А завтра подумал бы— стоит ли? От чего это зависит — непонятно. Может, от погоды. Или от расположения звезд, когда в один день жить хочется больше, чем в другой. А может, от того, получил ли весточку боец из дома и какой была эта весточка. Дал ли каптерщик солдату нижнее белье и сапоги нужного размера или они ему жмут? Так жмут, что жизнь не в радость. От усталости, хронического недосыпания, равнодушия и апатии, от голода и отчаянного страха перед врагом. От всего этого человек тоже может пойти на крайности. И даже на подвиг. В общем, мне кажется, что человек не всегда верен сам себе.
Зула устроился с пулеметом где-то слева, я его почти не вижу, только зубы белые светятся в темноте.
«Ну, на хрена мне все это?» — крутится в голове знакомая, как старая пластинка, мысль.
— Всем надеть маски, рыла в камеру журналистов не светить, — рыкает Степан и опускает пятерню на шлемофон механика-водителя.
«Боревар» взревел, обдал нас облаком отработанной солярки и рванул к распахнувшимся вратам в Ад. Оглядываюсь назад, пытаюсь найти на броне «Кондора» Пашку, но вижу только мрачный силуэт бэтээра в пыли. Фары у обеих машин по-прежнему выключены, и одному Богу известно, как в кромешной тьме среди руин ориентируются водители.
«Боревар» с «Кондором» несутся по ночному Грозному. Вихри колючей пыли вперемешку со снегом жалят щеки, выбивают из глаз слезы. Я пытаюсь вглядываться в темноту, но вижу только черные скелеты домов. Они зловеще нависают над нами и, кажется, вот-вот взорвутся тысячами огненных вспышек, направив на нас всю ненависть Ада. Кажется, за каждым поворотом этого чертового лабиринта поджидает смерть. Впрочем, так оно и есть. Минут через десять машины неожиданно встали. На смену шуму ветра и реву моторов пришла внезапная, оглушающая тишина. Даже выстрелов нигде не слышно. Тихо, как на кладбище. Разведчики бесшумно спрыгнули с бэтээров, рассредоточились, стали водить стволами по черноте ночи, уткнувшись в окуляры прицелов-«ночников».
Наконец, глаза привыкают к темноте, и я обнаруживаю, что мы действительно рядом с кладбищем. Теперь я понимаю, что это за место, так как немного изучил Грозный за пару лет командировок. Это мусульманское кладбище появилось уже во время войны и находится прямо в бывшем парке культуры и отдыха. Жители свозили сюда со всего города неопознанные трупы родственников и хоронили, недалеко от сожженных аттракционов и «чертова колеса». На многих могилах стоят остроконечные пики. Это означает, что погребенный погиб насильственной смертью и родственники поклялись за него отомстить. После мести пики меняют на надгробные плиты. Степан говорит, что здесь похоронено много боевиков.
Пашка включил инфракрасный режим, позволяющий снимать в кромешной темноте.
Степан-Карл шепотом по рации отдает распоряжение бойцам. С гарнитурами связи и приборами ночного видения разведчики похожи на киборгов или космических пришельцев. Степан дергает меня за рукав, шепчет в ухо:
— Сейчас выдвигаемся через кладбище, прочешем парк. Часто «духи» отсюда подбираются к блокпостам.
Гусь снимает Степана почти в упор, приближая камеру вплотную к маске с прорезями для глаз, пытаясь записать хоть какой-то звук.
Ощущается дыхание реки Сунжи, огибающей парк и не замерзшей зимой. Все кажется сюрреальным. И то, что мы кромешной ночью идем с разведчиками-пришельцами через мертвый парк, и черные руины вокруг — все похоже на какую-то далекую, темную планету. Кажется, здесь нет жизни, только небольшая группа инопланетян высадилась в этом страшном месте. Мне снова вспомнились те индийские робинзоны. «Ад — это и есть наша планета…» — сейчас слова полуголого программиста из Лондона кажутся мне не такими уж и безумными. Изуродованные скелеты аттракционов, сквозь которые пробивается сухой бурьян, обугленные деревянные лошадки и ослики на фоне мрачных зарослей кустарников, припорошенных снегом, и черных деревьев выглядят особенно зловеще. Покореженное чертово колесо уродливой гримасой безжизненно застыло над парком. Теперь с него можно обозревать только кладбище и руины. Аттракцион в Аду. Людей сажают в развороченные проржавевшие кабинки и показывают, как выглядит Ад с высоты птичьего полета. «Посмотрите, на что способны люди в своей бессмысленной злобе и жестокости», — говорит экскурсовод дьявола и хохочет.
— Здесь придется немного пройти через минное поле, — шепчет мне Степан. Не обращая внимания на мои вытаращенные глаза, продолжает: — Когда Грозный второй раз взяли, тут заминировали все. Карт минных полей, конечно, никто не составил, тогда не до этого было. Разминировать территорию тоже пока нет смысла, «духи» тут постоянно шляются. Ну и нам приходится за ними. Но пройти дальше можно только этим путем. Так что советую не шарахаться по тропе, как беременные козы, а ступать прямо за нами.
Такого экстремального аттракциона в этом чертовом парке мы с Гусем, конечно, не ожидали. «Мог бы предупредить», — думаю о Степане.
Разведчики стараются идти след в след, метрах в пятнадцати друг от друга на случай, если кто-то один подорвется на мине, чтобы осколками не зацепило остальных. Гусь прилип глазом к миниатюрной камере, стараясь снимать все подряд. Я знаю, что если посмотреть на Пашку в прибор ночного видения, то голова его будет светиться зеленым нимбом. Это из-за режима инфракрасной съемки. Для снайпера лучшей цели не придумаешь. Шепотом прошу Пашку периодически выключать камеру.
Пошел легкий снег. Падая на землю, белые снежинки тут же превращаются в черную грязь. За двадцать минут группа проходит метров сто пятьдесят. Со стороны это выглядит так: группа мужиков ночью, гуськом, на большом расстоянии друг от друга, исполняет смертельный танец, в котором каждый шаг может стать последним: то поднимают, то медленно и осторожно, как цапли на болоте, опускают ноги на землю. Наконец Степан подает знак. Опасный участок пройден. Стараюсь унять дрожь в коленях, вызванную страхом и мышечным напряжением от «танца».
— Фу-ух! — шепчет рядом Гусь. — У меня все яйца поседели!
Вдруг Зула, идущий впереди, поднял руку. Группа встала. Зула что-то знаками показал Степану, тот махнул рукой, и разведчики залегли, бесшумно растворившись среди деревьев. Призраки есть призраки. На пару секунд мне показалось, что мы с Гусем остались совершенно одни посреди дьявольского леса. По еле слышному шепоту нахожу Стаса, который оказался рядом с нами. Мы с Гусем легли на мерзлую, полусгнившую листву, источающую слабый приторный запах.
Стас шепчет в гарнитуру связи Степану:
— Вижу движение. Наши пациенты. Двое с оружием.
Степан, которого я сейчас не вижу, хрипит ему в наушник:
— Вылечи их.
— Понял. Работаю, — шепнул Стас и затих, вглядываясь в прицел «Оксанки». Кажется, что он и не дышит даже. Я вижу, как Гусь напряженно снимает Стаса, завалившись сбоку от него на кучу мокрых, грязных листьев. Под ложечкой начало противно сосать.
«Оксанка» у Стаса с глушителем, но даже с ним два щелчка, как хруст сломанных веток, разлетелись в черной тишине по парку, вспугнув воронье. Сделав один за другим два выстрела, Стас откатился в сторону, меняя позицию, что-то шепча Степану по рации. Мы с Гусем тоже на всякий случай отползли.
«Ночные призраки» один за другим проявились в ночи и бесшумно двинулись вперед. Метров через сто мы увидели два тела, лежащих на снегу. Степан поднял руку. Группа остановилась, а двое разведчиков — Сашка-Погода и рыжий парень, лет двадцати пяти, имени которого я не знаю, приблизились к трупам.
Боевик лежит на спине, неуклюже подогнув ногу, и сквозь падающий снег смотрит в небо на некстати вышедшую из-за облаков луну, осветившую мертвенным светом небольшую поляну. «Странно, — почему-то подумалось мне, — снег идет и одновременно светит луна». На лбу мужчины чернеет маленькая дырка, оставленная пулей из «Оксанки». Рядом валяется автомат. Второй уткнулся лицом в землю. Он в черной вязаной шапке, из-под которой выбиваются светлые волосы. Рыжий осторожно перевернул боевика на спину. Под ним оказалась снайперская эсвэдэшка.
— Снайпер, — тихо сказал Погода.
— Прибалт или русский, — уточнил рыжий.
— Может, хохол, — сделал предположение Зула.
— Да какая разница! — резким шепотом оборвал Степан. — Забрать документы и оружие, прикопать листьями!
Неожиданно второй захрипел. Пуля попала ему в грудь, но он еще жив.
— Стас! — укоризненно бросил снайперу Степан.
— Виноват, командир. Темно, снег и расстояние приличное. — Стас закинул «Оксанку» за плечи и достал нож, склонившись над боевиком: — Сейчас исправим.
Группа прочесала парк и вернулась к бэтээрам, когда метрах в пятистах из руин стали раздаваться длинные автоматные и пулеметные очереди. Стреляли в сторону бывшего дудаевского дворца.
— Четырнадцатый долбят, — оживился Степан. — По коням!
Четырнадцатый блокпост одиноко стоит посреди огромной площади, на месте снесенного до фундамента после штурмов дворца Джохара Дудаева. С одной стороны «четырнадцатого» — полукруг руин. Из них и стреляют боевики по ночам, а нередко и днем. Степан связался по рации с постом, предупредив, что едут свои, чтобы по нам не открыли огонь. Бойцы спрыгивают с брони еще на ходу, а бэтээры открывают огонь по руинам из крупнокалиберных пулеметов. Боевики обстреливают блокпост со стороны центрального рынка. Красно-желтыми пятнами вспыхивают руины и почти одновременно свинцовые осы с коротким жужжанием проносятся над головами, тупо впиваются в мешки с песком, расплющиваются о бетонные блоки, раздирают встречающиеся на пути деревянные щиты и брус. Пара пуль звонко тренькнула по «Боревару», из которого с глухой яростью, словно захлебываясь матом, долбит крупнокалиберный КПВТ. Раскаленные крупные гильзы сыплются на землю, как зерно из-под молотилки. Со злобным шипением гильзы остывают в снегу. Чуть в стороне хрипло «лает» пулемет «Кондора».
— Давай за броню! — толкает нас с Гусем Погода. Гусь высунул руку с камерой из-за бэтээра и пытается снимать вспышки со стороны руин. Потом переводит камеру на разведчиков, скучившихся за бэтээрами и расстреливающих стены домов из автоматов.
— Карась, — орет Степан Димке Карасеву, у которого за спиной висит гранатомет, — долбани по уродам!
Карасев покопошился с РПГ, выдохнул, выскочил из-за брони, встал, широко расставив ноги, пытаясь прицелиться раньше, чем в него попадут летящие из руин пули. Уши заложило от выстрела, а через секунду в руинах ухнуло.
— Нормально, сразу вдогонку еще раз! — командует Степан.
После второго выстрела из гранатомета стрельба со стороны руин стихла. Степан убедился, что никого не зацепило, перекинулся парой фраз со старлеем, старшим поста, и группа пошла в руины на зачистку. Я попросил Пашку выключить камеру на время: светящийся в «ночниках» зеленый нимб от режима ночной съемки может нас выдать. Да и нет большой необходимости снимать еще одну «проходку» разведчиков. Картинка та же самая, а зрителю, запивающему пивом бутерброды перед теликом, наплевать, где конкретно она снята. Договорились включать камеру по ситуации.
Центральный рынок, откуда шел обстрел и куда сейчас направляются «Ночные призраки», считается одним из самых гиблых мест в Грозном, осиным гнездом боевиков. Сюда даже днем подразделения федеральных войск не заходят без крайней необходимости. Среди многочисленных руин, окружающих рынок, боевикам легко укрываться. Днем здесь торгуют чеченцы, которым некуда с этой войны податься. Продают самое необходимое: еду и предметы гигиены. Но можно заказать и обмундирование. Конечно, и оружие из-под полы можно купить. Между первой и второй войнами, когда Чечня жила «автономно» от России, на рынке открыто торговали оружием и рабами. Здесь можно было купить пленного российского солдатика или любого похищенного с целью выкупа или продажи человека. Торговля людьми процветала на Кавказе с начала девяностых и так или иначе присутствовала даже в советские времена. Большой спрос на живой товар есть и сейчас. И хотя продают невольников не так открыто, по сути, ничего не изменилось. Собственно, об этом мы сейчас и снимаем один из документальных фильмов.
Зашедших на рынок по неопытности или глупости российских солдат нередко убивают. Кто боевик, а кто простой торговец — не отличишь. Часто человек бывает и тем и другим. Ударят ножом солдата или пристрелят в толпе — и готово! Частенько снайперы постреливают из примыкающих вплотную к рынку руин. А бывает, чеченцы солдат в плен уведут, в зиндан посадят, рабами сделают. Или во дворе своем головы отрежут — кровную месть совершат за погибших на войне родственников. Некоторые даже торгуют пленными специально для продажи на кровную месть, как баранами. Их покупают те, кто хочет отомстить комфортно и без риска. Словом, центральный рынок — гиблое место. Когда федералы делают здесь зачистку, то окружают рынок со всех сторон, расставив на крышах руин своих снайперов и подогнав «Уралы» для задержанных. В них увозят всех подозрительных. Как-то днем, в одну из прошлых командировок, мы писали на центральном рынке стендап под прикрытием чеченского ОМОНа. Это было признано коллегами как высшее проявление пижонства и безрассудства.
«Призраки» тенями скользят по пустой площади, пытаясь укрываться за редкими стволами голых деревьев. Главное — добраться незамеченными до разрушенных домов. Теперь даже шепот запрещен. Боевики где-то совсем рядом. Луна снова скрылась за облаками, и снег повалил сильнее. Это хорошо, так нас труднее разглядеть. Наконец группа вошла в руины. Разведчики окончательно слились с ночью и снегом, я вижу только Зулу, который идет рядом с нами, и иногда Степана, то появляющегося, то исчезающего чуть впереди. Мы оказались рядом со зданием, из которого стреляли боевики. Степан отправил двоих разведчиков внутрь проверить. Остальные растворились в темноте, заняв оборону. Боевики оставили нам «подарки». Разведчики сняли две растяжки с гранатами, и мы с несколькими бойцами вошли в помещение. Похоже, раньше здесь был магазин. Степан включил фонарь, прикрывая его рукой. Пошарил тусклым лучом по стенам, испещренным пулями. В углу, возле развороченного оконного проема, темнеет что-то бесформенное. От пятна идет пар и широкие темные разводы. Подойдя ближе, мы увидели человеческие кишки. Видимо, принадлежали они кому-то из стрелявших по блокпосту. Судя по всему, погибших было двое: стена напротив окна была также забрызгана кровью и слизью от внутренностей, а рядом валялись клочья одежды. Ясно, что боевики унесли трупы с собой. Все время, что мы были внутри здания, никто не проронил ни слова. Степан знаками дал понять, что пора двигаться дальше.
Теперь группа не идет, а почти ползет. Низко пригнувшись, разведчики медленно движутся от стены к стене. Я снова потерял из виду всех, кроме Гуся и Зулы, которому, судя по всему, Степан поручил быть рядом с нами. Через какое-то время понимаю, что мы рядом с площадью центрального рынка, в одном из мертвых дворов. Возможно, до войны здесь было уютно. Чернеющие огромными дырами стены домов описывают полукруг, в центре которого когда-то был разбит небольшой палисадник. Падающий крупными хлопьями снег напомнил о приближающемся Новом годе. Стало грустно и тревожно.
Неожиданно прямо перед нами вырос Степан с поднятой вверх рукой, сжатой в кулак. Мы замерли. Тут же откуда-то из снега возник Стас. Теперь, в своем заснеженном снайперском обмундировании, он похож на Деда Мороза с посохом. Только его посох — снайперская винтовка. Стас чем-то встревожен и жестами общается со Степаном. Также внезапно, абсолютно бесшумно, прямо из черноты перед нами появился Погода, напугав нас с Гусем. В то же мгновение мы отчетливо услышали совсем рядом, метрах в десяти от нас, чеченскую речь. Все замерли. Прислушавшись, я понял, что говорят из-за угла стены, возле которой мы стоим. Судя по приглушенным голосам, боевиков человек пять и еще несколько голосов раздаются чуть дальше, ближе к рыночной площади. Мне вдруг подумалось — а сколько их вообще может быть тут ночью в подвалах руин? И под ложечкой в очередной раз противно засосало. Вновь промелькнула мысль — какого… я тут делаю? Ночью, в центре Грозного, на центральном рынке, когда в нескольких метрах за стеной слышится гортанный говор боевиков. Разведчиков — всего шесть человек. Сколько боевиков — никто не знает. Степан знаками что-то нервно обсуждает со Стасом, Погодой и Зулой. Со стороны они походят на группу глухонемых. Опустившись на корточки, я осторожно выглянул из-за угла. Внутри все похолодело. Теперь видно даже силуэты боевиков. Кажется, я смог бы дотронуться до ближайшего из них рукой. Сердце бешено колотится. Только бы они не услышали его стука! Что предпримет Степан? Решит напасть на них? Но что потом? Я стал лихорадочно думать — что делать, если начнется стрельба и мы с Гусем отобьемся от группы? Что, если затеряемся в этих руинах? Я вспомнил кишки убитого боевика и то, что журналистов часто называют стервятниками. Стервятники питаются падалью. Нам приходится снимать много смертей и нам платят за это деньги. Аварии, катастрофы, войны… Чем больше масштаб трагедии, тем ценнее репортерский материал. И многие из нас сознательно идут на риск, понимая, что настоящий рейтинговый материал нередко делается на чьей-то крови. Но часто и сами стервятники попадают в ловушки и становятся добычей. Именно так я сейчас себя и ощущаю — попавшим в ловушку собственных амбиций стервятником.
Я делаю Гусю знак, чтобы тот приготовился включить камеру.
Но неожиданно группа снимается и бесшумно выдвигается в направлении блокпоста. Степан решил не атаковать? Наверное, нас пожалел — думается мне. Если честно, испытываю огромное облегчение. Появилась надежда благополучно выбраться из этого проклятого места. Идти обратно оказалось легче и быстрее. Когда до блокпоста остается метров сто пятьдесят, Степан связывается с кем-то по рации. Потом подходит к нам с Гусем, вполголоса поясняя свое решение:
— «Духов» там человек пятнадцать было. И это только те, кого мои насчитали. Это странно, обычно посты обстреливают маленькими группами, по два-три человека. Значит, уроды что-то затеяли. Вступать с ними в ближний бой было глупо. Неизвестно, сколько их там еще по подвалам сидит. Да и не видно ни хрена, друг друга могли положить. Я дал наводку минометчикам, они сейчас по координатам отработают.
…Внутри блокпоста тесно, накурено и шумно. Сквозь гомон «контрабасов» слышно, как в руинах, где мы были минут десять назад, рвутся мины.
Режется хлеб, льется по пластиковым стаканам водка, ножи вонзаются в жесть консервных банок. Закуска выкладывается на длинный деревянный стол, на котором вырезаны названия городов и имена тех, кому доводилось здесь сидеть. Колян из Владимира, Жека из Питера, Артем из Нижнего Новгорода, Денис из Москвы, Славон из Новосибирска…
Собравшиеся — бойцы блокпоста и разведчики Степана — возбуждены после перестрелки с боевиками и похода в руины. Мощный выброс адреналина, который все испытали, газировкой будоражит кровь, и теперь все разговаривают громко, как стая крикливых птиц. Голоса стали трескучие и ломкие, как тонкий лед на морозе, а движения — резкие и чуть суетливые. Скоро адреналин в крови станет разрушаться и на смену возбуждению придут вялость в мышцах и апатия. Ничего не поделаешь, химия человеческой природы. Затем волной накроет депрессия, которую можно попытаться ненадолго вылечить водкой. Главное — не переборщить. Разведчики рады, что можно немного отдохнуть, перекусить, что не ввязались в бесполезный бой на центральном рынке. Могли бы кого-то потерять. Жизнь землянина и так хрупка, а смерть внезапна. А на войне — и подавно. Наверняка каждый, кто вернулся сейчас из руин, думает, что мог бы и не сидеть уже в этом жарко натопленном месте. Не ожидать своей порции тушенки и водки, а остывать на броне «Боревара» или «Кондора», завернутый в брезент. И то, если бы своим удалось притащить сюда тело. А то еще хуже — «духи» бы над останками поглумились. Или собаки сожрали бы. Думаю об этом и я, вспоминая слова Степана перед выездом: «Если что, я тебя назад не повезу, а прикопаю на помойке…»
Присутствие разведки, в свою очередь, ободряет бойцов блокпоста. С разведкой не так страшно — лихие ребята. Не боятся ночью по Грозному разъезжать на своих «коробочках».
— Всё, сегодня «духи» не сунутся больше, — облегченно выдыхая, говорит один из контрактников, поднимая вверх указательный палец и поворачивая правое ухо в сторону руин, словно настраивая слух на сладкую музыку минометных разрывов. — Слышите? Артиллерия пайку отрабатывает! Правильно все, а то задолбали совсем, суки! Моду взяли — несколько раз в сутки долбить по нам. Без прикрытия уже и поссать не сходишь!
Выпили по одной. И сразу по второй, как водится. Трещит поленьями буржуйка. Горячими толчками спирт гонит кровь по венам, достигает мозга, сокращая в нем кислород. И уже не такой страшной кажется война. И черные дома. И чертово колесо, и трупы в парке рядом с кладбищем, и само кладбище с пиками, и человеческие кишки на полу в руинах. И то, что весельчак Зула, успевший таки отрезать уши у убитых боевиков, теперь размахивает над столом окровавленным пластиковым пакетом, демонстрируя трофеи и белоснежно улыбаясь. Кажется, мы все сейчас где-то на дне Ада. Но сам Ад и сама смерть землянам кажутся менее страшными, когда они выпивают. Может, для того они и придумали алкоголь, чтобы хоть на время изменять свою личность, вырываться из цепких лап сознания, забывать об инстинкте самосохранения и не видеть, что творят с себе подобными.
— Погода, — кричит захмелевшим голосом куда-то в туман сигаретного дыма Димка Карасев, который отличился сегодня точными выстрелами из гранатомета. — Давай, скажи за Жирика!
И Погода, весельчак и балагур, говорит голосом Жириновского:
— Вы думаете, эти контрактники — нормальные солдаты? Это банда алкоголиков, ублюдков и тунеядцев! Дебилы! Негодяи! Всё, я сказал! — постовые гогочут. Рыдает разведка. Ржем мы с Гусем. Жирик получается у Погоды идеально, не отличишь! Ему бы пародистом быть!
— Подонки! Они пропьют все бэтээры, все автоматы, танки и самолеты, эти уроды! Кого вы отправили на Кавказ защищать родину? Этих наркоманов? — продолжает под общий хохот свое выступление Санька.
Минометный обстрел стих, и теперь наверняка далеко над руинами разносится наш безумный смех из одиноко стоящего посреди пустой площади блокпоста, на месте бывшего обкома КПСС, бывшей площади Ленина, бывшего города. Все здесь бывшее…
«Ночные призраки» в городе-призраке», — пришел мне в голову каламбур.
Почему-то вспомнилось, как Погода высказывался про девушек. Он считает их очень кровожадными и жестокими существами. Когда Сашка приезжает в отпуск, некоторые недалекие девушки, узнав, что он воюет в Чечне, часто спрашивают его, сколько человек он убил. Для Погоды это интимный вопрос. Личный. Поэтому отвечает он всегда тоже вопросом: «А сколько у тебя мужиков было?»
Я захотел в туалет и направился к выходу.
— Стой! — бросается за мной старлей, командир поста. — В сортир на улицу не ходить, по нему снайперы «духов» работают. Уже двоих так потеряли. Хуже смерти не придумаешь, чем в сортире. Ночью вообще в него не ходим. Днем-то, чтобы один погадил по-человечески, трое должны прикрывать.
Приоткрыв дверь, смотрю на силуэт деревянного туалета, притулившегося к бетонным блокам. Даже в темноте видно, что он похож на дуршлаг или на изъеденное термитами дерево, которое вот-вот рухнет.
— Вон ведро, дуй в него, — показывает старлей.
Минут через тридцать разговоры стихли. Все сидят, уставившись кто в стакан, кто в изрезанный географией российских городов стол. Апатия, пришедшая на смену возбуждению после короткого боя, накрыла удушливой, прокуренной волной тесное помещение блокпоста. Понемногу все стали трезветь, возвращаясь в реальность после краткосрочного отпуска в беззаботный параллельный мир, пропуском в который обычно служит водка.
Разведка засобиралась на базу. Постовые загрустили как хозяева, которым не хочется отпускать желанных гостей. За бетонными блоками взревели «Боревар» с «Кондором».
* * *
Вот бывало в студенчестве: хочешь купить новые ботинки. Мечтаешь о них. Купил — нравятся, радуют. Нюхаешь новую кожу, гладишь. А поносил немного — жмут. Ноги в кровь стирают. Также и с девушками. Девушки, конечно, не ботинки, но принцип тот же. Я вдруг понял, что наши с Настей отношения, легкие и беспроблемные, со временем будут жать, как обувь, которая никогда не притрется к ногам. Всегда будут кровавые волдыри. Прорвавшись, они принесут временное облегчение, но стоит снова надеть ботинки, станет еще больнее. Мы с Настей очень разные и живем в параллельных мирах. Ведь интересно нам было только в постели, а после ду́ша мы снова превращались в инопланетян, говорящих на разных языках. За прошедшие неполные две недели я звонил ей всего пару раз. Это были разговоры ни о чем. О погоде, шмотках, которые она купила или собирается купить. О том, куда сходила, что поел ее йоркшир, чем погадил и что нового случилось в жизни знаменитостей. Надо сказать, о своем муже-банкире она всегда говорит гораздо меньше, чем о йоркшире Тони. Точнее, о муже она вообще никогда не говорит. Ни плохо, ни хорошо, как о покойнике. Его как будто и нет вообще. Настя относится к нему со спокойным уважением, как к железному станку, печатающему деньги.
Ольга стала появляться на базе почти каждый день. Как-то она показала мне на довоенной карте города улицу и дом, где живут они с матерью. Раньше улица называлась Фонтанной. Теперь ее сложно найти. Со съемочной группой мы каждый день колесим по Чечне и Грозному, снимая материалы для «Новостей» и очередного документального фильма, но ни разу не получалось заехать к Ольге домой. Я решаю обязательно сделать это в ближайшее время. Мне очень хочется увидеть, как она живет.
В комендатуру Ольга приходит помогать матери и заходит ко мне поболтать. Если мне не нужно срочно готовить сюжет или выходить в эфир, мы с ней идем гулять. Прогулки наши обычно проходят вдоль бетонного забора, избитого пулями. Забор — это сто метров обшарпанных плит, отделяющих вагончики журналистов от небольшой площади перед Домом правительства. Замерзнув, отправляемся пить чай в наше журналистское жилище. Тогда Гусь с Иваном деликатно уходят к флайвейщикам или соседям с других каналов, предварительно сняв с веревки сохнущее белье и одежду.
Я стал замечать, что жду этих встреч. Что хочу чаще видеть Ольгу рядом, чувствовать запах ее кожи и любоваться идеальными завитками ушей. Выяснилось, что нам нравятся одни и те же писатели, художники и старые фильмы. Правда, оказалось, Ольга не знает ни одной современной кинокартины. Откуда?
— В Грозном вот уже семь лет показывают только один фильм — про войну, — горько шутит она.
От страшных мыслей и тоски Ольгу спасала и до сих пор спасает домашняя библиотека, которую всю жизнь собирал ее дед-филолог. Эту библиотеку, как и многие вещи своих родителей, мать Ольги перевезла в Грозный после продажи московской квартиры. Книги, среди которых есть и весьма редкие, были особой гордостью деда. Среди них попадаются экземпляры начала восемнадцатого и даже конца семнадцатого века. В разделе художественной литературы Ольгин дед собрал лучшие произведения самых достойных, по его мнению, писателей мира. Ему очень хотелось, чтобы его внучка все это прочла. Так и получилось. Все восемь лет войны и до сегодняшнего дня, когда мы сидим с Ольгой в нашем вагончике в декабре 2002-го, книги из дедовской библиотеки были ее единственным развлечением и утешением. Она читала, чтобы не сойти с ума. Сначала от ужасов первой войны, затем от кошмаров второй.
Читая книги деда, Ольга может хоть ненадолго вырываться из Ада, в котором живет. Книги служат ей проводниками в другую реальность, другой мир, где есть любовь, красивые города и добрые люди, где совершаются благородные поступки и не надо бояться за свою жизнь и жизнь матери — единственного по-настоящему близкого ей человека на Земле. Благодаря книгам Ольга поняла, что где-то, возможно, не так уж и далеко, кроме Ада, существует и Рай. Для Ольги Рай — в первую очередь безопасность. Довоенная жизнь уже стирается в ее памяти. Она кажется ей сном. Будто и не было никогда ничего, кроме проклятой войны. Кроме руин, страха и смерти вокруг.
Когда началась первая чеченская, Ольге было семнадцать. Она окончила школу и собиралась стать дизайнером. Параллельно успела с отличием окончить художественную школу. Писала в основном пейзажи. Но дизайн стал ее особенной страстью. Поначалу Ольге хотелось придумывать одежду, и в Грозненском доме моды даже выпустили две коллекции по ее эскизам, имевшие успех. Французские модельеры, присутствующие на показе, отметили ее коллекции специальным призом. Но позже Ольга переключилась на дизайн интерьеров. Она мечтала создавать самые красивые в мире дома и квартиры. Много общалась с преподавателями местного университета, готовясь поступать на дизайнерское отделение. Скупала в книжных магазинах и киосках все журналы про интерьер, некоторые книги ей присылал отец из Москвы.
А потом пришла война. Ехать им с матерью было некуда. Ольга Ивановна категорически отказывалась принимать помощь от бывшего мужа. Надеялись, вот-вот все закончится. После первой войны, с 1996 по 2000 год, когда Чечня получила так называемую независимость и в республике возникла тотальная безработица, мать с дочерью стали ездить вместе с соседями в Моздок за продуктами. С копеечной наценкой продавали их на центральном рынке в Грозном. Этот период для Ольги с матерью не был мирным. Им приходилось выживать. Обстановка оставалась военной.
Позже, уже во вторую войну, Ольге Ивановне удалось получить работу в Доме правительства. А Ольга стала ей помогать и иногда подрабатывала проводником и переводчиком у журналистов, стаями стервятников слетающихся со всего мира на войну.
— И все-таки у Мунка не солнце, а луна написана в картине «Девушки на мосту», — Ольга подняла голову вверх, пытаясь отыскать в еще светлом небе бледно-золотой диск.
— Почему ты так решила? — Я тоже посмотрел на небо. Мне не хочется, чтобы луна появлялась. С темнотой наступает комендантский час и Ольге придется ехать в руины.
— Это не я решила. По этому поводу много спорили искусствоведы. Мне ближе версия в пользу луны. Она самая логичная. Я прочитала в какой-то дедовской книге, что в своих письмах Мунк называл эту картину «Летняя ночь». Все же очевидно, если ночь — значит, там луна! И чего из-за этого так спорят?
— Почему же луна у него не отражается в воде?
— Просто забыл написать. Или с того места, где он стоял, она не отражалась. Часто все в жизни гораздо проще, чем кажется. Но люди любят придумывать тайны, — она морщит нос и улыбается.
За ее кротким на первый взгляд нравом скрывается импульсивная и чувственная натура. Ольга оказалась большой спорщицей, готовой горячо рассуждать о том, оказало ли, например, творчество Кортасара влияние на романы Маркеса и что общего у обожаемой ею золотой латиноамериканской тройки писателей, включая Борхеса. Она утверждает, что ее любимый «Доктор Живаго» Пастернака стал бы еще в два раза лучше, будь роман вдвое короче. Иногда она слишком бескомпромиссно отстаивает свое мнение. В такие моменты я вижу, как в ней просыпается кровь отца-чеченца.
— Леонардо Да Винчи был в первую очередь гениальным художником, изобретения — лишь хобби. А многие из них вообще ему приписывают, — будто лекцию читает Ольга, истосковавшаяся по любым разговорам, не связанным с войной и поиском продуктов.
Мне не хочется с ней спорить. Пользуясь возможностью, любуюсь чудесными завитками ушных раковин.
— В улыбке Моны Лизы, по-моему, нет никакой загадки, — продолжает Ольга, — И чего все так переполошились из-за этого! Вполне себе обыкновенная, счастливая женщина, которая просто тихо радуется, что ее пишет знаменитый Да Винчи! Может, он смешил Джоконду, рассказывал веселые истории или флиртовал с ней, пока ее муж торговал шелком у себя лавке!
Если я и спорю, то делаю это только для того, чтобы немного позлить Ольгу. Тогда можно увидеть, как в этой девушке борются два начала. Как чеченская ее кровь сражается с русской. Кротость и скромность уживаются в ней со взрывным характером, который сама хозяйка пытается сдерживать, словно дикого скакуна. В такие моменты она особенно прекрасна.
— Ты слишком самоуверен и считаешь, что во всем прав! — говорит она. Ее щеки и прекрасные уши залил алый румянец, а ресницы слегка подернулись инеем. Кончик носа тоже немного покраснел, и от этого она кажется по-детски трогательной. Я вижу, что Ольга замерзла, и мы идем в вагончик греться чаем. А там уже продолжаем наши споры. О том, какое мороженое вкуснее, какие блюда лучше в русской кухне, а какие в кавказской, есть ли во Вселенной инопланетяне и писал ли Моне все свои лондонские пейзажи с натуры или дописывал уже по памяти в Париже? Как будто ничего важнее этого нет среди страшных руин, в которые ей все-таки придется вернуться после наших ничего не значащих споров.
Повадки дикого Маугли органично сочетаются в ней с манерами утонченной, образованной девушки, воспитанной даже старомодно, словно занесло ее сюда из конца девятнадцатого века. Выросшая в сплетении двух религий и разных культур, она при свечах и под звуки падающих бомб читала Чехова, Стендаля, Кафку, Бальзака, Бунина, Булгакова. Изучала редкие фолианты из коллекции деда, ища в них защиты и спасения. При этом Ольга совершенно не ориентируется в современной жизни. Война научила ее выживать в руинах. Ценить простые вещи: хлеб, соль, воду. Прятаться от бомб и мародеров. Но некоторые ее суждения по-детски наивны. У нее никогда не было мобильного телефона, потому что в середине девяностых, когда началась первая чеченская, они были роскошью, а потом в зоне боевых действий мобильной связи и вовсе не стало, нет ее и сейчас. Тогда же она перестала смотреть телевизор — в городе, похожем на разбомбленный Сталинград, нет телевидения. Разумеется, у Ольги нет компьютера, и об Интернете она знает лишь понаслышке.
— Говорят, в Москве сейчас такие пробки, что можно несколько часов в них простоять и никуда не сдвинуться. И что пешком ходить там быстрее, чем ездить на машине. Я не представляю, как это. Я помню Москву совсем другой: широкие проспекты, свободные дороги. Еще «Детский мир» хорошо помню. Мы с дедом часто туда ходили, и он мне всегда что-нибудь покупал. Там еще на входе огромный зеленый крокодил был и доктор Айболит. Айболит лечил крокодила. А еще мороженое помню, эскимо, мое любимое. Когда с мамой в Моздок за продуктами ездили, иногда покупали, но оно совсем другое. Еще помню метро и как оно пахнет — железной дорогой. Я всегда любила метро. Помню, как дед с бабушкой запрещали мне браться там за поручни и каждый раз драили мне руки, когда мы возвращались домой, и дезинфицировали меня какими-то лосьонами. От меня потом долго пахло поликлиникой на весь двор, — Ольга снова улыбается.
А я думаю о том, что приближается комендантский час и ей надо возвращаться в руины. И снова мне становится стыдно перед ней за то, что ночуем мы по разные стороны «баррикад». Я на базе в относительной безопасности, а она за облупившимися и дырявыми от пуль «вратами Ада». Снова мне не хочется отпускать ее с молчаливым, хмурым Рустамом.
— А Рустам — он всегда такой молчаливый и мрачный? — спрашиваю я.
— Это он с незнакомыми людьми такой настороженный, — веселость слетела с лица Ольги. Вопрос о Рустаме напомнил ей о возвращении в руины, и я тут же пожалел, что задал его. — Вообще, он ребенок еще, ему шестнадцать всего. Но считает себя мужчиной.
— А как же машину водит? Права откуда? — задаю идиотский вопрос.
— Да какие здесь сейчас права? Отец и старший брат его погибли. Как — не знаю. Еще один брат, средний, кажется, в России. Рустам живет с матерью и двумя сестрами, они торгуют на рынке. Мы живем в одном подъезде. Когда он был маленьким, его бабушка часто просила меня приглядывать за ним во дворе. Он мне почти как младший брат. Семья у них была большая и очень приветливая, всегда помогут. Машина у Рустама от отца осталась, на ней товар возит. И меня заодно по-соседски.
— По-соседски? Мне показалось, смотрит он на тебя как-то иначе.
— Да что ты, говорю же, он ребенок совсем, я старше его на восемь лет! Хотя чеченцы и быстро взрослеют, — Ольга краснеет, — соседи здесь помогают друг другу. В нашем доме всего пять семей живет. Так вот Рустам — единственный мужчина.
Перед тем как проводить Ольгу, отдаю ей тексты нескольких новостных сюжетов, которые уже вышли в эфир, для того чтобы она перевела их на чеченский. Я вру, что наш телеканал сотрудничает с некоторыми газетами, выходящими на чеченском языке. Знаю, просто так она деньги ни за что не возьмет. А привлекать ее в качестве проводника передумал. Это неудобно для нас и может быть опасно для нее. Ольга оказалась очень педантичным и ответственным в работе человеком. Возвращая тексты, каждый раз уточняет множество деталей, спрашивает, можно ли изменить ту или иную фразу для большей корректности перевода. Я прошу не напрягаться, ведь «текст еще будет отредактирован в газетах». Плачу ей честно заработанный гонорар. По ее глазам вижу, что деньги им с матерью крайне нужны. Затем, когда Ольга уходит, прячу ее труды на дно своей большой черной спортивной сумки, с которой езжу только в Чечню.
Как-то Ольга пришла позвонить отцу вместе с Ольгой Ивановной. Они согласовали отъезд в Москву, назначив его на середину января. Это уже совсем скоро, осталось меньше месяца.
— Я волнуюсь немного по поводу отъезда, — говорит Ольга. — С одной стороны, Москва — мой родной город, с другой — я выросла в Грозном и совсем не представляю себе, как буду жить в Москве и чем заниматься.
— Будешь заниматься дизайном, чем угодно. Отец, в конце концов, что-то посоветует. Все лучше, чем здесь.
— Да, наверное, — Ольга неуверенно улыбается.
Мы попрощались с ней, как всегда, за воротами, на маленькой площади. Пожилые чеченки уже свернули прилавки с товаром и теперь гортанно покрикивают друг на друга. Все торопятся успеть домой до комендантского часа. Ольга привычно исчезла в грязно-белой скорлупе тонированной «шестерки». А я, глядя вслед удаляющейся машине, понимаю, что с каждым разом мне все труднее отпускать ее от себя.
* * *
В ТВ-юрте очередная пьянка. Наши соседи — съемочная группа одного из телеканалов — отмечают «дембель». Завтра приезжает их смена, а они возвращаются в Москву. «Официально» телевизионщики проставляются дважды: когда приезжают в Чечню и когда заканчивается срок командировки. Еще поводом может послужить эксклюзивный репортаж, за который похвалило руководство. Но поскольку здесь постоянно кто-то приезжает или уезжает, а репортажи выходят каждый день, то знаменитый стол под навесом накрывается регулярно. Когда важного повода все-таки нет, пьют просто так. Без повода.
Обычно на «официальные», большие пьянки приглашается весь ТВ-юрт и «зеленые человечки» из знакомых. Так журналисты называют военных за цвет камуфляжа.
Мы с Иваном и Пашкой готовимся к завтрашним съемкам. Иван собрал чистые кассеты, поставил на зарядку аккумуляторы. Пашка проверяет камеру. Я составляю график съемок, изучаю по карте район, в который поедем, набрасываю в блокнот тексты стендапов. Москва заказала сюжет о том, как живут мирные жители, оставшиеся в городе. Я думаю, что это хороший повод заглянуть в гости к Ольге. Но сначала надо заехать в штаб группировки федеральных войск на Ханкалу, записать дежурное интервью с военными об обстановке.
Мы присоединяемся к общему веселью, когда между Лехой Седовым, здоровенным оператором, и маленьким сержантом-контрактником завязался спор. Начал его «зеленый» человечек. Он кричал что-то вроде: «Все журналюги продажные твари, которые работают на «духов»». Все это он стал выкрикивать после того, как вдоволь наелся и напился за нашим столом. Кто он такой и кто его пригласил, никто не знает. Скорее, сам затесался, на халяву. Все недоуменно переглядываются. Леха пытается урезонить человечка, но тот только больше распаляется от спокойных аргументов оператора. Наконец контрактник попытался достать Лехино лицо кулаком. Но Леха проворно увернулся и схватил «зеленого» человечка одной рукой за воротник куртки, а другой — за ремень. Сделав рывок, поднял над головой. Постоял секунду как штангист, фиксирующий взятый вес, и грохнул контрактника об землю. Тот затих. Все сразу о нем забыли и снова стали пить, но минут через десять человечек очухался. Видимо, от мороза. Он вдруг резко вскочил и, визгливо вскрикнув: «Всё, хана вам всем!», вприпрыжку побежал в сторону расположения роты.
— За автоматом рванул, — догадался кто-то из военных, и пара «зеленых» бросилась следом.
Чуть в стороне коллеги готовятся к прямому включению на Москву. Они попросили не шуметь. Я подумал — интересное получится шоу, если этот маленький, злобный, пьяный зеленый человечек вернется с полным боекомплектом и начнет расстреливать всех из автомата в прямом эфире.
Вернулись военные, погнавшиеся за контрактником. Опасения были не напрасными. Сержант был настигнут в момент, когда уже схватил автомат и набивал карманы гранатами. Оружие у него отобрали. Конечно, сильно избили и привязали к кровати до утра. У коллег началось прямое включение, корреспондент Захаров рассказывал об обстановке в Чечне. Под навесом продолжали выпивать. Вскоре мы вернулись к себе и легли спать, но через пару часов на улице снова началась какая-то возня. Я подумал, что отвязался от кровати сержант, но дело было в другом. Оператор Зуйкин, в прошлом боксер, о чем-то поспорил со своим видеоинженером Пауковым и сломал ему челюсть. При этом все суетились вокруг еще одного корреспондента, перебравшего водки и, по общему мнению, умирающего. Имени его никто не знал, он был из новеньких, в Чечне первый раз и, видимо, еще не изучил свою норму. Либо паленая осетинская водка так повлияла на неподготовленный организм. В госпиталь по ночному Грозному, ясное дело, никто его не повезет. По всему видно, что у новенького острая алкогольная интоксикация и без медицинской помощи он может и вправду загнуться. Вот так бесславно, не от злой чеченской пули, а в собственной блевотине из кильки и тушенки. Стали искать врача. Наконец пришел пьяный военный фельдшер Серега, который долго искал у корреспондента вены, чтобы поставить капельницу с гемодезом для очистки крови.
— Вены говно, — авторитетно заявил фельдшер после двух неудачных попыток попасть иглой в кровеносный сосуд, причинив «умирающему» еще больше страданий, — у него их вообще нет.
— Как же нет? — удивился какой-то техник в крупных очках, работающий на дециметровом канале. — Вены есть у всех, по ним кровь течет!
— А у него нет! — сказал фельдшер и сделал еще одну попытку, на этот раз удачную.
Минут через сорок больной стал приходить в себя. На коротком стихийном собрании было решено: в Москву доложить, что видеоинженер Пауков, которому Зуйкин сломал челюсть (кстати, они лучшие друзья), упал с бэтээра. Так он еще и страховку получит. Отравившемуся с непривычки корреспонденту надо пару дней отлежаться. Поэтому, чтобы Москва его не доставала, завтра необходимо сообщить на его канал, что корреспондент с группой героически уехали вместе с зелеными человечками в горы искать боевиков. На том и порешили.
Что делается в ТВ-юрте, здесь и остается. Однажды от нашего телеканала пытался доехать до Грозного с проверкой один чиновник. Посмотреть, как тут дела с дисциплиной и расходованием командировочных денег. Долетев до Минвод, посмотрев на бородачей да на местный колорит, он, не выходя из здания аэропорта, взял обратный билет и на том же самолете вернулся в Москву. Больше проверок не было.
Наконец в ТВ-юрте наступила тишина. По традиции все помолились: «Спасибо, Господи, что дал нам прожить еще один день» и «Дай Бог, чтобы всегда наши потери были такими, как сегодня». Это имелись в виду сломанная челюсть видеоинженера Паукова и отравление водкой новенького корреспондента. Завтра все разъедутся по своим заданиям. Репортажи из мест, где люди убивают друг друга, на Планете всегда выходят в эфир первыми. Земляне ждут кровавых подробностей.
* * *
Вертушка догорала на земле, когда мы к ней подскочили. Ясно, что из экипажа никто не выжил. Треском сухих поленьев взрываются патроны из боекомплекта. Второй сбитый вертолет не видно, он упал за многоэтажками, на окраине Грозного.
Мы уже подъезжали к Ханкале, где располагается штаб группировки федеральных войск, чтобы записать интервью с военными об обстановке, когда сразу две ракеты ударили по находящимся в воздухе где-то над Октябрьским районом Грозного вертолетам «Ми-8». Один из них пытался дотянуть до аэродрома, но рухнул факелом недалеко от нас и взорвался, развалившись на куски.
Пашка Гусев снимает «с плеча» догорающую машину, пока Иван возится со штативом. Чеченец Юсуф, машину которого мы арендовали сегодня, боязливо смотрит в небо, где показались два боевых «крокодила». Со стороны траншей, окружающих ханкалинскую базу, к нам бегут двое военных в касках. Они что-то кричат и машут руками, одновременно пытаясь придерживать тяжелые армейские бронежилеты, которые почему-то не застегнуты, а просто накинуты сверху и при беге бьют им по яйцам. Ноги военных вязнут в жирной и липкой, как трясина, чеченской грязи. Я понимаю, что нам хотят испортить эксклюзив, и говорю Гусю, чтобы торопился, наснимал как можно больше планов. А Ивана прошу приготовить на всякий случай «левую» кассету, чтобы отдать федералам вместо той, на которую идет съемка, если будут отбирать. Мы всегда так делаем.
«Крокодилы» отстреливают тепловые ракеты на случай, если боевики ударят из ПЗРК и по ним тоже. Ракетными залпами боевые машины выжигают «зеленку» перед аэродромом, в которой могли прятаться боевики, сбившие вертушки. Только в декабре вместо цветущей зелени — заснеженные холмы, сухие кустарники да голые деревья алычи. Один за другим пилоты двух «рептилий» заходят на курс, вымещая на клочке земли всю бесполезную теперь злобу за погибших товарищей. Ракеты огненными смерчами вздымают комья грязи, вырывают с корнями деревья. Трещат пулеметы, выбивая свинцовым ливнем грязно-белые фонтаны.
Наш водитель Юсуф — чеченец, которого рекомендовал Лема на сегодняшний день вместо себя, как человека надежного, что-то кричит мне и показывает пальцем вверх. Теперь я вижу, что один из вертолетов изменил курс и заходит прямо на нас. Смотрю на треногу, на которой Гусь уже установил камеру. Объективом он целится в вертолеты. И тут до меня дошло. Вертолетчики приняли нас за боевиков с ракетой, увидев направленную на них какую-то хрень на треноге. Один оператор нашей телекомпании уже погиб таким образом. Его по ошибке расстреляли с воздуха федералы.
Вертолет зашел на боевой курс и теперь, резко снизившись, несется к нам. Понял все и Иван. Не сговариваясь, мы сбиваем Гуся вместе с камерой и штативом, тащим к обочине, к заваленной снегом траншее, местами поросшей сухим бурьяном. Юсуф бросается прочь от своей синей «семерки». Оборачиваюсь — вертолет несется так низко, что сквозь стекло кабины видно бледное лицо пилота. На нем играют желваки размером с кулак. Оглушив шумом винтов и пулеметным треском, подняв метель, «крокодил» промчался прямо над нами, затем стал набирать высоту, делая новый заход.
Вдруг совсем рядом из снежной пыли донесся отчетливый, невероятно затейливый русский мат. По шкале матерной «этажности» или по десятибалльной я оценил его на твердую десятку. Прозвучавшая фраза заняла бы достойное место в коллекции любого филолога-фольклориста. Это наконец-то добежали до нас со стороны штаба двое военных. Они с разбега ухнули в траншею, едва не упав на камеру, которую Гусь в крайний момент прижал к груди.
— Передайте дельфину, это карандашики! Это карандашики, сообщите дельфину! Отставить стрельбу! — кричит в рацию один из военных, капитан.
Тут же над головами пронесся вертолет, обдав новой порцией снежной пыли. Я успеваю отметить странные несостыковки: пилот вертолета, модель которого за профиль прозвали «крокодилом», почему-то носит позывной «дельфин». Карандашики, понятно, мы. Так в радиоэфире военные обычно называют солдат и иногда журналистов.
— Вы откуда взялись, мудаки? — капитан дышит тяжело, как конь на скачках, пытаясь сбросить с сапог огромные комья грязи, но чеченская грязь — особенная, прилипчивая, просто так от нее не отделаешься.
— Оттуда, — я махнул рукой в сторону Грозного, пропустив «мудаков» мимо ушей.
— А куда?
— Туда, — показываю в сторону Ханкалы. Но военный меня понял. — Так это вас ждут на КПП? А какого хера здесь делаете?!! — орет капитан.
— Работаем, — я пожал плечами.
— Значит, так, — капитан почему-то неожиданно успокоился. Видимо, оттого, что ему удалось-таки сбросить огромные куски глины, кандалами висевшие на его сапогах, — собрать мне все документы, аккредитации, что там у вас еще, и кассету сюда из камеры!
Я смотрю на Ивана, он чуть заметно кивнул. Значит, кассету успели поменять, молодцы. Чтобы не возникло подозрений, начинаю канючить:
— Кассету мы не можем отдать, это собственность компании.
— Товарищ капитан, а может, мы их здесь грохнем, по-тихому, в окопчике, раз они такие умные? — подключился к разговору второй военный — сержант-контрактник.
— Да я бы с радостью, только в штабе в курсе, что они подъехали, — отвечает капитан. — Кассету сюда, и мы ведем вас в штаб! Генерал ждет.
— Ладно, отдай, — говорю я Гусю. Тот достал из камеры кассету с подборкой песен из индийских фильмов, протянул капитану. Обычно в качестве «левых» кассет мы берем бракованные и подлежащие утилизации копии из архива.
Юсуф, целый и невредимый, но весь в снегу, ковыряет пальцем дыру в крыше машины. Как раз над местом водителя. Еще две пули пробили левое крыло, но колеса остались целы. Он огорченно цокает языком и что-то бормочет на чеченском.
— Прости, друг, — говорю я ему, — постараемся компенсировать.
Генерал встретил нас с нескрываемым равнодушием. Он похож на большую старую черепаху, которую разбудили и вытащили из аквариума. Красные от бессонницы, навыкате, глаза слезятся в уголках, и генерал постоянно промокает их сжатой в кулак ладонью. От этого может показаться, что генералу жаль погибших вертолетчиков и он плачет. Минут тридцать он давал нам интервью. Рассказывал об обстановке в Чечне. Только что сбитые вертолеты никак не укладывались в его доклад, который он добросовестно выучил наизусть заранее. Более того, сгоревшие вертушки портили статистику, и генерал постоянно запинался, как школьник, плохо знающий урок, пытаясь объяснить случившееся своими словами. Из-за этого нам пришлось писать много дублей. Выяснилось, что в вертолете, который мы успели заснять, вместе с пилотами было девять человек. Во втором, упавшем за домами, — четверо. Все погибли. Тринадцать жизней оборвались за считаные секунды.
Генерал уже в том возрасте, когда некоторые военные могут завидовать ровесникам — сослуживцам, геройски ушедшим молодыми, не познавшим морщин, импотенции и подагры. Конечно, вряд ли он хотел бы оказаться в тех вертолетах, но производит впечатление человека, уставшего от жизни. Кажется, его уже мало что интересует, как если бы все хорошее осталось в далеком прошлом. И теперь он ничего не ждет и не просит у судьбы, доживая свой век, как сухой клен во дворе, почерневший от времени и солнца. И желает он, пожалуй, только одного: достойной смерти. Закат жизненного пути для генерала важен, как когда-то были важны ее восход и зенит. В пьесе, как известно, больше всего запоминается финал. От того, какими будут финал и занавес жизни, зависит, какую память оставит каждый после себя. Стихи поэта, трагически ушедшего на взлете, всегда более ценны для людей, чем произведения тех, кто познал руки сиделок и раздражение нетерпеливых родственников, ожидающих наследство. Кроме того, платой за долголетие нередко является маразм, и окружающие запоминают о человеке последнее — измененное сознание личности, которую они когда-то любили и которой восхищались. Личности, искореженной разочарованиями и болезнями, несбывшимися надеждами, испорченной славой и деньгами или их отсутствием. Личности, находящейся в плену высушенного временем кожаного мешка, усыпанного маргаритками смерти. Да, определенно, генерал устал. Если бы он мог выбирать, то наверняка выбрал бы почетную смерть в бою, а не в собственной кровати, где его могут найти обмочившимся и с перекошенным ртом.
Наверное, то единственное, что еще поддерживает в генерале силы и дает ему ощущение своей нужности, — это ВОЙНА.
Мы возвращаемся на базу. Совсем рядом — Октябрьский район Грозного, где живет Ольга. Но надо срочно перегнать в Москву картинку о сбитых вертушках, и я решаю заехать к Ольге завтра. Юсуф крутит баранку. Сквозь дыру, оставленную крупнокалиберным пулеметом в крыше его «семерки», видно серое небо. Я думаю о том, как выстроить репортаж, какие фразы генерала вставить в него из синхронов. «Эксклюзив нашего канала», — объявят ведущие в начале новостного выпуска. Наверняка он снова пойдет первым номером. О смерти в «Новостях» всегда говорят в начале. А о жизни вообще почти не говорят. Разговоры о жизни не повышают рейтинг. Из этого я делаю вывод, что смерть для людей важнее и интереснее жизни. Например, рождение младенца никогда не станет главным информационным поводом. Только если он будет отпрыском какой-то знаменитости или настолько уродлив, что уродство его можно будет сравнить со смертью. Его покажут, если у него три головы, пять рук или шесть ног. Конечно, в голосах ведущих будет читаться сочувствие, но все будут понимать: сюжет о малыше показывают в «Новостях» первым номером лишь потому, что он страшно уродлив. А это пробуждает в людях первобытное любопытство. Почти такое же, как чужая смерть, когда толпа собирается вокруг тела несчастного.
Материал, который мы сегодня отсняли, редкая удача для журналиста. Первым оказаться на месте события, записать интервью с очевидцами, снять как можно больше планов. В этом и состоит работа репортера. Хорошо, если кто-то кричит или рыдает в кадре, эмоции цепляют народ. Но по погибшим пилотам плакать сейчас некому. Разве что генералу. Или у него просто конъюнктивит? Может, не выспался и поэтому тёр свои красные черепашьи глаза? О пилотах плакать будут родные где-то в российской глубинке. А меня руководство, конечно, похвалит. Может, и премию дадут. Потому что рвущийся боекомплект в догорающих вертушках на крупных планах — это круто. Такое мало кто снимал. Или вообще никто. Я думаю о том, на что потрачу свою премию, если получу ее, и еще раз смотрю на дыру в крыше машины. А ведь могли бы и нас тоже. Свои же, по ошибке. Вот бы материал был коллегам!
Продолжая мысль, словно вытягивая ее из рваной железной дыры, в которой виден кусок серого, унылого неба, думаю о том, что смерть одних дает пищу другим. Не только журналистам: работникам кладбищ, наследникам, военным, ученым, изучающим старение человеческого организма, фармацевтам, изобретающим и торгующим лекарствами. Чем больше людей умирает от какой-то болезни, тем выше прибыль фармацевтов, разрабатывающих и продающих лекарство от нее.
Да и вообще, на Земле до сих пор хватает еды и воды живым лишь потому, что ежедневно в мире умирают более 160 000 человек. Это как-то уравновешивает баланс жизни на Земле — ведь рождается людей ежедневно в два раза больше. Выходит, все живущие — стервятники, существующие благодаря умершим?
Я совсем запутался в своих размышлениях, когда мы подъехали к базе. Посоветовавшись с Гусевым и Севрюгиным, решили компенсировать Юсуфу ремонт машины из «непредвиденных расходов», выданных на командировку. Юсуф повеселел.
Голубые, с облупившейся краской и дырявыми красными звездами, ворота распахнулись, приняв нас из Ада в недра условного оазиса безопасности. Справа мелькнули голый каштан и бывшие продовольственные склады, превращенные в казармы.
У вагончиков ТВ-юрта околачиваются Вермут с Вискарем и вчерашний перепивший корреспондент. Он ищет водку. Судя по всему, его мучают похмелье и совесть одновременно. Корреспондент назвался Виталиком и заискивающе поинтересовался, что нам удалось снять.
— Синхрон с главным мировым террористом, которого ищут все спецслужбы мира, представляешь себе? — спросил его Гусь.
— Теоретически, — ответил Виталик.
— Так вот: это полное говно по сравнению с тем, что мы сегодня сняли! — заключил Гусь и гордо зашагал в сторону нашего жилища. Вообще, это старая шутка, на которую давно никто не клюет, но на новенького Виталика она произвела впечатление.
…Сюжет о сбитых над Ханкалой вертолетах действительно прошел первым номером в праймовом девятнадцатичасовом выпуске. Повторяли его весь вечер. Кроме того, в каждом выпуске пришлось еще «прямиться». Снова я рассказывал Вермуту с Вискарем — моей самой преданной аудитории, поскуливающей под навесом, — очередную грустную историю под звук дизельного генератора. На этот раз о погибших вертолетчиках и офицерах, оказавшихся на борту.
Как-то само получилось, что собаки стали постоянными участниками моих прямых включений. Они чувствуют, что нужны мне в этот момент. Кроме того, это стало для них развлечением. Слушать сводки последних событий в Чечне Вермуту с Вискарем нравится не меньше, чем лакать водку с Петровичем, гонять кошек или отыскивать кротовые норы. Как только начинает чихать дизель и зажигается свет «пятисотки», псы — где бы они ни были и чем бы ни занимались — устремляются на площадку рядом с навесом. Садятся около Гусева — справа от штатива, на котором стоит камера, и внимательно смотрят на меня. Они никогда не позволяют себе лаять во время прямых эфиров, лишь тихонько поскуливают, словно переживая за происходящее.
Вечером пришли Стас и Зула. Я не видел их неделю. Выяснилось, что все это время они были в рейде со Степаном в горах вместе с фээсбэшниками. Степан остался отсыпаться в казарме, место расположения которой не знаем даже мы.
В подробности этого рейда разведчики нас не посвятили, только Зула, скалясь белоснежными резцами, продемонстрировал пластиковый пакетик с тремя парами окровавленных ушей. Совсем не похожие на морские раковины, просто грубо отрезанные куски человеческой плоти с торчащими хрящами.
— Вот трофеи, — сказал Зула, потрясая пакетом, — с рейда. Не успел еще высушить, свежие совсем.
— На хрена ты их сюда притащил? — спросил я.
— Да так просто, вам показать, — Зула снова заулыбался. — А чё такое? Хотите, снимите, по ящику покажете. Но лучше потом всю коллекцию, все сто штук. Мне немного совсем осталось, скоро закончу.
— Чурка ты косоглазая, — привычно говорит Стас своему другу. — По какому ящику такое можно показывать?
Зула пожал плечами и скромно присел на табурет в углу. Затем достал моток лески, длинную, кривую сапожную иглу и стал нанизывать на леску уши.
Мы рассказали про сбитые боевиками вертолеты. Разговор привычно пошел в метафизическом направлении: о жизни, ее смысле и скоротечности. Эти темы здесь возникают сами собой.
— Вот вертолетчики сегодня думали, наверное: «Сейчас на базу вернемся, чайку попьем или чего покрепче. Письма домой напишем, за жизнь поговорим», ну вот, как мы сейчас с вами, — задумчиво рассуждает Гусь, — а только «духи» — на тебе, зафигачили из ПЗРК, и ни тебе чая, ни писем. Один пепел.
— Эти вот тоже вряд ли вчера думали, что сегодня я их уши мариновать буду, — отзывается из своего угла Зула, протыкая очередное ухо здоровенной сапожной иглой.
— Слушай, киргиз, — специально дразнит Зулу Стас, — вот ты вообще кого-то любишь в жизни? Или у тебя от твоей коллекции уже совсем крыша поехала?
— Я не киргиз, я калмык, — как всегда, спокойно отвечает Зула. — Конечно, люблю. Мать люблю, отца, сестренку младшую люблю. Она у меня знаешь какая! Добрая! Ветеринаром, наверное, будет! Всех животных домой тащит, птиц всех. Кому кошка крыло побила, кому лапу прищемили, всех лечит, жалеет! Животных я тоже люблю. А людей не очень. Большинство людей подлые. — Зула смахивает с мертвого уха каплю запекшейся крови в пакет.
— В кого же ты такой душегуб? — улыбается Стас другу.
— Я не душегуб, я справедливый. Око за око, ухо за ухо!
Пришел Лема сказать, что завтра на съемки с нами снова поехать не сможет — надо везти тетку к стоматологу в Моздок. Он договорился с Юсуфом, чтобы тот его подменил. Увидев Зулу, Лема помрачнел.
— Что ты на меня уставился, индеец? — Зула трясет леской. — Здесь нет ушей твоих родственников!
— Ты плохое дело делаешь, — мрачно сказал Лема, — так нельзя.
— Это почему же так нельзя? Почему им так можно, а нам нельзя?
— Так можно душу свою потерять, — отвечает Лема. — Они потеряли, и ты потеряешь.
— Все-таки хочется подольше пожить. Посмотреть, что на Земле дальше твориться будет! Но как можно в этой жизни что-то планировать? — продолжает прерванный философский разговор Иван. — Не могу я понять, как все устроено. Живет себе человек, а потом раз — и все! И нет человека! Мура какая-то! Нелепица!
— Это еще хорошо, если раз — и все! — говорит Зула. — Мне главное, когда придет время, чтобы быстро! У нас друг один на мине подорвался, Петр. Так, пока его на бэтээре везли, он собственные кишки руками держал. И просил нас, умолял, плакал: «Пацаны, пристрелите, не могу терпеть, так больно!» А мы смотрим на него, ревем и не можем его пристрелить, понимаешь? Никто не смог. Как в друга стрелять? Сейчас я себя за ту слабость ненавижу. Надо было обязательно помочь ему. Все равно ведь помер, только намучался. Мы вот со Стасом договорились: если такое с одним из нас случится, другой поможет. Так ведь, братан?
— Так, братан! — отвечает Стас.
— Да, страшная смерть, — сказал Гусь, поежившись.
— Страшная смерть — это когда одинокий старик умирает дома на унитазе, потянувшись за туалетной бумагой. И находят его только недели через две вздувшимся и объеденным собственными кошками. Да и то лишь потому, что соседи стали жаловаться на невыносимую вонь, — говорит чеченец Лема. — Нет ничего страшнее, чем умереть в одиночестве, забытым родственниками. Или когда их нет у тебя совсем, и ты один, никому не нужен, никто не придет к тебе на могилу.
— А вот интересно, есть там все-таки что-то? — Гусь посмотрел в окно на поднимающуюся луну.
— Должно быть, — сказал я.
— Почему же должно? — спросил Пашка.
— Потому что все это, — я обвел всех рукой — Лему, Стаса, сидящего в обнимку со своей снайперской «Оксанкой», Гуся с Иваном, отхлебывающих чай, Зулу, нанизывающего уши убитых врагов на леску, — и указал в сторону руин, — не может существовать просто так, само по себе.
— А мне иногда кажется, что все это сон. Потому что не может быть этого по-настоящему, бред какой-то, — говорит Иван Севрюгин. — Мне все кажется, что вот проснусь в другом мире, не в таком чернушном, как этот. Где никто никого не пытается унизить, пристрелить или нагнуть на деньги. Где просто живут себе люди рядом друг с другом и никто никого не трогает.
— А мне кажется, что наша жизнь — реалити-шоу для инопланетян или компьютерная игра, — говорит Зула, — что-то типа стрелялок. Может, просто какие-то безумные геймеры сталкивают нас друг с другом, заставляя убивать. Или мы сами погружаемся в эту игру, как в «Матрицу». И когда тебя в этой игре убивают или ты сам умираешь, то просыпаешься и понимаешь, что все это была игра. Здесь не живешь, а выживаешь. Надо корячиться, зарабатывать деньги, воевать, строить какой-то дом, детей завести — это все, как в игре, где есть разные уровни. Даже может жизней у нас несколько, только мы об этом не знаем, мы же внутри игры! А потом раз — грохнули тебя, ты очнулся, смотришь, а тут рядом Стас, братан, сидит, вместе с тобой играет, только он еще в игре, а ты уже нет. И ты будишь его, толкаешь, говоришь: хорош в этой игре сидеть, игроман! Пошли пиво бухать!
Все засмеялись.
— Ага, только я — это не я, а осьминог какой-нибудь умный, — смеется Стас, поглаживая снайперскую винтовку. Он всегда гладит свою «Оксанку» нежно, как женщину. — Мы же не знаем, какими мы можем оказаться в том другом мире. Может, мы вообще медузы, или сгустки энергии, или облака!
— Нет, облаком не хочу быть, — говорит Зула, — как я тогда на твоей сестре женюсь? А еще представьте, что в том мире время идет не так, как здесь. То есть вот мы думаем — годы идут, жизнь проходит, планы, как вы говорите, строим на эту жизнь, а там, где мы осьминоги или облака, ну, или такие же, как сейчас, — с головой, двумя руками и ногами, там за всю нашу здешнюю жизнь проходит час или два этой компьютерной игры!
— А мне кажется, что в нашем мире просто есть другие измерения. Или мы продолжаем жить в едином информационном поле планеты. Или даже Вселенной. — выдвигаю я свою теорию устройства мира. — Если уж даже человек создал теле— и радиоволны, по которым передаются голоса и изображения людей, то почему бы не существовать другим волнам, космическим, которые мы просто не видим? Вот гоним мы картинку на Москву через спутник. Через какие-то секунды человек, который говорит, ходит, кричит, стреляет, перемещается в пространстве на тысячи километров. Не человек, конечно, а его изображение. Тогда почему у Планеты не может быть своего информационного поля, в котором хранится прошлое и где продолжают жить души умерших как разумные сгустки энергии? Ведь там места всем хватит? Они могут нас видеть, а мы их — нет. Ведь даже теле— и радиоволны, которые изобрели люди, видно только с помощью специальной аппаратуры.
— Вот вы болтаете про ваши матрицы, компьютерные игры, осьминогов с облаками, как дети, и не понимаете, что живете в Аду, вами же созданном. Ну, не только вами, конечно, — подключился Лема, до этого мрачно наблюдавший за Зулой. — На самом деле вокруг нас — рукотворный Ад. Когда по Грозному идешь — разве не Ад? Вот ты уши людей отрезаешь и на веревку цепляешь, — обратился он к Зуле, — разве это не Ад? Вокруг нефть горит, неба не видно, от домов одни стены остались. Трупам человеческим на улицах давно никто не удивляется! Люди постоянно говорят о Рае, но еще ни в одной точке планеты им не удалось создать хотя бы нечто, похожее на Рай. Но зато они с легкостью создают места, похожие на Ад. Когда я вижу все это, — Лема кивнул в сторону руин, — понимаю, что темного в людях больше, чем светлого.
Нечто похожее я уже слышал в Индии от новых робинзонов, которые как раз и пытаются создать место, похожее на Рай. Одни и те же вопросы волнуют совершенно разных людей, живущих в разных точках планеты и находящихся в разных жизненных ситуациях. Я вспомнил, что Лема не всегда был водителем. До войны он преподавал в Грозненском университете философию. Я бы подискутировал с ним, но спать мне хотелось больше.
Все немного помолчали, а потом стали расходиться. Завтра надо постараться прожить еще один день в этом мире. Будь мы все персонажами в компьютерной игре высших существ, будь то Ад или сон длиною в жизнь, который в другом измерении длится мгновения…
* * *
«Осторожно, снаряд разрывается, осколки туда-сюда разлетаются…» — местным шлягером надрывается кассетник в машине Юсуфа. От текста песни нас с Гусем душит хохот, но вида не подаем, боимся обидеть хозяина машины. У Юсуфа много кассет с разными военными песнями. Абхазия, Приднестровье, Югославия, Таджикистан, Афганистан… Войны разные, а песни похожие.
…Простреленные вчера крышу и крыло автомобиля Юсуф замазал пластилином. Видимо, разумно решил пустить двести долларов, выделенные нами на ремонт машины, на семейные нужды.
Сегодня нам надо сделать репортаж о жизни мирных чеченцев, который вчера не сняли из-за сбитых вертолетов. Вертолеты важнее — это трагедия, «событийка», эксклюзив. А про жизнь — «нетленка». Можно показывать в любое время — не протухнет. Я собираюсь наконец заскочить домой к Ольге. Тем более на базе ее несколько дней не было.
На блокпостах нас тормозят, но не задерживают. Довольно быстро добираемся до окраины Октябрьского района. Здесь Юсуф выключил магнитофон и стал напряженно вглядываться в дорогу и руины, зловеще проплывающие по бокам. С разных концов города то далеко, то близко, то раскатисто, то коротко и сухо, будто дятел стучит по дереву, раздаются выстрелы. Прямо над нами со звуком, заставляющим внутренности вибрировать, пронеслась и ушла в сторону гор пара истребителей. Формально федеральные силы контролируют весь город, но Октябрьский считается плохим местом. Несмотря на то что район соседствует с Ханкалой, где сосредоточена группировка федеральных сил, здесь постоянно наблюдается активность боевиков. Вот и вертушки вчера откуда-то отсюда сбили, как выяснилось. Зря «крокодилы» выжигали местность перед аэродромом.
Я решаю, что для репортажа нам подойдет любая семья. Может, даже Ольга с матерью согласятся дать интервью. Или кто-то из их соседей. Поэтому мы направляемся сразу к дому, который Ольга отметила на карте.
Поначалу даже Юсуф, местный житель, никак не может найти нужную нам Фонтанную улицу. Он кружит вдоль руин, вглядывается в разбитые дома и довоенную еще карту Грозного. Цокая языком, приговаривает:
— Э-э, давно не был в этом районе! Лишний раз не поедешь сейчас никуда, мне здесь делать нечего!
На домах ни номеров, ни табличек с названиями улиц. Да и самих домов тоже, считай, нет. Наконец чуть в стороне показалось несколько зданий. Относительно целых, из красного кирпича.
— Вот, точно, эти дома, — с облегчением восклицает Юсуф. — Но какой из них ваш — не знаю. Спросите у кого-нибудь.
Два одинаковых дома стоят ближе к нам. Еще четыре, такие же, чуть в стороне. Юсуф остался в машине, а мы, взяв камеру и штатив, двинулись в сторону зданий. Здесь явно живут. Я думаю об Ольге. Интересно, дома ли она? Почему не появлялась несколько дней на базе? Все ли с ней в порядке? Немного волнуюсь, потому что много раз пытался представить себе дом, в котором они живут с Ольгой Ивановной, их квартиру. И еще от того, что неуютно чувствую себя среди руин, потому что здесь совершенно явно ощущается запах смерти. Он висит в воздухе, раздражает ноздри и вселяет в душу какую-то животную тревогу. Наверное, нечто подобное испытывают животные на бойне, ежедневно наблюдающие, как их сородичей забивают на мясо. Дыхание смерти на войне похоже на приторный аромат сгнивших цветов. Он, подобно вирусу, заражает тоской и тревогой всех, кто дышит этим воздухом.
Неожиданно земля под ногами гулко дрогнула, ударила снизу и сразу осела, лишив равновесия. Разом исчезли все звуки, уши мои будто забились ватой. Поднимаю голову. Вижу, как прямо на нас медленно падает стена из красного кирпича. Гусь что-то орет мне, но не слышу его. Осознаю, что бежим с ним куда-то в сторону, сквозь лавину пыли и щебня. В серой мгле с трудом вижу впереди Гуся, прижимающего к груди камеру. Волочу за собой штатив, боюсь его потерять. Первые мысли: «Обстрел! Ольга!!!»
— Что это было? — Гусь смотрит на меня ошалелыми глазами. Мы едва успели отскочить от груды камней, которые несколько секунд назад были домом. Лежим в грязном снегу, с ног до головы в серой пыли, в ушах еще звенит, но вата из них постепенно уходит. — Бомбят, что ли?
В ту же секунду чуть в стороне раздался новый взрыв, и еще один из шести кирпичных домов стал медленно, грузно оседать, как толстозадый чиновник, вальяжно присаживающийся в кресло.
Мы рванули к стоявшим чуть поодаль четырем домам. В голове мечутся мысли: «Что происходит? Кто и зачем взрывает дома? Где Ольга?»
…Я не сразу узнал ее среди чеченок, сидящих на тюках во дворе посреди красных шестиэтажек. Голова покрыта платком. Он повязан так, как обычно носят платки чеченки. Издалека ее можно принять за старушку. Лица почти не видно, лишь огромные карие глаза. Рядом с Ольгой ее мама, Ольга Ивановна. На ней почти такой же «чеченский» платок. Они смешались с другими женщинами и старухами, сидящими кто на тюках с вещами, кто прямо на снегу. Из мужчин здесь только старик да мальчик лет восьми. Ольга гладит пушистую кошку, черную с белыми пятнами. Я прошу Гусева снимать все, что видит, а сам подхожу к ним. Увидев меня, Ольга удивленно вскинула брови и с легким смущением отвела глаза в сторону, на сидящих рядом с ней чеченок.
Я поздоровался. Мне казалось, Ольга мне обрадуется, мы не виделись несколько дней, тем более договаривались, что я приеду к ним, как смогу. Но она ведет себя очень сдержанно. Ее явно смутило мое неожиданное появление и потрепанный внешний вид.
— Привет, — сдержанно ответила она, опустив глаза. Кажется, она стесняется соседок-чеченок, всех этих тюков с вещами и своего платка на голове.
— Еле нашли ваш дом, — говорю я, отряхивая одежду от пыли. Даже водитель местный плутал долго. Что случилось?
— Сами ничего не понимаем, — стала рассказывать Ольга Ивановна. Ее голос периодически срывается на сильный кашель. Сейчас она совсем не походит на ту красивую, подтянутую женщину, которую мне приходилось видеть в Доме правительства. И дело даже не в старомодном платке. Щеки ее ввалились, лицо выглядит бледным и осунувшимся. Я вспомнил, как она садилась в машину Рустама, отправляясь сюда, в руины, из комендатуры — крошечного, пусть и мнимого уголка безопасности посреди Ада. Как на глазах состарилась она тогда, превратившись в суетливую старушку, несмотря на свои пятьдесят два. Видимо, само место это, где невозможно чувствовать себя в безопасности, как вампир, высасывает силы и отнимает на время красоту, словно беря ее взаймы, но обратно долг никогда не возвращает полностью. К тому же Ольга Ивановна оказалась простужена. Несколько дней лежала с сильным гриппом и температурой. Ольга ухаживала за ней. Этим объяснилось их отсутствие на базе.
— Приехали военные, сказали, что здания находятся в аварийном состоянии и подлежат немедленному сносу. Дали на сборы полчаса, сказали взять только документы и теплую одежду. Выгнали всех на улицу. Два дома уже взорвали, — рассказала Ольга Ивановна.
— Да, мы видели, — сказал я.
— В одном доме женщина немного не в себе была. Одна в квартире жила, у нее погибли все. Она военным дверь не открыла, так они дом прямо вместе с ней и взорвали, — сказала Ольга. — Здесь в каждом доме пять-шесть семей осталось, не больше. Это же самые целые дома, наверное, во всем Грозном! Пусть и разрушены немного, но с другими не сравнишь. Почему они тогда вообще не взорвут все, что еще хоть как-то стоит? — и тут же, будто спохватившись она взяла на руки кошку: — Кстати, познакомься, это Кассандра. Можно Кася, — Ольга наконец-то чуть заметно улыбнулась.
— Ты мне про нее не рассказывала.
— Не успела, — она сдвинула платок назад, почти на самую макушку, открыв лицо.
Кассандра оказалась пушистой зеленоглазой красавицей. Судя по всему, она довольно своенравная, как и ее хозяйка. И, конечно, избалованная. Видно, что до сего момента война обходила кошку стороной. Она выглядит вполне упитанной, с лоснящейся, будто шелковой шерстью. Уверен, Ольга с матерью, скорее, себе откажут в куске, чем своей любимице, названной в честь героини греческого эпоса, пророчицы Кассандры. Словно прочитав мои мысли, Ольга сказала:
— Она уже в почтенном возрасте. Ей восемнадцать. По кошачьим меркам долгожительница.
— Это от горного воздуха, дыхание которого доходит и до равнины, — попытался пошутить я.
Ольга улыбнулась:
— Каська помнит всех членов нашей семьи. Бабушку, дедушку. Она помнит меня маленькую и этот город совсем другим. Мы купили ее с дедом еще в Москве, на Птичьем рынке, перед переездом в Грозный.
Из-за угла дома выбежали трое в камуфляже и бросились к Гусеву, снимающему людей на снегу. Я направился к оператору. За солдатами в нашу сторону быстрой походкой шагает офицер. Один из бегущих орет Пашке:
— Убрал, на хрен, камеру!
Я понимаю, что действовать надо быстро и нагло. В таких ситуациях это иногда срабатывает.
— Иди сюда! — ору в ответ военному, хотя он и так к нам бежит. На его лице мелькнуло замешательство, военный даже слегка тормознул, как осаженный конь. Это хорошо.
— Кто старший, кто руководит взрывами? — продолжаю входить в роль, понижая голос на полтона, придавая ему зычности и чуть растягивая слова, как это делал генерал Лебедь. Планов в голове никаких, придется импровизировать. Вижу, как Гусев растерянно опустил камеру. Наверное, решил, что я свихнулся.
— Старший вон, подполковник, сюда идет, — отвечает тот, который орал. Он оказался сержатом-контрактником.
— Не идет, а ползет, как таракан беременный! — вспомнил я расхожую армейскую фразу.
Подполковник, худой, простуженный, уставший до чертиков, с красными прожилками в воспаленных глазах, со впалыми небритыми щеками, приблизившись, покашлял и безразлично спросил, даже не матерясь:
— Что здесь происходит? Кто вам разрешил снимать?
— Это я вас хочу спросить, что здесь происходит и кто вам дал право взрывать дома мирных жителей? — не давая подполковнику опомниться, я достаю из внутреннего кармана белый прямоугольник бумаги с печатью и своей фотографией. Сунув ему в лицо, гаркнул:
— Аппарат помощника президента! Как ваша фамилия, товарищ подполковник? Какое подразделение?
Слово «президент» имеет для военных магическую силу. Президент главнее любых генералов. А значит, человек с удостоверением президентской структуры, несомненно, имеет право вздрючить кого угодно. Особенно если он так нагло себя ведет.
Лицо подполковника вытянулось, он заговорил, немного заикаясь:
— П-подполковник Селезнев, Н-ский полк. У меня приказ. Вчера с крыши одного из этих домов были сбиты два наших вертолета. Мне приказано уничтожить эти дома, так как они стоят недалеко от аэродрома и занимают стратегическую позицию.
— Эти дома не находятся в непосредственной близости от Ханкалы. Перед ними еще много домов. Вы их все будете уничтожать? — на этот вопрос действительно хотелось бы получить ответ.
— Пока что у меня приказ снести только эти дома. Повторяю, по нашим данным, ракеты были пущены именно отсюда, — ответил офицер.
— А при чем тут мирные жители? Вы же не можете уничтожать все объекты, откуда атакуют боевики!
— Я просто выполняю приказ. Да и какие это мирные жители? Среди них половина боевики, а остальные — сочувствующие или укрывающие.
— Кто боевики — вот эти старухи? Тетки эти боевики? — Мне даже играть не надо. Возмущение само рвется наружу.
— Здесь присутствуют не все жильцы. Есть и молодые мужчины. Мы думаем, они связаны с боевиками. Сейчас они где-то укрылись.
— А этим куда деваться? — я кивнул в сторону женщин, расположившихся прямо на снегу, среди которых и Ольга с матерью. Чеченки, увидев камеру, начали, как обычно, с причитаниями подвывать.
— Эти могут разместиться по родственникам, у кого есть. Остальных отправим в лагеря для беженцев.
— Иди сюда, — грубо бросил я Гусю. Тот, подыгрывая, повиновался. — Снимай! Снимай все тут и подполковника тоже! Так, еще раз, товарищ подполковник, на камеру: имя, фамилия, звание, подразделение! Кто конкретно отдал вам такой приказ и на каком основании?
Подполковник как грач втянул голову в плечи. Отвернулся, подняв воротник бушлата, и пробубнил, что без разрешения своего начальства интервью давать не может. На самом деле Гусь и так снял наш диалог. Незаметно, как обычно, в таких случаях.
— Немедленно отменить взрывы домов! — ору я. — А за те, что уже уничтожили, вы еще ответите! Вы и ваши начальники, это я вам гарантирую! — здесь я уже начал переигрывать. Но подполковник, досадно махнув рукой, распорядился дома разминировать. Видно, офицеру самому не по душе такой приказ. И вся эта чертова война давно уже давит ему на кадык.
Саперы бросились внутрь домов. Я убрал в карман белый прямоугольник с печатью и фото. Это всего лишь журналистская аккредитация, позволяющая работать в зоне боевых действий. Маленькими красными буквами вверху на ней действительно написано: «Аппарат помощника президента». Но означает это лишь то, что этот аппарат такие аккредитации выдает. Я не раз пользовался документом в Москве, когда нарушал правила дорожного движения. На гибэдэдэшников действует также безотказно. Но сейчас эта мятая бумажка с тремя волшебными словами и печатью оказалась по-настоящему полезной. В то же время я понимаю, что казнь домов лишь отсрочена.
— Ты что творишь? — шипит сзади Гусь, когда мы повернули обратно к сидящим на снегу людям. — Они же могли нас просто шлепнуть здесь, и никто бы не нашел никогда!
— Теоретически могли, — спокойно отвечаю я. — Только кто же их разберет? Ты видел, как подполковник смотрел на нас? Ему настолько все осточертело, что он сам себя уже шлепнуть готов, не то что нас с тобой.
Отряхнув от снега узлы с вещами, жильцы засеменили к домам. Неуверенно, будто не веря, что снова увидят свои квартиры, вновь обретут крышу над головой. Даже если крыша эта дырявая и выбиты все окна, это всегда лучше, чем ничего.
Ни Ольга с матерью, ни их соседки не слышали, о чем мы говорили с похожим на грача подполковником. Все решили, что он просто не решился взрывать дома при журналистах. А завтра, когда нас не будет, вернется с саперами. Снова всех выгонят на снег, а дома заминируют. И тогда уж точно взорвут. Взорвут зло, чтобы камня на камне не осталось, превратят дома в груду пыльных обломков. И двор, в котором они прожили вечность — каждый свою, превратится в пустырь, усеянный битым кирпичом. Скорее всего, так и будет. Все-таки подполковник не выполнил приказ. Военные выяснят, что к аппарату помощника президента я имею такое же отношение, как к Большому театру.
Существует только один способ спасти эти дома — сегодня же выдать сюжет в эфир. Я задаю себе вопрос — стал бы я все это затевать, если бы в одном из этих домов не жила Ольга с матерью? Не знаю. Наверное, стал бы. Все-таки война идет не с «мирными», а с боевиками. Хотя отличить одних от других подчас невозможно. Тут подполковник прав.
Журналистам нелегко работать на войне, где нет линии фронта и четкого деления на своих и чужих. Ты сочувствуешь военным. Среди них много знакомых и даже друзей. Но и мирных жалко. Они всегда между жерновами. Военные взрывают дома, с крыш которых были сбиты их вертолеты. Такая тактика применялась и применяется на многих войнах по всему миру разными армиями, в том числе и Советской в Афганистане. Если из кишлака раздавался выстрел, его нередко стирали с лица земли. Жители других селений в следующий раз сто раз подумают, помогать ли боевикам и пускать ли их в свои села. Если в частном чеченском доме обнаружена спрятанная взрывчатка, ее уничтожают на месте под предлогом неизвлекаемости. Вместе с домом. Семья боевика остается на улице. В Израиле, например, дома террористов уничтожаются официально. Так власти пытаются воздействовать на террористов — через семьи и кланы.
В Грозном в этот раз ответственность за сбитые вертолеты разделили жильцы многоэтажек, среди которых наверняка есть сочувствующие боевикам и даже их родственники.
К нам подошел старик, что сидел на снегу среди женщин. Рассказал, что ночью был минометный обстрел частного сектора, прилегающего к многоэтажкам. Там якобы были замечены боевики. Одна из мин попала в жилой дом. Погибла беременная женщина-чеченка.
…Напротив распахнутых ворот курят мужчины. Вполголоса обсуждают случившееся. Их уже предупредили о нашем приходе. Навстречу нам шагнул смуглый, жилистый бородач лет сорока пяти. Перед воротами лежат собранные в кучу осколки с крылатыми оперениями. Мужчины и старики обступили нас, стали возбужденно говорить. О беспределе, который учиняют военные, об убитой беременной женщине. Все это я слышу в каждой чеченской командировке по многу раз. Ясно, что мина залетела в дом случайно — война есть война. Но родственникам погибшей от этого не легче.
Мужчины по очереди поднимают тяжелые осколки и с силой швыряют их обратно на землю, все больше возбуждаясь. Их можно понять. Я замечаю за заборами домов вооруженных людей. Поначалу там сновали мальчишки, перебегая от дома к дому. Чеченцы часто отправляют детей на «разведку». Затем стали появляться вооруженные автоматами взрослые. Особо не прячась, они переходят от столба к столбу, от дерева к дереву, наблюдая за нами. По побелевшим скулам Гусева понимаю, что он тоже заметил мужиков с оружием и даже наверняка делает на них «наезды» трансфокатором камеры, одновременно продолжая снимать все более распаляющуюся толпу. Я не знаю, боевики ли те, кто за нами наблюдают, или это вооружившиеся от мародеров крестьяне, или это сами мародеры, хотя для нас и то и другое может быть плохо. Подполковник со своими саперами наверняка снялся, да и не услышит тут никто, кричи не кричи. Пытаюсь успокоить мужчин, гневно размахивающих руками перед камерой. Про себя думаю, что они наблюдали, конечно, за взрывами домов, и это их тоже завело. Но раз позвали нас, вряд ли станут убивать или брать в заложники. Им надо, чтобы вышел материал. А коли цель у нас в этом отрезке времени одна, можно пока не бояться.
…Чеченка лежит на полу. Все готово к прощанию с ней перед погребением в соответствии с мусульманскими обычаями. Рядом на ковре сидят родственники, соседи и мальчик лет четырех, ее сын. Он совсем не плачет, только, не отрываясь, смотрит на мертвую мать. Ребенок будто не понимает, зачем весь этот страшный маскарад, почему тихонько воют тетки и вполголоса переговариваются мрачные мужчины. Погибшая — молодая совсем женщина, скорее, девушка лет двадцати пяти. Почти ровесница Ольги, отмечаю зачем-то про себя. Она не выглядит как покойница. Кажется, кровь еще не остыла в ее жилах и что вот-вот встанет она, так и не доиграв жуткую роль в ритуале, в конце которого ее должны завернуть в ковер, на котором она лежит, отнести на кладбище с торчащими пиками и похоронить до захода солнца.
Родственники девушки показывают дыру в стене, пробитую миной, борозды от осколков, рассказывают, как было дело, как начался обстрел и чем закончился — мина убила девушку, под сердцем которой жил еще один ребенок, а вот ее первенец — сидит рядом с убитой матерью. Я спросил о том, где муж погибшей. Ответили уклончиво. Возможно, он боевик и сейчас скрывается где-то в горах.
Спрашиваю разрешения снять покойную на камеру. Чеченцы, которые обычно оберегают своих мертвых от чужих глаз, не только не возражают, но и сами просят это сделать. Снимаем без крупных планов. Для сюжета достаточно.
Ольга с матерью живут на четвертом этаже самого ближнего к Ханкале дома. Его крыша больше других подходит для того, чтобы сбивать с нее вертолеты. Звонок в квартире не работает — нет электричества. Я постучал. За железной дверью шорох шагов, кто-то смотрит в глазок. На стене рядом с дверью мелом написано: «Здесь живут!». Наверное, для мародеров. Дверь открыла Ольга. Снова почему-то покраснела, как в первый раз, когда мы познакомились. К нам с Гусем вышла Ольга Ивановна, а за ней — вальяжная кошка Каська. На женщинах — короткие валенки, ватные штаны и стеганые жилетки поверх свитеров. Видимо, купили на рынке два одинаковых комплекта из того, что потеплее.
— Вот так мы и живем, — потирая озябшие руки и покашливая, говорит Ольга Ивановна и начинает «экскурсию» по квартире. Двери всех трех комнат закрыты, чтобы беречь тепло. На небольшой кухне — буржуйка. Примитивная конструкция, помогавшая выживать людям на многих войнах. Ей обогреваются, на ней готовят еду. Труба печки выведена в форточку. Сейчас в квартире немногим теплее, чем на улице. Хозяйки экономят дрова и уголь, сложенные в углу кухни в небольшие аккуратные кучки. Рядом — прозрачный пакет, в котором несколько мороженых картофелин и полвилка капусты.
Спальню женщины устроили в самой маленькой — бывшей Ольгиной комнате. Судя по закопченному окну, буржуйку перетаскивают сюда с кухни, чтобы прогреть комнату перед сном.
— Это гостиная и спальня, — кивает Ольга Ивановна на две закрытые комнаты, двери которых снизу подбиты тряпками, чтобы не дуло. — Мы их редко открываем.
Она все же приоткрыла дверь комнаты, которую назвала «гостиной». Комната оказалась угловой. В глухой стене, которая не имеет окон, зияет огромная дыра с рваными обуглившимися краями. Мебели в комнате нет — видимо, все было разрушено взрывом, а потом выброшено. Только полосы от осколков на обесцвеченных обоях да почерневшие потолок с паркетом. Видимо, после прямого попадания снаряда здесь был пожар. Подойдя к краю дыры, я увидел двор и хлопья снега, неторопливо опускающиеся на землю. Некоторые из них цепляются за рваный кирпич стены, и их заносит в комнату. В углу комнаты уже намело небольшой сугроб.
— Это ракета попала во время второго штурма Грозного, — пояснила Ольга Ивановна. — Мы с Ольгушкой прятались тогда в подвале вместе со всеми. Приходим домой — а тут стены нет, все в дыму и горит. Воду тогда уже отключили, бегали с ведрами к колонке, чтобы залить огонь. Спасибо, соседи помогли.
Вторая из закрытых комнат, бывшая спальня, оказалась, на удивление, нетронутой войной. Только стекла, выбитые взрывной волной, заменены на плотный полиэтилен, почти не пропускающий света. На стене фотографии: дед — филолог и бабушка — хирург под пальмой в Сочи. С ними маленькая кареглазая девочка с косичками, в васильковом сарафане — Ольга. И еще много фотографий, по которым можно проследить всю жизнь этой семьи. Фотографии, книги и некоторые вещи Ольга Ивановна вывезла из Москвы после смерти своих родителей, с которыми почти не общалась последние годы. Она воссоздала в этой комнате часть московской квартиры, как если бы ее родители жили с ними в Грозном или они с Ольгой никогда не уезжали из Москвы. И спальня стала чем-то вроде семейного музея. Ее муж-чеченец, с которым тогда еще были вместе, не возражал.
— Это наша дача, — Ольга показывает на фото, — дед посадил какую-то редкую яблоню, за саженцем которой долго охотился. Ты видишь — он абсолютно счастлив! — наконец-то она улыбается своей обычной улыбкой, от которой у меня где-то в груди начинают бегать мурашки. Кажется, она уже не стесняется ни валенок, ни стеганой жилетки, ни буржуйки, ни соседней комнаты, в которой снаряд высадил стену. В своей «домашней» одежде она кажется мне особенно трогательной.
Два старинных дубовых шкафа (мечта антиквара!) забиты книгами. На подоконнике стопки старых журналов с пожелтевшими страницами. Вдоль стены чернеет вытертым лаком пианино «Красный Октябрь». Ну конечно! Я был уверен, что увижу пианино. Рядом — старый комод, покрытый белой ажурной накидкой, на которой выставлены всякие безделушки. Когда-то такие были почти в каждой семье: балерина в стеклянном шаре, кремлевская башня с фрагментами стены на массивной подставке. Здесь же старомодные очки в открытых, потрескавшихся кожаных футлярах, какие-то записные книжки. На широкой тахте — плюшевые игрушки, девчачьи тетрадки с сердечками и блестками, стопки эскизов женской одежды, выполненные карандашом. При этом бросается в глаза идеальная чистота, в которой содержится комната.
— Это комната памяти, нашего счастливого прошлого, — говорит, пытаясь казаться веселой, Ольга, — все, как тогда, в той жизни. Бывает, заходим сюда с мамой, закрываем дверь поплотнее и сидим, перебираем фотографии, вспоминаем разные смешные случаи… Иногда на пианино играем по очереди. Особенно когда из Ханкалы пушки начинают стрелять или самолеты низко летают. Тогда не так страшно, если громко играть. Знаете, музыка может заглушать звуки выстрелов…
— Самое главное — соседи на музыку не жалуются, — по-идиотски пошутил я и тут же пожалел о сказанном, но Ольга улыбнулась, давая понять, что шутка не задела ее.
— Да, жаловаться некому. В нашем подъезде, кроме нас, только одна семья живет. Тот самый Рустам с матерью и сестрами, который нас забирает из комендатуры, помнишь? Они на самом последнем, шестом этаже. Больше никого.
— Что-то я сегодня не видел его во дворе, — сказал я.
— Ну, мужчины стараются федералам на глаза не попадаться, они откуда-то узнают о зачистках и других операциях и прячутся, — ответила Ольга.
— Как же вы тут ночью? Я бы с ума сошел от страха!
— Да уж, это точно, — поддержал меня Гусь, — я бы тоже. Отважные вы женщины!
— Мы привыкли, — грустно улыбается Ольга Ивановна. — Раньше еще страшнее было. Но по ночам жутковато, конечно. А тут еще на рынке я слышала разговор, будто боевики стали убивать тех, кто сотрудничает с федеральной администрацией. В Старопромысловском районе и в Старой Сунже ночью расстреливали целые семьи. А в нашем доме девушку из соседнего подъезда задушили. Вместе с ее бабушкой, которая была дома. Девушка, как и я, секретарем была в Доме правительства. С моей Олей дружила по-соседски. Боимся, конечно, как бы к нам не нагрянули.
Чтобы сменить тему, поговорили о приближающемся Новом, 2003 годе, обсудили, когда Ольгу с матерью сможет забрать отец, как они поедут в Москву. Ольга Ивановна решила затеять чай. Маленьким топориком стала распускать полено на щепки.
— Только вот предложить к чаю нечего, — извиняясь, сказала она.
От чаепития мы с Гусевым отказались. Надо перегонять в Москву отснятый материал и писать текст сюжета. Договорились, что Ольга будет приходить звонить отцу столько, сколько нужно, чтобы окончательно, до мелочей, обсудить с ним план отъезда.
— Пианино вот только жалко очень, — вздыхает Ольга Ивановна. — С собой не возьмешь и отдать некому. Сожгут как дрова, — она приподнимает крышку, проводит руками по клавишам, те отзываются жалобным разнобоем.
Нам пора. Я достал заранее приготовленные двести долларов, протянул Ольге Ивановне:
— Мы обязаны платить гонорар тем, кто дает интервью или помогает в организации съемок. Без вашей помощи сегодняшнего сюжета не было бы. Поэтому гонорар ваш.
— Что вы, какой гонорар! — замахала руками женщина. — Мы и не ждали вас сегодня! Да и вообще, если бы не вы, сидели бы мы сейчас во дворе на тюках или в лагере для беженцев.
Ольга тоже запротестовала, гневно вспыхнув:
— Послушай, пусть мы и живем в таких условиях, но мы не нищие. Мы работаем, у нас есть деньги. Не надо нас жалеть.
— Это ты послушай, — я положил деньги на пианино, — эти деньги выделяет телекомпания, и я обязан их отдать. Иначе меня обвинят в воровстве, присвоении денег. А без вас мы бы сюда не приехали и материал бы ни за что не сняли.
Конечно, это вранье про гонорары. Мы вышли из подъезда. На душе какая-то муть, грязь. Чувствую себя последним подонком, откупившимся двумястами долларами, оставляя Ольгу с матерью здесь. «А кто она тебе?» — спрашивает мой внутренний двойник, который всегда появляется в неподходящее время. И правда — кто? Ведь не должен я им ничего. Так зачем мучиться угрызениями совести?
Стоя в пустом, заметенном снегом дворе, среди полуразрушенных домов, впервые сам себе признаюсь, что полюбил Ольгу. Полюбил, несмотря на то что считал — эта опция моей души утеряна навсегда. Ибо давно уже не испытывал ни к кому серьезных чувств, а цинизм считал лучшей броней для сохранности своей нервной системы. Ибо постоянно видеть в силу профессии чужое горе и искренне сострадать людям невозможно. «На всех тебя не хватит», — говорил мне как-то один из первых моих телевизионных начальников. — Ты должен научиться управлять своими эмоциями. У журналиста, как у врача, должен быть высокий порог чувствительности к чужому горю. Ты должен помогать, сочувствовать, но не зацикливаться на чужих страданиях, иначе не сможешь работать».
Если душу регулярно тренировать — показывать своему сознанию картинки страха, боли и смерти, то душа грубеет, как дубленая кожа, которую обжигают паяльной лампой. Но с появлением Ольги я понял, что до конца еще не утратил способность чувствовать.
Во дворе никого. Ни военных, ни мирных. Вдыхаю полной грудью морозный воздух. Но легче не становится. Понимаю, что нужно ехать — муторно здесь, неспокойно. Хочется вернуться, забрать Ольгу с матерью на базу, но где их разместить? Да и не поедут они никуда.
Гусь толкает меня в бок:
— Валим, пока «духи» не появились. Скоро комендантский час, потом темнеть начнет — время волков! Неохота Новый год в зиндане встречать!
Вдруг прямо перед нами выросла фигура. Я не сразу узнал Рустама — мрачного соседа Ольги, постоянно забирающего ее от ворот комендатуры на старой «шестерке». От неожиданного появления парня мы с Пашкой вздрогнули. Он словно вырос перед нами из снега. Посмотрел с любопытством. Чуть более дружелюбно, чем обычно. Может, потому, что здесь он чувствует себя увереннее, чем перед воротами базы. Черная вязаная шапка натянута почти на самый нос. Непонятно, как он что-то видит из-под нее. Ольга говорила, ему всего шестнадцать, но на вид можно дать больше двадцати. На Кавказе дети развиваются быстрее.
— Спасибо, журналисты, — сказал Рустам, махнув рукой на кирпичные короба домов. Я впервые услышал, как он говорит. Мне не понравился ни его голос — высокий и гортанный, ни нагловатый тон. Конечно, он знает, что произошло здесь днем.
— Чем могли, — буркнул я, и мы пошли к машине.
— Что так долго? Я уж подумал, случилось что-то, задубел тут совсем, — стал ворчать Юсуф. Стекла его машины замерзли — он не включал мотор, экономя бензин.
…Выехав из Октябрьского района, натыкаемся на колонну саперов, медленно идущих со щупами по обочине дороги. За ними медленно ползет бэтээр. За бэтром — пехотинцы. Обычно с инженерно-саперной разведки в Грозном начинается каждый новый день. Саперы обезвреживают мины и фугасы, которыми боевики успели за ночь нашпиговать дороги. Раз идут ближе к вечеру — значит, кто-то подорвался.
— Попали! — злится Юсуф. Пока саперы не проверят дорогу, транспорт будет ждать. Впереди видим большую воронку, а за ней — развороченный взрывом «Урал». Вероятно, водитель машины гнал на большой скорости, но все-таки не смог проскочить фугас. Саперы прощупывают землю — вдруг еще есть закладки? Утренняя «инженерка» сработала плохо — проморгали. Теперь щупай не щупай. Вокруг подорванного боевиками «Урала» разбросаны останки солдат внутренних войск. Раненых, видимо, уже увезли в госпиталь.
— Да что же это, твою мать, за день такой сегодня! — Гусь достает камеру.
— Появились, стервятнички, — слышится рядом сиплое покашливание. Похожий на грача подполковник Селезнев, пару часов назад руководивший взрывами домов, зло смотрит сквозь нас, будто мы прозрачные. Про стервятников вроде и не нам сказал, а будто выплюнул свои слова в жирную чеченскую грязь, залитую кровью его солдат. — Нюх у вас на трупы, что ли? — словно сам с собой продолжает говорить он.
— Может, и нюх, — огрызнулся Гусь, настраивая камеру.
— Снимайте, покажите мамкам, как детей их убивают те, кого вы защищаете. В подробностях покажите, как вы любите. И еще аппарату вашему, мать его, президентскому, покажите, — подполковник, не мигая, смотрит перед собой мутными глазами. Бушлат на нем расстегнут, шапки нет. Она валяется рядом, втоптанная в грязь чьими-то сапогами. Растрепанные его волосы поседели от мокрого снега, который пытается покрыть залитую кровью землю, укрыть мертвых от взглядов живых, но вместо этого снег тает, едва коснувшись бурой жижи, слегка разбавляя эту краску в дьявольской палитре. Снег ложится на изувеченные тела мальчишек-«срочников», на их разорванные в клочья телесные оболочки, в которых совсем недавно жили их души. Водитель «Урала» так и застыл, вцепившись в руль, в оторванной кабине, мятой и растерзанной чудовищной силой. Головы у водителя нет. Наверное, он даже не успел ничего понять. Судя по всему, фугас был очень мощный, радиоуправляемый, сделанный из стапятидесятидвухмиллиметрового гаубичного снаряда. Заложили его боевики прямо под дорогой, это видно по огромной воронке.
Из подъехавших санитарных «буханок» высыпали коллеги-журналисты и санитары. Корреспонденты шумно и возбужденно начали отдавать команды своим операторам.
— Слетелось воронье, — еще раз прокомментировал подполковник и зашагал прочь.
Санитары стали выкладывать погибших в ряд на носилки и просто на брезент, кому носилок не досталось. Трупов оказалось одиннадцать. Многие без конечностей. Оторванные руки и ноги санитары кладут рядом с телами. Я замечаю, что нога, которую положили рядом с белобрысым мальчиком лет восемнадцати, удивленно уставившимся на падающий снег широко раскрытыми голубыми глазами, при жизни принадлежала не ему. Рядовому оторвало ногу ниже колена, а ему положили почти целую, от бедра. Говорю об этом санитару. Тот зыркает волком:
— Не лезь, на хрен! Тебе не похеру?
— Нет, — сказал я.
— А ему уже похеру! — санитар накрывает тело простыней, на которой сразу проступают пятна крови.
Долго не могут найти голову водителя «Урала». Наконец, метрах в сорока от места взрыва, рядом с сухим кустарником, ее обнаруживает один из солдат. Голову кладут под брезент, где уже лежит тело водителя.
Где-то рядом металлически тренькнуло. Солдаты залегли, залязгали со всех сторон затворы автоматов, забегали, пригнувшись, санитары, бросив носилки с трупами. Журналисты спрятались, кто в воронку от фугаса, кто за машины.
Снайпер бьет из панельной девятиэтажки. Одна пуля тупо ударила в брезент, убив кого-то из парней еще раз. Обычный «духовский» прием. Подорвут технику, подождут, пока на место побольше федералов съедется, и второй фугас подрывают. Или обстреливают. Но этот снайпер какой-то неопытный. Стреляет суетливо, наугад. По обрывкам фраз, хрипло долетающих из рации лейтенанта, спрятавшегося вместе с нами за покореженным остовом «Урала», вскоре стало ясно, что снайпера «зачистил» оказавшийся рядом с девятиэтажкой нижегородский ОМОН.
…Сюжет о том, как чеченцы возвращаются к мирной жизни, снова не получился. А ведь наш телеканал давно заказывал что-нибудь позитивное.
— Где сюжет о салоне красоты в Грозном? — спрашивал меня по спутниковому телефону редактор «Новостей».
— Нет такого салона в Грозном, — отвечал я.
— Как нет, вы же вчера снимали его открытие! — раздражался он.
— А сегодня утром его взорвали, можем об этом рассказать, — отвечал я.
— Об этом не надо, нас и так упрекают в сплошном негативе, нужен хотя бы один позитивный сюжет! — говорил редактор.
Салон красоты действительно открыли накануне. Недалеко от Центральной комендатуры, в наполовину уцелевшем доме. Пригнали прессу. Две чеченки, заготовленные администрацией, сняв перед съемкой платки, дали интервью о тенденциях моды среди чеченской молодежи. Перед торжественным открытием федералы зачистили руины, саперы нашли и обезвредили несколько мин. На крышах расставили снайперов, во двор и прилегающие улицы нагнали бойцов и поставили пару бэтээров, которые попросили не снимать. Играла национальная музыка. Несколько чеченцев в национальных костюмах танцевали лезгинку. Картинка получилась вполне мирной и обнадеживающей: чеченские женщины вновь начали думать о своей красоте. Значит, войне конец.
Утром салон взорвали.
Материал, который мы сняли сегодня, получился вообще не о жизни. Он был о смерти. Чеченки, погибшей от шальной мины во время артобстрела, русских солдат — мальчишек, взорванных в «Урале». Об уничтоженных домах, под обломками одного из которых осталась сошедшая с ума русская женщина. Дома мешали военным, потому что с их крыш можно сбивать вертолеты. Нет крыш — нет проблем. Но подорванный «Урал» показал, что проблемы все равно остались. В общем, сюжет получился странным и сумбурным.
— Круто! — похвалил меня редактор по спутниковому телефону.
— А как же позитив? — спросил я.
— Да ну его на хрен! Кому он нужен! На позитиве рейтинга не сделаешь. Но на всякий случай сними какую-нибудь консерву. Дадим, когда нечего показывать будет.
«Консервами» на телевидении называют сюжеты, которые не имеют важного информационного повода. Они могут месяцами пылиться на полках в ожидании своего часа. Что-то из консервов показывают к определенным датам или когда совсем нет новостей. Но большая их часть так и не выходит в эфир.
Сегодняшний материал прошел во всех выпусках. После первого же эфира в ТВ-юрт прибежали два куратора пресс-службы Дома правительства, Дима Зайцев и Леша Волков. Мы их зовем «Ну, погоди!». Диме и Леше примерно по сорок. Мужики тертые, с обветренными лицами. Прикидываются журналистами, но всем известно, что работают на спецслужбы и отвечают за информацию, которую передают СМИ из Чечни. У меня с ними сложилась давняя взаимная неприязнь. Наш канал старается объективно говорить обо всем, что происходит. Если российские десантники героически сражались против превосходящих сил боевиков — мы первые с гордостью дадим материал. Но уж если армейские финансисты вымогают у контрактников боевые деньги — не взыщите.
Журналисты, которые снимают исключительно танцы горских народов или официальные пресс-конференции, у Зайцева и Волкова в белом списке. Репортеры нашего канала, в том числе и я, — в черном. Практически после каждого нашего материала «Ну, погоди!» получают из Москвы нагоняй за плохую «работу» с прессой. В нынешнюю нашу командировку им особенно не понравился тот самый материал о солдатах и сержантах, которые не могли получить боевые деньги по истечения срока контрактов. Финансисты под выдуманными предлогами задерживали деньги. При этом парней продолжали отправлять на боевые операции. Некоторые, ожидая кровных «боевых», успели погибнуть или стать инвалидами. Получали деньги и уезжали домой только те, кто давал тыловым крысам откаты. В результате контрактники сложили оружие и отказались воевать. Это был не просто скандал. Это была информационная бомба. После выхода материала в эфир ситуацию взял под личный контроль министр обороны. Погоны многих военных начальников потрепало взрывной волной от нашего сюжета. Кого-то уволили из армии, некоторых понизили в должностях. Досталось и Зайцеву с Волковым за то, что проморгали сюжет.
Вот и сейчас, после выхода материала о взрыве жилых домов, подорванном «Урале» и гибели беременной чеченки, сотрудники пресс-службы, красные, как раки, ввалились в наш вагончик:
— Ну что же ты снова без мыла-то вставляешь? — надо отдать должное, голос Зайцев никогда не повышает, пытается говорить спокойно.
— А я когда-то вставлял с мылом? — отвечаю вопросом на вопрос.
— Минута тридцать две! — орет Пашка из своего угла.
— Что? — не понимает Волков.
— Вы добежали до нас из своей конуры за минуту тридцать две после выхода сюжета в эфир. Это рекорд! — веселится Пашка. Он и вправду всегда засекает время, если сюжет обещает скандал, чтобы посмотреть, с какой скоростью на этот раз прибегут «спецы».
Волков багровеет. Я вижу, что сегодня кураторы совсем не в духе. Видимо, случилось что-то из ряда вон. В их глазах, несмотря на ровный тон, горит какой-то зловещий огонек. Зайцев просит меня выйти на улицу.
— Зря ты дразнишь гусей, — сообщает он мне за вагончиком, глядя прямо перед собой своими желтоватыми, мутными глазами. — Это раньше нас после твоих сюжетов Москва трахала, и всё. Теперь шутки кончились. Ты очень многих разозлил.
— Я тебя понимаю, Дим, ты делаешь свою работу. А я делаю свою.
— Ни хрена ты не понимаешь. Любому терпению приходит конец. Там, — он кивнул головой куда-то на северо-запад, в сторону Москвы. — Там терпение лопнуло. Ты когда меняешься?
— Через неделю, перед Новым годом уеду, и вам станет жить гораздо спокойнее, — пытаюсь шутить, но Зайцев перебивает:
— Мой тебе совет: срочно уезжай в Москву. С руководством твоим мы договоримся.
— Это с какой стати?
— А с такой, что так всем будет лучше. И тебе тоже, — подключается к разговору Волков.
— Ты не боишься? — спросил Зайцев.
— Чего именно?
— Здесь же Чечня, война идет. Пули шальные летают. Всякое может случиться, — ответил Зайцев.
— Ты мне угрожаешь?
— Нет, что ты, просто переживаю за тебя.
— Переживай за себя. Прилететь и к тебе что-нибудь может. Никто не застрахован, — сказал я.
— Ты бы бросил, Корняков, героя из себя корчить. Тебе что, до хрена платят на твоем «независимом» канале, что так выслуживаешься? Запомни, в этой жизни ничего независимого не бывает. Все от кого-то зависят. И канал твой рано или поздно прижмут, и будете вместе со всеми в одну дуду дудеть. Сидел бы спокойно, бухал на базе да освещал мероприятия, на которые мы организованно всех вывозим. А ты — то с разведкой по ночам шаришься, то с чеченским ОМОНом где-то в горах, то по Грозному на чечен-такси сам по себе. Ты хотя бы парней своих пожалел — таскаешь их везде за собой! В общем, думай, мы с тобой просто мыслями поделились, а ты думай.
После визита «Ну, погоди!» остался неприятный осадок. Я стал думать, что именно стало его причиной, и понял — в холодных и мутных, как желе холодца, глазах Зайцева промелькнул какой-то знак. Будто он знает обо мне нечто такое, чего я и сам еще не знаю. Как если бы он был провидцем, и ему была известна моя судьба. Терпеть не могу, когда давят. Это приводит меня в бешенство. Сразу хочется сделать все наоборот. Надо будет сказать «Ну, погоди!», что остаюсь на второй срок командировки. Это стоит сделать только для того, чтобы посмотреть на их рожи!
Чтобы отогнать неприятные мысли, думаю об Ольге. Но легче не становится. Вспомнилась дыра в стене, комната с фотографиями и старое пианино с вытертым лаком и черно-белыми, как сама жизнь, клавишами. Надо им с матерью как можно быстрее уезжать отсюда. Как можно быстрее…
* * *
Мы обхватили деревья, пытаясь срастись со стволами, слиться с природой, стать на время растениями, чем угодно, только не теплокровными существами. Над нашими головами грохочет винтами гигантская стрекоза — вертолет, оснащенный тепловизором. Если пилот увидит в мониторе колыхание красного, какое дают только тела живых существ, по венам которых течет теплая кровь, он примет нас за боевиков. И тогда даст наводку артиллерии. Или обрушит с неба всю мощь своего железного насекомого, пытаясь умертвить теплокровных, чтобы красный цвет в мониторе тепловизора не раздражал его уставшие от напряжения и бессонницы глаза.
Вот уже минут пять вертушка висит неподвижно высоко над нами. Голые ветки деревьев должны хоть немного помешать разглядеть нас. Шум винтов то удаляется, то приближается снова. Возможно, что-то подозрительное вспыхивает перед глазами пилота. Или ему только так кажется. Затем стрекот постепенно стихает.
Мы прошли три квартала разбитых улиц пешком, оставив бэтээры — «Кондора» и «Боревара» в тихой ложбине, примыкающей к промзоне. Далее, миновав частный сектор, перебегая по одному освещенные газовыми факелами места, оказываемся возле многоэтажек красного кирпича.
Желто-синие языки пламени выхватывают из кромешной мглы кусок кирпичной стены. Газовые факелы из перебитых труб — единственное освещение в ночном Грозном. В некоторые трубы газ продолжает поступать, и чтобы он не выходил просто так, отравляя все вокруг, его поджигают.
Степан предложил сегодня ночью сходить на вылазку. Сказал, что разведка будет брать боевика, причастного, по оперативной информации, ко многим терактам. Есть возможность заснять операцию и, если получится, захватить боевика живым, взять у него интервью. Маленькая цифровая камера, позволяющая снимать ночью, пара кассет и запасные крошечные аккумуляторы — все, что мне необходимо, рассовано по карманам. Оператор сегодня не нужен, и Пашка остался на базе.
Проходки разведчиков я снял несколькими планами в инфракрасном режиме. Этого вполне достаточно, пока ничего интересного не происходит. Я знаю, у Степана своя агентура среди местных. Она вычисляет боевиков, которых подполковник называет «душка́ми». Не «духами», а именно «душками», пренебрежительно. Кроме того, многие операции он разрабатывает совместно со спецслужбами. Перед выездом я рассказал ему о визите Зайцева с Волковым. Он отмахнулся:
— Конечно, они не идиоты и знают, что ты с нами ходишь, хоть и снимаемся мы в масках. Но для нас это не проблема. Если тебя завалят — я уже говорил, что сделаю: прикопаю на помойке. И никто ничего не узнает. Ты просто пропадешь без вести, и все. Что касается их «советов» — вряд ли что-то предпримут. Когда кого-то хотят завалить — об этом не предупреждают. Но попробую выяснить, что смогу.
Ночью все кажется не таким, как днем. Когда Степан показал мне дом, в котором живет тот, за кем пришли «Ночные призраки», я не сразу понял, что это дом Ольги. Здесь и днем-то мрачновато, а теперь, подсвеченные редкими газовыми факелами, дома и вовсе выглядят зловеще.
У меня остается еще слабая надежда, что мы зайдем не в ее подъезд. Но разведчики, преодолев короткими перебежками крайние пятьдесят метров до дома, растворились в черном прямоугольнике знакомого мне входа без двери. Внутри тусклыми светляками зажглись маленькие фонари. Степан знаками распорядился проверить подъезд на «растяжки». Медленно, ступенька за ступенькой, разведчики поднимаются вверх вдоль обшарпанных стен, стараясь не хрустеть битым кирпичом. Вот четвертый этаж, дверь ее квартиры, рядом с которой мелом написано «Живут!». У меня перехватило дыхание, сердце бешено колотится. Ну не к ней же они идут!
Черные тени бесшумно проскользнули мимо квартиры Ольги. Пытаюсь унять дрожь и не могу. Мне уже понятно, кто тот самый «душок», за которым пришел Степан. Что, если будет стрельба? Чувствует ли Ольга, что я нахожусь прямо за ее дверью? Пытаюсь уловить хоть какой-нибудь звук с той стороны, но тщетно. Что она делает в два часа ночи? Конечно, спит. Но как здесь вообще можно спать? А что, если зайти к ней потом, когда все закончится? Идиотская мысль. Любой стук в дверь в это время насмерть перепугает их с матерью. А потом — что я ей скажу? Мы с разведчиками пришли за твоим соседом Рустамом, который помогает вам с матерью, но вот незадача — он оказался боевиком! Ольга говорила, что в подъезде, кроме них, живет только Рустам с матерью и младшей сестрой. На шестом этаже. Показываю Степану пятерню и прикладываю еще один палец, спрашивая жестом: «Шестой?» Он только удивленно вскидывает в темноте брови: «Откуда, мол, знаешь?»
На пролете между четвертым и пятым этажами разведчики сняли растяжку. Уже на шестом, почти перед самой квартирой, еще одну. Видимо, Рустам минирует на ночь подходы к своему жилищу, а утром растяжки снимает. Если бы проглядели хоть одну гранату, операция была бы сорвана. Полегли бы все, у рифленых «эфок» большой радиус поражения.
Трое бойцов встали напротив двери. Остальные четверо, включая Степана, спустились на пролет ниже. Степан знаком приказал мне остаться на площадке, чему я внутренне обрадовался. Мне совсем не хочется входить в квартиру Рустама вместе с разведчиками.
Дверь высадил ударом ноги двухметровый Леха по кличке Терминатор. Прозвали его так за внушительные габариты и жестокость, а также полное отсутствие эмоций, достойное робота. У Лехи всегда одинаковое выражение лица. Трудно понять, что происходит у него внутри, когда он ест, спит, играет в нарды или воюет. По слухам, убивает Леха также невозмутимо, предпочитая отправлять врагов в иной мир при помощи ножа, нежели автомата. Как и многие в команде Степана, он прошел еще первую чеченскую.
Разведка врывается внутрь. «Хорошо, хоть дверь не была заминирована», — проносится у меня в голове. В квартире раздаются приглушенные крики, шумная возня и женский вопль, который стих после тупого удара, видимо, прикладом. Уже через несколько секунд разведчики обрушиваются вниз, таща за собой человека с мешком на голове. Руки его скованы сзади наручниками. Я едва отскочил в сторону, чтобы не быть сметенным, и всю дорогу обратно, до бэтээров, просто бегу вслед за всеми, даже не пытаясь снимать. Человека затолкали внутрь одного из бронетранспортеров, а через несколько минут машины встали возле заброшенного двухэтажного здания. Я удивился тому, что мы не вернулись на базу. Несколько человек заняли оборону, остальные потащили пленника внутрь дома, спустились в подвал, зажгли большие фонари. Я все еще надеюсь, что это не Рустам, но когда Степан снял мешок с головы чеченца, я увидел именно его. Бледного, заспанного, со щетиной, из которой уже начинает формироваться жидкая бородка. У Рустама нет выражения недоумения на лице, он прекрасно понял, что произошло. Взглядом попавшегося в ловушку зверя обвел комнату. Увидев меня, удивленно вскинул брови и криво ухмыльнулся. Он сидит на полу среди битого кирпича и цементной пыли, в зеленых спортивных штанах с белыми лампасами и серой толстовке с надорванным, видимо, во время захвата рукавом. Я понимаю, что место, куда мы приехали, не случайное, и Степан не первый раз привозит сюда захваченных боевиков. Видимо, ориентируясь на оперативную информацию, «призраки» устраивают «чистку», выхватывая по ночам из руин членов НВФ и помогающих им. «Зачищают» тех, кто устанавливает на дорогах фугасы, убивает российских солдат, собирает информацию для боевиков.
— Он же совсем ребенок, ему всего шестнадцать! — говорю Степану, когда, пройдя через маленький коридор, мы оказались в небольшом помещении, тоже без окон. Внутри горят два факела, сделанные из гильз от зенитных патронов. Я понял, что не ошибся — это место у разведчиков является чем-то вроде оперативного штаба. — Почему ты решил, что он боевик?
— Этот «ребенок» убил восемнадцатилетнюю девчонку, свою соседку, только за то, что она работала секретарем в Доме правительства. Просто пришел и хладнокровно задушил. И заодно ее бабку, родители девушки давно погибли, — в глазах Степана злобно сверкают огни пламени. — Этот «ребенок» привез на своей машине несколько ПЗРК и спрятал в своей квартире. Это из них на этой неделе с крыши его же дома «духи» сбили две наших вертушки. На счету этого «ребенка» несколько фугасов, на которых подрывались наши пацаны. Этот, как ты говоришь, ребенок — активный член джамаата Мовсара Ахмедова.
— Ошибки быть не может?
— Не может. Мы с фээсбэшниками давно его пасли. Удивляюсь, как он Ольгу твою не тронул с матерью, они же тоже в Доме правительства работают. Может, не успел.
Я удивленно посмотрел на Степана.
— Да, да, и это знаю. Положено мне все знать.
— Что ты собираешься с ним делать? — спросил я.
— То, что должен, — отрезал Степан.
— Послушай, ему же шестнадцать всего, — снова повторяю я. — Почему ты не отвезешь его на базу, не отдашь под суд?
— Суд? — Степан скрипнул зубами. — Чтобы «чехи» потом его отпустили через пару недель под каким-то предлогом? Чтобы от его поганых ручонок еще больше наших парней полегло? У меня другой приказ, Мишаня. Мы таких тварей уничтожаем. Мы не берем их в плен, а отстреливаем уродов как бешеных псов. Потому что хороший враг — мертвый враг! Чтобы доказать его вину по закону, нужно много времени. Даже если дело дойдет до суда, что вряд ли, ему даже срока не дадут приличного, потому что малолетка. И он это знает. Тех, кого он убил, — уже не вернуть. А его, скорее всего, просто отпустят, потому что и в прокуратуре местной найдутся какие-нибудь родственники или просто сочувствующие. И он снова будет убивать. О чем тут вообще говорить? Среди «чехов» полно ментов, которые днем официально на стороне федералов, а по ночам наши блокпосты долбят. И «коридоры» «духам» обеспечивают. Ты сам это прекрасно знаешь! Одними официальными методами нам эту войну не выиграть. Слишком много крыс развелось!
Когда началась война, Рустаму было лет восемь. Он вырос в руинах и уже не помнит, что мир может быть другим. Возможно, его погибший отец был как-то связан с боевиками. Или старший брат. Если брат жив и находится в горах, тогда все становится ясно. Рустам ежедневно приезжает к воротам базы, собирает информацию. Устанавливает и запоминает всех сотрудничающих с федеральной властью, изучает охрану комендатуры и правительственного комплекса. По заданию старших устанавливает на дорогах фугасы, а когда надо, и убивает. Возможно, своей соседке, которую задушил вместе с ее бабушкой, он тоже чем-то сначала помогал?
Теперь ясно, почему Степан привез Рустама сюда. Он хочет его казнить, предварительно выбив информацию. Сейчас мне стала понятна фраза подполковника, оброненная когда-то: «У каждого разведчика здесь есть своя яма». Тогда она показалась мне метафорой. Оказывается, Степан действительно имел в виду ямы, в которых прячут трупы после казней.
— Зачем ты взял меня с собой? — спрашиваю его. — Неужели ты думаешь, я буду брать интервью у человека перед смертью? Даже если он боевик? И что мне делать потом с этим интервью, как объяснить, куда исчез человек?
— Ну, интервью можно и со спины взять, не показывая лица. Пусть расскажет все, что знает. Чтобы поняли «духи», что мы до каждого из них доберемся. До каждого последнего урода! Если не захочешь в эфир давать — дело твое. Нам с фэпсами пригодится запись допроса.
— Это без меня. Камеру берите, пишите. Я не буду. Не могу, не имею права.
Мы вернулись в комнату, где держали Рустама.
— Почему ты задушил свою соседку? — спрашивает его Леха-Терминатор, держа за волосы.
— Она была сука, — через силу отвечает Рустам своим высоким, гортанным голосом. — Работала на федералов. Жаль, не успел добраться до других своих соседок, — он посмотрел на меня и осклабился: — Ничего, всех достанем!
Я сунул в руки Степану маленькую камеру и стал подниматься наверх, прочь из затхлого подвала, в котором сейчас одни земляне лишат жизни другого. Потому что так у землян повелось: око за око, ухо за ухо, как говорит Зула. И каждый находит в этом свою правду, потому что убийство — это цепная реакция, это принцип домино. И часто, чтобы кого-то спасти, надо кого-то убить. Последние слова Рустама были, конечно, про Ольгу. «Жаль, что не успел добраться…» Вдруг я поймал себя на мысли, что Степан не случайно взял меня с собой. Он решил повязать меня кровью, а заодно показать, что на войне невозможно остаться чистеньким. Всегда надо выбирать, на чьей ты стороне. Степан заставил меня испытать страх за Ольгу, которая стала мне очень дорога. Он прекрасно понимает, что я никому ничего не расскажу. Но труднее всего признаться самому себе в том, что я даже хочу, чтобы Степан сделал это. Потому что иначе Рустам доберется до Ольги, как и до своей соседки. Такой вот простой выбор.
Сырой, холодный ветер дунул в лицо, и тело затрясло мелкой, противной дрожью. Так бывает, когда влажный воздух пробирает до костей…
* * *
Ольга положила кривую трубку спутникового телефона на стол и поправила волосы, обнажив одно из своих прекрасных, идеальных ушей. Сегодня ей удалось окончательно договориться с отцом о дате и деталях отъезда. Он хочет сам приехать в Грозный, чтобы забрать их с матерью, но Ольга против — считает, лучше им встретиться в Моздоке или Минеральных Водах.
— Он давно не был в Чечне. Хоть и порывался еще с начала первой войны приехать к нам, но мама не хотела, из гордости. А теперь я боюсь за него — он же совершенно не представляет, во что превратился город, для него это будет шоком. Хотя телевизор, конечно, смотрит, но там одно, а здесь — совсем другое. Я боюсь, с ним что-то по дороге случится. Лучше нам встретиться в аэропорту. Вещей будет мало, с собой возьмем только самое необходимое. Кассандру, документы и кое-что из вещей на первое время. Вывезти нас из Чечни попрошу Рустама. Тебе как кажется — лететь лучше через Минводы или Владикавказ? — она проговаривает план отъезда снова и снова, словно боясь что-то упустить.
— Лучше через Минводы. Мы и с машиной вам поможем, — говорю я, делая вид, что не заметил сказанного про Рустама. Моя командировка заканчивается тридцатого декабря, перед самым Новым годом. Но я стал думать о том, чтобы уговорить начальство продлить ее на неделю. Ольга с матерью собираются выехать в начале января.
— Спасибо, я же говорю, Рустама попрошу. Думаю, не откажет. Хотя знаешь, его уже два дня нет. Фатима, одна из его сестер, сказала, что ночью Рустама арестовали военные. Мы с мамой тогда слышали какой-то шум, напугались страшно, но даже не поняли, что это было. Говорят, выдернули прямо из постели и куда-то увезли. Они уже и в комендатуру ходили, и в прокуратуру, никто пока ничего сказать не может, где он. Говорят, по бумагам нигде не проходил. Но, я надеюсь, найдется. Ошибка какая-то, разберутся, — и она снова вернулась к теме отъезда:
— Ты знаешь, даже не верится, что скоро этот кошмар закончится. И жду поскорее этого отъезда, и боюсь его страшно. Что мы там будем делать? Там же совсем другая жизнь, другой мир! Кому мы там нужны?
— Страшно оставаться здесь. Там у тебя отец. И… — мне очень захотелось сказать ей, что на меня тоже можно рассчитывать. Сказать, что она нужна мне. Что когда не вижу ее хотя бы день, все валится из рук. Особенно когда представляю, как они с матерью живут в этом мертвом доме. В квартире, где в одной из комнат поселилось прошлое: среди старых фотографий, пианино «Красный Октябрь» и безделушек на комоде, убранном белоснежной кружевной накидкой. А в другую комнату снарядом, высадившим стену, ворвалось настоящее. Они не заходят в эту комнату. Но настоящее постоянно напоминает о себе холодом, сквозящим из-под плотно закрытой двери. Мне захотелось сказать Ольге, что неожиданно для себя стал испытывать к ней чувства, на которые давно считал себя неспособным. Но ничего такого я не сказал. А Ольга, помолчав немного, продолжила:
— Здесь хотя бы все понятно. А у отца давно другая семья. Он не сможет еще и нас на себе тащить. В Москву приехать поможет, да. Квартиру снять на первое время. Но потом нам неудобно будет принимать от него помощь.
— Ну что за глупости ты говоришь! Он же отец! И потом — надеюсь, мы с тобой не потеряемся в Москве? — сказал я, но она словно не расслышала вопроса.
— Я очень боюсь встречи с отцом. Мы ведь не виделись столько лет! Он меня помнит совсем маленькой девочкой. А я его в основном только по старым фотографиям — молодым, сильным, красивым мужчиной. Вспоминаются, конечно, какие-то эпизоды из детства, связанные с ним, но они расплывчаты. Я много раз представляла себе эту встречу, мысленно разговаривала с ним, а теперь боюсь. Вдруг мы окажемся совсем чужими? Каким он стал? Постарел, наверное, поседел?
Потом она стала расспрашивать о том, что сейчас носят женщины в Москве. Я сказал, что плохо в этом разбираюсь, и предложил посмотреть спутниковые каналы, выход на которые у нас есть. Минут двадцать Ольга щелкала пультом, жадно вглядываясь в людей, мелькавших то в новостных программах, то в каких-то шоу. Наконец огорченно констатировала:
— Да, кажется, Маугли вконец одичал. Я отстала от жизни.
— Маугли? — переспросил я.
Она улыбнулась:
— Меня так дед маленькую называл, когда не слушалась. Говорил: «Вот упрямица! Вся в свое горское племя!» А когда слушалась, говорил, что вся в него.
Ольге пора возвращаться, и я проводил ее до площади перед КПП. На этот раз ее никто не ждет. По привычке она стала искать глазами грязно-белую «шестерку» Рустама. Мне стало тошно. Смогу ли я когда-то рассказать ей, что с ним случилось? Что это он, Рустам, убил ее подругу из соседнего подъезда. И что саму ее, и ее мать не тронули лишь потому, что шестнадцатилетний подросток, который между тем был безжалостным убийцей, испытывал к ней какие-то добрые чувства. Или просто не успели тронуть? Я вспомнил наглые глаза Рустама в последние минуты его жизни, когда он сказал: «Жаль, не успел добраться до всех своих соседок…» Нет, он не думал, что умрет в том подвале. Был уверен, что его отвезут в комендатуру или отдадут в руки местной милиции. Дьявольские огоньки, плясавшие в его глазах, говорили о том, что самые страшные его планы еще не осуществились, но он жаждет их воплотить. «Всех достанем», — что он имел в виду?
Лема согласился отвезти Ольгу.
— Постараемся не потеряться, — сказала она мне, садясь в машину.
— Что?
— В Москве, — ответила она. — Ты спрашивал.
* * *
— Э, Асламбек, тащи сюда этих баранов, — говорит кому-то бородач с зеленой, арабской вязью, повязкой на лбу.
В лагере боевиков оживление. Из японского двухкассетника звучит национальная музыка. Кто-то напевает на чеченском. Некоторые танцуют, вскидывая локти в лезгинке. Смеются боевики громко, не боясь быть услышанными в горах. Значит, подразделений федеральных сил рядом нет. Тот, кого назвали Асламбеком, открывает деревянные створки зиндана — ямы, вырытой прямо в земле. Издалека яма сошла бы за погреб, в котором хранят сметану и молоко. Но боевики в зинданах держат людей. Из-под земли испуганно смотрят три пары глаз.
— Э, вихады, давай! — орет Асламбек в яму.
На свет выползают трое солдат. Босые, в окровавленных лохмотьях. У одного от побоев лицо распухло так, что не видно глаз. Его под руки ведут товарищи по несчастью.
Я проматываю пленку вперед в ускоренном режиме. Кассета была найдена в схроне боевиков вместе с новым, еще пахнущим типографской краской Кораном в зеленом переплете во время одной из зачисток в Старых Атагах. На днях мы были там с чеченским ОМОНом. Командир ОМОНа, Иса, кассету отдал мне, а Коран оставил себе. Сейчас я пытаюсь сделать из трофея сюжет, выбирая кадры, которые можно было бы показать чувствительной аудитории.
Какое-то время пленников избивают. Потом ставят на колени. Асламбек достает нож. Парни испуганно смотрят друг на друга. Судя по возрасту — срочники. Лет по девятнадцать-двадцать, не больше. Боевики что-то возбужденно кричат друг другу. Потом Асламбек берет за волосы пацана с распухшим лицом и приставляет нож к его горлу. Тот даже не сопротивляется, покорно ждет. Так ждут смерти, невообразимо устав от жизни. Двое других пленников смотрят на происходящее как на кошмарный сон, пытаются что-то объяснить боевикам, но те только гогочут. Под гогот и лезгинку Аслабмек начинает медленно резать горло мальчишке. Тот захрипел, задергался, захлебываясь собственной кровью. Издавая характерный булькающий предсмертный звук, на который способен только человек, которому перерезают горло. Какое-то время несчастный бился в конвульсиях. Потом затих. Асламбек под всеобщее ликование поднял отрезанную голову, держа ее за волосы, и издал дикий вопль. С отрезанной головы на землю струится кровь. Двое друзей убитого почти без сознания от ужаса. Они уже даже не просят о пощаде. Боевики смеются. Лезгинка играет. Бородач Асламбек навис над пленными солдатами. Они парализованы страхом. Он чувствует это, куражится. Запускает окровавленную пятерню в волосы одного из них. Тот зажмуривается. Но Асламбек под общий хохот тащит парня за волосы обратно к зиндану.
Я снова проматываю пленку вперед, стараясь не вглядываться в подробности происходящего на экране. Тошнота комом подступила к горлу. За годы чеченской войны и командировок в другие точки, которые на Планете называют «горячими», таких сцен на трофейных кассетах я пересмотрел километры. Вроде бы уже научился включать внутренний блок, защиту. К одному не могу привыкнуть. К легкости, с которой одни двуногие лишают жизни других. Без всякой на то необходимости. Чаще просто для развлечения. Кадры убийств подчеркивают хрупкость телесной оболочки, в которой живет человеческая душа.
Магнитофон с равнодушным жужжанием мотает пленку, на которой, точно смешные комики из немых фильмов, быстро двигаются люди. Они говорят лилипутскими голосами, и оттого все происходящее кажется ненастоящим. Нелепой кровавой драмой лилипутов.
Близких к помешательству, оставшихся в живых пленников бросили обратно в яму. Наверняка готовят продать в рабство или обменять. Убитый имел «нетоварный» вид. Кроме того, он сильно ослаб и, скорее всего, умер бы в ближайшее время от истощения. Но возможно, это было чем-то вроде кровной мести. Пленка прерывается. Я смотрю на дату записи — сделана месяц назад. Дальше снова побежала картинка. Идет колонна федеральных войск. Боевики снимают с небольшой возвышенности. Перешептываются на чеченском. В какой-то момент кричат: «Аллах Акбар!», и первый в колонне бэтээр взлетает почти вертикально от мощного взрыва, как если бы его хотели запустить в космос. Бэтээр разрывает на части. Бойцов, сидящих на броне, разметало в стороны. Тут же на колонну обрушивается шквал огня. Такие записи боевики делают для отчета, отрабатывая деньги.
Решаю не делать сюжет, а отдать кассету в прокуратуру. Может, вместе со спецслужбами им удастся вычислить местоположение пленных солдат. Если пленники еще живы, сюжет может им только навредить.
Собираюсь позвонить в редакцию, попросить о продлении командировки, но спутник запиликал сам. Звонит главный редактор телекомпании. Ее голос звучит встревоженно и как-то торжественно:
— Вы должны немедленно эвакуироваться из Чечни, — говорит она. — Прямо сегодня распространите везде, где можно, информацию, что уезжаете. По данным наших источников, из спецслужб в отношении вас и вашей группы готовится провокация.
— А я как раз хотел просить о продлении командировки, — говорю я.
— Об этом не может быть и речи!
— У меня не хватает материала для фильма. Нужно еще несколько дней, иначе все в корзину.
— Тогда так. Командировку мы вам не продляем. Но можете остаться до ее окончания. При этом немедленно распустите слух, что срочно уезжаете! Оставшиеся дни снимайте фильм, а уже завтра к вам прилетит Дмитрий Бондаренко. Он будет заниматься новостями.
Я уверен, что звонок главреда — проделки «Ну, погоди!». Догадка подтвердилась, когда вышел из кунга. Возле наших вагончиков крутится Зайцев, делая вид, что пришел по делу к кому-то из коллег. Увидев меня, изобразил фальшивую радость:
— Ну, скоро «дембель»?
— Увы, остаюсь еще на один срок! — я не смог отказать себе в удовольствии поиздеваться над Зайцевым. Конечно, он знает о звонке из редакции. Не он ли тот загадочный источник?
— Как остаешься? — выдержка подвела чекиста. Улыбку сорвало с лица прежде, чем он осознал, что спалился.
— Так, остаюсь. Москве нравятся мои материалы, хотят еще.
Побагровевший Зайцев зашагал в сторону пресс-центра.
— Не грусти, друг, на площади продают неплохой вазелин, — кричу ему вдогонку.
Скорее всего, Степан прав. Если бы действительно захотели серьезно наказать и свалить все на злую чеченскую пулю, давно бы сделали без шума и пыли. Зачем спектакль устраивать? Много чести для меня. Источник, скорее всего, придуман, чтобы просто напугать. Не с ума же они сошли? Но на душе мерзко. Осадок остался. А что, если и правда что-то затевается?..
Почему я не могу просто делать свою работу?
* * *
Пьем молча. Не чокаясь и не закусывая. Никто даже не притронулся к шпротам и тушенке, наспех выложенным на черствый черный хлеб. Все прячут глаза в стаканах, стараясь не смотреть на Стаса, который говорит:
— Вот чурка косоглазая! Кинул, сука! Вот как таким верить? Ведь друг лучший, братом называл! Лыбится постоянно, глаза свои косые щурит, а что в башке у него, даже я, выходит, не знал!
В то, что Зула застрелился, верить не хочет никто. Не верю в эту нелепицу и я. Но все равно пью за него. За то, чтобы земля была ему пухом и чтобы в том, другом мире, о котором все здесь часто говорят или, уж точно, думают, ему было бы лучше. В этом мире он так и не прижился. Сегодня вечером Зула закончил свою страшную «коллекцию», нанизав на леску два последних, высушенных вражеских уха. Всего сто ушей от пятидесяти врагов, как и обещал, за убитого друга. Вымоченные в специальном растворе, неестественно маленькие, усохшие раза в два, но сохранившие все черты, человеческие ушные раковины. Издалека их можно было бы принять за ожерелья из бледно-желтых цветов, которые в Индии надевают на шеи во время праздников. Но, приглядевшись поближе, становится ясно, что подойдет это ожерелье, скорее, для праздника у Сатаны в Аду.
Зула повесил связки ушей на гвоздь, вбитый в деревянную балку рядом со своей кроватью. Потом вышел во двор казармы, достал из кобуры «стечкин» и выстрелил себе в голову.
Никто не может понять, как вечно улыбающийся, неунывающий Зула, прошедший без единой царапины две чеченские кампании и повидавший на войне все, что только можно было повидать, мог убить себя сам. Кто-то вспомнил, что вот и из отпуска он приехал досрочно, сказал тогда: «Чужое там все. Люди только про деньги говорят. Ненавидят друг друга». Будто здесь, на войне, они друг друга любят. Почему-то я вспомнил, как Зула сказал, что боится драться. Воевать не боится, а драться боится. Больно, говорил, когда по морде бьют.
За столом еще выпили. Постепенно разговорились. Каждый пытается сказать что-то хорошее про Зулу. Но получается как-то коряво. Вроде как и сказать нечего. Отчаянный, улыбчивый парень. Калмык. Потомственный охотник. Из эсвэдэшки «духу» в глаз мог попасть. Воевал треть своей короткой жизни. А потом застрелился, не оставив после себя ничего, кроме страшной коллекции высушенных человеческих ушей.
Как водится, стали проклинать войну.
— У него душа была вся изранена, — мрачно глядя в пол, говорит Лема. — На войне не только тело могут убить, но и душу. Болело там у него так, что устал он от этой боли.
Чтобы не устраивать бесполезных дознаний, командование списало все на снайпера. Тело Зулы отвезли в госпитальный морг, чтобы запаять в цинковый гроб перед отправкой в Калмыкию родственникам. Завтра Стас повезет тело своего друга и названного брата.
— Он же на сестре моей обещал жениться, сука! — говорит Стас и плачет.
Своих врагов Зула отправлял на тот свет легко. Нажимая на курок, он словно «выключал» их из жизни, как выключают электрическую лампочку, которая горит зря. Так же легко он выключил и себя. Я вспомнил, как он резался в «стрелялки» на трофейном ноутбуке и сравнивал нашу жизнь с компьютерной игрой, где мы на самом деле — лишь виртуальные персонажи, стремящиеся к лучшей жизни, накапливающие всеми способами бонусы и убивающие друг друга только для того, чтобы выжить самим и перейти на новый уровень. Зула считал людей аватарами в компьютерной игре высших существ, которые сами по себе могут быть кем угодно — мудрыми осьминогами, облаками или сгустками энергии. Кем ты увидел себя в другом мире, Зула? И увидел ли? Зула был крепким и твердым, как камень. Но даже камни иногда не выдерживают.
Мы прогуливаемся с Ольгой вдоль нашего избитого свинцом бетонного забора. Сто метров туда, сто обратно. Я рассказал про Зулу. Она расстроилась, хоть и не знала его.
— Как ты думаешь, там есть что-нибудь? — задала она вопрос, который так часто мне приходилось слышать в Чечне, и посмотрела на звезды. На Кавказе они кажутся всегда ближе, чем, например, в центральной части России.
— Думаю, есть. Не может не быть, — ответил я.
— Ты веришь в переселение душ и прошлые жизни? — снова спросила она. — Было бы хорошо, если бы мы жили не одну жизнь.
— А чем это хорошо? — спросил я.
— Тогда было бы не так страшно умирать. Ты часто думаешь о смерти?
— Мы все думаем о смерти слишком часто. Гораздо чаще, чем хотелось бы. Из-за этого многие не успевают жить.
— Люди часто думают о смерти, потому что не знают точно, что следует за ней. Они не могут поверить, что их «я» не будет существовать больше никогда. Представить это также сложно, как бесконечность Вселенной, — сказала Ольга. — Если бы люди точно знали, что после этой жизни будет другая, им было бы гораздо легче.
— Если бы они это знали наверняка, половина человечества покончила бы с собой, как Зула. В мире и так каждые три секунды кто-то решает свести счеты с жизнью. И каждые тридцать секунд такая попытка заканчивается смертью. Более миллиона землян ежегодно покидают Планету добровольно. И около двадцати миллионов пытаются это сделать. Думаешь, они все верят в переселения душ?
— Зачем ты помнишь все эти ужасные цифры? Жизнь здесь не идеальна, конечно. Но другой у нас нет, — сказала Ольга.
— Я думаю, что самое ценное в человеке — его личность. Личность — это душа. А душа — это память, характер, жизненный опыт, накопленные знания, родственники, друзья, любовь. Сотри все из памяти — и будет уже совсем другая личность. Какая разница, кем ты был и чего достиг, если не помнишь того, что было дорого в прошлой жизни? Лично мне интереснее, что происходит с моей душой, моей личностью. Если она куда-то там переселяется и ничего потом не помнит — что мне с того? Клонируют меня, разморозят или переселят в новое тело — это буду уже не я. Память — вот что важно. Недаром людей, теряющих память, называют растениями. Что до переселения души — чем дети не пример переселения души или клонирования? Мы живем дальше в наших детях и в детях наших детей. Ведь это наши кровь и плоть, им передаются ДНК и внешность. Вот у Ивана, техника нашего сын — одно лицо с отцом, и такой же толстый, как он, — ну абсолютный клон! Но все-таки это не Иван. Это другая душа, в которой есть только частичка Ивана. Но это одна теория. А теперь другая, противоречащая. Так ли уж важно, чтобы там, — я посмотрел на небо, — мы чувствовали себя такими же, как сейчас здесь? Может, мы будем в чем-то лучше? Или просто другими? Ведь до нашего рождения мы ничего не знали ни об этой жизни, ни о Планете и не страдали от этого. Не будем страдать и после. Потому что «ничего» не может страдать. Или вот взять, например, сон. Пока ты спишь — вокруг происходят разные события. Но ты их не видишь и ничего о них не знаешь. Единственное, что тебя возвращает в этот мир, — твоя память о прошлом. Именно память связывает тебя с этим миром до того, как заснула, и после того, как проснулась. Без памяти нет ничего — пустота!
Ольга поежилась:
— Тогда зачем все это? Если рано или поздно мы всё… забудем?
— На этот вопрос еще никто не ответил. Мы — часть Космоса. Все здесь создано из космической пыли. В пыль все и превращается, — я снова посмотрел на звезды, — наверное, там не так важны наши физические тела и конкретная память о прошлом. Важно, как мы живем здесь. А там все записывается. И учитывается.
— Все-таки хочется верить, что ТАМ я узнаю себя. И бабушку с дедушкой. Ведь если все так, как ты говоришь, выходит, семья никогда не воссоединится, мы никогда не увидим людей, которые были нам здесь дороги? Это очень грустно, — сказала Ольга.
— Ты знаешь, Зула вообще представлял, что все мы — участники космического реалити-шоу или персонажи компьютерной игры высших существ. Представь, что игра закончилась. Ты вышла из нее, очнулась и увидела себя в виде какого-то спрута.
— Бр-р-р-р! — Ольгу передернуло.
— Ты моментально понимаешь, что вся твоя жизнь на Земле была игрой, искусственно растянутой во времени. Так ли тебе важны будут другие персонажи, которых ты там видела? Даже если они были по «игре» твоими близкими? — продолжил я.
— Ты циник, — сказала Ольга. — У тебя куча теорий, противоречащих друг другу. Мне от этого не по себе.
— А ты подумай: вернемся к снам. Представь, что снится тебе какой-то красавец. Ты испытываешь к нему непреодолимое желание, прямо до мурашек по коже и даже более того — уверена, что любишь его! У вас с ним прекрасные отношения. Вы — целый мир друг для друга, и во сне ты понимаешь, что знаешь его вечность. Бывает такое?
Ольга покраснела:
— Отстань!
— Вижу, бывает! — Мне ужасно нравится ее смущать и дразнить.
— А теперь вспомни, что происходит, когда ты просыпаешься? Правильно! Разочарование и тоска по этому человеку. Возможно даже, он из твоей прежней жизни или параллельного мира. В конце концов, сон — тоже параллельный мир. Первое сиюсекундное твое желание — отыскать его! Но долго ли тоскуешь по нему? Минут пять-десять? А то и меньше, забываешь, не успев проснуться, пытаешься поймать, запомнить ускользающий образ, но не можешь — он рассеивается, как утренний туман над озером. А еще через минуту этот парень уже совсем не беспокоит тебя. А еще через день ты ни за что не вспомнишь этот сон. И все потому, что, проснувшись, ты вернулась в свой мир. В этом мире действуют свои законы и свои привязанности.
— Если бы можно было нашу память записать, спрятать на каком-нибудь носителе, на флешке, например, а потом просмотреть? Что было бы тогда? — спросила Ольга.
— Если когда-нибудь люди научатся записывать свою память и эмоции по отношению к этой памяти на носители, они станут бессмертными. Физическое тело потеряет актуальность. Жизнь станет возможна в компьютерной сети или в информационном поле Планеты или Вселенной. Впрочем, может, так оно и происходит. Если личность — душа после жизни в телесной оболочке переносится на некий сервер Вселенной, это и есть бессмертие…
…Солнце встало над Грозным. Откричал утреннюю молитву муэдзин, пара длинных пулеметных очередей разрезала морозный воздух, символизируя начало нового дня. Где-то тяжело ухнуло. Наверное, подорвался на фугасе бэтээр. Инженерная разведка двинулась ощупывать обочины дорог, за ночь нафаршированные смертью. За «саперкой» загудели по городу колонны военной техники. Торговки поспешили на рынок. Начались зачистки. Город-призрак зажил своей обычной жизнью. Люди начали охоту друг на друга.
Лема остановил «Газель» возле руин, недалеко от дороги на село Старая Сунжа, спрятав машину за разбитой пятиэтажкой. На стене дома красными, с человеческий рост буквами выведено: «МИНЫ».
Утром из Москвы приехал Димка Бондаренко — мой давний приятель и хороший журналист. Теперь «Новости» на нем, а я могу все оставшееся время посвятить съемкам документального фильма. Этот фильм — о торговле людьми на Кавказе. О том, как похищают, продают в рабство невольников в начале двадцать первого века в одном из регионов планеты Земля. За время командировки с помощью чеченских друзей из силовых структур нам удалось получить на эту тему эксклюзивные интервью и видео. Что-то пригодится из наших новостных репортажей, материалы которых часто используются в «полотнах», так на сленге телевизионщики называют крупноформатные проекты. Сегодня нам надо отснять планы Грозного, руины. Точнее, Грозного в руинах.
Лема остался в машине. Он явно нервничает. Ему не нравится, когда мы снимаем одни, в глухих местах, где рядом ни блокпостов, ни военных. На пассажирское сиденье он кладет охотничий карабин, который всегда возит с собой.
Эту улицу, недалеко от площади Минутка, я приметил давно. Время здесь словно остановилось. В лучах утреннего зимнего солнца, искрящихся в серебряной пыли снежинок, она кажется абсолютно нереальной, сюрреалистичной и как нельзя лучше символизирует собой мертвый город. Это даже не улица, а целый старый квартал, состоящий из невысоких, в три-пять этажей, домов. Тут совсем никто не живет, даже в подвалах, потому что кругом полно мин, которые закладывали все кому не лень. И свои, и чужие. Разминировать квартал федералы не спешат. Отсюда хорошо простреливается дорога.
Гусь устанавливает на штатив камеру. Мертвая улица уходит куда-то за горизонт, к свету, струящемуся между разбитыми домами. Колючий ветер поднимает с земли мусор и обрывки газет, наверняка позапрошлогодних, с двухтысячного, когда во второй раз взяли Грозный. Кажется, с тех пор здесь никто не ходил. Только вдалеке, там, где улица растворяется в слепящем зимнем солнце, появился силуэт кошки. Единственной и полноправной хозяйки мертвой улицы на территории Ада.
Битый кирпич, стекло, покосившиеся вывески магазинов с черными дырами вместо витрин. Почти везде на стенах, где краской, а где мелом написано: «МИНЫ».
Мы прошли пару кварталов от нашей машины, в которой остался Лема. Осторожно продвигаясь между домами, тщательно оглядываем землю, прежде чем сделать шаг, стараясь не наткнуться на мины или растяжки. Снимаем страшные и одновременно нереальные, фантастические планы, которые кажутся мне невероятной журналистской удачей. Лучших декораций для фильма о конце света придумать невозможно. Никакие киношные художники и декораторы не могут конкурировать по части достоверности с тем, что создает сама жизнь. Или смерть? В принципе это почти одно и то же. Потому что одно является началом или концом другого.
Мы дошли до места, где я увидел кошачий силуэт. Это оказался перекресток с еще угадывающейся пешеходной разметкой и немыми светофорами, свисающими с покореженных железных столбов. Мы решили пройти немного вниз по перпендикулярной, узкой, извилистой улочке. На фасадах ее домов еще видны названия булочных и кафе. Пашка нашел подходящий план и стал снимать «с плеча», как вдруг сзади нас раздался хруст битого кирпича. В ту же секунду мы оба обернулись.
Метрах в двадцати стоит чернявый небритый мужик лет сорока в черной короткой куртке. Сзади, из-за угла дома, вышел еще один.
— А, тэлэвидэниэ, — протянул с акцентом мужик и стал медленно приближаться. «Мародеры!» — противно похолодело у меня внутри. На боевиков эти двое явно не тянут — просто шарятся в пустых домах в поисках поживы. Такие расстреливают и своих и чужих, лишь бы было что взять. Здесь их зовут «шакалами».
Гусь поставил камеру на землю. Мы переглянулись. Мужик остановился, обернулся на своего приятеля. Тут из дома крикнули что-то на чеченском. Чернявый ответил. В доме засмеялись. Значит, с ними еще как минимум один.
— Камэра, дарагая, науэрноэ, — заговорил второй мужик из-за спины чернявого. Оба осклабились.
— Пойдем, — сказал я Пашке. Мы подхватили камеру со штативом и сделали шаг, но чернявый окрикнул, растягивая «р»:
— Э! Стоять, бр-р-ратан!
Мы встали. Ничем хорошим эта встреча явно теперь не закончится. В голове проносятся мысли: «Лема. Услышит, если крикнуть? Что, если рвануть в сторону машины, бросив камеру и штатив? Не успеем». За поясом чернявого под распахнутой курткой я заметил рукоятку пистолета. Ноги сделались ватными, копчик свело тяжестью. Что же делать? Почему-то снова подумалось про Новый год, который должен наступить через несколько дней.
Чернявый что-то сказал второму. Несколько секунд они о чем-то спорили. Хриплый мужской голос, доносящийся из дома, принимал участие в решении наших судеб.
— Послушайте, мы журналисты федерального канала, снимаем репортаж. Все разрешения на съемку у нас есть, — попытался заговорить я, но шакалы засмеялись:
— Здэс, на этом улыце, я даю разрэшениэ, понэл? — чернявый показал гнилые зубы и достал пистолет. — С нами пойдетэ! Э, сюда давай! — протянул он вторую руку к камере.
Мы с Пашкой переглянулись. Яснее ясного, что, если сейчас что-то не предпринять, домой уже не вернемся никогда. Или продадут в рабство или убьют. В голове промелькнула горькая мысль о том, что, снимая фильм о торговле людьми, мы сами можем угодить в зиндан. Репортаж изнутри, так сказать. Жаль, его никто никогда не увидит.
Вдруг сбоку, из-за стены, прогремел выстрел. Чернявый пригнулся и бросился в сторону дома. Второй выстрел заставил упасть на землю приятеля чернявого. Словно в тумане вижу Лему с карабином. Подхватываем камеру со штативом, бежим, не глядя под ноги, забыв про мины и растяжки. Лема без остановки палит из карабина куда-то за наши спины.
…В настоящей реальности я стал ощущать себя, только когда показалась комендатура.
— Говорил я, не надо туда лезть, — впервые нарушил тишину Лема, когда мы подъехали к синим с дырявыми звездами воротам. Мародеры это были, шакалы. Отморозки. Даже не боевики никакие. Просто так грохнули бы вас дураков, и всё. Аппаратуру бы забрали, — отчитывает он нас как пацанов.
— Спасибо, тебе, Лема, — все, что мог ответить ему я.
О случившемся решили никому не рассказывать, даже Ивану. В вагончике выпили с Пашкой водки. Лема, как всегда, не стал.
Я подошел к небольшому прямоугольному зеркалу, висящему у входа. Пытаюсь посмотреть на себя глазами инопланетянина, который впервые увидел землянина.
Игру в инопланетян я придумал в детстве, о чем говорил выше. После того как убедился в их существовании. Нет, у меня не поехала крыша на войне. Пока, во всяком случае. Я храню эту тайну много лет, потому что рассказать о встрече с инопланетянами другим землянам — все равно, что расписаться в собственном безумии. Земляне верят только в то, что можно потрогать, понюхать или попробовать на вкус. И даже столкнувшись нос к носу с пришельцами, большинство из землян решит, что им померещилось, и постараются об этом поскорее забыть. В противном случае их ждут апартаменты по соседству с Наполеонами, Ван-Гогами, Сталиными, Жаннами Д’Арк или такими же «контактерами» с внеземными цивилизациями.
Мне было лет шесть или семь, когда над серой кирпичной пятиэтажкой, в которой располагалась почта, показался странный предмет. Мы увидели его почти одновременно с моим лучшим другом Юриком, когда чинили велосипедную цепь. Что-то заставило нас поднять головы к небу. Предмет напоминал небольшую летающую гантель, что-то вроде металлического стержня, на концах которого по стеклянному или металлическому шару: синий, почти фиолетовый и красно-оранжевый. Я потом долго рисовал ее красками, фломастерами и карандашами, но в точности оттенки шаров передать так и не смог. Кажется, фиолетовый шар был меньше оранжевого. А между шарами, над стержнем — будто едва заметная дугообразная проволока или прозрачное стекло.
Поначалу мы с Юриком подумали, что это какой-то зонд для изучения погоды. В нашем возрасте мы уже слышали о таких штуках. Но «гантель» стала вытворять нечто, не укладывающееся даже в наших детских головах. Она то приближалась, «разглядывая» нас, снижаясь ниже крыши пятиэтажки, то взмывала в небо, почти исчезая из вида. Затем снова приближалась, кувыркаясь и выделывая невероятные кульбиты, нарушающие все земные законы физики и гравитации. Зависала неподвижно и снова пускалась в полет, крутясь и переворачиваясь, как ей вздумается. Со стороны казалось, что кто-то из Космоса дергает «гантель» за веревочку. Это, пожалуй, самое точное определение. Если вы привяжете палку к веревке и будете хаотично дергать ее — то сильнее, то слабее, вы поймете, о чем я говорю. «Летающая гантель» — так прозвали мы ее с другом, словно играла с нами. Продолжалось все не больше двух минут. Хотя точно сказать нельзя. Тем более сейчас.
Когда объект в очередной раз завис, из фиолетового шара блеснул луч. Юрик вскрикнул и закрыл глаза руками. Какое-то время он ничего не видел. Я же завороженно продолжал смотреть на странный летающий предмет, для которого не существовало никаких ограничений в пространстве. «Гантель» опустилась совсем низко, зависла, и мне показалось, в ее оранжевом шаре я вижу свое отражение. Вдруг мне все стало ясно про «гантель». Я понял, что она не отсюда. Просто как-то осознал это. Но совсем не удивился. Так мы «смотрели» друг на друга какое-то время. Затем, сделав кувырок, «гантель» снова стала хаотично подпрыгивать, менять траекторию и удаляться, стремительно набирая высоту. К Юрику сразу вернулось зрение, и мы вместе смотрели на «гантель», летящую теперь уже вертикально вверх с огромной скоростью, подобно ракете. Через мгновение она превратилась в точку и растворилась в небе, на котором не было ни облачка.
Что это было? Сейчас я бы назвал это инопланетным беспилотником. Возможно, «гантель» выпустил большой корабль, находящийся на околоземной орбите. Точно размеры предмета определить было сложно. Нам показалось — от двух до пяти метров в длину. Но что бы это ни было, оно пришло из другого мира. Мы с другом, не сговариваясь, приняли этот факт как сам собой разумеющийся. Конечно, мы тут же рассказали все взрослым. Разумеется, нам не поверили. Отец решил, что это был какой-то радиоуправляемый летающий предмет. Когда я горячо возражал, показывая траектории полета, и говорил, что в конце концов «гантель» со скоростью ракеты растворилась в небе, отец пожимал плечами.
Тогда, в детстве, после встречи с чем-то загадочным, пришедшим из другого мира, я и придумал эту игру: смотреть на все вокруг глазами пришельца. Вспоминая зависший над своей головой внеземной объект, в котором виделось мое отражение, я часто пытался представить — какими они видят нас. Ведь со стороны, из Космоса, как известно, виднее.
С тех пор для меня не существует вопроса — верить или не верить в братьев по разуму. Я не верю. Просто знаю, что мы не одни во Вселенной. Это также естественно для меня, как то, что вода мокрая, а трава зеленая.
И все-таки мы с Юриком перестали рассказывать про «гантель» таким же, как и мы, землянам. Мы выросли. Иногда вспоминаем эту историю и сами уже верим в нее с трудом. Но привычка смотреть на себя и происходящее вокруг глазами пришельца у меня осталась.
Совсем недавно я случайно увидел по каналу Би-би-си документальный фильм, посвященный «летающим гантелям». Их так и называли. В фильме точь-в-точь описывалась наша с Юриком «гантель» с разноцветными шарами…
Итак, попробуйте абстрагироваться от своего тела. От образов себе подобных, к которым привыкли с рождения, потому что ничего другого ваши глаза не видели. Органы осязания и собственное эго давно убедили землян в том, что разумным может быть только существо, похожее на человека. Вертикально ходящим приматом без хвоста. Более того, быть таким нормально и даже хорошо. Посмотрите на себя со стороны. Представьте, что вы медуза или цветущая роза. Или инопланетянин с абстрактной оболочкой. Как бы вы описали тех, кто именует себя людьми — самыми главными из существ на планете Земля? Посмотрите в зеркало. Кого вы видите? Монстра? Ангела? Что такое ваши лица, зубы, волосы, пальцы-щупальца с едва заметными, как у лягушек, перепонками? Ушные раковины, похожие на морские?
Кто мы такие? На кого мы похожи? Задумывались ли вы, почему люди имеют две руки и две ноги, покрытый волосами череп и зубастый рот?
Я скалю зубы, трогаю клыки. Один из моих клыков больше других, но немного стесан. Когда-то пытался разгрызть им орех. Но клык все еще очень крепкий. Если вонзить в горло врагу — можно перекусить артерию. Тогда враг умрет через пару минут. Между зубами проворной змеей высунулся язык. Поизвивался, скрутился трубочкой, нырнул обратно. Опускаю нижнее веко, разглядываю глазное яблоко. Надуваю ноздри, дотягиваюсь кончиком мизинца до внутренних волосков. Если верить ученым, они мешают попасть пыли в мой организм. Глядя на отражение глазами инопланетянина, нахожу свою внешность весьма странной и свирепой. Я вижу зубастое, хищное существо.
Закончив исследование, отправляюсь спать. Завтра, возможно, придет Ольга. При мыслях о ней в моей груди снова приятно забегали мурашки. Их нельзя поймать и потрогать, поместить под микроскоп. Мурашки — это то, что отличает человека от животного. Так самонадеянно думают люди.
* * *
Собаки обступили со всех сторон. Огромные, мрачные псы. Но страха почему-то нет. В детстве у меня были проблемы с собаками. Я их боялся. Они чувствовали это и норовили разорвать. Страхом пахнет добыча. В детстве я все лето проводил на Кубани у бабушки. Пару раз на меня нападали соседские овчарки размером с телят. В первый раз мне было лет пять. Во второй — семь. Когда тебя сбивает на землю чудовище, гораздо тяжелее и больше тебя, обхватывает передними лапами и начинает рвать клыками твою спину и задницу, лучший выход — думать, что все это сон. Прохожие станичники отбивали у собак добычу, то есть меня. Бабушка, вооружившись палкой, шла разбираться с псами и их хозяевами. А потом лечила мои раны мазями и травами. Я долго боялся собак. Но однажды вдруг понял, что больше не боюсь. И собаки от меня отстали. Я перестал их интересовать. От меня больше не пахло добычей.
…Псы облизывали мои руки, выражая хорошее расположение. Неожиданно прямо перед собой я увидел огромную голову. Это была Черная Пантера. Судя по всему, она здесь главная. Ее глаза — два огромных изумруда, светились зеленым, гипнотизировали. Такими же зелеными изумрудами и еще золотом была украшена ее голова. Гигантские собаки и кошки вместе что-то обсуждали. Почему-то я догадался, что речь идет обо мне. Звучала приглушенная, спокойная музыка. Я заметил еще каких-то странных существ, похожих на мохнатых лягушек. Только вместо кваканья они напевали отрывок из известного мюзикла. Я попытался сосредоточиться на словах и вспомнить название мюзикла, но не смог. Лягушки были повсюду и, судя по всему, прислуживали Пантере. На голых скелетах деревьев сидело несколько ворон. Одна из них была та самая, что перед командировкой преследовала меня по дороге в церковь, каркая. Не знаю как, но я узнал ее среди других, точно таких же ворон.
— Не бойся, — сказала Пантера, — мы не причиним тебе вреда.
Ее голова была так близко, что я почувствовал дыхание. Но вместо тепла из пасти Пантеры вырывалась прохлада затхлого погреба.
— Тебя предали, — продолжила гигантская Черная Кошка. — Но я помогу тебе. Ты начнешь все сначала.
Неожиданно я обнаружил, что моя левая рука каким-то образом оказалась в пасти Пантеры. Она лизнула руку, и я с брезгливостью ощутил прохладную липкую слизь и острые, как бритва, клыки. Осторожно, боясь пораниться, освободил руку и сделал шаг назад, но уперся спиной в огромного черного пса. «Странно все-таки: кошки и собаки вместе…» — мелькнуло в голове.
— Расслабься и не волнуйся, — сказал большой Черный Пес приятным баритоном.
— Мы покажем тебе твой путь, — добавила Пантера, и все кругом замолчали. Музыка и лягушки тоже стихли.
У меня возникло ощущение необычайной важности и торжественности момента. Словно вот-вот должно произойти что-то таинственное и интимное. Вдруг я обнаружил, что лежу на земле, а говорящий Черный Пес положил огромную лапу мне на грудь так, что стало трудно дышать.
Пантера, продолжая гипнотизировать меня своими изумрудами, не отрываясь, смотрела прямо в глаза. Неожиданно стало хорошо и спокойно. Я почувствовал, как сознание будто отделяется от тела, которое становится мне безразлично. Так медленно рассеивается утренний туман, обнажая то, что до сих пор было скрыто от глаз.
Но вдруг я испугался. Не огромных собак и не Черной Пантеры. А того, что навсегда останусь в этой странной компании. В месте, где темно, прохладно и пахнет сырой землей. И главное, что я никогда больше не увижу Ольгу. Ведь она сегодня обещала прийти. Подумал, что я так и не потрогал ее волосы. И не насладился вдоволь ее запахом, ни на что не похожим. И еще о том, как буду скучать по ее идеальным ушным морским раковинам.
— Можно я останусь? Я пока не готов, — неожиданно твердо и спокойно сказал я.
И тогда всё разом пришло в обратное движение. Животные вдруг снова о чем-то оживленно заговорили. Я пытался вслушаться в их разговор, но ничего не мог разобрать. Лягушки снова запели мюзикл, но в обратном порядке. Потом все стало исчезать. И Пантера, и Пес с приятным баритоном, и поющие мохнатые лягушки, и вороны на черных, будто обугленных стволах деревьев. Сознание стало возвращаться в тело.
Я вскочил на кровати. Задыхаясь, кашляю. Жадно хватаю ртом воздух. Сердце бешено колотится, как если бы пробежал километров пять в полной боевой выкладке: в бронике, с автоматом и боекомплектом.
Постепенно отдышался. Наверное, во сне уткнулся в подушку, и кислород перестал нормально поступать в легкие.
За окном заливаются лаем Вермут с Вискарем. Петрович журит их за что-то, обещая лишить водки.
Вспомнился вчерашний день и мародеры. За дверью, в закутке, который служит кухней, слышны голоса. Пашка, Иван и Димка Бондаренко пьют чай. Но Гусь — кремень. О вчерашнем не расколется даже своим.
Смотрю на календарь. 27 декабря 2002 года. У бабушки сегодня день рождения, надо позвонить, поздравить. Зачеркиваю, как мы делали в армии, вчерашнее число в календаре. До конца командировки три дня. Тридцатого — в Москву! Какое-то время еще лежу, думая про наступающий Новый год и Ольгу. Поскорее бы они с матерью выехали отсюда!..
Иду на площадь перед КПП. Надо купить теплые носки. У ворот неожиданно встречаюсь с Ольгой Ивановной. Как всегда, подтянутая, в своем строгом сером костюме, поверх которого надето светлое короткое пальто из кашемира, она спешит на работу в Дом правительства. Спросил ее про дочь.
— Оля сегодня не придет, приболела немного. От меня, наверное, заразилась, я же две недели грипповала. Ну, вы помните, когда к нам приезжали. Но завтра она будет обязательно — мне по работе поможет и отцу позвонит, если вы не против.
Конечно, я не против. Глядя вслед этой женщине, еще очень привлекательной в свои пятьдесят два, думаю о том, что за все время она ни разу не позвонила бывшему мужу сама. Только один раз пришла с Ольгой. Наверное, она все еще не простила его. За годы одиночества, за упущенные возможности в карьере. Наверное, если бы не Ольга, она бы вообще никогда к нему не обратилась. Но так случилось, что теперь ее бывший муж — единственный человек в Москве, номер телефона которого она знает.
После вчерашних событий мы с Гусем решили сегодня никуда не ездить. Я позвонил родителям в Нижний, поздравил бабушку с восьмидесятисемилетием.
Мы зашли в пресс-службу Дома правительства узнать сводки, а потом решили пообедать здесь же, в столовой. Неожиданно Иван стал ныть, что хочет непременно шашлык. Мы с Пашкой оба не любим шашлычную у шлагбаума, рядом с рынком. Там грязно и тесно. Голосуем за проверенные котлеты в столовой Дома правительства. Кроме того, Пашке не хочется таскаться с тяжелой камерой. Мы взяли ее с собой на случай, если придется писать синхрон в пресс-службе. Но Иван просто умоляет пойти в шашлычную. Хитрость его ясна. Там наливают водку. А здесь нет. Я это понимаю и злюсь на Ивана. Меня раздражает, что он не может честно сказать, что просто хочет выпить. Иван продолжает уговаривать. Говорит, никогда в жизни не хотел шашлык, как сейчас. Я махнул рукой. Ну что делать, раз ему так приспичило? На стоянке Лема меняет колесо, воспользовавшись свободным днем. Позвали с собой. Отказался — уже поел.
До шашлычной метров двести пятьдесят. Выходим за КПП. День выдался, на удивление, теплым и солнечным. Кажется, будто не Новый год, а весна на носу. Солнце растопило редкий снег, и теперь под ногами грязная, липкая каша. Пытаемся разминуться на дороге с «уазиком» и «КамАЗом», медленно проезжающими мимо нас. Сторонимся, чтобы не забрызгало грязью. В «КамАЗе» замечаю совсем юную чеченку лет шестнадцати. Она сидит рядом с мужчиной-водителем, по виду тоже чеченцем. Он сосредоточенно смотрит перед собой. Девушка улыбнулась нам и помахала рукой. Я ответил. Почему-то посмотрел на часы: 14:22. Заходим в прокуренный дорожный вагончик, переоборудованный в кафе.
Шашлыка сегодня нет. Заказываем пельмени. Ивану — водку. На шашлык ему, разумеется, наплевать. Присаживаемся за стол, накрытый клеенчатой липкой скатертью. Кроме нас в шашлычной несколько контрактников. Торопливо едят, спешат на службу.
— Домой уже хочется! — сладко потянулся Иван. — А тебе, Гусь, хочется?
Но Пашка ответить не успел.
Земля под шашлычной на мгновение просела и резко выпрямилась, ударив снизу мощно и хлестко. В поисках жертв ворвались внутрь вагончика осколки стекол от единственного окна, рядом с которым никто не сидел. Мощная, как цунами, взрывная волна прошла сквозь фанерные стены, а затем через мой организм, бесцеремонно ощупав каждую его клетку, каждый орган, ударив по телу, словно по камертону, заставив все внутри вибрировать и дрожать.
Тарелки полетели на пол. Люди привычно упали сами, ожидая обстрела. Обычно за взрывом всегда следует новый взрыв или обстрел.
«Нападение на базу» — первая мысль, которая пришла в голову. Тут же прогремел второй взрыв, гораздо мощнее первого. Вагон встряхнуло, будто кто-то взял его за холку и потряс, как щенка, если бы у дорожных вагонов были холки. Мы с Гусем лежим возле самой двери. Пашка включил камеру. Не поднимаясь, я осторожно приоткрыл дверь.
…Над Домом правительства стоит огромный черный гриб из пыли, щебня и наверняка кусков человеческой плоти.
— Не хило бы мы там сейчас поели! — выпалил Иван.
Контрактники вскочили с пола, похватав автоматы, рванули к выходу, вдавливая в пол каблуками берцев недоеденные пельмени и манты, скользя по разлитому супу и компоту.
Мы бежим в сторону черного гриба. Он не спешит рассеиваться. Зловеще клубится над столовой, в которой несколько минут назад мы собирались обедать. На месте столовой — груда сложившихся плит.
Перед КПП сползает по стене контуженный солдатик. Таращит глаза, передергивает затвор, направляет на нас автомат.
— Свои, не стреляй! — кричу солдату. Понимаю, что слова с трудом проникают в его заложенные взрывом ушные раковины. Он думает, что мы боевики, бегущие в атаку после взрывов. Растерянно смотрит, все еще не понимая, на каком свете находится, не решаясь дать по нам очередь. — Свои! Слышишь, мы свои, не стреляй! — ору ему и, подскочив, опускаю ствол «калашникова». Мальчишка растерянно хлопает глазами, кивает. Заикаясь, пытается что-то сказать, из ушей у него идет кровь. Бежим дальше через КПП.
Сразу натыкаемся на мужчину и женщину в камуфляже, связистов. Держась за руки, поддерживая друг друга, они бегут прочь от черного гриба. Оба в шоке, ревут навзрыд. Головы их разбиты, лица густо залиты кровью. Неестественно алой и густой, словно кетчуп это, а не кровь.
С тех пор как люди изобрели порох, им стало значительно проще добираться друг до друга. Ни одно из хищных существ Планеты, с их клыками, длинными щупальцами, ядом или многотонной массой, способной превратить врага в лепешку, не сравнится с человеком, у которого есть порох. Порох может превратить горы в равнины, а равнины — в глубокие овраги. Может менять облики городов и за секунду разрушать то, что создавалось веками.
Площадь перед Домом правительства — единственного благоустроенного здания в Грозном, оазис относительной безопасности, порох за секунду превратил в груду мусора, залитого кровью. Обугленные бетонные стены главного здания с черными глазницами теперь ничем не отличаются от обычных грозненских руин. Территория базы вокруг комплекса правительственных зданий — больше не островок безопасности, не кусочек мнимого Рая в сердце Ада. Ад поглотил и это место.
Столовая уничтожена полностью. Бетонные плиты сложились, погребя под собой всех, кто был внутри. Перед столовой — гигантская воронка метров двадцать в диаметре и десять глубиной. Далеко от воронки — возле нашего с Ольгой забора — покореженная кабина «КамАЗа». На стоянке перед Домом правительства — обугленные скелеты машин.
Черный гриб превратился в тучу и закрыл солнце. Стало пасмурно и холодно. Мы скользим по еще теплой и от того дымящейся, густой человеческой крови, которой залито все кругом, стараясь не наступать на трупы и фрагменты тел. Почему-то вспоминаю, что человек на семьдесят процентов состоит из воды.
Со всех сторон доносятся стоны раненых и крики о помощи. Их пытаются перекричать военные, отдающие распоряжения. Из Дома правительства повалили люди. Раненые и уцелевшие. В крови и пепле, в разорванных одеждах. В шоке бегут они по скользким внутренностям тех, кому повезло меньше.
Бежим к задней стене столовой. Там могли уцелеть люди. На ходу Гусь снимает. Из-за уцелевшей стены показались две полные чеченки-поварихи. Их белые халаты залиты кровью. Женщины ранены, они в шоке, голосят дурными голосами. Пашка рванулся к ним, но я прошу не прекращать съемку. Зову на помощь пробегающего мимо сержанта. Вместе вытаскиваем женщин наружу, отводим в сторону. Чеченки что-то кричат о своей подруге, которая осталась внутри. Заглядываю в дыру между бетонными плитами. Вижу тело погибшей девушки. Узнаю Зухру. Красивая, улыбчивая, она работала в молочном отделе. Я покупал у нее йогурты.
Вместе с сержантом помогли выбраться еще нескольким раненым. Со стороны казарм бегут военные. Теперь все походит на какую-то безумную массовку из фильма про войну. Кровь со слизью пропитали снег и превратились в красный лед. Скользкий и ломкий, противно хрустящий под ногами.
Небо совсем затянуло, со стороны гор подул холодный ветер, полетел мелкий снег.
Раненые кричат и ползут в разные стороны, тянут руки навстречу каждому, кого видят. Какой-то человек в лохмотьях камуфляжа сидит, раскачиваясь, в луже собственной крови и орет, обхватив разбитую голову. Мы спотыкаемся о чьи-то руки, ноги, головы…
Из госпиталя подоспели санитарные «буханки».
— Трупы не брать! — орет седой военврач на молоденьких санитарок. — Двухсотых не трогать! Куда вы его, мать вашу! Не довезем! — и санитарки, извиняясь, кладут обратно с носилок на красный лед капитана, у которого из оторванных выше колен ног хлещет кровь. Ему вкололи промедол. Он еще жив и даже в сознании, видимо, из-за шока. Отчаянно смотрит на санитарку, цепляется за лацкан ее халата, пачкая красным.
— Простите, простите, пожалуйста, извините, — лопочет девочка-медсестра, отстраняясь от умирающего, пытаясь оторвать от своего халата побелевшую, но очень сильную руку человека, цепляющегося за жизнь. — Приказ, понимаете, приказ! — по лицу девочки бегут слезы.
— Трупы не брать! — снова орет доктор. — Берем только тех, кого можем довезти до госпиталя! Двухсотых не брать! Кого не можем довезти, колем морфин и оставляем на месте!
Сортируя раненых на «жильцов» и «нежильцов», седой тычет рыжим от никотина, крючковатым пальцем в распластанные, корчащиеся от боли и ползущие в разные стороны тела.
— Вот этого берите! Тяжелый, но шанс есть. Быстрее, мать вашу! Аккуратнее! Живее! — орет он на санитаров, проводя свой чудовищный кастинг и стараясь не смотреть в глаза тем, кто отбора не прошел.
Приторно пахнет порохом, остывающей кровью и калом из разорванных кишечников. Запах войны. Сера, кровь и говно. Так пахнет Ад. Стараюсь не думать о том, что среди всего этого месива из плоти, крови, внутренних органов и скользкой слизи, схватившейся морозцем, должны были быть и мы. Если бы Иван не захотел выпить водки. Если бы Влад Шестунов не попал накануне в небольшую аварию и ему не надо было вставлять зуб. И если бы Иван вместо Влада не поехал в командировку. Не случись многочисленных «если», мы оказались бы в столовой. Даже не в столовой, а, судя по времени, прямо в эпицентре взрыва. Влад так же, как и мы с Гусем, терпеть не может шашлычную. Не разминулись бы мы тогда со своей смертью на узкой дороге. Не проехала бы она мимо в 14:22, помахав рукой юной улыбчивой чеченки, лишь ботинки наши обдав липкой грязью.
Шепотом благодарю Бога, которого перед командировкой в церкви просил сохранить меня. Вспомнилась старушка с древней книгой, похожая на мою няню из детства. Няня давно умерла. Может, не случайно встретилась та старушка?
Все происходит как в замедленной съемке. Взрывы словно создали искривление в пространстве, остановив время и перемешав два мира: живых и мертвых.
«Возьми себя в руки! — приказываю сам себе. — Надо работать! Надо срочно делать сюжет для «Новостей»! Нужно записать стендап на фоне взорванного Дома правительства».
Место для стендапа найти непросто. Обязательно попадет в кадр то, что нельзя видеть среднестатистическому зрителю. На низкий, из железных прутьев забор дьявол нанизал мужчину в гражданском. Головы у мужчины нет. Висит он странно, вверх ногами, неприлично разбросав их в стороны, словно гуттаперчевая кукла, выброшенная капризным ребенком.
Трупов, раненых людей и фрагментов тел столько, что невозможно поставить штатив камеры, чтобы не задеть кого-то или что-то. Замечаем на ботинках внутренности. Разорванные сердца, легкие, печень. Какие-то минуты назад они функционировали в телах людей, строящих планы на жизнь и готовящихся отмечать Новый год. Никто из них не знал, насколько близок конец. Не задумывался, насколько хрупок и беззащитен человеческий организм, не предназначенный для испытаний порохом.
…Многие из тех, кого ты знал, превратились в некую субстанцию. Желе из плоти. В этих бывших телах — разорванных сухожилиях, переломанных костях, оторванных конечностях, мясе, словно пропущенном через мясорубку, и лужах разлитой крови, по составу близкой к морской воде, еще совсем недавно жили их души…
Это слишком интимно видеть то, что внутри у человека, с которым недавно разговаривал. Видеть внутренности девушки-секретаря, которая всегда застенчиво улыбалась при встрече, не решаясь слишком обнажать даже свои запястья.
Грубое слово «труп» земляне придумали, чтобы отделять себя от мертвых. Вдруг совершенно четко я осознал грань, прочерченную между живыми и мертвыми, за которую сам едва не угодил. Странно, но нет никакой обычной брезгливости или страха перед покойниками. Просто ловишь себя на чудовищной мысли: ты не воспринимаешь больше эти выпотрошенные тела как людей. Ты воспринимаешь их как оболочки из мяса и костей. Теперь они находятся по ту сторону жизни. Они относятся к другому миру, и ты воспринимаешь их совершенно иначе, чем десять минут назад.
— Вот так же и по нам бы сейчас кто-то топтался, — мрачно произнес Гусь.
Наконец мы нашли место, куда можно попробовать втиснуть штатив. Справа лежит половина головы. Кто-то из военных, пробегая, сказал, что это голова смертника. Я вспомнил хмурое лицо мужчины, управлявшего «КамАЗом». Голова смертника похожа на обожженную половину сморщенного резинового мяча, который мальчишки бросили в костер. Из глазниц еще валит дым.
Слева погибшая пожилая женщина. Взрывная волна бесстыже сорвала с нее всю одежду, а вслед за ней и кожу. Ровно сняла, открывая чужим взорам то, что большинству людей видеть нельзя, разве что врачам или патологоанатомам. Внутренности лежат аккуратно, на своих местах, словно приготовленные для урока анатомии.
Записали стендап. Я рассказал, что удалось выяснить: «КамАЗ» с «УАЗом» протаранили ворота комендатуры и прорвались к комплексу правительственных зданий. По некоторым данным, по машинам открыла огонь охрана из окон Дома правительства, застрелив водителя «КамАЗа», но точного подтверждения этому нет. Мы не слышали выстрелов перед взрывами. Если бы машинам удалось вплотную приблизиться к зданиям, жертв было бы еще больше. Взрывы прогремели в 14:28, с разницей в несколько секунд. Столовая разрушена полностью. От Дома правительства остались стены. Ведутся спасательные работы, под завалами ищут живых, извлекают тела погибших. По предварительным оценкам военных, в «КамАЗе» было до двух тонн тротила. В «УАЗе» — еще полтонны. Это чудовищно много. Больше всего погибло людей в столовой. Общее количество жертв уточняется, но уже ясно, что это десятки погибших и сотни раненых».
Обычная сухая информация, которую каждый раз передают «Новости» в подобных случаях. Большинство зрителей равнодушно прослушают ее, жуя котлеты или бутерброды из трупов животных. Лишь одно приятно царапнет их души. Ощущение собственной безопасности на фоне кошмара, творящегося в мире. Обманчивое ощущение.
Автомобильная стоянка превратилась в кладбище машин. Их разметало, покорежило. Металлические кузова разорвало как фольгу. Краска и стекла на машинах испарились — такими были сила и температура взрывов.
Мы не сразу узнали машину Лемы. Теперь его «блондинка» похожа на обугленный, черствый корж, который ученик-поваренок сжег в печи по неопытности. Лема лежит рядом, свернувшись калачиком. Серый, засыпанный пеплом. Совершенно чужой и не похожий на нашего Лему, с которым мы говорили по дороге в шашлычную несколько минут назад. Рядом — колесо, которое он так и не успел поменять. Только дворники его мертвой машины, изогнутые дьявольской козой, впустую, словно издеваясь, елозят по тому месту, где было стекло, отбивая мерное и страшное «тик-так» уходящего времени.
— Смотри, будто дьявол смеется, — сказал я Пашке.
Мы смотрим на Лему и понимаем, что ничего не знали о нем. Где он жил, есть ли у него родственники? До войны преподавал философию в Грозненском университете. В войну таксовал. Вот и все.
К нам подошел Юсуф.
— Что нам делать, Юсуф? — спросили мы.
— Делайте свою работу, — ответил он. — Я позабочусь о нем. По нашим законам хоронят до захода солнца.
Мы простились с Лемой. Как смогли. Сказали спасибо за все и попросили у него прощения за то, что не уговорили пойти с нами в шашлычную.
Каждый приложился рукой к седому, в пепле, ежику волос. Постояли несколько минут, помолчали. И помчались снимать дальше новость номер один. Я впервые понял, что могу ненавидеть свою работу, из-за которой даже по-человечески не простился с товарищем, еще вчера спасшим нас от мародеров. А мы вот его не уберегли…
Трупы чеченцев стали быстро разбирать родственники, торопясь захоронить до захода солнца. Русские в Чечне в основном по службе. Их тела дожидаются санитаров. Некоторые погибшие кем-то заботливо прикрыты простынями, но на всех материи не хватило.
У военных стеклянные глаза, желваки ходят от злости. На некоторых запекшаяся кровь. На ком своя, на ком чужая. Многие, не стесняясь, ревут как дети навзрыд, размазывая по лицам грязь и чужую кровь рукавами бушлатов. Кто жалеет погибших товарищей. Кто себя, что чуть не погиб.
Разбор завалов будет продолжаться не один день.
У бывшей столовой сталкиваемся с Димкой Бондаренко. Он смотрит на нас как на призраков. Оказывается, с момента взрывов прошло уже два часа. Все это время нас считали погибшими. Все знали, что мы пошли в столовую, а кто-то из коллег вспомнил, что видел нас в Доме правительства перед взрывами. Информация уже ушла в Москву, но ее пока не выдали в эфир. Я представил, что будет с нашими родителями, когда выдадут. Бондаренко рванул в сторону ТВ-юрта, к спутниковому телефону.
К завалам пригнали кран. Подняли первую плиту. Под ней оказалось трое погибших. Двое мужчин в штатском и женщина в строгом сером костюме и белой, в кружевах, блузке. Ольга Ивановна.
* * *
Бэтээр «Боревар», который одолжил мне Степан, мчит по Большой Фугасной. Так саперы прозвали длинную, как кишка, улицу за то, что боевики здесь часто устанавливают фугасы и делают засады. Довоенного названия улицы никто не знает. Большую Фугасную все стремятся проскочить на максимальной скорости. На броне со мной Погода для подстраховки. Мы вжимаемся в броню. Времени в обрез. Ветер вырывает из глаз слезы. Это хорошо, что ветер. На него можно все списать. У меня не укладывается в голове то, что произошло. Ольга Ивановна, Лема и еще несколько десятков человек, не считая сотен раненых. Не представляю, что скажу сейчас Ольге. Как такое вообще говорят? Мне хочется, чтобы ветер не стихал. Потому что, когда он стихнет, надо будет подняться к Ольге и сказать страшное. Я ждал ее сегодня и не думал, что такой будет наша встреча. Господи, ну почему именно я должен ей об этом сообщить? Как сказать ей, что ее мать, единственный по-настоящему родной человек на Земле, больше не придет и сегодняшнюю ночь она проведет в этих чертовых руинах одна, а точнее, вместе со старой кошкой Каськой — последним живым существом, связывающим ее с семьей, которой больше нет. Ольга останется в квартире, в одной из комнат которой живет счастливое прошлое, а в другой — жуткое настоящее. И как ни закрывай дверь, как ни подкладывай под нее половик, чтобы не сквозило, настоящее врывается в твою жизнь когда и как захочет.
…Ольга Ивановна лежала со спокойным, сосредоточенным лицом, словно всем своим видом показывая, что не имеет никакого отношения к двум мужчинам в штатском, оказавшимся в столовой за соседним столом, а теперь лежащим рядом с расплющенными бетонной плитой головами. На ней же не было ни царапины. Даже кружевная старомодная блузка оставалась безупречно белой. Только подол серой юбки слегка запачкался в известке.
Ольгу Ивановну подняли первой. На клочке бумаги я написал ее имя и фамилию, положил в карман ее пиджака. Сунул санитару деньги, попросил приглядеть за телом.
— Как это — приглядеть? — не понял санитар.
— Ну, чтобы в морг отвезли, аккуратно чтобы все было, — нес я какую-то чушь.
— Мы и так всех в морг.
— А места есть?
— Пока вроде есть. А как закончатся, пригонят холодильники, как обычно. Не на улице же оставлять.
Денег санитар не взял.
…Стучу в знакомую дверь, рядом с которой мелом на стене рукой Ольги по-прежнему написано: «Здесь живут». Написано красиво, как умеют писать художники. Почему-то раньше я не обращал внимания на кружевные завитки букв.
Ольга открыла не сразу. Сначала за дверью раздался кашель, потом осторожное шарканье ног. Мяукнула кошка. Чувствую, что Ольга смотрит в глазок. Но в полутемном подъезде ничего не видно. Мой стук в дверь, конечно, напугал ее.
— Оля, это Михаил. Открывай, не бойся, — сказал я дверному глазку.
За дверью послышалось звяканье ключей, поворот замка. Раз, два… я насчитал четыре оборота, которые отделяли ее от страшной вести. Наконец лязгнул засов, упала цепочка, и она открыла дверь своему жуткому настоящему, в моем лице постучавшемуся в дверь. «Все-таки уж лучше я, чем кто-то другой», — подумал я и вошел в квартиру.
— Вот это да, неожиданно! — Ольга улыбнулась.
Поверх свитера на ней накинут все тот же бабушкин пуховый платок. На ногах валенки. В руках бумажная салфетка, которую она приложила к раскрасневшемуся от простуды носу. Сейчас она выглядит еще моложе, почти ребенком. Она кажется мне очень трогательной и беззащитной в своем домашнем одеянии, со слегка опухшим болезненным лицом. Я молчу и не знаю, как ей сказать. Горло будто перетянуло жгутом. Кассандра присела в ногах у хозяйки и настороженно смотрит на меня, чуя неладное.
Сразу несколько теней пробежали по лицу Ольги. Удивления, радости, тревоги, а потом ужаса. Она все поняла сама. Считала информацию с моего лица без слов.
— Мама? — только и спросила Ольга.
— Да, — ответил я.
Она закрыла лицо руками и убежала в «комнату прошлого». Кошка засеменила за ней. Захлопнулась дверь, слышно, как Ольга рухнула на кровать и глухо зарыдала в подушку. Я постоял в прихожей, потом пошел следом. Ольга лежит на широкой тахте, среди плюшевых игрушек и девичьих тетрадок, которые хранит в память о счастливых и беззаботных временах. Она не воет по-бабьи, не голосит. Уткнувшись в подушку, тихонько плачет, всхлипывая, как ребенок, которого незаслуженно обидели. Плечи ее вздрагивают под бабушкиным пуховым платком. Кошка преданно сидит рядом, глядя на хозяйку. Я подошел, положил руку на темно-каштановые волосы Ольги, стал гладить, как маленькую, пытаясь успокоить. Что надо сейчас говорить, я не знаю. Постепенно всхлипы стихли. Ольга села на край тахты, вытерла слезы рукавом, протянула руки кошке. Та сразу прыгнула к хозяйке на колени, принялась нюхать ее лицо, норовя лизнуть ручейки слез. Ольга прижала к себе Каську и задала еще один короткий вопрос:
— Как?
Я рассказал.
Оказалось, она слышала взрывы даже здесь, но решила, что снова подорвали колонну федералов. Узнать подробнее было не у кого. В доме остались только мать и сестры Рустама. А выйти на улицу она не решилась. Я вспомнил слова Рустама: «Всех вас достанем!» Вот что он имел в виду!
Ольга доверчиво прижалась ко мне и затихла. Мне даже показалось в какой-то момент, что она задремала. Она еще не осознает по-настоящему, что произошло. Я тоже. Так мы просидели минут тридцать: Ольга уткнулась мне в грудь, а кошка — Ольге в колени. Кажется, если посидеть так еще немного, то плохое уйдет. Пленка времени отмотается назад, и все можно будет исправить.
В дверь тихо постучали. Это Погода. Степан дал бэтээр ненадолго, да и светить машину в руинах опасно. В любой момент могут появиться боевики. Пора возвращаться.
— Собирайся, — сказал я Ольге.
— Куда?
— С нами поедешь, на базу. Поживешь у нас. Так будет безопаснее. Да и тебе полегче, чем тут одной. Завтра надо похоронить Ольгу Ивановну. Я помогу. В Москву поедешь вместе с нами, через три дня. Я все продумал. Нечего тебе тут больше делать, — говоря все это, еще не представляю, где разместить Ольгу с кошкой. У нас свободных мест нет, а после взрывов во всех вагонах выбиты стекла. Но оставаться одной в руинах Ольге нельзя.
Она обвела взглядом комнату. Прижала сильнее кошку, потрогала коричневого плюшевого медведя в смешной детской распашонке. Посмотрела на пианино, портреты на стенах.
— А как же все… это? Это все как? Господи, что я говорю! Мама! — И Ольга снова зарыдала, уткнувшись в испуганную Кассандру, заливая кошку слезами.
— Ольгуш, послушай, — я никогда так ее не называл, — нам с тобой сейчас надо ехать. Все будет хорошо. Все образуется. Мы что-нибудь придумаем, но сейчас надо ехать.
— Я не поеду сейчас, — вдруг твердо сказала она, закрывая лицо ладонями. — Мне тут будет лучше, правда. Мне сейчас надо побыть одной. Ты езжай, пожалуйста. Завтра все решим.
* * *
Прямые включения идут каждые полчаса в специальных выпусках «Новостей». Взорванный комплекс правительственных зданий в Грозном — ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ПЛАНЕТЫ. Самый крупный и кровавый теракт за вторую чеченскую войну. Москва через спутники рвет Космос на части. Редакторы телеканалов хотят новых кровавых подробностей.
Одна молоденькая дура-редакторша мне завидует:
— Ты, Корняков, как только куда-то приедешь, всегда что-то случается. Профессиональное везение! Ой, мы так все напугались, когда нам сказали, что вся ваша группа погибла!
Идиотка. В горле ком. Хочется заорать десятиэтажным матом, послать эту суку на всю Галактику, но я глотаю ком и сбрасываю звонок.
ТВ-юрт похож теперь на лагерь инопланетян, направивших в Космос свои антенны. Тарелки связываются со спутниками и транспортируют в жилища землян картинку из самого Ада. Пыхтят соляркой генераторы, горят лампы, работают камеры. Корреспонденты возбужденно докладывают обстановку, дополняя информацию новыми цифрами, подробностями, синхронами военных и администрации.
«Разбор завалов продолжается. К месту теракта стянуто большое количество техники и спасателей, которые работают при свете автомобильных фар», — докладывают репортеры.
Мы с Бондаренко «прямимся» по очереди. Во время одного из включений Димка заметил на своем ботинке кусок чьей-то печени. Почему-то он был уверен, что это непременно печень. Едва не «вывалился» из эфира. Впал в ступор, перестал отвечать на вопросы ведущей. Хотя парень бывалый, прошел не одну войну и даже где-то был легко ранен, чем гордился.
Я заметил, что на включениях нет Вермута с Вискарем. Они куда-то пропали после взрывов.
В перерывах между эфирами пьем водку. Пьем много, будто это не водка, а вода. Не закусывая и не пьянея. Еще сами не осознали, на каком свете находимся. Что только Господь Бог и ангелы-хранители спасли нас от участи превратиться в замерзшее кровавое желе, скользящее под ногами. Взрывами повалило столбы, и теперь лампы телекамер — единственное освещение ТВ-юрта. Трупы убрали не все. Кое-где в темноте еще спотыкаешься о тела. Просишь у них прощения, как будто мертвые могут слышать. Во всех вагончиках, где живут журналисты, выбиты стекла. Наш фанерный вагон стоит в трехстах метрах от гигантской воронки. Взрывная волна превратила его из прямоугольника в параллелепипед. Вырвала батареи вместе с железными крюками из стен. Оттуда же, как прыщи, выдавила огромные гвозди-двухсотки. Теперь в нашем жилище температура как на улице. Чернила в ручках замерзают, писать тексты приходится карандашами при свечах, прямо как в известном дурацком анекдоте. Сердце сжимается при мысли об Ольге. Как она там сейчас? Знаю, что никогда еще не было ей так плохо и так одиноко, как этой ночью. С другой стороны, может и к лучшему, что она осталась. Хотя бы не мерзнет под открытым небом.
Гусь, Иван, Димка, техники Серега и Илья сидят как одеревеневшие и смотрят в пол. Водка не действует. Понимаю, что думать нам сейчас нельзя. Думать можно только о работе. Иначе свихнешься, если прокручивать в голове по сто раз одну и ту же пленку. Может и зажевать. Хлещу парней по щекам, чтобы вывести из шока. Гоню работать.
— Ты знаешь, Миха, я в Чечню с тобой больше не поеду. Хватит! — говорит Гусь, заваливаясь на кровать. Таким я его еще не видел. У каждого из нас это не первая командировка и не первая война. Видели всякое. Но никто не знает, когда его торкнет.
— Да я и сам больше не поеду, — отвечаю ему, испепелив в две затяжки сигарету до фильтра. Почему-то забыл, что давно бросил курить.
— Нет, правда, — продолжает Гусь. — Я вот фразу слышал: «Если очень долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя». Правильная фраза.
— Правильная, — согласился я.
— Вот ты все про инопланетян говоришь. Ну, чтобы смотреть на мир как бы со стороны, их глазами. А ты, правда, в них веришь? В то, что они существуют?
— Нет, не верю. Просто знаю это, и все. Ведь в то, что ты сейчас сидишь рядом, мне не надо верить. Достаточно просто знать.
— Как думаешь, они такие же злые, как и люди? — Гусь наконец начал пьянеть.
— Думаю, они могут быть разными, как и люди.
— А вот интересно, что они думают по поводу этой жопы ада? — Гусь махнул рукой в разбитое окно, в котором освещенные фарами краны поднимали плиты над завалами.
Через секунду он уже спал. Я набросил на него одеяла. Все, что были, чтобы не околел на морозе. А сам отправился к флайвэйщикам. Включений на Москву до утра больше не будет.
…Трубка спутникового телефона затерялась на столе среди пустых бутылок из-под водки. Своими гуманитарными мозгами мне не дано понять, как сигнал может уходить из редакторских комнат в Останкине и, отразившись от спутника, болтающегося где-то в космосе, влетать в черный плоский ящик с изогнутой трубкой, минуя открытые банки с килькой, хлебные крошки и залапанные граненые стаканы. Вот почему, например, сигнал не в стакан попадает, а прямо в этот шайтан-аппарат? Или просто стакан не может расшифровать сигнал?
Вспомнился старый отцовский приемник «Геолог». Мне лет пять. Украдкой встаю по ночам, пробираюсь на кухню. Мне нравится крутить шкалу настройки, когда за окном уже темно и в доме легли спать. Из приемника льются чужестранная речь и музыка. Эти страны кажутся такими же далекими и нереальными, как звезды на небе.
С помощью старенького приемника я как бы совершал свой ночной облет Галактики. Красная шкала настройки медленно ползла по тусклому желтому прямоугольнику, выхватывая из эфира то жаркие ритмы сальсы, то непонятную скороговорку новостных ведущих, делая короткие остановки на космических станциях: Лондон, Рио-де-Жанейро, Копенгаген, Нью-Йорк, Париж…
Это был совершенно иной мир, мир других планет и их жителей. Будто со стороны мне виделся голубой шарик Земли, одиноко и беззащитно вращающийся в холодном Космосе. Я считал, что вся эта какофония звучит только для того, чтобы нас, землян, кто-то заметил. Я выключал приемник и засыпал, пытаясь представить далекие страны и людей, которые там живут. После таких «полетов» почему-то становилось зябко, и я уютно ежился под теплым одеялом, тиская плюшевого медведя и думая, как же хорошо, что я не в холодном Космосе, а в своей кровати. Что в соседней комнате двухкомнатной хрущевки спят родители, а в комнате со мной — старшая сестра Ирка.
…Трубку спутникового телефона извлекли из завала граненых стаканов. Отряхнули от хлебных крошек. Теперь она выполняет страшную миссию.
Хмурая очередь из солдат и офицеров выстроилась на улице. Сегодня мы каждому даем позвонить. В Космос уходят страшные слова, мгновенно настигая своих жертв по всей России. «Юрки больше нет…», «Саши больше нет…», и Космос взрывается от диких, звериных воплей чьих-то матерей, жен, детей, любимых, друзей….
Офицеры и рядовые, контрактники и срочники, все в общей очереди, переминаются с ноги на ногу. Так же, как и я Ольге, они должны сообщить кому-то страшные вести. Страшнее которых ничего не бывает. Кто-то из родственников погибших остается в счастливом неведении еще минуту. У кого-то пять минут счастья, десять… Это время их любимые и родные еще живы. А потом чьи-то жизни разорвут напополам космические похоронки. Разорвут вдруг. Вдрызг. Насмерть. Навсегда. С хрустом сломаются души, которые уже никогда и ничто не излечит. Даже время. Ведь это враньё, что время лечит.
Вискарь погиб во время взрывов. Оказывается, он был сучкой. Девочкой. И с Вермутом они были парой. А я и не знал. Об этом мне рассказал Петрович. Он был трезв. Таким я его видел впервые.
Вермута Петрович отыскал среди завалов. Пес сидел на месте гибели Вискаря. Всю ночь Вермут выл на багровую луну, оплакивая подругу. Ему тоскливо подвывал ветер, перебирая полы одежды мертвецов, которых не успели убрать до темноты санитары.
Утром Вермут исчез и больше его никто никогда не видел.
Мертвых хоронили. Живые готовились отмечать Новый год. Утром взрыв Дома правительства в Грозном уже не был ГЛАВНОЙ НОВОСТЬЮ ПЛАНЕТЫ. На смену пришли другие. Свежие и кровавые.
* * *
Достать гроб помог Юсуф. Он же по моей просьбе договорился о похоронах и всем необходимом.
Старик Андреич, сторож и могильщик по совместительству, толкает перед собой двухколесную телегу — арбу по узкой глинистой дорожке русского кладбища на северной окраине Грозного, рядом с бывшим консервным заводом. На арбе гроб.
— Русских теперь редко хоронят, — кряхтит Андреич. — Почти не осталось никого. Некого хоронить-то. Вот нас с Федькой тут последними и закопають.
Он именно так и говорит — «закопають», смягчая крайнее «т».
Федька — пятидесятилетний сын Андреича. Здоровый мужик с рябым лицом и огромными ручищами, похожими на лопаты. Когда в первую войну от бомбы погибла жена Андреича — Евдокия, Федькина мать, отец с сыном решили никуда не уезжать. Да и куда поедешь? Где жить? Все осталось в Грозном. Тут и Евдокия похоронена. Промышляют, чем могут, на рынке, да ухаживают за русскими могилами. Своей семьей Федор не обзавелся. Сейчас он дожидается нас в конце кладбища, возле свежей могилы, которую выкопал для Ольги Ивановны.
Снег снова стал таять, и колеса телеги постоянно вязнут в липкой грязи. Мы с Гусем и Иваном помогаем Андреичу толкать арбу. Юсуф остался ждать у машины.
— Хорошо хоть мороза сильного нет, земля не стылая, — бормочет Андреич.
Ольга идет рядом с гробом, придерживая голову матери, которая качается из стороны в сторону, когда колеса телеги попадают на камни. Видно, что Ольга проплакала всю ночь, не сомкнув глаз. На ней черный траурный платок, который постоянно съезжает на затылок. Она то поправляет платок, то снова кладет руки на трясущийся лоб матери, пытаясь зафиксировать голову.
Бирюзового цвета костюм, который Ольга Ивановна берегла и надевала только по праздникам, совершенно не идет к грубым, еще источающим запах смолы доскам. Она сердито трясет головой, и кажется, что эта последняя ее дорога на гремучей арбе доставляет ей страдания. Ольга держит голову и смотрит на мать, словно не веря в ее смерть. Будто ожидая, что Ольга Ивановна вот-вот откроет глаза и скажет что-нибудь, по обыкновению веселое, вмиг прекратив весь этот дурацкий спектакль. Жду этого и я, но чуда не происходит. Кажется, все это дурной сон. Надо сделать усилие и проснуться. Со мной часто так бывает: сплю и не знаю, что сплю. Потом вроде понимаю, что сон. Хочу проснуться, но никак не могу. А потом все же просыпаюсь и хожу полдня как контуженный, не понимая, какая жизнь настоящая — та, во сне, или эта.
Украдкой что есть силы щиплю себя за ногу, испытывая странное наслаждение от боли. Захотелось сделать себе еще больнее, схватиться за раскаленный кусок металла, воткнуть под кожу булавку или лезвие ножа, лишь бы проснуться или хоть немного оттянуть на себя боль, которую сейчас испытывает Ольга.
Со стороны Автозаводского района слышатся автоматные очереди. После вчерашнего теракта сегодня по всему Грозному федералы проводят «зачистки с фанатизмом». Это значит — «кто не спрятался — я не виноват». Мужчинам на улицах лучше не появляться.
Вспомнилась завернутая в ковер чеченка, погибшая от шальной мины федералов. И вот — Ольга Ивановна. Бессмысленные, никому не нужные смерти.
Дальше телега проехать не может. Оставшиеся метры несем гроб на руках. Федор ждет нас. Он приготовил две табуретки, чтобы поставить гроб перед могилой.
Стали прощаться. Андреич прочитал молитвы, какие знал. Все перекрестились. По очереди простились с Ольгой Ивановной, прикладываясь к холодному лбу, прося, как положено, прощения. Потом все отошли в сторону, дав Ольге побыть с матерью. Ольга взяла руку Ольги Ивановны и стала что-то ей говорить. Будто рассказывая о чем-то, в чем-то убеждая ее. Ольгу никто не торопит. А она все говорит и говорит с мертвой матерью, словно пытаясь наговориться впрок, оттягивая момент расставания, рассказывая ей обо всем, о чем не успела рассказать при ее жизни, когда много лет они были только вдвоем и делились друг с другом всеми своими мыслями. Ольга совсем не плачет. Слезы она оставила сегодняшней ночью в комнате прошлого, пропитав ими все подушки и плюшевых зверей.
Наконец она отошла от гроба. Андреич с сыном взялись за крышку. Глухо ударил молоток, вспугнув воронье с деревьев и заставив сжаться все внутри от ужаса и дикой тоски. Гроб опустили в могилу. Полетели вниз комья жирной, как пластилин, чеченской земли, стукаясь о дерево, ставя точку в еще одной жизни.
Достали бутылку водки. Каждый что-то сказал, сделал глоток. Ольга пригубила и зажала рот ладонью. Воспитанная наполовину в мусульманских традициях, водку раньше она не пробовала никогда…
В старом чемодане поместились все ее вещи. Туда же Ольга бережно сложила семейные фотографии, коричневого плюшевого медведя, несколько своих эскизов, три самые редкие книги из дедовской библиотеки, которые он завещал беречь, и горсть земли с могилы матери, завернутую в платок. Старая кошка Каська испуганно таращит зеленые глаза из корзины для фруктов.
Ключи от квартиры Ольга отдала своему преподавателю по живописи, интеллигентного вида старику-чеченцу с соседней улицы, разрешив ему пользоваться всем, чем захочет, но попросив сохранить книги и передать их первой открывшейся после войны библиотеке в Грозном.
Комендант разрешил поселить Ольгу в одном из железнодорожных вагонов, стоящих на приколе на территории базы, вместе с похотливыми, старыми и некрасивыми проводницами, приехавшими на войну за рублем и сексом. В этих вагонах обычно селят офицеров, прибывших в Грозный в краткосрочные командировки.
Ольга уже позвонила отцу и рассказала о случившемся горе. Он хотел немедленно вылететь в Минводы, но я сказал, что в этом нет необходимости — через два дня мы будем в Москве.
Рано утром, 30 декабря 2002 года, мы простились с ТВ-юртом, тихо, без прощальных отходных и накрытых столов. Юсуф повез нас во Владикавказ вместо традиционного Моздока. В этот раз я на всякий случай изменил маршрут, помня о предупредительном звонке с канала о возможном покушении. Хотя вряд ли сейчас кому-то есть до нас дело.
Ольга вместе с нами покидает места, где прожила большую часть сознательной жизни. Чечня была ей домом, а потом превратилась в место бессмысленных убийств одними землянами других. В настоящий Ад на Земле. В черную дыру, как окрестили ее мы, репортеры-стервятники.
В аэропорту за двадцать долларов была куплена справка для Кассандры о том, что кошка абсолютно здорова и привита от всех кошачьих болезней. Тем же вечером, всего через два часа полета, отделяющих разные миры, мы приземлились в аэропорту Домодедово….
Часть вторая Год спустя. Между Адом и Раем
Летучка затянулась.
В переговорной висит тяжелый запах душных, как собачья шерсть, женских духов и кислого пота, который вырабатывают томящиеся в строгих костюмах тела. Кто-то из редакторов не успел принять душ после ночного дежурства. Вообще, пот человека на девяносто восемь процентов — вода и не должен иметь запаха. Но в оставшихся двух процентах содержится креатин, мочекислые, эфиросерные кислоты и мочевина. Именно мочевина, образующая аммиак, и отвечает за скверный и неприятный запах, который раздражает сейчас мои ноздри. Если землянин нерегулярно обрабатывает свое тело Н2О, то аммиак начинает разлагаться у него в подмышечных впадинах и вообще на коже.
Иногда мне приходится делать сюжеты на медицинские темы. Моя память устроена странным образом. Она может выдавать кучу абсолютно бесполезной информации.
Собравшиеся на летучке редакторы, корреспонденты и продюсеры верстают вечерний выпуск новостей. Определяют, с какого сюжета лучше начать, каким закончить, что сказать ведущему в подводках. Трагедия сегодняшнего выпуска в том, что за день ничего ужасного ни в стране, ни в мире не произошло. Такое случается редко, но каждый раз вводит редакторов в ступор.
— Скоро выпуски кошачьими выставками начинать будем, — недоволен исполнительный продюсер Василий Петров. — Хоть «консервы» доставай!
— Нам бы катастрофку, хоть маленькую, с минимальными жертвами, — шутит корреспондентка Лена Шарова.
— Лена! — одергивает Шарову Петров. — Что ты несешь! Ничего святого!
На самом деле внутренне все согласны с Шаровой. Катастрофка решила бы проблему. Я думаю про аммиак. Пот, находясь на поверхности кожи, смешивается с секретом сальных желез. Пот выводит из организма землян остатки лекарств, ядовитые вещества и другие продукты обмена. Значит, пот полезен. Стараюсь дышать ртом, чтобы не чувствовать аммиака.
— Я считаю, Катю Зарайскую надо поощрить, — говорит шеф-редактор вечернего выпуска Саша Каткова. — Она работает буквально на износ! Только в этом месяце у нее было два гипертонических криза! Не ест и не спит, горит на работе!
Все согласились. Решили поощрить Зарайскую дорогостоящей командировкой на Северный полюс (не каждому в жизни дано увидеть) и небольшой денежной премией.
Я жду окончания летучки, чтобы подписать у руководства отпуск за свой счет на неопределенный срок…
Домой возвращаюсь за полночь. Открываю дверь своим ключом. Ольга спит, лежа на животе, обхватив руками подушку. Каштановые волны волос прикрывают обнаженную спину, падают на белую простынь.
Через полчаса, выскользнув из душа, забираюсь под одеяло. Ольга что-то бормочет во сне, прижимаясь ко мне горячим телом. Уткнув лицо в плечо, задышала ровно.
Мы вернулись из Грозного больше года назад…
В аэропорту нас встретил Ольгин отец: невысокого роста чеченец со спокойным, приятным лицом. Он представился Мансуром. Так я впервые узнал отчество Ольги. А фамилия у нее по матери — Соловьева.
Отец с дочерью обнялись, оба расплакались. И от радости встречи и от свинцовой горечи, которая этой встрече сопутствовала. От того, что погибла Ольга Ивановна. Что на долгие годы отец с дочерью потеряли друг друга и, наверное, стали совсем чужими людьми, а повстречавшись на улице, могли бы и не узнать друг друга. Ольга смотрела на постаревшего отца, которого помнила лишь по старым фотографиям да смутным обрывкам детской памяти, собранным словно из осколков цветных стекляшек калейдоскопа.
Со слов Ольги, Мансур владел небольшой строительной компанией. Однако он не производил впечатление обеспеченного человека. Видно было, что жизнь в Москве дается ему нелегко.
Спрятав мокрый от слез платок в карман потертого клетчатого пальто, Мансур подхватил чемодан Ольги, и мы направились к парковке. Пашка с Иваном покатили тележку с аппаратурой в сторону микроавтобуса, который прислал за нами телеканал.
Ольга несла фруктовую корзину с Кассандрой. Ошарашенная происходящим, та уже не орала, а лишь беззвучно открывала рот, высовываясь из-под плетеной крышки. Для кошки и ее хозяйки это был первый в жизни полет на самолете. Сравнить его можно лишь с межпланетным перелетом, столько было новых впечатлений за один день в новом для них мире, и впечатления эти не прекращались.
Мансур пристроил чемодан в багажник старенькой иномарки. Я сунул Ольге визитку с номером своего мобильного. Она обещала позвонить.
На следующий день наступал Новый, 2003 год. К родителям в Нижний я уехать не успел. Полдня отсыпался, а потом позвонил Гусеву. Ему тоже не с кем было отмечать. Мы сидели на скамейке на Патриарших и пили водку прямо из бутылки, не закусывая. На салют не пошли. Хотелось быть подальше от звуков разрывов пороховых зарядов, даже если они палят по праздничному поводу. Мы не загадывали желаний и не слышали боя курантов. Вспоминали Лему, Ольгу Ивановну и всех, кто четыре дня назад еще мечтал и строил планы, но не дожил даже до Нового года. Насте звонить не хотелось. Я написал ей поздравительную смс. Она ответила тем же.
Две недели я ничего не знал об Ольге. Сто раз пожалел, что не взял телефон Мансура. Что делать и где ее искать в Москве, если не позвонит?
…Я продолжал снимать репортажи, написал сценарий и начал монтировать документальный фильм про торговлю людьми, снятый в Чечне.
Один раз мы встретились с Настей. Поговорив, расстались. Она не стала выяснять отношения и уточнять причину, за что я ей очень благодарен. Просто согласилась со мной, что так будет лучше. Я постоянно думал об Ольге, нетерпеливо хватая мобильный каждый раз, когда он вибрировал, заливаясь незатейливым рингтоном.
Наконец она позвонила. Мы встретились на Чистых прудах. Гуляли. Под неспешное треньканье трамваев кормили белым хлебом упитанных и почти разучившихся летать московских голубей, пили кофе в уютных забегаловках. При этом меня совсем не раздражали, как раньше, другие посетители, даже если они курили или громко разговаривали. Я не замечал их. Ольга рассказывала об отце и его семье, в которой она теперь живет. Вторая жена отца тоже русская, Вера. У них есть восьмилетний сын Данила — брат Ольги по отцу. Живут в Печатниках. У отца небольшая фирма, которая занимается ремонтом квартир. Жена не работает, и отцу приходится обеспечивать семью одному. Ольга видит, как он устает, да и заказы получать сейчас нелегко — большая конкуренция. Встретили Ольгу хорошо, выделили отдельную комнату. В ближайшее время отец собирается снять ей квартиру. Но Ольга не желает быть обузой и пытается помогать отцу в его делах.
На Ольге новое короткое кремовое пальто и широкий, в крупную клетку, бежевый шарф. Волосы убраны назад коричневой заколкой с красными камнями, открывая ее совершенные морские ушные раковины. Она теребит в руках новенький белый мобильник, свой первый в жизни гаджет, с которым уже свыклась, ловко тыкает в него пальцем с перламутровым, цвета слоновой кости, ногтем.
Она еще больше похорошела за эти две недели, видимо, впервые за много лет выспавшись в безопасном месте, в квартире своего отца, не вздрагивая от выстрелов и шагов на лестнице. Ей очень идет и это стильное пальто, соблазнительно облегающее фигуру, и клетчатый шарф на шее, и хорошо подобранная косметика, которой по-прежнему немного, но губы и глаза накрашены уже более смело, чем раньше.
Ольга мгновенно влюбилась в Москву — свой родной город, который теперь открывает для себя заново, как и многое другое после долгих лет Ада. Ее переполняют эмоции, как ребенка, которому за короткое время пришлось узнать много нового. Она с восторгом, взахлеб делится впечатлениями, за которые ей будто немного стыдно перед недавно погибшей матерью. Улыбка время от времени слетает с ее лица, а глаза наполняются тоской и слезами.
«Жаль, мамы нет рядом, она бы порадовалась…» или: «Жаль, мама не дожила…», — завершает она каждый свой рассказ одними и теми же фразами. Но вскоре, забывшись, снова начинает торопливо, словно боясь не успеть, рассказывать о поразивших ее вещах, будто не в Москву попала, а на другую планету. Мне нравится ее восторг, но внутри шевелится спрут сомнений и неспокойных переживаний. После стольких лет ежесекундного стресса она абсолютно беззащитна перед новым для нее миром, всех законов и правил которого еще не знает. В сравнении с войной все здесь кажется ей замечательным и необыкновенным — жить, не думая каждую минуту о смерти. По ночам можно не только говорить в полный голос и смеяться, но и гулять по улицам! Больше не надо ждать обстрелов и устраиваться в коридоре полуразрушенной квартиры на матрасе, выбирая «безопасную» стену на случай, если в комнату залетит ракета.
— Ты знаешь, здесь даже снег другой, — говорила она. — Пушистый и белый, особенно под деревьями. А маленькой он мне почему-то напоминал стрептоцид. Бабушка толкла его чайной ложкой, разводила водой и заставляла полоскать горло, когда я болела.
Мне не хотелось снимать с Ольги розовые очки и рассказывать об опасностях, которые могут поджидать ее в мире, который не Ад, конечно, но все-таки и не Рай.
Наступила весна, а наши встречи с Ольгой все походили на целомудренные прогулки школьников, которые сами еще не разобрались в своих чувствах. Про себя мне все было ясно: я давно и крепко влюблен в Ольгу. Но она вела себя как осторожная лань, с любопытством приближающаяся к самцу, привлекшему ее своим запахом. При этом лань всегда настороже и готова отскочить в сторону, броситься прочь в лесную чащу, выбивая копытцами комья земли, стоит самцу сделать неосторожное, резкое движение.
Я боялся ее спугнуть и не форсировал события. Ольга работала вместе с отцом. Теперь его небольшая фирма не только делала ремонты в домах и квартирах, но и предоставляла дизайнерские услуги по интерьеру. Дела у Мансура пошли лучше. С легкой руки дочери, которая наконец-то могла заниматься любимым делом, к нему повалили заказчики. Вскоре их стало столько, что пришлось взять еще двоих дизайнеров в помощь Ольге, создав в компании маленький дизайнерский отдел. Я же продолжал работать на телевидении, снимать документальные фильмы, ездить в командировки. Встречаться мы могли в лучшем случае по выходным.
Ольга с жадностью старалась удовлетворить свой вынужденный многолетний культурный и эстетический голод, таская меня по всем художественным выставкам, которые проходили в Москве. Мы ходили на все новые фильмы и почти на все спектакли, среди которых было много и откровенно дрянных. В конце концов, немного насытившись и поняв, что охватить необъятное невозможно, Ольга стала составлять списки того, что нам посетить надо непременно, а что желательно. Она учила меня разбираться в живописи, я же советовал ей интересных современных писателей, которых не могло быть в коллекции ее деда. Как и в Грозном, во время прогулок вдоль нашего избитого свинцом бетонного забора, мы обсуждали все увиденное, прочитанное и прослушанное, если речь шла о музыке. Она полюбила итальянскую. Особенно классику в оригинальной аранжировке. Часами могла слушать Андреа Бочелли. Ольга болела всем итальянским с детства. Архитектурой, живописью, стилем и языком, изучение которого теперь могла продолжить в Москве. Она стала брать уроки у пожилой обрусевшей итальянки Агнессы, вдовы итальянского коммуниста. Агнессе было, наверное, лет сто. Когда-то давно политические убеждения и пламенная деятельность мужа вынудили их уехать в Советский Союз, в холодную Москву. Муж давно скончался, а Агнесса так и не смогла привыкнуть к России, прожив в ней большую часть своей жизни. Родной язык, который теперь она преподавала ученикам, был тем немногим, в чем еще не подводила ее память.
Кроме этого, Ольга поступила в Строгановку, на факультет дизайна. Ее приняли без экзаменов после того, как она показала свои эскизы, вывезенные из Грозного в старом чемодане. При этом разрешили заниматься по индивидуальной программе, что не требовало ежедневного посещения академии. Она изо всех сил пыталась наверстать украденное войной время.
Иногда Ольга просила сводить ее в зоопарк. Он был в одном списке с «Детским миром», цирком на Цветном бульваре, в старом здании которого она была совсем маленькой, и еще несколькими местами, которые напоминали ей о детстве. Метро, по ее мнению, осталось почти таким же, только запах там стал хуже, а людей — больше. Одним из самых сильных ее потрясений стали московские пробки в часы пик.
Старой, истертой пленкой всплывали в памяти Ольги кадры той поры, когда она, совсем маленькой девочкой, жила в Москве в большой семье обожавших ее родных людей. Из всей семьи остался только отец, с которым они не виделись много лет и стали во многом чужими. Теперь им приходилось заново узнавать друг друга, притираться, а нет ничего сложнее, чем заново входить в противоречивую реку семейных отношений и пытаться стать кому-то родным во второй раз.
— Отец любит меня, но новая семья значит для него гораздо больше, — говорит Ольга, грея руки на большой чашке с капучино. Мы бродили по бульварному кольцу и на Сретенке зашли в кафе, согреться. — Он все делает для меня, я ему очень благодарна, но мы какие-то… разные, что ли. Между нами будто кусочки льда. Ведь любовь всегда чувствуешь. У него есть чувство долга, даже вины какой-то, но это не любовь. И, если честно, я тоже, кроме благодарности, ничего не испытываю. Первое время пыталась себя обманывать, убеждать, но потом признала это. Знаешь, я где-то слышала, что родственники, которые редко видятся, перестают быть родственниками. Это правда. Отец очень хороший, но мы стали чужими, и этого не исправить. Я бы скорее видела его в роли моего родного дяди, но не отца. Тот отец, который возился со мной в песочнице и рассказывал придуманные им сказки перед сном — каждый день разные, навсегда остался лишь в моей памяти. Но я не сержусь на него. Отцу нелегко. Пусть небольшой, но бизнес, семья, с которой они вместе проходили все трудности. Вера — она хорошая. И Данька тоже, — Ольга улыбнулась, макнула в кофе кусок коричневого тростникового сахара и облизала его. Она любит пить кофе и чай вприкуску и подшучивает над собой — мол, голодное военное детство. Но я знаю, что война здесь ни при чем. Ей просто нравится грызть сахар, особенно тростниковый.
Она нередко заходила ко мне в гости в съемную квартиру на Коровинском шоссе. Но никогда не оставалась. Я удивлялся сам себе, потому что раньше, если девушка мне нравилась, я действовал решительно, а чаще нагло. Но с Ольгой все было по-другому. Мы пили чай. Экспериментируя, смешивали разные сорта. Устраивали жаркие споры на любимые метафизические темы, иногда всерьез ссорились, но сразу мирились. Смотрели на ноутбуке пиратские диски новых фильмов, которые покупали в соседней палатке. Играли в слова и буриме. Обычно я проигрывал, не хватало концентрации внимания. Пуговица на джинсах Ольги занимала меня гораздо больше, чем рифмы. При этом я не действовал, все еще боясь спугнуть ее, интуитивно чувствуя, что она не готова…
Неизвестно, сколько еще времени я играл бы роль ее брата, евнуха или гея, которого не интересуют красивые девушки, но в один из субботних вечеров, между буриме и нардами, в которые я собирался отыграться за прошлый раз, Ольга сама сделала первый шаг. В окно летел, тяжело постукивая по подоконнику, мартовский снег с дождем, ветер качал фонари, а в теплой, крошечной комнате с неработающим телевизором Андреа Бочелли напевал: «Le parole che non ti ho detto…»
— Мы ведем себя как дети, — вдруг тихо сказала Ольга.
Она сама расстегнула заветную для меня пуговицу на своих джинсах. И почти не стеснялась своего обнаженного тела, когда я снял с нее все остальное. Это можно было бы принять за опытность в любовных делах, если бы я не знал про нее все. Почти все…
Наконец-то я целовал мочки ее ушей, идеальных спиралей — самых совершенных морских раковин. Изящную шею, упругую и довольно крупную грудь, особенно хорошо сочетающуюся с тонкой талией и женственными бедрами. Вбирая в себя запах и вкус ее тела, прошелся поцелуями по длинным, стройным ногам, до самых ступней. Мы целовали и обнюхивали друг друга, как звери перед случкой, неиствуя и скуля от наслаждения. Забыв о всяких приличиях, с детским любопытством разглядывали и трогали самые интимные места, как если бы не было до этого у каждого сексуального опыта. Я был не первый у нее. Запах! Все-таки земляне выбирают друг друга по запаху, как и звери. В нем — химия и волшебство, не поддающиеся никаким научным объяснениям. Запах Ольги сводил меня с ума. Мне не хотелось думать ни про креатин, ни про эфиросерные кислоты, ни про аммиак, выделяемый человеческими потовыми железами. Ее запах раздражал мои обонятельные рецепторы и давал мозгу команду: это твоя половина. Твоя женщина. Мне казалось, я покинул свое тело, потому что вдруг ощутил, как мы стали единым целым. Мы растворились друг в друге, смешались, как перемешиваются от ветра ароматы цветов или облака, и долго парили на волнах наслаждения. И только когда я вернулся в свое тело, вновь стал различать завитки ее ушей, запах кожи и дыхание.
С постели мы встали только через сутки, в воскресенье вечером. Окончательно обессилевшие, проголодавшиеся, на дрожащих, подкашивающихся ногах.
— Я должна тебе кое-что рассказать, — сказала она, выйдя из душа.
Она рассказала о своей первой и единственной любви. Парень был русским, звали его Петром. Старше Ольги на пять лет. Ей было восемнадцать, когда они стали встречаться. Шла первая чеченская война. Вся его семья выехала в Ставрополье, к родственникам. Он остался, из-за Ольги. Встречались они тайком от всех, в первую очередь от соседей. Только мать Ольги догадывалась об их отношениях. А потом Петра нашли убитым. Кто-то расстрелял его из автомата недалеко от дома, в котором он жил. Это могли сделать и боевики, и федералы, и местные отморозки. Кто убил Петра — так и осталось неизвестным. Ольга тяжело переживала его смерть. Только мать, которая всегда была рядом, помогала ей справляться с горем, стальными тисками сжавшим грудь так, что невозможно было дышать. Благодаря усилиям матери, ее заботе и ласке тиски мало-помалу отпустили свою хватку, и постепенно боль из острой стала тупой, ноющей, пока не превратилась в саднящую рану. Сильно не болит, но и не заживает совсем.
— Ты все еще любишь его? — спросил я.
— Я вспоминаю о нем. Уже реже и не так остро, все как-то притупилось, даже лицо его стало стираться понемногу, а фотографии у меня ни одной не было. Но, думаю, долго буду помнить его. Может, всегда.
— Зачем ты мне это рассказала? — спросил я Ольгу.
— Я считаю, ты должен это знать. Чтобы между нами все было понятно и прозрачно, — ответила она.
— Можно я не буду тебе рассказывать о своих женщинах?
— Слишком большой список? — Ольга улыбнулась. — Ты мужчина, и, наверное, это нормально. Но знай: я собственница. К тому же жутко ревнивая. Никаких других женщин не потерплю. Что было до меня — неважно. Но если тебе впредь захочется сладенького и потянешь руки куда-то в сторону от меня — лучше сразу беги! — она хитро прищурилась: — Расскажи только о серьезных отношениях.
Я ответил ей, что серьезные чувства у меня были только в три года по отношению к молоденькой воспитательнице в детском саду, Наталье Юрьевне. Мне всегда было любопытно, что у нее под халатом, и нравилось, когда она усаживала меня на горшок и укладывала спать. Засыпая, я представлял, как раздеваю ее и заставляю есть манную кашу. А еще в пятом классе я влюбился в одноклассницу Ирку Сысоеву настолько, что даже в школу какое-то время ходил с удовольствием. Ирка была на две головы выше и весила раза в два больше, но сердцу не прикажешь.
— Хватит, я серьезно! — хохотала Ольга.
А я вдруг осознал, что серьезного-то у меня до встречи с Ольгой ничего и не было.
В понедельник я приехал к Мансуру и сказал, что Ольга будет жить у меня. Мансур минуту подумал и согласился. Он не стал требовать жениться на ней и вообще не ставил никаких условий. Только попросил быть внимательнее к его дочери.
— Очень тяжело исправить непоправимое, — сказал Мансур, когда я уходил. — Я виноват перед Ольгой и ее матерью. Всегда буду заботиться об Ольге как отец, но никогда не смогу заменить ей мать.
…Ольга что-то тревожно и неразборчиво вскрикнула во сне, наверное, приснился кошмар. Рядом с подушкой у стены лежит ее плюшевый медведь, которого она привезла из Грозного. Память о беззаботном детстве. Я погладил Ольгу по голове, поцеловал в висок. Она затихла и снова уткнулась в плечо. Мне совсем не спится, сон никак не идет. Такое часто бывает перед дорогой. Особенно если уезжаешь далеко и надолго. Поправляю соскользнувшее со спины Ольги одеяло. Не хочу, чтобы она просыпалась. Пусть хорошо выспится перед самолетом. На часах — третий час ночи. Смотрю в серый квадрат окна, за которым ничего не разобрать, даже времени года.
…Вскоре после того, как мы с Ольгой стали жить вместе, в нашем дворе появились пришельцы. Они возникли как-то вдруг, разбудив сонный московский двор громкой лезгинкой. Музыка орала из тонированной «девятки», рядом с которой, прямо на детской площадке, пятеро джигитов жарили шашлык. Разумеется, из баранины. Пришельцы были с Кавказа.
Открылось все просто. Пятиэтажки нашего и нескольких соседних дворов подлежат сносу. Вместо старых квартир москвичи получают новые. Освободившиеся квартиры еще не снесенных домов и занимали гости с Кавказа, выбивая дверные замки, а где-то проламывая стены, чтобы добраться до цели. Было их очень много — несколько десятков. Точнее сказать невозможно, так как находились пришельцы в постоянной ротации: одни приезжали, другие куда-то уезжали, и непонятно, кто живет во дворе постоянно, а кто приехал в гости к землякам. Вели себя нагло, по-хозяйски. Такого поведения я не встречал ни в Чечне, ни в Дагестане. Словно это были какие-то другие люди, инопланетяне, не знающие и не уважающие наших традиций. А попусту — плюющие на них.
Во дворе начались стычки. Из-за припаркованных машин, белья, которое женщины пришельцев развешивали сушиться на детской площадке, обругивая и запугивая возражающих коренных. Тех мужчин, которые пытались делать замечания, пришельцы жестоко избивали.
Отделение милиции находилось в соседнем дворе. Оттуда приходили милиционеры. Проверяли у кавказцев регистрации и уходили. Регистрации были в порядке. Было совершенно очевидно, что милиции оккупанты не боятся. Они хвастались: «Менты получают от нас бабки, и нечего ходить к ним стучать».
Жильцы перестали гулять с детьми во дворе. Казалось, это никакой не московский двор, а какого-нибудь дагестанского или чеченского городка.
Пришельцев становилось все больше. Коренные въезжали в новые дома без ремонта, бросая старые квартиры, из которых пришельцы-мародеры вывозили брошенную в бегстве мебель и домашнюю утварь. Некоторые из тех, кто вынужден был мириться с новыми «соседями», возвращаясь с работы, заставали заселившихся в свои квартиры «инопланетян». Проникнув внутрь, те занимали жилплощадь, указывая хозяевам на дверь. Те даже не всегда шли в милицию. Это было бесполезно. К тому же многие брезговали возвращаться в квартиры, где человек двадцать чужаков уже приняли душ, сходили в туалет и пометили своими сальными железами всю мебель, включая кровати. Коренные забирали документы и дожидались заселения в новостройки у родственников или знакомых. Часто пришельцы просто грабили квартиры. Выносили мебель и ценности, пока хозяева трудились на заводах и в офисах. В «свободное» время чужаки развлекались, отстреливая крыс прямо во дворе из пневматических пистолетов. Москвичи перестали выходить на улицу, карауля жилье и имущество, опасаясь за свою жизнь и здоровье. Они забаррикадировались в собственных квартирах.
Все происходящее казалось сюром. Дурным сном. Такого в Москве двадцать первого века быть не может. Однако было. Мерзкие отголоски войны докатились сюда с Кавказа. Казалось, война преследует нас с Ольгой. Ходит за нами по пятам.
Начальником находящегося в соседнем дворе местного отдела милиции был невысокий лысый человек с маленькими юркими глазками и пышными черными усами. Изучив мое журналистское удостоверение, он пошевелил усами, как таракан перед черствой коркой хлеба, скосил глазки в сторону и заскучал. Потом долго упрямился и мычал что-то нечленораздельное, как бычок, которого тянут на веревке «увидеть все своими глазами». Наконец его удалось дотащить до оккупированного пришельцами московского двора. Человек восемь кавказцев неспешно подошли к нам, в раскачивающихся походках отклячивая задницы, отводя назад плечи с растопыренными руками, демонстрируя достоинство. Их глаза излучали наглость и злорадное любопытство. Один из пришельцев, самый рослый, любитель отстреливать крыс, фамильярно похлопал усатого по плечу, потрепав полковничий погон:
— Что, мэнт, нэ сэдится тэбэ, эды домой, давай, там жена тэбэ ждет давно!
Под свист и улюлюканье усатый полковник трусовато ушел. Не стесняясь, компания еще раз озвучила, что «мент берет у них бабки и ничего не сделает. А если не будет брать — его грохнут».
Один из следователей того же отдела милиции сказал мне:
— Ты думаешь, только в вашем дворе такое? Это везде сейчас, где расселение идет! У вас еще что! Обычно поножовщина, убийства. А как найти, кто ножом ударил или выстрелил? Друг друга они выгораживают. Связи везде. Зарегистрированы черт знает где. Ищи-свищи! Да, и честно тебе скажу, никто не ищет.
Участковый вообще отказался идти во двор:
— А что я сделаю? — пожимал плечами лейтенант. — Все в курсе. Префектура в курсе. Раз ничего не делают, значит, кому-то это нужно. Ну, в смысле выгодно. — А в завершение разговора дал мне совет: — Это же не твоя хата? Не твоя, съемная. Ну и сними себе в другом месте!
— А если они и туда придут? Мне так и бегать от них по всей Москве? Может, лучше сразу эмигрировать, чтобы не трогали? Всей страной, а?
Мент пожал плечами.
Ольгу очень беспокоило происходящее. Меня тоже. Я боялся за нее, когда она оставалась дома одна, точнее, со своей любимой старой кошкой Кассандрой, которая, разумеется, жила вместе с нами.
— Я думала, здесь такое невозможно. Такое ощущение, что сюда съехался весь сброд. Я не узнаю в них людей, среди которых выросла. В каждом народе есть лучшие и худшие его представители. Эти — обыкновенные воры и мародеры.
Однажды Ольга позвонила мне поздно вечером, я засиделся в аппаратной над монтажом фильма.
— Кто-то ковыряет замок. Сначала в дверь звонил какой-то парень, просил открыть. Я видела его в глазок. Потом он его чем-то заклеил и отключил электричество в щитке. Мне страшно!
За десять минут я долетел на своей машине от Останкина до Коровинского шоссе. На площадке рядом с нашей дверью стоял парень лет двадцати, с виду чеченец.
— Ты чего тут скребешься, пошел вон! — сказал я ему.
Парень сначала стушевался, затем, спохватившись, гордо поднял голову:
— Там дэвушка живет. Мнэ понравилас, пазнакомица хачу!
От такой наглости у меня свело скулы. Парень довольно щуплый, можно вырубить одним ударом. Но я знаю, что за этим последует. Понаедут, как водится, многочисленные родственники этого урода, и ситуация станет непредсказуемой.
— Эта девушка — моя. Чтобы больше я тебя здесь не видел! Иначе будут проблемы, — сказал я.
— Э, смотри, чтобы у тэбя проблем нэ было, э! Если захочу, войду куда угодно, мнэ никто нэ помэшаэт! — говоря все это, щенок лихорадочно набирал смс на мобильном, затем кому-то позвонил, объяснив, видимо, ситуацию на своем языке. Знакомая подлость! Много пафоса, но чуть что — сразу своих зовут на подмогу. Очень хочется ударить его кулаком в кадык. Но рядом со своим жилищем этого делать нельзя. В таких случаях лучше говорить с теми, кто старше и умнее этого придурка, а также имеет для него авторитет. Кроме того, кого-то он уже успел предупредить.
— Зови старших, — сказал я.
Этого парень не ожидал.
— Зови, — повторил я. — С тобой, мудаком, говорить не буду, много чести. Пусть твои братья или кто там — приедут. У тебя же есть братья?
— Эст, — ответил парень, и наглость ушла с его лица. — Оны уже эдут.
Через пятнадцать минут к дому подъехали два наглухо тонированных джипа. Из первой машины вышли два амбала примерно моего возраста, лет тридцати, с черными бородами ниже груди. Чистые ваххабиты! Я вышел к ним на улицу.
— Чё за проблема? — спросил один из бородачей.
— Ваш брат?
— Наш.
— Если я ночью приду в твой дом, где спит твоя жена, стану звонить в дверь, пытаясь с ней познакомиться, а когда она ответит отказом, заклею глазок двери, вырублю свет на площадке и стану ковырять замок ножом, напугав ее до смерти, что ты сделаешь? — спросил я бородача.
— Убью тэбя, — коротко ответил тот.
— Тогда почему я не должен убить твоего брата? — спросил я.
— Падайды суда, — сказал бородатый своему младшему брату и задал ему вопрос на чеченском. Младший ответил.
— Садыс в машину, — приказал старший брат юному донжуану. Средний бородатый брат все время молчал.
— Он болшэ нэ будэт, — сказал старший. Машины уехали. Я вернулся в квартиру.
По лицу Ольги я понял, что она плакала.
— Давай уедем! Пожалуйста! Куда-нибудь, — сказала она, уткнувшись мокрой щекой мне в плечо.
— Куда же мы уедем, Ольгуш? — спросил я.
— Туда, где нет ничего такого. Где нет этих… Я так устала! Меня будто преследует все это! Уедем куда-нибудь, где безопасно!
— А ты знаешь такое место? Думаешь, на Земле есть место, где безопасно?
— Неужели нет? — она прижалась ко мне сильно-сильно, как прижимаются дети, когда им страшно.
— Не знаю, — ответил я.
Наступление пришельцев на коренных продолжалось. Коренных стали грабить чаще и еще наглее. Во дворе до полусмерти избили сына дворничихи, сделавшему замечание дагестанцам, когда те в очередной раз охотились на крыс и птиц с пневматикой. Одна из свинцовых пулек попала в его машину. Парень возмутился, после чего его вытащили из авто и жестоко избили на глазах у всего двора.
Все сводки последних событий, напоминавших вести с фронтов, Ольга узнавала от соседки сверху — продавщицы из овощного Лиды, которая теперь, как и многие, сидела дома и стерегла добро. Обычно Ольга возвращалась с работы раньше меня, и все, что удавалось узнать от соседей, пересказывала мне вечером. Много раз я и сам видел, как наркоманского вида чернявые парни заглядывали в окна дома, терлись на нашей лестничной площадке, присматривались к замкам. А тут еще среди соседей разнеслись слухи о том, что кавказцы стали отбирать у коренных новые квартиры. Вычисляют с помощью участкового, который с ними в доле, самых слабых и беззащитных: одиноких стариков или пьянчужек, у которых нет родственников. Что они с ними делают — неизвестно, а только старики стали пропадать. Находящиеся в осаде жильцы с ужасом пересказывали друг другу, что пришельцы якобы въезжают вместо коренных в новостройки по документам, оформленным задним числом подкупленными юристами. Подтверждением страшных слухов стал дядя Саша, одинокий алкоголик с третьего этажа, которого мы с Ольгой обнаружили в подъезде мертвецки пьяным. Дядя Саша не смог внятно объяснить, почему он лежит в рванье, луже собственной мочи, избитый, в закутке подъезда, вместо того, чтобы идти к себе в квартиру. Но было и без слов ясно, что дома у него больше нет.
Я пошел к участковому. Затем в префектуру. Результат нулевой. Одни притворялись идиотами. Другие трусливо несли несуразицу. На следующий день дядя Саша бесследно исчез. Вместе с ним пропали две старухи из соседних подъездов. Одна страдала болезнью Альцгеймера и даже за хлебом не могла сходить самостоятельно. Она забывала свое имя и адрес, едва переступив порог. Раньше ей всегда помогали соседи. Другая была просто одинокой, опрятной старушкой с доверчивыми васильковыми глазами.
Ожидая расселения в новые дома, коренные перестали даже видеться друг с другом. Все происходящее обсуждали по домашним телефонам, которые коммунальные службы еще не отключили.
Тогда я пошел к пришельцам. Нашел старшего из них. Им оказался некий Салман, пожилой чеченец. Салман сказал, что старший он формально. По возрасту. Что времена уже не те, когда молодые на Кавказе безоговорочно слушались старших. Что собралось здесь мерзкое отребье, наркоманы, воры и убийцы из разных мест Кавказа и что рад бы он прекратить этот беспредел, да не в силах. Тем более что власти тоже ничего не делают.
У меня остался крайний шанс. Я попросил Салмана донести до своих: если пришельцы не перестанут терроризировать коренных, будет сюжет на телевидении. И тогда властям придется отреагировать.
Через два дня ничего не изменилось. Мы с коллегами сделали сюжет. Записали интервью очевидцев и потерпевших. Рассказали про дядю Сашу и пропавших старух. Скрытыми камерами сняли мародеров и бездействующую милицию. Отсинхронили удивленную даму из префектуры, смотрящую поросячьими глазками из-под высокой прически, и лысого полковника с пышными черными усами, который заверял, что разберется, что решит, что предпримет.
Замазанный во всем участковый смотрел волком. Пришельцы позировали перед камерами. Они были уверены, что им ничего не будет. Сюжет повторили много раз. Разразился скандал. В течение двадцати четырех часов ОМОН куда-то вывез почти всех оккупантов. Чиновники из правительства Москвы горячились в телеинтервью. Обещали всех наказать. Завести уголовные дела. Грозили пальчиками. Брызгали слюной.
Ночью во двор съехались машины. Я насчитал пятнадцать. Из них вывалили кавказцы. Окружили мою машину, стоявшую у подъезда. Двое присели на капот. Заорала сигнализация.
Я знал, что они придут, и смотрел на все из-за шторы, сжимая боевой «макаров», накануне купленный вместе с запасной обоймой у Витьки Чернова, омоновца, с которым познакомился в Чечне, за восемьсот долларов. Витька сделал мне скидку как знакомому. «Макаров» был новеньким, в смазке. Не трофейным, а ворованным с военного склада. На нем еще не было крови. Витька называл его «целкой». Мне больше нравилось «девственник», все-таки пистолет мужского рода.
Вдруг я понял, что никуда мы с Ольгой от войны не уехали. И никто не уедет, не спрячется, пока не будет у правительства внятного отношения к происходящему, прозрачной миграционной политики, пока чиновники не начнут думать о людях, которым присягают служить. Пока не выжгут коррупцию и воровство каленым железом. Пока власть не прекратит предавать и продавать своих беззащитных граждан. До этих пор ничего хорошего не будет в этой стране. И каждый должен будет пытаться защищать себя сам…
Ольга прижималась ко мне, плакала и просила не выходить на улицу. Я и не собирался. Мысленно сосчитал патроны. В каждой обойме восемь. Всего — шестнадцать. Даже если быть снайпером и попасть в каждого, все равно не хватит. Только на крайний случай, если дверь начнут ломать. Конечно, не ради меня одного приехало столько машин. Пришельцы метили территорию коренных, демонстрируя превосходство и силу.
На улице громко и гортанно галдели. Еще раз покачали мою машину. Она снова закричала, как мне показалось, с укором, что предаю ее, не прекращаю надругательства, позволяю пришельцам лапать перепончатыми клешнями мою ласточку, которая служит мне верой и правдой, перемещая мою телесную оболочку из пункта «А» во всякие другие пункты. Я открыл окно на кухне. Включил свет. Закурил, хотя крайний раз курил в Чечне больше года назад, когда боевики-смертники взорвали Дом правительства. Сигареты держу для друзей.
Гвалт стих. Видимо, пришельцы не ожидали такой наглости. Они заговорили между собой тихо, как будто я мог понять их язык. Я молча курил и смотрел на пришельцев. Ольга выросла среди них. Наполовину она с ними одной крови. Она знает их язык и шепотом переводила мне:
— Одни говорят, что тебя надо выманить на улицу. Другие говорят, что не надо трогать, надо сначала поговорить.
Я продолжал курить и молча смотрел на пришельцев со второго этажа, сидя на кухонном подоконнике. Они привстали с капота моей машины, выстроились полукругом, потом снова загалдели. Стали возбужденно что-то обсуждать.
— О чем они говорят? — спросил я Ольгу.
— Они рассказывают друг другу всякую ерунду. — Ольга не могла видеть говорящих, они ее тоже. Она сидела напротив меня на кухонной табуретке, за плотной шторой и комментировала все, что неслось с улицы. — Один рассказывает, что его дядя купил новый «Мерседес». Большой, черный. Другой говорит о том, как они с друзьями познакомились с красивыми девушками. Он сказал: «Из наших». Это значит, девушки кавказские.
Какое-то время мы с пришельцами смотрели друг на друга. Потом они шумно расселись по машинам и уехали, видимо, так и не решив, что со мной делать.
Утром я вышел во двор, собираясь на работу в Останкино. Возле машины ко мне подошли пятеро кавказцев из тех, что «прописались» во дворе. Судя по всему, они поджидали меня.
— Ты организовал сюжет на тэлэвидэньэ? — спросил самый высокий. Тот самый, что расстреливал крыс из пневматики.
— Я.
— Вот этого чэловэка ты оставил на улыцэ с женой и дэтми. Их выгналы из квартыры, — сказал высокий и показал на парня лет тридцати в вязаной шапке, надвинутой на глаза. Парень недобро молчал. Я видел его несколько раз во дворе. По рассказам соседей, он принимал участие в избиении сына дворничихи.
Тем не менее тон высокого не был вызывающим. Он говорил ровно, почти дружелюбно. Так говорят, прощупывая человека, не зная наверняка, что он собой представляет. На милицию, отделение которой было за углом, я не рассчитывал. Холодный ствол «макарова» с патроном в патроннике, заправленный за пояс под курткой, согревал мне душу, позволяя говорить более спокойно и уверенно:
— Вы проявили неуважение к коренным жителям этого двора. Многие из них прожили здесь всю жизнь. А вы приехали и стали устанавливать свои порядки. Наплевали на наши традиции и правила. Кто-то из ваших вскрывал квартиры, грабил и воровал, занимал жилье. Салману, вашему старшему, я сказал, что будет сюжет, если ничего не изменится. И это самое мягкое, что можно было сделать.
— Салман нам нэ указ, ми сами по сэбэ, — сказал высокий.
— Мне все равно. Вы бы не стали терпеть, если бы из центральной России приехали люди и устроили то же самое в ваших дворах или селах. Вы бы их просто всех убили.
Этот аргумент озадачил высокого. Он промолчал. Остальные тоже ничего не ответили.
Какое-то время я еще видел этих людей во дворе дома. Потом они куда-то исчезли. Спустя месяц я встретил высокого и его приятеля в соседнем квартале. Они поселились в новостройке. Стали москвичами.
Дом, в котором я жил с самого первого дня переезда в Москву, обречен на снос. Хозяйка Зина, молодая еще, лет тридцати пяти, женщина с внешностью монашки, сдающая мне квартиру, сказала, что нам надо искать новое жилье. Мы с Ольгой стали смотреть объявления в Интернете. Уезжать не хотелось. Привыкли к маленькой, уютной комнате, перезвону колоколов за окном и кряканью уток, живущих на соседнем пруду и не улетающих на юг даже зимой…
Степана я нашел в госпитале Бурденко. Он лежал в палате с узкими окнами, едва пропускающими свет сквозь серые, от многолетней пыли, стекла. Соседи по палате — два мужика в одинаковых полосатых пижамах тактично заковыляли к выходу, едва я появился на пороге с дурацким набором из фруктов и конфет, с какими обычно приходят в больницы кого-то проведать.
— Здорово, брат, — холодно сощурился Степан синими колючками. Бледное лицо подполковника заострилось, как карандаш, пропущенный через точилку. Он ждал меня.
— Здорово, — ответил я, не зная, что в таких случаях надо говорить.
О том, что Степану оторвало ногу, мне рассказал Пашка Гусев. Во время преследования банды в чеченских горах, где-то под Ведено, Степан, опытный разведчик, наступил на подлую противопехотную мину-«лягушку». Как правило, «лягушка» не убивает, а калечит, отрывая ногу вместе с ботинком-берцем ниже колена.
Я смотрел на Степана, пытаясь начать разговор, но нужное не шло в голову. Роящиеся, как дикие пчелы, слова никак не хотели вставать в стройные и правильные предложения, способные хоть как-то разрядить ситуацию. Сочувствовать глупо. Пытаться подбодрить — еще хуже. Что я скажу: «Не грусти, братан, херня, люди и на одной ноге прыгают»? Или: «Хорошо, что остался живой»?
— Я не знаю, что сказать, Степ, — честно пробубнил я.
— А что тут скажешь, Мишань? Нога-то все равно уже не вырастет. Никогда не вырастет, понимаешь? Я же не ящерица, чтобы у меня ноги новые вырастали, — горько усмехнулся он.
Мне подумалось про ящериц. О том, что лапы даже у них вроде новые не отрастают. Но Степану я об этом не сказал, а присел на край кровати.
— Больно было? — спросил я.
— Больно, — ответил Степан.
— А сейчас болит?
— Нормально.
Мы вспоминали Чечню. Ребят. Зулу и других, кого уже нет.
— Погоду помнишь? — спросил Степан. Я кивнул. — Нет больше Погоды, на бэтээре подорвался, в нем и сгорел. Это я уже здесь узнал.
То, что весельчака Сашки Погодина больше нет в живых, никак не укладывалось в голове. Он запомнился мне пародирующим Жириновского и Ельцина на блокпосту, который мы навещали ночью с разведчиками.
— А Стас к фэбсам подался, теперь там снайперит. Карьеру будет делать. Никого не осталось. Нет больше «Призраков»…
Говорили мы долго. Наверное, час. Или даже два. Давно вернулись из курилки, улеглись на кровати и засопели мужики в полосатых пижамах. На улице стемнело, и только тусклая желтая лампа выхватывала из полумрака больничной палаты бледное лицо подполковника.
— Как думаешь, ее сожгли или закопали? — неожиданно спросил Степан.
— Кого?
— Ногу мою. Я вот думаю: по православной религии тело человека хоронят, закапывают в землю. Иначе вроде не по традиции — в Рай не попадешь.
Я молча слушал Степана, не зная, как относиться к тому, что он говорит. Было странно, что прошедшего все мыслимые войны подполковника-разведчика, отправившего на тот свет не один десяток врагов, может заботить, куда дели его ампутированную ногу.
А Степан продолжал:
— Знаешь, очень многие представляют, как черви будут жрать их после смерти. Мне лично всегда было наплевать. Пока не увидел, как это выглядит на самом деле. Как-то нам пришлось извлекать из ямы трупы наших солдат, которых расстреляли и наспех закопали боевики. Тела долго пролежали в земле. Достаточно долго, чтобы ими заинтересовались опарыши. Мерзкое зрелище. Знаешь, индусы правильно придумали сжигать тела. Огонь — это красиво и чисто. Пепел — и все. Ни темноты, ни червей. В общем, заморочился я тогда на эту тему. А вчера к нам батюшка приходил. Я его спрашиваю: «Что, если меня после смерти сожгут?» А он говорит: «Не по-христиански это. Ты православный. Нельзя тебя сжигать. Тело твое надо обязательно земле предать». А я его спрашиваю: «Что же происходит с душами православных, которые сгорели заживо или утонули, например? Кого не нашли и земле не предали? Что, им мучиться теперь вечно? Мне вот ногу отрезали. Нога — часть моего тела. Можно ли тело по частям предавать земле? И что будет с моей душой, если ногу, например, как отрезали — сразу сожгли, а тело потом закопают? Куда я попаду — в Ад или Рай?» Ничего не ответил поп. Посмотрел как-то странно и вышел. Я вот теперь и думаю: сожгли мою ногу или закопали?
Я заметил на скулах Степана капли холодного пота и понял, что он давно терпит боль и наверняка начал бредить.
— Рано тебе о душе думать. Пойду сестру позову, — сказал я, мысленно ругая себя последними словами за недогадливость. Степан кивнул:
— Позови. Попроси укольчик сделать сладенький. А потом иди, Мишань. Посплю немного. Ты заходи. У меня теперь времени вагон…
Уже в дверях он еще раз окликнул меня:
— А знаешь, мне все равно, жрут мою ногу сейчас черви или нет. Она уже не часть меня, хотя я ее по-прежнему чувствую. Она даже болит. Ты наверняка слышал об этом. Фантомные боли. Наверное, не надо морочиться по поводу тела или его частей. Мы же не паримся из-за остриженных волос или ногтей…
Еще несколько раз я приезжал к Степану в госпиталь. Потом встречались с ним в разных кафешках. Однажды он приехал ко мне в Останкино. Мне хотелось его всем показать, я представлял Степана как героя. Он переминался с ноги на ногу, скрипя протезом. Смущенно краснел. Особенно когда молодая симпатичная телеведущая долго трясла его руку, что-то неся о героях Отечества, которые этому самому Отечеству так нужны. Степан тогда мне напомнил смущенного Карлсона из мультика, покрасневшего перед теледивой.
Он освоился с протезом и почти не хромал, но выглядел каким-то чужим и потерянным в гражданской одежде, как хамелеон, лишившийся защитного окраса. Пару недель назад он мне позвонил. Мы встретились в пивном ресторане, недалеко от Лубянки. Я понял, что в известное мрачное здание на площади Степан заходил по делам. Нам принесли пиво и свежих раков. Глаза Степана победно сверкали. Он снова собирался на Кавказ.
…Смотрю на Ольгу. Свет от раскачивающегося уличного фонаря блуждает по ее лицу. Когда она спит, лицо ее кажется совсем детским. Встаю, задергиваю штору, чтобы фонарь не будил ее. Задеваю фотографию Кассандры в рамке, стоящую на телевизоре, но успеваю поймать ее.
Если у кошек есть память, то Кассандра помнила Ольгу еще маленькой девочкой и была единственным живым существом, связывающим Ольгу с семьей и довоенным временем в Грозном. С беззаботной жизнью, наполненной любовью и покоем, ароматами каштанов и цветов, жизнью, в которой были ее мама, бабушка и дед, фанатично оберегавший внучку от любых посягательств внешнего мира, даже от бактерий и микробов.
Кассандра умерла от старости в один из холодных февральских дней. Она прожила почти двадцать лет и по кошачьим меркам была долгожительницей. Ольга возила ее по ветеринарам, заставляя колоть кошке витамины, когда та стала с трудом передвигаться по квартире. Пропускала через мясорубку вареную курицу и шприцем вливала в Каськин рот морковный отвар для повышения аппетита. Но время взяло свое. В небольшую яму, выдолбленную за нашим домом в скованной морозом земле, мы положили картонную коробку из-под обуви, в которой покоилась Каська…
Нам было хорошо с Ольгой все это время, что мы прожили вместе, вернувшись из Чечни. Мы были счастливы в крохотной 11-метровой комнате, на продавленной тахте, на которой и сейчас лежим рядом. Только она давно спит, а я никак не могу заснуть, думая о том, что ждет нас впереди. Боюсь проспать такси, которое заберет нас в аэропорт, и вспоминаю, что еще произошло в нашей общей жизни за минувший год.
Ольга по-прежнему работала у своего отца дизайнером. Благодаря ее стараниям фирма разрослась, и постепенно она стала получать очень приличные деньги. Тратила их в основном на одежду, демонстрируя незаурядный вкус. Она стала хорошо и дорого одеваться, посещать салоны красоты. К ее природной яркой внешности добавились столичные стиль и шарм молодой красотки. Я стал замечать, что куда бы мы ни выходили вместе, на нее обращают внимание практически все мужчины — в театре, ресторане, кино или на улице. Они буквально сворачивают шеи, смотрят вслед, а если им кажется, что я не замечаю их реакции, пытаются подробнее разглядеть ее. Ольгу это забавляло, но она никак не реагировала на ухажеров, не дающих ей прохода, по своей инициативе честно докладывая мне обо всех случаях домогательств и попыток знакомства с ней. Я старался сводить все на шутку, понимая, что ревновать глупо, хотя в душе меня это, конечно, задевало. После истории с пришельцами Ольга стала понимать, что мир, в который она попала, не так уж идеален.
Однажды, поздно вернувшись со съемок, я застал Ольгу в слезах. По-детски всхлипывая, она рассказала, что в метро к ней подсел пьяный детина с красным лицом. Какое-то время молча дышал на нее перегаром, затем спросил:
— Ты чеченка?
— Какое это имеет значение? — спросила Ольга.
— Я тебя спросил, отвечай! — ублюдок положил свою мохнатую лапу ей на колено и сильно сжал. От боли и обиды у Ольги выступили слезы.
— Я не собираюсь отчитываться перед тобой, убери руки! — Ольга сказала это, преодолев ком отвращения и отчаяние, достаточно громко для того, чтобы услышали окружающие. Но пассажиры прятали глаза.
— Если бы ты только знала, как я вас всех ненавижу! — сказал детина и, еще раз стиснув ее ногу, вышел из вагона.
Размазывая тушь по лицу, она показывала мне красные отпечатки его клешней чуть выше колена. Эта мразь посмела прикоснуться к женщине, которую я люблю!
— Ты понимаешь, я как изгой какой-то! Я и там чужая стала, как война началась, а теперь и здесь. Москва ведь мой родной город, я здесь родилась, почему я всегда должна кому-то что-то доказывать? У меня мама русская, а отец чеченец! И что в этом такого? — всхлипывала она, а меня душила бесполезная злость. Какой прок в злости, если не можешь отомстить? Сначала я подумал, что, возможно, обидчик Ольги воевал в Чечне. Что, если мы с ним там встречались? Но эту версию отмел сразу. Урод подошел не к здоровому чеченцу или чеченцам, чтобы рассказать о своей к ним нелюбви, а к беззащитной девушке. Вряд ли он там был.
В течение недели я под разными предлогами встречал Ольгу после работы в офисе Мансура, ее отца. На вопросы — почему не на машине — ссылался на пробки. В кармане куртки тяжелел тот самый «макаров», купленный у знакомого омоновца. Мы ездили в метро в то же время и по тому же маршруту, когда к ней пристал здоровяк. Я надеялся, он нам повстречается и Ольга узнает его. Она же думала, я просто стал больше уделять ей времени. Я понимал всю глупость затеи и не знал, что делать с этим уродом, если все-таки встречу его. Не стрелять же в него в метро? Но мысли о жестокой мести возбужденно щекотали мой мозг, заставляя чаще биться сердце, когда в вагон заходил кто-то рослый и брутальный. Внутри меня стал просыпаться зверь, дремлющий в каждом человеке. Весь вопрос в том, насколько хорошо ваш внутренний зверь дрессирован. Одним достаточно сущей ерунды, чтобы зверь выпрыгнул наружу. Другим требуются веские причины. Крайне важно знать, кто кому подчиняется — вы зверю или зверь вам? Всякий раз я старался повернуть Ольгу так, чтобы она заметила вновь вошедшего здоровяка, и внимательно следил за ее реакцией. Но мрази, чьи отпечатавшиеся пальцы медленно, с неохотой, сходили с ее ноги, меняя цвета от синего до бледно-лилового, всё не было…
Наконец, когда я уже несколько остыл и стал думать, что надеяться встретить этого типа в московском метро в многотысячной толпе по меньшей мере наивно, он появился. К этому моменту зверь внутри меня снова задремал, и потому в первые минуты я растерялся. Но то, что это был он, я понял сразу. Осознал. Почувствовал всеми клетками, когда встрепенулась, дернулась рука Ольги, которую я держал. Он шагнул прямо на нас, в открывшиеся двери. Здоровенный детина с широким и плоским, как луна, лицом. Далеко посаженные друг от друга, наглые глаза. Почти лысый череп. Черная короткая куртка, джинсы, заправленные в высокие черные ботинки. Скорее, косит под скинхеда, чем скинхед. Он тоже узнал Ольгу. Сощурился, бегло изучив меня, вразвалку прошел в конец полупустого вагона. Я почувствовал, как затрясло Ольгу, но она ничего не сказала мне. Боялась за меня, берегла. Мысли понеслись лихорадочным вихрем. Надо что-то делать! Целую неделю я ездил с Ольгой в метро с одной лишь целью. И вот, когда так неожиданно появился этот тип, я растерялся. Здоровяк поглядывал в нашу сторону из своего угла, ожидая — укажет ли мне на него Ольга. Было видно, что он абсолютно не боится, даже приготовился к такому развитию событий. Более того, ему любопытно, что будет дальше. Через пару станций он смотрел уже разочарованно, потом бросил пару презрительных взглядов в мою сторону, а затем и вовсе потерял к нам интерес. Но к этому времени я уже знал, что буду делать. Сделав вид, что на мобильный пришла смс, сказал Ольге, что меня срочно вызывают на работу. Я знал, что детина выйдет раньше, чем она. На «Крестьянской заставе» он стал продвигаться к выходу, а на «Римской» я вышел вместе с ним, смешавшись с толпой. Он долго шел по ярко освещенной улице вдоль ларьков с пивом и чипсами, затем свернул в темные дворы, побрел вдоль кирпичного забора. Я тенью следовал за ним, нащупывая горячий и влажный от вспотевшей руки «макаров». «Надо что-то делать!» — сверлила отчаянная мысль. «Этот урод лапал твою женщину!» Сразиться с ним в открытом поединке было бы глупой затеей. Он вдвое тяжелее меня и на голову выше. «Ни один рефери не свел бы нас в схватке на ринге», — вспомнились мне слова героя Ремарка из «Ночи в Лиссабоне». Но не стрелять же ему в спину!
Мужчины делятся на три категории: на тех, кому в жизни приходилось драться однажды, да и то в детстве, из-за ведерка в песочнице; тех, кто дерется постоянно (такие любят сам процесс), и тех, кто дерется лишь в случае крайней необходимости. Я отношусь к третьей категории. То есть драться в принципе умею, но не люблю. И мне прекрасно известно, что даже годы, проведенные в секциях бокса или карате, еще не гарантируют успеха, потому что драка в спортзале по правилам и драка на улице — это как пицца и борщ. И там и там могут быть овощи. Но блюда абсолютно разные. «Хочешь научиться драться в темноте — надо драться в темноте. Чтобы уметь драться в ограниченном пространстве, например в лифте, — надо драться в лифте. Чтобы быть готовым к уличной драке — надо драться на улице. Занятия в секции дают лишь общие представления. Главное — психика. У кого крепче нервы — тот и победит», — говорил мне мой тренер. Два года службы в Советской армии в смысле психологии драки научили основному в таких делах правилу: забудь о правилах и задуши в себе интеллигента, если хочешь победить.
Я поднял с земли кусок кирпича. Сжал в кулаке, что было силы, его острые края, почувствовав, как треснула кожа.
Начались мрачные гаражи. Самое место! Я стал сокращать дистанцию, приближаясь к верзиле. Он, видимо, что-то почувствовал и неожиданно повернулся. Мгновение прищуривался, затем оскалил клыки:
— А-а, ты? А сучку свою нерусскую где оставил?
До него оставалось метра два, не больше. Ничего не ответив, что было силы, я швырнул кирпич. Парень схватился за разбитое лицо, осел на снег. Через пальцы его рук густо потекла кровь. Я подскочил, нанес два размашистых удара кулаками в челюсть, потом ногами: в голову и грудь. Верзила тряс башкой, сидя на снегу. Было видно, что «поплыл», но старается держаться. Я достал «макаров», передернул затвор, приставил к его голове.
— Не на-до, по-жа-луйста, — растягивая слова, как контуженный, выдавил верзила.
Но, опьяненный кровью и адреналином, я уже не хотел останавливаться. Вдруг совершенно ясно осознал, что готов его пристрелить. Между мусорными баками и загаженными гаражами эта тварь найдет свою смерть, потому что посмела обидеть мою женщину. Я почувствовал себя животным, торжествующим над жестоким и сильным соперником. Мой зверь рвался наружу, хрипел и ликовал, требуя завершить начатое. Я хотел его смерти.
— Не надо, — снова сказал здоровяк, — у меня ребенок.
Кровь стучала у меня в ушах. Ненависть не хотела ничего слышать. Но слово «ребенок» все-таки зацепилось за мои барабанные перепонки. Проскользнуло внутрь. Добралось до мозга…
Медленно вернув курок в исходное положение, я сунул пистолет в карман куртки и пошел прочь. В перевозбужденном адреналином мозгу блуждала мысль. Та самая, что пришла в голову на берегу океана, когда, запивая мясо акулы прекрасным порто, я смотрел на изуродованную акулой (может, той самой, которую я ел?) ногу Макса — хозяина местного ресторана. Мысль, которая не давала мне покоя в «горячих» командировках: в этом мире одни пожирают других. И грань, отделяющая высокие помыслы людей от самых жестоких поступков, призрачна. И вправду, так и есть. Еще немного — и я убил бы человека. Но стал бы он церемониться со мной, не ударь я первым? Вряд ли.
Ольге я тогда ничего не рассказал.
…Заснуть, видимо, уже не получится. События крайнего года накануне новой жизни, в которую мы с Ольгой собираемся улететь сегодня утром, всплывают в моей памяти записанными файлами, некоторые из которых я открываю, чтобы пересмотреть заново.
В апреле мне позвонили из телекомпании CBS и сказали, что за один из документальных фильмов, снятых в Чечне, «Торговцы смертью», о черном рынке оружия, я награжден премией Международного пресс-клуба Америки.
— Это очень престижная эвордс, состоится 64-я церемония награждения. Международный пресс-клаб Америки — старейшая организация. Члены жюри — элита мировой журналистики, — говорила по телефону представительница CBS, иногда вставляя в русские фразы английские слова. И в конце, чтобы я осознал весь масштаб награды, добавила:
— Это что-то вроде «Оскара» для журналистов!
…В торжественном зале Empire State Ballroom при отеле «Гранд Хайят», что на пересечении Лексингтон-авеню и сорок восьмой улицы Нью-Йорка, собрались мужчины в смокингах и женщины в вечерних платьях. Смокинг я взял напрокат в маленькой лавке у старого еврея, поразительно похожего на Чарли Чаплина. Покупать смысла не было. Вряд ли в скором времени мне представится еще один случай его надеть.
На овальных столах среди блюд с кровавыми стейками и бокалов с вином горели свечи в память о погибших журналистах. Еще одна большая свеча — на сцене, куда выходили по очереди лауреаты. Звезды мировой журналистики говорили о нужной и благородной работе своих коллег, о жестокости и несовершенстве мира, которому так нужны репортеры, говорящие правду. Поздравляли награждаемых. Меня вызвали в самом конце, когда в Нью-Йорке наступила глубокая ночь. Многие в зале клевали носами и поглядывали на часы.
Я поблагодарил за высокую награду. Зачем-то сказал, что в Москве наступило утро. Все засмеялись и даже немного оживились, а я подумал, что Ольга наверняка уже встала и собирается на работу. Мне поаплодировали и вручили диплом.
…Нью-Йорк в апреле холоден и депрессивен. Во всяком случае, таким он показался мне в тот раз — в конце апреля 2003-го. С океана дул промозглый, сырой ветер. Его силу увеличивал эффект трубы, создаваемый ровными рядами небоскребов, выстроившихся на Манхэттене в стриты и авеню. Я ежился от холодного ветра и нависающих серых глыб небоскребов, вдавливающих мою психику в асфальт. Возможно, дело как раз в психике, а не в апреле или Нью-Йорке. Знакомый психотерапевт Гриша, с которым меня как-то познакомила Настя, специализировался на теме военного стресса. Как-то раз Гриша, неожиданно и без всякого повода, заявил, что меня непременно надо лечить. Мы встретились, чтобы обсудить его участие в одном из моих репортажей в роли эксперта. Помню, пили с ним красное сухое в тени, на открытой веранде рыбного ресторана. Гриша выковыривал устриц из раковин маленьким двузубцем, сбрызгивал их лимоном и отправлял в лоснящийся рот. Было теплое летнее воскресенье. В такие дни в воздухе витают нега и приятная лень. Всё что угодно, только не агрессия. Хорошее чилийское вино расслабляло и успокаивало. Симпатичные девушки за соседним столиком пробуждали приятные, хоть и бесполезные фантазии. А он взял и все испортил. Когда очередной моллюск скользнул в его желудок, Гриша сделал глоток вина и сказал:
— Тебя тоже надо лечить, старик. Как и всякого, кто хоть раз видел войну. И чем скорее, тем лучше. Ведь вам только кажется, что вы нормальные. Но это, разумеется, не так!
Я дал ему в морду. Скользкую от моллюсков. Но Гриша только утвердился в моем диагнозе. Больше мы, разумеется, не общались.
…Весеннее солнце ползло по блестящим бокам небоскребов-титанов, почти не касаясь тротуаров. Подпирающие далекое, как американская мечта, небо, здания отбрасывали на Манхэттен тень, в которой копошились маленькие, как муравьи, люди, снующие между нескончаемыми вереницами такси, похожих на больших желтых жуков.
Ни друзей, ни знакомых в Нью-Йорке у меня не было, и целых пять дней, любезно оплаченных CBS, я бесцельно слонялся по городу, изучая витрины магазинов и меню кафе, в которые заходил выпить горячий кофе и перекусить. Я и раньше бывал в Америке, но впервые был так далеко от Ольги. Мы звонили друг другу при каждой возможности, не думая о разнице во времени. Будили друг друга звонками и говорили подолгу обо всякой ерунде, будто находились в соседних домах, забывая о счетах. Но этого мне было недостаточно Мысль о том, что Ольга находится на другом конце планеты, что разделяет нас океан, не позволяла мне радоваться престижной награде, репортаж о вручении которой даже показали в России в «Новостях».
Почему-то вместо радости я испытывал пустоту. Неожиданный успех создал внутри меня вакуум, который необходимо было срочно заполнить. Я скучал по Ольге. И понял, что стал физически зависеть от того, рядом ли она, могу ли к ней прикоснуться, потрогать волосы, почувствовать запах кожи…
— Брат, ты ведь русский? — окликнули меня возле метро.
Я обернулся и опешил. Передо мной стоял Зула!
— Ну, че застыл? Я же вижу, что русский! Нашего брата за версту видать! Что в «Кадиллаке», что в метро, — Зула заулыбался своей белоснежной улыбкой.
— Мы здесь в Штатах все русские. Что чеченцы, что киргизы. Я вот, к примеру, калмык. В России меня чуркой называли косоглазой. Ну, ты знаешь! — и Зула весело расхохотался, — А здесь я русский, понял?
Я стоял и смотрел на двойника Зулы и не мог поверить, что такое бывает. Жил себе Зула и не знал, что на другом конце света существует его абсолютный клон. Только живет он совершенно другой жизнью. И понятия не имеет ни о чеченской войне, ни об ожерельях из ушей убитых врагов. Возможно, и зовут его также — Зула. И у настоящего Зулы могла бы быть совсем другая жизнь. А может, душа Зулы переселилась в него? Только сам он не знает, что он — тот самый Зула. Пустил себе пулю в лоб и очутился в таком же теле, только в Америке. А файлы прошлой жизни стерты. Но что-то осталось на подсознании. Не зря же он подошел именно ко мне. Не случайно мы встретились за океаном. Может, у каждого из нас есть на планете клон? И даже не один?
— У тебя не будет мелочи на метро? Представляешь, бабки забыл, — спросил парень.
У него даже голос и интонации были те же! Я протянул двадцать долларов.
— Нет, это много, — замотал головой калмык. — Дай пятерку.
— Меньше нет. Бери.
— Ну, спасибо, братан! Встретимся еще раз — обязательно верну!
И Зула побежал в подземку. Я не стал спрашивать, как зовут русского калмыка и был ли у него брат-близнец…
Ольге стало жарко, она отодвинулась от меня, откинув край одеяла, из-под которого показалась красивая, полная грудь. Локоны темных шелковистых волос раскинулись по подушке, закрывая плечи и половину лица. Однажды она спросила — не осветлить ли ей волосы. Я сразу понял причину. Ей казалось, что вторую половину ее крови, чеченскую, выдают карие глаза и темные волосы (которые ей очень идут). Славянские черты лица, доставшиеся от матери, вместе со светлыми волосами, по ее мнению, защитили бы от ненужных вопросов. Конечно, она не могла забыть того детину из метро. А вскоре случилась еще одна история…
Ольга задержалась в фирме отца и попросила ее встретить на остановке. Путь к нашему дому лежит через длинный и мрачный подземный переход.
Внутри гадко похолодело, как только я сбежал по скользким ступеням, ведущим в подземелье, где сквозила безысходность, пахло сыростью и мочой. Ольга испуганно и безуспешно пыталась обойти троих парней, преградивших ей путь. Что-то лепетала, чтобы пропустили, но те глумливо гоготали, предвкушая веселье, тянули к ней руки. Защипало досадой грудь об оставленном дома «макарове». Трое, но не качки, примерно моей весовой категории. Не то что тот детина. Лет по двадцать — двадцать пять, хотя вряд ли это можно назвать преимуществом для меня. Вроде не пьяные, если только немного. Но обозленные, наглые. Отморозки.
— Тебе чего, мужик? — спросил самый высокий, с мимикой хорька. Определенно главный среди них.
— Это вам чего, ребята? Это моя жена. Дайте ей пройти, — я заметил, как при слове «жена» Ольга вздрогнула.
— А чем докажешь? Печать в паспорте есть? Мы проверим! — сказал другой, рыжеватый с веснушками, и все трое залились смехом гиен. Потеряв на время интерес к Ольге, они обступили меня. Веснушчатый со вторым, темным, его я даже не разглядел, встали по бокам. Длинный — передо мной.
Внезапно я успокоился. Потому что понял, что драки уже не избежать. В такие моменты лучше слушать свое тело и инстинкты, а не разум. Я уже знал, кому нанесу первый удар, второй, третий… Главное — вложиться в удары как следует, бить точно в цели. И еще — не поскользнуться, не упасть. Тогда уже не поднимешься, запинают ногами. Действовать надо очень быстро. Скорость решает все. Я говорил им что-то, что обычно говорят в таких ситуациях, все-таки пытаясь урезонить, но не рассчитывая на нормальный исход. При этом смотрел точно в центр груди длинного, стараясь не пропустить удар. Первой, еще до кулака, начинает движение грудная клетка. Затем плечи. В том, что именно «хорек» попытается ударить первым, я не сомневался. Он вел себя агрессивнее других и был на пределе. Наконец молния на его куртке пришла в движение. От удара я ушел вправо, но кулак все же чиркнул по моему левому уху. Вместо того чтобы ответить длинному, я, выпрямляясь, коротким крюком правой, что было силы, нанес удар прямо в нос рыжеватому, стоявшему слева от меня. И сразу — левым крюком — темному, что стоял справа. Рыжий с темным этого никак не ожидали. Длинный отскочил назад, а два его дружка рухнули на грязный пол. Не давая им очухаться, что было силы, как по футбольным мячам, я ударил ногой в лицо веснушчатому и сразу, тоже в голову — его приятелю, понимая, что, если дам им подняться, шансов защититься у меня уже не будет. Длинный прыгнул ко мне, но получил ногой в коленную чашку и кулаком в подбородок. Он отлетел к стене, но устоял. Двое на кафеле, захлебываясь кровью, еще пытались подняться, и я нанес еще несколько ударов ногами. Они затихли. Я почувствовал, как адреналин колючими пузырями вспенил мою кровь, словно шампанское. Знакомое звериное наслаждение от пролитой крови врагов снова шевельнулось где-то внутри. Оно пьянило и подначивало — давай, убей их! Они бы тебя не пощадили, будь уверен!
— Мужик, ты чё? Хватит, мы все поняли! — длинный закрыл лицо руками, когда я направился к нему. Ударил его не кулаком, а размашисто, основанием открытой ладони в левое ухо. Такой удар оглушает. Длинный потерял ориентацию и присел на корточки, хлопая глазами. Двое его приятелей лежали в лужах крови. Не шевелились. Уже выходя из перехода, я оглянулся: длинный, сидя на корточках, раскачиваясь из стороны в сторону, что-то бубнил своим приятелям. Они не отвечали ему. Что с ними стало? Не знаю. Хочется верить, что не взял греха на душу…
Только на улице я взглянул на Ольгу, которую тащил за собой, стиснув ее холодную ладонь. Она была в шоке, ее трясло. Ольга украдкой поглядывала на меня из-под выбившихся из прически каштановых прядей волос как-то иначе, по-другому, словно видела впервые.
— Ты очень жестокий, — только и сказала она дома, когда я смывал с ботинок чужую кровь. А на следующий день не пришла с работы. Позвонил Мансур и сказал, что Ольга поживет пока у него. Неделю я сидел дома — сильно вывихнул правую ногу, вкладывая в удары по отморозкам все силы, что у меня были, не чувствуя в тот момент боли. Нога распухла, наступать на нее я не мог. На работе сказал, что простудился.
Я не звонил Ольге, но через неделю она вернулась сама.
— Я все рассказала отцу. Он сказал, у тебя не было другого выхода, — она помолчала и добавила: — Я думала, ты другой.
— Какой другой?
— Не способный на жестокость. Неужели в этой жизни нельзя иначе? Или ты, или тебя? Неужели на Земле нет места, где никто никого не пытается унизить или уничтожить?
У меня не было ответа.
После случая в переходе Ольга как-то замкнулась, отдалилась от меня. Она увидела моего зверя, который вырвался наружу и напугал ее. Ольга пережила две войны и насмотрелась всякого. Но, уезжая в Москву, думала, что все ужасы и кошмары остались в прошлом. Мирная жизнь, которую она нарисовала в своем воображении, получилась совсем другой. Я не смог дать ей то, на что она так рассчитывала, — спокойствия и безопасности. Даже в обычном мирном городе. Она представляла, что Москва осталась такой же, как в ее детстве, — доктор Айболит лечит большого зеленого крокодила в «Детском мире» на Лубянке. Метро пахнет железной дорогой, а не мочой. Сладкая вата прилипает к нёбу и щекочет его, а бабочки порхают в груди от ощущения полной защищенности, которую давали ей мать с отцом, бабушка и дед, защищавший даже от микробов.
— Может, только ко мне все это липнет? Как проклятье какое-то, — говорила она часто одно и то же, — у девчонок знакомых ничего такого не происходит. Живут себе спокойно, радуются жизни. А со мной вечно что-то…
Конечно, можно купить ей машину, чтобы не ездила на метро и поменьше ходила по улицам одна. Теоретически даже нанять охрану. Но Ольга не этого ждала от новой жизни. Она настолько устала от агрессии, что не хотела терпеть ее совсем. Ни в каком виде. Ее искренне расстраивало, когда люди набрасывались друг на друга из-за случайно отдавленной ноги в транспорте. Она не понимала, как можно ненавидеть друг друга из-за такой мелочи. Уезжая из Грозного в декабре 2002-го, она навсегда вычеркнула для себя жестокость как одну из возможных человеческих реакций. Ей казалось, после всего что ей выпало, она имеет право не видеть зло.
Ольга все чаще стала посещать церковь рядом с нашим домом. Крещена она была в православии, как и все в ее семье, кроме отца-чеченца. Подолгу разговаривала с бабушками, работающими в церкви… Постепенно стала им помогать — мыла полы, чистила подсвечники, протирала аналои. Все это по выходным, когда не работала в офисе отца. Иногда мы ходили на службу вместе, хоть я по-прежнему чувствовал себя уютнее, молясь по-своему и в одиночку. Вернувшись из крайней чеченской командировки, после взрывов на базе, я пришел в нашу церковь, где перед отъездом встретил старушку, похожую на мою няню — бабу Таню. В тот раз старушка читала молитвы по старой церковной книге. Мне почему-то очень хотелось снова ее увидеть. Тогда я стал расспрашивать о ней у женщин, прислуживающих в храме. Описал, как выглядит, но мне сказали, что такая женщина никогда в этом храме не работала. Действительно, я не видел ее раньше. Может, это моя няня ненадолго спустилась с неба, чтобы приглядеть за мной? Тогда я поставил самую большую свечу и поблагодарил бога за то, что выполнил мои просьбы и сохранил живым и здоровым. И еще за то, что послал мне Ольгу.
Между тем наши с Ольгой отношения становились все сдержаннее. Мы уже не дурачились, как раньше, проводя в постели все выходные. Поедая что-нибудь вкусное, обсуждая фильмы, выставки, спектакли, в промежутках неистово занимаясь любовью. На смену беззаботности пришло легкое отчуждение. Ольга словно заново меня изучала, приглядывалась, будто в начале наших отношений упустила что-то важное. Даже взгляд ее изменился. Крупные, как спелые черешни, глаза, уже не искрились теплотой и нежностью. Все чаще она задумывалась о серьезном и вечном: смысле жизни, добре и зле, Рае и Аде. Честно говоря, меня это очень беспокоило.
Как-то Ольга попросила меня рассказать о новых робинзонах, фильм о которых я больше года назад снимал в Индии. Она возвращалась к этой теме снова и снова, заставляя меня рассказывать по многу раз одно и то же во всех подробностях. Тогда я принес из редакции диск с фильмом. Она посмотрела его раз десять, хотя и не разделяла моей ироничной авторской интонации. Идея построения идеального общества, основанного на равноправии и любви к ближнему, где нет агрессии и жестокости, не казалась ей утопичной.
— Что плохого, если там не делят людей ни по национальностям, ни по вероисповеданию? Если бы так было везде, войн и страдания было бы гораздо меньше, — говорила она.
Ольга физически нуждалась в месте, куда могла бы спрятать свою истерзанную войной душу. Она напоминала мне кошку, которая ищет в квартире безопасный угол. Я понимал это и готов был на все, лишь бы вернуть ее чувства. И когда однажды она всерьез спросила — хочу ли я отправиться вместе с ней на поиски земного Рая, это не стало для меня неожиданностью. Хотя, снимая в Индии робинзонов, сбежавших от цивилизации, я и в кошмарном сне не мог представить, что когда-то смогу оказаться на их месте. Откровенно подтрунивая и даже издеваясь над ними, я считал их чудиками. Но крайняя командировка в Чечню многое изменила. Я был готов на все, лишь бы вернуть Ольгу. Янтарь в ее карих глазах раньше теплел, наполнялся глубиной, когда она смотрела на меня. Теперь же он прозрачен и холоден. Глаза Ольги всегда светлеют, когда она злится или переживает о чем-то.
Я должен помочь ей найти ее Рай. Слишком много времени она провела в Аду — всю свою жизнь. Мне вспомнился Ларри и другие робинзоны. Что, если они были правы, покидая свои дома и офисы? И единственный выход, если не можешь изменить этот мир, — найти на Земле остров, где законы этого мира не действуют? Где люди учатся усмирять своего внутреннего зверя или вовсе уничтожают его в себе. Даже если такого места не существует, ради Ольги я готов попробовать. Мы пройдем этот путь вместе, и пусть будет так, как будет. В конце концов, она должна увидеть все сама…
Пару недель мы думали, куда нам отправиться. Перебрали в Интернете все «острова счастья» на планете. Альтернативные поселения, в которые съехались люди, чтобы победить пороки большого мира: алчность, зависть, ненависть, злобу. Индия, Шотландия, Израиль… Россию мы не рассматривали. От общин в Индии, в которых снимался мой документальный фильм о новых робинзонах, я отказался наотрез — не хотелось радовать Ларри и его соплеменников своим появлением. В конце концов остановились на Санвилле — небольшом поселении на самом юге Индии. «Мы обязательно создадим Рай вместе с вами» — такой слоган красовался на скромном сайте общины. Далее следовала просьба: не приезжать людям, не уверенным в своих мотивах и целях. Ниже — немного информации о Санвилле и несколько красочных фото. Наверное, таким многие и рисуют в своем воображении Рай: белые пески, высокие пальмы, бунгало из тростника, счастливые лица людей, взявшихся за руки на фоне потрясающей красоты заката. Этот вариант Ольге понравился больше всего.
— Я никогда не видела моря, представляешь! Даже Каспийского, которое относительно недалеко от Грозного, — и Ольга снова заставляла меня рассказывать про океан и вечное лето. В эти моменты янтарь в ее глазах немного теплел, становился коричневым.
В глубине души я все же надеялся, что Ольга успокоится и отступит от своей идеи. Бывает, если к чему-то очень долго готовишься, возникает ощущение, будто это уже случилось. Ты настолько отчетливо представляешь, как все будет, что перегораешь и уже не знаешь, надо ли тебе это. Но намеченная дата отъезда неумолимо приближалась, а Ольга становилась только решительнее. Мы списались с общиной через Интернет, какое-то время ушло на улаживание формальностей. Больше всего общину интересовал мотив, по которому мы хотим покинуть большой мир. Тут я знал, как им угодить, процитировав в электронном письме самые лучшие куски из интервью с моими робинзонами, перечислив все недостатки и пороки современного общества. Наконец мы получили согласие. В агентстве нам сделали годовые визы.
На телеканале пришлось взять бессрочный отпуск за свой счет. Это было равнозначно увольнению, но я не жалел. Сказал, что устал и нуждаюсь в творческом отпуске. Деньги на первое время у нас были. За каждый день, проведенный в Чечне, мне платили сто долларов, помимо зарплаты. Эти деньги я не трогал, копил на квартиру. Ольга и сама неплохо зарабатывала у отца, плюс он что-то дал ей с собой. Я поговорил с Мансуром, он согласился, что смена обстановки пойдет Ольге на пользу. В институте Ольга взяла академический отпуск.
Хозяйке квартиры я заплатил вперед за полгода, попросив перевезти немногие оставшиеся наши вещи к себе, если не вернемся до сноса дома. На самом деле я не знаю, как надолго мы уезжаем. Может, навсегда. Ольга простилась с отцом. Им снова предстояла разлука, и они не знали, увидятся ли когда-нибудь еще.
«Макаров» я разобрал и по частям выбросил в Москву-реку. Расставаться с пистолетом было жаль. Я привык к его приятной тяжести, от которой исходила сила. Разумеется, и насилие тоже. Но тащить в «рай» ствол было бы глупостью…
На какое-то время проваливаюсь в сон…
…Таджик в грязном камуфляже передернул затвор и навел на нас с Бросковым древнюю «трехлинейку». Таджик сидит на БМП, прямо на башне. Орет что-то по-своему, но мы его не понимаем. Остальные тоже орут и размахивают оружием. Подскочили к нам. Прикладами в спины погнали к дувалу. Мы пытаемся говорить с ними. Трясем аккредитациями. Нас не слушают. По-русски эти таджики не понимают совсем. А мы не знаем таджикского. К слову, на нас военный камуфляж. Только вместо оружия — камера. Был самый конец июля 1997 года. В то время в Таджикистане журналистов часто переодевали в военную форму, чтобы не выделялись. Снайперы на афганской границе нередко выбирали тех, кто в штатском, видя в них важных птиц.
Совершенно очевидно только одно: нас решили расстрелять. Подогнали прикладами к дувалу. Отошли шагов на десять, вскинули автоматы. Мы понимаем, что все это какая-то ошибка или страшный сон, но поделать ничего не можем. Нас не понимают. Или не хотят понимать. Если бы среди этих раскаленных скал нам повстречались инопланетяне, результат коммуникации мог бы быть лучше. И тут я осознаю, что из-за непонимания или нежелания понимать случаются самые страшные вещи. Черные дырки стволов бесстрастно, акульими глазами смотрят прямо в нас, уже готовые пронзить горячим свинцом наши тела. Я пытаюсь вспомнить хотя бы одно слово на таджикском. Нащупать кочку в болоте. Ухватиться за соломинку. Найти какое-то понимание с той стороны. Хочу оттянуть это. Удержаться еще на какое-то время в мире, к которому привык и который не понял пока до конца.
Вспомнилось только «рахмат» («спасибо»).
Я сказал им «рахмат». Они услышали меня. Застыли в недоумении — за что благодарит их этот сумасшедший русский? За то, что его сейчас расстреляют? Здесь что-то не так. Они опустили стволы…
На этом моменте я всегда просыпаюсь. Этот сон мне снится нечасто, но вот уже несколько лет подряд. И всегда одно и то же: говорю моджахедам «рахмат» и просыпаюсь.
В Таджикистане и на афганской границе мы с оператором и режиссером Олегом Бросковым снимали цикл документальных фильмов. В тот день возвращались из Ляура в Душанбе. Под Кофарнихоном увидели разношерстных людей с оружием и решили поснимать, полагая, что относятся они к правительственным войскам. Мы еще не знали, что началось новое обострение противостояния «вовчиков» и «юрчиков», и оппозиция двинула войска на Душанбе. Прессу пообещали расстреливать на месте. Ни та ни другая сторона не хотела выносить сор из избы. На подразделение оппозиционных войск, представлявших собой кучку грязных и уставших людей на бээмпэшке советских времен, похожих больше на моджахедов, мы и напоролись.
Спас нас тогда один из них. После того как я произнес «рахмат», к нам подошел мужчина лет тридцати пяти и на чистейшем русском сказал:
— Яркий пример магии добрых слов! Когда с человеком нет контакта, убить его проще. Знание этого единственного слова помогло вам, но еще не спасло. Иногда, чтобы тебя понимали, недостаточно знать даже все языки мира. Меня зовут Асфандиёр. Я здесь единственный, кто говорит по-русски. Учился в Москве. Вы ни в чем не виноваты, просто вам не повезло. Мы получили приказ расстреливать за любую съемку. У вас есть несколько секунд. Я постараюсь их уговорить. Немедленно идите к машине, только не оглядывайтесь и не бегите. И уезжайте! Если промедлите хоть мгновение, останетесь здесь навсегда.
Нам не надо было повторять. Стараясь не смотреть на боевиков, мы двинулись к своему «Уазику».
Моджахеды загалдели, защелкали затворами и кинулись к нам. Асфандиёр встал у них на пути, раскинув руки, и стал что-то эмоционально кричать, отчаянно жестикулируя. Видимо, горячо убеждая оставить нам жизни. Большинство с ним было несогласно. Они рвались к нам, как звери, от которых уходит законная добыча, кровь которой уже почуяла стая. Наши судьбы решались обоюдными эмоциональными выкриками, напоминающими торг на восточном базаре. Я не знал, какие доводы приводил Асфандиёр. Видел только краем глаза, как вздулись вены на его багровой от напряжения шее. Понимал, что еще немного, и не сдержать ему своих братьев по оружию.
Мы старались не делать резких движений, хотя очень хотелось рвануть к машине. Но это самое глупое, что можно было сделать. Мысленно я досчитал до тридцати, когда мы оказались в «Уазике» и Олег повернул ключ зажигания.
В пресс-службе правительства Таджикистана потом искренне удивились, что боевики нас не расстреляли.
Немногим позже Олега не стало. Он добровольно покинул этот мир, довершив то, чему не суждено было случиться на Кофарнихоне. Так вышло, что по-настоящему счастливым и нужным он ощущал себя только на войне. Как бы странно это ни звучало. Обычная «мирная» жизнь с ее запутанными правилами и законами стала для него куда большим испытанием, которое он не смог вынести. И среди тех, кого я знал, Олег был таким далеко не один.
А из истории под Кофарнихоном я вынес, что иногда одно вовремя услышанное или произнесенное слово способно остановить непоправимое.
…Снова наваливается сон. Мне снится Зула. На шее у него связки из ушей убитых врагов. Зула просит мелочь на метро и смеется.
— У каждого из нас есть свой клон, брат! — кричит он мне, и уши на ожерельях оживают, шевелятся и начинают его душить. Я пытаюсь ему помочь, но не могу. Зула стал превращаться в осьминога с щупальцами, а потом в облако, пока не растворился совсем. Послышался приближающийся поезд. Только едет он медленно и тренькает, как трамвай…
Открываю глаза. Перезвон церковных колоколов зовет к заутрене. Ольга улыбается во сне. Наверное, ей снится море, которого она никогда не видела. Любуюсь самыми идеальными ушными спиралями на Земле, похожими на красивые морские раковины. Целую ее в губы. Скоро за нами приедет такси. Пора!
Часть третья В поисках рая
Мне нравится наблюдать, как работает Канта. Очень бережно она кладет семена кукурузы или бобов в маленькие мешочки и грациозно помещает их в сделанные мной ямки. Мешочки нужны, чтобы жуки не съели семена, когда они начнут прорастать. Движения Канты плавны и в то же время быстры. Сейчас шесть утра и надо успеть сделать все важные дела до наступления жары. Через пару часов работать станет невыносимо.
— Давай быстрее, лодырь! Ямки заканчиваются, — улыбается мне Канта, прикрывая глаза ладонью от утреннего, еще не жгучего солнца.
После работы все усаживаются за большой длинный стол в тени деревьев. Люк — дежурный, раскладывает по тарелкам рис и лепешки. Разливает по чашкам воду. Сегодня на завтрак еще яйца и бананы, что бывает не часто.
— Минуту внимания, — обращается ко всем Хлоя. — После завтрака нам надо выбрать троих человек для работы на птицеферме. Есть добровольцы?
Вызвались веселые парни из Испании. По-моему, геи. Вообще, здесь толком никто ни о ком ничего не знает. На твою национальность, религию или сексуальную ориентацию всем наплевать. Делиться своими проблемами считается также неприлично, как и лезть в душу с расспросами. Человек в Санвилле — как песчинка в пустыне или капля в океане: уникален, неповторим и в то же время обезличен. Санвилльцы убеждены, что все несчастья Большого мира происходят из-за того, что одни люди ставят свою культуру или личные интересы выше других. Поэтому в Санвилле не допускается ничего, что могло бы вызывать споры или раздор. Все, что может напоминать о Большом мире, в Санвилле запрещено. Здесь нет ни телевидения, ни газет, ни даже радио. Интернет есть только в доме Совета общины и служит для связи с новыми потенциальными членами Санвилля. Доступ к глобальной сети есть лишь у нескольких человек из верхушки общины.
— Все самые страшные войны в истории человечества происходили из-за религиозных разногласий, — говорит Хлоя. — И еще из-за денег и территорий.
В Санвилле нет ни денег, ни территории как таковой. Здесь все общее. Город солнца затерялся в непроходимом дикорастущем лесу, прямо на берегу океана, в одной из самых южных и жарких точек Индии, примерно в десяти градусах от экватора. Лишь неприметная деревянная табличка Sunville, приколоченная к старому, изъеденному жуками деревянному столбу, свидетельствует о призрачной границе между двумя мирами. До ближайшей индийской деревни отсюда двадцать километров. У этой деревни нет названия. Главная ее достопримечательность — ржавая телефонная будка — единственная связь с Большим миром для большинства санвилльцев.
Санвилль существует больше сорока лет. Основала его американка, настоящего имени которой никто никогда не произносит. Наверное, его знают лишь старожилы вроде Хлои. Для всех она — Мать Шанти, что в переводе с индийского означает «мир». После смерти Шанти была возведена в ранг божества, а прах ее развеян над Санвиллем. О богах, которым они молились в прошлой жизни, санвилльцы постарались забыть. Молитвы им заменяют ежедневные коллективные медитации, в которых каждый должен работать над просветлением своего сознания. До и после медитаций обязательно поминают Великую мать Шанти, которая объединила санвилльцев в новой религии — поиске Рая на Земле, став их Богиней.
Санвилль был задуман как город-эксперимент. Уникальное место, в котором живут люди с просветленным сознанием. Разрастаясь, Санвилль должен был поглотить Большой мир. Вылечить его подобно пенициллину, убивающему бактерии.
«Мир — это раненая ядовитая змея на пути к предопределенной ей смене кожи и совершенству…» — гласит надпись у входа в Санвилль. Слова эти принадлежат мыслителю Шри Ауробиндо, учение которого вдохновляло Мать Шанти.
— Санвилль — это не Рай. Это больше, чем Рай. Потому что Рай — это статичный мир. А мы хотим жить в динамическом мире, работать для изменения сознания. Мы верим в нашу идею и постоянно движемся вперед! — часто говорит Хлоя, председатель Совета общины. Хлое лет пятьдесят пять. В прошлой жизни она была продавцом в магазине женской одежды в Канаде, в Монреале. В Санвилле Хлоя почти с самого основания. Попала сюда с очередной волной хиппи и была правой рукой Матери. Когда Шанти ушла в мир иной, Хлоя ее заменила и вот уже двадцать лет руководит Санвиллем. Ее слово — закон. Ни одного человека не примут в общину без личного одобрения Хлои. Похожая на высушенную солнцем черепаху, с морщинистой, особенно на шее, кожей, она смотрит на меня, втянув голову в плечи и слегка наклонив ее в сторону. Так медлительное земноводное изучает на лужайке одуванчик, прежде чем отправить его в рот.
— Вы с Кантой останетесь сажать семена маиса, — говорит она после завтрака.
А я думаю, что когда-нибудь Хлою, как и Шанти, нарекут божеством и будут поклоняться ей в ашраме.
Медлительная она только на первый взгляд. Мне кажется, что Хлоя никогда не спит. Лично отдает распоряжения членам общины, поспевая всюду на своем стареньком скутере, за которым тянутся клубы красной пыли. Работы много. Община обеспечивает себя всем сама, разводя птицу, овощи, фрукты, ловя рыбу. Есть даже своя пекарня. Лишь питьевая вода завозится большими цистернами раз в неделю.
— Нам нужна экологически чистая еда. Человек, решивший изменить свое сознание, не должен есть нитраты, — часто говорит Хлоя.
Одежда в Санвилль привозится из Ченнаи. За это отвечает Дэниел, правая рука Хлои. У него какие-то договоренности с магазинами секонд-хенд. На одежду в общине распространяется коммунистический принцип «каждому по потребностям». Ее бесплатно раздают в специальных лавках Санвилля, делая записи в журналах: кто, когда и что именно взял.
Разделавшись с маисом, мы с Кантой отправляемся к океану. Миновал полдень, и остаток дня в нашем распоряжении. Мы можем делать что хотим. Полоса белого, горячего песка уходит вдаль. Она кажется бесконечной. С одной стороны песок омывают волны океана, с другой — обрамляют высокие пальмы, дающие спасительную тень. У нас с Кантой есть свое любимое место.
Сбрасываем одежду и с наслаждением бросаемся в волны. Сейчас полный штиль, и вода даже слишком теплая. Наплававшись, лежим в тени пальм. Я провожу рукой по плечам Канты, ее спине, опускаюсь к обнаженным ягодицам и ногам, стряхиваю белый песок. Затем рука медленно ползет вверх. Касаясь шеи, поднимаю выгоревшие локоны каштановых волос, открывая идеальной формы уши, похожие на прекрасные морские раковины.
— Ты этого хотела? — спрашиваю я Канту.
— Да, — отвечает она, и янтарь в ее глазах теплеет.
В Санвилле мы около двух месяцев. Здесь многие меняют имена, веря в то, что благодаря этому начнется новая, более счастливая жизнь. В первые же дни Ольга взяла себе индийское имя Канта. Это должно было помочь ей забыть прошлое.
— Пусть будет так, будто это моя следующая жизнь. Теперь я Канта и живу в Индии, — заявила Ольга. Значения имени мы не знали. Позже выяснилось, что Канта означает «красивая, желанная». В общем, это имя ей подходит. Но я все еще жду, когда ко мне вернется моя прежняя Ольга…
* * *
— Налейте-ка мне тоже рюмочку, дорогой Люк! — попросил профессор Полозов. — Алкоголь меняет восприятие мира подобно кривым зеркалам или стекляшкам калейдоскопа. Благодаря этой иллюзии мир на какое-то время кажется лучше.
Люк протянул профессору прозрачную узкую колбу, которую ученые обычно используют для опытов. В колбе плещется желтоватая жидкость — манговая водка, которую Люк сегодня выменял у местных жителей на прошлогодний календарь. Главной ценностью календаря были обнаженные девицы, каждая из которых представляла какой-то месяц.
— Все-таки, дорогой мой, нельзя начинать новую жизнь с обмана, — сказал Полозов Люку, с наслаждением потягивая нектар. Манговая водка больше походит на вязкий и тягучий ликер. По крепости превосходя его, однако не дотягивая градусами до обычной водки. При этом она имеет довольно приятный, терпкий вкус. Пить ее лучше всего мелкими глотками, обязательно со льдом.
— Нехорошо подсовывать необразованным местным жителям старый календарь, который, насколько я помню, был еще изрядно испачкан, помят и годился только для мусорного ведра, — закончил свою мысль профессор, звякнув кубиками льда.
— Уверяю вас, Александр, календарь был очень хорош. Что с того, что он старый? Он имеет двойное применение. Как прямое, так и косвенное. Вы видели девушек, которые там изображены?
— Давайте без пошлостей, особенно про косвенное назначение вашего календаря, Люк, — вступила в разговор Ратха, также потягивая напиток.
— Я только хотел сказать, что местные индийцы таких девушек никогда не видели и вряд ли увидят. Они еще по наследству будут передавать этот календарь! А потом — это чистый обмен, без денег. Мы дали друг другу то, что нам было нужно. И вообще, я старался для всех!
— Хорошо, хорошо, — сдался Полозов, — но лучше было бы поменять водку на маис или рыбу.
Люк — бывший рекламный агент с внешностью авантюриста. В общине всего месяц. Француз, около тридцати, обаятельный. Череп обрит наголо, лицо же, наоборот, всегда небрито. По мнению Ратхи, он всегда сует свой крупный нос куда не следует и место ему во французском легионе, где якобы скрываются многие преступники, а не в Санвилле. Ратхе кажется, что Люк имеет проблемы с законом и это главная причина, почему он здесь. Вряд ли кому-то придет в голову мысль искать его в здешних «джунглях».
Мы с Кантой частенько коротаем вечера в этой странной компании. Хотя в Санвилле и не принято собираться группами. Обычно русские здесь не объединяются с русскими, а, например, немцы — с немцами. Каждого больше интересует происходящее внутри его сознания, чем снаружи. Однако так получилось, что мы сблизились с некоторыми, такими же, как и мы, «искателями Рая». Собираемся обычно у профессора Полозова, как сегодня. Мы с Кантой живем в деревянном бараке, общежитии для новичков, и отдельным жильем пока не обзавелись. Право иметь свой дом на территории Санвилля нужно заслужить многолетним трудом. Даже шалаш нельзя построить без разрешения общины. Некоторые здесь предпочитают жить на деревьях. Их соломенные хижины видны повсюду — на огромных, раскидистых, многовековых баньянах. Такие «дома» походят на гнезда гигантских птиц. Кто-то из глины и соломы сооружает себе жилища в виде шаров, летающих тарелок или пирамид. Но наиболее нужным членам отдельное жилье община выделяет сама. Часто это вполне благоустроенные дома. Профессор Полозов относится к этой категории. В Санвилле он на особом, привилегированном положении. Уже четверть века Александр Дмитриевич ищет ген агрессии. Он убежден, что зло в Большом мире можно вылечить, как оспу или корь. Поиски свои профессор начал еще в Петербургском институте исследования мозга, где когда-то работал и откуда его уволили за скандальные заявления.
Полозов утверждал, что в ДНК человека закралась ошибка. И все беды на планете из-за наличия у людей гена агрессии. Обнаружив его и изъяв из цепочки ДНК, можно исправить самую большую ошибку Природы или Создателя.
— Агрессия порождает агрессию, — говорит профессор, — если исправить в человеке эту деталь, изменится сама его сущность. На Земле прекратятся войны и наступит Рай.
В Санвилль Александр Дмитриевич приехал пятнадцать лет назад и с тех пор ни разу не был в России, где остались четверо его взрослых детей от двух браков. На вид Полозову чуть больше шестидесяти. Сам он говорит, что уничтожил паспорт и усилием воли забыл свой возраст, чтобы мысли о приближающейся старости не мешали работать. Но я этому не верю. Полозов никогда не видел своих семерых внуков, посвятив себя делу всей жизни и твердо веря в то, что его открытие изменит мир.
Хлоя распорядилась организовать профессору небольшую лабораторию. Для этой цели на деньги общины (которые все-таки существуют для крайних нужд) из Ченнаи было выписано все необходимое. Каждые две недели Дэниел доставляет Полозову новые партии лабораторных мышей, над которыми профессор ставит опыты.
Поначалу встречи у профессора были редкими. Но постепенно вошли в привычку и стали проходить почти каждый вечер. Вместе с нами здесь обычно собираются пять-шесть постоянных «членов клуба», как шутит Мигель, художник из Испании. У профессора целые две комнаты плюс помещение под лабораторию. Есть большой круглый стол, стулья, пара продавленных кресел и посуда. Обычно мы обсуждаем прошедший день или дела Санвилля. Но часто разговоры переходят в плоскость смысла жизни или несовершенства человеческой сущности. Здесь это главные темы, объединяющие членов общины, у каждого из которых была своя причина отправиться на поиски земного «Рая». Так как компания подобралась интернациональная, говорить приходится на универсальном английском, который некоторые дополняют фразами из родного языка и жестами. Мы с Кантой новички и пока больше слушаем, чем говорим. Встречи в доме профессора стали для нас единственным развлечением в Санвилле, заменив кино, театры и художественные выставки, которые мы любили посещать в Москве до злосчастного случая в подземном переходе. Он стал последней каплей, едкой кислотой обжегшей измученную многолетним страхом и лишениями душу Канты. Я чувствую, что ей все еще необходимо время, чтобы разобраться в своих чувствах и лучше понять Санвилль. Это ли место она искала, нарисовав яркими красками в своем чутком воображении?
Как все, мы работаем на благо общины. Ходим на медитации. Изучаем труды Матери Шанти. Участвуем в творческих конкурсах, которые любит проводить Хлоя. Обычно по выходным члены общины собираются вместе, чтобы поделиться друг с другом творческой энергией. Они рисуют акварелью на листах ватмана, поют, читают вслух стихи, ставят спектакли. Считается, что таким образом негативная энергия преобразуется в творческую. Качество исполнения при этом не имеет значения. Поначалу меня сильно смущало происходящее. Я чувствовал себя неуютно, но потом привык. Канта на таких мероприятиях обычно рисует. Рисует потрясающе. Чаще всего акварельные пейзажи или сказочных животных. Иногда чьи-то портреты. Я сижу рядом и, чтобы не обращать на себя внимания, раскрашиваю ее рисунки в местах, которые она указывает, стараясь ничего не испортить. Я не тороплю Канту. Она должна понять все сама…
Ратха, молодая женщина лет тридцати семи, с внешностью старой девы, пытается поставить пластинку на старом патефоне — особой гордости Полозова, который признает технический прогресс только в медицине. Все прочие новшества профессор считает вредными для человеческой души:
— Когда-нибудь электронные гаджеты превратят человека в робота! — говорит он.
Полозов имеет страсть к раритетным вещам и приобретает, а точнее, выменивает их при любой возможности, в основном на продукты питания. Для этого он отправляется с Дэниелом в город или по деревням. Люк называет находки Полозова барахлом. Между тем барахло отлично вписывается в обстановку жилища профессора. Кажется, что ты перенесся на несколько десятилетий назад.
Игла патефона никак не попадает в бороздку, но Ратха не сдается и настырно повторяет попытки. Ратха — тоже русская. Когда-то ее звали Еленой. Приехала из Новосибирска много лет назад. Больше о ней ничего не известно. Ее считают немного странной.
— Бросьте это занятие, Ратха! С этим агрегатом может управляться только профессор! — сказал Мигель.
Но в тот же миг Ратха победила патефон, комната наполнилась шипением, а затем еле различимым: «All we are saying is: Give peace a chance»[1], — запел покойный Джон Леннон.
— Похоже, эту пластинку привезли с собой первые хиппи, основавшие Санвилль и видевшие саму Мать Шанти, — сказал Стивен, молодой учитель из Англии.
— Возможно, Мать Шанти и привезла эту пластинку, ведь тогда она была просто милой девушкой, приехавшей из Америки в надежде сделать мир лучше, — сказала Канта, которая сидит рядом со мной на полу, на тростниковом коврике. В отличие от остальных Канта пьет чай. Она так и не научилась пить крепкий алкоголь, чему я очень рад. Лишь иногда Канта позволяет себе бокал сухого вина.
— Подумать только, покойник Леннон! Голос его оживает при помощи допотопного патефона, который уже тогда был старичком, когда Джон только появился на свет. И вот кумира миллионов уже нет, а патефон все крутит его пластинку, воскрешая на мгновения великого певца, — сказал Мигель.
— Увы, Мигель, вещи живут гораздо дольше людей. Разумеется, если находятся в хороших руках, — сказал профессор.
— Странно. Человека нет, а голос его звучит, — задумчиво произнесла Ратха.
— Что же тут странного? — спросил Стивен.
— Странно, как воспринимать то, что мы слышим или видим. Я имею в виду записанные голос или изображение. Ведь между записанным изображением покойника и живого человека нет никакой разницы. Ну, если только для экстрасенсов. И если не знать о том, что человек умер, его можно счесть за живого. В то время как его давно нет.
— Это называется другой формой жизни, дорогая Ратха, — сказал профессор. — Нет тела человека, но осталось его изображение или голос, что в данном случае нам и демонстрирует великолепный Леннон. Разумеется, вы слышали фразу: «Человек бессмертен в своих делах». Смерти нет для тех, кто оставил после себя духовное наследие. Ушедшие актеры кино снова и снова играют одни и те же сцены, заставляя нас переживать, смеяться и плакать. Стихи, проза и живопись актуальны и через столетия после их написания. Более того, с годами они становятся еще ценнее, как выдержанное вино. Мы же, ученые, продолжаем жить в своих изобретениях. Когда-нибудь ген агрессии назовут именем профессора Полозова! И каждый человек, которого я избавлю от этого недуга, будет вспоминать мое имя с благодарностью… надеюсь.
— То есть вы не признаете жизнь после смерти, профессор? — спросил Люк.
— Честно говоря, меня больше интересует жизнь во время жизни, — ответил Полозов. — Бог наделил человека телом, в котором все продумано до мелочей. Сердце качает кровь, печень ее очищает. Легкие позволяют нам дышать. Желудочный сок помогает расщеплять пищу. А рождение ребенка? Ну разве не чудо — из соприкоснувшихся жидкостей появляется новая жизнь: возникают кровеносная система, кости, ткани, которые растут и развиваются. В результате на свет появляется человек. А мозг человека, с которым не сравнится ни один компьютер, совершает триллионы операций в секунду! Жить и творить, осознавая неизбежность ухода, — в этом, без сомнения, заложен один из главных смыслов нашего бытия. Согласитесь, самой большой бессмыслицей была бы жизнь на планете, подвешенной в космосе среди миллиардов других, если бы жизнь на этой планете была бы только ради самой жизни. Само по себе наше существование — чудо, фантастика.
Определенно, после смерти что-то есть, иначе рушится логика. Это я уже как ученый говорю. Слишком все логично и взаимосвязано, чтобы быть бессмысленным в итоге. Идеально. Все, кроме одного.
— Неужели Господь что-то не предусмотрел? — ухмыльнулся Люк, подливая в колбу Полозова манговую водку.
— Человек должен сам сотворить свою душу. Совершенно очевидно, что Господь не замышлял человека жестоким. Именно поэтому наша телесная оболочка столь хрупка! Наше тело будто бы и не рассчитано на агрессию. Если бы человек задумывался агрессивным и хищным, у него для защиты и нападения были бы, скажем, рога, как у быка, или острые когти, панцирь броненосца или толстая кожа, как у слона. Видимо, в программу закралась ошибка. Какой-то генетический сбой. И это мы должны исправить.
— Не слишком ли вы хватили, профессор? Исправить ошибки Господа? — сказал Люк. — Вы же сами рассказали, как все уникально в нашем мире устроено. Так, может, и агрессия дана нам для чего-то? Человек — хищник, такой же, как другие. Иначе бы он питался травой. Кстати, обратите внимание на наши зубы! — и Люк щелкнул челюстью так, что Ратха вздрогнула, а я подумал, что когда разглядываю свои клыки в зеркале, мне приходят мне в голову такие же мысли. — Так в чём тут сбой? Все как раз логично, дорогой профессор. А вот в нашем разуме, о котором вы говорили, и есть, на мой взгляд, главный подвох! Человек — хищник с интеллектом, — сказал Люк.
— Бросьте нести чепуху, Люк, — сказал профессор.
— Я, например, вегетарианка, а не хищник. Люк всегда со всеми спорит и все подвергает сомнениям. К тому же много выдумывает, — вставила Ратха.
— Вегетарианцы пытаются искусственно изменить свою природу. Человеку положено есть мясо, — не унимается Люк. — Не траву и даже не орехи, а именно мясо. — Люк еще раз щелкнул зубами и немного порычал, чтобы позлить Ратху. — Чтобы жить, мы должны убивать животных. Почему так все устроено, а не иначе? Почему такому совершенному организму необходимо потреблять чье-то мясо? Зачем мы едим животных? Люди и друг друга истребляют из корыстных целей — это все равно что жрать себе подобных. Господи, да кто же мы такие? Этот вопрос сводит меня с ума! Мы самые обыкновенные хищники, и, более того, гораздо хуже, потому что льву никогда не придет в голову убить антилопу ради развлечения. А люди убивают животных на охоте и потом даже не едят их мясо! Им важен процесс охоты. Подумайте — ведь лев никогда не станет охотиться, если он сыт. Но человеку в отличие от льва или тигра всегда всего мало! Своей жадностью человек убивает Планету, жалит и кусает ее, как гнусная вошь. Гадит там, где ест и живет. Ни одно животное не способно на это. Если вы, профессор, думаете, что с помощью пилюль можно излечить человечество, то, кроме гена агрессии, вам придется еще найти и уничтожить ген жадности, лени, гордыни и прочих всем известных грехов, — выдохнул Люк.
— Браво, Люк! Вы меня поразили сегодня. Вы один из самых яростных мизантропов, каких я знал. Странно, как вы вообще оказались в Санвилле? Но в целом вы правы. Если эксперимент с геном агрессии удастся, мы рассчитываем начать масштабную коррекцию человеческой личности. Только представьте, как изменится наш мир, если искоренить все людские пороки, о которых вы только что нам поведали с таким пылом! Это будет идеальный человек, и его деятельность будет направлена на созидание, а не разрушение.
— Неужели нет других, менее радикальных методов? Мне кажется, профессор, вы забываете о такой важной штуке, как совесть. Что, если вам найти и простимулировать ген совести? — ехидно предложил Люк.
— Совесть, о которой вы говорите, есть у одного человека из десяти. Представьте, что одно сильное государство решило полностью разоружиться и распустить армию. Последуют ли другие государства его примеру? Да никогда! Они с радостью завоюют эту страну на следующий же день и будут делить между собой ее территорию, как шакалы делят тело загнанной ими больной тигрицы. Совесть работает только тогда, когда совестливы все представители социума. Иначе бессовестные и жадные будут выигрывать. Добро всегда будет проигрывать злу, пока существует агрессия. Вы замечали, что наглые, жестокие и пробивные люди часто устраиваются в жизни лучше? Агрессия дает им энергию. Они не ждут, не уступают, а идут напролом и берут. Видя это, многие начинают вести себя так же, потому что не хотят быть слабаками и проигрывать сильным. Если злой будет угрожать доброму, добрый рано или поздно возьмется за оружие. Только проведя тотальную биологическую коррекцию, мы сможем сделать человека добрее, — закончил Полозов свою речь.
— А вас не беспокоит, профессор, что вы собираетесь лишить людей выбора? Ваши таблетки сделают их роботами. Счастливыми болванами. Моя grand-mére, бабуля, часто приводила в пример слова какого-то мыслителя: «За каждую минуту злости вы теряете шестьдесят секунд счастья». Точно сказано, но все-таки я хочу сам выбирать между ненавистью и любовью, — сказал Люк.
— Ненависть и любовь, как известно, явления одной природы. И грань между ними бывает такой же призрачной, как между добром и злом, — ответил Полозов.
— Райад, — задумчиво произнесла Ратха, глядя куда-то на трещину в потолке.
— Что? — переспросил Люк.
— Мы живем в Райаде. Это я только сейчас поняла. Вы слышали о теории разных планетарных систем, изложенных в древних писаниях? Согласно им существуют высшие планеты, райские. И низшие, адские, демонические. Так вот Земля находится посередине. Она низшая среди высших и высшая среди низших. Получается между Раем и Адом. Вместе — Райад. От того, как мы проживем нашу очередную жизнь в физическом теле, зависит, на какой планете нам жить в следующем воплощении. Я читала, что всего планет четырнадцать.
— Получается, профессор хочет «переделать» Землю в райскую планету! — воскликнул Стивен. — Это что-то вроде перезагрузки для человечества?
— Скорее, апгрейд, — ответил Полозов.
Я посмотрел на Канту. Щеки ее пылают, а губы слегка дрожат. Видно, как волнуют ее все эти разговоры о Рае, в поисках которого мы с ней оказались в Санвилле.
— Я согласен с профессором, — сказал Мигель. — Даже вера в Бога не останавливает людей от грехов. Многие идут в церковь, чтобы выпросить у Господа прощение. А потом идут грешить снова. Или выклянчивают для себя всяких благ: денег, здоровья, любви, счастья, даже не понимая, что оно означает. Каким должно быть счастье? Какая его формула?.. Большинство людей даже к религии относятся потребительски и постоянно заключают сделки со своей совестью. Ходили бы люди в храмы, будь они бессмертны? Или если бы точно знали, что в любом случае попадут в Рай и за грехи им не гореть в Аду? Думаю, нет. Наивно полагать, что человечество может измениться самостоятельно постепенно. Для этого у него были многие тысячелетия. Изменилась мода, появились гаджеты, люди стали летать в космос и дольше жить. Но сознание по-прежнему эгоистично.
— Как же все-таки странно. Он как будто здесь поет, прямо среди нас. А его так давно уже нет, — сказала Ратха, по лицу которой текут слезы.
Imagine there’s no heaven, It’s easy if you try, No hell below us, Above us only sky… («Представь, что нет рая, Это легко, если попробовать. Нет ада под нами, Выше нас только небо…»)— продирался сквозь шипение патефона призрак Леннона со следующей песней, неестественно растягивая слова.
— Так и есть, он здесь, — подключился к разговору я. — Как сказал профессор, Леннон превратился в голос. Но почему он не может продолжать жизнь в другой форме вечно? Если воспринимать планету как единое информационное поле, на которое записывается вся ее история, как музыка на этой пластинке, то душа человека, а значит, его память и мысли могут также быть записаны в этом поле. Пусть и без телесной оболочки. Компьютеры совершают операции по заданному алгоритму. Почему тогда человек, создавший компьютер, не может быть запрограммирован Высшим разумом, Создателем на то, чтобы жить вечно и развиваться, оставаясь энергией мысли? Душа имеет разные формы жизни. Поэт вкладывает душу в свои стихи, а, например, композитор — в музыку. Душа поэта зашифрована в буквах и словах, рифмах. Это его мысли, а значит, часть его души, оставшейся навеки на бумаге. Душа композитора превратилась в ноты, музыку, которая звучит и продолжает, как уже говорил сегодня профессор, волновать людей. Вот и Леннон сейчас здесь и голосом, и мыслями. Ты права, Ратха. Успокойся. Он здесь. Это часть его души. Статичная. Зафиксированная. Но душа как энергия вполне может существовать в информационном поле планеты или Вселенной, словно внутри гигантского вечного сервера, развиваясь дальше, — говоря это, я испытал дежавю, но тут же вспомнил, откуда пришло это ощущение. Нечто подобное я говорил в Чечне, когда мы обсуждали вопросы жизни и смерти, сидя в тесном вагончике. Зулы и Лемы уже нет среди живых. Для них наш тогдашний спор разрешен. И в Санвилле, и в Чечне, в Аду и искусственном Раю людей волнуют одни и те же вечные вопросы. Добра и зла. Войны и мира. Жизни и смерти. Смысла жизни. Смысла смерти.
— Как бы там ни было, Михаил, никому из живых никогда не откроется великая тайна устройства этого мира. Люди не готовы к таким открытиям, — сказал Полозов, — всегда будут лишь теории.
— Не всем удается оставить в чем-то после своей смерти частичку души, — сказала Ратха, слегка увеличивая громкость патефона. — Не у всех есть для этого любимое дело или талант. У меня был знакомый в Новосибирске. Он всю жизнь вырезал гайки на заводе. Одни и те же, из года в год. Потом ему надоело, и он повесился. Что же, теперь его душа в этих гайках живет?
— Не обязательно в гайках. Ведь что-то он любил, твой знакомый. Кто-то цветы выращивает. Или в детей душу вкладывает. Душа живет там, где любовь, — сказал Стивен.
— Не было у него детей. И у меня нет. И, наверное, уже не будет, — из глаз Ратхи снова потекли слезы.
— Расскажите лучше, как идет ваша работа, профессор? Вам удалось продвинуться в поисках? — обратился к Полозову Люк, чтобы сменить тему.
Полозов сделал паузу, поставил на маленький столик с причудливыми ножками стеклянную колбу, в которой еще оставалось немного манговой водки. Пластинка кончилась, но ее никто не переворачивает. Игла патефона с шипением царапает внутренний край винила. Ратха погружена в свои мысли.
— Думаю, скоро я смогу вам кое-что продемонстрировать, — сказал профессор и качнул головой в сторону двери, ведущей в лабораторию. Она закрыта, как всегда. Никому из нас еще не удавалось побывать за этой дверью. В общине ходят слухи, что Полозов никого не приглашает в лабораторию, потому что там ничего нет, кроме пары пробирок и нескольких тощих мышей, которые умирают от голода, а вовсе не в результате экспериментов во славу науки. Многие считают, что профессор специально придумал всю эту историю с геном агрессии, чтобы придать себе значимость и получать привилегии в общине. Вместе с тем Хлоя слишком рациональна, чтобы выбрасывать деньги на ветер. Наверняка Полозов время от времени отчитывается о проделанной работе. Определенно Хлоя и Дэниел бывают здесь…
* * *
Меня разбудил душераздирающий вопль. Крик доносится из леса, и можно подумать, что кого-то убивают или насилуют. Несколько секунд я вглядываюсь в темные очертания комнаты. Первые лучи рассвета упали на белые простыни, превратив их в розовые, и медленно ползут по руке Канты, которая лежит рядом со мной. Канта спокойно спит и не слышит ужасных криков.
— Й-а-а-а, й-а-а, й-а-а-а-а-а! — доносится из непроходимой чащи. Еще пару секунд мне понадобилось, чтобы понять, что кричит Крези Берд — Сумасшедшая Птица. Конечно, у орнитологов есть свое название этой маленькой длиннохвостой истерички, но здесь ее называют только так. Этот крик очень напоминает женский в момент приближающегося оргазма. Однако у птицы он какой-то неискренний. Крези Берд вполне может составить конкуренцию немецким порноактрисам. Орет длиннохвостая каждое утро в одно и то же время — с первыми лучами солнца. Начинает всегда с низкого контральто, затем, по нарастающей, переходит в меццо-сопрано и заканчивает высоким драматическим сопрано, выворачивая мои барабанные перепонки наизнанку. Затем цикл повторяется, как мелодия шарманки, пока Сумасшедшая Птица не будит все вокруг. Дикий лес оживает, наполняется рыком зверей, щебетом птиц, криками обезьян, кваканьем огромных жаб и множеством звуков, ни на что не похожих, которые существуют только в дикорастущем индийском лесу. Наконец всё сливается в общую какофонию. За те пару месяцев, что мы живем здесь, я так и не привык к этим природным концертам, и каждое утро вздрагиваю от воплей Крези Берд, возвращающей меня из мира снов в мир реальный. Впрочем, во всем есть свои плюсы — будильника у нас с Кантой все равно нет, а орет птица именно тогда, когда пора вставать.
Целую Канту в мочку уха, она открывает глаза, улыбается.
Рассвет община встречает вместе. Каждый день начинается с коллективной медитации. С первыми лучами солнца санвилльцы выползают из своих тростниковых хижин, спускаются с «птичьих» домов, раскиданных по деревьям, и устремляются к Серебряному Эллипсу. Это сооружение напоминает летающую тарелку и находится чуть в стороне от леса и остальных построек. Место для возведения Эллипса указала санвилльцам Мать Шанти. Оно привиделось ей во время медитации, как и сам Эллипс.
Огромная серебристая «тарелка» стоит на выжженной солнцем красной земле, словно готовясь сорваться в небо. Со всех сторон стекаются вереницы людей и исчезают в чреве Эллипса. Это напоминает приготовления к полету в Космос. Будто жители города Солнца разом решили улететь на другую планету.
Мы здороваемся со всеми, кто встречается на пути. Так здесь принято.
— С новым прекрасным днем! — отвечают нам люди, по большей части незнакомые.
Густой аромат жасмина и роз наполняет легкие райским нектаром. Глаза Канты светятся счастьем, и состояние это передается мне. Все сомнения, о которых я никогда не говорю Канте, улетучиваются с ее улыбкой. В такие моменты я убежден, что мы поступили правильно, приехав в Санвилль.
Серебряный Эллипс мерцает в утреннем мареве как голограмма. Его хочется потрогать, чтобы убедиться, что он существует.
Считается, что это место обладает особенной энергетикой, способствующей связи с Космосом. Шанти предвещала, что через сорок лет в Санвилле будет проживать более тридцати тысяч человек. Время прошло, но санвилльцев не более пяти сотен вместе со стариками, которые не участвуют в жизни общины, а спокойно доживают свой век в медитациях и размышлениях. Активных членов общины около двухсот. И те и другие легко помещаются в Эллипсе, рассчитанном на несколько тысяч человек. Если Мать Шанти заменила санвилльцам богов, то Серебряный Эллипс стал для них храмом. Несмотря на жару, в Эллипсе всегда прохладно. И очень тихо. Пластины Эллипса отражают солнце, преобразуя его в электричество. Говорить внутри помещения строго запрещено. Особая акустика позволяет слышать даже самый тихий шепот. Общаться внутри Эллипса можно только жестами, чтобы не мешать медитирующим настраиваться на божественную волну. Каждый член общины занимает свое место на мраморной скамейке, на которую он кладет тростниковый коврик. Скамейки расположены амфитеатром внутри сферы по окружности внутреннего Эллипса. Конусом они сужаются к центру, где остается небольшая площадка, в центре которой сияет «магический» лотос. Это огромный цветок, изготовленный из особого вида хрусталя по личному эскизу Шанти на каком-то европейском предприятии..
Во время медитации все смотрят на лотос. Совет общины занимает самый первый ярус скамеек, ближе всего к «магическому» цветку. Там сидят Хлоя и Дэниел, ее правая рука, и несколько старожилов — мужчин и женщин, имен которых я не знаю. Они похожи на старых хиппи, и увидеть их можно только на утренней медитации и вечером, когда община еще раз собирается вокруг Эллипса встречать закат. Живут старцы обособленно в бунгало. Они занимают высшую ступень в иерархии общины.
Еще рядом с Хлоей сидит Лакшми — некогда немка Эмма из Мюнхена, лет сорока пяти. Она отвечает за «идеологию» — проповедует членам общины правильное понимание сути и философии города Солнца. Кроме того, порой мне кажется, что Лакшми с Хлоей связывает некое подобие дружбы, если такое вообще возможно в Санвилле.
Второй круг от лотоса занимают привилегированные члены. Это творческая и научная интеллигенция. Художник Мигель и ученый Полозов — в их числе. Также писатель Апполинарий, поэт Дион, скульптор Ратха и учитель Стивен. Мы встречаемся с ними по вечерам у Полозова. Третий ряд остается свободным. То ли для того, чтобы отделить первые два, то ли Хлоя еще не придумала, кому он предназначен. Остальные ступени занимаются произвольно. Во время ранних мероприятий в Эллипсе мне всегда хочется спать, поэтому стараюсь скрыть зевоту. Мы с Кантой обычно садимся под куполом, на самую верхнюю ступень, не стремясь быть ближе к хрустальному цветку и центру общины.
Все ждут момента, когда солнечные лучи проникнут в специальное отверстие в куполе и упадут на «магический» лотос. Тогда откроется космический канал. Из невидимых колонок звучит мягкая медитативная музыка. Всё вокруг начинает казаться мне абсолютно нереальным, похожим на сон или параллельный мир. Впрочем, так и есть. И вот что странно— глядя на происходящее глазами инопланетянина, теперь я не вижу ничего необычного…
Наконец золотой столб солнечного света пронзает Эллипс насквозь, касается хрустальных лепестков, и лотос вспыхивает, переливаясь необычными, будто неземными оттенками цветов. Все сосредоточенно смотрят на луч света и ожившую святыню Санвилля. Каждый пытается установить свою личную связь с Космосом, мысленно попасть в струящийся от Лотоса поток света, который должен подхватить твое сознание и вознести его в высоты Вселенной. В какой-то мере происходящее в храме действительно походит на путешествие в Космос. Хлоя утверждает, что во время коллективных медитаций происходит обмен энергиями, заменяющий людям вербальное общение. Если правильно настроиться и выполнять все медитативные упражнения, то твоя энергия может слиться с коллективной, и тогда ты ощутишь себя частью общего разума.
Я хочу слиться с энергией Канты, почувствовать ее. Краем глаза наблюдаю. Канта сосредоточена, глаза прикрыты. Правая ладонь лежит в левой, большие пальцы соединены. Под белой льняной блузкой проступают острые соски красивой груди. Из-за здешней жары она редко надевает бюстгальтер. Вздымается и опадает низ ее живота — Канта делает специальные дыхательные упражнения, позволяющие сконцентрировать энергию во время медитации. Мне очень хочется дотронуться до нее, взять за руку, но Канта не любит, когда ее отвлекают от чего-то важного. На какое-то время пытаюсь сосредоточиться на потоке света, но ничего не выходит. Мысли возвращаются к Канте, которая хоть и сидит рядом, но мыслями она далеко от меня. Стараюсь понять, о чем она думает. Возможно, вспоминает мать. Или, напротив, пытается забыть ту жизнь, в которой ее звали Ольгой. Мы никогда не говорим об этом. Канта с самого начала приняла все правила общины и с прилежностью примерной ученицы выполняет их. Она строго одергивает меня каждый раз, когда я пытаюсь иронизировать по поводу порядков, установленных здесь.
Минут через тридцать лотос, мерцая, погас. Ресницы Канты дрогнули, дыхание стало свободным. Я положил руку на ее сцепленные ладони. Канта посмотрела на меня и улыбнулась, будто увидела впервые…
* * *
Совершив все необходимые душеспасительные манипуляции, санвилльцы возвращаются к насущным земным делам: — пекут хлеб, убирают территорию, готовят еду. Каждый делает для общины что может. Нам с Кантой сегодня предстоит работа на птицеферме. Укрепив с помощью космической энергии свое сознание, мы будем убирать птичий помет. В небольшом холле Серебряного Эллипса замечаем Ратху. Она вытачивает из большого мраморного камня фигуру Шанти — когда-то обычной девушки-хиппи из Америки, основавшей Санвилль и ставшей потом местной богиней. «Неплохая карьера!» — пошутил как-то Люк, после чего Ратха не разговаривала с ним две недели.
В архиве общины сохранилась единственная черно-белая фотография Шанти. На ней запечатлена, пусть и нечетко, молодая девушка в джинсах и футболке. Ратхе удалось отобразить в камне сходство с оригиналом. Только каменная Шанти облачена в сари, держит в руках «магический» лотос и взгляд ее обращен в Космос — на внутренних стенах Эллипса светящимися точками нанесена карта звездного неба. Богиня выполнена в натуральный прижизненный рост. Во всяком случае, те, кто застал ее живой, утверждают, что такой она и была — около ста шестидесяти пяти сантиметров.
Специальным острым металлическим скребком Ратха шлифует нос каменной Шанти. По моему мнению, нос безупречен, да и вся фигура давно готова, но Ратха недовольна своей работой. Когда-то в Большом мире она делала небольшие скульптуры для городских парков и Дворцов пионеров. В основном это были фигурки горнистов и барабанщиков. Но однажды Ратхе пришлось изготовить бюст Ленина. Она любит рассказывать об этом. Ленин в СССР тоже заменял Бога, как и Шанти в Санвилле. Ратха покинула Большой мир еще до развала Союза и другой России не знает. Она живет в Санвилле больше пятнадцати лет, десять из которых работает над мраморным образом Шанти.
— Эта работа для меня милость. Сначала я считала, что это благословение, а потом поняла, что это милость. Божий дар, — говорит Ратха, заметив нас с Кантой.
— По-моему, нос идеален. Впрочем, как и вся скульптура. Она уже давно готова, — говорю Ратхе, которая легко касается скребком носа Шанти. При этом из-под тесака даже не сыплется мраморная пыль — художница словно гладит камень.
— Что ты! Здесь еще на год работы, а то и больше, — сказала Ратха.
Но мне кажется, дело в другом. Работая над образом Матери, Ратха чувствует себя причастной к великому и важному делу, которому посвятила лучшие годы своей жизни. Для всех она — скульптор Ратха, создающая образ Шанти. Это обеспечивает ей место во втором круге от «магического» лотоса среди элиты общины. И она не хочет расставаться с этим статусом. Да и находиться в прохладном Эллипсе гораздо приятнее, чем под палящим солнцем на ферме.
— Прекрасная работа, — сказала Канта Ратхе. Та просияла. Похвалы Канты, которая пишет картины и разбирается в искусстве, Ратха особенно ценит, — видно, что ты душу в нее вложила. А сколько времени на это ушло и еще уйдет, неважно.
— Ты же понимаешь, что она просто тянет время, чтобы не работать вместе со всеми, — сказал я Канте, когда мы вышли из Эллипса и направились по узкой тропинке, мощенной мелким шуршащим гравием, в сторону птицефермы.
— Возможно, эта скульптура — все, что есть у нее в жизни. Работая над ней, она будто общается с самой Шанти. Прикасаясь к ней, она чувствует себя защищенной. Ты же знаешь, что Ратха очень одинока, — сказала Канта.
— Здесь все одиноки. Это плата за трансформацию сознания: никаких религиозных переживаний, никаких эмоций, дружбы, землячества, наконец! Только ты и светящийся в «магическом» лотосе луч, — я снова не смог удержаться от иронии в тоне.
— Ратха приехала сюда из-за какой-то очень трагической любви. И посвятила себя этой статуе. Пусть так и будет. Не приставай к ней, — сказала Канта.
Я промолчал. Мне нет никакого дела до несчастной любви Ратхи. Гораздо больше меня волнуют наши с Кантой отношения. С тех пор как мы приехали в Санвилль из Москвы, я перестал понимать, кто я для нее. Превратившись из Ольги в Канту, она изменилась и сама. Мы по-прежнему спим вместе, но с каждым днем я чувствую, как она отдаляется от меня. Надежда, что жаркое индийское солнце растопит айсберг, внезапно возникший между нами, оказалась тщетной. Каждый раз, пытаясь поговорить с Кантой о нас, я словно тянусь к спасительной шлюпке, где-то рядом покачивающейся на волнах. Но течение относит шлюпку все дальше от берега, не позволяя забраться в нее и вернуться в прежнюю жизнь. В принципе мы и в Москве не часто говорили о любви. С другими девушками я никогда не испытывал потребности в таких разговорах. Но с Кантой все иначе. Как-то спросил — почему она так редко говорит мне, что любит?
— О любви не надо говорить, со словами любовь может уйти. Я выросла среди чеченцев. У них не принято много говорить о любви. Лучше доказывать ее поступками, — сказала она твердо, как отрезала.
Тогда я в очередной раз ощутил вторую половину ее крови, бурлящую и своенравную, как горная река. Бесполезно было пытаться заставить повернуть эту реку вспять. Она может выйти из берегов. Или высохнуть. После нескольких неудачных попыток вывести Канту на откровенный разговор я решил оставить все как есть. Чрезмерная настойчивость вызовет у нее лишь раздражение. Я занял выжидательную позицию, стараясь научиться лучше чувствовать Канту.
Птицеферма располагается в девятом, самом дальнем секторе Санвилля. Весь Санвилль поделен на секторы. Например, общежитие для новичков, в котором живем мы с Кантой, находится во втором секторе. А дом профессора Полозова — в четвертом, привилегированном. Деление на секторы, по мнению Совета общины, способствует порядку. Так удобнее наблюдать друг за другом. Никто не имеет права селиться там, где захочет. Сектор, как и место у священного лотоса, каждому указывает Совет общины.
— Коллектив наблюдает за вами и видит, что вы собой представляете, — любит говорить Хлоя, и вены на ее черепашьей шее вздуваются. — В любой момент община может спросить — а этот человек действительно работает? Каковы его истинные мотивы? Может ли он давать больше, чем брать? Это очень важно. За этим здесь следят. Здесь никто и ничто не остается незамеченным! — примерно так Хлоя начинает утренние собрания перед началом работ. Мне они напомнили «утренние разводы» во время службы в армии, где каждому ставится задача на день.
Совет общины против того, чтобы в секторах селились по принципу национальностей или вероисповеданий. Санвилльцев специально перемешивают, чтобы соблюдался принцип коммунитарности. В девятом секторе, где находится птицеферма, мы с Кантой еще ни разу не были. В сектор ведет широкая тропа, проходящая через лес, который спасает нас от палящего солнца. По обе стороны тропы почти непроходимые джунгли. Отовсюду доносятся крики птиц и животных, и мы с Кантой пытаемся угадать, кто именно кричит. Но сделать это непросто, все звуки сливаются в общий рычаще-кричаще-квакающий гул. Вдруг метрах в десяти перед нами появилась огромная кобра. Она неторопливо выползла из леса и стала переползать тропу. Мы с Кантой замерли. Я стал искать взглядом палку или камень под ногами.
— Даже не думай об этом, — сказала Канта, заметив это. — Зло порождает зло. Ей нет до нас дела, у нее своих хватает. Проявишь агрессию — ей придется защищаться.
Между тем змея остановилась, приподняла голову и с любопытством стала нас изучать. Она не встала в стойку и не раздула капюшон. Просто смотрит на нас, а мы на нее. Еще через пару секунд кобра спокойно поползла дальше, и мы продолжили путь.
Девятый сектор оказался нежилым. Не видно ни домов на деревьях, ни тростниковых хижин. Лишь птицеферма, состоящая из нескольких курятников, примыкает к высокому деревянному забору, выкрашенному охрой. Нас встретил лысый улыбчивый человек неопределенного возраста, в оранжевой кришнаитской одежде, символизирующей свободу разума. Он махнул рукой в сторону длинных столов, за которыми уже завтракали несколько человек, которым сегодня также предстояло работать на птицеферме. Молодой афроамериканец с белой подругой, две женщины за пятьдесят, по виду европейки, и пара «голубых» испанцев. Мы с Кантой взяли миски с рисом и присоединились к трапезе. За два месяца я возненавидел рис и бананы, очень хочется мяса. Мясо в общине запрещено. Считается, оно несет в себе предсмертный страх животного и агрессию, которая может передаться человеку. Кур на птицеферме используют исключительно для носки яиц. Тех, которые плохо несутся, меняют в окрестных деревнях на что-то нужное. На ужин часто дают рыбу. Почему-то ее предсмертный страх не берут во внимание. Но я мечтаю об огромном стейке. Мне никак не удается подавить в себе кулинарные пристрастия хищника, о которых недавно говорили Люк с Полозовым. Раньше я любил хорошо прожаренное мясо, но сейчас зверь, живущий внутри меня, не отказался бы от стейка с кровью. Если хищнику не давать мяса, он станет от этого только злее и уж точно не превратится в травоядного. Наверное, Полозов с Люком правы. Самостоятельно измениться могут только очень сильные духом, пропитанные идеей трансформации человечества. Словом, не такие, как я. Вздохнув, принимаюсь за рис.
— Вам необходимо вычистить клетки, вымыть емкости для корма и воды, наполнить их. Яйца трогать не нужно, их соберет постоянный персонал фермы, — лысый кришнаит говорит вкрадчиво, продолжая улыбаться. Возможно, он улыбается даже во сне или когда остается один. Ни один мускул не шевельнется на его лице — гладком, как пасхальное яйцо.
Странно, но я пока не скучаю по журналистской работе. Конечно, мне не нравится убирать птичий помет. Но мне нравится быть с Кантой.
— Зачем ты украл яйца? — строго спросила она.
— Я не крал, — пытаюсь свести на шутку.
— Не ври, я видела. Положи обратно. Если не наелся, попроси добавки.
— Не могу больше смотреть на этот рис. Я же не китаец! В моих генах заложено абсолютно другое меню! Веками закладывалось, понимаешь? Уверен, никто из моих предков не питался ежедневно полусырым рисом.
— Возможно, у кого-то из твоих предков и этого не было. Ты совершенно не работаешь над собой. Неужели нельзя потерпеть, совладать со своими желаниями? Научиться управлять собой, разве для тебя это не важно?
Мне пришлось выложить из карманов два куриных яйца. Одно было для Канты, второе для меня. Я надеялся, что вечером мы сварим их в своей комнате. Канта только покачала головой. Нормальную еду здесь нельзя найти даже за деньги. Деньги в общине не действуют. К тому же вся наличность сдается вновь прибывшими в общую кассу, на нужды Санвилля. Это символизирует прощание с одним из главных пороков Большого мира — алчностью. В обмен община предоставляет кров и еду на испытательный срок, который может длиться от полугода до нескольких лет. Сроки для каждого члена общины определяет Совет. Кто не проходит испытание, покидает Санвилль навсегда и не имеет права сюда возвращаться. Говорят, если утаишь деньги, никогда не постигнешь мудрости Санвилля и сознание твое не просветлится. Пять сотен долларов мне пришлось отдать, когда мы с Кантой переступили невидимую черту, разделяющую два мира. Но тысячу долларов я все-таки припрятал на всякий случай, в том числе и от Канты, рискуя оставить свое сознание не просветленным. Исколесив в многочисленных командировках полмира, я твердо усвоил: деньги должны быть с собой всегда, даже там, где на них ничего нельзя купить. Поэтому среди белья, в одном из моих чистых носков, лежит еще и международная пластиковая карта, на которой больше десяти тысяч долларов. Правда, воспользоваться картой можно только в крупных городах, где есть банкоматы. А здесь купить что-то съестное можно лишь за наличные в деревне, до которой не меньше двадцати километров. Той самой, с единственной телефонной будкой на всю округу, где Люк выменял эротический календарь на манговую водку. Что касается Канты, то все свои сбережения, которые она привезла с собой — около пяти тысяч долларов, она сдала в кассу общины, несмотря на то что я активно возражал. Дело в патологической честности Канты. Если уж она принимает правила игры, то следует им до конца.
…Мы почти закончили работу. Канта с двумя женщинами насыпает птицам корм. Черно-белая пара моет за всеми посуду, а голубая пара пытается чинить загон для птиц. Собирая граблями ветки и сухую траву возле оранжевого забора, я думаю о том, что у всего живого в этом пестром мире есть своя масть и цвет. Этот забор, например, подходит по цвету к кришнаитской одежде лысого птичьего распорядителя.
Неожиданно я почувствовал на себе чей-то взгляд. Так бывает, когда кто-то долго смотрит на тебя, а ты его не замечаешь, но вдруг каким-то необъяснимым образом начинаешь чувствовать. Подняв взгляд на оранжевый забор, я обратил внимание на небольшую щель. В ней был виден чей-то глаз, который смотрел на меня, часто моргая. Поняв, что его заметили, хозяин глаза сначала исчез, а затем появился снова. Я подошел и заглянул в щель. За забором, словно привидение, стоит старуха с морщинистым лицом и длинными седыми волосами. Она показалась мне очень старой. Если бы кто-то сказал, что старуха воскресла из мертвых, я бы поверил. Она теребит спутавшиеся волосы, наматывая их на костлявые пальцы и снова разматывая. Глаза старухи широко раскрыты, а губы шевелятся. Она что-то шепчет мне, но я не могу разобрать слов. За ней, вдалеке, под раскидистыми баньянами, виднеется двухэтажный особняк из белого камня.
— Х… — прошептала старуха.
— Вам нужна помощь? Кто вы? — спросил я ее.
— Х… — снова еле слышно произнесла женщина. — Хл… Хло… Хлоя… Хлоя, — наконец донеслось до меня.
В этот момент мое левое плечо будто попало в тиски. От неожиданной боли я присел. Вместо привычной улыбки на лице кришнаита была гримаса гнева.
— С кем ты там разговариваешь? — спросил лысый, оттесняя меня от забора и заглядывая в щель. Я наложил на его кисть свою правую ладонь и слегка повернул, снимая с плеча. Лысый понял, что переборщил, и вновь надел на лицо привычную улыбку. — Так с кем вы говорили?
— Там какая-то пожилая женщина. По-моему, ей нужна помощь, — сказал я.
— Извините, но это особая зона для самых привилегированных членов общины. Вход туда категорически запрещен. Заглядывать тоже нельзя. У нас не приветствуется вмешательство в чужую жизнь.
— Но она сама хотела о чем-то спросить, — начал было я.
— Вам показалось, — оборвал лысый.
Краем глаза я заглянул в щель забора. Старухи не было.
* * *
На Канте белое хлопковое платье, которое ей очень идет. Еще влажные после душа волосы падают на плечи и спину темными, волнистыми прядями. В Индии волосы Канты стали сами собой слегка виться, видимо, от климата и морской воды. Тело и лицо ее покрыл легкий загар. Все это делает Канту похожей на принцессу из восточной сказки. Мы собираемся к Полозову.
— Что там случилось сегодня у забора, на птицеферме? — спросила Канта.
А мне казалось, что она ничего не заметила. Я рассказал. Канта озадаченно выслушала. Видно, что ее взволновало случившееся.
— Не беспокойся. Наверное, какая-то бабушка перемедитировала, разум ее вышел из тела, но вернулся не весь, — пытаюсь пошутить я, но Канта осталась серьезной.
— Это деление по секторам очень странное. Мы даже не знаем, сколько здесь живет привилегированных членов общины. Многие из них не выходят из своих домов, — сказала Канта.
— Да, и всех их надо чем-то кормить. Мы вроде тимуровцев, приехавших поработать на бабушек и дедушек за миску риса, — сказал я.
— Перестань. Мы не за этим сюда приехали. И потом, мы тоже когда-то состаримся, и нам нужна будет помощь.
— Ты собираешься жить здесь до старости?
— Не знаю. Но мне нигде не было так спокойно, как здесь. У меня никогда не было такого чувства безопасности и защищенности. Только в детстве. И ради этого я готова всю оставшуюся жизнь убирать птичий помёт и есть пустой рис. Иногда здесь даже пахнет, как у нас дома, когда я была маленькой. Я не знаю, как это объяснить, но мне кажется, время имеет свой запах. Бывает, закрываю глаза, и ветер на какое-то мгновение приносит запахи из прошлого, которые ни с чем не спутаешь. Что-то неуловимое. Пытаешься ухватить эти запахи, понять, из чего они состоят, но это невозможно. Все длится какие-то доли секунды, а потом улетучивается. У тебя так бывает?
Я поцеловал ее. Она ответила. Канта научила меня целоваться. Не то чтобы я не умел — не любил. Точнее, брезговал. До встречи с Кантой у меня была фобия. Каждый раз, когда мне предстояло целоваться с девушкой, я испытывал ужас. К сексу, кстати, это никакого отношения не имело. Меня пугали только слюни. Как-то в детстве, когда мне было лет пять, мы играли с соседской девочкой на лужайке за домом, кормили травой ее черепаху. Девочка была старше меня на год и сильнее. Неожиданно она повалила меня на спину и стала облизывать мне лицо как собака, и пока я вырывался, успела обслюнявить его полностью. Пришлось долго отплевываться и оттираться от ее слюней травой. С тех пор я невзлюбил поцелуи. Став постарше, я где-то вычитал, что в слюне человека содержится до пяти миллиардов бактерий на один грамм. А на деснах и зубах — в сто раз больше. С тех пор, когда какая-то красотка сладострастно приоткрывала рот, я испытывал панический ужас, представляя, как ее бактерии перебегают на мои губы и язык по листикам от салата, оставшимся в ее ротовой полости после романтического ужина. Мне казалось, что целоваться «взасос» — все равно, что плевать друг другу в рот.
Канта — первая девушка, с кем я целуюсь, не думая о бактериях.
Нам неудобно идти к профессору с пустыми руками, и мы решаем взять из холодильника коробку шоколадных конфет, которую привезли в Санвилль еще из Москвы вместе с банками паштетов, мясных консервов и тушенки. В холодильнике все это может храниться долго, но если бы не Канта, я съел бы все запасы в первые недели нашего пребывания в Санвилле. Она же разрешает открывать очередную банку, только когда видит, что я больше не могу ни о чем думать, кроме мяса, хоть и консервированного. Тогда мы достаем тушеную говядину или цыпленка в собственном соку. При этом Канта всегда старается положить мне больше. Я думаю о том, как бы вырваться в деревню, чтобы пополнить съестные запасы и при этом не раскрыть Канте свои финансовые заначки. Все еще боюсь, что она заставит меня отдать деньги общине.
* * *
— Сахар, сливки? — предложила Ратха.
Все принялись за кофе, разлитый по чашкам из расписанного разноцветными слонами фарфорового кофейника, одного из последних приобретений профессора Полозова. Он демонстрирует кофейник каждому вновь пришедшему, давая пояснения:
— Фантастическая удача, — говорит он возбужденно. — Это Китай! Думаю, начало девятнадцатого века. Период империи Цин. Последней династии монархического Китая! Представляете, выменял в деревенской лавке на спиннинг, который мне абсолютно не нужен, рыбак из меня еще тот! Как сюда могла попасть такая вещь? Уму непостижимо! Еще можно представить это в антикварной лавке в Мумбаи или Ченнаи. Но не в этом же захолустье!
Сегодня у Полозова собралось больше гостей, чем обычно. К уже привычной компании добавились поэт Дион, писатель Апполинарий и Дэниел — правая рука Хлои. Человек из первого круга «магического» лотоса. Его появление у Полозова — самая большая неожиданность для меня. Раньше Дэниел никогда не участвовал в наших беседах. Дион же с Апполинарием иногда захаживают к профессору почитать вслух свои сочинения.
Конфеты, принесенные нами с Кантой, оказались очень кстати. Кофе и шоколад — роскошь для Санвилля.
— Ах! Московский шоколад! Это из какой-то другой жизни, — восклицает Ратха, держа в руке стремительно таящую конфету. Ратха не кусает ее и не кладет в рот целиком, а едва касается конфеты зубами, растягивая удовольствие. Так же осторожно она касалась носа богини Шанти металлическим скребком.
Сегодня профессор угощает нас прекрасным французским сыром, овощами, свежим хлебом из пекарни общины и зажаренной на вертеле рыбой. Я догадываюсь, что такой пир помог организовать Дэниел. Он сидит между Мигелем и Стивеном, попивая кофе, и совсем не притрагивается к еде. Для такого количества гостей мебели у Полозова не хватило, и все расселись на полу, на маленьких тростниковых ковриках вокруг низкого стола. Присутствие Дэниела поначалу всех сковывало, и наш привычный разговор на метафизические темы никак не начинался. Но постепенно все вошло в обычное русло. Ратха поставила пластинку с альбомом Джими Хендрикса First rays of the new rising sun, который вышел уже после его смерти. Зазвучала песня Freedom. Основная часть музыкальной коллекции Полозова — пластинки, оставшиеся от хиппи, основателей Санвилля. Кто-то из них доживает свой век в привилегированных секторах. Мне вспомнились оранжевый забор и старуха с белыми волосами из девятого сектора, которая прошептала имя Хлои. Наверное, старуха хотела, чтобы к ней позвали Хлою. Собираюсь расспросить кого-нибудь об особняке из камня, но тут поднялся насытившийся поэт Дион. Он продекламировал:
— Когда б в Раю такой был стол И всех друзей моих Собрал бы он, Я б в том Раю навеки поселился!..Четверостишие паршивое, но все зааплодировали.
— Почему вы стали поэтом, Дион? — спросил Люк, и мне послышался сарказм в его тоне.
— Я не выбирал поэзию. Она сама меня нашла, — скромно ответил Дион.
— Вы такой молодец, Дион! — всплеснула руками Ратха.
Поэт театрально поклонился и сел обратно на свой коврик. Дион — хорват, бежавший в Санвилль из Югославии от войны в середине 90-х. Как его звали раньше, я не знаю. Новое имя он выбрал себе почему-то греческое, а не индийское. Пишет Дион в основном про природу, Санвилль и свою страну, которой больше нет. Он знает, что война давно закончилась, Югославия развалилась, и теперь его Хорватия — отдельное государство. Но возвращаться на родину Дион не хочет. Из родных у него никого не осталось. А жить в Большом мире он давно разучился.
— К тому же вдруг кому-то снова захочется пострелять? — говорит Дион.
— Я бы мог прочитать вам свой новый рассказ, но боюсь, это не выйдет так же лаконично, как у гениального Диона, — сказал писатель Апполинарий, утверждающий, что его имя настоящее. Мне лишь известно, что Апполинарий поляк. На вид ему немного за пятьдесят, как и Диону.
— Расскажите хотя бы, о чем ваш рассказ, — попросил Полозов.
— Как всегда, о будущем. О том, как будут жить люди в мире, где не будет агрессии, лжи и ненависти.
— А вы думаете, такой мир возможен? — спросил Люк.
— А у вас есть сомнения? — обиженно ответил вопросом на вопрос Апполинарий.
— Такой мир не просто возможен, он уже существует, Люк! Это Санвилль, в котором ты живешь! — сказала Ратха. — Странно, что ты этого не замечаешь! Разве не за этим ты сюда приехал? — Ратха странным жестом обвела комнату Полозова. — И пусть мы еще далеки от идеала, но мы уже приняли эстафету Великой Шанти. Те, кто придут сюда после, будут лучше нас. Постепенно идея Санвилля распространится по всему миру и мир изменится!
— Мир может измениться гораздо быстрее. Например, если профессор обнаружит ген агрессии и способы его удаления из нашей ДНК, — сказал Мигель.
— Кстати, Александр Дмитриевич, в прошлый раз вы обещали показать нам свою лабораторию, — обратился я к Полозову. Профессор посмотрел на Дэниела, который не принимал участия в разговоре, но было видно, что внимательно слушает. На лице Полозова отразилось сомнение. Ему явно необходимо одобрение Дэниела, какая-то реакция, но тот сделал вид, что вопрос о лаборатории его не касается.
— Обязательно покажу, конечно. Но давайте не сегодня. Мне надо еще кое-что подготовить, — сказал Полозов.
Бывает, что человек не нравится тебе с первого взгляда. Дэниела я невзлюбил с того момента, как увидел на первом для нас с Кантой собрании общины. Хлоя представляла его новичкам. Мне сразу не понравились его чёрная эспаньолка, темные, близко посаженные глаза, наглый, с вызовом, взгляд. Он чуть постарше меня, ему лет тридцать пять, и при этом, если верить слухам, спит с Хлоей, которая на двадцать лет старше его. От Дэниела всегда исходит напряжение зверя, который выбирает момент для прыжка. Да он и сам похож на хищного зверька. Про себя я называю его хорьком за острые черты лица. При этом у него довольно стройная спортивная фигура. А может, мне просто не нравится, как он смотрит на Канту. Вот и сейчас, пока мы в гостях у Полозова, я заметил, что Дэниел время от времени бросает на нее пристальные взгляды, и это меня раздражает. Мне показалось, Канта тоже поглядывает на Дэниела, поднося чашку кофе к губам, чтобы сделать глоток. И от этого наблюдения мое настроение испортилось окончательно.
— Скажите, Апполинарий, как скоро вы издадите свой новый рассказ? — спросил Стивен.
— Это будет зависеть от мнения общины, — скромно ответил писатель. — Вы же знаете правила. Необходимо одобрение Совета. Все издания рукописей осуществляются за счет Санвилля.
— Ну, с этим, я думаю, проблем не будет, — впервые подключился к разговору Дэниел. — Ведь все, что делают наши писатели, художники, поэты, поистине гениально.
— Почему вы говорите во множественном числе, ведь у нас только один писатель, поэт и художник? — спросил Стивен.
— Так же, как и преподаватель всех наук, — уточнил Дэниел. — Вы у нас тоже в единственном экземпляре, дорогой Стивен. Но община не нуждается в большом количестве творческих людей. Нам достаточно иметь лучших. Если у нас будет не один, а два или три скульптора, между ними возникнет конкуренция. Каждый захочет сделать свою статую Великой Шанти. У каждого учителя будет своя программа обучения наших детей. Вы начнете спорить друг с другом, это приведет к ссорам и агрессии. В конце концов, во втором круге лотоса не так много мест.
— Что ж, пока я справляюсь, потому что детей не так много. Но если их станет больше… словом, я буду рад, если в общине появятся еще учителя, помимо меня, — сказал Стивен.
Англичанин Стивен по профессии учитель младших классов. В Санвилле он преподает сразу все дисциплины ученикам всех возрастов. В Санвилле есть дети, которые родились и выросли здесь, и никогда не видели Большого мира. Читать и писать их научил Стивен. Его система обучения отличается от классической. Стивен не ставит оценок, чтобы среди детей не было нездоровой конкуренции. Оценки, по мнению Стивена, мешают детям раскрывать творческие способности, заложенные в них Космосом.
— Вы сказали — лучшие, Дэниел, — Люк вонзил в жареную макрель вилку и положил рыбу себе на тарелку. — Никоим образом не умаляю достоинств Диона, Апполинария, Ратхи или Стивена. Простите, Мигель, что чуть не забыл упомянуть и вас. Но где критерии? Кто определяет, что хорошо, а что плохо?
— Это решаем мы с вами. Ну, и Совет общины, конечно, — сказал Дэниел. — Разве вы не видите, как прекрасны стихи Диона, полотна Мигеля, как точны и остры рассказы Апполинария про Санвилль? Образ Великой Шанти, выполненный Ратхой, также безупречен. Те, кто застал Мать при жизни, восхищены сходством.
Слушая Дэниела, я поймал себя на мысли, будто участвую в каком-то спектакле. Вдруг я ощутил себя заводной куклой, запертой в какой-то душной музыкальной шкатулке, среди таких же плоских, вырезанных из фанеры фигурок, появляющихся в строго определённое время и выполняющих однообразные движения под незатейливую мелодию. Все эти старинные вещи, которые собирает Полозов, похожи на театральный реквизит. Чайники со слонами, виниловые пластинки и патефон, который шепчет голосами давно ушедших людей, размывают временны́е границы. Все кажется ненастоящим. В Санвилле перемешаны языки, а внутри языков речевые обороты и слова, как современные, так и устаревшие. Люди приехали сюда из разных времен. Из шестидесятых, семидесятых… Полозов и Ратха, например, из восьмидесятых. Мы с Кантой вообще из нового тысячелетия. Так как связи с внешним миром практически нет и общение друг с другом минимальное, каждый будто бы застрял в своем времени. Кажется, в Санвилле времени не существует вовсе. Вот и Полозов говорит, что даже возраст свой он забыл специально. Здесь есть только рассветы, о которых сообщает Сумасшедшая Птица, «магический» лотос, работа на фермах и закаты, превращающие белый песок в розовый. Здесь почти всегда одинаковая погода. И каждый последующий день похож на предыдущий. Наверное, таким и должен быть Рай…
— Невозможно стать великим Шекспиром или Моцартом на необитаемом острове, — сказал я Дэниелу. — Всегда нужна публика, которая признает в вас художника. Для оценки любого творчества необходимо сравнение. Как можно судить о чем-то, когда это что-то не с чем сравнивать? Да и художнику, чтобы лучше понимать самого себя, нужно видеть творения других мастеров, нужны критерии оценки.
— Любое сравнение — это конкуренция. Конкуренция — пережиток Большого мира. Это как раз то, с чем мы активно боремся. Любая конкуренция в конечном итоге превращает людей в жестоких и алчных существ, — сказал Дэниел, буравя меня неприятным взглядом черных, близко посаженных глаз.
— Ну хорошо. Давайте представим, что на всей нашей планете исчезла конкуренция и появилось изобилие. Все восхищаются друг другом, нет голодных, люди не нуждаются в деньгах, потому что у всех всё есть. Людям не о чем мечтать и нечего хотеть. Что убережет их от полной деградации и, как следствие, вымирания? — спросил я.
— Только самоконтроль и самодисциплина. Именно поэтому большое значение мы уделяем духовному развитию. Когда сознание людей очистится и они поймут, что отдавать гораздо приятнее, чем брать, когда общественное станет выше личного — вот тогда люди смогут жить без конкуренции, — ответил Дэниел.
— Я и согласен, и не согласен с Михаилом, — подключился к нашей беседе Полозов и подсел ближе ко мне с Кантой. — Вы верно подметили про необитаемый остров. Допустим, на этот остров попали десять человек, двое из которых стали поэтами. Их оценивают оставшиеся восемь. Совпадет ли оценка этих восьми с мнениями миллионов, если творчество поэтов этого острова узнает Большой мир? Вряд ли. Это все равно, что артист провинциального Дома культуры станет без подготовки выступать в «Ла Скала». Скорее всего, его освистают. Даже самый уникальный талант должен пройти огранку критериями, чтобы угодить большинству. Большинство решает, что хорошо, а что плохо, и оно всегда сравнивает и выбирает. И чем многочисленнее это большинство, тем труднее получить его одобрение, достичь успеха. Здесь я с вами полностью согласен. Но это позиция Большого мира, от которой вам, Михаил, еще трудно отказаться. Здесь возникает выбор: или вы стремитесь угодить большинству, или остаетесь самим собой и творите так, как вам подсказывают душа и сердце. При этом неважно, чем вы занимаетесь — математикой или живописью.
При этих словах Полозова Апполинарий довольно крякнул из своего угла, и они переглянулись с Дионом.
— В этом мире, как известно, все относительно, — продолжил Полозов, — и артист провинциального Дома культуры может почувствовать себя Алессандро Бончи или Карузо в своей деревне. Потому что там у него нет конкурентов. В Большом мире считают, что конкуренция двигает прогресс. А мы говорим, что она его убивает. Конкуренция убивает нашу планету. Она убивает творчество и индивидуальность личности, потому что мнение авторитетной кучки людей может быть заразным и передаваться толпе, подобно страху, скрывая истину. Так называемый успех в Большом мире зависит чаще от бойцовских качеств человека, стечения обстоятельств и меньше всего от таланта. Чем Санвилль отличается от планеты Земля, подвешенной Создателем в холодном Космосе? — профессор поднял чашку с кофе над головой и зафиксировал ее на вытянутой руке. — Только размером. Больше ничем. Любой мир, маленький или большой, развивается по своим законам. У решающего большинства санвилльцев может быть свой любимый поэт. Даже если он один и других нет. Также и у жителей Большого мира есть свои признанные гении. Если эти миры не пересекаются, они не могут конкурировать. Санвилль не пересекается с Большим миром, хотя и находится внутри него. Санвилль — полезная бактерия, которую заселили в нездоровый организм, чтобы вылечить. Внутри этой бактерии совсем другая жизнь, чем снаружи. Поэтому важно признание, а не размер мира. Важно нравиться своему племени, своей цивилизации. Земля — всего лишь маленькая планета, возомнившая, что она — центр Вселенной. А теперь представьте, что вот это — Земля, — Полозов отщипнул маленький, чуть больше горошины, кусок сыра и снова вытянул руку перед собой. — А мы — представители другой, более развитой цивилизации смотрим на нее со стороны, как вы, Михаил, часто предлагаете: смотреть на мир глазами инопланетян, — Полозов протянул мне планету из сыра, словно предлагая ее съесть. — Будут ли нас, больших и могучих, волновать Шекспиры, Моцарты, Пушкины или Пикассо этого куска сыра? Возможно, внутри него сейчас кипит жизнь: неведомые нам бактерии пишут стихи и музыку, выбирают президентов, делят территорию, совершают государственные перевороты. Но все это имеет значение только для этих бактерий. Мы же их просто не замечаем. Кстати, они нас тоже. Наши миры не пересекаются, но одинаково уязвимы. И нас и их в любой момент может уничтожить какой-нибудь космический булыжник, — с этими словами Полозов отправил кусок сыра в рот, запил глотком кофе и продолжил:
— По-«инопланетянски», человечество со своими проблемами, президентами, войнами выглядит нелепым и смешным, если смотреть на всю эту возню из Космоса. Именно поэтому нам не стоит залезать слишком высоко, чтобы посмотреть сверху на самих себя. Можно упасть и сломать шею. Важно только то, что есть в твоем мире. Пусть даже искусственно построенном. Попробуйте набрать воздух в легкие и опуститься под воду хотя бы в собственной ванне. Внешний мир сразу померкнет для вас и будет напоминать о себе лишь далекими глухими звуками. Все ваши проблемы сразу покажутся мелкими и неважными. Важным будет только одно — вынырнуть и сделать новый глоток воздуха.
— В этом-то и есть главная ошибка, — сказал я. — Погружаясь в свои мелкие проблемы, мы не развиваемся, а, как бактерии, которых вы так живописно описали, варимся в собственном соку. Как мы изменим Большой мир, замкнувшись в Санвилле?
— Я бы присудил очко в этом спарринге профессору, — сказал Дэниел. — Увы, Микаел, суть идеи Санвилля вы уловили неточно. Надо сказать Лакшми, чтобы лучше работала с новичками. Это ее упущение как ответственной за идеологию. Мы ограждаем себя от влияния Большого мира из-за его порочности и несовершенства. Это зараза, которой стоит остерегаться. И мне абсолютно наплевать, узнают ли наши дети о полотнах Сальвадора Дали или романах Стендаля. Гораздо важнее, чтобы они стали новыми, чистыми людьми. Любой художник скажет вам, что картину легче написать заново, чем пытаться исправить уже сделанное. Души наших детей — это чистые полотна. Если хотите, я даже считаю вредным искусство Большого мира, так как оно заражено пороком, как тлей. В каждой картине, романе или песне есть элементы насилия, разврата, трагедий, несчастий. Будет полезнее, если мы создадим свое, новое искусство. Пройдет время, и новые поколения санвилльцев будут изучать в школах стихи Диона, пьесы Апполинария, картины Мигеля, скульптуры Ратхи и считать их лучшими. Со временем в Санвилле вырастут новые великие писатели и художники. Они не будут конкурировать между собой, потому что с самого рождения усвоят истину: все кем-то созданное уникально.
Апполинарий с Дионом снова довольно переглянулись. Мигель с Ратхой слушают молча. По их выражениям лиц сложно определить, согласны ли они с тем, что сказал Дэниел — человек из первого круга лотоса.
— Вам не кажется, что все это чем-то напоминает Советский Союз? И не только его. Все, о чем вы говорите, в той или иной степени уже было на Земле и потерпело крах, — сказал я.
— Сравнение с Советским Союзом некорректное по многим причинам. Думаю, все о них знают. Разумеется, мы учитываем опыт построения разных сообществ. Извлекаем уроки, изучаем ошибки. Санвилль — уникальное место. Все тоталитарные режимы были агрессивными, кровавыми и держались на страхе. У нас же все наоборот. Только личная ответственность и сознательность каждого. Наша сила — в открытости и любви, которую нам подарила Мать Шанти, — сказал Дэниел.
— Но удастся ли нам полностью изолироваться от Большого мира? — спросил я. — Ведь мы пришли из него. Детей Санвилля уже сейчас интересует — а что там, в двадцати километрах отсюда? А еще дальше? Большой мир для них — другая планета, неизвестная, но совсем близкая, до которой не надо лететь миллионы световых лет, достаточно сесть на скутер. Запретный мир будет вызывать в детях любопытство, манить их. Несмотря на то что здесь нет телевидения, Интернета и прессы, жить долгие годы в полной изоляции не получится, — сказал я.
— Это один из самых серьезных вопросов, вы правы. Но мы его решаем. А каковы были ваши мотивы приехать в Санвилль? — резко сменил тему Дэниел, и мне не понравился его тон. При этом он в очередной раз пристально посмотрел на Канту. Вопрос прозвучал неожиданно для меня, хотя я отвечал на него тысячу раз, в том числе и Дэниелу.
— Думаю, те же, что и у большинства. Мы много раз рассказывали об этом общине, — сказал я и взял руку Канты. Я понял, что увлекся и наговорил лишнего. Во мне проснулся дремавший репортер. Дэниелу явно не понравился наш разговор. Заметно, каких усилий стоит ему придерживаться дружелюбного, приветливого тона, который принят в Санвилле.
— Для меня важно, что здесь нет агрессии. Никто не вступает в бессмысленные споры — чей Бог лучше. Никто не спрашивает, кто ты по национальности, — Канта впервые за вечер заговорила. Она старалась не смотреть на Дэниела. Было видно, что он смущает ее своим пристальным взглядом.
— Я давно наблюдаю за вами. Вы не могли бы завтра зайти к нам с Хлоей в Совет общины? Сразу после утренней медитации? У нас есть к вам разговор, — обратился Дэниел к Канте.
Мы с Кантой переглянулись.
— Только вы одна, — уточнил он.
Меня охватила паника. Я не знал, как реагировать. В горле пересохло, язык прилип к нёбу. Канта посмотрела на меня виновато. Нехорошие предчувствия вперемешку с ревностью зашевелились во мне скользким спрутом. Я ощутил власть Дэниела над собой. Как будто он может забрать у меня самое дорогое — Канту. Не потому, что он сильнее. Просто он здесь хозяин. И неспроста пришел сегодня к Полозову. Почему-то снова промелькнула перед глазами седая старуха с морщинистым лицом. Наверняка кришнаит с фермы что-то рассказал Совету о случае в девятом секторе. Моя паника сменилась злостью, от которой свело низ живота.
— Хорошо, — тихо сказала Канта.
Вскоре Дэниел попрощался и ушел.
Ратха сменила еще две пластинки Джими Хендрикса, прежде чем ушли Дион с Апполинарием. Они живут неподалеку, в том же секторе, что и профессор.
Все-таки я решился и спросил у оставшихся про девятый сектор, не сказав ничего про старуху, которую видел за оранжевым забором.
— Это нехороший дом, — сказала Ратха, — про него ходят разные слухи. Говорят, туда отправляют тех, кто не выдержал испытаний.
— Как это? — спросил я.
— Никто точно этого не знает, — сказал профессор Полозов. — По одним слухам, там держат тех, кто тронулся рассудком. Видите ли, медитация по-разному действует на людей. Особенно бесконтрольная. Некоторые чересчур увлекаются, и у них случаются расстройства психики. По другой информации, там живут одни из самых первых поселенцев Санвилля, что-то вроде заслуженных пенсионеров. Они не хотят ни с кем общаться и находятся в постоянных медитациях, готовясь к переходу в иной мир. В любом случае, мой вам совет, Михаил: забудьте об этом месте и никогда никого о нем не спрашивайте. Хлоя с Дэниелом этого очень не любят. Знаете, Санвилль — непростое место. Здесь очень тщательно оберегают свои тайны. У многих путь сюда был непрост, но еще труднее было остаться здесь. Это под силу только тем, кто твердо осознал свой выбор. Для того, кто проходит все здешние трудности, Санвилль с его идеями становится смыслом жизни.
Мне известно, что Полозову пришлось здесь нелегко. В один из сезонов дождей он поранил ногу, та долго не заживала. Со всеми проблемами в общине принято обращаться к Великой Шанти, взывая к ее милости. Но когда стало понятно, что и она не поможет, было слишком поздно. Дело дошло до гангрены. Ногу профессору все-таки спасли в госпитале, в Ченнаи. С тех пор он еще яростнее приступил к поискам гена агрессии, видя в этом свое главное жизненное предназначение.
— Я принял свою судьбу, — говорил как-то профессор, — и я уверен — те, кто должен быть в Санвилле, здесь и находятся. Те, кому суждено сюда приехать, обязательно приедут. У каждого из них есть своя причина для поиска Рая на Земле.
— И каждый в этом поиске по-своему одинок, — сказала Ратха тихо, будто сама себе.
* * *
Все ждут, когда у старика лопнет череп. Собравшиеся соблюдают тишину, чтобы услышать звук свершения великого таинства. Огонь, словно струны, перебирает мышечные волокна мертвеца, заставляя его горящее тело извиваться страшным танцем в сгустившихся сумерках. Охваченное пламенем лицо корчится гримасами ужаса, словно покойник испытывает невыносимую боль. Но хлопка, символизирующего выход души из тела, все нет. Индусы свято соблюдают, чтобы во время кремации душа человека освободилась и вышла непременно через брахмарандхру — вершину черепа. Индуистская философия рассматривает человеческое существо как сочетание пяти элементов: огня (агни), воды (джала), воздуха (вайу), земли (притхви), эфира (акаша). Когда человек умирает, огонь уходит из его тела, и чтобы восполнить недостающий элемент и помочь душе перейти в мир иной, производится кремация.
Пахнет горелым человеческим мясом вперемешку с благовониями. Обряд выполняет посвященный брахман — индус из соседней деревни. Он льет в огонь и на тело ароматические масла, чтобы покойник лучше горел. Бормочет мантры и молитвы.
Горит канадец, который умер сегодня утром от старости. Перед тем как предать тело огню, его омыли, умастили благовониями и завернули в белый шелковый саван. К месту кремации его принесли на бамбуковых носилках, которые затем тоже бросили в костер. Мы с Кантой почти не знали старика, он был из первого круга лотоса и жил среди привилегированных, в каменном бунгало. Иногда я видел его на утренних медитациях в Серебряном Эллипсе. Говорят, он хорошо знал Шанти, с которой при жизни дружил. К богине Шанти он сейчас и отправляется.
Пламя огромного костра вырывает из закатных сумерек лица санвилльцев, собравшихся вокруг шмашана — места кремации. Огонь должен очистить душу умершего от всего греховного, чтобы ей легче было вращаться в новой сфере загробной жизни, где каждый грех — препятствие на пути к Мокше или вечному блаженству. Шмашан возведен в самом конце левой части пляжа, где заканчиваются владения общины. В Санвилле нет кладбищ. Чтобы не делать религиозных различий в обрядах погребения, всех ушедших в иной мир здесь кремируют по индийским традициям, которые в Санвилле сильно упрощены и демократизированы. Например, женщинам в общине разрешается присутствовать на кремации. Есть и много других послаблений. В Санвилле даже смерть выглядит легче. Здесь отказались от тяжелых, душераздирающих ритуалов, стараясь не заострять внимание на смерти. Здесь не говорят «умер». Говорят — «ушел» к Матери Шанти. Или «уснул» — так говорили еще здешние хиппи. Правда, к погребальному костру — самому древнему из похоронных ритуалов, придуманных человеком, надо привыкнуть. Зрелище не из приятных. Можно было бы, конечно, кремировать покойных в электрических крематориях, но для этого тела надо где-то хранить, а потом отправлять в местные крупные города, где предоставляются такие услуги. Кроме того, в городских крематориях никто не станет контролировать выход души из тела. Не будет рядом единомышленников и соратников, которые проследят, чтобы череп лопнул вовремя.
Чтобы как-то заполнить паузу в ожидании священного хлопка, Лакшми стала говорить:
— Наш друг покидает город Солнца и отправляется к Великой Шанти, которая готова принять его в более совершенном мире. Каждого из нас, кто останется верен своим идеалам, ждут священный костер шмашана, вечное блаженство и любовь Шанти. Он был одним из основателей Санвилля, — Лакшми указала на покойника, охваченного огнем, — и, как никто другой, заслужил Рай своими делами, искренним желанием сделать этот мир лучше. Теперь его земной путь окончен. Мы прощаемся с нашим другом без скорби, потому что для него начинается новая, вечная жизнь, полная радости. Пусть каждый сейчас подумает о своих делах, о мотивах, по которым он находится здесь, и спросит — а я заслуживаю встречи с Великой Шанти?
Как известно, Лакшми следит за тем, чтобы все правильно понимали идеологию города Солнца. Она здесь вроде комиссара. И даже традиционную для Индии процедуру кремации преподносит так, будто шмашан был придуман в Санвилле. На Лакшми по случаю торжественной кремации надета легкая белая туника с большим вырезом, в которой она выглядит довольно легкомысленно. Когда Лакшми наклоняется, становится видна ее загорелая, еще упругая грудь. Для своих сорока пяти Лакшми хорошо сохранилась и этим контрастирует с Хлоей и другими здешними старожилами. Кожа Лакшми не высушена солнцем, а лицо почти не тронуто морщинами и выглядит ухоженным. Волосы она подкрашивает хной, чтобы скрыть седину. Кроме того, они всегда хорошо уложены или забраны в короткий хвост. Лакшми больше похожа на туристку, чем на главного идеолога Санвилля. Может быть, поэтому мне кажется, будто ее призывные речи звучат отдельно от нее самой.
Мы с Кантой смотрим на огонь, пожирающий тело, которое еще утром жило, чувствовало, любило, радовалось, надеялось. Брахман подбрасывает в священный костер ароматные поленья сандала, символизирующие, что сжигают уважаемого человека. Впрочем, дорогой сандал жгут в Санвилле на каждой кремации, не скупясь и не делая разницы между тем, какую ступень «магического» лотоса занимал усопший при жизни. Сандал немного перебивает запах горелого человеческого мяса, который ветер разносит по округе. Мне этот запах хорошо знаком по военным командировкам. Знаком он и Канте. Она старается не смотреть на костер. Это зрелище наверняка напоминает ей войну — кошмар, из-за которого она в результате оказалась здесь.
Череп старика все не лопается, а значит, душа его не может найти выход. Дэниел делает знак. Брахман берет длинную палку и несколькими отработанными движениями разбивает череп, помогая душе выйти. Я заметил, как вздрогнула и отвернулась Канта, когда наконец раздался долгожданный хлопок расколовшегося человеческого черепа. Обряд продолжается часа три. Уже давно растворились в океане последние лучи заката. Индус ворочает палкой, заталкивая обратно вывалившиеся из костра и потому плохо сгоревшие части тела, снова поливая их маслом и благовониями, словно готовит какое-то страшное блюдо. Обычно индусы сжигают своих усопших не полностью. Несгоревшие останки сбрасывают в священный Ганг или другую реку, на берегах которой их потом доедают бродячие собаки. Но в Санвилле такое считается недопустимым и нецивилизованным.
Когда наконец тело канадца превратилось в пепел, брахман голыми руками собрал его и положил в большую глиняную чашу. С рассветом чашу вывезут на лодке самые близкие друзья канадца — такие же, как он, старики, и развеют пепел в океане. Это должны делать родственники, но родственников у канадца нет. Костер шмашана для него — билет в Рай…
Это первая кремация, на которой мы с Кантой присутствуем. Раньше в Санвилле при нас еще никто не умирал. Многочасовая церемония поджаривания трупа мне порядком надоела. Хочется провести время с Кантой, но мы не можем уйти раньше, чем все закончится.
Прошло две недели с тех пор, как мы были у профессора Полозова в гостях, где произошла моя стычка с Дэниелом. На следующий день Канта собралась в Совет общины, как он ее просил. Она надела белое хлопковое платье, которое ей очень идет и так нравится мне. Убрала волосы назад, скрепив их «крабом». Пара выгоревших каштановых прядей выбилась из заколки, сделав Канту еще привлекательнее. Я понимал, что глупо просить ее не ходить. Тем более неизвестно, о чем с ней хотят поговорить. Но чувствовал, что ничем хорошим для нас это не обернется. В черных, как угли, глазах Дэниела я видел какую-то угрозу. Канта понимала мою тревогу, поэтому старалась на меня не смотреть. Мы перекинулись парой ничего не значащих фраз, и она ушла. Это был первый день, который мы с ней провели не вместе с тех пор, как приехали в Санвилль. Меня отправили в море ловить рыбу — помогать местным рыбакам, сотрудничающим с общиной. В лодке со мной оказался Люк. Мы вышли в океан на двух старых рыбацких шлюпках — спаренных, как катамараны. Несмотря на это, шлюпки оказались очень неустойчивыми и постоянно норовили перевернуться. Наша с Люком задача состояла в том, чтобы по команде рыбаков тащить сети в лодки. Я никогда не увлекался рыбалкой и познания об этом занятии имел очень примитивные. У Люка лучше получалось выполнять команды рыбаков. Я же никак не мог поймать ритм, с которым нужно было тянуть сети в лодку, быстро перебирая руками. Через два часа на моих руках появились багровые пузыри. Под палящим солнцем я чувствовал себя муравьем, на которого направили увеличительное стекло. Так мы забавлялись с пацанами в детстве, поджигая насекомых. Повзрослев, я так и не нашел объяснения, зачем мы это делали. Мы никогда не мучили кошек или собак. Их было жалко. Но насекомые так малы, что их страдания казались нам слишком далекими и вызывали лишь любопытство.
Был почти штиль, и лодки разрезали острыми носами невысокие волны. Раз в час мы прерывались, чтобы выпить воды и освежиться. Пустой жестяной банкой я зачерпывал воду из океана и лил себе на голову и тело, чтобы хоть как-то освежиться, но вода была слишком теплая для этого. Купаться далеко от берега рыбаки не советовали, рядом с косяками рыб могли появиться акулы. Коричневые, как отполированное сандаловое дерево, тела индусов проворно сновали по лодке. Действия их были настолько отточены, будто выполняли они какие-то ритуальные танцы, каждое движение которых уже проделывали по миллиону раз. А до них это делали их предки в десяти поколениях на точно таких же лодках. Время в этой точке Планеты остановилось. Рыбаки высматривали макрель, забрасывали сети и отдавали нам с Люком короткие команды на ломаном английском. Мои руки и спина налились свинцом и отказывались работать, но солнце было еще слишком высоко. Горькой усмешкой провел я параллель между собой и рабом, всецело зависящим от положения небесного светила.
Иногда я опускал руки в воду. На несколько секунд это приносило облегчение, но потом соль начинала разъедать кровавые мозоли. Но все это было мелочью по сравнению с другой болью: ревность и обида разъедали мне душу. Весь день я думал о Канте. Меня сжигало дикое одиночество, которое ударило, сбило с ног и накрыло неожиданной, предательской волной. Раскачиваясь в лодке, я ощущал, что почва подо мной ушла и в прямом и переносном смысле. Все, чем я жил эти полтора года, от меня ускользает. Рушится на глазах как размываемый волной песочный замок. Эта мысль не давала мне покоя, как зубная боль. Вдруг я увидел себя со стороны на этот раз не глазами инопланетянина, а просто сидящим в лодке с рыбацкой сетью в руках, стертых в кровь, в компании полуголых индусов и Люка, который, по мнению Ратхи, непременно кого-то убил в своей Франции и теперь скрывается в Санвилле. Я смотрел на свои руки, на рыбацкую сеть, на серебряную макрель, бьющуюся на дне шлюпки, и не понимал, что я тут делаю.
Почему-то вспомнился рыбный ресторанчик на Гоа, в котором я часто заказывал морские деликатесы, и его хозяин Макс с покалеченной акулой ногой. Может, потому, что рядом с нашей лодкой кружила стая барракуд, в своем смертельном танце сгоняя в центр круга стайки мелких рыб. Круг сужался, и хищники нападали на своих жертв. Барракуды охотились, как и мы. Мог ли полтора года назад представить себе я, репортер-стервятник, для которого важнее всего был жареный репортаж, что вернусь в Индию и окажусь в хилой шлюпке, несущей меня в океан с местными рыбаками? И что случится все это из-за девушки, для которой я буду искать земной Рай, саму идею существования которого всегда высмеивал?
Я смотрел на берег и ждал, что Канта вот-вот появится, но ее все не было.
Наконец солнце сдвинулось с мертвой точки и поползло на запад, оставляя на воде желтые блики. В тот день мы поймали много рыбы — это была в основном макрель и сардина. Мы выгрузили улов, часть которого пошла рыбакам, остальное — общине. Искупались, пообедали рисом с лепешками и бананами. Вскоре солнце стало клониться к закату, делая белый песок розовым. Но Канта все не шла.
Я вернулся в нашу комнату в общежитии для новичков. Свет был выключен, но в том, что Канта в комнате, я не сомневался. Я всегда чувствую ее дыхание. И точно могу определить, спит она или нет. Я включил свет. Канта лежала на кровати в позе зародыша, обхватив колени руками. Она всегда так делает, когда ей страшно или одиноко. Я присел рядом. Положил руку ей на бедро. Канта посмотрела на меня — в глазах стояли слезы.
— Что тебе сказали? — спросил я.
Канта не ответила, только положила голову мне на колени. Я стал гладить ее волосы, не торопя с ответом, хорошо зная, что будет лучше, если она расскажет все сама. Через какое-то время Канта произнесла:
— Они предложили мне место во втором круге лотоса. Сказали, я для них перспективная.
— Что же в этом плохого? — спросил я, а грудь сжало тоской: мои худшие предположения оправдывались.
— Только мне, понимаешь? Ты остаешься за третьим кругом, — сказала она.
— Ничего, я и в школе любил сидеть на «камчатке». Мне не привыкать, — пытался шутить я.
— Это еще не все. Теперь мы не будем с тобой работать вместе. Хлоя с Дэниелом предложили мне помогать членам Совета общины.
— Это как комсомольская работа? — снова пытался я свести все на шутку, а внутри все горело от злости и бессилия. Я знал, что от предложений Хлои и Дэниела отказываться нельзя. Это может быть расценено как нежелание работать на благо общины или эгоизм, когда личное ставится выше общественного.
— Еще мне сказали, что надо будет иногда выезжать в деревню и город за покупками для общины, — продолжала Канта.
— Вместе с Дэниелом? — я уже едва сдерживал себя.
— Да, — ответила Канта. — Но и это не все. Они сказали, что как члену второго круга лотоса мне положено жить в четвертом секторе.
Это было уже слишком. Сглотнув ком, я спросил:
— И что ты им ответила на эти предложения?
— Это не предложения. Это условия, — ответила Канта. — Ты прекрасно знаешь, что мы на испытательном сроке и висим здесь на волоске. Нас в любой момент могут отправить обратно в Большой мир.
— Так ты приняла их условия? — повторил я вопрос.
— А что мы будем делать, если нас выгонят? — Канта словно не слышала меня. Ей надо было выговориться. — Куда мы поедем? Обратно в Москву? Или, может, сразу в Грозный? Понимаешь, мне уже давно нигде не было так спокойно, как здесь. Да, может, это место не совсем такое, каким я себе его представляла. Я еще не все здесь понимаю. Многое меня смущает. Но я здесь очень хорошо сплю, понимаешь? И не боюсь выходить из дома, — Канта плакала. В такие моменты она похожа на ребенка и выглядит особенно беззащитной. Я прижал ее к себе, поцеловал в голову. Канта разрыдалась. Впервые с тех пор, как мы приехали в Санвилль. Но мне показалось, что это были слезы очищения. Будто вместе с ними выходила часть того, что встало между нами, когда мы начали отдаляться друг от друга. Канта плакала, уткнувшись мне в грудь, а когда слезы закончились, еще долго и беззвучно тряслись ее плечи. Потом она затихла. Подняв заплаканное лицо, сказала:
— Я приняла все условия, кроме последнего. Сказала, что жить буду вместе с тобой здесь, если нам нельзя вместе жить в четвертом секторе.
Семьи как таковые в Санвилле не запрещаются, но и не поощряются. Главное — комьюнити, мини-община, в которой ты живешь. В некоторых комьюнити даже детей считают общими, не делая акцента на биологических родителях. Часто дети рождаются здесь от представителей разных рас. Ратха как-то сказала, что все влюбленные и семейные пары, приехавшие в Санвилль, обязательно распадаются. Здесь перестают действовать законы любви Большого мира.
Внутри меня все похолодело, а затем бросило в жар. Они хотят разлучить меня с Кантой! Дэниел хочет! Ему не понравились мои высказывания на встрече у Полозова. И еще он положил глаз на Канту. В этом нет сомнений. В любом случае испытательный срок я вряд ли пройду, и следующим шагом будет мое выдворение из Санвилля! А если меня отсюда вышибут, я потеряю Канту навсегда. Ведь я нигде не смогу обеспечить ей такую безопасность, как здесь. И вряд ли она поедет со мной обратно в Москву. Есть, правда, другие общины. Но кто знает, что ждет нас там?
— Они сказали, что это против правил, но разрешили жить с тобой какое-то время здесь, — продолжила Канта.
— Какое-то время? — почти выкрикнул я.
— Да. Они так и сказали: какое-то время. Неопределенно.
— Что ж, мы будем видеться только по вечерам. Вот так, как сейчас. Они надеются, что через какое-то время тебе это надоест. Ты еще больше проникнешься идеями Санвилля, отвыкнешь от меня и сама перейдешь в отдельную комфортабельную комнату четвертого сектора. Возможно, тебе даже выделят дом, как Полозову. А мне откажут в продлении индийской визы и отправят в Москву. Ведь продление виз тоже во власти Совета общины, — я не мог сдержать своей досады и разочарования Кантой. Она почувствовала это, но промолчала.
Все зашло слишком далеко. Я понимал, что виноват во всем, что происходит. Потому что сам привез Канту в Санвилль, в город Солнца, который во многом напоминает секту. Я наивно полагал, что Канта сама это поймет. Но Канта — уже не Ольга, которую я впервые увидел в Грозном. Что-то изменилось в ней, и я не знаю, станет ли она когда-нибудь прежней. Слишком долго она жила в страхе. Слишком много пережила для своих лет. Единственное светлое пятно в ее жизни — детство. Все оставшееся время она видела смерть, жестокость, теряла близких, боялась за свою жизнь. И теперь она отдаст все что угодно за безопасность и спокойствие, чтобы жить в этом маленьком мире, где проявление агрессии считается пороком, а поведение людей предсказуемо. Ради этого она пожертвует всем, даже нашей любовью. А любит ли она меня? Я впервые задал этот вопрос себе. Ведь она и меня считает жестоким, непредсказуемым, потому что не остановился тогда, в переходе, а бил подонков до конца, когда, по ее мнению, им бы хватило и меньшего. И неважно, что я защищал при этом ее саму. Канте хотелось, чтобы сама подобная ситуация была невозможна. Увидев звериный оскал на моем лице, узнав меня с другой стороны, Канта наверняка разочаровалась. И во мне, и в Москве, на которую возлагала все свои надежды.
…Мы почти перестали видеться и редко разговариваем, хоть и живем по-прежнему вместе, в общежитии для новичков, во втором секторе.
На утренней медитации Канта теперь занимает место во втором ряду от «магического» лотоса. Обычно она садится рядом с Ратхой. Я же располагаюсь под самым куполом — там, где обычно. Так мне лучше видно Канту. Когда солнечный луч, пронзая купол, падает на «магический» лотос и община погружается в медитацию, пытаясь просветлить свое сознание, я открываю глаза и разглядываю Канту. Мне хорошо видны каждый завиток ее волос и идеальные ушные раковины. В эти моменты она кажется мне особенно далекой и недосягаемой, как космос, в который уходит отразившийся от гигантского цветка солнечный луч. Я вспоминаю, как мы познакомились, вспоминаю все, что нам пришлось вместе пережить. Иногда пытаюсь медитировать в надежде слиться своим сознанием с Кантой в общем солнечном потоке. Возможно, она почувствует, поймет, как я ее люблю и как она любит меня. И что нет ничего важнее нашей любви. Ни Серебряный Эллипс, ни священный лотос, ни даже солнечный луч, уходящий в Космос, не могут значить больше. Мысленно говорю с Кантой обо всем, любуясь завитками ее волос и изящным профилем. Иногда, когда медитация заканчивается, она оборачивается, чувствуя взгляд, и улыбается мне, и тогда я улыбаюсь ей в ответ.
После медитации Канта идет работать в Совет общины. Занимается переводом брошюр о Санвилле, перепиской с потенциальными новичками в Интернете. Помещение Совета — одноэтажное здание кораллового цвета, единственное место, где есть Интернет. Допуск к нему считается особым доверием руководства общины. Интернет — компромисс с Большим миром. Это средоточие зла и соблазнов, с одной стороны, и необходимый инструмент связи — с другой. Поэтому работать с Интернетом может только очень надежный человек.
Меня надежным не считают, а потому отправляют ловить рыбу, сажать маис или пропалывать грядки. Освобождаюсь я обычно раньше Канты, она задерживается допоздна в Совете, а когда приходит, падает на кровать от усталости. Поняв ответственность и безотказность Канты, Хлоя с Дэниелом взвалили на нее все, что можно было, и круг ее обязанностей только продолжает расти. Мы почти перестали заниматься любовью и бывать в гостях у Полозова. Лишь иногда выходим вместе на какие-то мероприятия общины. Вроде сегодняшней кремации канадца, которому я мысленно благодарен даже за такую возможность побыть рядом с Кантой.
…Я наблюдаю за лицом Канты в красных всполохах догорающего костра. Вместе со всеми она вскинула руки к черному, в крупных звездах небу и читает вслух молитвы, которые придумала Шанти еще при жизни. Я тоже поднял руки и бормочу абракадабру. Смысл молитв мне непонятен. Они звучат на местном тамильском языке. Хлоя, Лакшми и другие старожилы знают тамильский. Они выучили его для общения с местными, которые помогали строить Санвилль. Канта старательно шевелит губами, повторяя незнакомые слова. Урна с пеплом канадца стоит слева от шмашана. Индус-брахман ворошит палкой остатки углей. Никто из присутствовавших на кремации не совершает положенного омовения после процедуры, как это полагается по индуистским традициям. Никто не придет через несколько дней собирать оставшиеся на пепелище кости — все, что мог, брахман тщательно собрал в урну. В Санвилле свой бог, а точнее — богиня, и свои ритуалы, взятые из разных культур и перемешанные, а то и просто придуманные.
Все взялись за руки и стали водить хоровод вокруг кострища, как это часто делают хиппи. Живое кольцо единомышленников вокруг пепла канадца должно помочь его душе быстрее слиться с Божественной энергией и встретиться с Великой Шанти. Завтра шмашан приберут, и он будет готов проводить на тот свет очередного землянина, дерзнувшего искать Рай на планете…
* * *
— Никак не могу привыкнуть к этой варварской процедуре! — профессор Полозов передернул плечами.
— Огонь — это очищение. Величественно и естественно, — сказал Стивен. — Был человек — и нет его. Оставил свой след на Планете и исчез, растворился, как дым. Или как рассвет. Это очень красиво, на мой взгляд.
— Огонь и пепел — красиво, чисто. Даже стерильно в конечном итоге. Но все эти разбивания черепов, запах горелой человеческой плоти, бр-ррр!!! — Полозова снова передернуло.
— Вам кажется, гуманнее закапывать тела в землю? — спросил Мигель.
— Я не о гуманности сейчас говорю, дорогой Мигель, а об эстетичности зрелища. Вам, как художнику, это должно быть понятно.
— А я хочу, чтобы из меня потом сделали камень, — подключилась Ратха.
— Как это — камень? — спросил Стивен.
— Это когда после кремации из пепла человека делают разные красивые камни и передают родственникам. Камень может стоять на комоде или на фортепиано, и человек, пусть и превратившийся в камень, навсегда остается со своей семьей.
— До тех пор пока какой-нибудь праправнук-придурок не швырнет этим камнем в дворового пса или воробья, — ехидно сказал Люк, но Ратха, привыкшая к его выходкам, никак не отреагировала, а продолжила:
— Этот камень можно передавать по наследству, а если родственников нет или им не нужен камень на фортепиано — его можно бросить в океан или положить на берегу среди других камней. Волны будут ласкать его и шептать колыбельные. Это как продолжение жизни. Я люблю камни. Мне кажется, у камней есть душа и они способны чувствовать. Когда я доделаю статую Матери Шанти, это будет ее второе рождение.
— Но ведь статуя делается не из пепла Матери, — сказал Люк.
— Ее пепел развеяли над Санвиллем. И теперь Мать присутствует здесь везде. В каждой песчинке, каждом дереве и листочке, — ответила Ратха.
— Да, в этом что-то есть, — задумчиво согласился профессор. — Если бы я знал, что превращусь в камень, о котором кто-то будет заботиться, было бы не так страшно умирать.
— Вы здесь настолько одиноки или… неужели вы боитесь смерти, профессор? Прожив столько лет в Санвилле и ежедневно работая над своим сознанием? Ведь там, — Люк показал пальцем в потрескавшийся потолок профессорской комнаты, — там вас ждет встреча с Великой Шанти и вечное блаженство.
— Видите ли, Люк, сознание ученого постоянно сомневается во всем нематериальном, несмотря на то, что я над ним, как вы выразились, работаю. Но все-таки больше всего мне не хочется, чтобы на пути превращения в камень или пепел полуголый индус разбивал мой череп поленом, пока тело горит в огне на глазах у вас, дорогие друзья.
— Бросьте, профессор! — сказал Люк. — По мне, нет ничего хуже мерзких, скользких червяков, пожирающих тело — Храм Души, который вы при жизни лелеяли, не жалея мыла, кремов и дезодорантов. Люди помоложе разглядывают себя в зеркале при любой возможности. Старики, наоборот, избегают зеркал, чтобы не видеть обвисшего фасада увядающего храма и потрескавшейся штукатурки. Ведь душа стареет гораздо медленнее тела, а у некоторых не стареет вовсе. И все-таки абсолютное большинство и молодых и старых любят свои телесные оболочки, какими бы они ни были, доставляя им удовольствие при каждом удобном случае. Потому что, пока мы живы, мы ощущаем себя со своим телом единым целым, и большинству из нас не все равно, что будет с телом после смерти. Согласен, кремация на открытом огне — зрелище не из приятных. Но только для нас, испорченных Большим миром и его предрассудками людей. А индусы не находят в этом зрелище ничего особенного, они видят костры шмашанов с детства. Но главное — они искренне убеждены, что только так душа способна обрести новое тело или вечное блаженство.
— Что ж, господа, как бы то ни было, в любом случае нам повезло. Нам удалось пожить в этом мире, каким бы несовершенным он ни был, и, я думаю, это лучше, чем вовсе никогда не появиться на этом свете и не узнать его, — сказал Мигель.
А я, в очередной раз поймав себя на дежавю, снова подметил, что всех людей в конечном счете волнуют одни и те же вещи. Кем бы они ни были и где бы ни находились.
— И пока мы живы, у нас найдется масса более интересных занятий, чем обсуждать то, от чего лично у меня портится настроение. Поставьте-ка чайку, Ратха! И какую-нибудь бодрую пластинку! — закончил Мигель.
Но Ратха его не услышала. Я давно заметил, что она слышит только тогда, когда хочет. И если в данный момент ей не хочется заваривать чай и ставить пластинку, она просто игнорирует просьбу, как будто Мигель обратился не к ней.
— Мигель прав, — сказал я, зная, что Канте также неприятны эти разговоры. Она обхватила колени, уперев в них подбородок, — хватит об этом. Андрей Дмитриевич, вы давно обещали показать вашу лабораторию. Мне кажется, самое время.
— Да, профессор, как там ваши поиски гена агрессии? Что-то давно вы ничего об этом не рассказывали, — поддержал меня Стивен.
Полозов выдержал паузу. Обвел взглядом комнату, словно проверяя, не зашел ли к нему сегодня в гости кто-то лишний. Снял зачем-то очки и снова их надел.
— Хорошо, — неожиданно просто ответил он. — Сегодня я вам кое-что продемонстрирую.
Всех удивила легкость, с которой Полозов согласился открыть лабораторию, где никто из присутствующих никогда не был. Тайну своих опытов профессор тщательно оберегал. Из-за этого внутри общины ходит множество самых невероятных слухов о том, что находится за белой, усеянной мелкими трещинами дверью. Даже лицо Канты, до этого равнодушное, засветилось нетерпеливым любопытством. Ратха радостно захлопала в ладоши.
Полозов подошел к двери, достал из кармана светлых льняных брюк маленький ключ. Торжественно поднял его над головой, словно собираясь проделать с ключом какой-то фокус. Затем вставил его в замок. Дважды повернув ключ, Полозов нажал на изогнутую медную ручку и толкнул дверь:
— Прошу! — сказал профессор и первым шагнул в темноту. За ним вошли Мигель со Стивеном, затем Ратха и Люк. Мы с Кантой замкнули шествие в лабораторию ученого, собирающегося излечить человечество от агрессии, как от холеры или чумы.
Спертый воздух защекотал ноздри. Мы пробираемся на ощупь по узкому, темному коридору. Полозов шарит где-то впереди, отыскивая выключатель. Почему-то он находится на дальней стене. Я держу руку Канты за запястье, чувствуя ее учащенный пульс. Наконец зажегся свет. Мы оказались в маленьком, как келья отшельника, пыльном помещении, заваленном картонными коробками. Похоже на подсобку. Вдоль стен стоят бумажные мешки, в каких обычно держат удобрения.
— Опилки и корма для животных, — пояснил Полозов. Он встал возле еще одной, узкой двери, почти незаметной из-за того, что справа ее закрывала высокая напольная вешалка с белыми халатами.
— Пожалуйста, наденьте, — кивнул Полозов на халаты. — Должно хватить на всех.
Профессор терпеливо ждет, пока мы надеваем халаты. Это происходит в абсолютной тишине, все заинтригованы происходящим. Даже Люк не издал ни звука, а старательно застегнул халат на все пуговицы. Мы напоминаем группу врачей, готовящихся к обходу пациентов. Халатов действительно хватило на всех, даже остались лишние. Полозов подготовился. Сюда регулярно приходят Хлоя с Дэниелом и наверняка кто-то еще из Совета общины.
Профессор внимательно оглядел каждого, словно проверяя, правильно ли надеты халаты. Затем проинструктировал:
— Ни к чему не прикасаться без моего разрешения. Руки держать по швам, чтобы случайно что-нибудь не задеть. Говорить вполголоса. Держаться вместе, не разбредаться по комнате, — он толкнул дверь рядом с вешалкой. Она оказалось незапертой. Из-за двери характерно потянуло мышиными экскрементами вперемешку с едким запахом химикатов. Полозов вошел первым, включил свет.
То, что я увидел, потрясло меня своим масштабом. Просторная квадратная комната без окон действительно была похожа на лабораторию. Одна из ее стен в несколько рядов уставлена клетками с крысами и мышами самых разных пород и расцветок. Грызуны сразу отреагировали на наше появление. Попискивая, они стали просовывать морды между прутьями клеток, принюхиваясь к чужакам. Напротив клеток, у противоположной стены, сдвинутые столы заставлены колбами, микроскопами, спиртовыми горелками, всевозможными медицинскими чашками и ступками, какими-то бумагами. Среди всего этого научного хлама я заметил компьютер. Экран его горит синим светом. Над столами закреплены многочисленные застекленные полки. В одних пробирки со склянками. Другие заполнены толстыми пронумерованными папками. Вероятно, с записями о результатах исследований. Прямо напротив двери, у дальней стены, отливает медицинской сталью огромный квадратный холодильник. Полозов открыл его и достал две пробирки с красноватой и желтой жидкостями.
— Неужели это эликсиры против человеческой агрессии, профессор? — нарушил тишину Мигель.
— В какой-то степени, — ответил Полозов.
— Вы решили свою задачу и молчали? Вам удалось обнаружить ген агрессии? — воскликнул Стивен.
— Мне удалось найти ключ к разгадке, — сказал Полозов. — Я обнаружил саму причину человеческой агрессивности. И пришел к выводу, что дело не столько в гене агрессии, сколько в гормоне счастья. Уровень агрессивности зависит от уровня удовлетворенности жизнью, хотя и не прямо пропорционально. Но это очень важный фактор. Повышая общий фон удовлетворенности, можно существенно снизить агрессивность. На эти исследования ушла почти вся моя жизнь, и теперь я прошу у богини Шанти только одного — времени. Жаль, что его нельзя купить или взять взаймы, ссудить у банка под залог открытия. Я бы приобрел немного времени, чтобы закончить работу.
— Мне кажется, причина человеческой агрессии — в самом человеке, в его несовершенстве, — сказал Люк. — Это же так очевидно, и мы много раз обсуждали это у вас в гостях, Александр.
— Мы говорили об общих тенденциях. Но причина всегда кроется в частностях, дорогой Люк. Вы не думали, почему одни люди агрессивнее других?
— Потому что они разные, — сказала Ратха.
— А почему они разные? — Полозов подошел к столу и осторожно вставил пробирки с желтой и красной жидкостью в пластмассовые ячейки.
— У них разные характеры, — сказала Канта.
— Умница! — возбужденно вскрикнул Полозов. — Мы подошли к самому важному. Что формирует характер?
— Много чего. Темперамент, образование, жизненный опыт, в конце концов, — сказал Люк.
— Воспитание, окружение человека, — добавила Канта.
— И да, и нет, — сказал Полозов. — На поведение человека влияет гораздо больше факторов, чем кажется. Большинство нацистов были хорошо образованы. Люди, сжигающие миллионы себе подобных в крематориях, получили хорошее воспитание. Что же их заставило так рьяно выполнять свои кровавые обязанности? — профессор присел на деревянный стул с высокой спинкой. — Извините, сегодня очень жарко, а здесь душно. Вам присесть не предлагаю, стул только один. Прежде, чем я вам кое-что продемонстрирую, необходимы пояснения, — сказал он. В этот момент Полозов стал похож на преподавателя, вокруг которого столпились студенты.
— Как я уже говорил, индукция — одна из причин. Люди заражаются друг от друга страхом и агрессией, как гриппом, — продолжил он, глядя на мышей и крыс, мечущихся по клеткам. — Они индуцируют, как и животные, мы об этом с вами говорили раньше. Посмотрите на мышей вон в той маленькой клетке, справа. Мыши — животные социальные. В этой клетке живут спокойные мыши со здоровой психикой. И только одна всегда ведет себя истерично. Когда мы вошли, она стала беспокоиться. Все остальные вели себя ровно. А теперь — все мечутся по клетке. Им передалось беспокойство. И только одна виновница-истеричка сидит спокойно в углу. Она получила желаемое — заразила остальных паникой. И ее эмоциональный фон пришел в норму.
Все повернулись в сторону снующих по головам друг друга мышей в указанной профессором клетке. Действительно, лишь одна из них, самая тощая, спокойно сидит в углу и грызет семечки, выплевывая шелуху.
— Так же и у людей. Если в толпе один побежит, побегут и остальные, топча упавших, вдавливая их в асфальт, — продолжил профессор. — На «нужную» волну людей может настраивать и пропаганда, как инструмент индукции. Почему некоторые из детей нацистов, в которых те же гены, что в их отцах, презирают и даже публично осуждают их действия? Дело в том, что изменилось время. Изменился полюс индукции. Если бы нацизм не был повержен и осужден мировым сообществом, скорее всего, многие дети нацистов с успехом продолжили бы дела отцов и сжигали в крематориях неполноценных, по их мнению, людей. У них не было бы и тени сомнения в том, что они поступают правильно. Сам мир, в котором они родились, диктовал бы им это. Лишь единицы противились бы чудовищным злодеяниям как отщепенцы, пошедшие против законов племени. Но дети нацистов прожили другую жизнь. Спокойную, тихую, среднестатистическую, в раскаяниях за грехи отцов, поступки которых осудило сильное большинство. История в очередной раз изменилась. Сделав замысловатый виток, она побежала в противоположную сторону, найдя себе новое русло, как река. Разумеется, я говорю о тенденции, не рассматривая частные исключения из правил. Этот пример доказывает, что и вы, Люк, и вы, Канта, правы. Отчасти важны окружение и воспитание. Как и мнение большинства, о котором мы говорили применительно к искусству. В этом тоже заложена индукция. Но это далеко не всё.
Вернемся на время к генетике. Ваша внешность, Люк, ваш большой французский нос и карие глаза, цвет ваших волос и форма скул определены генами, а не образованием или воспитанием. Не окружением. Гены влияют на вашу внешность, цвет кожи и поведение. Во многом это называют характером и наследственностью. Но есть нечто, присущее всем людям, — контролируемая или бесконтрольная агрессия. Как вы считаете, Люк, французы — агрессивная нация?
— Французы могут постоять за себя, но редко лезут в драку первыми, — ответил Люк.
— Ну, история Франции знает разные примеры, — засомневался Стивен.
— То есть у французов есть предсказуемая национальная черта поведения? — уточнил Полозов у Люка.
— Наверное, как у любой нации, — сказал Люк.
— А какая нация, на ваш взгляд, самая агрессивная? Самая неуживчивая? — не унимался Полозов.
— Вы задаете странные вопросы, Александр, — сказал Люк. — Это уже пахнет национализмом.
— Дело не в национализме, а в национальных особенностях, — сказал Полозов. — Вы же не будете оспаривать, что большинство террористических организаций, несущих миру зло, вышло из совершенно конкретных точек планеты? Когда говорят, что у терроризма нет лица или национальности, это неправда. Некоторые регионы Земли почти никогда не знали мира. В этих адовых котлах всегда кипит война, то затихая, то разгораясь вновь, периодически втягивая в конфликты другие страны.
— К чему вы клоните? — спросил я. — Не хотите ли вы сказать, что от национальности людей, их генофонда зависит степень их агресии?
— Именно, — ответил Полозов. — И это еще одна причина нестабильности мира, причем существенная. И не надо меня обвинять в фашизме, против которого я только что выступал. Вне сомнения, уровень агрессии у разных национальностей и рас отличается. Мы называем это этническими особенностями характера, которые в конечном счете обусловлены генами. Например, южане всегда более вспыльчивы и агрессивны, чем северяне. В человеке тридцать процентов животных инстинктов, которые он унаследовал от первобытных предков, и семьдесят процентов наработанного опыта за более чем сто пятьдесят тысяч лет. Однако неизменными остались агрессия и страх. Лучше всего эту теорию доказывать на животных. Возьмем собак. Вряд ли кто-то из вас будет утверждать, что по степени агрессивности все породы равны. Есть добродушные собаки, например, лабрадоры, сенбернары, бладхаунды. Есть собаки с чётко выраженной агрессией — кавказская, среднеазиатская, южнорусская овчарки. При этом они умны и при правильном воспитании остаются верными человеку, служат ему. Но есть еще и бойцовые собаки. Агрессивность их порой непредсказуема и не знает предела. Нередко сами хозяева становятся их жертвами.
— Все же мне не нравится сравнение человека с собаками, — сказал я. — Что следует из ваших заключений? Не собираетесь же вы привить гены «добрых» народов более агрессивным?
— Мы подошли к самому интересному вопросу, — сказал Полозов. — «Кровь — великое дело! Вопросы крови — самые сложные вопросы в мире», — как справедливо выразился великий Булгаков. Итак, агрессивное поведение человека зависит от наследственности, воспитания в семье, социальной среды и индукционного фона обстоятельств, и его вызывает не один ген, а целый ряд факторов. И это сильно усложняет мою задачу. Кроме того, есть еще одна проблема. Существуют виды агрессии, необходимые для выживания. Например, материнский инстинкт, когда мать защищает своего ребенка. Если человека лишить всех проявлений агрессии, он превратится в безвольное существо и будет обречен на вымирание. Таким образом, я пришел к выводу, что на агрессию необходимо воздействовать, учитывая все факторы. — Полозов сделал паузу и взволнованно расстегнул ворот своей льняной сорочки. Было видно, что профессор собирается провести свой триумф самым торжественным образом. Возможно даже, что он не раз репетировал свою речь.
— Итак, виды агрессии — они как микробы. Есть полезные и есть вредные. В нашем недавнем споре вы, Люк, упомянули о том, что агрессия может быть полезной, помогая хищникам охотиться, и оказались недалеки от истины. Когда я понял, что полное уничтожение агрессивности человека приведет к его гибели, я был в полном отчаянии. Труд всей моей жизни оказался напрасным. Я бы сошел с ума или покончил с собой, если бы сама Мать Шанти, не иначе, не натолкнула меня на один факт.
В лаборатории повисла тишина. Казалось, даже мыши перестали пищать и замерли в клетках, слушая профессора.
— Как-то давно, лет десять назад, я заметил, что местные жители постоянно жуют какую-то траву. Все они казались людьми спокойными и уравновешенными. Я ни разу не видел, чтобы они повышали друг на друга голос или вели себя как-то агрессивно. Даже когда в их семьях случались трагедии, они спокойно их переживали. Поначалу я списал это на местные обычаи, медитацию, философию и никак не связал с растением, продолжая поиски гена агрессии. Но в период моего отчаяния Мать натолкнула меня на мысль вернуться к изучению особой уравновешенности местного населения. И я понял, что не во всех ближних провинциях можно наблюдать такое поведение. Так вели себя только жители деревень, расположенных вокруг Санвилля. Тогда меня осенило, что Мать Шанти не случайно выбрала это место. Я взял анализы крови у нескольких местных жителей из разных деревень. Когда были готовы результаты, я не поверил своим глазам. Уровень серотонина у всех был в идеальных значениях. То есть не низкий и не высокий, что крайне важно. Серотонин, как известно, кроме прочего, отвечает за настроение человека. Если уровень серотонина сильно понижен, человек может впасть в депрессию, становится раздражительным и агрессивным. Излишки этого сложнейшего соединения также могут спровоцировать неадекватное поведение. И тогда я начал изучать лимай — то самое растение, которое постоянно жуют местные жители, — с этими словами Полозов снял с полки стеклянную колбу с каким-то раствором, в который был погружен длинный зеленый стебель. — Еще семь лет я изучал лимай, пока наконец совсем недавно не раскрыл его тайну. Мы уже обсудили, что на агрессивное поведение человека влияет много вещей. Но, так или иначе, все наследственные, этнические, воспитательные, образовательные и другие факторы подчинены единой химии тела. Фермент моноаминоксидаза контролирует серотонин, отвечающий за настроение. Это известно. Но на самом деле все оказалось гораздо сложнее. Как сделать так, чтобы серотонин всегда был в норме у совершенно разных людей в разных ситуациях? На эти вопросы мне ответил лимай. — Полозов выдержал паузу, затем взболтал колбу с растением и вытянул перед собой. Мы молчим, заинтригованные рассказом профессора.
— Лимай сам регулирует настроение. Он дает каждому человеку ровно столько гармонии, сколько ему нужно для ощущения счастья, — победно заключил Полозов.
— Вы хотите сказать, что создали препарат счастья, профессор? — заговорил Мигель первым из нас.
— Именно! — ответил Полозов. — Теперь это можно утверждать совершенно точно. Лимай не только поддерживает серотонин в идеальных для каждого человека значениях, он обладает целым набором свойств, дающих ощущение абсолютного счастья.
— Но счастье каждый понимает по-своему, — сказал Стивен. — У него не может быть универсальной формулы.
— Разумеется. В нашем случае под счастьем я рассматриваю состояние человека, в котором он лишен агрессии и депрессий. Назовем это удовлетворенностью жизнью. Лимай выравнивает все факторы, приводя их в идеальную норму: поднимает общий уровень удовлетворенности, невзирая на генетическую или наследственную предрасположенность, в результате выравнивается индукционный фон. Люди, принимающие лимай, не способны заражать друг друга агрессией. Напротив, они «заражают» друг друга спокойствием и доброжелательностью. Таким образом, такой опасный фактор, как индукция, начинает работать на блокирование агрессии. Находясь в Санвилле, я не совсем порвал с Большим миром. Мне нужно было следить за исследованиями других ученых в этой области. Я изучал научные статьи, вел с ними переписку. В этом мне помогал Интернет, — профессор пошевелил «мышку» компьютера, и по рабочему столу забегали виртуальные муравьи, символизируя трудолюбие и упорство.
— Но Интернет в Санвилле строжайше запрещен, он есть только в доме Совета общины, — сказала Ратха. — Это нечестно, в конце концов!
— Хлоя с Дэниелом сделали для меня исключение. Я ценю их отношение к проекту. Кстати, эта пуповина, связывающая общину с Большим миром, обходится недешево. Интернет распределяется от специального спутникового аппарата, установленного на крыше дома Совета общины. Это вынужденная мера, ибо невозможно изменить Большой мир, не следя за тем, как он развивается. Как видите, Михаил, мы не совсем замыкаемся в Санвилле, пытаясь изменить мир, но и не пересекаемся с ним, — обратился профессор ко мне по поводу нашего недавнего спора и продолжил: — Так вот, проводя свои исследования, я пришел к выводу, что даже в Большом мире счастье не связано с деньгами или социальным положением человека. Оказывается, самые счастливые люди живут в Нигерии! Далее следуют американцы и англичане. Несчастнее других оказались жители Восточной Европы и России. А самые несчастные народы планеты — жители Танзании, Зимбабве и Молдавии. Это еще раз подтвердило мою теорию — счастье имеет географический характер. Но мне было непонятно, что связывает такие разные регионы мира. Ведь уровни жизни, например, в Нигерии и США, отличаются кардинально!
Открытие, которое стало возможным благодаря провидению Великой Шанти, потрясло меня! Я обнаружил, что растения, сходные с лимаем, только известные под другими названиями, произрастают в Нигерии и некоторых южных регионах Америки. В некоторые страны, где он не растет, его в составе специй и приправ экспортируют. Лимай в измельченном виде — прекрасная приправа, придающая пище особый вкус. Называют его везде по-разному, но практически во всех странах, признанных «счастливыми», в той или иной степени употребляют лимай, причем на протяжении десятилетий, а где-то и столетий. Разумеется, ничтожные дозы потребления этого растения не могут победить преступность и агрессивную натуру людей, но снижают общий уровень депрессии.
— Но ведь вы всегда искали ген агрессии, а не формулу счастья, — сказал Люк. — Зачем вы морочили нам голову?
— Скоро вы все поймете, Люк. Если человек с самого рождения будет пребывать в состоянии умиротворения, агрессивные механизмы будут заблокированы, и со временем появится абсолютно новый вид людей. Кровь и индукция! Генетика и психологическое заражение — вот краеугольные камни человеческой агрессии и человеческого же счастья! Согласно моей теории можно разработать препарат на основе лимая. Разумеется, мы не сможем изменить ДНК уже существующей, сформировавшейся части населения планеты в короткое время. Но мы сможем поддерживать общий благоприятный фон. Лимай можно будет добавлять в нужных пропорциях во все продукты и воду, потребляемые человечеством. По моим прогнозам, это сократит общий уровень агрессии на 60–70 процентов в течение первых пяти лет. Исчезнут войны, а сами проявления агрессивности будут носить менее выраженный характер. Со временем «вредная» агрессивность исчезнет сама, претерпев ряд мутаций. У людей станет появляться здоровое потомство, лишенное бессмысленной злобы. Останутся только необходимые для выживания качества — такие как материнский инстинкт, например. Но даже он будет выражаться в спокойной заботе о потомстве, без крайностей, когда самка набрасывается на каждого, кто приближается к ее детенышу. В этом отпадет необходимость. При распространении идеологии Санвилля и заветов Великой Шанти мы достигнем своей цели. Человечество станет абсолютно счастливым. Агрессия останется в ужасном прошлом. Именно это я и имел в виду в наших с вами беседах, дорогой Люк, — закончил профессор.
Мыши снова завозились в клетках. Мы молчим, переваривая информацию. Все время, пока Полозов говорил, Канта не сводила с него глаз. Было видно, что услышанное приятно потрясло ее. Широко раскрытые глаза Канты будто светились темным янтарем.
Профессор поставил колбу с лимаем обратно на полку, вытер пот со лба бумажной салфеткой.
— Ну а теперь я покажу вам то, ради чего привел вас сюда, ведь просто рассказать все можно было и за чашкой чая. Лаборатории же существуют для экспериментов, — и с этими словами профессор извлек из шкафа толстые кожаные перчатки с длинными, широкими краями, защищающими запястья.
— Обычно такие перчатки используют для соколиной охоты. Они защищают руки от когтей и клюва хищной птицы, — сказал Полозов и подошел к самой большой клетке с огромными крысами. — Это самая агрессивная популяция крыс. Она была выведена специально в сотом поколении. Могу ручаться, это самые агрессивные крысы из всех, что живут на Земле. Поэтому не рекомендую подходить близко к клетке.
Полозов поставил колбы с желтой и красноватой жидкостями, извлеченные ранее из холодильника, на высокий столик на колесах. Туда же положил шприц и подкатил столик к клетке с толстыми прутьями. Мы встали за спиной профессора. Крысы размером с крупных кошек бросились на клетку, как только увидели приблизившихся людей. Ратха взвизгнула и отскочила. Невольно все отступили на шаг назад. Свирепые узкие морды мутантов протискиваются между прутьями решетки, грызя их в слепой ярости острыми зубами.
— Опыты на крысах с повышенным уровнем агрессивности только подтвердили мои догадки: на агрессивно-депрессивные состояния оказывает влияние весь генный механизм. При этом у таких крыс выявлена намного меньшая активность серотонина в структурах головного мозга, если сравнивать их с так называемыми добрыми крысами.
Полозов подошел к клетке, стоящей в противоположном углу, открыл ее, запустил туда руку без перчатки, извлек белую крысу и посадил ее себе на плечо. Та принялась обнюхивать дужку профессорских очков.
— Это совсем другая популяция, — продолжил Полозов. — О чем я и говорил, цитируя Воланда, «кровь — великое дело!» Фермент, отвечающий за контроль уровня так называемых гормонов счастья из серотониновой группы, у «добрых» крыс в норме.
Полозов вернул «добрую» крысу обратно в клетку и вернулся к «злым». Затем взял шприц и набрал в него немного желтой и красноватой жидкостей.
— Это препараты, сделанные из вытяжек лимая разного периода созревания растения. Вместе они работают эффективнее: блокируют рецепторы, отвечающие за агрессию, и одновременно стимулируют гормоны счастья, — профессор надел кожаные перчатки, которые свирепые крысы не смогут прокусить. — А теперь внимание! Отойдите еще на три шага назад, — приказал он.
Мы повиновались.
Полозов приоткрыл дверцу клетки, металлические прутья которой со страшным скрежетом пытаются перекусить крысы-мутанты. Как только рука профессора оказалась внутри, в перчатку сразу вцепилась одна из крыс. Полозов сжал руку и проворным движением вытащил животное наружу, захлопнув клетку. Крепко держа огромного грызуна в руке, Александр Дмитриевич прижал его к столу. Свободной рукой он взял шприц, вонзил иглу в заднюю лапу крысы и медленно ввел препарат. Гигантская крыса словно ничего не почувствовала, лишь в бессильной злобе вонзила зубы еще глубже в перчатку. Мы боимся пошевелиться. Минуты через три препарат начал действовать. Крыса затихла, и профессор посадил ее на столик. Огромный грызун стал с любопытством обнюхивать пробирки. Полозов снял перчатки и посадил крысу на ладонь, поглаживая как кошку. Казалось, еще немного, и крыса начнет мурлыкать.
— Браво! Браво, профессор! — воскликнул потрясенный Мигель.
— Здорово! — Канта в восторге захлопала в ладоши. Я давно не видел ее такой веселой.
— Это прямо «Подобрин» какой-то, — сказал Люк. — И что, теперь эта крыса стала «доброй»?
— Ненадолго, — ответил профессор, — сегодня я помещу ее на карантин в отдельную клетку. Иначе ее сожрут агрессивные сородичи. Но завтра — увы, она снова проснется монстром. И тогда я верну ее к остальным. Препарат имеет ограниченное время действия. Как его закрепить в организме — это тема дальнейшей работы. Но главное — он действует! И если эти крысы будут принимать лимай пожизненно вместе с пищей и водой в нужных дозах, они станут спокойнее. А со временем, через несколько поколений, у них появится потомство, отсутствие агрессии в котором будет закреплено уже генетически. Но лимай обязательно должны принимать и «добрые» крысы. Как я уже сказал, растение выравнивает эмоциональный фон, приводя его к средним значениям у всех особей, вне зависимости от генетики и прочих факторов, давая каждому столько счастья, сколько ему необходимо, чтобы жить в социуме.
— Но не похоже ли все это на обыкновенный наркотик? — не удержался я от вопроса. — По сути, вы ввели этой крысе сильный транквилизатор, который на время успокоил ее.
Канта посмотрела на меня с укором. Ей не понравилось мое недоверие.
— Конечно, лимай не изучен до конца, — сказал Полозов. — Но уже сейчас понятно, что он не обладает негативными свойствами наркотиков. Он не вызывает привыкания и, самое главное, не разрушает психику живого существа, а постепенно ее перестраивает. На основе лимая я планирую создать вирус. Как я много раз говорил, агрессия заразна. Это вирус, который необходимо лечить другими вирусами.
— Вирусами добра? — спросила Канта.
— Можно и так сказать, — ответил Полозов. — Необходима генная терапия, которая позволит с помощью вирусов-векторов вносить исправления в геном клеток человека. Кстати, с этими исследованиями стоит поспешить, пока какой-нибудь биохакер не создал вирус «суперзла». Тогда человечество будет обречено.
— Не убьет ли ваш вирус добра страсть и любовь в людях? Не превратятся ли они в спокойных, безэмоциональных болванчиков? — спросил я.
— Какие-то побочные эффекты могут быть. Но что такое любовь? Эта такая же химия тела, как и агрессия. А любая химическая реакция может корректироваться с помощью формул. Когда люди станут добрее и счастливее, они будут любить все вокруг. И даже если лишатся при этом безудержной страсти к какому-то конкретному объекту, это будет ничтожной платой за отсутствие на планете войн и преступлений. Слишком сильные эмоции вредны. Любовь порождает ревность, страхи и неврозы. К тому же от любви до ненависти, как известно, один шаг. А сколько преступлений совершается из-за страстной любви!
Полозов поместил подобревшую крысу в отдельную клетку.
— Что ж, надеюсь, ваше любопытство наконец-то немного удовлетворено, — обратился он к нам.
— Профессор, сегодня вы удивили всех, включая самого главного скептика, Люка, — сказала Ратха.
Люк промолчал. Я же не стал больше ничего уточнять. Мне не понравился восторг, с которым Канта восприняла все увиденное и услышанное в лаборатории Полозова.
— Ну а теперь, пожалуй, можно и чаю выпить! — воскликнул профессор, когда все вышли из лаборатории. Ратха поставила на огонь тяжелый чугунный чайник с выпуклыми абстрактными узорами по бокам.
— Вы знаете, время имеет способность трансформироваться. — Полозов задал новую тему сегодняшнему разговору. Он явно доволен своей демонстрацией в лаборатории, и теперь ему хочется пофилософствовать. — Чем дольше я живу, тем ближе становится история. Когда я был ребенком, события начала двадцатого века казались мне бесконечно далекими. А сейчас я представляю себе их, будто видел всё своими глазами. Ну что такое сто лет в масштабе Вселенной? Мгновение, вспышка. Да, коротка все-таки человеческая жизнь. Молодые души людей живут в увядающих телесных оболочках. Разве это справедливо?
— Говорят, важна не длина жизни, а ее ширина, — сказал Стивен.
— Поверьте, Стивен, иногда хорошей ширине не хватает длины, — сказал Полозов. — Когда умирал великий Рабиндранат Тагор, его посетил один приятель. Кажется, это был известный критик. «Ты можешь быть горд, — сказал он. — Ты написал шесть тысяч стихов, и каждый из них — совершенство. Можешь умирать спокойно, сознавая, что был цветком, который расцвел полностью». Рабиндранат заплакал. «Друг мой, почему ты плачешь? Неужели боишься смерти?» — удивился приятель. «Я не боюсь смерти, а плачу, потому что только сейчас стал поэтом. До этой минуты цветок мой распустился едва до половины. Постоянно в голову приходят новые и новые стихи, и каждый из них лучше предыдущего. Я плачу над несправедливостью Бога, который срывает меня так рано». Замечу, что умирал Рабиндранат в восемьдесят лет. И при этом чувствовал в себе еще огромный потенциал. Ах, если бы все-таки можно было купить время! — сказал профессор.
— Вероятно, Господь посчитал, что Тагор достаточно сделал для этой Планеты, — сказала Ратха, разливая по чашкам ароматный фруктовый чай.
— Да, он сделал столько, сколько иные не успели бы и за тысячу жизней. Все-таки люди не равны друг другу, — сказал Люк.
— Что вы имеете в виду? — спросил Мигель.
— Полезность. Вот что с меня взять, даже если я проживу, как Тагор, восемьдесят лет? Я никогда не создам и миллионной доли того, что создал он. И дело не только в том, что я не умею писать стихи. Я вообще не чувствую в себе никакого потенциала. Где-то я читал, что только пять процентов землян двигают прогресс, меняя этот мир. Изобретают мобильные телефоны, лекарства, космические корабли. Формулу счастья, наконец, — Люк кивнул на Полозова, — а остальные — такие же, как и я, — паразиты, которые всем этим только пользуются.
— Ну что ты, Люк! Никакой ты не паразит! Бываешь вредным, но не настолько уж. — Ратха с неожиданной нежностью посмотрела на Люка, подлила ему чая, положила перед ним печенье. Кажется, еще немного, и она растрогается от сострадания к Люку, с которым они часто спорят и даже ругаются. Мы с Кантой улыбнулись, наблюдая эту сцену.
— Не расстраивайтесь, Люк, — сказал Стивен, — технический прогресс когда-нибудь погубит нашу планету. По крайней мере, вы не будете к этому причастны. Что касается творчества — вы в том самом месте Планеты, где можно искать себя, не оглядываясь на мнение других. Санвилль принимает вас таким, какой вы есть, Люк.
Когда настало время расходиться, Полозов попросил никому не рассказывать об увиденном в лаборатории, взяв с каждого из нас слово молчать.
— Я не удержался и показал лабораторию только вам как близким друзьям, — сказал он.
Вероятно, ему нужна была оценка своих трудов. Чья-то еще, кроме Дэниела и Хлои. Да, за любым успехом стоит мнение большинства. Все-таки невозможно стать Шекспиром на необитаемом острове…
* * *
С тех пор как Канта получила место во втором круге лотоса, мы очень сблизились с Люком. Не то чтобы мы стали друзьями, но нам часто приходится вместе работать. Наверное, община относится к нам одинаково подозрительно. Уж я-то точно в списке кандидатов на выдворение.
Вот и сегодня, после утренней медитации в Серебряном Эллипсе, нас с Люком отправили на птицеферму. Поначалу я обрадовался, что мне выдалась возможность побывать в девятом секторе. Особняк из белого камня, скрытый за оранжевым забором, не давал мне покоя с того дня, как я увидел там старуху, похожую на привидение. Но оказалось, что птицеферму перенесли в нейтральный пятый сектор, где живет основной состав общины. Это только подхлестнуло мой интерес к «страшному дому», как назвала особняк Ратха. Возможно, там действительно прячут умалишенных, для которых испытания Раем оказались слишком суровыми, чтобы они не портили репутацию Санвилля. Во всяком случае, старуха с растрепанными белыми волосами очень походила на сумасшедшую. Формально членам общины разрешено бывать в любом секторе, но на деле праздные шатания вне своих зон не приветствуются. Во мне проснулся репортер, которого я долгие месяцы усмирял медитациями и размышлениями о Канте. Все это время для меня не существовало ничего, кроме желания вернуть ее любовь и расположение. В глазах Канты все еще теплится янтарь, когда она смотрит на меня. Она с удовольствием обнюхивает меня, когда мы вместе, как самка, желающая своего самца. Это дает надежду, что я еще могу бороться за свою любовь. Хотя и очень трудно тягаться с Санвиллем, который дал ей покой и уверенность в завтрашнем дне. Я сам привез ее сюда. И постепенно Санвилль превратился для меня в живое существо, с которым мне предстоит сразиться. Потому что он хочет забрать мою Канту. Я так и не смог принять спорных устоев этого искусственного Рая, созданного обычными людьми, не лишенными недостатков и пороков. Инстинктивно понимаю, что у этой отлаженной десятилетиями машины должны быть слабые места. И я должен их найти, чтобы победить.
По моей угрюмой физиономии Люк понял, что настроения у меня сегодня нет. Да и откуда ему взяться, если Канта с самого утра уехала с Дэниелом в ближайший городок делать заказы для общины? Вернутся они только ближе к ночи. Завтра я решил поговорить с Дэниелом и Хлоей. Они обязаны меня понять. Так дальше продолжаться не может. Мы с Кантой должны работать вместе. Мне не нужен ни второй, ни первый круг Лотоса. Мне нужна Канта.
Люк пытается развеселить меня шутками, но я почти не слушаю его. Ревность пожирает меня, когда представляю Канту рядом с похожим на зверька Дэниелом. Уверен, что он причина моих проблем. Думаю, ему понравилась Канта, и он решил меня изолировать, насколько это возможно. «Что, если и он ей понравится? — думаю я. — Если ей понравится его запах, пока они будут ездить на старом «Фольксвагене» по делам общины? Понравится говорить с ним, смотреть на него…»
Вместо плосколицего кришнаита сегодня на птицеферме отдает распоряжения старая немка с веснушчатыми от солнца плечами и грудью. Вероятно, кришнаит в девятом секторе больше охранял оранжевый забор, чем занимался фермой. Я не слушал болтовню Люка до тех пор, пока он не стал рассказывать о себе. Он заговорил неожиданно откровенно, что не принято в Санвилле. Люк рассказывает свою историю быстро, иногда запинаясь, и тут же торопливо продолжает, словно боится, что его перебьют или он сам передумает.
Подозрения Ратхи оправдались. Люк действительно скрывается в Санвилле от закона. Он никогда не работал рекламным агентом. Во Франции Люк промышлял кардингом. Не в смысле того, что гонял на треках на маленьких гоночных машинках. Будучи первоклассным хакером, Люк воровал деньги с чужих платежных карт. С двумя приятелями они взламывали компьютеры богачей и совершали финансовые операции с их картами от имени хозяев, а попросту — снимали с них деньги. Он пошел на преступление, чтобы спасти от рака свою бабушку, которая вырастила его. Родители Люка погибли в автокатастрофе, когда ему было три года, и он помнит их только по фотографиям. В день, когда Люк собрал необходимую на операцию сумму, бабушка умерла. Вскоре его приятелей арестовала полиция, а Люк, передав все деньги в местный хоспис, бежал подальше из Франции в место, где нет телевидения и газет и где его вряд ли будут искать.
— Ты не выдашь меня? — спросил он взволнованно, когда закончил рассказ.
— Не выдам, — ответил я. — Но зачем ты мне это рассказал?
— Очень сложно держать все внутри. Здесь же и поговорить толком не с кем. Каждый сам в себе. Я знаю, что поступал плохо. Но я делал это не для себя. Конечно, я не мечтал быть кардером. И моя бабушка видела для меня другое будущее. Но теперь я здесь и иногда думаю — может, лучше в тюрьму?
— Да, у тебя неважно получается притворяться, что ты здесь по убеждениям.
— У тебя тоже. Может, поэтому я все рассказал именно тебе, — сказал Люк.
— Почему ты постоянно споришь с Ратхой? — спросил я.
— Ратха — она неплохая, только очень одинокая, какая-то несчастная, — сказал Люк. — Иногда я специально ее злю, чтобы растормошить, добиться хоть каких-то эмоций.
— Слушай, что ты думаешь по поводу белого дома в девятом секторе? — спросил я.
— Не знаю. Об этом месте здесь даже говорить боятся, ты же знаешь. Слышал то же, что и ты у Полозова, про умалишенных и почетных пенсионеров Санвилля. Лучше в эту тему не лезть.
— Откровенность за откровенность. Я хочу выяснить, что там. Теперь и ты знаешь мою тайну.
— Из-за Канты? — спросил Люк. — Вижу, как ты мучаешься без нее целый день, часы считаешь. Я бы с ума сошел, если бы за меня кто-то решал, когда и сколько времени мне проводить с моей девушкой. Только чем этот дом за забором тебе поможет?
— Пока не знаю. Ты со мной?
Люк думал секунды две. Потом лукаво прищурился:
— Почему нет? Мне самому интересно.
«Все-таки Ратха права. Он настоящий авантюрист», — подумал я, и на душе почему-то стало немного легче…
Канта вернулась поздно вечером. Я ждал ее на скамейке, перед нашим общежитием с фанерными стенами. Сегодня я решил с ней откровенно поговорить о нас. Канта шла по тропинке одна, в сумерках, раздираемых криками диких зверей, готовящихся к ночлегу. Ее стройный силуэт в темно-синем легком платье, подпоясанном широким белым ремнем, почти сливался с наступающей ночью. Когда Канта растворялась полностью, я следил за белым ремнем, боясь потерять его из вида. Она заметила меня и прибавила шаг. Я поднялся навстречу.
— Нам надо поговорить, — сказал я, когда Канта подошла.
— Да, нам надо поговорить, — повторила она за мной, и мы поднялись в нашу комнату.
Только здесь я заметил слезы в ее глазах. Канта готова была разрыдаться.
— Что случилось? — спросил я, а внутри все обожгло ненавистью к Дэниелу. — Он обидел тебя? Он… прикасался к тебе?
— Нет, что ты! — Канта улыбнулась, и слезы сорвались из глаз вниз по щекам. — Какой же ты все-таки глупый, — она провела рукой по моим волосам и прижалась к груди. — Дело совсем не в этом.
— Тогда в чем?
Она подняла глаза, снова наполнившиеся слезами:
— Я ухожу.
Лампа с зеленым абажуром поплыла влево и резко вверх. В грудь будто вонзился раскаленный клинок. Страх обдал панической волной, и по телу пробежала мелкая дрожь. Меня затошнило, к горлу подкатил ком, как это не раз бывало в военных командировках, когда бывало очень страшно.
— Прости, что я предаю тебя, — плакала Канта. — Но так будет лучше для нас двоих. Мы не можем больше быть вместе. Я ухожу жить в четвертый сектор, потому что иначе тебя выгонят из Санвилля. Я не смогу уехать отсюда с тобой. Я совсем запуталась и не знаю, что мне делать.
Я молча слушал ее, не в силах что-нибудь сказать. Случилось то, чего я больше всего боялся. Я потерял Канту.
— Понимаешь, они считают, что ты приехал сюда только ради меня и у тебя нет истинных мотивов для жизни в Санвилле, — продолжала Канта. — Дэниел сказал, что тебе нужно побыть одному, без меня, чтобы лучше разобраться в себе. Или ты станешь полноценным членом общины и будешь активно участвовать в ее жизни или покинешь Санвилль. Скоро у тебя заканчивается испытательный срок, и община может отказать тебе в членстве. Тогда мы никогда больше не сможем быть вместе. Вернуться обратно в тот мир выше моих сил. Прости меня. Мне здесь хорошо и спокойно, понимаешь?
— В монастыре было бы еще спокойнее, — речь вернулась ко мне. — Ты действительно думаешь, что они меня здесь оставят, если ты уйдешь от меня?
— Так сказал Дэниел. Это только на время, если ты справишься.
— И ты веришь ему?
— Пока что у меня не было поводов сомневаться в его честности. Здесь все просто и прозрачно, все на виду. Никто никого не обманывает. Но для того, чтобы остаться, тебе самому надо сделать выбор.
Честно говоря, все обстоит именно так, как сказал Дэниел. Ради Канты я искренне пытался проникнуться идеями Нового общества, но не смог. И уж точно, никогда бы здесь не оказался, если бы не Канта. «Идейных» здесь видно сразу. Я не из их числа, это правда.
— И ты сможешь без меня, если я уеду обратно в Москву? — спросил я.
— Не знаю, не мучай меня! — Канта разрыдалась. — Я совсем запуталась, — снова повторила она.
— Когда ты уйдешь? — спросил я.
— Прямо сейчас, — ответила она. — Вот ключ, мне дали комнату недалеко от Полозова.
Говорить больше было не о чем. Я молча помог ей собраться. Мы идем почти на ощупь по узкой, темной тропе в четвертый сектор, где живут привилегированные члены общины. Санвилль спит. После десяти вечера свет отключают из экономии, и остается только присоединиться к спящей природе. Дикий лес молчит, лишь самцы древесных жаб пытаются привлечь самок звуками, напоминающими блеяние овец:
— Ме-е-е-еко! Ме-е-е-ко! Ме-е-е-еко!
Крупные звезды отливают в индийском небе синим светом. Мне вспомнился разговор у Полозова об адских и райских планетах. Задрав голову, я всматриваюсь в космос, пытаясь определить, какие из планет могли бы быть по-настоящему райскими.
Канте дали двухкомнатные апартаменты с небольшой кухней в соломенно-глиняном доме. Снаружи он покрыт штукатуркой, выкрашен в желтый цвет и выглядит как каменный От прежних жильцов остались висеть на стенах самодельные календари, какие-то рисунки и изречения Великой Шанти на транспарантах. Судя по календарям, здесь уже год никто не живет. О судьбе прежних хозяев Канте ничего не известно. Я сложил ее вещи в угол и попрощался.
— Придумай что-нибудь, — сказала она мне вслед, когда я закрывал дверь. — Я люблю тебя…
* * *
Иногда во сне ты не знаешь, что спишь. Кошмар бывает настолько реален, будто все происходит на самом деле. Ты щипаешь себя, чтобы проснуться, и не можешь. И тогда убеждаешься, что сон — это явь. А когда все-таки тебе удается вернуться в этот мир, проснувшись, радуешься, что настоящая жизнь — здесь. А там был мир снов… В этом бывает очень сложно разобраться. Потому что сон — это другая реальность, раз в нем можно ощущать свое тело так же, как в этом мире. Никто не может гарантировать, что все, что с нами сейчас происходит, происходит на самом деле, и нет еще какой-нибудь потайной дверцы в лабиринтах нашего сознания. Отличие сна от реальности только в том, что сны бывают хаотичны или, наоборот, повторяются. А реальность — как сериал, где никогда не знаешь, чем закончится очередная серия.
Мне снится Ольга. Они улыбаются мне с Ольгой Ивановной и предлагают чаю. На Ольге — вязаные носки и пуховый платок. Она выглядит очень трогательно. Я отказываюсь от чая, и Ольга уходит в комнату прошлого. А потом — взрыв, фрагменты тел, я лечу в пропасть. Ищу кольцо парашюта и не нахожу. Земля совсем близко. Вдруг понимаю, что кольцо в руке. Рву его от себя, но купол не раскрывается. В «соты» попал снег, стропы замерзли, и чехол не может сойти с купола, бьется надо мной длинной кишкой. Отцепочных замков на этом типе парашюта нет, а резать лямки ножом не успеваю. Земля, раскачиваясь, несется навстречу. Чехол над головой крутится пропеллером — «запаску» бросать бесполезно, она обязательно намотается на нераскрывшийся купол. Но надо пробовать. Других вариантов нет. На высотометре пятьсот метров. Четыреста. Почему-то совсем не страшно. Наверное, из-за времени. Когда его нет — страха тоже нет. Ведь на страх нужно время. Планета совсем близко, до нее секунд восемь. Хватаю кольцо запаски. Но тут упругий встречный поток с треском разрывает чехол, и из него вываливается купол основного парашюта. В глазах темнеет от спасительного удара раскрывшегося, но еще не до конца наполнившегося купола. Четыре секунды. Прижимаю к животу купол запаски, чтобы не запуталась в основном. Ее ранец все-таки успел раскрыть прибор. Две секунды, купол почти наполнился. Удар. Падение смягчил огромный сугроб на краю аэродрома.
Это был двадцатый прыжок. Мне было семнадцать.
— Я пришла за тобой, — говорит Черная Пантера и кладет лапу мне на грудь так, что стало трудно дышать.
— Расслабься, так будет лучше, — у большого Черного Пса приятный баритон.
— Рахмат, — говорю боевикам волшебное слово, и они опускают оружие.
— Ты же не женщина, чтобы своим ушам верить, — шепчет мне прапорщик, которого душманы прозвали Девана́, что означает — «псих, ненормальный», — посмотри сам, — и протягивает бинокль ночного видения. Я вижу караван душманов, переправившихся через Пяндж. Они совсем рядом с нами, в нескольких десятках метров.
— Огонь, — также шепотом командует старшина и первым дает очередь.
— Как думаешь, ногу мою сожгли или закопали? — трясет меня Степан.
— Тело надо обязательно сжечь, чтобы душа соединилась с Великой Шанти! — говорит Лакшми.
— Предать земле! Только земле! — орет доктор в окровавленном халате. — Трупы не брать, мать вашу! Не довезем!
— Мир — это раненая ядовитая змея! — сурово говорит Хлоя.
— Земля — это космический Алькатрас, где отбывают наказание души грешников, закованные в телесные оболочки, как в кандалы! — кричит бывший программист, одетый в клетчатую юбку.
— Мы все — герои компьютерных стрелялок! — смеется Зула и пускает себе пулю в висок.
— Почему вы все время отказываетесь от чая, Миша? — спрашивает Ольга Ивановна, а я думаю, как же ей идет строгий серый костюм с белой блузкой, хоть и давно вышедший из моды. Только пиджак слегка испачкан в побелке. Распахнулась комната жуткого настоящего, из дыры в стене повалил снег. Стало холодно. Я ищу Ольгу, но ее нигде нет.
Всю ночь меня мучил страх. Он подкатывал тошнотворным комом, ненадолго отпускал и снова душил, сильнее прежнего. Я метался в холодном поту, вскакивая и снова проваливаясь в обрывки снов, уже не отличая их от реальности. Иногда нащупывал пустую подушку Канты и вспоминал, что она ушла от меня. Но потом улыбался, понимая, что это кошмарный сон, накрывался одеялом с головой, ёжась от озноба, чтобы забыться в этом сне и поскорее проснуться в реальности, где Канта прижимается ко мне горячим телом, разметав по подушке каштановые волосы…
Черная Пантера превратилась в кошку Каську и беспомощно мяукает из фруктовой корзины. Каська боится огромной птицы, которая громко орет. Крези Берд, догадываюсь я. Каська боится сумасшедшей птицы!
Открываю глаза. По пустой подушке Канты медленно ползут лучи розового солнца. Обычно Канта просыпалась не от криков Крези Берд, а от моих поцелуев или рассветных лучей, путавшихся в ее длинных ресницах. Подушка пахнет Кантой и все еще хранит ее тепло. Целую подушку. Зарываюсь в нее головой. Сильно зажмуриваюсь, убеждая себя, что это кошмарный сон. Просто мне никак не удается проснуться, и на самом деле моя Канта сейчас лежит рядом со мной. Наверняка она уже проснулась и смотрит на меня, а я никак не могу вернуться к ней из мира снов. Изо всех сил щипаю себя за руку и снова прячусь под одеялом. Я не хочу находиться в реальности, где нет Канты. На какое-то время снова проваливаюсь в тяжелое забытье…
Просыпаюсь от невероятной духоты. Понимаю, что пропустил утреннюю медитацию и распределение на работы. Это не беспокоит меня. Как и то, что в Серебряном Эллипсе можно было увидеть Канту. Дотягиваюсь до часов. Полдень. Комната раскалена от солнца, но меня знобит. Простынь мокрая от холодного пота. Голова тяжелая, кажется, поднялась температура. Встаю на ватных ногах, открываю шкаф. В спешке Канта забыла белое хлопковое платье. Мое любимое. Пью воду из пластиковой бутылки, не чувствуя вкуса. Падаю на кровать, снова проваливаясь в пропасть.
Ровно через сутки я открыл глаза и увидел на подушке Канты такие же розовые рассветные лучи, что и вчера. В этот раз я не слышал Крези Берд и мне абсолютно ничего не снилось. Голова все еще тяжелая, меня знобит, несмотря на жару, и тошнит. Просыпаясь и снова проваливаясь в другой мир, я потерял счет дням. Это уже не мир снов. Это мир небытия. Я как бы есть, но сознания моего нет. Даже сны больше не снятся. Одна пустота, во время которой меня нигде нет. Ни там, ни здесь. Сознание включается лишь на несколько минут в день. Каждый раз, открывая глаза, я надеюсь, что увижу рядом с собой Канту. Но ее все нет. Выходить на улицу нет ни сил, ни желания. Я поднимаюсь только, чтобы сходить в туалет, выпить воды и снова, накрывшись с головой одеялом, провалиться в темноту, которая стала мне союзником. Она защищает меня от недружелюбного внешнего мира, в котором я вдруг почувствовал себя бесконечно одиноким.
Однажды из трещины в стене появилась маленькая ящерица. Она с любопытством разглядывала меня, но всякий раз юрко пряталась обратно в щель, стоило мне пошевелиться. Постепенно ящерица поняла, что мне не до нее, и, перестав бояться, стала разглядывать меня уже бесцеремонно, зависнув прямо на стене над моей головой. Иногда, возвращаясь из небытия и открывая глаза, я вижу ее перед собой. Почему-то раньше она не появлялась. Обычно ящерица убегает утром, после криков Крези Берд, по своим делам и возвращается, когда солнечные лучи становятся матовыми и в окно можно смотреть без рези в глазах. Я стал разговаривать с ящерицей, и мне кажется, что она слушает меня, неподвижно застыв на потолке или на стене, нарушая законы физики, время от времени показывая мне длинный язык. Мне кажется замечательным, что ящерица не умеет говорить, а только слушает и никогда не спорит. В основном я разговариваю с ней, как говорил бы с Кантой, приводя разные доводы и объяснения, почему она должна вернуться ко мне. Иногда читаю стихи. Я заканчивал декламировать ящерице стихотворение Пастернака «Не волнуйся, не плачь, не труди…», когда скрипнула дверь и появился Люк:
— «…Добрый путь. Добрый путь. Наша связь, Наша честь не под кровлею дома. Как росток на свету распрямясь, Ты посмотришь на все по-другому»[2],— читал я вслух.
Увидев Люка, ящерица юркнула в щель, успев показать мне язык. Люк не заметил ящерицы и ничего не понял по-русски. Он решил, что я разговариваю сам с собой, что было почти правдой.
— Я все знаю, — сказал Люк. — Но ты не переживай. L’amour fait passer le temps, et le temps fait passer — любовь убивает время, а время убивает любовь. Тебе надо действовать.
Мне казалось, с тех пор, как ушла Канта, прошло не меньше недели. Выяснилось — всего три дня.
— Для начала тебе надо поесть, — сказал Люк. Только теперь я вспомнил, что три дня пил одну воду, ни разу не подумав о еде.
Он достал из бумажного пакета маленькую кастрюлю с рисом и рыбными котлетами, пару бананов. Но есть мне все равно не очень хочется. Тяжесть в голове и озноб еще ощущаются.
— Сначала приму душ, — сказал я Люку.
Рыбные котлеты с рисом оказались, на удивление, вкусными. Дойдя до бананов, я почти поверил, что Люк абсолютно реален, а не голограмма из мира моего воспаленного сознания. Стараюсь есть маленькими порциями, чтобы не было проблем с желудком после трехдневной незапланированной голодовки. Тем временем Люк рассказывает мне новости. Оказывается, он заходил ко мне еще в первый день, когда узнал, что Канта ушла. Но я спал, и он не стал будить. Вчера Люк тоже заходил, но застал ту же картину. Канту он почти не видит, только по утрам в Серебряном Эллипсе. Она сосредоточенно медитирует, не общаясь даже с Ратхой. У Полозова за эти дни Канта также ни разу не была. Вообще она показалась Люку грустной и подавленной. Профессор и остальные стараются на эту тему не говорить. Совету общины Люк сказал, что у меня температура. Хлоя выразила надежду, что я не подцепил тропическую малярию, иначе меня придется изолировать и отправить в больницу за пределы Санвилля. Люк заверил ее, что у меня обычная простуда.
— Я должен поговорить с ними. С Хлоей, Дэниелом, Лакшми, — сказал я Люку. — Должны же они понять нас с Кантой, раз собираются строить новое, гуманное общество.
— Mon pote (дружище), благими намерениями, как известно, вымощена дорога в Ад. Хотя здесь вроде как Рай, — сказал Люк. — Все радикальные идеи замешаны на диктатуре. Вот взять вашего Сталина. Или немецкого Гитлера. Кто из них лучше, а кто хуже, можно сказать однозначно?
— Сталин лучше, — сказал я. — Он не нападал первым. И вообще, Советский Союз остановил фашизм.
— Для меня что фашизм, что коммунизм — одно и то же. Кто из этих вождей строил Рай для своего народа, а кто Ад? И что было построено в итоге? Что вообще считать Адом или Раем? Это как две стороны фальшивой монеты. Сколько ни бросай, выпадает одно и то же. Санвилль — фальшивая монета. Насилия здесь не меньше, чем было в вашем Советском Союзе. Ты был прав, когда сказал об этом Дэниелу. Масштабы только иные.
— Ты знаешь историю России? — спросил я.
— Я вообще люблю историю, — сказал Люк. — Жаль, что люди редко делают из нее выводы. Рано или поздно в Санвилле появятся диссиденты. Уверен, кроме нас с тобой, здесь хватает тех, чье сознание еще не окончательно слилось с «магическим» лотосом. Хлоя с Дэниелом тоже неплохо знают мировую историю, поэтому и устраивают такой жесткий отбор. Им нужно тотальное подчинение. Любое инакомыслие они уничтожают как сорняк, вырывая его с корнем. Каждый человек, начинающий задумываться о несправедливости в Санвилле, опасен для них, а потому моментально оказывается за его воротами.
— Для хакера, взламывающего компьютеры, ты говоришь странно.
— Я не всегда был хакером. Моя grand-mére, бабуля, которая меня воспитала, преподавала историю в университете. Она всегда мечтала, чтобы я его окончил, и подсовывала мне всякие книжки. Но на университет у нас не было денег. Мне нужно было работать, помогать ей.
— Зачем тебе все эти разговоры? — спросил я. — Ты сильно рискуешь оказаться за воротами, если донесут. Санвилль не устраивает тебя как временное убежище?
— Я честный человек, хоть и грабил чужие счета, — усмехнулся Люк. — К тому же обещал тебе помочь узнать про страшный дом в девятом секторе. Моя grand-mére говорила: «Чаще всего люди скрывают от других свои слабости и пороки». Не знаю, что там за оранжевым забором, но меня раздирает любопытство. Меня тошнит от риса с бананами, медитаций, семян маиса, куриного помета и праведных речей! От всего этого скучного райского однообразия, когда один день похож на другой. Когда-то я мечтал о месте, где всегда тепло и светит солнце. Но что может быть скучнее этого! Ты перестаешь ценить солнце, когда нет облаков! Теперь я мечтаю о дождях. Профессор Полозов хочет создать мир, похожий на фруктовое желе. Без эмоций и страстей. Но что в таком мире будет критерием добра, если ничто не будет ему противостоять? Если каждый день есть одно фруктовое желе, его быстро возненавидишь. Так появится новое зло, вызванное однообразием стерильной жизни. Нам запрещают пользоваться Интернетом, мы не смотрим фильмы, не читаем книги, не слушаем музыку. Потому что в искусстве Большого мира всегда присутствуют боль, кровь, страх и смерть. Но ведь и любовь там есть тоже! И красота! Не только зло, но и добро! Вместо этого нас заставляют слушать дурацкие произведения Апполинария и Диона. Вместе с плохими сторонами Большого мира для нас закрыли и всё хорошее, созданное им. Ты даже не представляешь, с каким нетерпением я жду, когда мы проникнем за этот оранжевый забор! Меня он привлекает уже одним только запретом подходить к нему. Иногда люди нарушают запреты лишь для того, чтобы нарушать. Разумеется, я не могу пропустить это маленькое приключение. Оно хоть как-то развеет мою пресную, как обезжиренный сыр, жизнь.
Поблагодарив Люка за еду, я подумал о неожиданно сложившемся нашем с ним оппозиционном союзе — мошенник-авантюрист и репортер-стервятник.
* * *
Глаза Хлои прожигают в моей футболке дыру сквозь толстые линзы очков. Кажется, из сощуренных бойниц вот-вот ударит луч лазера, чтобы испепелить меня.
— Я понимаю ваши чувства, Микаэл. Но ваша проблема в том, что вы никак не можете забыть стереотипы Большого мира, — сейчас Хлоя похожа не на черепаху, а на ржавый гвоздь, почерневший от солнца и тропических дождей. Она сидит напротив меня на стуле, вытянувшись в струну и стараясь держать осанку. Дэниел же небрежно развалился в плетеном кресле с чашкой кофе в руке. Он пока не вмешивается в разговор, лишь буравит меня своими черными, как у дьявола, глазами.
— У нас есть сомнения в искренности ваших мотивов. Вы инертны, не инициативны, не принимаете активного участия в жизни общины, — продолжила Хлоя. — Вы даже не пытаетесь медитировать, а лишь высиживаете положенное время в Серебряном Эллипсе. Да-да, мы наблюдаем за каждым членом общины постоянно и всюду. К тому же эти ваши сомнения в идеалах Санвилля, которые вы высказывали у профессора Полозова!
Дэниел спокойно отхлебнул кофе, будто не имел к доносу никакого отношения. Я думаю о том, как бы хорошо было выщипать его эспаньолку гибкой шпилькой от парашютного прибора, словно пинцетом, волосок за волоском. Так поступали у нас в армии с теми, кто не брился вовремя. А еще лучше — зажать его голову между коленей и насухо побрить вафельным полотенцем до мяса, пока от быстрого трения вместе с бородой не слезет кожа.
— Иногда от вас исходит агрессия, а это здесь вовсе недопустимо. — Хлоя будто прочитала мои мысли насчет Дэниела. Я попытался сделать лицо добрее и придал голосу оттенки кротости:
— Мы приехали сюда вместе с Кантой. Мы любим друг друга. Мне непонятно, почему мы должны жить врозь.
— Любовь между мужчиной и женщиной не может быть важнее идеалов общества. Это пережитки Большого мира. Частное не может быть выше общественного. Если хотите знать, слишком сильные чувства даже мешают концентрироваться и работать над сознанием. Любовь — такая, как вы ее понимаете, — один из неконтролируемых импульсов человека. Вы растрачиваете энергию на первобытные инстинкты в то время, как ее нужно посвятить Великой Шанти, божественному сознанию. Любовь должна быть свободной, лишенной эгоизма и чувства собственничества. Но не это сейчас главное. Мотив Канты для нас ясен и понятен. Она решила порвать с Большим миром, который принес ей много горя. А вас интересуют только ваши чувства к Канте, но никак не Санвилль.
— Если вы считаете, что мое сознание недостаточно очистилось, Канта могла бы мне помочь в этом, — возразил я.
— Оставлять вас вместе также неразумно, как обучать в одном классе детей разного возраста и уровня развития, — сказал наконец Дэниел.
— Вы должны доказать нам серьезность ваших намерений. В противном случае мы не сможем рекомендовать вас Совету общины в качестве жителя Санвилля, — заключила Хлоя и встала со стула, давая понять, что разговор окончен.
Меня душит бессильная злоба. Все происходящее кажется чем-то нереальным, дурацким сном или спектаклем в сумасшедшем доме. Кто-то решает за меня, могу ли я находиться рядом с Кантой. Разве это не насилие, против которого здесь выступают? О какой свободе личности можно при этом говорить? Изо всех сил сдерживаюсь, чтобы окончательно все не испортить. До тех пор пока Канта принимает правила Санвилля, мне нечего противопоставить. Надо быть хитрее. Нельзя лезть напролом, иначе тут же окажусь за вратами этого «Рая» и больше никогда не увижу Канту.
Кроме Хлои и Дэниела при разговоре присутствует главный идеолог общины — Лакшми. За все это время она не проронила ни слова. Лишь когда Хлоя поднялась со своего стула, вытянувшись ржавым гвоздем, Лакшми сказала:
— Поймите нас правильно, Микаэл. Мы не вмешиваемся в ваши чувства. Но любовь к Канте не должна значить для вас больше, чем любовь к Великой Шанти. Только так вы сможете стать полноправным членом города Солнца, одним из нас. Потому что любовь к Шанти всех нас объединяет.
Я вышел из дома Совета общины, выкрашенного в коралловый цвет, и отправился искать Люка. Он прав. Пора действовать. Но вначале нужно успокоиться. Я уже на грани и могу наломать дров. Несправедливость и абсурдность происходящего раздирают меня, не дают дышать. Первое, что приходит в голову, — схватить Канту в охапку и увезти, но куда? Она впервые нашла на Планете место, где чувствует себя в безопасности после пережитого ужаса и горя.
Канты сегодня в доме Совета нет. Наверняка ее куда-то отправили, чтобы мы не пересекались, когда я попросил Хлою о разговоре.
Солнце печет настолько сильно, что кожу покалывают тысячи мелких иголок, как во время озноба. Уши сворачиваются в вяленые трубочки, и я ищу тень под раскидистыми баньянами, перебегая от одного дерева к другому.
Люка я застал на ферме. Он ковыряется с рассадой маиса, укладывая ее в ямки в специальных мешочках. Я все рассказал. Люк молча выслушал и какое-то время обдумывал услышанное. Пот капает с его длинного французского носа прямо на грядки.
— Тебе не надо пока с ней видеться, — наконец сказал он, имея в виду Канту. — Будет только хуже. Дай ей время.
Я последовал совету Люка и всю следующую неделю не приходил ни к Канте, ни к Полозову. Впрочем, Канта также у меня не появилась и вообще не выказала никакого желания увидеть меня. Это мучает меня, потому что все-таки считаю ее виноватой в том, что так легко от меня отказалась. Я рассчитывал, что Канта придет и попросит прощения и мы вместе обсудим, как нам быть. Но она не пришла. Мы видимся лишь на утренних медитациях, при встрече киваем друг другу. Когда столб света пронзает купол Эллипса и вспыхивает священный лотос, я закрываю глаза, изо всех сил изображая старание присоединиться к коллективному разуму и поднять свое сознание. Когда мне кажется, что мое лицо достаточно расслаблено и сосредоточено, не вызывает подозрений в стремлении отрешиться от внешнего мира, я слегка приоткрываю ресницы и нахожу во втором круге лотоса далекую, до боли дорогую мне фигурку, пытаясь подавить накатывающие нежность, обиду и отчаяние.
Я стал с усердием трудиться везде, куда бы меня ни отправляли, изображая полное смирение. Даже если Хлоя с Дэниелом и не верят в такие перемены, у них не должно быть повода придраться ко мне. Иногда, стоя перед зеркалом, я репетирую блаженное выражение лица, какое вижу здесь у многих «продвинутых» санвилльцев. Каждый раз, повстречав Дэниела, надеваю на себя идиотскую маску, чтобы он не догадался, о чем я в этот момент думаю. Я научился прятаться за внешним придурковатым равнодушием. Улыбаюсь Дэниелу, глядя прямо в его черные глаза и одновременно с наслаждением представляю, как надавливаю ему на кадык большим пальцем и медленно, по волоску, выщипываю его эспаньолку. От этих мыслей мне становится немного легче. Пытаясь сделать меня «лучше», эти люди пробудили худшие мои качества.
Комнату, где мы жили с Кантой, у меня еще не отобрали, и по вечерам мы с Люком закрываемся в ней, чтобы разработать план проникновения в Страшный дом. Мы начертили схему, изучили подходы к оранжевому забору и наметили наиболее благоприятные дни для операции. Это занятие нас обоих увлекло, хотя мы и не представляем, что можем увидеть в девятом секторе. И уж тем более — как это поможет мне вернуть Канту. Но как репортер я понимаю, что любая открытая тайна может превратиться в компромат. А компромат — в оружие. Бабушка Люка была права: чаще всего люди скрывают от других свои слабости и пороки. Втайне я рассчитываю, что слова Полозова подтвердятся: в особняке за оранжевым забором могут насильно удерживать умалишенных санвилльцев. Если об этом узнают власти Индии, Хлое с Дэниелом несдобровать. Для меня крайне важно найти слабое место Санвилля.
Так прошло еще две недели. Наконец мы с Люком наметили вторжение на ближайшую пятницу, так как в этот день контроль ослабевает. Верхушка общины накануне выходных уединяется в своих бунгало, расположенных в элитных секторах. Хлоя с Дэниелом в выходные часто уезжают на скутерах в местные деревни делать закупки и договариваться с местными жителями о совместных рабочих мероприятиях на следующую неделю. В основном речь идет о ловле рыбы и строительстве домов на территории Санвилля.
Мы с Люком приготовили веревку, фонарь и две увесистые дубины на случай, если за забором придется встретиться с собаками. Все это, вместе с планом девятого сектора, начерченном на листе бумаги, спрятали на высоком баньяне. Люк давно приглядел этот тайник — высоко от земли, за толстой корой гигантского дерева образовалось что-то вроде ниши. К тому же баньян располагается в пятом секторе, где живут рядовые «граждане» Санвилля. И в случае обнаружения тайника подозрение не должно пасть на нас, новичков.
Наступила пятница. Сегодня Люка отправили с рыбаками в море, а меня — пропалывать грядки маиса. Это даже хорошо. В последнее время мы стараемся не привлекать к себе внимания и меньше общаться на людях. Мы договорились встретиться возле баньяна в пятом секторе в одиннадцать вечера, когда в Санвилле погаснет свет и ничего не станет видно на расстоянии вытянутой руки.
До одиннадцати остаётся еще полчаса. Я не удержался и пошел мимо четвертого сектора в надежде встретить Канту. Если нас с Люком поймают, то выдворят из Санвилля. Тогда я могу больше никогда ее не увидеть.
Свет редких фонарей уже давно погас, а луна еще не взошла. На небе проступили бледные звезды, наливающиеся синим неоном по мере того, как оно темнеет. Я шел почти на ощупь, стараясь не шуршать гравием на дорожках.
Желтый дом Канты в темноте выделяется на фоне других построек. Мерцающий свет свечей в ее окне заставил сердце биться быстрее. Будет глупо, если она меня заметит. Подумает, что шпионю за ней. Неожиданно я остановился. А что, если я сейчас увижу кого-то в ее комнате? Другого мужчину. Например, Дэниела? Вдруг Канта давно разлюбила меня и встречается с другим? Зачем тогда все это? Неожиданная ревность захлестнула. Затем смешалась со страхом, который остановил меня. Я никогда раньше не задумывался, что у Канты может быть другой. Новая мысль наполнила ноги свинцом. Стоя в нескольких метрах от заветного окна, не решаюсь подойти. Сбоку не видно, кто находится в комнате, лишь тени мелькают перед лампой. В висках сдавило, застучало.
«Почему ты решил, что там Дэниел, параноик?» — пытается докричаться мой двойник сквозь стук сердца. Стук слышен отчетливо, будто он снаружи, а не внутри меня.
«Потому что она нравится ему, это же очевидно», — отвечаю ему тихо.
«Просто подойди и посмотри», — говорит двойник.
«Не могу. Пусть она еще немного побудет моей. Хоть минуту».
«Придурок! Если она сейчас с кем-то, она уже не твоя!»
«Моя. До тех пор пока я не знаю, что она с кем-то, она моя».
Двойник, который всегда спорит со мной, презрительно исчез. Стук в ушах немного стих, я сделал осторожный шаг в сторону окна.
Канта что-то рисует. Она сидит полубоком ко мне, так что видны ее спина в белой футболке и левая половина лица. Волосы забраны в хвост, открывая идеальные ушные раковины. Иногда она привстает со стула, чтобы взять карандаш, резинку или точилку. В комнате довольно светло от свечей, стоящих в подсвечниках на подоконнике и столе. Больше всего на свете мне сейчас хочется рвануть дверь, прижать к себе Канту и никогда не отпускать. В порыве делаю шаг в сторону двери, но тут же останавливаю себя. Люк, наверное, уже ждет в пятом секторе.
Канта взяла в руку альбомный лист, на котором что-то рисовала, стряхнула его и подняла перед собой на вытянутой руке, разглядывая рисунок. Это был мой портрет, выполненный карандашом. С белого листа я улыбался Канте.
Подкативший к горлу ком стал душить. «Сделай что-нибудь. Я люблю тебя», — вспомнились слова Канты, когда мы разговаривали крайний раз.
Канта словно почувствовала что-то и повернула голову к окну. Я бросился прочь, не разбирая дороги. Она любит меня! Она ждет! Но что я должен сделать для нее? Смириться и растворить свою личность в потоке «магического» лотоса? Найти для нее на Земле место лучше Санвилля? Главное — она все еще любит меня, и я должен за нее бороться!
Люк уже дожидался меня в условленном месте. Он успел заглянуть в тайник и забрать оттуда все, что мы там прятали. Меня стали одолевать смешанные чувства. Канта ждет от меня каких-то конкретных, решительных действий, а вместо этого я собираюсь проникнуть в Страшный дом практически из любопытства, ставя под угрозу наши с ней отношения. Но отступать поздно. Я втянул в эту историю Люка, который рискует даже больше меня. Если его выдворят, он может угодить в тюрьму за свои проделки во Франции. Кроме того, я все равно пока не знаю, как вернуть Канту.
Оранжевый забор в темноте выглядит черным. Мы подобрались к тому месту, где я видел старуху, похожую на привидение.
— Я хочу, чтобы ты знал, что мы можем не ходить туда, если ты передумал, — шепчу Люку.
— Вот еще! — глаза Люка горят в темноте, в них отражается взошедшая луна.
Мы решили не лезть через высокий забор, а сделать лаз, отогнув пару досок. Доски подались, на удивление легко и бесшумно, едва только Люк надавил на них палкой, как рычагом. Видно, что дерево давно сгнило, и лишь оптимистичный оранжевый цвет скрывал возраст и трухлявость забора. Очутившись во дворе, мы на корточках двинулись в сторону белеющего двухэтажного здания через сад. Это и есть Страшный дом, которого боятся все санвилльцы. Даже в темноте заметно, что территория ухожена. Ровные дорожки вымощены плиткой из ракушечника, а кусты роз аккуратно пострижены. Справа от дома виднеется пустая беседка. Люк дергает меня за рукав:
— Мы не учли отключение света. Если здесь кто-то и живет, то наверняка спит. Даже в окнах ничего не разглядим, — шепчет он. В тот же момент на первом этаже зажегся свет. Значит, для девятого сектора делается исключение и здесь община на электричестве не экономит. Люк только округлил глаза в темноте. За горящим окном слышится шарканье чьих-то ног, легкий стук хлопающих шкафных дверец и выдвигающихся полок. Мы подобрались вплотную к окну, стараясь не попадать в лучи света.
— Том, я опять не могу найти свои лекарства, — раздался едва различимый, слабый голос из комнаты, и я узнал старуху. «Хлоя…» — шептала она, глядя на меня.
— Как всегда, мадам, в верхнем ящике комода, — мужской голос, без сомнения, принадлежит кришнаиту.
— Зачем вы их постоянно убираете? Ведь я просила держать лекарства на виду, — сказала женщина.
— Я отправляюсь к себе, мадам. Если что-то понадобится, позвоните. Утром придет Глен. Спокойной ночи, — оставив без внимания упрек по поводу лекарств, — сказал кришнаит. Хлопнула дверь с торца дома. Шаги стали удаляться в сторону забора, скрипнула калитка, звякнули ключи. Видимо, кришнаит живет рядом, но не в особняке. Мы тихо, не дыша, подошли к окну и заглянули, но в комнате никого не оказалось. Шагов тоже не слышно, на какое-то время наступила полная тишина, если не считать стрекота цикад, как вдруг за нашими спинами мелькнула белая фигура. Мы с Люком разом обернулись и едва не закричали от ужаса. Прямо перед нами стоит та самая старуха. В темноте она еще больше напоминает привидение. Развевающиеся седые волосы закрывают плечи и спину, падая на длинное белое платье, похожее на ночную сорочку. Неестественно белое лицо ее изрезано глубокими морщинами, но глаза кажутся молодыми, словно под страшной маской живет совершенно другой человек.
— Когда-то это должно было произойти, — тихо сказала старуха. — У меня не было гостей двадцать лет.
— Кто вы? — только и смог выдавить я, в ужасе вжимаясь в стену.
— Меня зовут Шанти, — прошептала старуха.
* * *
— Вы можете не переживать. До утра никто не придет, — сказала Богиня Шанти, проводив нас в одну из комнат на первом этаже. На удивление легкой походкой, слово паря над полом, она подошла к окну и зашторила тяжелые оливковые шторы.
Мы с Люком рассчитывали увидеть в Страшном доме кого угодно: умалишенных узников, старых хиппи, но только не живую богиню Шанти, памяти которой несколько десятилетий поклоняется Санвилль. Богиню земного «Рая», заменившую санвилльцам всех богов Большого мира. Никаких сомнений быть не может: перед нами Великая Мать Шанти, рукотворный образ которой мы много раз видели в Санвилле, хотя и сильно постаревшая. Единственная, плохо различимая фотография Шанти хранится в позолоченной рамке в Серебряном Эллипсе, рядом со статуей, над которой больше десяти лет трудится Ратха. Хлоя говорила, что других прижизненных фотографий богини не сохранилось. Якобы та из скромности не любила фотографироваться. Нечеткие очертания старой черно-белой фотографии, ставшей поистине бесценной для Санвилля, добавляли личности Шанти еще больше тайны. Надо отдать Ратхе должное, ей довольно точно удалось передать образ Матери.
Провалившись в массивные низкие кресла, не решаемся с Люком произнести ни звука. Краем глаза успеваю отметить обстановку в комнате, обставленной в стиле барокко: массивная и в то же время изящная мебель, сложно переплетенные орнаменты на стенах, большое количество золота, серебра и меди в отделке. Также использованы мрамор и кость, дорогие породы дерева. Все это величие и пышность никак не вяжутся с аскезой и скромностью, культивируемыми в Санвилле.
— Понимаю, вы удивлены. Не каждому удается встретиться с богиней из плоти и крови. — Шанти улыбнулась, и ее живые глаза, спрятанные под маской старости, заблестели.
— Но как? Почему? — только и смог вымолвить Люк.
— Раз вы оказались здесь, значит, пришло время хоть кому-то рассказать правду, — начала Шанти свой рассказ.
— В прошлой жизни меня звали Амели. Мне было двадцать пять, когда с компанией единомышленников мы приехали в это райское место. Было самое начало шестидесятых. Поверьте мне, лучшего десятилетия нашей планеты! Тогда нас называли хиппи. Мы хотели отличаться от всех остальных. Слушали «свою» музыку, носили «свою» одежду, которая отличала бы нас от поколения наших предков. Протест — вот что нами двигало. Протест во всем. В конце концов нам перестало хватать таких отличий. Мы захотели изменить мир, в котором родились. Переделать его. Искоренить жестокость и несправедливость. Знаете, когда тебе двадцать пять, все кажется возможным. Вначале мы выступали против вьетнамской войны, за свободную любовь и мир во всем мире. Идея альтернативных поселений уже блуждала по миру и будоражила умы. В то время это было модным. Но нам хотелось большего. Сделать мир добрее — что может быть проще? Идея Рая на Земле не казалась такой уж наивной. «Если есть Ад, например, во Вьетнаме, — рассуждали мы, — то должен быть и Рай». Мы выбрали место, наиболее соответствующее нашим представлениям о земном Рае, приехали сюда, разбили палатки и назвали свой лагерь Санвилль — город Солнца. Ведь мы считали себя детьми Солнца. Нашу идею поддержало правительство Индии, и нам разрешили остаться. Тогда это место было голой бесплодной пустошью. В первую очередь мы начали сажать зеленые растения. Мы выкапывали вместе с местными жителями ямки, учили тамильский язык. Привезенные с собой деньги быстро закончились, и мы раздавали часы, украшения и другие безделушки, привезенные с Запада, лишь бы местные жители продолжали с нами работать. Так появились первые сооружения. Мы жили в хижинах из тростника, иногда спали просто на земле, но были абсолютно счастливы. Мы верили в свою идею. Постепенно, под воздействием индуистской философии, трактатов известных мыслителей, наша затея сформировалась в собственное учение. Мы назвали это учением Санвилля, не подозревая, что породили новую догму. При этом все религии мы отвергали — слишком много крови из-за них было пролито в мире.
Все было хорошо, пока не наступил сезон дождей. Мы слышали о нем, но не представляли, что это такое. Когда круглые сутки на протяжении месяцев на тебя льет вода, становится невыносимо. Наши хижины не были рассчитаны на ливни, и пришлось их укреплять, но это все равно не спасало. Так уехали первые разочаровавшиеся. Остались наиболее стойкие — альтруисты, одержимые идеей построения идеального общества, готовые терпеть голод, нестерпимую жару, тропические ливни, болезни. Кстати, мы не были привиты, и незнакомые нам до той поры заболевания уносили жизни наших товарищей. Брюшной тиф, холера, тропическая малярия… Но трудности только закалили нас. Мы поняли, что на нашей Планете даже Рай нельзя построить, не понеся потерь. Мы искренне верили, что Санвилль станет точкой нового отсчета — островком вновь возникшей жизни, который будет разрастаться и в конце концов изменит агрессивный и безумный мир, запрограммированный на самоуничтожение. У нас сформировался костяк из числа первых поселенцев. Так как идея Санвилля была моей и я оказалась активнее других, меня назначили главой общины. Со временем я взяла индийское имя — Шанти. Оно означает мир, гармонию и как нельзя лучше подходит к нашим идеалам.
Постепенно к нам стали приезжать новички со всего мира. Поначалу мы были рады всем. Но потом поняли, что среди новичков много случайных людей, обыкновенных авантюристов, лодырей и неудачников. Тогда мы стали проводить жесткий отбор.
Постепенно мы научились выращивать продукты питания, обзавелись хозяйством. В этом нам неустанно помогали местные жители. Мы принципиально отказались от денег, видя в них одно из главных зол человечества. Вновь сформированное учение мы передавали новым жителям Санвилля. — Шанти встала с кресла, подошла к темному комоду из сандалового дерева, достала оттуда небольшой альбом.
— Вот такой я была тогда, — сказала она нам с Люком. С черно-белых фотографий задорно улыбалась симпатичная девушка. Почти все фотографии были сделаны во время каких-то работ, поэтому в руках у девушки чаще всего были кирки или лопаты.
— Сейчас я выгляжу совсем старухой, а ведь мне еще нет семидесяти, — сказала Шанти. Это удивило меня, на вид ей можно дать все девяносто. Странно, что в Санвилле никому не пришло в голову подсчитать возраст Шанти. Наверное, потому, что у богов нет возраста.
— Итак, мы создали город, который должен был стать интернациональным центром планеты, городом будущего, — продолжила Шанти слегка скрипучим голосом, иногда переходя на шепот. Видно, что говорить ей приходится редко и за долгие годы одиночества голосовые связки сели без тренировки. — Желающих жить в Санвилле становилось все больше. Постепенно, с согласия властей, нам позволяли занимать все новые территории. Я мечтала, что через сорок-пятьдесят лет в Санвилле будут жить десятки, сотни тысяч человек. Что он превратится в огромный город счастья! Но через какое-то время все пошло не так…
Хлоя приехала с последней волной хиппи, лет через десять после того, как в Санвилле была построена первая хижина из тростника. Это была милая девочка из Канады. Ей было двадцать с небольшим. В Монреале Хлоя работала продавцом в женском магазине. Но себе она не могла купить там даже самую дешевую блузку. Она сразу понравилась мне своим оптимизмом, неуемной энергией и какой-то хорошей настырностью. Казалось, Хлоя никогда не устает. Ее не пугали трудности. Было сразу понятно: эта девушка знает, чего хочет. Очень скоро она стала моей правой рукой…
К тому времени у нас организовалось что-то вроде совместных предприятий с местными жителями. Мы ловили рыбу, разводили птицу, выращивали овощи, фрукты. Постепенно поняли, что производим продуктов больше, чем нам требуется. Излишки начали менять на одежду и на продукты, которые не могли производить сами. Но все-таки у нас не получалось обходиться совсем без денег, как мы ни старались. Иногда нам требовались лекарства, строительные материалы и много такого, что невозможно выменять. Тогда нам пришлось заключать договоры с местными компаниями на частичную продажу излишков, произведенных в Санвилле. Нам пришлось открыть счет в банке. Это стало началом конца…
Деньгами распоряжался Совет общины. Поначалу было решено пустить деньги на обустройство Санвилля, а излишки распределить между старейшими горожанами, которые закладывали город. Многие к тому времени состарились, и, имея деньги, они могли построить себе новые, уютные дома, чтобы достойно доживать в них свой век. Вроде почетных пенсионеров. Но строить хорошие каменные дома среди тростниковых хижин мы посчитали неправильным, чтобы не вызывать зависть остальных. Так Санвилль был поделен на секторы, и мы допустили еще одну ошибку — появились привилегированные члены общества, а значит, социальное неравенство. Разделение людей в Эллипсе по кругам священного лотоса я уже не застала. Это изобретение Хлои. — Шанти горько усмехнулась, обнажив на удивление здоровые зубы. При этом ее бледное, изрезанное глубокими морщинами, лицо, исказила боль. — Мы повторяли ошибки Большого мира одну за другой. Настолько сильным было его влияние. Жадность, честолюбие, желание выделиться, урвать кусок побольше оказались сильнее нас. Мы привезли их с собой из Большого мира как вирусы, которые поначалу дремали, а потом стали пожирать общину изнутри.
Итак, у нас появилась возможность пользоваться комфортом, благами Большого мира, которые мы когда-то презирали и от которых бежали в дикий лес. Мы вдруг поняли, что, используя дешевый труд местного населения, открывая новые и новые предприятия, можно зарабатывать неплохие деньги. Мы убеждали себя в том, что деньги нужны на благо Санвилля. В принципе так оно и было, но постепенно мы стали тратить их на себя, не посвящая в наши дела рядовых членов общины. Этот дом я построила первой, — Шанти обвела комнату рукой. — Совет общины настоял, чтобы у меня, как руководителя, был хороший дом. Тогда он находился далеко за пределами Санвилля, и никто из простых членов общины не знал, чей он. Выходные я проводила в своем особняке, отдыхая в тихой роскоши.
«Так вот куда отправляются на выходные Хлоя с Дэниелом! — подумал я. — Конечно, у них имеются где-то неподалеку такие же дома!» — сердце возбужденно забилось. То, что мы с Люком узнали, — бомба! Достаточно одной статьи, репортажа или даже небольшого ролика в Интернете, чтобы Санвилль перестал существовать! Только бы нас никто не застал здесь! Сомневаюсь, что охранники выпустят из особняка таких свидетелей.
— С каждой новой волной в Санвилль попадало все больше случайных людей, — продолжила Шанти. — Наиболее предприимчивым удавалось найти общий язык с Советом общины. Некоторые сразу понимали, что Санвилль приносит деньги, и предлагали свои проекты. Таким разрешали открывать магазины в соседних деревнях, создавать фермы. Разумеется, большая часть прибыли уходила на счета общины. Постепенно банковские счета появились и у каждого из нас. На них начислялись так называемые бонусы. Говоря проще — мы делили прибыль. Из альтруистов мы превратились в богачей, которые ходят в Серебряный Эллипс как на работу, а по выходным купаются в роскоши в своих особняках за пределами города Солнца. Мы ведь даже не могли в полной мере насладиться своими деньгами. Мы стеснялись даже друг друга, наслаждаясь комфортом в одиночестве. Никто никого не приглашал в гости. Не исключаю, что многие покупали дорогую одежду и украшения и, попав в свои райские уголки, надевали все это лишь для себя, страдая, что никому нельзя похвастаться.
Постепенно я прозрела. Наступили разочарование и отчаяние. Так дальше продолжаться не могло. Мысль о том, что вся моя жизнь пройдет зря, не давала покоя. Она жгла меня, как кислота. Те идеалы, ради которых многие мои товарищи отдали свои жизни, были преданы. В том числе и мною. Мое прозрение было горьким, но решительным. Я выступила на закрытом Совете общины, где были только самые привилегированные члены. Моя речь была чем-то вроде подведения итогов жизни моей и Санвилля. Это было раскаяние. Я умоляла их посмотреть на себя со стороны и ответить на вопрос — зачем мы здесь? Я просила их вернуться к прежним целям. Ведь, по сути, наши идеалы продолжали действовать только для рядовых членов общины, которые давно превратились в наших рабов, работая за миску риса и сказку, рассказанную в Серебряном Эллипсе. Хлоя к тому времени из милой девочки превратилась в жесткого управленца. Она уже имела большой авторитет в общине. Я надеялась на ее помощь, потому что очень доверяла ей. Ведь я ее практически вырастила здесь. Тем больнее было ее предательство. Хлое удалось убедить Совет общины, что я сошла с ума. Ее охотно поддержали, ведь никто не хотел расставаться с богатством и комфортной жизнью. Чтобы не развеивать миф, меня объявили неожиданно скончавшейся от лихорадки, сделали Богиней и навсегда закрыли в моем особняке. Дом, который дарил мне минуты комфортного уединения, стал моей тюрьмой. Теперь я была обречена жить до конца дней среди проклятой роскоши, которая одним видом стала убивать меня, напоминая о моем предательстве и бесполезно потраченных годах.
Они сожгли чье-то тело, завернутое в саван так, чтобы лицо было закрыто. Думаю, тело несчастной было куплено у индийских родственников-бедняков или она была одинокой. Так или иначе, прах усопшей был выдан за мой и развеян над Санвиллем. Так я стала Великой Матерью Шанти, — женщина закончила свой рассказ. Видно, как тяжело ей далась эта исповедь и как легко стало у нее на душе теперь. Шанти протяжно выдохнула, прикрыла глаза и замолчала.
— Но почему вы молчали столько лет? — спросил Люк. — Ведь ночью вас никто не охраняет. Почему бы вам не пойти и не рассказать обо всем?
Шанти приоткрыла глаза:
— Им было бы проще убить меня, но это означало бы полный отказ от всех принципов Санвилля, а Хлое нужны рычаги для управления верхушкой. Да и не убийца она все-таки. Поначалу я пыталась вырваться, и меня охраняли очень строго. Было даже несколько побегов. Правда, безуспешных. Каждый раз мне не удавалось пройти дальше оранжевого забора. Но с каждым годом мне все меньше хотелось на свободу. Я понимала, что вспять уже ничего не повернуть. Санвилль обречен. А у меня нет ничего, кроме Санвилля, и никогда не будет. Разрушив его, я разрушу не только свою жизнь. И я решила оставить все как есть. Те, кто посвятил Санвиллю всю свою жизнь, имеют право на веру в него. Я не смею отнимать ее ради этой Новой Веры. Они многое вынесли. Ведь здесь на самом деле много достойных людей, искренне верящих в идеалы нового общества. Вот только рыба, как известно, всегда гниет с головы…
Да, можно было бы устроить переворот, революцию в этом «Раю». Но я подумала, что карьера Богини — не так уж и плохо, в конце концов. Согласитесь, не каждому такое выпадает. Я не тщеславна, но лучше навсегда остаться в памяти людей Великой Матерью Шанти, чем раскаявшейся старухой, зря потратившей свою жизнь. — Шанти снова слабо улыбнулась.
— Но зачем вы рассказали все нам? Ведь мы можем открыть эту тайну остальным! — не удержался Люк.
— Это мое маленькое искупление вины. Я обязана оставить возможность для другого хода здешней истории. Мне тяжело одной нести эту ношу, и я перекладываю ее на вас. Раз судьба привела вас в это место в это время, вы и решайте, как быть. Рассказать все сейчас, позже или не рассказать никогда. Но мне легче будет проститься с этим миром, сознавая, что кто-то еще, помимо людей из первого круга лотоса, знает правду. Если ей суждено стать известной — она станет известна благодаря вам или как-то еще, — Шанти продолжает говорить, глядя перед собой в черное, холодное чрево камина, в котором давно не разжигали огонь:
— Все не так, как кажется. Если бы у меня была возможность обратиться ко всем людям Планеты, я бы им сказала: не ищите Рая на Земле. Такого места нет. Я искала. Искренне и честно искала, но так и не нашла. Рай должен быть в вашей душе. И никакой луч, уходящий от «магического» лотоса в Космос, не поднимет ваше сознание. Только вы сами. К сожалению, эту истину я поняла слишком поздно. Все определяют наши поступки. От трудностей невозможно убежать. Их можно только преодолеть. Каждый на своем месте создает свой Ад и свой Рай. Каждый должен решить, на какой он стороне. Посмотреть на себя… знаете, как из Космоса?
Мы с Люком переглянулись.
— Знаем, — ответил я. — Мы понимаем, о чем вы. — Глазами инопланетян?
— Да, можно и так сказать, — Шанти улыбнулась. — Нельзя найти благословенное место, пока ты внутри не благословен. Многие и в Раю бы искали, что украсть или на ком нажиться. Им и там было бы плохо. Мучились бы. В Рай попадают чистые душой. А для чистых душой — везде Рай. В Санвилле мы пренебрегли известными заповедями, выстраданными людьми до нас. И попали в ловушку собственного эгоизма. Хотя цели изначально были благими.
Ночь за окном стала бледнеть, и мы с Люком забеспокоились. Надо успеть вернуться до рассвета в свой сектор.
— За двадцать лет вы первые, с кем я говорю, не считая Тома и Глена, моих охранников и помощников. Очень редко заходят Хлоя с Дэниелом. Дэниел — единственный посвященный из молодого поколения. Это благодаря симпатии к нему со стороны Хлои, — сказала Шанти. — Ваш визит для меня — настоящий подарок. А теперь идите. Я очень устала. Вот возьмите, — она протянула большой белый конверт. — Это на случай, если все-таки решите рассказать правду.
В конверте оказались несколько ее фотографий в разные периоды жизни, фотографии Хлои и письмо, которое Шанти, судя по всему, написала много лет назад. Оно начиналось словами: «Если бы я могла обратиться ко всем людям Планеты…» и заканчивалось подписью: «Ваша Амели (Шанти). Девочка, когда-то мечтавшая изменить мир…»
* * *
Хлоя выслушала меня молча, ни разу не перебив. Утопая в огромном, белом кожаном кресле, как в облаке, она смотрит на разложенные перед ней на журнальном столике фотографии. Рядом с Шанти Хлоя выглядит ребенком — улыбчивая девочка с легкомысленными косичками. Возможно, сейчас Хлоя вспоминает те дни. Проматывая в памяти день за днем, год за годом. До момента, когда она предала Шанти. Наверняка это были лучшие годы ее жизни хотя бы потому, что тогда она была молода и честна сама с собой. Все, что у нее было, — это молодость и энергия, которые она отдала Санвиллю.
Пытаюсь понять, что она чувствует, но глаза Хлои ничего не выражают. Лишь редко и медленно моргают за толстыми линзами очков. Сейчас она снова похожа на рептилию — застывшего старого варана, облизывающего пересохший рот. Кажется, ей безразлично все, что рассказали мы с Люком. Но я понимаю, какая пружина взвелась внутри этого сухого, как обожженная щепка, тела.
Впервые я увидел в глазах Хлои растерянность и страх сегодня, когда мы с Люком вошли в шикарный трехэтажный особняк из белого камня, с терракотовой черепичной крышей. Мы обнаружили целый коттеджный поселок, о существовании которого раньше даже не подозревали, в десяти километрах вдоль побережья, к юго-востоку от Санвилля. Здесь были отстроены дома людей первого круга «магического» лотоса, верхушки общины. Сюда нас привел скутер Дэниела, за которым мы с Люком проследили на велосипедах от самого Санвилля. Дом Хлои утопал в зелени, в голубых кустарниках куринджи, розах, жасмине и гибискусе. Снаружи дом был огорожен кованой черной решеткой. В глубине сада, в тени деревьев, располагался огромный бассейн. Старенький скутер Хлои был прислонен к решетке рядом с железной калиткой.
Письмо, написанное рукой Шанти, я показал Хлое с Дэниелом и зачитал, но не дал в руки. Кроме того, показал видеозапись с мобильного телефона, который прихватил с собой минувшей ночью на всякий случай и использовал в качестве камеры. Мобильной связи в Санвилле нет, но я не смог не записать откровения Шанти во время нашего ночного визита, почти машинально нажав на REC.
Глаза Дэниела превратились в раскаленные угли. Он смотрит на меня с ненавистью, готовый наброситься. Я даже хочу этого, потому что тогда у меня будет повод врезать ему кулаком прямо в подбородок, в дурацкую эспаньолку. Но сейчас Дэниел не знает, что ему делать, этот мерзкий альфонс, живущий со старухой. Все свои блага он заполучил самым легким и гнусным способом, соблазнив пожилую женщину, сходящую с ума от одиночества. Сражаясь с любыми «пережитками» Большого мира, Хлоя объявила войну и любви, без которой погибала сама. Ее тело без мужских ласк состарилось раньше времени, кожа высохла, но душа так и не смогла зачерстветь до конца. Даже самой себе Хлоя боялась признаться, что давно привязалась к Дэниелу. Она полюбила его. И оберегала этот свой Рай, как могла. Дэниел ждет реакции Хлои, не решаясь что-то предпринять. Наконец медленно, слегка растягивая слова, Хлоя сказала:
— Людям нужны мифы. Мифы — это утешение. Шанти никогда не была идеальной. Она покуривала травку и крутила романы со многими парнями. Но потом ей пришлось измениться, слишком высокой стала ответственность. Богами, конечно, не рождаются. Что же вы хотите?
— Шанти переложила ответственность за правду о Санвилле на нас, — сказал я, — мы с Люком долго размышляли, как нам поступить, и в итоге приняли решение. Мы не станем разрушать ваш мир. Этот искусственный «Рай» для избранных. Наверное, это действительно было бы слишком жестоко по отношению к тем, кто искренне верит в Санвилль и посвятил всю жизнь поискам земного Рая. Возможно, многие из них даже рады обманываться. Но вы должны понять, как у меня чешутся руки. Для журналиста такой материал — сенсация, бомба! О подобном даже мечтать нельзя! Мне нелегко побороть искушение разнести здесь все в клочья одним репортажем. Раньше я так бы и поступил, не колеблясь ни секунды. Но нас с вами привела в это место одна и та же цель. Раньше или позднее, разными путями, но мы оказались здесь. И не мне рушить то, что не создавал. Тем не менее у нас с Люком несколько условий.
Хлоя кивнула.
— Вы сами расскажете все Канте. Более того, она должна увидеться с Шанти. Я хочу, чтобы они поговорили, — сказал я, рассчитывая, что вскрывшийся чудовищный обман повлияет на отношение Канты к Санвиллю.
— Это все условия? — Дэниел нервно дернулся на кресле. — Тебе не кажется, что ты слишком много хочешь и мы могли бы вообще не выпустить вас даже из этой комнаты?
Хлоя подняла правую руку, и Дэниел смолк.
— Ты же не думаешь, что мы не подстраховались на этот случай? Кроме того, твоих охранников здесь нет, и вряд ли ты сможешь помешать нам спокойно выйти отсюда, — в тон ему ответил я. Дэниел скрипнул зубами, и я продолжил: — Следующее условие: Шанти никто не тронет. Наоборот, вы проследите, чтобы она не скучала. Пусть она общается хотя бы с кругом посвященных. Навещайте почаще свою богиню. Далее: вы улучшите рацион питания и проживания рядовых членов общины, перестанете их эксплуатировать вслепую и начнете платить деньги за работу.
— Да, а не то сами будете жрать свой рис до конца жизни в индийской тюрьме! — не удержался Люк.
— И еще. Люк останется здесь столько, сколько захочет, и за всем этим проследит. Он больше не будет работать на тяжелых работах, подберите ему место в конторе и подумайте над открытием счета в банке.
— Они издеваются над нами! — вскочил Дэниел, но Хлоя остановила его:
— Успокойся, Дэн. Мы примем их условия. На кону существование Санвилля. Микаэлю нужна только Канта. И если бы ты не положил на нее глаз, ничего этого не было бы. Вы, Люк, можете рассчитывать на самое лучшее обращение. Добро пожаловать в первый круг лотоса!
* * *
Я смотрю на себя в зеркало. Скалюсь. Трогаю клыки. Некоторые люди отбеливают свои клыки, чтобы они выглядели привлекательнее. Пытаюсь понять, как учила Шанти, на какой я стороне — добра или зла. Надуваю ноздри. Оттягиваю веко, разглядываю глазное яблоко в красных прожилках. Высовываю язык. Ловлю его за кончик и зубной щеткой счищаю белый налет. Язык вырывается, как змея, норовит ускользнуть обратно. «Все не так, как кажется», — говорила Шанти, Великая Богиня из плоти и крови. Кто мы? Мы привыкли к себе таким, поэтому воспринимаем свою телесную оболочку естественно. Могли бы мы выглядеть иначе? Наверняка. Но наше тело оптимально для жизни на этой Планете, учитывая гравитацию, силу притяжения, химический состав атмосферы. Полозов сказал — нам дано все, кроме одного — каждый должен сам сотворить свою душу. Это единственное, чего не сделал за нас Господь. Профессор и не подозревает, что давно сделал свое открытие. «Рай внутри нас», — сказала Шанти. Кстати, примерно также говорил философ и водитель Лема в Чечне. Мне жаль Полозова, открывшего формулу счастья и Ратху с ее вечной статуей. Поэта Диона и писателя Апполинария. Хочется рассказать им про Шанти, но это может их убить.
Канта подошла сзади, обняла меня. Я почувствовал ее запах. Запах моей женщины. Повернулся, поцеловал ее в губы, испачкав их зубной пастой. Прошелся по шее, добрался до мочек ушей — самых совершенных в мире раковин, похожих на морские. Она замирает каждый раз, когда я целую ее уши. Становится неподвижной, как стреноженная горная лань, а тело ее покрывается мурашками. Меня охватывает какая-то обволакивающая нежность к ней. Совсем не хочется вспоминать Чечню после всего, что нам пришлось пережить крайнее время, но я должен. Именно сейчас надо рассказать ей все про Рустама. Кем он был, как погиб. И что я находился рядом в последние минуты его жизни.
— Мне надо тебе рассказать что-то важное, — сказал я.
— Неужели это так срочно? — мурлыча, как кошка, спросила она, слегка царапая мою спину ногтями.
— Да. Прежде чем мы окончательно вернемся друг к другу, ты должна кое-что узнать.
Я рассказал ей о той ночной вылазке с разведчиками, когда был захвачен и казнен Рустам — ее сосед, который возил Канту с матерью на своей старенькой «шестерке» по Грозному. Помогал продуктами. Он задушил девушку-секретаря из соседнего подъезда вместе с ее бабкой только за то, что девушка работала на федеральную власть: печатала документы и заваривала чай. Рустам был боевиком, и ему нужен был повод, чтобы появляться перед КПП с голубыми, облупившимися воротами, дырявыми от пуль. Дожидаясь Канту с матерью, он собирал информацию. Рустам знал о готовящемся взрыве, в котором погибла мать Канты. Помог его организовать. Хотя наверняка он что-то испытывал к Канте. Было видно, она нравилась этому шестнадцатилетнему мальчишке.
Канта слушает меня, забравшись на кровать и обхватив колени руками, как обычно делает в моменты переживаний. Видно, что воспоминания о войне, погибшей матери заставляют ее страдать, переживать заново все то, от чего она бежала в Санвилль. Но я не мог не рассказать ей про Рустама. Шла война. Разведчики делали свою работу. Не его смерть мучила меня, а то, что не смог, да и не захотел этому помешать. Я чувствовал исходящую от него угрозу. Он мог расправиться с Кантой так же, как с ее подругой из соседнего подъезда. Он оказался повинен в смерти Ольги Ивановны, Лемы и около сотни других людей. Но Канта ничего об этом не знала и считала Рустама своим другом. Заботливым, молчаливым, немного хмурым соседским мальчишкой. Я не знаю, как она себя поведет. Но она должна узнать все именно сейчас, пока мы не покинули Санвилль. Ничто больше не должно стоять между нами.
Я закончил рассказывать. Теперь все зависит от Канты. Какое-то время она продолжала слегка раскачиваться на кровати, обхватив колени. Комната раскалилась от солнца, несмотря на распахнутые окна, из-за которых доносится щебетание птиц и блеяние древесных жаб:
— Ме-е-еко! Ме-е-еко!
Канта встала с кровати, подошла ко мне, посмотрела в глаза.
— Из-за него погибла мама, — сказала Канта. — И не только она. Мне не хочется больше все это вспоминать.
— Послушай, Канта, — начал было я, но она перебила.
— Называй меня Ольгой. Я вернулась.
* * *
Полозов суетится, угощая нас нарезанными фруктами с бронзового подноса эпохи Моголов. По крайней мере, так утверждает профессор, выменявший его на два блока сигарет.
— Уезжаете? — сетует Александр Дмитриевич. — Ну что же, значит, так и должно быть. Так и должно быть! — задумчиво повторяет он.
Ратха поставила пластинку, в патефоне энергично зашипел голос призрака Элвиса Пресли.
— Жаль, вы не увидите окончательный образ Великой Шанти, — скоро я закончу, — сказала Ратха.
— Скоро — это еще лет через десять? — спросил Люк.
— Не мелочись. Что такое десять лет по сравнению с вечностью? — ответила Ратха.
Ольге нелегко было пережить разочарование после разговора с Амели — Великой Шанти. Санвилль оказался пустышкой. Хлоя с Дэниелом сдержали свое обещание. А мы с Люком свое. Пусть останется здесь этот искусственный Рай с его иллюзорным миром, собравшим отчаявшихся из разных мест Планеты. Люк сказал мне, что поживет в Санвилле, пока не улягутся его дела во Франции. Мне кажется, он запал на Ратху. Да и он ей нравится, это давно заметно.
Океан штормит. Появились облака, напомнившие о приближающейся осени и сезоне дождей. Мы с Ольгой пришли проститься с нашим пляжем, где любили купаться и лежать на теплом песке в тени пальм. Брызги волн долетают до нас мелкими, солеными каплями.
— А Бог есть? — спросила Ольга.
— Конечно, — ответил я.
— А если он просто легенда, как и Шанти?
— Нет, он есть. Он везде. Среди нас и в нас. Бог, Высший Разум, Космос. Должен же кто-то за всем этим следить.
— За нами?
— За нами.
— А за инопланетянами?
— И за ними тоже.
— А если мы просто компьютерная программа высших существ, биороботы, участники космического реалити-шоу или чей-то сон? Что, если мы и правда аватары разумных осьминогов или облаков, которые просто играют нами? — не унимается Ольга.
— Это не важно. Ведь мы не можем проткнуть булавкой черную материю Космоса и заглянуть за кулисы этого спектакля. Всему свое время… Гораздо важнее то, о чем говорила Шанти, — заглянуть в себя. Посмотреть со стороны.
— Глазами инопланетянина?
— Глазами инопланетянина.
Неожиданно прямо над нами возникла летающая «гантель». Совсем такая, какую я видел в детстве, только шары по краям — оранжевый и фиолетовый — поменьше, но зато горят они ярче. «Гантель» зависла над нами, и в отражении оранжевого шара мы с Ольгой увидели себя.
— Я думала, ты врал мне, — сказала она, прижимаясь.
«Гантель» изучала нас минуту, мигая шарами. Затем сделала кувырок, взмыла вверх, пробив облако, и точкой растворилась в небе. Подул легкий, теплый ветер.
— Я хочу домой, — сказала Ольга.
— Такси уже едет, — сказал я, нащупывая в кармане брюк два билета на самолет до Москвы.
— Как думаешь, он найдет его? — спросила Ольга, погладив свой живот, в котором теплится новая жизнь. Наш с ней малыш, будущий землянин.
— Что?
— Найдет он свой Рай?
— Обязательно. Мы же с тобой нашли, — я обнял ее и поцеловал.
По небу плывут облака. Одно из них белое, сияющее, подсвеченное радугой. Другое — черное, грозовое. Снова подул ветер, облака перемешались, и стало сложно отличить одно от другого.
Михаил Крикуненко,
Москва (2013)
Примечания
1
«Всё, что мы говорим, — это «Дайте миру шанс» — из песни Дж. Леннона Give рeace а сhance, 1969 г.
(обратно)2
Б.Л. Пастернак. «Не волнуйся, не плачь, не труди…» 1931 г.
(обратно)


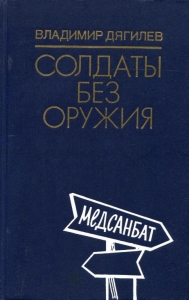



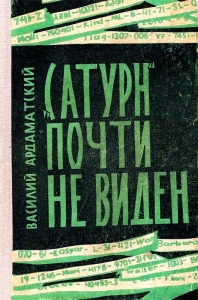


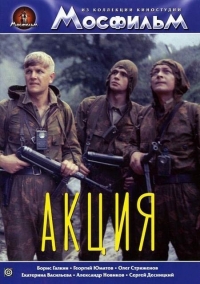

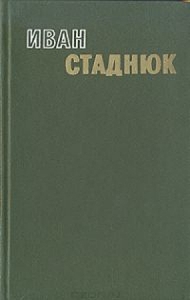
Комментарии к книге «Планета Райад. Минута ненависти или 60 секунд счастья», Михаил Николаевич Крикуненко
Всего 0 комментариев