Хаим Саббато Выверить прицел
Предисловие к русскому изданию
Я был юношей, веселым и простодушным, не ведавшим горя и печали. Любил мир и к миру стремился, прилежно изучал Тору в Доме Учения. Но однажды покаянные молитвы Судного Дня в йешиве были прерваны звуком сирены, и с тех пор весь мой мир изменился. Выйдя из Дома Учения, мы в ту же ночь на танках отправились на страшную войну Судного Дня. Близкие друзья, мы знали поименно экипаж каждого танка.
На Голанских высотах шла беспощадная битва, танки взрывались один за другим. Повсюду сполохи огня и объятые пламенем солдаты, выпрыгивающие из танков. Сирийцы продвинулись в предгорья Голан. Мы знали — кроме нас, некому их остановить, за нами нет никого. Мы знали — Земля Израиля в великой опасности. Под угрозой само её существование, вековечная мечта еврейского народа об Избавлении. Страх объял наши сердца.
В те дни я познал боль, горе и одиночество; но, выпрыгивая из горящего танка, скрываясь от сирийских солдат, я познал любовь к ближнему, понял, что такое отвага и подвиг. Я видел парней, преисполненных преданности и любви к своему народу и своей земле, видел офицеров, под шквальным огнем выносящих товарищей на своих плечах. В тот час я понял: мы победим, такой народ не может не победить. Лишь тогда открыл я для себя молитву, научился вере, заполняющей сердце без остатка, и воззвал к Богу из глубины сердца. Тогда я потерял Дова — любимого друга, с которым мы не расставались пятнадцать лет.
Я знал — мне никогда уже не стать прежним. Я знал — иногда милосердие небес бывает беспричинным даром, это долг, который необходимо вернуть. Двадцать пять лет, днями и ночами, стояли эти картины у меня перед глазами, пока однажды поток слез не вырвался из глубины сердца. Слезы эти обернулись чернилами, чернила — словами, а слова сложились в повествование. Для того, кто сумеет прочесть его с чистым сердцем, чернила эти снова станут слезами.
Этот рассказ — попытка выверить гармонию мыслей и чувств, веры и видения мира, гармонию многотысячелетней еврейской истории и обновляющегося Государства Израиль.
Перед вами рассказ об израильской культуре и еврейском мировосприятии, рассказ о молитве и вере, о дружбе и братской любви, о страхе и надежде, и, что особенно важно — это рассказ, идущий от самого сердца. Такова эта еврейская и израильская книга, которую я дарю вам, мои русскоязычные братья, с великой любовью.
Йонатан Баси и Нога Гиль «ВЫВЕРИТЬ ПРИЦЕЛ» Интервью с Хаимом Саббато (В сокращении)
— Присуждение премии им. Сапира сделало вашу книгу известной широкому кругу людей. Как отнеслись к ней читатели?
— Многие не понимают ее, и мне трудно это объяснить. Задают вопрос: «Как вы создавали свои образы?» Но я их не создавал. Я описал главу из своей жизни, какой она была… Если жизнь насыщена духовными переживаниями, богата чувствами и если есть способность выразить эти богатства языковыми средствами — тогда рождается книга.
— Вы писатель и вместе с тем — рав йешивы. Совместимо ли это?
— Моя писательская деятельность неразрывно связана с преподаванием в йешиве. Я не берусь никого воспитывать и вести учеников в определенном, выбранном мною направлении ни в своих лекциях, ни в воспитательной работе. Не считаю себя вправе, сохрани Бог, формировать чью-то личность, направлять кого-то. Я лишь показываю, предоставляя слушателям свободу выбора. Процесс написания книги похож на мою преподавательскую работу. Просто поразительно, как мы подчас бываем ограниченны, а ведь в Торе, в высказываниях наших мудрецов, в мидрашах, в комментариях, в литургической поэзии, как в сокровищнице, кроются колоссальные богатства. Я считаю, что каждый урок должен открывать ученикам нечто новое; если урок прошел, а такого не случилось, я переживаю это как неудачу. Но если во время урока, после того как я прочту три строки из Йегуды Галеви, один из учеников скажет: «Я хотел бы знать, что там написано дальше», — с меня довольно. Это означает, что я сумел сделать свое дело: приоткрыл ему окно в мир. Мои ученики знакомятся с Йегудой Галеви, с Ибн-Гвиролем и другими поэтами. И это, по моему мнению, самый верный путь воспитания.
— В вашей книге нередко чувствуется скептицизм, к примеру в сцене на автобусной станции в Иерусалиме, где старик, тряся кружкой для подаяния, твердит: «Подаяние спасает от смерти»…
— Скептицизм не в моем характере. Я задаю вопросы. Неужели кто-то всерьез полагает, что вера — это нечто спокойное и незыблемое? У людей неверующих, возможно, именно такое представление о вере. Но нам-то известно, что это не так. Каждый, кто знаком с Писанием, знает: оно наполнено вопросами. Вера — это диалог с Творцом.
Тот, кто читал мою книгу, понимает, что все поднятые в ней вопросы возникают именно у человека верующего, а не у того, кто мечется между верой и неверием. Фальшь здесь невозможна. Сказано в Талмуде: «Да не будет человек дерзок по отношению к Небу». Дерзость и непростые вопросы, которыми порой задается верующий, — это разные вещи. Танах с первой главы и до последней перенасыщен вопросами. И это конечно же составляющая часть веры. Один из величайших еврейских мыслителей современности, рабби Исраэль Дов Соловейчик, определяет верующего человека как внутренне глубоко встревоженного. Я же человек скорее спокойный, мягкий, но и для меня вера часто сопряжена с тревожным состоянием души.
— В книге мы встречаем многих светских героев. Вы относитесь к ним с большим уважением, ваша оценка этих людей очень высока. Каким представляется вам на войне человек светский по сравнению с человеком религиозным?
— Прежде всего, я благодарен за этот вопрос, потому что, к моему сожалению, один критик написал, что я поднимаю на щит «светский» подход к миру. На самом деле я отношусь к каждому человеку как к личности, заслуживающей интереса и уважения. Такому пониманию любви к ближнему я научился в нашем Доме Учения и считаю его правильным. В действительности все так и обстояло; в нашей военной части установились очень сердечные отношения между людьми. Глубоким чувством товарищества и душевной прямотой были наделены и те, кто не исполнял заповедей. Каждого человека следует принимать таким, каков он есть, со всеми его особенностями, и учиться у него. Это верно для всех — евреев и неевреев. Я видел людей в тяжелые часы. Когда, к примеру, командир роты бегал под огнем, подбирая раненых, и втаскивал их в свой танк, нисколько не заботясь при этом о собственной жизни.
— Гиди, командир вашего танка, как он относился к тому, что слышал по внутренней связи ваши разговоры о Маймониде?
— С ним произошла метаморфоза. Вначале он просто не мог поверить, что мы, к примеру, серьезно относимся к ритуальному омовению рук. Однако в ходе войны, когда он понял, что мы действительно верим в то, что делаем, его отношение к нам изменилось в корне. Подобное происходило в течение всей моей воинской службы. Я чувствовал это. Когда командир видит, что ты искренне веришь, он начинает понимать и уважать тебя. Я считаю, что, в сущности, именно это и есть ключ к решению тех проблем, которые сегодня раздирают Израиль. Каждый должен спросить себя, искренен ли он, говорит ли он правду и говорит ли вправду то, что думает. Я не раз убеждался в том, что, когда человек говорит правду, даже если ему приходится платить за нее немалую цену, — это, в конце концов, приносит свои плоды.
Умение отличать подлинник от подделки — вещь чрезвычайно важная. И в литературе, и в воспитании, и в жизни.
Я очень стараюсь привить это умение своим ученикам. Если хотя бы в одной фразе чувствуется фальшь, вся книга, по-моему, ничего не стоит. Первый экзамен, который держит литература, — экзамен на подлинность. Я рад, что среди претензий, которые критики предъявили к моей книге, не было упрека в неискренности. То, что идет от сердца, находит путь к сердцу ближнего. И в воспитании тоже. Есть в душе ученика как бы особо чувствительный прибор, способный уловить малейшую неискренность. Даже если ты кривишь душой ради высокой воспитательной цели, ты разрушаешь сам процесс воспитания. И можешь быть уверен — в глубине души ученики это отметили.
— Bы неоднократно высказываете в книге опасение, что вам могут не поверить. Например, там, где вы показываете местоположение танка Авиу и находите его бинокль. Среди слушающих оказывается его сестра. Это произошло на самом деле?
— Да.
— От этого рассказа мороз проходит по коже. Но он свидетельствует и о вашей визуальной памяти.
— Тот, кто был там, — ничего не забыл и не забудет. Пейзаж. Запахи. Друзей.
— Вы получали отклики от людей, которых упоминаете в книге?
— Да! Но дело не только в этом. Книга вызвала шквал эмоций в людях, которые вместе воевали. Они уже не надеялись, что кто-то вспомнит, расскажет о них. Меня обнимали и командир роты, и командир батальона, и солдаты. Наконец кто-то рассказал о нас, говорили они, о нашем командире полка, как он переходил с танка на танк и объяснял каждому лично, что ему предстоит делать во время боя; как раздавал кусочки шоколада…
«Народ Израиля надеется на вас», — с этими словами он отправлял нас в бой. Надо понимать: травмирует не только то, что ты пережил во время войны нечто ужасное, но и то, что некому разделить с тобой прошлое, и сам ты не можешь приобщить к нему других. Солдаты-йешиботники, которые воевали вместе со мной, внесли одно существенное добавление: «Когда мы говорим, что и там продолжали верить в Бога, никто нам не верит». Да и я слышу от людей неверующих: «Ты, вероятно, несколько преувеличил, приукрасил немного, так не могло быть!» И я отвечаю: «Со мной вместе служили десятки, десятки парней из йешив. Свяжитесь с ними! Спросите, что они чувствовали, и тогда узнаете, правда это или неправда». Большинство подходит к этому вопросу предвзято, будучи заранее убежденными: ужасы войны разрушают веру. Но все обстояло совсем не так.
Когда я закончил книгу и понял, что она получилась, я был счастлив. Счастлив, что мне удалось перенести на бумагу взятые из жизни события, в которые трудно поверить.
— Как читают вашу книгу люди не религиозные? Ведь она насыщена цитатами из Писания, мидрашами, талмудическими историями. Было полной неожиданностью, что вам присудили премию имени Сапира. Это говорит о том, что ваша книга произвела сильное впечатление на светскую часть общества.
— К моему большому сожалению, существует культурный барьер между религиозными и светскими израильтянами. Есть немало людей, которым моя книга могла бы понравиться, если бы не нынешний разлом культур, препятствующий этому. В связи с этим хочу отметить следующее:
Первое. Среди «светских» людей немало тех, кто знаком с Писанием и не слишком оторвался от своих корней.
Второе. Творчество Шекспира и Мольера, возросшее на почве английских и французских реалий, впитало в себя всё богатство национального бытия. Нам обычно пеняют на то, что мы читаем Шекспира на иврите; в переводе, мол, неизбежно теряются многие тонкости и красоты языка. Это в самом деле так, и все же подлинное переживание преодолевает языковой барьер. После того как вышла моя книга, мне позвонила бывший министр культуры, весьма антирелигиозно настроенная женщина, и говорила со мной долго и с большим волнением. Очень много положительных отзывов было о языке, что свидетельствует об уважении к ивриту.
— Большинство пишущих людей рассказывают о моментах душевного надлома. Вы тоже об этом пишете.
— Верно. Можно писать и об этом. Но я пишу и о том, что такое молитва, как держать ответ перед Богом, что есть Вера. Я думаю, что если мир религиозного человека глубок, то и написанное им будет глубоким.
— Творчество и галаха: к вопросу о границах противостояния.
— Я, прежде всего, человек галахи и считаю ее важнейшим институтом сохранения особых свойств, характера, а также культуры еврейского народа. Описывая мир чувств, я никогда не преступлю предписаний галахи. Если между ними возникнет противоречие, галаха для меня важнее. Это ответ раввина. Писательский же ответ такой: поскольку мой религиозный мир подлинный, искренний, такой проблемы просто не возникает. Наиболее яркий пример тому вопросы нравственности. Дело, на мой взгляд, обстоит в принципе так: если тебе хочется что-то рассказать или поговорить о чем-то, а галаха тебя ограничивает в обнажении этого «чего-то», то право на ее стороне. Но на более глубоком уровне все несколько сложнее. У человека, для которого галаха является органичной частью внутреннего мира, а не формальной обязанностью, просто не возникнет внутреннего противоречия между одним и другим. Такой человек сам живет скромной и сдержанной жизнью, и галахические предписания ему не просто понятны, они являются частью его личности. Ведь галаха существует не для того, чтобы наложить на нас оковы, но чтобы помочь нам и поддержать нас. Именно законы, регламентирующие нравственное поведение, призваны помочь нам в тяжелых ситуациях. Я считаю непозволительным преступать их границы — ни ради искусства и литературы, ни ради кино. Моё мнение по этому вопросу однозначно.
— Но впечатление такое, что многие религиозные люди, занятые в творческой сфере, так не считают…
— Поэтому я и не принадлежу к ним.
Даже находясь внутри мира йешив, следует остерегаться подражания. Одно из самых отрицательных явлений в мире искусства — подражательность. Есть учащиеся, у которых порыв к творчеству идет изнутри, и ты это чувствуешь. Другие же пишут, и это ты чувствуешь тоже, потому лишь, что это дань моде. Сочиняют стихотворение, чтобы повысить свой статус в глазах товарищей. Я всегда говорю им: ты должен быть собой, и только собой.
— С вашего позволения, я хочу перейти к самой книге. В интервью с вами, которые я читал до сих пор, не уделяется достаточного внимания внутреннему напряжению, которое в ней есть. Ваш рассказ начинается с благословения луны на исходе Судного Дня в начале войны, затем вы описываете благословение месяц спустя, по прибытии героя домой в первый отпуск, и заканчиваете тем же благословением еще через два месяца.
— Ключом является обещание Бога Яакову, что не будет ему ущерба ни в чем, не будет причинено никакого вреда. Что значит «обещано ему»? В чем глубинный смысл благословения амшиновского ребе на исходе Судного Дня? Соотношение между обетованиями и действительностью есть, в сущности, один из центральных мотивов книги. Второй мотив, понятно, выражен в словах «Мир вам!», словах особо значимых, которые произносятся в благословении луны трижды. Это и жажда мира, и желание оградить вас от всякого зла. Третья линия — суть этого благословения. Наши отцы считали, что умаление, сокрытие луны и последующее ее возрождение символизируют судьбу народа Израиля: из глубочайшего падения он возрождается снова. И Война Судного Дня осмысляется в книге в этом аспекте.
— О вашей встрече с амшиновским ребе и о его не осуществившемся благословении. Вопрос: как вы относитесь к молитве, которая остается без ответа?
— Да, это центральный вопрос книги. Я хочу отметить одну важную вещь: я пишу роман, а не теологический трактат или труд по философии. В нем я описываю жизнь человека. А жизнь человека сложна. Есть в ней то, чему ты можешь дать объяснение, и то, чему объяснения нет. Я не ухожу от ответа, но и не говорю, что он у меня есть. Все это переплетено, как и все события человеческой жизни. Книга пишется не для того, чтобы давать ответы. В ней описаны движения души и мыслей. Я помню, что в юности прочел очень интересную статью об «Отелло». Одна из загадок в творчестве Шекспира — это внутренняя противоречивость образа Отелло. Кто он — жестокий насильник или мягкий человек? Тот критик написал поразившую меня вещь — что Шекспир вовсе не строил образы своих героев, он их отображал. Если ты создаешь какой-то образ, то возражение по поводу его противоречивости уместно. Но если ты лишь отражаешь существующее в жизни, то ведь жизнь сама полна противоречий.
В своей книге я старался по возможности точно передать свои переживания. Я чувствовал, что мне было дано благословение, и отнесся к этому серьезно, стараясь постичь его смысл. Так же серьезно, как я отношусь к высказываниям наших учителей. Я чувствовал, что вижу реальность определенным образом, мысли об этом вертелись у меня в голове и не давали покоя, и тогда я перенёс их на бумагу. И теперь каждый может толковать затронутые мною вопросы в соответствии со своим пониманием и взглядами. Я никому не навязываю свой образ мыслей.
— Изменилось ли ваше отношение к благословению ребе?
— И до гибели Дова я никогда не рассматривал благословение с точки зрения «сбудется-не сбудется», а только: что оно означает для меня. Что сделаю я с этим благословением и как мне следует его понимать. И что я почувствую, когда увижу его результат. Но если вы думаете, что, получив благословение, я уверился в своей неуязвимости, то вы ошибаетесь. Это не в характере моей личности. Личность человека сложна, и рассказ о ней сложен.
— Это приводит нас к центральной теме повествования: к вопросу о роли Провидения в жизни отдельного человека. Вы предстаете перед читателем как человек, разделяющий взгляды Маймонида, в основе которых — представление о вознаграждении и наказании. В то же время очевидно, что вы постоянно мучаетесь вопросом: почему я удостоился остаться в живых, а Дов — нет. Как вы сами себе отвечаете на этот вопрос?
— Моя любовь к Маймониду проистекает не только оттого, что я преподаю в йешиве, которой руководит его последователь и в которой преподает такой исследователь Маймонида, как рав Шилат, но и из обстоятельств моего детства. Мой дед, благословенна память его, знал наизусть, по-арабски, почти все написанное Маймонидом. Да и не только дед. Евреи Халеба (а там мои корни) относятся к Маймониду с большим пиететом. Вместе с этим в них, как и в моем деде, уживалось ощущение связи рационалистической философии Маймонида с мистикой Ари, лурианской каббалой. И эта двойственность всегда привлекала меня. В постоянных занятиях деда философией, Маймонидом, Аристотелем всегда присутствовал самый строгий рациональный подход. Помню, когда он был уже стар, он сказал мне нечто, сильно на меня повлиявшее. Он сказал: «Видишь ли, ко мне всегда обращались с вопросами о Вере и Провидении, и когда я был молод, то, отвечая, всегда ссылался на Маймонида. А сегодня я уже не могу сказать тебе то же самое, потому что ощущаю Веру». Эту беседу с ним я запомнил очень хорошо. Это и есть ответ на ваш вопрос. Маймонид говорит, что, когда человек всем сердцем своим прилепляется к Господу, — это и означает, что Провидение с ним. В сущности, этот ответ уводит нас в иное измерение. Истинным ответом на этот вопрос является сама постановка такого вопроса. Однозначного ответа на него у меня нет. С этим вопросом я живу. Переживаю его в гораздо более острой форме, чем это представлено в книге. Там, в конце, я намекаю на возможность другого ответа. Что иногда Господь, благословен Он, дарует милость тому, кто ее недостоин, и это — долг, который человек должен оплатить. Этот ответ относится совсем к другой категории, к другому миру и лежит совсем в иной плоскости.
— По сути, это уже ответ из области воспитания.
— Это один из ответов, какими я руководствуюсь в жизни. Очень может быть, что иногда человек остается в живых не по причине, которую приводит Рамбам, а по милости Божьей, и он должен перевести это на язык действия, понять, какой долг на него возложен милостью Божьей. Если вы спросите меня, какой ответ я предлагаю в своей книге, на это ответит моя жизнь. Эта книга ее результат. В ней нет ни единого слова, которое я написал бы с целью достичь чего-то. Она — квинтэссенция моей жизни. Я живу с чувством, что на мне долг, что я получил незаслуженный дар.
Ав-утешитель, 5760 г. (август 2000 г.)
АЛЕФ
Луна сияла во всей своей чистоте. Даже легкое облачко её не затуманивало. Тихо ждала она, пока придут сыны Израиля и благословят ее. Так невеста ждет жениха, чтобы пришел и опустил ей на лицо фату перед тем, как поведет под хупу[1]. Рассказывают, что однажды обратилась луна к Творцу с такими словами: «Не могут два царя пользоваться одним венцом». Выбранил ее Творец и повелел: «Ступай и уменьшись». И подчинилась она из скромности своей[2]. И с тех пор в её свете отражается лишь кротость, и в том её очарование.
Бывает, пляшут перед ней хасиды. Парни в черных шелковых одеждах и почтенные старцы, некоторые — в белых халатах, похожих на саваны, — это чтобы помнил человек о дне смерти своей и поступал согласно словам танная Акавьи бен-Маалальэля: «Вдумайся в три вопроса, и ты избежишь греха: помни, из чего ты произошел, к чему придешь и перед Кем тебе придется держать ответ»[3]. И те и другие, в черном и белом, закрыв глаза и раскачиваясь, произносят со всей силой своей убежденности: «Подобно тому, как я пляшу перед Тобой и не могу коснуться Тебя, так пусть все враги наши не смогут коснуться нас и навредить нам. Падет на них ужас и страх»[4]. И снова: «Падет на них ужас и страх». И в третий раз: «Падет на них ужас и страх».
Только что закончился Йом-Кипур — Судный День. Таков у сынов Израиля обычай, что на исходе Судного Дня благословляют они луну, и это доброе начало для Израиля. Добрый знак в том, что поспешают они с исполнением заповедей и после того, как были прощены им грехи, чтобы не сбил их с пути лукавый, завидующий их чистоте. Но не только в этом причина. Благословение луны — это торжество встречи с Божественным присутствием в мире, с Шхиной. Сказали мудрецы: если бы только единожды в месяц удостаивались сыны Израиля встречи со своим небесным Отцом, было бы с них довольно. Потому и произносят благословение луны стоя. Только в радости пребывает Шхина, и радость эта проистекает из чистоты. На исходе Судного Дня сыны Израиля чисты, весь день провели они в молитве и каялись в грехах, и постились, и воздерживались от мирских удовольствий, и отдалились от материальности, и уподобились ангелам, и прощены были на небесах. И было возвещено им: «Иди и вкушай в радости хлеб твой, и пей в веселии сердца вино твое, потому что приятны Господу дела твои»[5].
Чтобы не изнурять постившихся, среди которых есть и старики, и больные, и беременные женщины, почти во всех синагогах произносят вечернюю молитву арвит сразу же после того, как шофар протрубит завершение молитв Судного Дня. После вечерней молитвы и благословения луны все торопятся по домам.
И даже жители квартала Байт ва-Ган, что в Иерусалиме, большинство из которых с особым тщанием соблюдают Субботу и праздники и после появления звезд задерживаются до срока, установленного рабби Тамом[6], — даже они разошлись по домам.
Кого же еще ждет луна, кто еще придет в полуночную пору благословить ее? Хасиды из Амшинова, которые добавляют к святости от будней и продлевают молитвы святого дня, потому что не желают с ним расставаться.
Увидев танцующих хасидов, я очень обрадовался, потому что полагал, что в этом месяце мне уже не успеть благословить луну, — где найду я миньян в такой час? И еще потому обрадовался, что вспомнил сказанное нашими учителями: «Тот, кто благословляет луну с великой радостью, защищен весь месяц от любого вреда». Не успел я сказать моему другу Дову, шагавшему рядом со мной, чтобы и он подготовился к молитве, как нас окружили хасиды: «Солдаты! Солдаты! Идите к ребе, пусть благословит вас». И тут же раздвинулись в стороны, образовав как бы проход, и подвели нас к ребе, старому адмору из Амшинова, и столпились вокруг него.
Мы были молодыми солдатами, Дов и я, и легкие ранцы болтались у нас за плечами. Одновременно прибыли мы в Эрец-Исраэль — Дов из Румынии, я из Египта. Вместе ходили в талмуд-тору в Байт ва-Ган — он в черном берете, я в пестрой шапочке с козырьком, которую купила мне одна из работниц Сохнута в Милане, где мы остановились на пути в Эрец-Исраэль в ожидании ночного поезда в Геную, откуда на корабле должны были отплыть в Хайфу. Наша талмуд-тора находилась как раз там, где мы стояли сейчас, тринадцать лет спустя, в нескольких шагах от автобусов, уже ожидавших нас у призывного пункта. Еще немного — и наполнятся автобусы, назначат офицера-сопровождающего — и мы отправимся в свою часть.
Вместе учились мы в религиозной средней школе — йешиве, вместе пошли в йешиват-эсдер, вместе, на одном танке, тренировались возле Рефидим: Дов заряжающий, я — наводчик.
— Экипаж, приготовиться! Экипаж, по местам! Водитель, взять резко вправо! Кумулятивный снаряд в ствол, дистанция две тысячи, танк в прицеле, огонь! Добавить сто, огонь! Уменьшить на пятьдесят, огонь! Цель. Цель поражена. Заряжающий, разрядить орудие. Дов! Быстрее! Не спи! На войне будет не до сна!
— Есть, командир, я постараюсь.
Заряжающий разрядил орудие.
Мы с Довом вместе несли дозорную службу на крыше в Рас-Судар, на южной площадке, обращенной к морю. Была субботняя ночь. Дов заканчивал дежурство, я пришел его сменить. Ни луны, ни звезд. Всего месяц, как мы закончили курсы боевой подготовки. Каждая выскакивающая из воды рыба повергала меня в панику. Дов сказал: «Я останусь с тобой, все равно мне не уснуть. Может, споем потихоньку субботние песни или обсудим кое-что из Мишны». Я знал: он почувствовал, что мне страшно, и поэтому остался со мной.
Вместе мы участвовали в дискуссиях о Вере, Избавлении и Божественном провидении, которые велись на семинарах по вопросам науки и религии, вместе изучали трактат «Вечность Израиля» Маараля из Праги[7], вместе час назад простились с его матерью в нашем квартале Бет-Мазмиль[8], и она говорила нам: «Война, война, что вы об этом знаете? Я знаю, что такое война, — неизвестно, когда вернетесь, неизвестно, что будет»; говоря, она набивала жестяную коробку сухим печеньем и укладывала в другую коробку пироги с творогом, обернув их вощеной бумагой, чтобы сохранялись свежими. Я был знаком с ней давно.
Дов возражал ей: «Но мама! Мы не в Румынии, и это не мировая война, а короткая прогулка, мы вернемся через несколько дней». И шепотом мне: «Можно понять ее, она беспокоится, у нее вся семья погибла в войну, она одна уцелела, да и мать ведь она, но ты-то знаешь: максимум, что нас ждет, — это небольшие ротные учения на Голанах, и домой. По радио передавали, что мы готовимся к контрнаступлению, что наши летчики уже бомбили плацдармы на канале. Я только надеюсь, что к тому времени, как мы доберемся до Голан, регулярные части еще не успеют закончить всю работу, а то нам вообще повоевать не придется». Его отец, который в это время читал псалмы из маленькой книжечки и прервался, поцеловал ее и поцеловал сына.
Вместе мы ушли на войну в ночь после Судного Дня, Дов и я, вместе шагали к пункту сбора резервистов и вместе попали к адмору в тот близкий к полуночи час, когда повстречали хасидов, благословлявших луну. Хасиды сказали нам, что их адмор — чудотворец и его благословение имеет большую силу. Подталкиваемые со всех сторон, мы приблизились, стараясь лучше расслышать его слова. Адмор взял мою руку в свои ладони и, сердечно поглаживая ее, взглянул на меня и произнес: «Падет на них ужас и страх, падет на них ужас и страх — на них, но не на вас».
Мы вышли. Сели в автобус, уверенные, что через несколько дней вернемся домой. Все те страшные дни стояло передо мной лицо адмора, и слова, сказанные им, звучали в моих ушах. Всякий раз, когда меня охватывал страх, я видел перед собой его, произносящего: «На них, но не на вас», — и успокаивался.
Пока не услышал о гибели Дова. С тех пор мне больше не грезился образ старца.
Прошло много дней. Весной в месяце ийар мы отмыли танки, сдали личное снаряжение, сняли солдатскую одежду и вернулись в йешиву. Все время намеревался я пойти к адмору, рассказать, что произошло с тех пор, как он меня благословил. Решил, что расскажу ему, как в понедельник утром подбивали наши танки в каменоломнях Нафаха, как горели они один за другим, как выскочил из танка «два-бет» покрытый копотью заряжающий, в шлеме, с объятой пламенем ногой, и стал кататься по земле. И как кричал Гиди, наш командир: «Наводчик, огонь!» Я отвечал: «Но у меня не пристреляно орудие!» А командир снова: «Наводчик, огонь! Огонь! Слышишь? Не важно куда, по нам стреляют… Танк подбит… Выскакиваем!» Рони, водитель, крикнул: «Я не могу выбраться! Пушка закрывает люк!»
Я вернулся к танку, чтобы сдвинуть орудие, и мы вчетвером бежали под пулями по базальтовым террасам, и Эли стонал: «У меня больше нет сил бежать, я остаюсь здесь». Мы почти волокли его и вдруг увидели сирийских коммандос, выпрыгивающих из вертолета прямо напротив нас… И это, и еще многое расскажу я адмору, все, о чем думал и о чем молился, как звал на помощь и какие давал обеты.
И каждый раз, думая об этом, я говорил себе: «Когда я закончу свой рассказ, спросит меня адмор тихим голосом: „А товарищ твой, что был тогда с тобой в ту ночь…“ И я опущу глаза и отвечу: „Дов погиб“». Какую боль я причиню старику! И я не пошел. Вернулся к занятиям. Спустя несколько лет не выдержал: поехал-таки в Байт ва-Ган, встретил амшиновских хасидов, спросил у них о ребе. И мне ответили: «Несколько часов назад переселился адмор в мир иной».
БЕТ
На что живому человеку жаловаться? Достаточно того, что он жив.
Я вздрогнул. Чья-то рука коснулась моего плеча.
— Солдат, приехали. Солдат, ты заснул? Слышишь меня, солдат? — спрашивает водитель и слегка треплет меня по плечу.
— Да, слышу, слышу.
— Наводчик, ты меня слышишь? Проверь связь в шлеме, наводчик!
— Да, Гиди, слышу, наводчик слушает.
Сидя в мягком кресле наводчика, я вздремнул на минуту, откинувшись на спинку. Двое безумных суток без сна, одна рука на щитке, другая на прицеле, глаз распух от ударов об окуляр, который безошибочно бил по глазу всякий раз, когда танк трясло на базальтовых террасах. Гиди, командир, кричит:
— Наводчик, следи за линией хребта! Мы на войне, а не на учениях, ты слышишь меня, наводчик?
— Да, командир, слышу. Куда? Куда целиться? Извини, водитель, я слышу, конечно же слышу.
Просто вздремнул немного.
Байт ва-Ган, говоришь? Конечно, я знаю. Я здесь вырос.
Я пробудился от сладкого сна на мягком вельветовом сиденье нового «вольво». Сколько уж времени я так не спал. Великолепный тремп[9] от перекрестка Геа до перекрестка Байт ва-Ган, последнего перед домом. Взглянул на часы. Восемь вечера. Осталось еще шестнадцать часов отпуска — первого отпуска с Йом-Кипур. Не так уж плохо, в конце концов.
От Кфар-Халас, что в самом конце сирийского анклава, до Кунейтры — час. Ханан, мой новый, послевоенный ротный командир, довез меня на своем джипе прямо до центральной площади. После войны Ханану досталась особая рота в нашем полку. От заместителя командира полка он получил три танка. Один, сильно изувеченный в бою за каменоломню в Нафахе, со сбитой на сторону башней, и два танка на укороченных гусеницах, хромые. Они застряли на старом нефтепроводе: проблема с приводом. Еще один танк, бесхозный, без поворотного устройства башни, который стоял в полковой мастерской Мориса, Ханан забрал сам в дополнение к тем трем. Теперь у него было три с половиной танка. После войны — и это рота.
«Ханан! Набери себе экипажи из тех одиночек, что спаслись из подбитых танков, сколоти роту и будь ее командиром. Это то, что есть». Говорят, что именно так сказал ему командир полка. И добавил: «Мне нужна рота в боевой готовности напротив Тель-Антар. После этой войны никто не может позволить себе рисковать, кто знает, что будет. Я полагаюсь на тебя, Ханан».
В нашем батальоне пронесся слух: Ханан комплектует новую роту. Во время войны Ханан был командиром взвода. Теперь будет командиром роты. Собрались вокруг него осколки прежних экипажей. Кое-как сколотили несколько новых. Кто был танкистом — знает, что творится в сердце того, кто остался один. Он слоняется по батальону со шлемом в руке, без танка, без экипажа. Потому-то, прослышав, что Ханан комплектует роту, мы даже не стали выяснять, с кем попадем в экипаж и что за танк нам достанется, как это всегда делалось в обычные дни. Послевоенные эти дни обычными не были. Главное — не околачиваться больше в резерве, переходя с танка на танк или бегая по поручениям ротного старшины. Главное, что мы снова станем экипажем и у нас будет свой танк, со своим именем, которое мы выведем черной краской на белой джутовой ткани, прикрепив ее четырьмя веревками на заднем багажном отсеке. Наконец-то мы сможем снова передать по рации: «Прием! Слышу ясно. Прием!» «Да, 2-Бет слушает, слушает. Через две минуты прибудет командир и займется твоей проблемой. Конец приема».
У роты уже есть имя и есть командир, как в добрые старые времена перед войной. Возвращаемся к нормальной боеготовности. Рота неполная, рота израненная, со шрамами, но — рота. Ежедневный утренний профилактический техосмотр, потом устанавливаем внутриротную связь по рации. Как в любой другой роте. Как раньше. До войны.
Ханан собирал нас бережно, с большой любовью. Он знал, через что мы прошли, и понимал нас. Он тоже поднялся на Голаны на исходе Судного Дня, тоже попал в засаду у Нафаха и участвовал в прорыве на Хан-Арнабе. На редких теперь учениях Ханану не требовалось нам многое объяснять. Все командиры танков и каждый член экипажа знали, что им следует делать. Ни разу он не повысил на нас голос, лишь намекал или говорил тихо. Всегда ходил в рабочей одежде, вместе со всеми ухаживал за танками, смазывал, менял колеса. Как все, нес караульную службу. Иногда утром проходил по палаткам и будил нас легким прикосновением.
Всю дорогу до Кунейтры мы не разговаривали. Ханан — молчун. Вообще после войны мы много молчали. Он сидел за рулем, я — рядом. Только один раз, когда джип сделал резкий поворот, Ханан окликнул меня по имени и показал на русло ручья. Олеандровые заросли в цвету, до чего красиво.
Приехали в Кунейтру. На площади было много солдат, среди них — группа из «Голани», ожидавшая тремп. Ханан распахнул дверцу джипа, помог надеть рюкзак и простился со мной, как отец с сыном. Потрепал, смущенно улыбаясь, по плечу и сказал: «Приятного отпуска. Не опаздывай. Двадцать четыре часа. И не забудь: наводчик танка 2-Алеф не пойдет домой, пока ты не вернешься!»
Мне не пришлось долго ждать: остановился военный грузовик и забрал всех. Начало хорошее. Дай Бог, чтобы так было на всем пути до Иерусалима, до дома.
От Кунейтры до Рош-Пины на грузовике — 45 минут. От Рош-Пины близко до Тверии, а в Тверии уже можно почувствовать запах родного дома. Я сидел у задней стенки кузова, рюкзак на коленях, автомат на плече, смотрел на солдат и слушал их разговоры.
Они перебивали друг друга, рассказ цеплялся за рассказ. Мне было хорошо ехать с ребятами из «Голани», они шумные и веселые, беседа их незамысловата, лица приветливы и открыты. Я очень нуждался в таком дружелюбном, жизнерадостном обществе, чтобы хоть ненадолго избавиться от чувства одиночества и тоски, поселившихся в моем сердце, от печали, которой раньше я не знал никогда.
Солдаты «Голани» напомнили мне ватагу подростков из нашего олимовского квартала Бет-Мазмиль, которые по вечерам толпились у ограды клуба «Тикватейну», галдели и смеялись. В детстве, возвращаясь из талмуд-торы домой, я намеренно проходил мимо них. Мне нравилось слушать их голоса.
В те дни, по приезде из Египта в Эрец-Исраэль, я вообще не совсем понимал, в каком мире нахожусь. Утром я учился вместе с Довом в талмуд-торе, которая славилась своими мудрецами — равом Абрамским и равом Кунштатом, тесной связью с хасидскими дворами и благородством сефардских фамилий Эйни, Абурабиа, Хавильо, Анджел. А к вечеру я возвращался домой — в бедный олимовский «шикун», квартал Бет-Мазмиль, к веселым компаниям подростков. Они сидели, болтая ногами, на железной ограде клуба «Тикватейну» — компания Кесласи, компания Дэдэ, компания Момо. Вечером в пятницу я ходил с отцом в синагогу Аава ве-Ахва «Любовь и Братство», которая перекочевала вместе с ним из Каира в Иерусалим, в асбестовый барак. А по Субботам, каждую Субботу, я бывал с дедом в синагоге Халеба[10] и слушал проповеди, поучительные рассказы, молитвы и напевы хахама Атии и хахама Абуди.
Моя жизнь проходила в те дни во многих мирах, и каждому из них я был рад.
Солдаты из «Голани» были похожи на ребят из Бет-Мазмиль, только немного повзрослевших, с некоторой печатью грусти на лицах. Я сидел в углу, стараясь не выделяться. Я не из «Голани». Один паренек, которого все звали Момо, рассказывал, как в понедельник позвал его Найми, ротный старшина, которому пулеметной очередью прошило плечо, когда он карабкался вверх по горе, вы помните, там, где стояло прикрытие Кесласи…
«„Что с тобой? Кесласи ранили еще утром, когда мы выбирались из оврага“. — „Сто процентов Кесласи! — стоял Момо на своем и продолжал: — Найми говорит мне: Момо, я ранен, выхода нет, прими командование на себя“. „Какое командование и над кем? — говорю я Найми. — Я всего-навсего рядовой, и осталось-то нас пятеро солдат“. — „Нет выхода, — повторяет Найми, — командир взвода ранен утром, заместитель командира роты держит прикрытие, а Охайон застрял внизу с теми тремя, которых ранило гранатой“… Как будто я сам не знаю. А Найми продолжает: „Момо, я полагаюсь на тебя. Ты знаешь, что я всегда был в тебе уверен“. Только он закончил, как Дэдэ кричит мне: „Момо, берегись! Справа засада!“ Я падаю в заросли, а там полным-полно колючек, и даю очередь из пулемета. Если бы вы видели, какая получилась очередь!»
Момо возбужден, он в центре внимания, но тут пробуждается от дремоты другой солдат и говорит: «Твое счастье, Момо, что пулемет у тебя на этот раз не заело, как тогда, на ротных учениях в Эльякиме, когда первый взвод атаковал и взял заграждение, а командир полка вместе с заместителем заметили с холма, что из третьего взвода, из прикрытия, не вылетело в ответ ни единой пули. Все мы помним, как после этих учений измучил нас Найми проверкой оружия через каждые два часа, ночью, под проливным дождем…»
Все засмеялись, а я только съежился и глубже забился в угол. Я не из «Голани», но Момо слушал очень внимательно. Хотя меня не интересовали боевые рассказы. Я уже знал: кто был на этой войне, может рассказывать бесконечно, а кто не был — все равно не поверит. Кто, к примеру, поверит рассказу о том, как на третий день войны мы вчетвером шли через рощу, покинув подбитый танк, в какой-то странной безмятежности — на всех одна граната и два «узи», один на ремне, один — без? И вдруг мы услышали шум и тарахтенье мотора и увидели, что прямо перед нами на дорогу садится вертолет. Из него выскочили десятки сирийских коммандос в полном снаряжении, но тут, буквально ниоткуда, появились на бронетранспортерах коммандос «Голани» и открыли по сирийцам бешеный огонь, а мы продолжали идти как ни в чем не бывало. Даже между собой не обсуждали то, что видели.
Долгое время я вообще не мог ни говорить, ни слушать о войне. Все уверены — так полагал я тогда, — что тот, кто вернулся с войны и пережил стресс, может вообразить себе все, что угодно, и если и не совсем сочиняет, то уж наверняка сплетает вместе то, что видел, с тем, что слышал от других; тут приуменьшит, там прибавит и всему даст свое толкование.
Тогда в грузовике не рассказы солдат привлекли мое внимание, но их голоса. Голос Момо был мне знаком. То, как он произносил «ц» похоже на «ч», и характерная напевность речи, выделяющая в каждом слове последний слог…
Не знаю почему, но после войны буквально все напоминало мне детство.
Мы были новыми репатриантами, «олим хадашим». Целый квартал в Иерусалиме. Но наша семья была «новой» по-настоящему. Только вчера мы прибыли в Эрец-Исраэль, в Тверию. Туда нас отправила на грузовике Белла, работница Сохнута. Сойдя в темноте с парохода на берег Хайфы, мы стояли в одиночестве. Никто из родных нас не встретил — ни дядя Нино из Иерусалима, ни дядя Заки из Реховота, ни хахам Биньямин. Телеграмма, которую мама отправила из Милана, не дошла. Я хорошо помню, как мама, с глазами, полными слез, стояла рядом с грузовиком, держа на правой руке плачущего ребенка, в то время как второй дремал на ее плече. Другие малыши, в белых шерстяных свитерах и миланских шапочках, возились у ее ног, дергали за платье, а отец успокаивал ее, произнося стихи из Писания, восхваляющие Эрец-Исраэль. В порту отец увидел израильского военного моряка в отутюженной форме, с начищенными знаками отличия, и взволнованно сказал нам: «Это солдат. Солдат Эрец-Исраэль». Он подошел к моряку и, гордый своим ивритом, на котором говорил по Субботам в Египте, спросил: «Все ли благополучно у солдата?» Тот удивленно взглянул на отца и зашагал дальше. Отец сказал ему вслед: «Успеха в делах твоих, солдат. Господь да пребудет с тобой, герой-солдат!»
Несколько часов тряски в грузовике, и мы высаживаемся в Тверии — вместе с нашими огромными чемоданами, шестью сохнутовскими кроватями, шестью соломенными тюфяками, сохнутовскими кастрюлями, посудой и примусом. Нас привели в большой барак, зажгли висящую на одной из стен лампу «люкс», дали отцу карандаш, чтобы расписался на квитанции, и оставили в покое. Мы одни. Первая ночь в Эрец-Исраэль. Отец говорит, что мы в хорошем месте.
В Гмаре написано, что Тверия красива видом и что в водах Кинерета пребывает колодец Мирьям. А что такое колодец Мирьям? Это колодец, который был сотворен в числе десяти других чудес в канун первой из Суббот. Он сопровождал детей Израиля в Синайской пустыне, давал им живительную влагу и был глубже всех колодцев мира. С его помощью придет Израилю избавление, за началом которого — созданием Государства Израиль — мы сегодня наблюдаем. И Маймонид[11] писал, что местонахождение нового Синедриона будет сначала в Тверии и оттуда он перейдет в Иерусалимский Храм. И еще отцу обещали в Сохнуте, что если он сумеет набрать группу из десяти детей, то его назначат учителем и у него будет работа. В Египте он был торговцем, учитель — это перемена к лучшему. Но мать сказала, что ни на одну ночь она здесь не останется.
Вскоре нас навестил один старец. Борода белая, глаза добрые, одет в длинную одежду коричневого цвета с широкими белыми полосами — не то капота, не то халат. Старик рассказал нам, что его дом стоит на берегу Кинерета, рядом со старой хасидской синагогой около крепостной стены. Услышав, что приехали олим из Египта и Румынии, он принес финики нового урожая, изюм и бутылку вина. Увидев нас, детей, он велел нам взять финики в правую руку и сказать: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плоды деревьев». Закрыв глаза, он слушал, как мы произносили благословение, и прочувствованно заключил: «Амен». Потом мы возблагодарили Бога, «давшего нам дожить и добыть и дойти до сего времени», подумав о том, что наконец-то дожили до времени, когда можно выполнить заповедь заселения Эрец-Исраэль.
Потом старец предложил отцу выпить вина. Большое это дело — выпить вместе; веселящее сердце отличное вино сближает людей, тем более «Кармель» вино Эрец-Исраэль. У нас не было стула, чтобы предложить старику; на единственной застеленной сохнутовской кровати плакали младенцы — девочка и мальчик, поэтому старик и отец пили вино стоя.
Старик пожал отцу руку, пожелал счастливой жизни и сказал: «Благословенны прибывшие в Эрец-Исраэль». И отец ответил ему пожеланием хорошей и мирной жизни и добавил: «Благословенны находящиеся здесь».
На душе у отца потеплело, и он рассказал, что и в Египте в праздники пили вино «Кармель» из Эрец-Исраэль.
Произнесли заключительные благословения: на финики — один из семи видов плодов, которыми издавна славна наша земля, и на вино. И старец объяснил нам, что здесь, в Эрец-Исраэль, благословения произносят иначе, чем в галуте.
Затем он захотел узнать наши имена. Спросил, знаем ли мы, какой стих Торы соответствует каждому из нас. Мы не знали. Мы даже не слыхали о таком что у каждого человека есть «свой» стих. И объяснил нам старец, что каждому из детей Израиля соответствует в Писании особый стих: он начинается с первой буквы его имени и заканчивается последней. Мы унаследовали от наших предков бесценную возможность не позабыть своего имени в День Суда, если трижды в день будем произносить свой стих в конце молитвы «Восемнадцать благословений». Стих, который указывает на имя человека, сопровождает его всю жизнь. Он стал находить стихи к каждому из наших имен. Дошла очередь до меня. Я назвал свое имя, и он тут же прочел: «Вот ангел Господень стоит станом вокруг боящихся Бога, и он спасает их»[12].
Возрадовался отец и сказал матери: «Видишь? Жители Эрец-Исраэль достойные и уважаемые люди, сведущие в Писании и гостеприимные. Добра эта земля и добра Тверия. Святая земля». Но мать не успокоилась. Всю ночь, не смыкая глаз, писала письма родственникам. Не могла понять, что произошло с телеграммой.
Назавтра у входа в наш барак остановилось такси. Там были все: и Нино, и Заки, и хахам Биньямин. «Собирайтесь! Вы едете с нами в Иерусалим, сейчас!» Никакие мольбы и возражения отца не помогли, и мы уехали.
События развивались своим чередом, и в конце концов мы очутились в доме нашего дяди, хахама Биньямина, в квартале олим Бет-Мазмиль. В комнате, где и без нас было тесно, стало еще теснее, но никто на это не жаловался. Мы, дети, сразу по прибытии пошли вместе с Шабтаем, сыном хахама Биньямина, играть на площадке у клуба «Тикватейну».
Там было полно детей, как и в маленьком садике рядом. Было очень шумно: играли в солдат. Ветви инжира служили ружьями, сосновые шишки — гранатами. Один мальчик был командиром. Мы устроились в уголке, у песочницы. Между собой разговаривали тихо, как в Египте. Но не успели даже начать играть, как вся ватага нас окружила и дети закричали: «Арабы, арабы!»
Я заплакал и хотел бежать, но не знал куда. И тут мальчик-командир сказал:
— Не бойтесь, никто вас не тронет, ни Кесласи, ни Дэдэ. Момо вас защитит. Вы теперь наши, входите в нашу команду и будете под нашей защитой.
Команда смотрела на него с обожанием. Он объяснил им:
— Эти дети не арабы. Они олим хадашим. Они говорят по-арабски, потому что еще не знают иврита.
— Да, да, они из Египта, — поспешил подтвердить Шабтай в нашу защиту. Они только вчера приехали, это наши родственники, не обижайте их.
— Не беспокойся! — ответил ему Момо. — Здесь командир я. И пока я здесь, никто ничего им не сделает.
Дети быстро разошлись, но я не понял ничего из происшедшего. Кто эти дети? Для чего у них ружья? С кем они воюют? Кто такой Кесласи? Что значит, что мы теперь в команде этого мальчика? Я продолжал плакать и побежал к дому хахама Биньямина. Мать во дворе пыталась вскипятить на примусе воду для стирки в большом бачке. В Египте к нам приходила прачка.
— Мама! Нас называют арабами! — взволнованно сказал я.
Потом я видел, как Момо-командир играл в футбол центральным нападающим в команде Цахи. Когда он с мячом приближался к воротам противника, вся защита разбегалась по сторонам. Плохо придется тому, кто встанет на его пути или заденет нечаянно.
Мы изучали Книгу Бытия — Берешит. Комментарии Раши[13] нам объяснял рав Диканоф. Бен-Шошан читал нараспев: «А птиц не рассек»[14]. И рав Диканоф объяснял, что Раши видит в этих словах указание на вечность Израиля. Я продолжал: «И спустились коршуны на трупы, но прогнал их Авраам». И Бен-Шошан спросил: «Какой намек содержится в слове „трупы“?»
А Кесласи спросил: «Кого понимать под коршуном? И почему напал на Авраама страх?»
Рав Диканоф не ответил. Но дети, когда им не отвечают, спрашивают снова и, если им опять не отвечают, придумывают ответы сами. У меня было живое воображение, и, когда я представил себе коршунов, садящихся на трупы, меня охватил жуткий страх. Я попытался обеими руками отогнать видение, но не смог. Мы вышли на перемену.
Во время перемены мы получали в маленькой кухоньке клуба «Тикватейну» по толстому ломтю черного хлеба с клубничным вареньем, который приготавливала для нас мадам Исраэль. Каждому по одному куску. Мадам Исраэль, женщина добросердечная, старалась нарезать куски покрупнее и намазывать потолще. То, что оставалось, шло на добавку, и все пытались протиснуться вперед, чтобы ее получить. Тут появился Момо. Ему освободили проход, давая возможность встать в очереди первым. Мадам Исраэль поручила ему распределение оставшихся кусков. Дети глядели на Момо умоляюще. Все были голодны. Мы стояли в стороне и даже не пытались получить добавку. В нас еще сохранилось кое-что от воспитания, полученного в Египте. К тому же мы были уверены, что у нас нет никаких шансов. Момо заметил меня, взял ломоть с вареньем, подошел и протянул мне. Без единого слова. Я понял. Мы из его команды. Мы — его.
Однажды мы с Довом шли пешком из Бет-Мазмиль в Байт ва-Ган, в талмуд-тору и оживленно обсуждали статью, которую Дов прочел в каком-то журнале. С тех пор прошло много лет, и я не помню, о чем была эта статья. Кажется, в ней обсуждался такой вопрос: рождается ли человек добрым, но зло притягивает его, или он зол по своей природе, но воспитанием его можно исправить. Дов вытащил из ранца журнал, раскрыл его и показал мне статью. Мы стояли у горы Герцля и просматривали статью, как вдруг услышали шум — нас преследовала ватага подростков из Эйн-Карема. В нашу сторону полетели камни, и один упал совсем рядом.
— Профессор! Очкарик! — издевались они над Довом. — Что ты вычитываешь в своих книжках? Книжки тебя спасут? Сейчас мы тебе покажем!
Они приближались, и мы ускорили шаги.
— Трусы! — кричали они нам. — Почему удираете? Что вы будете делать в армии? Книжки читать? Молиться?
Один сказал:
— Они пойдут в десантники.
— Или в танкисты, — добавил другой. Все расхохотались.
— Пошли, захватим их в плен! — крикнул кто-то. Они нас почти догнали. Но тут как из-под земли перед нами возник Момо. Дов испугался. Я успокоил его:
— Это Момо, командир нашей команды из Бет-Мазмиль. Он за нас.
— Не бойтесь, — сказал Момо, — я вас провожу.
Мы пошли вместе. Молчали.
Ребята из Эйн-Карема испарились. Момо проводил нас до талмуд-торы. Мы поблагодарили его, он ничего не ответил и пошел. Мгновение спустя обернулся и пробормотал, почти про себя: «Учитесь хорошо».
— Кто этот Момо? — спросил с удивлением Дов. — Он тоже твой друг?
Я объяснил Дову, что Момо живет в доме, где внизу овощная лавка господина Леви.
Его выгнали из школы. Учитель сказал, что он хулиган. Рассказывают, что он загасил сигарету о спину девочки из 4-го «В». С тех пор он слоняется по кварталу, мастерит самокаты и пускает воздушных змеев.
От нашего квартала вниз, в овраг, вел крутой спуск. Зимой во время дождей по дну оврага неслась вода — как настоящая река. Летом мы катались по этому склону на досках. Однажды позвал меня Момо съехать вместе с ним на новой тележке, сооруженной им из ящика от овощей, который дал ему господин Леви, зеленщик. Момо приладил к доскам колесики от старой детской коляски и даже руль. Я сидел сзади, обхватив руками его широкую спину. Во время крутого спуска мы не упали, и я попросил его остановиться на склоне около синагоги хахама Биньямина. «Я должен успеть прочесть минху, — сказал я ему. — Солнце вот-вот зайдет, и я могу не успеть». Колеса проскрежетали по гравию, он остановился и, не глядя на меня, проговорил: «Иди, иди, молись, я тоже умею молиться. Мой отец не только хазан, но и пайтан. Там, откуда мы приехали, у него у самого была синагога». И как бы в доказательство сказанного, запел, красиво выводя рулады:
«Когда, когда будет возвещено, — вопрошает гонимый народ, — [что] близок год спасения, пришел в Сион Избавитель, пришел в Сион Избавитель? Богачам, разбросанным по свету, слугам собственных слуг, всем им возвещено: вот он, год Избавления. Каждый день буду ждать, истомились глаза от ожидания, [что] приду и увижу Святую землю Тверию.»
Он замолчал и посмотрел на меня торжествующе, радуясь изумлению, написанному у меня на лице, немного помедлил и продолжил спускаться в овраг.
С тех пор прошло восемь лет. Наши дороги разошлись. Он пошел учиться в ремесленную школу, а мы с Довом поступили в йешиву в Байт ва-Гане. И больше не встречались. И вот сейчас, в грузовике с солдатами «Голани», на дороге, спускающейся из Кунейтры в Рош-Пину, я слышу его голос, его прекрасный смех, особую манеру речи, когда каждая фраза походит на короткий законченный рассказ. Это Момо. Я не сплю.
С самого начала войны я все время напоминаю себе: не давать волю воображению. Плохо тому, кто грезит на войне. Я заставляю себя не отводить глаз от прицела. Правый слезится. Линза окуляра затуманена, мысли путаются, но, несмотря на это, я знаю: нельзя отвлекаться ни на секунду, кто знает, откуда может появиться «сагер» — ПТУРС[15], как тот, что поджег З-Алеф. Я не сплю. Это Момо. Мой командир из Бет-Мазмиль.
Он выдает рассказ за рассказом. Сплетает начало нового с концом предыдущего, не обращая никакого внимания на замечания товарищей:
«Вызывает меня по рации заместитель командира батальона, приказывает развернуться и нестись на север, к перекрестку Нафах — там приземлился вертолет сирийских коммандос. Мы домчались через две минуты. Помните, как мы выскочили на шоссе и стали стрелять в упор?»
Я чуть не подпрыгнул, но сдержался. Мелькнула странная мысль: ведь никто в полку так и не знает, что на самом деле случилось с Довом. Командир его танка тяжело ранен, от него невозможно что-либо узнать, другие из его экипажа говорят, что когда выпрыгивали, то ничего не видели. Мики, начальник отдела личного состава полка, утверждает, что ему ничего не известно. И кадровик батальона Кимель — тоже. Я им верю. Путаница с личным составом может свести с ума. По лагерю Ифтах снуют гражданские лица. Члены экипажей в пропыленных и перепачканных комбинезонах сидят под эвкалиптовыми деревьями, держа в руках шлемы, предоставленные сами себе.
Спасшиеся из подбитых танков, они пришли в Ифтах. С прокопченными лицами и красными глазами, сидят и как-то отрешенно молчат, ждут, чтобы снова стать экипажем первого же танка, который закончит ремонтировать команда Мориса. Тогда они снова поднимутся на плато, на войну. Гражданские осаждают танкистов, вымаливают сведения, собирая их по крупицам. Был там брат Йегуды, слышал, что тот пропал без вести. И брат Дова был тоже. Может, Момо встречал Дова? Я слышал, что коммандос «Голани» эвакуировали на бронетранспортерах раненых у перекрестка.
Я поразился странности этой мысли: Момо ведь из «Голани», а Дов был вместе с нами, он танкист. И все-таки кто знает? Разве не так случилось с танком Йоси, который в канун Судного Дня первым из всего батальона поднялся на плато, но ошибся дорогой. Он не свернул на перекрестке Васет, а пошел прямо на Кунейтру и очутился перед взводом сирийских танков, среди коровников Эйн-Зивана. Там его обнаружили коммандос «Голани» и вернули в Нафах.
В конце концов я решился спросить, но мне это никак не удавалось, потому что Момо ни на минуту не умолкал. Он рассказывал и рассказывал — до тех пор, пока наш грузовик не остановился в Рош-Пине. Когда мы из него выпрыгнули, Момо оказался в окружении плотного кольца солдат. Я не упускал его из виду и около бензозаправочной станции попытался пробиться к нему, но тут он бросился к автобусу, идущему на Кирьят-Шмона. И когда я добежал до остановки, автобус уже отошел.
Жалко… Кто знает… «Постой, — сказал я себе, — Момо ведь из Иерусалима, почему он поехал в Кирьят-Шмона?»
Десять минут в «Шекеме»[16] Рош-Пины. Полно солдат. Пожилая женщина за прилавком, по-видимому из добровольцев, старается обслужить всех.
Я попросил горячий кофе и пирог с корицей. Вкус отпуска. Никогда раньше я кофе не пил. Только чай. Но в армии кофе пьют все. Каждое утро солдаты из командирского танка почти насильно заставляли меня пить с ними черный и горький кофе из малюсеньких чашечек, которые Зада раздобыл в Хан-Арнабе. Они просто не понимали, как можно начать день без кофе.
В «Шекеме» я встретил Амихая, заряжающего 1-Бет. Он тепло обнял меня за плечи. Мы взглянули друг на друга. Глаза в глаза. Поговорили. Ни слова о войне. Как будто мы встретились на батальонных учениях, еще до войны. Как будто ничего не произошло.
Последний раз я видел Амихая в Нафахе на третий день войны, в понедельник, когда мы отправились устраивать сирийцам засаду в каменоломне и обнаружили, что они нас опередили. Часа через два он, раненый, махнул мне рукой и, прежде чем его унесли, успел сказать: «Уповай на Бога». Я хотел докончить и ответить: «Мужайся, и да будет сильным сердце твое»[17], но кругом свистели пули, и Гиди, командир, втиснул мою голову внутрь танка. Заряжающий Эли сказал с завистью: «Осколок в бедро — и все. Война для него закончилась».
Когда раненого Амихая привезли в кибуц Гадот, он рассказал, что в Нафахе наши танки горят один за другим и сирийцы дошли уже до перекрестка Бет а-Мехес. Кибуцники покачали головами и, наверное, все как один подумали: «Солдат молодой, контуженый». И в самом деле: кто был способен в такое поверить?
Из госпиталя Амихай сбежал два дня спустя, на попутных машинах вернулся искать для себя танк и наконец нашел такой, где не хватало водителя. Это была удача, и он ее не упустил. Когда началось контрнаступление, он снова был с нами.
Амихай вернулся не с пустыми руками, а привез с собой лулав и этрог, и почти весь батальон произносил над ними благословения в праздник Суккот. Под сукку мы приспособили большую воронку от мины, покрыв ее ветками. Это о нас, готовящихся к контратаке, мудрецы говорили, что в праздник Суккот евреи потрясают пальмовой ветвью, как герои — оружием.
Полчаса на тремпиаде в Рош-Пина. Множество солдат ожидают тремп под проливным дождем. Одежда промокла насквозь. Это не имеет значения. Ведь я еду домой. Мама все выстирает. Дует холодный ветер и обжигает лицо. Не страшно. После этой войны простуду я уже не схвачу.
Два часа езды до Раананы в военном «рено». Никто не разговаривает. Все выглядят невесело. В Раанане я отошел в сторону и произнес большую минху, как это принято в тяжелых обстоятельствах. В те дни мы молились сразу, как только наступало время молитвы, чтобы потом не пропустить ее. Кто знает, что будет. Я старался сосредоточиться. Знал, что ничего из этого не выйдет. Закрывал глаза, и передо мной возникали видения. Все время мне кто-то или что-то мерещилось, и везде присутствовал Дов. Мысли перескакивали от Ифтаха к Нафаху, от Нафаха к танку, и голова была словно закупорена намертво.
Что значит сконцентрироваться на молитве по-настоящему — я знал после этой войны. В понедельник, когда мы попали в засаду в каменоломне Нафаха, с танком, который заводился с трудом с помощью вспомогательного генератора, с непристрелянным орудием и без связи, когда снаряды ложились все ближе и ближе и огонь охватывал соседние танки, Гиди закричал мне:
— Наводчик, молись! По нам стреляют!
Я молился. И даже преграды тоньше волоса не было между моими губами и сердцем. Тогда я и узнал, что такое молитва.
Там я застрял. На перекрестке в Раанане. Машины проезжают, не останавливаясь. Они там что, не видят? Я же с войны! Еду домой! Остановитесь, сделайте милость, в моем распоряжении только двадцать четыре часа. Может, успею еще заскочить в йешиву, встречу нашего рава. Сердце переполнено и готово разорваться. Как много мне надо ему рассказать: о том, чему учили нас в йешиве и что мы увидели на войне, о вере, про которую читали мы в книгах, и вере, которую чувствует сердце.
Перед молитвой неила, завершающей Йом-Кипур, обратился к нам рав:
— Учили наши мудрецы: «Сказал Господь, Благословен Он: „Отворите мне вход с игольное ушко, и я открою вам врата, через которые пройдут возы и повозки“. И еще: „Игольное ушко, конечно, мало, но открыто насквозь с обеих сторон, и нет в нем преграды“».
Слова эти запали мне в душу. Я был уверен, что понимаю, что значит «открытое сердце». Сейчас я знаю: ничего я в этом не понимал. Хочу сказать раву, что наконец-то я это понял.
В те тяжелые дни я писал стихи. Когда писал, становилось легче. Не показывал их никому. Решил, что покажу раву. Может, из них он поймет больше, чем из моих рассказов. Там есть и о нашем товарище Шае. На исходе праздника Суккот Рони сказал, что Шая погиб. Мне тогда вспомнились слова:
«Драгоценные дети Сиона, дороже чистого золота, уподобились вы глиняным горшкам, изделиям гончара»[18]. Два года мы сидели на одной скамье в йешиве, днем и ночью.
Я спрятал голову в колени, закрыл глаза и увидел Шаю: прекрасный юноша с лулавом в правой руке и этрогом в левой, с ароматным миртом, в тени зеленых ветвей, покрывающих сукку. Вдруг налетел ураганный ветер и все смешал, небеса разверзлись, и на нас обрушился сильнейший ливень. Колышки крепления вырвало из земли, затрепыхались на ветру стены-полотнища, разбросало ветки, и вот уже сукка взлетела в воздух, и зло и насмешливо отозвался ветер: «Где же ваша сукка?»
Я написал стихи:
Облаченные в талиты, возносящие лулав, взяты из суккот. Пали стены, спутались ветви, сень небес укрывает их.Я взглянул на часы: стрелки движутся, отпуск проходит, а я застрял тут, на перекрестке Раанана. «Ребята, — говорил нам Ханан, наш ротный командир, вчера вечером, когда мы тянули жребий из его шапки, боясь обмануться в своих ожиданиях, — ребята, не забудьте, так решил командир полка: каждый экипаж получит отпуск на двадцать четыре часа — по очереди. Мы пока единственные на позиции. Нас некем заменить. От батальона осталась в лучшем случае рота. Говорят, что новобранцы сейчас проходят ускоренный курс и что солдат моторизованной пехоты переучивают на танкистов. Может, через несколько недель прибудет к нам пополнение, проведем одно-два учения и тогда уйдем в более длительные отпуска. А пока есть то, что есть, — двадцать четыре часа. Ну, давайте! Жаль времени. Тяните жребий. Итак, чей экипаж уходит первым?»
Часы идут, а я все еще жду попутной машины. Наконец останавливается взятый напрокат «форд». Еврей из Канады. Ездит по дорогам и подбирает солдат. Не мог там оставаться в такое время, так он объяснил.
— Солдат, расскажи мне про ЦАХАЛ[19]. Ты на войне был?
«О Господи! — думаю я. — Дайте мне покой, я устал. Тяжело мне. О чем я могу ему рассказать? И как я могу ему рассказать?» А он снова просит: расскажи.
«Ладно, — сказал я себе, — расскажу ему об одном случае». Я начал говорить и уже не мог замолчать. Молчит он, ведет машину, а я все рассказываю, рассказываю. Как в ночь после Судного Дня, с рассветом, мы вышли из Ифтаха на гусеницах — как на параде. Над нами ясное небо, пожилые кибуцники бросают нам яблоки и благословляют нас взглядом. Рони, держа в руке маленький томик Маймонида, рассказывает, что сказал им на прощание глава йешивы, когда все они собрались в библиотеке, перед тем как уйти:
— Дети мои, многое хотелось бы мне поведать вам в этот час, но сказали мудрецы: «Пусть не расстается человек со своим ближним, не произнеся слов Торы».
И он открыл Мишне Тора[20] Маймонида и прочитал:
«Если пойдет человек на войну, должен он полагаться на Оплот Израиля, спасающий его в трудный час, и знать, что воюет он за Единого. Пусть идет он навстречу опасности и не боится и не пугается, пусть не думает ни о жене, ни о детях, но отставит все в сторону ради этой войны. И пусть знает, что судьба всего Израиля на плечах его… Если не будет он стремиться к победе всем сердцем своим и всей душою своею, то уподобится тому, кто пролил кровь многих.
Как сказано: да не ослабит он сердце брата своего, как свое собственное».
…И тут мы въехали на мост Бнот-Яаков и увидели, что саперы готовят его к взрыву после того, как наши танки пройдут, и Эли, заряжающий, спросил меня, вижу ли я то же самое, что и он. Я ответил, что да, и оба мы вопросительно взглянули на Гиди, командира, и поняли, что и он тоже это видит. «Заряжающий, закрепи свой пулемет, — приказал он Эли, — мне кажется, что он болтается. Возьми ящик с инструментами и затяни болт, чтобы не дрожал. Пулемет, разумеется». Мы еще не успели проехать мост до конца, как навстречу нам показался танк. В жизни мы не видели ничего подобного. На его броне, на башне — везде сидели, лежали, стояли раненые солдаты, в бинтах, ошеломленные, испуганные. Они махали нам руками и кричали: «Куда вас несет? Вы в своем уме? Там уже сирийские танки! У перекрестка Бет а-Мехес! Они нас обошли, захватили Нафах, берут в клещи; еще немного и попрут вниз на Тверию. Идите назад! Быстрее!»
Мы растерялись. Посмотрели на Гиди, а он, словно не видит и не слышит, тихо приказывает:
— Водитель, двигай. Двигай вперед.
Так я рассказывал и рассказывал хозяину «форда» — все то время, пока мы ехали от Раананы до перекрестка Геа.
— Спасибо вам. Здесь я сойду, — сказал я, — мне надо в Иерусалим. — В глазах у канадца стояли слезы.
— Солдат! — сказал он. — Солдат! Я тоже делать.
И смотрит на меня так, точно я должен сказать, что именно ему следует делать. И тут — я о таком и помыслить не мог бы — он сует руку в карман, вытаскивает оттуда зажатые в кулаке зеленые доллары и протягивает мне:
— Солдат, возьми!
Я отдернул руку и почти крикнул:
— Да вы что? Хотите заплатить мне?
А он, плача, стал умолять меня:
— Плиз, ну, пожалуйста, возьми! Я должен, дай товарищам, пусть купить себе сигареты, шоколад, это то, что я могу, вы за меня воюете, я тоже что-нибудь делать, возьми, пожалуйста!
И вдруг он обнял меня и стал целовать, и мои губы сделались солеными от его слез.
От перекрестка Геа я ехал на «вольво». В Иерусалим, домой. Последний тремп. Я сел в машину, положил голову на спинку сиденья, закрыл глаза. Руки крепко сжимают автомат, чтобы не выскользнул. Кто-то будит меня. Где я?
— Солдат! Ты меня слышишь? — настойчиво повторяет хозяин «вольво». — Я же тебе сказал, что приехали. У меня нет времени на твои сны. Ты спишь, что ли? Солдат, я дальше не еду. Тебе знакомо это место? Это Байт ва-Ган. Тут рядом хасидская синагога. Через несколько минут соберется миньян на вечернюю молитву. — Он посмотрел на меня внимательно и добавил: — Если, конечно, ты хочешь. И если умеешь.
— Извините, я немного вздремнул, я знаю Байт ва-Ган, конечно же, я знаю. Я здесь учился в талмуд-торе вместе с Довом. Отсюда мы и ушли. Вместе с Довом.
Он взглянул на меня:
— Из талмуд-торы? Куда ушли?
— Что значит куда? — удивленно отвечаю я. — Вы не знаете куда? Есть такие, что не знают? Туда! На Голаны, на войну, вместе с Довом. Отсюда. Здесь был наш призывной пункт. И здесь мы благословляли луну месяца тишрей.
Хозяин «вольво» говорит:
— Луну месяца тишрей? Сегодня благословляют луну месяца хешван. Ты не был дома месяц?
Он говорит, что прошел целый месяц? Может быть. Ему лучше знать. Он был здесь. Он продолжает спрашивать:
— А где твой товарищ? Уже дома? Слушай, солдат, через пару минут здесь, у амшиновских хасидов, соберется миньян и мы сможем вместе благословить луну, зимой не стоит это откладывать, ведь неизвестно, когда она покажется снова.
— Да, конечно. Нельзя откладывать, кто знает, что может случиться, — говорю я и снова смотрю на часы.
Осталось шестнадцать часов. Еще немного — и я дома. Все ждут меня. Я звонил из Рош-Пины. И дедушка там. Читает псалмы. Мама сказала, что он их читает с того самого времени, как я ушел на исходе Судного Дня. До тех пор, пока не вернусь. Но благословение луны пропускать не стоит. Кто знает…
ГИМЕЛ
Вечерняя молитва закончилась, молящиеся вышли на улицу и запели слова благословения луны месяца хешван, положив руки друг другу на плечи и пританцовывая:
Прекрасны светила, сотворенные Господом. Всеведением Своим, мудростью и разумением Он создал их. Силу и мощь даровал Он им, чтобы управляли миром. Полны блеска они и излучают сияние, прекрасен свет их во всей Вселенной. Они радуются при восходе, веселятся при заходе, с трепетом исполняют волю своего Владыки.Я тоже плясал вместе со всеми, ранец подпрыгивал на одном плече, автомат — на другом. Я не хотел отделять себя от них, но знал: они из одного мира, я — из другого. Я — из Судного Дня.
Хасиды благословили друг друга и меня, я произнес ответное благословение. Казалось, что каждое слово обращено ко мне и ни к кому другому, и все на свете Шалом алейхем — «Мир вам» — говорятся для меня одного, и все приветствия «Мир входящему» обращены ко мне. Это я возвращаюсь домой с войны.
Хасиды разошлись по домам. Я остался один. Я тоже пойду домой. Но, прежде чем идти, я еще постоял немного во дворе амшиновской синагоги. Ивовые листья и сосновые шишки, валявшиеся на земле, источали тонкий аромат, светила луна, и мне хотелось стоять так и дышать, и ощутить в себе нечто, и удержать его, и сохранить это мгновение. Что я хотел ощутить и удержать — не знаю.
Отсюда я ушел — месяц назад. Стоял месяц тишрей, и его луна сияла тогда над нами, надо мной и над Довом. Сейчас хешван, и луна окутана облаками. Я поправил на плече автомат и ранец, намереваясь идти домой пешком, именно пешком, через лощину, спускаясь от Байт ва-Гана в Малху. Мне хотелось еще какое-то время побыть одному — до того, как приду домой. Я мог бы поехать от горы Герцля до Бет-Мазмиль на 18-м автобусе, но знал, что обязательно кого-нибудь встречу и он спросит: как дела, откуда я и куда, как себя чувствую, какова ситуация и что будет. Что мне ему отвечать? Как мои дела? Как я себя чувствую? Что еду домой? Что возвращаюсь с войны? Что там я повстречал самого себя? Рассказать про ужас? Про смерть? Про Бога, к которому взывал? Рассказать о тоске по Дову? И это в то время, пока мы стоим в набитом людьми автобусе, по радио грохочет шлягер и водитель кричит на женщину с тяжелыми сумками, которые она тащит с рынка Махане-Йегуда, чтобы прошла вперёд, в то время как та упрямо продолжает стоять посередине у двери из опасения, что не сможет сойти вовремя? И я решил идти один. Мне было необходимо собраться с мыслями.
Прохладный воздух Байт ва-Гана действовал на меня благотворно. Я привык к нему с детства. Скалистые уступы, по которым я спускался, белевшие и поблескивающие в темноте, были мне знакомы, почти друзья. В солнечные дни, возвращаясь через лощину из талмуд-торы, мы спускались по ним с Довом. По обоюдному желанию мы отказывались от душного автобуса, заполненного усталыми и раздраженными людьми, и с наслаждением прыгали по этим голым скалистым уступам, под которыми прятались красивые цикламены. Воздух был напоен ароматом полевых цветов, весело алели маки, солнце припекало, и нам было очень хорошо вдвоем.
Рассказы Дова увлекали и завораживали меня. Он читал массу вещей в научных журналах и статьях. Проблемы астрономии и геологии, хасидские рассказы и новые толкования Торы — все было ему интересно. О том, что прочел, рассказывал застенчиво, с мечтательными глазами. Для меня все это было внове. Этому не учили в талмуд-торе, и об этом я не слышал в клубе «Тикватейну». И вообще — этому не учили нигде. Дов говорил, что найти такое можно только в журналах. Я, в свою очередь, рассказывал ему о комментариях моего деда, об истории евреев Халеба и Египта, и он тоже на своей улице Бразилия[21] не знал и не слыхал ничего подобного.
Несколькими годами позже, в Рас-Судар, где стояла наша рота, нам с Довом выпал жребий: неделю охранять вдвоем, меняясь через шесть часов, старый кордон, поставленный на заброшенной тропе в пустыне. Вся рота нам сочувствовала. Не было службы более ненавистной, включая работу на кухне. Солдаты, дежурившие на кордоне до нас, предупредили, что следует заранее подготовиться, чтобы не свихнуться от одиночества: мы не увидим там ни одной живой души. Никто не знал, почему именно в этом месте устроили сторожевой пост. Говорили, что когда-то давно там действительно пролегала дорога, но с тех пор прошло уже несколько лет, и никто так и не побеспокоился уточнить приказ. Стоит захватить с собой большую кипу газет, говорили они.
Это была дивная неделя для нас с Довом. Мы взяли с собой талмудический трактат «Ктубот» и «Вечность Израиля» Маараля, Дов принес перепечатки статей, новые и старые журналы, в переплетах и без, в которых было столько интересного. Как много мы говорили в ту неделю! Мы были юны, были друзьями, были чисты и доверчивы. Сидели на песке и беседовали. О вере и о мудрости, о жизни, о науке, о народе Израиля и его Избавлении, о Гмаре, которую мы изучаем, о нас самих и о домах, которые мы построим. Вспоминали, как, будучи детьми, рассуждали почти о том же, когда перепрыгивали с камня на камень по склону оврага на пути из Байт ва-Гана в Бет-Мазмиль.
И сейчас я проделывал тот же путь, но один. При каждом прыжке автомат ударял по рюкзаку. Луна светила, но тяжелые тучи грозили поглотить ее, и она старалась от них ускользнуть. Иногда у нее это не получалось, и тучи закрывали ее целиком. Пока она светила — весь мир сиял мне навстречу, каждой жилкой своей ощущал я жизнь и свободу, но стоило ей исчезнуть, как мир погружался во мрак. Передо мной всплывали страшные картины войны, как это уже повелось в моих снах — ночь за ночью.
Горящий Тиктин катается по земле; командир кричит: «Наводчик, огонь, огонь! В нас стреляют!», а я отвечаю, что орудие не пристреляно; у танка, что перед нами, башня взлетает в воздух и затем падает, превращаясь в огненный шар: Рони кричит: «Я не могу выбраться, пушка закрывает люк!»: мать Дова с напряженным лицом заворачивает пироги, отец целует его; Дов на базе в Ифтахе машет мне рукой на прощанье, заместитель командира батальона торопит его, но он еще успевает сказать: «Жаль, что мы не вместе». Действительно, жаль. Яркие лучи солнца слепят глаза и застят прицел, я напрягаю глазные мускулы, чтобы видеть хоть что-нибудь, и не вижу ничего, кроме белых бликов. Я знаю, что в эту самую минуту наводчик Т-54 берет нас на прицел и я должен этот танк найти. Экипаж надеется на меня. Остались считанные секунды до того, как он выпустит свой снаряд. Я должен, но я ничего не вижу. И губы сами по себе произносят строки и обрывки строк — мольбу о спасении: «Не даст споткнуться ноге твоей и не уснет страж твой Господь — страж твой, Господь сень для тебя по правую руку твою… на Господа уповала душа моя и на слово Его я полагался… крыльями Своими Он укроет тебя, под Его крылом ты найдешь убежище. Правда Его — щит и доспех… Ангел Господень окружает боящихся Бога и спасает их. Ангел Господень окружает боящихся Бога и спасает их…» Барабанные перепонки готовы лопнуть — настолько давит на уши шлем, который мне мал и который я успел выхватить из ящика на складе Ифтаха за минуту до выхода, под крик заместителя командира батальона: «Отправляйтесь же! Кончайте возиться с прицелом! Выверите его на месте! Отправляйтесь! Не важно, что есть у вас в танке!» В тот час он единственный знал, что на самом деле происходит в Нафахе. У кого было время примерять шлемы? Через тесные наушники врываются громкие голоса — по-русски, по-арабски и на святом языке. Их перекрывают приказы и призывы, и крики, и шумы, и помехи. И вдруг в этом оре доносится откуда-то тихая музыка. Кто может знать откуда. Я напрягаю все силы, чтобы уловить среди этого гама голос Гиди. Я должен слышать его приказ, прежде чем прицелиться.
— Поймал! — кричу я. — Я поймал его!
На одну лишь секунду проявились очертания Т-54 среди слепящих бликов, но этого оказалось достаточно. Я выпускаю снаряд.
— Наводчик стреляет. — Недолет. Добавить половину, огонь! — Добавить половину, стреляю! Цель. — Цель поражена.
И вдруг — мощный удар и голос Гиди:
— Экипаж, нас подбили, покинуть танк!
ДАЛЕТ
Я отогнал тяжелые воспоминания. Я в отпуске. Возвращаюсь домой. Чем ближе Бет-Мазмиль, тем легче идти; ноги, казалось, сами несут меня. С этого момента, когда у клуба «Тикватейну» я ступил на дорожку, ведущую к дому, я уже не шел, а летел. Вымостивший ее иерусалимский камень откликался на мои шаги, приветственно махали ветвями кусты олеандра, и даже качнул вершиной кипарис — подарок господина Бабани мне на бар-мицву.
Все принесли книги, он — кипарисовый саженец. Мы с господином Ревахом, преподававшим литургическую поэзию и природоведение, посадили его. Каждый месяц я сравнивал с ним свой рост. Все приветствовали меня. Казалось даже, что ангелы-хранители, сопровождающие меня, как и всякого человека на путях его, о которых сказано: «Ангелам Своим повелит охранять тебя на всех путях твоих»[22], — даже они приветствовали меня. Я простился с ними: «Возвращайтесь с миром, ангелы мира, ангелы служения, от Царя Царей, Святого, Благословенного»[23], постучал в дверь и вошел. Столько раз я представлял себе эту минуту, что она как бы уже состоялась. Все произошло так, как я ожидал. Почти.
Открыла дверь мама. Взволнованная настолько, что не может говорить. Выражение лица будничное, как если бы я сейчас вернулся из Байт ва-Гана. Я знал, что за этим спокойствием скрывается столько слез, что ими можно наполнить до краев мех для вина. Слезы только ждут, чтобы дали им наконец свободно пролиться. Я подошел к отцу поцеловать руку. Как он был горд, когда я пошел в армию, как был горд в тот день, когда я пришел из тиронута в первый свой отпуск, в военной форме, на которой написано: ЦАХАЛ. Кто думал тогда о войне? Отец сидел собранный, с напряженным лицом. Я знал, каких сил стоит ему выглядеть спокойным, знал, что губы его шепчут стихи из псалма, я почти ощущал их движение.
Я стоял посреди комнаты, глядя на круглый стол, который купил в подарок родителям из денег, заработанных мною однажды летом на скучнейшей работе по сортировке писем на почте, что на улице Хавацелет; на покрывавшую его белую скатерть, расшитую прелестными мелкими цветочками, голубыми и розовыми. Мама никогда ее не снимала. Рассказывала нам, как вышивала ее после свадьбы. Она сунула ее в тот единственный чемодан, который нам было разрешено взять с собой из Египта, едва не лопнувший от набитых в него вещей. Три часа были даны ей на сборы, на то, чтобы, нагрузив нас, детей, кое-какими вещами, сесть на отплывавший в Грецию и Италию пароход, на котором нам предстояло встретиться с отцом, выпущенным из тюрьмы. Нас высылали из Египта. Отца обвинили в том, что он — сионистский агент, хотя он был всего лишь староста, габай, в синагоге и любил Эрец-Исраэль.
Мои блуждающие глаза остановились на деревянном блюде с отборными фруктами, которые отец ежедневно привозил с рынка Махане-Йегуда, не важно, съедались они или нет, тем самым демонстрируя нам, сколь славна Эрец-Исраэль, Земля Израиля, которая родит такие прекрасные плоды. «Это верный признак Избавления», — говаривал он. И добавлял: «А вы, горы Израиля, ветви свои дадите и плоды свои принесете народу Моему Израилю, ибо скоро придет он»[24].
Я взглянул на мой Шас[25], что стоял на полке, трактат за трактатом, в обложках, которыми я обертывал с такой любовью его бордовый переплет. Как радостно мне видеть его! И медленно-медленно на душе у меня стало теплеть.
Стоп! Минуту! Опять эти серые заросли на базальте и коробки с пулеметными лентами, которые, по две зараз, я передаю Эли, заряжающему, чтобы расставил по местам; и почему мои руки чувствуют скользкую прохладу брони с поблескивающей на ней росой; откуда этот пьянящий аромат черного кофе с кардамоном, который Цион варит на моторе, когда мы разогреваем его по утрам, и запах кофе смешивается с запахом оружейной смазки и сладковатым запахом машинного масла, которое каким-то образом пропитало весь комбинезон? И с чего это у меня во рту кисловато-горький вкус грейпфрутового сока, который мы, четверо, пьем из жестянки, продырявив ее отверткой и передавая друг другу? Мама не сводит с меня глаз, словно желая еще и еще раз убедиться, что это я, здесь, рядом с ней, дома. Я гляжу, как она ходит вокруг меня и не может найти нужных слов. Ей необходимо так много сказать мне, что в результате получается:
— Ну, как дела? Вернулись?
И я не понимаю, как из всего того, что тогда переполняло мое сердце, вышло обыденное:
— Да, слава Богу, все в порядке. Я вернулся.
Еще несколько мгновений странной тишины, и словно прорвало плотину. Нескончаемый поток слов захлестнул мать, отца и меня. Я выпаливаю слова, не отдавая себе в них отчета, не в состоянии разделить то, что стремится излить душа, и то, о чем хотел бы умолчать разум. Я не знаю, что говорил тогда, но одно я понял: несмотря на все слова, мать все еще не верит, что я участвовал в настоящих боях. Может, я был в тыловых частях, может, на второй линии обороны, а то и вовсе в резерве.
Я все еще не снял рюкзак.
Отворилась дверь, и вошел глава нашей йешивы и с ним — несколько студентов. Кто успел сообщить им, что я вернулся? Тотчас же одного из них послали за дедом. Он живет рядом. Дед пришел и сел, не говоря ни слова. Был взволнован и озабочен. Пристально смотрел на меня своими черными глазами, но не было в них привычной строгости и требовательности; наоборот, их выражение было жалостливым и мягким, каким оно бывало в Йом-Кипур, когда он молился Всевышнему, чтобы очистил его от греха. Меня переполняла любовь. Хотелось каждого из них обнять. Они стали как-то по-новому близки мне. И любовь моя была новой.
Комнату наполнили громкие голоса. Все меня обступили и забросали вопросами и новостями. Они спрашивают, и они же отвечают, обсуждают и спорят между собой, а я не слышу ни вопросов, ни ответов на них. Я пребываю где-то в другом мире, однако губы мои произносят какие-то слова. Все перемешано в разговоре: библейские стихи и изречения учителей наших с рассказами о товарищах из йешивы, которые в Судный День находились в укреплениях на Суэцком канале, и, словно сквозь пелену тумана, я вижу маму, которая смотрит на меня умоляюще, чтобы попил я чаю и поел бубликов с кунжутным семенем, которые она испекла сегодня — специально для меня, вижу отца, сидящего в стороне, со слезами на глазах.
Рав йешивы приподнял руку, и все приготовились слушать. «После того как царь наш Давид, — начал он, — спас овечку из пасти льва и из пасти медведя, сделал он себе одеяние из шерсти и носил его на голом теле, чтобы всегда помнить о милости, которую оказал ему Господь. И так говорил Давид царю Шаулу: „И льва, и медведя убивал раб твой“[26]». Сказав это, он обратился ко мне:
— Расскажи о делах Господа!
Все меня окружили. Думали услышать о чудесах и военных подвигах. Хорошо, расскажу.
…Мы прибыли в Нафах на танках в воскресенье вечером. Темноту освещали взрывы. Всюду горели танки. Лежащие на земле раненые кричали нам, чтобы мы двигались осторожно и не давили их гусеницами. Они ждали эвакуации в тыл. Некоторые лежали на трансмиссиях и на башнях танков. Какой-то человек сделал нам знак остановиться. Мы встали. На башню поднялся плотный широколицый мужчина и тихим, мягким голосом попросил нас присесть. Мы уселись на башне. Мы смертельно устали, а главное — были ошеломлены и подавлены. Не так представляли мы себе войну. Он тихо погладил каждого из нас по руке и сказал: «Шалом. Я командир полка». Мы взглянули на него с изумлением. Никогда еще так не обращался к нам командир полка.
В последний раз командир полка — не этот, другой — говорил с нами пять месяцев назад, за несколько дней до Дня Независимости. Наш батальон стоял тогда на канале, и рота занимала один из укрепленных пунктов. Все молодые солдаты да несколько резервистов-десантников из Иерусалима, присланных в качестве подкрепления на две недели. Было объявлено состояние боевой готовности. Говорили, что получены тревожные сведения. Нас предупредили, что должен прибыть командир полка. В течение всего дня мы чистили укрепления, вымыли кухню, аккуратно сложили боеприпасы и до блеска надраили автоматы. Нас собрали за час до назначенного времени. Мы прождали его во дворе два часа под палящим солнцем. Наконец он (или его заместитель) прибыл.
И сразу, без какого-либо вступления, резким командирским голосом стал допрашивать:
— Египтяне внезапно атакуют оттуда. — Он указал в направлении канала. Что вы намереваетесь в этом случае предпринять?
Несколько солдат попытались ответить, какую позицию они займут, с каким именно пулеметом, но он тут же прервал их с презрительной усмешкой:
— Десятки египетских танков окружили ваше укрепление, их солдаты уже здесь, — он указал на ворота, — а оттуда, — взмах рукой в сторону канала, — переправляются ещё сотни. Чем тут поможет пулемет? Что будете делать? Смотреть на них?
Мы молчали. Один солдат набрался смелости и спросил:
— И в самом деле, что нам делать?
Некоторые офицеры — из наших и те, что приехали вместе с ним, — рассмеялись. Один сказал:
— Что, ребята, испугались? Успокойтесь. Есть те, кто знает, что делать. Положитесь на них.
Гости из полка отбыли. Мы вернулись к обычным занятиям. Дозорная служба, построение, дежурство на кухне. В свободное время солдаты слонялись по двору и грызли зеленые яблоки, беря их из огромной кастрюли, где они лежали, залитые хлорированной водой. Никто не упоминал о встрече с командиром полка. Почти никто.
В ту ночь я стоял последним ночным дозорным на западной позиции, обращенной в сторону канала. Я любил дежурить в эти часы, смотреть, как восходящая заря постепенно изгоняет темноту и как прорисовывается венчик солнца. Это было самое обычное дежурство, совершенно спокойное. Еще до рассвета я приготовил талит и тфилин и ждал того времени, когда можно будет различить силуэт человека на расстоянии четырех локтей[27]. И тут я увидел солдата, направлявшегося в мою сторону. Я не узнал его, пока он не подошел ближе. Высокий, немного сутулый, черные пронзительные глаза. Заместитель командира роты, один из офицеров-резервистов, десантник, студент философского факультета Иерусалимского университета. Поговорили о том о сем. Ему известно, сказал он, что я студент йешивы, изучаю Маймонида. А он давно ищет кого-нибудь, чтобы прояснить кое-какие взгляды Маймонида.
Мы обсуждали роль Провидения в жизни отдельного человека. Ведь Маймонид полагал, что мир движется по изначально заданным законам, но тогда как он объясняет роль Провидения? И разве, согласно установленному миропорядку, с праведником и со злодеем не может случиться одно и то же?
Я ответил, что знал, — процитировал слова из «Путеводителя растерянных»[28], рассказал о разных взглядах на Провидение и о том, что, по мнению Маймонида, действие Провидения распространяется только на человека. И еще я рассказал ему, что Маймониду открылось нечто поразительное: наличие связи между интеллектуальным усилием человека, устремляющим его к Богу, и мощью Божественной эманации, изливающейся на человека.
Так мы продолжали беседовать; он ставил передо мной трудные теологические вопросы, а я отвечал и объяснял то, что знал. На один из вопросов я затруднился ответить сразу и, пока раздумывал, он вдруг сказал: «Египтяне нападут именно сейчас, на рассвете, и именно здесь». Офицер-студент обернулся, взглянул на укрепление, потом снова посмотрел на канал: «Я знаю это. Все спят, все тихо. Но я не могу оставаться спокойным. Я читаю сводки, которые получает ротный командир, и потому я взволнован. Уже несколько ночей подряд я обхожу позиции перед рассветом и смотрю на канал. Ты слышал, о чем говорил сегодня командир? Он спросил, что мы намереваемся делать, если десятки танков здесь, напротив нас, форсируют канал? Все смеялись. Я — нет. Я мысленно вижу сейчас, как они переправляются по мостам. Вижу, как начинается атака. И я не знаю, как ее остановить. Хоть бы кончились уже наши милуим[29]. Товарищи прозвали меня „философом“, может, они и правы, но я не понимаю, на что они надеются, не понимаю их спокойствия». Офицер замолчал и, не дожидаясь моего ответа, повторив еще и еще раз «я не спокоен, я не спокоен», ушел.
Встреча с командиром полка в Нафахе, в полночь, была совершенно другой.
Поднявшийся к нам на танк плотный человек с покрытым пылью лицом тихо сказал: «Здравствуйте. Я ваш командир полка». Затем достал плитку шоколада и поделил между нами. «Я знаю, — сказал он, — вам очень трудно, вы молоды. Но и мне трудно тоже. Я уже участвовал в тяжелой войне, но на этот раз — война другая, совсем другая. Вышло из строя много танков, и командный состав полка понес тяжелые потери. Вы остались без командира батальона и без командира роты. Трудно, очень трудно, но я уверен, что мы победим. Побеждает тот, кто крепче держится. Кто не проявляет слабости. Мы победим. У нас просто нет выхода, мы обязаны победить. Все надеются на вас, весь народ Израиля. Мы здесь формируем полк заново, из всех оставшихся танков, и под утро атакуем Хушние. Я знаю, что вас будут обстреливать ракетами. Я знаю, что этого вам не говорили и на учениях не готовили к защите от ракет. Но не нужно впадать в панику. Кое-что можно сделать. Обратите внимание вот на что: стрелок, запускающий „сагер“. прицеливается вот так, видите? — Он показал на пальцах, как тот целится. — Если стрелять по нему так, — он направил ствол командирского пулемета вверх и в пространство, — можно его запутать, и он промахнется. Я сам вчера дважды это проделал, когда меня обстреливали ракетами в районе старого нефтепровода. Это работает, главное — палить по нему много», — так он сказал и тихо, спокойно объяснил каждому члену экипажа, что ему надлежит делать, когда нас начнут обстреливать ракетами.
На прощанье командир полка сказал: «Шалом вам. Я вас всех люблю. Подготовьте танк. Мы выступаем с рассветом. У вас осталось на отдых четыре часа. Используйте их. Завтра тяжелый день. Заправкой танков займутся десантники. Не вы. Вы должны отдохнуть. И пожалуйста, не вылезайте из танка. Это приказ. Один должен остаться дежурить на башне и смотреть в оба. Есть подозрение, что в расположение наших танков проникли сирийские коммандос, которых доставили на вертолетах. Вопросы есть?»
Ох, сколько их было, но никто ни о чем не спросил. Да он этого и не ждал. Не такое время сейчас, чтобы задавать вопросы. Он пожал нам, каждому, руку, снова сказал: «Шалом, ребята. Я вас люблю», легко спрыгнул с танка и влез на соседний.
Мы закончили приготовления и снова уселись на башне. Открыли жестянку с бисквитами, единственную еду, что нашлась в танке, произнесли благословение и поели. Первая трапеза после поста. Говорили мудрецы, что стол, за которым не говорят о Торе, подобен жертвеннику мертвецов. Поэтому Рони сказал слова Торы, сформулировал заключенную в них проблему и нашел ее решение.
И тогда сказал Гиди, наш командир: «У нас осталось четыре часа. Мы все валимся с ног. Каждый из нас будет три часа спать и час дежурить. О порядке договоритесь между собой. Но первым буду дежурить я — так мне удастся поспать три часа подряд. Завтра это мне пригодится». Никто не стал спорить, все понимали. Не снимая комбинезонов, оружия и ботинок, мы отправились за своими порциями сна. Водитель заснул в кабине, заряжающий — на трансмиссии, а я свернулся на своем месте наводчика — плечо опиралось на щиток пушки, голова — на прицел. В таком положении мы спали на учениях: нам объяснили, что так спят во время войны. Гиди остался сторожить на башне.
В четыре утра мы все проснулись от шума моторов. Гиди торопил нас:
— Завести мотор! Подготовить боеприпасы! Наполнить канистры! Танки уже выступают!
Мы переглянулись. «Гиди! — спросили мы. — Почему ты не будил нас дежурить?» Мы тотчас поняли, что он охранял нас всю ночь и не спал ни секунды… Гиди посмотрел на нас и сказал немного смущенно: «Вы были такие измученные. И вы такие молодые, совсем дети. Я просто не мог».
Я закончил рассказывать и посмотрел вокруг. Стояла тишина. Наивные они были, эти студенты. Не такое предполагали услышать. Не было в моем рассказе ни описания военных подвигов, ни геройства. Но тут кивнул головой дед.
— Твой дедушка хочет произнести проповедь, — сказал рав йешивы.
Дед, по своему обыкновению, помолчал. Его черные глаза внимательно посмотрели на каждого. Потом раздался его глубокий голос. Вместо проповеди он прочел благодарственный гимн. Он читал с печальным напевом, совсем не с тем, что мы привыкли слышать в дни праздников. Так он произносил эти слова в Судный День в синагоге «Врата небес» — от этой мелодии в детстве я трепетал. И так читал дед:
Из тесноты воззвал я к Господу простором ответил мне Господь. Господь мой со мною, не устрашусь. Что сделает мне человек? Окружили меня все народы, но именем Господа я сокрушу их — в Войне за Независимость. …Окружили меня, окружили, но именем Господа я сокрушу их — В Синайскую кампанию. Окружили меня, как пчелы, но угасли, как огонь в колючках, — Именем Господа я сокрушу их в Шестидневную войну. Толкнули меня, чтобы пал я, но Господь помог мне, — в этой войне Войне Судного Дня. Сила моя и ликование — Господь, и стал Он спасением мне[30].Дед замолчал. Но там дальше был еще стих, который стоял перед моими глазами и взывал: «Прочти меня тоже!» И я уже хотел сказать: «Сурово наказывал меня Господь, но смерти не предал», как возник передо мной Дов — с мечтательными глазами, с раскрытой «Вечностью Израиля» Маараля — как на кордоне в Рас-Судар.
Я промолчал. Комната опустела. По дому разлилась тишина. Мама позвала меня в другую комнату. Встала передо мной, посмотрела так, как не смотрела никогда, и спросила: «Что с Довом?»
Я сказал: «Не знаю. Никто не знает. Мы вообще не были вместе».
Она не отставала: «Вы всегда были вместе. Ты обязан сказать мне, что с Довом». Мать Дова звонила ей каждый день. Я молчал. Она думала, что я пытаюсь уйти от ответа, старалась прочесть его в моих глазах и опять и опять спрашивала.
Как убедить ее, что я и вправду не знаю? Кто вообще в состоянии понять, что там происходило — в тот день?
«Ты должен пойти к ней и все рассказать».
Что рассказать?
Я знал, как это будет: я приду к ним в дом, и мать Дова спросит: «Вы всегда были в одном танке, ушли отсюда вместе, ты вернулся, где Дов?»
ХЭЙ
Утренние благословения — они особенные и отличаются от всех других благословений. Особенные по способу выражения и особенные по назначению. Человек произносит их, пробуждаясь ото сна, его душа чиста, сердце устремлено к Создателю, и ничто постороннее еще не вторглось в этот чистый настрой и не замутило его. Порой вспоминаешь сладость минуты, когда произносил их ребенком, наивным и чистым, еще не отягощенным никакими грехами. Особенно — самое первое благословение, отличное от всех иных: «Благодарю Тебя, Владыка Живой и Вечный, за то, что Ты, по милости Своей, возвратил мне мою душу. Велика вера Твоя». Такие слова вложили в утреннее благословение законоучители из Цфата. Каждое утро возвращается заново душа в тело человека и обновляется его вера. Сегодняшняя вера не похожа на ту, что была вчера. Ведь всякий день многое видит человек, многое слышит, о многом думает; и много чего происходит с ним. И обретает он ежедневно новую веру.
Каким он был, когда ложился к ночи в свою постель? Утомленным и слабым. Картины прошедшего дня перемешались и заполонили его душу; все нехорошее, что он сделал, растравляло и тяготило его. Удручали мысли о потерянном попусту времени, вызывали раздражение какие-то дела и люди. В таком состоянии человек уснул и вверил свою душу Богу, а утром получил ее другой, свежей и бодрой, чистой и светлой. Новый день пришел в мир и сбросил с себя старые одежды, как орел, который в единый миг сбрасывает старое оперенье и заново обретет молодость.
Такое случается по утрам с каждым человеком — насколько же острее переживал я это, когда проснулся дома, вернувшись с войны. Все, что терзало и мучило душу с самого Судного Дня, я временно вверил Господу, когда читал на ночь в постели Шма Исраэль. Я пробудился с новой зарей. «Боже мой! Душа, что вернул Ты мне, — чиста и светла»[31]. Настал новый день, и новый мир призывает меня. И может быть, размышлял я, когда-нибудь вернется ко мне душа такой же, какой была до Судного Дня.
Я встал бодрым и полным жизни. Двадцать четыре часа отпуска — как много я перечувствовал за это время и как все это способствовало моему обновлению. Помолившись с восходом, как самый благочестивый еврей, я приладил себе на спину туго набитый рюкзак и поехал на центральную автобусную станцию. Утро было довольно прохладным. Автобусная станция только-только стала оживать после ночи. Водители пригоняли со стоянки свои автобусы, протирали стекла от ночной росы. Один за другим открывались киоски и буфеты, на прилавки выкладывались нейлоновые пакетики с бутербродами. Пассажиров было мало. Только к автобусу № 963 на Тверию и Рош-Пину стояла очередь в три ряда — в основном солдаты. Молоденькие, чисто выбритые, в беретах и выходной форме со знаками своих частей; танкисты в огнестойких комбинезонах, возвращающиеся из двадцатичетырехчасового отпуска; отпустившие бороду резервисты в неряшливой спецодежде и шерстяных шапочках самой невероятной расцветки, чтобы всякому было ясно: они из резерва, а не просто солдаты неведомо каких частей. Некоторые жевали только что купленные бутерброды, другие сидели, перелистывая внутренние страницы вчерашних газет, где печаталась всякая всячина, кое-кто пытался восполнить нехватку утреннего сна — эти дремали, положив голову на плечо товарища или на вещмешки, разбухшие от всякого домашнего добра. В самом начале очереди весело болтали мальчики и девочки в цветастой одежде. В сторонке, держа в руках маленький молитвенник и стараясь обратить лицо точно на восток, молилась женщина. Старик с ничего не выражающим лицом бренчал копилкой и выкрикивал: «Цдака! Цдака спасает от смерти!» Другой старик раздавал книжечки псалмов — крошечные, как амулеты. Какая-то супружеская пара в панике бежала в нашу сторону, и муж, размахивая двумя чемоданами, кричал на ходу: «Ушел? Автобус на Тверию уже ушел?» А жена вторила ему ворчливо: «Ушел. Чего ты спрашиваешь? Конечно, ушел. Ты что, не видишь, что ушел? На минуту опоздали! Всегда мы опаздываем». — «Нет, нет, не опоздали, — возразил мужчина с чемоданами, посмотрев на часы. — Мы пришли как раз вовремя. Это водители отправляются обычно раньше, чем положено. Что поделаешь? Подождем следующего. Всегда приходится ждать. Все ждут, в конце концов он придет. Должен прийти».
Никто и не подумал успокоить их, сказать, что не опоздали. Да они и не ожидали ответа. Один старый человек в выцветшей шапке присел рядом со мной и спросил, то ли в самом деле желая что-то выяснить, то ли — чтобы завязать беседу:
— Солдат! Это очередь на Тверию?
— Да, — ответил я кратко и встал, надеясь уклониться от дальнейших расспросов, — вон на указателе стоит: «Тверия».
— И ты, солдат, тоже едешь в Тверию, ты тоже? Ты знаешь Тверию? И где могила Рамбама знаешь, могила Рамбама? Слушай, солдат, — зашептал старик мне на ухо, — сегодня у меня праздник. Спросишь какой? С чего это вдруг праздник в будний день, ты спросишь? Слушай, солдат, я закончил Рамбама. Три года я изучал его. Каждый день по главе. Тысяча глав в Мишне Тора, и еще шесть приходится на приложения, вступление и предисловие. Всего тысяча шесть частей, что равно числовому значению слов «Мишне Тора». И сегодня я заканчиваю изучать Рамбама. В Тверии, на его могиле.
Старик вытащил из своей торбы маленький старый томик Маймонида и пластиковый мешочек с финиками.
— Я приготовил финики для торжественной трапезы, и бутылочка вина у меня тоже есть. Вино старое. Я сам его делал. На обрезание внука, сына сына моего. Я был сандак. Благодарение Богу. Удостоился, благодарение Богу. Солдат, ты уверен, что тут ждут автобус на Тверию, ты уверен? Ты хорошо видишь? — шепчет он, сверкая маленькими глазками, и сует мне раскрытый томик. — Это два последних раздела Рамбама — о царях и войнах, которые они ведут. Книга двенадцатая. Ты имеешь право прочесть, я — нет. Я должен на этом закончить всю книгу, но не здесь, не на автобусной станции. Но ты можешь прочесть.
Он прикрыл глаза правой рукой, как делают, когда говорят «Шма Исраэль».
И я читаю:
Не для того страстно ожидали прихода Машиаха наши учители и пророки, чтобы править миром. И не для того, чтобы властвовать над неевреями. И не для того, чтобы вознесли их другие народы. И не для того, чтобы есть, пить и веселиться. Но для того, чтобы стать свободными для Торы и мудрости. И чтобы не было над ними угнетателя и притеснителя.
И чтобы удостоиться жизни в грядущем мире. Потому что в те времена не будет ни голода, ни войны. Ни зависти, ни соперничества, и щедро будет изливаться добро. И яства будут в изобилии, как прах земной. И весь мир не будет заниматься ничем, кроме познания Господа.
Я закрыл книгу и вернул ему.
— Закончил? — спросил он и открыл глаза. — А сейчас, солдат, прочти самый первый раздел. Так принято у евреев: заканчиваем изучать и тут же начинаем вновь, потому что у Торы нет конца.
Старик снова закрыл глаза и снова сказал:
— Я должен прочесть это в Тверии, у Рамбама. А ты — читай! Читай!
Я прочел:
«Основа основ и основание мудрости — знать, что есть Господь».
— Прочел? Удачи тебе, солдат. — Он закрыл книжку. — Солдат, ты уверен, что автобус на Тверию отправляется отсюда?
Он взял свой узелок и пошел посмотреть, что написано на указателе. Больше я его не видел.
Кто-то хлопнул меня по плечу:
— Привет! В вашей роте тоже дают отпуск одному экипажу на двадцать четыре часа?
Это был Моти из 3-й роты. Все возвращалось вновь. Все кошмары. А я так искал покоя. Покоя для меня уже не будет.
На исходе Судного Дня мы ехали в одном автобусе на Тверию. Моти сидел рядом с Шаей. Шая погиб. Я сидел рядом с Довом. Дов погиб. Они сидели перед нами, и я помню, как всю дорогу они болтали и смеялись. Удивлялись тому, что Израиль взял с собой лулав и этрог: «Ты что? Думаешь застрять на Голанах до Суккот? Ты несколько преувеличиваешь, готовя нам долгую войну». По правде сказать, Израиль удивил всех. Кто мог тогда знать, что мы еще будем на Голанах есть мацу на Песах. Израиль оправдывался: «Мой отец хасид. Он меня заставил. Его ребе постановил, что после Йом-Кипур нельзя отправляться куда-либо без этрога и лулава. Кто знает, что будет».
— Цдака спасает от смерти! Цдака спасает от смерти! — выкрикивал старик, без устали бренча копилкой.
Автобус на Тверию все не приходил. Прибывали другие, отправлялись, но на Тверию не было. Мужчина с чемоданами успокаивал жену:
— Все ждут, значит, он придет. Раз все его ждут, он должен прийти.
Ей не очень верилось.
Некоторые нервно поглядывали на часы. Солдаты ждали равнодушно. Они никуда не торопились. Мы с Моти молчали.
— Давно хочу тебя спросить, — сказал он вдруг, — может, вспомнишь. В ту ночь, когда мы прибыли в Ифтах после Йом-Кипур, когда все были заняты подготовкой танков и было полно работы, ты, едва начало светать, подошел к нашему танку попрощаться с Довом. Он в это время читал утренние благословения и не хотел прерываться, и вместо того, чтобы ответить тебе, стал читать их громче, как бы специально для тебя. Вот это место: «Душа, которую Ты даровал мне, чиста она. Ты сотворил ее, Ты создал ее, Ты вдохнул ее в меня и Ты поддерживаешь ее существование во мне, и в будущем заберешь ее у меня и вернешь ее мне в грядущие времена… Все время, пока душа обитает во мне» — и тут ты помахал ему рукой, влез на танк и стал умолять меня срочно найти тебе портновские нитки. Помню, сказал ты, что во время тиронута все знали, что у тебя можно найти все — даже булавки и нитки. Что тебе тогда приспичило шить в такой суматохе? — спросил Моти. И добавил: — Не знаю, почему это засело у меня в голове: как на рассвете ты влезаешь к нам на танк и умоляешь достать тебе нитки… Может, это потому, что тогда я видел Дова в последний раз. Он пересел на другой танк. Я много раз хотел спросить тебя, но мы как-то не встречались. Ты, конечно, об этом не помнишь.
— Конечно же помню, — ответил я. — Я достал у тебя нитки, однако они мне не помогли. Мы подготавливали танк в спешке, когда еще было темно. Со всех сторон доносилось: «Взять снаряды… Принести оружие… Найти бинокль… Отыскать кого-то из экипажа…» Я полез проверить прицел. Вспомнил, как вдалбливал в меня Бенни, командир роты, на танковых учениях в Рефидим: «Наводчик не идет в бой, не выверив прицел. Невозможно поразить врага, когда орудие не пристреляно». В ту ночь в Ифтахе я все время видел перед собой Бенни и слышал его голос: «Наводчик! Выверить прицел!» Как только начало светать, я решил отыскать у танкистов проверочный блок системы наводки. Все смеялись: «Где ты сейчас его возьмешь? Биноклей — и тех нет, а ты хочешь достать проверочный блок? У кого вообще есть для этого сейчас время?» И один офицер закричал на меня: «Ты что, не понимаешь, что мы должны подняться на Голаны как можно скорее?» Тут я вспомнил, что Эран, наш командир танка тогда в Рефидим учил нас, как можно произвести наводку без проверочного блока — с помощью креста из ниток, который крепится на дульный срез. Я знал, что только у тебя и смогу найти нитки. И не ошибся. Сделал из них крест и прикрепил его солидолом. В обычное время наводкой занимаются двое, но все были заняты другим. Никто не мог мне помочь. Я взобрался на место заряжающего, снял боек и пролез к себе, чтобы найти крест, но тут как раз, когда мне это почти удалось, — замкомроты или какой-то другой офицер крикнул Рони: «Водитель! Двигай, наконец! Кого ты ждешь?» «Еще одну минуту, — прошу я его, — еще минуту, и я закончу». «Ни минуты, ни полминуты, вы должны были уже быть там! Вы что, не понимаете, что происходит наверху?!» — закричал он.
Мы тронулись, пушку тряхнуло, прицел исчез. Жалко, не успел. Я вернул боек на место. Мы вышли на войну, как все. С невыверенным прицелом. Гиди меня успокаивал: «Не волнуйся. Сделаем на месте». Он думал, что эта война будет похожа на Шестидневную. Мне не хватило всего двух минут. Если бы они у меня были…
— Действительно, жаль, — сказал Моти. — Если бы ты успел тогда, кто знает?
Я промолчал.
— Цдака, цдака спасает от смерти! — тянул свое старик.
Мужчина с чемоданами говорил жене:
— Пожалуй, на этот раз ты оказалась права. Действительно, пропустили автобус. Опоздали. Впрочем, всякая задержка к добру, — пытался он утешить жену, а заодно и себя. — Может, это и хорошо, что опоздали. Все от Бога.
Женщина не очень-то верила.
— Что ты знаешь? — твердил муж с чемоданами. — Кто вообще знает?
ВАВ
Открылся Кинерет. Тивериадское море. Автобус повернул влево, и теперь отливающий лазурью Кинерет от нас справа. Как и всегда, разлит на нем покой и веет от него волшебством и очарованием. Большинство людей в автобусе дремлют. Я гляжу на озеро и думаю: что есть в нем такого, что завораживает всякого? Может быть, потому, что в него погружен колодец Мирьям…
У нас в талмуд-торе экскурсии были редки, но каждый год во время многодневных праздников мы ездили в Тверию и на гору Мерон. Мы всегда очень волновались перед поездкой. За неделю до нее учитель начинал рассказывать о мудрецах Тверии и каббалистах Цфата, о рабби Меире[32], чудотворце, чья гробница с большим круглым куполом смотрит в воды Кинерета. Многие люди, с которыми приключилась беда, приходят молиться на его могилу. А почему зовут его чудотворцем? Об этом следующая история:
Одним из десяти мучеников за веру во времена римского владычества был р. Ханина бен-Терадион. Однажды пошел он навестить больного р. Йосе бен-Кисму.
Сказал ему р. Йосе:
— Ханина, брат мой! Разве ты не видишь, что этому народу (римлянам) дана власть над нами свыше? Они разрушили Его Храм, сожгли Его святыню, убили праведных и погубили избранных, и до сих пор не понесли за это наказания. А про тебя рассказывают, что ты продолжаешь изучать Тору и собираешь собрания, и держишь открыто свиток Завета!
Сказал ему р. Ханина: «Господь милостив».
Сказал ему р. Йосе: «Я говорю тебе важные вещи, а ты отвечаешь „Господь милостив“. Будет чудом, если не сожгут тебя и свитки Торы с тобой».
Сказал ему р. Ханина: «Рабби, удостоюсь ли я того, что уделом моим будет мир грядущий?»
Сказал ему р. Йосе: «Знаешь ли ты за собой какой-нибудь грех?»
Сказал ему р. Ханина: «Деньги, что я собирал на Пурим, я по ошибке смешал с деньгами для бедных».
Сказал ему р. Йосе: «Если так, да будет мой удел подобен твоему».
Рассказывают, что вскоре р. Йосе умер и на его погребение пришли самые знатные римляне. А на обратном пути уличили они рабби Ханину в том, что сидит он и занимается Торой, собирает общественные собрания и свиток Торы лежит у него за пазухой. И присудили они его к сожжению, жену его — к смерти от меча, а дочь решили отдать на посрамление. Привели его к месту казни, завернули в свиток, окружили обрезками лозы и подожгли. Принесли также очески хлопка, намочили и приложили к сердцу его, чтобы подольше не расставался с жизнью.
Сказала ему дочь: «Отец, я не могу этого видеть».
Ответил ей: «Если бы я сгорал в одиночестве, то страдал бы, но вот я сгораю, и свиток Торы со мной, поэтому всякий, кто ищет унижения Торы, ищет и моего унижения».
Спросили его ученики: «Рабби, что ты видишь?»
Ответил им: «Листы сгорают, а буквы отлетают».
Сказал ему палач: «Рабби, если я усилю пламя и сниму с сердца твоего очески, удостоюсь ли того, что уделом моим будет мир грядущий?»
Сказал ему: «Я тому порукой».
— Поклянись!
Поклялся ему р. Ханина, сделал палач, как обещал, и отлетела душа рабби Ханины. Бросился палач в костер и исчез в пламени. И прозвучал глас небесный: «Уделом рабби Ханины и палачу его стал мир грядущий».
И плакал Рабби[33] и говорил: «Одни обретают мир грядущий в мгновенье ока, другие же трудятся над этим многие годы».
«После того как сожгли р. Ханину, — рассказывал нам учитель, — увели в узилище его дочь. А другая дочь р. Ханины, Брурия, была женой р. Меира. И попросила она мужа выкупить ее сестру из плена. Взял р. Меир мешок с динарами, пошел к стражнику и сказал ему:
— Возьми эти деньги и отдай мне ее.
Сказал ему стражник: „Я боюсь властей“.
Сказал ему р. Меир: „Половину денег отдай начальнику, половину возьми себе“.
Сказал ему стражник: „Боюсь я“.
Сказал ему р. Меир: „Если схватят тебя, скажи: „Бог р. Меира, помоги мне!“ — и спасешься“.
И было так. Схватили власти этого стражника и поволокли его к месту казни, и произнес он то, что сказал ему р. Меир, и спасся».
И еще рассказывал нам учитель о рабби Шимоне Бар-Йохае[34] и его сыне рабби Эльазаре, о святом Ари[35] из Цфата, который однажды в пятницу сказал своим ученикам: «Пойдемте, встретим Субботу в Иерусалиме».
Ответили ему: «Посоветуемся с нашими семьями». Сильно опечалился святой Ари, хлопнул с досадой в ладоши и сказал, что если бы они ответили: «Готовы мы», — тут же пришел бы Машиах сын Давида, но, поскольку они замешкались, час был упущен.
День экскурсии выдался очень хорошим — не жарко, но и не холодно. Мы выехали рано утром. Сидели в автобусе по двое. Я — с Довом. По дороге заезжали в разные места, и в Тверию прибыли перед заходом солнца. Когда из окон автобуса мы увидели Кинерет, учитель спросил, кто знает о Кинерете песни. Дети запели с воодушевлением известные всем песни. Едва кончали одну, как тут же начинали другую. Наконец всё перепели и замолчали.
Учитель спросил, не знает ли кто-нибудь еще какой-нибудь песни. Я нерешительно поднял руку и сказал, что знаю песню о Тверии и Кинерете, но она особого рода — это пиют, гимн. «Что значит „особого рода“? Песня — это песня», — сказал учитель и попросил детей замолчать. Я запел:
Каждый день буду ждать, истомились глаза от ожидания, [что] приду и увижу Святую землю Тверию.Я очень гордился тем, что знаю наизусть много строф этого гимна, но, заметив, что никто из детей не слушает, замолчал. Они же запели песенку, которую сочинили про водителя нашего автобуса.
Учитель спросил, откуда я знаю эту песню. Я ответил, что ей научил нас господин Ревах, который преподает пиют и природоведение в клубе «Тикватейну» в Бет-Мазмиль. Рассказывают, что когда-то он был известен своей литургической поэзией. Около своего барака он развел маленький огород, и потому ему также поручили природоведение.
Я вернулся на свое место. Дов, пытаясь утешить меня, попросил, чтобы я спел ему еще несколько строф. Я спел.
Показался белый купол гробницы рабби Меира Чудотворца. Дов спросил, помню ли я историю про рабби Ханину и про свиток Торы, от которого в пламени костра отлетали огненные буквы. Я ответил, что помню. Дов сказал:
— Вообще-то мне не все ясно в рассказах о р. Ханине. Когда однажды спросил он у р. Йосе: «Удостоюсь ли я удела в мире грядущем?», ответил ему р. Йосе вопросом: «Какое доброе дело ты совершил?» Что он имел в виду? Можно предположить, что р. Йосе хотел выяснить у р. Ханины окольным путем, не числится ли за ним какой-нибудь грех. Рабби Ханина ответил, что один раз он по ошибке перепутал деньги, собранные для бедных, с деньгами на трапезу в Пурим. И на это сказал ему р. Йосе: «Да будет мой удел подобным твоему». Дов помолчал, затем продолжил: — Мне кажется, все это надо понимать иначе. Я бы сказал так: «Спросил р. Йосе у р. Ханины: „Совершил ли ты когда-нибудь доброе дело?“ На что ответил ему р. Ханина, что как-то раз он по ошибке смешал деньги, которые приготовил на трапезу в Пурим, с теми деньгами, которые собрал для бедных, и, чтобы устранить сомнения, отдал все эти деньги бедным. И если смысл таков, то что стоит за вопросом р. Йосе к р. Ханине: „Совершил ли ты доброе дело?“ Ведь р. Йосе собственными глазами видел, как р. Ханина собирал вокруг себя людей и, несмотря на запрет и гонения римлян, занимался с ними Торой и готов был с радостью заплатить за это жизнью. Тогда что это за вопрос такой: „Вершил ли ты добрые дела?“ Это что, ничего не стоило — то, что делал р. Ханина?»
Я молчал. Дов подумал минуту и сам ответил на свой вопрос:
— Суть в том, что дела бывают разные. Есть великие дела, и совершают их великие люди в великие мгновения своей жизни, и все знают об этом. И есть дела, которые выглядят малыми, и происходят они в обычное время, в обычные дни, но они-то и есть истинно великие дела, и именно благодаря им человек обретает мир грядущий.
Большинство пассажиров сошли в Тверии. Остались немногие — одни солдаты. В Рош-Пине вышли и мы. На обочине шоссе стояли женщины из Комитета помощи солдатам и предлагали горячий кофе в пластиковых стаканчиках и печенье. Один человек продавал специальные молнии для армейских ботинок — новое изобретение. Мы уселись около бензоколонки на рюкзаках в ожидании тремпа. Попеременно кто-нибудь из нас стоял на шоссе и пытался остановить пролетавшие мимо машины. Подошла и моя очередь стоять с просительно вытянутой рукой.
Остановилась маленькая машина. За рулем женщина. «На Голаны, — сказала она, — через мост Бнот-Яаков. До Нафаха, до каменоломни». «Что ей там понадобилось?» — промелькнуло у меня в голове. Четверо — Моти, я и двое солдат действительной службы из «Голани» — набились в машину вместе со своими мешками, автоматами и налипшей на ботинки грязью. Женщина не сказала ни слова. Поехали. Солдаты из «Голани» сразу же задремали. Моти достал книгу. Я смотрел в окно. Что-то трепетало во мне. Я был напряжен, как струна перед прикосновением музыканта. Все, что я видел, будило воспоминания. Одна картина сменяла другую. Это в точности тот самый путь. Этой дорогой мы поднимались на Голаны в танках на исходе Судного Дня.
С высоких эвкалиптов, растущих при выезде из Рош-Пины, стекали капли дождя. Машину наполнил пряный, острый запах раздавленной коры и листьев, налипших на солдатские ботинки. Я узнал этот запах, он вернул меня в то время, когда мы, несколько уцелевших, но оставшихся без танков танкистов, стояли под эвкалиптовым деревом, перебирая пальцами его листья. Мы тогда спустились с Голан в Рош-Пину и молча ждали, когда из мастерской Мориса выйдет очередной отремонтированный танк и комплектующий экипажи офицер выкликнет: «Наводчик! Водитель! Заряжающий!» На этот раз мы знали, куда идем. Через усилители дивизионной связи доносились отголоски боя, который вели в это время наши танки. Мы не вслушивались. Мы там были.
Запах эвкалиптовых листьев связался с тем, как переглядывались мы в тот час, ожидая, кто первым откликнется на призыв и скажет: «Это я. Я иду», — и кто на минуту отведет глаза, чтобы не встретиться взглядом с офицером или товарищами. Все знали, что это значит, но не говорили ни слова. Был среди нас один, который еще ни разу не участвовал в бою. Тоже наводчик. Он опоздал с прибытием в Ифтах, а когда явился, уже не было танков. И после так и не нашел танк для себя. Офицер выкликнул: «Наводчик!» Все посмотрели на этого парня. На мгновение взгляды скрестились. Что они выражали — было ясно: «Мы уже там побывали. Сейчас твоя очередь». Он отвел взгляд. Вторым на очереди наводчиком был Моти. За ним — я. Я видел, как Моти резко повернул голову в сторону того солдата и молча смотрел на него, сжав губы. Я смотрел на них обоих и тоже молчал. Моти отправился на Голаны. Я ушел следующим. Тот так и не пошел. И спустя годы, каждый раз, когда я встречался с тем наводчиком, он отводил взгляд и опускал глаза. Я понимал, что он хочет сказать: «Прости меня».
Я не мог.
Спускаемся к мосту Бнот-Яаков. Женщина за рулем — опытный водитель, и видно, что она прекрасно знает дорогу. Вероятно, местная. Моти задремал тоже. Вот здесь, на этом резком повороте, весело махнул мне рукой Сариэль, все еще в субботней одежде, не успевший сменить ее на комбинезон: он был заряжающим и все время загружал танки снарядами. В этой одежде его и нашли потом, отошедшим в мир вечной Субботы. Вообще-то всегда, и в будние дни в йешиве, он был одет празднично и аккуратно. Но может быть, это сейчас мне так кажется.
Машина едет, и мои глаза не отрываются от окна. Как тяжело. Пробую закрыть их, но и с закрытыми глазами я вижу все. Приближается мост. Вот здесь, у кустов, что справа от дороги, в точности за этим деревом, мы видели целый батальон солдат мотопехоты, сидевших без дела на своих вещмешках: батальон резервистов-пехотинцев из другого полка пришел раньше, сразу по окончании Судного Дня, и увел у них бронетранспортеры. Командиры возмущались: «Как это может быть, что мотопехоту вдруг лишают транспорта? Что это за армия такая? Кто знает, ведь так можно и вообще не успеть на войну!» И вправду, кто знает.
Последний поворот перед мостом. Тут застрял танк Циона, и вся колонна встала. Командиры спрыгнули на дорогу и пошли помогать. Мы же использовали это время, чтобы обменяться несколькими словами с товарищами — обычными словами, кто же знал, что для Шмуэля, для Шаи и для Дова они последние.
Въезжаем на мост. Под нами Иордан, но глаза почему-то сами собой смотрят в небо. Я знаю почему. Именно отсюда мы видели падающий самолет. Гиди и Рони заспорили: наш это или их. Прав оказался Гиди. Но большинство из нас тогда еше не верили, что наши самолеты тоже можно сбить. Проехали мост. Волнение мое усилилось. Еще немного, и мы подъедем к Нафаху, к каменоломне, к нефтепроводу, к базальтовым глыбам и заграждениям для скота. В точности тот же путь. Я обязан разбудить Моти, может быть, немного поговорим. Ребята из «Голани» проснулись. Каменоломня. Я не сознавал, что говорю вслух. Не понимал, что рассказываю, а другие слушают.
— Вон там, видите это голое место? Там мы готовились к атаке на Хушние. Командир полка собрал нас здесь в полночь. Всех, кто остался. Нас назначили в прикрытие.
Я показываю рукой:
— Здесь стоял танк Авиу, заместителя командира роты. Мы прикрывали атаку вон с того холма, что напротив. Тут был танк 2-Алеф, рядом с ним — танк 2, а мы за ними, на той позиции. Солнце слепило, и мы просто ничего не видели. И вдруг сирийцы открыли по нам ураганный огонь из засады, которую устроили ночью. Они стояли здесь, — показываю я, — и палили в нас с близкого расстояния — настолько близкого, что один их танк занимал всю призму перископа. Мы тоже беспрерывно стреляли. С Эли лил пот, ему требовалось передохнуть хотя бы минуту, но он заряжал и заряжал. Снаряд за снарядом. Ему приходилось тяжелее всех нас, но он не произнес ни слова. Наклонялся, вынимал снаряд, заряжал. Мы выбирали позицию и били. Гиди не разрешал спускаться с холма. И тут сирийцы начали подбивать наши танки. Мы знали про каждый из них — кто в нем сидит. Танки горели, как костры. Нас обнаружили. Мы быстро поменяли позицию и снова начали стрелять.
Я на мгновение прервался и только тут понял, что все в машине меня слушают. Я и не предполагал даже, что говорю вслух. Женщина остановила машину и попросила показать, где стояли танки прикрытия. Все вышли. Я полез по камням, и все за мной. Ни минуты не колеблясь, показываю:
— Рота вошла сюда. — Взбегаю на холм и продолжаю: — Прикрытие было здесь. Танк командира роты стоял тут. Танк заместителя командира батальона там, его орудие было направлено в эту сторону, — объясняю я ей, а она слушает.
— А танк Авиу, — спрашивает, — где, ты говоришь, он стоял?
Я на минуту засомневался. Базальтовые валуны были похожи один на другой. Я перепрыгивал с камня на камень и вдруг встал. Клочок земли, рядом с ним колючий кустарник. Сказал:
— Здесь. Здесь он стоял. — Посмотрел на двух солдат из «Голани» и понял, что они не верят. Но мне было все равно. Я уже привык к тому, что не верят. Женщина слушала и как-то странно смотрела на это место. И я подумал, что она поверила.
— Идем к машине, — сказала.
Я помедлил минуту и пошарил по земле взглядом, словно пытаясь что-то отыскать. И увидел. И тут же узнал: половинка командирского бинокля, бинокля 7x50. Я поднял его. Все на меня смотрели.
— Вот, — сказал я, — это его бинокль, бинокль Авиу. Сломан. Это то место.
Женщина взяла обломок бинокля и посмотрела через него одним глазом на открывшийся перед ней простор. Только теперь дошло до меня, что надо бы спросить, что она делает в каменоломне и почему так всем этим интересуется.
— Эта каменоломня наша, нашего кибуца, — сказала она, как бы отвечая на мой незаданный вопрос. — Я из Кфар-Гилади. Авиу тоже. Он руководил здесь работами.
Мы пошли к машине. И тут она сказала, как бы про себя:
— Авиу мой брат.
ЗАЙН
Не все дни одинаковы, и не все часы. Бывают длинные дни, бывают короткие, есть часы наполненные и есть пустые. Есть дни, длящиеся годы, и есть годы, что проходят за несколько дней. Бывают минуты, кажущиеся нескончаемыми, а иногда целая жизнь пролетает, как сон.
Мой отпуск закончился. Двадцать четыре часа истекли. Но сколько времени прошло с тех пор, как я вышел из дому и вернулся на Голаны в свою часть, не знаю. Последний отпускной тремп был у меня от Кунейтры и до штаба батальона. Там я подошел к первой же машине, где была рация, связался с Хананом и доложил о прибытии. Я был рад услышать его голос. Еще до того как он закончил говорить со мной, он отправил домой другого наводчика: жаль каждой минуты отпуска. Около кухни солдаты загружали грузовик провизией, которую он должен был доставить в расположение разных частей. Рыжий старшина старался взять как можно больше свежих продуктов и солдатских пайков, а повар следил за тем, чтобы их как можно больше осталось в батальоне.
Я попросил Марциано, нашего кладовщика, позвать меня, когда они закончат, а сам тем временем пошел к палатке связистов: может, удастся позвонить домой. В те дни, когда нам случалось по какой-либо надобности бывать в штабе, мы старались воспользоваться возможностью позвонить. Там, где стояла наша рота, имелась только линия внутренней связи. Раз в несколько недель с почты присылали передвижную станцию. Это было настоящим праздником. Мы становились в очередь снова и снова, и нам удавалось поговорить по нескольку раз.
Я вошел в палатку. Дежурный связист возился у коммутатора, мигали оранжевые лампочки. Одна трубка была зажата около уха, в другую он говорил, одновременно обеими руками переключая телефонные провода. Он взглянул на меня и (я не успел еще ничего сказать), чуть поколебавшись, встал с места, снял наушники и подошел ко мне.
— Танкист, — сказал он, — ты меня, конечно, не помнишь, но зато я помню тебя и никогда не забуду. Я тебя сразу узнал. Не думал, что встречу снова. Не знал, что случилось с тобой во время войны. Не знал, жив ли ты и числишься ли еще в нашем батальоне… Прости меня. Я прошу у тебя прощения. Сейчас расскажу почему.
Я был первым, кого ты встретил на базе Ифтах, когда спустился с Голан, чтобы присоединиться к экипажу другого танка. Ты выглядел ужасно. Усталый, весь в копоти, лицо черное, глаза воспаленные, в нелепо болтающемся перепачканном комбинезоне, в руках — «узи» без ремня. Только взгляд твой был совершенно трезв и ясен. Я спросил тебя, что происходит на плато. Ты стал взволнованно рассказывать, что почти все танки вашей роты вышли из строя, что сирийцы в Нафахе, что они поджигают наши танки ракетами, что они сбивают наши самолеты. И много чего еще. Я тогда стоял на дежурстве у дверей столовой вместе с еще одним парнем, кладовщиком. Мы слушали тебя и перемигивались. Не верили ни одному твоему слову, но ты этого не понял. Мы решили, что ты просто в шоке, с молодыми бойцами такое случается. Мы об этом читали. Я сказал тебе тогда: «Пойди выпей чего-нибудь, успокойся, танки не так-то легко подбить, и самолеты ЦАХАЛа так просто не падают, все будет в порядке, еще несколько дней — и эта война закончится». То, что ты рассказывал, казалось неправдоподобным.
Связист отключил какого-то настырного абонента и продолжал:
— А потом вы попросили разрешения — ты и другой танкист, что был с тобой — пройти в столовую. Мы ответили, что это невозможно: столовая обслуживает только постоянный контингент базы. Мы действительно получили такое распоряжение. Нам объяснили, что танкистам выдан сухой паек и они едят в полевых условиях. Мне потом было так стыдно за эти слова. Если бы их можно было вернуть назад, проглотить, я бы сделал это. Кто тогда знал, через что вы прошли?
Длинный звонок и мигание оранжевой лампочки вернули связиста к коммутатору. Я его не помнил, но то, как мне и Эли не дали поесть в столовой на нашей базе, помнил отлично. Спешившие добраться сюда после того, как наш танк подбили, чтобы пересесть на другой и вернуться в бой, — мы стояли перед входом в столовую в роли нарушителей, которым делают выговор. Усталые и голодные, мы смотрели на входивших в столовую и выходивших из нее солдат, беззаботно болтающих между собой. Никто из них не сказал нам ни слова. Подошел командир роты моторизованной пехоты нашего батальона. Они все еще сидели на базе. Заместитель командира полка сказал, что на сей раз эта война не для них и он не даст им рисковать собой без надобности. Сейчас они просто бесполезны. Увидев нас, командир роты спросил, что случилось, и отвел в офицерскую столовую. Ни на возмущение, ни на обиду у нас тогда не было сил.
Марциано, кладовщик, искал меня: «Танкист! Где ты? Я же говорил тебе, чтобы ты не исчезал! Я отправляюсь. Не жду ни минуты!»
До нашей роты в Тель-Хирус доехали быстро. Наша рота — это четыре палатки и маленькая будка из жести. В одной из палаток спали командиры, в трех остальных солдаты — по два экипажа в палатке. Обещали, что через несколько дней прибудет к нам из полка пополнение — еще два танка. Тот, кто не стоял на посту, обычно находился в палатке. Большинство дней лил дождь или дул сильный ветер, так что выходили только для несения охраны или ухода за танками. Иногда залезали в будку, чтобы приготовить из наших пайков горячую пищу и поесть вместе. Там хватало места на шесть-семь человек. Там же, в будке, тарахтел маленький генератор, Ханан занимался им по нескольку часов ежедневно: стучал молотком, тянул провода, смазывал, подливал горючее, но ничего не помогало — то одно, то другое выходило из строя.
На другой половине будки мы варили горох и фасоль из банок, которые получали со склада. Пока варили, разговаривали — в основном обменивались слухами о сроках, когда должна закончиться наша служба. Один предполагал одно, другой — другое. Общим было то, что ошибались оба. Иногда делились чем-нибудь интересным, прочитанным в книгах. Ицик почти каждый день выспрашивал меня за ужином, сказано ли в Талмуде, когда придет Машиах, и не война ли Гога и Магога то, через что мы прошли. Я отвечал, что не знаю, и тогда он просил рассказать какую-нибудь талмудическую притчу. Говорил, что очень любит их слушать. Я рассказывал, что помнил. Старался подобрать такие, что вселяют в человека надежду, от которых теплеет сердце. Все слушали.
А бывало, кто-нибудь читал вслух, что написал ему его сынишка, или показывал присланный дочкой рисунок. О войне не говорили никогда. Каждый существовал наедине с пережитым. Один солдат устроил себе в углу будки подобие личного стола из ящика от боеприпасов и писал, стоя за ним, согнувшись и закрывая написанное рукой. Все смотрели на него заинтригованные. Кто-то решил, что он сочиняет стихи, кто-то — что рисует открытки детям, которые шлют ему письма через Комитет помощи солдатам, предполагали даже, будто, возмущенный тем, что произошло на этой войне, он пишет письма протеста и рассылает их всем влиятельным людям государства. Альфонсо же считал, что он ведет дневник, куда подробно заносит все, что с нами произошло. Глядишь, кто-нибудь и поверит.
Так проходил день за днем. Треть дня мы занимались танками. Другую треть проводили в ожидании грузовика из батальонного склада. С грузовиком прибывал кладовщик Марциано с запчастями, чистыми комбинезонами и выстиранными тряпками — на них шла старая рабочая одежда. Мы наматывали тряпки на шомпол и каждый вечер смазывали пушку, а по утрам вытирали ее насухо. Вместе с Марциано приезжал Кимель, офицер из отдела личного состава батальона, аккуратный человек в очках. Он привозил письма и газеты, некоторые товары из «Шекема», а иногда даже чеки из службы Национального страхования. Передавал приветы от друзей из других рот и штабные новости: когда уходим с передовой, кто должен нас сменить и что вообще ожидается. Всякий раз, когда приезжал Кимель, к нему подходил Зада с всегдашним вопросом — что будет с его хозяйством? Вот уже три месяца, как птичник практически без хозяина, смотреть за ним некому, компаньон тоже мобилизован. Он, мол, объяснял по телефону жене, что следует делать, но у нее не получается. Много цыплят перемерло. Кимель терпеливо выслушивал его, доставал из карманчика рубашки ручку и небольшую красную записную книжку и записывал. Никогда не забывал он сказать солдату теплое слово или потрепать по плечу, а однажды даже привез чек на имя Зады — компенсацию за десять цыплят.
Порой нам доставляли свежие фрукты и овощи, сигареты и сласти. Некурящие солдаты обменивали сигареты на шоколад. Шоколад хранили: когда придет их черед идти в отпуск на двадцать четыре часа, отвезут его детям. Письма перечитывались по пять-шесть раз.
Студент Еврейского университета пытался учиться по материалам, которые присылал ему университет. Если скоро освободимся, авось еще удастся спасти учебный год. На просьбу отложить экзамен ему ответили отказом. Написали, чтобы улаживал свои дела сам. Уважающий себя университет не откладывает экзамены из-за личных проблем студентов.
Цион раздобыл том Гмары, и мы, три йешиботника, договорились о совместных уроках. Каждый рассказывал, под каким новым углом зрения толковал определенный вопрос его рав. Мы учились и делились воспоминаниями о времени, проведенном в йешиве. Тора была для нас эликсиром жизни.
Альфонсо, заряжающий танка 2-Бет, с головой ушел в чтение толстенного тома на испанском языке, одновременно через наушники слушая Шуберта и Моцарта. Альфонсо говорил, что здесь, с нами, присутствует только его тело, а сам он пребывает совсем в ином месте. Два экипажа день и ночь дулись в карты. Прочие проводили время просто так, ожидая, когда их отпустят.
В Тель-Хирусе очень рано темнело, зажигать огонь было запрещено, месяц кислее стоял жутко холодный, поэтому еще до наступления темноты мы ужинали и расходились по палаткам. Укрывались зимними куртками и армейскими одеялами пока не наступала очередь дежурить под проливным дождем. Был среди нас один экипаж — командир, заряжающий и наводчик, — который не выходил из палатки даже днем, отказываясь что-либо объяснять и не отвечая ни на какие вопросы. Не принимали они участия и в общих наших «званых обедах», которые время от времени мы готовили из армейских пайков — макрели, зажаренной в собственном жире на самодельной, из жестяной банки, сковороде, фасоли в соусе и долек грейпфрута на десерт. Когда приезжал грузовик, они, забрав свою долю, тотчас возвращались в палатку. Когда приходила их очередь дежурить, брали оружие и шли, не говоря ни слова. По утрам, как все, проводили обычный техосмотр танка и уходили в палатку. Не участвовали они и в легкой физзарядке, которую мы делали каждое утро. В ответ на вопросы Ханана, ротного командира, лишь отрицательно качали головой.
Ханан на них не давил. Все понимали: всякое может случиться с людьми, побывавшими на войне. Они не покинули палатки даже тогда, когда к нам прибыл командир полка с радостным известием, что можно поочередно уходить в отпуск на двадцать четыре часа. Мы позвали их тянуть жребий — кто будет первым. Они попросили сообщить им, если жребий падет на них. Они нам доверяют. Зада однажды рассказал мне, что у этих ребят подбили танк в Хан-Арнабе. Они сумели из него выбраться, а водитель — нет. Ему помешала пушка. С тех пор они молчат. Саша утверждает, что Зада все перепутал: такой случай произошел не в Хан-Арнабе, а в Нафахе, и совсем с другим экипажем. Саша и Зада заспорили между собой (им и в голову не пришло пойти и выяснить, кто из них прав), а я закрыл глаза и увидел Дова. Не знаю почему. И снова нет мне покоя, и снова и снова я спрашиваю себя: что же случилось с Довом? Его танк вышел из Ифтаха в воскресенье днем и был подбит по дороге на каменоломню, так я слышал.
Что же произошло с ним? Как это может быть, что экипаж не знает? И о каком танке рассказывают Зада с Сашей?
ХЭТ
Прошли три недели с тех пор, как я вернулся из отпуска. Считаю дни до следующего. Месяц кислев. Похоже, что и ханукальные свечи будем зажигать здесь. В один из пасмурных дней на этой неделе приехала в роту мобилизованная армией гражданская машина. Из нее вышли трое молодых офицеров. В отутюженной новенькой форме, со значками участников войны на груди. Наш командир роты Ханан всегда ходит в рабочей одежде. Ни разу мы не видели на нем офицерских погон. Значки участников войны у нас тоже есть. Как-то вечером собрал нас Ханан и протянул полную горсть этих значков. Их прислали из администрации штаба. Сказал: «Возьмите себе». Мы взяли и положили в рюкзаки. Ни один не нацепил на себя. Тогда же передал нам Ханан, что каждому из нас присвоили звание младшего сержанта. И когда он спросил в штабе: «С чего это вдруг?» — ответил ему Мики, начальник отдела личного состава полка, что нельзя же пройти такую войну и оставаться в рядовых.
Приехавшие спросили ротного командира. Мы указали на будку, где Ханан колдовал над генератором. Он вышел оттуда вместе с ними, и все они направились в командирскую палатку. Некоторое время спустя Ханан обошел все палатки, сообщая, что офицеры хотят с нами поговорить. Их прислали из округа. Через два месяца после войны. Они занимаются расследованием. Собирают свидетельства участников войны. Один — из отдела истории, один следователь и один — из службы психического здоровья. Хотят с нами побеседовать о том, через что мы прошли.
Ханан говорил умоляюще: «Я прошу вас проявить понимание, нечего делать, это распоряжение командира полка. Покончим с этим, и баста».
Воспринято это было с полнейшим равнодушием. Мы с трудом заставили себя выйти из палаток. Альфонсо появился с книгой и в наушниках; Цион — в цицит, с раскрытым трактатом Гмары; экипаж 2-Бет — не прерывая игры, с картами и деньгами в руках; Саша — как всегда небритый, с отросшими почти до плеч волосами, в желтой вязаной шапке с красным помпоном, которую он не снимал никогда. Увидев стоящих возле танков франтоватых офицеров в лейтенантских погонах, с папками в руках, он горько ухмыльнулся: «Поди объясни таким, через что мы прошли. Приехали из Генштаба. Сидят там за письменными столами, обложились книгами и пишут; как таким рассказать о войне? Они же полагают, что на войне все происходит в точности согласно описанному в летописях или в романах, вот пусть бы и продолжали их читать. Я тоже когда-то думал подобным образом. Того и гляди начнут спрашивать, почему в том или ином случае мы поступили так, а не иначе, почему не атаковали с фланга, почему не вызвали прикрытие с воздуха и не использовали артиллерийскую защиту — в соответствии с учебниками военного искусства. И это они явились к нам с расспросами? А я сам бы хотел их кое о чем порасспросить! Может быть, они нам, наконец, объяснят, что же все-таки произошло в Нафахе в понедельник утром? Кто в кого стрелял? Почему сирийцы вдруг приостановили наступление и не пошли на Тверию? Как случилось, что танки оказались неукомплектованными? Может быть, офицер-следователь расскажет мне, как можно идти в бой на танках, имеющих лишь вспомогательный генератор, с невыверенным прицелом и без бинокля? Поди объясни им, что делала рота Менахема полдня в воскресенье, под ураганным огнем, на перекрестке Васет. Стояла там просто так, без связи, без карт. Они могут это понять? Я и сам-то с трудом понимаю, через что прошел».
Ханан почти умоляет: «Ребята, давайте покончим с этим». Мы вняли просьбам и собрались у его танка. Трое офицеров стояли напротив. Мы продолжали обмениваться между собой горькими замечаниями. Ханан просил нас помолчать, но по нему видно было, что он с нами. Офицер-следователь объяснил: они хотят, чтобы каждый рассказал об одном дне войны. Что происходило с ним в течение двадцати четырех часов. Обо всем, что в тот день случилось. Нам нечего опасаться. Нет необходимости называть себя и давать какие-либо личные данные. Анонимность нашего свидетельства гарантирована. Перед тем как нас пригласят в будку для личной беседы, каждый должен заполнить привезенные ими бланки с вопросами: сколько снарядов он израсходовал, какого типа, с какого расстояния. Как давался приказ стрелять, сколько было попаданий в бронированные машины и сколько — в небронированные, сколько целей уничтожил первый снаряд и сколько — второй. Сколько пуль в среднем было в каждой пулеметной очереди. Какие приказы поступали по линии связи, с какой скоростью продвигался танк. Использовались ли индивидуальные санитарные пакеты, и какова их способность останавливать кровотечение. И другие вопросы. Следователь раздал нам ручки, карандаши и опросные листы. Листы походили на таблицы, разграфленные на множество столбцов и клеточек, тонкие и шелестящие, переложенные копировальной бумагой. Пять копий.
Затем заговорил офицер из службы психического здоровья. Очень спокойно и очень медленно, успевая между словами проверять реакцию на сказанное по выражению наших лиц. Так, видимо, его учили. Он представился нам по имени, сказал, что они никуда не торопятся, у них есть время и есть терпение столько, сколько нам потребуется. Им очень важно услышать во всех подробностях обо всем, что случилось лично с нами, о большом и о малом, существенном и несущественном. О том, как стреляли и чем стреляли, и как вели себя раненые, и кто их эвакуировал. Они хотят узнать, было ли нам страшно и что мы делали для того, чтобы страшно не было, о чем молились и о чем думали. Даже сны наши они тоже готовы выслушать.
— Успокойся, приятель! Мы вполне нормальные! — крикнул ему Зада.
— Зависит от того, что принимать за норму, — шепнул Саша.
Следователь пригласил заходить по трое. Каждый со своей историей. Подошла наша очередь.
Три йешиботника вошли к ним в будку — Эльханан, Шломо и я. На войне Эльханан был водителем танка у Ханана, Шломо — наводчиком у Вагмана, заместителя командира батальона, а я — наводчиком у Гиди, заместителя командира взвода.
Следователь сидел в центре за столом, и перед ним в беспорядке лежало множество разных бумаг. Лицо напряженное. Справа от него — офицер-психолог. Перед ним стоял только стакан с водой и никаких бумаг. Он сидел свободно, подперев рукой голову, и рассматривал вошедших. Офицер-историк, с аккуратной тетрадью, в которую время от времени он что-то записывал, сидел слева от следователя. Ханан, как обычно, возился у генератора, стучал по нему рукой, пытаясь заставить его работать потише.
Я сел напротив офицеров. Следователь спросил, не подымая головы от бумаг:
— Про какой день ты хочешь рассказать нам, солдат?
— Про понедельник, — отвечаю. — С рассвета понедельника и до утра вторника.
Офицер что-то записал в своих бумагах и взглянул на меня вопросительно:
— Понедельник? Какого числа?
— Что значит — какого числа? — поразился я. — Понедельник! Второй день после Судного Дня! Какой еще может быть понедельник? На исходе Судного Дня мы сели в танки. В воскресенье — поднялись на Голаны в направлении перекрестка Васет. Перед вечером получили приказ идти как можно быстрее в Нафах, туда, где горят наши танки. Оттуда на рассвете в понедельник двинулись к каменоломне. Что это за вопрос: какого числа?
— Прости, но мы обязаны указать число, — извинился офицер. Он сверился с карманным календарем и что-то записал. — Теперь, пожалуйста, рассказывай.
Офицер-психолог поинтересовался, как меня зовут, и попросил говорить медленно, не опуская никаких деталей — даже тех, что кажутся мне второстепенными и маловажными. Ему все важно.
Офицер-историк не сказал ничего.
Я начал без каких-либо предисловий и ни разу не остановился. Офицеры сидели напротив и смотрели на меня с непроницаемыми лицами и отстраненными взглядами, время от времени делая записи. Я внимательно всматривался в их ничего не выражающие глаза, пытаясь понять лишь одну вещь: верят или не верят. Не понял. Они словно опасались чем-нибудь себя выдать. Только сидели и слушали. Я рассказывал:
«Рядом с нами подбили танки: 1-Бет, Далет, 3-Алеф. Мы знаем, кто сидит в каждом из них. Мы прибыли сюда вместе. Вместе учились в йешивах, спорили, обсуждая трудные вопросы из Гмары или Маймонида. Вместе мобилизовались и вместе проходили курс боевой подготовки — тиронут. Часами, до полуночи, стояли на ногах и под крики старшины Гавриэли учились укомплектовывать в темноте подсумки пояса. Вместе — ноги подгибались от тяжести — тащили на себе носилки по вспаханным полям возле Регавим и Гиват-Ольги, стиснув зубы и помогая друг другу закончить марш-бросок. Вместе по нескольку раз обегали вокруг лагеря, держа на вытянутых руках оружие — в тиронуте это называют „туль“, когда дежурный командир отделения стоит, уперев руки в бока и наблюдая за нами, и легким движением указательного пальца приказывает бежать дополнительный круг. Вместе нас отправили на курс танкистов: кто-то из отдела стратегических исследований Главного штаба пришел к выводу, что будущая война — война танков, а не пехоты. Те из нас, кто еще не успел сделать прыжки с парашютом, очень переживали, поскольку шли добровольцами именно в воздушно-десантные войска — им и во сне не снилось, что придется стать танкистами. Вместе, в песках Рефидима, учились действовать согласованно, как единый экипаж, и вместе собирались в синагоге Ифтаха в Йом-Кипур для пяти молитв и десяти покаяний…»
Я сижу напротив расследующих эту войну офицеров и стараюсь рассказывать по порядку. Но ничего не могу с собой поделать: картины всплывают сами по себе и отвлекают меня. Я на минуту замолк и закрыл глаза. Вот Шмуэль, бессменный хазан в йешиве, водитель танка З-Алеф. Когда колонна встала у моста Бнот-Яаков, он высунул голову и сказал Ицику, как рад он тому, что подымается на Голаны, очистившись в Судный День. Продолжаю рассказывать:
«…Сижу я в своем танке и знаю поименно всех, кто находится в каждом из подбитых танков. Но сейчас мы о них не думаем. И о себе тоже. Сейчас мы отыскиваем цель и стреляем. Мы на войне. Все свои силы я сосредоточиваю на прицеле, стараясь, чтобы никакая посторонняя мысль не проникла в мое сознание. Сирийские танки стоят на холме напротив. Авангард, идущий в прорыв на Хушние, проходит сейчас внизу, через вади, очень близко от сирийцев. Наша рота стоит около шоссе и должна прикрывать те танки, что внизу. Надо быть крайне осторожным, чтобы не попасть в своих. Вообще-то не так уж трудно отличить сирийские танки от наших: у них круглая башня, другая пушка и четкие опознавательные знаки. Но сегодня все так перемешано, свои, враги так близко друг от друга, и солнце бьет прямо в глаза. Перед каждым выстрелом я стараюсь как можно лучше определить цель. Но ведь и медлить нельзя! Каждая минута означает жизнь или смерть. Я должен полагаться на Гиди. Его голова всегда снаружи. Но ведь и он видит с трудом. Продолжаем стрелять. Пристреливаюсь и подбиваю танк. Он горит. „Цель“, — передаю я и навожу на другой танк, что рядом. Стреляю с той же наводкой. Подбиваю его тоже. Воспрянул духом. Видим грузовики с сирийскими пехотинцами, стреляем по ним из пулемета. Трудно попасть, но вот один грузовик загорелся. Снаряды ложатся совсем близко от нас. Подбиты два наших танка справа. Эли говорит, что, по-видимому, сирийский танк обошел нас и стреляет с фланга. Гиди пытается определить его местонахождение, но безуспешно. Он приказывает продолжать стрелять в прежнем направлении — в соответствии с планом операции: прикрывать роту, которая внизу. Гиди говорит, что мы сумели уничтожить несколько целей. Солнце буквально ослепляет. Ничего невозможно опознать. Уже много времени мы стоим на одной и той же позиции. На учениях подчеркивали, что этого делать нельзя. Нельзя оставаться слишком долго на одном месте. Мы обязаны немедленно сменить позицию. Но Гиди запрещает уходить отсюда: сейчас ни один танк по нам не стреляет. Значит, можно оставаться. Мы обязаны продолжать прикрывать роту, которая движется вдоль лощины. Гиди командует: „Наводчик, огонь! Огонь!“ Не уточняет ни расстояние, ни тип снаряда. Заряжающему говорит: „Заряжай тем, что у тебя готово, что под рукой“. И Эли кричит мне: „Кумулятивный! Фугасный!“. И я навожу на то, что вижу в смотровую щель, и стреляю. Расстояния сейчас настолько близкие, что одна цель занимает весь окуляр перископа. Нет надобности определять ее через окуляр, достаточно смотровой щели. Совсем рядом разорвался снаряд. Гиди приказывает найти танк, представляющий сейчас для нас угрозу справа. Я пытаюсь, но не могу: линза отсвечивает белыми бликами. Я должен. Я молюсь, чтобы скрылось солнце. Ну пожалуйста! Только на этот раз! Гиди кричит: „По нам стреляют! Наводчик, боевая дистанция! Огонь прямой наводкой! Водитель! Назад! Быстрее! Наводчик, молись!“
Я с трудом слышу его через помехи. Выстрелил и кричу: „Ты молись, Гиди!“ А он в ответ: „Но я не умею!“
Я молился. Всем сердцем, всем своим существом: „Господи! Спаси нас!“»
…На исходе Судного Дня в Ифтахе мы получили танки. Шая переходил от одного танка к другому, дошел до нас, вызвал Рони и меня. Мы в то время были заняты загрузкой снарядов: Рони спешно вскрывал деревянные ящики со снарядами и передавал мне, железные скобы ранили ему пальцы, и кровь капала на снаряды. Мимо проходил какой-то кладовщик, бросил нам тряпку и велел вытереть кровь: кровь на снарядах — плохой знак, так он слышал. Я стоял на башне, забирал у Рони снаряды и передавал Эли, который загружал ими танк. Он был весь внутри, только его цицит взлетали вверх и развевались на ветру. Шая сказал нам: «Помолитесь. Стоит помолиться перед тем, как поднимемся на Голаны».
Нас было трое йешиботников в экипаже: водитель, заряжающий и наводчик. Рони, Эли и я. Наш постоянный командир еще не прибыл, и вместо него нам дали в командиры милуимника из Кфар-Сабы — Гиди. Шесть лет он прожил в Лос-Анджелесе, забыл, что такое танк, не был знаком с устройством нового шлема. И с нами тоже — не был знаком совсем. И новой рацией, намного более совершенной, чем была в его время, ему не приходилось пользоваться никогда. Но ничего, всему этому он научится в пути.
— Не беспокойтесь, — сказал Гиди, — я еще не забыл Шестидневную войну. У нас достаточно много времени до того, как придется выпустить первую пулю. Предстоит организация на месте сбора, должны прибыть приказы и карты и пароль военной связи. Выверим прицел. Пока прибудем на место, я успею вспомнить, как закрывается командирский люк и как отдается приказ стрелять. А вы сейчас проверьте систему управления стрельбой и загрузите как можно больше снарядов — в основном кумулятивных. Они самые лучшие. На фугасные я не надеюсь. Никогда им не доверял.
Он был занят установкой пулемета и проверял его согласованность с орудием.
Услышав, что Шая зовет нас на молитву, он поднял глаза и сказал:
— Ребята, я хочу, чтобы вы знали, с кем вместе выходите на войну. Я атеист.
Но это он говорил давно. До того как мы поднялись на Голаны.
— Прямой наводкой: огонь!
Я выстрелил. Рони дал задний ход. Страшный удар. Перископ взлетел и сильно ушиб мне глаз.
(Когда я рассказывал про ушиб офицерам, я вдруг снова почувствовал острую боль в глазу. И даже сейчас, по прошествии стольких лет, когда я об этом пишу, боль возвращается.)
Танк трясет. Перископ ударяет снова. На этот раз в плечо. Что происходит?
— Экипаж, нас подбили! Экипаж, выпрыгиваем! — слышу я через наушники. Внутренняя связь пока работает, внешняя давно отключилась. Это голос Гиди, быстро соображаю я. Он приказывает прыгать, танк подбит. Гиди говорит: прыгать. Я беру с собой «узи» без ремня, который успел прихватить на складе в Ифтахе, перед тем как мы оттуда выступили.
Кладовщик полкового оружейного склада защищал его от нас буквально грудью: он не выдаст оружие, пока не будет заполнена бумага с подробными личными данными. В двух экземплярах. Иначе не пойдет. У него в этом деле достаточный опыт. И никто ему тут не указ, ни сержант, ни офицер. Здесь правила устанавливает он, и только он. Если что-то пропадет, спросят с него, и тогда не помогут никакие объяснения. Война или не война, никто не может его заставить. Он это знает, не первый день в армии.
Солдатская масса напирала на окошко. Все были в сильном напряжении. А он педантично спрашивал стоящего перед ним: «Личный номер, солдат?» — и записывал, светя себе маленьким фонариком. «Эта ручка не пишет. Что за ручки присылают на склад? Есть у кого-нибудь ручка?» Никто не отвечал. Кладовщик в сердцах отшвырнул ее и закрыл окно. Какой-то патрульный офицер пришел на склад за биноклем. Ему в джипе нужен бинокль. Увидел нас и крикнул: «В чем дело? Почему задержка?» Ему объяснили, что кладовщик ушел искать ручку. «Вы что, спятили? Не понимаете, что происходит? Люди там на Голанах гибнут, а вы ищете, чем писать?!» Не ожидая ответа, офицер с силой ударил по ящику с оружием. Ящик раскололся. Десятки смазанных «узи» вывалились и покатились по земле. Солдаты похватали их и побежали назад, к танкам. Ремни для «узи» лежали отдельно, в связке. Кто успел, тот взял.
Гиди крикнул:
— Наводчик! Трогаемся!
Я схватил «узи». Ремень не успел.
В одной руке у меня «узи», в другой — фляга с водой. Опираясь обоими локтями о крышку командирского люка, я подтянулся и быстро спрыгнул на землю. Знал, что танк может взорваться каждую минуту со всеми снарядами вместе. Увидел снаружи измученного Эли: все утро, без передышки, подавал он снаряды. Лицо напряженное, закопченное, комбинезон пропах потом. В руках граната. Гиди тоже выпрыгнул.
— Стоп! — кричу я. — Где Рони? Он не вылез! Может быть, нарушена связь и он не слышал?
Вокруг нас свистят пули. Я подбегаю к кабине и изо всех сил кричу: «Рони, вылезай!» И он отвечает так тихо: «Не могу. Я заперт. Не могу открыть люк. Твоя пушка мешает».
Все танкисты это знают: когда пушка над люком водителя, он выйти не может. И вползти внутрь не может тоже. Водитель всегда напоминает наводчику, чтобы не забыл сдвинуть пушку. Когда проезжали мост Бнот-Яаков, Рони сказал мне: «Если случится что-нибудь, не забудь про люк». Я взобрался на танк, на свое место. Электрическое поворотное устройство не работало: альтернатор вышел из строя. Когда он нужен, он всегда не работает. Я попытался повернуть ручку. Поддавалась с трудом. Я бил по ней изо всех сил, торопился. Знал, что мы оба сейчас являемся прекрасной мишенью. Все наводчики любят стрелять по танку, который уже подбит. Удобная цель. А уж тот, кто подбил, наверняка выстрелит снова, и сейчас он целится повыше — в башню. По-видимому, приказы у них такие же, как у нас. Ручка немного поддалась. Я спрашиваю: «Рони, теперь ты можешь?» — «Нет, — отвечает он тихо, — продолжай крутить вправо, быстрее». Я стараюсь, но ручка не двигается. Что-то ей мешает. Очень болит рука. Я беру килограммовый молоток, который перед самым выходом из Ифтаха Эли нашел в сумке с инструментами, валявшейся на складе на полу. Я бью молотком. Ни о чем не думаю, только об этой ручке. Она двигается. Двигается. А сейчас — быстрее. «Рони! Ты можешь?» — «Да, — отвечает. — Почти. Нет, недостаточно. Поверни немного еще».
У меня в руках больше нет сил. Ручка продолжает сопротивляться. Еще раз молотком. И еще раз. «Я вышел!» — кричит Рони.
Я выпрыгиваю. Сейчас мы все четверо вместе. Гиди указывает направление. Туда. Скорее. Бегом. Бежим, пригнувшись, по базальтовым камням, под пулями. Нас увидели. Шпарят из пулеметов. Густой огонь. Над головами летят осколки камней. Я помню: под огнем надо бежать зигзагом, пригнувшись как можно ниже, чтобы мишень — ты! — стала меньше и трудноразличимой. Так нас учил Вальберг, суровый командир взвода, когда мы тренировались в прыжках с парашютом. Рота была смешанной: йешиботники и ребята из НАХАЛа[36]. «Я научу вас, что значит быть солдатом. Добьюсь, чтобы это вошло у вас в плоть и кровь. Тот, кто не пробежит как следует личную дистанцию, ночью будет взбираться вверх по холму с носилками. Сейчас вы воспринимаете это как измывательство — и негодуете, — говорил Вальберг, — на войне скажете мне спасибо». Кто тогда думал о войне.
Эли опустился на землю. Он совершенно обессилел. Все утро беспрерывно заряжал.
— Я дальше не побегу, — сказал он. — Если хотите, бегите. Все равно ничего поделать нельзя.
— Эли, что с тобой? — спрашивает Рони. — Беги! Нам надо бежать.
— Эли, вставай, побежим рядом, — говорю я.
Над нами пролетел кусок скалы, отколотый снарядом.
— Мы же почти добежали, Эли! Почти уже там. Эли, давай!
Он начинает подыматься. Мы ждем. Замечаем, что Гиди убежал вперед. Кричим вслед. Он не слышит. Спустя минуту останавливается, оборачивается к нам и, коснувшись ушей, отрицательно качает головой.
— Гиди не слышит, — говорю я Рони. — Что с ним? Он ранен?
Но нет времени раздумывать. Надо торопиться. Уйти из-под огня. Бежим дальше. Пересекаем шоссе. За ним — насыпь. Там мы залегли. Видим оттуда, как танк Тиктина — раньше он стоял рядом с нашим — быстро отходит назад. Вот он уже почти у шоссе. Мы следим за ним издали. Рони решает идти к Тиктину за водой: кто знает, сколько времени мы проведем здесь, а воды почти не осталось. Он поднимается на насыпь, делает несколько шагов, но тут же бросается на землю и отползает назад. На лице — след ожога. Сирийцы его заметили, они стреляют по всему, что движется. Гиди и Эли лежат, Рони и я следим поверх насыпи за Тиктиным. Их подбили. Танк загорелся. Тиктин и кто-то еще выпрыгивают. Они пылают, как факелы. Катаются по земле и льют на себя воду из канистр. По ним продолжают стрелять. Они ползут в сторону шоссе. Может, мы сумеем им помочь. Но как до них добраться?
По шоссе с севера на юг мчится белый «форд-эскорт». Мы с Рони выскакиваем и пытаемся его остановить. «Наверно, какой-нибудь журналист, говорит Рони, — решил поставить жизнь на кон, лишь бы добыть материал с места боев. Думает, что мы все еще играем в Шестидневную войну». Когда машина приблизилась, мы поняли, что в ней полно раненых. Мы махали руками, молились, чтобы нас увидели. Кто знает, может, это наш последний шанс! Нет. Водитель нас не заметил. Вообще-то, мы не слишком надеялись, что он сможет нас заметить на такой сумасшедшей скорости, но все-таки… Мы потерянно смотрим вслед пронесшейся машине…
Рассказывая это, я еще не знал, как хорошо вышло, что водитель нас не заметил. Через год после войны, на батальонных учениях, я встретил Тиктина: он командовал танком. Я все время смотрел на него, не мог поверить, что он жив. Лицо в шрамах.
— Как тебе удалось спастись? — спросил я его. — Я видел, как ты горел.
Он рассказал, что огонь удалось потушить, но все лицо было в огромных волдырях, и они закрывали ему глаза. Придерживая веки рукой, он пополз к шоссе. «Я увидел машину, которая мчалась с севера. Я знал: жизнь или смерть. Собрал все силы и поднял руку. До сих пор не понимаю, как он заметил меня на такой скорости. Забрал нас обоих. Спас жизнь. Знаешь, кто это был?»
Это был Уриэль Хейфец, один из тех, кого англичане выслали в Эритрею и держали там в лагерях. Организатор всех побегов оттуда. Узник Сиона. С самого начала войны он отправился на своей машине на север, ездил вверх-вниз, на Голаны и обратно, подбирал раненых.
Если бы Уриэль заметил меня и Рони, кто бы спас Тиктина?
Офицеры смотрели на меня, я продолжал:
«…Мы вернулись и залегли. Смотрим на север. Оттуда движутся несколько танков. Мы их опознали мгновенно: Т-55. Ошибиться невозможно. „По-видимому, сирийцы берут наши танки в клещи“, — говорит Рони. Откуда-то прилетел наш „скайхок“ и открыл по ним огонь. Мы решили, что дольше здесь оставаться нельзя. Позвали Эли, Рони потянул за рукав Гиди, и мы пошли. В одном месте под шоссе была проложена водопроводная труба. Может быть, переждать там, под мостиком? — жестами спросили мы у Гиди. Он немного поколебался и решительно сказал: „Нет!“ Мы поняли: слишком близко.
Гиди устал и не слышит. А теперь, вдобавок ко всему, начал хуже видеть. Что с ним случилось? Рони держит его за руку и тянет за собой. Бежим по направлению к перекрестку Васет. Земля под нами дрожит от взрывов. Стреляя во все стороны, проехал сирийский бронетранспортер. Мы пригнулись, и нас не заметили. Но тут в бронетранспортер попал снаряд, и он загорелся. Весь охвачен пламенем. Мощный гул в небе.
Сирийские самолеты типа „Сухой“. Летят очень низко, в прямом смысле слова над нашими головами. Добежали до склона холма. Мертвое пространство. Здесь Гиди остановился. Мы сели. Он снял шлем. На наушниках никакого видимого дефекта. На шлеме вмятина. „Я потерял слух, — шепотом говорит Гиди, — не знаю почему“. Он растянулся на земле. Эли тоже. Все утро без устали заряжал. Не жаловался.
Мы с Рони решили дежурить по очереди. Осмотрелись. Четыре члена экипажа без танка, подытоживаю я про себя. Командир, который оглох; два „узи“ — один на ремне, один без; одна граната, которую Эли захватил с собой, и фляга почти без воды. А что происходит вообще? Вокруг? У наших тяжелые потери. Это мы видели сами. Сирийцы, конечно, скоро будут здесь: слышим шум их грузовиков. Знаем, что за нами больше нет никаких танковых соединений: все танки нашего полка сконцентрировались в районе каменоломни и вышли вместе. Нафах захвачен. Главное — не терять присутствия духа и способности соображать. Я нащупал в нагрудном кармане маленькую книжечку — псалмы, которые мне дала мама, перед тем как мы ушли. Это ее книжечка. Много слез пролито над ней. Мама всегда читала псалмы в Субботу, после минхи. Перед кидушем отец произносил нараспев, умиротворенно: „Господь — пастырь мой, не будет у меня нужды. На пастбищах травяных Он пасет меня, приводит меня к тихим водам. Душу мою оживляет, ведет путями истины ради Имени Своего“. Мне этот псалом всегда казался исполненным безмятежного покоя, так соответствовавшего разлитому в мире покою Субботы. Но сейчас гораздо более глубокий отклик вызывает у меня другой стих: „Даже если иду я долиной тьмы не устрашусь зла, ибо Ты со мной“[37]. Я чувствовал его так, словно он был написан Давидом для меня. Что есть такого в его псалмах, что каждый, кто их читает, убежден, что это для него и про него? Нечто подобное происходит, когда смотришь на портрет человека и тебе кажется, что его глаза пристально всматриваются в тебя и следуют за тобой повсюду — под каким бы углом к портрету ты ни встал.
Упал самолет. Наш или их? Без передышки продолжает палить артиллерия. Кто стреляет? Куда? Где сейчас сирийцы? Прочесывают местность? Нас обнаружат? А что, если вдруг появится наша мотопехота?
Когда мы уходили из Ифтаха, им было приказано оставаться на базе: это не их война. Они очень переживали. У Моти в глазах стояли слезы: пропустит войну. Может, все-таки сейчас их пошлют, и тогда они подберут нас. Да, но как предупредить их, что мы — свои? Правда, у нас есть одни цицит. И еще могут подоспеть те три танка, что застряли по дороге. Мы видели, как механики Мориса их ремонтировали. Может быть, они уже готовы.
Мысли разбегаются. Глотнули воды, произнесли благословение. До чего глубокий смысл заключен в том, что человек благодарит Бога за воду. Гиди сказал:
— Останемся здесь, пока не стемнеет. Потом вернемся назад к танку. Ночью меньше опасность, что нас смогут опознать в этой неразберихе. На местности сейчас много всяких солдат. Я думаю, что у нас повреждены гусеница и приводное колесо. Может, также и башня. Но мы сумеем починить. Водитель ослабит натяг гусеничной цепи, возьмем лом и пятикилограммовый молот, разложим гусеницу и укоротим ее. Затем присоединимся к нашим частям и будем воевать дальше. Танк не оставляют.
Мы не поняли, о чем он говорит. Как мы вернемся? Как сможем починить танк? Чем? Какие наши части он имеет в виду? Как можно разложить гусеницу без съемника? В танке вообще нет сумки с инструментами. Где возьмем лом? И где наши части? Они должны были идти на Хушние и Синдиану. Но у нас нет карты и неисправна связь. Как быть с тем, что Гиди не слышит? Как может командовать танком в бою глухой командир? И что делать, если сирийские танки вскоре придут сюда?
Сидим и молчим. Эли крепко сжимает гранату. И вдруг говорит:
— Не знаю, как вы, а я сдаваться в плен не намерен. Если они придут у меня есть граната.
Мы все читали о том, что творится в сирийском плену. Рони сказал тихо:
— О чем ты говоришь, Эли? Ты знаешь, что это запрещено.
Оба посмотрели на меня.
— Конечно, запрещено, — сказал я.
Эли сослался на битву Шаула с филистимлянами. Там ясно сказано, что Шаул просил умертвить его, чтобы не попасть в руки врага. Кроме того, он, Эли, помнит, что в эпоху крестовых походов, во время погромов, один из наших авторитетных деятелей разрешил тем, кто опасается, что не устоит, прибегнуть к самоубийству. Как в истории с Шаулом.
Рони и я буквально подскочили:
— Это не так! Галаха говорит не так! И история с Шаулом — совсем другая история!
— Так что же вы собираетесь делать? Воевать против сирийцев, имея в руках два „узи“? Или сдадитесь? Пойдете в плен?
Гиди смотрит на нас, пытаясь по движениям губ понять, о чем мы спорим. Не понимает. Мы замолчали. Спустя несколько минут Эли спросил:
— Что будет? Сирийские танки двинутся вниз, на Тверию? Кто их остановит? Тыловые части? Мы их видели на перекрестке Рош-Пина: сидят себе с автоматами. Или жители Тверии забросают сирийские танки бутылками с „коктейлем Молотова“, как, мы читали, было в Войну за Независимость? Может быть, саперы взорвут мост Бнот-Яаков? Неужели возможно, что мы не победим? Неужели Избавление может быть отменено?
Я сказал Эли, что у меня нет ответа. Но я помню одну историю. Я вспоминаю о ней всегда, когда у меня нет ответа. Произошла она в то время, когда полным ходом шло повсеместное уничтожение евреев и немцы побеждали на всех фронтах. Им казалось, что еще немного — и в их руках будет власть над миром. Они подошли близко к Эрец-Исраэль, и евреи, очень этим напуганные, собирались держать оборону на горе Кармель. Тогда-то и сказал рав Герцог, да будет благословенна память о праведнике, что немцы в Эрец-Исраэль не войдут. По окончании войны спросил его один знакомый, сведущий в Торе человек, который знал, что рав Герцог никогда ничего не говорит просто так: „На чем, ваша честь, вы основывали свое утверждение? Может быть, на вас снизошел пророческий дух? Разве человеку ведомы расчеты Господа? Разве он может предугадать приговор, который нам собираются вынести на небесах?“
И ответил ему главный раввин Яаков Герцог, что он не пророк и что не под влиянием Божественного озарения сказал то, что сказал, а будучи глубоко убежден, что слова мудрецов наших — не пустые слова.
Есть один мидраш, где сказано: дважды был разрушен Храм, а третьему разрушению не бывать; дважды уходили сыны Израиля в галут, а третьего галута не будет. Но не сказал рав, что это за мидраш. Не знаю почему. Потому ли, что не мог вспомнить, потому ли, что не хотел открыть. Многие умнейшие и ученейшие люди пытались потом отыскать мидраш, на который ссылался рав Герцог. От одного уважаемого человека я слышал, что это мидраш к „Песне песней“.
По нашим жестам Гиди понял, что мы обсуждаем какой-то важный религиозно-галахический вопрос: он уже был свидетелем подобных бесед среди членов экипажа его танка по пути от базы Ифтах к мосту Бнот-Яаков.
— Я не знаю, о чем вы говорите и что написано в ваших книгах, — сказал он. — Но в одном я уверен: мы победим. Мы победим, потому что мы должны победить.
Прошло несколько часов. Мы с Рони попеременно дежурили, следя за перекрестком. Гиди дремал. Рони предложил начать медленно ползти. Мы стали отыскивать ориентир и остановились на ограде нефтепровода. Я вспомнил, чему нас учили: попавшему в беду разрешается давать обет[38].
Я стал обдумывать, какой обет возьму на себя, если нам удастся спастись. Принял решение. Одно я знал наверняка: мир никогда уже не будет для меня таким, как прежде.
Солнце клонилось к западу. Стало темнеть. Мы глотнули воды. Гиди пришел в себя. „Возвращаемся к танку“, — сказал он. Произнесли минху, вложив в молитву все, что было на сердце, охваченные душевным трепетом. Затем прочли 130-й псалом: „Из глубин воззвал я к Тебе, Господи, услышь голос мой, да будет слух Твой чуток к гласу молений моих. Надеялся я на Господа, надеялась душа моя, и на слово Его уповал я. Душа моя ждет Господина моего больше, чем стражи — утра, стражи — утра“. Это мы читали в йешиве, когда кто-то бывал опасно болен.
Пускаемся в обратный путь. К танку. Идем вслед за Гиди. По шоссе проехал грузовик. Наш или их? Стараемся продвигаться к перекрестку параллельно шоссе. Добрались до холма, с которого он просматривается. Увидели бронетранспортер и группу людей. Не поняли, кто это. Наши или нет? Рони обнаружил дыру в ограде нефтепровода. Решили переходить там. Кто-то высказал предположение, что пространство между заграждениями может быть заминировано. Посомневавшись немного, мы все-таки решили переходить. Потом увидели танк. Из наших, это точно. Мы свои танки знаем. Подошли. На башне солдат. Йоси! Знакомый из йешивы. Йоси сердечно обнял меня. Экипаж сидит рядом. Их танк застрял. Они тоже не знают, что происходит. Они вышли из Ифтаха первыми и помчались прямо по дороге — до Эйн-Зивана. Им и в голову не могло прийти, что сирийцы уже в Нафахе. Чтобы вызволить их оттуда, из штаба срочно прислали патруль „Голани“. Сейчас сидят и ждут. Йоси предложил нам поесть, но Гиди ответил, что нет времени, дорога каждая минута. Надо вернуться к танку и продолжать воевать.
Мы идем. Подошли к перекрестку. Рядом с бронетранспортером стоит брат Йегуды в гражданской одежде, очень обеспокоенный. Ищет брата. Ему сказали, что того видели в засаде у Нафаха, рядом с каменоломней. Йегуда из той же йешивы, что и Рони. Он служит в нашем батальоне. Может, мы его видели? „Нет, — отвечаем, — не видели“. В бронетранспортере лежат укрытые тела погибших. Брат Йегуды полез туда. Мы следуем дальше.
Подошли к каменоломне. Первое, что поразило нас, — тишина. Странная такая тишина. Ее можно было потрогать. Еще сегодня утром здесь все грохотало и в сумятице боя содрогалось сердце, а сейчас, в этом же самом месте, необыкновенное безмолвие. Тишина, какая бывает только в сумерки. Никто никуда не едет, не слышно никаких взрывов. Артиллерия молчит. Повсюду застыли танки — подбитые, черные от копоти, застрявшие, с пушками, нацеленными в разные стороны. Одни полностью сожжены, у других отсутствует башня, один танк лежит на брюхе. Мы не смотрим ни вправо, ни влево. Идем к своему танку. Ни души. Увидели его издали. Стоит себе на том же месте.
Ничего не понимаем. Что же все-таки произошло? Кто остановил сирийцев? Выходит, наше прикрытие помогло? Нам удалось? Мы сумели сдержать их натиск? Остановить? Означает ли это, что несколько наших танков смогли осуществить прорыв на Хушние? Видимо, да. Где сейчас батальон? И что с экипажами танков, которые стоят сожженные — здесь, рядом с нами? Можно прочесть их номера: Далет, 2-Алеф, 1. Где танкисты? Но мы этих вопросов не задаем. Просто идем к своему танку. Мы на войне. Гиди сказал, что мы его починим и будем продолжать воевать. Нельзя останавливаться. Нельзя бросать танк. Отыщем своих, они по дороге на Хушние. Мы помним, что говорил командир полка, отдавая приказ в ту ночь у каменоломни: „Идем на Хушние. Удачи вам!“ Это было вчера. Кажется, что прошел год. Найдем батальон, сказал Гиди, и присоединимся к нему. Танк не оставляют. Нужно продолжать. Мы подошли к танку. И тут Гиди сказал: ему кажется, что он снова начал слышать. Он снял каску и попросил, чтобы мы ему что-нибудь сказали.
— Командир, слышишь? — почти кричу я.
— Да, наводчик. Командир слушает. Слушает.
Рони торопится заглянуть к себе в кабину. Полно осколков. Мы обнаружили повреждение в ведущем колесе. Гиди и Рони смотрят, можно ли укоротить цепь. Я взбираюсь на танк, чтобы отыскать свой ранец в багажном отсеке № 9. Мы там держим личные вещи. Я оттащил пулеметные ленты и два тяжеленных рулона маскировочной сетки и открыл отсек. Вытащил оттуда канистру с водой и несколько раскрытых ящиков с патронами, валявшимися в полном беспорядке. Под ними я нашел свой ранец. Помятый, но целый. Я спешу. Тороплюсь расстегнуть трудную пряжку на ремне. Готово! Вытаскиваю из мешка молитвенник и мешочек с тфилин, на котором золотой нитью вышиты мои инициалы и Маген-Давид, мама называет его „Цион“, как принято в Египте. Я горячо целую свои тфилин.
Впервые я наложил тфилин, когда достиг возраста бар-мицва. В синагоге „Рамбам“ в квартале Бет-Мазмиль. Там собирался теплый и сердечный миньян выходцев из Багдада — рабочий люд. Торопясь по утрам на посадку деревьев на землях фонда „Керен-Каемет“, они собирались на молитву с первыми лучами солнца. В то время у нас в квартале не было более позднего миньяна для утренней молитвы. Все стояли вокруг меня: отец, дядя Нино, и дядя Жако, и дядя Жак, и хахам Биньямин. Следили за мной и объясняли, как наложить коробочку ручного тфилин на нужное место, как правильно намотать ремешки, чтобы получилась буква ש („шин“), по одному из имен Всевышнего — Шаддай, как навязать на средний палец три кольца, говоря при этом: „И обручу тебя со Мною навеки, и обручу тебя со Мною в правде, правосудии, любви и милости, и обручу тебя со Мною в вере и познании Господа“[39]. От волнения и любви я весь дрожал и так сильно затянул ремешки, что почти остановил ток крови, и еще много дней были видны на моей левой руке следы от них. Женщины бросали конфеты, со всех сторон слышалось: „Мазаль тов!“ Рав синагоги, Салман Хуги Абуди, подошел ко мне. Я решил, что он тоже хочет меня поздравить. Вместо этого он возложил мне на голову ладонь, открыл передо мною Маймонида и прочел: „Надо быть очень пунктуальным во всем, что касается мезузы. Всякий раз, когда человек проходит мимо нее, входя или выходя, он встречается с Единственностью Творца. Да вспомнит он любовь Его и очнется от сна и ошибок суеты времени, и да знает он, что нет ничего в мире, что пребывало бы во веки веков, кроме познания Превечного. Сказано нашими мудрецами: тфилин на голове и на руке, цицит в одежде и мезуза при входе — помощь они человеку, чтобы не согрешил, потому что это многократное напоминание ему. Именно они те ангелы, что спасают человека от греха“.
Когда закончил читать хахам Хуги Абуди, он сказал мне шепотом — то ли благословил, то ли повелел и предостерег, — чтобы не было в моей жизни ни дня, когда бы я не накладывал тфилин.
Сегодня впервые я этого не сделал.
Поцеловав тфилин, я торопливо стал наматывать ремешок. Я чувствовал тот же трепет и ту же любовь, что была во мне в день бар-мицвы. И так же сильно стянул ремешки. Но еще прежде, чем намотать на левую руку положенные семь витков, я надел головной тфилин, чтобы не упустить время, ибо день кончался и солнце садилось.
Рони был внизу, проверял гусеницы. Он увидел меня на башне накладывающим тфилин и закричал:
— Ты что, не видишь? Солнце зашло! Забыл, чему тебя учили? После захода солнца накладывать тфилин нельзя!
Я не слушал его. Я был уверен, что оно еще не совсем зашло. Еще различим алый отблеск на горизонте. Не будет у меня дня без тфилин. Я молился в душе и надеялся, что оно просто скрыто от глаз кустарником и ветвями деревьев. Надев тфилин, я произнес „Шма Исраэль“. Сомнения не оставляли меня, но я надеялся, что тучи разойдутся и снова станет видно солнце во всем его великолепии. Произойдет чудо, подобное описанному в Талмуде чуду с Накдимоном бен-Гурионом: „Как-то на праздник собралось в Иерусалиме множество паломников и не хватало им питьевой воды. Накдимон упросил одного важного римского правительственного чиновника, в чьем распоряжении были двенадцать полных водохранилищ, предоставить эту воду паломникам, обещая к определенному сроку снова наполнить хранилища водой. А если не сдержит слова, обязуется он уплатить римлянину 12 слитков серебра. И наступил назначенный день, но из-за засухи хранилища были пусты по-прежнему. Римлянин потребовал платы, на что Накдимон ответил: „День еще долог“. И пошел в Храм. Облачился в талит и стал молиться: „Владыка Вселенной! Ведь Тебе известно, что я действовал не для того, чтобы снискать себе почести, и не для того, чтобы возвысить дом отца моего, но о Славе Твоей радел, чтобы была вода у паломников“. К вечеру небо заволокло тучами, хлынул ливень и наполнил хранилища водой. Сказал римлянин: „Я понимаю, что твой Бог оказал тебе милость, но ты все-таки остался мне должен, потому что солнце уже зашло и срок, назначенный для платежа, истек“. И снова пошел Накдимон в Храм, облачился в талит и стал молиться: „Владыка Вселенной! Покажи, что есть в этом мире народ, который Ты любишь. Только что Ты сотворил чудо и дал нам дождь. Сотвори же и другое чудо!“ Мгновенно налетел ветер, разогнал тяжелые тучи, и вновь засияло солнце“.
Сильна была в те времена вера отцов наших и сильна их любовь, потому и происходили с ними чудеса. Я взглянул на небо, надеясь увидеть хотя бы слабое зарево. „Господи! Возвести, что есть еще любящие Тебя в этом мире!“ — взмолился я.
Но не всякий день свершаются чудеса…»
Офицер службы психического здоровья пристально посмотрел на меня, дал мне стакан воды и велел выпить. Я сказал благословение и немного отпил. Приведя в порядок бумаги, следователь прикрепил записку к одному из бланков и отметил что-то на нем красной ручкой. Затем с помощью линейки нашел середину, проделал дыроколом дырки и вложил бланк в синюю картонную папку. На ней тоже что-то написал красным и обвел вокруг черным.
Я ждал.
— Мы слушаем, — сказал офицер-психолог и взглянул на меня. — Мы внимательно слушаем каждое твое слово. Продолжай, пожалуйста.
Я продолжал:
«…Мы присели у танка, решаем, что делать дальше. Теперь даже Гиди ясно, что мы не сможем его починить. Тут необходима мастерская или, как минимум, механик из техобслуживания с серьезным набором инструментов. Гиди предлагает разделиться. Он и Рони отправятся за механиком, починят танк и присоединятся к нашим силам. Мы с Эли должны будем поискать для себя другой танк — в котором остались лишь командир и водитель. И любую боевую часть. Нельзя терять время зря. Каждая минута дорога, и каждый танк решает дело. Мы достали привязанную к крылу жестяную банку с печеньем. Бог знает, сколько лет она там. Поели, запивая водой.
Эли сказал, что у него плохой шлем: сильно давит на уши. По-видимому, просто мал ему. Он решил поискать подходящий в одном из подбитых танков. Рядом с нами стоял танк, пушка которого уткнулась стволом в землю. Эли залез в кабину водителя и потянул шлем, который увидел. И вдруг в панике отступил назад. Лицо белое.
Огромные птицы кружили над нами. Гиди сказал, что это стервятники. Они гнездятся здесь, на Голанах. Мы пробовали их отогнать. Безрезультатно.
Откуда-то доносился вой шакалов и собачий лай. Мы вернулись на перекресток. Увидели небольшой оставленный лагерь ООН. Там стоял танк, старенький „шерман“, и несколько механиков трудились над ним. „Старичков-„шерманов“ — и тех мобилизовали“, — сказал Эли. В одной палатке нашлось несколько одеял. Мы решили в ней заночевать, а утром, с зарей, искать танки или механиков. Гиди сказал, что „бояться нам нечего, это место безопаснее, чем Тель-Авив“. Мы с Рони отправились к нашему лагерю в Нафахе на поиски питья и чего-нибудь съестного. По дороге наткнулись на патруль десантников.
— Танкисты! — закричали они нам. — Вы в своем уме? Куда идете?
Они предупредили нас, что на местности обнаружены сирийские „коммандос“.
— Возвращайтесь в свой танк. Ночью это самое надежное место, но и его не следует оставлять без охраны.
Вернувшись в палатку, мы улеглись в кровати.
Канонада не смолкала всю ночь. Поднялись, едва начало светать. Гиди разглядел невдалеке заржавевший водопроводный кран. Он и Рони решили помыться. Они били по крану камнями, чтобы ржавчина отлетела и можно было бы его открыть. Я стоял у открытой палатки и наблюдал за ними. И тут мы услышали несколько нервных пулеметных очередей, выпущенных подряд прямо в небо. Это заработал пулемет „шермана“.
Он бил беспрерывно. Мы взглянули вверх и увидели, что рядом с перекрестком, буквально перед нами, собираются приземлиться сирийские вертолеты. Над ними кружил наш самолет, Эли сказал, что это „мираж“, он безуспешно пытался сбить их. Вертолеты летели так низко, что мы видели находящихся в них солдат — десятки „коммандос“, высоких, в маскировочной одежде, вооруженных, с вымазанными черным лицами.
А нас было четверо танкистов с двумя „узи“ — на ремне и без.
Сирийцы соскочили на землю, и мы еще даже не успели подумать, что нам делать, как откуда-то появились наши солдаты на бронетранспортерах и открыли по ним бешеный огонь. Не обменявшись ни словом, мы взяли свои „узи“ и пошли дальше.
И никогда не говорили о том, что тогда произошло.
Рядом с нами остановился грузовик с разбитым вдребезги ветровым стеклом. Сидевший в нем офицер спросил, не с подбитого ли мы танка. Возле Рош-Пины организован полковой сборный пункт для таких, как мы. Там набирают новые экипажи для вышедших из ремонта танков. Он ездит по местности, ищет танкистов и подвозит туда. Подвезет и нас. Гиди и Рони поместились в кабине, мы с Эли залезли в кузов. Там лежали раненые.
Кто-то из стоящих снаружи узнал Рони и крикнул: „Рони, что с тобой приключилось?“
Позднее оказалось, что прошел слух о том, будто Рони был ранен и его увезли с поля боя на грузовике. Слух этот очень быстро достиг йешивы. Рони разыскивали по всем госпиталям. И невесте его передали, что он ранен. Однако он был тут, с нами…»
Я продолжил рассказ:
«…Мы проехали мост Бнот-Яаков — на этот раз в обратном направлении. Грузовик остановился, мы вылезли и увидели совершенно невероятную картину: множество солдат сидели, разбившись на группы, на своих вещмешках, ели шоколадные пирожные и запивали их лимонадом. Как будто там, наверху, не было никакой войны. Мы смотрели на них и не понимали, на каком мы свете. Кто эти солдаты? Почему они сидят здесь? Почему они не на плато?
Непонятно, боевые это части или нет. Мы-то были уверены, что все наши силы там, что больше не осталось никаких солдат. В своих замызганных комбинезонах, с „узи“, мы выглядели странно на их фоне. Хотелось кричать: „Вы что, не знаете, что делается там, наверху? Мы прямо оттуда, там идет страшная война, нужен каждый солдат, дорога каждая минута!“ Но ни единого слова не слетело с наших уст.
Вдруг мы увидели Бенци, парня из нашей йешивы, заряжающего танка 1-Алеф. Весь черный от копоти, с воспаленными глазами, в длинной шинели НАТО — подкладка разодрана, клочья ее развеваются на ветру, — с „узи“ и двумя магазинами патронов. И он кричит мне и Эли: „Ребята! Мы должны найти танки и снова вернуться туда. Там гибнут люди. Многие танки подбиты. Сирийцы продвигаются. Необходимо остановить их, хоть голыми руками. Больше некому делать эту работу. Я отправляюсь туда. Требуются танкисты: командиры танков, водители, наводчики. Отремонтированные танки снова поднимаются на Голаны. Ам Исраэль хай! Жив народ Израиля!“
И Бенци потащил нас за собой и указал место, где следует ждать выходящие танки.
— Бенци, — спросил я, — а что с тобой было?
И он стал торопливо рассказывать:
„Мы сумели пройти сквозь жуткий огонь в каменоломне. Многие танки были подбиты. Мы видели их.
Справа от меня на земле валялся сорванный командирский люк, слева я видел уткнувшуюся в землю пушку. В воздухе стоял резкий, горький запах пожарища.
Мы все время стреляли по гребню холмов. В одном из танков сидел водитель со склоненной на люк головой.
— Пойди посмотри, что с ним, почему он не поднимает головы, — сказал командир. Я пошел.
Узнал его сразу. Прямое попадание. И ты его знаешь. Это водитель танка 1-Бет“.
Я знал. Бенци продолжал рассказывать:
„В нас стреляли, и мы продолжали стрелять. Шли по крутым террасам. Я стоял в своем отсеке заряжающего. Ящики со снарядами все время срываются с места, и снаряды из них выпадают. Танк прыгает с террасы на террасу, а я в это время пытаюсь вернуть снаряды на место: наклоняюсь, хватаю снаряд правой рукой, а ящик — левой. Люк все время крутится, я падаю и подымаюсь, падаю и подымаюсь и то заряжаю пушку, то строчу из пулемета. Танк полон порохового дыма. Трудно дышать, и невозможно высунуть голову наружу. В тот день я не успел произнести молитву шахарит. Между снарядами я говорил отрывки, которые помнил наизусть, иногда падал, меня качало, я держался за ящики, и заряжал, и стрелял из пулемета, и дым заполнял танк. Я молился отрывочно, наскоро, но поверь мне, что даже заключительную молитву Судного Дня у меня не получалось произносить с таким чувством“.
И тут вдруг Бенци вспомнил:
„Знаешь, где я молился в этот Йом-Кипур? В Аргамане, поселении НАХАЛа. От них приехал человек на тендере прямо в йешиву и попросил нескольких наших ребят отправиться вместе с ним в их поселение, чтобы и у них был настоящий миньян. „Весь народ Израиля в ответе друг за друга“, — сказал он. Мы залезли в тендер и поехали в Аргаман, и брат мой Йехезкель — с нами. Он десантник, демобилизовался из армии всего несколько дней назад. В Аргамане многие из местных тоже пришли на молитву. Днем позвонили по телефону. Сказали, что началась война и все должны занять свои позиции. Ребята из Аргамана тут же разошлись по своим местам. Мы не знали, куда идти, и продолжали молиться. Никто не знал, что происходит. На исходе Судного Дня, так ничего и не взяв в рот, мы быстро вернулись в Иерусалим. Там уже знали точно: война. Иехезкель поспешил в свою часть, а я отправился на призывной пункт. Зашел домой. Должно быть, отцу показалось, что я в излишне приподнятом настроении, и он сказал мне: „Бенци, почему ты смеешься? Ты знаешь, что такое война?“ Отец был ребенком во время Первой мировой войны, пережил Вторую, был призван в армию во время Войны за Независимость и в Синайскую кампанию. Сейчас, в эту войну, он дома. Мобилизованы трое его сыновей.
Час назад, — взволнованно продолжал Бенци, — я встретил здесь рава Нерию, главу йешивы. Он отправился на Голаны, чтобы поддержать солдат. Он думал, что прибудет на одно из мест формирования воинских частей, думал, что фронт проходит где-то там, севернее, а попал в самое пекло. Никто тогда еще не понимал, что сирийцы так близко. Мы встретились. Он показал мне порванный молитвенник, который нашел в Нафахе, в сожженном танке, в мешочке для тфилин. Я ему ничего о себе не стал говорить. Знал, что, вернувшись, он скажет моему отцу, что у него храбрый сын, герой, который участвует в боях. А у отца больное сердце. Я попросил рава передать отцу, что он видел меня здесь, далеко от линии боя. Отцу незачем знать, где я был несколько часов назад. А был я на пути в Синдиану. Перед наступлением вечера мы сумели подбить восемь танков. Идем, и я слышу по рации, как командир батальона кричит нашему командиру: „Над тобой ракета! #Шмель#!“ Водитель быстро дал задний ход, ракета пролетела мимо, и комбат засмеялся: „Заяц!“ Мы продолжали продвигаться вперед, пытаясь соединиться с Даноном. Он опередил нас и напоролся на крупные силы сирийцев. Все это время просил нас прийти к нему на помощь. Он нуждался в нас. Воевал один. Вдруг наш танк забастовал и остановился: кончилось горючее. Боеприпасы — тоже. Танк застрял, не знаем, как быть. На местности полно сирийских танков, и ночь приближается. И тут мы увидели танк Ханана, который возвращался назад. Связь у него не работала, но наш командир сумел знаками привлечь его внимание. Они приблизились к нам. По нашему танку в то время велся густой минометный огонь, поэтому мы не сумели взять с собой наше снаряжение. Я захватил лишь фляжку, шлем и „узи“ с двумя обоймами. Мы бежали к танку Ханана как сумасшедшие и наконец взобрались на него. Знаешь, кто был у него водителем? Эльханан! Товарищ из моей йешивы. Он узнал меня тотчас, но было не до разговоров. Мы устроились на трансмиссиях. Их танк тоже был не в порядке, многие системы повреждены, не было электричества, но, по крайней мере, он мог двигаться. Рами и Ханан возвращались в Алику, чтобы его починить. И хотя Данон требовал идти к нему, какая польза от танка, в котором не работает рация и поворотное устройство башни и который с трудом движется? Идти было тяжело. Эльханан ничего не видел. Рами вылез на крыло и его направлял. Остановились мы на площадке для вертолетов около Алики. Невдалеке была эвкалиптовая роща. Мы слезли в темноте с танка и пошли по направлению к той роще. Было очень холодно. Я увидел машину и двух французских корреспондентов, прибывших сюда для освещения событий, и залез в нее отдохнуть. Они стояли рядом и не сказали ни слова. В машине я наложил тфилин, но без благословений.
Наступила ночь. Я лежал в машине и вдруг услышал крики. Начался артобстрел. Все бежали к канаве. Я побежал тоже, как все. Вдруг наткнулся на колючую проволоку. Упал и поранился. Вскочил и побежал снова. Ударился о скалистый выступ и упал опять. Лицом вниз. Мимо меня проезжала транспортная колонна с боеприпасами и горючим. Она шла на юг, в сторону Бет а-Мехес. Я поехал с ними. Вокруг продолжали рваться снаряды. Тут я понял, какого свалял дурака. Пристать к колонне с горючим и боеприпасами во время артобстрела?! Но сойти я уже не мог. Колонна дошла по назначению. Я слез с грузовика, увидел перед собой старую стену, улегся возле нее и заснул. Проснулся от громкого крика. Офицер интендантской службы полка возмущенно и зло кричал мне: „Танкист! Что ты здесь делаешь? Почему ты не в танке, не там, где идет бой?“ — „Танк застрял“, — отвечаю я и слышу, как он говорит стоящему рядом с ним сержанту: „Как же, застрял Останавливают танк и убегают“. Я едва не взорвался. Слова застряли в горле, и я с трудом проглотил их. Сжав кулаки, смотрел на него и молчал. Увидел тендер, идущий в сторону Нафаха. В нем был заместитель командира полка Леви. Формируют новую часть. Есть отремонтированные танки. Ищут танкистов для комплектования экипажей. Нас набрали отовсюду и высадили здесь. Идемте со мной, найдем танк и будем воевать вместе“. И Бенци снова крикнул: „Жив народ Израиля!“ Я пошел за Бенци. Мы встали под эвкалиптовым деревом. Несколько танкистов уже стояли там. Каждый — сам по себе.
Время от времени выкликали того, кто требовался новому экипажу. Я ждал, когда потребуется наводчик».
Я проговорил весь свой рассказ, не прерываясь. Как единое предложение. Не слышал, спрашивали ли меня о чем-нибудь в это время. Да я и не давал им такой возможности. Закончив рассказывать, я впал в странное состояние: словно отдал другому часть своей души. Меня бил озноб, и выступил обильный пот. Снова перед моими глазами поплыли чередой страшные картины. А я уже было думал, что от этого избавился. (Эльханан рассказывал мне, что даже спустя годы после войны он чувствовал дрожь во всём теле, когда ему случалось проезжать рядом с каменоломней.)
Трое офицеров смотрели на меня молча, видимо ожидая продолжения. Даже следователь оторвал голову от бумаг и вопросительно взглянул на меня.
— Просили рассказать об одном дне войны? Я рассказал, — проговорил я и поднялся с места.
Они продолжали сидеть и смотреть на меня. Молчали. Потом следователь снова уткнулся в свои бумаги и опять что-то пометил. Подошел офицер-психолог, положил левую руку мне на плечо, а правой долго и молча жал мою руку. Я собрался уйти, но он сделал мне знак остаться и указал на скамейку. По-видимому, хотел, чтобы я услышал рассказы товарищей и понял, что не один я с этим живу. Это вроде бы должно подействовать на меня успокаивающе.
Мы служили в одном батальоне, воевали в тех же самых местах и после войны долгое время пробыли вместе, но, несмотря на все это, я не знал, каково пришлось моим товарищам в первые дни войны. Не знал, что они делали в Нафахе и каменоломне, удалось ли им дойти до Рамтание и Синдианы, участвовали ли они в прорыве на Хан-Арнабе, была ли пристреляна у них пушка к моменту выхода из Ифтаха, был ли у их командира бинокль и работала ли внутриполковая связь. Не знаю почему, но у меня никогда не возникало желания об этом спросить. И они тоже никогда не спрашивали меня. Сейчас я об этом услышу. Я сел на скамью.
Сверкнула мысль: Эльханан, конечно, расскажет про бой в Нафахе. Может быть, из его рассказа я что-нибудь сумею понять про Дова?
ТЭТ
Офицеры пригласили к себе Эльханана — водителя танка Ханана. Ханан вышел из будки. Про всё это он знал сам. Не хотел слушать. Не мог. А может, ему просто понадобилось выйти.
Эльханан шел к столу очень медленно, мелким шагом, будто в полусне, высматривая что-то вокруг глубокими синими глазами. Он сел перед офицерами, погруженный в себя. Спустя некоторое время заговорил своим низким голосом, медленно, тихо, почти шепотом. Он то и дело останавливался, словно приводя в порядок мысли. Иногда голос ему изменял и начинал дрожать.
«Нашим танком командовал Ханан, командир взвода. Шмайя был заряжающим, Нахман — наводчиком, а я — водителем. Нахман собирался через две недели жениться.
Я сказал ему: „Это заповеданная война, на которую должны идти все, даже жених из-под хулы. Спасение Израиля от грозящей ему опасности — исполнение заповеди“. Нахман, без сомнения, это знал и сам, но был неспокоен. Вместе с нами из лагеря Ифтах вышел еще один танк, и мы одновременно поднялись на Голаны в воскресенье днем. Вторым танком командовал Рами, заместитель командира роты. Вместе мы и составили боевое подразделение из двух танков…»
Я слушал. Я уже знал о них. Заместитель командира полка Леви из Бет а-Шита, выступая перед солдатами нашего батальона, рассказывал о двух танках, которые в воскресенье днем пришли из Ифтаха в Нафах: «Они решили исход войны на Голанах».
Потом Саша сказал, что замкомполка имел в виду танки Ханана и Рами. А Зада утверждал, что, по его мнению, он имел в виду Цвику. Ицик стал спорить с ними обоими. Он считал, что речь шла о танках Менаше и Йоава, которые поднялись на Голаны по дороге от моста Арика к перекрестку Бет а-Мехес. Кто знает, может, и действительно ход войны переломили два танка.
Эльханан рассказывал:
«…Прощание с Малкой на исходе Судного Дня было тяжелым. Тревога была написана на ее лице, и тоска сжимала мне сердце. Пока мы вместе собирали мой рюкзак, я старался ее успокоить. Я говорил, что надо верить в Бога и на Него полагаться. Однако я знал, что даже наш праотец Яаков испугался, увидев Эсава и с ним четыреста человек, и это несмотря на то, что ему была обещана защита на всех его путях. Все-таки мне показалось, что я ее успокоил. Мы уложили рюкзак, и тут к нам зашел Иоэль попрощаться со мной. К моему удивлению, он произнес вслух то, о чем я за минуту до того думал. Что Обетование, данное народу Израиля, пребудет вечно, „не оставит Господь народ Свой и удел Свой не покинет“[40], но относится оно ко всему народу, а не к отдельным людям, которым остается надеяться на силу молитвы. Я был поражен тем, как Йоэль сумел прочесть мои мысли. Может, просто каждый, кто идет на войну, думает об одном и том же? Я только надеялся, что Малка его не слышала. Мне казалось, что не слышала. По крайней мере, делала вид. Мы уложили маленького Даниэля. Он лежал в своей кроватке и улыбался. Я поцеловал его, стараясь сдержать слезы. С Малкой мы простились у сборного пункта. Она стояла и смотрела на меня, пока автобус не отошел».
Эльханан замолчал. Офицеры опустили головы. Через минуту он продолжил:
«…Мы прибыли в часть под утро. Началась беготня по лагерю в поисках боеприпасов и какого-нибудь снаряжения. Во время загрузки снарядов Нахман и сообщил мне о предстоящей женитьбе. Он с тревогой спрашивал, что будет. Я его успокоил, и он продолжал вместе с Хананом быстро и ловко укладывать снаряды. Я смотрел на него и думал: в нашей роте одна молодежь. Кому известно, сколько из них еще только подумывает о женитьбе и сколько уже оставили юных жен и невест!
Мы вышли из Ифтаха около одиннадцати часов. По дороге к мосту Бнот-Яаков у меня заело на „нейтралке“ рычаг коробки передач. Я бил по нему молотком, чтобы вошел в зацепление, как мы это делали на учениях, но у меня ничего с этим не вышло. Ни на первую скорость, ни на вторую. Разве на таком танке идут воевать? Без возможности управлять скоростями?
Я нажал на тормоз. Танк съехал с дороги, сломал несколько деревьев, и тут рычаг заработал. Двигаемся дальше. В час дня прибыли в лагерь Нафах прямо на линию огня. Сирийцы уже были на территории лагеря. Мы обомлели: в Нафахе сирийские танки?
Мы остановились, ошеломленные, у входа в лагерь. Видели, как внутри метались наши солдаты-пехотинцы и по ним вели стрельбу. Стоящий в воротах бронетранспортер загорелся, солдаты выскочили из него и разбежались в поисках укрытия. Я слышал по рации, как, отдавая приказы, кричал командир 188-го полка. Царила полная неразбериха, мы даже не знали, к какой части сейчас относимся. На учениях мы всегда шли в строгом порядке: взвод — рота — батальон, а здесь оказались сами по себе, стояли в растерянности у входа в лагерь, не понимая, что происходит. Повсюду, со всех сторон, мы видели танки. Командир 188-го кричал: „Приказ всем подразделениям: атаковать врага и выбить его из лагеря!“ Мы тоже подразделение. Стоим у входа в лагерь. Мы должны атаковать врага, чтобы выбить его оттуда. Таков приказ. Но снова не действует рычаг! Застрявшие, мы стоим под огнем и сами стреляем во все стороны.
Я справился с рычагом, но теперь не заводится мотор. Ханан приказывает по внутренней связи: „Водитель! Быстрее! Задний ход! Заведется на спуске!“ Завелся. Мы развернулись и вошли в ворота…»
Я слушал Эльханана и вспоминал. Летом, на батальонных учениях в Цеэлим, танки один за другим застревали на дороге. Ицик тогда спросил, не случится ли то же самое и во время войны. Мы засмеялись. Кто тогда думал о войне?
Офицер-историк задал вопрос:
— Вы вступили в лагерь Нафах с юга или с востока?
Эльханан не ответил. Махнул рукой, как бы говоря: «Откуда мне знать? Разве у нас был компас?»
Офицер что-то записал на листе и вложил его в синюю папку. «Видимо, это один из важных пунктов, по которым ведется расследование этой войны», — подумал я про себя, пытаясь вспомнить, есть ли в Нафах вход с востока.
Эльханан рассказывал:
«…Из лагеря выходили солдаты мотопехоты. Мы не знали, в каком направлении следует двигаться. Въехали на холм на территории лагеря и увидели сразу пять сирийских танков. Два из них Нахман подбил. Они загорелись. Перед нашим танком вырос столб дыма: разорвался снаряд. Ханан заметил танк прямо напротив нас. Мы знали, что в следующий раз он в нас попадет…»
Вмешался следователь:
— Какими снарядами вы стреляли в тот раз: фугасными или бронебойными?
Эльханан немного подумал и ответил:
— Я не был ни заряжающим, ни наводчиком, но мне кажется — я слышал, что стреляли фугасными.
И продолжал:
«…Я слышу Ханана: „Водитель! Быстрее! Назад!“
На этот раз, кстати, рычаг сработал. Спустились с холма. Каждые несколько секунд снаряд ложился на место, которое мы только что оставили. Пронесло. И тут как-то мгновенно, вдруг, до меня дошло: мы на войне.
Командир 188-го снова приказывает: „Овладеть лагерем! Сирийцы окружены!“ Я не понял, о чем он говорит. Мы вообще не можем подняться на холм. Около десяти танков нацелены на него со всех сторон. Я взглянул на часы: три. Как? Уже три? Мы здесь уже воюем два часа? Командир второго танка, Рами, передает по рации, что их танк застрял внутри лагеря между деревьями и заграждением. Он просит дать ему „прикурить“, чтобы завелся мотор.
Но мы не можем его найти. Он где-то скрыт за толстыми, разлапистыми ветвями. Рами пытается направлять нас по рации, но ничего из этого не выходит: нам его обнаружить не удалось.
Ханан заметил еще танк, который целится в нас. Подоспевшие наши танки бьют по нему из разных мест. Он горит. С холма напротив поднимается дым. Ничего не видно, и не понять, кто стреляет. Мы меняем позицию, потому что не знаем, какой из этих танков, что стоят за деревьями, целится в нас. Нервы натянуты до предела. Слишком много танков собралось в одном месте. Даже те, что подбиты, кажутся нам нацеленными на нас. Иногда кто-нибудь кричит по внутренней связи, что в нас целится танк, потом оказывается, что это подбитый. Невозможно различить, из какого танка стреляют, из какого — нет. Я знаю, что должен держать себя в руках. Сохранять ясность мысли.
Рами наконец нас заметил и перебежал к нам, а Шмайя, наш заряжающий, пересел в его танк, который не заводится. Теперь заряжающим стал Ханан, а командиром — Рами.
Приказ по рации все время был один и тот же: отбить у сирийцев лагерь Нафах. Теперь мы занимали позицию у западных ворот. Я заметил привязанную к столбу ворот овчарку. Рядом с ней крутился маленький щенок. Собака бесновалась. Стоял беспрерывный грохот. Она смотрела на своего щенка и изо всех сил пыталась порвать веревку, чтобы бежать. Но не могла. Сердце сжималось от жалости, когда я на нее глядел.
Такая полная беспомощность. Несколько раз она обращала голову в нашу сторону, словно ожидая, что кто-нибудь из нас освободит ее…»
Эльханан замолчал и задумался. Ему предложили воды, но он пить не стал.
«…Солдаты мотопехоты в панике отступали из лагеря. Больно было это видеть. Что с нами случилось? Солдаты ЦАХАЛа отступают? Я не успел еще это осмыслить, когда увидел отделение ЦАХАЛа в полном порядке, с офицером во главе, — оно направлялось в обратном направлении — в лагерь, в самую гущу боя. Шоссе, ведущее к воротам, они пересекли бегом, согнувшись, как и положено обученной пехоте. Я тоже сначала был в пехоте, пока не вышло распоряжение сделать из нас танкистов. Мы любили тренировочные маршруты парашютистов: бежишь высоко, по холмам, с ручным пулеметом, или „базукой“, и чувствуешь себя таким свободным! Когда разнесся слух, что нас будут переучивать на танкистов, ребята очень возмущались: все хотели остаться в десантных войсках. Ицик тогда говорил, что в пехоте ты свободен, самостоятелен на местности, владеешь ситуацией, сам себе хозяин. Другое дело, когда ты втиснут в закрытую стальную коробку.
Очень скоро я увидел, как пехотинцы пересекают дорогу обратно. Наткнулись в лагере на бешеный огонь. Я обратил внимание на то, что офицер пересек дорогу последним: ждал, пока не перейдут все. Это меня подбодрило. Еще я заметил, что кто-то стоит рядом с разрушенным зданием, под огнем, пригнувшись, с рацией в руках. Прячась среди деревьев, он смотрел в бинокль и что-то говорил по рации. Возможно, это был офицер, координирующий огонь, или офицер, наблюдающий за ходом боя какой-то части. Кому он докладывает и о чем он докладывает среди грохота боя, я не знал, но подивился его храбрости…»
— Артиллерийский офицер-координатор или офицер-наблюдатель военно-воздушных сил? — вмешался с вопросом следователь.
Эльханан не мог на это ответить. Через перископ кабины водителя он видел пригнувшегося между деревьями человека, говорящего по рации. Это все, что он знает.
Офицер вынул из синей папки лист и что-то записал.
«Вероятно, действия офицера-координатора тоже играют важную роль в расследовании этой войны», — решил я, пытаясь припомнить, не встречался ли и мне кто-нибудь по этой части. Кто знает, будь у нас офицер-координатор, может, и не угодили бы мы в засаду в каменоломне.
Эльханан воспользовался вопросом следователя, чтобы прервать рассказ и привести в порядок мысли. После некоторого молчания он продолжил:
«…В стоящий рядом с нами танк попал снаряд, и он загорелся. Ханан закрыл глаза руками. Он знал этот танк — танк своего товарища, вместе с которым проходил регулярную службу, а потом учился на командирских курсах. Водитель того танка добрался до нас: он был в шоке. Вдруг, невесть откуда, появился наш бронетранспортер и подобрал его.
Еще один раненый подошел к нашему танку. Весь в крови. Взобравшись на башню, он почти потерял сознание.
Ханан занялся им. Попросил меня найти дополнительный индивидуальный пакет. Я отдал свой. Раненый скоро пришел в себя. Оказалось, что на нем в основном не его кровь. Рядом остановился танк. Командира на башне не было. Направлял движение заряжающий, а командир замещал водителя. Он крикнул, нет ли у нас лишнего водителя. Раненый тут же ответил, что он как раз и есть водитель, и, не задавая лишних вопросов, пересел к ним…»
Эльханан опять помолчал немного. Сидел, обхватив голову руками.
«…Вскоре после войны я встретил того солдата на курсах ускоренной подготовки командиров танков. После войны ощущалась острая нехватка в них. Звали его Перец. Он рассказал, что с ним приключилось до того, как он вышел на нас. Их танк был подбит в каменоломне. Он и еще двое сумели спастись. Они бежали до самого Нафаха, но тут выяснилось, что там сирийцы. Они снова побежали, и один из товарищей был убит пулей. Перец пытался вытащить его из-под огня, но был ранен сам. Кровь, которую мы увидели на нем, была кровью товарища. Перец и другой оставшийся в живых добрались до лагеря Ицхак, по которому тоже велся обстрел. Товарищ сказал, что дальше никуда не пойдет, у него нет сил бежать. Он заперся в маленькой комнатке в командном отделе и прятался там. Сирийцы его не обнаружили. Даже ухитрился позвонить домой. Просто снял трубку и набрал номер. Пересидел, пока не пришли наши и не отправили его в тыл. Он и сейчас еще не совсем в себе…»
Эльханану снова предложили воды, и снова он не стал пить. На минуту закрыл глаза, затем повел рассказ дальше. Голос его стал хриплым.
«…Так мы провоевали весь тот день — воскресенье — вплоть до темноты. Взбирались на холм, определяли цель, стреляли, съезжали назад. К вечеру в лагере Суфа собралось десять танков. Организуемся заново. Настроение тяжелое. Люди лежат на трансмиссиях совершенно измотанные, подавленные. Открыли боевые пайки. Рами ни к чему не притронулся. Он и Ханан в большой тревоге: что завтра? Как остановить сирийцев? Ханан сказал, что, если так будет продолжаться еще день, они захватят все Голаны. Нахман спросил, что же тогда помешает им спуститься к Иордану и взять Тверию? В тот момент я стоял у танка и произносил молитву арвит: „…и мы, Израиль, народ Его… Он спас нас из рук царей… Сохранил живыми наши души и не допустил, чтобы споткнулись наши ноги. Он провел нас по высотам врагов и вознес над всеми ненавистниками нашими… Благословен Ты, Господь, спасший Израиль! Дай нам, Отец наш, с миром отойти ко сну и подыми нас [назавтра] для благой жизни и мира… И направь нас своим добрым советом и спаси нас в скором времени ради Имени Своего. И защити нас и устрани врага, что впереди нас и позади нас. И храни нас, когда мы выйдем в дорогу и когда будем возвращаться…“ Вечерняя молитва, которую мы произносим ежедневно, но сегодня она звучала совершенно иначе.
Подошли Ханан и Рами. Мы разговорились. Я рассказывал об обетовании, данном народу Израиля, сказал, что в этом мы полагаемся на Бога. Само возникновение Государства Израиль знаменует собой начало Избавления. Это как утренняя заря, чей свет поначалу едва-едва пробивает тьму, но вскоре тьма отступает и рассеивается под лучами восходящего солнца. То же и с нашим Избавлением. Оно происходит постепенно. Нам неизвестно, как это произойдет и когда. Но мы знаем, что „Превечный Израиля не солжет и не раскается, ибо не человек Он, чтобы раскаиваться“[41]. Мы не можем быть уверены, что лично с нами, с каждым в отдельности, не случится худого. Но народ Израиля победит. Так я говорил и говорил, а Рами и Ханан смотрели на меня и слушали. Не знаю, убедил ли я их. Да я и не ставил себе такой цели. Просто говорил от всего сердца и хотел их подбодрить. Может быть, и себя тоже. Ханан взглянул на меня и произнес лишь: „Будем надеяться“. После войны он признался мне, что в тот ужасный день, вечером, завидовал моей вере. „Тебе было легче“, — сказал он. „Не знаю“, — ответил я.
Утром в понедельник, с первыми лучами солнца мы двинулись. Из Алики шли по дороге, огибающей лагерь Ицхак…»
— Северное шоссе? — спросил историк.
— Да, мы обходили с севера, — ответил Эльханан и продолжал:
«…Меня поразила тишина. Мы пришли на место, где вчера кипел бой. Никакого движения. Тишина абсолютная. Приятный день. Светлый. Так удивительно прекрасен восход. Солнце как-то по-особому освещало дома деревни Нафах — все блестело и сверкало под его лучами.
Наше подразделение, состоявшее из трех танков и для связи получившее название гейсон[42], шло на соединение с танками Данона — заместителя командира батальона. Я подумал: наконец-то боевой порядок восстановлен, ЦАХАЛ пришел в себя. Вчера меня больше всего угнетало ощущение полной неразберихи. Никто не знал, с кем вместе воюет, связь работала из рук вон плохо. Сейчас, когда я увидел, что мы снова стали регулярной боевой единицей, связь налажена, идем в боевом порядке, я успокоился, решил, что теперь-то будем воевать, как нас учили. Это мы умеем. Однако порядок был нарушен очень скоро, в самом начале. Застрял первый танк. Мы пробуем ему помочь. Тем временем на дороге появляются танки, посланные на соединение с другими частями. Связь держать невозможно: сплошной шум. Когда он утих, эфир заполнили команды, позывные разрозненных частей, которые искали друг друга и вклинивались в разговоры друг друга, и все друг другу мешали. Трудно было понять, что происходит. Восходящее солнце било прямо в глаза. Я не видел дороги. Лишь сплошную светлую пелену. Рами сидел на башне и направлял меня. Пришел приказ. И приказ был такой: продвигаться к каменоломне с северной стороны…»
Я сижу и слушаю рассказ Эльханана. Как только он упомянул каменоломню, я вспомнил. В то утро мы как раз вели там бой. Значит, это были их танки. Те, что подошли с севера. Их я и видел через прицел. Меня охватила дрожь. Помню хорошо, как обнаружил идущие с севера танки и не знал, чьи это: наши или сирийские. Из-за слепящего глаза солнца различить что-либо было невозможно. Я все время просил Гиди, чтобы он как-то постарался определить: может быть, все-таки наши. Он отвечал, что тоже ничего не видит из-за солнца. Тогда я сказал, что не буду по ним стрелять до тех пор, пока не удостоверюсь, что это не наши. Стоял на своем и так и не выстрелил. А потом не удосужился проверить. И Гиди тоже не пытался. Сейчас я знаю: это были Эльханан и Рами и их подразделение.
Я слушаю дальше.
«…Нахман и я сидели внутри и ничего не видели. Тоже благо. Особого рода милость. Ханан и Рами были головами наружу, и они видели все. И то, что видели, Ханан передавал нам с Нахманом по внутренней связи, и голос его дрожал. Представшая перед ними картина их потрясла. Повсюду стояли сожженные во вчерашнем бою наши танки и бронетранспортеры. То и дело мы слышали: „Еще один сожженный“ или: „Башня, сорванная с танка прямым попаданием“. Они пытались прочесть номера. Потом Ханан передал, что видит, как кто-то на бронетранспортере объезжает подбитые танки. Около каждого останавливается, влезает на него, а затем слезает. Стоявший на перекрестке офицер направил нас южнее, к невысоким холмам. Мы заняли один из них, заросший злаками почти в человеческий рост. Рами пытается наладить связь с другими танками нашего „гейсона“, выяснить, где они. Не получается. Наконец возникла какая-то связь, но столь часто прерываемая, что ничего нельзя разобрать. Слишком много в эфире голосов. Мы не понимаем, кто с кем говорит. И вдруг слышим через наушники звуки боя, приказ: „Огонь!“, крики: „Нас подбили!“ Мы не знаем, какие части ведут сейчас в каменоломне бой, кто стреляет, куда и по каким целям. Чувствовалось, что каждый танк воюет в одиночку. И тут мы поняли, что исход этой войны решат люди, а не техника. Такие, как Ханан. Как Рами. Как Перец.
Командиры наших танков привыкли на учениях к совместным слаженным действиям рот и батальонов, к постоянной координации по четко работающей линии связи. Сейчас они оказались в ситуации, когда каждый вынужден воевать отдельно, сам по себе. Как солдат-пехотинец, бегущий с ручным пулеметом. Тот, у кого окажется больший запас прочности, больше душевных сил, тот и победит. Так я тогда подумал. Не знал еще, сколько сил потребуется.
Рами решил продвигаться вперед и не имея на то приказа командира нашего подразделения. Спустившись с холма к востоку, мы направились к каменоломне и горе Йосифон…»
— Ты уверен, что вы шли в восточном направлении? — спросил историк.
— Да, — не колеблясь ответил Эльханан, — я уверен, что мы шли на восток, потому что солнце било мне прямо в глаза. Все время приходилось отыскивать на местности какую-нибудь точку в качестве ориентира, чтобы не сбиться с пути. В конце концов мы нашли свой «гейсон». Между танками сновало несколько машин. Не знаю, к какому подразделению они относились. Возможно, это была разведрота. Они указывали нужное направление.
— Разведрота вашего полка? — спросил следователь, открывая синюю папку.
Эльханан снова сделал жест, означавший «кто знает?», и продолжал:
«…Нас стала донимать артиллерия. Поначалу, каждый раз, когда снаряд ложился близко от нас, мы меняли позицию, но затем, когда увидели, что разброс чрезвычайно широк, поняли, что в этом нет смысла. Рами решил не обращать на артиллерию внимания. Вдруг кто-то крикнул: „катюши“! Ханан пригнулся, и ракета пронеслась прямо над его головой. Тянувшийся за ней провод упал на него, и Ханан с трудом из него выпутался. Позднее нам объяснили, что это не „катюша“, а советский „сагер“ — птурс. В них провод является частью механизма наводки…»
— А до этого случая вы ничего о противотанковых ракетах не знали? — спросил следователь.
— Ничего, — ответил Эльханан. Следователь обменялся несколькими словами с историком и что-то записал.
«…Мы получили новый приказ: поменять направление и идти на Синдиану. Там опять появились сирийские танки. Снова и снова атакуют и не собираются отступать. Мы продвинулись в указанном направлении, по-прежнему не обращая внимания на артобстрел. Приказано вступить с сирийцами в бой. Но мы пока никак не можем их обнаружить. Нахман смотрит в перископ не отрывая глаз, но не видит ни единого танка. Местоположение наших танков очень нехорошее — на равнине. Снова нам сообщают, что сирийцы стоят напротив. Мы идем медленно, чтобы не наткнуться на засаду, но так и не видим никаких танков. До тех пор, пока — вдруг! — прямо перед нашим носом не вырастает столб пыли. „Задний ход! Быстро! — кричит Рами. — Следующий снаряд наш!“ Но снова заклинило рычаг коробки передач. „Как раз вовремя“, — думаю я про себя и стараюсь изо всех сил, понимая, что все решают секунды. Наконец! Идем назад, меняем позицию, но еще один снаряд разрывается рядом с нами. Сирийцы занимают более выгодную позицию: нам их не видно. А нас выдает пыль, поднимаемая танками при любом движении. Танк рядом с нами получил прямое попадание и загорелся.
Эти минуты были для меня самыми тяжелыми с тех пор, как мы воюем. Я не знал, чего ждать, не знал, как мы выйдем из этого боя. Но одно знал наверняка: их необходимо остановить. Просто нет другого выхода. И тут я подумал, что пришло время для того, о чем мы так много читали и говорили: для истинного самопожертвования. Следует мобилизовать все внутренние силы, какие есть в нас. Мы должны их остановить. Мы можем их остановить. У нас нет выхода. Долго раздумывать над этим времени не было. Мы поднялись на лучшую позицию. Сейчас мы их видим. Еще несколько наших танков сделали то же. Положение улучшилось. Мы получили сообщение, что несколько сирийских танков уже подбиты. Ханан передает, что видит танки, которые пытаются уйти. Два грузовика повернули назад. По-видимому, это грузовики с боеприпасами, которые следовали за танками. Мы тоже поразили две цели. Кажется, мы их одолеваем. Слава Богу. После войны нам стало известно, что в тот день мы отразили последнюю сирийскую атаку на этом участке. Продолжаем стрелять. Ханан передает, что Синдиана стала долиной смерти для сирийских танков. Вообще для всего, что двигалось, включая их грузовики с боеприпасами и другие средства передвижения. Все было сожжено. Несколько танков — они скрывались под деревьями и не были нами замечены — начали отступать, и за ними потянулось облако пыли. Их подбили тоже.
Мы еще не успели переварить происшедшее, как поступил новый приказ: идти на Хушние. По проселочной дороге, которая отходила от шоссе Йосифон и называлась „катакомба“. Мы следовали за танком Данона. Рами передал, что наша колонна состоит из десяти танков. Серьезная боевая сила. Данон шел первым и очень быстро. Мы же, наоборот, медленно, из-за неисправной коробки передач. На четвертой скорости мотор вообще останавливался, поэтому весь путь я шел на третьей — медленно, но, по крайней мере, не застревая. Перед нами был танк Хагая — командира роты „ламед“. Данон все время просил по рации, чтобы мы его догнали. „Что с вами? — спрашивал. — Я наткнулся на крупные силы противника. Я против них один. Подходите же!“ — „Еще немного, и мы прибудем, — отвечали мы. — Мы уже близко“.
Не объяснять же ему, что у нас не в порядке коробка передач, что заклинивает рычаг. Мы идем в самом хвосте. Впереди Хагай, за ним — все остальные. Идем по дну ущелья. И вдруг танк Хагая озаряет вспышка. Мы все ее видим. Но что произошло, не знаем. Боимся, что его подбили, но еще надеемся, что это стрелял он сам. Рами кричит по рации: „Хагай! Хагай! Прием. Хагай, прием! Хагай! Хагай!“ Ответа нет. Напряжение усилилось. Из танка, который шел следом за ним, передали, что у Хагая прямое попадание в башню с левой стороны. Они пытаются до него добраться. Ханан обнаружил к востоку от дороги противотанковое орудие, прижатое к руслу высохшего ручья — вади, хорошо укрытое и хорошо защищенное: его трудно вывести из строя. А оно между тем способно подбить каждый танк, который попытается пересечь вади. Отходим назад искать другой путь. Данон снова спрашивает: „Почему вас еще нет? Что случилось? Скорее же! Я один!“ Нахман кричит: „Сирийские танки!“ Он обнаружил три танка восточнее ущелья над его ответвлением. Ханан среагировал быстро, и Нахман выстрелил быстро. Идущий перед нами танк выстрелил с нами одновременно. Попали. Но танк Хагая застрял, мы все стоим за ним, а пересечь вади нет никакой возможности из-за противотанковой пушки. И другого пути вперед тоже нет.
Я предложил Рами такой план: я и кто-нибудь еще, вдвоем, взберемся на холм с пулеметом и гранатами. Я же в прошлом пехотинец, на это и тренирован. Оттуда, с холма, я поведу бой против их расчета, а в это время наша колонна пересечет вади. Рами не ответил. Почему он не отнесся к этому серьезно? Мое предложение кажется таким логичным. Тем более что Данон ждет нас. Я снова говорю Рами об этом. Он не отвечает. Обидно, что не отвечает. Я начинаю на него давить. Понимаю, что танкисту трудно мыслить категориями пехоты. В конце концов он сказал, что предложение ему не нравится. Я промолчал. Он командир. Может быть, он боится оставить танк без водителя? Но ведь так важно идти на подкрепление к Данону. Против него сосредоточен враг. У Рами другая идея: он знает место недалеко от Синдианы, где можно незамеченными перебраться через вади. Правда, дорога туда трудная. Мы двинулись. За нами еще два танка. Вот здесь, недалеко от рощи, мы и будем переходить. Высохшее русло потока довольно широкое, намного шире, чем раньше. Но едва лишь мы спустились в лощину, как по нам открыли огонь. Видно, где-то еще оставались сирийские танки, о которых мы не знали. Рами вынужден высунуть голову наружу, чтобы указывать мне дорогу. По нам лупят пулеметными очередями, мы слышим, как пули бьют по броне. Рами стоит, высунув голову. У него нет выхода. Снова вокруг рвутся снаряды. Непонятно, что стреляет: противотанковая пушка или танки. Невозможно также определить, откуда стреляют. Я жму на газ до предела. Данон умоляет: „Скорее же!“ Мы спускаемся по базальтовым террасам „вприпрыжку“, как по лестнице многоэтажного дома, под градом пулеметных очередей. Наконец достигаем южного ответвления лощины и входим под защиту ее стены. Обстрел прекратился. Неужели мы все-таки пересекли русло? Вышли из-под огня? И снова мои губы шепчут эти слова из арвит: „…сохранил живыми наши души и не допустил, чтобы споткнулись наши ноги“.
Но повреждена внутренняя связь, и не действует электропривод поворотного устройства башни. Уже четыре часа. Докладываем Данону, что возвращаемся в Алику. Я заглушил мотор и сейчас никак не могу его завести. К счастью, нам предстоит спуск. Мотор заработал, и я его больше не выключал.
Поскольку нет внутренней связи, Рами руководит движением, сидя на крыле танка, в каске, держа наготове „узи“ на боевом взводе, со снятым предохранителем. Вполне можно наткнуться за какой-нибудь террасой на сирийского солдата.
На всем обратном пути в Алику мы видели подбитые сегодня вражеские танки. Вот мостовой танк с расколотым надвое мостовым устройством. Мы знаем, что могло случиться, если бы мы их не остановили. Целый батальон танков прошел бы по этому мосту через Иордан на Тверию.
Вся местность усыпана кусками обгоревшей брони и стали. Стоят подбитые, сожженные грузовики, джипы, танки Т-54, Т-55. Ханан возле каждого останавливался: искал живых. Одни трупы. Он взволнован и потрясен. „Творец! Сколько смерти, сколько мучений, сколько страдания в Твоем мире!“
Слушая Эльханана, я вспомнил один мидраш: „Когда Господь, Благословен Он, создал первого человека, Он поместил его в райском саду и показал ему все деревья, что в нем росли. И сказал ему: посмотри, как прекрасны они и сколь искусно сделаны. Все это Я сотворил для тебя. Постарайся же не портить и не разрушать Мой мир, ведь если испортишь — его некому будет исправить…“»
Эльханан продолжал:
«…Потом мы увидели наши танки. Ханан и Рами поднимались на каждый в поисках раненых. Раненых они не нашли, но возвратились в шоке от того, что видели. На этот раз они ничего не рассказывали, нам ведь еще предстояло воевать. Но мы все прочли на их лицах. И в потухших глазах Ханана, до того всегда излучавших свет.
К вечеру пришли в Алику. Для меня закончился второй день войны. Эти дни были слишком долгими. Какое счастье, что танки не могут воевать ночью. Ни у нас, ни у них нет средств для ведения ночного боя. Ханан пошел в мастерскую искать электрика. Все смертельно устали и к тому же очень голодны. Еще нужно заново загрузить танк снарядами и прочими боеприпасами. Рами отправился за ними и за горючим. Нужна была также вода. Доставка продолжалась долго, грузовики приезжали с разными грузами. Времени на отдых не было. Наконец пришел грузовик со снарядами. Нам не впервые пришлось загружать снарядами целый танк. Но сегодня мы очень устали, а прибывшие ящики были очень старыми, я открывал их с трудом. Настолько был вымотан, что не хватало сил действовать аккуратно; ящики и снаряды упали на меня, и я поранился. К тому же металлические скобы порезали мне ладони, по рукам текла кровь.
Время уже после полуночи. Нам сообщили, что в лагере Ицхак формируется новое танковое соединение. Мы прибыли туда. Ханан пошел выяснять, кто командир и каков план на завтра. Я открыл банку с едой, даже не взглянув, что на ней написано: мясо, кукуруза или просто компот. Зачерпнул ложкой смесь, которая там была, положил в рот и не почувствовал никакого вкуса. Не смог проглотить более двух ложек.
Во вторник нас разбудили в темноте, еще не было четырех. Через полчаса все соединение было готово. Вышли в строгом порядке, без огней, не зажигая даже задний свет.
Идти трудно, местность незнакомая. Иду впритык к танку, который впереди меня. Во главе колонны, на джипе, разведка. Указывает дорогу. Соединением снова командует Данон…»
— Когда Данон вернулся в лагерь Ицхак? — спросил следователь.
— Не знаю, — отвечал Эльханан. — Не надо забывать, что в первые дни войны бои велись на небольшом участке Голан, расстояния были короткими. Каждую ночь силы стягивались к лагерю Ицхак или Суфа для перегруппировки на завтра.
«…Во вторник настроение резко улучшилось, хотя продвигаться трудно. Но мы организованны, соблюдаем порядок. Как раз этому нас обучали.
В пути колонна несколько раз останавливалась, но вот мы наконец на месте. В Синдиане. Заняли позицию. Ханан объяснил, что предполагается устроить сирийцам засаду на рассвете: они готовят контратаку в направлении Нафаха. Мы дожидаемся момента, когда начнет светлеть восток. Позиция у нас хорошая, на покатом холме, где растут деревья и стоят несколько давно заброшенных развалюх. Все наше соединение занимает два смежных холма. Танк Данона справа от нас, рядом — еще два танка, с которых ведется наблюдение. Видимость плохая. Утренний туман еще не рассеялся, но восходящее солнце уже снова светит в нашу сторону. Ханан стоит на башне, пытаясь что-нибудь разглядеть. Рами решил поменять позицию. Но и отсюда видно плохо. Пришло предупреждение по связи, что сирийцев засекли, но они еще на далеком от нас расстоянии. Такое ощущение, что на этот раз мы готовы. Мы ждем, чтобы они приблизились, вышли на прямую наводку. Ход предстоящего сражения выглядит обнадеживающе.
Наши танки от них скрыты, да еще фактор внезапности. Плохо, что мы опять стоим против солнца. Густое облако пыли выдает продвижение сирийских танков. По связи передали, что они уже пришли в Эйн-Варду. Дан четкий приказ: не стрелять, пока они не приблизятся на короткую дистанцию, чтобы бить наверняка. Все время поступают донесения об их точном местоположении. И вдруг!
Данон — безо всякого предупреждения — открывает огонь. Что-то непредвиденное вторглось в первоначальный план. Потом мы узнали, что их обнаружило и атаковало другое наше подразделение. Поэтому Данон и стал по ним стрелять. Сирийцы сориентировались быстро и заняли оборонительную позицию. Мы понимали, что тоже должны открыть огонь, но не могли определить цель, потому что пока нам не было их видно. А стрелять вслепую бессмысленно и может повредить нашему плану. Но тут Данон сообщил о попадании, сирийцы открыли ответный огонь, и по вспышкам мы определили их местоположение. Нахман выстрелил, скорректировал наводку и вторым снарядом попал в цель. Снова мы под огнем, и снова снаряды ложатся рядом с нами. Снова шепчут мои губы: „…сохранил живыми наши души и не допустил, чтобы споткнулись наши ноги“. Снаряд угодил прямо в пушку танка, что стоял неподалеку от нас. Он дает задний ход. Следующий снаряд может попасть в нас. Быстрее! Мы меняем позицию. По линии связи передают, что мы их бьем. Много попаданий. Их движение приостановлено. И они больше не стреляют. Но это всего лишь минута. Минута тишины. К ним прибыло подкрепление. Они снова открыли огонь. А я уже было подумал, что этот бой мы выиграли. Оказалось, однако, что скопление сил против нас гораздо большее, чем мы предполагали. Нахман продолжает стрелять, руководствуясь в основном вспышками их выстрелов. Снова снаряды рвутся близко, и снова мы меняем позицию. Фактор внезапности нами утерян, а их позиция лучше нашей. Мы стоим против солнца…»
Я слушал Эльханана и вспоминал, как я молился о том, чтобы хоть на минуту скрылось солнце.
«Рами крикнул: „Водитель! Назад!“ Я решил, что нас подбили. Но нет. Снаряд разорвался рядом.„…Сохранил живыми наши души и не допустил, чтобы споткнулись наши ноги“. Рами легко ранен в щеку. Ему трудно говорить. Ханан перевязывает рану. Еще один наш танк загорелся. Вытаскиваем из него раненых. У нас не работает поворотное устройство башни. Как дальше стрелять? Рами почти ничего не может произнести. Ханан принимает команду и занимает место Рами. Докладывает Данону, что башня танка вышла из строя. В это время по линии связи идут переговоры об эвакуации раненых. Дело непростое, опасное, надо пересечь открытую местность. Ищут тех, кто может это сделать. Поскольку наш танк стал к бою негоден, Данон приказывает Ханану подобрать раненых, идти в Алику, починить танк и как можно скорее возвращаться. У него остался всего один танк. Каковы сила и мужество этого человека! Я подумал тогда, узнает ли кто-нибудь об этих людях и о том, что они сделали? Мы двинулись. Ханан часто меня останавливал, чтобы „не засветиться“ в этом опасном месте. Спрыгивал с танка, подбирал раненых и тащил к нам. Один был ранен очень тяжело — в живот и обе ноги. Ханан принес его на плечах. Молчал. Мы пробовали внести его внутрь, не получилось. Уложили на броне. Раненый не издавал ни звука. Ханан ушел снова, а мы тем временем освободили внутри места для раненых. Быстро пошли на Алику. По дороге встретились два танка. Мы не знали, откуда они и куда направляются. Надеялись, что к Данону. Ему так нужен сейчас каждый танк.
В Алике мы начали вытаскивать раненых и не сразу поняли, что происходит вокруг. Говорившие по-французски люди с разного вида камерами окружили танк, фотографируя его и раненых со всех мыслимых ракурсов. Один почти уселся на раненого верхом, чтобы получить нужный снимок. Мы не понимали, кто эти люди и что им нужно. Нам помогала выносить раненых лагерная обслуга, пожилые люди. Они смотрели на нас как на героев. Не хотелось говорить им, сколько раз я чувствовал полную свою беспомощность, когда кругом рвались снаряды, а я не мог справиться с коробкой передач. Ханан побежал за ремонтниками. Упирая на то, что время сейчас критическое, он привел с собой двух танкистов, чтобы сменили Рами и Нахмана. Они сказали, что служат в 188-м полку. Их полк понес огромные потери в Йом-Кипур. В первый день войны он один сдерживал сирийские танки на южном направлении Голанских высот. Эти ребята выглядели совершенно подавленными. Кто знает, через что им пришлось пройти. Мы не спрашивали. Починили танк, запаслись боеприпасами, горючим и сменили пулемет, пострадавший, когда в башню ударил крупный осколок.
Ханан пошел к заместителю командира полка доложить, что мы возвращаемся к Данону. Замкомполка Леви из Бет а-Шита, абсолютно спокойный, стоял возле джипа и принимал по рации какое-то донесение. Он сделал нам знак подождать. Мы знали, что нас ждет Данон, что положение у него тяжелое, и не хотели задерживаться.
Замкомполка тихо сказал Ханану: „Вы остаетесь здесь“. Немного помолчал и добавил: „Вертолеты сирийских коммандос только что приземлились у перекрестка Нафах. Некому оборонять лагерь. Все танки, которые могли хоть как-то двигаться, я отправил в помощь Данону. Ваш танк сейчас здесь единственный исправный танк. Вы мне нужны. Оставайтесь на своих местах“. Слух о десанте распространился быстро. О нем слышали все, у кого работала связь. Доносили о двух вертолетах. Кто-то передавал, что даже видел, как из них высаживаются солдаты. Другой говорил, что они идут к Нафаху…»
Я сидел и слушал рассказ Эльханана о вертолетах сирийских коммандос, которые приземлились утром во вторник у перекрестка Нафах. Рядом с нами. Я едва не вскочил с места и не вмешался, хотел сказать: «Да, да! Я их видел! Видел, как они выпрыгивают из вертолетов прямо напротив нас. Но их в ту же минуту уничтожили». Я промолчал. В конце концов, главное я теперь знаю: это мне не померещилось.
Эльханан:
«…В лагере были в основном штабные. Все в напряжении и беспокойстве: кто их защитит? Замкомполка держался здорово. Стоял, прислонясь к джипу, и отдавал распоряжения. Мы услышали самолеты. Высоко над нами, описывая в небе широкую дугу, летел МИГ. Кто-то сказал, что он, видимо, защищает те вертолеты. Но тут прилетел наш самолет, и завязался воздушный бой. Какой-то из двух истребителей стал падать. Непонятно чей. Раскрылся парашют. Летчик повис — один — между небом и землей. Между жизнью и смертью. Молимся за него. Еще один МИГ показался из-за холмов. Люди нервничают. Я понимаю: это означает, что мы еще не окончательно остановили сирийцев.
Вызвав Ханана, замкомполка приказывает ему идти на помощь к Данону. Сирийские коммандос уничтожены, говорит он. На этот раз мы идем быстро и вместе с еще одним танком. Прибыли в Синдиану. Положение там не из легких. Несмотря на прибывшее еще до нас подкрепление, сирийский напор не ослабевает.
Как раз сейчас они предпринимают контратаку. Я вижу танк Данона, стреляющий без передышки. Мы занимаем позицию недалеко от танка заместителя командира роты. И тут этот танк подбивают. Командир выпрыгивает из него и переходит к нам. Наш заряжающий сошел и дал место Ханану. Замкомроты теперь наш командир. Получаем приказ двигаться вперёд, потому что сирийская контратака захлебнулась и стрельба поутихла. Некоторые их танки начали отступать. Теперь в атаку идут наши силы. Заходим с запада, с их правого фланга. Пока все тихо, но уже начало темнеть, и местность трудна. Огромные валуны. Нам приказывают осуществить штурм-бросок на Рамтание. Наше продвижение едва ли можно назвать „броском“. Мы в основном по этим камням ползем. Вступает в действие их артиллерия. Откуда? Кто нас обнаружил? И опять стреляют танки, опять снаряды ложатся вокруг нас, и наш танк опять в своем репертуаре: заглох мотор. Я высвободил тормоз, и танк завелся. Данон кричит: „Рассредоточиться! Идти вперед! Подавить все цели, все огневые точки, которые ведут по нам стрельбу!“ Но наш командир никаких целей не видит. Может, это потому, что мы находимся позади. Данон повторяет свой приказ снова и снова. Место нехорошее. Вокруг беспрестанно свистят пули. Уже почти стемнело. Ничего не видно. Данон приказывает повернуть назад. Нельзя атаковать в темноте. Жаль, конечно. Наши силы подошли достаточно близко к сирийцам. Они продолжают по нам стрелять. Назад идти тоже трудно.
Впереди у нас снова ночь перегруппировки сил. Закончился еще один день войны — вторник…»
Эльханан замолчал. Он не стал рассказывать дальше. О прорыве на Хан-Арнабе, о боях за Кфар-Насаж и Халас. И еще очень и очень много о чем он бы мог рассказать.
Судный День, Йом-Кипур, пришелся в этот раз на Субботу. На его исходе, на исходе Субботы, наш полк поднялся на Голаны и воевал там всю неделю вплоть до вечера Субботы в праздник Суккот. Мы сдерживали натиск сирийцев до среды. А в четверг мы осуществили прорыв в сирийский анклав. Но об этом, и о Хан-Арнабе, и об иракских танках им расскажет Шломо. В первые дни войны он со своим неисправным танком стоял у моста Бнот-Яаков.
Эльханан встал и пересел ко мне. Офицеры открыли свои папки и писали, писали.
Я слушал все, что говорил Эльханан. Прояснились многие вещи, которые были для меня загадкой. Но того, о чем надеялся услышать, того не услышал.
ЙУД
Встал Шломо. На голове — белая вязаная кипа, подарок молодой жены к свадьбе. Они поженились за месяц до войны. Из-под рубашки аккуратно свисают белые цицит. Глаза блестят, и губы всегда готовы растянуться в улыбке. Шломо будет рассказывать, как прошел для него день прорыва в сирийский анклав. Он был наводчиком у Вагмана, командира батальона.
Я уже слышал про иракский полк, про то, что Шломо первым обнаружил их танки и подбил семь из них — один, — пока не подоспели наши, но подробностей не знал. Сейчас узнаю. В свой рассказ он привычно вплетал стихи из Писания, и получалось так, словно и они являются частью повествования. Он начал с того, что заявил трем сидящим против него офицерам:
— Так как сейчас я в первый раз говорю о том, что произошло с нами на этой войне, вначале я хочу возблагодарить Всевышнего, пастыря моего, согласно написанному: «Господи, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе»[43]. С вашего позволения, я прочту несколько стихов из книги Псалмов.
Шломо вынул из кармана гимнастерки маленькую книжицу Псалмов в пластиковой обертке, которую всегда носил с собой вместе с карточкой военнопленного и перевязочным пакетом. Он раскрыл ее и прочитал медленно и с выражением, сосредоточиваясь на каждом слове, как в молитве:
«Псалом Асафа.
Зачем, Боже, ты оставил навсегда, возгорелся гнев Твой на паству Твою!
Вспомни общину Свою, издревле приобрел Ты, спас Ты племя наследия Своего, эту гору Сион, на которой Ты пребываешь.
Подними стопы Свои на развалины вечные, на все, что разрушил враг в святилище.
Рычали враги Твои в собраниях Твоих, символами сделали знаки свои.
Подобно топору, занесенному над древесными зарослями.
И ныне резьбу молотом и топором отбивают. Предали огню святилище Твое, до земли осквернили обитель Имени Твоего.
Сказали в сердце своем: уничтожим их вместе; сожгли все собрания Божие в земле.
Знаков наших не видим мы, нет более пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе
Доколе, Боже, будет поносить враг, вечно ли будет противник хулить имя Твое?
Почему отвращаешь Ты руку Свою и десницу Свою? Из среды недр Своих порази!
Боже, Царь мой издревле, творящий спасение посреди земли»[44].
Шломо закрыл книгу, спрятал в карман рубашки и продолжил:
«Сейчас нет пророков, которые могли бы объяснить, какую весть передают нам свыше, хотя мне ясно, что нам что-то говорят, и мы должны понять это сами.
Об этом сказал царь Давид в псалме: „Рычали враги Твои в собраниях Твоих, символами сделали знаки свои… Сожгли все собрания Божие в земле“.»
Эта война велась в святые времена. Ее начало пришлось на Йом-Кипур, а прорыв в сирийский анклав мы совершили в Суккот. Тогда, на исходе Судного Дня, в душе еще звучали строфы молитв о прощении и напевы покаянных признаний. А в Суккот со мной были слова молитв о спасении и стихи во славу Всевышнего. Когда мы сидели в сукке в Алике, перед тем, как пойти в прорыв, мне подумалось: «И простри над нами шатер мира Твоего». А когда мы воздели лулавы, я вспомнил слова мудрецов: «В заслугу того, что исполняют евреи написанное: „И возьмите себе в первый день плод дерева красивого…“[45], победят они Эсава, названного „первым“: „И вышел первый, красный…“[46]»
В ночь Суккот мы начали подготовку к прорыву.
Все танки, которые еще остались у полка, и все танкисты, прошедшие Нафах и каменоломню и там уцелевшие, собрались в Алике. Наш танк в этих боях не был: ни там, ни сям. Он застрял по дороге. Только вечером в понедельник мы пришли в Нафах и увидели, что там произошло. В ту ночь в Алике ремонтники работали без отдыха, трудясь во всю мочь: чинили танки. А наш экипаж загружал в них снаряды и заправлял горючим. В воронке из-под минометного снаряда Адир устроил сукку и попросил меня ее проверить. Сукка отвечала всем требованиям закона. Правильных размеров, навес устроен из ветвей эвкалипта, выросшего из земли и не принимающего нечистоту. Чего же ей не хватало? Только одного: чтобы кто-нибудь из народа Израиля пришел, и освятил ее, и произнес благословение, и устроил праздничную трапезу — тогда пребудет в ней Шхина. Сказали мудрецы, что заповедь пребывания в сукке подобна заповеди заселения Эрец-Исраэль, и хотя нет тому доказательства, намек на то есть в Псалмах: «И была в Шалеме сукка Его и в Ционе Его обитель»[47]. И в сукке, и в Земле Израиля человек окружен святостью. И в обоих случаях заповедь состоит в том, чтобы войти и поселиться там, есть, пить, и спать, и заниматься своими делами. Так и в Земле Израиля: тот, кто живёт в ней и ходит по ней, сажает деревья и выполняет свою работу, — исполняет он этим заповедь. Сказал один из великих: «Обе заповеди исполняют всем телом». И добавил: «Даже сандалиями и сапогами».
И я пошел и принес из танка бутылку вина.
Я раздобыл вино у офицера военного раввината, который в Нафахе раздавал солдатам Танах и книжечки Псалмов. Я взял книги и несколько бутылок вина.
Одна из них потом разбилась по дороге на Хан-Арнабе, на остальное вино мы произносили кидуш в Субботы и праздники.
Экипаж за экипажем заходили в сукку и произносили благословения. Каждый экипаж отдельно, неся с собой весь груз происшедшего. Я произнес праздничный кидуш: «Ты избрал нас из всех народов и выделил из всех языков, и освятил нас заповедями Своими». Мне вспомнилась хасидская мелодия, сопровождавшая кидуш в отцовском доме, и я напевал ее про себя. Первый день Суккот. «И будешь радоваться в свои праздники», — говорит Тора, а я здесь один. «Первый год посвяти себя устройству дома твоего и радуй жену твою», — говорит Тора, а я здесь один. Мы поженились всего месяц назад.
Сегодня был трудный день. Тяжелый бой у Рамтание. Бой, о котором упоминал Эльханан. Массированный обстрел из «базук». Мы тоже беспрерывно стреляли. Очень близко от танка, что стоял перед нами, разорвался снаряд. Танк быстро дал задний ход. Но он нас не видел и наехал прямо на наше крыло. «Подай вперед!» — изо всей силы крикнул Вагман командиру того танка. Когда он с нас слез, выяснилось, что повреждено управление. Все-таки пытаемся продвигаться вперед. И тут я слышу, как Вагман палит из «узи» очередь за очередью и кричит водителю, чтобы тот беспрерывно менял направление — то вправо, то влево. Оказалось, что какой-то сирийский солдат-пехотинец с двумя гранатами старается взобраться на наш танк, чтобы вступить с нами в бой. Он храбро и настойчиво шел против танка один и не оставлял своего намерения. Я не знаю, сколько времени все это продолжалось. Я сидел в своем отсеке наводчика. Был момент, когда ему почти удалось влезть на башню. В конце концов Вагман сказал тихо: «Я его убил».
Дальше вести бой в плохо управляемом танке мы не могли. Тогда нам дали приказ эвакуировать раненых. Вагман бегал под огнем и притащил в танк пять человек. Мы наложили им повязки, напоили и отвезли в Нафах.
Там, у пункта сбора раненых, я увидел стонущих на носилках людей и накрытые простынями тела убитых. Понял, что здесь происходило в последние дни. Тяжело. И тут мне была явлена милость: я увидел служебное помещение и зашел туда. На столе стоял телефон. Я машинально поднял трубку. Ответил телефонист. «Можно получить линию?» — так же бездумно спросил я. «Почему нет, — сказал он, — минуту». Невероятно! Отсюда — домой? Прямо с войны? Из этого ада? Домой? Я набрал номер. Жена взяла трубку. Слова застряли у меня в горле. Мы поженились за месяц до войны. «С праздником! — прокричал я в трубку. — Я в порядке. С праздником!»
Я попросил у Вагмана разрешения переночевать в сукке. Он из кибуца Сдот-Ям и не очень-то понял смысл моей просьбы, но разрешил. Я заснул мгновенно, ни о чем не думая. Спустя два часа он меня разбудил и велел быстро перебираться в танк. Сирийская артиллерия обстреляла лагерь. Все должны быть на местах.
Утром мы еще успели помолиться, взять в руки лулав и этрог. Этрог я привез еще из дома. Я всегда покупаю его до наступления Йом-Кипур: как знать, может, именно эта заповедь перевесит чашу весов в мою пользу. Говорили мудрецы наши, что человек должен всегда относиться к себе так, словно он наполовину виновен, наполовину оправдан. Так же и весь мир: наполовину виновен, наполовину оправдан. Выполняет человек одну заповедь, и чаша весов — и для него, и для всего мира — склоняется в сторону оправдания. Но не только это: этрог символизирует тех, у кого есть знание Торы и добрые дела, подобные запаху и вкусу. Кто-то из раввината принес пальмовую ветвь, мирт и иву, и мы произнесли благословение и склонили их на четыре стороны света, чтобы поставить преграду духу зла. Я представил себе синагогу и свитки Торы, мысленно обошел вокруг них, как положено, и произнес слова молитвы о спасении: «О, спаси нас! Ради Тебя, Бог наш, спаси нас! Ради Тебя, Избавитель наш, спаси народ Твой, и благослови удел Твой, и веди и храни народ Твой во веки веков!»
В одиннадцать часов Вагман сказал, что до начала прорыва нам следует прибыть на место сбора. Мы двинулись в направлении горы Авиталь. Из всех, кто остался в полку, образовали четыре боевых соединения. В нашем было одиннадцать танков. Командиром назначили Саси, а Вагмана — его заместителем. Уже вовсю шла артподготовка, и авиация бомбила сирийские позиции. На этот раз атакуем мы. Наконец-то организованное наступление. Как описано в книгах. Как нас тренировали на учениях.
В два часа дня передали приказ: идти на Кунейтру. Первыми шли танки другого полка нашей дивизии. Этот полк понес большие потери. В основном от противотанковых орудий. Мы были в прикрытии, и с нашей позиции было хорошо видно, как на главном направлении удара подбивают наши танки и они горят. В одном из них наводчиком был брат моей жены.
Получен приказ командира нашего полка, Ори: идти на прорыв! По связи передали, что ранен Амос, командир одного из соединений. Все время слышим голос Ори, уверенно и спокойно отдающего команды.
И вдруг он исчез. Молчание. Все в тревоге: что случилось? Мы шли за ним с первого дня. Но через несколько минут мы снова его услышали: «Я к вам вернулся. Пересел из командирского бронетранспортера в свой танк». Он не объяснил почему, но все и так поняли: бронетранспортер подбит, но он спасся.
Во главе нашей колонны идет Саси. Идет быстро. У него новый «центурион», развивающий хорошую скорость. У нас «центурион» старого образца, работающий на бензине. Мы от него отстаем, а из-за нас — и все остальные танки. Саси торопит. Водитель увеличивает скорость, но тут не срабатывает управление, и мы проваливаемся в огромную яму. Орудие уперлось в ее край, в него набилось полно камней и земли. В последний момент я успел поднять ноги, чтобы их не защемило, — кошмар, который всегда преследует наводчика. Остальные танки прошли мимо нас и присоединились к Саси.
Мы выбрались из ямы и двинулись вслед за ними. Пушка свернута на сторону. Неизвестно, можно ли вообще стрелять из пушки, в которой полно камней. Однако времени на сомнения у нас не было: стреляли в нас. Вагман приказал дать ответный залп. Я выстрелил и даже попал, но вместе с этим выстрелом сорвало треть ствола. Остались с «мини-стволом». Понятно, что я ни в кого больше попасть не мог, хотя и пытался. В башню набился порох. Пушка пришла в негодность. Перешли на пулеметы. Нас обстреливали из «базук» и ракетами. В таком виде дошли до Хан-Арнабе. Мы тогда думали, что серьезных сирийских бронетанковых сил уже не встретим, но и «базуки», и ракеты приводили к ощутимым потерям. К вечеру заняли новые позиции. Небо окрашено оранжевым, повсюду «костры». Через каждые несколько минут взрыв, и мы знаем, что это взрываются боеприпасы в подбитом танке. Нашем или вражеском. Этого мы знать не можем. Видим сирийские джипы и грузовики с пехотинцами. Стреляем по ним из пулеметов. Наконец Вагман решает окончательно, что дальше на нашем танке воевать нельзя. К нам стали подходить ребята из других экипажей и забирать то, в чем у них ощущалась нужда. Я раздавал охотно. Думал: «Все равно сейчас вернемся в Алику. Всё! Война для меня окончена». И как раз в эту минуту рядом с нами остановился танк.
Его командир сказал, что больше не может. Он просил Вагмана, чтобы его кто-нибудь заменил. Вагман не колебался ни минуты. Оставил нас и перешел к ним. Я очень расстроился от того, что Вагман не вернется с нами в Алику, но тут подошел также и их наводчик. Взобрался к нам и спросил, кто наводчик у нас. Я ответил, что я. Он сказал мне, что у него болит спина. Он тоже хочет вернуться. Стоял и ждал. Мы обменялись взглядами. «Болит у тебя спина?» спросил я. «Да, — отвечает он, — болит». — «Спина?» — говорю я. «Да, подтверждает он, — спина. Мне нужно вернуться. Ты меня замени». Я гляжу на него в упор. Прямо в глаза.
В этот момент возвращается Вагман за личными вещами. Поднимает свой вещмешок, поворачивает голову в мою сторону, смотрит на меня со значением и говорит: «Шломо! Ты знаешь, что я думаю». Я понял. Взял с собой бутылки вина и тфилин и пересел в другой танк. В Алику вернулись те двое.
Как сказано в Псалмах: «От Господа произошло сие, и чудом выглядит оно в глазах наших». Кто знает, как повернулось бы дело с иракскими танками, если бы мы тогда возвратились. Утром двинулись южнее — расширить наши позиции в сирийском анклаве. Таков приказ. Мы снова идем за Саси. Прошли через несколько селений. Везде по нам стреляют из противотанкового оружия. Саси выстрелил и попал в стену. Отлетевший от нее камень ранил его в голову. Командование принимает Вагман. Сейчас наш танк идёт первым. У Вагмана черное, как уголь, заросшее щетиной лицо и длинные волосы. Сейчас он командир батальона. Мы идем во главе соединения.
В полдень подошли к деревне Насаж. Командир полка отдает приказ об остановке. Подходят грузовики с боеприпасами, цистерны с горючим. Мы отдыхаем. Используем передышку. Люди наконец-то вылезают из танков. Некоторые, стащив с себя одежду, льют друг на друга воду из канистр. Другие едят, сидя на трансмиссиях. Водители, проверив моторы, оставили свои кабины, чтобы взглянуть на солнце и вдохнуть воздух без копоти и пороха. Отдых. Все почти уверены, что впереди уже нет сирийских танков. Чувствуется конец. Во всех танках рации настроены на внутрибатальонную связь. В нашем есть еще и линия внутриполковой связи, потому что Вагман сейчас командир. Следим за тем, чтобы связь поддерживалась постоянно. Мы еще были в процессе подготовки, когда услышали, как Дан, командир дивизии, приказывает Ори, командиру полка, немедленно прервать остановку и прекратить все приготовления. По машинам! Навстречу нам движется танковое соединение.
Мы были ошарашены. Танки? Но мы думали, что сирийских танков больше нет. Вагман отреагировал стремительно. Не дожидаясь приказа командира полка, велел нам занять места и двинул наш танк в указанном направлении. Поскольку мы были первыми и шли быстро, мы далеко оторвались от остальных и оказались одни. Когда мы поднялись на один из холмов, я увидел в перископ танки, выныривавшие из-за холмов и спускавшиеся нам навстречу. Десять танков. Я крикнул Вагману: «Ты видишь то, что вижу я?» — «Да», — отвечает он тихо. «Стрелять?» — спрашиваю я и навожу орудие на первый танк. «Нет, — отвечает шепотом Вагман. — Подожди». Они идут против солнца и пока нас не видят. Похоже, что они вообще не совсем понимают, где находятся. Но они все ближе и ближе, и я начинаю нервничать. Очень нервничать. На что он рассчитывает? Почему не разрешает стрелять? Ведь они могут нас обнаружить. Они подходят все ближе. Я продолжаю держать первый танк на прицеле. Вагман велит ждать.
И тут, когда они были уже почти рядом, скомандовал Вагман: «Шломо, огонь!»
Передо мной целая колонна, а я один. Я обязан попасть. Стреляю в первый. Попал. «Цель!» — кричу. «Во второй», — говорит тихо Вагман. Стреляю в том же направлении: «Цель!» — «Огонь, Шломо!» — говорит Вагман. И так я стрелял и стрелял. Мы одни подбили семь танков. Тут подоспели наши. Вагман спустился ко мне в отсек и крепко обнял. В глазах слезы. Эли, который без устали подавал снаряды, спросил взволнованно: «Шломо, все в порядке? Есть попадания?» Ори, командир полка, поздравил Вагмана по связи: «Молодец! Такое сделал! Завтра поведешь полк». В глазах командира полка это награда, подумал я. Дело довершила наша авиация.
Мы узнали, что это были иракские танки. Целый их полк со свежими силами пришел на помощь сирийцам. «Что им до нас? — подумал я тогда. — Зачем они пришли воевать с нами? Ради чего?»
Солнце зашло, я встретил Субботу в танке. «Пойдем, любимый мой, навстречу невесте»; «Хвалебная песнь дня субботнего». Всю огромную благодарность, которую я чувствовал сейчас, и все, что лежало у меня на сердце с самого Судного Дня, вложил я в слова «Леха Доди»[48], гимна встречи Субботы:
Святилище Владыки, царский град, Поднимись и восстань из развалин! Полно тебе изнывать в юдоли плача! И Всевышний сжалится над тобой. Отряхнись от праха, поднимись, Облачись в одежды славы твоей, народ мой, Вместе с сыном Ишая из Бет-Лехема. Приблизься, Господь, к душе моей и избавь ее. Поправшие тебя будут попраны, И разрушившие тебя будут разрушены. Будет радоваться тебе Бог твой, Как жених радуется невесте.В субботнюю ночь мы шли на север в густом тумане. Первые в нашем полку. В пути я увидел другие наши танки и доложил Вагману. Мы присоединились к ним на ночной стоянке. Я достал вино. «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, освятивший нас своими заповедями и возжелавший нас; Субботу, святыню Свою в благоволении и любви даровавший, память о сотворении мира, первый из святых праздников, напоминание об Исходе из Египта. Ибо нас избрал Ты и освятил среди всех народов».
Мы втроем поднялись, чтобы выйти из будки. После нас на очереди следующие трое: Саша, Зада и Цион. Их историю я знал.
Многое, что было скрыто от меня с самого начала войны, прояснилось после рассказов Шломо и Эльханана. Одно оставалось тайной.
Задумавшись, я брел назад к своему танку. Снова видел перед собой маму, как она по-особенному пристально смотрит мне в глаза и говорит: «Ты обязан выяснить, что случилось с Довом». «Но я не знаю, — отвечаю я. — На учениях мы всегда были вместе, но не на этот раз. Все экипажи перемешались. Все делалось в жуткой спешке, набирали экипажи из тех, кто был под рукой, и, если кого-то не хватало, брали другого, лишь бы танк мог поскорее выйти. Не было времени ждать, пока соберется постоянный экипаж».
Мне показалось, что кто-то идет следом за мной. Я обернулся и увидел офицера-следователя. Он остановил меня.
«Я хочу тебе кое-что рассказать, — начал он. — Я вспомнил об этом, когда ты говорил про свои тфилин. Ты еще упомянул, что на мешочке был вышит Маген-Давид. Я вспомнил, что, когда мы проводили такое же расследование, как сегодня, в другой роте, один солдат рассказывал, как его товарищ из „Голани“ нашел чьи-то тфилин. Товарища звали Момо. Или Шломо. Он нашел их в отсеке заряжающего в одном из обгоревших танков возле горы Йосифон. Танк был сожжен начисто. На мешочке было вышито имя. Я подумал, что тебе это может быть интересно», — закончил он и быстрым шагом пошел назад. Я бросился за ним.
— Какое имя? — крикнул я.
Офицер пожал плечами, словно говоря: «Сожалею, но не могу же я все упомнить».
ЙУД-АЛЕФ
Мы вернулись к повседневной работе. Считаем дни до следующего отпуска. Каждый день похож на другой. Длинные и холодные ночи. Только когда появлялся Кимель и привозил почту, в части ощущалось волнение. Мы бежали навстречу, но он сначала занимался административными вопросами, обменивался несколькими словами с Хананом и лишь затем развязывал веревки, стягивавшие пачки с письмами. Мы нетерпеливо набрасывались на них — единственную связь с оставленным нами миром. Кто-нибудь выкликал написанное на конверте имя, а Саша и Зада добавляли к нему что-нибудь смешное.
Однажды на мое имя пришло сразу несколько писем, в основном от детей. Перед войной я преподавал два раза в неделю в шестом классе, и дети писали мне регулярно раз в неделю. Не знаю, был ли это их собственный почин, или так распорядился директор. Определив их по почерку, я отложил детские письма в сторону. Стал смотреть, от кого другие. Одно из них привлекло мое внимание. Оно было армейское, и послал его Яир. Я удивился: с чего это вдруг он решил мне написать? Я быстро разорвал конверт.
«Мир и благословение возлюбившим Тору. Я надеюсь, что с тобой все в порядке. Слышал, что у вас были нелегкие дни. С Божьей помощью мы еще дождемся утра. Об этом учили мы: „И остался Яаков один. И боролся человек с ним до восхода зари. И увидел, что не одолевает его, и коснулся бедра Яакова…“[49] А что было далее? „И засияло ему солнце…“[50] А потом встретился он с врагом своим, с Эсавом, но несмотря ни на что: „И пришел Яаков благополучно“[51]. Кто такой Яаков, откуда его имя? От того, что: „Рукой держался за пятку[52] Эсава“[53]. Он знал, что не сможет опередить брата, выходя из материнского чрева, но и склониться перед ним не желал. Потому и держался за пятку Эсава и продолжал борьбу, пока не засияло ему солнце и не услышал он: „Ибо ты боролся с ангелом и с людьми, и победил“[54].
Ты, конечно, удивишься: с чего это вдруг я решил тебе написать? Дело в том, что в йешиве я был напарником Дова. Он много рассказывал о тебе. Думаю, ты захочешь услышать то, что я знаю. Тебе, вероятно, известно, что я не танкист и регулярную службу проходил в артиллерийских войсках. Демобилизовался за несколько месяцев до начала войны и еще не был зачислен ни в какую определенную резервистскую часть. В воскресенье, на второй день войны, я добрался до Рош-Пины. Болтался там вместе с такими же неприкаянными, не знавшими, к какой части они теперь относятся, и с прилетевшими из-за границы, у которых тоже не было своей части. Нас перебрасывали из одной базы в другую, и каждый раз нами занимался новый командир. В одном месте считали, что мы должны оставаться „свежим резервом“, в другом пытались организовать из нас новую батарею. В конце концов я оказался на Южном фронте и участвовал в переправе через канал, но это история длинная, и нет у меня ни сил, ни охоты о ней писать.
Во вторник, на четвертый день войны, мы все еще обретались в Рош-Пине, ожидая оформления в боевую часть и мечась в поисках снаряжения. Нам сообщили, что прибыли прицепы. В то время как я бежал за ними на другой конец лагеря, я встретил еще одного парня из нашей йешивы, который тоже куда-то бежал. Увидев меня, он сказал: „Ты знаешь, Яир, я слышал, что нашли его тфилин“. „Чьи тфилин?“, — спросил я. „Тфилин Дова, — говорит, — Дова, твоего напарника“. Меня словно ударили. Перехватило дыхание. Все время слышим о ком-нибудь еще. Сердце сжалось: Дов? Нашли его тфилин? А парень продолжает рассказывать: „Говорят, их танк был подбит днем в воскресенье. Сгорел дотла. Что стало с экипажем — не знают. В отсеке заряжающего кто-то нашел тфилин. На футляре было вышито имя“.
Вот все, что мне известно. Позже я слышал, что двоим удалось спастись, они, возможно, могут сообщить больше. Я рассказал тебе все, что знаю. Мне неизвестно, знаешь ли ты больше. Говорят, что, хотя ты и был там, ты не знаешь ничего. По-видимому, и никто другой ничего больше не знает. Я подумал, что должен сообщить тебе про тфилин. Вы были с ним близкие друзья».
ЙУД-БЕТ
Три субботние трапезы заповеданы нам нашими учителями, чтобы была Суббота для нас блаженством, как говорит о ней пророк Йешая. Три трапезы для спасения от трех видов бедствий: тех, которые будут предшествовать приходу Машиаха, войны Гога и Магога и мук преисподней. Наиболее ревностные устраивают и четвертую, уже после церемонии отделения Субботы от наступающих будней. Накрывают заново стол, садятся за него в субботней одежде и провожают Царицу-Субботу, как это принято между близкими, любящими друг друга людьми, которые устраивают один для другого праздничные обеды и приглашают на них многих гостей, а когда гости расходятся, говорит хозяин дома своему любимому другу: «Раздели со мной легкий ужин на двоих, ты и я, потому что грустно мне расставаться с тобой».
Великое сокровище даровано Израилю, и имя ему — Суббота. Ведь на каждый нечетный день приходится четный, и они составляют пары. И только у Субботы нет пары: «Сказал Субботе Творец: „У тебя нет пары и у народа Израиля нет пары, Израиль и будет супругом твоим“.»
С обновленным лицом встречают евреи свою невесту — Субботу, освящают ее приход над добрым вином и режут хлеб, испеченный в печи, начиная с того места, где запеклась корочка. Устраивают в ее честь три праздничные трапезы, за которыми распевают субботние гимны, изучают Тору, предаются множеству наслаждений. А когда наступает время прощания, задерживают ее ненадолго и провожают еще одной маленькой трапезой. Свет этой трапезы озаряет стол все дни будней, а называется она трапезой царя Давида. Давид — четвертая опора Престола, а три первые трапезы свершаются во имя Авраама, Ицхака и Яакова.
Говорили мудрецы наши: «В человеке есть одна маленькая косточка, чье имя нас кой (или луз), которую питает съеденное за четвертой субботней трапезой. Из этой косточки возродится человек из мертвых: она никогда не превратится в прах, ибо не вкусила от Древа Познания. Когда Змей подстрекал женщину, она соблазнилась, и поела, и накормила Адама; согрешили они, и вошла в них скверна Змея. Все тело, получившее удовольствие от первого греха, поддается разрушению, одна эта косточка неистребима вовек, потому что не пользовалась плодами греха. А почему так случилось? Потому что Адам вкусил от Древа Познания в канун Субботы, а эта косточка получает жизненные соки только от того, что едят на исходе Субботы, во время четвертой трапезы. Вот потому-то особенно велика награда тому, кто не забывает об этой трапезе».
Весь Израиль любит Субботу и ждет ее прихода — тем более мы, уже несколько месяцев не покидавшие своих танков. С самого Судного Дня стали они нашим домом, и нет того, кто бы сказал нам, когда это кончится. Сколько таких, что оставили молодых жен и не только не смогли заниматься устройством своего домашнего очага в течение первого года, как предписано, и радовать своих жен, но случилось так, что напал враг, и даже одного месяца радости, «медового месяца», не было им отпущено. Есть те, кто оставили жен беременными, и те, кто скучает по маленьким детям; те, у кого свое дело, и им грозит разорение; и те, кто оторван от своих йешив и изучения Торы — главного дела жизни. Конечно, мы пытаемся, насколько это возможно, выискивать время для ежедневных занятий, однако нет у нас необходимой ясности восприятия, да и нужных книг тоже нет. К тому, что мешает нашим занятиям, можно добавить чувство глубокой тоски, накатывающее на нас при воспоминании о товарищах или о том, что нам самим пришлось пережить: холодный, пронизывающий ветер, который хлещет по лицу, стоящие под дождем танки, за которыми нужно ухаживать, и слякоть, хлябь, которая покрывает землю. А неба не видно из-за густого тумана.
Поэтому всю неделю мы ждем наступления Субботы. И, как только выдается час, свободный от дежурства или патрулирования, мы собираемся вместе и празднуем Субботу. Мы встречаем ее вином и, несмотря на то что нашей одеждой остается все тот же комбинезон, кое-кто успевает его выстирать к Субботе, у кого-то появляется на голове сохраняемая для этих случаев белая кипа, остальные просто меняют вязаную кипу — чтобы хоть как-то подчеркнуть праздничность одежды, в которой они встречают святую Субботу. Как-то мне повезло, и среди вещей, которые нам однажды прислали со склада, я обнаружил случайно затесавшийся туда ремень — он прилагается к выходной форме «алеф». Надевая его в Субботу, я чувствовал себя так, словно я в праздничном костюме и при галстуке.
И субботние трапезы мы тоже старались приготовить по-особому несмотря на то, что уже несколько месяцев подряд наша еда была однообразной — изо дня в день, в обед и ужин — и доставлялась в одинаковых коричневых коробках: сардины, макрель, гуляш, кукуруза, зеленый горошек, желтые стручки фасоли, компот. И все же субботние трапезы чуть-чуть отличались от обычных. Как нам это удавалось? Раз в несколько недель привозили продукты из «Шекема». Мы покупали шоколад, или какое-нибудь питье, или еще что-нибудь и говорили: «Это на Субботу». И откладывали в сторону. Те из нас, кто раз в месяц уходили в двадцатичетырехчасовой отпуск, привозили из дома баночку фаршированной рыбы, и мы говорили: «Это на Субботу». Содержимое баночки делили на три трапезы, и его хватало на всех. Мы ели и наслаждались, испытывая все разнообразие существующих в мире вкусовых ощущений.
Слух о наших застольях распространился по батальону, к нам стали приходить гости, ближние и дальние: солдаты и командиры, танкисты и разведка, санитары и связисты, горожане и кибуцники, и лица их были приветливы. Можно сказать, что это было чудом, или просто каждый довольствовался малым, но не случалось такого, чтобы кому-нибудь не досталось субботней еды.
Мы старались сохранить ощущение Субботы и в разговорах, которые вели. Нельзя сказать, что мы совсем уж не говорили о делах обыденных, но старались не касаться больных тем, чтобы не впасть в уныние или беспокойство: не говорить о танках и о войне, о том, что будет и когда наконец пойдем домой. И о товарищах, которые вместе с нами уже не вернутся, не говорили тоже. Вспоминали о том, что когда-то учили или прочли.
И если у кого-то в запасе была просто какая-нибудь интересная история, она тоже приберегалась для Субботы.
Субботний вечер. Мы собрались вместе между двумя танками. Руки, которые всю неделю несли на себе следы смазки и машинного масла, тщательно вымыты. На лицах отсвет субботнего сияния, сменивший уже привычное выражение постоянного беспокойства. Мы уселись на пустых ящиках из-под боеприпасов и начали тихо напевать то, что обычно поем в йешиве в канун Субботы:
Возлюбленный души моей, Отец милосердный! Сделай раба Своего послушным воле Твоей. Побежит он с быстротою оленя, Чтобы склониться перед Твоим великолепием. Любовь Твоя будет для него слаще меда И самых лакомых яств.Пиют рава Азкари из Цфата, чья душа истаивала в тоске по Творцу. Мы прикрыли глаза, и мелодия окрепла и поднялась ввысь. Вспомнили о добрых довоенных днях, представили, что сидим в синагоге с книгами и встречаем Субботу. Каждый видел свою синагогу. Я закрыл глаза и увидел Стену Плача, у которой мы обычно встречали Субботу, когда я учился в йешиве «Стена». Увидел всех, любящих Иерусалим, разбившихся на многочисленные группы: аскетов-рационалистов в шляпах с широкими полями и длиннополых плащах и мистиков-хасидов в капотах и штраймлах[55], сефардов в белых кипах, расшитых золотой нитью и туристов в разноцветных шапочках. Все с трепетом призывают Субботу: «Приди, невеста! Приди, невеста!» И она отвечает на призыв и медленно входит, и голуби взмахивают белыми крылами, словно свадебные дружки, несущие шлейф за невестой, шествующей под хулу.
Мелодия взлетает ввысь, воздух Голан напоен и наполнен ею:
О, величественный и прекрасный светоч мира! Душа моя больна любовью к Тебе! Молю Тебя, Боже: излечи ее, Явив ей Свой благодатный свет! Тогда исцелится и укрепится она, И будет вечной служанкой Твоей.Рав Элиэзер Азкари вложил в этот пиют всю свою душу. В день, когда он его закончил, он записал в своем дневнике: «Сегодня моя душа приблизилась к Всевышнему».
В наш хор влился голос Яакова: Откройся и раскрой надо мной Свой мирный шатер, мой Любимый! Озари землю славою Своей, Чтобы радовались мы и ликовали с Тобою. Поспеши, Любимый, ибо пришла пора, И будь милостив к нам вовеки!Пение его было так сладкозвучно и сердца наши так трепетали, что мы чувствовали, как светятся наши души.
Я открыл глаза и увидел вокруг всех наших. Ханан, до того трудившийся над танком с ломом и молотком, отложил их в сторону. Вышел из своей палатки Саша и присел рядом. И тихо начал подпевать Зада. А Яаков пел: «Поспеши, Любимый, ибо пришла пора. Поспеши, поспеши, Любимый, ибо пришла пора, ибо пришла пора».
Все те дни так смутно и неспокойно было у нас на душе, что она дрожала от малейшего прикосновения.
Мы встретили Субботу, произнесли «Шма Исраэль», завершив словами: «Раскинь шатер мира Твоего над нами, и над всем народом Израиля, и над Иерусалимом». После вечерней молитвы мы поспешили совершить первую субботнюю трапезу, пока полностью не стемнело; свечи нельзя было жечь из соображений безопасности. А третью трапезу мы, как могли, продлевали, добавляя к Субботе от будней, чтобы подольше сохранить в себе дополнительную душу, которая даруется в Субботу каждому еврею.
Так или примерно так проводили Субботы я и мои товарищи из йешивы в ту послевоенную зиму на севере Голанских высот между Хан-Арнабе и Тель-Антаром, в батальоне, где служили рядом ребята из кибуцев, йешиботники и жители городков развития. Много раз случалось, что приходилось прерывать не только трапезу, но и молитву, чтобы рассредоточить танки, потому что именно в это время по нам дали несколько артиллерийских залпов, или для стрельбы, которую вели мы сами. Мы к этому давно привыкли: быстро садились в танки, командир командовал, заряжающий заряжал, наводчик стрелял. Делали то, что приказано, возвращались и продолжали то, что прервали, как если бы ничего не случилось.
Лишь одного из нашей группы как бы не было с нами. То есть быть-то он был, но словно отсутствовал. Его лицо оставалось будничным, глаза потухшими, губы сжатыми. Когда мы пели субботние гимны, он стоял в одиночестве возле своего танка. Молился, правда, вместе с нами, но, закончив, сразу же возвращался к себе в танк и ел в одиночестве. Мы помнили, каким веселым и приветливым, каким добрым товарищем он был в йешиве. Но мы, побывавшие на той войне, знали, что после Йом-Кипура не спрашивают у человека, что случилось до этого дня. Мы, правда, пробовали заговаривать с ним, но он не отвечал. Окутанный отпугивающим молчанием, он выполнял по необходимости свою работу, а остальное время проводил в одиночестве.
Я болел за него душой и страдал оттого, что мы не можем ему помочь. Иногда мне казалось, что я слышу за собой его шаги. Как-то раз я даже вообразил, что в его глазах блеснул некий намек на желание объясниться. Я положил руку ему на плечо: «Скажи, что с тобой?» Но он стряхнул мою ладонь и сказал: «Оставь меня. Я не могу». Услышав однажды, как во время третьей трапезы мы обсуждали разные аспекты Веры, Избавления, Вечности Израиля, он резко оборвал нас: «О чем вы вообще говорите?»
Вторая Суббота месяца кислев прошла у нас, как и все прочие. Тяжелые тучи закрывали небо. На исходе Субботы мы тщетно искали в них какой-нибудь просвет, чтобы благословить луну, подразумевая Израиль, подобный луне. Как лунное сияние являет лишь отражение солнечного света, так и Израиль отражает — Божественный свет. Как луна умаляется, и обновляется, и умножает силы свои, так и Израилю суждено после умаления возвеличиться подобно ей. Помнит Израиль о милости, которую совершает луна, скрываясь в грозный день Рош а-Шана: ведь если явится в Высший Суд обвинитель и станет выступать против Израиля, он сможет вызвать лишь одного свидетеля — солнце, а в Торе сказано, что нельзя вершить суд, если нет хотя бы двух свидетелей обвинения.
Сквозь окутавший небо туман месяца кислев пробивался слабый свет, но его было недостаточно. Уже четыре ночи мы всматриваемся в небо: авось увидим луну. Но нет. Не видно. Сегодняшняя ночь на исходе Субботы — последняя, когда в этом месяце можно благословить луну. Мои товарищи вернулись в танки, сказав, что в эту ночь она уже не появится. Подождем нового месяца. Может, к тому времени мы уже будем дома.
Но я все еще не терял надежды. И тут пригласил меня Шломо разделить с ним четвертую трапезу, «проводы Царицы-Субботы». Он не мог провожать ее без хасидских историй, а для того, чтобы рассказывать истории, требуются, как минимум, двое. Шломо кутался в куртку и несколько шарфов; низко натянутая на уши вязаная шапка почти скрывала лицо, но чудесные его глаза сияли, как всегда. Такие шапки по армейской почте присылали нам школьники, сопроводив их, как велела учительница, добрыми пожеланиями «дорогому солдату, который нас защищает», и добавив уже от себя желтое солнце на синем небе. А некоторые, чтобы еще больше нас порадовать, рисовали человечка и подписывали: «Это я». К посылке прилагалось отпечатанное обращение Комитета помощи солдатам с настоятельной просьбой отвечать детям. Не все на это реагировали одинаково. Были такие, кого это очень трогало, и они даже писали детям стихи. А были и такие, кто брал шапки, а письма выбрасывал.
Среди нас всех Шломо был особенный: в нем жила душа хасида. В отличие от нас, он обязательно мылся перед Субботой горячей водой и устраивал четвертую трапезу. Вы, возможно, думаете: ну и что тут особенного? Весь Израиль моется перед наступлением Субботы. Это давний обычай. Но пусть вам не кажется, что в армии это такое уж простое дело: в тех обстоятельствах, если выпадал нам случай вымыться перед Субботой горячей водой, это считалось настоящим чудом. Однажды Шломо пригласил меня сопровождать его в поисках горячей воды. Мы натянули на себя все теплое, что только имели: шерстяное белье, шерстяной свитер, комбинезон, шерстяные перчатки, шапку, особую «горную» куртку и поверх всего плащ-палатку, — и все равно холод пронизывал нас до костей. Мы ушли довольно далеко, миновали расположение нескольких наших частей, но так и не нашли горячей воды. Мы уже решили вернуться назад и вымыть голову холодной водой из канистры, как делали все, но тут Шломо усмотрел трубу над старой сирийской хижиной и потащил меня туда. Мы нашли в хижине керосин, немало потрудились, чтобы разжечь печь, еще дольше — чтобы нагреть воду, но зато помылись в свое удовольствие. Лицо Шломо раскраснелось от горячей воды и радостного ощущения, и, если это тоже покажется вам не заслуживающим внимания, знайте, что в те дни мы дорого дали бы только за то, чтобы увидеть оживленное лицо товарища.
В тот вечер позвал меня Шломо разделить с ним четвертую трапезу. Он разостлал салфетку на базальтовых камнях, положил на нее маленькую халу, оставшиеся сардины и две пластмассовые вилки. Мы сидели в темноте и тихо пели гимн прощания с Субботой: «Не бойся, раб мой Яаков», в котором первые буквы строф расположены в алфавитном порядке — от «алеф» до «тав», охватывая все двадцать два согласных знака еврейского алфавита, а слова «Не бойся, раб Мой Яаков» служат рефреном. Мы пропели гимн 22 раза, по числу букв, и он укреплял наши сердца против страха. Потом я пропел еще пиют, который обычно поют у нас дома, на арабском языке, приглашая пророка Элияу посетить нас. И хоть мы сейчас не дома, пусть все равно придет. И закончили вместе гимном, какой поют в честь Элияу все общины Израиля: «Блажен, кто видит лик его во сне, кому пожелал он мира, и кто миром ему ответил. Господь благословит народ Свой миром». Всей своей душой мы жаждали мира.
Шломо встал: «Маймонид сказал, что для каждой субботней трапезы необходимо вино, и, хотя Суббота уже закончилась, четвертая трапеза — все равно часть Субботы». Я поглядел на него с изумлением: одной бутылки вина, которую мы получали на неделю, нам всем едва хватало на кидуш и авдалу, он же требует вина для «проводов Царицы»? Однако Шломо принес откуда-то немного вина, и мы его благословили. «А сейчас, — начал он, — время поговорить о Торе».
И я сказал: «На исходе Субботы принято вспоминать о великих деяниях, потому что в это время пророк Элияу сидит и рассматривает дела Израиля. Мудрые говорили, как им подсказывало сердце, о том, что осталось в народной памяти, мы же расскажем о том, что видели наши глаза.»
На третий день войны, еще до того, как мы спустились в Рош-Пину, я стоял поблизости от Нафаха, ожидая случая присоединиться к экипажу какого-нибудь другого танка. Рядом со мной стоял еще один, незнакомый мне танкист. Стоял и молчал. Я заговорил с ним и спросил, откуда он. «С юга, ответил он, — из Офаким. Уже год в армии». Я поинтересовался, чего он здесь ждет. «Я водитель танка. Ищу танк, где требуется водитель. Четвертый танк. Три танка сгорели. Нужно продолжать».
Мы помолчали. Шломо негромко запел мотив карлинских хасидов, который они сохранили со времен кровавого навета: «Ты один и Имя Твое одно, и кто подобен народу Твоему Израилю, одному народу в земле»[56]. Потом сказал: «В детстве, в Нетании, я был близок к адмору из Клойзенбурга, потомку праведного ребе Хаима из Цанза. Этот адмор — из тех, кого Господь спас, как „головню из пламени“ великого пожара мировой войны. Он жил в святости и чистоте, и боль Израиля пребывала в его сердце. Так вот, он рассказывал, что пришлось ему видеть народ Израиля в муках и унижении, но даже в то время он был свидетелем проявления таких высоких душевных качеств, что трудно себе и представить. За все то, что претерпел народ Израиля в изгнании, „если будут грехи ваши, как кармин, то станут белыми, как снег“[57]. Говорил, что именно об этом сказано в Мишне в трактате „Санэдрин“: „Когда человек сокрушен, то и Шхина сокрушается“, больно ей даже за преступного сына Израиля, если хоть одна добрая мысль родилась в его голове или одно доброе дело сделали руки его. Но если так по отношению к преступникам, во сколько же раз сильнее болеет она за тех сынов Израиля, заслуги которых многочисленны.
Адмор объяснял, почему, приходя к цадику с просьбой о помощи, подают ему квитл — записку с именем просителя и его матери. „Все думают, что это нужно, чтобы цадик не забыл помолиться, но эти записки помогут оправданию народа Израиля на Высшем Суде. Если явится на суд обвинитель, выступит в защиту квитл: „Вот перед вами простой еврей. Сколько бед выпало на его долю, сколько боли им пережито, сколько страданий он перенес и, несмотря на это, не сменил свое имя. Когда вступил он в завет Авраама, нарекли его Реувен сын Сары, и до сих пор его зовут Реувен сын Сары.“
Господь вывел евреев из Египта за то, что не сменили своих имен, хотя и опустились на сорок девять ступеней нечистоты. А раз так, то такая заслуга, несомненно, защитит простого еврея от всех обвинений. Потому-то и подают хасиды записки цадику“.»
Я сказал: «У нас в йешиве было принято, изучая Маймонида, ставить вопросы и на них отвечать. Это я и хочу сейчас сделать. Когда по дороге на Голаны мы подъезжали к мосту Бнот-Яаков, вспоминал Рони — наш тогдашний водитель — слова Маймонида о том, что не должен человек бояться на войне, потому что от него зависит судьба всего Израиля, а если поддастся страху уподобится тому, кто пролил кровь многих. Вот я и спрашиваю: „Как может Маймонид требовать от человека, чтобы на войне его сердце не сжималось от страха? И разве мы с тобой не помним ночь перед прорывом на Хан-Арнабе, когда к нашим танкам крепили противоминные тралы и командир батальона сказал, что именно мы входим в первую группу прорыва? И как, не подчиняясь нам, дрожали руки, а зубы выбивали дробь, и мы признавались друг другу, что не холод тому причиной? И разве могли мы не бояться тогда? Ведь вот и в этой недельной главе Торы мы читаем, что когда услышал Яаков, что брат его Эсав идет ему навстречу и четыреста человек вместе с ним, то „убоялся Яаков и стеснилось сердце его“. Объясняли наши учителя, что „убоялся он“ того, что его убьют, и „стеснилось сердце его“ при мысли, что и он может кого-нибудь убить. Хотя и было ему обещано: „Вот Я с тобой и оберегу тебя на всех путях твоих“, боялся он последствий своих грехов.
Но если мы вчитаемся внимательно в то, что с такой точностью выразил Маймонид золотым своим языком, увидим, что он не пишет „запрещено“, а пишет, что нельзя человеку „самому нагонять на себя страх“ на войне, нельзя размышлять впустую и отвлекаться на посторонние мысли. „Пусть идет он навстречу опасности и не боится и не пугается, пусть не думает ни о жене, ни о детях, но отставит все в сторону ради этой войны“. И так с нами и было во время боя: мы не думали ни о чем другом, а только как бы точнее определить цель и бить по ней“.»
Так мы сидели со Шломо и рассуждали о том, что учили когда-то. И пытались проникнуть в другую мысль Маймонида: он писал, что тот, кто сражается за Господа всем сердцем своим без страха и чьи цели и помыслы совершенно чисты, защищен от вреда на войне. На чем основывает Маймонид свое утверждение? Разве Сатана не выступает обвинителем в час опасности: «И того, и этого поразит меч»? Говоря о Маймониде, мы вспоминали изученное нами в йешиве по его книге «Путеводитель растерянных». О том, что открылось ему о природе мира и о роли Провидения в судьбе тех, кто предан Богу всем сердцем.
— Кто может удержаться на такой высоте? — спросил я.
— Иногда, — сказал Шломо, — Всевышний оказывает милость человеку, ее недостойному, который и сам-то не понимает, чем он ее заслужил.
Пока мы разговаривали, вдруг раздвинулись тучи и показалась луна, и мы поспешили ее благословить, прежде чем она снова скроется: «Подобно тому, как я пляшу перед Тобой и не могу коснуться Тебя, так пусть все враги наши не смогут коснуться нас и навредить нам. Падет на них ужас и страх, страх и ужас падет на них. Добрый знак для нас и всего Израиля, добрый знак для нас и всего Израиля, добрый знак для нас и всего Израиля».
Мы стали кланяться направо и налево, как принято, приветствуя друг друга пожеланиями мира. И тут я уловил рядом с собой чью-то тень и, повернув голову, увидел нашего молчаливого товарища. Он стоял и смотрел прямо перед собой, но так, словно ничего не видел, слышал нас и не слышал. И вдруг спросил меня шепотом:
— Ты был в танке вместе с Гиди и Рони?
— Да, — ответил я.
И он продолжал так же шепотом:
— Тогда в каменоломне под Нафахом наш танк из всей роты подбили последним. Сразу после вас. Выпрыгнув, я увидел, как вы бежите под пулями. Мы побежали за вами. Видели, как вы задержались у мостика над трубой водопровода, прикидывая, не залечь ли там, но побежали дальше. А мы под ним спрятались. Спустя несколько минут появились сирийцы и бросили туда гранату.
После некоторого молчания он докончил:
— И я остался один.
Повернулся и растаял в темноте, снова укрывшись в свое молчание. А я стоял, оглушенный услышанным. Взглянул на луну и снова увидел Дова. Так вот точно стояли мы, Дов и я, рядом с амшиновским ребе в квартале Байт ва-Ган, в месяце тишрей, произнося благословения о луне.
Я задумался. И вправду, Господь, Благословен Он, иногда дарует милость тому, кто ее недостоин. Благоволение, ему оказанное, человек помнит всю жизнь, и это лишает его покоя. Висит над ним как долг, требующий платежа. И это истинный суд над человеком. Я подумал про обет, который дал тогда, когда мы, спасаясь, бежали от нашего подбитого танка. Я знал, что мир уже никогда не станет для меня таким, как прежде.
Это правда, что иногда Господь, Благословен Он, дарует милость тем, кто ее недостоин, но иногда «Мой любимый спускается в свой сад, в гряду благовоний, пасти в садах и собирать лилии»[58]. Сариэль и Шмуэль, и Шая, и Яаков, и Авиу… И Дов пал. На войну мы пошли вместе. Хозяин смоковницы знает, когда приходит время сорвать плод.
И как может человек промыслить замысел Того, Кто сотворил человека?
Я словно слышу строфы покаянных молитв месяца элул:
В руке Его — дыхание всего живого И дух плоти человека. Душа принадлежит Тебе, и тело — Ты содеял; Смилуйся же над созданным Тобою.Владыка наших душ, душа — Твоя, но ведь и плоть — Твое дело. Ты создал ее, чтобы она могла освятить Имя Твое в Твоем мире. Властелин миров, смилуйся же над созданным Тобою.
Я посмотрел на луну. Теперь ее закрывало легкое облачко, она еще продолжала светить, но свет ее был смутным, неясным.
Подошел Шломо. Положил мне руку на плечо и тихо-тихо стал напевать мелодию «Бог, сокрытый в небесах», которую любил адмор из Клойзенбурга.
Хасиды рассказывали, что эту мелодию адмор напевал про себя в беспросветной мгле концлагеря, чтобы хоть таким образом исполнить заповедь третьей трапезы. А прадед его, великий праведник, ребе Яаков из Цанза, пел ее после субботней минхи, в час наибольшего Божественного благоволения, и лицо его светилось, как у ангела.
Шломо продолжал напевать, я стоял молча.
Облака сгустились и почти закрыли луну, и мы заторопились наклонить головы вправо и влево, навстречу друг другу:
«Мир вам, мир вам, мир вам». И вслед нашему ушедшему в молчании товарищу: «Мир вам, мир вам, мир вам».
Я снова посмотрел в небо, поклонился, думая о Дове, и сказал еще раз. Уже один:
«Мир вам».
Принципы транслитерации
Транслитерация ивритских слов и выражений в романе соответствует современному израильскому произношению. Буква ה, не имеющая русского аналога, в большинстве случаев заменяется соответствующим гласным звуком; согласные звуки не удваиваются. Эти правила не соблюдены только в тех словах и выражениях, для передачи которых в русскоязычной литературе имеется устоявшаяся традиция, напр, аггада, рабби, Йегуда а-Hacи и т. п.
Библейские цитаты даются по синодальному переводу, но названия библейских книг соответствуют масоретской традиции (см. с. 186–187). В тех случаях, когда нумерация глав и стихов не совпадает, сначала дается ссылка на масоретский текст, а за ней в скобках — на синодальный перевод.
Глоссарий
Агада «Повествование» — тексты эпохи Талмуда, не предполагающие религиозно-юридической регламентации. Агада включает притчи, легенды, проповеди, поэтические гимны, материалы исторического и философского содержания.
Адмор, ребе Глава хасидского движения, цадик — праведник. Согласно учению хасидизма, ребе (рабби в восточноевропейском идишистском произношении) является воплощением «всеобъемлющей души», включающей в себя души последователей — хасидов, и потому обладает особыми способностями исправления своего непосредственного окружения и всего мироздания в целом. Адмор — титул цадика, аббревиатура слов Адонейну, Морейну ве-Рабейну («Господин, учитель и наставник наш»).
Арвит Вечерняя молитва, которую произносят после наступления темноты. Молиться можно до первых лучей зари.
Бар-мицва «Сын Заповеди» (для девочек бат-мицва — «Дочь Заповеди») религиозное совершеннолетие, которого мальчики достигают в 13, девочки — в 12 лет. По достижении этого возраста человек становится правоспособным, обязанным исполнять все заповеди и сам отвечает за себя перед Всевышним. На неделе достижения бар-мицвы проводится торжественная церемония: мальчик впервые надевает тфилин и произносит самостоятельно подготовленную проповедь; в ближайшую субботу в синагоге читает по свитку недельный раздел Торы.
Галаха Совокупность еврейских религиозных правил и предписаний. Термином галаха называют также законоведческие тексты Талмуда и вообще всю законоведческую литературу.
Галут Букв.: «Изгнание» (евреев из Земли Израиля).
Ситуация, при которой большинство евреев проживает вне Земли обетованной; также еврейские общины диаспоры. Понятие галут имеет философский смысл, указывая на ущербное, косное состояние мира и человечества.
Гмара Букв.: «Завершение». Собрание дискуссий и рассуждений амораев (законоучителей III–V вв.) по поводу текста Мишны. Тексты Гмары включают как галаху, так и агаду. В обиходе этим термином нередко называют Талмуд или один из его трактатов.
Йешива Традиционное еврейское религиозное учебное заведение для мужчин. Обучение, обычно совмещенное с проживанием в йешиве, не преследует конкретных практических целей и может продолжаться с тринадцатилетнего возраста и до женитьбы.
Йешиват-эсдэр Особый вид йешив, относящихся к религиозно- национальному направлению в иудаизме, время учения в которых чередуется с активной воинской службой в боевых частях.
Йом-Кипур «День Искупления», или Судный День. Празднуется десятого числа месяца тишрей. Один из важнейших еврейских праздников, день, когда можно изменить приговор, вынесенный в Рош а-Шана. Особенностью Йом-Кипура являются «шесть аскез» — воздержание от еды и питья, мытья, использования косметики, ношения кожаной обуви и супружеских отношений, а также строгий запрет заниматься какой-либо работой. Молитва в Йом-Кипур продолжается весь вечер и весь последующий день до наступления темноты; к четырем праздничным молитвам добавляется пятая — Неила. Йом-Кипур, последний из Грозных дней, на исходе его трубят в шофар. Кидуш «Освящение» — благословение субботы или праздника, произносится дважды в день, вечером и утром, над бокалом вина или двумя хлебами. Кидуш открывает субботнюю или праздничную трапезу.
Лулав и этрог; арба миним «Четыре вида» растений, благословлять («воздевать») которые заповедано в праздник Суккот: лулав — пальмовая ветвь; этрог — цитрон, мирт и ива. Благословение «четырех видов» совершается на протяжении всех семи дней Суккот и является необходимым элементом праздничного ритуала.
Мезуза Прикрепляемый к косяку двери футляр с пергаментным свитком с написанным особым образом отрывком из Торы: словами Шма Исраэль, которые помещаются также и в тфилин.
Мидраш «Рассуждение», «толкование» — метод изучения Писания, основанный на восприятии всего библейского текста как единого целого, имеющего множество смысловых уровней, а также литературный жанр, основанный на этом методе. Мидраш галахического, но чаще агадического содержания развивался на протяжении более чем тысячелетнего периода, вплоть до позднего средневековья.
Минха Послеполуденная молитва, которую произносят в светлое время дня, от часа ни и до заката.
Миньян Букв.: «кворум», десять взрослых мужчин (старше тринадцати лет), необходимых для проведения коллективной молитвы.
Мишна «Второучение», «Повторение» — древнейший (I–III вв. н. э.) свод Устной Торы, лежащий в основе Талмуда. Мишну, в нынешнем ее виде включающую 63 трактата, разбитых на шесть разделов (см. Шас), составил и отредактировал Рабби, р. Йегуда а-Наси в конце III в. н, э.
Неила «Запирание» Врат — особая, пятая молитва, завершающая богослужение в Йом-Кипур. Так как во время неилы человеку представляется особая возможность изменить предначертание грядущего года к лучшему, эту молитву произносят с особым воодушевлением.
Пиркей Авот «Поучения отцов», самый популярный из трактатов Мишны, перечисляющий в хронологическом порядке законоучителей древности, их основополагающие принципы или идеи, с которыми они обращались к своему поколению. Пиркей Авот включен в состав молитвенника, так как ортодоксальные евреи изучают его по субботам; существует несколько циклов изучения этого трактата на протяжении года.
Пиют; пайтан Жанр еврейской литургической поэзии, а также произведение этого жанра. Пиюты, большинство которых предназначалось для облагораживания звучания молитв, создавались с первых веков новой эры и вплоть до новейших времен. Пайтан — автор пиютов.
Рав; рабби Религиозный наставник; титул рава является, по сути, ученой степенью, позволяющей ее обладателю принимать решения в области галахи.
Ребе См. Адмор.
Рош а-Шана «Начало года», еврейский новый год, который празднуется первого и второго тишрей. Согласно традиции, в Рош а-Шана записывается в Книгу Жизни судьба всего мира и каждого отдельного человека в наступающем году. Главная заповедь праздника — слушать трубные звуки шофара. Рош а-Шана, Йом-Кипур и дни между ними (3–9 тишрей), когда определяется предначертание грядущего года, называются Грозными Днями.
Сандак Тот, кто держит на руках ребенка во время обряда обрезания, аналог «крестного отца» в христианской традиции.
Сукка «Куща»; шалаш, в котором заповедано находиться семь дней праздника Суккот. Талмудические установления четко регламентируют устройство и размеры сукки, а также соответствующие строительные материалы.
Суккот «Кущи»; осенний праздник, длящийся семь дней, с 15 по 21 тишрей. Основные заповеди праздника — пребывание в сукке и благословение четырех видов растений. В седьмой день суккот, называемый Ошана Раба, обходя синагогу по кругу, произносят специальные молитвы о спасении; хлещут по камням ветвями ивы. Восьмой день суккот — самостоятельный праздник Шмини Ацерет. В Израиле в Шмини Ацерет празднуется Симхат-Тора, завершение годового цикла чтения Торы и начало нового цикла (в диаспоре Симхат-Тора празднуется на дополнительный, девятый день).
Талит Молитвенное облачение; особым образом изготовленное четырехугольное шерстяное или шелковое покрывало с вытканными по бокам полосами, обычно черного или синего цвета. В отверстия по краям талита вставляются кисти — цицит. Топит надевают только мужчины, ежедневно во время утренней молитвы, и на весь день, начиная с вечера, в Йом-Кипур.
Талмуд Букв.: «Учение»; свод правовых и морально-этических положений иудаизма, охватывающий Мишну и Гмару как единое целое. Талмуд включает дискуссии, которые велись законоучителями Земли Израиля и Вавилонии на протяжении восьми столетий, и является основным источником Устной Торы. Различается Вавилонский и Иерусалимский Талмуд; первый из них, обладающий бульшим авторитетом, является основным предметом изучения в пешивах.
Танах Собственно Библия, аббревиатура названий разделов еврейского канона Библии: Тора, Невиим, Ктувим — Тора, Пророки, Писания.
Таннай Еврейский законоучитель эпохи Мишны.
Тора Букв.: «Учение»; Божественное Откровение, дарованное народу Израиля. Различается Письменная Тора — Пятикнижие (иногда так в расширительном смысле называется весь Танах) и Устная Тора — вся совокупность еврейской традиции от древнейших времен до последних нововведений. В Талмуде говорится: «Даже то, что продвинутый ученик отвечает своему учителю, получил Моше на горе Синай».
Тфилин Филактерии; написанные на пергаменте отрывки из Торы, помещенные в коробочки, выделанные из кожи. Тфилин прикрепляются к голове и левой руке, напротив сердца, при помощи кожаных ремешков, продетых через основания коробочек. Обычно тфилин накладывают во время утренней молитвы, хотя при необходимости это можно проделывать до заката. Наложение тфилин считается одной из важнейших заповедей иудаизма наряду с обрезанием и соблюдением субботы.
Хазан Ведущий общественной молитвы в миньяне.
Хасидизм Мистическое направление в ортодоксальном иудаизме, возникшее в Восточной Европе в XVIII в. Согласно учению хасидизма, Бог присутствует всюду, каждое явление и событие является непосредственным проявлением Его сущности. Задачей человека является преодоление ограниченности собственного бытия и слияние с Божественным светом. Хасиды считают радость величайшей добродетелью, рассматривают пение и танцы как путь служения Всевышнему. В хасидизме существуют различные направления, во главе которых стоят цадики адморы. Хасиды отличаются консерватизмом в образе жизни, одежде и т. д.
Хахам Букв.: «мудрец»; титул духовного наставника и рава в восточных общинах.
Хупа Балдахин, под которым проводится свадебная церемония. Хупа символизирует домашний кров.
Цадик См. Адмор.
Цдака «Благотворительность», «милостыня»; согласно иудаизму — одна из главнейших этических обязанностей. Понятие цдака происходит от слова цедек, справедливость. Каждый еврей обязан отделять на цдаку некоторую (от одной десятой до одной пятой) часть своего дохода. В Талмуде рассматриваются разные виды цдаки, из которых самым достойным является анонимное даяние, при котором ни дающий, ни получающий ничего не знают друг о друге. В Израиле копилки для цдаки стоят не только в синагогах, но и в магазинах, общественных учреждениях и т. д.
Цицит «Кисти» Видения, согласно Торе (Чис. 5:38–41), призванные напоминать о Божественных заповедях. Кисти положено вдевать в края четырехугольного одеяния, поэтому религиозные евреи носят под рубашкой или верхней одеждой так называемый малый талит с кистями — цицит.
Шхина Букв.: «Присутствие» (Бога). Женская ипостась Божественного света, неразрывно связанная с Общиной Израиля. Шхина, своего рода коллективная душа еврейского народа, вместе с ним отправляется в изгнание — галут, но вечно стремится к возвращению в Святую Землю и к воссоединению со своим Возлюбленным — Богом.
Шма Исраэль «Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь Один!» (Вт., 6:4); своего рода «символ веры» иудаизма. Слова Шма Исраэль и связанные с ними отрывки из Торы являются кульминацией утренней (шахарит) и вечерней (арвит) молитв, их произносят перед отходом ко сну и в смертный час.
Шмоне Эсре «Восемнадцать» (благословений); основная формализованная молитва, которую произносят трижды в день. Во время произнесения Шмоне Эсре необходимо стоять выпрямившись и не двигаться с места, кроме как под угрозой смерти.
Шахарит Букв.: «Утренняя»; самая продолжительная из трех ежедневных молитв. Шахарит произносится с рассвета до середины предполуденного времени; при необходимости может совершаться до полудня.
Шофар Бараний или козий рог, в который трубят в Рош а-Шана и на исходе Йом-Кипура. Согласно преданию, звук Великого шофара, сделанного из рога барана, принесенного в жертву вместо Ицхака, возвестит о приходе Мессии.
От переводчика
Заглавие книги «Теум каванот» (по-английски: «Adjustment of Sights») по-русски наиболее близко переводится как «выверка прицела», «пристрелка», т. е. относится к сфере военной, что вполне соответствует внешнему, событийному пласту книги, поскольку речь в ней идет именно о войне, а точнее — о боях за Голанские высоты во время Войны Судного Дня 1973 года. Тогда многим нашим танкам пришлось принять бой, не успев пристрелять орудие, выверить прицел. Однако смысловое значение теум каванот этим не исчерпывается. Оно многозначно и многомерно. Одно из возможных толкований следующее.
Как орудие на войне должно быть пристреляно, так и человек должен стараться как можно точнее постичь Высший Замысел, касающийся лично его, и в соответствии с этим строить свою жизнь. То есть пытаться согласовать их. Человек, вышедший живым из ада, где многие и многие погибли, в том числе и ближайший друг, неизбежно стоит перед вопросом «почему?». Почему и за какие заслуги ему была оставлена жизнь? А может быть, не «почему», а «для чего»? И если так, то как следует теперь строить свою жизнь? Как правильно произвести теум каванот! Об этом книга. И о многом другом. О той самой войне, которая, по выражению одного из героев, «велась в святые сроки», начавшись в Йом-Кипур и закончившись в Суккот. О том, что в этом тоже заложен определенный смысл, только мы не в состоянии его понять и произвести теум… Все это я пишу лишь для того, чтобы объяснить свой вариант перевода заглавия. В самой же книге нет такого рода толкований, и канвой ее остается война и человек на войне.
Я хорошо помню этот День: мой младший сын безмятежно спал в коляске, а я загорала под мягким осенним солнцем. Наша семья приехала в Израиль всего месяц назад, мое понимание смысла Судного Дня было почти нулевым. Завыла сирена, из всех домов стали выбегать мальчики и девочки. Взволнованные родные провожали их до появившихся откуда-то грузовиков. Меня поразило (и я писала об этом в Россию) отсутствие воплей и причитаний со стороны провожавших. Тогда еще не стало привычным (страшно сказать: не вошло в моду) тиражирование человеческого горя, как это происходит сегодня, и если солдаты и плакали на плече друг у друга, то вдали от телекамер.
Первой книгой, не входившей в число доступных олимовских изданий, а купленной нами за полноценные израильские лиры, был солидный двухтомник в бархатном переплете с довольно подробным описанием хода Войны Судного Дня и частичной публикацией отчета о работе и выводах комиссии Аграната, снабженный множеством фотографий и карт. На каждом страничном развороте текст шел параллельно на четырех языках — иврите, английском, французском и русском (это, кстати, свидетельствует о том, что и алия 70-х, не будучи «массовой», все-таки кое-что значила).
С тех пор прошло почти тридцать лет. О Войне Судного Дня написаны книги, исследования, диссертации. И свидетельства, которые перевешивают их все. Предлагаемая читателю книга автобиографична, следовательно — тоже свидетельство, но при этом — явление литературы. И потому она не похожа ни на одну книгу о войне, какие мне доводилось читать до сих пор.
Трагизм войны и ее быт переданы в книге через призму восприятия религиозного юноши, посему повествование, при всей детальности и точности в описании событий, приобретает некое иное, особое измерение и освещение. Танкист-йешиботник смотрит на мир чистыми, наивными и доверчивыми глазами, но обладает взглядом пристальным и зорким. Душа его добра, отзывчива и открыта, духовный мир богат и глубок. Многие страницы этой книги о войне полны высокого лиризма и подчас достигают поэтического и, можно сказать, музыкального звучания, а юмор мягкий и добрый. Стараясь оставаться как можно ближе к тексту, я изначально сознавала, что мой перевод, как и всякий художественный перевод, не может быть вполне адекватен оригиналу. Но слишком велико было желание донести до нашего читателя эту удивительную, пронзительную книгу.
Я никогда не смогла бы исполнить своей задачи, если бы не помощь многих людей. Свою признательность и благодарность я приношу прежде всего моему мужу и сыновьям, а также доктору Владимиру Темкину, бывшим танкистам и артиллеристам Советской Армии, практически со мной не знакомым, но не отказавшим в помощи, и резервистам ЦАХАЛа. Я всячески старалась избежать досадных ошибок в переводе всего, что касается военных реалий, однако не могу поручиться за то, что кто-нибудь из читателей не обнаружит допущенной мною оплошности. Такое вполне может быть. Надеюсь все же, что на общий тон повествования это не повлияет.
Я посвящаю свою работу павшим и уцелевшим солдатам и офицерам Армии Обороны Израиля. Всем — защищавшим и защищающим нашу страну, а также тем, кому, может статься, еще придется защищать ее в будущем.
Н. РадовскаяПримечания
1
Объяснение слов, выделенных курсивом, приводится в глоссарии в конце книги. (Курсив утерян — прим. верстальщика)
(обратно)2
Берешит Раба, 6:3.
(обратно)3
Мишна, трактат «Авот» («Поучения отцов»), 3:1.
(обратно)4
Слова из «благословения луны» — молитвы, которую ортодоксальные евреи произносят в вечернее время под открытым небом, раз в месяц, перед наступлением полнолуния. Благословение это произносят как минимум вдвоем, хотя желательно присутствие миньяна.
(обратно)5
Эккл., 9:7.
(обратно)6
Там (рабби Яаков бен-Меир, 1100–1171) — один из величайших еврейских религиозных деятелей средневековья, стремившийся к скрупулезной точности в соблюдении законов.
(обратно)7
Аббревиатура от «Морейну а-рав (учитель и рав наш) рабби Лива» (бен-Бецалель, 1512–1609). Знаменитый мыслитель и талмудист, главный раввин пражской общины, автор классических философских трудов. По народному преданию — создатель искусственного человека — голема.
(обратно)8
Прежнее название иерусалимского квартала Кирьят Йовель.
(обратно)9
Тремп — попутная машина (разг.). Тремпиада — место, где тремписты поджидают попутную машину.
(обратно)10
Халеб (европейское название — Алеппо, еврейское — Арам Цова) — город в Северной Сирии, еврейская община которого считается одной из древнейших в мире. В Халебе был принят особый вариант молитвенника, а общественное богослужение включало большое количество песнопений.
(обратно)11
Маймонид (1135–1204), в еврейской традиции называемый Рамбам (аббревиатура имени Рабейну (наш рабби) Моше бен-Маймон). Один из величайших еврейских мыслителей, законодатель, философ и врач. О нем говорится, что «от Моше (библейского Моисея) до Моше (Маймонида) не было такого, как Моше».
(обратно)12
Пс. 34:8 (33:8).
(обратно)13
Раши, от «рабейну Шломо Ицхаки» (1040–1105) — величайший еврейский комментатор Танаха и Талмуда. Тору с его комментариями религиозные евреи изучают с детства на протяжении всей жизни.
(обратно)14
Описание завета Бога с Авраамом в Быт., 15:1-21.
(обратно)15
ПТУРС — противотанковые управляемые реактивные снаряды.
(обратно)16
Армейская торговая сеть.
(обратно)17
Пс, 27:14 (26:14).
(обратно)18
Плач, 4:2.
(обратно)19
ЦАХАЛ — Армия обороны Израиля.
(обратно)20
Мишне Тора («Повторение учения», или «Второзаконие») — главный законоведческий труд Маймонида (Рамбама).
(обратно)21
Улица иерусалимского квартала Бет-Мазмиль (ныне Кирьят Йовель).
(обратно)22
Пс, 91:11 (90:11).
(обратно)23
Молитва, произносимая вечером субботы.
(обратно)24
Иез., 36:8.
(обратно)25
Шас — аббревиатура слов «Шиша Сидрей Мишна» — «Шесть разделов Мишны», так иногда называют Талмуд.
(обратно)26
1 Сам., 17:36.
(обратно)27
Время, начиная с которого можно творить утреннюю молитву — шахарит.
(обратно)28
«Путеводитель растерянных» (Море Невухим) — главный философский труд Маймонида.
(обратно)29
Милуим — резервистская служба.
(обратно)30
Пс, 118:5-21 (117:5-21).
(обратно)31
Слова из утренних благословений.
(обратно)32
Рабби Меир (ок. 110–165), прозванный чудотворцем, — знаменитый законоучитель эпохи Мишны. Ученик рабби Акивы, он происходил из семьи прозелитов. Могила р. Меира в Тверии является местом паломничества.
(обратно)33
Рабби, без упоминания имени — так назван в Талмуде р. Йегуда а-Наси (ок. 135 — ок. 220), один из величайших мудрецов в еврейской истории, кодификатор Мишны.
(обратно)34
Рабби Шимон Бар-Йохай, танай II века н. э., ученик р. Акивы. Один из величайших мудрецов эпохи Мишны, считается основателем еврейского мистического учения — Каббалы и автором книги «Зоар» («Сияние»). Похоронен на горе Мерон, близ Цфата.
(обратно)35
Ари — дословно «Лев», аббревиатура имени рабби Ицхака Лурии: Ашкенази Рабби Ицхак (1534–1572). Величайший еврейский мистик нового времени, чьи интеллектуальные открытия и мистические прозрения в большой степени определили облик современного иудаизма.
(обратно)36
НАХАЛ — аббревиатура слов «Ноар Халуци Лохем» («Боевая халуцианская молодежь»). Особые подразделения ЦАХАЛа, сочетающие боевую службу с поселенческой деятельностью. Члены НАХАЛа составляли ядро новых кибуцев.
(обратно)37
Пс. 23:1–4 (22:1–4).
(обратно)38
Согласно еврейской традиции, давать обеты позволено только в исключительных случаях.
(обратно)39
Ос. 2:19–20.
(обратно)40
Пс. 94:14 (93:14).
(обратно)41
1 Сам., 15:29.
(обратно)42
Гейсон (от слова гайс — корпус, соединение) — маленькая боевая единица.
(обратно)43
Пс. 51:17 (50:17).
(обратно)44
Пс. 74:1-12 (73:1-12).
(обратно)45
Лев., 23:40.
(обратно)46
Быт., 25:25.
(обратно)47
Пс. 76:3 (75:3).
(обратно)48
«Лэха Доди» — «Пойдем, мой друг». Гимн встречи субботы, который составил каббалист и поэт-мистик из Цфата, р. Шломо Алькабец (1505–1584). Один из наиболее популярных гимнов еврейской литургии, который поют на различные мелодии. Его рефрен гласит: «Пойдем, любимый мой, навстречу невесте (вместе), встретим Субботу».
(обратно)49
Быт., 32:24,25.
(обратно)50
Там же, 32:31.
(обратно)51
Там же, 33:18.
(обратно)52
(ивр. акев)
(обратно)53
Там же, 25:26.
(обратно)54
Там же, 32:28.
(обратно)55
Элементы традиционного субботнего одеяния хасидов, напоминающего одежду польской шляхты XVIII в.: капота — кафтан с отложным воротником и манжетами, штраймл — круглая меховая шляпа с бархатным верхом.
(обратно)56
2 Сам., 7:23.
(обратно)57
Ис, 1:18.
(обратно)58
Песн., 6:2.
(обратно)









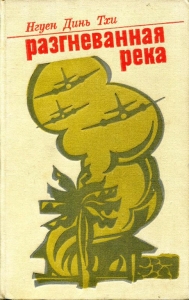
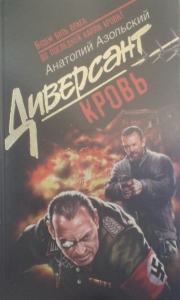
Комментарии к книге «Выверить прицел», Хаим Саббато
Всего 0 комментариев