Илья Маркин Впереди — Днепр!
Глава первая
В конце марта 1943 года на позициях под Белгородом, где, отбив яростные атаки гитлеровцев, закрепились остатки полка Поветкина, установилась необычная для фронта тишина. Ранняя весна оголила черную, напоенную влагой, землю, но тут вновь ударили морозы, и по ночам, дробя скованный грунт, звенели солдатские лопаты, ухали кирки и ломы, изредка вспыхивали взрывы, взметая смерзшиеся глыбы на местах будущих землянок и блиндажей. Это были единственные звуки, напоминающие скорее мирный труд, чем войну, которые нарушали зыбкий покой под Белгородом. Даже неизменные спутники передовой — осветительные ракеты — и те взлетали редко, тускло озаряя полые холмы и лощины с извивами непрерывно растущих траншей и призрачных сплетений проволочных заграждений.
В первые сутки затишья Поветкин, организовав оборонительные работы в подразделениях, наслаждался покоем. Вместе с Лесовых они целых два часа неистово мылись в наскоро сооруженной в сараюшке бане. Потом, чистые, легкие, в свежем белье, с упоением пили чай из настоящего русского самовара, в настоящей, чудом уцелевшей, добротной хате и уснули, как говорил Лесовых, сном праведников. Но уже в середине ночи Поветкин неожиданно проснулся. У изголовья постели резко и звонко выстукивали часы. Мертвенно блестевшие фосфором стрелки показывали два. Еще с вечера, обойдя все позиции полка, Поветкин собирался проспать до утра, но сейчас, сам еще толком не понимая почему, торопливо встал, оделся и вышел из дома. Ночь была темная и тихая. Где-то совсем невысоко плыли тяжелые тучи. Их холодное дыхание невидимо давило на землю, и от этого, казалось, все замерло, притаилось, словно ожидая роковую беду. Нервно вздрагивая, Поветкин торопливо обошел развалины дома, где вечером стоял часовой. Теперь часового не было. Недоумевая, кто же снял пост, Поветкин прошел дальше, надеясь встретить стоявшего поблизости второго часового, но и здесь никого не было.
«Да что же это такое? Где часовые? — раздраженно подумал Поветкин и свернул к дому, где размещался начальник штаба со своими помощниками. У входа его окликнул солдат и, узнав, вполголоса проговорил:
— Темнота-то, товарищ майор, жуткая. И тишина кругом, как в могиле.
«Именно, как в могиле», — мысленно согласился Поветкин и рывком открыл дверь.
В бледном свете коптилки, среди вповалку спавших на полу бойцов, над заваленным бумагами столом горбился Привезенцев. Он или был так увлечен работой, или привык, что в дверь беспрерывно входили и выходили люди, что заметил Поветкина, когда тот уже подошел к столу и присел на перевернутое ведро.
— Сидите-сидите, — остановил Поветкин поспешно вскочившего начальника штаба. — Что на передовой?
— Тишина везде, сейчас только звонил в батальоны. Наши все на окопных работах, немцы тоже траншеи роют, проволочные заграждения в лощине натягивают.
— А где же часовые, что у развалин и у дороги стояли?
— На новых постах, — удивленно глядя на Поветкина, ответил Привезенцев. — По плану, как вы приказали: днем стоят на одном посту, а вечером переходят на другой.
«Фу ты, черт, забыл совсем», — мысленно упрекнул себя Поветкин и, стараясь не выдать своей оплошности, подчеркнуто строго проговорил:
— Только проверять почаще нужно. Люди утомились, заснуть могут.
— Я недавно все обошел, — не поняв Поветкина, с обидой сказал Привезенцев. — Под утро еще раз проверю.
— Зачем так часто самому, помощников посылайте, дежурного.
— Ай, товарищ майор, — ободренный заботливым тоном Поветкина, воскликнул Привезенцев, — свои два глаза надежнее сотни чужих.
— А это что? — показал Поветкин на исчерченные листы бумаги.
— Собрал все данные и подсчитываю, что осталось у нас в полку, — ответил Привезенцев, подкручивая свои рыжие, густо разросшиеся усы, но делал он это не как раньше, с лихостью и довольством, а скорее по привычке, машинально, и пальцы его заметно дрожали.
«Что с ним? — уловив перемену в Привезенцеве, подумал Поветкин. — Устал или переживает что-то? Совсем на него не похоже».
— Вот взгляните, — протягивая бумагу, хрипло проговорил Привезенцев и всей грудью вздохнул. — Это все, что осталось…
Поветкин хорошо знал состояние своего полка, но сейчас, пробежав взглядом по колонке реденьких цифр, невольно оборвал дыхание. Как в фокусе мощной линзы, из этих цифр возник перед ним весь разбросанный по холмам и лощинам полк. Это был совсем не тот полк, который в декабрьское снежное утро начал наступление под Воронежем. Это было меньше, чем одна треть того сильного, полностью укомплектованного и вооруженного боевого стрелкового полка. Поветкин перечитывал сколько осталось людей в подразделениях, сколько уцелело оружия, повозок, лошадей, и в памяти один за другим всплывали эпизоды боев в те вьюжные, зимние месяцы, когда полк, вместе с десятками других, от Воронежа двинулся на запад, затем на юг и под самым Белгородом насмерть схлестнулся с перешедшими в контрнаступление танковыми дивизиями гитлеровцев. Тогда, после каждого боя, он остро и болезненно переживал потери, но горячка событий и нескончаемые дела притупляли боль; теперь же, под разнотонное дыхание спавших в избе солдат, он во всем потрясающем объеме увидел, чего стоили все эти минувшие столкновения и бои. Особенно отчетливо вспоминалось все, что произошло за эти недавние двое суток отражения непрерывных атак фашистских танков, когда из-за безрассудного поступка Черноярова Поветкин остался во главе полка и когда полк понес особенно тяжелые потери.
Вспомнив Черноярова и глядя на колонку цифр, Поветкин в новом свете увидел все, что произошло в те дни. Он искренне поверил Черноярову, пожалел и долго уговаривал командира дивизии оставить его в полку. Теперь же он не то что ненавидел Черноярова, он просто не мог простить ему позорного поступка, когда из-за распущенности и пьянства тот в самое трудное время бросил свой полк и умчался, сам не зная зачем, в освобожденный Курск.
— Да! И людей мало, и оружия почти нет, — стараясь скрыть свое раздражение от Привезенцева, сказал Поветкин и отодвинул ведомость.
— А участок обороны широченный, и место очень бойкое, — продолжил его мысль Привезенцев. — Если немцы перейдут в наступление, то не иначе как перед нашим полком.
Эта мысль не была новостью для Поветкина, но сейчас, услышав ее от Привезенцева, он с резкой остротой понял ее значение. Конечно, где же, как не по холмам и высотам, удобным для действий танков, ударит противник. А если ударит всерьез, то что могут сделать эти жиденькие, вытянутые в ниточку боевые порядки стрелковых батальонов, эти две уцелевшие 45-миллиметровые пушки и на весь четырехкилометровый фронт шесть станковых пулеметов. Не то что мощную атаку, даже короткий удар с ограниченными целями полк едва ли выдержит.
Беспокойство и сомнения так властно овладели Поветкиным, что он, уйдя от Привезенцева, до утра ходил по батальонам и, едва дождавшись рассвета, позвонил командиру дивизии. Как всегда, генерал Федотов ответил сразу же, словно он никогда не отдыхал. Выслушав сбивчивый, взволнованный доклад Поветкина, он помолчал немного и спокойно, как показалось Поветкину, совсем равнодушно спросил:
— А что, собственно, стряслось? Что так взвинтило вас?
— Пополнение нужно, товарищ генерал, немедленно пополнение и людьми и оружием.
— Это давно известно, и пополнение скоро будет. А пока по одежке протягивайте ножки. Главное — не паниковать, не искать двадцать пятый час в сутках, а наиболее целесообразно и полно использовать и наличное оружие и оставшихся людей.
Обычно после каждого разговора с уверенным, всегда спокойным генералом Федотовым успокаивался и Поветкин; сейчас же он не только не успокоился, а наоборот с еще большей остротой чувствовал всю сложность и трудность положения своего полка. То, что Федотов не сказал, когда прибудет пополнение, со всей очевидностью показывало, что и сам генерал не знал, когда и сколько прибудет людей и оружия, что командир дивизии и сам переживал, очевидно, не меньше и не легче, чем командир полка. Его совет правильно использовать людей и оружие также ничего конкретного не давал. По твердому убеждению Поветкина все было расставлено именно так, как нужно, и с таким составом полка ничего другого нельзя было придумать. Оставалось только одно: ждать, что будет дальше, и если противник перейдет в наступление, драться до последней возможности, как дрались в те страшные дни, когда полк столкнулся с наступавшими от Белгорода фашистскими танками. Но тогда было совсем другое положение: и людей больше, и оружия, да и сами люди после зимних побед и короткого отдыха неудержимо рвались вперед и были готовы сломить любые преграды. Теперь же, после стольких боев, люди устали, измотались, а неожиданная остановка под Белгородом и тяжелые потери подорвали в них тот порыв, который владел ими в ходе наступления от Воронежа к Белгороду. Это Поветкин чувствовал по самому себе и это же видел в каждом из своих подчиненных.
Мрачный, с тяжелыми мыслями, вернулся он перед завтраком в хату и застал там поджидавшего его, как и всегда, веселого замполита.
— Ты что, не спал всю ночь? — спросил Лесовых, беззаботно улыбаясь.
— Да нет. Под утро только по ротам прошел, — стараясь рассеять дурное настроение, ответил Поветкин.
— Ну и как? Неприятное что-нибудь?
— Нет. Все в порядке, — с неожиданным вздохом сказал Поветкин.
— Что с тобой, Сергей Иванович? — всмотрелся Лесовых в его потемневшее лицо. — Ты взволнован чем-то, огорчен? Что, из дивизии что-нибудь или у нас?
— Не то и не другое, — избегая встречи с пытливыми глазами Лесовых, проговорил Поветкин. — Просто раздумался обо всем, и как-то стало не по себе.
— О положении полка?
— Конечно, о чем же другом.
«Вот как раз о другом-то я и хотел тебя спросить», — подумал Лесовых и, опустив голову, тихо сказал:
— Положение, конечно, у нас не легкое, но и не отчаянное. Собственно, самое страшное позади. Я как вспомню, что было на высотах под Белгородом, так изморозь по всему телу…
— Да, горячие были денечки, — согласился Поветкин.
— Что там горячие. Страшные! — воскликнул Лесовых. — Я тогда ничего не говорил тебе, а сейчас скажу. Только пойми правильно. Я верил в наших людей, крепко верил и знал, что никто не подведет. Но временами казалось, что люди не выдержат такого напряжения, надломятся — и катастрофа. Но все, все до единого выстояли, не сникли. И понимаешь, — порывисто схватил он и стиснул руку Поветкина, — я смотрю сейчас на каждого, кто уцелел, и вижу в них совсем не тех людей, какими представлял раньше. Понимаешь, — стихнув, задумчиво продолжал он, — я вроде знал в полку всех, вроде раскрыл и понял каждого солдата и офицера, но это было самообольщение. Понял-то людей по-настоящему я только вот тут, на этих холмах и высотах под шквалом огня и натиском фашистских танков.
— И знаешь, Сергей Иванович, — с еще большей горячностью продолжал Лесовых, — я тоже часто думаю о положении нашего полка, понимаю, как туго придется нам, если противник ударит, но после тех испытаний, что перенесли наши люди, я уверен: противник ничего не добьется, мы опять выстоим и победим!
— И я нисколько не сомневаюсь в людях — вновь почувствовав нараставшую тревогу, нетерпеливо перебил его Поветкин. — Однако на войне определяют успехи не только настроения и качества людей. Главное на войне — сила, материальная сила. Будь ты хоть самый сверхталантливый, сверхсмелый, свархбесстрашный человек, но если ты один, а против тебя два десятка, если ты только с автоматом, а против тебя танк, то ничто не спасет от гибели. Может, ты и немало сделаешь, но главного все равно не добьешься, не победишь врага. Оружие, оружие нужно нам и люди… А у нас на четыре километра фронта две пушчонки легонькие и шесть пулеметов.
— И оружие будет и люди — все будет! — воскликнул Лесовых.
— Я тоже так думаю. Но когда, когда, время-то мчится, и противник ждать не будет.
— А ты считаешь, что у немцев положение лучше нашего, думаешь, они меньше потеряли?
— Нет, не думаю.
— А я полагаю, что они вообще наступать не будут.
— Значит, война кончилась, и завтра по домам, по хатам?
— Завтра не завтра, но и не так долго осталось, — запальчиво ответил Лесовых и, приблизясь к Поветкину, раздельно, чеканя каждое слово, продолжил:
— О том, что война подходит к концу и фашисты явно выдохлись, говорят факты. Первое — это наше контрнаступление в прошлом году под Москвой. Немцы же Москву в бинокли видели и покатились назад. А почему? Да потому, что силенок не хватило! Второе — сражение у Волги. Двадцать две дивизии, триста тридцать тысяч человек немцы потеряли. Это же не капля в море, а громадина. Третье — наше зимнее наступление по всему фронту. От хорошей жизни, что ли, они, бросая технику, откатились на сотни километров. И четвертое — вот это их последнее наступление здесь, под Харьковом и Белгородом. Ну, захватили они Харьков, ворвались в Белгород, а дальше что? Остановились, примолкли. А почему? Да потому, что наступать нечем! Выдохлись, довоевались!
Склонив голову, Поветкин слушал Лесовых, отчетливо представляя все, что говорил тот, но никак не мог согласиться с тем, что немцы окончательно выдохлись и не смогут развернуть новое наступление. Слишком свежи были в памяти Поветкина все те события, которые развернулись на фронте в последние недели. Зимой, в разгар нашего наступления от Воронежа к Белгороду и Курску, ему и самому казалось, что война кончается, немцы ослабли, и наше наступление никогда не остановится, устремляясь все дальше и дальше на запад, к Днепру, на левобережье, к государственной границе и затем на территорию самой Германии. Но наши войска неожиданно остановились, и не только остановились, а, подойдя почти к самому Днепру, под вражеским натиском покатились назад, оставив даже такие крупные города, как Харьков и Белгород. Правда, на Северном Донце за Харьковом и севернее Белгорода продвижение гитлеровцев было задержано. Но по своему полку Поветкин хорошо знал, что эта остановка была вызвана не тем, что гитлеровцы окончательно выдохлись, а тем, что они натолкнулись на такое упорство советских войск, какого им, очевидно, никогда не приходилось встречать. По тому, что сейчас было перед полком, Поветкин знал, что силы у противника еще есть, и силы не малые. Даже простым наблюдением за минувшие дни на вражеских позициях было выявлено двадцать семь танков, три полных дивизиона артиллерии, шесть минометных батарей и не менее двух батальонов пехоты. К тому же, как сообщали из штаба дивизии, наша воздушная разведка непрерывно отмечает большие передвижения немецких войск и техники в ближних и дальних тылах. Все это отчетливо и ясно говорило за то, что противник не выдохся окончательно, что если он пока не наступает, то не потому, что сил нет, а всего вероятнее потому, что готовится к новому, более мощному и решительному удару.
Эти мысли Поветкин и высказал. Лесовых старательно, с вновь посуровевшим, окаменелым лицом выслушал все, долго молчал и вдруг, резко встав, подступил вплотную к Поветкину.
— Так почему же, почему не наступают они сейчас? — звонко выкрикнул он и, все более волнуясь, обвернулся к окну.
— Готовятся, очевидно, да погода не наступательная. Сегодня подмерзло, а что было вчера, позавчера? Грязь непролазная, танки и те утопают чуть не по башню, пригорка одолеть не могут.
— Значит, виноват генерал Погода. Так, что ли? — не глядя на Поветкина, язвительно бросил Лесовых.
— Без дождя и грибы не растут.
Подобное, знаешь ли, Геббельс твердит при всяких неудачах. Под Москвой их мороз разгромил, на Волге осень холодная, этой зимой снега непролазные, а теперь грязь, распутье остановило. Не мороз, не грязь, не снега, а мы, мы — советские люди и тогда их разгромили и теперь остановили! Вот в чем главное!
— Значит, ты отрицаешь влияние погоды на войну? — невольно впадая в задиристый тон Лесовых, с вызовом спросил Поветкин. — Значит, по-твоему, воевать все равно, что летом, что зимой, что в грязь, что в сухую погоду?
— Слушай, Сергей, — раскатисто засмеялся Лесовых, обнимая Поветкина, — что мы с тобой наскакиваем друг на друга. Не отрицаю я ничего, на своей шкуре испытал, что значит воевать в мороз и в слякоть. Но главное-то не в этом, не в погоде, а в людях, в тех, кто воюет. Если человек насмерть бьется за свободу свою, ему и ураган ветерком покажется.
— Прописные истины, дружок, — прервал Поветкин Лесовых. — Я говорю о том, что утверждать, будто противник выдохся и наступать больше не сможет, как утверждаешь ты, легкомысленно. Если хочешь, это — пагубный самообман.
— Но и считать, что они сильнее нас, тоже не менее пагубно, — без прежнего азарта возразил Лесовых.
— А я и не считаю. Я говорю, что сейчас перед нами у противника сил больше, чем у нас. И в этом вижу весьма серьезную опасность.
— Опасность не так велика, как тебе кажется. Пусть сунутся, — ответим достойно.
— А чем? Двумя пушчонками, шестью пулеметиками и тремя сотнями солдат, что у нас в полку осталось?
— Хотя бы и тремя сотнями, зато какими!
— Завидный у тебя характер: спокоен, невозмутим, и во всем полнейшая ясность. А меня вот гложут и гложут тревожные мысли, день и ночь гложут.
— А ты постарайся рассеяться, отвлечься хоть немного.
— Рад бы в рай, да грехи не пускают, — устало сказал Поветкин и опустил голову.
Лесовых смотрел на его подернутые сединой волосы, на худое, с болезненной желтизной лицо и решил, что наступил удобный момент для откровенного разговора, который он долго не решался начать.
— Сергей, — мягко и тихо спросил он, — ты получаешь письма?
— Письма? — рассеянно переспросил Поветкин и, тут же поняв смысл вопроса, внутренне ожесточился и, не глядя на Лесовых, отчужденно бросил:
— А что, собственно, интересует тебя?
По мгновенно изменившемуся лицу, голосу Поветкина Лесовых понял, что спросил и неудачно, и бестактно, разбередив, видимо, самую больную рану Поветкина. Но отступать было поздно, и Лесовых, стараясь говорить как можно проще и душевнее, неторопливо и внешне бесстрастно проговорил:
— Не видел я, чтобы ты письма получал.
— А ты что, решил мое настроение поднять? По долгу службы, как политработник? — вызывающе холодно и строго спросил Поветкин.
— Да что ты, я просто так, по-дружески, — досадуя на свою бестактность, пробормотал Лесовых. — Просто интересуюсь…
— Коль интересуешься, отвечу, — с несвойственной для него горячностью, глядя в упор на Лесовых, выкрикнул Поветкин. — Писем ни от кого не получал, не получаю и не жду. Теперь ты удовлетворен?
— Да что ты, Сергей Иванович, — бессвязно пробормотал окончательно смущенный и раздосадованный Лесовых. — Я не хотел ни обидеть, ни… В общем…
— В общем, душевный разговор окончен, — властно прервал его Поветкин и, словно ничего не случилось, совсем как обычно, спросил:
— Ты чем будешь заниматься сегодня?
— Да хотел с ротными партийными организациями разобраться, — боясь взглянуть на Поветкина, ответил Лесовых. — Ослабли после боев. В некоторых ротах совсем коммунистов нет. Нужно посмотреть и подумать…
— Да, конечно, конечно. Это очень важно, — едва понимая, что сказал Лесовых, машинально проговорил Поветкин. — Я тоже в ротах буду, встретимся там, обсудим все…
— Так я пойду, — растерянно сказал Лесовых, и, не ожидая ответа Поветкина, поспешно вышел из дому.
Поветкин не поднялся из-за стола, не проводил даже взглядом Лесовых и сидел, совершенно позабыв, где он и что с ним. Вопрос Лесовых всколыхнул давнюю, только было затихшую боль. Почти два года прошло, как порвалась связь с Ниной, и он уже оставил все попытки разыскать ее, придя к твердому убеждению, что Нина или погибла, или осталась в оккупации. За время трехлетней разлуки до войны у него накопилась целая пачка ее писем и много фотографий. Он постоянно носил их в полевой сумке, в свободные минуты перечитывал, рассматривал до слез дорогие фотографии. Теперь не было ни писем, ни фотографий. Все сгорело в разбитом доме под Смоленском, откуда и сам он едва успел выскочить после попадания четырех фашистских снарядов. Но не проходило и дня, чтоб он хоть на мгновение не вспомнил Нину. И при каждом воспоминании им овладевало тягостное отчаяние. Лишь в последние недели, в бурной горячке дел и событий, он несколько успокоился, реже и не с прежней остротой вспоминал Нину, начиная свыкаться с мыслью, что ее нет и, очевидно, никогда не будет. Теперь же неожиданный вопрос Лесовых вновь всколыхнул пережитое.
«Что ему надо? — с раздражением и злостью думал он о Лесовых. — Чуткость проявляет, по душам поговорить захотел, а знает ли он, понимает ли, что такое душа человеческая?»
От боли и обиды он стиснул руками голову и зажмурил глаза.
«А в чем, в чем, собственно, виноват Лесовых? — немного опомнясь, подумал он. — Разве я точно так же не спросил бы его, зная, что он не получает писем? Конечно, спросил бы. И он наверняка ответил бы мне совсем не так, как я».
Он вспомнил ясные, бесхитростные глаза Лесовых, его смущенное, растерянное лицо, жалкую улыбку и решил сейчас же пойти к нему и извиниться за грубость. Он уже потянулся было к шинели, но в дверь негромко постучали, и в комнату вошла Ирина.
Она была в военном платье с полевыми погонами капитана медицинской службы, в синем берете с маленькой звездочкой и в аккуратных, старательно начищенных хромовых сапожках. Ее смуглое и свежее лицо было сосредоточенно, движения уверенны и спокойны, голос отчетлив, негромок и даже строг. Вся она была точно такая, какой привык видеть ее Поветкин за полгода совместной работы. Но сейчас, едва взглянув на нее, Поветкин сразу же отвернулся, чувствуя нарастание странного волнения, потом вновь посмотрел на Ирину, уже пристальнее, с нескрываемым интересом. Он сам не понимал то особенное в ней, что привлекло сейчас его внимание. Не поняла вначале и она значения его изучающего взгляда. Она спокойно заговорила, докладывая о положении в санитарной роте, но голос ее вдруг сорвался, глаза наполнились мягким, ласковым светом и сразу же погасли. Она заторопилась, сбиваясь и комкая доклад, покраснела и робко опустила глаза.
— И машину разрешите, за медикаментами съездить, — с трудом проговорила Ирина, все так же не поднимая глаз и опустив голову.
— Да, да. Берите машину, поезжайте, — машинально ответил Поветкин и так же машинально проговорил «Да, да», когда Ирина попросила разрешения уйти.
Он слышал ее шаги, слышал, как стукнула дверь, и эти мягкие звуки тревожным набатом отдавались в его сознании. Словно боясь расплескать что-то, он поднялся и подошел к окну. Яркие лучи солнца в упор били в оттаявшую черную-пречерную землю, и от нее поднимались едва уловимые струйки пара. На просохшем бугорке под оголенной вишней упрямо иглились розоватые стебельки нежной молодой травы.
Глава вторая
Падение командира полка до командира роты и от майора до старшего лейтенанта, казалось, ничем не отразилось на Черноярове. Все такой же высокий, могучий, с грубым, волевым лицом и резкими движениями сильных рук, он твердой поступью ходил по земле и говорил все тем же гулким басом, услышав который, нельзя было не почувствовать суровой властности. Но так было только внешне. Внутренне, особенно оставаясь один, Чернояров мучительно переживал свое падение. Он никого не винил, считая причиной всех бед только самого себя, ни на кого не обижался и тем более никому не собирался мстить, что раньше так часто прорывалось в его характере даже при мелких обидах. Он старался не вспоминать всего, что было, не думать о своем положении, но назойливая память сама по себе возвращала его к былой славе. Особенно часто вспоминал он знаменательный приказ после боя за Двугорбую высоту и тот торжественный момент, когда сам командующий армией перед строем офицеров всей дивизии вручил ему орден Красного Знамени. Он долго говорил о его боевых заслугах, призывая всех воевать так, как воевал майор Чернояров. В такие моменты воспоминаний Чернояров забывал обо всем. Но эти забвения всегда были слишком коротки. Кто-нибудь приходил к нему и, называя или «старший лейтенант» или «товарищ командир роты», мгновенно возвращал его к безжалостной действительности.
«Хоть бы скорее в бой», — часто думал он, но на всем фронте было затишье, и серьезных боев, как считал Чернояров, не ожидалось.
Ни Поветкина, ни Лесовых после прихода в роту Чернояров не видел. Поэтому он, сам не ожидая этого, порывисто вскочил, когда в землянку вошел Лесовых, и от растерянности забыл даже доложить о положении в роте.
— Здравствуйте, Михаил Михайлович, — подавая руку, неторопливо сказал Лесовых, — что это вы в землянке отсиживаетесь? На улице весна буйствует, а вы в духотище…
— Д… Д… Дела, знаете, — пробормотал Чернояров и, в душе ругая себя за столь унизительный тон, уже увереннее добавил: — Дела в порядок привожу, столько всего накопилось, ведь целый месяц в роте не было ни одного офицера.
— Да, положение не легкое и не только в вашей роте, — присаживаясь на топчан, сказал Лесовых. — Людей и техники потеряли много, а пополнения все нет и нет.
— Наверное, скоро дадут, — лишь бы не молчать, ответил Чернояров, с тревогой ожидая, что же будет дальше и как поведет себя замполит.
«Поветкин, тот проще, — думал он, — тот командир, и если рубанет, то напрямую, а этот с подходцем, вежливо, воспитательно».
«Переменился, здорово, видать, переменился, — думал о Черноярове Лесовых. — Куда только накренился? Не в сторону ли хныканья и обидчивости?»
— Как люди, Михаил Михайлович? — спросил Лесовых, глядя на беспокойно барабанившие по коленям пальцы Черноярова.
— Что же люди, — со вздохом ответил Чернояров. — Их и осталось-то на всю роту неполных два расчета.
— Конечно, не то, что под Воронежем.
Эти слова, произнесенные Лесовых совсем спокойно и без всякого умысла, взорвали Черноярова.
— Что под Воронежем? — с яростью воскликнул он. — Под Воронежем, дескать, полк был как полк, а теперь чуть побольше батальона и повинен в этом Чернояров, так что ли?
— К чему горячность, Михаил Михайлович, — глядя на искаженное гневом лицо Черноярова, неторопливо сказал Лесовых. — Я и не думал этого.
— Неправда! — с шумом выдохнул Чернояров. — Думали и сейчас так думаете.
— Ну, уж если хотите правду, — глядя в глаза Черноярову, отчетливо и твердо сказал Лесовых, — то получите правду. Да, во многих потерях именно вы повинны. Нет, — махнул он рукой на хотевшего было заговорить Черноярова, — не из-за того случая, когда вы в Курск укатили. Из-за вашего самодурства, из-за неправильного воспитания людей, из-за вредных методов командования. Что вы насаждали в полку, чему людей учили? Ячество! Самодурство! Только вы — фигура, а остальные ничто, пешки в ваших руках. Вы же людей думать отучали, самостоятельность из них выкорчевывали. Без вашего приказа, по своей инициативе и пальцем не пошевели — вот ваш принцип командования! А вот результаты. Помните, под Касторной, когда мы почти в кольцо зажали противника. Третий батальон высоту и лощину занял, позади глубоченный овраг, а у нас вся артиллерия в снегу застряла. Немцы танки скапливают, а бить их нечем. Я говорю комбату: «Отводи роты за лощину», а он мне в ответ: «Не могу, Чернояров голову оторвет за самовольный отход». «Да не отход же это, твержу ему, а маневр обычный, чтобы занять более выгодную позицию». А он одно: «Не могу без Черноярова и все». Пока дождались вашего приказа, фашистские танки в контратаку ринулись, два взвода смяли, батальон все равно за лощину отбросили и самого комбата раздавили. Вот к чему привели ваши крики: «Голову оторву! Не сметь без меня!»
Тяжело дыша, Лесовых смолк и опустил голову. По его темному от гнева лицу катились частые градины пота. Туго стиснутые в кулаки руки мелко дрожали. Таким его еще никогда не видел Чернояров.
— А вы, — вновь подняв глаза на Черноярова, прошептал Лесовых, — еще обижаетесь… Вам поверили как коммунисту, как офицеру, как человеку. И если вы не вытравите из себя все гнилое и вредное, то имейте в виду: никто вас не пощадит.
Слова Лесовых падали на Черноярова, как сокрушающие удары, и он хоть внешне и держался все так же твердо и независимо, внутренне чувствовал опустошающий надлом, который с каждым словом Лесовых все увеличивался и нарастал.
— Понимаете вы это или нет? — резко спросил Лесовых.
— Понимаю, — едва слышно прошептал Чернояров. — Да, я все понимаю, — тверже продолжал он, и совсем неожиданно для Лесовых и для самого себя, судорожно всхлипнул, опустил голову на руки и бессильно прошептал:
— Трудно мне, очень трудно.
— Верю, — касаясь пальцами его руки, сказал Лесовых. — И не один я, все понимают и всячески помогают вам. Только не чуждайтесь людей, отбросьте обиды и всеми силами за дело.
— Спасибо! — стиснул Чернояров руку Лесовых. — Я поборю себя, все переломлю, я делом докажу.
— Верю! — ответил Лесовых и совсем весело, словно ничего не произошло, сказал:
— Да пойдемте же на воздух, Михаил Михайлович, тут сырость, плесенью пахнет, а там раздолье.
Молодое слепящее солнце и густой, напоенный испарениями воздух с такой силой ударили Черноярова, что на мгновение у него потемнело в глазах и перехватило дыхание.
— Вот она весна! — как сквозь сон услышал он восклицание Лесовых и про себя повторил: «Весна, весна!», вкладывая в эти слова всю ту легкость и жажду жизни, так властно охватившие его. Он, совсем не чувствуя тела и забыв о противнике, размашисто шагал по лощине и восхищенно, словно впервые все это видя, смотрел на мокрый с едва заметной прозеленью пригорок, на низкорослые, еще голые кустарники, на журчавший в низине искристый ручей.
«Весна, весна», — вполголоса проговорил он, когда Лесовых скрылся за бугром, и, чувствуя все ту же, неожиданно вспыхнувшую радость, пошел к пятой роте, где стоял один из двух его пулеметов. Как в далеком детстве, он отшвырнул ногой подвернувшийся камень, забыв о своем возрасте, по-мальчишески резво перескочил лужу и тут же увидел Бондаря и Козырева.
Маленький, поджарый, в начищенных сапожках и в безукоризненно чистом, без единого пятнышка, обмундировании Бондарь и приземистый, вислоусый Козырев о чем-то увлеченно говорили.
Увидев Черноярова, они мгновенно смолкли. На лице Бондаря Чернояров заметил то самое выражение растерянности и жалости, которое так резануло его еще в тот день, когда он, бывший командир полка, пришел представляться к своему бывшему подчиненному командиру батальона Бондарю.
— Товарищ капитан, пулеметная рота, — собрав все силы, точно по-уставному начал докладывать Чернояров.
— Да, да. Я знаю, я обошел всю роту, — нетерпеливо перебил его Бондарь и, густо покраснев, опустил глаза.
Его смущение вновь напомнило Черноярову, кем он был и кем стал, и, как черное облако, мгновенно погасило все светлое, что возникло у него от встречи с Лесовых.
— Что слышно насчет пополнения? — только чтобы не молчать, с трудом выдавил Чернояров.
— Командир полка обещал на днях прислать два пулемета и несколько пулеметчиков, — все так же не глядя на Черноярова, сказал Бондарь. — Но один пулемет придется шестой роте отдать.
— Шестой? — прежним властным и решительным басом воскликнул Чернояров, но тут же стих и безразлично добавил:
— Что ж, шестой очень нужен пулемет.
«Вот мучаются!» — подумал все время молчавший Козырев и, стараясь развеять взаимное смущение офицеров, оживленно заговорил:
— Скоро два наших орелика вернутся, Дробышев и Чалый. Пишут: костьми ляжем, а в роту пробьемся.
— И Дробышев, и Чалый. Замечательно! — радостно подхватил Бондарь. — Они же такое на высоте совершили!..
«Дробышев, Чалый? Кто такие? Что совершили?» — напряженно вспоминал Чернояров, но вспомнить ничего не мог.
— Разрешите обратиться, товарищ капитан, — словно вынырнув из-под земли, лихо отчеканил совсем молоденький боец в стеганом ватнике и в рыжей, во многих местах опаленной шапке-ушанке.
— Васильков! — в один голос воскликнули Бондарь и Козырев.
— Так точно! — сияя пухлощеким с округлым подбородком лицом и светлыми, словно наполненными весной глазами, еще восторженнее и четче ответил Васильков.
— Как здоровье? — спросил Бондарь.
— Замечательно, товарищ капитан! — задорно тряхнул головой Васильков. — Отлежался, отоспался, лекарств малость попил и как новенький!
«Да кто же этот Васильков? — думал Чернояров. — Танк спалил, когда же это было?»
— Он под Белгородом, вот тут, к нашей роте пристал, из отходивших подразделений, — словно поняв мысли Черноярова, пояснил Козырев. — Я, говорит, воевать буду и никуда не уйду, пока фрицев не остановим. Вот и воевал, — ласково взглянул Козырев на Василькова.
— Целые сутки один у пулемета высоту удерживал, атак пятнадцать отбил, сотни, наверно, три фрицев угробил. А на другой день с танком один на один схлестнулся и сжег его.
— Замечательно! Молодец! — воскликнул Чернояров и с силой пожал руку Василькова. — В нашу роту его, обязательно в пулеметную роту.
— Вы командир нашей роты, товарищ старший лейтенант? — с любопытством взглянув на Черноярова, спросил Васильков.
И Бондарь и Козырев замерли, тревожно ожидая, что же будет после столь неудачного вопроса. Опешил на мгновение и Чернояров, чувствуя, как поток горячей крови хлынул в лицо, но быстро овладел собой и так же непринужденно, в тон Василькову ответил:
— Да. Я командир пулеметной роты. Чернояров моя фамилия, зовут Михаил и по отчеству Михайлович. Так что воевать вместе будем. Вы сами-то откуда родом?
— Москвич! — с гордостью ответил Васильков.
— Земляк ваш, — кивнул Чернояров Козыреву.
— Да, земляк, — с протяжным вздохом ответил Козырев, при упоминании Москвы вспомнив Анну, детей и свой домик в тихом переулке Лефортово.
«Анна, Анна, — как часто бывало с ним, мысленно обратился Козырев к жене, — как ты там? Третий год скоро пойдет как не виделись».
Глава третья
С того памятного дня, когда Анна Козырева села за дощатый стол в старой кладовке заводского гаража и начались занятия на курсах шоферов, Вера Полозова стала для нее самым дорогим человеком. Давно уже закончились курсы, и Анна стала самостоятельным и даже, как говорил Селиваныч, «заправским шофером», но Анна относилась к Вере все с тем же почтительным уважением, видя в ней не девушку вдвое моложе себя, а наставника и учителя, который открыл ей целый мир нового и увлекательного. Она прониклась к Вере такой любовью, что не по характеру задорно и звонко смеялась, когда Вера была весела, и мгновенно грустнела, хмурилась, когда Вера была чем-нибудь расстроена. Материнскую радость пережила Анна, узнав, что с фронта вернулся жених Веры и что та стала теперь не Полозовой, а Лужко. Она по-матерински ревниво, с беспокойством и надеждой наблюдала за Верой в первые дни ее замужества. Ей доставляло истинное удовольствие наблюдать, как веселая, счастливая прибегала Вера в гараж, спокойно и деловито вступала в работу, как к концу смены движения Веры становились все торопливее, порывистее, глаза мечтательнее и мягче, как, закончив все дела, она прихорашивалась, заглядывая в крохотное зеркальце, по нескольку раз поправляла прическу, платье и торопливо уходила домой, вся наполненная трепетным ожиданием встречи с мужем.
Однажды в конце февраля, собираясь в дальнюю поездку, Анна решила пораньше прийти в гараж и до начала работы проверить машину. К ее удивлению, Вера была уже в гараже. Она приветливо поздоровалась с Анной и заговорила о поездке. С первых же ее слов Анна почувствовала в ней что-то необычное. Это встревожило ее. Заправляя машину, Анна незаметно стала наблюдать за Верой. Посмотрев одну, другую, третью машину, Вера присела на крыло грузовика и, сгорбясь, обхватила голову руками. Что-то жалкое, горькое и болезненное было в ее мгновенно опустившейся красивой и стройной фигуре.
Анна похолодела от страшной догадки, чуть было не бросилась к Вере, но та, словно проснувшись, резко встряхнула плечами, торопливо встала и, по-прежнему красивая и спокойная, начала осмотр четвертой машины.
Через два дня, возвратясь из трудной поездки по разбитым, ухабистым дорогам, Анна сразу же поняла, что за эти дни с ее любимицей что-то произошло. Она весело поздоровалась с Анной, начала пытливо расспрашивать о поездке, но и голос, и лицо, и особенно глаза ее были уже не те. Какое-то нервное беспокойство так и сквозило в каждом слове и жесте Веры.
В этот день впервые за все время работы Вера ушла домой задолго до конца смены.
«Боже мой, что же творится-то с ней? — раздумывала Анна. — Неужели с мужем что-нибудь? Инвалид же он, и расхвораться недолго. А может, не поладили, рассорились или не дай боже…»
Анна даже про себя не решилась закончить свою мысль.
Убрав машину и получив от Селиваныча наряд на завтра, Анна торопливо пошла домой. По московским улицам разбойно гуляла февральская метель. Тоскливо свистел ветер в проводах, где-то хлопал оторванный лист железа, сиротливо раскачивались голые ветви деревьев. Свинцовое небо опустилось на самые крыши домов. Горбясь и укрывая лица, поспешно мелькали редкие прохожие. Тоскливо, неуютно и пусто было вокруг.
Свернув в скверик у Госпитального вала, Анна на самой дальней, засыпанной снегом скамье увидела одинокую фигуру мужчины в шинели и в военной шапке-ушанке. Он сидел, откинувшись на спинку скамьи, и беспрерывно курил. Рядом с ним уткнулись в сугроб деревянные костыли.
«Так это же Верин муж», — ахнула Анна.
Она всего дважды, да и то мельком, видела его, но хорошо запомнила широколобое, округлое лицо и густые, сросшиеся вместе брови, под которыми мягко лучились добрые и веселые глаза. Анне особенно понравилась его заразительная улыбка, от которой расцветало все лицо. Теперь же лицо его словно окаменело, брови нахмурились, глаза устремились куда-то в ненастное небо. Он даже не пошевелился, когда Анна прошла мимо.
«Да что же это, что стряслось? — терзалась в мучительных догадках Анна. — Как неживой сидит. А где же Верочка, что с ней?»
Анна хотела сразу же свернуть в переулок и побежать к Полозовым, но окаменело сидевший Лужко вдруг торопливо схватил костыли, грузно поднялся и, громко скрипя снегом, поковылял через дорогу. Анна с жалостью и тревогой смотрела на его сгорбленную спину, единственную ногу и горестно скрипевшие костыли.
Глава четвертая
Привалясь к спинке санок, Листратов подставил лицо свежему ветру и с наслаждением смотрел на потемневшие поля. Хоть по ночам и держались еще довольно крепкие морозы, но зима уже явно сдавалась, и это бодрило Листратова. Он любил и зиму, но весна всегда была для него самым счастливым временем. Раньше, в далеком детстве, она прельщала его буйным разливом ручьев, гомоном грачей на деревьях, волнующим расцветом молодой зелени и благодатной возможностью вырваться из душной избы босиком, в одной рубашонке, не боясь простудиться и заболеть, от чего так настойчиво опекала его мать в нудные зимние месяцы. Позже, в годы юности, весна была началом восхитительных гулянок в саду, тайных и сладостных встреч под защитой разросшихся кустов и первым ощущением собственного значения в жизни, когда вместе с отцом, а часто и один выезжал он в поле и прокладывал первую борозду на черной, курящейся испарениями земле. В годы зрелости, вот уже почти два десятка лет, весна неизменно приносила ему множество забот. Семена для колхозов, тягло, инвентарь, удобрения, пахари, трактористы, пастбища, выгоны, мосты, дороги, детские ясли, столовые, стационарные и передвижные библиотеки, газеты, радио, сводки, отчеты, доклады, проверки, смотры — все это и многое другое с началом весны, словно до предела сжавшись за зиму, с огромной силой развертывалось и неудержимым потоком захлестывало его, председателя райисполкома. Не зная покоя ни днем ни ночью, без устали носился он по району, проводил заседания и совещания, заслушивал, требовал, ругался, сам отчитывался, терпеливо переносил упреки и выговора, за несколько первых весенних дней неузнаваемо худел, но всегда чувствовал огромный душевный подъем, забывал о сне и отдыхе, о том, что за целый день не удавалось даже перекусить, что у сапог отлетали подметки, а на пиджаке не хватает целых трех пуговиц.
Эта вторая военная весна начиналась особенно трудно. Как и в прошлую весну, колхозы задыхались от недостатка рабочих рук, тягла, инвентаря и особенно семян. Дождливое лето почти наполовину убавило урожай, и осенью колхозы с трудом справились с хлебозаготовками. Нисколько не прибавилось в колхозах и тягла. На осенние мясопоставки пришлось району сдать более двухсот голов крупного рогатого скота, и теперь многие колхозы даже на коровах не могли пахать. Недавно появилась было надежда увеличить машинный парк МТС. Вернувшийся с фронта бывший заместитель Листратов вдохновенно рассказывал, что все овраги, балки и поля между Волгой и Доном сплошь завалены немецкой техникой, что там, под грудами снега, брошены фашистами совсем новенькие тягачи, тракторы, автомобили и что советские войска эту технику одни освоить не в силах, да там и войск почти не осталось; они все ринулись в наступление на запад. Мысль использовать на полях района трофейную технику так захватила Листратова, что он, не дожидаясь разрешения облисполкома, со всего района собрал всех, кто хоть что-то понимал в технике и отправил за машинами. Первые вести от искателей техники вселили в Листратова надежды. Директор МТС восторженно сообщал, что машин в донских и приволжских степях видимо-невидимо, что он уже подобрал больше сотни тракторов и тягачей и шестьдесят совсем новеньких автомобилей. А скоро через снега пробилась и первая колонна трофейных машин. Весь районный город высыпал встречать невиданное шествие. Своим ходом, на прицепах, в кузовах навалом и волоком двигались немецкие, американские, бельгийские, французские, английские тягачи и тракторы. Словно всемирная выставка создавалась во дворе МТС. Районные руководители не знали, что делать от радости. Но в этот же день восторг угас. Машины оказались самых различных марок, особенностей устройства которых районные механизаторы не знали. К тому же исправны были всего несколько машин, остальные требовали серьезного ремонта. Ни специалистов, ни запчастей для ремонта не было. А через день выявилась и новая беда. Подсчитав все, что было в районе, Листратов убедился, что даже, если третью часть машин пустить в ход, то на них все равно работать некому — нет трактористов и водителей тягачей. Решили срочно организовать курсы. И тут последствия двух лет войны сказались во всей своей разрушительной силе. Молодых мужчин и взрослых парней в селах почти не было. Курсы пришлось укомплектовать женщинами, девушками и подростками. А на таких механизаторов надежды были слишком призрачны. И опять пришлось Листратову неделями колесить по району, проверяя и уточняя, сколько тягла могут выставить колхозы, уговаривая колхозников пустить своих коров на колхозные пашни.
В Дубки Листратов приехал перед обедом. Еще с молодости знакомая деревушка ослепила его искристым разливом воды, уже начавшейся накапливаться у плотины. Щурясь от бившего и сверху и снизу солнца, Листратов остановился на плотине и выпрыгнул из санок. Светлая, еще не затянутая илом вода покрывала широкую, уходящую в даль луговину. С береговых бугров; по дорогам и ложбинам журчали еще слабенькие ручейки, со всех сторон вливаясь в созданное руками человека новое озеро. Как зачарованный смотрел Листратов на безмолвие воды, на уснувшие под солнцем берега.
Никогда, даже в мыслях, не представлял он, что на месте какой-то заброшенной луговины возникнет такая красота. Он настолько ушел в созерцание озера, что не заметил, как подошли к нему Гвоздов и Слепнев.
— Величаво, Иван Петрович, а? Величаво? — прокричал Гвоздов.
— Да, да! Именно величаво! — машинально отозвался Листратов, неотрывно глядя на озеро.
— Это еще что! — напористо продолжал Гвоздов. — Это всего-навсего вода пустая, без жизни совсем. А вот как рыбку в нее еще пустим да гусей с уточками с избытком разведем, так это будет, что называется…
Листратов пожал руку без умолку говорившему Гвоздову и молча горбившемуся рядом с ним Слепневу.
— Я так прикидываю, — не утихал Гвоздов, — что в этот год с этого самого озера доходцев поболе, чем с полей получим. Перво-наперво рыба, конечно. А рыба в наших краях, прямо сказать, штука редкая, можно сказать, бесценная. Любой с руками оторвет и наличными выложит. И гуси, и уточки тоже вещь деликатная, дорогая.
При виде молчаливого, бледного, тяжело опиравшегося на костыли Слепнева Листратову стала неприятна говорливость Гвоздова.
«Что ты разоряешься, — раздраженно подумал Листратов. — Вот кто душа этого озера, а не ты».
— Как дела, Сережа? — чувствуя властно наплывавшую жалость к Слепневу, мягко сказал Листратов.
— Ничего, — задумчиво глядя куда-то поверх Листратова, отозвался Слепнев. — Инвентарь весь отремонтировали, подготовили. Людей расставили по местам. Вот только семян не хватает и лошадей кормить нечем. Сена осталось на два-три дня, а овса-то и осенью не было.
— Да! — опустив голову, протянул Листратов. — Семена, корм. Ну, семена дадим, а вот с кормами сами выходите из положения.
— Да выйдем, Иван Петрович, беспременно выйдем! — воскликнул Гвоздов.
— А как? — вновь, испытывая раздражение от слов Гвоздова, сурово спросил Листратов.
— Сенцо пока какое-никакое, а есть малость, — все так же ласкающе глядя на Листратова, уверенно ответил Гвоздов, — соломки добавим, а там глядишь, и травка зеленая прорежется.
— Нам бы хоть на неделю трактор дали, Иван Петрович, — сказал Слепнев и вдруг так надсадно и удушливо закашлялся, что Листратов обнял его за плечи и с дрожью в голосе проговорил:
— Подлечиться тебе надо, Сережа, в больницу поехать или хотя бы дома отлежаться.
— Ай, ничего, — тяжело дыша, отмахнулся Слепнев, — само собой пройдет, на фронте куда труднее, а терпят же.
Он хотел сказать еще что-то, но мучительный приступ кашля остановил его.
— Иди домой, Сережа, и в постель, я завтра врача пришлю, — отводя взгляд от посинелого лица Слепнева, сказал Листратов и, взяв его под руку, усадил в свои санки.
Слепнев, продолжая надрывно кашлять, не возражал и только, когда санки остановились около дома, решительно отстранил руку Листратова и твердо сказал:
— Сам я, сам, Иван Петрович, хоть и немного силенок, а все же есть.
— Вот всегда он такой, — не то с обидой, не то с укором проговорил Гвоздов, когда Слепнев скрылся за дверью. — В чем только душа держится, а упорствует.
— Помогать ему надо, — мрачно сказал Листратов.
— Да как, чем помочь-то? Вы же знаете его характер: с ног валится, а все мечется из колхоза в колхоз.
Гвоздов говорил доброжелательно, даже с сожалением, и это понравилось Листратову. Он зашел в правление колхоза, просмотрел поданные Гвоздовым сведения о наличии лошадей, инвентаря, семян и, все продолжая думать о Слепневе, сказал:
— На курорт бы его или хоть в больницу.
— Конечно, Иван Петрович, — с жаром подхватил Гвоздов. — Это бы враз его на ноги поставило.
— Конечно, конечно, — подтвердил Листратов. — Только где они курорты, война все съела, и больница так переполнена, что самых тяжелых положить негде. Да и в сельсовете заменить его некем.
«Я заменить могу», — чуть не вырвалось у Гвоздова, но он сдержался вовремя и озабоченно сказал:
— Известно, таких, как наш Сергей Сергеевич, раз-два — и обчелся. И грамотный, и толковый, а главное — кремень человек! Всегда на своем стоит, за дело общее душой болеет.
Листратов искоса взглянул на Гвоздова, поморщился, но ничего не сказал. Гвоздов понял это, как неверие в искренность того, что он говорил о Слепневе, и решил как можно скорее изменить столь скользкую тему разговора.
— Иван Петрович, может на конюшню пройдете, в сарай сбруйный к инвентарю, — деловито предложил он, догадываясь, что Листратов спешит и едва ли согласится на его предложение.
— Поздновато заскочил-то я к вам, — взглянув на часы, вздохнул Листратов, — вечером бюро райкома, а мне еще двадцать километров петлять по ухабам.
— Хоть закусите малость, вы, же целый день, небось, в дороге.
— Нет, нет, — решительно отказался Листратов, — времени в обрез.
— Ну, немного, на скорую руку, — упорствовал Гвоздов, — это же минутное дело. Моя Лиза все в момент спроворит. А в дороге зимой да голодному — это же мука мученическая.
— Ну, ладно, кружку молока, если есть, не возражаю. Только быстро.
— Есть, есть, все есть: и молоко, и яички свежие, и ветчинки уцелело немного. Осенью боровка заколол, только больше половины продать пришлось. Сами знаете, налогов-то сколько, да и одежонка и у меня, и у жены, и у ребятишек пообтерлась.
Дом Гвоздова понравился Листратову своей чистотой и каким-то особенным запахом, не то свежеиспеченного хлеба, не то сушеных трав. Сама хозяйка ходила на последних неделях беременности, но была так опрятна, спокойна и приветлива, что Листратов невольно сравнил ее со своей женой. Его Полина Семеновна была примерно таких же лет, что и Елизавета Гвоздова, так же, как и у Гвоздова, было у Листратова трое детей, но не было у Полины того спокойствия и привета, которые так и сквозили в каждом движении Елизаветы.
— Все о делах районных тревожитесь, — прервал раздумье Листратова Гвоздов. — Беспокойная работа у вас, Иван Петрович, небось и передохнуть некогда.
— Какие тут передышки, — поддаваясь лести Гвоздова, вздохнул Листратов. — Война, разруха во всем: одно залатал — другое рвется, тут наладил — там разваливается.
Елизавета неуловимо быстро накрыла стол чистой скатертью, расставила тарелки с огурцами, капустой, ветчиной, дымящейся яичницей и, поймав решительный кивок мужа, достала из шкафа поллитровую бутылку водки.
— Это совсем ни к чему, — запротестовал Листратов.
— Да что вы, Иван Петрович, — настойчиво уговаривал Гвоздов. — Вам же часа четыре по морозу трястись. Даже солдатам на фронте и то в морозы водочную норму увеличивают. Это же для согрева, для здоровья только.
Упорство Гвоздева победило Листратова. Он выпил две рюмки и, закусывая, впал в то безмятежно-мечтательное настроение, которое овладевало им всегда, когда после напряженной работы приходилось выпивать. Он не слушал, что говорил Гвоздов, не заметил даже, как тот что-то поспешно и сердито объяснял жене и, выпив еще рюмку, окончательно разомлел. Все, что было беспокойного, тревожного и трудного, исчезло, и вся жизнь казалась теперь простой и легкой. Он рассказывал Гвоздову о своих планах весеннего сева, о твердом намерении обогнать другие районы и добиться если не первого, то уж наверняка второго места в области.
Гвоздов старательно слушал, поддакивал и незаметно одну за другой налил еще две рюмки.
Когда уже Листратов совсем захмелел, Гвоздов осторожно приступил к долгожданному разговору.
— А Слепнева-то жалко, Иван Петрович, до боли жалко, — склонясь к Листратову, участливо шептал он. — Израненный он весь, инвалид, больной совсем. Если по правде сказать, он же воспитанник ваш, вы ведь его на ноги поставили.
— Да, да, — с гордостью воскликнул Листратов. — Сережу я чуть не с детства знаю, немало повозился с ним.
— Вот вам-то и пожалеть бы его. Мучается человек, ни за что вконец здоровье свое погубит. Освободить бы его из председателей, передышку дать, здоровье подправить.
— Да, да. Это нужно, нужно освободить, — послушно согласился Листратов, но тут же, опомнясь, нахмурился, поддел вилкой кусок ветчины и сурово сказал:
— Освободить-то не много ума потребно, а вот кем заменить.
— Да что, у нас людей, что ли, нет! — воскликнул Гвоздов. — Разве кто из председателей колхозов не смог бы стать на место председателя сельсовета?
— Ну, а кто например? — в упор глядя на Гвоздова, спросил Листратов.
— Да кто, — потупился Гвоздов, — мало ли кто, всякий.
— Ты, например, смог бы руководить сельсоветом? — все так же не отводя взгляда от лица Гвоздова, еще настойчивее спросил Листратов.
— Да как сказать-то, — потупясь, проговорил Гвоздов. — Если, конечно, вы поможете, подучите, как и что делать, то, пожалуй, и смог бы.
— Смог бы, смог бы, — склонив голову, шумно вздохнул Листратов и, с минуту помолчав, поспешно встал.
— Ну, большое спасибо за угощение. Мне пора.
— Иван Петрович, вот, пожалуйста, не обидьтесь, — подал Гвоздов объемистый сверток. — Вам, жене вашей, семье.
— Что это? — нахмурился Листратов.
— Продуктов малость: яички, ветчины кусочек, мед засахаренный.
— Ну, к чему это, к чему?
— Иван Петрович, мы же знаем: в городе покупное все, а у нас свое, домашнее. От чистого сердца мы.
— Нет, нет, — решительно отстранил Листратов сверток и, еще раз поблагодарив хозяев, поспешно вышел из дому.
Глава пятая
Андрей Бочаров даже не предполагал, что прощание с генералом Велигуровым будет таким душевным и трогательным.
Еще утром на место Велигурова прибыл молодой — лет сорока — худощавый, с остроносым лицом и настороженными светлыми глазами генерал-майор Решетников.
— Игорь Антонович, — отойдя от Велигурова и стремительно протянув руку Бочарову, тоненьким голоском в один вздох выговорил он. — Вместе, значит, работать будем.
Бочаров пожал его сухую руку, и не то чувство обиды за Велигурова, не то жалость к нему шевельнулась в душе. Он отпустил руку генерала, в упор взглянул в его глаза и, сам не ожидая, холодно сказал:
— Очевидно, вместе.
Решетников ничего не ответил, еще раз, уже суровее и строже посмотрел на Бочарова и обернулся к Велигурову.
— Что ж, Тарас Петрович, в штаб фронта сходим, — по-прежнему стремительно и добродушно сказал он.
Велигуров, к удивлению Бочарова, был совершенно спокоен и даже, кажется, весел.
— Конечно, конечно, — басом прогудел он. — Я вас познакомлю со всеми, а тем временем Андрей Николаевич дела наши подготовит. Дел-то, правда, у нас — всего три папки и два блокнота.
Эта странная, совершенно неожиданная веселость Велигурова удивила Бочарова.
«Чему он радуется? — проводив генералов, думал он о Велигурове. — Это же не просто перемещение, а явное понижение. И не первое, а третье за время войны. Неужели он так безразличен ко всему?»
Возвратился Велигуров еще более веселым. Размахивая руками, он рассказывал Решетникову старинные, давным-давно известные армейские анекдоты, гулко и раскатисто хохотал, покрикивал, торопя с обедом, на своего ординарца и совсем несерьезно, как-то по-мальчишески подмигивал Бочарову. Но как только сели за накрытый ординарцем стол, веселье Велигурова сразу же исчезло.
— Ну, что ж, — подняв рюмку, глухо заговорил он. — Пожелаю вам, Игорь Антонович, удачи и успешной работы. А работа здесь интересная, важная, ответственная. Тут нужно все видеть, все понимать и много, много думать. Думать-то каждый может, а вот по-настоящему, умно размышлять не всякому дано. Да что это я, — словно спохватясь, опять весело улыбнулся он. — Старость, видать, одолевает. Разворчался, рассиропился. Вы не обращайте внимания. За ваши успехи!
Он чокнулся с Решетниковым и Бочаровым, решительно поднес водку к губам, но отпил всего лишь полглотка и рюмку поставил на стол.
Едва притронулся к водке и Решетников. Он подцепил вилкой соленый огурец, вяло прожевал его, снова взялся за рюмку и повернулся к Велигурову.
— И вам, Тарас Петрович, желаю самой большой удачи, — мягко сказал он, открыто глядя в глаза Велигурова.
— Спасибо, дорогой, от души спасибо! — прошептал, тронутый теплым участием, Велигуров, и Бочаров увидел, как подернулись влагой его окруженные морщинами старческие глаза.
— Простите, Тарас Петрович, — доев огурец, заговорил Решетников. — Если вы не возражаете, я вздремну немного. От самой Москвы двое суток без передышки в машине трясся.
— Конечно, конечно, — встрепенулся Велигуров и по своему обыкновению гулко крикнул ординарцу:
— Михайло! Постель генералу!
— Вот и расстаемся мы, Андрей Николаевич, — проводив Решетникова, подсел Велигуров к Бочарову. — Не обижайся только, что и резковат, и грубоват я был. Характер, понимаешь, черт его знает, дурацкий какой-то. И не хочешь, вроде, обидеть человека, а вот нагрубишь, накричишь. Эх, да что там характер! — помолчав, с протяжным вздохом продолжал Велигуров. — Характер-то, он воспитывается, культурой дается, а культура — образованием. А где оно у меня, образование-то? Ты не смотри на меня так удивленно, не думай, что расхлюпался старик от обиды за понижение. Нет, милок, не обида это. Обижался я раньше, да еще как! Помню, летом сорок первого с армии на корпус меня перевели. Ох, и постыло мне было, чуть последние волосы на голове не вырвал. А потом и корпус отобрали. Тут я просто-напросто решил, что подсиживает кто-то, подкапывается. Злился страшно, на весь белый свет обижался. А теперь вот ни капельки и не злюсь и не обижаюсь. Заместителем командира корпуса назначили. Видать, надеются, что я воспряну еще, поднимусь. А чем подняться-то мне: силешки растрачены, годы уплыли. Пятьдесят шестой стукнул. Эх-хе-хе! Андрей, Андрей Николаевич! Мне бы теперь твои годики. Или так хотя бы лет десяток скостить. Все бы по-другому повернул.
Велигуров отхлебнул глоток водки и, не закусывая, прикурил папиросу, еще ближе придвинулся к Бочарову и совсем тихо, опустив голову и положив на стол пухлые, волосатые руки, продолжал:
— Как у меня здорово шло. Всю империалистическую солдатом рядовым оттрубил, перед революцией с большевиками пошел. Да и с кем же мне больше идти-то было? Не с меньшевиками же, не с эсерами, не с буржуями и помещиками. Я же был что ни есть голь перекатная. И отец мой и сам я из батрацкой лямки не вылезали. Вот и пошел за Лениным. Еще при Керенском отряд большевистский сформировал. Сам Подвойский приезжал ко мне, Крыленко не раз заглядывал. А в гражданскую полком, потом дивизией командовал. По каким только фронтам не колесил. И орденом наградили меня, и оружием именным. Гражданскую-то я в больших чинах закончил. Вот тут бы мне и взяться за ум, за учебу настоящую. И не обидно бы, если б не давали учиться. Давали! Заставляли даже, дурака. Сам Михаил Васильевич Фрунзе вызывал. Иди, говорит, на курсы, в академию, учись, ума набирайся. А я куда там, командовать хочу, и так себя грамотным считаю, других на ум наставляю. Вот и донаставлялся! Друзья-то мои по одной, по две академии закончили. Теперь армиями, фронтами командуют…
Велигуров взялся было снова за рюмку, но тут же отставил ее и, встав из-за стола, подошел к окну.
— Нет, — резко обернулся он к Бочарову, — ты не думай, что я завидую. Они по праву, по уму, по культуре своей такие должности занимают. А я? Да какой к черту из меня командующий! Ты вон, чуть минутка свободная вырвалась, за книжку хватаешься, романы даже читать ухитряешься. А я ведь, стыдно сказать, не то, что романа, книжонки паршивенькой не прочел. Инструкции, приказы, наставления, уставы — вот это я читал, ну, газеты еще, да и то через пятое на десятое, больше про дела международные. Ну, ладно, — резко взмахнул он рукой, — хватит хлюпать. Что прошло, того не вернешь. В войска пойду, там я хоть какую-то пользу принесу. Ты, Андрей Николаевич, заглядывай ко мне. Честно говорю — светлая голова у тебя и культура есть. Только смотри не свихнись, книжек не бросай, читай, думай, у других учись, не будь такой дубиной стоеросовой, как я.
За все время, пока говорил Велигуров, Бочаров не мог отвести взгляда от его бледного, с возбужденно-старческим румянцем лица. Из этого разговора он ничего нового не узнал о Велигурове. Он и раньше точно то же думал о нем. Но теперь, когда те же мысли высказал сам Велигуров, Бочаров совсем в ином свете увидел генерала.
— Вы только, Тарас Петрович, — с трудом поборов сдавившее горло спазмы, прошептал Бочаров, — вы только не отчаивайтесь, духом не падайте.
— Что ты, милок, что ты. Разве в такое время можно отчаиваться, руки опускать. Ведь страна-то наша, Родина, все, что таким трудом завоевано нами, в смертельной опасности. Ни один честный человек не может отчаиваться. А я хоть и ошибался, и куролесил, но всегда был настоящим гражданином своей Родины, честным коммунистом.
* * *
Под вечер к Бочарову зашел генерал-майор Решетников. В его сухощавой, по-юношески стремительной фигуре особенно отчетливо выделялись резкие, порывистые движения тонких рук, сопровождавшие каждое его слово.
— Вы изучили последние сведения о противнике? — спросил он, присаживаясь к столу.
— Да. И не только это. Мне кажется, что у противника сил значительно больше, чем предполагает штаб фронта. К тому же силы его непрерывно растут. Вот посмотрите, что было в конце февраля и что сейчас, — развернул Бочаров карту оперативной обстановки.
Решетников цепко впился глазами в цветное поле топографической карты. Его тонкие пальцы, словно ощупывая карту, скользили вдоль линии фронта, что дугой с севера, с запада и с юга огибала Орел, а дальше, западнее Курска, спускалась на юг к Сумам, затем резко снова поворачивала на восток, окаймляла Белгород и по Северному Донцу опять спускалась, оставляя позади, в недалеком тылу противника Харьков. Это своеобразное начертание фронта, где на севере Орел, на юге Белгород и Харьков оставались в руках противника, а советские войска удерживали обширный плацдарм севернее, западнее и южнее Курска, уже получило свое историческое название — Курская дуга.
— Да, положение, конечно, совсем не то, что было полмесяца назад, — не отрываясь от карты, сказал Решетников. — Силы противника удвоились, а может, даже и утроились. Это — не случайность.
— Безусловно, не случайность, — согласился Бочаров. — Но самое главное, мне кажется, еще не это. Смотрите, какие войска сосредоточены в районе Харькова и южнее его. Танковые дивизии СС «Великая Германия», «Адольф Гитлер», «Мертвая голова», «Викинг», «Райх». Это же главная ударная сила Гитлера.
— Да, да, — подтвердил Решетников. — Всю войну Гитлер бросал эти дивизии туда, где решалась главная задача. Видимо, так обстоит дело и сейчас. Поэтому возникает вопрос: стоит ли нам развертывать наступление с целью разгрома гомельской и харьковской группировок противника? — продолжал он, словно рассуждая сам с собой. — Ну, ударим мы, ну, прорвем оборону, а потом столкнемся с крупными танковыми силами, и начнется затяжная, кровопролитная борьба. И борьба не в обороне, не в окопах и траншеях, а на чистом поле, в неравных условиях. Наши войска к этому времени, несомненно, устанут, ослабнут и мы окажемся в явно невыгодном положении.
Голос Решетникова окреп, движения стали спокойнее, и Бочаров увидел в нем совсем не того человека, каким представил его в первой встрече.
— А как вы думаете, Андрей Николаевич? — подняв глаза на Бочарова, спросил Решетников.
— Нам известны пока только номера дивизий противника, но мы не знаем их состава. Поэтому окончательные выводы делать пока трудно. Едва ли у противника после столь тяжелого отступления от Волги вот сюда, к Белгороду, за Курск, могут быть полностью укомплектованные дивизии.
— Верно, совершенно верно, — согласился Решетников и тут же, резко изменив тон, воскликнул:
— Но мы знаем и другое: наши дивизии и корпуса тоже не укомплектованы, тоже устали и измотаны после тяжелых боев.
— Да, это, несомненно, так.
— А отсюда вывод, — продолжал Решетников, — в смысле укомплектованности, а также боеготовности и противник и мы находимся в равном положении. Значит, преимущество будет на стороне того, кто сможет быстрее и лучше укомплектовать свои войска. На это потребуется месяца два-три, а может, и больше.
— Наступать можно, и не ожидая полного укомплектования дивизии, — возразил Бочаров.
— Конечно, можно, — подтвердил Решетников. — Мы даже под Москвой и на Волге перешли в наступление, имея очень большой некомплект в людях и технике.
— Значит, если противник готовится к наступлению, то удар его нужно ожидать в любое время.
— Именно. В любую минуту. Может, даже сейчас, когда мы с вами спокойно обсуждаем обстановку, его войска выдвигаются в исходное положение для наступления. Вот видите, — услышав телефонный звонок, улыбнулся Решетников, — сейчас кто-нибудь объявит: фашисты перешли в наступление. Да. Слушаю, я Решетников, — заговорил он по телефону, — иду. Командующий фронтом вызывает, — положив трубку, сказал он Бочарову и стремительно вышел из комнаты.
Оставшись один, Бочаров присел к столу и вновь всмотрелся в исчерченное поле карты оперативной обстановки. Особенно отчетливо выделялись на ней синие окружья вражеских дивизий и огромная в виде сплющенной подковы дуга, окаймлявшая Курск с севера, с запада и с юга. В этой подкове размером до 200 км по длине и столько же по ширине краснели номера воинских соединений Центрального и Воронежского фронтов. Сосредоточения вражеских войск словно придвигались, наползали с севера со стороны Орла и с юга от Харькова и Белгорода к основанию Курской дуги.
«Что будет, если гитлеровцы действительно ударят на Курск со стороны Орла и Белгорода? — раздумывал Бочаров. — Что предпринять, чтобы отразить эти удары?»
Выводов напрашивалось несколько. Можно было создать глубокую, сильную оборону, встретить фашистское наступление мощью огня и заграждений, остановить его, а затем перейти в контрнаступление и повернуть гитлеровцев вспять. Но создать неприступную оборону в один день и даже в одну неделю почти невозможно. Нужно время, и много времени. К тому же еще не наступила весна, земля скована морозом, и, чтобы отрыть простой окоп, нужно долбить ее ломами и кирками.
Можно было поступить и по-другому. Сосредоточить войска и нанести упреждающий удар по фашистским дивизиям, которые еще не успели сосредоточиться, застать их врасплох, разгромить поодиночке и тем сорвать вражеское наступление. Но крупную ударную группировку в один день не сосредоточишь. Опять нужно время. А если наступит ранняя весна, растают снега и все эти бесчисленные балки и овраги, которых так много в районе Курска, Белгорода и Харькова, наполнятся водой, то они станут почти неприступной преградой на пути наступающих войск. Что же можно предпринять? Как лучше поступить?
Бочаров так глубоко ушел в раздумья, что не заметил, как вошел Решетников и остановился позади него. Генерал с любопытством смотрел на склонившегося над картой полковника и чему-то улыбался.
— Андрей Николаевич, — тихо окликнул Решетников.
— Вы, товарищ генерал? — встрепенулся Бочаров.
— Игорь Антонович, — мягко поправил его Решетников и присел к столу.
— Так вот, Андрей Николаевич, — продолжал он, глядя прямо на Бочарова, — две самых важных вести. Первая — Ставка Верховного Главнокомандования ввиду того, что противник начал сосредоточение крупных группировок войск в районе Харькова и Орла, наступление наших Центрального и Воронежского фронтов признала нецелесообразным и отменила операцию. Вторая — генерал Ватутин с целью срыва сосредоточения вражеской ударной группировки в районе Харькова и Белгорода предложил нанести упреждающий удар и уничтожить фашистские войска на белгородско-харьковском направлении. Это предложение послано на утверждение Ставки.
— Значит, упреждающий удар? — переспросил Бочаров.
— Да, упреждающий удар, — подтвердил Решетников.
Глава шестая
Командующий группой немецких армий «Юг» фельдмаршал Фриц Эрих фон Манштейн стоял у окна своего просторного кабинета в Запорожье и задумчиво смотрел на вихрящиеся снежинки разгулявшейся метели. Несмотря на свои пятьдесят шесть лет, до самого последнего времени фельдмаршал чувствовал себя бодро и уверенно. Тридцатисемилетняя служба в немецкой армии от кандидата в офицеры в 1906 году через должности взводного командира, батальонного и полкового адъютанта, начальника штаба дивизии, офицера оперативного отдела военного министерства, начальника оперативного отделения генштаба, командира дивизии, начальника штаба группы армий до командующего огромной массой войск, объединенных в группу армий «Юг», вознесли его на вершину военной славы. Но в последний год престиж фельдмаршала начал тускнеть. Хоть и называли его творцом плана блестящей французской кампании 1940 года, героем Крыма, но война с Россией затмила победу Германии над Францией, а Крым, как отчетливо понимал и сам фельдмаршал, и высшие чины в Германии, был не столько триумфом немецкой армии, сколько ее поражением. Еще тогда, под гром восхвалений и лести, фельдмаршал впервые задумался о последствиях войны с Советским Союзом. Крым немцам стоил дороже того военного, политического и экономического значения, которое он имел. Но фельдмаршала, героя Крыма, вызвал Гитлер и поставил новую, как он говорил, самую почетную задачу: уничтожить, стереть с лица земли непокорный Ленинград с его жителями и защитниками. Воспрянув духом, полный беспощадной решимости, отбыл фельдмаршал к новому месту службы. Но едва прибыл он к немецким войскам, окружившим Ленинград, как грянул гром на другом фронте. Советские войска нанесли сокрушающие удары на Волге и огненным кольцом стиснули армию Паулюса.
Гитлер снова вызвал Манштейна и приказал любой ценой вырвать из окружения немецкие войска. На всю жизнь запомнил Манштейн продуваемые декабрьскими ветрами степи между Волгой и Доном. Ни его тридцатисемилетний военный опыт, ни категорические приказы Гитлера, ни фанатическое упорство немецких солдат не могли спасти обреченные на разгром войска Паулюса. Ударная группировка Манштейна не только не смогла прорваться к окруженным войскам Паулюса, но, получив сокрушительный удар от советских гвардейцев, покатилась назад и, оставив огромную территорию, только с помощью спешно переброшенных резервов смогла укрепиться на берегах Северного Донца и Миуса.
Сам Манштейн со своим штабом, беспрерывно меняя места расположения, перекочевал в Запорожье. И вот теперь здесь, на берегу Днепра, в тиши далекого тыла, Манштейна охватили тяжелые раздумья.
«Две кампании, почти два года войны не привели к разгрому Советского Союза, — с горечью констатировал фельдмаршал. — Из Подмосковья, от Волги, от Кавказских вершин немецкие армии откатились на сотни километров назад, потеряв сотни тысяч солдат и пролив реки крови. А силы русских все возрастают и возрастают».
— Должны же, в конце концов, иссякнуть силы русских! — в исступлении воскликнул Манштейн.
Но, вспомнив Крым и Задонские степи, фельдмаршал затих. Только теперь, после мучительных раздумий, к нему пришел окончательный и ясный вывод: добиться победы над Советским Союзом невозможно. Но что же делать? Отступить, признать себя побежденным — это значит впустить советские войска в Германию.
«Нет, — думал Манштейн, — перед нами противник и наша задача остановить его перед границами Германии. Выход только один: нужно добиться ничейного исхода войны, добиться хотя бы сепаратного мира, сыграть вничью. Но русские не пойдут на ничейный исход войны. Их нужно заставить, вынудить согласиться. А это возможно лишь в том случае, если русские ослабнут, силы их иссякнут и они не смогут провести решающего наступления. Нужно добиться хотя бы равновесия сил на востоке. Значит, нужно нанести русским тягчайшие поражения, тогда только возможен ничейный исход войны».
С этого момента Манштейном властно овладела идея ничейного окончания войны. Весь свой огромный военный опыт, всю непреклонность, твердость и беспощадность своего характера вложил он в претворение этой идеи в жизнь.
«Конечно, наиболее решительное поражение можно нанести только наступлением, — рассуждал он. — Но для наступления с далеко идущими целями, как мы делали это в прошлом, у нас в сравнении с противником сил недостаточно. Видимо, оборона — теперь наша вынужденная необходимость. Если Советы намерены изгнать нас из своей страны и ворваться в Германию, то пусть они сами несут всю тяжесть потерь в наступлении, в котором они должны истечь кровью. Но будут ли русские наступать этой весной? Не решат ли они подождать, усилить свои группировки и посмотреть, когда их союзники действительно откроют не мифически-пресловутый, вроде Северной Африки, а настоящий второй фронт? Русские вполне могут применить тактику выжидания, а чтобы сохранить свой престиж и сковать немецкие войска на востоке осуществить ряд ударов небольшими силами. В конечном итоге это может привести Германию к войне на два фронта. А это гибель Германии. Вот поэтому мы и не можем применить чистую оборону, нечто вроде позиционной войны. Да и для создания прочной обороны на востоке, от Черного моря до Ледовитого океана, у нас просто дивизий не хватит. Тридцать две дивизии моей группы армий держат фронт в семьсот шестьдесят километров. Двадцать четыре километра на дивизию! Разве такой обороной можно отразить мощный удар русских. Если мы перейдем к обороне, то соотношение сил даст возможность русским создавать превосходство на выгодных для них участках, окружать нас или заставлять отступать.
Нет! Оборона не приемлема! Наоборот, мы должны, в общем обороняясь, нанести русским мощные удары на остальных участках, которые привели бы их к значительным потерям и в конечном итоге создали условия для ничейного исхода войны. Русские едва ли будут ждать открытия второго фронта. Им, как воздух, нужен Донбасс, они будут наступать, обязательно будут, и, всего вероятнее, как только закончится весенняя распутица. Их главные удары несомненно будут нанесены в Донбассе, в районе Харькова. Мы должны выждать наступления русских, измотать их, завлечь в ловушку, а затем нанести сокрушительный ответный удар и смять все их войска. Только ни в коем случае не допускать втягивания наших войск в затяжные истребительные бои. Как только русские перейдут в наступление, нужно сдерживать их малыми силами, наносить поражения авиацией и артиллерией, а главные силы отвести к Днепру. К этому времени все танковые дивизии сосредоточить в районе Сум. Русские непременно ринутся к Днепру и попадут в ловушку. А мы из Сум огромной массой танков ударим им во фланг и тыл, захлопнем ловушку, и это будет началом ничейного конца войны».
В конце февраля 1943 года Манштейн разработал подробный план заманивания советских войск в ловушку между Харьковом и Днепром с последующим нанесением им сокрушительного ответного удара и представил его на рассмотрение Гитлера.
Глава седьмая
Павел Круглов долго не мог понять, что произошло в то утро, когда он, раздавленный болезнью и истощением, уже совсем отрешаясь от жизни, один остался в бараке военнопленных, ожидая, когда схватят его за ноги и поволокут к тем ямам за проволокой, где добивали обессилевших. Вначале гнетущую тишину барака взорвало несколько гулких выстрелов, потом совсем недалеко затрещали автоматные очереди, и сразу же по всему лагерю загомонило множество голосов. Чему-то радуясь и крича, в барак вбежали пленные с палками, топорами, а некоторые с винтовками и автоматами.
— Кто с оружием — к воротам! — перекрывая шум, разносился властный и торжествующий голос Васильцова. — Безоружным забрать больных и в лес!
Несколько рук подхватили Круглова, положили на что-то мягкое, и он плавно закачался, теряя сознание. В моменты просветления он слышал не то автоматные, не то пулеметные очереди, чувствовал обжигающий холод и опять погружался в пучину забытья.
Первым, что реально осознал Круглов, было нежное, ласковое тепло, наплывавшее на него со всех сторон. Открыв глаза, он увидел накат сосновых бревен вверху, такие же бревна по сторонам и узкое оконце, откуда лился золотистый поток веселого света. От нахлынувшей радости Круглов приподнялся и тут же упал. По всему телу вновь разлилась боль, но уже не прежняя — тупая, все разламывающая, а боль острая, перехватившая дыхание, но тут же ослабшая, словно вспыхнувший и погасший огонь.
— Лежите, лежите, Круглов, — проговорил ласковый и теплый голос. — Вы же совсем недавно заснули.
«Я недавно заснул! — удивленно подумал Круглов. — Когда же заснул, я и не просыпался вовсе».
Он послушно лег, теперь уже чувствуя и руки, и ноги, и удивительно мягкую постель, и всего-всего самого себя, совсем живого, совсем не такого, каким был раньше.
— Выпейте вот, — проговорил все тот же, теперь уже явно женский голос, и Круглов поймал губами ложку с горьким лекарством. В голове постепенно прояснилось, но тело опять размякло от нахлынувшей боли. Он лежал на спине, не имея сил пошевелиться, и мучительно соображал, где же он и что с ним.
— Где я? — собрав все силы, с трудом прошептал он.
— Лежите, лежите, не волнуйтесь, — успокоил его женский голос, — вы в госпитале, в партизанском.
«В госпитале, в партизанском, — мысленно повторил Круглов. — Жив, значит, уцелел».
Эта мысль мгновенно придала ему силы. Он повернул непослушную голову и, увидев сидевшую рядом женщину в белом халате, попросил:
— Сестрица, может, горяченькое есть хоть что?
— Вот, пожалуйста, — с готовностью ответила женщина. — Какао стаканчик выпейте.
Круглов жадно прильнул губами к сладкой, совсем не знакомой ему жидкости и поспешными глотками выпил весь стакан. На мгновение закружилась голова, но тут же блаженная теплота растеклась по всему телу, и он заснул.
Когда Круглов проснулся, рядом с его кроватью сидел Васильцов. Он был почти не похож на того Васильцова, каким знал его Круглов в плену. Худое лицо его было чисто выбрито; рваную, пропитанную кровью гимнастерку заменили шерстяной свитер и черный пиджак; в серых глазах светились радость и даже озорство.
— Ну, Паша, на поправку пошел ты наконец, — весело заговорил он, взяв горячую руку Круглова. — А мы так волновались за тебя. Шутка ли, второй месяц лежит пласт пластом и в сознание не приходит.
— Степан Иванович, а как же это мы оттуда, из тех бараков вырвались? — спросил Круглов.
— Вырвались, Паша, — нахмурился Васильцов, — дорогой ценой. Больше двухсот человек потеряли. Да каких! Ты лежи, лежи, — остановил он хотевшего было привстать Круглова, — поправишься, все узнаешь. Коротко скажу: мы давно готовились к побегу, ты-то не знал ничего, больно слаб был. У нас в лагере своя подпольная организация сколотилась. В каждом бараке по целой боевой роте сформировали. И оружие кое-какое припрятали. А в тот день, когда ты совсем ослаб, охранники перепились и вконец озверели. Еще как на работу выстраивали, начали наших избивать. Ну, и прорвалось у нас все, что накипело. Пристукнули одного зверюгу, потом другого… С этого и пошло. Терять-то и так нечего. Наше подпольное руководство дало сигнал к восстанию. За полчаса всех охранников переколотили, оружие захватили, подняли всех пленных и двинулись в леса. Фашисты в погоню бросились. Туговато пришлось. Если бы не наши партизаны, всем нам капут… А теперь и мы партизанами стали. Так что, Паша, лежи спокойненько, выздоравливай, сил набирайся…
* * *
Выйдя от Круглова, Васильцов с жадностью вдохнул холодный, но уже напоенный запахами весны, лесной воздух и, хрустя подмерзающим снегом, пошел к своей землянке. На основной базе партизанского отряда, укрытой в чащобе Брянских лесов, было необычайно тихо и безлюдно. Наступило как раз то время, когда партизаны, закончив дневные работы, готовились к ночным действиям. Шел на задание в эту ночь и Васильцов. Только на этот раз задание было необычное, совсем не такое, что приходилось ему выполнять в эти последние полтора месяца, после того, как вырвавшиеся из лагеря военнопленные соединились с партизанским отрядом Бориса Перегудова. В отряде Васильцов стал заместителем командира и «специализировался по части сметания немецких комендатур и застав», теперь же обстоятельства потребовали крутого изменения его специализации.
В конце марта сорок третьего года вокруг советских партизан в Брянских лесах, все нарастая, начали сгущаться грозовые тучи. Немецкие гарнизоны даже в маленьких деревушках были значительно усилены; на железнодорожных станциях почти каждую ночь выгружались все новые и новые воинские эшелоны гитлеровцев; их действия против партизан настолько усилились, что за последние полмесяца не удалось провести ни одной серьезной операции. По всему было видно, что гитлеровцы начинают крупный поход против советских партизан. Особенно остро чувствовал это отряд Перегудова. К тому же совершенно неожиданно порвалась надежная и безупречно действовавшая связь с постоянной разведывательной группой отряда в Орле. Двое связных, посланные в Орел, не вернулись. Бесследно исчезли также связные, отправленные в штаб партизанской бригады и в соседние отряды. Отряд Перегудова оказался изолированным от внешнего мира. Нужно было восстанавливать связи и в первую очередь с разведгруппой в Орле, которая всегда снабжала отряд самыми свежими и достоверными данными о намерениях гитлеровцев. Разведгруппа добывала их не из случайных источников, а непосредственно из штаба 9-й немецкой армии генерал-полковника Моделя, той самой армии, которая занимала большую половину орловского плацдарма и командующий которой был безграничным хозяином всего участка фронта.
Васильцов сам вызвался пойти в Орел, но командир и комиссар отряда долго не решались отпустить его на столь рискованное дело. Только угрожающая неясность обстановки и хорошее знание Васильцовым Орла и прилегающих к нему районов вынудили их пойти на крайность.
До выхода из лагеря оставалось около часа. Васильцов зашел в свою землянку, взглянул на уснувшего Перегудова и присел к столу. Лучи предзакатного солнца косо били в оттаявшее окно, и от этого вся землянка словно помолодела.
Васильцов неторопливо достал и в сотый, кажется, раз перечитал первое и единственное за последние восемь месяцев письмо от жены и детишек, полученное уже в партизанском отряде. Письмо было длинное-длинное, на целых четырнадцати страницах, и каждая его буковка открывала Васильцову целый мир радостных чувств. Особенно волновало то место, где, размытые во многих местах каплями слез, кривые строчки рассказывали о том, как получив из воинской части извещение о гибели Степана в боях под Курском, жена и дети не поверили этому и настойчиво ждали хоть какой-то весточки от него.
«Милые вы мои, — как и всегда, читая это место, растроганно думал Васильцов, — великое спасибо вам за то, что верите в мои силы, что так упорно ждете меня. Я вернусь к вам, все пройду, все преодолею, но все равно вернусь!»
Увлеченный письмом, Васильцов не заметил, как проснулся Перегудов и, поднявшись с нар, встал позади него. Он долго молчал, не желая мешать Васильцову, потом взглянул на часы, приглушенно вздохнул и присел к столу.
— Вот, Борис Петрович, — свернув письмо, вполголоса сказал Васильцов, — сохрани до моего возвращения. Это у меня сейчас самое дорогое.
— Сохраню, — так же вполголоса ответил Перегудов и старательно уложил письмо в карман гимнастерки.
— Ну, Степан Иванович, — помолчав, сказал Перегудов, — ждем тебя через неделю, ровно через неделю и ни часом позже.
— Теперь уже не Степан Иванович, — усмехнулся Васильцов, — а житель славного города Киева Алексей Мартынович Селиванов, агент по закупке пушнины знаменитой фирмы «Ганс Штейман и сыновья».
— Да, да, — взахлеб засмеялся маленький Перегудов. — Ты хоть на шапку мне пару овчинок цигейковых раздобудь. А то на все Брянские леса позор: командир такого отряда, вроде генерал по чину, а шапка, что у солдата рядового.
— Что шапка, — так же смеясь, воскликнул Васильцов, — я тебе шубу доподлинно боярскую привезу, из соболей, из горностаев, ну уж на худой конец из шкуры медвежьей.
— Нет, шубу такую не желаю. Зазнаюсь еще, заважничаю. Да и росточек мой для боярской шубы не подходящ.
— Наоборот, шуба враз солидности прибавит, а то что это за командир: ходит в шинелишке какой-то обтерханной, ни виду, ни важности.
Шутливо переговариваясь, Васильцов и Перегудов изучающе смотрели друг на друга.
«Веселиться-то веселишься ты, — думал Перегудов, — но сам-то отчетливо знаешь, что может выпасть на твою долю. И это хорошо, потому и верю тебе. Понимаешь все, оцениваешь здраво и не волнуешься прежде времени».
«Правильно поступаешь, Борис Петрович, — мысленно одобрял поведение Перегудова Васильцов. — Не читаешь нравоучений и наставлений. Значит, душой веришь мне, надеешься, что не подведу. И надейся, твердо верь: все, как говорят военные, будет в порядке».
— Ну, Борис Петрович, — резко встал он и протянул руку Перегудову. — Мне пора. Смеркается уже, а к рассвету я должен быть на железнодорожной станции.
— И начать скупать пушнину, — отвечая на пожатие руки Васильцова, засмеялся Перегудов.
— Вот именно! Пух-перо из штаба генерал-полковника фон Моделя.
* * *
Придавленный фашистской оккупацией Орел выглядел совсем не таким, каким знал его Васильцов до войны. По внешнему виду, по движению на улицах это был не обычный город, а какое-то военное поселение, сплошь наполненное солдатами и офицерами немецкой армии. На тесном, переполненном вокзале, на старых, с выбитым булыжником улицах, на редких бульварах и в скверах, у подъездов домов и на перекрестках — везде и всюду темнели, желтели, отливали серебром мундиры, шинели и фуражки с фашистскими знаками и эсэсовскими повязками. Среди этого скопища военщины робким светлячком в ночи изредка мелькали и тут же исчезали одинокие фигуры гражданских. Даже городской рынок, такой же шумливый и многолюдный, как и прежде, и тот кишел немецкими солдатами.
Васильцов проскользнул в дальний угол рынка и сразу же узнал так хорошо описанную Перегудовым явочную квартиру. Это был старый, с облупленной штукатуркой двухэтажный дом, у входа в подвал которого красовалась вкривь написанная на ржавом железе оригинальная вывеска: «Стой, гражданин! Взгляни на свою обувь. Если порвалась, заходи, починим!»
Но хоть у многих орловчан Васильцов видел истрепанную обувь, в сапожную никто не заходил. Местным жителям, видать, было не до обуви.
С полчаса покружив кривыми закоулками вблизи мастерской, Васильцов решительно направился к облупленному дому и вошел в подвал. Еще готовясь к поездке в Орел, он долго раздумывал, как вести себя при встрече с сапожником, и заранее подготовил, что он скажет, если у мастера будут посетители. Но старый, вислоусый, с морщинистым лицом и тусклым взглядом водянистых глаз сапожник, к счастью, оказался один.
Глядя куда-то поверх головы Васильцова, он безразлично выслушал слова пароля, с минуту посидел, о чем-то думая, потом неторопливо встал и, взяв Васильцова за руку, проговорил:
— Пойдемте, товарищ, заждались мы вас. Беда у нас великая.
Он провел Васильцова лабиринтами темных коридоров и, остановясь у какой-то двери, прошептал:
— Всех наших схватили гестаповцы. Только одна связная уцелела. Ниночка Найденова. Да и то потому, что успела у меня спрятаться. Квартиру, где жила она, начисто разгромили. А ко мне-то только она одна ходила, больше про меня никто и знать не знал.
Когда сапожник открыл дверь бледно освещенной комнаты, Васильцов увидел поднявшуюся навстречу ему девушку в старом засаленном ватнике и по-деревенски повязанном грязном порванном шерстяном платке. Какое-то неприятное чувство брезгливости вначале шевельнулось в душе Васильцова, но взглянув в ее большие, в упор смотревшие на него открытые глаза, оно сразу же исчезло, и Степан увидел в ней именно ту Нину Найденову, о которой много рассказывал Перегудов.
— Здравствуйте, Нина, — вполголоса сказал он, вспомнив, что эта самая девушка в засаленном ватнике целых полтора года, выполняя трудную работу судомойки в столовой гитлеровского штаба, делала великое дело советской разведчицы и единственной связной с партизанами.
— Здравствуйте, товарищ, — певуче ответила она, с особой нежностью произнеся последнее слово.
— Измучились вы, устали, — не отпуская ее теплой руки, сказал Васильцов.
— Нет, я ничего, — ответила Нина и, сморщив темное лицо, чуть слышно прошептала:
— Вот наши все — и Люся, и Тоня, и Борис, и Валя — все арестованы. Непонятно как-то, — виновато глядя на Васильцова, громче продолжала она. — Работали, все было хорошо, и вдруг вчера все провалилось. Люсю и Тоню — они были официантками — в столовой схватили, Валю на квартире, а Бориса — водовозом он работал — во дворе, только с реки приехал. Мне наш повар шепнул: «Убегай, Нинка, тебя ищут». Я через двор, в огороды выскочила, к Оке сразу, там в домике у одной старушки жила. Пробралась садом, посмотрела на домик и похолодела вся. Машина стоит, черная, гестаповская и эсэсовцы ходят. Куда деться? Я сразу сюда вот, к Ивану Семеновичу, — кивнула она головой в сторону сапожника. — Вот и сижу тут. А у меня же сведений много, утром вчера Борис передал, чтобы сюда, к Ивану Семеновичу отнести. Вот все написано тут, — протянула она Васильцову свернутую бумагу. — А на словах Борис приказал передать, что фашисты готовят наступление против партизан. Сам Модель, как говорят немецкие офицеры, руководить будет. Начисто грозятся брянские леса стереть и партизан всех уничтожить.
Васильцов развернул поданную Ниной бумагу и, вчитываясь в бисерные строки, еле сдерживал радость. На крохотном листочке были перечислены все немецкие воинские части и соединения, занимающие орловский плацдарм.
— Да это же, — не удержался он от восклицания, — да это же, Ниночка, такие сведения…
— Девушки наши — Люся, Тоня, Валя, — это они все выведали, а Борис собрал все вместе, — с едва заметной гордостью сказала Нина и, опять помрачнев, горестно добавила:
— Погибнут они. Замучают гестаповцы.
Васильцов хотел было успокоить ее, сказать, что еще не все потеряно и арест может быть случайным, но взглянув в ее влажно блестевшие глаза, не смог выговорить ни одного слова.
— Товарищ, — после горестного молчания робко спросила Нина, — а вы были там, за линией фронта, в Красной Армии?
— Был, — ответил Васильцов, не понимая цели ее вопроса.
— А случайно, может, — еще робче продолжала расспрашивать Нина, — не приходилось вам встречать… слышать, может… Поветкин… Сергей… Командир он… Старший лейтенант был…
— Поветкин… Сергей, — повторил Васильцов. — Нет, Ниночка, не доводилось ни встречать, ни слышать…
Глава восьмая
Дряхлый, во многих местах прошитый пулями вагон натруженно скрипел, качался, лязгал разболтанными буферами и надоедливо стучал колесами на стыках рельс. Вместе с вагоном плавно раскачивались двухъярусные нары, железная печь-времянка и все три десятка молодых солдат, шестые сутки томившихся в этом жилье на колесах. Давно были перепеты все известные песни, давно рассказаны занимательные и скучные истории, и наступило то нетерпеливо-нервное ожидание, которое охватывает людей, едущих неизвестно куда, но знающих, что впереди их ждут трудные и опасные дела.
В распоясанных гимнастерках, без ушанок, многие в одних чулках и подвязанных портянках, солдаты лежали и сидели на дощатых нарах, подбрасывали в печку дрова, грудились у распахнутой двери, тоскливо глядя на проплывавшие мимо едва очистившиеся от снега, залитые водой унылые поля. Все были молчаливы, задумчивы, видимо, вспоминая то, что осталось позади, и прикидывая, что ждет их впереди. И только один из всех — невысокий, веснушчатый паренек с большими, по-мальчишески оттопыренными ушами и нежным румянцем на курносом лице — был необычайно весел и возбужден. Он разгоревшимися карими глазами восхищенно глядел на мелькавшие мокрые поля, на голые, темные от сырости рощи и перелески, на облупленные железнодорожные будки. Паренёк то высовывался из вагона, жадно глядя назад, то вновь садился у двери, приглушенно вздыхая и мечтательно улыбаясь.
— Тамаев, это родина твоя? — видимо поняв состояние паренька, спросил кто-то с верхних нар.
— Родина, — протяжным вздохом ответил паренек.
— Родился тут, Алеша, да? — настойчиво переспросил совсем маленький, худенький, с остроскулым, почти черным лицом Ашот Карапетян.
— И родился, и рос, и учился! — стиснув плечи Карапетяна, выкрикнул Алеша. — Вот там дом наш, километров шестьдесят отсюда. На самом берегу Оки, у воды, как говорят у нас.
— А мой родина, ой, далеко! — шумно вздохнул Ашот. — Черное море знаешь? Вот там! Тоже у вода, только вода у нас соленый, соленый! И много вода, ой как много! Сколько ни смотри — край не увидишь!
Этот разговор словно всколыхнул всех. На нарах, у погасшей печки, у распахнутой двери наперебой загомонили звонкие и хриплые голоса, мечтательно заблестели десятки глаз, дробью рассыпался радостный смех, и весь вагон наполнился веселым, праздничным гулом.
Стиснув плечи Ашота, Алеша смотрел в дверь вагона и ничего определенного не видел. Он не заметил, как вначале тихо, а затем все громче и слышнее запел полюбившуюся ему фронтовую песню.
«Темная ночь, только пули свистят по степи», — бессознательно, тоненьким голоском выводил он, видя самого себя в бескрайней снежной степи и всем своим существом по-настоящему ощущая угрожающий свист вражеских пуль.
«Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают», — так же бессознательно продолжал Алеша, слыша и вой ветра, и свист пуль и видя перед собой далекие, холодные отблески звезд.
Он опомнился, когда песню подхватило несколько голосов, и Ашот, встряхивая его за плечи, жарко шептал на ухо:
— Душевно поешь, Алеша, очень душевно, слеза катится, сердце стучит! Давай дружить, Алеша, на всю жизнь! Как закон скажу: на Ашот надейся, никогда не подведет. Давай вместе проситься будем, к один пулемет. Ты наводчик, а я помощник, ой, как дела творить будем! Держись, фашист, твой капут пришла! Давай дружить, Алеша!
— Давай! — прошептал Алеша, продолжая петь так же вдохновенно и почти бессознательно.
«В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь», — замирая от нахлынувших чувств, выводил он, хотя не было у него ни любимой, ни тем более детской кроватки.
Внезапно песня оборвалась, и тут только Алеша увидел, что поезд подошел к большой станции и остановился.
По мокрой и грязной платформе суетливо бегали солдаты, тревожно осматривалась по сторонам какая-то женщина в огромной черной шали, в поисках пищи шныряла между людьми худая облезлая собачонка. К вагону подходил сопровождавший команду пополнения лейтенант. За ним вразвалку вышагивал коренастый солдат в серой десантной куртке, с объемистым вещмешком за спиной и с каким-то длинным свертком в руках.
— Сюда садитесь, — остановясь у распахнутой двери вагона, сказал коренастому лейтенант. — А вы потеснитесь немного, освободите место товарищу, — добавил он, глядя на сидевших в вагоне, и ушел.
— Здорово, орлы! — одним махом ловко вскочив в вагон, резко выкрикнул коренастый и, вытянувшись, как перед большим начальством, тем же резким, звонким голосом представился:
— Еще пока не гвардии рядовой Гаркуша, Потап Потапович, от роду тридцать пять лет, ни дома, ни хаты нет, никогда не было и, видать, не будет. О-о-о! — озорными глазами осматривая примолкших молодых солдат, насмешливо протянул он. — Я думав, це — орлы-гвардейцы, а бачу не орлов, а сусликов. Здорово, суслики! — вновь как в строю, строго вытянувшись, выкрикнул он. — Мовчат! — словно обращаясь к кому-то, удивленно осмотрелся он по сторонам. — Скажите на милость, мовчат! Та щож це такэ! Та хто ж вы такэ, а? Га! А ну вот ты, — повернулся он к Алеше. — Кто ты такой будешь? Га?
— Станковый пулеметчик, — смущенно пробормотал Алеша, невольно сробев под наглым напором Гаркуши.
— Кто, кто? — сморщив полное, с густыми сросшимися бровями и длинным, изгорбленным носом лицо, едко переспросил Гаркуша. — Кулэмэтчик, говоришь? Та якой же з тэбэ кулэмэтчик! Кулэмэтчик это ж грудь — сажень, рост — пид потолок, глаза — огонь и голос, як труба военная. А ты ж кирпатый, та ще курносый, та й росточек, як у того школяра, что матка по утрам пирожками пичкае.
— Ви вот что, — вдруг выскочил из-за Алешиной спины и ринулся на Гаркушу Ашот. — Ви грубиян, ви нахал, ви плохой человек…
— Стой, стой! — невозмутимо проговорил Гаркуша и, недоуменно разводя руками, обвел всех насмешливым взглядом. — Товарищи дорогие, що ж це получается? Человек в гости к вам пожаловал, а тут на него чуть ли не в штыки. Грубиян, нахал, плохой человек! Як це понимать? Га? Як? Ну, сам ты посуди, — подступил он к Ашоту. — Ты, я бачу, кавказский человек, а кавказцы гостя никогда не обижают! Так я понимаю?
— Ви никакой гость! — кипел возмущенный Ашот. — Ви оскорбитель, ви… ви… — от волнения он никак не мог подобрать подходящего слова. — Ви… Ви совсем нэ наш человек.
— Ну, ты это брось! — согнав улыбку с насмешливого лица, строго сказал Гаркуша. — Человек я на сто процентов с гаком наш. Ты, я вижу, тоже наш. Росточек, правда, подкачал, но це не беда. Пудов пять каши кадровой зьишь и пидтянишься. Как зовут-то? Давай знакомиться, может, вместе кровушку пролить доведется, — миролюбиво протянул он руку Ашоту.
— Карапетян Ашот, — обескураженно пробормотал Ашот и нехотя пожал руку Гаркуши.
— И ты не обижайся, — подошел Гаркуша к Алеше. — Ишь як щеки-то полыхают, сразу видать — с характером парень!
От возмущения и обиды Алеша давно намеревался сказать что-нибудь резкое, но сейчас под мягким взглядом подобревших глаз Гаркуши растерялся и бессвязно пробормотал:
— Я что… Я не обижаюсь… Я так…
— О це друга справа! — воскликнул Гаркуша и пошел по вагону, пожимая руки молодых солдат.
Сколь ни резко изменилось поведение Гаркуши, Алеша никак не мог успокоиться и, досадуя на свою растерянность, озлобленно кусал губы. Приход Гаркуши и особенно его нахальство и грубость мгновенно рассеяли чудесное настроение Алеши, и от этого ему стало грустно, тоскливо, как часто бывало с ним, когда в его жизни случались какие-нибудь неприятности. Он забрался на свое место на верхних нарах, с головой накрылся шинелью и пытался ни о чем не думать.
— Не надо, Алеша, — подсев к нему, шептал Ашот. — Не надо волноваться.
— Нет, Ашот, я не волнуюсь, — тронутый заботливым участием друга, проговорил Алеша. — Я так просто, устал что-то, — соврал он, — отдохнуть решил, поспать немного. И ты полежи. Может, скоро выгружаться будем, а там знаешь, не до сна…
* * *
Очнулся Алеша от множества голосов и звонких, режущих слух команд:
— Собирай вещи! Выходи строиться! Быстрее!.. Не задерживаться!..
Алеша кубарем скатился с нар, поспешно надел шинель, подпоясался, схватил тощий вещмешок и выпрыгнул из вагона. На железнодорожной платформе толпились и беспорядочно сновали солдаты, изредка мелькали, что-то командуя, озабоченные офицеры. Внимание Алеши невольно приковало разрушенное, очевидно когда-то большое и красивое кирпичное здание. От него сохранился только один угол кирпичных стен первого и второго этажей, а все остальное грудой кирпича с торчащими балками и толстыми змеями проводов рухнуло вниз. В уцелевшей части виднелись пустые прямоугольники высоких окон и дверей, выбитым глазом темнела круглая коробка электрических часов с одной-единственной цифрой «восемь» и остановившейся на этой цифре искореженной стрелкой.
— Город Курск. Московский вокзал, — с протяжным вздохом сказал кто-то рядом. — Какой был красавец! Залюбуешься и глаз не оторвешь. А теперь…
— Война! — с таким же горестным вздохом ответил второй.
«Война», — мысленно повторил Алеша и впервые в жизни вздрогнул от этого страшного слова.
— Алеша, — подбегая к нему, прокричал Ашот, — строиться пошли. Наши стоят все, один тебя нет.
Вся команда пополнения действительно уже выстроилась. К счастью, начальник команды о чем-то говорил с окружившими его старшинами и сержантами, и Алеша с Ашотом незаметно пристроились на самом левом фланге.
Вскоре раздалась команда «Равняйсь!», потом «Смирно!», «Направо!», и колонна по колдобинам разбитой дороги двинулась в город. И справа, и слева темнели развалины, валялись горелые и разбитые машины, круглились бесчисленные залитые водой воронки от снарядов и бомб. Солдаты шли молча, понуро рассматривая горестные остатки разрушенной железнодорожной станции и поселка около нее. Алеша ожидал, что за станцией развалины кончатся и начнется настоящий город, но прошли уже с полкилометра, спустились по косогору к грязным водам реки, а следы страшного опустошения не исчезали. Прямо на вывернутых, искореженных рельсах свалился набок исклеванный пулями и осколками трамвайный вагон. Рядом с ним уткнулся радиатором в землю сгоревший грузовик. Еще дальше, среди бесформенных груд разрушенных домов дико и странно белели остовы русских печей с высоко поднятыми вверх закопченными трубами. Переломившись надвое, рухнули в реку фермы большого железного моста. И на другом берегу, где расположился Курск, на каждом шагу зияли, грудились, кричали своим безобразным видом страшные язвы войны.
Замыкая строй, Алеша всеми силами старался шагать в ногу, но от волнения, от охватившей его растерянности при виде этих опустошений часто сбивался с ноги, отставал, опомнясь, догонял строй и снова, уйдя в свои мысли, отставал.
Наконец мучительный путь кончился. Город остался позади, и колонна остановилась в реденькой, голой роще. Услышав команду «Вольно!», Алеша облегченно вздохнул и впервые осмысленно посмотрел на своих товарищей. Рядом стояло несколько солдат, ехавших с ним в одном вагоне, большинство же было ему незнакомо. Пытливо осматривая строй, он даже самому себе не мог признаться, что не просто смотрит на товарищей, а отыскивает Гаркушу. Но Гаркуши вблизи не было. Это так обрадовало Алешу, что он невольно улыбнулся и шутливо толкнул Ашота в бок.
— Видал, куда завезли нас, аж в сам город Курск, — весело сказал он настороженно смотревшему Ашоту.
— Курск, Курск, — горячо отозвался Ашот, — мой мать говорил: от нас в Москва едешь, Курск никак не проедешь. А теперь куда мы, куда, Алеша, а? — тревожно спросил Ашот.
— Ну, куда, — замялся Алеша. — В подразделения, наверно, в роты, в батальоны.
Разговор друзей прервала звонкая команда «Смирно!». Строй замер, и тот же звонкий голос скомандовал:
— Радисты, четыре шага вперед!
В разных местах от строя отделилось несколько солдат-радистов и под командой старшины ушли в глубину леса. Вслед за радистами туда же отправились и телефонисты, потом шоферы, артиллеристы, саперы, минометчики, бронебойщики. С каждой новой командой строй все редел и редел.
«А нас куда же?» — тревожно думал Алеша, ожидая, когда вызовут станковых пулеметчиков. От напряжения одеревенело все тело, нестерпимо хотелось пошевелить руками, переставить ноги, но Алеша, собрав все силы, крепился.
— Станковые пулеметчики, четыре шага вперед! — прокричал наконец начальник команды, и Алеша, не чувствуя своего тела, торопливо вышел из реденького строя. Он слышал, как левее прошагал Ашот, а взглянув вправо, увидел коренастую фигуру Гаркуши.
«Неужели вместе будем?» — цепенея от неожиданности, подумал он и не расслышал новой команды.
Глава девятая
В расстегнутой гимнастерке и разбитых валенках на босую ногу, Бондарь сидел в жарко натопленной избе и, млея от благодатного тепла и долгожданного отдыха, то дремал, закрывая глаза, то неотрывно смотрел на полыхавшие дрова, обрывками вспоминая, что было за эти последние восемь месяцев, и пытаясь представить, что будет дальше в эту раннюю весну 1943 года.
Лично его жизнь, как считали многие, сложилась весьма удачно. Всего за каких-то полгода он стал командиром стрелкового батальона, капитаном, кавалером орденов «Красное Знамя» и «Красная Звезда». Пройдя сквозь огонь ожесточенных боев, он был всего лишь дважды легко ранен и в свои двадцать шесть лет выглядел сильным, здоровым, в полном расцвете сил мужчиной. Да и с семьей у него обстояло все благополучно. Хоть и оставалась она за линией фронта, но была не в оккупации, а в партизанском крае, среди друзей и родственников, всем селом ушедших в партизаны.
Однако сам Бондарь почти никогда не был доволен собой. Это внутреннее недовольство особенно усилилось после назначения командиром стрелкового батальона. Что бы ни делал он, ему всегда казалось, что поступает не так, как поступил бы более опытный командир; принимая даже пустячное решение, он мучительно раздумывал, перебирая различные варианты и, даже решив и отдав приказ или распоряжение, он вновь и вновь все передумывал, сомневаясь в правильности своих действий.
В минуты особенно острых раздумий ему часто казалось, что будь он грамотнее, опытнее, батальон не понес бы таких потерь и не был бы первым в полку отведен в тыл на переформирование.
Эти постоянные сомнения в самом себе заставляли его десятки раз перечитывать уставы и наставления, исподволь, но упорно и настойчиво расспрашивать товарищей, пристально и ревниво следить за действиями и поступками других командиров.
Наиболее тщательно изучал он действия Черноярова. Несмотря на то, что теперь Чернояров и по званию и по должности был ниже самого Бондаря, Бондарь все же продолжал видеть в нем не командира роты, не старшего лейтенанта, а командира полка, майора, опытного, много знающего и умеющего делать все быстро, точно и правильно.
Вторым, кого Бондарь брал за образец настоящего командира, был майор Поветкин. По своим действиям и поступкам он нисколько не походил на Черноярова. Никто еще в полку не слышал, чтобы Поветкин, даже в невыносимых условиях, ругался, кричал, нервничал, как часто случалось с другими командирами. Всегда он был спокоен, рассудителен и даже равнодушен, но, как хорошо знал по себе Бондарь, все, кто сталкивался с Поветкиным, любое его приказание выполняли с желанием и радостью. Как и чем добивался Поветкин таких результатов, для Бондаря оставалось загадкой. Всякий раз, встречаясь с Поветкиным, он пытливо присматривался к нему, пытаясь отыскать в нем то, что так магически действовало на людей и ничего особенного заметить не мог. В конце концов после долгих наблюдений и раздумий Бондарь решил, что самое главное в Поветкине простота поведения и душевное отношение к людям. Эти качества решил Бондарь воспитать и в самом себе. Особенно благоприятные возможности для этого открывались сейчас, когда батальон, почти заново формируясь, получил на пополнение несколько сотен человек. С новыми людьми Бондарь твердо решил вести себя по-новому, точно так, как обращался с подчиненными майор Поветкин.
— Идут, товарищ капитан! — без стука войдя в избу, проговорил ординарец.
— Кто идет? — встрепенулся Бондарь.
— Они идут… солдаты… Пополнение, значит.
Как и всегда, Бондарь неторопливо оделся, тщательно поправил обмундирование и, почистив еще раз и так ослепительно блестевшие сапоги, вышел на улицу. С окраины деревни, оттуда, где вилась дорога из Курска, неслась задорная строевая песня. Опытным слухом офицера Бондарь сразу же уловил, что песню пели с душой, но вразнобой, как поют обычно люди, случайно сошедшиеся вместе и еще не узнавшие друг друга. Это сразу же вызвало у него целый поток мыслей. Кто эти люди, идущие на пополнение батальона? Старые, молодые, опытные, кадровые воины или юнцы безусые, еще не успевшие нюхнуть порохового дыма?
Бондарю не однажды приходилось принимать пополнение, но обычно приходило по нескольку человек, и они, влившись в основной состав подразделения, растворялись в нем и нисколько не меняли его прежнего облика и установившегося порядка. Теперь же пополнение было совсем иное. Батальон, по-существу, формировался заново. И не прибывшее пополнение растворялось среди старых воинов, а наоборот те, кто остались в батальоне, сами могли затеряться, раствориться среди новых, совсем незнакомых и неизвестных людей. Было бы не так сложно, если б прибывали одни солдаты, но сейчас в батальон вливались не только солдаты, но и офицеры и сержанты; многие отделения и расчеты формировались заново, и те традиции, тот установившийся порядок в батальоне мог легко нарушиться. А начинать все заново, все переделывать, создавать по-своему и трудно и много потребуется времени, которого во фронтовых условиях будет недостаточно. Поживет батальон в этой деревне неделю, может, две и опять уйдет на передовую, где под огнем, в постоянном напряжении, на виду у противника не так-то легко узнать людей и особенно перевоспитывать их.
Занятый этими мыслями, Бондарь не замечал, как из всех домов, узнав о подходе пополнения, высыпали оставшиеся в батальоне солдаты и местные жители. Из-за крайнего дома с длинным сараем показалась колонна пополнения. В разномастных шинелях, в ватниках, в полушубках, в каких-то не то куртках, не то пиджаках, по четыре в шеренге, нестройными рядами, перекачиваясь, как на зыбкой волне, шли те, кого так нетерпеливо ждал Бондарь.
«Ну и воинство!» — ахнул он, взглядом командира сразу же определив строевую неслаженность колонны.
Он с трудом подавил в себе порыв немедленно броситься туда, к колонне, остановить ее, выровнять и провести по деревне так, чтобы земля дрожала и все жители замерли от восхищения. На середине деревни песня оборвалась, и подходившая колонна приняла еще более горестный нестроевой вид. Это как будто оживило шедшего рядом с колонной высокого офицера. Он встряхнул широкими плечами, о чем-то спросил стоявших у дома солдат и, взглянув в сторону Бондаря, молодо и резво побежал к нему.
— Товарищ капитан, — хоть и старательно, но почти по-граждански подойдя и остановясь против Бондаря, глухо заговорил он, — пополнение для вашего батальона в количестве семи офицеров, пятнадцати сержантов…
Он смолк, видимо позабыв, сколько было рядовых, опустил руку и, вновь вскинув ее, одним вздохом выпалил:
— Прибыло!
И разношерстный вид колонны, и увалистая походка офицера, и особенно его несуразный доклад так возмутили Бондаря, что он, стиснув зубы, чуть не закричал на этого совсем невоенного лейтенанта.
— Хорошо, — буркнул он, нехотя протягивая лейтенанту руку. — Остановите колонну, поверните, подровняйте, а впрочем… — пренебрежительно махнул рукой Бондарь и, даже не взглянув на лейтенанта, твердой походкой направился к колонне.
— Слушай мою команду! — звонко прокричал он, чувствуя, как откуда-то глубоко изнутри поднимаются так хорошо знакомые волнение и тревога, всегда охватывающие его при встрече с новыми людьми.
— Батальон, — еще звонче, но уже протяжнее, почти нараспев, вкладывая в голос все свои силы, скомандовал он, — стой!
Или так властен был голос Бондаря, или те энергия и сила, кипевшие в нем, невидимо передались пополнению, но сразу же все словно переродилось мгновенно. Люди подтянулись, пошли в ногу и остановились так четко и одновременно, что Бондарь невольно улыбнулся.
— Здравствуйте, товарищи! — выкрикнул он и, оглушенный ответным гулом «Здравия желаем, товарищ капитан», заговорил отчетливо и громко, не скрывая и не имея сил скрыть своей радости.
— Товарищи! Дорогие товарищи! Вы прибыли к нам сюда, на фронт, под Белгород, где совсем недавно стихли ожесточенные бои. Трудные это были бои, товарищи! — немного помолчав, продолжал Бондарь. — Фашисты бросили против нас танки, авиацию, артиллерию.
Мгновенно вспомнив все, что было здесь под Белгородом, он неожиданно смолк, судорожно передохнул и, чувствуя на себе десятки внимательных, горячих, ожидающих и изучающих взглядов, тихо добавил:
— Но мы выдержали, товарищи, выстояли, как ни трудно было нам, и остановили фашистов!
Опять молниеносные воспоминания минувшего оборвали дыхание Бондаря. В настороженной и торжественной тишине он слышал, как громко стучит собственное сердце, чувствовал, как буйно, все разжигая тело и ум, пульсирует кровь. Он понимал, что сейчас, в эту минуту стоять и молчать нельзя, нужно говорить, но говорить не мог. Его охватила неизведанная волна гордости за прошлое, горечи за погибших и раненых товарищей, ожидания, что прибывшие для пополнения люди будут точно такими, какими были те, кто ушел из батальона навсегда и кто еще остался в нем. Отчаянными усилиями воли он пытался совладать с собой, успокоиться и продолжать речь так же, как и начал ее, но не мог. Бессознательно ища выхода, он взглянул на строй, и это спасло его. Коротким, мимолетным взглядом он уловил и понял, что творилось с этими стоявшими перед ним незнакомыми людьми. Совсем молодые и пожилые, низкорослые и высоченные богатыри — все они стояли в торжественном оцепенении и, не отрывая глаз, смотрели на него. Во всех этих — от правого до левого фланга — взглядах он видел и читал одно-единственное, не высказанное словами желание — узнать, как можно больше узнать о том, что было в этом втором стрелковом батальоне, куда они прибыли теперь, какие бои он прошел, что испытал и пережил, сколько радостей и невзгод было на его пути.
И Бондарь, забыв подать команду «Вольно», горячась, начал рассказывать о тяжелых боях прошлого лета; о стремительном наступлении от Воронежа через Оскол, Касторную, Курск к Белгороду, когда за день, за ночь в пургу, по сугробам проходили по тридцать, по сорок километров; о лавине фашистских танков, что ринулись в контрнаступление по равнине Приднепровья к Харькову и Донцу; о тех последних схватках, когда батальон намертво встал под Белгородом и остановил гитлеровцев.
«Что же я делаю!» — ужаснулся он, поняв, что забыл подать команду «Вольно» и больше получаса люди стоят в страшном напряжении.
— Вольно! — извиняюще крикнул он, но в строю никто даже не шевельнулся. Все словно оцепенели, замерли, на всю жизнь встали в это напряженное, неловкое положение и ни за что не желали изменить его. Только десятки глаз, теперь уже совсем не те — не ждущие и изучающие, а сияющие, радостные, горящие желанием сделать то, что сделали их предшественники, те о ком рассказывал он, Бондарь. Это изменение Бондарь уловил мгновенно и тут же, не задумываясь, не сознанием и умом, а душой, сердцем, всем своим существом нашел те самые слова, которыми закончил свою речь:
— Много невзгод пережили мы — и каждый человек в отдельности, и весь наш народ! Много перенесли горя и несчастий. Но мы узнали и радость победы, мы почувствовали свою силу и теперь уверены, что фашисты будут разгромлены, вбиты в землю, уничтожены, и весь мир вздохнет вольно и свободно. И это сделаем мы — советские люди!
— Урааа! — единым вздохом ахнул строй, и гулкое эхо пронеслось и по деревне, и по окрестным полям, и по широкой дороге, лентой уходившей к Белгороду.
От неожиданности Бондарь вздрогнул и тут же, поняв, что случилось, подхватил и вместе со всеми закричал «Урааа!» Он не видел и не знал, что вместе с прибывшим пополнением так же чутко и напряженно слушали его речь и также вдохновенно кричали «Урааа!» солдаты, оставшиеся в батальоне, и высыпавшее из домов местные жители.
* * *
Пулеметная рота, последней уйдя с передовой, еще не успела разместиться в отведенных ей домах, как прибыло пополнение, и помощник командира второго взвода Козырев был вызван к Черноярову.
— Дробышев в штабе полка дежурит, — явно недовольный чем-то, хмурясь, сказал Чернояров. — Вот пополнение принимайте, — кивнул он в сторону троих солдат, стоявших около дома. — Укомплектуйте расчет Чалого. Наводчиком будет вот он, Гаркуша, помощником Тамаев, а подносчиком патронов Карапетян.
— Слушаюсь! — ответил Козырев и, получив разрешение Черноярова идти, кивнул солдатам:
— Пошли, товарищи!
Когда Козырев, а вслед за ним Гаркуша, Алеша и Ашот вошли в сумрачную, с подслеповатыми, наполовину заложенными фанерой окнами избу, Чалый, сидя на застланном соломой полу, возился с тремя малышами. У зевластой печи, подложив под щеку темную руку, стояла хозяйка дома и умиленно смотрела на притворно суровое лицо горбоносого солдата и своих развеселившихся детей. По ее склоненным хрупким плечам и озаренному улыбкой худому лицу Козырев понял, что она впервые за долгие полтора года оккупации и счастлива и спокойна.
Чалый, увидев Козырева, поспешно встал, поправил гимнастерку и смущенно улыбнулся. Его, окруженные сетью морщин, обычно суровые глаза так же, как и глаза хозяйки, сияли радостью и счастьем.
— Дядя Боря, куда же вы? — прокричал с пола самый старший, чумазый мальчишка лет восьми.
— Куда, дядя, куда? — спросила и девочка поменьше, а самый младший, карапуз лет четырех в коротенькой рубашонке, обхватил ручонками сапог Чалого и со всей силой тянул к себе.
— Вот видите, — подхватив мальчика на руки, радостно сказал Чалый. — Полдня играем и никак наиграться не можем.
— По отцу истосковались, — горестно вздохнув, прошептала хозяйка.
— На фронте? — глядя на ее не по возрасту постаревшее, с запавшими глазами лицо, спросил Козырев.
— На фронте, — с тем же горестным вздохом ответила хозяйка и вдруг, мгновенно преобразясь, просияла и продолжала веселым, дрожащим от радости голосом:
— Третьего дня письмо получили, первое за всю войну. Как ушел на второй день, так будто в воду канул. Я уже и не чаяла о живом-то о нем услышать. Только во сне почти кажну ночь видела. Гадать ходила. Бабка тут одна у нас есть, хорошо ворожит. Раскинет карты: жив твой Микола, говорит, болезни переносит, но живехонек, ты жди, говорит, его Федосья, не сумлевайся. А как не сумлеваться, она, бабка-то, почитай, всем так нам, солдаткам, говорила, обнадеживала, видать, чтобы не отчаивались. А мы-то слышим-послышим: тот убит, другой убит, тот пропал безвестно, а иной в плен угодил. А плен-то хуже смерти.
Федосья смолкла, вытерла кончиком платка слезы и опять, озарясь мечтательной улыбкой сказала:
— А мне-то бабка правду на картах напророчила. Жив Микола мой, ранен два раза, пишет: в госпитале лечился, орден ему дали, а теперь опять воюет, под Ленинградом гдей-то.
И горестный и радостный рассказ хозяйки взволновал всех. Присев к столу, Козырев упрямо склонил крупную голову и до боли стиснул в кулаки огромные волосатые руки. Чалый прижал к себе всех троих притихших ребятишек и, раскачиваясь, молча убаюкивал их. Алеша, не отрывая взгляда от постаревшего лица Федосьи, жадно слушал ее и с каждым словом все ощутимее и болезненнее на месте хозяйки и ее детей представлял свою мать, двух младших братишек и пятилетнюю сестренку.
Ашот нетерпеливо переминался с ноги на ногу, вздыхал приглушенно, закрывая рот ладонью, покашливал и, словно боясь взглянуть на хозяйку, все время смотрел на выбитый земляной пол. Даже неугомонный Гаркуша примолк и стоял не шевелясь, будто навеки пристыл к дверной притолке.
— А вы как же тут при немцах-то жили? — не поднимая головы, хрипло спросил Козырев.
— Какой там жили! — безнадежно махнула рукой Федосья. — В погребе скрывались больше, а летом — в бурьянах, в огороде. Тут, в избе-то, немцы хозяйничали. Одни уйдут, другие приходят. Так и тот год и этот. Вот уж зимой нынче корову мою порешили. Берегла я ее, в яме за огородом прятала. Разнюхали, проклятые, враз раскромсали бедняжку и по кускам растащили. Овец-то еще в прошлом годе, как танки ихние к нам заскочили, всех перерезали. Потом кур постреляли из автоматов, уток тоже — три штуки у меня было, на племя оставляла. И вот самой последней Пегашку нашу безрогую… И остались мы ни с чем. Слава богу, хоть картошки удалось припрятать немного да свеклы штук с полсотни сберегла. Вот и кормились мы одной картошкой, а со свеклой пили чай, вроде заместо сахару, вприкуску. Теперь-то хорошо. Муки нам дали целых два мешка, крупы гречневой и пшеницы почти целое ведро. Вот только ни скота нет, ни кур.
— Будут, будут и скот и куры! — с яростью проговорил Козырев. — Все у нас будет, а с ними, с паразитами, мы сполна поквитаемся! Вот! — повернул он багровое, с черным на подбородке шрамом лицо к Алеше и Ашоту. — Вот за что воюем мы, за что ни крови, ни жизни своей не щадим! За жизнь людей наших, за то, чтоб не измывались над ними гитлярюги разные!
От гневного, дрожащего голоса Козырева, от его налившегося кровью сурового лица и особенно от обжигающего, пронизывающего насквозь взгляда сердитых глаз Алеша замер. Он всем своим существом чувствовал, как в него вливается что-то новое, сильное и неудержимое. Все, что слышал и знал он о войне до этого, померкло, почти исчезло из памяти, и вместо него нарастали и ширились новые понятия, еще не совсем ясные, но уже ощутимые, как что-то страшное, чудовищное, угрожающее самой жизни народа, всем тем, с кем он жил и кого считал своими людьми.
* * *
Распределив пополнение по ротам, Бондарь вернулся в свой дом, но не успел снять шинель, как, распахнув дверь и почти всю ее загородив собою, в избу ввалилась женщина могучего сложения с сержантскими погонами на добротной, ладно подогнанной шинели. Беглым взглядом она по-хозяйски осмотрела комнату, не по комплекции легко шагнула и остановилась перед удивленным Бондарем.
— Товарищ капитан, — по-военному, четко приложив руку к ушанке, заговорила она низким грудным голосом. — Санинструктор Степовых и санитарка Федько прибыли в ваше распоряжение.
— Очень хорошо. Здравствуйте! — все еще не оправясь от неожиданности, сказал Бондарь и, не зная, что делать дальше, спросил:
— А где же санитарка?
— Вот она! — отступая в сторону, ответила Степовых, и Бондарь увидел хрупкую, невысокую девушку лет восемнадцати с бледным, словно испуганным лицом и настороженными васильковыми глазами.
«Сама-то Степовых любого раненого вытащит, а эта Федько, она-то как же?» — подумал Бондарь и совсем не по-командирски предложил:
— Садитесь, пожалуйста.
— Спасибо, — с достоинством ответила Степовых. — Садись, Валя.
«Фу, черт, что же с ними делать? — лихорадочно думал Бондарь (он никогда еще не имел в своем подчинении женщин). — О чем же с ними говорить-то? Не про луну же, не про цветочки!»
— Ух и умаялись мы, пока добирались, — вытирая лицо белоснежным платочком, сказала Степовых. — И на машинах, и на подводах, и пешком. А грязища кругом — не пролезешь.
— А вы издалека? — радуясь, что санинструктор выручила его из затруднения, спросил Бондарь.
— Аж с самого батюшки Урала, из города Свердловска. Целый эшелон нас, медработников, привезли. До Курска-то хорошо, поездом, в теплушках, как дома. А вот из Курска кто как знает по своим по частям добирались.
Санинструктор смолкла, и Бондарь, опять не зная, о чем говорить, смущенно опустил глаза и, может быть, долго просидел бы так, но инстинктивно всплыл нужный вопрос.
— Простите, — сказал он точно так, как говорят не командиры с подчиненными, а обыкновенные мужчины при знакомстве с женщиной, — а как ваше имя и отчество?
— Я Марфа, Марфа Петровна, а она Валя, Валентина Матвеевна.
— Ну что ж, Марфа Петровна, — солидным тоном, сам не понимая, откуда взялся этот тон, сказал Бондарь. — Вам с дороги отдохнуть нужно. Идите в соседний дом справа, располагайтесь там и отдыхайте.
— Есть идти в соседний дом справа, располагаться и отдыхать, — удивляя Бондаря, по-военному отчеканила Марфа.
— Ох и пойдет теперь кутерьма, — проводив Марфу и Валю, проговорил Бондарь. — И зачем только берут женщин в армию!
* * *
— Ну вот, Валька, и добрались мы аж до самого фронта, — говорила Марфа, осматривая отведенную хозяйкой крохотную комнатенку. — И крыша над головой, и кровать, видишь, хоть и плохонькая, но не то, что шинель подстелила, шинелью оделась, шинель под голову подложила.
После длинного пути, особенно после кочевья «на перекладных», как говорила Марфа, от Курска и до этого села, с бесконечными пересадками и голосованиями на перекрестках дорог у Вали не было усталости. Наоборот, там, в пути, она еле держалась на ногах, теперь же, словно невидимо влив в себя свежие силы, она чувствовала себя бодро, весело и только немножко, совсем маленькую чуточку — тревожно. Нет, — она это отчетливо чувствовала, — эта тревога вызывалась не тем, что до фронта остался всего какой-то десяток километров, что впереди бои, новая, совсем неизвестная жизнь с трудностями, лишениями, опасностями. Тревожно ей было и не потому, что там, позади, в Москве, осталась мама, подруги и все, что было связано невидимыми нитями с ней, что окружало ее с детских лет и до того недавнего дня, когда она в шинели, с пустым вещевым мешком в руках стояла на платформе Ярославского вокзала. И эта тревога была не болезненная, не та, от которой щемит сердце, набегают беспокойные мысли, хочется сделать что-то, чтобы встряхнуться, развеяться, прочь отогнать от себя все, что туманит жизнь.
Если бы Валя задумывалась о причинах своей тревоги, она очень легко отыскала бы их. Это было обыкновенное состояние человека, завершившего один этап своей жизни и уже шагнувшего, но еще не вошедшего в этап другой. Валя же совсем не думала об этом. Она сбросила шинель, ушанку, расчесала коротко подстриженные волосы и, оправив гимнастерку, присела к окну. На улице едва заметно голубели по-весеннему прозрачные сумерки. На свисавшей к окну ветке сирени набухли готовые вот-вот лопнуть светло-зеленые почки. За черным полем, у самого горизонта, неуловимо сгущалась манящая вдаль сиреневая дымка.
— Ну что, любуешься? — склонясь к ней и обняв за плечи, спросила Марфа.
— Да, — протяжно вздохнув, ответила Валя. — Как все красиво!
— Весна! — проговорила Марфа и отстранилась от Вали. — Весна! — совсем другим голосом, сурово и тревожно повторила она. — Что даст нам эта весна, что принесет? Второй раз встречаю я весну на фронте и второй раз жду чего-то необыкновенного. Раньше бывало, особенно до замужества, щебечешь весной, как пташка вольная, ни забот тебе, ни тревог, одна только радость жизни. А теперь нет этого. Затуманило все, пеленой задернуло, — и она порывисто воскликнула: — Ты, Валька, внимания не обращай. Война, ну и что же, что война! Жизнь и на войне, и на фронте продолжается. Правда, что ли?
— Конечно, Марфа Петровна, — весело подтвердила Валя.
— Конечно! — вновь горестно вздохнула Марфа. — Нет, Валюта, не конечно. Война-то, она вроде красивой только со стороны кажется: в кино, в книжках, на картинках. Герои, подвиги, как это говорят, романтика. Нет, Валюша, война — это страшный труд, ой, какой страшный, и людям на войне так трудно, так трудно, что и сказать невозможно, особенно нам, женщинам. То, что мы и бомбежки, и обстрелы, и все, что бывает на войне, переносим наравне с мужчинами, — это еще ничего. Страшнее другое. Особое у нас, у женщин, положение на войне. Мало нас, очень мало. Кругом мужчины, и мы как былинки среди них. Издалека нас видно, и все смотрят на нас. Война-то, она все обнажает, все наизнанку вывертывает, обостряет все в человеке и многое притупляет. И на войне, как нигде, больше всего человек о своей жизни думает. В самые страшные моменты так жить хочется, что все бы отдала, чтобы не погибнуть.
Марфа смолкла. В неярких отсветах уходившего дня всегда резкое, часто насмешливое и язвительное лицо ее стало необычайно мягким, мечтательным и немного грустным. По-мужски большие, сильные руки совсем несвойственно им нежно перебирали Валины пальцы. Пепельные, словно подернутые сединой волосы упали на высокий лоб, и от этого лицо Марфы стало еще мягче и нежнее.
— Ты, Валюша, еще молода, только вступаешь в жизнь, — полузакрыв глаза, продолжала Марфа. — Тебе еще много доведется и повидать, и пережить, и, может, споткнуться где-нибудь. Споткнуться-то легко, и упасть не трудно, а вот подняться не всякой удается. Жизнь-то, она на каждом шагу ножку подставляет. Сколько слез бабьих пролито из-за того, что мы — дуры — не всегда видим, где колдобина, а где ровное место, где бурьян под видом розы, а где роза настоящая бурьяном заслонена. А у нас тут, на фронте, споткнуться, ой, как просто. Чуть ступила не так, и прости-прощай и честь женская, и достоинство собственное, и совесть человеческая. Да что это я, дуреха, — встрепенулась Марфа, — разнылась, разохалась, тебя только расстраиваю.
— Да что вы, Марфа Петровна. Вы так хорошо говорите.
— Вот что, Валя, — стукнув рукой по столу, резко и сурово продолжала Марфа. — Скажу тебе только одно: не забывай, что ты девушка и что ты пошла на святое дело, на войну! Нас с тобой никто не принуждал, мы добровольно пошли, и пошли не юбками крутить, а воевать! Воевать! Чего греха таить: есть дурехи, что в армию за женихами ринулись. Прости, что я так грубо говорю ты не маленькая, должна все знать. Конечно, каждой женщине счастье хочется найти, только искать-то нужно его не так, как некоторые финтифлюшки, не юбкой крутить, не улыбаться смазливо, не гоняться за положением и чинами, а дело свое делать, жизнь наших людей спасать. И знаешь, Валюша, — вдруг снова мягко и нежно заговорила она, — какое это счастье, когда ты чувствуешь, что сделала большое дело и что ты чиста перед всеми. Ведь бойцы-то наши, все они такие отзывчивые, такие благодарные, когда видят, что ты и тяготы вместе с ними переносишь, и помогаешь им, и ведешь себя не как женщина, а как солдат настоящий. Вот перевязываешь раненого, а он на тебя так смотрит, словно всю душу свою передать тебе хочет. Да разве такой взгляд, разве такую душевность можно променять на сюсюканье любителей женских юбок! А любовь, любовь и на фронте может быть, и даже сильнее, чем где-либо, но только любовь чистая, без грязи. Вот в этом-то и главное. Ты понимаешь меня, Валюша?
— Понимаю, — прошептала Валя и прижалась к могучей груди Марфы.
Глава десятая
Не так, совсем не так, как ожидал Канунников, протекала его жизнь на фронте, в которой он и наяву и во сне видел спасение от всего, что было с ним в недавнем прошлом. Стоит, грезилось ему, окунуться в жизнь фронтовую, понюхать пороху, побывать в боях, возможно, перенести ранение, как все прошлое рассеется, позабудется, исчезнет навсегда, подобно дурному, кошмарному сну. Но все эти надежды при первой же встрече с фронтом рухнули. В роте бронебойщиков, куда направили Канунникова после двух месяцев обучения в запасном полку, его долго расспрашивали и командир роты, и политрук, и старшина, а потом и взводный командир. Измученный, внутренне возмущаясь и негодуя, но сдерживая себя, рассказывал он об учебе в институте, о работе в Главке, о следствии и суде, даже себе не признаваясь, что рассказывает совсем не то, что было в самом деле и в чем заключалась его главная вина, за которую осудили его на десять лет исправительно-трудовых работ. Как и во время следствия и суда, он все объяснял своей малоопытностью и желанием как можно лучше выполнить свои обязанности, Фронтовые офицеры, мало разбираясь в делах гражданских, очевидно, верили ему, и только старшина — суровый мужчина лет сорока пяти — в конце разговора укоризненно покачал головой и со вздохом сказал:
— Опытность-то, она, известно, везде нужна. Только вы-то не юнец желторотый, а человек с образованием, да еще с высшим, и годков-то вам не семнадцать, не двадцать, а на четвертый десяток перевалило.
Под вечер, издерганный и опустошенный, попал наконец Канунников к своему самому первому начальнику — наводчику противотанкового ружья ефрейтору Аверину. Невысокий, плотный, с грубым, изрезанным морщинами лицом, ефрейтор взглянул на Канунникова темными, в прищурье, внимательными глазами и равнодушно, без всякого интереса сказал:
— Ну что ж, вместе, значит, воевать будем. Вот ружье наше противотанковое, вот позиция огневая, а вот и жилье наше — щель всего-навсего, блиндажей-то на всех не хватает, но щель уютная, теплая — соломы я натаскал вдоволь. Если фрицы в наступление сунутся, мы вот эту лощину, значит, и вот тот скат высотки прикрываем. По танкам бьем, значит, бронебойно-зажигательными. А в спокойное время — дежурим по очереди: ночью, как приказано, я у ружья сижу, а днем — вы. Вот и все наши дела.
«Ночью ему приказано, а днем мне — с болезненной подозрительностью подумал Канунников. — Не доверяют, очевидно, может, даже боятся, что сбегу».
Эта мысль окончательно сломила Канунникова. Сославшись на усталость, он отказался от ужина и забрался в узкую и тесную нору, которую Аверин именовал щелью. Только здесь, в душном, с запахом гнили и табачного дыма подземелье он почувствовал облегчение. Он улегся на толстом слое соломы, блаженно протянул ноги и обессиленно закрыл глаза. На мгновение ему показалось, что он не в тесной вонючей яме в километре от страшной линии, именуемой передним краем, а в своей уютной и красивой московской квартире, где беззаботно и весело пронеслась вся его тридцатилетняя жизнь. Но это ощущение длилось всего мгновение, и оно же с еще большей яркостью осветило весь ужас свершившегося. Возбужденная, горячечная память один за другим воскрешала позорные и унизительные моменты последнего полугодия его жизни. Раньше, во время следствия, а затем и на суде, он думал только о том, как бы скрасить, загладить, показать в более выгодном для себя свете все, что он натворил, будучи заместителем начальника главка, не знающим удержу, сильным, властным и разгульным мужчиной. Теперь же, когда все это осталось позади, а следствие и суд так и не смогли вскрыть всех его проделок, он думал уже не об ответственности, а о том, как бы скорее и легче перенести это унизительное положение осужденного и опять стать сильным и независимым, всеми уважаемым, как прежде, Владимиром Канунниковым. Он и до этого, убежденный юристом и матерью, в отправке на фронт видел единственную возможность своего спасения. С ужасом думал он об исправительно-трудовых лагерях, о Дальнем Севере, о жизни в окружении уголовников. Фронт же хоть и был более опасным местом, где могли ранить, искалечить и даже убить, но зато это место было не позорное, а почетное, и находились там не уголовники, а самые сильные, смелые, честные и душевные люди, завоевать расположение которых Канунников рассчитывал с помощью обаяния, ума и грамотности. А эти достоинства, как он считал, были у него неотразимы.
Эти блаженные мысли убаюкали его взбудораженный мозг и утомленное тело в первую фронтовую ночь.
Проснулся Канунников от нестерпимого холода. Все тело словно одеревенело, в груди мелко дрожало, руки и ноги скрючила судорога. Пытаясь согреться, он с головой укрылся шинелью, обернул ноги ватной телогрейкой, глубже зарылся в солому, но обжигающий холод не признавал, казалось, никаких преград. Потеряв терпение, Канунников рванулся, больно ударился затылком о бревно потолка и, совсем отупев от боли, выскочил из норы.
Вокруг была кромешная тьма. Откуда-то снизу шквалами налетал колючий ветер. Не то снег, не то песок остро ударял в лицо, и Канунников нырнул обратно в щель. Он по-детски поджал ноги, закутался в шинель, весь съежился, но и от этого не стало теплее. Владимир прижался к стене щели, шевелил непослушными пальцами и вдруг вздрогнул от страшного, совсем близкого обвального грохота. Не успел опомниться, как грохот повторился и от сотрясения качнулась земля.
«Бомбежка, обстрел, взрывы», — лихорадочно соображал он, ожидая нового удара. Невыносимо томительно тянулось время. От напряжения ломило голову, звонко стучало в висках, холодный пот оросил лицо и руки. Прошла, казалось, целая вечность, а нового удара все не было.
Натянув шинель и ушанку, Канунников робко выглянул из щели. Стало светлее, и совсем рядом, возле площадки для ружья, прояснилась сгорбленная фигура Аверина.
— Холод-то, а? Ну и холодище! — подойдя к нему, онемевшими губами прошептал Канунников.
— Да, прохладно, — не поворачивая головы и все так же глядя куда-то в сторону, ответил Аверин.
— Вы устали, замерзли, идите в щель, отдохните, — склонясь к Аверину, предложил Канунников.
— Ничего! Мы привычные, почти два года в окопах.
«Почти два года», — мысленно повторил Канунников и от пронзительного свиста над головой чуть не сел на землю. Только через секунду различил он совсем недалекий стук пулемета и понял, что это свистели вверху вражеские пули.
— Это нам не страшно, все одно не достанут, — равнодушно проговорил Аверин. — Вот минометами только что саданул тяжелыми, это да!
— И часто он бьет минометами? — радуясь возможности поговорить с Авериным, спросил Канунников.
— Когда как, — неторопливо ответил ефрейтор. — Бывает и за неделю ни разочка не швырнет, а бывает и сутками без передышки шпарит.
Сквозь низкие, плывшие, казалось, по земле облака настойчиво пробилась едва ущербленная луна, и все вокруг озарилось местами тусклым, местами розоватым, холодным, но приятным для глаза светом. Или от этого света, или от негромкого, совсем дружеского голоса Аверина Канунникову стало теплее. Он с радостью и наслаждением слушал бесхитростный и не совсем связный рассказ Аверина об огневых ударах противника, о налетах его авиации, о наших ответных и упреждающих ударах и, отчетливо понимая, что все это угрожающе опасно для собственной жизни, нисколько не чувствовал ни боязни, ни опасности за самого себя, ни даже обычной робости, которая всегда наплывала на него при мыслях о фронте. Им овладело состояние душевного покоя и уверенности в будущем, и все тяжелое прошлое потускнело в его памяти, словно дробный, с частыми перерывами говорок Аверина накинул на это прошлое надежную пелену забвения.
— Стой! Кто идет? — совсем другим, властным и настороженным шепотом окликнул кого-то Аверин.
— Свои, свои, — донесся в ответ приглушенный и веселый голос.
— Ты, что ль, Чуваков? — вглядываясь в вышедшего из-за поворота траншеи высокого и тонкого человека, уточнил Аверин.
— А ты что, соседей узнавать перестал? — подойдя вплотную к Аверину, насмешливо сказал Чуваков. — Думаешь, если ружье у тебя длиной в сажень, то и сам ты ростом с версту.
— Ну, до тебя не дотянуться, — добродушно отпарировал Аверин, — вон какой вымахал: не то, что воробушка, а и жаворонка без прыжка достанешь. Что блукаешь по ночам? На месте не сидится, иль душа от близости фрица в пятки ушла?
— Что там фриц, — беззлобно отмахнулся Чуваков. — Он сам, небось, ни жив, ни мертв сидит. Окоченел я просто, ну, вроде, как заледенел весь. Настропалил Сеньку, чтоб во все глаза глядел, а сам к тебе подался. Дай, думаю, соседа навещу, сам погреюсь и его повеселю, благо, езды-то до тебя всего полсотни метров.
Канунников радостно вслушивался в немудреный разговор солдат, чувствуя все большее и большее успокоение и с надеждой думая, что наконец-то наступило для него блаженное время, когда все прошлое рассеется и исчезнет навсегда. Ему нравился и Аверин, которого он знал еще совсем мало, и Чуваков, которого он только впервые встретил, и их дружеская ворчливость, обычно именуемая «подначкой», и вся эта утихшая, совсем не фронтовая ночь. Он уже хотел было и сам вступить в разговор, но Чуваков опередил его, спросив вдруг Аверина.
— А это кто же с тобой-то, пополнение, что ли?
— Пополнение, — неожиданно холодно и сухо ответил Аверин.
— Это не тот, что днем в роту прибыл?
— Может, тот, а может, не тот. Мне ведь не докладывают, кто в роту прибывает, — с явным недовольством пробормотал Аверин.
— Ты что, уж не тот ли, что почти мильен денег государственных растранжирил? — наклонясь почти к самому лицу Канунникова, не то зло, не то насмешливо спросил Чуваков.
От неожиданности Канунников мгновенно похолодел и замер.
— Как же это ты умудрился, а? — все так же наклонясь к Канунникову, упорно продолжал расспрашивать Чуваков. — Подумать только: мильен! Ты можешь, Тимофей, — обернулся он к Аверину, — хоть в уме представить, что такое мильен?
Аверин ничего не ответил, но Канунникову показалось, что глаза его пылают ненавистью и презрением.
— Я не растрачивал миллиона, — с трудом выдавил из себя Канунников.
— Не растрачивал? — едко и вызывающе сказал Чуваков. — А сколько же, может, полмильена или четвертушку?
От обиды, от возмущения Канунникову хотелось броситься на этого назойливого длинного и тонкого человека, но все его тело расслабло, стало совсем непослушным и чужим, а мысли метались хаотично, беспорядочно, никак не входя хоть в какое-то определенное русло.
— Подумать только, — продолжал Чуваков, — люди работали, пот проливали, над каждой копейкой дрожали, а выискался один деляга и бац — на распыл целый мильен! И куда же ты дел-то их? Гулял, небось, бражничал, по ресторанам разным да на красоток разбрасывал? А теперь сюда вот, к нам, грехи замаливать пожаловал. Ловко, ловко! Видать, дружков у тебя всяческих немало, вытянули от расплаты настоящей.
Канунников совсем не слышал последних слов Чувакова; он видел только мертвенный, холодный и отчужденный от всего живого свет очистившейся от облаков луны и унылые, серые, такие же холодные и безжизненные нагромождения земли и каких-то расплывчатых, совершенно неизвестных и непонятных ему предметов.
Глава одиннадцатая
Первая неделя семейной жизни Веры и Лужко пронеслась так стремительно, что ни он, ни она даже не могли по порядку вспомнить, что было в эти напоенные счастьем, праздничные дни. Но короткий отпуск Веры кончился, и в понедельник утром Лужко проводил ее на работу. Словно расставаясь навсегда, они до тех пор прощались у ворот гаража, пока за стеной не зашумел мотор автомобиля и кто-то громко позвал Веру. Она растерянно и смущенно взглянула на Лужко и с каким-то странным, виноватым выражением на лице прошептала:
— Я пошла, Петя. Ты не скучай, я скоро вернусь.
Поскрипывая костылями, Лужко неторопливо пошел пустой улицей. И радостно и почему-то тревожно было у него на душе. Он безразлично смотрел по сторонам и, казалось, ни о чем не думал. Редкий и мягкий снежок плавно кружился в воздухе. Сиреневая дымка окутала город, и все вокруг было мягким, призрачным, таинственно-загадочным. Только заливчатые звонки трамваев напоминали о неугомонном кипении городской жизни.
Лужко дошел почти до подъезда своего дома и вдруг остановился, пораженный совсем неожиданной мыслью. Впервые в жизни он ощутил и почувствовал какую-то странную пустоту. Крича и размахивая портфельчиками, мимо него пронеслась ватага мальчишек; судача о дороговизне продуктов, неторопливо прошли две пожилые женщины; с ревом проскочил грузовик, потом деловито проследовал легковой автомобиль, где-то хлопнула дверь, послышались звуки музыки, чьи-то поспешные, торопливые голоса, приглушенный смех и опять заливчато прозвенел трамвай. Все вокруг было наполнено движением, звуками, жизнью, а Лужко, слыша и видя все это, чувствовал совсем непонятное одиночество и отчужденность от всего.
Он неторопливо поднялся по лестнице и в дверях квартиры встретился с Василием Ивановичем. Старик только что вернулся с работы в ночной смене и, как всегда после труда, был необычайно возбужден и порывист.
— Проводил, значит, — шершавыми пальцами сжимая руку Лужко, гулко басил он охрипшим голосом. — Вот и хорошо, что проводил. Пойдем-ка подзакусим, по рюмочке пропустим, посидим, потолкуем.
Лужко всегда было приятно беседовать с рассудительным, часто вспыльчивым Василием Ивановичем, но сейчас у него почему-то не было особой охоты разговаривать. Он разделся, послушно прошел к столу, без всякого желания выпил рюмку водки и рассеянно слушал Василия Ивановича.
— Понимаешь мои-то, мои выученики, — все разгораясь, рассказывал старик, — и росточком от горшка два вершка, и силенок чуть поболе воробьиных, а трудятся, трудятся, да еще как трудятся-то. Шоферши нашей, Анны, парнишка, Толик, так навострился, так приладился — почти полторы нормы взрослых вытянул вчера. Иду я под вечер, а он стоит у доски с показателями, руки в карманы, морденка в мазуте и глазенки серьезны, — ни дать ни взять трудяга потомственный. А ведь ему всего пятнадцать!..
Василий Иванович вздохнул, придвинул к себе стакан чая и с прежним возбуждением продолжал:
— Мне-то пришлось оставить их. Работка спешная подвалила. Станки новые опять получили, вот и ставим по ночам, цех новый оборудуем. Тех-то, кто толк настоящий в станках понимает, раз, два и обчелся. Вот и пришлось мне ребятенок своих оставить. Ну, ничего! Они у меня шустрые, смышленые, по-настоящему в жизнь входят.
«Они-то в жизнь входят, а я, кажется, вышел из нее», — неожиданно подумал Лужко и решительно отказался от предложения Василия Ивановича выпить еще по рюмочке.
— А на фронте-то опять вроде затихло, — изменил разговор Василий Иванович. Перестрелки да разведки. А загудит, видать, опять загудит, как в прошлом году. Может, еще похлеще будет.
— Да, впереди, конечно, еще немало серьезных боев, — безразлично согласился Лужко.
— Чтой-то нынче вялый ты какой? — озабоченно спросил Василий Иванович. — Нездоровится, может, — полежал бы, она ведь, война-то много у тебя здоровья поотнимала.
— Нет, что вы, я себя прекрасно чувствую, — бодрясь, возразил Лужко.
— Петенька, может, погулял бы, по городу походил, — вступила в разговор вернувшаяся из кухни мать Веры Агриппина Терентьевна. — Москва-то, она всегда интересная. Я вот, кроме Москвы, и не была нигде, а как поеду по Москве, опять все новое и новое. Иди, поброди, — повторила она, глядя на Лужко выцветшими, добрыми глазами на старчески припухлом и белом лице.
— Конечно, пройдись, — поддержал ее Василий Иванович. — Пивка, может, выпьешь где, билеты в театр какой-нибудь достанешь, а вечерком и сходите с Верушкой.
— Действительно, пойду, пожалуй, — покоренный добротой родителей Веры, согласился Лужко.
Всего за час, что пробыл Лужко дома, тот уголок Москвы в окраинном районе, который он видел утром, словно стал другим. Один за другим проносились переполненные трамваи; по мостовой, дымя и фыркая, грохотали грузовики, изредка мелькали легковушки, выцокивая подковами, грузно тянули повозки ломовики; тротуары и редкие бульвары были заполнены вечно спешившими, словно боявшимися куда-то опоздать, москвичами. Всюду кипело неугомонное движение; всюду бурлила деловая и разнообразная жизнь.
Раньше, когда приходилось бывать в Москве, Лужко любил эту неугомонность столицы и сам, врастая в нее, невольно поддавался спешке. Сегодня же он словно не видел и не чувствовал этой деловой торопливости и шел медленно. У станции метро «Электрозаводская» он покурил, хотел было спуститься вниз и проехать до центра, но раздумал и, все так же не глядя по сторонам, побрел вверх, по Большой Семеновской улице. Из военной истории он вспомнил, что здесь, на берегах Яузы, Петр I заложил основы новой русской армии, создав свои любимые Семеновский и Преображенский батальоны, именем которых теперь назывались улицы и площади этой не совсем далекой окраины Москвы.
У пустынного, заваленного снегом Семеновского кладбища Лужко постоял, невольно думая о тех, кто воевал вместе с ним и навсегда остался на полях Белоруссии, Смоленщины, Подмосковья, на безвестных холмах и высотах под Курском, под Орлом, под Воронежем и Харьковом, где целых полтора года пришлось воевать Лужко. От дум о погибших друзьях и товарищах ему стало еще тоскливее и горше.
Около изуродованного маскировкой красавца кинотеатра «Родина» петляла очередь за билетами. Лужко пристроился в хвост, взял билет и вошел в залитое электрическим светом фойе. Мраморное сияние бледно-розовых колонн, сдержанный говор множества людей, тихие, лившиеся откуда-то сверху звуки напевной музыки светлым праздником отозвались в душе Лужко. Он присел на свободный стул, прикрыл полой шинели обрубок ноги и, совсем позабыв о своей инвалидности, с любопытством рассматривал зрителей. Среди них преобладали люди в военной форме и в стеганых ватных телогрейках, получивших повсюду такое широкое распространение в годы войны. Под стать одежде были и лица людей. Все были сдержанны, немногословны и сосредоточенны. Только у высокой пальмы, в отличие от всех, весело переговаривалась стайка молоденьких девушек и парней. Они были так непосредственны и так привлекательны своей молодостью, что Лужко, глядя на их смеющиеся лица, невольно улыбнулся и сам. Как что-то далекое, радостное и светлое, мелькнуло у него воспоминание о годах учебы в техникуме, когда он точно такой же, как эти пареньки, стоял с точно такими же веселыми и беззаботными однокурсницами. И Вера тогда была удивительно похожа на ту крайнюю девушку в сером пальто и в сдвинутом набок голубом берете. И сам он, видимо, тогда нисколько не отличался от того веснушчатого паренька, что стоял около девушки и, стараясь казаться развязным, без умолку смеялся.
Резкий звонок прервал наблюдение Лужко. Вместе с потоком людей он прошел в зал, занял свое место и, сам не зная зачем, начал разыскивать глазами веселых юношей и девушек. Но беззаботная стайка словно исчезла. Вокруг сидели все те же сосредоточенные, немногословные люди, нетерпеливо ожидая начала кино.
Ничего особенного от кинофильма Лужко не ожидал. Он и сам не мог бы объяснить почему пошел на этот уже известный фильм «В шесть часов вечера после войны». Но едва услышав бодрую и тревожную музыку и, особенно, увидев, как на карьере выскочила орудийная упряжка и лихие артиллеристы развернули пушку, Лужко замер. Все было так знакомо, так близко и так дорого, что он позабыл, что сидит в зале, что рядом множество людей, что происходит все не в действительности, а в кино. Он не помнил, сколько времени продолжалась картина, не мог бы толком рассказать, что происходило на экране, весь погрузившись в тот самый мир, из которого он совсем недавно ушел, и ушел навсегда.
Когда немного опомнился, по его лицу катились слезы. Он, таясь от соседей, вытер их пальцами, но новые слезинки, помимо его воли, все продолжали сочиться из разгоряченных глаз.
Вместе с артиллеристами на экране вновь переживал он все, что было в прошлом, остро завидовал красавцу командиру батареи. Да, они были там, где решалось главное, где в муках, трудностях, в крови жили и боролись самые смелые, самые отважные люди. Они были там, а он, Петр Лужко, навсегда ушел оттуда и никогда не испытает больше этой ни с чем не сравнимой радости фронтовой дружбы и товарищества. Они жили трудной, опасной, но полнокровной, кипучей и напряженной жизнью. А чем живет теперь он, Петр Лужко? Они с жадностью и нетерпением ждали окончания войны, мечтали о будущем, а что принесет ему конец войны, когда война для него уже кончена, а впереди ничего не видно.
Его опять, как и часто в госпитале, захлестнули мысли о будущем. Как жить, за что взяться, к чему приложить свои силы, как сделать, чтобы в такие годы не быть потерянным инвалидом, а полноценным, работающим, как и все, человеком? Опять он с ужасом думал, что у него нет ни образования, ни специальности, ни опыта для мирной жизни, что в двадцать пять лет все нужно начинать сначала, по существу с азов, со школьной скамьи, со студенческих лекций. Да и какую профессию выбрать с единственной ногой? Самое любимое с детства — механика — было теперь почти недоступно. Что пользы даже в самом захудалом гараже от безногого механика, да и механике нужно еще немало учиться. Те два года, что проучился он в техникуме, по специальности ничего ему не дали. Раньше ему казалось, что он знает много, но даже в случайных разговорах с Верой он все больше убеждался, что в вопросах механики она переросла его на несколько голов. Пойти в педагогический, в медицинский или какой-нибудь экономический институт? Нет! Ничто, кроме механики и военного дела, не увлекало его. Стать администратором, хозяйственником, канцеляристом? Нет! Это было противно его характеру и стремлениям.
Опустошенный, разбитый, с безрадостными мыслями вышел он из кино и поковылял домой.
* * *
Вера в первый, после короткого отпуска, рабочий день старалась поскорее закончить дела и вовремя уйти домой. Весь день, работая как никогда легко и споро, она с радостным волнением думала, как войдет в квартиру, где соскучившийся Петро с укором встретит ее, может, поворчит, а потом обнимет, поцелует, и они всей семьей сядут ужинать. Но Петра не было, и Вера, ничем не выказывая своего недовольства, принялась готовить ужин. Отец опять ушел в ночную смену, не было дома и соседей, а мать по своей новой и странной привычке, что-то чинила и штопала, не обращая никакого внимания на Веру.
Жаря картошку и готовя чай, Вера нетерпеливо прислушивалась к шагам на лестнице, но знакомого стука костылей все не было слышно. Она накрыла стол, расставила посуду и, не зная, чем бы еще заняться, взяла первую попавшуюся на глаза книгу. Это был много раз перечитанный томик стихов Есенина. Наудачу раскрыв страницу, она прочитала:
Этой грусти теперь не рассыпать Звонким смехом далеких лет. Отцвела моя белая липа, Отзвенел соловьиный рассвет.Вера сердито захлопнула книжку и чуть не заплакала. Оторвавшаяся от шитья мать пристально посмотрела на нее и, вздохнув, вновь наклонилась над работой.
«Да где же он, что случилось?» — с раздражением и тревогой подумала Вера, хотела выйти на улицу, но, услышав легкие перестуки костылей, стремительно бросилась открывать дверь. В шинели, в ушанке, запорошенный снегом, Петро казался ей удивительно веселым и радостным.
— Ты уже дома, Верок? — сказал он, обнимая ее и обдавая холодом.
— Я давно дома, а вот ты где бродишь? — радостно прижимаясь к нему, не удержалась от упрека Вера.
— Да, знаешь, — как-то смущенно и робко заговорил Лужко.
— Знаю, знаю, — позабыв обиду, перебила его Вера. — Шинель снимай, шапку, а где был — разберемся.
В порыве нежности она не заметила, что муж был чем-то взволнован и подавлен. Ужиная, Петро сказал, что зашел в кино и смотрел «В шесть часов вечера после войны», и она заметила, как он, сурово сдвинув брови, нахмурился и приглушенно, совсем необычно вздохнул.
«Что с ним?» — тревожно подумала Вера, но, увидев, как муж по-прежнему весело и непринужденно засмеялся, успокоилась.
Проснувшись глубокой ночью, Вера почувствовала, что Петро еще не спал. Он лежал на спине, не шевелясь и глядя в потолок. От какого-то странного предчувствия Вера замерла, тайком наблюдая за мужем. Он все так же лежал недвижно, о чем-то напряженно думая, потом вдруг точно так же, как и вечером, всей грудью протяжно вздохнул, поднялся с постели, взял папиросу и, стараясь не греметь костылями, вышел из комнаты. Ничего особенного не было в том, что Петро вышел покурить на кухню, так поступал он всегда, но Вера еще никогда не замечала, чтобы муж курил по ночам, и это усилило ее тревогу.
Он томительно долго не возвращался, и Вера, теряясь в догадках, чувствовала себя все тревожнее и тревожнее. Когда вновь застучали в коридоре костыли, Вера притворилась, что спит. Петро осторожно лег, видимо, пытался уснуть, но не мог, по-прежнему лежал неподвижно и глядел в потолок. Не смогла уснуть и Вера. Она несколько раз намеревалась заговорить с ним, но какая-то странная робость останавливала ее.
Утром, скрывая от всех тревогу, она впервые в жизни безрадостно и с неохотой ушла на работу.
Глава двенадцатая
Первое утро фронтовой жизни показалось Алеше будничным, совсем обычным, точно таким, какие изо дня в день, как две капли воды похожие одно на другое, повторялись все эти два месяца, что прослужил он в армии. Да и стояли они, как узнал Алеша, собственно не на фронте, а в резерве дивизии, километрах в восьми от передовой. Там, на юге, где был город Белгород и куда уходила широкая асфальтированная дорога, ночью изредка глухо стучали пулеметы, то тише, то громче ахали взрывы, бледными вспышками ракет озарялось небо. Ничего фронтового в этом Алеша не видел, но всякий раз, слыша эти отдаленные звуки, он чувствовал странный и совсем непонятный ему колкий холодок в груди, как бывает перед прыжком в воду с большой высоты.
При первом же вскрике «Подъем» Алеша поспешно вскочил с расстеленной на полу соломы, быстро оделся и с удовольствием натянул кирзовые сапоги. Рядом, спросонья зевая и покашливая, собирался Ашот. С другой стороны сопел и что-то сердито бормотал Гаркуша. Ефрейтор Чалый, словно и не ложился спать, стоял у двери и тихо поторапливал:
— Быстрее, быстрее, на физзарядку опоздаем.
— Черт-те что удумали, — сонно бормотал Гаркуша. — На фронте зарядка! Мабуть, и осмотр утренний будэ, и с писнями на прогулки пойдем?
— И осмотр будет, и прогулки, все, как положено по уставу, — невозмутимо ответил Чалый, сам дивясь своей командирской властности.
— По уставу, по уставу, — не унимался Гаркуша. — Вот как шандарахнет фриц дальнобойной, враз все уставы и все наставления пропишет.
Когда пулеметный расчет вышел из дома, на улице еще держалась зыбкая утренняя темнота. Гулко топая по подмерзшей земле, солдаты бежали, переходили на шаг, вновь бежали, рассыпавшись «на длину вытянутых рук», проделали несколько упражнений и разгоряченные, шумно дыша, разошлись по своим хатам.
— Вот водичка свеженькая, из колодца только принесла, мойтесь, пожалуйста, — приветливо встретила вернувшихся пулеметчиков Федосья. — Вот и полотенчики, старенькие, правда, но чистые, вчера выстирала.
— Не надо, Федосья Антоновна! Зачем все это, — пытался остановить ее Чалый. — Полотенца у нас свои есть, и воды сами принесем…
— Что вы, что вы! — упорствовала Федосья. — Свои полотенца чистыми берегите, они вам пригодятся на войне, там постирать некому.
Утренняя прохлада, бодрящая свежесть зарядки и особенно ласковый, душевный говор Федосьи так всколыхнули Алешу, что он не мог стоять без дела. Не ожидая приказания Чалого, он собрал разостланную солому, березовым веником начисто подмел пол в избе и, разыскав топор, вышел рубить хворост.
— Давай, давай, — толкнул его в бок проходивший мимо Гаркуша. — Старайся, в ефрейторы выйдешь! Я сам докладать тэбэ буду: «Товарищ гвардии кирпатый ефрейтор, пидначальный ваш Потап Гаркуша готов сполнять уси ваши повеления!»
— Отстаньте! Что вам нужно! — рассердился Алеша и резко оттолкнул руку Гаркуши.
— Ну, ладно, ладно! Не пыли! Побереги свою ярость для хрицев, — вновь толкнув Алешу в бок, миролюбиво сказал Гаркуша и скрылся за дверью.
«И что за человек, — думал о нем Алеша. — Так и язвит всех подряд! А может, война его так озлобила? — вдруг вспыхнула у Алеши неожиданная мысль. — Он же говорит, два раза ранен был, в грудь навылет и в правую ногу выше колена. А может, и семья у него погибла».
Когда Алеша вошел в избу, Гаркуша в одной нижней рубашке сидел мрачный, злой и, яростно орудуя иглой, подшивал к гимнастерке чистый подворотничок. Над ним, то вскидывая, то опуская изломанные брови, стоял Чалый и начальнически строго повторял:
— И подворотнички чтоб чистые были, и пуговицы все на месте, и ни одной дырки на обмундировании.
Чалый отвернулся от Гаркуши и, взглянув на Алешины сапоги, отрывисто бросил:
— Вычистить, чтоб сверкали! Щетка и мазь вот там, около моего вещмешка:
— Бачилы? — когда Чалый вышел из хаты, кивнул Гаркуша Алеше и Ашоту. — Тоже мне начальство выискалось! Ну, будь бы сержант, а то ефрейторишка, такой же, як и я, солдат сермяжный. А командует!
Со злости он оборвал нитку, плюнул, яростно рванул неполностью пришитый подворотничок, схватил новую нитку и, никак не попадая в игольное ушко, еще озлобленнее продолжал:
— Ну, будь бы там моряк, або танкист, летчик, ну, артиллерист на крайность, а то ж пехота лаптежная, а задается тоже!
Возможно Гаркуша злобствовал бы еще не один час, но в избу вместе с Чалым вошел Козырев и, окинув всех ласковым взглядом добрых глаз, весело спросил:
— Как спалось, хлопцы, на новом месте?
— Як у той тещи, що зятька любимого принимает! — так же весело ответил вдруг переменившийся Гаркуша. — Еще бы нам вареников чугунок та кусок кабанчика килограммчиков на пять!
— Как это говорят украинцы: «Був бы я царь, ее бы сало з салом и спал бы на мягком сене», — рассмеялся Козырев.
— Ни! Зовсим ни так, — буйно встряхивая головой, возразил Гаркуша. — Був бы я царь, ее бы галушки та вареники, запивал горилкой та валявся б на перине, як тот вельможа, що проспав усе царство небесне.
— И в грязных подворотничках ходил, — едко вставил Чалый.
— Каки таки пидворотнички у вельмож! — ничуть не смутился Гаркуша. — Це ж тильки нам бедолагам-солдатам придумалы це пидворотнички, а вельможи шарфами пуховыми шеи заматывали. Та не простыми, а лебяжьими, из-пид пуза белых либедив. О, це як!
Строгое, полное напыщенной серьезности лицо Гаркуши, его ставшие совсем наивными, желтоватые глаза и особенно смесь русского и украинского говора были так комичны, что только присутствие Козырева удерживало Алешу и Ашота от смеха. Даже все время суровый Чалый не выдержал взятого тона и улыбался не то укоризненно, не то одобряюще.
— Ну, ладно, пух так пух, лебяжий так лебяжий, — давясь от смеха, сказал Козырев. — Кончайте сборы и — на завтрак!
А Гаркуша, словно заряженный неисчислимым запасом острот, чудил, высмеивал и самого себя, и солдатскую службу, и все, что попадалось ему на глаза. Особенно развернулся он в помещении бывшего правления колхоза, наскоро приспособленного под батальонную столовую. Едва успел он присесть к сбитому из неструганых досок столу, как дружеский хохот уже завтракавших солдат потряс прокопченное здание.
Сидя рядом с Гаркушей, Алеша чувствовал на себе множество изучающих взглядов совсем незнакомых ему людей. Сквозь раскаты смеха до него доносились обрывки чьих-то разговоров:
— К пулеметчикам пополнение прибыло. Двое-то совсем молодятинка, а этот-то, этот, смотри, отчаюга! Видать, бывалый парень, огни и воды прошел…
— Ты что не ешь-то? — толкнув задумавшегося Алешу локтем, сказал Гаркуша. — Наедайся вдоволь. Знаешь, як выражався тот самый казак, що в запорожской сичи був самым що ни на есть смелым и сильным?
— Не знаешь! Ой, худы твои дела! Так вот слухай! Вин як очи продирав, так на усю округу гомонив: «Гей, кашевар, подать мени сюды котел каши, бочку браги, шматок сала, пив барана, целу гуску на закуску, ще куренка на прикуску, жбан горилки на утруску, та голушек на догрузку». О, це як! Настоящий був герой!
Взрыв дружного хохота смял последние слова Гаркуши. Среди солдат веселее и заразительнее всех смеялся смуглый парень с копной светлых вихрастых волос. Он поворачивался то к одному, то к другому соседу, что-то говорил им и, улыбаясь ярким, полнозубым ртом, утихал на мгновение, строго сдвинув жиденькие выцветшие брови над остреньким с едва заметной горбинкой носом и вновь заливался смехом, морща пухлощекое, с округлым подбородком лицо. Мимолетный взгляд его светлых, искрящихся радостью глаз часто останавливался на Алеше. Когда смех утих и многие, закончив завтрак, поднялись из-за стола, светловолосый парень подошел к Алеше и, все так же весело и просто улыбаясь, протянул ему тонкую руку.
— Тамаев, кажется, да? — спросил он звонким, с мальчишеской хрипотцой голосом и, не ожидая ответа Алеши, добавил:
— Будем знакомы, комсорг роты, Васильков Саша.
— Т… Тамаев Алексей… Алеша, — ответил Алеша, невольно подражая тону комсорга и крепко сжимая его сильную, костистую руку.
— Как настроение? — пристально всматриваясь в Алешины глаза, спросил Саша и, опять не ожидая ответа, продолжил:
— Конечно, вначале, когда еще никого не знаешь, неловко как-то, диковато, а потом привыкаешь. Ты родом-то откуда?
— Из-под Серпухова, с берега Оки.
— Да мы же земляки! — воскликнул Саша. — А я москвич. Лефортово знаешь, это почти окраина, но я так люблю эту окраину, что и на центр не променяю. Ну, ладно. Алеша, меня командир роты вызывает, бежать надо. Положение у нас вот какое: с тобой вместе нас, комсомольцев, будет теперь девять человек. Это уже сила, организация, правда? Собрание послезавтра. Поговорим о наших задачах. С докладом выступит командир роты. Ну, а тебе, я думаю, придется быть агитатором или помощником агитатора, так что готовься. И главное, Алеша, — шепотом продолжал он, — не теряйся, чувствуй себя на высоте, не забывай, что ты комсомолец. На нас все смотрят, а командование и парторганизация дел настоящих ждут. Так что — кровь из носу, но не отставать и другим пример показывать! В случае чего приходи, поговорим. Я в третьем взводе, во втором расчете. Ну, бывай!
Саша резко встряхнул Алешину руку, блестя глазами, дружески улыбнулся и стремительно пошел к дому, где жил командир роты.
— Кто это, а? Алеша, кто? — подскочил к Алеше нетерпеливо поджидавший его Ашот.
— Комсорг роты, Саша Васильков.
— Сразу видно — хорош парень, душа человек, глаза у него такой честный, такой простой, — с горячностью сказал Ашот и, схватив руку Алеши, горько воскликнул:
— Почему я не комсомол? Почему? Почему — башка дурной! Хотел паступить, боялся паступить, трусил. Не достоин считал, не дорос Ашот.
— А ты сейчас вступай.
— Нет! — решительно возразил Ашот. — Ни за что сейчас. В бой пойду, повоюю, вступлю. А теперь нельзя!
— И правильно! Отличишься в бою, тогда совсем другое дело.
— Отличишься! — отчаянно замотал головой Ашот. — В бою снаряды, мины, танки. Попробуй отличись! Агонь кругом, свистит, воет, стреляет. Поднял голова — дырка в лоб, нет Ашот; апустил голова — фашиста проморгал, штык в бок, опять нет Ашот!
* * *
Вдохновенная радость, овладевшая Алешей после разговора с комсоргом роты Сашей Васильковым, исчезла, казалось, совсем по никчемному поводу.
Сразу же после завтрака Чалый построил свой расчет, придирчиво осмотрев всех троих, повел на подсохшую луговину, где уже виднелись группы солдат из других взводов и рот.
Было погожее, солнечное утро ранней весны. Еще голые деревья нежились теплом и, казалось, испускали невидимые, но так хорошо ощутимые струи волнующего аромата. На их темных ветвях хлопотливо и озабоченно судачили грачи, ремонтируя старые и мастеря новые гнезда. Бездонная синь неба, выцветшая от солнца, неуловимо голубела. Где-то совсем недалеко задористо звенел жаворонок.
Или от разговора с комсоргом, или от прелести чудесного весеннего утра Алеше было радостно и весело. Чувствуя каждую частичку своего тела, он твердо шагал по сырой земле и мысленно напевал одну и ту же мелодию. В мелькавших, как воспоминания отрывочных мыслях уносился он то на берег родной Оки, где теперь уже сошел лед и ребята с удочками-закидушками блаженствуют на обрывистом берегу. А через минуту был уже на юге, у города Белгорода, где прошлой ночью опять глухо стучали выстрелы, эхом отдавались редкие взрывы, бледно озаряли небо вспышки ракет и шла незнакомая, таинственная фронтовая жизнь, в которой он, Алеша Тамаев, скоро займет свое достойное место.
— В ногу, Тамаев, в ногу! — бесцеремонно оборвал Алешины мысли резкий голос Чалого.
Алеша встрепенулся и только сейчас заметил, что сбился с шага и шел вразлад с Гаркушей и Ашотом. От этой оплошности все очарование мигом исчезло, и он, как учили в запасном полку, пропустил один шаг и приладился к ходу шедшего впереди Гаркуши.
— Расчет… — неумело, совсем не по-военному скомандовал Чалый. — Стой! Нале-во!
Да и сам Чалый, когда посмотрел на него Алеша, был мало похож на военного, а тем более на командира. Маленький, худенький и горбоносый, он растерянно стоял перед расчетом, видимо не зная, что делать.
«Ну и командир!» — мелькнула у Алеши язвительная мысль, но он тут же отбросил ее, осуждая себя за недостойное поведение.
— Сейчас мы, — глядя почему-то в землю, нескладно прокричал Чалый, — займемся элементами тактико-строевой подготовки. Это значит: перебежки и переползания по-разному, значит так, это по-пластунски, на получетвереньках и… — окончательно сбившись, замялся. — Ну и вообще так, как надо в бою перебегать и переползать.
Смешными и нелепыми казались Алеше и сам Чалый в роли командира, и эти перебежки и переползания, которыми они — молодые солдаты — в запасном полку занимались чуть ли не каждый день.
— Ну, с кого качнем? — беспокойно оглядывая Гаркушу, Алешу и Ашота, проговорил Чалый. — Давайте-ка с вас, Тамаев, — остановился он на Алеше, крикнул ему: «Два шага вперед, ложись!» — и, растягивая слова, пропел:
— Новая огневая позиция — прямо сто метров, у куста. Короткими перебежками на новую огневую позицию — вперед!
Алеша, позабыв смешную фигуру Чалого и его визгливый голос, порывисто вскочил и стремительно, что было сил, понесся к темневшему невдалеке кусту рябины.
— Стой, стой! — почти добежав до куста, услышал Алеша голос Чалого. — Убит, наповал убит! — еще назойливее кричал Чалый. — Назад возвращайся, снова повторим.
Ничего не понимая, Алеша понуро вернулся, лег на прежнее место впереди Гаркуши и Ашота, по команде Чалого так же резво вскочил и еще стремительнее побежал, вкладывая в этот бег все свои силы. И опять Чалый прокричал: «Убит, убит наповал!» — и вернул Алешу в исходное положение.
— Эх, ты! Разве так перебегают, — укоризненно, но без злости сказал Чалый. — Смотри, как нужно.
Он неожиданно резко шагнул в сторону, словно подломив ноги, плашмя рухнул на землю и сам себе нараспев скомандовал:
— Новая огневая позиция у куста. Короткими перебежками, вперед.
Он стремительно вскочил и, пригибаясь к земле, побежал так быстро, что Алеша даже не успел заметить, когда Чалый упал, отполз в сторону и снова побежал.
— Видал: коленца выделывает, — одобрительно сказал Гаркуша и локтем толкнул Алешу. — А ты что же! Тоже, герой, на курсах пулеметчиков занимался!
Алеша даже не слышал язвительных слов Гаркуши. Оцепенев, он видел только сухопарую фигуру Чалого, его резвые ноги и худое, изрезанное морщинами лицо. Не обида, не отчаяние, а полное отрешение от всего окружающего охватило Алешу. Маленьким, беспомощным, совсем ни на что не способным чувствовал он себя и все так же, не отрывая взгляда, смотрел на Чалого, который перебежку проделал так, как не смог он, лучший бегун в своем селе и победитель многих школьных состязаний.
— Ну, вот. А теперь повторим, — шумно дыша, с бесхитростной улыбкой сказал Чалый и подал команду занять Алеше исходное положение.
«Пробегу, пробегу точно, как нужно!» — мысленно твердил Алеша и, услышав команду, вскочил, со всей силой рванулся вперед, упал на землю и, отчаянно работая руками и ногами, отполз в сторону.
— Мало, мало пробежал! — остановил его Чалый. — Такая перебежка все одно гибель. Фашисту и прицеливаться не нужно, ты рядом совсем. Повтори-ка снова.
И опять Алеша, злясь на самого себя, бежал, падал, отползал в сторону, но перебежка оказывалась то длинной, то слишком короткой, то отползал или медленно, или далеко, то вскакивал неповоротливо, и Чалый снова и снова возвращал его назад и приказывал повторить перебежку. Когда измученный и душой и телом в десятый раз возвращался Алеша к расчету, Чалый взглянул на его распаленное жаром лицо и неторопливо проговорил:
— Ну, хватит на этот раз. Смысл, кажется, понял. Бегать, вроде, с умом начинаешь.
Теперь настала очередь Ашота. Словно нетерпеливый конь, он не мог стоять спокойно и, не дослушав команды Чалого и, видимо, не чувствуя самого себя, побежал так неумело и смешно, что Алеша, всей душой сочувствуя ему, не мог удержать улыбки.
Но неудачной у Ашота была лишь первая попытка. Возвращаясь на исходное положение, он, казалось, переродился. Почернелое лицо его налилось гневом, яростно блестели огромные, словно без зрачков, глаза, движения рук и ног были резки и отрывисты, бледные губы сжались, и ниже острых скул нервно вздрагивали мышцы.
— Ух, кавказская кровь разгулялась! — с неизменной усмешкой сказал Гаркуша. — Не подходы — зарэжу!
— Разговоры! — оборвал его Чалый.
Еще трижды возвращался Ашот, с каждым разом проделывая перебежки все увереннее и спокойнее.
— Молодец! Молодец! — подбадривал его Чалый. — Еще побыстрее отползай и пулей вскакивай. Тогда ни один фашист тебя не достанет!
Последним бежал Гаркуша, и, к удивлению Алеши, так бежал, что Чалый еще при первой попытке одобрительно сказал:
— Сразу видно, что послышал, как пульки над головой цвенькают!
Самодовольно улыбаясь, Гаркуша стал в строй и, опять толкнув Алешу локтем, прошептал:
— Это тебе не курсы кулэмэтные!
Разбитый, уничтоженный, боясь взглянуть на людей, возвращался Алеша с занятий. В голове складывались и мелькали десятки мыслей, и ни одна из них не была радостной. Проголодавшись за полдня, он с трудом съел обед и, когда расчет вернулся в свою хату, тайком выбрался на улицу.
На землю уже легли длинные тени, и в воздухе заметно похолодало. Из низины за деревней, где протекал ручеек, тянуло сыростью и прелью старых водорослей. От этого, так хорошо знакомого и волнующего запаха ранней весны у Алеши сладко защемило в груди, и память сразу же вернула его в родное Подмосковье, на берег Оки, где сейчас точно так же пахнет водорослями и подсушивает землю легкий морозец. Неторопливо и привольно, заливая пойменные луга и низинный лес, плывут помутневшие воды. В деревне тихо в эти часы, спокойно. Работа в колхозе закончилась, и люди расходятся по своим избам. Мать кормит корову, Ленька, видать, прихорашивается, собирается на вечерку, Костя и Сенька сидят за уроками, а пятилетняя Люба, подражая им, старательно выводит каракули в своей дочерна исчерканной тетрадке. Все они дома, все спокойны, и только отец и он, Алеша, далеко-далеко от родной Оки, в чужих краях, на военной службе. Вспомнив отца, Алеша глубоко вздохнул. Скоро два года, как не виделись они, и в памяти Алеши отец оставался таким же, каким видел он его во второй день войны на вокзале в Серпухове, — молчаливым, сосредоточенным, о чем-то неторопливо говорившим с плачущей матерью и шершавой рукой ласкавшим их, окруживших его пятерых детей. В армии Алеша от отца получил всего одно письмо. Он писал, что находится на передовой, бьет извергов-фашистов, и наказывал ему, Алеше, бить фашистов беспощадно, бить так, чтобы они не только не дошли до их родного села на берегу Оки, но и были выброшены с нашей земли и навсегда были загнаны в могилу. Отец ничего не писал прямо, но Алеша, читая между строк, понимал, что он тревожится не только за его жизнь, но и за его службу, за боевые дела и страстно хочет, чтобы старший сын был настоящим воином.
«Настоящим воином! — прошептал Алеша. — А я? Какой же я воин! Даже перебегать не умею!».
От этой мысли Алеше стало горько и тоскливо. Он присел на березовый обрубок и по-стариковски опустил голову на руки.
— О чем грустишь, Алеша? — вздрогнул он от знакомого голоса и, привстав, увидел Сашу Василькова.
Комсорг подошел к нему и сел рядом.
— Куришь? — спросил он, доставая красивый, вышитый разноцветными шелками, кисет.
— Н… Н… Нет, — пробормотал Алеша и вдруг, словно вспомнив что-то важное, решительно добавил:
— А впрочем, давай закурим.
— Нет. Не стоит, — возразил Саша. — Раз не приучился курить, то не следует, ни к чему это. По себе чувствую. Я-то по дурости, чтобы казаться взрослым, курить начал, в сентябре сорок первого. Мне семнадцати тогда не было. Ополчение у нас в Москве собиралось. Ну и я пристал к ним. Такая злость на фашистов поднялась, не мог усидеть дома. Пришел в военкомат — не берут, в райком комсомола — тоже, говорят, рановато, ну, я прямо к отцу на завод и в ополчение с заводскими вместе. Вот, чтобы казаться большим, и начал я курить, а потом в привычку вошло.
— Трудно было вначале? — не зная почему, спросил вдруг Алеша.
— Очень! — прошептал Саша. — Ничего же я военного делать не умел. В школе-то мы на военном деле игрушками занимались, все чапаевцами лихими представлялись да из малокалиберки щелкали. А вот винтовку боевую, гранату настоящую и в глаза не видели. Ну, изучить оружие это еще четверть дела, а вот настоящее военное дело — это целая наука! Я как вспомню сейчас, каким, был, — затягиваясь дымом, улыбнулся Саша, — так смешно станет, просто не верится даже. Первый раз стрельнул из боевой винтовки и даже в щит не попал. Да что там стрельба! Какие-то перебежки, переползания несчастные и те были для меня настоящим бедствием. Хорошо, что в отделении ребята были настоящие вояки, всему научили. А на марше — мы же тогда, ополченцы, день и ночь маршировали — просто вспомнить стыдно. Пройду километров пятнадцать и выдохся. Ноги одеревенеют, руки, как плети, болтаются. Стиснешь зубы и только думаешь, как бы не упасть до очередного привала. А потом втянулся, и все пошло. А ты как? Трудно? — подняв на Алешу светлые, искристые глаза, тихо спросил Саша.
— Трудно, — признался Алеша.
— А ты знаешь что, — вплотную к Алеше придвинулся Саша, — ты самое главное, как тебе сказать-то, самолюбие вот это, что в каждом из нас есть, выбрось, совсем выбрось, забудь про него. Конечно, и стыдно, и обидно, когда плохо получается, по себе знаю, но ты перебори стыд этот, подави обиду в себе и учись, у всех учись: у взводного, у отделенного, у товарищей, особенно у фронтовиков, у тех, кто уже воевал. И не обижайся, не терзай себя сомнениями, обидами. Все это мелкое, пустое. Самое главное — воевать научиться, а тогда все пойдет!
Алеша жадно ловил каждое слово комсорга и, чувствуя, как внутри нарастает и ширится волна еще не испытанной радости, все ближе придвигался к нему. Не юношей всего на год старше его казался Алеше Саша Васильков, а умудренным опытом, настоящим, прошедшим многие бои солдатом, у которого ему, Алеше, нужно многому и многому учиться.
«Да, да! — мысленно говорил себе Алеша. — Из-за гордости я так переживал и все делал плохо. Прав Саша. И откуда он только узнал все про меня?»
* * *
Сразу же после ужина Алеша хотел опять уйти в садик; но в дом, где жил расчет Чалого, пришел Козырев, а Гаркуша, не говоря ни слова, достал старательно завернутую в чехол гитару, присел к столу и, сам себе подыгрывая, начал петь. В это время, когда, склонясь над гитарой, то буйно, разудало, то медленно и меланхолично перебирал струны, Гаркуша был неузнаваем. Просмоленное цыганское лицо его потеряло прежнее жесткое и язвительное выражение, движения, даже при резких звуках струн, были мягкие, осторожные, голос, обычно визгливый и звонкий, приятно разливался по тускло освещенной, с густыми тенями по углам избе. Пел Гаркуша вдохновенно, страстно и знал он бесчисленное множество песен. Все эти песни были то про море, про Одессу, про рыбаков, грузчиков, то про южные ночи и чернооких красавиц, то про беззаветно преданных, верных и безответных, то про коварных, изменчивых и ненадежных подруг все тех же рыбаков, моряков и грузчиков.
Чалый, недовольно косясь на Гаркушу, вначале почти не слушал его, но с каждым новым перебором струн, с каждой новой песней лицо его прояснялось, и из груди вырвался не то горестный, не то радостный вздох. Привалясь к стене, он прищуренными глазами неотрывно смотрел на тусклое пламя трофейной плошки и, казалось, застыл так на веки вечные, не желая и не имея сил даже пошевеливаться.
Козырев, посадив на колени двоих старших детей Федосьи, тихо раскачивал их в такт музыки и, словно что-то приговаривая, беззвучно шевелил бледными губами. Рядом с ним, принарядясь в чистую, очевидно единственную, цветастую кофточку и причесав гладкие, маслянисто отблескивающие волосы, примостилась Федосья. Лицо ее помолодело, глаза, то озаряясь радостью, то изливая тихую, мечтательную грусть, все время смотрели на Гаркушу. Она часто глубоко и протяжно вздыхала, но тут же обрывала вздох, словно боясь спугнуть и навсегда развеять это, так неожиданно посетившее ее хату давно не испытываемое очарование.
Маленький, юркий и непоседливый Ашот, по-кошачьи мягко ступая, немой тенью скользил от дальнего угла к двери, от двери к печке, затем обратно в полумрак угла, изредка замирал на мгновение и с завистью смотрел на Гаркушу, словно собираясь сделать что-то, поднимал руку, но тут же опускал ее и продолжал бесшумно шагать по видимо полюбившемуся короткому пути.
Алеша, вначале все еще находясь под впечатлением разговора с комсоргом, почти не обращал внимания на игру Гаркуши. Он листал взятую у хозяйки старую потрепанную книгу, пытаясь по стершимся строчкам узнать, что это за книга. Он вчитывался в текст, но понять ничего не мог и, сам не замечая как, положил книгу на подоконник и бессознательно вслушался в музыку. Многие песни и мелодии он слышал раньше. Многие были совсем незнакомы, но сейчас, повторяясь одна за другой, все они — и мечтательно-грустные, и игриво-задорные, и меланхолично-тоскливые и буйно-озорно-веселые — сливались во что-то одно целое и не веселое и не грустное, и не озорное, и не печальное, создавая странное, неизведанное ощущение чего-то большого и светлого, подернутого мечтой и негой. От этого сладко щемило в груди и хотелось без конца сидеть, ничего не вспоминая, ни о чем не думая и ничего не делая. Алеша слушал Гаркушу, того самого Гаркушу, который успел за короткий срок причинить ему столько обид, и это пение раскрывало его совсем в другом свете. Алеша не забыл, не мог забыть всех обид и насмешек Гаркуши, но сейчас все они, раньше такие болезненные, как-то незаметно потускнели, стерлись, уходя куда-то далеко в глубь памяти, как уже пережитое и теперь совсем не обидное, а даже смешное.
На Алешу нахлынуло нежное оцепенение. Он ни о чем не думал, единственно желая, чтобы это состояние продолжалось долго-долго. Но все оборвалось совсем неожиданно и мгновенно.
— Ну, повеселились и хватит! — мягко сказал Козырев и, взглянув на большие карманные часы, добавил. — Время отбоя, пора спать.
Алеша, Чалый, Федосья и Ашот одновременно повернулись к нему, явно выражая сожаление, что так внезапно разрушилось все то чудесное, чем они жили всего секунду назад. Только один Гаркуша остался невозмутим. Он лениво поднялся, отложил гитару, с хрустом в костях потянулся и, протяжно, с видимым наслаждением зевнув, бесстрастно сказал:
— Що ж, спать так спать. А то хозяйка, як то в пословице, скаже нам: «Дорогие гости не надоели ли вам хозяева!»
— Что вы, что вы! — зарделась и от слов, и от взгляда Гаркуши Федосья. — Я что! По мне хоть всю ночь играйте. Уж больно душевно играете вы, так и пронизывает насквозь, — закончила она и совсем молодо улыбнулась Гаркуше.
— Це ж разве игра! — явно довольный похвалой, отмахнулся Гаркуша. — Вот у нас в порту рыбачок один був, так вин так играв, що зо всий Одиссы народ сбегався. Як рванет, бывало, трехрядку свою яснопугвичну, як зальется, що тот соловий…
После всего, что было за день, Алеша и не мог и не хотел спать. Все эти, стремительно находившие одно на другое события, так переплелись между собой, что он не мог разобраться толком, что важно и что неважно, что главное и что второстепенное, воспринимая происходящее с ним и вокруг него как одну сплошную цепь радостных и значительных перемен и событий.
Глава тринадцатая
Идея создания ловушки для советских войск и разгрома их у Днепра так овладела фельдмаршалом Манштейном, что он в течение февраля и первой половины марта несколько раз обращался со своим предложением к Гитлеру, а затем представил ему всесторонне разработанный «план ответного удара».
Не доверяя и своему начальнику штаба, и своим ближайшим помощникам, Манштейн лично разработал этот план, вложив в него все свои знания и весь многолетний военный опыт. На его рабочем столе, скрытый от посторонних взглядов обычной картой обстановки, лежал этот план — любимое детище фельдмаршала. Оставаясь наедине, он снимал старую и, как завороженный, смотрел на совсем новенькую карту. На ней его собственной рукой красными стрелами от Белгорода и Харькова, от извилин Северного Донца к многоводному разливу Днепра вычерчено предполагаемое наступление советских войск. А на их правом фланге, вокруг города Сумы и прилегающих к нему мелких городов, грозно затаились коричневые овалы и кружки немецких танковых дивизий. Как наяву, видел Манштейн движение советских дивизий, корпусов, армий, слышал грохот артиллерии и гул самолетов, осязаемо чувствовал запах порохового дыма и горелого металла. Вот советские войска перевалили через Северный Донец, подошли к Харькову, Барвенкову, Макеевке, а грозные полнокровные немецкие танковые дивизии невозмутимо стоят у Сум, готовые в любую минуту ринуться вперед. Советские войска уже более двух сотен километров продвинулись вперед, перед ними, перескакивая от одного промежуточного рубежа к другому, отходят немногочисленные немецкие части прикрытия, своим огнем и упорством создавая видимость и решительного сопротивления и почти полного разгрома. Это, конечно, введет советское командование в заблуждение, и оно все настойчивее будет проталкивать свои ударные группировки вперед, к Днепру. А немецкие танковые дивизии у Сум все продолжают и продолжают стоять, надежно укрытые от советской разведки. И вот наконец блистательный финал. Советские войска, все так же ведя бои с немецкими частями прикрытия, подходят к Днепру, к городам Днепропетровск, Запорожье, Мелитополь. На многие сотни километров от Северного Донца до самого Днепра растянулись их тылы, далеко позади остались аэродромы, выгрузочные станции, склады и базы. Советские ударные группировки на огненном пути от Северного Донца и до Днепра растаяли, ослабли, понеся потери и от немецкого огня и от естественной убыли, неизбежной в большом наступлении на такое огромное расстояние. Манштейну видятся реденькие цепи советской пехоты и одиночные танки, рвущиеся к Днепру, обозы, колонны, отдельные повозки и машины, далеко отставшие от них. Он ощутимо представляет нервозность советского командования, лихорадочные действия Рокоссовского, Ватутина, Малиновского, Толбухина, когда их войска почти достигли заветной цели — берегов Днепра, — и, ослабленные, истощенные, не могут продвинуться дальше. Этот момент был самым важным, самым торжественным во всем плане Манштейна. Все так же не отрываясь от карты, он неторопливо возьмет телефонную трубку, соединится с командующим танковой группировкой у Сум и скажет единственное слово — «Вперед!» Это и будет началом окончательной победы над русскими. Грозные, несокрушимые и стремительные «Великая Германия», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер», «Викинг» и «Райх», а с ними еще более десятка танковых дивизий ринутся на юг и юго-восток во фланг и в глубокий тыл советских ударных группировок, продвинувшихся к Днепру. Как гигантский нож, пронзят они все это пространство от Сум и до Азовского моря, отрежут и окружат, а затем так же стремительно уничтожат все советские войска между Северным Донцом и Днепром. Три, а то и четыре советских фронта, имеющие в своем составе многие десятки дивизий и корпусов, навсегда перестанут существовать. А победоносные войска его, фельдмаршала Манштейна, группы армий «Юг» вновь устремятся в советский Донбасс, в донские и приволжские хлебные просторы, к богатейшим запасам кавказской нефти, к границам Ирана и Турции.
Воображение Манштейна так разыгралось, что он не выдержал, с силой ударил ладонью по карте и не по возрасту стремительно, почти бегом прошелся по кабинету. Восторженные мысли его прервал мелодичный бой часов. Безразлично взглянув на стрелки, Манштейн встрепенулся. До приезда Гитлера оставалось всего сорок минут. Не пройдет и часа, как Манштейн здесь, в Запорожье, доложит самому фюреру свой «план ответного удара».
* * *
Решение генерала Ватутина о нанесении в направлении Белгорода и Харькова упреждающего удара с целью срыва сосредоточения ударной группировки вражеских войск Верховным Главнокомандованием еще не было утверждено и держалось в строжайшей тайне. Но в штабе фронта незримо, словно само по себе, уже нарастало и ширилось то деловое и нервное напряжение, которое охватывает крупные штабы перед началом нового и большого дела.
Ватутин с утра обычно уезжал в армии, корпуса и дивизии, в сумерках возвращался и, одного за другим вызывая своих ближайших помощников, до поздней ночи выслушивал доклады, отдавал распоряжения.
Начальник штаба, командующие родами войск, начальники служб, возвращаясь от генерала Ватутина, уединялись в своих кабинетах, вызывали подчиненных, обдумывали и обсуждали, что нужно было сделать, отдавали приказания и распоряжения, которые шли дальше, втягивая в работу начальников отделов и отделений, их заместителей и помощников, рядовых офицеров, чертежников, писарей, машинисток.
И скоро весь огромный аппарат полевого управления фронта с его многочисленными органами и ответвлениями, ничего еще толком не зная о предстоящей операции, но уже догадываясь, что операция предстоит крупная и серьезная, трудился целыми днями и ночами. Он собирал и уточнял сведения, разрабатывал и дополнял расчеты, добывал новые и уточнял старые данные обстановки, без которых не может принимать решение и действовать ни один командующий.
Генерал Решетников, даже не заняв отведенной ему квартиры, уехал в войска, и Андрей Бочаров остался один.
Несмотря на то, что в штабе фронта кипела неугомонная работа, у Бочарова дел почти не было. Все необходимые сведения и доклады, которые требовал Генеральный штаб, были подготовлены и отправлены. Вмешиваться же в работу офицеров штаба фронта, когда каждый из них, не зная общего замысла предстоящей операции, выполнял лишь отдельные, узко специальные и ограниченные задания, Бочаров считал неудобным и ненужным. Ежедневно утром и вечером он заходил в управление штаба фронта, узнавал последние данные обстановки, дополнял свою карту и, не желая мешать работе, уходил к себе. Используя свободное время, он решил еще раз перечитать случайно раздобытые тома любимых им Льва Толстого и Тургенева, но прочитать почти ничего не мог. Едва он брался за книгу и пытался углубиться в чтение, как перед его глазами отчетливо и ярко возникали очертания линии фронта, причудливо создавшей две огромные дуги с центрами одна в Орле, а вторая в Курске. Угрожающими окружьями синели районы сосредоточения вражеских танковых дивизий в районе Белгорода и Харькова, один за другим превращались в осязаемые войска, почти непрерывно подходившие к Орлу, к Белгороду и Харькову воинские эшелоны противника. Бочаров откладывал книгу в сторону и вновь склонялся над картой оперативной обстановки. Он часами смотрел на изученное до мелочей, исчерченное карандашами цветное поле карты от Орла и Брянска, переходя к Сумам и Курску, к Белгороду и Харькову, к Полтаве и Днепру. Карта наглядно и убедительно показывала расположение своих и вражеских войск, вырисовывала рельеф местности, леса, реки, железные, шоссейные и грунтовые дороги, города, поселки, села и даже крохотные деревеньки. Карта, казалось, безмолвно, но вполне понятно говорила обо всем, но она не давала и не раскрывала, хотя бы мельком, самого главного — что же намеревается делать противник, какие у него замыслы и планы, к чему сведутся его действия: к гигантскому наступлению, как бывало в сорок первом и сорок втором годах, или к обороне, как результату коренного перелома в ходе войны. Эти вопросы и мучили Бочарова.
«Если противник вновь решит развернуть наступление, — раздумывал он, — то нужно готовить сильную оборону не где-нибудь, а именно здесь, севернее и южнее Курска, у основания так называемой теперь Курской дуги. Здесь, а не где-нибудь в другом месте, противнику выгоднее всего по самым кратчайшим направлениям нанести удары и поставить под угрозу окружения или даже окружить силы двух наших самых сильных фронтов — Центрального и Воронежского. Но перейдет ли противник в наступление? Не замышляет ли он коварный ход: выждать наше наступление, измотать нас в обороне, а затем таранным ударом всех этих сосредоточенных в районе Харькова танковых дивизий навалиться на наши ослабленные в ходе наступления войска, окружить их и уничтожить. Это — вполне вероятно. Этого нужно ждать. А если это так, то следует ли, как предложил генерал Ватутин, наносить упреждающий удар? Не заведет ли этот удар наши войска в хитроумную ловушку врага? Да, но и сидеть, сложа руки, тоже нельзя. Если противник не думает проводить крупного наступления, то его главной целью, основным стремлением будет выиграть время для затягивания войны. А каждый лишний день войны это тысячи лишних жертв, ненужное и бесцельное напряжение людей в тылу, которые и так изнемогают под тяжестью военного бремени. К тому же, если гитлеровцы откажутся от решительного наступления и перейдут к обороне, то они признают свое бессилие разгромить Советский Союз и всеми силами будут стремиться к сговору с нашими западными союзниками — с англичанами и американцами. А если этот сговор произойдет, то положение Советского Союза несомненно ухудшится. Значит, нужно бить противника, громить его, не давать ни одной минуты передышки. Значит, прав генерал Ватутин, настаивая на немедленном и решительном ударе по белгородско-харьковской группировке противника всеми наличными силами не только Воронежского фронта, но и стоящего в резерве Степного фронта.
«Да, но если противник ждет этот удар и готовит нам хитрую ловушку», — вновь сомневался Бочаров и вновь всматривался в исчерченное поле карты, обдумывая и передумывая все возможные варианты действий противника.
Размышления Бочарова прервал вернувшийся из поездки в войска, расположенные в первом эшелоне, генерал Решетников.
Все такой же свежий, чисто выбритый, в ладном кожаном реглане, он торопливо пожал руку Бочарова, снял папаху и присел к столу.
— Что нового? — с едва заметной хрипотцой в голосе спросил он.
— Штаб фронта продолжает подготовку материалов для упреждающего удара по белгородско-харьковской группировке противника, — ответил Бочаров. Но решения Ставки еще нет.
— И чудесно, что нет! — отрывисто бросил Решетников и, сняв реглан, вновь присел к столу.
— Конечно, — хмуря широкий лоб, продолжал он, — весьма выгодно именно сейчас, когда противник еще не закончил сосредоточения и укомплектования своих войск, нанести ему сокрушительный удар. Это может дать потрясающие результаты и привести к крушению всего южного фланга немцев. Но, во-первых, как говорил Лев Николаевич Толстой, нельзя забывать про овраги. А оврагов у нас тут больше, чем достаточно, и все залиты водой, берега раскисли. Да что берега, все дороги, все поля — сплошное болото. Пока не кончится распутье, ни о каком серьезном наступлении и думать нельзя. Это первое. А вот и второе. Я побывал почти во всех дивизиях нашего фронта, и впечатление весьма безотрадное. Войска, особенно стрелковые и танковые, не укомплектованы, пополнение, правда, уже прибывает, но в мизерных количествах. Пулеметов, противотанковых пушек и танков очень мало. Да и запас снарядов, мин, патронов весьма и весьма скудный. Один день хорошего боя — и стрелять нечем! С такой укомплектованностью и обеспеченностью войск наступать нельзя. Нужно время, чтобы пополнить части людьми, оружием, боеприпасами. И медлить нельзя. Каждый день отсрочки дает возможность противнику все больше и больше укрепляться. В конце концов, когда мы будем готовы к решительным действиям, к этому же будет готов и противник. И вот представьте: ринемся мы на Белгород, на Харьков и сразу же столкнемся с огромной массой вражеских танков. В лучшем случае начнутся затяжные, кровопролитные бои, в ходе которых и мы и противник будем измотаны, обескровлены и вновь окажемся в точно таком же положении, в каком пребываем сейчас. Так из-за чего же огород городить? Чтобы потерять тысячи жизней и сесть в разбитое корыто? Но это еще не все. Весьма сложнее и опаснее другое. Весь опыт прошлого, да и здравая логика говорят, что никогда нельзя пренебрегать личными качествами командования противника, наивно и весьма пагубно считать противника глупцом. Лучше переоценить врага, чем недооценить. А кто перед нами? Группа немецких армий «Юг», и командует этой группой фельдмаршал Манштейн. Едва ли можно сомневаться, что Манштейн упустит возможность использовать свое преимущество в количестве бронетанковых войск. Он наверняка придумает такой ход, который при малейшей нашей оплошности поставит нас в весьма затруднительное положение. Давайте, Андрей Николаевич, — глядя на Бочарова предложил Решетников, — давайте поставим себя на место Манштейна и пофантазируем, как бы поступили мы, будучи в его положении. Что нам известно?
— Прежде всего то, что у Манштейна много танковых дивизий, — ответил Бочаров.
— Совершенно справедливо, — согласился Решетников.
— А это маневренная ударная сила, — продолжал Бочаров, — которую, безусловно, выгоднее использовать не для прорыва обороны, а для развития наступления…
— Или для нанесения ответного удара, — не выдержав, добавил Решетников. — То есть применить танки в таких условиях, когда противник находится на открытой местности и имеется возможность полностью использовать маневренность машин и не попасть под расстрел из подготовленной обороны.
— Да, но мы знаем немало случаев, когда немцы бросали свои танковые дивизии для непосредственного прорыва обороны, — возразил Бочаров.
— Бывало, но это в тех случаях, когда или оборона слабая, или необходимо наступать при любых обстоятельствах. Есть ли сейчас такая необходимость у Манштейна?
— С какой точки зрения смотреть.
— Вот именно. Непосредственно Манштейну, его группе армий сейчас нет крайней необходимости наступать. Вернее, и сил недостаточно, и нет выгодного объекта для наступления. Он может преспокойно выждать, когда мы начнем наступление, подготовленной обороной измотать наши ударные группировки, сосредоточить свои танковые дивизии в мощный кулак и, когда наши войска ослабнут, нанести им сокрушительный удар. Согласны? — пытливо посмотрел Решетников на Бочарова.
— Я так и думал. Только и не наступать гитлеровцам нельзя.
— Совершенно верно, — вскричал Решетников. — Переход к чистой обороне для них гибель! Перейти к стратегической обороне и отказаться от наступления значит признать свое поражение и всему миру, а в первую очередь самим немцам, показать, что война против Советского Союза проиграна. Поэтому будут, будут, — стучал Решетников кулаком по столу, — обязательно будут гитлеровцы наступать. А если так, то на кой черт нам первыми переходить в наступление, подставлять свой лоб, нести излишние жертвы. Не лучше ли подготовить мощную оборону, дождаться наступления противника, измотать его в обороне, а затем всеми силами перейти в контрнаступление и погнать гитлеровцев на запад.
— Это самое целесообразное, — восхищенно глядя на Решетникова, воскликнул Бочаров. — И потерь меньше, и успехи будут колоссальные.
— Значит, мнение у нас единое, — вытирая платком вспотевшее лицо, мягко сказал Решетников. — Так и доложим Военному Совету фронта и в Москву.
* * *
Второй час Манштейн, не отходя от занявшей полстены карты, ровным и неторопливым голосом докладывал заветный «план ответного удара». Заложив ногу за ногу и придерживая левую руку правой, Гитлер сидел безмолвно, не шевелясь и ничем не выдавая своего отношения к словам Манштейна. Начальник генерального штаба генерал-полковник Курт Цейтцлер, наоборот, с удивительным вниманием и нервной напряженностью следил за каждым движением Манштейна, то и дело крохотной авторучкой отмечал что-то в записной книжке, в раздумье морщил покатый лоб и вновь устремлял острый взгляд на карту.
Необычная бесстрастность Гитлера и нервозность Цейтцлера насторожили Манштейна. Он хорошо знал и того и другого. Если Гитлер молчит и столь долго и терпеливо слушает другого, то в нем несомненно борются какие-то ему самому еще не ясные и противоречивые мысли. А это может привести к совершенно неожиданным результатам. Цейтцлер же, всегда отличаясь прямотой в высказывании своих взглядов, так же, видимо, имел какие-то свои планы и теперь, слушая Манштейна, или вновь обдумывал их, или, возможно, склонялся на сторону командующего группой армий «Юг».
Пытаясь разгадать мысли Гитлера и Цейтцлера, Манштейн говорил все медленнее и медленнее, чеканя каждое слово, но много раз обдуманные и передуманные варианты действий вскоре вновь властно завладели им, и он продолжал докладывать, все более увлекаясь и горячась.
— Умный план, несомненно умный, — хрипло и равнодушно проговорил Гитлер, когда Манштейн, резко перечеркнув окруженную группировку советских войск на Азовском побережье, красивым и эффективным, давно подготовленным жестом, закончил свой доклад.
— Но как вы остановите войска, которые по вашим приказам будут отступать от Северного Донца и до самого Днепра? — нервно выкрикнул Гитлер, в упор глядя на Манштейна. — Не будете же вы доказывать каждому солдату, что вы отступаете умышленно, чтобы заманить противника!
Манштейн хотел было ответить, но Гитлер властным взмахом руки остановил его, заметно побледнел, отчего на его впалых щеках еще отчетливее выступили красные пятна, и совсем тихо продолжал:
— Вся история войн наглядно показывает, что всякое отступление, даже если оно преднамеренное, умышленное и преследует великие цели, разлагает войска и деморализует народ. Стоит только начать отступление, как дух армии падает, а народ страны начинает роптать. Вспомните хотя бы древность.
Манштейн хорошо знал любимую привычку Гитлера в своих выступлениях приводить огромное количество исторических примеров, в душе часто посмеивался над этим чудачеством фюрера и теперь, не ожидая ничего нового, слушал рассеянно, для виду задумчиво склонив крупную, с большими залысинами голову.
Но Гитлер, поговорив немного о римлянах и древних греках, на мгновение смолк, хрипло прокашлялся и резко, в упор глядя на Манштейна тусклыми выпуклыми глазами, выкрикнул:
— А вы забыли, как бежали от Волги и каких усилий стоило мне, чтобы остановить ваши перетрусившие войска хотя бы вот тут, у Днепра, за Харьковом и Белгородом? Я пошел на риск, бросил вам на помощь все, и после этого вы предлагаете добровольно начать отступление на целые сотни километров!
Такой взрыв не предвещал ничего хорошего, и Манштейн, внутренне сжавшись, не мог поднять головы и прямо взглянуть на Гитлера.
Неожиданно Гитлер смолк, отпил глоток лимонада и спокойно, ровным и неторопливым голосом продолжал:
— Добровольный отход хотя бы на несколько километров абсурд. Я не могу поступиться ни одним клочком земли. Когда в девятнадцатом году я решил стать политическим деятелем, я отчетливо понимал, что самое главное для Германии это расширение и удержание территории. Просторы, земля и богатства на земле и в земле — вот что главное для меня! Оставить, как вы предлагаете территорию, это значит полностью отдать русским Донбасс, отдать никопольский марганец. Это же практически будет означать конец войны. Без донбасского угля, без никопольского марганца немецкая военная промышленность задохнется. А Донбасс и Никополь без запорожской электростанции — ничто! Ни одного клочка земли не отдавать! Я никогда не пойду на уступки и никогда не капитулирую. С военной точки зрения, ваш план умный, а с политической и экономической, — абсурд! Нужно искать другой выход. Нужна смелость, решительность, нужна крупная, блестящая победа! Оборона для нас гибельна! Вы хотите сказать что-то? — повернулся Гитлер к Цейтцлеру.
— Да, — важно и с достоинством ответил молодой начальник генерального штаба. — Нужна именно победа, именно решительная и блестящая. Господин фельдмаршал весьма обстоятельно и всесторонне проанализировал положение на фронте и рассмотрел возможные варианты действий русских. Но в своих суждениях, мне кажется, фельдмаршал несколько преуменьшил наши возможности и преувеличил способности русских.
— Это несомненно, — подтвердил Гитлер и, вновь в упор глядя на Манштейна, с горячностью продолжал:
— У нас многие не понимают одного: Германия идет не вниз, а вверх, за эти годы войны мы не ослабли, а окрепли. Вступая в войну с Россией, мы могли бросить на фронт немногим более семи миллионов человек, теперь я довел действующие войска до десяти с половиной миллионов. И вся эта огромная армия не безоружна, а получает все больше и больше вооружения. Немецкая военная промышленность работает блестяще и непрерывно набирает темпы. Вы скоро получите такие танки, каких не было, нет и никогда не будет у русских. «Тигр» и «пантера» — это сухопутные линкоры, дредноуты! Это гроза, таран, карающий меч! Имейте в виду, что наша военная промышленность уже выпустила почти две тысячи «тигров», все они идут сюда, к вам, на восточный фронт. Все до единого!
— И с такой армией, с такой техникой — отступать! — воскликнул Цейтцлер. — Только наступать, и только с решительными целями!
— Только вперед! — подхватил Гитлер. — Мне нужны не хитрые и искусные маневрирования, а победа! П-о-б-е-д-а! И вы должны добыть эту победу. Поймите, чем скорее русским будет нанесен новый тяжелый удар, тем скорее развалится коалиция между Востоком и Западом.
Уже с первых слов Гитлера Манштейн понял, что его так любовно взлелеянный план с треском провалился, но он еще не понимал, что же взамен предложит Гитлер и кто будет создателем нового плана. Теперь не только слова, но и весь важный, пышущий достоинством вид Цейтцлера неоспоримо показывали, что именно он со своим каким-то планом завладел умом Гитлера. Манштейн не однажды слышал ходившие в высших военных кругах слова Гитлера, сказанные при назначении Цейтцлера начальником генерального штаба: «Я дал ему этот высокий пост для того, чтобы провести в жизнь идеи моей стратегии и для того, чтобы он являлся рупором моей германской воли».
Теперь было неясно: кто же рупор — Цейтцлер Гитлера или Гитлер Цейтцлера. Во всяком случае, именно сейчас Манштейн не видел в Цейтцлере никаких признаков рупора. Он в свои сорок восемь лет вел себя так уверенно, что ему невольно завидовал пятидесятишестилетний Манштейн. И в самом деле, карьера Цейтцлера была головокружительная. В четырнадцатом году, когда Манштейн был уже умудренным опытом полковником, Цейтцлер получил звание лейтенанта, а в начале второй мировой войны в Польше пехотный полк, которым командовал подполковник Цейтцлер, входил в южную группу армий, где начальником штаба был Манштейн. И вдруг в декабре сорок второго года малоизвестный молодой генерал-майор Цейтцлер, перескочив через чин генерал-лейтенанта, стал сразу генерал-полковником и начальником германского генерального штаба.
Манштейн по работе не однажды сталкивался с Цейтцлером и всякий раз отмечал непреклонную волю и умение вести себя так, что даже наиболее самолюбивые старые генералы, внутренне возмущаясь и негодуя, подчинялись ему. Теперь эту убедительную властность Цейтцлера чувствовал на себе и Манштейн. Гордый, независимый, чеканя отточенные фразы, он стоял перед картой Манштейна и, бесцеремонно перечеркивая так старательно выведенные рукой самого фельдмаршала линии, кружки и овалы, развивал свой план, названный им операция «Цитадель».
— Простота замысла — основа военного искусства, — говорил Цейтцлер. — Бить там, где выгодно, действовать так, как проще, легче, быстрее, без сложных маневров и перегруппировок. Где самое уязвимое место у русских? Курский выступ, Курская дуга! Там сосредоточены силы двух советских фронтов. Если мы нанесем сокрушительные удары под основание Курского выступа, то войска этих двух советских фронтов будут немедленно окружены, а затем разгромлены. Москва, конечно, бросит на спасение окруженных все свои резервы. Мы встретим эти резервы таранным ударом танковых дивизий и разгромим на чистом поле. Окружение и ликвидация советских Центрального и Воронежского фронтов, а затем разгром основных резервов настолько ослабят советскую армию, что она не только не сможет провести ни одного серьезного наступления, но и едва ли будет способна к длительному сопротивлению даже в обороне. Для проведения операции «Цитадель» я предлагаю привлечь группу армий «Юг», под вашим, господин фельдмаршал, командованием и группу армий «Центр», под командованием фельдмаршала фон Клюге. Группа армий «Юг» наносит удар из района Белгорода на Курск, навстречу ей из района Орла бьет группа армий «Центр». Это первый этап кампании. А затем мы разгромим резервы русских и нанесем новые удары или на юг в Донбассе или в обход Москвы. Для проведения операции «Цитадель» я предлагаю привлечь пятнадцать-двадцать танковых и моторизованных и двадцать-двадцать пять пехотных дивизий.
— Ваше мнение, фельдмаршал? — резко спросил Гитлер.
— У меня нет слов, чтобы возразить против столь блестящего плана, — вопреки своим намерениям возражать, поспешно проговорил Манштейн. — Только одно предложение, — секунду помолчав, добавил он. — Наступление на Курск нужно начать как можно раньше. Не дать русским оправиться от зимней кампании, не дать им пополнить и обучить войска, подвезти оружие и боеприпасы, застать их врасплох.
— Это весьма важно, — согласился Гитлер, — застать врасплох и разгромить молниеносным ударом! Наступление назначить на первые числа мая!
* * *
После доклада о необходимости отказаться от упреждающего удара на белгородско-харьковском направлении и всеми силами Центрального и Воронежского фронтов создать мощную оборону на Курском выступе генерала Решетникова срочно вызвали в Москву. В четверг утром Бочаров проводил его на аэродром и вернулся к себе. В штабе фронта по-прежнему шла невидимая для постороннего глаза упорная работа. Особенно тревожно и напряженно было в разведывательном управлении штаба. В последнее время никакими средствами новых сведений о противнике добыть не удавалось. Бдительность противника на фронте резко повысилась. Каждую ночь десятки разведывательных групп и партий на всем огромном пространстве Курского выступа, пытаясь проникнуть в расположение противника, неизменно натыкались на плотный огонь и засады. Густые туманы и низкая облачность сковали действия авиации, и летчики, даже решаясь на пагубные бреющие полеты, не могли рассмотреть, что творилось в стане врага. Никаких результатов не давало и радиоподслушивание. Все фронтовые радиостанции гитлеровцев, как по единой команде, прекратили работу. К этому же времени порвалась связь почти со всеми партизанскими соединениями и отрядами. Гитлеровцы бросили против советских партизан, кроме полевой жандармерии, полиции и карательных отрядов, регулярные войска с танками, артиллерией и авиацией. В лесах, окружающих Курский выступ, и на захваченной врагом Орловщине разгорелась настоящая битва. Только из глубинных партизанских районов Белоруссии и Прикарпатья, где действовали отдельные партизанские соединения и отряды, через Москву поступали отрывочные сведения о непрерывном движении немецких воинских эшелонов к линии фронта. Но этих сведений было слишком мало. Нужно было выяснить и определить, куда двигались эти эшелоны и где разгружались, что в них перевозилось, какие конкретные планы замышляет и вынашивает гитлеровское командование. Но ответы на эти вопросы можно было получить только непосредственным наблюдением за вражеским расположением и через опросы военнопленных. В пятницу утром начальник разведки фронта отдал всем своим подчиненным категорический приказ: любой ценой добыть пленных! Но прошла пятница, суббота, наступило воскресенье, а ни одного гитлеровца в плен захватить не удалось. Как и раньше, разведчики натолкнулись на вражеский огонь и вернулись ни с чем.
Не было никаких известий и от генерала Решетникова. Ожидая его, Бочаров никуда не отлучался и все время находился то в управлениях штаба фронта, то у себя на квартире. Беспокойные мысли, что будет дальше, что замышляет и готовит противник, так властно овладели его сознанием, что даже во сне он видел то потоки вражеских воинских эшелонов, то рощи и села под Белгородом и Харьковом, сплошь забитые фашистской техникой, то самого фельдмаршала Манштейна в виде огромного усатого пруссака с жестоким взглядом и худым надменным лицом.
В последнее время к беспокойству Бочарова о военных событиях добавилась еще и тревога о семье. От Аллы он каждую неделю получал по нескольку писем, но вот прошло уже полмесяца, а писем все не было. По времени родить Алле было еще рано, и, видимо, перерыв и переписке вызван был не этой причиной. Теряясь в догадках, Бочаров вспоминал жену, сына, родителей, младшего брата и, сам не понимая почему, больше всего боялся, что с Аллой произошло какое-то несчастье. Чем больше проходило времени после его отъезда из деревни, тем все чаще и все теплее думал он о жене. Вспоминал он ее такой, какой видел в дни последней встречи, временами его охватывала такая жалость к ней, что он не раз всерьез думал добиться квартиры в Москве и перевезти туда Аллу с Костиком. Одно лишь представление, что она, как ни говори, выросшая в городе и довольно слабая физически женщина, выполняет сейчас тяжелую крестьянскую работу, да к тому же и беременная, вызывало у Бочарова осуждение самого себя. Ему казалось, что не будь увлечения Ириной, не сложись такие отношения с ней, Алла и Костик жили бы теперь совсем в других условиях.
В воскресенье под вечер, решив написать семье большое письмо, он присел к столу и задумался. За окном, чихнув, взревел мотор, послышались чьи-то голоса, и в комнату вбежал генерал Решетников.
— Товарищ генерал, — встал навстречу ему Бочаров, — прямо из Москвы?
— Только что из самолета, — торопливо раздеваясь, ответил явно возбужденный и радостный Решетников. — Переоденусь и бегу в штаб фронта. Генерал Ватутин вернется завтра. Что, не терпится новости узнать? — лукаво взглянув на Бочарова, усмехнулся Решетников. — Новости замечательные! Скажу кратко. Прошлой ночью состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандования. Ставка считает, что Гитлер не может перейти к обороне и в целях сохранения своего престижа, удержания Донбасса и Украины, поднятия духа войск и немецкого народа обязательно будет наступать. И наступать не где-либо, а именно на Курский выступ двумя комбинированными ударами на Курск; одним со стороны Белгорода, вторым со стороны Орла. Главная ударная сила, основная надежда Гитлера — танки. Вот поэтому, чтобы избежать лишних потерь и сохранить наши силы, Ставка решила преднамеренно отказаться от наступления и перейти к обороне, разгромить на мощных, заранее подготовленных позициях основные танковые массы Гитлера, а затем перейти в решительное контрнаступление, добить главные вражеские ударные группировки и начать освобождение Украины и Белоруссии. Весь Курский выступ приказано превратить в сплошную, непреодолимую оборону, в первую очередь противотанковую. Решение этой задачи возложено на Центральный фронт под командованием Рокоссовского и на Воронежский под командованием Ватутина. Членом Военного совета к Ватутину назначен Никита Сергеевич Хрущев. На днях он приедет сюда. Одновременно с созданием обороны Курского выступа Западному, Брянскому и Центральному фронтам приказано подготовить наступление с целью ликвидации орловского плацдарма гитлеровцев, а Воронежскому, Степному и Юго-Западному фронтам — контрнаступление на белгородско-курском направлении.
— Это же грандиозно! — воскликнул Бочаров.
Новости, сообщенные Решетниковым, так взволновали и потрясли Бочарова, что он несколько минут поспешно шагал по комнате, потом на целый час приник к топографической карте. Рассматривая эту, до мелочей изученную линию фронта, огибавшую с востока Орел и Белгород, а Курск с запада, он, как наяву, представлял какие великие события развернутся здесь в самом ближайшем будущем. У него теперь не оставалось никаких сомнений, что именно здесь, у основания Курского выступа, со стороны Орла и Белгорода на Курск нанесут гитлеровцы свой главный удар. И если гитлеровцы ударят именно здесь, то натолкнутся на мощную, заранее подготовленную оборону советских войск и завязнут в ожесточенных, изнурительных боях. А затем, когда наша оборона сломит основные силы вражеских ударных группировок, перейдут в наступление на Орел Западный и Брянский фронты, к ним присоединится Центральный, потом начнут контрнаступление на Белгород и Харьков Воронежский, Степной, Юго-Западный фронты, и начнется победное шествие на запад по Украине и Белоруссии, к государственным границам, к самой Германии, к концу войны. Никогда Бочаров так ощутимо и реально не представлял себе близость окончания войны, как сейчас. Он уже видел, как целыми эшелонами возвращаются демобилизованные воины в свои деревни, села, города, как сам он едет к семье, а потом куда-нибудь к новому месту службы, и едет не один, а с Аллой, с Костиком и с еще новым членом бочаровской семьи: сыном или дочкой.
— Андрей Николаевич, — прервал его думы глухой и тревожный голос генерала Решетникова. — У вас несчастье в семье, берите машину и поезжайте домой…
Глава четырнадцатая
Сергей Слепнев лежал на кровати, обессиленно раскинув по лоскутному одеялу исхудалые руки. Мать бесшумно скользила по тускло освещенной сквозь замерзшие оконца избе и, тайком поглядывая на сына, вздыхала. Галя, к счастью, была на работе, и лишь одно это радовало Сергея. Он потянулся было за кисетом с табаком, но тут же отдернул руку, вспомнив, как умоляла Галя бросить курить и он сам поклялся, что в жизни не возьмет ни одной папиросы. Борьба с желанием курить отвлекла его, он расслабил грудь и, словно вырвавшись на свободу, кашель потряс все тело. Мать, горестно поджав губы, протянула ему кружку с горячим молоком, но он нетерпеливо отстранил ее ослабевшей рукой и, стиснув зубы, поборол кашель. От напряжения на глазах навернулись слезы, но в груди стало легче, и мысли сразу же потекли спокойнее, возвращая его к привычным делам. Он давно ждал приезда Листратова, хотел о многом поговорить с ним, только с глазу на глаз, без назойливого присутствия Гвоздова. Но вспыхнувший приступ болезни опять сорвал все, и теперь оставалось только дожидаться выздоровления и самому поехать в райисполком. Иного выхода не было. Ни писать, ни тем более говорить по телефону о делах, еще самому не совсем ясных, он не мог. Сергей опять мысленно начал перебирать все, о чем нужно было поговорить с Листратовым. В колхозе «Дубки» дела явно шли совсем не так, как представлял это в районных организациях Гвоздов и как по его утверждениям понимали многие районные руководители. С заступлением Гвоздова на пост председателя колхоза, положение в Дубках не только не улучшилось, а, наоборот, становилось все сложнее, острее и запутаннее. Осенью почти все зерно ушло на хлебозаготовки. Осталось было четыре тонны для распределения колхозникам, но Гвоздов выступил на совещании председателей колхозов и с бахвальством наобещал перекрыть план хлебозаготовок. На это и ушло последнее зерно. На трудодни колхозники не получили ни грамма. Почти так же произошло и с картошкой. Гвоздов опять наобещал в районе и последние запасы картофеля вывез на заготпункт. Об этом, как о высоком патриотическом поступке колхозников и самого Гвоздова, писали районная и даже областная газеты, на совещаниях Гвоздова называли одним из лучших председателей колхозов, но Слепнев всей душой понимал, что действиями Гвоздова руководило не желание помочь стране в трудное время второго года войны, а лишь стремление лично выдвинуться, отличиться и даже ценой обездоливания колхозников завоевать себе авторитет. Слепнев не однажды собирался выступить прямо и разоблачить карьериста и шкурника, но вокруг Гвоздова был создан такой ореол председательской славы и сам он при каждом удобном случае так яростно и вдохновенно говорил о необходимости отдать все для победы над врагом, что прямое выступление против него могло прозвучать чуть ли не как подрыв основ Советской власти. К тому же в райком партии одно за другим поступали анонимные письма, в которых Слепнева обвиняли в попустительстве лодырям, в защите людей, мешающих колхозному делу, в стремлении подорвать авторитет нового председателя колхоза Алексея Гвоздова.
По этим письмам приезжали представители райкома и райисполкома, расследовали, ничего серьезного не находили, но все же, уезжая, советовали Слепневу быть внимательнее и бдительнее, не забывать, что идет ожесточенная борьба на фронте, что и внутри страны есть замаскированные враги, которые открыто выступить не могут, но всячески стараются вредить исподтишка и саботировать все патриотические начинания. Об этом говорили Слепневу даже на бюро райкома партии и на совещании председателей сельсоветов в райисполкоме. Слепнев все отвергал, доказывал фактами лживость обвинений, ему сочувствовали, верили, но все же рекомендовали быть повнимательнее.
Вначале Слепнев не думал, что анонимные письма исходят от Гвоздова, но старик Бочаров упрямо твердил ему, что все это дело рук Гвоздова, и однажды, застав Слепнева за чтением очередной анонимки, воскликнул:
— Вот, вот! Ты все благодушенствуешь! Смотри!
Он вытащил из засаленного бумажника справку о том, что Николай Платонович Бочаров является членом колхоза «Дубки». Справку красными чернилами подписал Гвоздов. Красными чернилами было написано и анонимное письмо.
— Вот! — опять воскликнул Николай Платонович. — Во всей деревне, окромя Гвоздова, красных чернил ни у кого нет.
Письмо могли написать не только в Дубках, но и в любой другой деревне или даже в районном центре, — решительно возразил тогда Слепнев, но сам впервые согласился с Бочаровым, что если и не все, то большая часть писем сочинена Гвоздевым.
С этого времени Слепневу многое стало ясно в поведении Гвоздова.
За зиму Гвоздов сам дважды ездил в Тулу и раза четыре посылал жену. На железнодорожную станцию выезжали они с мешками и свертками, а возвращались налегке. Деревенская молва сразу же разнесла цель гвоздовских поездок. Они по баснословным ценам продавали в Туле мед, мясо, яйца. Поэтому, когда начался сбор средств в фонд обороны страны и Гвоздов на колхозном собрании торжественно заявил, что на строительство танковой колонны наличными вносит пятнадцать тысяч рублей, Слепнев грустно улыбнулся и чуть не сказал вслух:
«Твои пятнадцать тысяч это всего два-три пуда меду, а ты собрал его пудов восемь».
И опять на первой странице районной газеты был напечатан портрет Гвоздова с описанием его патриотического поступка и призывом следовать примеру передового председателя колхоза.
В колхозе Гвоздов вел себя настоящим царьком. Заседаний правления колхоза почти не собиралось, кладовщик и счетовод трепетали перед Гвоздовым, бригадиров давно уже не было, и все дела вершил сам Гвоздов. Почти каждый день он ходил под хмельком. Подмерзший ранней осенью картофель и на колхозных полях, и на приусадебных участках во многих домах шел на самогон. Слепнев несколько раз на собраниях уговаривал и предупреждал самогонщиков, но каждую ночь где-нибудь из трубы пробивался сладковатый запах самогонной гари. Слепнев с участковым милиционером обошел все дома, еще раз предупредил каждого, отобрал и разломал семь самогонных аппаратов, но и это мало помогло, а, наоборот, обернулось против самого Слепнева. Ярые самогонщики обозлились на него, понаделали новых аппаратов и варили сивуху тайком, скрываясь в сараях, подвалах и даже в лесу. Сам Гвоздов самогон не варил, но знал каждого самогонщика и, как говорили в деревне, нюхом чуял, где закипала пахучая жидкость. Как-то само собой установилось некое подобие дани самогонщиков Гвоздову. Самый крепкий первач шел ему, как откупное за молчание и попустительство. Но опять все это делалось тайно, и сколько ни пытался Слепнев уличить Гвоздова в этом взяточничестве, никто из самогонщиков не выдавал его.
Было немало и других случаев корыстолюбия Гвоздова. Удивительно прочно прижился своеобразный неписаный закон, что любой колхозник, прежде чем просить у председателя колхоза лошадь для поездки по делам или гнившую на полях солому для скота, должен был угостить Гвоздова. Об этом знала вся деревня, но как только Слепнев пытался установить факт взяточничества, колхозники или отмалчивались, или равнодушно говорили:
— Да брось, Сергей Сергеевич, какие там взятки. Верно, заходил Гвоздов, выпивал, но пришел он, когда мы сидели за столом, ну и поднесли ему, это у нас испокон веков заведено.
Слепнев злился, проклинал эту деревенскую терпимость, но сделать ничего не мог.
Узнав о приезде Листратова, он решил во что бы то ни стало откровенно поговорить с ним, но болезнь опять свалила его. Теперь, немного отдышавшись, он лежал на кровати и передумывал все, что хотел сказать Листратову. Как и всегда наедине с самим собой, мысли складывались легко и просто, доказательства вырисовывалась убедительно и веско, виновность Гвоздова казалась совершенно неоспоримой и до предела ясной.
«Нет, нужно написать обо всем Листратову или прямо в райком», — подумал он, приподнялся, чтобы взять бумагу и карандаш, но за окном послышались женские голоса, и в избу вошли раскрасневшиеся от мороза Галя и Наташа.
— Ты что, Сереженька, — испуганно проговорила Галя, — заболел?
— Нет, устал малость, — бодро ответил Слепнев, опуская глаза под встревоженным взглядом Гали.
— Зачем ты все мечешься, почему себя не бережешь? — подступая к кровати, сказала Наташа. — С темна и до темна на ногах, да и по ночам-то все то в правлениях колхозов, то в сельсовете. Приструнь ты, Галя, его хорошенько. Теперь он не холостяк бездомный, а семейный человек.
Ее полные и пунцовые от мороза щеки гневно потемнели, коричневые, в едва заметном прищуре, глаза укоризненно смотрели на Слепнева, маленькая натруженная рука резко поправила выбившиеся из-под темной шали перепутанные кольца светлых волос.
— Ну, если уж и Наташа взъярилась, то придется руки поднимать, — пытался отшутиться Слепнев.
— Да нет, Сережа, и вправду, к чему ты ко всем внимательный такой, а про себя забываешь, — расстегивая верхний крючок дубленого полушубка, спокойно сказала Наташа. — Ты же на войне пострадал и тут день-деньской маешься. Вон, смотри на Гвоздова, он весь лоснится от жира.
При упоминании Гвоздова Слепнев невольно поморщился, но, не желая выдавать свою неприязнь к нему, шутливо улыбнулся и весело проговорил:
— Гвоздов — колхозный начальник, он на вольных хлебах пасется, а я сельсоветский, на зарплату живу.
— Не на вольных, а на дармовых, — раздраженно подхватила Наташа. — Ходит по дворам, как бугай общественный, да поллитровки сшибает. А как про дело что, замахал руками — и не подходи.
— Ладно тебе про дела-то, — укоризненно остановила ее Галя. — Дай хоть дома от этих уток и гусей передохнуть.
— А что утки и гуси? — спросил Слепнев. — Плохо что-нибудь?
— Надо бы хуже, да некуда, — не удержалась Наташа. — Насобирали стадо целое, а кормить вольным воздухом…
— Как так? — приподнялся на кровати Слепнев. — Для них же и озадки оставлены, и чистое зерно выделено.
— Было зерно, да сплыло, — презрительно отмахнулась Наташа. — Забыл, что еще под новый год сверх плана сдали.
— Не все же сдали, осталось и для птицы, — неуверенно возразил Слепнев, припоминая, сколько же кормов было выделено для вновь заведенных колхозом гусей и уток.
— Да бросьте вы про одно и то же, — вновь с упреком заговорила Галя, становясь между Наташей и мужем. — Сколько можно говорить без толку. Сами тогда проголосовали за встречный план. Что ж теперь валить все на Гвоздова. Давайте лучше обедать, — ласково улыбнулась она и, все еще застенчиво отводя глаза, погладила остриженную голову мужа. — Ты, небось, проголодался, Сережа, да и мы с утра на холоде.
— И в самом деле, что переливать из пустого в порожнее, — согласилась Наташа. — До весны как-нибудь продержимся, а там выпустим своих гусиков и уточек на травку зелененькую и водичку вольную…
— Нам до весны только, — восторженно подхватила Галя. — Скорее бы зима кончалась. Куда же ты? — остановила она запахивавшую полушубок Наташу. — Обедать с нами.
— Нет, нет, — решительно отказалась Наташа. — У меня там детей целая куча, да и старики хуже ребятишек малых.
— Волнуется она, — проводив Наташу, сказала Галя. — Все из-за этого Феди, из-за капитана. Бывало, что ни день, то письмо, а теперь вот вторую неделю ничего нет. И я… Я тоже волнуюсь, — робко добавила она, прижавшись лицом к груди мужа.
— Не надо, маленькая, не волнуйся, — пропуская между, пальцами ее шелковистые волосы, прошептал Слепнев. — Все обойдется, все будет хорошо, а подойдет время, в больницу поедем.
— Да нет, я не о том, — еще плотнее прижавшись к его груди, сказала Галя. — Я про Наташу. Воюет этот Федя, а на войне-то мало ли что.
Слепнев нежно гладил ее теплые плечи, и впервые почувствовал грудью, как внутри Гали шевельнулось и тут же затихло что-то трепетное, живое. Он ладонями сжал ее щеки, приподнял голову, в непомерно глубоких, и упор смотревших на него счастливых глазах увидел, что и она впервые ощутила в себе новую, едва зародившуюся жизнь.
* * *
Почти весь день Листратов пробыл в МТС. Набранные с горем пополам курсы трактористов застряли на изучении общего устройства мотора и никак не могли двинуться дальше. Шустрые на вид девчата из районного центра и пригородных сел лезли из кожи вон, чтобы освоить новую специальность, но механик — недавно оправившийся от ранения танкист — категорически заявил, что они ничего не соображают и вместо серьезной учебы думают только о гулянке. Больше двух часов пробыл Листратов на курсах и убедился, что вся беда не в девушках, а в бывшем танкисте, который и сам толком не знал не только трофейных, но даже и отечественных машин. Пришлось обращаться в стоявшую на формировании воинскую часть и просить хоть на пару недель выделить своего специалиста. К счастью, командир полка оказался человеком покладистым и прислал не одного, а сразу троих офицеров и двух опытных трактористов.
Уладив дела на курсах, Листратов зашел в ремонтные мастерские. Шефская бригада тульских рабочих уже пускала в ход четвертый трофейный трактор. Листратов от радости чуть не расцеловал седоусого бригадира и с яростью набросился на директора МТС, узнав, что рабочие целую неделю питаются только тем, что привезли с собой из Тулы.
— Где, ну где я возьму продукты? — отчаянно защищался директор. — В МТС никаких фондов нет, в ближних колхозах вымаливал — не дают, в городской столовой одна свекольная бурда.
На свой риск и страх Листратов приказал директору мельницы отпустить два мешка муки, а заготпункту — бычка-двухлетка и центнер картошки. Враз повеселевшие туляки, окружив Листратова, наперебой заверяли, что будут работать день и ночь, но к посевной поставят на ноги не меньше пятнадцати трофейных машин.
Взбудораженный Листратов размечтался, как будут работать эти тракторы и тягачи на колхозных полях, и незаметно дошел до райисполкома.
«Фу ты, черт, хоть бы домой заскочить, перекусить что-нибудь», — подумал он, входя в наполненную людьми свою приемную. — Тут, видать, до полночи просидишь».
Опять началось то, что нескончаемо продолжалось изо дня в день. Председатели сельсоветов и колхозов осаждали его требованиями на семена и машины. Заведующий районо шумел о нетопленных школах. Больница требовала хоть какого-нибудь дополнительного помещения для ликвидации вспышки гриппа. Райвоенком категорически настаивал на ремонте квартир для семей фронтовиков. Крохотная старушка в изорванном ватнике молила о выдаче ей пособия.
Листратов, привычно подавляя в себе усталость, выслушивал просьбы, давал указания, советовал, звонил по телефону, вызывал нужных людей и только в двенадцатом часу ночи, до изнеможения отупев, закончил все дела.
На пустынных улицах городка торжественно сиял лунный свет. Подмерзший воздух властно врывался в грудь, и усталость враз слетела с Листратова. Он, не торопясь, миновал центральную площадь, обогнул развалины разбомбленной в прошлом году школы и, удивленный, остановился против своего дома. Окна столовой ярко светились. У палисадника лениво похрустывала сеном запряженная в сани серая лошадь.
Еще в прихожей Листратов услышал заливчатый смех жены и басистые, с придыханием раскаты Гвоздова.
«Неужели случилось что-нибудь?» — встревоженно подумал Листратов, но голос дубковского председателя был весел и, как всегда, почтителен.
— Наконец-то, — увидев мужа, пропела Полина Семеновна. — Мы с Алексеем Мироновичем второй самовар допиваем, а хозяина все нет и нет.
— Напрасно, как собирался, в райисполком не поехал, — отвечая на приветствие удивленного Листратова, с виноватой улыбкой на потном лице сказал Гвоздов. — Думаю, поздно, в кабинете не застанешь, и вот такая промашка.
— Ну, садись, садись, — не дав мужу опомниться, подхватила его под руку Полина Семеновна. — Яичница свеженькая, с ветчиной, а потом чаек с настоящим липовым медом.
«Яичница, ветчина, мед липовый — черт-те что», — рассеянно подумал Листратов, под напором жены присаживаясь к столу.
— Неужели каждый день так: с утра и до полночи без обеда, без ужина? — сожалеюще говорил Гвоздов, умиленно глядя на Листратова.
— Бывает и хуже, — горячо подхватила Полина Семеновна. — До рассвета заседают, а утром опять за дела.
— Как Слепнев? — торопливо проглотив несколько кусков яичницы, спросил Листратов.
— Пласт пластом лежит и не поднимается третью неделю, — с болезненным надрывом в голосе ответил Гвоздов.
— И кто же за него?
— Можно сказать, никого. Девчушка у нас, знаете, секретарем в сельсовете. Ну, она и сидит. Справки какие срочные заверить или бумаги подписать к нему домой бегает. Подкосила болезнь нашего председателя, — с горестным вздохом продолжал Гвоздов, — заедет, бывало, или утром сразу заскочит, посоветует что-либо, ну, покритикует за промашки — враз чувствуешь и оживление, и ответственность большую. А теперь… — укоризненно развел он руками, продолжая настойчиво смотреть на Листратова. — Как-никак, а в нашем сельсовете четыре колхоза и народ — ухо держи да держи.
Листратов оторвался от еды и впервые пристально посмотрел на Гвоздова. В чистеньком военном обмундировании сидел он на краешке стула, положив руки на колени, обтянутые длинными голенищами добротных чесанок в новеньких галошах. Серые глазки смотрели искательно и настороженно.
«Фу ты, черт, какой он весь масляный», — с неожиданным раздражением подумал Листратов и сухо спросил:
— Как дела в колхозе? Семена получили? Как с птицей и с рыбой в озере?
— Все в норме, — с готовностью ответил Гвоздов. — Привезли вчера последние три центнера яровой пшеницы. В совхозе с инкубатором уладил все: им отдаем яйца, а от них получаем недельных утят и гусят. На днях старик Бочаров за мальками карпов едет. Тоже есть полная договоренность и все такое.
— А как сам Бочаров?
— Бегает старик, — без тени недовольства ответил Гвоздов. — Ворчит, как всегда, критикует направо и налево, а так ничего, старается.
— Старается, значит. Это хорошо, — безразлично проговорил Листратов, думая, зачем все-таки приехал дубковский председатель. Словно поняв его мысли, Гвоздов еще ближе придвинулся на край стула и, помявшись, глухо заговорил:
— Я тут по делам хозяйственным в разные места ездил и к вам… У меня, можно сказать, — нерешительно, потупив глаза, продолжал он, — у меня не совсем служебное и, можно сказать, вроде и не личное…
Листратов тайком кивнул жене и, когда та понимающе скрылась в детской комнате, спросил:
— Говорите, говорите, какое у вас дело?
— Вы, Иван Петрович… Я, Иван Петрович… Меня, Иван Петрович, — то ли намеренно, то ли действительно в полнейшей растерянности бормотал Гвоздов. — В общем, Иван Петрович, вы меня, по сути дела, чуть ли не с малых лет знаете. Я вроде как ваш выдвиженец. В общем, Иван Петрович, я надумал в партию поступить и, в общем, хочу попросить у вас характеристику, рекомендацию, так сказать.
— Рекомендацию? — испытывая какое-то странное раздвоение и не зная, что сказать, переспросил Листратов. — Что ж, рекомендация. Вот в следующую пятницу приедете на совещание…
— Спасибо, Иван Петрович, — вскочив со стула, схватил руки Листратова Гвоздов. — Век вашим должником буду, всем отблагодарю…
— Ну, ладно, ладно, — смущенно пробормотал Листратов, высвобождая свои руки. — Вот чай, пожалуйста, пейте.
— Премного благодарен. Сыт, больше некуда. Спешить надо, время-то — скоро вторые петухи запоют.
— Да вы останьтесь, ночуйте, к чему в такую темень выезжать.
— Алексей Миронович, куда же вы, — выплыв из детской комнаты, нараспев запричитала Полина Семеновна. — Мы вас не отпустим. Отдохните до утра, а там и в дорожку.
— Нет, нет, Полина Семеновна, никак не могу. Дела, знаете, целый колхоз на шее висит. И так, почитай, сутки как отсутствую. Мало ли что случиться может, — твердо, с почтительной вежливостью отказывался Гвоздов, натягивая черной дубки полушубок с серым каракулевым воротником.
— Ах, жалость какая, — хлопотливо суетилась Полина Семеновна. — Хоть бы детишкам вашим подарить что. Может, конфеты остались, — загремела она ящиком комода. — Да нет, как на грех, все вышли.
— Не надо, не надо, ничего не надо, — отмахнулся Гвоздов. — Я уж накупил им подарков, в обиде не будут.
— Какой человек, какой человек, — распевала Полина Семеновна, когда Листратов, проводив Гвоздова, вернулся в столовую. — Душевный, отзывчивый, прямой. И тебя он так уважает, так ценит, только и говорит все про тебя и про тебя.
— Ну, ладно, ладно, спать пора, — недовольно проговорил Листратов.
— Да ты чаю-то хоть выпей. Мед же такой изумительный. Целый жбан Алексей Миронович привез.
— Что?! — побагровев от неожиданности, крикнул Листратов. — Какой жбан, какой мед?
— Пчелиный, самый настоящий, с липовых цветков, — нисколько не смутясь, спокойно сказала Полина Семеновна.
— Что, может, и ветчину, и яйца тоже Гвоздов привез?
— И ветчину, и яйца, и мешок крупы первосортной…
— Да ты что? — взревел, подскакивая к жене, Листратов. — Ты в уме или совсем ополоумела!
— Я-то ничего, а ты вроде того, — густым басом, предвещающим Листратову начало обычной бури, отпарировала Полина Семеновна.
Задыхаясь от гнева, Листратов, чтобы не броситься на жену, врезал ногти в ладони и намертво стиснул зубы.
— А ты что, — перешла на привычный в ссоре визгливый крик Полина Семеновна. — Думаешь твоими пайками, хоть они и начальнические, прожить? На них с голоду опухнешь и детей переморишь. Все люди как люди, достают, где удается, а он, чистюля, размазня, целыми днями по колхозам носится и крохи продуктов для семьи не привезет. Кто только выдумал тебя на мою голову!
— Прекрати немедленно, — страшным шепотом выдохнул Листратов и, чувствуя, как в груди разгорается жгучая боль, пошатнулся.
— Ваня, Ванечка, — пролепетала Полина Семеновна, подхватывая падавшего мужа.
Глава пятнадцатая
В среду под вечер в расчете Чалого старший сержант Козырев принимал зачеты по материальной части станкового пулемета. Вместе с Козыревым пришел и ротный комсорг Саша Васильков.
Когда очередь дошла до нетерпеливого Ашота, легкие тени упали внутрь сарая, где занимался расчет. Козырев недовольно обернулся к воротам и вдруг, вскочив, хрипло крикнул:
— Встать! Смирно!
— Вольно, вольно. Садитесь, товарищи, — успокаивающе помахивая рукой, звонко проговорил невысокий, плотный генерал в серой, с зелеными пуговицами шинели и в такой же простой фронтовой фуражке.
Позади него, не входя в сарай, остановились командир полка, начальник штаба и еще какие-то офицеры.
— Да садитесь же, садитесь, — добродушно продолжал генерал, подходя к пулеметчикам, и сам первым сел на бревно около расстеленного по земле брезента.
Козырев незаметно кивнул головой пулеметчикам, и все они разом уселись полукругом напротив генерала.
— Из Армении? — кинул генерал стремительный взгляд на Ашота.
— Никак нет, — пружинисто вскинулся Ашот. — Черное море… Город Туапсе…
— Хорошие места, красивые. Давно в армии?
— Четыре месяца, один неделя.
— А на фронте?
— Два неделя, третий день.
— И как, освоили эту машину? — показал генерал на станковый пулемет.
— Так точно! Без глаз разберу и саберу, — в один вздох выпалил Ашот и, смутившись, тихо добавил:
— Ночью, значит, и днем, значит…
— В общем в любых условиях, — помог ему генерал.
— Так точно, — прошептал Ашот.
— Очень хорошо! Давайте-ка посмотрим вот этот механизм, — пощелкав замком пулемета, подал его Ашоту генерал.
Ашот взял у генерала замок, неизвестно зачем дважды щелкнул ударником и хрипло, совсем чужим голосом с натугой выдавил:
— Это значит… Пулемет, значит, замок…
Нервное лицо Чалого позеленело. Козырев понуро опустил голову, дрогнувшими пальцами теребя низ гимнастерки. Гаркуша весь подался вперед, впившись глазами в Ашота. Алеша Тамаев стиснул полыхавшую жаром руку Саши Василькова, беззвучно повторяя: «Пропал Ашот, завалился. Меня бы лучше спросил или Гаркушу».
Ни у кого из пулеметчиков не хватало сил взглянуть на генерала. А он сидел, положив сильные руки на колени и с любопытством смотрел на Ашота.
— Замок, значит, — пролепетал вконец растерявшийся молодой солдат и, подняв голову, встретился с веселыми, одобряюще смотревшими на него глазами генерала. Ашот поспешно отвел взгляд, лихорадочно подбирая нужные слова. Но в хаотическом метании бессвязных мыслей все нужные слова будто начисто выветрились из памяти. Он пытался вспомнить строки наставления, где говорилось о замке, но ничего вспомнить не мог.
— Замок служит для извлечения патрона из ленты, подачи его в патронник, — услышал Ашот тихий голос генерала и сразу же встрепенулся, вспомнив, что это были точно те слова, какими начиналось описание замка в наставлении.
«Наизусть все знает товарищ генерал», — подумал он и, почувствовав удивительную легкость, поспешно заговорил, рассказывая о замке. Он видел, как генерал одобрительно кивал головой, в такт его словам постукивал ладонью по колену и, казалось, вместе с Ашотом повторял все, что говорил он о замке.
Голос Ашота с каждой секундой звучал все тверже и увереннее. Он ловко разобрал замок и, словно не замечая никого, подробно рассказывал о каждой части.
Чалый с трудом удерживал распиравшую его радость, влюбленно глядя на Ашота. Гаркуша лукаво подмигнул Саше Василькову: «Дескать, вот какие у нас орлы, не то, что в других расчетах». Козырев, видимо, забывшись, крутил свой пышный ус и едва заметно улыбался. Радуясь за друга, Алеша Тамаев поднял голову и впервые прямо посмотрел на генерала. Лицо его с сетью морщин вокруг прищуренных глаз и особенно широкий, наполовину закрытый фуражкой лоб и седые виски показались Алеше удивительно знакомыми.
— Вот, — собрав замок и щелкнув ударником, гордо закончил Ашот и, багрово покраснев, по-прежнему неуверенно проговорил:
— Можна, как ночью…
— Как это ночью? — прищурясь, усмехнулся генерал.
— Темь когда… Кругом не видно… А замок сломалась…
— И на скорость, конечно, по времени?
— Абязательно!
— Что ж, попробуйте.
Когда Чалый закрыл платком глаза Ашота, он взял замок, приподнял голову и решительно спросил:
— Можна?
— Действуйте!
Худые и длинные пальцы Ашота ловко отделяли одну за другой части замка и, разложив все на брезенте, так же ловко начали сборку.
— Гатов, — щелкнув пружиной, выкрикнул Ашот и сорвал с лица повязку. Черные глаза его полыхали радостью, полураскрытые губы, казалось, что-то шептали, на щеках багровел румянец.
— Очень хорошо. Минута и двадцать секунд, — глядя на часы, сказал генерал.
— Не очень, — с обидой пробормотал Ашот, — я один минут успевал. И Алеша минута, и Гаркуша минута, а сержант пятьдесят секунд. Можна повторить?
— Что ж, повторите.
— Все, — вновь с завязанными глазами разобрав и собрав замок, воскликнул Ашот, — сколька?
— Пятьдесят восемь секунд! — одобрительно сказал генерал и спросил Козырева:
— У вас все так работают?
— Так точно! Почти все за минуту управляются, — звонким, совсем молодым голосом отчеканил Козырев.
— Это очень хорошо, товарищи, — тихо, словно рассуждая сам с собой, сказал генерал, — умение, ловкость, сноровка — половина успеха в любом деле, а на войне вдвойне. В бою некогда раздумывать. Замешкался, не успел — погиб; умело сделал, опередил противника — победил! Минуты, секунды, да что секунды — мгновения в схватке с врагом определяют успех.
В мягком, предвечернем полумраке старенького с раздерганной крышей сарая голос генерала звучал по-домашнему просто и убедительно. Взволнованные пулеметчики жадно ловили каждое его слово, боясь нечаянным движением прервать мысли генерала.
— Да, — живее, но все так же задумчиво продолжал генерал, — война дело трудное, опасное. Человек на войне рискует самым дорогим — здоровьем, жизнью. И чтобы меньше пролить крови, чтобы сохранить свою жизнь и победить врага, нужно еще до боя научиться делать все так, как вы разбирали и собирали замок: ловко, умело, быстро, без единого лишнего движения. Все нужно довести до автоматизма. Именно до автоматизма, — взмахнул он сжатым кулаком и совсем тихо добавил:
— Научитесь этому, товарищи, можете считать, что половина победы обеспечена.
— Научимся, — взволнованный словами генерала неожиданно для самого себя прошептал Алеша.
— Молодец! — положив руку на плечо Алеши, сказал генерал. — Именно так должен и говорить, и думать, и поступать каждый наш человек. Враг силен и хитер, дуриком его не одолеешь. Нужны знания и опыт. А это дело наживное. Вы ребята молодые, здоровые, как говорят, силушки в жилушках хоть отбавляй. К этой силушке умение, опыт да смелость, и — сам черт не страшен.
— Не только черту сухопутному: даже идолу морскому башку свернем, — не выдержал неугомонный Гаркуша.
— Одессит? — вскинул на него веселые, улыбающиеся глаза генерал.
— Так точно! Потап Гаркуша, моряк черноморский. Як говорят у нас, у Одисси: до костей просоленный.
— Давно на фронте?
— С самого с первоначалу.
— Значит, не только рыбак просоленный, но и солдат огнем прокаленный.
— Даже продырявленный.
— И много?
— Трижды. Две пули, шесть осколков.
— Да, — приглушению вздохнул генерал, — довелось и повидать и натерпеться. А с танками фашистскими встречаться приходилось?
— Чего нет, того нет, — разочарованно сказал Гаркуша, — издали видал, а сидеть под ними или бить их не случалось. Вот старший сержант один на один с танком, комсорг наш Саша Васильков тоже в упор схлеснулся. А меня все танки стороной обходили.
— Видать, моряка за километр чуют, — рассерженный вольностью Гаркуши, пробормотал Чалый.
— А що? — заметив, что генерал с трудом сдерживает смех, подхватил Гаркуша. — Моряк, вин и в воде не тонет и в огне не горит.
— Да, — подавил усмешку генерал и, пристально глядя на Козырева, спросил:
— Трудно с танками бороться?
— Трудно, — прошептал Козырев и, сдвинув брови, резко добавил, — но можно, очень даже можно.
— Что главное в борьбе пехотинца с танками? — не отводя взгляда от побуревшего лица Козырева, спросил генерал. — Что вы сами испытали, что чувствовали тогда, при встрече с танком?
— Да все было вроде очень просто, — задумчиво сказал Козырев, — нет, не очень и не просто, — с горячностью воскликнул он, глядя прямо на генерала. — Положение у нас сложилось отчаянное. В окружение мы попали прошлым летом. Зажали нас фрицы в крохотном лесочке, все насквозь пулями пронизывают. Ну, пехоту мы отбили, сколько она ни бросалась. А вот когда танки подошли, душно стало. У нас-то одни пулеметы да винтовки, а у них броня. Сколько ни пали, как горох пули отскакивают. Так вот, подползли два танка к лесу, а в лес-то углубиться не рискнут и давай издали крошить нас своими пушками да пулеметами. Только стон стоит, и люди гибнут. Не выдержал я, схватил бутылку с горючим, гранату и пополз к одному. Ну, сначала бутылкой, потом гранатой, вот и все, — скороговоркой закончил Козырев и устало опустил голову.
Пулеметчики и генерал долго молчали, глядя на возбужденного воспоминаниями старого солдата.
— Разрешите закурить? — не выдержав напряжения, попросил Козырев.
— Курите, пожалуйста, курите, товарищи, кто курящий, — так же взволнованно сказал генерал и, помолчав, тихо спросил Козырева:
— А что же все-таки главное в борьбе с танками? Что помогло вам сжечь танк?
— Да как сказать-то, — успокоенно проговорил Козырев. — Все это произошло так скоропалительно, что и вспомнить толком не могу. Одно, как сейчас, вижу: крушит он нас, а нам ответить нечем. Один пулемет разбил, за второй принялся. Вскипело у меня все — люди же гибнут, наши люди, — и пополз я. Ужом в землю врезался. Вот уже близко, но чую, не добросить бутылки. А тут его пулемет вдруг зашевелился и в меня целится. Ну, была не была, кто кого! Вскочил, рванулся и сразу бутылкой, потом гранатой, а сам плашмя на землю. Вот и все.
— Решительность, смелость, готовность пойти на риск и опять-таки умение, мастерство, — в раздумье морща широкий лоб, проговорил генерал. — Да, да! Именно героизм и умение, — отрывистым махом руки подчеркнул он, — смелый да умелый десятерых стоит. Верно? — спросил он Козырева.
— Конечно, — подтвердил Козырев и смущенно добавил: — Только у меня особый случай. В окружении как-никак, другого выхода не было. Вот Васильков в открытом бою, когда они напролом лезли.
— Там легче, — сказал густо покрасневший Васильков.
— Почему? — спросил генерал.
— Они идут, а я в траншее укрылся, жду. Приблизился — гранатами!
— А если бросил рано или промазал? — лукаво улыбнулся генерал.
— Так и было, — сознался Васильков, — первая граната не долетела, второй промахнулся, только третьей прямо в решетку над мотором угодил.
— Вот видите, — глядя на пулеметчиков, сказал генерал, — и в этом случае опять-таки смелость и умение победили. Неуютно в окопе, когда танк на тебя прет. Правда?
— Страшно, — едва слышно проговорил Саша Васильков, — мотор ревет, земля дрожит, кажется, вот-вот все оборвется и рухнет. Вот если бы заранее со своими танками потренироваться… А то ведь я танк-то впервые увидел.
— Со своими, говорите? — в раздумье переспросил генерал.
— Как обычно на учениях, — вмешался в разговор Козырев, — как мы вот взвод на взвод, рота на роту наступаем. Только пусть на нас не пехота наступает, а танки наши.
— Да, да, — продолжая напряженно думать, проговорил генерал. — Вы сидите в окопе, а на вас наш танк на полной скорости несется.
— И еще пусть огонь ведет холостыми патронами, маневрирует из стороны в сторону, — с жаром подхватил Саша Васильков.
— Одним словом, как в настоящем бою, только для тренировки, — добавил Козырев.
— А он, танкист-то ошибется, да как всей махиной давнет на тебя, и косточек не соберешь, — ежась, словно в самом деле слыша скрежет танковых гусениц, сказал Гаркуша.
— Окоп поглубже да поуже, как в настоящем бою, — пояснил Саша Васильков.
— Точно, — подхватил все время молчавший Чалый, — и действовать надо, как на фронте.
— На фронте! — язвительно усмехнулся Гаркуша. — Там, в бою, — была не была, оглядываться некогда, или жив или капут. А уж под своим-то погибнуть, на это я ни за что не согласный.
— Окоп поуже, поглубже, — задумчиво повторил генерал слова Василькова, — людей подготовить, танкистов потренировать. Да. Это дело, — продолжал он, пристально глядя на Василькова, — стоящее и большое дело.
— Да если бы, товарищ генерал, — воскликнул Васильков, — хоть разок потренироваться с настоящим танком, разве бы я промазал…
— Будем тренироваться, товарищи, обязательно будем. И по макетам и по настоящим танкам, как в подлинном бою, без всяких условностей. Но все-таки главное зависит от вас. Из-под палки многому не научишься. Нужно умом, сердцем, всем своим существом понять, что без учебы, без тренировки, а только нахрапом врага не победить. Пусть сейчас, когда есть возможность учиться, колени и локти ваши будут в кровь истерты, пусть вы прольете море поту и не доспите час-другой, но зато там, в схватке с врагом, все это окупится с лихвой. От того, как вы научитесь бороться с врагом, зависит не только наша общая победа, но и ваша личная жизнь. Говорят, что трус умирает дважды, а герой никогда. Это верно. Но я бы еще добавил: герой не тот, кто отчаян и смел, а кто к тому же ловок и умел. Спасибо, товарищи, — взглянув на часы, закончил генерал, — я очень рад, что побывал у вас. Надеюсь, что в боях вы будете действовать и смело и умело.
— Не подведем, товарищ генерал, — словно сговорившись, в один голос заверили пулеметчики.
Проводив генерала, пулеметчики долго сидели молча.
— А генерал-то, генерал, — первым заговорил Алеша.
— Генерал, — насмешливо сказал Гаркуша, — генерал! Серость!.. Це не генерал, а Микита Сиргиевич Хрущев, секретарь ЦК Украины. А ты — генерал, генерал…
— Вспомнил, вспомнил, — прокричал Алеша, — он же к нам в школу заходил, я в первом классе учился. Только тогда он не седой был, и лицо без морщин…
— Шо, — язвительно прищурился Гаркуша, — вин? У вас? У школи? Та чего он там не бачив? Вин у нас на Вкрайне.
— Да был! Я сам видел, хорошо помню, — с обидой выкрикнул Алеша.
— Брешешь! — категорически отрезал Гаркуша.
— Напрасный спор, — вмешался Козырев, — до Украины Никита Сергеевич Хрущев был секретарем Московского комитета партии и много ездил не только по заводам и фабрикам, но и по селам, деревням. Я сам несколько раз и видел и слышал его.
— Аааа! Так то ж колысь було, — пытался вывернуться Гаркуша, но дружный смех пулеметчиков обескуражил его.
— Ну, чого, чого ржете, — смущенно пробормотал он, — я ж не тот… не якой… Я ж Москву тильки во сне бачив…
* * *
Внешне генерал Федотов ничем не выдавал своего недовольства, но по его долгому молчанию и Поветкин, и Привезенцев понимали, что командир дивизии обвиняет их полк и особенно их самих в том; что на самом важном участке обороны уже второй месяц нет ни одного пленного.
— Каждую ночь разведчиков посылаем! — не выдержав напряженного молчания, воскликнул Привезенцев. — А люди-то какие, товарищ генерал, самые лучшие из всего полка!
— Значит, дело не в разведчиках, — впервые за весь разговор резко бросил Федотов и косо взглянул на Привезенцева. — А в организации.
— Пленный будет, товарищ генерал! — запальчиво выкрикнул Привезенцев и, густо покраснев, добавил:
— Завтра утром к вам доставим.
Поветкин укоризненно посмотрел на Привезенцева и, ничего не сказав ему, повернулся к генералу.
— Одними поисками, товарищ генерал, мы ничего не добьемся, — глухо заговорил он. — Нужна силовая разведка, короткий, неожиданный, но мощный удар. Разрешите одной ротой захватить высотку на правом фланге. Тогда и пленные будут.
— Одной ротой, — задумчиво повторил Федотов. — Можно, конечно, и ротой, даже батальоном. А будет ли толк?
— Да зачем, зачем это, товарищ генерал? — воскликнул Привезенцев. — Чем больше боев, тем больше потерь, а у нас и так людей мало. Пленного и без боя можно взять, хитростью.
— А почему же не взяли?
— Так случалось, товарищ генерал… обстоятельства, — смутился Привезенцев, но тут же оправился, озорно блеснул разгоревшимися глазами и, видимо, забыв с кем разговаривает, лихо подкрутил рыжий ус.
— Сегодня ночью будет «язык»! — буйно встряхнув головой, отчеканил он. — Разрешите утром лично доставить к вам?
«Вот бахвал! — возмущенно подумал Поветкин. — Черт знает, что за характер. Так человек как человек, и нормальный вроде, рассудительный, толковый, а то взовьется и пошел куралесить».
— Утром… Лично… — с любопытством глядя на Привезенцева, повторил Федотов.
— Так точно! — как неоспоримую истину, без тени смущения подтвердил Привезенцев.
— Вас, товарищ генерал, — услышав писк телефона, сказал Поветкин и, склоняясь к Привезенцеву, едва слышно прошептал:
— Вы обдумали, что наобещали, или просто, не измерив броду, да бултых в воду?
— Подумал, и серьезно, — так же шепотом, ответил Привезенцев и спокойно добавил:
— Возьмем пленного, товарищ майор, как пить дать возьмем. Положитесь на меня.
— Так, значит, «язык» будет? — закончив телефонный разговор, повернулся Федотов к Привезенцеву.
— Самый настоящий! — с прежней горячностью подтвердил Привезенцев.
— Что ж, посмотрим, — явно озабоченный чем-то, сказал Федотов. — Только без лихачества. Продумайте все как следует, организуйте и подберите лучших, самых надежных людей. Вечером я приеду, проверю и — начнем! А вы, товарищ Поветкин, собирайтесь, и едем. Меня и всех командиров полков вызывает командир корпуса.
Приказание генерала организовать новый поиск разведчиков обеспокоило Поветкина, да и слишком самоуверенный тон и запальчивость Привезенцева не понравились ему. В последнее время начальник штаба работал спокойнее, без прежнего лихачества и ухарских выходок, но все же нет-нет да прорывался его буйный, склонный к скоропалительным решениям характер.
«Только бы скорее вернуться», — указывая Привезенцеву, что нужно сделать, думал Поветкин.
— Есть! Исполню точно! Будет сделано именно так! — твердо, с готовностью отвечал Привезенцев на каждое слово Поветкина и старательно записывал все его указания в объемистый блокнот. Это немного успокоило Поветкина.
— Только, Федор Петрович, — в заключение попросил Поветкин, — без всяких лихачеств, продумайте все, а главное — не горячитесь.
— Что вы, товарищ майор, — без тени обиды воскликнул Привезенцев, — все будет в ажуре! Покажу, расскажу, организую, потребую, проверю, — все точненько как положено!
* * *
Черная, едва очистившаяся от снега и еще не подсохшая земля неоглядным разливом уходила к самому горизонту. На ее однообразном фоне скрылись вражеские траншеи, окопы, хода сообщения, и только крохотные, едва заметные колья проволочного заграждения обозначали, где кончалась нейтральная зона и начиналась территория, занятая противником. Черно, пустынно и безлюдно было вокруг. Поплыв еще сутра, низкие дождевые тучи сгустили мрак, и казалось, не весенний день стоял над землей, а властно вступала в свои права осенняя ночь.
Такая погода радовала Привезенцева. Он стоял у амбразуры полкового НП и участок за участком просматривал в бинокль вражеское расположение. Собственно, особой необходимости столь пристального изучения местности не было. За те полтора месяца, что полк занимал оборону на холмах северо-западнее Белгорода, он изучил каждую ложбинку и бугорок и на своей, и на той стороне. Просто по чисто командирской привычке он перед принятием решения изучал местность. Так, видя, где придется действовать, легче, конкретнее думалось и одна за другой наплывали нужные мысли. Сейчас, вновь просматривая все перед участком обороны полка, он вспоминал горькие случаи неудачных попыток разведчиков взять пленного, обдумывал, как и почему это случалось, пытался найти новое решение и ничего придумать не мог. Пустое и безлюдное расположение противника казалось непроходимой стеной, намертво закрывшей все, что уходило на юг, к Белгороду и Томаровке, к Харькову и Борисовке. Все пути, все способы действий разведчиков были уже испробованы. Что же придумать такое, чтобы обхитрить противника, пробраться незаметно хотя бы в его первую траншею и захватить там пусть самого рядового гитлеровца? Попробовать на правом фланге, вдоль ручья? Уже пробовали, но не смогли даже к проволочному заграждению приблизиться. В центре, перед этой раздвоенной высотой, только вчера потеряли двоих разведчиков. В левой стороне участка также противник несколько раз отбрасывал огнем наши поисковые группы. Где же выход? Как прорваться к противнику?
Больше часу просидев на НП и ничего не придумав, Привезенцев озлобленно сунул бинокль в футляр, подхватил автомат и, никому ничего не сказав, один пошел к переднему краю.
Как и часто бывало с ним в минуты раздражения, он проклинал войну, проклинал немцев и, все распаляясь, придумывал самые различные варианты мщения гитлеровцам за все, что натворили они на земле, и что еще натворят, если их не остановить и «не вогнать в гроб», как любил он говорить. Невзгоды и горечь войны особенно остро почувствовал он в последние месяцы, после того, как полк, постояв около деревни Дубки, снова попал на фронт. Раньше даже тяжелые бои казались ему обычным выполнением своего долга, а малейшую передышку он проводил так беззаботно, весело и бездумно, как не бывало даже в мирное время. Теперь же, видя, как гибнут, становятся калеками, теряют здоровье и силы десятки, сотни людей, он все чаще и чаще думал и о самом себе, и о тех людях, представляя себя на их месте и глубже сознавая непоправимые последствия войны. Временами, особенно, когда гибли хорошо известные ему люди, его охватывала такая ненависть к тем, кто сидел там, за нейтральной зоной, за паутиной проволочных заграждений, в этих змеившихся траншеях и ходах сообщения, что он с трудом подавлял в себе стремление ринуться к переднему краю и бить их, бить всем, что попадет под руки. Только одно останавливало и умиротворяло его. Это были все чаще и чаще посещавшие его мысли о Наташе. В последнем письме она прислала свою фотографию. На глянце крохотного прямоугольника, среди расплывчатых теней и пятен гладко вырисовывались полураскрытые в затаенной усмешке губы и прищуренные, смотревшие прямо на него доверчивые глаза. В этих глазах он видел ее всю, — сильную, статную, покоряющую своим обаянием, милую Наташу, с которой столь нежданно свела его жизнь и столь же безжалостно разлучила.
Вспомнив Наташу в это напряженное время раздумий, Привезенцев, как и часто бывало с ним раньше, почувствовал вдруг, как мысли потекли свободнее и проще, сами по себе отсеивая ненужное и оставляя только то, что казалось ему главным.
Конечно, рассуждал он, ворваться к противнику силой, ударом роты и далее батальона и из-за какого-то одного паршивого фрица погубить не один десяток наших людей бессмысленно. Игра явно не стоит свеч. И так всего за месяц столько пришлось потерять разведчиков, да каких разведчиков-то! Погиб командир взвода, погибли два сержанта, даже мой помощник по разведке и тот угодил месяца на три в госпиталь из-за своей любви силой врываться к противнику. Зачем напрасная кровь! Нужно не дуриком, не напролом идти, а брать хитростью, смелостью, умением. Главное — провести все тихо, тайно, без малейшего шума. Высмотреть днем местечко поудобнее, выбрать самое темное и спокойное время и одному, без единого звука пробраться и цапнуть фрица.
Эта мысль так овладела Привезенцевым, что он не пошел дальше, прилег на бруствер хода сообщения и, думая все определеннее и конкретнее, больше часу всматривался в облюбованную им лощину, где едва заметно темнела вражеская траншея. Да, тут, именно тут, на открытом, чистом поле, которое противник наверняка считает непроходимым, пользуясь густой темнотой, можно пробраться к этой траншее и выкрасть пленного. И действовать нужно не группой, а в одиночку, так, чтобы ни одного звука, ни одного лишнего движения!
«Будет пленный, товарищ генерал! — мысленно воскликнул Привезенцев. — Я сам лично доставлю его персонально вам!»
* * *
Вместо совещания командир корпуса усадил командиров дивизий и полков в крытый грузовик и по разбитым, залитым водой дорогам повез их куда-то на восток. Часа через два тряского, изнурительного пути грузовик остановился в густом сосновом бору, где, как на выставке, меледу образцами различной техники уже ходило множество офицеров и генералов. Около одной из групп Поветкин увидел Ватутина и Хрущева.
— Что-то не совсем обычное, — шепнул сосед Поветкину, — и Ватутин, и Никита Сергеевич, и, смотри, все командующие здесь: Чистяков, Шумилов, Москаленко, Катуков, Моногаров, Трофименко…
Командир корпуса, прихрамывая, пошел докладывать Ватутину и вскоре вернулся в сопровождении затянутого в комбинезон генерал-майора танковых войск.
— Товарищи, — подойдя к группе офицеров, сразу же заговорил танкист, — немецкая военная промышленность освоила выпуск новой бронетанковой техники, и сейчас гитлеровское командование поспешно оснащает этой техникой свои войска. В боях под Харьковом нам удалось захватить образцы этой техники, и они представлены здесь. Особенно обратите внимание на тяжелые танки «пантера» и «тигр» и сверхтяжелые самоходные орудия «фердинанд».
Поветкину уже приходилось слышать легенды о новых немецких танках, которые якобы представляли из себя настоящее чудо. Одни утверждали, что эти особенные танки не берет ни один снаряд, ни одна противотанковая мина. Другие, ссылаясь на рассказы очевидцев, так расписывали огневую мощь новых фашистских машин, что будь эти сведения наполовину правдивы, ни одна советская пушка не могла бы успешно бороться с ними. Фантазия третьих уводила в область невероятного, доказывая, опять-таки по сведениям очевидцев, что новые фашистские танки так же свободно перемахивают через глубокие и широченные реки, как и ходят по земле, что они, как солому, валят толстенные деревья, с ходу прыгают через противотанковые рвы и овраги, не вязнут в болотах и трясинах.
Многому из этих рассказов Поветкин не верил, но в душе его все чаще и чаще нарастала тревога.
Еще издали, рядом с хорошо знакомым немецким танком Т-3 Поветкин увидел массивную угловатую машину с длинной пушкой, с намалеванной на борту полосатой пантерой. Она словно всем своим сорокапятитонным корпусом изготовилась к прыжку. Уже один вид сваренной из толстых стальных плит машины говорил о ее грозной силе.
Еще более мощным оказался тяжелый танк «тигр», шестидесятитонной глыбой возвышавшийся рядом с «пантерой». Длинностволая пушка его обладала высокой скорострельностью и могла почти за километр пробивать броню любого нашего танка. Сам же «тигр», укрытый с передней части пятнадцатисантиметровой броней, казался абсолютно неуязвимым.
Осматривая внутреннее устройство, измеряя толщину брони, прикидывая возможности вооружения, Поветкин все более и более мрачнел, мысленно представлял себе встречу с такими громадами.
По суровым, сосредоточенным лицам других командиров полков и дивизий Поветкин видел, что и они так же как и он подавлены видом новых фашистских танков. К тому же и танковый генерал, объясняя устройство и возможности «пантер» и «тигров», словно умышленно сгущал краски и без конца приводил все новые и новые примеры их грозной силы и поразительной неуязвимости.
— Ну, как, страшновато? — внезапно услышал Поветкин веселый, спокойный голос и увидел неторопливо подходившего Хрущева.
— И названия-то придумали: «тигр», «пантера»! Зверье хищнейшее. Дескать, попадись только, враз клочья полетят! — с усмешкой сказал он и постучал пальцами по лобовой броне «тигра».
Он о чем-то задумался, морща широкий лоб, отошел от танка и спросил незнакомого Поветкину высокого генерала:
— Помните, Семен Андреевич, как прошлым летом на подступах к Волге немецкие воющие пикировщики появились?
— Еще бы, Никита Сергеевич! — отозвался генерал. — Валится махинища из поднебесья и воет ужасающе. Страшновато было, а потом ничего, обвыкли.
— И поняли, — продолжил его мысль Хрущев, — не от хорошей жизни гитлеровцы на своих пикировщиках сирены понаставили. Когда дров нет — и щепка топливо. А дровишки-то у фашистов к тому времени, как у незапасливого хозяина к весне, довольно-таки иссякли. И в небе все теснее и теснее от наших самолетов стало, и с земли не отдельные хлопки, не огонь жиденький, а ливень, шквал снарядов и пуль. Иначе говоря, и материальные, и моральные условия войны изменились. Мы тогда если еще и не добились перевеса, то достигли по меньшей мере равенства. Перегнать нас гитлеровцы уже не могли. И вот они пошли на трюкачество, решили на психике сыграть, поставили сирены на своих самолетах. Нечто подобное есть и в названиях этих новых боевых машин. «Тигр», «пантера», «фердинанд». Зверье неукротимое! Только нет такого зверя, какого бы капкан не прихлопнул.
Хрущев смолк, сурово сдвинул светлые брови и, неторопливо пройдясь перед строем, резко, с металлическим звоном в голосе продолжал:
— Но волк останется волком, и его, как овечку, голыми руками не возьмешь. Антон Миронович, — подошел он к хмурому, с багровым шрамом через всю щеку, артиллерийскому полковнику, — ваши артиллеристы первыми под Харьковом с «тиграми» столкнулись?
— Мои, — мрачно протянул артиллерист.
— И как? — еще ближе подойдя к полковнику, заинтересованно спросил Хрущев.
— Да что, Никита Сергеевич, и вспоминать тошно.
— Вы не хмурьтесь, — весело улыбнулся Хрущев, — за битого — пять небитых дают. А вы хоть и здорово пострадали, но все же «тигров» остановили.
— Остановили, — вздохнул полковник, — как только остановили-то! Пушки-гаубицы пришлось тракторами на открытые позиции выдвигать. А другие снаряды как горох отскакивали, даже самые сильные, бронебойные. Вон у него лбише-то какой, — со злостью показал полковник на пятнистого «тигра».
— Все это в прошлом и больше не повторится, — сурово проговорил Хрущев. — Наши конструкторы создали, а промышленность уже выпускает новые снаряды — подкалиберные и коммулятивные. Они пронизывают броню любого фашистского танка, в любом месте. Вот, товарищи, взгляните, — сказал Хрущев и, по колени утопая в снегу, двинулся на опушку леса, где темнели силуэты «пантеры» и «тигра».
— Вот что такое новый снаряд! — воскликнул он, остановясь у свалившегося набок «тигра» с множеством рваных и совсем необычных, словно выжженных пробоин.
Генералы и офицеры, тесно обступив изрешеченный новыми снарядами «тигр», вполголоса переговаривались.
— Это же наша пушка проломила броню насквозь!
— Но здесь не пробито, а скорее прожжено.
— Вот он самый коммулятивный, или, как его, попросту называют, бронепрожигающий снаряд, — пояснил танковый генерал.
— Теперь есть чем бороться! — взволнованно сказал Поветкин генералу Федотову.
— Да. Средства борьбы есть, — задумчиво проговорил Федотов, — но главное-то люди, люди.
— Вот именно, Николай Михайлович, люди, — подходя к Федотову и Поветкину, сказал Хрущев. — Самое страшное в борьбе с танками — это танкобоязнь.
Услышав голос Хрущева, генералы и офицеры мгновенно стихли и плотно окружили Никиту Сергеевича.
— Танкобоязнь — это не врожденный порок, — пристально глядя то на одного, то на другого командира, продолжал Хрущев, — это временная болезнь, вроде гриппа. И лекарство против этой болезни одно: воспитание и обучение! У нас замечательные люди, товарищи, — с жаром воскликнул Хрущев, резко взмахивая рукой, и вдруг лицо его нахмурилось, глаза сузились и сильные руки сжались в кулаки.
— Но мы их еще мало и плохо учим, — медленно и сурово сказал он, — и сейчас этому нет оправдания. Это не сорок первый год и не сорок второй, когда мы задыхались в ожесточенных боях. Сейчас мы имеем возможность по-настоящему учить людей. А люди-то, люди, товарищи, — продолжал Хрущев, — они сами требуют настоящей учебы. Вот в полку товарища Поветкина есть паренек Саша Васильков. Здесь, под Белгородом, он столкнулся с фашистским танком. И подбил его. Но как? Первой, говорит, гранатой промахнулся, промазал, второй тоже, и только третья попала в цель. А почему? Он сам просто объясняет. Я же, говорит, не только вражеского, но своего-то танка вблизи не видел. Вот она где, беда-то, товарищи. Вчера Военный Совет фронта отдал приказ: «обкатать» все наши войска танками. Суть приема очень проста: посадить людей в узкие, глубокие окопы и пустить на них наши танки. Каждый воин должен пройти через это испытание. И не просто пройти, а научиться смело и вовремя бросить в танк гранату, бутылку с горючей смесью. Это, товарищи, закалит наших воинов, излечит их от танкобоязни, в предстоящих боях спасет тысячи жизней и позволит нам легче, с меньшей кровью разгромить врага. А враг, товарищи, в этом не должно быть никакого сомнения, готовится к последнему, самому решительному натиску. То, что войну гитлеровцы проиграли, — факт? Фашистский зверь ранен, надломлен, но не добит. А это самый опасный зверь.
Хрущев смолк, ладонью вытер вспотевший лоб, пристально посмотрел на сосредоточенные, взволнованные лица командиров и вполголоса продолжал:
— Трудным будет предстоящее лето, товарищи! Суровая, еще не виданная по своему напряжению, развернется битва. Но мы прошли такие испытания, каких еще не проходила ни одна армия в мире. Мы преодолели столько, казалось, непреодолимых подъемов и спусков, что нам уже не страшны никакие хребты и перевалы. Как бы ни были они высоки, обрывисты, мы все равно преодолеем их! Это последний перевал на пути к победе, к окончательному разгрому врага.
* * *
После изучения новых немецких танков генерал Ватутин оставил командиров корпусов и дивизий на совещание, а командиры полков выехали в свои части.
— Проверьте, как Привезенцев разведку подготовил, — напутствовал Поветкина генерал Федотов. — Если разведчики колеблются или огневое обеспечение недостаточное, — отмените поиск. Ни одной напрасной жертвы!
Когда грузовик с командирами полков выехал из соснового бора, уже наплывали серенькие, водянистые сумерки. Под брезентовым тентом грузовика было темно и душно. Обычно, оставаясь одни после совещаний или занятий, командиры полков шумно переговаривались, шутили, подтрунивали друг над другом. Особенно шумлив и неугомонен был Аленичев. Коренной старожил дивизии, он знал подноготную почти каждого офицера и, пользуясь этим, частенько едко высмеивал близких друзей. Сейчас же даже Аленичев был сосредоточен и молчалив, изредка попыхивая папиросой в дальнем углу грузовика. Только около штаба дивизии, выпрыгнув из машины, он игриво толкнул Поветкина и, поддерживая его за локоть, с прежней веселостью спросил:
— Как, Сережа, теперь, небось, и во сне «тигры» да «пантеры» видеться будут?
— Если бы только во сне! Они и наяву вот-вот появятся.
— Несомненно! — подавив веселость, со вздохом подтвердил Аленичев. — Хотя бы пушки и снаряды новые поскорее прибыли.
— Ну, что там случилось? — проводив Аленичева, нетерпеливо спросил Поветкин возившегося у мотора шофера.
— Сейчас, товарищ майор, одну минутку, — робко ответил шофер. — Свеча барахлит что-то, сейчас заменю, и поедем.
Но шоферская «минутка», как и обычно, растянулась на полчаса, стало уже совсем темно, когда Поветкин выехал в свой полк. Все пережитое за день и особенно беспокойство о разведке так взвинтили Поветкина, что он с трудом поборол желание приказать шоферу ехать с зажженными фарами. К счастью, на фронте стояла тишина и вновь заморосивший дождь обещал спокойную ночь.
— Где Привезенцев? — едва подъехав к своему штабу, спросил Поветкин у выбежавшего навстречу дежурного.
— На передовой, с командиром взвода разведки ушел, — тихо ответил Дробышев.
— А где разведчики?
— В своей землянке.
— Как в землянке? Разве Привезенцев с командиром взвода вдвоем ушли?
— Так точно! Вдвоем!
«Значит, поиск еще не начали», — облегченно подумал Поветкин и, зайдя в свою землянку, позвонил в первый батальон, куда ушел Привезенцев. К его удивлению, всегда спокойный комбат ответил растерянно, явно чем-то взволнованный и смущенный.
— В чем дело? Где Привезенцев? — ничего не поняв из его объяснения, сердито переспросил Поветкин.
— Я докладываю вам: в разведку ушел, за «языком».
— Как? Сам? Один?
— Никак нет! С командиром взвода разведки.
— Да не может быть!
— Так точно, ушел, — подтвердил комбат и, видимо, чувствуя возмущение Поветкина, успокаивающе добавил:
— Минут двадцать, как уползли. Я отговаривал, а ом и слушать не хочет. Приказал только в случае чего огнем поддержать.
Не опуская телефонной трубки, Поветкин обессиленно повалился на табуретку и никак не мог собраться с мыслями. Хорошо зная лихачество и скоропалительность Привезенцева, он всего мог ожидать от него, только не этого сумасбродного поступка.
— Что вы подготовили для их поддержки? — немного оправясь от неожиданности, спросил он комбата.
— Минометный огонь, пулеметный. Командир дивизиона артиллерийского тоже у меня сидит. Он также готов по первому сигналу Привезенцева открыть огонь.
— Хорошо. Будьте настороже, я иду к вам, — поняв, что ничего другого сделать уже нельзя, сказал Поветкин и позвонил Лесовых.
— Приехал? Вот замечательно, — обрадовался Лесовых. — Ты слышал, что Привезенцев начудил?
— А ты-то как просмотрел? — с упреком набросился Поветкин на Лесовых.
— Да я только что вернулся из политотдела армии, на попутных добирался. А потом во втором батальоне, у Бондаря задержался. Пришел сюда и… как снег среди лета.
— Снег, снег, — рассерженно пробормотал Поветкин. — Ну, ладно, я пошел туда, в первый батальон.
— Пойдем вместе. Подожди минутку, я сейчас зайду к тебе.
Не успел Поветкин еще раз позвонить в первый батальон, как совсем близко гулко ахнуло несколько взрывов, и одна за другой вразнобой затрещали пулеметные очереди.
— Все!.. Обнаружили!.. — прошептал Поветкин и, в дверях столкнувшись с Лесовых, опрометью бросился на свой НП.
В кромешной тьме тусклыми отблесками полыхали все учащавшиеся взрывы. Где-то позади них, еще плотнее сгущая мрак, взвилось и погасло несколько осветительных ракет. Треск пулеметов и автоматов уже слился в сплошной гул и охватил почти весь участок полка.
— Прикажи артиллеристам и минометчикам открыть огонь, — порывисто дыша, хрипло проговорил Лесовых.
— Куда, куда бить-то! — сердито ответил Поветкин и, смягчась, тихо добавил:
— Разобраться нужно. Не вслепую же палить. В чем дело? Что случилось? — спросил он по телефону командира первого батальона.
— Ничего не понимаю, — с еще большей, чем прежде, растерянностью ответил тот. — Ни с того, ни с сего немцы вдруг начали палить, как ошалелые.
— От Привезенцева никаких сигналов не было?
— Никак нет. Ни одного сигнала.
Стрельба так же, как и началась, внезапно стихла. Поветкин и Лесовых стояли у амбразуры НП и ничего, кроме сплошной тьмы и шелеста все усиливающегося дождя, не видели и не слышали. Горькие, тревожные думы обуревали командира полка и его заместителя по политической части. Что было там впереди, за рядами колючей проволоки и за этой совсем пустой, но такой недоступной «нейтральной зоной»? Где сейчас Привезенцев и командир взвода разведки?
Дождь стучал все ядренее и гуще. Тяжелый мрак, казалось, поглотил все живое. Влажный воздух словно загустел и стал вязким.
— О чем совещание было? — не выдержал тягостного молчания Поветкин.
— О партийно-политической работе в наших условиях, о новых задачах, — радуясь возможности хоть на время рассеять тревожные мысли, поспешно ответил Лесовых. — Главное, о борьбе с танками противника, с этими самими «тиграми», «пантерами», «фердинандами». Об этом особенно подробно говорил Никита Сергеевич Хрущев.
— А он у вас был?
— Вчера почти весь день провел с нами.
— Ш-ш… — прошептал Поветкин и рывком схватил телефонную трубку. — Да, я слушаю. Вернулись! — радостно прокричал он. — Пленного взяли. Молодцы! Что? Привезенцев ранен. Ходить может? Немедленно его на медпункт!
— Взять-то пленного взяли, — медленно положив трубку, с протяжным вздохом сказал Поветкин, — только Привезенцев, кажется, без глаза остался. Ну что делать с ним? За поступок судить нужно, за пленного награждать, за рану — жалеть!
Глава шестнадцатая
В это утро общего завтрака в квартире Полозовых не состоялось. Василий Иванович чуть свет, бурча что-то про нерасторопность и ротозейство, ушел на завод. Агриппина Терентьевна еще позавчера прослышала, что в сотый магазин привезут селедку, и, как часто случалось с ней, почти не спала всю ночь, боясь опоздать в очередь. Вера и Лужко в неубранной комнате остались одни.
Из приглушенного репродуктора неслись бодрые мелодии и неутомимый физкультурник весело руководил невидимой зарядкой. Машинально слушая музыку, Вера нажарила картошки, вскипятила чайник и подошла к мужу, все еще лежавшему на кровати.
— Вставай, Петя, позавтракаем, — сказала она, приглаживая его взлохмаченные светлые волосы.
— Ешь, Верок, мне что-то не хочется, — ответил он, устало закрывая глаза и разгоряченными пальцами касаясь ее руки.
— Ну почему, Петя? — обидчиво протянула она и настойчивее повторила:
— Вставай, пойдем.
Словно ничего не слыша, он приглушенно вздохнул и безвольно опустил руку.
— Петя, милый, что с тобой? — в порыве нежности и отчаяния воскликнула Вера.
Его плотно сжатые бледные губы сердито дрогнули, на лбу сбежались и тут же исчезли две упрямые складки.
— Что ты молчишь? Я же вижу, я понимаю… Ты переживаешь, мучаешься… Почему? Скажи…
Он, все так же не двигаясь, пролежал несколько секунд, затем хрипло проговорил:
— Зачем выдумываешь. Ничего не случилось.
— Неправда! — не выдержав, вскрикнула Вера. — Ты совсем переменился…
В его до синевы голубых глазах вспыхнула такая боль, что Вера мгновенно стихла и, опять схватив его руку, бессвязно прошептала:
— Прости, Петя, я так, я ничего, мне показалось…
— Не надо, — глухо проговорил он, — не надо выдумывать. Ты успокойся.
Он приподнялся, обнял ее, поцеловал в щеку и, как показалось Вере, совсем равнодушно сказал:
— Иди, не тревожься, у тебя целый день работы. Не надо расстраиваться из-за ничего.
— Хорошо, Петя, хорошо, — послушно согласилась она. — Ты не обращай внимания. Я просто на работе перенервничала.
Она поцеловала его в щеку, в лоб, в подбородок и, как-то странно улыбнувшись, выбежала из комнаты.
Лужко рассеянным взглядом окинул комнату, безвольно посидел немного и, вдруг вспомнив ее необычную улыбку, ринулся к двери. Ни в коридоре, ни на лестнице Веры уже не было. Хватаясь за стол, за стулья, за спинку кровати, он прыжками подскочил к окну и посмотрел на улицу. За углом дальнего дома мелькнула и скрылась беленькая шапочка Веры.
— Нет! Дальше так невозможно, — гневно воскликнул Лужко, торопливо оделся и, стуча костылями, вышел из квартиры.
Напряженно думая, он не замечал ни встречных людей, ни переполненных трамваев, ни холода метельного ветра.
— Мне нужно к военкому, — торопливо входя в приземистое с огромными окнами здание, сурово сказал он лейтенанту с красной повязкой.
— Сегодня неприемный день. Завтра приходите, — равнодушно ответил лейтенант.
— Мне нужно сейчас, немедленно, сию же минуту, — резко проговорил Лужко и так посмотрел на лейтенанта, что тот попятился и растерянно пробормотал:
— Подождите немного. Присядьте. Я доложу. Пожалуйста, пройдите, — быстро возвратясь, показал лейтенант на дверь.
— Слушаю вас, товарищ капитан, — встав из-за стола, встретил Лужко невысокий пожилой майор.
— Примите меня обратно в армию, — настойчиво глядя на майора, сказал Лужко.
— То есть как это в армию? Вы же…
— Инвалид, вы хотите сказать, — перебил военкома Лужко. — Это верно. Но у меня есть две руки и одна нога, есть голова, глаза, язык. Я могу работать, могу пользу приносить.
— Успокойтесь, присядьте, — мягко остановил Лужко майор.
— Я не могу успокоиться, — все же садясь на стул, продолжал Лужко. — Не могу без дела сидеть, тунеядцем жить. Куда угодно, кем угодно, — писарем, кладовщиком, каптенармусом, хоть сторожем у какого-нибудь склада, но только в армию, только на работу.
Военком наверняка не в первый раз видел таких посетителей, присел напротив Лужко, терпеливо выслушал его и, явно сожалеюще, сказал:
— Конечно, кадровому офицеру жить без армии все равно, что жить без воздуха.
— Именно без воздуха, — подхватил Лужко. — Я задыхаюсь, я разлагаться от безделья начинаю, сам себя ненавижу, скоро на людей бросаться буду.
— Я понимаю вас, — все так же сочувствующе сказал майор. — Готов помочь вам, но поймите, вы хорошо знаете армейские условия, не так-то просто найти вам работу. За два года войны много нашего брата покалечено. Но армейская служба… Да что вам рассказывать, — укоризненно махнул он рукой. — Одним словом — армия требует здоровых, сильных людей. Конечно, и вы можете принести пользу. Но пока найдется для вас подходящее место, много воды утечет. Это одно, а второе и более важное: в армии будете временным человеком, хоть вы и кадровый офицер. Рано или поздно вас все равно уволят. А вам всего двадцать пять лет. Впереди целая жизнь, и не будете же вы на одну пенсию жить. Нужно опять себе постоянную работу подыскивать.
С каждым словом военкома Лужко чувствовал, как исчезает и гнев, и раздражение, а вместе с ними уходит окончательно и надежда на возвращение в армию, которая так властно овладела им в последнее время. Он совсем равнодушно выслушал обещание майора сообщить, если в какой-либо из гражданских организаций найдется подходящее место. Вяло попрощался, заверив военкома, что успокоился и сам будет подыскивать себе работу, но в душе не верил ни тому, что успокоится, ни тому, что войдет в нормальную колею жизни.
* * *
Не то от старости, не то от непомерных забот о разросшемся заводском гараже Селиваныч стал просто невыносим. С утра и до вечера он, сутулясь и шаркая ослабевшими ногами, метался между машинами, хрипло ругал, не стесняясь даже бранных слов, шоферов, ремонтников, диспетчершу. Обессилев от ругани, укрывался в своей конторке и через несколько минут вновь вылетал оттуда, еще более рьяный и непримиримый. Все, кто хоть неделю проработал в гараже, знали, что резкость старика беззлобна, что кипятится и ругается он, болея за дело, а в душе мягок, добр, оставляя без взысканий даже серьезные проступки своих подчиненных. Поэтому только новички робели перед Селиванычем и обижались на него, но тоже вскоре привыкали и, уже выслушав очередную нотацию, посмеиваясь, говорили:
— Выдал мне старик порцию, будем ждать следующую.
Душевнее всех относилась к Селиванычу Вера, хоть и доставалось ей больше всех и за всех.
Но в этот день Вера не выдержала. Еще до начала работы Селиваныч, сопя и сердито шевеля лохматыми бровями, упрекнул ее за то, что она вчера не нарядила шоферов в дальние поездки, хотя всего несколько дней назад категорически запретил ей подписывать путевки для выезда из города.
Вера по обыкновению промолчала, заполнила путевые листы и подала ему на подпись. Он, все еще продолжая ворчать, схватил старенькую ученическую ручку, с маху сунул перо в чернильницу и, не рассчитав, посадил на путевке огромную кляксу.
— Кто столько чернил набухал? — капризно пробормотал он, кося выцветшими глазами в сторону Веры. — Черт-те что творится: то дно сухое, то через край льется. Никогда по-людски не сделают.
Вера опять промолчала, заново переписала путевку и ушла в мастерскую. Ремонтники, спеша закончить сборку трофейной трехтонки, вторые сутки работали без отдыха. Когда Вера подошла к сиявшей свежей краской машине, они уже опробовали мотор, испытывая его то на больших, то на малых оборотах. Все механизмы работали нормально, и Вера разрешила пустить машину на обкатку. Это была уже сорок первая машина, поставленная на ноги, как говорил сам Селиваныч, духом и упорством ремонтников.
— Все, Иван Селиваныч, поехала наша сорок первая, — радостно встретила Вера грузно шагавшего по гаражу Селиваныча. — Завтра можно в рейс отправлять.
Старик буркнул что-то неопределенное и пошел к толпившимся около диспетчера шоферам.
— Митинг, что ли, какой? — издали прокричал он. — Или опять перекур до одурения? А ну, по местам!
Шофера, посмеиваясь, послушно разошлись. Машины одна за другой выкатывались на улицу, и вскоре гараж опустел. Только грузовик Анны Козыревой стоял в дальнем углу, сиротливо похильнувшись на сломанной рессоре. Ни новых, ни старых рессор в запасе не было, и Селиваныч вчера обещал сам поехать к своему знакомому на автобазу электрозавода и раздобыть пластин для переборки рессоры.
— Эта почему стоит? — подойдя к Вере, кивнул Селиваныч в сторону Анниной машины.
— Рессора вчера…
— Что рессора, что вчера? — перебил Веру Селиваныч. — Работы черт-те что, а машина стоит.
— Иван Селиваныч… — пыталась объяснить Вера.
— Я шестой десяток Иван Селиваныч, — входя в привычное раздражение, рьяно выкрикнул старик. — Бездельники, лежебоки! Только языком трепать, а чуть до дела, так Иван Селиваныч.
Вера молчала, зная, что убеждать Селиваныча в такой момент совершенно бесполезно. Но в неспокойной душе ее, неудержимо нарастая, поднималась обида. Она почти не слушала Селиваныча, думая, что сейчас делает Петро. Выбежав из дома, она несколько раз хотела было вернуться, но какое-то непонятное упрямство властно гнало ее в гараж, и теперь она жалела, что не вернулась, не успокоила мужа, оставив в таком состоянии одного на целый день.
— Что раскрылетилась?! — уже на весь гараж кричал Селиваныч. — Кто механик: ты или я? Ремонтировать надо…
— Иван Селиванович, — с трудом сдерживая негодование, прошептала Вера.
— Вот, вот! Языком трепать, — язвительно выкрикивал старик, — это вы все мастера. Черт-те что творится!
Вера чувствовала, как нестерпимым жаром полыхало все лицо, как нервно задрожали губы и на глаза набежали слезы. Она с ненавистью взглянула на Селиваныча, шагнула было к нему, но тут же всхлипнула и, совершенно не помня, что делает, побежала в конторку.
— Как вам не стыдно, — подскочила к Селиванычу Анна, — пожилой человек, а такое вытворяет. Она всю душу в работу вкладывает, а вы орете на нее. Вы же сами вчера обещали поехать на электрозавод.
— Что сам? Какой электрозавод? — растерянно моргая опухшими веками, пробормотал Селиваныч.
— На автобазу, к дружку своему, за рессорой, — спокойно разъяснила Анна и пренебрежительно махнула рукой. — До чего же вы невыносимый стали. Не будь вы таких лет, я бы вам сказанула…
Она с ног до головы презрительно осмотрела мгновенно притихшего Селиваныча, с негодованием отвернулась от него и побежала вслед за Верой.
* * *
Из сбивчивого, отрывочного рассказа Веры Анна скорее душой почувствовала, чем поняла, что плакала Вера не только из-за обиды на Селиваныча. Она просто, — по чисто женской логике определила Анна, — в семейной жизни дошла до такого состояния, что для вспышки отчаяния было достаточно одной, даже совсем случайной искорки. Этой искоркой и была беспричинная ругань Селиваныча.
Успокаивая Веру, Анна исподволь расспрашивала ее о муже, вспоминала, что раньше говорила она о нем, что рассказывали другие, и из всего этого сделала заключение: Вера любила мужа и муж любил ее, но в их отношениях что-то произошло непонятное, от чего она очень страдала. Анна поняла также, что повинна в этом была не Вера, а ее муж. Она посоветовала Вере поговорить с Петром откровенно, но Вера, давясь рыданиями, растерянно шептала:
— Пыталась… Не получается… Вижу: он переживает, мучается, а почему — никак не пойму. Вы не думайте, Анна Федоровна, плохо о нем, он хороший, душевный. Вот только мучается отчего-то, а мне об этом не говорит.
Робко вошедший в конторку Селиваныч прервал разговор. Он, сутуло горбясь и виновато пряча глаза под зарослью бровей, медленно приблизился к Вере и старчески забормотал:
— Ну, ты прости… не обижайся… Сам себя кляну…
— Что вы, Иван Селиваныч, я просто так, — вытирая слезы, оживилась Вера. — Я не обижаюсь.
— Ну вот и спасибо, — обрадовался старик. — Ни в жизнь больше такого не допущу. Язык свой распоганый откушу.
— Вы его лучше кусачками обкорнайте, чтобы не болтал лишнее, — презрительно бросила Анна.
— И обкорнаю, обкорнаю, — с горячностью подхватил Селиваныч. — Самые острые кусачки возьму и начисто оттяпаю.
Увидев, как Вера смущенно улыбнулась, Селиваныч повеселел, расправил сутулые плечи и, все еще не поднимая глаз, успокоенно проговорил:
— Вот и ладно, вот и молодец. Не обращай ты внимания на старика. Поедем-ка вместе на электрозавод. Я этого дружка своего наизнанку выверну, а ты что ни на есть самое лучшее отберешь.
«Что взять с него? Как дитя малое, — проводив Селиваныча в цех, думала Анна. — То вихрем на всех наскакивает, то разреветься готов. А Верочка-то… Как же ей помочь?
Первой мыслью Анны было поговорить с ее мужем, с этим Петром Лужко. Но, может, он с ней и разговаривать-то не пожелает. Отвергла она и мысль сказать об этом Вериному отцу. Он по старости стал не лучше Селиваныча.
«Александр Иванович, вот кто, — с радостью подумала она о Яковлеве. — Если он возьмется, то во всем до винтика разберется. Дел-то у него, правда, свыше головы, но была не была — попытаюсь».
Как и обычно в рабочее время, Яковлева в парткоме не оказалось. Заваленная бумагами единственная на дирекцию, партком и завком секретарша буркнула, что Яковлев ушел в третий механический, а потом, подняв голову и виновато улыбнувшись, поправилась:
— А может, в литейный, там новую печь пускают и что-то не ладится.
Работая на грузовике по полторы, по две, а то и по три смены, Анна редко бывала в основных цехах завода. Когда Толик поступил на работу, она знала, что на заводе был всего один цех и именовался он не первым, не вторым, не третьим и не литейным, а просто механическим. В нем стояли токарные станки, и на одном из них, самом дальнем, работал ее сынишка.
Толик, прибегая домой, частенько говорил что-то о новых станках, о каких-то других цехах, но истомленная работой Анна через пятое на десятое слушала его.
Сегодня, почти через полгода после того, как начал Толя работать, Анна впервые вошла в дрожавший от гула машин знакомый цех, кинула взгляд на то самое место, где всегда работал Толик, и замерла. Ни сына, ни его станка не было. Во всю непомерную длину цеха, от ворот, где она остановилась, и до едва видимых вдали вторых ворот, ровными рядами стояли гудящие станки. И у каждого из них виднелись женщины. Сколько ни смотрела Анна, ни одного мужчины или подростка найти не могла.
— Что, растерялась? — положив руку на ее плечо, спросил кто-то. — Сынка повидать пришла?
Вздрогнув, она обернулась и увидела изборожденное рубцами морщин лицо Василия Ивановича Полозова.
— Я сам подчас глазам не верю, — не дав Анне ответить, прокричал в ее ухо старик. — Такого нагромоздили, что и за день не обойдешь. А сынок твой там, в новом третьем цехе. Проводил бы тебя, да больно некогда, бригада моя там станки новые сгружает.
Робко обходя шумные станки и склонившихся около них женщин, Анна миновала широкий коридор, такой же, заставленный станками, второй цех и вошла наконец в тот самый третий механический, которого полгода назад и в помине не было.
Ошеломленная, чувствуя себя крохотной, как песчинка, Анна, замерла, ничего не понимая. Посредине цеха нескончаемыми лентами уходили вправо, влево и куда-то вперед танки.
Так, пожалуй, и простояла бы Анна до конца смены, если бы не увидела торопливо шагавшего Яковлева. О чем-то сосредоточенно думая, он прошел было мимо Анны, но вдруг остановился, потер пальцами лоб и увидел ее.
— Здравствуйте, Анна Федоровна, — призывно блеснул он серыми глазами. — Пришли основное производство посмотреть? Это замечательно! У нас тут столько нового, столько интересного!.. А то как-то нехорошо получается: автобазовцы наши завода своего не знают. Почаще, почаще заходите.
— Работа все, Александр Иванович, — робея под его пытливым взглядом, проговорила Анна. — То за баранкой день и ночь, а то ремонт за ремонтом. Машины-то, знаете, у нас какие: чиненые-перечиненные, заплаток не пересчитать. Моя вроде самая надежная была, а вчера раз — и рессора пополам. Сегодня загораю, и вот к вам…
— Ко мне? — встревоженно спросил Яковлев. — Случилось что?
— Да знаете, — замялась Анна, — неудобно просто. У вас же…
— Пройдемте сюда, — легонько подхватил он Аннин локоть. — Расскажите, что произошло?
Присев за столиком в каком-то узеньком и светлом отделении цеха, Анна впервые отчетливо рассмотрела Яковлева. Лицо его было все такое же доброе и приветливое, но под глазами лучились во все стороны крохотные морщинки, ранней сединой подернулись его красивые волосы.
«Боже, как он изменился, — подумала Анна. — Верно говорят: не работа, а забота старит человека».
— Так что же, Анна Федоровна? — с веселой улыбкой спросил Яковлев.
— Простите, — встрепенулась Анна и вначале сбиваясь, а потом все тверже и отчетливее начала рассказывать о Вере, о Лужко, о их жизни, о своих тревогах и подозрениях.
Увлеченная рассказом Анна не заметила, как неуловимо серея, изменялось лицо Яковлева, как сутуло опускались его плечи и мерк веселый и теплый свет в его глазах.
Еще с той страшной ночи, когда он, получив последнее письмо Ирины, впервые ушел с завода и больше полсуток опустошенно бродил по Москве, он раз и навсегда решил для самого себя, что с Ириной все кончено. Решил и почувствовал какое-то никогда не испытываемое отвращение ко всем женщинам, которые жаловались на своих мужей. Ложью и безмерным себялюбием казались ему эти жалобы. Он не мог даже в мыслях найти оправдание для Ирины, и все это внутренне переносил на других женщин.
После этого ему, как парторгу завода, приходилось не однажды выслушивать жалобы на неурядицы в семейной жизни. И он выслушивал, старательно сочувствовал и сожалел, но в душе негодовал и возмущался чаще всего женщинами, считая, что основы семейной жизни чаще всего нарушают и губят они.
И сейчас, когда Анна сказала, что этот самый Лужко инвалид, одноногий капитан, настроился против Веры. Утихшая боль от поступка Ирины вновь с прежним ожесточением нахлынула на него. Только силой воли и выработанной привычкой при любых обстоятельствах держать себя в руках, он подавил желание прервать Анну, сказав, что с такими вопросами нужно приходить вечером, в партком, а не в середине смены, когда у него и от более важных дел разваливается голова.
— Вы же знаете, Александр Иванович, — как сквозь сон слышал он голос Анны, — они же, можно сказать, с детства знакомы, в техникуме учились вместе, столько лет любили…
«Столько лет любила, а увидела безногого, и все к черту», — с ожесточением подумал Яковлев.
— А если бы вы знали, — настойчиво продолжала Анна, — как Вера расцвела вся, когда приехал ее Лужко, как она радовалась… Она же, как стеклышко, как зорька ясная. Ни одного пятнышка на ней. И как голубка своего голубка, любит его. И он, не подумайте, — судорожно передохнув, почти со стоном воскликнула Анна, — он тоже любит ее. А вот случилось что-то, и он переменился.
«А он ли переменился?» — с прежним ожесточением подумал Яковлев и вдруг с удивительной ясностью вспомнил Веру.
Он никогда не допускал и намека неискренности и лжи в Вере, так как раньше не допускал этого в Ирине. Это невольное сравнение впервые толкнуло его на мысль о причинах последнего письма Ирины. Может, и Ирина поступила так только потому, что была до предела честной? Но он тут же отбросил эту мысль, и сухо спросил Анну:
— Так вы говорите, что офицер, капитан, без ноги и нигде не работает?
— Офицер, — подхватила Анна, — кадровый, как говорит Верочка, семь лет в армии, сразу из техникума. А теперь ногу отбило, пенсию назначили.
«Пенсию назначили, — внутренне усмехнулся Яковлев последним словам Анны, — пенсию назначили, а работы нет. Все трудятся, а он целыми днями без дела. И не один, не два, а месяцы и в перспективе — всю жизнь. Да я бы, неделю без дела просидев в пустой квартире, все окна перебил».
— Он вместе с Верой в автомобильном техникуме учился? — заинтересованно спросил он Анну.
— Даже раньше ее поступил, ну а потом в армию, — не понимая перемены в Яковлеве, ответила Анна.
— Знаете, Анна Федоровна, — вставая, сказал Яковлев, — обстоятельства, видать, довольно сложные. Нужно подумать и тогда что-нибудь решить.
— Подумайте, Александр Иванович, подумайте, — с бабьим старинным причитанием воскликнула Анна. — Она же, голубка наша, так мучается, так мучается…
Глава семнадцатая
После отстрела второго упражнения Гаркуша, Тамаев и Карапетян были назначены показчиками мишеней.
— Ось це посачкуемо, — откровенно радовался Гаркуша, направляясь в блиндаж. — Перво-наперво кури хоть до одури, ни сержант на тебя не прицикнет, ни даже сам грозный, бывший, как говорят, командир полка, а теперь наш ротный товарищ Чернояров. Вот махнули человека: из майоров да в старшие лейтенанты! Я бы от такого фейерверка враз веревку на шею да на дубок посучкастее.
Возбужденный удачной стрельбой, Алеша не слушал болтовни Гаркуши и улыбался, вспоминая, как лейтенант Дробышев ласково посмотрел на него, услышав сообщение из блиндажа, что Тамаев все мишени поразил.
— А ты що, як пятак тот медный, отблескиваешь? — как всегда, придрался к нему Гаркуша. — Мабуть, на небо седьмое взвился, що те хвигуры фанерные продырявил? Фанера-то беззащитная, а як ты против хфашиста всамделишнего пальнешь!
— И фашиста не испугаемся, — запальчиво вступился за друга Ашот. — В землю вгоним и кол дубиновый забьем.
— Не дубиновый, а осиновый, барабулька ты черноморская, — насмешливо поправил Гаркуша и небрежным движением руки надвинул ушанку на самые глаза Ашота.
— Но, но! — отбросив Гаркушину руку, взъярился Ашот. — Не очень-то, а то сдачи дам.
— Тыхо! — зычно скомандовал невозмутимый Гаркуша. — Слухай мою команду, я старшой! Справа по одному, Тамаев направляющий, в блиндаж, торжественным маршем, трусцой — вперед!
Решив спором с Гаркушей не портить настроения, Алеша послушно нырнул в блиндаж и пристроился в самом дальнем углу.
Неуемное балагурство Гаркуши прервало начало стрельбы. Словно мгновенно переродясь, он строго командовал «показать», «убрать», «осмотреть мишени» и, узнав от Алеши и Ашота результаты стрельбы, отчетливо, спокойным и важным голосом докладывал по телефону:
— Первая — две пробоины, вторая — одна, третья — нуль! Есть приготовиться!
Но едва наступил перерыв в стрельбе, как Гаркуша вновь принялся за обычное подтрунивание, весь огонь своих острот сосредоточив на Ашоте.
— Так як же ты, Ашотик, кумекаешь насчет хфашиста? В землю, говоришь, вгоню и кол дубиновый, то есть осиновый, вобью. Да где ж ты цей кол раздобудешь, да ще осиновый? Это же придется за тобой в обозе колья осиновые возить.
Ашот не сразу понял скоропалительный говор Гаркуши и долго с удивлением на худеньком черном лице смотрел на него, потом, уяснив смысл, отвернулся к Алеше.
— Да ты не обижайся, Ашотик, — совсем серьезно, задумчиво и строго проговорил Гаркуша. — Шучу, сам понимаешь. Если в нашем солдатском ремесле без шутки, все на серьез принимать — волком взвоешь. Скоро два года, как мы с этими осатанелыми фашистами дубасимся. А фашисты зверье хищнющее. Моря целые кровушки людской повысасывали, да и еще немало высосут. Всего я, ребятки, насмотрелся. Я ведь не как вы, не первую неделю по окопам да по землянкам бедствую. Всего хватил по горлышко. В одной Одессе-матушке что повидать довелось! В госпиталях только чуть не полгода провалялся. Сам не верил, что выкарабкаюсь. Вот как фашисты угостили меня. Ну, и я им немало кишок повыпустил, — со злостью закончил Гаркуша, торопливо скрутил папиросу и от волнения долго не мог прикурить. Алеша удивленно смотрел на него, не понимая, что могло случиться с этим язвительным, вечно насмешливым и неугомонным человеком.
— На Волге-то мы им досыта прикурить дали, — с гордостью и все так же зло вновь заговорил Гаркуша. — Недаром Гитлер на целую неделю траур по всей Германии объявил. А что было-то, как вспомнишь, — волосы пилотку поднимают. Жуть! Небо черным-черно от их самолетов, на земле огнем все полыхает, сотни, да що там сотни, тыщи танков фашистских прут, артиллерия и эти проклятущие минометы день и ночь без роздыху шпарят. Ну, ад кромешный и только! И все-таки мы и танки эти, и самолеты, и пушки — все расчихвостили!
Гаркуша опять смолк и, пристально посмотрев сначала на Алешу, затем на Ашота, с глубоким вздохом сказал:
— Все это — хоть, по правде-то, и душа в пятки уходила, — мы выдюжили, а вот, что еще испытать доведется, и придумать не придумаю. Повстречал я вчера кореша давнишнего, с самого начала войны не видались. Тут он недалеко, под Харьковом, воевал и своей шкурой испробовал те штуковины, что Гитлер для нас приготовил. Танки новые, «тигры» называются и «пантеры». Кому другому я не поверил бы, а корешок мой не соврет. Наш он, с Пересыпи рыбачок, за правду голову отдаст на отсечение. И к тому же своими очами этого «тигра» бачив. Прет чудище на гусеницах с пушкой длинной-длинной, як мачта корабельная. Как долбанет из этой самой трубищи — за два километра танки наши насквозь пронизывает. Доты и те от его снарядов в щепки летят, а дзоты, землянки да блиндажи разные вроде орешков, щелкает. Все, что есть перед ним, начисто сметает. А самого, ничто не берет. Все наши снаряды, як горох, отлетают от его брони. Потому что броня-то у него не обычная, а сверхособенная, из какой-то невиданной стали и толщины огромнейшей. Там, под Харьковом, этих самых «тигров» всего несколько штук появилось. Передавили все и спокойненько к себе ушли. А теперь-то вот, — всей грудью вздохнул Гаркуша, — Гитлер, говорят, против нас тыщи этих самых «тигров» и «пантер» собрал. Як ринутся они и…
Алеша вначале совсем не слушал Гаркушу, но по мере того, как тот говорил все горячее и все реже мешая русские и украинские слова, настроение Алеши менялось. С самого начала войны он жадно ловил все сообщения и рассказы о немцах. С призывом в армию, а затем с приближением к фронту его интерес к новостям о противнике неизменно возрастал. Все рассказы и слухи о противнике, обычно преувеличенные наполовину, а то и больше, он принимал за чистейшую правду и тут же, настраиваясь соответственно этим слухам и рассказам по-своему, применял все слышанное к самому себе.
Почти так же случилось с ним и сейчас. Новые немецкие танки, описанные разгоряченным Гаркушей, он представлял так отчетливо и ясно, что почти ощутимо чувствовал их сотрясающую и неудержимую поступь и горячее, напоенное огнем и металлом, смертоносное дыхание. Еще неокрепшее, юношеское и вдохновенное воображение рисовало ему самые различные картины встреч с этими невиданными, носящими столь устрашающие названия фашистскими танками. Среди всех этих картин самыми яркими и увлекательными были моменты, когда среди грохота и воя, в разгар безнадежных попыток удержать и остановить лавину «тигров» и «пантер» он, Алеша Тамаев, один бросается вперед, уничтожает первый танк, затем второй, третий… И своим героизмом спасает положение. «Но чем, чем уничтожить их? — в момент самого воодушевленного представления воображаемой борьбы невольно подумал Алеша. — Снаряды отскакивают от их брони, как горох, мины, видать, тоже не берут, а граната, даже противотанковая, разве остановит «тигра» или «пантеру»?
Эта мысль дала толчок новому направлению в настроении Алеши. Если раньше возможность победы над фашистскими танками, не раздумывая даже как и чем, казалась легкой, доступной, осуществимой одним лишь героизмом и отвагой, то теперь новые танки представлялись страшными, ничем не уязвимыми чудовищами. А самого себя перед ними Алеша видел крохотной песчинкой, не способной не только остановить их, но даже принести хоть какой-то ощутимый вред.
Между тем, как весьма часто бывает на войне, весть о новых немецких танках с быстротой молнии распространилась в войсках и, как всякая сенсация, обрастая домыслами и преувеличениями, подобно снежному кому, достигла невероятных размеров. О «тиграх» и «пантерах» вначале шепотком, доверяя только близким, затем все открытее и громче говорили и танкисты, и артиллеристы, и пехотинцы, и саперы, и связисты, и даже затерявшиеся в тылах ездовые самых глубинных обозов.
Алеша с неистребимой жадностью ловил все разговоры, пытаясь осмыслить все и составить ясное представление об этих новинках, но слухов и толков было так много, что он терялся.
Вечером, после отбоя, когда истомленные за долгий солдатский день пулеметчики уже спали, Алеша долго лежал, чувствуя на своей щеке горячее дыхание Ашота, и никак не мог уснуть. Почему-то неизменно вспоминался берег Оки около родного села и там, на зеленой лужайке, стайка мальчишек с ореховыми удилищами в руках. Видимо, клев был чудесный, и увлеченные рыбалкой мальчишки не заметили, как за рощей, где по воскресным дням собирались праздничные гуляния, что-то загудело угрожающе и дико, потом затрещали деревья, грузно затряслась земля и среди белых стволов берез мелькнула черная, еще неясная в очертаниях громада. Надвигаясь, громада росла, обозначалась все отчетливее.
«Тигр», — ахнул Алеша, с отчетливой несомненностью определив, что это был именно тот самый новый немецкий танк. А беззаботные мальчишки все так же увлеченно удили, ничего не видя и не слыша. Мелькая лапами гусениц, «тигр» набирал скорость, все ближе и ближе подползая к мальчишкам.
«Да что же вы, пострелята! — отчаянно закричал Алеша. — В реку, в реку, прыгайте!»
Но мальчишки не слышали его предупреждения. Немея от ужаса, Алеша схватил гранату, в одно мгновение подскочил к «тигру», швырнул ее, как учил лейтенант Дробышев, и плашмя упал на землю. Гулкий взрыв потряс окрестности. Алеша радостно закричал, вскочил на ноги и тут же вновь рухнул на траву. Целый и невредимый «тигр», повернув от мальчишек, полз прямо на него. Алеша швырнул еще две гранаты, но «тигр», как заколдованный, неудержимо катился к нему и водил, нацеливаясь длинным стволом пушки. В руках Алеши осталась последняя граната. Он приподнялся и метнул ее прямо туда, где виднелись прорези смотровых щелей.
«Эх, под гусеницы нужно было бы ударить», — вспомнил он и, поняв, что совершил непоправимую и, как говорили саперы, последнюю в жизни ошибку, вскочил и тут же, сбитый горячей волной, упал навзничь. Острая боль пронзила все тело. От этой боли Алеша и проснулся. Липкий, холодный пот заливал лицо. В горле пересохло, саднили шершавые губы. Решив напиться, он вышел на улицу и прямо над горизонтом увидел кроваво-красный огромный диск луны, озаряющий землю тусклым болезненно-ржавым безрадостным светом.
* * *
Просторный, с черными облупленными стенами коридор сельской школы, казалось, не мог уже больше вместить ни одного человека, но люди все шли — парами, группами, в одиночку, — чудом примащиваясь среди сидевших прямо на полу бойцов. Настороженный, словно боявшийся спугнуть что-то гул изредка перемежался с отрывистым смехом и снова плыл — сдержанно и тревожно, наполняя Алешу трепетом и нетерпеливым ожиданием.
Это было первое комсомольское собрание, на которое попал он в условиях фронтовой жизни. Началось все обычно и буднично: объявили собрание открытым, избрали президиум, проголосовали за повестку дня с одним-единственным вопросом: «О задачах комсомольцев в предстоящих боях», но как только около стола президиума встал красивый с редкой сединой на висках майор, по мгновенно утихшему залу пронесся настороженный шепот: «Сам командир полка».
Окинув сидевших в коридоре внимательным и строгим взглядом, майор негромко, совсем по-домашнему заговорил:
— Редко, товарищи, в условиях фронта удается нам провести вот такое собрание, как сейчас. Здесь собрались все комсомольцы да и, — майор смолк, лукаво прищурил глаза и, весело озаряясь добродушной улыбкой, сказал:
— Здесь немало и тех, у кого сыновья, а может, и внуки комсомольцы.
Легким ветерком пронесся по залу одобрительный смешок и под вновь посуровевшим взглядом майора тут же погас. В строгой тишине было отчетливо слышно, как звонко стучит капель за окнами и беззаботно гомонят только что прилетевшие грачи.
Словно прислушиваясь к этим весенним звукам, майор помолчал, шагнул вперед и заговорил горячо и быстро, отчетливо произнося каждое слово и резко взмахивая рукой.
— Это замечательно, товарищи, что нам удалось так спокойно собраться вместе и откровенно поговорить. А поговорить нужно о многом. Скоро два года, как идет война. Многие из нас на себе испытали и горькое лето сорок первого года; и осенние, грозные бои в Подмосковье; и первое наступление по нашим родным просторам; и прокаленные, огненные недели и месяцы у Волги; и победоносное наступление прошлой зимой; и наконец шквал отчаянного наступления фашистов в районе Харькова и здесь вот под Белгородом. Кто прошел пусть не весь путь, хоть маленькую частичку его, тот знает, что такое война. Но среди нас… — вновь осмотрел майор суровым взглядом сидевших и, как показалось Алеше, остановился прямо на нем, — но среди нас, товарищи, немало и молодежи, только что взявшей оружие в руки, и тех, кто еще не испытал всей тяжести и сложности борьбы с опытным, хитрым и сильным врагом. И для тех, кто уже воевал, и для не познавших еще всей сложности войны впереди предстоят одни и те же ответственные, важные и опасные задачи. Мы разгромили фашистов под Москвой и на Волге, мы отбросили их на сотни километров на запад, надломили хребет фашистского зверя, но сам зверь еще силен, и борьба с ним потребует от нас сосредоточения всех наших сил, воли и напряжения.
Майор ладонью смахнул бусинки пота с лица, и Алеша только сейчас заметил, что у него самого повлажнел лоб, жар охватил все тело. Он распрямил онемевшую от напряжения ногу и, все так же не отводя глаз от майора, ловил его совсем тихие, отрывистые и быстрые слова.
— Сейчас, товарищи комсомольцы, перед всеми нами возникла новая, сложная и трудная задача. Фашисты сосредоточивают против нас большое количество новых мощных танков. Это не те танки, с которыми нам уже приходилось встречаться и которые мы так успешно били в любых условиях.
Майор повесил на самом светлом месте давно не беленной стены три больших плаката, и Алеша отчетливо рассмотрел почти такие же, как по рассказам сложились в его понятии, силуэты танков «тигр» и «пантера» и самоходного орудия «фердинанд». Это сходство так поразило Алешу, что он, склонясь вперед, затаил дыхание и долго не мог оторвать взгляда от широченных лап гусениц, неуклюже обрубленных углов брони и длинностволых с набалдашниками надульников пушек. Жадно ловя слова майора о проходимости, толщине брони и огневой мощи этих новых боевых машин, Алеша почти ощутимо слышал их грозный рев, видел мелькание гусениц и частые вспышки взрывов. Он не помнил, сколько просидел в этом странном, сковавшем все тело оцепенении, не чувствовал, что совсем онемела неудобно подвернутая нога, что вокруг сидели точно такие же притихшие, взволнованные и сосредоточенные солдаты, сержанты, офицеры.
— Это сильные и грозные машины, товарищи, — вздрогнул он от резкого, совсем не похожего на прежний голос майора, — но это не фантастические, непобедимые чудовища, как представляют их слабонервные люди. Помните, товарищ Хворостухин, как вы подбили танк вот здесь, под Белгородом? — пристально глядя в зал, спросил майор.
Совсем маленький, курносый и веснушчатый паренек с белесыми ресницами и длинными, нескладными руками неожиданно заговорил гулким, раскатистым басом, «окая», растягивая слова.
— Он это, значит, ползет, палит из пушки, а я, значит, поджидаю. Страшновато было, он же, как этот самый, ну, как его, ну, танк этот, чай железный же, не подступишься. И пушкой во все стороны водит, снаряды пуляет. Влепился я, это самое, в стенку окопа и душой вроде похолодел. Потом слова нашего сержанта припомнились. «Ты, дескать, Хворостухин, ежели танк попрет, в гусеницы прямо, в лапы ему бей, враз споткнется». Ну, швырнул я в эти самые лапы гранату. Он и споткнулся, как пошел крутить на одном месте, а гусеница эта самая по земле размоталась. Ну, как он закрутился, тогда я его бутылкой с горючкой огрел. Вот и вся, значит, картина эта самая. Ребята из нашей роты все видели, спросите, подтвердить могут, — обиженно закончил Хворостухин и, перекрывая своим басом общий хохот, гневно воскликнул:
— Чего ржете? А у человека какое самое место больное? Пятки! Вот! Раньше казнь была такая, по пяткам палками били. Вот ежели ранят в пятку, то считай, что всей ноги у тебя нету. А человек-то, он помогутней любого танка.
— Правильно, товарищ Хворостухин, — как и все, задыхаясь от смеха, сказал майор, — человек сильнее танка. И каких бы чудищ ни выдумали гитлеровцы, и в какую бы броню их ни одели, мы все равно победим. Толстой броне и огневой мощи «тигров» и «пантер» мы противопоставим непоколебимую стойкость, мужество и главное — высокую боевую выучку, отличное воинское мастерство, умение бить и новые и старые фашистские танки в любых условиях всеми видами оружия! Сейчас для нас основное, товарищи: упорно, настойчиво учиться и твердо верить, что для смелого, хорошо обученного воина нет никаких преград, никаких танков, которые не смог бы он побороть! И мы в груды горелого, искореженного металла превратим все эти «тигры», «пантеры», «фердинанды» и любое другое зверье, которое вздумают пустить против нас фашисты!
Неудержимый взрыв аплодисментов покрыл последние слова майора. Как и другие, Алеша не мог усидеть на месте, порывисто вскочил и что было сил захлопал в ладоши.
* * *
— Ой, ты доля, моя долюшка, ой, ты доля, разнесчастная, — лежа на спине, дурашливо распевал Гаркуша и изредка лукаво посматривал на командира расчета, впервые надевшего новенькие сержантские погоны.
— Что ты ноешь и ноешь? — не выдержал Чалый. — Завел волынку и тянешь без конца.
— Эх, товарищ сержант, — особо подчеркивая новое воинское звание Чалого, с притворной горестью отозвался Гаркуша. — Тут не то, что заноешь, а по-волчьи заголосишь. Вон они, — кивнул он в сторону редкой рощицы, где приглушенно урчали танковые моторы, — ревут, як оглашенные, гусеницами скрежещут, а пид ними наш брат солдатик дрожмя дрожит и матку ридну вспоминае. Ох, ты, мати, моя мати, зачим ты мэнэ родила? — вновь несуразно затянул Гаркуша.
— А ну, прекратить кривлянье! — грозно прикрикнул Чалый, и Гаркуша мгновенно смолк, закрыл глаза и, по-кошачьи подогнув ноги, притворился, будто решил уснуть.
Алеша Тамаев лежал рядом с задремавшим Ашотом и сквозь полузакрытые веки смотрел на расстеленные в необъятной вышине серебристые облака. Бившее справа солнце ласково пригревало, и по всему телу разлилась приятная нега. Только натруженные руки и ноги все еще ныли, напоминая о долгих ночах непрерывного рытья окопов и траншей, что вместе с дневной боевой учебой было теперь самым главным на всем фронте. Никогда еще в жизни не приходилось Алеше столько перекопать и перебросать земли, как в эти последние две недели, когда после короткого отдыха от учебы с наступлением сумерек роты уходили в свои районы обороны и до рассвета долбили пахнущую весной черную землю. А утром, позавтракав и поспав всего три часа, вновь разбредались по лощинам и рощицам, отрабатывали и совершенствовали перебежки, переползания, стрельбу, маскировку, метание гранат, рукопашный бой и многое другое, что может потребоваться на войне.
После незабываемого комсомольского собрания характер занятий резко изменился. Теперь не кололи больше соломенные чучела, не зубрили до отупения параграфы уставов и наставлений, не повторяли десятки раз взаимодействие частей пулемета и причины неисправной работы механизмов. Теперь все это осталось позади. По плакатам, по брошюрам, газетным статьям и листовкам бойцы изучали новые немецкие танки, отыскивали и запоминали их самые уязвимые места, узнавали старые и придумывали новые способы борьбы с «тиграми», «пантерами» и «фердинандами». Такие занятия особенно увлекли Алешу. Он на лету схватывал все новое, читал и перечитывал все, что попадалось в руки, и теперь, никогда не видев «тигра», мог точно сказать, где у него самая толстая броня, где самая тонкая, куда выгоднее и как удобнее бросить гранату и бутылку с горючей жидкостью, по каким местам лучше ударить простой пулей, противотанковым ружьем и пушкой. Он на память знал и словно очевидец, мог описать все известные в полку случаи борьбы с вражескими танками и настолько, как говорил сержант Чалый, «был теоретически подкован», что сам Гаркуша частенько обращался к нему с вопросами, все реже и реже вышучивая и высмеивая его.
Удачно пошло и овладение приемами противотанковой борьбы. Еще в раннем детстве, играя на берегу Оки, научился Алеша далеко и метко швырять камушки, а потом в осоавиахимовском кружке освоил технику броска гранаты. Поэтому еще на первом занятии он так удачно метнул тяжелую болванку противотанковой гранаты, что Гаркуша присвистнул и не удержался от одобрительного возгласа: «Вот те и суслик, а швырнул, що тот чемпиен на олимпияде!» Но следующие Алешины броски разочаровали и его самого и Гаркушу. Болванка, словно заколдованная, то не долетала до большого кольца, очерченного вокруг воткнутой в землю палки, то перелетала через него, то упорно и настойчиво уходила в сторону. Из десятка попыток Алеша всего дважды попал в самый центр кольца и с занятий возвращался задумчивый и недовольный.
— Как метаем гранаты? — во время обеда поинтересовался Саша Васильков.
— Неважно, — чистосердечно признался Алеша. — То недолет, то перелет, никак в центр угодить не могу.
— Тренировка нужна и больше ничего, — сказал Саша. — Главное — руку набить так, чтобы гранату чувствовать и бросать не спеша, прицеливаясь, рассчитывая силу броска в зависимости от расстояния до цели и веса гранаты. А этого можно добиться, упражняясь. Никакой особой теории тут не требуется.
Под вечер, когда выпало минут сорок свободного времени, Алеша и Ашот ушли на огороды и начали тренироваться. Первые броски, как и днем, были удачны, но все последующие, сколь ни старались молодые солдаты, не достигали цели. Раздосадованный Ашот сердито плюнул, что-то зло пробормотал по-армянски и, безнадежно махнув рукой, сел на мокрую землю. Алеша пытался уговорить его еще попробовать, но Ашот только упрямо мотал головой и озлобленно морщился.
— Что, неудача? — неторопливо подходя к ним, спросил Козырев.
— То хорошо, а то все мимо и мимо, — вскакивая, выкрикнул Ашот. — Товарищ старший сержант, зачем мимо? Так старался, так бросал, а он совсем не туда полетел.
— И руку, небось, ломит, плечо побаливает, — тая усмешку под вислыми усами сказал Козырев.
— Совсем больной и рука, и плечо, и спина тоже, — словно радуясь чему-то, весело сказал Ашот и смущенно улыбнулся.
— С непривычки все это. И… — помедлил Козырев, — и, пожалуй, от неумения, Вы, когда размахиваетесь и бросаете гранату, всю свою силушку, небось, вкладываете. И руки напряжены, и ноги, и все тело. Так, что ли, Тамаев?
— Конечно. А иначе не добросишь и не попадешь, — дивясь словам помкомвзвода, сказал Алеша.
— Нет, дружок! — возразил Козырев. — Главное в любой работе не дуриком брать, не силушкой неуемной, а умением, ловкостью, привычкой. Работа на лад тогда пойдет, когда делают ее не с натугой, а играючи, вроде бы шутя, а на самом деле с толком и серьезно, по-мастерски. Вот смотрите, — показал Козырев на черневший в средине поляны округлый камень, — туда, что ли, бросить?
Алеша и Ашот согласно кивнули головами. Козырев подбросил болванку на ладони, совсем не напрягаясь и, как показалось Алеше, даже не размахиваясь, едва уловимым движением послал ее к самому камню.
Восхищенный Ашот, раскрыв рот, удивленно смотрел то на лежавшую у камня болванку, то на улыбающегося старшего сержанта и, видимо, не в силах подобрать нужные слова, только беззвучно шевелил губами.
— Ну-ка, давай еще, — посмеиваясь, сказал Козырев и тем же легким движением, действительно словно играючи, положил вторую болванку рядом с первой.
— Как же это, товарищ старший сержант? — не удержался от вопроса Алеша.
— Очень просто, — погасил усмешку Козырев. — Гранату держи свободно, не напрягайся, легко размахнись и вот так, — обвел он Алешиной рукой полуокружье, — бросай. Легонько, спокойненько, без натуги.
Алеша сделал все точно как показывал старший сержант, но граната, словно привязанная к руке, плюхнулась почти у самых ног.
— Не беда, — ободрил Козырев. — Поначалу всегда не ладится. Давайте-ка еще разок!
Второй раз болванка тоже не долетела до цели, но упала уже ближе к камню, и Алеша на какое-то мгновение уловил особый смысл всего, что говорил старший сержант. Он опрометью бросился за болванкой, схватил ее, возвратился на прежнее место, нешироко расставил ноги, прищурился и легко, без всякого усилия, метнул. Болванка описала плавную траекторию и совсем неожиданно для Алеши упала почти около камня.
— Подождите, я еще раз, — прошептал Алеша и, забыв о Козыреве и об Ашоте, бросил вторично, опять положив болванку рядом с камнем.
Алеша сам не верил в свою удачу и только на следующий день, бросив несколько болванок точно в самый малый круг около палки, с радостью почувствовал, что постиг это с виду простое и легкое, но в действительности трудное и сложное дело. Чалый ничем не выказал своего одобрения, только значительно мягче говоря с Алешей, больше стал наседать на Гаркушу и Ашота. Скоро и они, подобно Алеше, научились бросать гранату в малый круг.
Началась отработка новых упражнений. Солдаты метали гранаты лежа, с разбегу, из окопа, сидя; метали в круг, в прямоугольник дощатой стены, в темное углубление окопа и наконец в фанерный макет танка, который то шагом, то рысью тащила пара лошадей. Десятки раз повторяя однообразные приемы, бойцы, потные, запорошенные пылью, то сердитые и тяжело сопевшие от напряжения, то сияющие и довольные, шаг за шагом постигали немудреное мастерство метания гранат. Алешей, после первых удачных бросков гранаты в цель, овладело какое-то странное вдохновение. Все упражнения, даже бросок в макет танка, куда требовалось не просто попасть, а угодить именно в самое уязвимое место — в моторную часть, в борта, в гусеницы, — он выполнил легко, без особого напряжения. Первым сдал зачеты сержанту Чалому, помкомвзводу и наконец самому взводному командиру лейтенанту Дробышеву. Подступало самое важное и самое ответственное, о чем всюду говорили и рядовые и командиры, — «обкатка» настоящими боевыми танками. Об этом теперь, лежа на траве и глядя в бездонное небо, думал Алеша.
Из рощицы, там, где проходила «обкатка», доносилось приглушенное урчание моторов, легкий скрежет гусениц, неясные людские голоса. И эти мягкие, приглушенные звуки, и высветленная синь полуденного неба, и неуловимое дыхание весны унесли Алешу далеко-далеко, в самые глубины не столь отдаленного детства, когда он подолгу вот так же беззаботно лежал на берегу Оки и слушал песни жаворонков. Сейчас в этом весеннем небе жаворонков почему-то не было, хотя по времени они уже давно должны прилететь. Он смотрел в разные стороны, прислушивался, но прозрачная синь вверху была пуста.
— Сержант Чалый, расчет на «обкатку», — прокричал чей-то незнакомый и такой не приятный голос.
— Господи боженька, — скоморошничая, взмолился Гаркуша, — избави ты мою душу грешную от терзаний мученических, перенеси ты меня в Одессу зеленокаштанную, в шаланду рыбацкую.
— Прекратить болтовню! — прикрикнул Чалый. — Расчет, становись!
Алеша заметил, что Ашот побледнел, и, видимо, нервничая, кусал обветренные губы.
«Что он переживает? — подумал о друге Алеша. — Ничего страшного. Танк как танк, к тому же нашенский, ни стрелять не будет, ни гусеницами не раздавит. К чему же нервничать».
Думая так об Ашоте, Алеша даже не замечал, что, все ближе подходя к роще, он и сам чувствовал себя совсем не так, как раньше. Он не придавал никакого значения тому, что глаза все пристальнее всматривались в редкое мелколесье, где в сизых клубах дыма виднелись башни танков, что ноги заметно отяжелели и цеплялись то за бугорок, то за камень, скользили на совсем ровном и сухом месте. Явное, уже отчетливо ощутимое волнение охватило его, когда вошли в рощу и он увидел узкие, в разных направлениях перечеркнутые следами гусениц, углубления траншей. Там, как сразу понял он, и сидели солдаты, проходя так называемую «обкатку». На мгновение ему представилось, как в этих хлипких траншеях сидит он сам и на него надвигаются не наши, а вражеские танки, эти самые «тигры», «пантеры», «фердинанды». Но Алеша тут же переборол себя и, распрямив плечи, гордой и красивой, как казалось ему, походкой прошел мимо большой группы офицеров, где заметнее всех выделялись майор Поветкин и старший политрук Лесовых.
У самых траншей расчет остановил почему-то странно бледный лейтенант Дробышев. Он хотел что-то сказать пулеметчикам, но поспешно подошедший командир роты опередил его, и с улыбкой взглянув сначала на Чалого, потом на Гаркушу, Алешу и Ашота, неторопливо проговорил:
— Вот теперь все будет, как на войне, без всяких условностей. И траншеи обычные, и танки настоящие, только болванки деревянные вместо гранат.
Он рассказал, как пойдут на траншею танки, что нужно делать при их подходе и переползании через траншею, вновь повторил, куда выгоднее, удобнее бросать болванки гранат, и строго приказал:
— Только никаких шалостей и глупостей! Делать все так, как я рассказал! Танки будут ходить через траншею до тех пор, пока каждый из вас не попадет болванкой в одно из уязвимых мест. В траншею, бегом!
Эта резкая, отрывистая команда словно подхлестнула Алешу. Он торопливо бежал, то натыкаясь на спину Гаркуши, то отставая от него, и все время в такт бегу твердил неизвестно откуда возникшие слова: «гранатой, бутылкой по танку бей, дрожать и пищать, что куренок, не смей!» Наконец почти у самой траншеи сравнение с куренком показалось ему глупым, и он, отбросив надоевшую фразу, взглянул на песчаный холм, где все так же мирно гудели и курились сизым дымком, видимо, готовые к броску вперед танки.
Бежавший вместе с расчетом Чалого лейтенант Дробышев первым нырнул в траншею и взмахом руки приказал пулеметчикам сделать то же.
Прыгнув вниз, Алеша противогазной сумкой зацепился за выступ обрубленного корня и, освобождаясь, увидел на его толстом срезе прозрачные капли свежего сока. Осторожно, почему-то боясь потревожить их, он пригнул обрубок, высвободил лямку, но неловко повернулся, встряхнул корень, и капли одна за другой крупными слезинками упали на утоптанный песок. Алеша приглушенно вздохнул, вспомнив вдруг старую березу на окраине родного села, на стволе которой каждую весну мальчишки из свежих порубов собирали сок. Это, раньше такое увлекательное занятие, показалось сейчас Алеше варварским и диким. Он снова взглянул на мокрый от сока срез корня и комочком глины залепил его.
— Танки слева, из-за бугра. Гранаты и бутылки — к бою! — звонко прокричал вдруг лейтенант Дробышев. Алеша вздрогнул, недоуменно взглянул на лейтенанта и, мгновенно сообразив, что нужно делать, расстегнул сумку и выложил на бруствер деревянные подобия гранат и бутылок. За изгибами траншеи справа и слева виднелись зеленые макушки касок. Там, видимо, также проходили «обкатку» другие расчеты и отделения.
— Гранатами бить в гусеницы, бутылками — в моторную часть, — тревожным шепотом напоминал Чалый. — Только не психовать, не суетиться, а все делать спокойно, точно, с расчетом.
«Из-за чего психовать и суетиться? — осуждающе подумал Алеша. — Что особенного! Танки, ну и пусть танки, стукнем и — будь здоров!» — сам не замечая, самодовольно повторил он любимое изречение Гаркуши и спокойно, с твердой уверенностью в своих силах, прислонился к стенке траншеи.
— Да где же они, что же не идут? — нетерпеливо пробормотал Ашот.
— Нэ торопись пэрэд батьки в пэкло, — съязвил Гаркуша. — Придуть да як навалются, як начнут гусеницами утюжить, и нибо помэркне.
— Прекратить разговоры! — яростно прикрикнул Чалый.
Гаркуша смиренно потупился и лукаво подмигнул Алеше, неповторимо копируя рассерженного командира расчета. Алеша фыркнул от смеха и вдруг всем телом вздрогнул, прижимаясь к стене траншеи. Неизвестно откуда налетевший шквал звуков задавил все, и только через минуту Алеша понял, что это взревели танковые моторы, воровато оглянулся и, убедясь, что никто не заметил его испуга, неторопливо переложил болванки. Гул моторов постепенно становился ровнее и тише, но вдруг снова взвихрился до предела и послышался металлический лязг гусениц. Не то лейтенант, не то сержант прокричал какую-то команду, но Алеша не расслышал и вопросительно посмотрел на невозмутимо спокойного Гаркушу.
Сержант опять что-то крикнул, и только по движению губ Алеша понял: «Не волноваться! Не спешить!»
«А я и не волнуюсь, — мысленно сказал Алеша, — и спешить не буду. Ударю точно, без промаха».
Едва подумав это, он сразу увидел вынырнувшие из-за желтого бугра три танка. Средний шел прямо на Алешу. Неуловимо быстро мелькали его отполированные гусеницы. Черный кружок поднятой пушки угрожающе перемещался то вправо, то влево. Серая, с темными пятнами броня холодно отблескивала под лучами солнца. Вся тяжелая, сотрясающая землю громадина шла, казалось, с невероятной скоростью. Алеша пытался сообразить, сколько же пройдет времени, пока танк приблизится к траншее, но рука сама по себе потянулась к болванке, сжала ее и, взмахнув, опустилась. Болванка бессильно шлепнулась почти на самом бруствере траншеи. Еще не поняв, какая грозила опасность, если бы вместо деревянной болванки была настоящая граната, Алеша схватил вторую болванку, потом третью и метнул их, казалось ему, в самый танк. Но когда болванки упали на землю, то до танка было еще метров сто. От горечи и обиды Алеша чуть не закричал, встряхнул пустую гранатную сумку и рывком склонился к Ашоту, надеясь взять у него болванку. Но тот, так же расшвыряв весь запас, растерянно опустил руки и пугливо осматривался по сторонам. Израсходовал свои болванки и Гаркуша. Только один Чалый, пригнувшись, как перед стремительным прыжком, держал по болванке в каждой руке.
Лейтенант Дробышев взмахнул красным флажком, и танк, подойдя к траншее, остановился.
— Эй, матушка-пехота, — высовываясь из люка, прокричал курносый танкист в неуклюжем шлеме, — что мажешь. Ни одной гранатки не добросили. Если так воевать будете, фрицы вас, как курят, передавят.
— Не форси, сазан пробензиненный. Ты иди-ка вот сядь, а я на тебя поеду, — с перекошенным от злости лицом, отругивался Гаркуша. — Герой против деревяшек, а ты вот пошуткуй, как я настоящую возьму.
— Давай попробуем, — отпарировал невозмутимый танкист. — Только раньше письмо прощальное своей милахе накатай. Да по-честному все пропиши: «Погиб, мол, я дурья башка, из-за неумения гранаты швырять, подыскивай другого себе, который половчее да языком поспокойнее».
Взбешенный таким отпором, Гаркуша хотел что-то выкрикнуть, но лейтенант Дробышев строго взглянул на него и махнул флажком.
— Ну, вояка, — на прощанье крикнул танкист, — прячь душу за голенище, а то без смерти на тот свет улетит.
— Давай, давай, вобла копченая, — пробормотал Гаркуша и грузно полез собирать свои болванки.
Во второй заход танк двинулся еще быстрее. Намереваясь первым же броском сразить его, Гаркуша схватил болванку, злобно сжал губы и, упираясь ногой в ступеньки траншеи, выполз на бруствер.
— Гаркуша убит, — крикнул Дробышев.
— Як так убит? — огрызнулся Гаркуша.
— Пулей танкового пулемета, — спокойно ответил лейтенант и строго приказал:
— Укрыться!
Гаркуша, кряхтя, сполз в траншею и тайком от лейтенанта погрозил танкистам волосатым кулаком.
Или отвлеченные выходкой Гаркуши, или от волнения Алеша и Ашот опять побросали свои болванки раньше, чем танк приблизился к траншее. Дробышев резко махнул флажком, и танк вернулся на третий заход.
Опустив глаза и от стыда боясь поднять голову, Алеша собрал болванки и расслабленной походкой вернулся на свое место. Весь интерес к тому, что происходило, совершенно пропал, и он равнодушно смотрел на унылый бугор, за которым скрылся танк. Ему захотелось, чтобы с танком случилось что-нибудь, и он не смог бы вновь двинуться к траншее, так противно шлепая гусеницами и ревя мотором.
— Самое главное в бою — выдержка, спокойствие, — прервал его оцепенение неторопливый голос лейтенанта. — Поспешность, один опрометчивый поступок могут стоить жизни.
«А вы-то откуда знаете, тоже на фронте, говорят, совсем недавно», — неприязненно подумал Алеша и, взглянув на лейтенанта, густо покраснел. На четко облегавшей грудь гимнастерке Дробышева блестел на солнце новенький орден Красного Знамени. Алеша вспомнил, что Дробышев и Чалый были награждены орденами за подвиг под Воронежем, где они вдвоем подавили четыре фашистских пулемета и спасли от гибели целый батальон.
— Гранаты бросать нельзя бессмысленно, — встав между Алешей и Ашотом, вполголоса говорил Дробышев. — Нужно выбрать место, куда вы сможете добросить гранату и ждать. Как подойдет к этому месту танк, тогда и бросайте. Мы же с вами отрабатывали это на фанерном макете, так что же вы сейчас спешите, бросаете преждевременно?
«И в самом деле отрабатывали, — мысленно ахнул Алеша, и все вокруг сразу посветлело. — Нужно выбрать точку прицеливания и ждать. Так это же проще простого. Мои гранаты падали вон там, у той ямки с кустом полыни, значит, и бросать нужно, когда танк подойдет к этой ямке. Это будет наверняка».
Он стиснул болванку в руках, весь напрягся и, совсем не слыша грохота вынырнувшего танка, всем телом подался вперед.
— Спокойно, спокойно, — как сквозь сон, доносился тихий голос лейтенанта. — Не спешить, помнить, что промах — гибель, нужно бить точно, без промаха.
«Ударю, не промажу! — не сводя взгляда с наползавшего танка и сизого куста полыни, беззвучно шептал Алеша. — Гранатой остановлю, а бутылкой подожгу».
Руки все так же мелко вздрагивали и невольно тянулись назад, но Алеша, стиснув зубы, пересилил себя, выждал и со всей силой метнул болванку, когда танк правой гусеницей почти наехал на куст полыни. Он отчетливо видел, как, мелькнув в воздухе, прямо на гусеницу упала его болванка, как под второй гусеницей и рядом с ней легли еще две гранаты, брошенные Гаркушей и Ашотом. Словно пораженный в самом деле, танк резко остановился, и на его броню упали еще три болванки. Только через секунду Алеша сообразил, что одна из трех болванок была его условная бутылка с горючей смесью.
— А-а-а-а! Бензин с керосином, — махая третьей уцелевшей болванкой, кричал Гаркуша. — Угомонился. Ну, двинься только, двинься, у нас боезапаса вдосталь!
Курносый танкист высунулся из башни и опять задиристо прокричал:
— Представление еще не окончено. Сейчас утюжить будем, держись, пехота!
— Не икри, не икри! — парировал Гаркуша. — Сам нос не расквась, барабулька чумазая!
В новый заход танк ринулся на огромной скорости, вздымая клубы пыли и грозно ревя мотором. Но сколь ни стремителен был его натиск, весь расчет Чалого еще метрах в сорока от траншеи забросал его болванками, а уж совсем близко ударил условными зажигательными бутылками, и, лишь когда тяжелая машина, сотрясая землю, надвинулась на траншею, Алеша и Ашот, не выдержав напряжения, упали на дно, ничего не видя, что делалось над ними. Гаркуша и Чалый только пригнулись, и когда танк промелькнул над траншеей, послали ему вслед еще по одной болванке.
— Молодцы! — вдохновенно прокричал Дробышев. — Так и надо действовать! Отлично!
Ошеломленный и запорошенный землей, Алеша приподнялся и никак не мог понять, к кому относились слова лейтенанта. Лишь взглянув на довольное, расплывшееся в улыбке лицо Гаркуши, он понял что похвала взводного командира относилась к нему и, видимо, к сержанту, который невозмутимо смотрел, как невдалеке танк развертывался для нового захода.
— Пропустить танк через траншею, бить в моторную часть! — скомандовал лейтенант.
Пропустить — значит укрыться в траншее, а потом ударить, — вспомнил прошлые занятия Алеша. — Это делают, когда танков много, а пехота от них отстала и их нужно разъединить, а потом бить по отдельности».
Это мгновенное воспоминание того, что учили и отрабатывали раньше, вернуло ему прежнюю уверенность. Весь сжавшись, казалось, в один комок, он слезящимися глазами неотрывно смотрел на стремительно наползавший танк. Алеша инстинктивно вжал голову в плечи, пригнулся, когда танк уже почти наполз на траншею и, совсем оглохший от рева и грохота, распрямился и, отчетливо видя зад танка, что было сил метнул в него одну за другой все три болванки.
— Есть, товарищ лейтенант, есть! — закричал Алеша, увидев, как его болванки упали точно на сетку, прикрывавшую мотор.
— Замечательно! — так же взволнованно и по-мальчишески гордо воскликнул взводный. — И вы, Карапетян, действовали чудесно! Вот так и в бою нужно! Тогда никакие «тигры» и «пантеры» не страшны.
Еще дважды танк на полной скорости перескакивал траншею, и теперь уже не цепенея, не врастая в землю, Алеша встречал и провожал его точными ударами болванок.
— Выползай, браток, из своей раковины, — крикнул Гаркуша вылезавшему из башни курносому танкисту. — Покурим, побалакаем. Землячок, может?
— Конечно, землячок, — весело отозвался танкист. — Ты сам-то откуда родом?
— Одессит коренной, — стукнул Гаркуша кулаком в свою эффектно выпяченную грудь.
— Точно, земляки! — важно подтвердил танкист. — Ты одессит, а я пензенский.
— Тю, — разочарованно протянул Гаркуша. — У вас там в Пензе и курице утонуть негде, а у нас простор черноморский. Ну, ладно, все равно на одной земле родились, — снисходительно уступил он. — Давай знакомиться, что ли, коль ты меня в землю втоптал, а я тебя пять раз подбил и трижды сжег. Наводчик станкового пулемета, — приосанясь, важно протянул он руку, — рядовой Гаркуша Потап Потапович.
— Командир танка, — встряхнув руку Гаркуши, в тон ему ответил танкист, — гвардии лейтенант Малышев Антон Андреевич.
От неожиданности Гаркуша попятился, выдергивая свою руку из руки лейтенанта, потом вдруг озорно улыбнулся, взмахнул свободной рукой и по своему обыкновению задористо воскликнул:
— Ах! Рядовой, лейтенант — все равно бойцы одной армии!
— Верно, пулеметчик, — в ответ хлопнул его рукой по плечу танкист. — Не в званиях дело, а в умении фрицев бить наповал. А бить, видать, ты мастак, чуть мне башню своей болванкой не разворотил. Кройте так же фрица, чтобы, как говорят, и дух из него вон, и кишки на телефон.
— Уж будьте уверены, промаху не будет! — важно заверил Гаркуша. — Мы этих «тигров» и «пантер», как котят, передушим и в землю вобьем на веки вечные!
Глава восемнадцатая
Возвращаясь с Ниной из Орла, Васильцов сразу же заметил необычные изменения в партизанском лагере. Наружные посты наблюдения и охрана стояли не как всегда в глубине леса у просек и полян, а были выдвинуты далеко вперед, на опушку и к самому большаку. От этих постов до оврагов, где ютились землянки партизан, то и дело встречались секреты, дополнительные посты, парные патрули, которые раньше если и назначались, то лишь по ночам и в случаях серьезной опасности. Да и сам лагерь был совершенно неузнаваем. Из землянки в землянку сновали партизаны, женщины и дети, одетые по-дорожному, с узлами, свертками и явно чем-то встревоженные. В самой глубине на поляне виднелись запряженные в сани лошади, двумя кучками грудились уцелевшие коровы и овцы, в разных местах отчаянно визжали свиньи.
В распахнутом полушубке и надвинутой почти на глаза лохматой шапке Перегудов, резко жестикулируя руками, что-то настойчиво втолковывал окружившим его партизанам. Увидев подходивших Васильцова и Нину, смолк и торопливо пошел им навстречу.
— Провал? — сжимая руки Нины и вглядываясь в ее лицо, вместо приветствия проговорил он. — Ясно. Я догадывался, что стряслась какая-то беда. Ну, ладно, голубушка, сейчас не до разговоров, иди-ка отдыхай, потом обстоятельно потолкуем. Кленов, — крикнул он молодому, в лихо заломленной кубанке партизану, — скажи: пусть подлечат, если нужно, и создадут условия для отдыха.
— Да я… — пыталась заговорить Нина, но Перегудов мягко остановил ее:
— Ничего, ничего. Сил потребуется еще много, и отдыхать без разговоров. Зайдем ко мне, — сказал он Васильцову и размашисто зашагал к штабной землянке.
— Да-а-а, — выслушав доклад Васильцова, сжал он ладонями усталое лицо. — Провалились наши орелики. Ах, как они работали, как работали… Замучают теперь…
Он понуро опустил лысеюшую голову, сутуло сгорбился и с ненавистью проговорил:
— И нас кругом обкладывают. — Да, — встрепенулся он, вчитываясь в листок Нины, где бисерным почерком были изложены добытые разведчиками сведения, — это сейчас же передадим в Москву. Пока еще рация действует. Может, это последняя передача. Питание у радистов кончается, и надежд на получение никаких.
Совсем необычное, возбужденное и явно встревоженное состояние всегда спокойного Перегудова взволновало Васильцова. Забыв про усталость, он нетерпеливо ждал, когда вернется ушедший на рацию Перегудов, и пытался представить, что же произошло.
— Еле-еле хватило батарей на передачу донесения, — рукавом полушубка вытирая вспотевший лоб, изнеможенно проговорил Перегудов. — Оборвалась наша последняя ниточка. Ну, ладно, — встряхнул он головой, — не хныкать нужно, а дело делать. Так вот, Степан Иванович, положение-то у нас, — разложил он на столе старенькую карту, — можно сказать, отчаянное. Фашистское командование решило нас подчистую уничтожить. Всякая там полиция, жандармерия и охранники разные — чепуха! С этой сволочью мы бы запросто разделались. Войска, войска регулярные брошены против нас: пехота, артиллерия, танки и даже авиация. Лыжников из Альп и из Финляндии притащили. Вот как мы им поперек горла встали. Третий день наступают. От штаба бригады мы отрезаны, от соседей тоже. Одни-разъединственные остались. А против нас, смотри: здесь батальон пехоты, шесть танков и целый дивизион артиллерии; тут, между нами и штабом бригады, лыжники вклинились, с легкими минометами. Так шпарят — житья нет. Здесь вот еще батальон пехоты, девять танков и не меньше двух десятков минометов. К большаку придвигаются пять, а может, шесть рот пехоты, опять же с танками, с минометами и даже с гаубицами, а у нас ни танков, ни пушек, а только винтовки, автоматы, два минометишка, да и боеприпасов голодному на одну закуску. Но не в этом, собственно, беда-то, — помолчав, воскликнул Перегудов. — Жители, жители мирные, — вот кто сковывает нас по рукам и ногам. Больше двух тысяч женщин и детишек из окрестных сел скрываются у нас. Не бросишь же их фашистам на съедение. Спасать нужно. А где тут спасать, когда со всех сторон каратели наседают.
— Придется в глубь лесов уходить, — не отрывая взгляда от карты, проговорил Васильцов.
— Единственный выход, — согласился Перегудов. — Только не просто уходить, а драться. Вывести женщин и детишек, а всем, кто способен оружие держать, драться. Вот что, Степа, — положив руку на плечо Васильцова, продолжал Перегудов, — только без всяких разных обид и умозаключений. Ты поведешь жителей и всех наших больных, раненых в самую глушь лесов, а я со всеми партизанами прикрывать буду. Это единственный выход.
— Да, — невольным вздохом ответил Васильцов, — иного не придумаешь…
* * *
Четвертые сутки, отбиваясь от наседавших с трех сторон фашистских карателей, партизанский отряд Перегудова отходил в глубины брянских лесов. Как назло, стояли яркие солнечные дни и высветленные звездами погожие ночи. Ослепительно-чистый, девственный снег на просеках, полянах и свободных от леса прогалинах предательски выдавал каждый шаг партизан. Только дремучий сосняк и густые дубравы спасали от оптических глаз непрерывно бороздивших воздух вражеских самолетов.
Степан Иванович Васильцов вел колонну больных; раненых и спасавшихся в лесах местных жителей. Странная, горестно-скорбная была эта колонна. Полторы сотни розвальней с людьми, скудным запасом продуктов и кое-каким домашним скарбом уныло тянули отощавшие лошаденки. Между ними, утопая в рыхлом снегу, брели женщины и дети повзрослее, жалостно мычали продрогшие и голодные коровы, кое-где виднелись одинокие фигуры вооруженных мужчин. Ни смеха, ни громких выкриков и оживленных разговоров. Только приглушенный хруст снега, тяжелое дыхание людей и животных да редкие возгласы понукавших лошадей ездовых тревожили унылую глушь бескрайних лесов.
В первую ночь с трудом удалось пройти всего лишь менее десяти километров. Позади, на востоке, где остались главные силы отряда, то замирая, то вновь разгораясь, глухо рокотали отзвуки боя. Едва уловимо доносилась стрельба и с севера и с юга.
К утру вконец измученные лошади уж не подчинялись ни уговорам, ни кнутам. Не пройдя и половины намеченного пути, пришлось остановиться на дневку.
Васильцов рассыпал подводы среди угрюмых и безмолвных вековых сосен, выслал во все стороны дозоры и отправил донесение Перегудову.
Стрельба на востоке не утихала. Вернувшиеся от Перегудова лыжники привезли Васильцову коротенькую записку.
«Не задерживайся ни на секунду! — писал командир отряда. — Уводи колонну еще хоть километров на пять. Каратели жмут отчаянно. Держимся с трудом. Много убитых и раненых. Боеприпасов осталось совсем мало».
— Еще хоть пять километров, — повторил Васильцов, — в бледном свете раннего утра осматривая беспорядочный табор. От жующих последние остатки сена лошадей и коров валил белесый пар. В разных местах дымили костры, и вокруг них грудились женщины и дети. Дымилась и единственная во всем отряде, захваченная у немцев походная кухня.
— Сварилась каша? — спросил Васильцов чумазого повара с деревянным протезом вместо правой ноги.
— Еще бы малость подварить, да вот, — морща одутловатое лицо, показал повар на окружавших костры людей, — того и гляди поуснут — и не поднимешь.
— По малому черпаку хватит на всех?
— Должно хватить.
— Ну, быстро выдавай сначала детям, раненым, а потом остальным. Через полчаса тронемся.
— Тронемся? — удивленно округлил покрасневшие глаза повар. — Они же и с места не сдвинутся, враз попадают.
— А как же иначе, — кивнул Васильцов головой в сторону неутихавшей стрельбы.
— Воздух! — донеслось из глубины леса.
— Гаси костры, — прокричал Васильцов.
— И ты заливай топку, — бросил он повару. — Наверняка «раму» черти несут.
Над лесами и в самом деле плыла осточертевшая и солдатам на фронте, и партизанам в лесах «рама» — двухфюзеляжный немецкий разведывательный самолет. Пока «рама» кружилась вдали, все костры были погашены и в сосновом бору замерла прогорклая дымом настороженная тишина.
— Сюда, сюда прется, — отчаянно прокричала какая-то женщина, и все люди, не сговариваясь, словно по единой команде бросились к стволам деревьев. Только раненые партизаны невозмутимо лежали на санях да Васильцов с поваром стояли у погасшей кухни.
— Вот неразумные, — беззлобно упрекнул повар женщин и детишек, — вроде, как страусы: голову спрятали, а хвосты наружи. Да в таком лесище — будь у него хоть сто глаз — ни черта не рассмотрит.
В этом был уверен и Васильцов, но когда «рама» прогудела над бором и повернула на второй заход, он невольно шагнул в сторону ближней сосны.
«Фу ты, наваждение какое-то. Как мальчишка не смышленый», — мысленно выругался он и, выждав, когда разведчик отлетел к северу, приказал повару:
— Раздавай, только быстро.
Первыми к походной кухне прибежали санитарки, за ними потянулись детишки, а женщины с удивительным спокойствием и даже, как показалось Васильцову, безразличием продолжали стоять под деревьями, не глядя даже в сторону кухни.
От Перегудова прибежал еще один лыжник.
— Уводите скорее, командир приказал, — задыхаясь от поспешного бега, прохрипел он. — Фрицы танки пустили. Один подбили, остальные напролом лезут. Только и можем удержать, что за ручьем с оврагами. А овраг-то вот он, почти рядом.
Васильцов ждал, что сразу же после команды строиться в колонну начнутся жалобы, стоны, роптанья, но все подводы уже вытянулись между деревьями, а никто не проронил ни слова. Все молча, с каким-то упрямым ожесточением и настойчивостью делали свои дела. Притихли даже самые неугомонные мальчишки, безмолвно помогая запрягать лошадей и выводить подводы в общий строй.
Опять, перемежаясь с неумолкающей стрельбой, поплыл среди величавых сосен монотонный скрип снега, приглушенные всхрапы лошадей, тяжкий шорох множества шагов.
Разведчики далеко ушли вперед, но какая-то смутная, сосущая сердце тревога охватила Васильцова. От вытащил из саней лыжи, взял с собой двоих разведчиков и решил сам выскочить вперед колонны.
— Степан Иванович, — окликнула его в голове колонны Нина, — Степан Иванович, я же совсем здоровая, сильная, что же я буду с больными, ранеными… Я же лыжница, не раз первой на соревнованиях приходила, стрелять умею… Дайте оружие, я тоже в охранение пойду.
Нина была так взволнована, что на бледном лице ее выступили красные пятна.
— Дайте хоть наган какой-нибудь, не могу я так, без дела, — продолжала она, умоляюще и требовательно глядя на Васильцова.
— Степан Иванович, — вступился за девушку сопровождавший Васильцова Кленов, — и в самом деле, что ей прозябать тут, когда она воевать может. У нас там есть еще в запасе и лыжи одни и карабин с целым подсумком патронов.
Васильцов хорошо знал презрительное отношение к женщинам вихрастого, часто озорного и буйного отчаюги разведчика Артема Кленова и немало удивился его столь горячей защите почти незнакомой ему девушки.
— Да вы не глядите, не глядите на меня так, — рассердился Кленов, поняв мысли Васильцова. — Это же не какая-нибудь неженка или хлюпалка мокроглазая. Это же Найденова Нина, — гордо вскинул он голову, дерзко скосив на Васильцова цыганские глаза, — та самая разведчица, про которую мы, не зная ее имени, целый год легенды слышали.
Нина смущенно потупилась, что-то невнятно пробормотала и, взглянув искоса на Кленова, с обидой проговорила:
— Выдумываете несуразное.
— Ладно, ладно, — строго остановил ее Кленов, — скромничание интеллигентское совсем ни к чему. Так я в один момент и лыжи, и карабин организую, — сказал он Васильцову и, не ожидая его согласия, умчался к саням разведчиков.
— В самом деле, Степан Иванович, — оправдываясь и, видимо, защищая Кленова, проговорила Нина, — ну, честное слово, тошно без дела тащиться. Воюют все, а я, как инвалид.
— Ну, хорошо, хорошо, — впервые за последние сутки улыбнулся Васильцов, — согласен. Только куда же направить тебя: к разведчикам или в охранение?
— Какое там охранение, — возмущенно воскликнул вернувшийся Кленов. — Она же разведчица и будет с разведчиками. Вот, — подал он Нине лыжи и палки, — из нашего резерва. Последние, самые последние, — с напускной серьезностью заверил он Васильцова, — хоть все наше барахло переройте.
— Верю, верю, — усмехнулся Васильцов, зная известную всему отряду запасливость разведчиков.
— А вот и автоматик, — вынырнул из-за спины неразлучный друг Кленова Сеня Рябушкин, низенький, курносый паренек лет восемнадцати с удивительно голубыми и чистыми глазами.
— Немецкий, правда, нашего не нашлось, — словно оправдываясь, поглядывал он то на Васильцова, то на Нину, — но это лучше. Патрончиков всегда вдосталь.
— А гранат что же, позабыли? — подзадорил Васильцов разведчиков.
— Никак нет. В полном порядочке, — лихо отрапортовал Рябушкин и ловко перекинул через плечо Нины брезентовую сумку с гранатами.
От радости Нина ничего не могла сказать, только улыбалась растерянно, торопливо прилаживая лыжные крепления.
— От це друга справа, как говорит наш Иван Кечко, — с гордостью воскликнул Кленов, когда Нина, щелкнув затвором автомата, взяла его наизготовку. — А вы ее, Степан Иванович, в обоз записали.
— Только смотрите, — погрозил пальцем Васильцов, — беречь ее, как собственный глаз.
— Ни боже мой! И пылинке сесть не дадим, — торжественно заверил Рябушкин.
— Ну, теперь вперед! — скомандовал Васильцов.
Он сильно оттолкнулся палками, с удовольствием ощущая, как плавно скользят лыжи.
«Эх, если бы не раненые да не женщины с детишками, и помотали бы мы карателей этих по лесам брянским, по чащобам да болотам», — думал он.
Все так же вздымая высоко к небу иглистые макушки, величаво проплывали медностволые сосны. Казалось, дремучему бору не будет ни конца ни края. Но километров через пять бор вдруг резко оборвался, потянулось неказистое мелколесье, и открывалась ослепительно светлая, словно специально выбеленная, чистая прогалина.
— Стой! — крикнул Васильцов. — Маскируйся!
Над прогалиной назойливо кружила «рама».
— Да-а, — оглядываясь по сторонам, с досадой протянул Кленов. — И вправо и влево ни куста, ни холмика, да и вперед до леса километра, наверное, полтора. Вот бы влопались, если всей колонной на эту пустоту выползли.
— Где же разведчики, я троих послал, — возмущенно проговорил Васильцов.
— Вот лыжня, — прокричал Рябушкин. — Вправо опушкой поехали.
— Обход, конечно, искать пошли, — защищая друзей, пояснил Кленов.
— Значит, они вправо пошли, — задумчиво повторил Васильцов. — Тогда вы, — махнул он Кленову и Рябушкину, — так же по опушке влево проскочите. Далеко не уходите, километров пять и назад, я здесь буду. А вы, Нина, быстро к обозу. Как дойдет до края бора, стоп и — рассредоточиться.
Отправив разведчиков и девушку, Васильцов с ненавистью взглянул на хищно кружившую «раму» и присел под куст. Отзвуки боя, казалось, приблизились вплотную. В лучах солнца предательски ярко сверкал снег на чистой прогалине. О переводе колонны через эту прогалину днем нельзя было и думать. «Рама» сейчас же вызовет бомбардировщиков и тогда… Единственный выход — ждать темноты. Но сдержат ли партизаны натиска карателей до наступления ночи? У них же много убитых и раненых, к тому же кончатся боеприпасы.
Стиснув зубы, Васильцов обхватил голову руками и несколько минут сидел в безмолвном оцепенении. Все сделанное для спасения изможденных пленных из лагеря и обреченных на смерть женщин с детишками, сейчас могло быть перечеркнуто одним налетом немецких бомбардировщиков или ударом какой-то паршивенькой роты фашистских автоматчиков.
«Нет, — резко вставая, скрипнул зубами Васильцов, — этого не допустим! Выход должен быть! Все равно уйдем от фашистов!»
Оборвал раздумья Васильцова легкий шум на вершинах сосен. Подняв голову, он заметил, как под напором порывистого ветра иглистые ветви, качаясь, склонялись к юго-западу.
«Дымом, дымом закрыть прогалину, — мгновенно осенила Васильцова догадка, — создать видимость лесного пожара и замаскировать колонну от наблюдения с воздуха. Да, — тут же усомнился он, — а если пожар и в самом деле разольется по всему лесу? Ну и пусть! — решительно возразил самому себе Васильцов. — Зимою, да при таком снеге пожар далеко не разойдется. А если и раскинется вдоль этой прогалины, то мы успеем проскочить, а каратели будут отрезаны. Потерпи, батюшка брянский лес, ради спасения людей советских, — умоляюще посмотрел он на шумевшие под ветром сосны.
Вернувшиеся Кленов с Рябушкиным доложили, что лесной прогал обойти никак нельзя. Он тянулся далеко в стороны, а затем переходил в пойму речушки и бескрайнее поле с видневшимся далеко на горизонте селом.
— Ну, хлопцы, — сурово сказал Васильцов окружившим его разведчикам, — готовь костры, да побольше, помощнее, чтобы все дымом сплошь покрылось. Сейчас доложу командиру и за дело!
— Будьте уверены, — воскликнул, сразу же поняв мысль Васильцова, Артем Кленов, — такое отчудим, что у фрица глаза на лоб вылезут!
* * *
Перегудов одобрил решение Васильцова, и через час густая полоса дыма поползла по лесной прогалине. В воздухе все так же назойливо гудела «рама», но ее не было видно, и колонна Васильцова двинулась в соседний массив леса. Изможденные лошади и тощие коровенки, словно понимая опасность, торопливо месили натруженными ногами снег, стремясь поскорее преодолеть эту задымленную полосу гибельной пустоты.
Пропуская колонну, Васильцов увидел на санях Круглова, до самого подбородка закутанного одеялом.
— Как самочувствие, Паша? — весело окликнул его Васильцов.
Круглов, жалобно глядя тоскующими глазами, пытался улыбнуться, но вместо улыбки криво сморщился и глухо пробормотал:
— Ничего вроде. Ноги вот только ломит и в грудях скрипит чтой-то.
— Потерпи, — ободрил его Васильцов, — осталось немного. Вот отскочим от карателей, прилетит самолет, и мы тебя на большую землю переправим. А там подлечишься в госпитале и домой к семье.
— Спасибо, Степан Иванович, — прошептал Круглов и, когда Васильцов отъехал, про себя добавил: «Дай то, бог, дай то, бог! Поскорей бы только».
Глава девятнадцатая
Как и всегда, поездка в войска вызывала у фельдмаршала Манштейна сложные и противоречивые чувства. По своему обыкновению, внешне он был строг, непреклонен и даже замкнут, никогда не вступал в праздные, отвлекающие разговоры, храня на округлом с орлиным носом лице суровую недоступность. Но внутренне, в душе, особенно на войсковых учениях, когда на его глазах ходило, бегало, окапывалось, стреляло множество молодых, сильных мужчин, фельдмаршал молодел. Он невольно вспоминал свое прошлое, радовался удачным и ловким действиям, сожалел, когда кто-нибудь по слабосильности или по неумению попадал впросак и даже сочувствовал неудачникам, намереваясь помочь или хоть как-то облегчить их положение. Однако все эти чувства Манштейн ничем не выказывал, давил в себе еще с первых шагов своей командирской деятельности и на всю жизнь принял это для себя, как неписанные нормы поведения с подчиненными настоящего офицера прусской выучки и закалки. «Сила сильного в непреклонности, — понимал это правило Манштейн. — Хочешь властвовать и подчинять себе людей, будь всегда строг, недоступен и жесток. Человек по природе робок и в душе своей всегда носит зачатки покорства и раболепия. Жми на него, дави, развивай эти зачатки, и ты взовьешься выше всех».
Это правило, как убедился Манштейн за тридцать с лишним лет пребывания в армии, действовало почти безотказно, если его умело и, главное, последовательно применять. Поэтому никогда открыто не выражал он своего сочувствия слабым и неудачникам, никогда не отступал от своего приказа, добиваясь его выполнения даже ценою жизни множества людей, никогда не ставил себя на одну ногу с младшими, постоянной строгостью, суровой требовательностью и жестокостью давая им чувствовать свои превосходство и власть. Даже без особой необходимости он мог накричать на подчиненного, наказать его, поставить в унизительное положение, нисколько не смущаясь этим. Он хорошо знал, что в военных кругах за такое отношение к людям его звали «бесцеремонным», но так же хорошо знал, что в силу ума его и способностей, а также, возможно, из-за той же самой бесцеремонности, авторитет его среди военных был весьма и весьма высок. Это он чувствовал по тому, с каким уважением обращались с ним старшие по положению и равные ему, с каким трепетом и покорностью держались подчиненные, как пунктуально и точно выполнялись все его приказы и распоряжения. Это была подлинная, настоящая власть, и Манштейн наслаждался ею. Именно поэтому он так охотно посещал войска и не любил бывать у старших начальников и в высших штабах, предпочитая не личные, а письменные, телефонные и телеграфные общения с ними.
Непререкаемая покорность и абсолютная беспрекословность, точное выполнение всего, что он сказал и даже только подумал, — это и было главным, что так поднимало его настроение при поездках в войска. Это был основной вдохновляющий мотив, приводящий фельдмаршала в прекрасное настроение. Всякое же изменение этого мотива, а в последнее время такие изменения случались все чаще и чаще, мгновенно меняло настроение фельдмаршала.
Так случилось и в эту последнюю поездку в войска, которую он, не считая беглого ознакомления с положением дел на фронте под Таганрогом, Луганском и Харьковом, посвятил проверке войск 4-й танковой армии и оперативной группы Кемпфа. Они стояли под Белгородом и предназначались для решения главной задачи — для наступления на Курск с юга, навстречу 9-й армии Моделя, которая должна была бить на Курск с севера, со стороны Орла.
После приезда Гитлера в Запорожье Манштейн начисто, даже в мыслях отказался от своего излюбленного плана создания ловушки для русских и нанесения ответного удара, полностью приняв и одобрив план Цейтцлера об уничтожении крупной группировки русских на курском выступе. Этот план, как теперь не только говорил, но и думал Манштейн, был именно тем мечом, который в создавшихся условиях мог решительно разрубить запутавшийся узел войны. Он должен решительно изменить ее пагубный для Германии поворот, начавшийся еще под Москвой и так резко проявившийся в степях между Волгой и Доном. План Цейтцлера несомненно спасет положение. Это были искренние мысли и чаяния Манштейна. Но план, как превосходно знал Манштейн, был всего лишь мыслью, идеей, которая сама по себе, не вложи люди все свои силы в ее осуществление, повиснет и растворится в воздухе, останется пустым звуком. Претворение этого плана в жизнь стало теперь основным содержанием всей деятельности Манштейна. Для создания ударной группировки под Белгородом он пошел на страшнейший риск, оголил огромный фронт от Таганрога до Харькова, оставив там на 630 километров его протяженности всего 21 дивизию. Он даже пошел на еще больший риск, сохранив в своем резерве всего лишь три дивизии, что для такого огромного фронта — от берегов Азовского моря до Сум, который занимала его группа армий «Юг» — было подлинно каплей в море. Но и то и другое рискованное мероприятие обеспечивало решение главной задачи — создание сокрушительной ударной группировки для разгрома русских на Курском выступе. Восемь пехотных и одиннадцать танковых дивизий стягивал Манштейн в эту группировку. В нее были включены самые лучшие, самые сильные, самые боеспособные дивизии. Одиннадцать танковых и моторизованных дивизий, каждая из которых по своему составу и вооружению превосходила танковый и механизированный корпус русских, сосредоточенные на узких участках фронта, представляли такую силу, удара которой не в состоянии выдержать ни одна оборона. К тому же в составе этих одиннадцати танковых и моторизованных дивизий были такие прославленные дивизии СС, как «Мертвая голова», «Великая Германия», «Адольф Гитлер», «Райх», «Викинг». На эти дивизии Манштейн мог положиться так же, как и на самого себя. Для обеспечения действий ударной группировки была привлечена вся артиллерия и авиация, имевшиеся в руках Манштейна. И самое главное — в состав ударной группировки были включены все новейшие танки «тигр», «пантера» и сверхтяжелые семидесятитонные самоходные орудия «фердинанд».
В пух и прах разлетится оборона Ватутина при первом же ударе по ней этой мощнейшей группировки. Не лучше будет и Центральному фронту Рокоссовского, когда также на узком фронте ринется на прорыв 9-я армия Моделя, который бросит в наступление четырнадцать пехотных, шесть танковых и две моторизованные дивизии. В общем итоге сорок одна дивизия, из них девятнадцать танковых и моторизованных, свершат то, что задумал Цейтцлер, утвердил Гитлер и проводит в жизнь теперь он, фельдмаршал Фриц Эйрих фон Манштейн. Такой операции еще не знала военная история. Это не Польша и не Франция, которые были взяты ударом всего лишь какого-то десятка дивизий, это даже не Москва, где действовало хоть и много войск, но все они были в какой-то мере распылены и не нацелены, как здесь, для нанесения единого, всесокрушающего, концентрированного удара. А по количеству вводимых в дело танков представить трудно что-либо подобное.
Теперь нужно только все организовать и подготовить так, чтобы эти огромные силы были полностью введены в действие. Поклонник четких, продуманных, тщательно разработанных и спланированных действий, фельдмаршал Манштейн в мыслях и на бумаге уже все решил и определил. У него не оставалось ни одного неясного вопроса. Все до единого подчиненные ему исполнители получили необходимые распоряжения. И вот теперь, объехав войска, он воочию убедился в том, что сделано практически для осуществления его планов и решений. А сделано было много. Под сенью рощ и бесчисленных садов северной Украины таились от упорных поисков советской разведки танковые и пехотные дивизии. На аэродромах скапливалось все больше и больше авиации. Тыловые и прифронтовые склады и базы ломились от боеприпасов.
Все вооружение и боевая техника были в превосходном состоянии. Железнодорожные эшелоны сплошными потоками везли пополнение. В штабах были продуманы, передуманы и отшлифованы самые обстоятельные планы действий. И днем и ночью на полигонах и стрельбищах шли упорные занятия, в штабах и на командирских учениях десятки раз отрабатывались варианты прорыва советской обороны, отражения контратак, форсирования рек и речушек, действий в самых различных и неожиданных условиях. Все это радовало и вдохновляло фельдмаршала. Но за всем этим ощутимым благополучием у Манштейна, незаметно возникнув, нарастало раздражение. Первый толчок этому, видимо, дал командующий 4-й танковой армией генерал-полковник Гот. Едва встретив фельдмаршала и доложив о состоянии своей армии, он с каким-то непонятным упорством начал твердить о медленном поступлении нового вооружения и боевой техники, о плохой обученности прибывающего пополнения, о других тех самых десятках и сотнях недостатков, непорядков и недоделок, которые неизбежны при подготовке любого большого дела.
Вначале Манштейн счел это за обычное для большинства начальников стремление выпячиванием недостатков оправдать свои будущие промахи и ошибки. Но вскоре фельдмаршалу пришлось отказаться от этого предположения. Подобно Готу, правда не так решительно и смело, командиры корпусов и дивизий его армии также отмечали медлительность в поступлении пополнения, намекали на мощь русских и недостаток сил для прорыва их обороны и достижения решительных успехов. В этом несомненно сказались, как твердо решил про себя Манштейн, события недавнего прошлого: зимнее отступление с Кавказа и от берегов Волги. Фельдмаршал по себе чувствовал, сколь тяжелы и потрясающи были эти события, отбросившие немецкую армию от уже почти достигнутых целей назад к тому, с чего началось лето прошлого года. Но как бы ни велики и ошеломляющи были минувшие потрясения, все исцеляющее время и надежда на будущее смягчат, загладят, а затем и совсем сотрут их впечатление. В таком состоянии основным для человека являются непрерывная активная деятельность и избежание всяческих толков, пересудов и воспоминаний прошлого. Забыть, начисто вычеркнуть из памяти все, что было тяжелого и неприятного, и все силы устремить в будущее! Поэтому фельдмаршал, не считаясь со своим временем и здоровьем, одно за другим проводил совещания, разборы учений и занятий, выезды в части и подразделения, создавая вокруг себя кипучую, напряженную обстановку целеустремленной деятельности. Это постепенно, как медленное, но верное лекарство, сняло с него раздражение, и он уехал от Гота в веселом и приподнятом настроении. Только в пути, среди мелькания утопающих в зелени украинских сел и городов, возникало и тут же гасло какое-то щемящее, неприятное ощущение зыбкости всего, что он видел и делал. Но в Запорожье, в штабе группы армий, слушая доклад начальника штаба, Манштейн опять остро почувствовал то же самое, что испытал при встрече с командующим 4-й танковой армией. Пунктуальный, обстоятельный и деловитый начальник штаба группы армий с так хорошо знакомой Манштейну привычкой настойчиво подчеркивать то, что его особенно волновало в данный момент, несколько раз повторил, что русским, во-первых, известно о подготовке немецкого наступления на Курск и, во-вторых, они проводят целую серию мероприятий, готовясь к борьбе с новой танковой техникой. Эта подготовка дошла, оказывается, уже до того, что каждый советский солдат знает не только общие данные о «тиграх», «пантерах» и «фердинандах», но и в совершенстве изучил их слабые стороны и уязвимые места.
Такое известие не было для Манштейна неожиданностью. Многолетний военный опыт подсказывал фельдмаршалу, что общий план большой операции, где участвуют многие тысячи людей, в полнейшей тайне сохранить почти невозможно. Рамо или поздно, по слухам, догадкам, а часто и точным сведениям противник узнает о готовящихся против него действиях. Еще сложнее сохранить в тайне выпуск нового оружия. По существу оружие это остается тайной до тех пор, пока идея его устройства зреет в голове конструктора. Стоит лишь только начать производство нового оружия, а тем более в массовых количествах пустить в войска, тайна станет явью и сведения о нем быстро долетят до противника. Поэтому сообщение начальника штаба группы армий нисколько не удивило Манштейна. Раздражало и сердило его то, что начальник штаба докладывал все это по своим личным предположениям и отдельным смутным слухам. Разведка же никаких конкретных и проверенных данных не давала.
— А предки ваши не страдали манией преследования? — резко оборвал он без умолку говорившего начальника штаба.
Тот удивленно вскинул брови, густо покраснел, потом, бледнея, привстал и с обидой пробормотал:
— Я не понимаю вашего вопроса.
— Так, вот, — резко встал Манштейн и по своему обыкновению в упор посмотрел в лицо начальника штаба. — Так вот, — жестко и сурово повторил он, — свои догадки и домыслы держите про себя. А мне извольте докладывать только точные и проверенные сведения. Разведка бездельничает, вы ею не руководите, а только гадаете да предполагаете. Извольте немедленно, сейчас же бросить все силы разведки на выявление планов, намерений русских и состояние их войск, их обороны. Идите! Завтра утром доложить первые результаты разведки. А о том, что противник знает наши планы и наши новые танки, — добавил он вслед уходившему начальнику штаба, — никому ни звука. Ни звука!
Излив вихрем налетевший гнев, Манштейн отпил глоток остывшего кофе и грузно опустился в массивное кресло. Неудержимый поток мыслей постепенно входил и привычное русло размышления вслух.
Знают о наших планах, знают о наших танках. Скверно, отвратительно, пагубно! Знают о планах — подготовят мощную оборону, знают о танках — создадут новые противотанковые средства. Да, но и оборона и, особенно, новые противотанковые средства создаются не вдруг. Нужно время. Нужно немало времени. И это время будет работать в нашу пользу. Наступление следует начинать немедленно. Бросить все силы на Курский выступ. Именно все силы, именно немедленно. Победа под Курском возместит все поражения на других фронтах.
Манштейн не по возрасту резво встал, достал из сейфа свою особую папку личной переписки с Гитлером и присел к письменному столу. На мгновение он задумался, подыскивая аргументы, которые особенно могли бы повлиять на Гитлера в принятии решения о немедленном наступлении «а Курск.
Вспомнив недавнюю встречу с Гитлером здесь вот, в этом кабинете в Запорожье, молодо улыбнулся и вполголоса проговорил:
— Донбасс! Сейчас фюрер, видимо, и во сне грезит Донбассом. Он не желает отдать его русским и все силы вложит, чтобы удержать донецкие рудники и заводы.
В пространном письме, умоляя Гитлера немедленно начать наступление на Курск, Манштейн писал:
«Чем раньше начнется операция «Цитадель», тем меньше будет опасности большого контрнаступления противника на Донбасс».
Закончив письмо и поставив дату «18 апреля 1943 года», Манштейн встал, подошел к оперативной карте и, рассматривая до мелочей знакомое начертание фронта, резко проговорил:
— Пусть знают о наших планах, пусть знают о наших танках, но мы опередим русских и все равно добьемся решительной победы под Курском.
Глава двадцатая
Всю томительную дорогу от Курска и до родной деревни Андрей Бочаров никак не мог поверить, что отец умер. Больше двадцати лет жил Андрей самостоятельно, вдали от родителей, редко виделся с ними, да и переписка тянулась еле-еле, по одному, по два письма в месяц. Но всегда Андрей отца чувствовал рядом и в самые важные моменты жизни невольно прикидывал, что бы подумал об этом отец.
И вот теперь, как сообщила Алла, отец умер. Это было невероятно. Это просто не укладывалось в сознании Андрея. Ну, если болел бы, ослаб здоровьем, тогда еще можно было найти хоть какое-то утешение. Но меньше года назад отец работал наравне с молодыми, ничем не выказывая даже признаков старости. Нет! Вероятно произошла какая-то нелепая ошибка. Чем ближе подъезжал Андрей к Дубкам, тем эта спасительная мысль все настойчивее овладевала им.
Увидев все те же придавленные соломенными крышами избы с подслеповатыми оконцами, одинокую лозину на плотине обмелевшего пруда и веселый дымок над белой трубой родного дома, Андрей, словно впервые приехав сюда, замер от радости.
«Сейчас неторопливо выйдет отец, — думал он, указывая шоферу куда ехать, — разгладит бороду, прищурится, а мать, конечно, опять заплачет, Алла, видимо, тоже прослезится, а Костик, Костик бросится, вскинет ручонки…»
Шофер ловко развернул вездеход, лихо влетел на пригорок и с хода затормозил у распахнутой двери сеней.
Не успел Андрей встать, как в доме раздался пронзительный, перевернувший всю его душу крик, и на улицу выскочила мать. В длинной белой рубахе, с распущенными до плеч седыми волосами, с неузнаваемо черным, искаженным болью морщинистым лицом, она остановилась у двери, словно не узнавая Андрея, и надрывно рыдая, выкрикивала:
— Закатилось наше солнышко… Покинул нас на веки вечные… Осиротил-обездолил своих детушек и меня горемычную…
Видя только огромные, налитые страданием глаза матери, Андрей обнял ее острые, вздрагивающие плечи и бессвязно зашептал:
— Не надо, мама… что же делать… успокойся… сама заболеешь… не надо…
Судорожно всхлипывая, мать стихла, мокрым лицом прижалась к груди Андрея и горячими пальцами погладила его подбородок. От этой короткой, скупой ласки матери у Андрея потемнело в глазах и по щекам покатились слезы. На мгновение ему показалось, что скрипнула дверь и в сени вышел отец. Он встряхнул головой и на гвоздике у окна увидел старый отцовский картуз. Этот картуз двадцать лет назад привез ему Андрей в свой первый отпуск из армии. До войны отец носил его только по праздникам, и теперь картуз одиноко висел в сенях.
— Пойдем в избу, — успокаиваясь сама и стараясь успокоить сына, прошептала мать, — пойдем, сынок.
«А где же Алла?» — только сейчас вспомнил Андрей о жене и, распахнув скрипучую дверь, на постели под окном увидел бледное, почти белое, с поникшими щеками и заостренным носом лицо жены. Болезненно-усталыми, но сияющими нескрываемым счастьем глазами смотрела она на него и, видимо, силясь что-то сказать, беззвучно шевелила поблекшими губами. Еще не понимая, но подсознательно чувствуя, что с Аллой произошло что-то важное, Андрей приблизился к ней, встал на колени и склонил голову. Она слабой рукой обвила его шею, робко и неуверенно притянула к себе и прошептала:
— Вчера у нас родилась дочь.
Мягкая, пьянящая радость и благодарная нежность к жене овладели Андреем. Он прижал к щеке ее влажную, болезненно-горячую руку и, не замечая, как по его щекам опять покатились слезы, робко проговорил:
— Измучилась ты, исстрадалась…
— Нет, нет, нисколечко, — радостно перебила его Алла. — Все прошло так хорошо и не трудно было, и не боялась я, как тогда, с Костиком…
— Посмотри, посмотри, Андрюша, вот она, новорожденная наша, — позвала Андрея мать, качая покрытый белым голубенький сверток.
Андрей откинул невесомую кисею и среди белого увидел два бессмысленно-туманных глаза и розовый, не больше горошины крохотный носик. И опять волна радости качнула Андрея. Он, не зная куда, поцеловал тепленькое существо и, вспомнив отца, тяжело опустился на скамью.
— Когда же похоронили? — глухо спросил он, чувствуя, как горькие спазмы сдавливают горло.
— В воскресенье, пятый день сегодня, — прошептала Алла.
— И не болел?
— Два дня пролежал в жару, последнюю ночь все метался, бредил, тебя звал, а к утру затих.
— А где же Костик? — вдруг вспомнив сына, тревожно осмотрелся Андрей.
Наташа его взяла к себе, Круглова, — сказала Алла и, густо покраснев, робко добавила:
— У нас же тут сам понимаешь, что было. А с Наташей мы подружили. Она так помогла нам, такая душевная она…
* * *
Перед обедом прибежал с работы Ленька и, пряча блестевшие от слез глаза, сухо поздоровался с Андреем. За минувший год он раздался в плечах, посуровел лицом и манерой теребить пушок едва пробившихся усиков разительно повторял отца. Андрей расспрашивал его о делах в колхозе, но Ленька бросал скупые слова, явно чем-то недовольный и даже озлобленный. Пока мать готовила обед, братья вышли во двор и сели на кругляк заматерелого ясеня, который еще много-много лет назад Андрей, тогда такой же, как сейчас Ленька, с отцом приволокли из дальнего леса.
Андрей закурил. Попросил папиросу и Ленька.
— Я так просто, — смущенно пояснил он, — вообще-то не курю, а вот когда…
Он не договорил, шмыгнул носом и неуверенной рукой зажег спичку.
— Как же, Леня, случилось все это? — вполголоса спросил Андрей.
— Из-за рыбок все, из-за мальков карпа зеркального, — склонив голову, сдавленно проговорил Ленька. — В рыбный совхоз ездили, с бочками водовозными, на трех подводах: тятька, Ванек Бычков и я. Далеко это, за Тулой, целых четыре дня ехали. Туда-то ничего добрались, хоть и грязно было. А вот обратно, как мальков в бочки с водой насажали, вконец измаялись. Грязища по самую ступицу, отец шибко ехать не дает, говорит: «Мальков побить можно, шажком, шажком поедем». И тащились мы шажком почти неделю. — Ленька раз за разом глотнул дым, поперхнулся, багровея худым остроскулым лицом, но тут же справился с удушьем и, отчаянно взмахнув стиснутым кулаком, ожесточенно продолжал: — И уж тут вот, недалеко, километров сорок и речка не речка, и ручей не ручей, а разлилась во всю луговину, и ни мостика, ни переезда. Две подводы мы кое-как пропустили, а третья захрясла. Канава там вроде глубоченная, передок осел, и бочки чуть водой не подхватило. Ванек лошадей нахлестывает, а они ни в какую. Потом рванули, повозка похильнулась, тятька закричал и бросился в воду…
Ленька опять жадно затянулся дымом, приглушенно вздохнул и виновато взглянул на Андрея.
— А ветрище-то был ледяной, — хрипло продолжал он, — так и пронизывает насквозь. Как выехали на берег, с отца ручьем лило. Ну, костер мы развели, обсох он немного. Да где там, — отчаянно махнул рукой Ленька, — разве обсохнешь, как он по самую шею в воде был. Переодеться бы в сухое, а во что переоденешься, ничего с собой нет, и до ближней деревни километров двенадцать. Ну, поехали. Я впереди был. Нахлестываю лошадей, чтобы скорей до деревни добраться, а он не пускает, кричит: «Шагом, шагом, рыбок погубим». Так и тянулись мы еле-еле. Да еще раз десять останавливались, воздух в бочки накачивали. Знаешь, насосом автомобильным. Мальков-то, их в каждой бочке тыщи, воздуха для всех не хватает, вот и подкачивали. Я говорю: «Поедем скорее, не будем останавливаться», а он: «Нельзя, Леня, рыбки маленькие, нежные, погибнуть могут». «Погибнуть могут», — повторил Ленька и, не выдержав, громко всхлипнул.
Андрей хотел было успокоить братишку, но страшное оцепенение охватило его. Он видел эту грязную, унылую дорогу, три одинокие повозки в безлюдном поле и мокрого отца, насосом качавшего воздух в бочки с мальками.
— Пока до деревни добрались, — подавив слезы, продолжал Ленька, — он совсем продрог. В одном доме остановились, у старика. Вредный такой, за все деньги подавай. А откуда деньги-то. У нас и с собой-то их не было, а тут еще больше недели в дороге, выпить бы ему, прогреться, а на что купишь? Я все дома обегал, просил, чуть не плакал, никто не дает. Забежал я в сарай, чтобы отец не видел, сбросил свои кальсоны теплые, вязаные, что ты прислал, и рубаху тоже вязаную и променял на бутылку самогонки. Растерли мы с Ванькой тятьке грудь и спину, остатки выпить дали и на печку уложили. Отогрелся он вроде, а утром, как выехали, смотрю, руки у него трясутся и пятна красные по всему лицу. Я опять твержу: «Поедем быстрее», а он свое: «Рыбок беречь надо, слабенькие они, погибнут». И останавливались, почитай, через каждый час, все воздух в бочки накачивали. Вот и… Рыбок-то всех вон целехонькими привезли, а он…
Ленька судорожно икнул и, уткнувшись лицом в колени Андрея, отчаянно зарыдал.
* * *
Под вечер к Бочаровым зашел Гвоздов. Склонив голову и сожалеюще вздыхая, он поздоровался, присел к столу и с явным надрывом сказал:
— Вить упреждал я дядю Николая: погоди, мол, не спеши, вот подсохнет, и поедешь. А он ни в какую…
— Не надо об этом, — болезненно морщась, остановил его Андрей.
— Понимаю, понимаю, — пробормотал Гвоздов. — Ну, а ты надолго к нам?
— Да нет, на пару дней. События на фронте серьезные назревают.
— Да, да. События, видать, опять разгораются, — важно согласился Гвоздов. — Как говорят, затишье перед бурей.
Сам не понимая почему, Андрей чувствовал какое-то совсем неожиданное не то отвращение, не то брезгливость к Гвоздову. За год, что не видел его Андрей, Гвоздов располнел, нарастил выползавший через военный ремень живот. Полные, лоснящиеся щеки его обвисли, серые глазки заплыли, подбородок раздвоился и дрябло свисал на грудь. Беря из портсигара Андрея, он курил одну папиросу за другой, как-то странно, совсем не похоже на него, щурился и ни разу не взглянул на Андрея прямо, все время косил, глазами в стороны.
— Ну, а как дела в колхозе? — прервал неловкое молчание Андрей.
— Колхоз наш, можно сказать, первейший из всех, — оживился Гвоздов. — По всем показателям выше нормы идем. Вон твой братеник-то, — кивнул он в сторону Леньки, — спроси, он тебе все расскажет. Самый активист у нас.
Ленька сердито блеснул глазами, схватил кепчонку и выскочил из дома.
— Не любит, когда его в глаза хвалят, — пояснил Гвоздов. — Стоящий парнюга выйдет, деловой. Да, — прищурясь и посмотрев куда-то за печку, продолжал Гвоздов, — дела колхозные идут. С севом вот почти совсем развязались. Гречиху осталось посеять да картошку посадить. Трактор в эту весну вымолил я в районе. Вот и выкрутились. А без трактора-то куда там! Вот соседи наши на лошаденках и половины не посеяли. А у меня и под картошку, и под гречиху земелька разделана. Скоро за пары возьмусь. Только бы погодка не подкачала, а то возьмем урожайчик, что надо.
Гвоздов сообщал радостные вести, но, слушая его, Андрей почему-то не чувствовал ни радости, ни даже обычного воодушевления, всегда возникавшего у него при удачных делах в колхозе. Гвоздов, видимо, понял это, неторопливо поднялся и, опять пряча глаза, проговорил:
— Отдыхай, ты же умаялся в дороге, да и у меня дел невпроворот. Может, заглянешь завтра как-нибудь, посидим, потолкуем, семьишку мою посмотришь.
— Не знаю, — неуверенно ответил Андрей. — Если будет время, зайду.
— Неприятный человек, — сказала Алла, когда ушел Гвоздов.
— Что так? — удивился Андрей.
— Я и сама не знаю, — задумчиво проговорила она. — Я никогда не жила в деревне, живого кулака и в глаза не видела, только по книгам я их себе представляла. Гвоздов напоминает мне того самого кулака, каким сложился он в моем представлении.
— Замашки-то кулацкие еще раньше были у Алешки. И отец его все в богатеи рвался.
— Папа с ним очень не ладил. Вначале я думала, что все из-за места председательского. А потом убедилась — нет, он его просто как человека не любил. Вот в Сергее Слепневе он души не чаял. Какой человек это, Андрюша, я таких мало встречала. Все людям, все, все, до последней кровинки. Ногу на фронте потерял, легкое пулей пробито, а работает день и ночь. Теперь свалился, совсем больной лежит. Ты бы зашел к нему. Он всегда о тебе спрашивает.
— Завтра на могиле побудем и, может, к нему зайдем. Трудно тебе, а? — склонясь к жене, прижался губами к ее щеке Андрей.
— Нет, что ты, — вспыхнув от ласки мужа, жарко прошептала Алла. — Я еще денек полежу и ходить начну понемножку. Мама-то совсем замоталась: и горе, и хозяйство, и Костик, да и я тоже развалялась.
— Надо тебе уезжать из деревни. Трудно тут с детьми. Когда отец был — еще ничего, а теперь…
Андрей помолчал, глядя в бездонные счастливые глаза Аллы, и опять прижался к ее нежной щеке.
— Буду просить квартиру в Москве и сразу же перевезу тебя с малышами.
— Не стоит пока, — возразила Алла. — Маленькая еще слаба, куда с ней ехать. Да и Костику весной и летом привольнее в деревне. А в городе-то душно, пыльно. Подождем до осени, а на зиму можно и переехать.
— Наша взяла! — вихрем влетев в избу, прокричал взбудораженный Костик. — Их четыле, и нас тли и — победили!
— Ух ты, вояка, — поймал его Андрей и, обхватив одной рукой сына, другой жену, замер в безмятежном оцепенении.
* * *
— Погоди малость, не так быстро, — остановила Наташа Галю Слепневу. — Как это написано там: значит, мел нужно давать, известь. К чему же это мел-то с известью?
— Организм птичий так требует, — глядя в раскрытую книгу, пояснила Галя. — Тут столько всего понаписано, ох, и хватим мы с тобой горюшка с утяточками этими.
— Так уж и хватим, — наставительно возразила Наташа. — Испокон веков вся деревня уток выращивает, а мы что, хуже других?
— Выращивают!.. Десяток, ну два, а нам с тобой целых две тыщи привезут, да маленьких, крохотных, дунет ветерок — и вверх лапками.
— Не паникуй, Галюха, как говорят военные, — обняла Наташа подругу. — Всех выходим, к осени такое стадо разведем, на целый полк мяса утиного хватит.
— Чтой-то ты все про военных да про военных. Уж не сама ли в армию собираешься?
— И не говори, девонька, — переливчато засмеялась Наташа. — Сплю и вижу мундир военный, погоны солдатские, как теперь носят, и саблю, непременно саблю, хоть в полку-то, что у нас стоял, ни одного не только с саблей, даже с кинжалом не было.
— Ух, и веселая же ты, Наташа, и легко же с тобой, — цепко обвила ее руками Галя и закружила по сараю.
— Да постой, постой, — отбивалась Наташа, — ты же меня совсем затормошила. Веселая, — сев на перевернутый ящик, уныло проговорила она. — И грех, правда. Я ведь, Галечка, как узнала про смерть Павла, вроде заново на свет народилась. А тут еще…
Она мечтательно улыбнулась, сдвигая красивые, изогнутые брови, зажмурилась и резко встряхнула головою.
— Пишет он? — подсела к ней Галя.
— Чуть не каждый день. Вчера получила.
— Я помню его: усатый такой, грозный, настоящий вояка.
— Усы и грозность только видимость. В душе-то он совсем другой. А теперь раненый, в госпитале лежит, — погрустнела Наташа, — вот уже два месяца. Серьезное, видать, ранение, а какое, не знаю. В каждом письме спрашиваю, — уклоняется, таит. Только пишет, что на фронт больше не попадет и из армии его уволят.
— А Сережа и во сне про армию разговаривает, — прошептала Галя. — То все про колхозы, про дела сельсоветские, а вот нынче — про армию. Я и не догадывалась, что он о фронте мечтает.
— Хороший у тебя Сережа. Ты, Галинка, еще не распознала, какой он человек. Здоровьем только слабоват, поддержать его нужно, подлечить.
— А как, как поддержать-то, — с горечью воскликнула Галя, — он так и рвется из дому. Все ему нужно, до всего дело. Мы с мамой следим все время, чтобы не убежал. Хоть слушается пока, лежит смирно, а я же вижу: невмоготу лежать. Душа-то его не дома, а в сельсовете, в колхозах. Теперь ему хоть дело нашли, книг со всей деревни насобирали. Обложился кругом и читает, читает, день и ночь читает.
— У Бочаровых книг много было, от Андрея еще остались, ты не взяла? — сказала Наташа.
— Я все взяла, сама Алла собирала.
— Эх, дядя Николай, дядя Николай, — горестно протянула Наташа, — такой сильный и враз свалился.
— Сережа плакал тайком, как узнал про его смерть, — вполголоса проговорила Галя. — Я пришла с похорон, а у него вся подушка мокрая и глаза красные.
— Не один Сережа горюет, я тоже всплакнула. Чужой мне дядя Николай, ругал частенько, а раньше и видеть меня не мог, из-за Андрея все. Да признаться тогда-то, до войны, и я недолюбливала его. А вот как в войну узнала, когда он председателем был, так совсем другим увидела его.
— А ты, ты как с Андреем, с Бочаровым? — потупясь, несмело спросила Галя. — Ты же, говорят, любила его.
— Очень любила, — без тени смущения призналась Наташа. — Родители мои все перековеркали. Ох, и тяжко было, Галюша, сколько лет пустыми надеждами жила. И отчаивалась, и верила, и злобствовала. Аллу Бочарову, когда она приехала сюда, я просто ненавидела. Смотреть на нее не могла. А теперь, — успокоенно и радостно продолжала она, — теперь мы с Аллой дружим, честно. И Андрей для меня совсем посторонний человек. Все это, Федя, Федя, мой Федя Привезенчик виноват.
— Ты полюбила его, да? Полюбила? — с девичьим любопытством допрашивала Галя.
— Да, — склонила голову Наташа, — только опять, кажется, на свое несчастье.
— Ну, почему, почему? Ты же такая хорошая.
— Хорошая! — грустно улыбнулась Наташа. — Была резвива сивка, да укатали ее горки! Мать троих детей — не девица беззаботная. Да и сам-то он не чета мне. Грамотный, институт прошел, а я пять классов и шестой коридор, да и то с грехом пополам. И городской он к тому же, развитой, все знает, а я деревня деревней.
— Глупости все, глупости, глупости, — решительно замахала руками Галя. — Да ты любую городскую за пояс заткнешь.
— Эх, — заломила руки и откинула назад голову Наташа, — мне бы хоть годиков пяток назад, я бы развернулась! Учиться пошла бы, пусть хоть что, но учиться, а потом работать во всю силушку!
— И меня Сережа учит, — задорно прищурясь, сказала Галя. — Целые вечера зимой за книжками сидели, а на следующую зиму, говорит, программу составим и будем, как в школе по расписанию и по звонкам заниматься.
— Вот работнички: сидят, посиживают и лясы точат. — прервал Галю показавшийся в воротах Гвоздов. — Что, все закончено и делать нечего?
— А что все-то? — решительно встала навстречу ему Наташа. — Клетки вычищены, пол вымыт, а вот это, — показала она на щели в стенах старого, давно пустовавшего сарая, который Гвоздов решил приспособить под утятник, — это вина не наша. Мы давно говорили, требовали, а толку никакого. Да из-за этих щелей всех утят просквозит, — попередохнут.
— Ну, ладно, ладно. Хватит шуметь, — миролюбиво проговорил Гвоздов. — Иди-ка, Галя, к деду Ивану, он вроде на конюшню пошел, и скажи: пусть захватит инструмент, доски, гвозди и нынче же эти дыры залатает.
— Давно бы так, — сердито буркнула Наташа, — а то тянет, тянет, вот-вот утят привезут, а ничего не готово.
— Ну, ладно, ладно, — все так же добродушно повторил Гвоздов. — Ты, если что нужно, скажи, для тебя я в лепешку разобьюсь, а сделаю.
Он облизнул мясистые губы, широко заулыбался и, окидывая Наташу маслянистым взглядом, двинулся к ней.
— Ты что? Что это? — невольно попятилась Наташа.
— Ничего особенного, — сально улыбаясь, свистяще прошептал Гвоздов. — Все, как обыкновенно.
Он вплотную подступил к Наташе, обдавая ее самогонным перегаром, раскинул руки, но не успел дотянуться до нее, как от резкого Наташиного толчка полетел в сторону.
— Ух ты какая! Люблю таких, — оправясь, вновь двинулся к Наташе Гвоздов. — Огонь! Тигрица! Не то, что другие-прочие.
— Ах ты, слюнтяй, — ринулась к нему Наташа. — Да я за твои мысли паскудные все глаза пропойные выцарапаю.
— Полегче, полегче, — отступая, махал руками Гвоздов. — Ишь недотрога какая. Может, этого Привезенцева ждешь?
— И жду, — гордо откинула голову Наташа. — И буду ждать.
— Чудеса! — крутнув головой, ухмыльнулся Гвоздов. — Бывают же среди баб такие безголовые. Скажите на милость, она ждет Привезенцева. Дуреха ты, вот что, — совсем оправясь от поражения, наступал Гвоздов. — Нужна ты ему, как прошлогодний снег. Поигрался с тобой на отдыхе, да и хватит. Ведь подумать только, — с осуждающей строгостью воскликнул он, — что может возомнить человек по дурости. Она и Привезенцев. Да он же начальник штаба полка, фигура, а ты кто? Чумичка замурзанная. А может, ты старинку вспомнила? — ехидно прищурился Гвоздов. — Приехал Андрей-то Бочаров.
— Приехал, — встрепенулась Наташа. — Вот Алла обрадуется.
— Что там Алла, она лежит после родов. Ты о своем заботишься. Давай, давай. Кусты в парке вами давно обжиты, дорожка знакомая.
— Какой же ты стервоза, Гвоздов, — бледнея, с ненавистью проговорила Наташа. — Мало того, что день и ночь самогонку хлещешь, ты еще людей грязнишь. Да тебя, как гниду, раздавить нужно.
Прижав к груди стиснутые в кулаки руки, Наташа с горящими ненавистью глазами двинулась на Гвоздова.
— Ну ты, сумасшедшая, — отступая к воротам, бормотал Гвоздов, — озверела совсем, очертенела.
— Счастье твое — Галя идет, — увидев подходившую Галю Слепневу, опустила руки Наташа. — Я бы тебя так разделала, что вовек ни к одной бабе не посмел бы сунуться…
Глава двадцать первая
С выходом из резерва на передовую, где второй стрелковый батальон занял самый трудный на участке полка район обороны, Чернояров почувствовал радостное облегчение. Двенадцать пулеметов второй пулеметной роты, которой он теперь командовал, были разбросаны по всему району обороны батальона, и ни один пулемет не имел еще по-настоящему оборудованной огневой позиции. Стоявшая здесь третья пулеметная рота была малочисленна и едва смогла подготовить открытые пулеметные площадки, не сумев даже соорудить хотя бы легонькие укрытия для людей. Опыт командования взводом, ротой, батальоном, а затем полком сразу же подсказал Черноярову верное решение. Оползав на животе весь батальонный район обороны, он убедился, что старые огневые позиции расположены неудачно, выбрал для пулеметов новые места и без малейшей тени смущения доложил об этом Бондарю. Молодой комбат, как и всегда, опустив глаза и не глядя на Черноярова, выслушал его, потом сам проползал по всем огневым позициям и, как догадался Чернояров, доложив командиру полка, вечером радостно сказал:
— Приступайте к оборудованию. Места огневых позиций очень и очень удачны.
Эта маленькая, косвенно выраженная похвала праздничным звоном отозвалась в душе Черноярова.
— Есть приступать к оборудованию! — словно молоденький лейтенант, тихо отчеканил он и, понизив голос, добавил:
— Оборудуем так, что не только пули и осколки, но и прямые попадания снарядов не пробьют. Пулеметы в дзотах укроем, для людей блиндажи и землянки построим, замаскируем все, чтобы и рядом немец не рассмотрел.
Явная перемена в Черноярове так обрадовала Бондаря, что он впервые за все время после его прибытия в батальон прямо посмотрел на него, хотел было одобрить его решение, но опять вспомнив, кем совсем недавно был Чернояров, с прежним смущением проговорил:
— Все пулеметы приказано в дзоты поставить и прочные укрытия для людей построить. Только срок для этого очень малый: полная готовность всей обороны батальона — две недели.
— За неделю все будет готово! — не заметив перемены в Бондаре, воскликнул Чернояров. — Только разрешите завтра днем на заготовку леса мне самому выехать.
— Да, да, — поспешно согласился Бондарь. — Лес нам разрешено заготавливать в северо-восточной части рощи за Ворсклой. Там сосняк в основном и небольшой участок дуба. Дуб использовать только на балки и столбы, а сосны на перекрытия.
Утром, оставив за себя Дробышева, Чернояров, с десятком самых здоровых пулеметчиков на всех шести повозках роты выехал на заготовку леса. Погода для этой работы оказалась на редкость удачной. Низкие тучи плотной завесой прикрыли землю, но дождя не было, и колеса мягко постукивали по подсохшей дороге. На переправе через взбаламученную в весеннем разливе Ворсклу беззаботно раскуривали у своих орудий зенитчики, и усатый сапер, пропуская повозки, добродушно проговорил:
— Давай, давай, хлопцы, поторапливайся, а то развеет облака и опять фриц налетит. Тогда не разъездишься, успевай только от бомб увертываться.
В лесу было еще по-зимнему прозрачно. Голые деревья с едва набухшими почками привольно распластали ветви, словно ожидая, когда ударит солнце и поможет им окончательно освободиться от зимней спячки. В густом сосняке на взгорке, под сплошным ковром рыже-зеленой хвои было сумрачно, по-домашнему уютно и тепло. Весь лес, казалось, обнимал, голубил людей, истосковавшихся по спокойной мирной жизни.
Чернояров, распахнув шинель и сняв фуражку, долго ходил между деревьев. Грусть и какая-то странная, никогда не испытанная нежность охватила его. Прошло уже больше часу, а он все никак не мог решиться начать рубку. Только застучавшие в западной части леса топоры вернули ему решимость.
— Что ж, начнем, — шумно вздохнув, сказал он бродившим по сосняку пулеметчикам.
— Эх, товарищ командир, — воскликнул раскрасневшийся Гаркуша, — рука не поднимается губить красу такую.
— Что ж делать, нужно, — мягко сказал Чернояров. — Война!
— Ну, коли так, — резко взмахнул топором Гаркуша, — послужите, родненькие, нам свою последнюю службу, укройте нас от осколков и пуль, от мин и снарядов.
Вслед за Гаркушей и другие солдаты взялись за топоры. Деревья звенели, ухали, стонали, с тяжким шелестом нехотя падали на землю.
Чернояров вместе со всеми валил дубы и сосны, обрубал сучья, чувствуя, как все тело молодеет, наливается радостной силой. Неугомонный Гаркуша, работая в паре с ним, сыпал прибаутками, балагурил и первым попросил разрешения сбросить гимнастерку.
— Снимайте! — с жаром воскликнул Чернояров и стянул с себя напоенный потом горячий китель.
Стало еще вольготнее и веселее. Не было ни мыслей определенных, ни забот и тревог, ни тягостных воспоминаний недавнего прошлого. В беззаботном, празднично-трудовом порыве незаметно пролетели полдня, и Чернояров нехотя оторвался от работы, когда вернувшиеся из очередного рейса ездовые привезли обед. В тесном кружке потных, разгоряченных, так же взбудораженных работой пулеметчиков Чернояров с наслаждением ел остывшие кислые щи, подгорелую гречневую кашу, чувствуя все большее и большее спокойствие и радость.
— Эх, теперь вздремнуть бы минут шестьсот, — перевернув пустой котелок, воскликнул Гаркуша.
— Шестьсот многовато, а вот девяносто можно. Это в самую меру, — сказал Чернояров, ранее совсем не собираясь делать перерыв в работе.
Пулеметчики охапками натаскали кучу хвои и под веселые присказки неугомонного Гаркуши улеглись спать.
— Товарищ старший лейтенант, пожалуйста, в мою повозку. Сено там, две попоны, — предложил Черноярову старенький, с морщинистым лицом ездовой.
— Нет, нет. Не нужно сена, не нужно попон, я здесь буду, — отказался Чернояров и, запахнув шинель, прилег рядом с солдатами. Снизу, от наваленной хвои тянул густой, смолистый аромат. Вверху, на фоне низких седых облаков плавно качались макушки сосен. Глядя на них, Чернояров почему-то вспомнил вдруг свою жену. Он так редко и так холодно думал о ней, что сейчас, вспомнив ее, сам удивился этому. Еще давно, сразу же после женитьбы, он убедился, что, связав свою жизнь с Соней, поступил легкомысленно и совершил непоправимую ошибку. Все, как он считал, произошло случайно и нелепо. Был он тогда совсем молодой, едва вступивший на командирский путь лейтенант, без опыта, без выдержки, без всего, что отличает зрелого человека от юнца. Жизнь текла беззаботно и весело. После работы по вечерам и в выходные дни он, как и большинство его сверстников, ходил на танцы, в кино, изредка в театр, встречался с девушками, но всерьез не увлекся ни одной и через два года, растеряв поженившимися всех своих друзей, считался переростком среди молодежи. Мысль о собственной семье даже и в голову ему не приходила. Все его помыслы были отданы службе. Он со своим взводом много занимался, был требователен и суров с подчиненными, на годовой проверке занял первое место в полку и был назначен командиром роты. С этого времени он все реже и реже ходил на танцы, а затем и вовсе перестал, считая неприличным ротному командиру протирать подметками клубный пол. Почти ежедневно с подъема и до отбоя он находился в роте, с ротой же проводил большинство выходных дней и только изредка бывал в кино и в театре.
Однажды, ранней весной, он позже всех пришел ужинать в командирскую столовую. Все официантки уже разошлись, и обслуживала только одна — самая молоденькая, белокурая Соня с удивительно приветливыми дымчатыми глазами и тоненькой, словно выточенной фигуркой. Чернояров не раз замечал на себе ее внимательные взгляды, но не придавал им значения, и только теперь, когда они в пустом зале остались вдвоем, уловил и в голосе и в ее сияющих глазах особенное, теплое и душевное отношение к себе. Они перебрасывались ничего не значащими фразами, но из столовой вышли вместе.
Ночь была безлунная, тихая, напоенная запахами ранней весны. По-прежнему продолжая говорить о пустяках, они пошли в парк и присели на скамью в пустынной аллее. От близости молодой привлекательной девушки у него туманилось в голове. Он обнял ее плечи и почувствовал, как, словно в ознобе, она вздрогнула и доверчиво прижалась к нему. В густой темноте мягко шуршали ветви, чуть слышно шелестели волны недалекой реки, изредка вскрикивали какие-то птицы.
Почти до рассвета просидели они на скамье, ничего не говоря и только чувствуя друг друга. С этой ночи Соня каждый вечер ждала, когда освободится Чернояров, и они уходили или в тот же парк, или к нему на квартиру.
Так прошло полгода. О женитьбе, как и раньше, Чернояров не думал, дорожа личной свободой и считая глупцами всех, кто заводил семью раньше тридцати лет. Отношения же с Соней он поддерживал потому, что, во-первых, она была молода и привлекательна, а во-вторых, потому, что не в пример другим прежним знакомым девушкам она была мягка характером, послушна и не требовательна. Соня без тени упрека могла часами ожидать, когда он освободится от служебных дел, нисколько не обижаться, когда он, огорченный чем-либо, целый вечер был мрачен и молчалив, терпеливо слушать его бесконечные рассказы об одних и тех же ротных делах и с удивительным тактом улавливать даже малейшую перемену в его настроении. Все эти полгода близости с Соней Чернояров чувствовал себя особенно хорошо и спокойно. Ничего другого он не желал и не хотел желать.
Гром грянул внезапно. В один из особенно спокойных субботних вечеров, когда Чернояров раньше обычного ушел из роты и, взяв бутылку вина, настроился на тихое веселье, Соня, опустив голову и как-то сразу став маленькой и неприятно робкой, призналась, что она беременна. Весть эта была так неожиданна, что Чернояров несколько минут находился в полнейшей растерянности.
— Может, может что-нибудь сделать еще не поздно? — овладев наконец собой, невнятно пробормотал он.
— Я ходила, спрашивала, говорят: поздно, — едва слышно ответила Соня, не поднимая головы и сутуля худенькие плечи.
От этих слов и, особенно, от униженного вида Сони Черноярову стало холодно и неуютно. Одна за другой стремительно мелькали тревожные мысли. Освободиться, освободиться любыми путями. Но как это сделать? Об их связи знают в полку все. Отправить куда-нибудь Соню, перевезти в другое место. Но куда? Родственников у нее нет, специальности хорошей тоже. Куда она пойдет с ребенком на руках и что будет делать? А беременность ее скоро откроется, и все будут говорить, что виновник этого он, Чернояров. Да и одними разговорами дело не обойдется. Совсем недавно подобное случилось с командиром второй роты, который увлек девушку из библиотеки, а потом, узнав о беременности, порвал с нею. Все тогда обрушились на него, да и сам Чернояров не меньше других возмущался и негодовал. Кончилось все тем, что командир второй роты стал посмешищем всего полка, а затем был снят с роты и оказался в должности командира хозяйственного взвода. От мысли, что с ним может случиться подобное, Черноярова бросало то в жар, то в холод.
— Ну что ж, — с неестественной бодростью сказал он, — будем жить, вместе будем жить.
Соня вся вспыхнула от радости, прильнула к нему.
А через неделю состоялась свадьба. Соня сияла, с удивительной ловкостью угощала гостей и обдавала Черноярова восторженными взглядами. Сам же Чернояров притворно бодрился, пил одну рюмку за другой и часа через два окончательно опьянел. Он не помнил, как закончился вечер, как очутился в постели, и только утром, увидев рядом с собой безмятежно спавшую Соню, понял, что в его жизни произошел крутой перелом. Грустно, неловко и почему-то обидно стало ему. Вспомнились давние мечты о женитьбе на красивой, образованной, всесторонне развитой девушке. И вот теперь рядом с ним жена, его жена… Официантка столовой. Сейчас она с ним, а завтра опять пойдет на работу, наденет свои беленький фартук, повяжет беленькую косынку и будет улыбаться всем, кто сядет за ее столики. От этих мыслей сразу исчез весь хмель. Чернояров поднялся, выпил кружку холодной воды и, присев на постель, всмотрелся в розовое от сна лицо Сони. Оно было так спокойно и так довольно, что он не мог долго смотреть на него, отвернулся, потом оделся и ушел в парк.
Был хмурый, придавленный тучами осенний день. Холодный ветер безжалостно гонял по дорожкам почернелые листья. Та самая скамейка, на которой впервые сидели они с Соней, была сплошь обрызгана грязью. Взглянув на нее, Чернояров опустил голову и, словно убегая от опасности, поспешно удалился из парка.
Когда он вошел в свою комнату, Соня уже все убрала и сама чистенькая, веселая, с сияющими счастливыми глазами бросилась к нему, ни о чем не спрашивая и помогая снять шинель. Такой веселой, сияющей, покорной и ни о чем не спрашивающей осталась она на всю жизнь.
Чернояров в тот же день потребовал, чтобы она уволилась с работы, и Соня без единого возражения взяла расчет. Часто возвращался он домой хмурый, мрачный, обозленный неудачами и промахами, а она, все так же ни о чем не спрашивая, бесшумной тенью мелькала по комнате, взглядом и всем своим существом ловя каждое его желание. Уже через месяц эта безропотная покорность начала тяготить Черноярова. С женой ему становилось все тоскливее и скучнее, и он частенько без особых причин задерживался в роте, заходил то в клуб, то к кому-нибудь из сослуживцев и домой возвращался поздно ночью.
Рождение ребенка не только не приблизило Черноярова к Соне, а наоборот отдалило. Девочка была на редкость неспокойная, кричала по ночам. Чтобы не тревожить мужа, Соня уходила с ней на кухню и просиживала там до утра. Отношения немного изменились, когда девочка подросла и стала забавной. У нее были такие же, как у Черноярова, большие светлые глаза и выпуклый лоб. Она смешно картавила, забиралась к отцу на колени, крохотными пальчиками теребила его волосы, бесконечно задавая самые неожиданные вопросы Они целыми вечерами шумно играли, а Соня, делая что-либо по хозяйству, молча смотрела на них, улыбалась и была счастлива.
Может, семейная жизнь и вошла бы в нормальную колею, но грянула война, и Чернояров вместе с полком уехал на фронт. Через каждые два-три дня получал он от Сони длинные, чистенькие, с прямыми и ровными буковками письма, торопливо читал их, никогда не перечитывая, сам же отвечал на ее письма редко, с трудом набирая подходящие мысли на одну-полторы странички. Правда, первое время он часто думал о дочке, но, с назначением командиром батальона, а затем полка служебные дела как-то затуманили ее образ и вспоминал он ее уже редко, без прежней острой тоски.
И вот сейчас, разморенный физической работой и сытным обедом, убаюканный коротким душевным покоем, он совсем в ином свете увидал свою жену. Как наяву вставало перед ним ее всегда приветливое, нежное лицо, слышался мягкий, ласкающий голос, шуршали ее тихие, неторопливые шаги. Он вспомнил о трудностях жизни в тылу и впервые подумал, как нелегко приходится Соне с теми семьюстами рублей, которые получает она по его аттестату. На эти деньги в сущности ничего нельзя было купить. И ни в одном письме Соня не жаловалась, не роптала, даже затаенно не выдавала всего, что приходится ей переживать. Только теперь до него со всей ясностью дошло, почему она робко и вскользь сообщила ему, что пошла работать в столовую детского сада, куда устроила она и дочку. При мысли, что его маленькая дочка не имеет многого, что должен получать ребенок, остро защемило в груди. С этим ощущением и непрерывно набегавшими мыслями о жене и дочке проработал он вторую половину дня и, возвратясь в батальон, сразу же после доклада Бондарю сел писать письмо. Он не заметил даже, как мелким, совсем не своим убористым почерком исписал целых восемь страниц, и когда все перечитал, почувствовал удивительную легкость. И во сне он видел Соню — тихую сияющую, с нежным, ласкающим блеском в глазах; видел дочку Танюшу — все такую же, как и два с лишним года назад, с белыми, смешными кудряшками, неугомонную и говорливую; видел и самого себя вместе с ними, но какого-то совсем другого, без теперешних морщин на лице, совсем спокойного и так же, как и они, радостного, веселого, без тревожных мыслей и недовольства.
С этими совсем новыми, окрепшими во сне чувствами встал он утром и начал приводить в порядок давно не чищеное обмундирование. Бензином и щеткой убирая пятна, он радовался, что сразу же, придя в роту, отказался от ординарца и начал делать сам все, к чему раньше даже и не притрагивался.
За этим занятием и застал его нырнувший в щель Дробышев. Возбужденно веселый, хриплым после ночного дежурства голосом он одним духом доложил, что за ночь происшествий в роте не было, что противник огня не вел, а только до самого утра светил ракетами и копал траншеи.
— Все копает, значит? — добродушно переспросил Чернояров, с удовольствием глядя на раскрасневшееся курносое лицо лейтенанта.
— Так точно, товарищ старший лейтенант, — подтвердил Дробышев, — всю землю изрыл.
Из троих взводных командиров пулеметной роты Дробышев был самым молодым, но Чернояров больше всех доверял ему и всегда с радостью говорил с ним. В свои двадцать лет Дробышев был по-юношески непосредственен и прост, а полгода пребывания на фронте, тяжелые бои минувшей зимы и ранение дали ему ту необходимую закалку, которая делает человека привычным к самым резким неожиданностям. Сочетание этих двух качеств и дало Дробышеву легкость и непринужденность в обращении и с подчиненными и с начальниками. Он знал историю крушения Черноярова, но воспринимал ее не как Бондарь и другие офицеры с сожалением или с презрением к Черноярову, а просто и обыденно, как ошибку человека, который рано или поздно может исправиться. Поэтому Черноярову так легко и просто было разговаривать с ним. Он с первой же встречи отметил, что Дробышев без малейшего смущения назвал его старшим лейтенантом и это, тогда болезненное для него звание, нисколько не обидело Черноярова. Даже наоборот, ему стало как-то свободнее, словно он расстегнул тесный ворот надоевшей гимнастерки.
И еще одно сразу же привлекло внимание Черноярова к Дробышеву. Из рассказов тех, кто раньше служил в пулеметной роте, Чернояров знал, что был во взводе Дробышева злой, язвительный солдат Чалый, который буквально изводил молоденького лейтенанта насмешками, каверзными вопросами и оскорбительным недоверием. Узнав, что Дробышев и Чалый вернулись из госпиталя, Чернояров решил Чалого определить в другой взвод. Но к его удивлению, Дробышев с яростной настойчивостью потребовал, чтобы Чалого оставили в его взводе и не наводчиком пулемета, кем он был раньше, а назначили командиром расчета с присвоением ему звания сержанта. Он с юношеским жаром доказывал, что Чалый и пулеметчик прекрасный, и человек замечательный, что, став командиром, он сделает свой расчет лучшим и не дрогнет в самом тяжелом бою. Под напором Дробышева Чернояров впервые в своей командирской деятельности отказался от своего прежнего решения и сделал так, как просил подчиненный. И теперь он нисколько не раскаивался в этом. Чалый действительно толково командовал своими пулеметчиками и, хоть серьезных боев еще не было, всегда держался как многоопытный фронтовик.
— Значит, все роет и роет, — зная, что Дробышев устал и задерживать его нехорошо, но внутренне не желая отпускать его, проговорил Чернояров. — Ну что же, и мы не меньше копаем, а, пожалуй, и побольше. Что это у вас? — увидев в руке Дробышева толстую книгу, спросил он.
— Томик Куприна достал в первом батальоне. Замечательная вещь! — воскликнул Дробышев. — Я давно мечтал прочитать, да как-то не попадалось больших сборников, все брошюрки тоненькие. А тут смотрите: и «Поединок», и «Гранатовый браслет», и «Олеся», и рассказов штук пятьдесят. Хотите почитать, товарищ старший лейтенант, я еще «Войну и мир» не дочитал.
— Да некогда читать-то, — смущенно пробормотал Чернояров, вспомнив, что уже много лет, кроме уставов, наставлений и различных пособий, никаких книг не читал. — Дела все, работа.
— Да в перерывах, знаете, затишье когда. А у нас теперь все время затишье, бои-то неизвестно когда начнутся, — пылко убеждал Дробышев. — В этой книге такие вещи, такие вещи… Только читать начнете, не оторветесь. Просто дух захватывает, как будто на крыльях взлетаешь.
— Если книга свободна, давайте, — желая доставить Дробышеву хоть маленькое удовольствие, согласился Чернояров. — Почитаю, если время будет. Но одно условие: если книга потребуется, скажите, сразу же отдам. А теперь идите-ка спать. До обеда.
После ухода Дробышева Чернояров дочистил костюм, протер и смазал сапоги и, зная, что завтрак будет еще не скоро, раскрыл взятую у Дробышева книгу. Он не посмотрел названия того, что начал читать, но с первых же строк почувствовал вдруг какое-то удивительное наслаждение. Обычными, так хорошо и давно знакомыми словами описывалось ненастье на черноморском побережье, потом резкая перемена погоды и подготовка княгини Веры Николаевны к именинам. Все было просто, обыденно, буднично, но Черноярова охватила праздничная радость. Он физически ощутимо чувствовал и нудный моросящий дождик, и прозрачные, насквозь пронизанные солнцем морские дали, и тихую радость счастливой именинницы.
Он оторвался от чтения только тогда, когда связной принес завтрак, а затем вновь жадно забегал глазами по убористым строчкам. Он не помнил, сколько прошло времени, забыл, где находится, весь уйдя в переживания Веры Николаевны и влюбленного в нее жалкого и несчастного Желткова. Когда же дочитал последнюю строчку и, лихорадочно перелистав книгу, увидел название «Гранатовый браслет», невыразимое грустно-тоскливое и тихое, безмятежно-радостное состояние овладело им. Он сидел на соломенном тюфяке, опустив голову на руку и чувствовал, что еще мгновение — и расплачется. Подобные чувства были столь новы и неожиданны для него, что он не пошел в третий взвод, куда собирался пойти, лег на тюфяк и до обеда читал один рассказ за другим.
С этого дня, словно переродясь и найдя самое важное в жизни, Чернояров не упускал ни одной свободной минуты, чтобы не почитать. Как и все люди, поздно пристрастившиеся к чтению, он глотал подряд все, что попадалось, с детской непосредственностью радовался и негодовал при резких поворотах в судьбе героев, совершенно не обращал внимания на язык и стиль написанного, весь уйдя в ту жизнь и события, которые составляли содержание читаемого. Его внезапно вспыхнувшая жадность к чтению перебарывалась теперь только одним — письмами к жене и дочке, которые писал он теперь через два-три дня.
* * *
Один на один Лесовых редко встречался с Чернояровым, но из шутливых, едких, сочувственных или осуждающих рассказов, которые о бывшем командире полка ходили между офицерами, знал о нем многое. Первое, что особенно горячо обсуждалось среди офицеров полка, было то, что сразу же, придя в роту, Чернояров отказался от ординарца и все мелкие бытовые работы делал сам, не позволяя никому даже вырыть для себя щель. Одни офицеры этот поступок одобряли, как свойственное именно советскому офицеру благородное качество; другие, наоборот, яростно утверждали, что Чернояров просто-напросто фиглярничает, пытается своим внешним спартанством обмануть других людей и показать, как глубоко осознал свои недавние трюкачества и честно взялся за исправление своих недостатков.
Второе, что вызвало так же много разговоров в полку, был не менее резкий отказ Черноярова от водки. В разных вариантах и с разными подробностями рассказывали, что Чернояров так цыкнул на старшину своей роты, когда тот, узнав, что Чернояров вернул посланную ему норму водки, сам лично принес целых три порции.
И еще немало почти легенд ходило в полку и о прежней, и о теперешней жизни Черноярова. Многое было явным вздором, многое преувеличением и неизбежным в таких случаях злорадством, но многое было и правдой, в какой-то мере отражающей сложную натуру Черноярова. Лесовых вначале не поверил, что Чернояров сам, вместе с солдатами, сбросив гимнастерку или засучив рукава, копает траншеи, рубит и пилит лес, строит дзоты и блиндажи. Многие командиры рот и даже взводов обычно организовывали работы и руководили ими, а сами редко брались за лопату, за топор, за кирку-мотыгу и ломик. Тем более, зная прошлое, трудно было ожидать этого от Черноярова. Его стихией, как считал Лесовых, было властное командование, управление другими людьми.
Однажды в разгар окопных работ Лесовых ночью пришел во второй батальон. В бледном свете низкой луны увидел он бывшего командира полка вместе с группой пулеметчиков. Потный, запыленный, без фуражки, в расстегнутой и распоясанной гимнастерке, Чернояров долбил киркой-мотыгой землю. Позади него петляла глубоченная траншея. Через ночь Лесовых снова увидел Черноярова. Огромный, казавшийся в темноте гигантом, он держал на плече комель толстого бревна, другой конец которого, сгибаясь под тяжестью, несли двое пулеметчиков. Поэтому через неделю Лесовых нисколько не удивился, когда узнал, что вторая пулеметная рота первой в полку закончила основные оборонительные работы и построила самые лучшие и самые прочные дзоты для своих пулеметов.
Все это, несомненно, говорило о том, что в Черноярове произошел резкий перелом и что свое обещание он выполняет. Это искренне радовало Лесовых. Но вчера донеслись слухи, которые всерьез встревожили его. Оказывается, Чернояров, тот самый Чернояров, который, командуя батальоном, а затем полком, не мог и минуты усидеть без дела, теперь целыми днями не выходил из своей прикрытой плащ-палаткой щели, которую он предпочел прочной и просторной землянке. Только в случаях крайней необходимости — во время перестрелок, для проверки расчетов и по вызову старших начальников — оставлял он свое убежище. Чем занимался он, человек неугомонной, бурлящей энергии в тесном уединении? Как мог он, привыкший постоянно кипеть среди множества людей, дел и событий, по многу часов подряд сидеть в одиночестве? Какие мысли, думы и переживания заставили его так резко измениться? Первую реакцию своего падения он пережил внешне стойко и спокойно, начав свою жизнь по-новому. Неужели перелом не свершился и в Черноярове все еще идет мучительная борьба?
Эти мысли настолько взволновали Лесовых, что он бросил все работы и пошел во вторую пулеметную роту.
Действительно, в разгар чудесного весеннего дня Чернояров с самого утра не выходил из своей щели. Когда, громко окликнув его, в щель спустился Лесовых, он сидел без гимнастерки, с взъерошенным и спутанным чубом, с выражением явного возбуждения на заметно похудевшем лице.
— Ничего, ничего, — хотел Лесовых остановить его поспешное движение одеться. — Я на минутку, проходил мимо и решил заглянуть к вам.
Чернояров все же успел ловким рывком натянуть на себя гимнастерку и придать безразличное выражение своему лицу.
— Присаживайтесь, — проговорил он, указывая на прикрытый соломой земляной выступ, — тесновато здесь, зато удобно.
Лесовых хотел спросить, почему он ютится в этой норе, когда в роте понастроено вполне достаточно удобных блиндажей и землянок, но не решился, стараясь не смутить Черноярова и не усилить его уже и так заметное отчуждение.
— Как, Михаил Михайлович, с обороной, закончили оборудование дзотов? — спросил он и сам почувствовал ложность своего вопроса.
— Да, — равнодушно ответил Чернояров, — на основных позициях дзоты поставлены, блиндажи построены. Сейчас идет подготовка запасных позиций.
Лесовых еще раньше заметил, что в последнее время Чернояров старательно избегал говорить «я», «моя рота», употребляя безличные выражения. Особенно заметно было это сейчас. Видимо, чтобы не молчать, он рассказывал, чем занимается рота, как организованы дежурства у пулеметов и ночные работы, что он еще намечает сделать по усилению обороны и по подготовке пулеметчиков. Все это были важные и нужные сведения, но в этом разговоре они не имели никакого значения, что хорошо понимали и Лесовых и Чернояров. Они сидели почти рядом, лицом к лицу и, как опытные бойцы перед решительной схваткой, незаметно и осторожно изучали друг друга. Чернояров отлично понимал, что приход заместителя командира полка по политической части не случаен и вызван если не желанием узнать его подлинные мысли и настроения, то по меньшей мере выяснить и определить, как он чувствует себя в своем новом положении. Это раздражало Черноярова и возвращало его в то прежнее отчужденно-мрачное состояние, которое в последнее время он почти преодолел в себе. И Лесовых чувствовал, что начал разговор совсем неудачно, не так, как нужно было бы, чтобы вызвать расположение и откровенность Черноярова.
— Что слышно о противнике? — спросил вдруг Чернояров, меняя тему разговора.
— Особенных новостей нет. Все то же: укрепляет оборону, подтягивает войска, пытается вести разведку. В самой Германии продолжается тотальная мобилизация, призваны последние контингенты годных к военной службе мужчин. Ну и самое главное — идет усиленный выпуск новых танков. Видимо, скоро нам с ними придется столкнуться.
— Да, столкнуться придется, — с какой-то странной задумчивостью проговорил Чернояров. — Люди у нас готовы. Оборона тоже готова. Вот только артиллерии маловато, но, очевидно, подбросят.
— Конечно, подбросят, — согласился Лесовых, все острее чувствуя никчемность разговора и свое бессилие вызвать Черноярова на откровенность. С любым человеком в полку говорил бы он совсем по-другому и сумел бы найти и нужные мысли, и подходящие слова. Сейчас же, хоть и заранее он многое обдумал и передумал, все шло совсем не так, как он предполагал. Чернояров явно тяготился его приходом, очевидно, сам хотел говорить более свободно и легко, но не мог. Позади было слишком много такого, что мешало их откровенному сближению. Перебрасываясь ничего не значащими словами, они оба понимали нелепость положения, оба хотели, но не могли выйти из этого положения. Поболтав еще несколько минут, Лесовых попрощался с Чернояровым и, досадуя на самого себя, пошел в штаб полка. По пути он сердито отчитал за неряшливость встретившегося сержанта, побранил за плохую маскировку зенитных пулеметчиков и в землянку командира полка вошел мрачный, с сурово-озабоченным лицом.
— Сергей Иванович, — заговорил он, присаживаясь к столу напротив Поветкина, — поднять надо бы Черноярова.
— Как это поднять? — отрываясь от бумаг, хмуро спросил Поветкин.
— Отметить, что ли, приказом, поощрить. Он же первым и лучше всех в полку дзоты и блиндажи оборудовал. И вообще вторая пулеметная рота стала одной из лучших.
— И что же в этом особенного?
— То, что это несомненная заслуга Черноярова.
— И в чем же эта заслуга? — еще насмешливее спросил Поветкин.
— Как в чем? — рассердился Лесовых. — В том, что у него дела лучше, чем в других ротах.
— А как же иначе? Чернояров же не лейтенант новоиспеченный. Он и батальоном, и полком командовал. Чему же удивляться, если он роту поднял? Впрочем, вторая пулеметная никогда не была в числе худших.
— Да не о том, не о том я говорю, понимаешь. Я имею в виду самого Черноярова, как человека. Он много пережил, много перечувствовал, у него произошел перелом, и этот перелом нужно закрепить.
— Приказом отметить, благодарность вынести?
— Вот именно!
— Всему полку объявить, что бывший командир полка успешно справился с обязанностями командира роты. Так, что ли? — не сводя с рассерженного лица Лесовых насмешливого взгляда, неторопливо говорил Поветкин.
— Что ты утрируешь? — вспылил Лесовых. — Я говорю об отношении к человеку, о человечном отношении.
— О человечном? — сузив блеснувшие холодом глаза, сказал Поветкин. — А разве к Черноярову не человечно отнеслись? Мне кажется, Андрей, — мягче продолжал он, — слишком много нянчишься ты с Чернояровым. Я совсем не за то, чтобы бить его без конца, но и не за нянчание с ним. Он старше нас с тобой и во многом опытнее. Разобраться в ошибках ему помогли, дали возможность исправиться. Теперь все зависит только от него. Хочет быть человеком — пусть берется за ум. И он, мне кажется, уже взялся и всерьез. А у нас с тобой и без его переживаний дел хватает. Понимаешь ли ты всю опасность нашего положения? — затягиваясь дымом папиросы, понизил он голос. — Мы обороняем трехкилометровый участок фронта. И не где-нибудь в лесах и болотах, а на самом ответственном танкоопасном направлении. Противник, как ты знаешь, непрерывно подтягивает танки. Это явная подготовка к наступлению. А если он перейдет в наступление, то нам придется столкнуться не с пятью, не с десятью, а с сотней, а может, и больше танков. И не с какими-нибудь танкетками, а с «тиграми» и «пантерами». Что это за штучки, мы теперь хорошо знаем. А чем бороться с ними? Конечно, мы всех своих людей научили владеть гранатами, бутылками, но это лишь вспомогательное средство борьбы с танками, главная же гроза танков — артиллерия! А сколько у нас с тобой артиллерии? Двенадцать сорокапяток, четыре полковых семидесятишестимиллиметровки и четыре приданных пушки ИПТАПа[1]. Но сорокапятки против «тигров» и «пантер» хлопушки. Полковые семидесятишестимиллиметровки — тоже… Остаются всего-навсего четыре пушки, способные всерьез бить танки. Четыре на три километра фронта! Вот тебе арифметика. Если на эти три километра противник бросит лишь полсотни танков, а это самое меньшее при большом наступлении, то нашим пушкам и пикнуть не дадут.
— А командир дивизии? — ошеломленный столь простым и страшным подсчетам Поветкина, проговорил Лесовых.
— А что командир дивизии? У него у самого ничего нет. Получил ИПТАП на усиление и нам, стрелковым полкам, роздал. А нам не четыре пушки на полк нужно, а хотя бы по четыре на каждый километр. И то кисло придется, если противник нанесет здесь главный удар. А он, по всему видать, нанесет и в самое ближайшее время. Сейчас еще грязь, балки водой залиты, танкам трудно действовать, а подсохнет — и начнется. Вот поэтому сейчас наша главная задача — подготовиться к борьбе с танками. А все остальное — второстепенное.
Глава двадцать вторая
Да, несомненно, завод все увереннее входил в ритм новой программы. Пуск в эксплуатацию восстановленной литейной избавил, наконец, основные цехи от прихотей поставщиков. Еще недельки две-три, и можно будет создать хоть маленький резерв заготовок. И тогда исчезнет навсегда эта изнуряющая всех лихорадочность в работе механических цехов.
Яковлев отодвинул бумаги, резким взмахом руки взъерошил волосы и подошел к окну. На заводском дворе буйно гуляла весна. Недавно черные от копоти куцые деревца вдоль забора вырядились в нежно-зеленый, девственно-чистый наряд. Меж дорожек, еще не примятая людьми, упрямо щетинилась нежная травка. Лучи яркого солнца, сбоку падая на испятнанные маскировкой стены цеховых корпусов, словно омолодили их. Даже многострадальная литейка, годами копившая на себе золу и гарь, казалось, принарядилась.
— Блаженствуешь? Весной наслаждаешься? — врываясь к Яковлеву, пробасил Полунин.
— Упиваюсь, а не только наслаждаюсь, — заметив, что директор завода был в явно воинственном настроении, задиристо отозвался Яковлев.
— Давай, давай, благодушничай, когда на заводе все к чертям летит, — не сбавлял напористого тона Полунин.
— Солнце вижу, а чертей что-то незаметно, — искоса взглянув на распаленное гневом длинное с отвислым подбородком лицо Полунина, насмешливо сказал Яковлев. — Они, может, по цехам орудуют, где света поменьше?
— В ОТК засели, — бросив свое прочно сбитое тело на застонавший стул, буркнул Полунин. — В отделе технического контроля, понятно? — во всю мощь широченной груди ухнул он. — И не черти, собственно, а всего лишь чертило, да и тот на одной ноге.
— С одной ногой, и весь завод разгромил?
— Брось балаганничать, — устало отмахнулся Полунин, — тебе дело говорят, а ты…
— А ты говори толком, что случилось.
— А то, что этот твой протеже, армейский капитан Лужко, взвился в высь поднебесную и всех нас в болото… Да, да, — заметив усмешку Яковлева, воскликнул Полунин, — именно в болото… Да знай я про такое, — с яростью давнул он посинелыми кулачищами стол, — и одной его ноге не бывать бы на заводе. Все ты, ты, твой либерализм, нет, не либерализм, а цацканье с кем ни попало. Ах, он фронтовик! Ах, инвалид! Ах, в техникуме учился! Ах, трудно ему без дела!
— Семен Федотович, — сузив гневно блеснувшие глаза, вполголоса сказал Яковлев, — это уже не балаганство, а барское пренебрежение. Мы обязаны помогать фронтовикам, да и не только фронтовикам.
— Вот и допомогались!
— Тебе что, стакан воды подать?
— А я и так два графина осушил.
— Так в чем же дело, конкретно?
— Эх, — с отчаянием махнул рукой Полунин. — Никогда в жизни не прощу себе приема на работу этого Лужко.
— Может, все-таки кончим истерические вопли и поговорим серьезно, — не выдержав, резко сказал Яковлев.
— Да ты не обижайся, — крутнул головой Полунин. — Я просто сам не свой. Ты понимаешь, — понизив голос, придвинулся он вплотную к Яковлеву, — мы, весь коллектив завода, каждую свою кровиночку отдаем, чтобы выполнить план, расширить производство, увеличить выпуск продукции. Не тебе рассказывать! Мы же только за последние три месяца в одиннадцать раз увеличили выпуск продукции. В одиннадцать!.. И это на месте пустых цехов эвакуированного завода. Это же труд всего заводского коллектива. Но вот является, да не просто является, — в ярости прокричал Полунин, — а нами самими за уши вытаскивается, прости за грубость, отставной капитанишка и — работа всего коллектива насмарку.
Полунин дрожащей рукой дотянулся до графина, налил в стакан воды и залпом выпил.
— Ведь он же отчудил такое, просто уму непостижимо. Только приступил к работе, целый месяц, — презрительно скривил губы Полунин, — изучал инструкции, нормативы, допуска, техническую документацию. И доизучался! В первом цехе из двухсот валиков — сто сорок в брак загнал и во втором не признал годным ни одного! Это же чудовищно! Иди сам посмотри. Я не могу с ним разговаривать! Это черт знает что за человек!
В тот вечер, когда по просьбе Анны Козыревой Яковлев пришел на квартиру Полозовых и там познакомился с Лужко, хмурый украинец понравился ему. Он почти ничего не говорил, с явным недовольством посматривал на парторга, но в его настороженных глазах Яковлев видел затаенную боль и недовольство теперешней жизнью. Это могло зависеть от разных причин. Но когда после предложения пойти работать на завод едва уловимо дрогнули брови и губы и лежавшие на колене пальцы правой руки Лужко, Яковлев понял, как смертельно истосковался по делу этот выбитый войною из колеи человек. Он не благодарил, даже не ответил прямо, пойдет или не пойдет работать, но Яковлев уже знал, что работать он будет страстно и самозабвенно. И когда на другой день Лужко, все такой же неразговорчивый и внешне замкнутый, попросил дать ему недельки две на изучение своих обязанностей, Яковлев окончательно убедился, что на завод поступил толковый работник. Поэтому рассказ Полунина о непреклонной требовательности Лужко обрадовал Яковлева. Обрадовал и в то же время насторожил. Лужко человек военный, а военные порядки не то, что заводские все-таки. Не проявил ли он чрезмерную придирчивость? Не подошел ли к приему готовой продукции формально, без учета особенностей и условий заводского производства? Конечно, ошибки у каждого бывают, а тем более у нового работника. Но почему же Лужко забраковал все валики второго цеха и три четверти первого? Неужели у нас так плохо организовано производство? Этот последний вопрос болезненно уколол Яковлева. Он знал каждого рабочего, каждый станок и был непоколебимо уверен, что в последнее время работа идет нормально, даже хорошо, без срывов и порчи продукции. Мысленно Яковлев вспомнил весь этот минувший год, за который из пустых растерзанных цехов был заново создан большой, самый настоящий завод, вспомнил и подготовку рабочих, — этих пареньков, девчонок, женщин, — и неожиданное раздражение, обида и даже злость охватили его.
Когда Полунин и Яковлев подошли к складу готовой продукции, Лужко в военной гимнастерке без погон и петлиц сидел на стуле, вытянув вперед единственную ногу. Справа от него тускло поблескивала высокая горка валиков, а слева совсем маленькая кучка.
«Справа брак, а слева годные», — определил Яковлев, и сразу же весь вид Лужко стал ему неприятен.
«Хоть бы приподнял голову, что ли, как-никак директор завода идет», — с глухим раздражением подумал он, глядя как Лужко, словно никого не желая замечать, измеряет очередной валик.
— Вот полюбуйся! — воскликнул Полунин, показывая на большую горку деталей. — Все обратно, на переплавку.
Лужко отложил валик, схватил костыль и встал. Округлое, курносое лицо его порозовело, правая бровь поднялась, и на лбу вспухли упрямые морщины.
— Товарищ директор, — глухо заговорил он, глядя прямо на Полунина, — вы же сами проверяли и видели, что допуска не выдержаны, что большинство валиков не соответствуют нормативам.
— Да какое несоответствие! — горячась, вскрикнул Полунин. — Не больше полмиллиметра. Это же… Это же…
От гнева Полунин запнулся, багрово покраснел, шагнул к Лужко, видимо намереваясь убеждать его, но тут же остановился и презрительно махнул рукой.
— Петр Николаевич, а вы уверены, что эти валики не могут работать? — стараясь казаться бесстрастным и спокойным, спросил Яковлев.
— Работать будут, но очень мало, не столько, на сколько они рассчитаны, — видимо, тоже волнуясь, ответил Лужко.
— Вот, — воскликнул Полунин, — сам подтверждает, что работать будут, и сам же бракует. Да поймите вы, товарищ Лужко, война же, война. Каждая деталька дорога.
— Вот поэтому-то и нельзя выпускать с завода такие детали, — хмурясь и о чем-то напряженно думая, сказал Лужко. — На фронт все должно поступать только отличного качества.
— Вы что, считаете, если валик на полмиллиметра тоньше, то остановится танк? — язвительно усмехнулся Полунин.
Лужко резко повернулся к нему, скрипнул костылем и металлически звонко отчеканил:
— Остановится! И в самое опасное время!
— Чепуха, — отмахнулся Полунин.
— Чепуха, — побагровев до синевы, выдохнул Лужко. — Че-пу-ха, — с нескрываемой злостью повторил он. — Из-за такой чепухи наши люди понапрасну гибнут. Я сам видел под Гомелем в сорок первом. Дали нам на поддержку пять танков. В то время пять танков — огромная сила. Бросились мы в контратаку. Танки впереди, мы за ними. Как сейчас вижу: бегу я за правым танком, а он жмет, аж пыль фонтанами взлетает. И вдруг — стоп! Замер танк и ни с места. Мы немцев из окопов вышибли, высоту заняли, а танк так и не двинулся. Экипаж в трусости обвинили, арестовали, хотели расстрелять на месте. Хорошо, что комдив у нас был спокойный. Приказал разобраться. И что же оказалось? — протягивая валик Полунину, прошептал Лужко. — Шплинт, паршивый шплинтишко был на заводе поставлен с трещиной.
Шумно дыша, Лужко рукавом гимнастерки вытер распаленное лицо и, помолчав, тихо сказал Полунину:
— Не чепуха это, а небрежность, которая может стоить немало крови.
Слушая Лужко, Яковлев с каждым его словом чувствовал, как совсем неожиданно нарастает тревожное волнение. Он отчетливо представил себя на месте танкистов, которые в самый ответственный момент боя не смогли сдвинуть машину с места, представил, что переживали они тогда, что думали о тех, кто поставил шплинт с трещиной. А сколько валиков и других деталей выпустил завод до прихода в ОТК Лужко. Тысячи, сотни тысяч! И может, сейчас где-то под Ленинградом или под Курском стоит танк, у которого отказал работать такой вот валик. Хорошо еще, если танк просто стоит, а если он попал под огонь и не может двинуться…
От этих мыслей у Яковлева похолодело в груди. Он со злостью взглянул на Полунина, хотел резко оборвать его, но сдержался и сухо проговорил:
— Петр Николаевич прав. Нам, Семен Федотович, нужно немедленно принять меры.
— Что значит меры? Что значит немедленно? — еще ожесточеннее вспылил Полунин. — Все в норме! Никаких изменений!.. В конце концов я директор и приказываю: все валики с допуском не более полмиллиметра передать на склад готовой продукции!
— Тогда я прошу уволить меня, — побледнев, хрипло проговорил Лужко.
— И скатертью дорожка! — презрительно бросил Полунин и, грузно переваливаясь, пошел в литейную.
* * *
Уже два года шла война, но Вера никак не могла привыкнуть, что над Москвой искристым куполом висит по ночам звездное небо, а вокруг густеет зыбкая полутьма, с робкими проблесками замаскированного света. Каждую ночь ей казалось, что вот сейчас, сию минуту вспыхнут уличные фонари, радостно озарятся окна домов, брызнут яркими полосами фары автомобилей, трамваев, троллейбусов, и Москва мгновенно преобразится, по-прежнему сияя неисчислимым множеством огней.
В эту ночь Вера впервые не ожидала чуда и радовалась спасительной темноте. Она сидела на скамеечке против заводоуправления и, не отводя глаз, смотрела на темные окна парткома. Там третий час шло заседание. На нем были не только члены парткома, но и начальники цехов, мастера, многие рабочие. Там сейчас обсуждали Лужко.
Она не знала толком, что случилось, только по обрывкам разговоров уловила, что Петро забраковал продукцию двух цехов, что Полунин уволил его с работы и что по этому поводу собрано расширенное заседание партийного комитета завода. В первый момент, узнав об этом, Вера обрадовалась настойчивости Петра, но когда выходившие с завода работницы первого механического цеха не ответили на ее приветствие, у нее от обиды и страшного предчувствия навернулись слезы на глазах. Ни на кого не глядя, она торопливо миновала проходную и села на эту уединенную скамеечку. Беспорядочным хаосом громоздились самые невероятные мысли. То казалось ей, что Петро ни в чем не виноват, действовал правильно, и Полунин поступил с ним нечестно. То, вспомнив непоздоровавшихся работниц, она негодовала на Петра, обвиняла его в зазнайстве, так свойственном, как она считала, военным, в технической неграмотности, в непонимании, чем живет завод. Но эти мысли под наплывом жалости к Петру быстро исчезали, и она, не вытирая слез, плакала, представляя, как он стоит сейчас, перед членами парткома — растерянный, беззащитный, оскорбленный. Даже в техникуме он никогда не выступал на собраниях, отмалчивался, когда его критиковали и очень редко вступал в споры с товарищами. Каково ему было сейчас — одному среди совсем незнакомых людей! Как тяжело ему будет, не проработав и месяца, с позором уходить с завода! Он же всеми силами рвался на работу, весь расцвел, словно переродился за этот минувший месяц. Не стал курить по ночам, а утром бывал так весел, что вся квартира дрожала от его неугомонности. И вот все! Ночью он опять будет курить, а утром…
Вера даже не могла думать, что будет завтра утром, когда она пойдет на работу, а он останется дома.
«Пойти уговорить, упросить, — мелькали у нее спасительные мысли. — Самому Полунину рассказать… Ну, ошибся, с кем не бывает. Зачем же сразу увольнять, он исправится. А если исправляться нечего? Если Петя прав?»
Это ободрило ее. Она вытерла слезы, поправила поясок платья, пыталась было улыбнуться, но совсем рядом на дорожке за кустом раздался грубый мужской голос:
— Привык в армии-то: ать, два, ать, два, направо да налево. А у нас не армия, а завод. Правильно Полунин турнул его.
У Веры оборвалось дыхание, сами собой упали вниз руки, еще чаще покатились слезы.
— Да, здорово он нас подкузьмил, здорово, — согласился второй мужской голос. — Жали, жали и всего четверть нормы кое-как выжали.
— Брось, — уверенно возразил первый. — Полунин же приказал все валики принять как годные. Из-за какого-то вояки сверхрьяного завод не будет страдать. Я просто не пойму: о чем думают такие хваты? Неужели он себя умнее всех считает?
«И не глупее, не глупее», — чуть не вскрикнула Вера, вздрагивая от обиды за Петра. Она с трудом удержалась, чтобы не броситься к тем, говорившим, отодвинулась на самый край скамейки и опять посмотрела на окна парткома. Черные прямоугольники непроницаемо темнели на едва озаренном фоне стены. Из цехов чуть слышно доносился монотонный гул машин. В проходной кто-то смеялся притворно и хрипло.
«Да когда же, когда они закончат? — нетерпеливо думала Вера, не отрывая взгляда от окон парткома. — Сколько можно одного человека избивать?»
Прошло еще не меньше часу, как в доме заводоуправления хлопнула выходная дверь и послышалось множество голосов. Вера торопливо вскочила со скамейки, но тут же опять села, отодвинувшись в темноту ближнего куста.
— Ух, черт возьми, — узнала она голос начальника второго механического цеха, — вот это баталия. Всем досталось, а мне, кажется, больше всех.
— Ну, тебе, — возразил голос начальника первого цеха, — именинник-то я был, а тебя так, сторонкой задели.
— Нет, в именинники, кажется, сам Полунин угодил. Он даже пуговицу на рубашке оторвал.
— Ничего, и без пуговицы походит.
Затаив дыхание, Вера ловила слова и с каждым мгновением чувствовала, как теплеет в груди и сами по себе высыхают слезы на щеках. Она хотела подняться, побежать навстречу Петру, но удержалась, стыдясь выходивших из парткома людей. Она чутко прислушивалась, стараясь среди топота ног уловить стук костылей или услышать голос Петра, но у дома все стихло, а его все не было.
«Да где же он, что с ним?» — опять встревожилась Вера и замерла.
Вслед за резким хлопком двери послышался веселый голос Яковлева.
— Ночь-то какая, а, Петр Николаевич?.
— Чудная ночь! — и узнала и не узнала Вера восторженный голос Лужко.
— Что там чудесного, — пробасил Полунин, — ночь как ночь. С этими звездами, с темнотищей.
— Тебе бы ливень сейчас хороший, — еще веселее засмеялся Яковлев, — или грозу, бурю.
— Да и тебя не мешало бы отхлестать побольнее, — недовольно отозвался Полунин и с обычной строгостью добавил: — Ну, ладно, потолковали, и будет. Наговорили столько, что не знаешь, к чему и руки приложить. Ох, капитан, — шумно вздохнул Полунин, — и задал же ты нам работы. Откуда свалился ты на мою голову. Ну, не обижайся, не обижайся, — миролюбиво пробасил он. — Шучу я, а в душе себя кляну и… и тебе говорю спасибо. Ну, иди, иди домой. Жена, небось, все глаза проглядела.
От радости Вера не расслышала, что ответил Петро, не заметила как Полунин и Яковлев остались вдвоем и только, когда уже у самой проходной легко простучали костыли, различила необычно мягкий голос Полунина:
— Слушай-ка, Александр Иванович, надо нам с тобой позаботиться о протезе для него. Трудно ему на костылях-то, сам понимаешь.
«Какой он замечательный», — совсем по-новому подумала Вера о Полунине и бросилась догонять Петра.
Глава двадцать третья
Прочитав шифровку, генерал Федотов задумался. Его вместе с заместителем по политической части и начальником штаба вызывали на совещание в штаб армии. О чем совещание — не было сказано.
Федотов позвонил командиру корпуса, но тот тоже ничего не знал и, видимо, на всякий случай посоветовал:
— Возьмите с собой все материалы о состоянии и положении дивизии.
О своей дивизии Федотов мог доложить без всяких бумаг. Как давно обжитую, до трещинки на потолке изученную квартиру, знал он шестикилометровую полосу обороны, которую занимала дивизия, перекрывая шоссе между Белгородом и Курском. И все же Федотов развернул обширную схему обороны, обложился бумагами и больше трех часов сидел за столом.
Все было знакомо, все известно, все много раз передумано. Стрелковые полки, опоясав холмы, высоты и лощины траншеями, заканчивали последние работы на тыловых позициях; пушки и гаубицы, закрыв самые опасные и важные участки обороны, могли стремительно переместиться на другие места, где для них уже были готовы запасные позиции; расставленные полковыми саперами минные поля защищали подступы к переднему краю и, все расширяясь, уходили в глубь обороны; сложная паутина телефонных линий связала подразделения и части, как пучок нервов сходясь на командном пункте генерала Федотова; склады, обозы, медпункты и медсанбат зарылись в землю, ожидая начала нелегкой работы.
Все было готово к встрече вражеского наступления. Но чем больше думал Федотов о предстоящих боях, тем тревожнее чувствовал себя. Несомненно, подразделения и части сделали все, что было в их силах, и сделают еще не мало. Но достаточно ли этого, чтобы остановить противника? Обстановка с каждым днем угрожающе осложняется. Даже скупые, явно неполные сведения разведки показывают, что противник если не закончил, то вот-вот закончит подготовку большого наступления. Кончается и весеннее распутье, непролазной грязью сковавшее действия войск. Пройдет еще неделя — полторы и дороги подсохнут, ручьи исчезнут, кручи балок и скаты высот проветрятся, и…
Федотов мысленно видел, как от Белгорода, от Борисовки, заполняя все пространство массой людей и машин, развертывается вражеское наступление, накатываясь на оборону его дивизии. Он видел, как вступают в борьбу его артиллерийские и стрелковые полки, как приходит на помощь поддерживающая авиация, как все яростнее и ожесточеннее развертываются бои. До мелочей продуманные варианты ответных действий на удары противника один за другим повторялись в его сознании. Если противник наиболее сильно жмет на левом фланге, то он, Федотов, сосредоточивает туда огонь всей своей артиллерии, вызывает авиацию, подтягивает резервы. Если главный удар обрушится на полк Поветкина, что наиболее вероятно, тогда все силы стягиваются к нему, привлекаются соседние полки, и, если обстановка усложнится, приходят на помощь корпусная и армейская артиллерия, подвижные отряды заграждений, артиллерийские противотанковые резервы.
Да, но… Но пока все это произойдет, выдержат ли стрелковые полки? С немецкой пехотой они, безусловно, справятся. Любая пехотная атака, сколько противник ни брось сил, будет отбита. Но танки… Сможет ли устоять оборона при массовой атаке танков?
Этот мучительный вопрос даже во сне преследовал Федотова. Он отчетливо понимал, что сделал все для создания противотанковой обороны, но сил было явно мало. Не хватало артиллерии и совсем не было танков. Обещанные штабом фронта новые противотанковые снаряды в дивизию еще не поступили. И новых противотанковых пушек ни одной не поступило. Чем бороться с вражескими танками? Атаку даже полсотни танков дивизия хоть с трудом, но выдержит. А если сотня и больше?
С такими тревожными мыслями ехал Федотов в штаб армии. Всю дорогу по разбитому, залитому лужами проселку он угрюмо молчал. Сидевшие позади замполит и начальник штаба дивизии вначале оживленно говорили, пытаясь вовлечь в разговор и Федотова, но, видя, что генерал занят какими-то своими, видать нерадостными мыслями, смолкли и так же, как и Федотов, настороженно смотрели по сторонам.
В обширном селе, где располагался штаб армии, царила строгая деловитая тишина. На изгибе дороги у разбитого дома Федотова встретил молоденький капитан из оперативного отдела, кратко представился и вполголоса сказал:
— Сбор в большом доме с голубым крыльцом на восточной окраине. Стоянка машин вон в том саду.
Тишина в селе и предупреждающий, негромкий голос капитана сразу же изменили ход мыслей Федотова. Еще не зная, что будет на совещании, он почувствовал приближение чего-то нового и важного, что если не в корне, то серьезно изменит установившееся положение. Это предчувствие еще более усилилось, когда, войдя в указанный дом, Федотов увидел просторную комнату, сплошь заставленную строгими рядами столов, на которых лежали свеженькие, очевидно только что склеенные топографические карты, стопки белой бумаги и коробки цветных карандашей. Над каждым столом темнел четко выписанный на белом прямоугольнике номер корпуса или дивизии. Почти все места были уже заняты генералами и офицерами, но в комнате стояла удивительная, совсем непривычная для таких собраний тишина.
«Как в академии перед государственным экзаменом», — невольно подумал Федотов, отыскивая стол с номером своей дивизии.
Едва Федотов успел сесть на место, как позади послышался гром отодвигаемых стульев и чьи-то решительные шаги. Совершенно машинально, по укоренившейся привычке кадрового военного, Федотов встал и оглянулся назад. Оба невысокие и плотные, шаг в шаг шли Ватутин и Хрущев. За ними — командующий и член Военного Совета армии, командиры корпусов, генералы армейского управления. Подойдя к покрытому красным сукном длинному столу, Ватутин четко повернулся, так же четко, печатая каждое слово, поздоровался и, услышав разнобойный ответ, молча сдвинул брови.
— Отвыкло большое начальство от строевой выучки, совсем отвыкло, — весело рассмеялся Хрущев. — Видать, потренироваться придется.
— Несомненно, — в тон Хрущеву сказал Ватутин, — и не только в строевой выучке, но и во многом другом. Что ж, начнем? Задача, товарищи, следующая, — взмахом руки разрешив генералам и офицерам сесть, продолжал Ватутин. — Сейчас вы получите выписки из оперативной директивы армии, где указаны боевые задачи каждого корпуса и дивизии. Нужно изучить все и принять решение каждому за свое соединение. На все это — два часа.
Та работа, которую начали командиры корпусов и дивизий, не шла ни в какое сравнение с академическим экзаменом, о чем случайно подумал Федотов, входя в эту тесную светлую комнату. И дело было вовсе не в том, что здесь приходилось выступать не перед группой преподавателей, а перед командованием фронта, — перед суровым Ватутиным и дотошливым, вникающим в каждую деталь Хрущевым. Дело было совсем в другом. Там, на академическом экзамене, решалась всего-навсего обыкновенная тактическая задача, где на бумаге действовали условные войска, условный противник, где даже грубая ошибка грозила всего лишь снижением оценки. Сейчас же, едва прочитав выписку из оперативной директивы, Федотов сразу понял, что никаких условностей нет, что принимать решение придется не за какую-то выдуманную дивизию, а именно за свою собственную дивизию, точно такого же состава, какой она имеет, и расположенную на такой же местности, где находится сейчас. Разница, по сравнению с теперешним положением дивизии, была лишь в том, что на усиление вместо одного истребительно-противотанкового артиллерийского полка дивизия получала истребительно-противотанковую бригаду и два отдельных полка, гаубичную, пушечную и инженерно-саперную бригады, танковый полк и три полка реактивных минометов.
Никогда еще — ни во время учебы в академии, ни на многочисленных учениях и маневрах — Федотову не приходилось встречаться с таким огромным количеством средств усиления, придаваемых одной стрелковой дивизии.
Глядя, как под рукой начальника штаба дивизии вырастает длинная колонка цифр танков, пушек, гаубиц, минометов, которые будет теперь иметь дивизия, Федотов невольно покачал головой.
— Что, не верится в реальность таких средств усиления? — услышал он прямо над собой тихий голос Хрущева и хотел встать.
— Сидите, сидите, — остановил его Хрущев.
— Да нет, почему же, — замялся на мгновение Федотов.
— Но все же сомневаетесь? — с заметной иронией сказал Хрущев.
— Вообще-то, конечно. Никогда такого усиления еще не бывало, — сказал Федотов, снова пытаясь встать.
— Сидите, сидите, — опять остановил его Хрущев. — Сомнения ваши, конечно, оправданы. Весь сорок первый, да и прошлый год мы воевали впроголодь, из всех уголков соскребая все, что можно. Но теперь мы не так бедны. Будет у вас точно все то, что записано здесь, — резко, со звоном в голосе сказал Хрущев, — а может и еще кое-что подбросим, если обстановка потребует. А ко всему, что есть, приплюсуйте еще авиацию — бомбардировочную и особенно штурмовую.
«Неужели и в самом деле все это будет? — подумал Федотов, когда отошел Хрущев. — Да если так, то пусть хоть сотни танков пускают».
Он взял у начальника штаба листок с подсчетом общего количества огневых средств, придвинул к себе карту, где уже была нанесена задача дивизии и, глядя на изученное до мелочей цветное поле, задумался.
Да, хоть и ответственна и трудна для обороны полоса дивизии, но с такими силами и средствами можно остановить любого противника. Ему вспомнились бои под Москвой в октябре сорок первого года, когда его дивизия всего с двадцатью шестью пушками и сорока минометами целый месяц отражала яростные атаки немцев и удержала, не отступив ни на метр, одиннадцатикилометровый фронт. И тогда у противника наступали танки, и немало. В одной из атак одновременно участвовало сорок семь машин. А теперь в дивизии не двадцать шесть, а почти полторы сотни орудий и фронт не одиннадцать километров, а всего лишь шесть. Пусть тут, между Белгородом и Курском, местность удобнее для наступления, но зато сколько огневых средств! Нет, это не Подмосковье, не сорок первый год, когда дрожали за каждый снаряд, радовались получению даже единственной «сорокапятки».
Возбужденный этими мыслями, Федотов, шепотом советуясь со своими начальником штаба и начальником политотдела, один за другим решал вопросы организации обороны. Все было просто, ясно и конкретно. Все послушно ложилось на карту и формулировалось в четких пунктах командирского решения.
Федотов так увлекся работой, что даже не слышал, о чем вполголоса говорили переходившие от одного стола к другому Ватутин и Хрущев.
Когда все было решено, нанесено на карту и записано на бумаге, Федотов вытер платком вспотевшее лицо, расправил уставшие плечи и встретился с внимательным взглядом Ватутина.
— Закончили? — посмотрев на часы, спросил Ватутин.
— Так точно! — порывисто вставая, ответил Федотов.
— Что ж, посмотрим, — обернулся Ватутин к Хрущеву.
— Конечно, — согласился Хрущев. — По времени весьма прилично, а вот как по существу…
Пока Ватутин и Хрущев изучали по карте и тексту его решение, Федотов никак не мог сосредоточиться на какой-либо определенной мысли. Все странно и удивительно мешалось и перепутывалось, то вытаскивая откуда-то из самых глубин памяти далекое прошлое, то возвращаясь к тому, что происходило сейчас, то убегая вперед, к тому, что будет, когда эта вот, созданная пока на карте оборона встретит яростный напор врага.
— Что же, с точки зрения штабной, все в ажуре, — с непонятной для Федотова иронией сказал Ватутин.
— Академическая оценка — четыре с плюсом, — так же не без усмешки добавил Хрущев.
— Безусловно! — согласился Ватутин и уже совсем другим, строгим, командирским голосом спросил:
— Как вы считаете: сколько сил противника будет наступать против нашей дивизии?
— Две, максимум три дивизии, из них, вероятно, одна, танковая, — не задумываясь, ответил Федотов.
— Одновременный удар какого количества танков может выдержать ваша оборона? — спросил Хрущев.
— Учитывая состав двух пехотных дивизий и одной танковой, противник одновременно может бросить в атаку до двухсот танков.
— А вам известно, что в районе Харькова и Белгорода стоят такие мощные дивизии, как танковые дивизии СС «Мертвая голова», «Адольф Гитлер», «Райх», «Великая Германия», «Викинг»? — спросил Ватутин. — Каждая из этих дивизий имеет по двести танков.
— Известно.
— И какие вы из этого делаете выводы?
— Эти дивизии, несомненно, сосредоточиваются для наступления.
— Причем на главном направлении, — добавил Хрущев.
— А ваша дивизия находится именно на главном направлении, — подчеркивая слово «именно», сказал Ватутин. — Следовательно, ваш расчет о силах противника весьма не основателен. Оборону нужно строить из расчета максимальных сил врага, а не минимальных и даже не средних. Вы прекрасно знаете, что наиболее опасен первый, массированный удар. Выдержит оборона этот удар — победа, не выдержит — все полетит, все развалится!
Ватутин говорил спокойно, не повышая и не понижая голоса, но каждое его слово поднимало в Федотове острое недовольство самим собой.
Разбор решения Федотова привлек внимание всех генералов и офицеров. Федотов понимал, что все взгляды, сосредоточены только на нем и к своему удивлению не чувствовал ни неловкости, ни стыда, ни обиды.
Ватутин неторопливо, по пунктам разбирал его решение, больше критикуя и только кое в чем одобряя, говорил, как сделать лучше, целесообразнее, и, видимо, сам так увлекся, что торопливо брал карандаш, чертил на карте, переставлял с одного участка на другой полки, батальоны и даже отдельные орудия.
— Понимаете, товарищ командующий, — с трудом проговорил Федотов, когда Ватутин смолк, — на опыт прошлого ориентировался, не учел изменений в ходе войны, в силах противника…
— Опыт прошлого забывать никогда нельзя, — вполголоса сказал Хрущев, — особенно минувших двух лет войны. Этот опыт нам стоил крови, огромных жертв и усилий. Война, товарищи, это не только борьба сил, то есть столкновение людских масс и военной техники, война — это и борьба умов. У нас в народе говорят: «Врага бить — не сено косить, ум надобен!» Природного ума нам не занимать. Но ум без знаний — мотор без горючего. Горючее для ума людей военных — это военные знания, военная наука. Нам нужно всесторонне освоить весь наш кровью добытый опыт, соединить его с теорией и все это претворить в практику. «Набирайся ума в учении, а храбрости в сражении», — молвит старая русская пословица. Пока у нас передышка — все силы на учебу, на подготовку к борьбе в трудных условиях, к борьбе с сильным, опытным и — этого никогда нельзя забывать, — умным противником. То; что сейчас мы проводим с вами, — это всего лишь начало той огромной работы, которая должна охватить всю нашу армию от верхов и до рядового солдата. В итоге этой работы, каждый наш воин — солдат, сержант, офицер, генерал — должен знать, что будет делать при любой обстановке. Мы должны бить противника не числом, а умением, с затратой наименьших жертв и нанесением врагу наибольшего урона.
* * *
«Война это не только борьба сил; война это и борьба умов», — уже сидя в машине, несколько раз мысленно повторил Федотов слова Хрущева.
По разбитой дороге в кромешной тьме весенней ночи ловкий шофер чудом вел машину с потушенными фарами.
Федотов одного за другим вспоминал своих заместителей, помощников, командиров полков, батальонов, некоторых рот, обдумывал все, что знал о их знаниях и способностях, сравнивал их подготовленность с теми требованиями, которые предъявляют им новые задачи, и, к своему удивлению, нашел множество недостатков и пробелов, которые раньше как-то стушевывались общим ходом дел и событий. Нанизываясь одно за другим, в памяти всплывали то слабые знания боевых свойств и тактики артиллерии, то неумение использовать танки, то непонимание особенностей современного боя, то совершенное игнорирование управлением своего тыла.
Да, да. Прежде всего нужно потребовать от всех самостоятельной учебы. Но все ли могут учиться самостоятельно? Конечно, не все. И неумение, и загруженность текущими делами, да и пособий почти нет. Значит, придется что-то вроде лекций проводить, специалистов использовать. Именно специалистов. А их в дивизии достаточно. Но одни знания это еще не все. Главное — уметь применять эти знания в бою. Значит, нужны тренировки, занятия, учения, и все это именно в тех условиях, в которых придется воевать. Мне самому нужно тренировать командиров полков и батальонов; командирам полков — батальонных командиров; батальонным — ротных и взводных…
Приглушенный треск пулеметов оборвал мысли Федотова. Он приказал шоферу остановить машину и выключить мотор.
Теперь уже отчетливо была слышна все нараставшая стрельба. К пулеметным очередям присоединились гулкие, все учащающиеся взрывы. По темному, почти черному небу метались бледно-кровавые всполохи.
— Это у Поветкина, — над ухом Федотова прошептал начальник штаба.
— Да, на участке его полка, — согласился Федотов и отрывисто приказал шоферу:
— Быстро на НП![2]
«Вот тебе лекции, вот тебе и занятия, — глядя, как все шире разрастаются отблески взрывов, думал Федотов. — Неужели это начало наступления? Эх, еще бы хоть недельку, хоть пару дней. А может, так что-нибудь, случайная перепалка? Нет! Вот и дивизионная артиллерия вступила, — по совсем близким залпам гаубиц определил он. — Значит, не случайно. Скорее, скорее! — торопил он сросшегося с рулем шофера.
— Темно, товарищ генерал, вспышки ослепляют, ничего не вижу, — с отчаянием прошептал шофер.
— Включай фары и жми, — решился на крайность Федотов.
При свете фар отблески боя заметно сникли, но зато звуки нарастали и нарастали. Отдельных взрывов уже не было слышно, все слилось в сплошную канонаду.
Глава двадцать четвертая
Ирина давно собиралась побывать во втором батальоне, но множество хлопот по оборудованию полкового медпункта, а затем сборы врачей в армии надолго отложили ее намерение. Второй батальон беспокоил ее тем, что давным-давно обещанный фельдшер все еще не прибыл и медпунктом руководила санинструктор Степовых. Женщина она, конечно, сильная, энергичная, прошедшая всю войну, но все же без среднего медицинского образования, закончившая всего лишь краткосрочные курсы санинструкторов.
Отложив все дела, Ирина направилась во второй батальон. Пройдя только что отстроенный саперами мост через игривый, еще не угомонившийся от половодья ручеек, Ирина увидела Степовых. Возвышаясь чуть ли не на две головы над группой застывших в почтительном напряжении солдат, она говорила что-то, очевидно, сердитое и грозное, как настоящий командир, резко жестикулируя руками. Заметив Ирину, она уже совсем строго махнула солдатам рукой и твердой мужской походкой двинулась к ней. Не доходя шагов десять, она одернула и так плотно облегавшую могучую грудь чистенькую гимнастерку, строевым шагом прошла еще несколько метров, и по-военному приложив руку к такой же чистенькой ушанке, густым басом доложила:
— Товарищ военврач третьего ранга! На медпункте второго стрелкового батальона все в порядке. Больных и раненых нет. Проверка санитарного состояния подразделений закончена.
— Здравствуйте, Марфа Петровна, — подала Ирина руку и чуть не вскрикнула от ответного рукопожатия. — Ну, показывайте свое хозяйство.
— Хозяйство в порядке, — отчеканила Степовых. — Индивидуальными пакетами весь батальон обеспечен, медпункт оборудован, медикаменты получены полностью.
— Очень хорошо, — сказала Ирина и кивнула в сторону торопливо уходивших солдат. — А это что, на прием, что ли, приходили?
— Какой там на прием! — возмущенно воскликнула Степовых. — День и ночь воюю с ними. Просто безобразие. Два новых колодца отрыли, вода, как слезинка, так нет — лень им за хорошей водой сходить, все лезут вот в этот ручей, могут желудочные заболевания вспыхнуть. Ну, я их отучу! — погрозила она кулаком в сторону солдат. — Они и дорогу забудут к этому ручью. А вот и наш медпункт, — сказала она, останавливаясь перед землянкой, почти незаметной на фоне крутого ската балки. Только беленький флажок с красным крестом указывал, что темное углубление ведет в медпункт.
Степовых первой по отлогим ступенькам спустилась вниз, распахнула широкую двухстворчатую дверь и пропустила Ирину.
Мягкий, плавно лившийся из двух оконцев свет озарял просторную, всю белую, совсем не похожую на землянку, комнату. Вокруг было так бело, что вначале Ирина не заметила накрытые простынями топчан слева, стол впереди и стоявшую около него санитарку Федько в чистеньком халате и белой косынке.
— Ух, как у вас, — не удержалась от восхищения Ирина, — словно в образцовой амбулатории. Здравствуйте, Валя, — заметив санитарку, подошла к ней Ирина.
— Здрасьте, товарищ… — ломким голоском заговорила было Валя и смущенно смолкла.
— Ирина Петровна, — ободряюще сказала Ирина.
— Здрасьте, Ирина Петровна, — воскликнула Валя, рдея от смущения и робости. — Вот стул, пожалуйста.
— Спасибо, — испытывая почти материнскую нежность к этой тоненькой миловидной девушке, поблагодарила Ирина. — Садитесь, Марфа Петровна, присаживайся, Валя. Это собственно медпункт, а где же вы живете?
— Здесь рядом, — приподняла Степовых простыню на стене, и Ирина увидела совсем крохотную комнатку с бревенчатыми стенами и потолком. По сторонам от небольшого столика стояли два топчана, застланные байковыми одеялами, а над ними висели туго набитые санитарные сумки.
— Замечательно! — похвалила Ирина. — Если бы нам всегда в таких условиях работать и жить! Видно, заботливый у вас комбат, ничего для медпункта не пожалел.
— Очень заботливый, — с внутренней теплотой отозвалась Степовых. — Наш капитан Бондарь для людей на все готов. Посмотрите, какие дзоты, какие блиндажи и землянки у нас в батальоне! Хоромы просто, за всю войну я такого не видывала.
— А вот здесь медпункт, — послышался за дверью глухой голос.
— Наш капитан, — торопливо вставая, прошептала Степовых.
— Разрешите войти, — после стука в дверь раздался уже совсем другой — решительный, чисто командирский толос, от которого Ирина вздрогнула и поднялась со стула. Это говорил Поветкин. Она уже больше недели не видела его и теперь, как тогда, заметив его совсем необычные взгляды и волнение, внутренне сосредоточилась, негодуя на себя.
Высокий, подтянутый, с открытым обветренным лицом, Поветкин приветливо поздоровался и, увидев Ирину, как показалось ей, попятился, но тут же овладел собой и, подавая ей руку, спокойно проговорил:
— Порядок наводите, Ирина Петровна?
— Тут и без меня все образцово, — стараясь не встречаться с ним взглядом, подчеркнуто спокойно сказала Ирина. — Вот так бы все медпункты оборудовать.
— Да, замечательно, замечательно, — осматриваясь, говорил Поветкин. — И место весьма удачное, безопасное, под укрытием ската. Здорово поработали, приказом отметим и другим в пример поставим. Что ж, товарищ Бондарь, про медпункт одно могу сказать: хорош!
— Марфа Петровна постаралась, ее нужно отметить, — глядя прямо на Поветкина, твердо сказал Бондарь и, помолчав, настойчиво повторил:
— Обязательно нужно отметить.
— Что вы, товарищ капитан, — смущенно пробормотала Марфа, — я только законно требовала. Не обижайтесь, пожалуйста, если что в горячке не так сказала. Я же не для себя, для воинов наших…
Бондарь приглушенно вздохнул, опустил голову и вспомнил всю историю оборудования медпункта.
Однажды под вечер, когда у Бондаря было особенно много работы, к нему в землянку ворвалась яростно гневная, с распаленным лицом и возбужденно блестящими глазами Степовых и с ходу зачастила резкими, как удар молота, отрывистыми словами:
— Товарищ капитан, что же такое делается, что творится? Да разве это землянка, разве это медпункт? Курятник, конура собачья, нора кротовая, а не землянка.
— Как это конура? — поняв, что речь идет о новой землянке для медпункта, которую начали строить прошлой ночью, рассердился Бондарь. — Землянка как землянка, всегда такие строили, да и проект есть.
— Дрянь проект, по дурному строили, — еще яростнее закипела Степовых. — Из-за головы неумной, да от бедности.
Такая грубость переходила все рамки воинского поведения, и Бондарь — строжайший поборник воинских уставов — не выдержал, строго приказал Степовых:
— Прекратите ненужные разговоры и отправляйтесь заниматься своими делами. Какую построят землянку, в такой и будете располагаться.
— Есть, заниматься своими делами! — как ни в чем не бывало отчеканила Степовых и, четко повернувшись, ушла.
Эти выправка и умение подчиняться смягчили Бондаря. Он пошел в балку и еще раз осмотрел уже полностью отрытый котлован. Землянка как землянка, не больше и не меньше других.
«Просто капризы женские, — решил Бондарь. — Характер свой показывает».
Но вскоре Бондарь горько раскаялся в столь легкомысленном отношении к Марфе Петровне. На следующий день в батальоне состоялось партийное собрание с обсуждением хода оборонительных работ. Вот там-то и развернулась во всю Марфа Степовых. Едва Бондарь закончил свой доклад, она, не дожидаясь объявления прений, встала во весь свой могучий рост и попросила слова.
— Может, вопросы будут? — спросил председательствовавший Козырев.
— Какие там еще вопросы, — обрезала Степовых. — Дела делать надо, а не вопросиками перекидываться. Мы не на вечере вопросов и ответов, а на собрании партийном и не в клубе где-нибудь в колхозном, а на фронте, на самом передовом крае. И говорить нужно по-партийному и по-фронтовому, не рассусоливать и размазывать, а дельное выкладывать, то, что для войны нужно.
— Правильно, Марфа Петровна, — поддержал ее Лесовых.
— Так вот, — невозмутимо продолжала Марфа, — про одно дело я хочу речь держать. Скажите, — обвела она всех взглядом остро-колючих глаз, — кто из вас ранения не претерпел? Все! — утвердительно кивнула она головой. — А некоторые дважды, трижды, а то и четырежды. И вы знаете, — до горестного шепота понизила она голос, — какие муки мученические раненый испытывает. — Знаете, — на всю землянку громыхнул ее бас, — а сами что делаете? Что вы для медпункта оборудуете, а? Землянку, скажете, — опять понизила она голос. — Конечно, землянка, может, будет как землянка: дождик не намочит, осколок не достанет, да и снаряд не всякий прошибет. А вот медпункту в такой землянке горе горькое. Где тягостнее всего раненому? Под огнем! И так душа с телом расстается, а тут еще снаряды рвутся, мины, осколки шлепаются, пули свистят.
Слушая Марфу, Бондарь не смел поднять головы. Ему казалось, что взгляды всех коммунистов обращены сейчас только на него одного. Она говорила все тише, рассказывая, как нужно было бы оборудовать медпункт, и каждое ее слово болезненным звоном отдавалось в его ушах.
Когда Марфа смолкла, Бондарь впервые поднял голову и увидел ее лицо. Оно было грустное, печальное, с опущенными подсиненными веками и резкими морщинами на впалых щеках.
«Сколько же пережила ты, — пронеслось в сознании Бондаря, — если так остро болеешь за людей».
После собрания он вместе с Марфой пошел в балку, выбрал новое место для медпункта, разметил просторный котлован и приказал командиру шестой роты в две ночи построить землянку. Степовых ничем не выразила ни своего довольства, ни одобрения. Она только по-прежнему басистым голосом, словно невзначай, сказала:
— Хорошо бы досок достать, товарищ капитан, или фанеры. Стены и потолок обшить, а мы бы их побелили. Известь я в селе видела — целая куча.
— Ладно, попробуем достать, — ответил Бондарь, хорошо зная, что доски и фанеру в условиях фронта достать почти невозможно.
Поветкин не знал всей этой истории и смущение могучей санинструкторши принял за обычную скромность.
— Мне кажется, Ирина Петровна, — сказал Поветкин, чтобы ободрить Степовых, — санитарное состояние вообще во втором батальоне лучше, чем в других.
— Да, да, — с готовностью подтвердила Ирина, — и заболеваний у них меньше, и…
Она запнулась, почувствовав на себе взгляд Поветкина, и резко закончила:
— И солдаты на питание не жалуются.
— Ой, Ирина Петровна, — воскликнула Степовых, — какой там не жалуются. Вторую неделю все гречка да гречка без конца. Хоть бы раз картошку сварили, истосковались все по ней.
— Плохо с картошкой, — хмуро проговорил Поветкин. — На месте ничего нет, а подвезти очень трудно — дороги развезло, мосты не восстановлены. Но скоро будет картошка. Машины в Курск ушли, на днях подвезут.
— И белье солдатам полмесяца не меняли, — настойчиво продолжала Степовых.
— Почему? — резко обернулся Поветкин к Бондарю.
И этот поворот и стремительный вопрос Поветкина удивительно напомнили Ирине Андрея Бочарова.
— Стирать нельзя, дожди, сушить негде, — не глядя на Степовых, ответил Бондарь.
— В село пошлите, в хатах организуйте стирку и сушку белья, — все так же строго и отрывисто сказал Поветкин.
— Все дома заняты, ни одного свободного.
— Найдите! — отрубил Поветкин. — Нянек нет, и на дядю не надейтесь. Еще что плохо в санитарном отношении? — повернулся он к Степовых.
— Воду для питья многие из ручья берут, прямо хоть часовым на берегу стой.
«Вот въедливая, — подумала Ирина о Степовых. — Капитан и так сгорает от стыда перед Поветкиным, а она режет и режет».
— Запретить! Категорически! — уже совсем сердито приказал Поветкин. — За каждое нарушение наказывать. Есть же прекрасные колодцы.
— Слушаюсь! Будет запрещено! — густо покраснев, ответил Бондарь.
— И еще, товарищ майор, — не унималась Степовых, — чаю солдатам, побольше горячего чаю. Холодно, сыро, особенно ночью. Тем, кто работает, — хорошо, а вот дежурные в расчетах и наблюдатели замерзают, и согреться нечем.
— Я уже приказал, — опередил Поветкина Бондарь. — Горячий чай будет круглые сутки.
— Время-то как летит, — взглянув на часы, воскликнул Поветкин, — уже вечер. Спасибо за оборудование, за порядок. В таком состоянии и всегда держите, — пожал он руку Степовых, потом Вали и задержался перед Ириной. В его лице опять было какое-то особенное выражение, совсем не такое, как при разговоре с другими. Он несколько секунд помедлил, потом легонько сжал пальцы Ирины и, тут же отпустив, поспешно вышел из землянки. И вновь в его лице, в движениях, в пожатии руки Ирина увидела Андрея Бочарова. Что-то больное и сладкое шевельнулось в ее груди. Она совсем вяло попрощалась с Бондарем, вопреки рассудку радуясь нахлынувшим чувствам к Андрею. Только, когда за Бондарем резко хлопнула дверь, она опомнилась и с раздражением, с досадой мысленно повторила:
«Все кончено, все кончено! И никаких мыслей об Андрее, никаких чувств. Только работа, только дела, и ничего личного!»
— Ну что же, — с напускной бодростью сказала она, — мне тоже пора.
— Что вы, Ирина Петровна, посидите хоть полчасика, — с чисто женской приветливостью, дохнувшей на Ирину домашним теплом, сказала Степовых. — Вы же у нас так редко бываете.
— Посидите, Ирина Петровна, посидите, — по-детски умоляюще присоединилась к ней Валя. — Я сейчас за чаем сбегаю, у меня варенье есть, мамино еще, берегу от самого дома.
— Правильно, Валя, — поддержала Степовых и начальнически скомандовала:
— Пулей на кухню!
Пока Валя бегала за кипятком, а Степовых зажигала неизвестно где раздобытую настоящую керосиновую лампу с целым стеклом и голубеньким абажуром, Ирина переживала странное чувство раздвоенности. Она всеми силами противилась возвращению мыслей об Андрее и в то же время, думая о нем, чувствовала несломимую ее волей радость.
— Как вольготно, когда тихо на фронте, — мечтательно говорила Степовых, — особенно по вечерам. Сидишь в полумраке, задумаешься, и все, что было в мыслях, проплывает. Хорошо станет так, легко на душе и даже радостно. Только хорошее вспоминается почему-то в такие минуты.
— У вас есть семья? — тихо спросила Ирина.
— Дочурка и мать. Дочь у меня расчудесная. Четырнадцать миновало, теперь уже невестится, небось.
Степовых присела к столу, подперла ладонью щеку и, глядя затуманенными глазами на огонек лампы, словно и рассуждениях сама с собой, вполголоса продолжала:
— В ее годы я тоже заневестилась. Помню вот так же весной, когда еще почки не проклюнулись, встретила я Ваню и почему-то вздрогнула вся, затрепетала. Чудо просто какое-то. И бегали вместе, и учились, и дрались частенько — все было ничего. А тут враз как-то глянула и — сама не своя. И смотреть стыдно, и оторваться не могу. А он хоть и озорной был и отчаюга неуемный, но чувствительный, душевный. Годов через пять признался, что и у него в эту самую минуту дрогнуло сердечко. Видно, сама судьба нас свела. Раскрылись наши душеньки да и не разъединялись больше.
— А где же он теперь? — спросила Ирина и, поняв, что поступила бестактно, пожалела об этом.
Степовых поправила свои пепельные волосы, с едва заметной дрожью в голосе проговорила:
— Четырнадцать годков минуло, как нет его. Ровно столько, сколько моей Маришке. Кулаки застрелили.
Она судорожно передохнула и задумалась.
— И вы с тех пор так и живете одни? — шепотом спросила Ирина.
— Одна, — бесстрастно ответила Степовых и, чему-то улыбнувшись, продолжала:
— Были, конечно, ухажеры всякие, увивались, обхаживали, сватов, наверное, раз двадцать засылали. А я, как вспомню Ванюшу, — глаза ее вновь затуманились, — как вспомню, и видеть никого не могу. Не скрою: лихо частенько бывало. Жизнь-то, она своего требует. А я здоровая, могутная… Не одну подушку зубами изгрызла… Особенно весной. Но, — застенчиво улыбнулась она, сгоняя морщины, — переборола себя, выдюжила, свою гордость незапятнанной пронесла. Мы же сибиряки, гордые, я — сибирячка исконная. Ох, а сколько всяких цеплялось. И так тебя обхаживают и этак, кто улещивает, умасливает, а кто дуриком, силой, напролом. Ну, одних я словами отваживала, а других — вот, — потрясла она своими по-мужски огромными кулаками, — хвачу и…
Она звонко рассмеялась и, вновь собрав морщины на лбу, строго сказала:
— А как же иначе? Только пойди по этой вихлявой дорожке — враз голову сломишь.
«А я и по дорожке вихлявой не ходила, а голову, кажется, сломала», — впервые с отчаянием подумала Ирина.
Где-то совсем недалеко несколько раз глухо хлопнуло, потом разом, взахлеб, также глухо, наперебой застучали пулеметы.
— Что это? — насторожилась Ирина.
— Да куда же Валька провалилась? — суетливо вскочила Степовых. — Вот дуреха несчастная.
Она хотела было выйти из землянки, но земля вздрогнула и с треском распахнулась дверь. Тупые, глухие удары следовали один за другим. Лампа на столе дрожала, и по белым стенам плясали бесформенные тени.
— Валька, да где же ты была? — бросилась Степовых к влетевшей в землянку санитарке.
— Ой, что творится, что творится, — с детской отчаянностью кричала та. — Сначала бах, бах, потом ракеты одна за другой. Светло, как днем. И пулеметы как застучат, как застучат, сплошной вой.
По тому, как все чаще и резче вздрагивала земля, Ирина понимала, что бой разгорается и нарастает. Она хотела было выйти и бежать на свой медицинский пункт, но дверь распахнулась, и в землянку двое солдат внесли на плащ-палатке раненого.
— Доктора, скорее доктора, — дико, с хрипом вопил раненый. — Да скорее же, доктор! Ой, нога моя, нога, совсем нету ноги. Где же, где доктор?
— Здесь я, здесь, — склоняясь к нему, с привычной мягкостью сказала Ирина и рукой приказала солдатам положить раненого на топчан.
Валя хотела броситься помогать, но дикие вопли раненого ошеломили ее. Она прижалась к стене, с ужасом глядя, как Ирина вымыв и вытерев руки, с помощью Степовых что-то делала с еще отчаяннее кричавшим раненым. Она не слышала ни грохота над головой, ни стука дрожавшей от взрывов двери, ни того, о чем говорили Ирина и Степовых. Все ее сознание задавил этот отчаянный, нечеловеческий вопль.
Вдруг она отчетливо различила тихий стук где-то совсем рядом, внизу, посмотрела на пол, и в глазах ее потемнело. Там, на полу, почти около ее ног из огромного солдатского сапога торчал изорванный обрубок. От него, заливая вымытый пол, бежали темные ручейки.
— Все, — как сквозь сон услышала Валя голос Ирины. — Успокойтесь, жизнь ваша уже вне опасности.
Или таким успокаивающим был голос Ирины, или раненому в самом деле стало легче, но он перестал кричать и, только всхлипывая, приговаривал:
— А нога-то, нога, ноги-то все равно нет.
— Главное, милок, жизнь, — нежно проговорила Степовых. — Ногу-то протезом заменить можно, а жизнь человеку единожды дается.
— На носилки — и быстро в полк, я тоже пойду, — приказала Ирина и, подойдя к оцепеневшей Вале, обняла ее.
— Ничего, Валюша, милая, это бывает. Я врач, училась, готовилась к этому, а увидела первого настоящего раненого — не выдержала и разревелась.
— Я так… Я просто… — бессвязно проговорила Валя и, прижимаясь к Ирине, зарыдала.
— Пусть выплачется, легче станет, — сказала Степовых. — А вы идите, Ирина Петровна. К вам там, наверно, и из других батальонов раненых принесли.
Ирина с силой прижала к себе ослабевшую Валю, несколько раз поцеловала ее и дрогнувшим голосом сказала:
— Ну, я пошла. Раненых сразу же направляйте ко мне. Крепись, Валюша, крепись, — еще раз обняла она Валю и ушла.
— Ну что ты, дурочка, — вытирая кровь на полу, говорила Степовых. — Мы же с тобой ободрять должны их, помогать, а ты сама в три ручья залилась. Ну больно, ну тяжело страдания и кровь видеть, но им-то, раненым, от твоих слез разве легче станет. Им внимание нужно, ласка, а наш рев их совсем ослабит. На вот салфетку, утрись, встряхни себя хорошенько, кажется, еще раненого несут.
Собрав все силы, Валя подавила рыдания, выпила воды и, смущенно глядя на Степовых, попыталась улыбнуться.
— Вот так-то лучше, — ободрила ее Марфа. — А то разнюнилась. Готовь шприцы, бинтов еще достань, спирт открой, йод.
Делая привычную работу, Валя совсем успокоилась, теперь уже отчетливее различая взрывы и треск пулеметов наверху. Когда принесли нового раненого, она сама распорола мокрый от крови рукав гимнастерки и подражая Ирине, мягко и ласково говорила:
— Успокойтесь, не волнуйтесь. Сейчас перевяжем и поедете в госпиталь.
— Молодец, молодец, — подбадривала ее Марфа. — Так и надо. Только руки, руки свои утихомирь. Дрожат они у тебя.
* * *
Марфа и Валя перевязали и отправили уже восьмого раненого, а бой все не утихал. То ближе, то дальше грохотало, на мгновение стихало и опять тяжко ухало, сотрясая землю и обрывая дыхание у Вали. Моментами ей казалось, что еще один удар, и она не выдержит, задохнется и упадет, но Марфа прикрикивала, требуя подать то шприц, то бинты, то лекарство, и Валя забывала, что делалось наверху. Даже стоны и крики раненых теперь уже меньше действовали на нее, и только вид крови выдавливал слезы, а от ее приторного запаха тошнило и туманилось в голове.
Когда обработали и отправили еще двоих раненых, Валя вдруг почувствовала какое-то странное облегчение. Она прислушалась и радостно закричала:
— Марфа Петровна, стихает! Слышите, стихает!
— Ну и слава богу, — отозвалась Марфа, — и так уже сколько людей покалечили. А ты не стой, не стой без дела, — прикрикнула она. — Видишь что творится кругом. Бери тряпку, подотри пол.
Валя радостно схватила кусок мешковины, окунула его в ведро с водой и почти так же, как и у себя дома, начала мыть залитый кровью пол. Она двигалась так порывисто и стремительно, что Марфа вновь сердито проворчала:
— Не егози, не егози. Угомонись малость.
В ответ Валя только улыбнулась и, открыв дверь, замерла. В проем входа в землянку лился могучий поток лучезарного света, а вверху на светлой голубизне неба полыхали розовые отсветы всходившего солнца. Над землей стояла упоительная тишина. Валя прислонилась к двери и, закрыв глаза, жадно вдыхала наплывавший сверху удивительно вкусный, прозрачный воздух.
— Разрешите войти, — вздрогнула она от негромкого голоса, открыла глаза и увидела того самого лейтенанта-пулеметчика, с которым они дважды почти рядом сидели на комсомольском собрании и на груди которого алел орден Красного Знамени. Фамилия его была, кажется, Дробышев.
— Вы ранены? — устремилась к нему Валя.
— Маленько поцарапало, — морща веснушчатое лицо, ответил Дробышев.
— Так проходите, проходите, что же вы остановились, — чувствуя необычный прилив сил, сказала Валя и смолкла, только сейчас заметив, что рукав гимнастерки лейтенанта разорван, а на правом плече темнеет огромное пятно.
— Марфа Петровна, товарищ лейтенант ранен, — крикнула она в землянку и, схватив правую руку Дробышева, прошептала:
— Скорее, скорее, проходите, пожалуйста.
— Да что вы, что вы, — смущенно бормотал Дробышев. — Какое там ранение, две царапины и все.
Опередив Марфу, Валя сняла с правой руки Дробышева неумелую, наспех наложенную повязку и ахнула:
— Где же маленько, рана-то какая, Марфа Петровна.
Степовых смыла спиртом запекшуюся «на руке кровь, и Валя увидела кусочек зазубренного металла, выступавшего над посинелой кожей.
— И ничего особенного, — проворчала Марфа, — из-за чего охать-то. Маленький осколочек, и только.
Она подцепила осколок, качнула его, отчего по всему телу Вали пробежала дрожь, и резко дернула.
— Вот и все, — улыбаясь, подала она Дробышеву кусочек металла величиной с подсолнечное зерно. — Берегите на память. После войны детям показывать будете. У вас дети-то есть?
— Какие дети, — смущенно улыбнулся Дробышев.
— Какие? Самые обыкновенные. Что, и жены нет?
Дробышев с серьезным, сосредоточенным видом отрицательно покачал головой.
Второй осколок впился в шею лейтенанта. Пока Марфа извлекала осколок, обрабатывала и перевязывала раны, Валя не шелохнулась. Ей казалось, что Марфа работает слишком грубо и Дробышев испытывает невыносимые муки. Но сам Дробышев мужественно переносил все. Даже когда Марфа вырывала осколки, ни один мускул не дрогнул на его лице. Лишь зрачки светло-голубых глаз то сужались в крохотные точки, то расширялись.
«Какой он мужественный, — восхищалась Валя. — Настоящий командир, настоящий комсомолец!»
— Что там было-то? — наложив последнюю повязку, спросила Марфа.
— Фрицы высотку отвоевать у нас хотели, — серьезно сдвинув жиденькие выгоревшие брови, заговорил Дробышев, — ночной атакой, внезапно. Подползли к проволоке, а секреты наши обнаружили их. Ну и пошла пальба. Мы их пулеметным огнем, они на нас артиллерию и минометы. Вот и колотились всю ночь.
— Это из-за какой-то высотки и столько крови, — горестно покачала головой Марфа.
— Высотки! — обиженно воскликнул Дробышев. — Да эта высотка нам дороже целой горы!
— И все же высотка, — вздохнула Марфа и строго добавила: — А вы, товарищ лейтенант, на полковой медпункт идите. Полежите там недельку, отдохните…
— Никаких лежаний! Хватит, в госпитале достаточно належался.
— Товарищ раненый! — прикрикнула Степовых, но Дробышев махнул здоровой рукой, крикнул: «Спасибо за все!» — и выскочил из землянки.
«Вот молодец!» — чуть не прокричала вслух Валя, с восхищением глядя вслед лейтенанту.
— Валька, — погрозила пальцем Марфа, — смотри ты у меня! Выпорю! Ишь ты какая резвая! То разревелась, как дуреха, а как завидела лейтенанта смазливого, так зегозила.
— Что вы, Марфа Петровна, — потупилась Валя. — Я совсем ничего, как всегда…
* * *
Через два дня после ночного боя Дробышева вызвали в штаб полка.
«Дежурить, очевидно, — решил он, вытирая мокрой тряпкой каску, которую он никогда не надевал. — Но дежурные сменяются под вечер, и предупреждают об этом за сутки. Неужели в санчасть положат? А может, Марфа майору Поветкину пожаловалась и он вызывает для внушения?»
Утро было погожее, ясное, с легкой дымкой в лощинах и балках. На всем фронте нежилась безмятежная тишина. Даже надоедливая «рама» и та почему-то не появилась в это утро.
Стараясь не запачкать обмундирования и сапог, Дробышев осторожно пробирался ходами сообщения, раздумывая, зачем же вызывают его в штаб полка. На северном скате высоты ход сообщения оборвался. Внизу сквозь прозрачную дымку искрилась извилистая ленточка ручья. Слева под скатом едва заметно белел флажок батальонного медпункта.
«Может, зайти, вроде как бы для перевязки», — мелькнула заманчивая мысль, но ее тут же подавила другая: — Зайди, зайди! Тебя Марфа так шуганет, что и дорогу на медпункт забудешь! Ишь ты, ухажер тоже, — упрекнул он самого себя. — Война кругом, а он размечтался».
Он поправил снаряжение и, не оглядываясь, торопливо пошел по дороге. У мостика через ручей он все же не выдержал, остановился и посмотрел назад. Голо и пусто было у знакомой балки. Только вытянутым пятном едва заметно белел ослабевший в безветрии крохотный флажок.
А внизу под мостом весело журчала вода, светлыми переливами отблескивали камушки, упрямо тянулись к солнцу едва пробившиеся из земли зеленовато-розовые травинки.
В заросшем кустами овраге, где размещался штаб полка, в густой тени под обрывом Дробышев увидел группу офицеров. Так же, как и он, офицеры были в касках, в новом обмундировании и в полном боевом снаряжении.
«Значит, не меня одного вызвали, — подумал Дробышев. — Так что ж такое будет? И комбат наш здесь», — заметил он среди офицеров Бондаря.
Проходя мимо одной из землянок, Дробышев услышал стук двери, обернулся и почти лицом к лицу столкнулся с Поветкиным. Дробышев остановился, хотел было доложить о прибытии, но Поветкин, весело улыбаясь, протянул руку и совсем не по-командирски спросил:
— Как жизнь, Костя?
— Хорошо, товарищ майор!
— Это что же вы, — лукаво прищурясь, всмотрелся в лицо Дробышева Поветкин, — медицине не подчиняетесь, а?
— Так они же в санчасть хотели положить, — поняв, что майор не осуждает, а одобряет его поступок, ответил Дробышев.
— Ну, а рука и шея болят? — спросил Поветкин.
— Да с чего болеть-то, царапины всего-навсего, — сказал Дробышев, хотя раны и на шее и на руке серьезно побаливали.
— Вот он тот самый герой, что санинструктору не подчинился, — сказал Поветкин вышедшему из другой землянки Лесовых. — Ну, что делать с ним?
— Арестовать в пример другим, — хмуро проговорил Лесовых, — пусть не лихачествует.
— Как думаешь, суток пять хватит? — серьезно спросил Поветкин.
— Уж если давать, то на всю катушку, — возразил Лесовых. — В санчасть не захотел, так пусть на гауптвахте отсидится.
«А что, и в самом деле посадят. Вот позор-то будет, — встревожился Дробышев. — Ну и язва эта Марфа! Промолчать не могла. Накляузничала».
— Тогда что ж, — словно в раздумье проговорил Поветкин, — сейчас поедем с офицерами в штаб дивизии и его заодно сдадим.
— Конечно, — согласился Лесовых, — не посылать же специально с ним машину. А одного пустить — забредет куда-нибудь.
Хоть строг и серьезен был вид у заместителя командира полка по политчасти, но Дробышев начал понимать, что весь этот разговор шутливый и что командование полка не осуждает, а одобряет его поступок.
В кузове грузовика набралось человек пятнадцать офицеров. Из второго батальона был только комбат Бондарь и он, Дробышев. Все остальные лейтенанты, старшие лейтенанты и капитаны были из других подразделений.
«Куда же все-таки везут нас?» — раздумывал Дробышев, когда грузовик выехал из оврага и по разбитой дороге покатил не к фронту, а в тыл.
«Вроде в штаб дивизии», — догадался он, вспомнив слова Лесовых.
Действительно, грузовик с офицерами свернул в лес, где размещался штаб дивизии, прогромыхал с километр по бревенчатому настилу и остановился рядом с такими же, укрывшимися под деревьями, грузовиками.
— Скорее, Поветкин, скорее, только вас ждем, опаздываете, — прокричал высокий полковник. — Стройте своих людей.
Ничего не понимая, Дробышев с любопытством осматривался. Впереди пустых грузовиков, под тенью высоких сосен виднелся беспорядочный строй военных. На правом фланге под лучами сочившегося сквозь ветви солнца отблескивали трубы оркестра. Дальше, в глубине леса виднелось что-то вроде стволов, накрытых белым. По всему лесу, насколько можно было видеть, сновали военные.
Когда Поветкин построил, подвел и поставил, где ему указал полковник, своих офицеров, Дробышев с удивлением увидел, что весь строй состоял из одних офицеров.
«Что ж такое будет?» — думал он.
Команда «равняйсь» оборвала его мысли. Вслед за командой «смирно» оркестр грянул торжественный марш. Дробышев вздрогнул, каждым нервом впитывая эту волнующую мелодию. Его так захватила музыка, что он не заметил, как из глубины леса к строю двинулся командир дивизии. Только, когда генерал Федотов неторопливыми шагами подошел почти вплотную, Дробышев увидел его сосредоточенное и какое-то праздничное лицо.
Генерал махнул рукой и, выждав, когда оркестр смолк, звонко и радостно прокричал:
— Здравствуйте, товарищи офицеры!
«Здравия желаем, товарищ генерал!» — вначале нестройно и вразнобой, а к концу отчетливо, единым вздохом ответил строй.
Генерал поднял руку с листом бумаги, сияющими глазами еще раз осмотрел офицеров и торжественно, чеканя каждое слово, заговорил:
— Приказами министра обороны, командующего войсками Воронежского фронта и командующего армией новые воинские звания присвоены следующим товарищам: воинское звание «подполковник» — Поветкину Сергею Ивановичу.
«Новые воинские звания, новые воинские звания, — тревожно бились еще не осознанные мысли Дробышева. — Майору присвоили подполковника. А я зачем же здесь?»
— Воинское звание «майор», — все торжественнее продолжал генерал, — Бондарю Федору Логиновичу.
«Майор теперь наш комбат», — чуть не вскрикнул от радости Дробышев.
А генерал все называл и называл незнакомые фамилии, после каждой глядя то в одно, то в другое место строя офицеров.
— Воинское звание «старший лейтенант», — услышал Дробышев и замер. Замер, как ему показалось, и генерал. Гулко, на весь лес стучало сердце. А генерал, глядя на лист бумаги, все молчал и молчал.
— Дробышеву Константину Павловичу, — штормовой волной захлестнули Дробышева слова генерала.
Деревья покачнулись, валясь куда-то в сторону и тут же выпрямились, еще ярче зеленея в молодых лучах солнца. Лицо генерала удивительно странно приблизилось почти вплотную, и Дробышев отчетливо видел его прищуренные глаза и сетку темных морщин вокруг них. На мгновение всплыло и тут же исчезло бледное, встревоженное лицо Вали. Руки почему-то мелко дрожали и никак не хотели держаться, как положено в строю, а рвались вверх. Дробышев с трудом совладал с руками и, успокаиваясь, прислушался к голосу генерала, называвшему все новые и новые фамилии.
— Поздравляю вас, товарищи офицеры, с присвоением новых воинских званий, — помолчав, в полный голос, звонко и торжественно закончил генерал.
— Служим Советскому Союзу, — всколыхнув дремавшие сосны, прогремел строй офицеров.
Звуки оркестра погасили катившиеся по лесу отзвуки людских голосов.
Дробышев стоял, не чувствуя самого себя, весь охваченный вдохновенным порывом радости. Столетние, заматерелые сосны, небесная синь, просвечивающаяся сквозь их коряжистые ветви, золотистые нити теплых солнечных лучей, гром оркестра — все, все, что было вокруг, казалось совершенно необычным, невиданным и никогда неповторимым.
Глава двадцать пятая
Сколь ни сложна бывает жизнь, сколь ни трудны порой условия, человек все же осваивается с самыми, казалось, невероятными обстоятельствами. Он привыкает к особенностям реальной действительности и уже то, что раньше считал совершенно невыносимым, принимает в конце концов за обычное и даже частенько радостное и необходимое.
Так считал и Владимир Канунников после месяца окопной жизни.
Ефрейтор Аверин оказался совсем не таким суровым и замкнутым, каким представился он Канунникову в первую фронтовую ночь. Правда, он по-прежнему не отличался словоохотливостью, говорил скупо и редко. Но в каждом его слове, в каждом движении грубого, морщинистого лица и жилистых, заскорузлых рук Канунников чувствовал внутреннюю теплоту и, очевидно, скрытую доброжелательность к своему помощнику. Канунников скоро подметил это и, желая окончательно завоевать доверие своего, как говорили в армии, непосредственного начальника, старался делать все так, чтобы вызвать если не открытое, то хотя бы внутреннее одобрение Аверина. Без напоминаний он убирал и подмаскировывал окоп, ход сообщения и земляную конуру, именуемую жильем, смахивал каждую пылиночку с длинностволой бронебойки, ходил на кухню, держал постоянно запас свежей воды. Он пытался даже чистить котелок Аверина, но ефрейтор так взглянул на него, что Канунников никогда больше не прикасался к аверинскому котелку.
Особенно старался Канунников на земляных работах. С темна до рассвета долбил он то киркой, то ломом мерзлую землю, таскал бревна для дзотов и землянок, с удовольствием ловя на себе одобрительные взгляды ефрейтора.
Установились у Канунникова нормальные отношения и с длиннобудылым, под стать противотанковому ружью, Чуваковым, так разбередившим при первой встрече незажившие раны Канунникова. Этот окопный сосед по несколько раз в день приходил к Аверину, подолгу сидел, курил без конца, балагурил, но совсем не задевал Канунникова, даже частенько посматривал на него одобрительно и, вроде, сочувственно.
Только не знал Канунников, что перемена эта в Чувакове произошла после короткого, но внушительного разговора с ним самого Аверина.
— Ты вот что, Антон, — оставшись наедине с Чуваковым исподлобья взглянул на него Аверин, — ты эти свои разговоры про мильен брось. Что было, то было, а казнить человека за одно и то же дважды не по-нашему. Натворил там делов разных — осудили и хватит. Теперь надо помочь ему душой воспрянуть. Вот так-то.
Чуваков хотел было возразить, но, посмотрев на пудовые кулаки Аверина и его суровое лицо, невнятно пробормотал:
— Да, оно, конешно… Оно, ежели по-человеческому-то… Только уж больно много он того этого…
— Много или мало, — все тем же недопускающим возражения тоном сказал Аверин, — это мы до точности не знаем. Только раз его суд простил, то и тебе нечего над ним измываться. К тому же мы не где-нибудь у тещи на именинах, а на войне. Может, вот в этом окопе он жизнь свою за тебя положит.
— Не верится что-то, — возразил Чуваков.
— А ты верь, верь. Кто не верит, у того булыжник вместо души заложен, а ты парень душой-то сердешный вроде, сочувственный.
Никогда раньше не думал Канунников, что одно лишь молчание почти совсем незнакомого человека будет для него великой радостью. Прошло всего несколько дней, как Чуваков ничем не напоминал о прошлом Канунникова, и сам Канунников почувствовал себя совсем другим человеком. Вскоре произошло и другое, незамеченное Канунниковым событие. Как-то после обеда, когда на всем фронте дремала уютная тишина, Аверин принес свежую газету.
— Может, вслух почитаем, — сказал он, как-то удивительно приветливо посмотрев на Канунникова. — У меня-то грамотешки всего один класс, да и то одну зиму проходил, а там половодье надвинулось, травка проклюнулась, и пошел я телят пасти.
До вечера от передовой статьи и до самой нижней строчки последней страницы вполголоса читал Канунников, а погрустневший, задумчивый Аверин молча слушал, ни разу даже не закурив.
На следующий день он снова принес газету. Теперь к ним присоединился и Чуваков. Он, как и Аверин, слушал внимательно, но то и дело перебивал чтение самыми неожиданными репликами:
— Ах ты, черт возьми! Да ну? Не поверю! Точно! Так их, так подлецов! Постой, постой, повтори-ка, как там про этот самый океан-то Тихий сказано…
И Канунников возвращался к прочитанному, растолковывал, что было не ясно, добавлял то, чего не было в статье.
С этого времени в расчете Аверина создался своеобразный клуб. На громкое чтение, как бабочки на свет, потянулись солдаты из других расчетов и отделений. Вслед за газетами появились журналы, в которых Аверин просил прочитать то одну, то другую статью. Вскоре принес он истрепанный томик рассказов о войне, потом «Как закалялась сталь», «Чапаев».
Канунников, опять не догадываясь, что все эти газеты, журналы, книги появлялись не случайно, с наслаждением читал их вслух. Он с радостью замечал, как суровые, заросшие, немытые солдаты жадно ловят каждое его слово, кто приглушенно вздыхая в особенно острых местах, кто молча думая, морща лоб и сдвигая брови, кто выражая свои чувства короткими, скупыми репликами.
Но окончив чтение и оставшись один, Канунников сразу же забывал этих людей. Их начисто вытесняли из его памяти воспоминания юности и безоблачных предвоенных лет. Он забывал, что случилось с ним всего полгода назад, и чувствовал себя прежним Володей Канунниковым — сильным, красивым, любимцем девушек, женщин и друзей. На фронте к тому же установилось затишье, изредка прерываемое короткими перестрелками. Дзот, где теперь обосновались Аверин с Канунниковым, стоял почти в полутора километрах от переднего края, куда не долетали пули.
Властно надвигалась неудержимая прелесть ранней весны. Она постепенно всколыхнула в Канунникове заглушенные событиями прежние мечты. Он не видел больше кошмарных снов с леденящими сердце сценами следствия, суда, отправки на фронт. Москва с ее шумными улицами, ослепительно сверкающими ресторанами, красивыми женщинами грезилась ему. Только воспоминания об отце, не написавшем ему ни одной строчки, иногда омрачали его думы. Но это проходило мимолетно. Он был совершенно уверен, что пройдет еще немного времени, и мать вытащит его из этой, совсем не свойственной ему жизни. Часто вспоминал он и Андрея Бочарова, не однажды собирался писать ему, но откладывал, ожидая, что Андрей напишет первым или через своих друзей окажет влияние на его судьбу.
Но все оборвалось вдруг совершенно неожиданно. Рано утром Аверина вызвал командир взвода. Ничего особенного в этом не было, лейтенант частенько вызывал командиров расчетов, видимо, давал им указания или выслушивал их доклады. Канунников никогда не интересовался, о чем они там говорили, беспокоясь лишь, когда ефрейтор долго не возвращался.
На этот раз Аверин вернулся только к вечеру. Был он необычайно оживлен и заметно взволнован.
— Вот, Владимир Андреевич, и на дело настоящее идем. В боевое охранение, — важно пояснил он. — Положение там, конечно, не то, что тут. Нос к носу с фрицами! Верно, путь им преграждает проволока колючая в три ряда, мины, говорят, сплошь понатыканы, и дзот похлеще нашего. Я все обглядел. Добротно сделано. Бревна в два наката! Обстрел, правда, маловат. Бугор мешает, но прицелиться и ударить раз пять, а то и шесть вполне возможно.
Боевое охранение! Канунников хорошо знал, что это такое. Передний край называют краем света, а боевое охранение это по ту сторону края света, где-то в бездонной пропасти между жизнью и смертью.
Канунников физически ощутимо почувствовал эту страшную пропасть и уже не разобрал, что продолжал говорить Аверин, совершенно потеряв представление о действительности.
«Спокойно, спокойно, — опомнясь немного, сказал он самому себе, — не маленький ребенок, не трус же ты в конце концов».
Эта мысль и опасность показать себя трусом ободрили его. Внешне спокойно собирал он вместе с Авериным немудреные солдатские пожитки, чистил противотанковое ружье и автомат, перетирал и укладывал патроны, мысленно живя уже не здесь, в уютном и спокойном дзоте на тыловой позиции, а там, в боевом охранении, на самом виду у противника. Аверин сказал, что пойдут они, как только стемнеет, и Канунников бессознательно начал молить, чтобы солнце еще хоть часик, хоть полчаса постояло на месте. Но вековечное светило, наоборот, с дьявольской поспешностью опустилось за край нежной от его последних лучей земли, и, как показалось Канунникову, сразу же, без малейшей паузы, навалилась ночь.
По темным перепутанным лабиринтам ходов сообщения шагал Канунников вслед за Авериным, от подавленности даже не чувствуя тяжести противотанкового ружья. Навстречу им то и дело попадались люди, невидимые часовые часто спрашивали пропуск, и это успокаивало Канунникова.
«Живут же все, — думал он, — ходят, стоят на постах. И в боевом охранении так же».
— Вот и наш новый дом, — останавливаясь, сказал Аверин. — Справа от нас пулеметчики, слева — Чуваков с Сенькой, а впереди стрелки.
«Впереди стрелки», — торжественным звоном отозвалось в уме Канунникова.
Он всей грудью вздохнул, погладил холодный металл ружья и вслед за Авериным спустился в дзот.
— Так, значит, сделаем, — по-хозяйски разложив вещи и установив перед амбразурой ружье, неторопливо сказал Аверин, — до двенадцати я вздремну, а потом вы. Охо-хо, и умаялся же я за денек нынешний, — уютно, по-домашнему добавил он и вскоре уснул.
«Вот спокойная душа, — позавидовал ему Канунников. — Только прилег, закутался в шинелку, и все ему нипочем».
В дзоте густела могильная темнота. Свежие сосновые бревна истекали дурманящим запахом смолы. Под ногами при малейшем движении неприятно скрежетала мелкая щебенка.
Канунников посмотрел в амбразуру и, ничего не увидев, присел на земляную приступку. Что-то холодное и неприятное попало под руку, и он, поспешно отдернув ее, вскочил.
«Фу ты, черт, — выругался он, вспомнив, что сам же у входа положил свою лопату. — Что я психую, как институтка».
Он решительно достал папиросу, чиркнул спичкой, но тут же погасил ее. Крохотная вспышка, казалось ему, могла взорвать все безмятежное спокойствие вокруг. Как и всегда, при неудовлетворенном желании, ему до тошноты хотелось курить. Чтобы хоть как-то отвлечься, он опять прошел к амбразуре и грудью прилег на площадку для ружья. И сразу же навалилась сонная, одуряющая слабость. Как в бреду, возникли перед ним напоенный свежестью лесок у дороги на Серпухов, крохотная полянка с россыпью простеньких цветов и растерянно-злое, удивительно красивое лицо Веры Полозовой. Он даже услышал ее приятный, вибрирующий голосок с почтительно-нежными, а потом негодующими, так удивительно передававшими ее возмущение, нотками.
— Ах, Вера, Вера! — бесшумно вздохнул он. — В Москве теперь тоже ночь, спишь ты безмятежно и ни о чем не тревожишься.
Воспоминание о Варе было так приятно, что сонливость мгновенно исчезла и мысли потекли спокойнее, опять уводя из этого дзота в то блаженное прошлое, о котором в последнее время так часто мечталось. Он не слышал, как ворочался и тихо стонал во сне Аверин, не чувствовал наползавшей в дзот промозглой сырости, совсем позабыл, где он находится.
— Сколько там на часах-то? — прервал его думы голос Аверина.
— По… По… Почти двенадцать, — взглянув на единственную сохранившуюся от прежнего вещь — красивые, светящиеся часы, пробормотал Канунников, хотя стрелки уже показывали половину первого.
— Ну вот, и вздремнул славненько, — зевая и с хрустом потягиваясь, добродушно сказал Аверин. — Ложитесь-ка на мое местечко нагретое и, как говаривал батька мой бывалыча: «Ляжь колом, а встань соколом».
Канунников с удовольствием вытянулся на узеньком топчане, спиною прижался к бревенчатой стене, и сам того не ожидая, почти мгновенно уснул. Резкий, сотрясающий удар сбросил его с нар. Ничего не понимая, он вскочил, но от нового, еще более оглушающего удара отлетел к стене.
— Амбразуры засыпало, — сквозь страшный шум, как из глубокого подземелья, донесся до него голос Аверина. — Бери патроны, автомат и в траншею.
Ничего не понимая, подчиняясь только голосу Аверина, Канунников схватил автомат, сумку с патронами и, забыв даже надеть каску, выскочил из дзота. Прямо в глаза ему ударили слепящие лучи низкого солнца.
— Сюда, скорее! — сквозь гул и грохот уловил он возглас Аверина и, натыкаясь то на одну, то на другую стену траншеи, побежал вправо. Рядом оглушающе треснуло, потом еще раз, но уже дальше, и над головой что-то пронзительно засвистело. Кто-то резко рванул у него сумку с патронами, и только встряхнув головой, Канунников понял, что это был Аверин. Он уже установил ружье на площадке перед траншеей и, повернув к Канунникову все такое же в рубцах морщин лицо, так же спокойно проговорил:
— Видал! Минами да снарядами оглушают. Верно, попугать надумали, а может, и еще что покаверзнее.
Канунников, как во сне, видел темное сплетение колючей проволоки впереди, какие-то ямы, похожие на язвы незаживших ран, и черный, закрывавший все остальное, бугор с петлястым извивом траншей. Он сразу же понял, что это были не наши, не свои, а вражеские траншеи, и от этого попятился назад. Два новых оглушающих взрыва справа оттолкнули его к Аверину.
— Главное — патроны, патроны, — проговорил ефрейтор, не отрываясь от нацеленного на бугор ружья, — и автомат держи наготове.
Канунников схватил два обжигающих холодом патрона, встал рядом с Авериным и вдруг увидел на вершине бугра один, потом второй, третий фашистские танки. Они с такой ужасающей быстротой надвигались, что Канунников не выдержал, пригнулся и побежал по траншее.
— Патрон, — сказал Аверин, — да скорее же! — яростно прокричал он и резко обернулся. Канунникова рядом не было. Аверин выхватил из сумки патрон и припал к ружью. Фашистский танк был совсем рядом. Вздымая землю, искрами отблескивала на солнце мелькавшая гусеница.
— В гусеницу ему не угодишь, — пробормотал Аверин и поймал в прицел заднюю часть танка. От сильного толчка ружья он попятился, схватил новый патрон и ударил, опять целясь выше гусеницы. Он снова зарядил ружье, но фашистский танк уже стоял, окутываясь смолянистым дымом.
— Ух, черт возьми, — с хрипом продохнул Аверин и, спохватившись, беспокойно взглянул на бугор. Слева, у самой проволоки, свалился набок еще один танк. Не успел Аверин осмыслить, что с ним, как позади широченным раскатом ахнуло, с шелестом, плеском, шорохом полетели вверху невидимые снаряды, и весь бугор, где змеились фашистские траншеи, густо покрылся огнем и дымом.
— Наши, Канунников, наши! — закричал Аверин, срывая с головы каску. — Нарвались фрицы! Не хотели спокойно сидеть — теперь нате вам, захлебывайтесь! А где же, где же он? — беспокойно проговорил ефрейтор, отыскивая глазами Канунникова.
Но в траншее было пусто. Только сиротливо валялся знакомый автомат с выщербленным прикладом.
— Ужель убили? — встревоженно прошептал Аверин, раздумывая: искать ли Канунникова или оставаться у ружья.
— Не сунутся, — видя, как по вражеским позициям все учащеннее и жестче молотит наша артиллерия, решил он и, тревожно осматриваясь, пошел по траншее.
— Антон, — окликнул он выходившего из дзота Чувакова, — ты не видел…
— Жив, жив! — совсем не слушая Аверина, бросился к чему Чуваков. — А у меня прямо сердце оборвалось, захожу в дзот — пусто.
— Да подожди ты, — оттолкнул Аверин обнимавшего Чувакова, — ты моего помощника, Канунникова, не видел?
— А где он?
— Я сам тебя спрашиваю.
— Да где был-то он?
— Вот тут, со мной рядом был, а теперь нету.
— Поранило, может, а то и вовсе на куски разнесло. Смотри, как наворочали-то, — показал Чуваков на множество еще дымившихся воронок.
Аверин, а за ним Чуваков метнулись в одну сторону траншей, потом в другую, свернули в ход сообщения и, пробежав метров двести, остановились. У груды опаленной взрывом земли, далеко позади позиции, ничком лежал Канунников.
— Бежал, гад! — яростно прохрипел Чуваков. — Душеньку свою спасал, мильенщик.
— Да не кричи, жив, может, — резко оттолкнув Чумакова, склонился над Канунниковым Аверин.
— Ну, что? — с дрожью в голосе спросил Чуваков.
Аверин с трудом выпрямился и опустил голову.
— Ах, подлюга, — заскрежетал зубами Чуваков, — шкура поганая.
— Ладно злобствовать-то над мертвым, — тяжело дыша, сказал Аверин. — Виноватый от своей вины никуда не уйдет.
Глава двадцать шестая
Узнав, что генерал Решетников уже четвертые сутки находится в войсках, Бочаров торопливо помылся, вычистил обмундирование и пошел в оперативное управление штаба фронта. Один только вид деловито сновавших из дома в дом офицеров сразу же изменил настроение Бочарова и ввел его в привычную фронтовую обстановку.
В просторной школе, занятой оперативным управлением штаба фронта, как и всегда, было шумно и даже весело. У стола оперативного дежурного толпились офицеры, наперебой о чем-то расспрашивая пожилого майора с красной повязкой на рукаве. За приоткрытой дверью крайней комнаты лихо трещали пишущие машинки. В соседней комнате задиристо и рьяно спорили несколько голосов, видимо, обсуждая какой-то важный вопрос. То в одном, то в другом месте раздавались призывные гудки телефонов, слышался говор, шелестели бумаги. У школы с визгом затормозил автомобиль, и насквозь пропыленный подполковник, стремительно пробежав коридором, исчез в дальней комнате.
— Вернулся, — встретил Бочарова вечно озабоченный и неугомонный Савельев в новеньких полковничьих погонах и с кипой бумаг под мышкой — обстановкой интересуешься? Идем ко мне, дам карту, дам все последние сведения разведки, а сам, прости, спешу, вот так занят, — махнул он рукой выше головы и увлек Бочарова за собой.
— Полковника присвоили, — на ходу проговорил Бочаров. — Поздравляю, Юра…
— Ай, какие тут поздравления, — пренебрежительно отмахнулся Савельев. — У нас такая кутерьма, и вздохнуть некогда. А впрочем, у нас всегда кутерьма. Жизнь наша такая, оперативная. Ну, что у тебя, как дома?
— Ничего, — с трудом выдавил Бочаров. — Дай мне материалы, а сам иди, у тебя же столько дел. Вырвется время посвободнее, тогда поговорим.
— Добро, — согласился Савельев, — и звание мое обмоем.
— Безусловно.
— Вот это все самое новое, — подал Савельев оперативную карту и пачку документов. — Сиди, изучай, я не скоро буду. Закончишь — секретчикам отдай все.
С первого взгляда на карту оперативной обстановки Бочаров понял, что за время его поездки домой на фронте произошли крупные изменения. Общая линия фронта, создававшая так называемый Курский выступ, осталась прежней. Проходя в сотне километров восточнее Орла, она плавным изгибом спускалась к югу, затем резко поворачивала на запад. От города Севск она вновь почти по прямой уходила к югу, у города Сумы опять резко переламывалась, устремляясь на восток, к Северному Донцу у Белгорода, откуда, оставив Белгород в расположении противника, опять ленивыми извивами уходили на юг. Окаймленный с севера, с запада и с юга, Курск с по крупным узлом железных, шоссейных и грунтовых дорог был центром, который с трех сторон полукольцом охватила огненная линия фронта. И только восточнее, со стороны Воронежа противник не угрожал Курску.
И если общее начертание осталось прежним, то положение на фронте резко переменилось. Всего месяц назад это огромное, по территории равное всей Англии, пространство Курского выступа было пусто и совершенно не готово к обороне. Даже на самом переднем крае, где наши войска стояли лицом к лицу с противником, змеились только коротенькие обрывки траншей, с большими пустыми промежутками между ними, кое-где испятнанными реденькими окопами. Теперь же по всему переднему краю проходила сплошная, в рост человека, траншея; позади нее вились вторая, третья, а во многих местах четвертая и пятая траншеи, соединенные целой сетью ходов сообщения. Это была та самая главная полоса обороны, которая должна будет выдержать первый и решающий удар противника. Позади этой полосы, все ближе и плотнее окаймляя Курск с севера, с запада и с юга, темнели траншеи второй и третьей оборонительных полос. На четыре десятка километров от переднего края все пространство вокруг Курска было заполнено опиравшимися на траншеи батальонными районами обороны и противотанковыми опорными пунктами.
Никогда еще Бочарову не приходилось видеть столь сложной и прочной системы обороны. И все это было сделано в поразительно короткий срок. Почти десять миллионов метров траншей и ходов сообщения было отрыто на прямоугольнике Курского выступа.
«Если все это вытянуть в одну линию, — мысленно подсчитывал Бочаров, — то глубокая канава, по которой, не пригибаясь, может пройти человек в полный рост, протянется через всю Европу и Азию от Атлантического до Тихого океана».
Не менее потрясающими были и другие цифры. Всю эту сложную систему траншей прикрывали семьсот километров проволочных заграждений и почти полмиллиона противотанковых мин.
Пораженный гигантским размахом инженерных работ, Бочаров с восхищением смотрел на карту и мысленно повторял:
«Да, это мощная, несокрушимая, непреодолимая оборона».
Но восторг Бочарова сразу же померк, как только он углубился в изучение противника. С севера и с юга со стороны Орла и Белгорода Курский выступ сжимали две мощные группировки немецко-фашистских войск. Непосредственно на фронте вражеских войск было сравнительно мало. Зато в ближних тылах, в двух-трех десятках километров от линии фронта грозно синели кружки и овалы, обозначающие танковые, моторизованные и пехотные дивизии. Они, словно горные лавины, с двух сторон, с севера и с юга, нацелились на Курск. По укоренившейся привычке Бочаров мысленно представил, что будет, когда эти две лавины на узких участках фронта ринутся на Курск, и невольно замер от страшного предчувствия. Ни одно из прежних сражений, которые были известны истории, не шло ни в какое сравнение с тем, что могло произойти здесь, между Орлом, Курском и Белгородом. А разведывательные сводки одна за другой сообщали о подходе в район Орла и Белгорода все новых и новых вражеских войск. Особенно тревожны были донесения партизан. Они сообщали, что все железнодорожные узлы во вражеском тылу забиты воинскими эшелонами, что день и ночь по всем магистралям с запада на восток идут танки, артиллерия, пехота, что даже на крохотных аэродромах скопились сотни фашистских самолетов, что прифронтовые склады и базы до предела заполнены боеприпасами и горючим, а с запада все подходят и подходят новые транспорты.
Затаенной тревогой, скрытой угрозой веяло от каждого документа разведки. Читая и перечитывая их, сравнивая теперешнее положение с недавним прошлым, Бочаров ощутимо чувствовал, как осложнилось положение на фронте. Даже не искушенный в военном деле человек, имея у себя документы, которые изучал Бочаров, мог твердо сказать, что неумолимо приближается начало роковых событий.
— Вернулись? — услышал Бочаров стремительный говорок Решетникова. — Как дома?
— Отца похоронили, — сдавливая опять подступивший к горлу комок горечи, ответил Бочаров и, пожав руку Решетникова, тихо добавил:
— И дочь родилась.
— Да, да, — проговорил Решетников, — отец умер, дочь родилась. Так и идет вся наша жизнь: одни, сделав свое, уходят, другие приходят.
Он присел напротив Бочарова, сдвинул густые, высветленные брови и, о чем-то напряженно думая, всмотрелся в лежавшую на столе карту.
— Да-а, жизнь, жизнь! Весьма сложная, весьма трудная это штука, — задумчиво проговорил он и, оживясь, кинул на Бочарова странно тревожный взгляд.
— Случилось что-нибудь, Игорь Антонович? — невольно привстал от этого взгляда Бочаров.
— Пока не случилось, но весьма скоро может случиться, — сжав длинные сухие пальцы, сказал Решетников и склонился к Бочарову. — Только сейчас говорил с Москвой: у них есть данные, что противник в ближайшие дни начнет решительное наступление на Курск. Ставка Верховного Главнокомандования специальной телеграммой предупреждает об этом командующих Воронежским и Центральным фронтами.
— Это вполне вероятно, и этого нужно было ждать, — вспоминая все, что только узнал о противнике, сказал Бочаров.
— Вероятно, весьма и весьма вероятно, — задумчиво повторил Решетников. — Время самое удачное для начала наступления. Сосредоточение ударных группировок они, кажется, закончили, — кивнул он головой в сторону оперативной карты, — и погода установилась чудесная. Даже в низинах и балках земля высохла. Наступай в любом месте — никаких препятствий. Да, весьма и весьма выгодное для них время, — вновь повторил он и, опять сжав кулаки, склонился над картой. — Только для нас это не выгодно. Еще бы пару недель, хоть недельку. Большинство нашей артиллерии только что встало на огневые позиции и еще не освоилось с новыми условиями. Да и войска не полностью укомплектованы людьми и вооружением. Еще бы недельку, одну недельку! — словно умоляя кого-то, воскликнул генерал и смолк.
Молчал и Бочаров. Синие круги и овалы вокруг Орла и у Белгорода сейчас особенно отчетливо выделялись на карте. Казалось, их стало еще больше и они еще ближе придвинулись к нашей обороне.
— Да, да, да! — застучал пальцами по столу Решетников. — Оборона, конечно, у нас сильная, весьма сильная. Такой обороны еще не знала история, но и противник силен, весьма и весьма силен. Ох, крутая и жестокая будет борьба! И все решат, конечно, ре-зе-р-вы! Вот что, Андрей Николаевич, — продолжал он, глядя на Бочарова, — я поеду, посмотрю армейские и фронтовые резервы. Вы оставайтесь здесь и вживайтесь в обстановку. В Москву я все только что доложил.
— Может, мне поехать в дивизии первого эшелона? — предложил Бочаров.
— Нет, сейчас там, пожалуй, делать нечего, — возразил Решетников. — Они приведены в боевую готовность, и всякое посещение в такое время будет только отвлекать командиров. Сами понимаете, какое там сейчас напряжение.
* * *
Предупреждение Верховного Главнокомандования о возможном переходе немецко-фашистских войск в наступление сразу изменило всю жизнь фронта. Прекратились окопные работы в главной полосе обороны, и все люди заняли боевые места. Командиры подразделений, частей и соединений вышли на свои наблюдательные пункты и, ни на секунду не отлучаясь, настороженно следили за противником. На переднем крае словно вымерло все, затаилось, с минуты на минуту ожидая начала вражеского наступления.
Томительно прошел первый день ожидания. Противник никаких признаков подготовки к наступлению не проявлял. В этот день даже не было самой обычной перестрелки. С рассвета и до темна на всем фронте стояла грозная тишина. Едва сгустел полный мрак, в разных местах фронта десятки групп советских разведчиков двинулись к вражеской обороне. И сразу же разгорелась стрельба, кромешную тьму вспороли сотни осветительных ракет, тревожно понеслись по проводам коротенькие донесения. Всю ночь, то умолкая, то взвихряясь, продолжалась перестрелка. Сколь ни силен был напор советских разведчиков, но ни одной группе не удалось даже приблизиться к вражескому переднему краю.
К утру разведчики вернулись в свою оборону, и вновь на всем фронте установилась тревожная тишина.
К рассвету напряжение на фронте достигло предела. На переднем крае, на вторых, третьих, запасных позициях, и резервах, штабах и даже тылах никто не спал. Но рассвело, взошло солнце, разгорелся погожий весенний день, а немецко-фашистские войска в наступление не переходили.
Так прошли одни сутки, вторые, третьи.
Под вечер пятого мая генерал Решетников вернулся в штаб фронта и, едва войдя в дом, заговорил возбужденно, резко жестикулируя руками:
— Тишина, понимаете, Андрей Николаевич, ти-ши-на! То, что они готовы к наступлению, — факт! Но почему не наступают? Почему?
* * *
Никогда не думал фельдмаршал Манштейн, что в его солидном возрасте возникнет необходимость какой-то глупейшей детской операции — удаление гланд. Но факт оставался фактом. Врачи вдруг нашли не только необходимым, но и категорически обязательным у него, почти шестидесятилетнего человека, вырвать эти разнесчастные гланды. Фельдмаршал, всегда считая мнение врачей незыблемым законом, улетел из Запорожья в Лигниц. Операция заняла всего каких-то полчаса, но, как потребовали врачи, нужно было побыть в покое, вдали от хлопотливых обязанностей командующего группой армий «Юг». Фельдмаршал подчинился, тем более что подготовка наступления на Курск была почти окончена, а радио и телефон обеспечивали ему постоянную связь и со своей группой армий, и с верховным командованием.
Кончался апрель. Подступали долгожданные майские дни, когда наконец-то должна была развернуться эта могучая операция «Цитадель», в подготовку которой он вложил все силы: и физические, и душевные.
Третьего мая, когда фельдмаршал уже собирался вылететь в Запорожье, его вызвали в мюнхенскую резиденцию Гитлера. Он хорошо знал любимую привычку Гитлера проводить важные и сугубо секретные совещания в самых неожиданных местах, и нисколько не удивился этому вызову. Несомненно предстояло совещание и, конечно, о положении на фронте и, вероятно, об операции «Цитадель». Так бывало почти всегда перед началом крупных военных действий. Так было и в этот раз. Отличие было только в том, что Гитлер вызвал к себе небольшое число лиц: генерал-полковников Цейтцлера и Гудериана, начальника штаба военно-воздушных сил генерал-полковника Ешоннека, командующего группой армий «Центр» фельдмаршала фон Клюге, командующего стоявшей в районе Орла 9-й армией генерал-полковника Моделя и его, фельдмаршала Манштейна.
Несколько необычно началось и само совещание. Вместо длинной речи с множеством исторических примеров или резкого, с требованием мельчайших подробностей, допроса присутствующих Гитлер, как показалось Манштейну, совершенно спокойно и бесстрастно обрисовал положение на германо-советском фронте. Затем совсем неожиданно предоставил слово для доклада об операции «Цитадель» генерал-полковнику Моделю. То, что Модель еще с памятных времен сорок первого и сорок второго годов, когда он командовал танковым корпусом, а затем 9-й армией, пользовался особым доверием Гитлера, было всем известно. Но сейчас, когда на совещании присутствовали основные организаторы и руководители операции «Цитадель» — командующие группами армий «Центр» и «Юг», поручение доклада Моделю, всего лишь командующему армией, было неожиданно и оскорбительно и для Манштейна, и особенно для фельдмаршала Клюге, непосредственного начальника Моделя.
Манштейн видел, как дрогнуло и побледнело морщинистое лицо Клюге, как нервно забегали по столу его старческие пальцы.
Невысокий, хрупкий, с настойчивым до наглости взглядом стремительных, метавшихся то в одну, то в другую сторону глаз, Модель решительно встал, посмотрел на лежавшие перед ним бумаги, потом резко отодвинул их в сторону и заговорил твердым, с металлическим звоном голосом:
— Что такое прорыв обороны, мы хорошо знаем. Успех приносит только могучий, сокрушительный, таранный удар по вражеской обороне, способный мгновенно проломить ее, полностью парализовать противника и сломить его волю к сопротивлению. Русские всегда были сильны и упорны в обороне, а сейчас перед нами она особенно мощная. Едва ли вообще история знала оборону, подобную подготовленной русскими на Курском выступе, — с каким-то особенно яростным подъемом сказал Модель и совершенно невозмутимо, спокойно и даже, как показалось Манштейну, дерзко посмотрел на Гитлера. Гитлер, вопреки своему обыкновению перебивать и осаждать вопросами говорившего, сидел молча, неотрывно глядя на Моделя и о чем-то сосредоточенно думая.
— На Курском выступе, — спокойнее, но все так же твердо продолжал Модель, — русские создали мощнейшую и сложнейшую систему инженерных сооружений и заграждений. Непосредственно по переднему краю проходят три, местами — четыре, а кое-где даже пять сплошных траншей. За ними в некотором удалении идет второй пояс из двух-трех траншей, затем — третий пояс… И все это заполнено войсками, связано огневыми позициями, минными полями, проволочными заборами. Чтобы сказать, что мы оборону русских прорвали, — возвысив голос, Модель вновь всмотрелся в Гитлера, — нам нужно продвинуться по меньшей мере на двадцать пять километров. А это значит: на всем этом пространстве придется вести не обычное наступление, а прогрызать, проламывать, штурмовать сплошные укрепления. Для этого нужны силы! То, что у нас есть, — недостаточно для прорыва такой обороны. Нас не спасет даже превосходство в танках, которое мы сейчас создали. Русские перебросили на Курский выступ большое количество новых противотанковых орудий — восьмидесятипятимиллиметровых пушек. Эти пушки с мощным снарядом. Они способны пробить даже лобовую броню «тигра», не говоря уж о других наших танках, — отрывисто махнул рукой Модель и смолк.
— Следовательно, нужно усилить наши ударные группировки, — опять удивительно спокойно, без обычной резкости сказал Гитлер. — Я удвою количество танков в ваших ударных группировках, — теперь уже с обычной властностью выкрикнул Гитлер, — я переброшу к вам значительное количество «тигров», «пантер», штурмовых орудий. Я передам вам грозную силу — сверхмогучий батальон непобедимых «фердинандов». Если я сделаю это к 10 июня, вы сможете сломить оборону русских? — устремил он огненный взгляд на Моделя.
— Для прорыва такой обороны, что перед моими войсками, — стойко выдержав взгляд Гитлера, все так же спокойно, с достоинством заговорил Модель, — мне нужно шесть дней. В более короткий срок такую оборону прорвать невозможно.
— Позвольте, — видимо потеряв самообладание, дрогнувшим голосом сказал Клюге, — позвольте сказать. Это абсурд! — визгливо выкрикнул он, увидев утвердительный кивок Гитлера. — Данные Моделя о том, что глубина оборонительных позиций русских достигает двадцати километров, преувеличены.
— Это подлинный, неоспоримый факт, — даже не взглянув в сторону Клюге, отрубил Модель.
— Не факт, а преувеличение, — разгораясь, уже совсем грубо прокричал Клюге. — Аэрофотоснимки показывают: то, что вы называете траншеями, позициями, не что иное, как развалины старых окопов, оставшиеся от прежних боев.
— Эти развалины могут стать могилами десятков тысяч наших солдат, — сквозь зубы, презрительно морщась, процедил Модель. — По всему видно, что противник рассчитывает на наше наступление. Поэтому, чтобы добиться успеха, нужно следовать другой тактике, а еще лучше вообще отказаться от наступления, — трагическим шепотом закончил он и сел.
Эти слова и, особенно, тон голоса Моделя были так неожиданны и так смелы, что все генералы замерли, с трепетным ожиданием глядя на Гитлера. Только один Модель был по-прежнему спокоен и старательно приглаживал свои черные волосы.
В первые мгновения всем показалось, что Гитлер по обыкновению взорвется, накричит на Моделя и сомнет его, раздавит, обратит в невидимый прах. Но Гитлер молчал, и ни один мускул не дрогнул на его жестком лице. Только длинные, костлявые пальцы правой руки нетерпеливо крутили пуговицу френча, едва заметно вздрагивая.
— Подготовка нашего наступления затянулась. Русские же успели создать оборону. Окружить их крупные силы сейчас не просто. Наших войск недостаточно. Танки, танки, больше нужно танков. И время для этого. Отложить операцию. Усилить группировки, — скороговоркой, едва слышно бормотал он и вдруг, окинув взглядом мутных непроницаемых глаз Клюге и Манштейна, резко спросил:
— Ваше мнение?
— Я считаю доводы генерала Моделя предвзятыми, — спокойнее, но с заметной злостью на Моделя, заговорил Клюге. — Если мы отсрочим операцию, мы упустим выигрышный момент, мы упустим инициативу.
Гитлер нетерпеливым кивком головы остановил его и обернулся к Манштейну.
— Я тоже считаю отсрочку наступления нецелесообразной, — заговорил Манштейн, чувствуя все нараставшую тяжесть от неотрывного взгляда Гитлера. — За то время, пока мы получим пополнение танками, противник тоже пополнится. Русская промышленность ежемесячно выпускает не менее 1500 танков. И все они могут оказаться под Курском. Кроме того, советские войска еще не полностью оправились от зимних потерь. Они сейчас спешно пополняются. Каждый день отсрочки наступления наращивает силу противника. И с каждым днем его оборона становится все прочнее и прочнее.
— Численное превосходство русских в танках, если они его добьются, — не ожидая, пока смолкнет Манштейн, сказал Гитлер, — мы вдвойне, втройне компенсируем техническим превосходством наших «тигров», «пантер», «фердинандов». Мы усилим броню средних танков. Это наше преимущество, и я его полностью использую. Для обеспечения надежного успеха необходима отсрочка начала наступления. Впрочем, — помолчав, громко и резко закончил он, — я еще подумаю. Вы свободны, господа. Приступайте к своим обязанностям.
11 мая 1943 года Гитлер отдал приказ об отсрочке операции «Цитадель» до середины июня.
Глава двадцать седьмая
Весна…
Степан Иванович Васильцов лежал на ворохе мягких молодых листьев и слушал гулкий перестук капель по тугому брезенту палатки. Рядом, широко разбросав руки и приподняв острый небритый подбородок, беспробудно спал Перегудов. Второй час лежал он навзничь, в неудобном положении, но даже не шелохнулся, только всхрапывал изредка да что-то бормотал во сне. Последнюю неделю Перегудов почти не отдыхал. Он бегал от одной группы партизан к другой, возвращался в лагерь и опять спешил на звуки вскипевшей перестрелки. Вчера каратели чуть было не прорвались, но, к счастью, хлынул ливень и всего за какой-то час ручей вспух, заливая луговину, и фашистские пехотинцы остались на той стороне.
Ядреный, по-весеннему теплый дождь лил всю ночь. На месте поймы ручья, извилистой полосой отделявшей партизан от фашистских отрядов, образовалась широченная река.
— Нашли! — бурей влетев в палатку, прокричал Артем Кленов.
— Тише, — показал Васильцов на Перегудова, но сам, не в силах сдержать волнения, воскликнул: — Вернулись! Нашли!
— Так точно, Степан Иванович, — сияя мокрым возбужденным лицом, прошептал Кленов. — И штаб бригады там, и командир, и два наших партизанских отряда. Недалеко тут, километров пятнадцать. Фрицев накрошили — жуть! Целый пехотный полк вчистую раскромсали, полицейский батальон и две охранных роты. Трофеи захватили — полным-полно! Одних танков шесть штук. Целенькие!.. Ребята наши уже моторы крутят.
— Как с продовольствием?
— Привез! Мешки на лошадей навьючить пришлось, на повозках не пробьешься. Грязюка — чуть не по горло. Ну, в общем, сухарей четыре мешка, два мешка крупы, сахару чувал. Немецкое все, трофейное!
— А боеприпасы?
— Степан Иванович, — укоризненно покачал головой Кленов, — да это я в первую очередь, боеприпасы-то. И патроны, и гранаты — хватит теперь фрицев угостить. Вот только, — нахмурясь, замялся Артем, — соли нет ни капельки. Наши там тоже без соли сидят. Ну, это вы нам поручите, — мгновенно повеселев, заверил он Васильцова. — Боеприпасы теперь есть, проберемся в тыл к фрицам и всего добудем. Да, вот еще что, — спохватился Кленов, — двух радистов командир бригады с рацией прислал и вот пакет командиру.
— Какой пакет? — хрипло пробасил Перегудов.
— Вам, товарищ командир, — ринулся к нему взбудораженный Артем, — от командира нашей партизанской бригады. И от всех, кто там, приветы, приветы… Ну, в общем, всем, всем приветы.
Хмуря заспанное лицо, Перегудов молча взял пакет, неторопливо вскрыл его и, достав бумагу, долго, словно ничего не понимая, читал.
— Все! — вскакивая, вдруг закричал он во весь голос. — Все рухнуло у фрицев! Вырвались наши партизанские отряды! Вырвались!
Он схватил Васильцова, потом Кленова и, прижав их к себе, продолжал все так же восторженно выкрикивать:
— Ни танки, ни артиллерия, ни авиация не сломили нас. А теперь мы хозяева! Теперь повоюем! Как, Артем, повоюем?
— Так точно, товарищ командир! За все прошлое с фрицами расквитаемся и кое-что в придачу подкинем.
— Ну, ладно, — стихнув, сел Перегудов на бревно. — Теперь нужно все привести в порядок и — за дело. Командир бригады пишет, что сейчас главная задача — подготовка подрывников. Приказано всех здоровых партизан подрывному делу обучить. Видать, наше командование мощный фейерверк для фашистов задумало.
* * *
— Начальник штаба, ко мне! — перекосив изломанные брови и придав всегда озорному, веселому лицу неповторимо свирепое выражение, крикнул Артем. — На одной ноге, сей момент!
— Слушаюсь, товарищ командующий, — лихо, с подобострастием в ломком голосе отозвался из шалаша Сеня Рябушкин и стремительно вытянулся перед Кленовым.
— Что такое? Что все значит? Что за растрепанный вид? — с ног до головы окинул взглядом Артем щупленькую в непомерно длинной гимнастерке фигуру Рябушкина. — В каком виде изволите к самому командующему являться? Товарищ заместитель, — обернулся Кленов к лежавшему на спине Кечко, — я вам, кажется, уж сколько раз поручал привести начальника штаба в настоящий боевой партизанский вид. Когда же, в конце концов, будут мои приказы исполняться точно и неукоснительно? Я не потерплю разгильдяйства и распущенности!
Кечко лениво повернулся на бок, с напускным презрением долго смотрел на замершего, как изваяние, Сеню и, пренебрежительно отвернувшись, нехотя проговорил:
— Та я же вам кажин божий день твержу: не по Ваньке шапка така, должность высока для него недоростка. Смахнуть его из начальников штабов и отправить помощником к Круглову коней пасти. Хай вин там своим видом растрепайским коней пугает.
— Товарищ командующий, — взмолился Сенька, — хоть куда загоняйте, только не в пастухи. Круглов этот день и ночь молчит. Я же с ним и говорить разучусь окончательно.
— И правильно, — словно не слыша Сенькин голос, согласился с Кечко Артем. — Самое подходящее место для него в пастухах. Может, хоть лошади воздействуют на него. Да и Круглову одному не скучно будет. А то он, бедняга, от тоски зачахнет и конца войны не дождется. Пиши приказ: «С завтрашнего утра Семена Антоновича Рябушкина изгнать из боевой команды разведчиков и перевести в заместители конюха Круглова. Приказ окончательный, обжалованию не подлежит». Подпись моя.
— Та що до завтра ждать, — возразил Кечко, — шугнуть его сей момент туды на луговину, щоб и духу его тут не було.
— Нет, подождем до утра. Пусть котелки перемоет, вокруг шалаша подметет, на кухню сбегает. А пока, — свирепо взглянул на Сеньку Артем, — зыть к роднику! Воды студеной два котелка, и чтоб до краев, ни капельки не расплескать!
Нина, улыбаясь, слушала неизменно повторявшийся почти ежедневно шутливый разговор разведчиков, где всегда Артем Кленов выступал в роли грозного командира, Иван Кечко, вторя ему, изображал послушного, но неумолимо сурового заместителя, а Сеня Рябушкин был постоянным объектом их начальнических внушений и придирок. Первые дни все это казалось Нине грубой шуткой и даже издевательством двух взрослых мужчин над молоденьким и безответным Сеней Рябушкиным. Но скоро Нина увидела и поняла совсем другое. Эго была та отдушина, которой пользовались трое разведчиков, чтобы и позабыть хоть на какое-то время все трудности суровой партизанской жизни, и дать выход кипевшей в их молодых душах неугомонной энергии. Все они трое, разные и по возрасту, и по характерам, и по развитию, и по способностям удивительно прочно слились между собой, трогательно заботясь и помогая друг другу.
Душой тройки был Артем. Умный, сметливый, окончивший три курса педагогического института, он, казалось, знал все на свете и мог выполнить любую работу. Особенно он был незаменим при выполнении трудных и опасных заданий в тылу врага. О подвигах Артема ходили в отряде целые легенды.
Поэтому неудивительно, что, попав в отряд, худенький, еще совсем подросток, любознательный до назойливости и влюбчивый, как большинство впечатлительных подростков, Сеня Рябушкин сразу же прирос к Артему, ловя каждое слово и стараясь во всем ему подражать. Он почти без слов угадывал каждое желание Артема, не только покорно, но даже с радостью выносил все его подчас обидные шутки и каждое его приказание выполнял с неуемным жаром своей восторженной души. Артем же, подшучивая и часто всерьез распекая Сеню, всячески оберегал и жалел его.
Иван Кечко был полной противоположностью и Артема, и Сени. Молчаливый, сосредоточенный, с мягким взглядом спокойных серых глаз, он часами мог не разговаривать, напряженно думая о чем-то своем и никогда не рассказывая о себе даже Артему. По рассказам Сени Нина знала, что Кечко в отряд пришел из сожженного фашистами села под Сумами, где погибли все его родные и близкие. Во всех делах Кечко был спокоен, нетороплив и внешне даже равнодушен. Только в короткие моменты подтрунивания над Сеней он веселел, присоединяясь к Артему. В эти моменты Кечко удивительно напоминал Нине Петра Лужко. И всякий раз, вспомнив Лужко, Нина неизменно переходила к думам о Сергее Поветкине. Она, сама не зная почему, твердо верила, что Сергей жив, а попав в партизанский отряд, с каждым днем все ощутимее и острее чувствовала его где-то совсем недалеко. По совету Васильцова она сразу же написала в Министерство обороны, прося сообщить, где находится Сергей, но борьба с карателями надолго затянула отправку писем. Да и после, когда в Брянских лесах установилось затишье, прилетавшие с «большой земли» транспортные самолеты кружили над партизанскими базами, сбрасывали на парашютах грузы и, не приземляясь, улетали обратно. Нина терпеливо ждала, почти всегда думая о Сергее. Разведчики, видимо, догадывались о ее мыслях и никогда не заводили разговор о письмах. Только в этот день негласный уговор безжалостно нарушил Сеня Рябушкин.
— Ура-а-а! — кричал он, неся котелки с водой. — Давай, Артем, лезгинку или хотя бы цыганочку на крайность.
— Это что еще за панибратство такое? — строго прицыкнул на паренька Артем. — Придется и в самом деле не ждать утра, а сейчас же отправить тебя к Павлу Круглову.
— Попробуй только, — грозно подбоченясь, без всякой почтительности выпалил Сенька. — Ты теперь в моих руках, и я что хочу, то и делаю.
— Бачилы, — кивнул головой в сторону Сеньки Кечко, — видать парень-то с гаек свихнулся.
Сенька дерзко взглянул на него, потом вдруг сник и приглушенно сказал:
— На вот, Артем. Почта была. Два письма тебе. И я тоже получил, — пряча глаза, совсем тихо добавил он и сел на землю в стороне от всех.
Нина видела, как дрогнуло, розовея, лицо Артема и пальцы нетерпеливо заскользили по конверту.
Кечко, не меняя положения, безразлично смотрел на Сеньку, и только ниже пряди волнистого чуба на виске его учащенно билась синяя жилка.
— Ну что ж, товарищи, — торопливо прочитав письма, с прежней веселостью сказал Артем, — продолжим занятие. Время-то мчится. И так прошутили больше полчаса. Мы остановились на подготовке взрывчатки для надежного подрыва одного рельса. Теперь рассмотрим, как лучше подготовить запал и установить заряд на рельсе.
Нина внимательно слушала и почти не понимала, что говорит Артем. Впервые за все долгие месяцы она думала, что Сергея она больше никогда не увидит.
Глава двадцать восьмая
К лету вырубленный кустарник на склоне холма пошли командного пункта Поветкина буйно разросся, словно стремясь доказать всему человечеству, что все живое на земле неистребимо. Сколько ни швыряй снарядов и мин, сколько ни вали легких, средних и тяжелых бомб, сколько ни пали из пулеметов, автоматов и винтовок, жизнь все равно возьмет верх и на месте погубленного взметнет новое, еще более сильное и прекрасное!
В этом самом кустарнике и решил генерал Федотов провести, как он говорил, «командирские учения на сокращенных дистанциях» с полком Поветкина. За две ночи саперы по указанию генерала отрыли в кустарнике глубокие щели, обозначавшие места командных пунктов, связисты соединили эти щели проводами, и получилось миниатюрное подобие системы управления полка.
Поветкин множество раз бывал на различных учениях, но то, что затеял генерал, было для него новым и не совсем понятным. Только, когда по указанию генерала сам Поветкин, командиры стрелковых батальонов, гаубичного, реактивно-минометного дивизионов, трех истребительно-противотанковых артиллерийских батарей и танковой роты заняли подготовленные для них щели, он понял замысел генерала. Это был новый и единственный в условиях фронта способ проверить работу многих командиров по управлению боем в условиях, наиболее близких к реальной боевой обстановке.
— Ну, Андрей, — сказал Поветкин Лесовых, показывая на Федотова, оживленно говорившего о чем-то с прибывшими офицерами штаба дивизии, — и задаст нам жару генерал, если немцы не помешают.
— Сам-то генерал ничего, — хмуро проговорил явно озабоченный Лесовых, — а вот если его помощнички прицепятся, пощады не жди, все наизнанку вывернут.
— Нам-то с тобой, кажется, от самого достанется. Помощники, видишь, к командирам подразделений побежали.
— Ну, ты-то выдержишь, вон какие плечи могучие! А я как-нибудь за твоей спиной отыграюсь.
— Не отыграешься! И до тебя генерал доберется.
— Что ж, семь бед — один ответ. Бухну что-нибудь невпопад, склоню головушку и вымолвлю: секи, товарищ генерал, голова-то вроде умная, да не тому досталась. — шутливо говорил Лесовых, но голос выдавал его волнение. — Да-а-а! — задумчиво протянул он и уже встревоженно сказал: — Мы-то, если и запутаемся в чем, выкрутимся или, как говорят, отбрешемся, а вот комбаты наши. Молодые все, в бою-то лихие, а перед начальством теряются. Боюсь я за них. Особенно за Бондаря.
— Все готово? — подходя к Поветкину и Лесовых, спросил Федотов.
— Как приказано, все на месте, — ответил Поветкин, тревожно оглядывая темневшие вокруг щели, где виднелись командиры подразделений и офицеры штаба дивизии.
— Тогда приступим, — спрыгнул в окоп Федотов. — Действуйте вы на своем участке обороны с теми силами и средствами, которые есть у вас конкретно. Сейчас противник провел артиллерийскую и авиационную подготовку и перешел в атаку во всей полосе дивизии. Остальное доложат ваши подчиненные.
— А какие результаты артиллерийской и авиационной подготовки? — спросил Поветкин.
— Это узнайте у своих подчиненных, — сухо проговорил Федотов. — Я могу сказать только одно: ваш командный пункт цел, связь работает нормально.
«Ну, теперь начнется морока: вводные, оценка обстановки, решение», — недовольно подумал Поветкин, вспомнив надоедливые занятия в военной академии, когда преподаватель через посредников создавал обстановку, а сам безучастно стоял и наблюдал, как действовали слушатели.
Но первый же телефонный гудок перевернул все мысли Поветкина. Бондарь удивительно спокойным и отчетливым голосом докладывал, что сорок три танка противника и за ними цепь пехоты перешли в атаку, что его боевое охранение вступило в бой, а сам он приказал стрелкам и пулеметчикам пропустить танки и огнем отрезать от них пехоту.
Едва Поветкин положил трубку, как вновь запищал зуммер телефона, и начал докладывать командир первого батальона. На него танки шли двумя группами по пятнадцать-двадцать машин в каждой, а за ними выползали и бронетранспортеры с пехотой.
Записывая и нанося на схему доклады командиров батальонов, Поветкин совершенно забыл о Федотове, который невозмутимо сидел на ступеньках окопа и о чем-то думал.
Вновь позвонил Бондарь и доложил, что три фашистских танка подорвались на минах, два подбиты нашей артиллерией, а остальные, проскочив боевое охранение, приближаются к переднему краю.
— Передай истребительным батареям: огонь по танкам! — приказал Поветкин Лесовых.
Но командир третьей батареи опередил Лесовых и доложил, что он подбил два танка, а восемь обошли его огневую позицию и двинулись вдоль лощины в тыл второму батальону. Тут же позвонил Бондарь и доложил, что двенадцать или пятнадцать танков прорвались на правом фланге и идут на соединение с группой танков, которые продвигаются по лощине.
С каждой секундой обстановка нарастала и осложнялась. Первый батальон с трудом отбил атаку, а второй дрался в полуокружении. Весь огонь своей артиллерии Поветкин сосредоточил на флангах второго батальона, стремясь не дать противнику окружить его и развить наступление дальше. Минут через пять Бондарь доложил, что средняя группа танков, потеряв две машины, отступила за высоту, а правая продолжает рваться к шоссе. Вместе с ней, расширяя прорыв, наступает до двух батальонов пехоты.
«Катюши», давай «катюшами», — нетерпеливо шептал Лесовых.
— Рано, еще не такое может случиться, — возразил Поветкин и приказал командиру гаубичного дивизиона весь огонь перенести на правый фланг.
Федотов одобрительно крякнул, и Поветкин только сейчас заметил, что генерал стоит рядом и внимательно следит за каждым его действием.
«Одобряет, значит все правильно», — подумал Поветкин и впервые после начала учения улыбнулся и по-мальчишески подмигнул озабоченному Лесовых.
Обстановка все осложнялась. Четыре «тигра» прорвались вдоль лощины и устремились к шоссе. За ними ползли средние танки и бронетранспортеры с пехотой.
«Черт возьми, в этой лощине и мины не поставлены», — выругался Поветкин и приказал командиру третьей батареи остановить «тигры». Но прошло не более минуты, и командир батареи доложил, что с его огневой позиции «тигры» не видны и бить по ним нельзя. Поветкин напряженно всматривался в хорошо видимую отсюда глубокую лощину. Готовя оборону, он совсем не ожидал, что противник рискнет пойти именно лощиной. А он, прорвав оборону на переднем крае, ринулся как раз по этому, ничем не прикрытому месту. Чем же его остановить? Стоявшие на высотах справа и слева от лощины две противотанковых батареи вели борьбу с наседавшими на них танками с фронта. Третья батарея не видела «тигров». Оставалось только одно: перебросить эту батарею к шоссе и оттуда ударить по танкам.
— Трудно, товарищ подполковник, — ответил ему по телефону комбат, — там запасной позиции не подготовлено. А на открытом поле расстреляют «тигры».
«Ведь хотел же, хотел там запасную позицию оборудовать, да пожалел артиллеристов, у них и так по три запасных отрыто», — подумал Поветкин и сердито приказал комбату:
— Выдвинуться к шоссе и остановить «тигры»!
— Слушаюсь, выдвинуться к шоссе и остановить «тигры», — хрипло проговорили в телефоне.
Поветкин облегченно вздохнул и рукавом вытер вспотевший лоб. Он хотел было позвонить в батальоны, но запищал телефон и заговорил совсем незнакомый голос:
— Докладывает старшина третьей батареи. При выдвижении к шоссе все пушки подбиты огнем «тигров». Командир батареи ранен. Фашистские танки подходят к шоссе.
У Поветкина от неожиданности чуть не выпала из руки телефонная трубка. Прорыв противника к шоссе разрезал всю оборону полка на две части. Если фашистские танки не остановить здесь, то все кончено: они ударят по тылам полка и сомнут подразделения.
— Танковая рота, — прошептал Поветкин, решив бросить ее в контратаку на прорвавшегося противника.
— Далеко выдвигаться и вдоль фронта, — на приказание Поветкина ответил командир танковой роты, — пожгут нас «тигры». У них же прямой выстрел почти на две тысячи метров.
— Знаю! — потеряв самообладание, выкрикнул Поветкин. — Скорость и маневр — основа действий танкиста. Вперед!..
— А в это время, — тая усмешку, заговорил Федотов, — дивизионная артиллерия открыла огонь по лощине. Два «тигра» и три средних танка загорелись, остальные поползли назад в лощину. На этом и закончим первый эпизод.
— Черт его знает, товарищ генерал, — дрогнувшим голосом, проговорил Поветкин, — я и не ожидал, что он по этой лощине рванется.
— А противник всегда ищет слабое место. И наша задача: создать такую оборону, чтобы не было ни одного слабого места, через которое противник мог бы ворваться в наше расположение.
— Сегодня же ночью минами всю лощину перегорожу, запасные позиции для батарей оборудую, укрытия для танков подготовлю.
— Правильно. И нельзя забывать, что вы не один воюете. Позади вас командир дивизии, а у него мощная артиллерийская группа и сильные резервы. Кроме того, есть авиация, а вы о ней даже не вспомнили Хорошо надеяться на свои силы, но злоупотреблять этим нельзя. Это — пагубное зазнайство, гибельное самомнение. Видите, своих сил не хватает, просите помощи у комдива, у соседей. Противника можно победить только объединенными усилиями. Ну, а теперь, — взглянув на часы, улыбнулся Федотов, — отработаем еще один эпизод. Командир полка вышел из строя, и полком командует его заместитель по политической части майор Лесовых. Только не вмешиваться, — пальцем погрозил Федотов Поветкину. — Лесовых один на своем НП, а вы у него телефонистом.
Поветкин ждал, что Лесовых, как обычно, шуткой начнет свою работу, но он с серьезным, озабоченным лицом взял чистую схему обороны полка, достал из сумки коробку новеньких карандашей, командирскую линейку, блокнот, уложил все у телефона и с подчеркнутой строгостью доложил Федотову:
— К выполнению обязанностей командира полка готов!
— Вот и хорошо. Приступайте, — сказал Федотов и так же, как в начале работы Поветкина, присел на ступеньку окопа.
— Не спеши только, думай, оценивай, — шепнул Поветкин своему заместителю.
Лесовых успокаивающе кивнул ему головой и в знак того, что уверен в своих силах, лукаво подмигнул.
«Ну, значит, не растеряется, — успокоился Поветкин, — коли настроение бодрое».
В этот раз Федотов через своих помощников создал совсем другую обстановку. Дважды пробомбив с воздуха и проведя артиллерийскую подготовку, противник атаку начал не отдельными группами танков, как было в первом эпизоде, а ринулся сразу сплошной лавиной на всем фронте полка. Впереди, стальным щитом, двигались «тигры» и «пантеры», за ними выползали средние танки и штурмовые орудия, а позади катилась пехота на бронетранспортерах.
Лесовых, в раздумье морща вспотевший лоб, быстро нанес обстановку на схему, и, вызвав по телефону одного за другим командира гаубичного дивизиона и командиров всех противотанковых батарей, приказал открыть огонь по атакующим танкам.
Поветкин сразу же понял всю губительность такого действия, повернулся к Лесовых, но Федотов резким взмахом руки остановил его.
Лесовых, склонясь над схемой, видимо, не сознавал еще, что может произойти в ближайшие минуты.
— Повторяйте доклады комбатов вслух, — приказал Федотов Поветкину.
— Комбат два докладывает, — выслушав по телефону Бондаря, передал Поветкин, — наши противотанковые орудия ведут шквальный огонь. Два фашистских танка горят, остальные замедлили движение, а на правом фланге отползают назад.
Лесовых радостно улыбнулся и, склонясь к Поветкину, нетерпеливо спросил.
— А в первом, в первом что?
— Перед первым батальоном горят четыре танка, остальные ведут огонь с места. Пехота выпрыгивает из бронетранспортеров.
— Передай командиру дивизиона реактивных минометов, — звонким, ликующим голосом приказал Лесовых, — залп по пехоте и танкам перед первым батальоном!
— Вы только телефонист, передавайте, что приказано, — оборвал Федотов заговорившего было Поветкина.
Лесовых удивленно посмотрел на генерала, потом на Поветкина и, поймав его осуждающий взгляд, растерянно проговорил:
— Отставить залп. Минометным ротам — весь огонь по пехоте противника.
— Поздно. Залп уже дан, — сухо проговорил Федотов, не глядя на Лесовых, — это же реактивные установки, а не арба на волах. Секунда и — мины в воздухе.
Щеки Лесовых покрылись бурыми пятнами, густые, разросшиеся брови почти совсем закрыли глаза, по вискам катились градины пота.
Он поднял голову, что-то хотел сказать генералу, но сдержался и, услышав писк телефона, встревоженно спросил Поветкина:
— Что там?
— Докладывают командиры истребительных батарей. По огневым позициям наших пушек артиллерия противника сосредоточила весь свой огонь. В первой батарее разбито три орудия, вторая батарея полностью вышла из строя, в третьей осталось всего два орудия.
— Как? Почему? — растерянно спросил Лесовых.
— Почему выведена из строя почти вся противотанковая артиллерия полка? — не выдержав, встал Федотов и вплотную подошел к Лесовых. — Да потому, товарищ майор, что вы рано открыли огонь, выявили все огневые позиции и дали возможность противнику точно ударить по вашим пушкам. Ждать нужно было, подпустить танки ближе и в упор расстреливать. Чем теперь воевать будете? Пушек противотанковых нет, залп реактивных минометов израсходовали… Когда будет готов новый залп «катюш»?
— Видимо… — замялся Лесовых, — видимо, уже готов.
— Плохо технику знаете. Залп не готов и еще не скоро будет готов.
Федотов отвернулся от Лесовых, торопливо закурил и сердито буркнул.
— Продолжайте командовать.
* * *
К двум часам ночи Поветкин проверил оборону всех подразделений и вернулся на свой командный пункт. Проходя мимо землянки Лесовых, он увидел узенькую полоску света внизу двери и удивленно подумал:
«Неужели не спит? Чем же он занимается? Зайду, пожалуй!»
Лесовых действительно не спал. Голый до пояса, с мокрой, видимо, только что вымытой головой, он грузно сидел за столом и что-то сосредоточенно чертил.
— А-а-а! Ты, Сергей Иванович, — услышав стук двери, встал он и что-то поспешно закрыл газетой.
— Ты что не спишь?
— Я теперь до конца войны спать не буду, — криво усмехнулся Лесовых, — все зубы обломаю, а освою эту самую тактику.
— Да, здорово тебя генерал пропесочил.
— И тебе немало досталось, — отпарировал Лесовых и придвинул Поветкину ящик из-под снарядов. — Садись, что стоишь-то. Хочешь чаю?..
— Спасибо, в шестой роте пил, — отказался Поветкин и приподнял развернутую на столе газету. — Смотри, смотри, — иронически и удивленно протянул он, — да у тебя целая схема обороны полка! Ты что же в одиночку воюешь?
— А ты что, свои мысли со всем полком обсуждаешь? — с обидой пробормотал Лесовых и вдруг весело и задорно заговорил:
— А здорово, Сергей, генерал придумал, правда? Учить воевать прямо на том месте, где с противником драться придется. И нас он, особенно меня, наизнанку вывернул, — спокойнее продолжал он. — Вначале я чуть не взорвался, до того обидно было. Ну, еще бы, как мальчишку несмышленого отчитывает! А потом, как доложили, что все три батареи разгромлены, я весь похолодел. Это же по моей дурости, по безграмотности получилось так. Хорошо, что это было всего лишь учение, но я — то, я и в бою настоящем точно так бухнул бы. Ведь это же катастрофа, гибель всего полка. Ух, даже сейчас морозит всего, — зябко передернулся он. — И с «катюшами» начудил, и с танками… Одним словом — круглый нуль. Ну, нет уж, черт возьми, — со всей силой ударил он кулаком по столу, — подобное больше не повторится. Все выучу, все освою, всем овладею. И всех политработников учиться заставлю.
— Только политработников, а остальные офицеры пусть в дураках ходят?
— Нет, ты неправильно меня понял. Я говорю о политработниках потому, что они в военном отношении слабее командиров подготовлены. Не возражай, не возражай! Я — самое яркое доказательство этому. Что ты смотришь?.. — с обидой спросил вдруг Лесовых. — Думаешь, небось, самобичуется для рисовки. Да?
— Что ты, Андрей, у меня и в мыслях этого не было.
— Так вот, слушай, Сергей, — в упор посмотрел на Поветкина Лесовых, — меньше года мы с тобой знаем друг друга, и я тебе честно скажу: верю тебе, как самому себе. Мне с тобой легко, я знаю, что ты никогда и ни в чем не подведешь. А у тебя, ты не обижайся, частенько проскальзывают нотки недоверия ко мне.
— Да что ты, Андрей, — возразил Поветкин.
— Прости, если ошибся, — с силой сжал руку Поветкина Лесовых. — Я ждал, я искал момент, чтобы откровенно поговорить. Нам же с тобой предстоят такие испытания! А сколько вместе придется пережить, перенести, видимо, крови пролить, а может и жизнь отдать. Так, чтобы идти на это, мы должны доверять друг другу. Я верю тебе. О себе скажу одно: знай, ничего у меня нет, кроме дела, работы и — вот ее! — показал он на стоявшую в дальнем конце стола фотографию. — Дела, работа, служба — мое настоящее, то, чему я сейчас всего до капельки отдаю себя; она — мечты и будущее. Ничего иного у меня нет!
Взволнованный страстной речью Лесовых, Поветкин, словно в полусне, встал и подошел к фотографии. Отдаленный свет лампы озарял худенькое лицо с большими, удивленными глазами и двумя волнами светлых волос спадавших на хрупкие плечи. При взгляде на снимок что-то острое толкнуло Поветкина в грудь. Он сдавил дыхание, зажмурил глаза и, как в сладком, радостном сне, увидел Нину. Но видение тут же исчезло, он открыл глаза и хрипло, с трудом выдавливая слова, проговорил:
— Счастливый ты человек. А моей Нины, кажется, уже нет.
— Я догадывался об этом, — едва слышно сказал Лесовых, — однажды спросил тебя, да не вовремя. Ты прости, не обижайся.
— Эх, Андрей, — цепко схватил он руки Лесовых, — знал бы ты, что это была за девушка!
— Почему была? Может, есть.
— Нет! — с болью выдохнул Поветкин. — Все надежды рухнули. Почти два года и… ничего!
— Столько людей на оккупированной территории осталось, может и она…
— Нет, нет! В это я не верю, это исключено!
Поветкин долго стоял, не шевелясь, словно онемев и забыв, где он и что с ним. Лесовых смотрел на его отливавшие серебром волосы и не смел прервать это оцепенение.
— Эх, да что я в самом деле, — шумно вздохнув, встряхнулся Поветкин, — самое трудное позади, теперь боль немного притупилась. Так вот, Андрей, — присаживаясь к столу, совсем спокойно продолжал он, — генерал дал нам предметный и весьма полезный урок. Я уже приказал оборудовать запасные позиции для батарей, отрыть дополнительные траншеи, подготовить два направления для выдвижения танковой роты. Это все за двое суток будет сделано. Теперь главное. С утра сядем с тобой и продумаем все возможные варианты действий противника и все наши ответные меры. Нужно все обдумать, все предусмотреть. Война — это не только борьба сил, но и борьба умов. С завтрашнего же дня начнем тренировать командиров батальонов и рот, точно так же, как нас тренировал генерал. Нужно добиться, чтобы у нас в полку каждый знал, что и как ему делать в любых условиях обстановки. В любых, самых неожиданных!
Глава двадцать девятая
Привезенцев растерянно стоял на пустынной платформе и тоскливо провожал уходивший поезд. Когда за песчаным откосом насыпи мелькнул и скрылся последний вагон, он бросил вещевой мешок за спину и тревожно осмотрелся. Станция была самая захудалая, с одним разъединственным зданием и какими-то сарайчиками, с разбитой, видать еще в гражданскую войну, бурой водокачкой и россыпью грачиных гнезд на могучих вершинах серебристых тополей.
«Ни буфета, конечно, ни магазинишка», — уныло подумал он, отошел с полкилометра от станции и, сев под кустом, достал из мешка непочатую бутылку водки. Приготовясь ударом ладони выбить пробку, он вдруг остановился, пристально посмотрел на бутылку и поспешно убрал ее в мешок.
— А куда, собственно говоря, нацелился ты? — пройдя километра три, вновь остановился Привезенцев, — куда ты размахался, черт одноглазый? К теще на блины или к жене на теплую перину?
Он присел на пригорок и закурил. Одна за другой наплывали неясные, беспокойные и тревожные мысли.
«Ну, познакомился, ну, целый год письма получал; сам писал, а что из этого? Ведь ни сам, ни она ни одним словом не обмолвились о совместной жизни, говорили только о текущей обыденщине и о своих чувствах. О своих чувствах… — криво усмехнулся Привезенцев. — Бумага все выдержит, на ней не то, что пылкую любовь, на ней черт-те что изобразить можно. А на деле?..»
Он отбросил недокуренную папиросу, лег на спину, зажмурился и сразу же, как по волшебству, всплыло веселое, удивительно красивое лицо Наташи с ее неповторимыми, то сияющими, то подернутыми грустью, янтарными глазами. Это представление было так ярко, ощутимо и так призывно, что Привезенцев одним махом поднялся и торопливо зашагал по дороге. Он не заметил, как вначале мурлыча, а затем и в полный голос запел совсем позабытую, петую еще в далекой юности, немудреную песенку о коварном старце Хазбулате.
«Дам коня, дам кинжал, дам винтовку свою, а за это за все ты отдай мне жену», — бессознательно, в порыве нахлынувших чувств выводил Привезенцев, и в самом деле чувствуя себя тем самым молодым джигитом, который ради любимой девушки готов пойти на все.
— Фу, чертовщина какая, — опомнился он, — не хватало еще затянуть «Златые горы».
Он ускорил шаги и не заметил, как запел опять и опять то же самое. Хотел было оборвать песню, замолчать, но не смог. Слова сами по себе рвались из него, а напевная мелодия поднимала и властно несла его, разгоняя тревожные думы.
Давно не чувствовал он себя таким молодым и сильным, давно не испытывал такого спокойствия и душевного подъема. Дорога словно бежала ему навстречу, сокращая последние километры пути. Он легко поднялся в гору, тропинкой пробрался через кустарники недавно вырубленной рощи и, выйдя на опушку, остановился.
Внизу, по склону холма рассыпались знакомые домики деревни Дубки. В самой середине левой слободы, над свинцовой гладью пруда, поблескивала оконцами изба Наташи. В деревне было малолюдно, но во дворе Кругловых кто-то копошился. Присмотрясь внимательнее, Привезенцев понял, что это были или отец Наташи, или ее мать. Сама она в такое время, несомненно, была на работе.
По письмам он знал, что Наташа работает на птичнике, в обветшалом сарае на самом берегу нового озера, плотину которого в прошлом году с таким жаром и вдохновением строил весь полк.
Стараясь держаться в тени, он напряженно всматривался вниз, но озеро и тот самый сарайчик около него закрывал пологий холм.
«Да что я таюсь, как мальчишка!» — рассердился Привезенцев, подхватил вещевой мешок, решив ни секунды не медлить и идти в деревню. Он уже двинулся, но черная повязка, закрывавшая пустоту правой глазницы, ослабла и сползла вниз. Он присел поправить ее и опять почувствовал, как безвольно расслабло все тело, нагоняя тревожные мысли.
«Зачем, зачем я иду? На что я ей нужен? У нее семья, дети, а я к чему? — беспокойно думал он, по привычке ругая самого себя. — Тоже нашелся жених одноглазый. Больше тридцати лет проторчал на свете, а ни кола, ни двора. Шинелишка, пара белья, и даже запасного обмундирования нет. Нате вам, приперся кандидат в мужья. Турнуть такого кандидата, чтобы мчал до станции и оглянуться не посмел. Она же красавица и умница, а ты-то, ты, забулдыга длинноносая, ни кожи, ни рожи, да и ума не ах как много. Вот выпить, коленце какое-нибудь выкинуть, вроде самому за «языком» лезть, это ты можешь».
Но кипучая, неуемная натура Привезенцева не выдержала столь сурового самобичевания.
— Что в самом деле, — закурив, проговорил он, — воевать так воевать. Если она не такая, как в письмах, то аллюр три креста, и поминай, как звали.
Он опять приладил вещевой мешок, стряхнул пыль с фуражки и вышел из кустов. Впереди от деревни к роще на взгорок тащилась одноконная подвода. Не желая никого видеть до встречи с Наташей, Привезенцев отошел за куст и, как опытный дозорный, взял под обстрел вихлястую дорогу. Серенькая лошаденка, видимо, не только забыла вкус овса, но и хорошим сеном не часто лакомилась. Опустив голову и сгорбясь, она с натугой тянула пустую телегу.
Позади, приотстав от повозки, так же, как и лошаденка, неторопливо шли две женщины в одинаковых цветастых платьях и белых платочках.
— Она, — узнал Привезенцев в одной из женщин Наташу и поспешно, словно спасаясь от опасности, отступил за второй куст, потом за третий, стараясь скрыться и не потерять из виду подъезжавшую подводу.
«Хватит в юнца играть!» — гневно прикрикнул он на самого себя, оправил гимнастерку, надвинул на самый лоб фуражку и походкой уверенного, безразличного ко всему человека двинулся навстречу повозке. Старался шагать твердо, грудью вперед, как на параде, с гордо поднятой головой, но под ноги попадали то кочки, то сурчиные норы, то какие-то выбоины, и он несколько раз споткнулся, но удержался, не упал, тут же принимая прежнюю независимую позу.
«Ну и дурак же ты, Федька Привезенцев», — беззлобно выругался он, представив самого себя со стороны и, бросив надоевший мешок, с веселым, сияющим лицом побежал к Наташе.
— Федя! — и удивленно, и радостно вскрикнула она, — Феденька, ты…
— Я, Наташа, я, — прокричал он, уже не в силах сдерживать себя, и бросился к бежавшей навстречу ему Наташе.
— Федя, совсем приехал? — опомнясь от радости, прошептала Наташа.
— Совсем, совсем. На всю жизнь!
* * *
Когда Листратова положили в больницу, его заменил заведующий райзо, а хозяином райзо, за неимением других работников, остался Чивилихин. Он хорошо знал, что секретарь райкома партии не жалует тех, кто отсиживается в кабинетах и редко бывает в колхозах; поэтому неделями не появлялся в райзо, по нескольку раз в день звоня по телефону в райком и райисполком и обстоятельно докладывая, где он находится и что видит.
Чаще других колхозов наезжал Чивилихин в Дубки. С Гвоздовым сошлись они с первой встречи и, взаимно хитря и прикидываясь простачками, отлично понимали друг друга. Гвоздов всегда хлебосольно угощал Чивилихина, тот, всегда конфузясь, отнекивался и всегда или оставался ночевать или уезжал под сильным хмельком. Не оставался в долгу и Чивилихин. В районных сводках Дубки всегда стояли на первом месте. Раньше и больше других получил Гвоздов семенной ссуды яровой пшеницы, овса и гречи. За это на квартиру Чивилихина был доставлен освежеванный колхозный баран. При распределении машин МТС Чивилихин добился выделения Дубкам одного трактора на все лето. В благодарность Гвоздов лично отвез Чивилихину восемь мешков колхозной картошки и ведро капусты.
В этот приезд в Дубки Чивилихин настроен был особенно радужно. Доставленную Гвоздовым картошку удалось выгодно обменять на тонкое сукно и хромовую кожу, за которые знакомый делец из Тулы отвалил Чивилихину двадцать семь тысяч рублей. Теперь Чивилихин надеялся прихватить у Гвоздова еще хотя бы мешка три столь дефицитной в эту весну картошки.
— Как дела, Мироныч? — по обыкновению торопливо войдя в правление колхоза и ни на кого не глядя деловито спросил Чивилихин.
— Да помаленьку движемся, — почтительно ответил Гвоздов, — с парами неуправка только. Забарахлил тракторишко-то, четвертый день чихает, фыркает и ни с места.
— Ну это мы утрясем, — оглаживая ладонями длинное, с отвислым подбородком лицо, начальнически заверил Чивилихин. — В случае, ежели этот не наладится, перебросим трактор из какого-нибудь другого колхоза. А как у тебя с сенокосом?
— Да какой там сенокос! — отмахнулся Гвоздов. — Луга водой позатопило, а вика совсем плюгавенькая, и косить почти нечего.
— Да, плохо, плохо дело, — морща желтый лоб, проговорил Чивилихин. — Без корма скотинка останется. Туговато зимой придется.
— Какая у нас скотина: два десятка овец да четырнадцать лошадей.
— Слушай, Мироныч, — воровато оглядевшись по сторонам и убедясь, что в доме никого нет, склонился Чивилихин к Гвоздову. — Был я в лесничестве. Там у них на полянах трава в рост человека. Нигде эти поляны как сенокосные угодья не числятся. Я говорил с лесником. Хороший мужик, надежный. Посылай-ка ты своих косарей и брей подчистую. Копну себе, копну леснику. Ну, подбросишь ему пару мешков картошки, он просил. И ты с сенцом: и для колхоза, и для своего скота выгадаешь.
— Черт ее знает, скользкое это дело, — зачесал Гвоздов затылок. — Влипнуть можно.
— Что ты, — замахал руками Чивилихин, — верное дело. Комар носа не подточит. А в случае чего, я слово замолвлю.
— Да. Заманчиво это все, — уже решив согласиться на сделку, мялся Гвоздов. — Обдумать надо, обмозговать. Да что мы сидим-то, пошли перекусим малость с дороги-то.
— Я, собственно, и не проголодался, — с небрежным равнодушием проговорил Чивилихин, направляясь к двери.
«А с сенцом-то дело может здорово выгореть, — думал Гвоздов. — Корова; телка, одиннадцать овец — чем я их прокормлю? А тут копешек семь-восемь, а то и десяток верняком выгадаю».
— Черт их знает, этих баб, — гремя посудой, ворчал он. — И куда они все позадевали. Ну, мы, пожалуй, накоротке: огурчики, капуста, ветчинка есть. А вечером, как жена придет, тогда уж капитально посидим.
— Конечно, — охотно согласился Чивилихин. — Рановато вроде бы за хмельное-то приниматься, — беря от Гвоздова стакан самогонки, с ужимкой поморщился он. — Ну, да ладно, на том свете за все грехи чохом расквитаемся.
— Известно: одним больше, одним меньше, какая разница, — поддакнул Гвоздов.
— А ты вот что, Мироныч, — смачно хрустя огурцами, прошамкал Чивилихин, — ты для себя-то из колхозного сена не бери, лишние разговоры только да поклепы. Мы тебе из той половины, что леснику пойдет, выкроим. Хватит ему и того, что останется. Он и так распузател, как боров откормленный.
«Ушлый мужик, — определил Гвоздов Чивилихина. — Он и себя в этом дельце не обойдет».
— Да, все спросить хочу, — заговорил Гвоздов, наливая самогон, — как там товарищ Листратов Иван Петрович?
— Плохо, — сверху вниз кивнул плешивой головой Чивилихин. — Можно сказать — дрянь дело. Врачи даже рукой пошевелить не дают. Ни газет, ни книжек и никаких посетителей. Самого секретаря райкома и то не допустили.
— Что же за болезнь такая?
— Инфарт называется по-научному, а просто говоря, сердце растреснулось.
— Да ну, — ахнул Гвоздов, — это, вить, чуть ли не смерть. И с чего это с ним такое стряслось?
— Смерть не смерть, а в могилу одной ногой шагнул. Случилось это, — наставительно объяснял Чивилихин, — все из-за работы нашей неугомонной. Мотаемся день и ночь по району, нервы изводим, переживаем, вот оно, сердечко-то, и не выдержало. Трах — и как в спелом арбузе — трещинка.
— Могутный мужик был, могутный. И надо же такому случиться, — сожалеюще охал Гвоздов. — Ходил, ходил человек и на тебе — трещинка в сердце.
* * *
После смерти отца Ленька Бочаров, как выпадало свободное время, часто уходил на озеро и часами просиживал там в одиночестве под склонившимся к самой воде кустом длиннолистой ракиты. Особенно любил он предзакатные часы в тихую погоду. Во всю ширь и даль, от берега до берега и от плотины к едва заметному лесочку на изломе лощины, безмятежно дремала зеркальная гладь. Нежно-розовая, она словно излучала тепло на ближней половине и тускнела, как лезвие обточенного ножа, переходя от скалистого блеска до свинцовой черноты у западного берега.
Ленька обычно набирал в карманы остатки каши, вареной картошки и, сидя под ракитой, горстями осторожно бросал их на воду. И сразу же, едва только падали первые крошки, бороздя гладь и всплескиваясь, со всех сторон наплывали рыбки. Они резво и отчаянно наседали на крошки, переталкивая их, обкусывая, утаскивая вглубь.
Крохотные, хрупкие мальки за два привольных месяца вырастали в толстеньких с золотистой чешуйкой, подвижных и стремительных карпиков Налетая на крошки, они уже не просто бороздили воду, а били хвостами, выплескивались, бронзово мелькая над потревоженной гладью, стремительно хватали даже крупные кусочки хлеба и мгновенно исчезали, уходя на глубину.
В конце июня, под вечер, Ленька, рано закончив бороновать участок пара за песчаным оврагом, пришел под свою ракиту. Крошек было мало, и рыбки, съев все, как по команде, почти ровной полосой выстроились в полуметре от берега. Неторопливо шевеля плавниками, они держались на одном месте, устремив головки на Леньку, словно требуя новых порций корма.
— Нету, нету ничего, все кончилось, — склонясь к воде, терпеливо объяснял им Ленька. — Не успел нынче, ждите — завтра целый чугунок картошки наварю.
Но рыбки не понимали Леньку. Они еще ближе придвинулись к берегу, полукольцом охватывая место, где он стоял, еще настойчивее разевали жадные рты, явно требуя пищи.
— Кончилось все, говорю вам, — рассердился Ленька и топнул ногой.
Мгновенно, взрябив воду, рыбки исчезли.
— То-то же, нельзя быть такими настырными, — ласково погрозил пальцем Ленька и пошел берегом озера.
Тихая, безмятежная радость охватила его. Бившие поверх бугра косые лучи солнца нежно пятнали шелковистую траву за ракитами. Задремавшее озеро неоглядным зеркалом уходило к лиловым под солнцем ржаным полям. Над луговиной в низине вырубленного сада вился к небу легкий дымок.
«Ребятишки, видать, костром балуются, — подумал Ленька, глядя на отвесно поднимающиеся белесые волны дыма. — Зайти, что ли, посидеть с ними».
Он перескочил залитую водой канаву, поднялся на взгорок и в лощине на берегу озера увидел двух мужчин.
«Кто же такие?» — подумал он и, подойдя ближе, узнал Гвоздова и часто наезжавшего в колхоз Чивилихина. Заметил Леньку и Гвоздов.
— А-а! — явно без радости, но улыбаясь, протянул он. — Алексей. Подходи, подходи. Как говорят, милости прошу к нашему шалашу.
Гвоздов был без рубашки, и его жирные груди толстым наплывом свисали вниз. Оголенный до пояса сидел, и Чивилихин. Длинное худое туловище его неприятно желтело на фоне зеркальной воды. Костер с двумя камнями по сторонам слабо курился; между Гвоздовым и Чивилихиным темнела объемистая сковорода с жареной рыбой; у самой воды валялся мокрый сак, а рядом стояло ведро.
«Карпиков наловили и жарят», — зло подумал Ленька.
— Наш самый, что ни на есть, активист, — показывая на Леньку, сказал Гвоздов Чивилихину, — огневой парень, за что ни возьмется — горит все в руках, горит. Я ему самые ответственные дела поручаю. Садись, Алексей, за компанию, — кивая головой Леньке, потянулся Гвоздов за бутылкой, — налью маленько, подзакусишь, отдохнешь.
— С-спасибо, — с трудом выдавил Ленька, — я обедал. Зачем же вы их, — помолчав, с горечью проговорил он, — зачем же наловили-то? Они же маленькие… не выросли еще…
— Где же маленькие! Вон какие поросятки, — густо пробасил Гвоздов и рукой зачерпнул в ведре. На его бугристой ладони и кривых пальцах беспомощно забились четыре золотистых карпика.
Ленька часто заморгал и, чтобы не заплакать, стиснул зубы. Чивилихин, облизываясь от удовольствия, с хрустом уминал поджаренных рыбок. У Леньки по всему телу пробежала дрожь и потемнело в глазах.
— Садись, Алексей, что стесняешься, свои же все, — настойчиво уговаривал Гвоздов.
— Н-нет. Не хочу, спешу, — бессвязно пробормотал Ленька и, почти ничего не понимая, пошел в кустарник. Перед его глазами, никак не исчезая, стояли беспомощно бившиеся на ладони Гвоздова недоросшие карпы. Торопливо пройдя шагов двадцать, он остановился и чуть не закричал от боли. В глазах вместо рыбок, пойманных. Гвоздовым, возникли те самые крохотные мальки, которых он вез с отцом и Ванькόм из рыбного совхоза. «Они же слабенькие, погибнуть могут», — как наяву, прозвучал в ушах Леньки голос отца, и он вспомнил эту страшную дорогу от совхоза до родной деревни, вспомнил, как промокший отец, посипев на ледяном ветру, останавливал подводы и насосом накачивал воздух в бочки с мальками. И все это молниеносное болезненное воспоминание сменилось хрустом рыбьих косточек на обломанных зубах Чивилихина. От острой боли в груди Ленька пошатнулся и лицом вниз рухнул под куст.
«Они же слабенькие, погибнуть могут», — не умолкая, звучал голос отца. Ленька всем телом прижался к теплой земле и глухо зарыдал.
— Мы так мучились, отец умер из-за мальков, а они душат недоростков, жрут, — с ненавистью прошептал Ленька, чувствуя, как полыхало жаром лицо и звонко стучало в висках.
Вытирая слезы, он вскочил на ноги и, весь дрожа от гнева, медленно, с окаменелым лицом двинулся к костру.
— Вот это молодец, давай присаживайся, — увидев Леньку, заговорил Гвоздов, но тут же осекся и смолк.
Не чувствуя самого себя и видя только крохотных мальков в бочках, что из совхоза везли они весной, Ленька неторопливо взял наполненное молодыми карпами ведро, подошел к воде и опустил ведро в озеро. Так же неторопливо он повернулся, не мигая, взглянул на Гвоздова и со всей силой поддел ногой сковороду с жареной рыбой.
— Держи его, бандюгу, — вскакивая, завопил Чивилихин.
Ловкой подножкой и толчком в костлявую грудь Ленька опрокинул его навзничь.
— Сами бандюги, — задыхаясь, яростно кричал он, — душегубы, паразиты, обжоры, живность недоросшую изничтожаете.
Опьяневший Гвоздов, шатаясь, пытался поймать его, но Ленька увильнул и так же, как Чивилихину, дал ему сильную подножку. Гвоздов упал на четвереньки, пытался подняться и от нового толчка Леньки плашмя рухнул на землю.
— Вот вам за карпиков! Вот вам за рыбки! — прокричал Ленька и пошел домой.
Утром, выводя из конюшни лошадей, Ленька увидел Гвоздова.
— Подожди-ка, Алексей, — остановил он Леньку.
— Что еще? — гневно скосил глаза Ленька.
— Ты что же творишь-то, а? — с укором сказал Гвоздов. — Да ты понимаешь, что все это означает? На районного представителя руку поднял. А? Да за такие проделки досыта в тюрьме насидишься.
— И пусть, и насижусь, а вам, паразитам, все одно не дам рыбу губить, — запальчиво выкрикнул Ленька.
— Да кто губит-то, да какую рыбу. Десяток всего и съели, а ты бучу такую поднял. Пойми же, Леня, и мое положение, — склонился к Леньке Гвоздов, — разве для себя я взял бы эту рыбешку разнесчастную. Все для колхоза стараюсь. Он представитель, он помочь нам может. Ну, как не уважить нужного человека.
— Все равно он паразит и ты такой же, — не успокаивался Ленька.
— Ну, ладно, ладно, погорячился и хватит. Скажи спасибо, что товарищ Чивилихин — человек мягкий. А то бы тебя уж нынче милиция сграбастала. Будем считать, что ничего не было. Ладно?
— Ладно, — буркнул Ленька, трогая лошадей, — только смотри, — обернулся он к Гвоздову, — ежели опять он или другой кто полезет за карпиками, пусть на себя пеняет…
Глава тридцатая
— Случилось что-нибудь? — торопливо войдя к Поветкину, тревожно спросил Лесовых.
— Да, — поспешно, с необычайно возбужденным и озабоченным лицом сказал Поветкин. — Ты занятия с парторгами и комсоргами закончил?
— Нет еще. Прибежал посыльный, и я сразу к тебе.
— Ну, Андрей, — вздохнув всей грудью, Поветкин положил руку на плечо Лесовых, — начинается то, к чему готовились мы целых четыре месяца. Получена шифровка. Командование предупреждает, что решительное наступление противника на Курск может начаться в период между 3 и 6 июля.
— Третьим? — встревоженно переспросил Лесовых. — Так сегодня же второе.
— Вот именно! Приказано все привести в полную готовность и всем занять боевые места.
— Э, еще бы хоть недельку позаниматься, — воскликнул Лесовых, но тут же, вздохнув, добавил: — Хорошо, что успели провести занятия с командирами батальонов, рот и взводов.
— Да, это во многом поможет, — согласился Поветкин и, в упор глядя на Лесовых, с жаром продолжал: — Теперь, Андрей, главное: поднять всех людей, всколыхнуть и так настроить, чтобы они кипели, огнем полыхали. Я сейчас вызываю командиров батальонов, дивизионов и батарей. А затем проведем партийные, комсомольские собрания и пойдем по подразделениям. В такое время, как никогда, важно быть с солдатами.
— Нет, Сергей, я не согласен, — мягко возразил Лесовых. — Сейчас место каждого командира на своем командном пункте, а к солдатам пойдем мы — политработники, пойдут коммунисты, комсомольцы, агитаторы. Сил у нас хватит, люди расставлены, подготовлены. Теперь главное — умно, четко управлять боем.
— Это верно, — согласился Поветкин. — Всем командирам я прикажу неотлучно быть на своих НП. Ну, — лукаво посмотрел на Лесовых Поветкин, — а с парторгами и комсоргами разрешишь мне поговорить?
— Ни в коем случае! — озорно сощурив глаза, притворно обидчиво воскликнул Лесовых. — Это вмешательство в мои функции, это в конце концов подрыв моего авторитета, недоверие. Я жаловаться буду.
— Пагубные мыслишки у тебя. Жаловаться! Да знаешь ли ты, жалоба — это бумеранг, она чаще всего по жалобщику ударяет. Да, — мгновенно подавил шутливость Поветкин, — начинается самое главное. И понимаешь, Андрей, я никогда не чувствовал себя так уверенно, как сейчас. Знаю, что противник силен, что у него множество техники, что бои будут страшнейшие, но все это меня не только не пугает нисколько, но даже не волнует, как перед прошлыми боями. В последнее время я часто думаю, почему это. Мне кажется, не только потому, что полк будет драться не один, не винтовками, пулеметами, сорокапятками да минометами, а вместе с приданными гаубицами, мощными противотанковыми пушками, танками, «катюшами». Нет, не только это.
— Конечно, не это, — подхватил Лесовых. — Решающее, по-моему, в общем настроении наших людей. Люди-то, люди у нас совсем другие стали. Позади у нас десятки сражений, зимнее наступление. Это же не только школа, опыт, это настоящее возмужание, проверка, закалка своих сил и главное — уверенность в нашей победе.
— Верно, совершенно верно, — согласился Поветкин.
* * *
Непомерно длинна и томительна была эта ночь с 3 на 4 июля 1943 года под Белгородом и Курском, вторая ночь, проведенная в напряженном ожидании вражеского наступления. Казалось, после появления пурпурно-розовых отсветов зари на горизонте прошла уже целая вечность, а ночной сумрак, несмотря на угасавшую с востока россыпь звезд, все еще упорно держался, сгущаясь в вышине и переходя в сплошную тьму на западе.
Ничем не рушимая тишина сковала все сплошь изрытое, густо заполненное людьми и техникой огромное пространство. Даже неизбежные спутники ночи — немецкие осветительные ракеты — и те не тревожили грозную тишину и сжимающий сердце предрассветный мрак.
В темном, напоенном свежим запахом сосны, пулеметном дзоте с узкими проемами трех бойниц было душно и, разморенные ожиданием и бессонницей, Гаркуша, Ашот и Алеша выбрались в ход сообщения. У пулемета остался сержант Чалый.
Все трое, лежа на отдававшей сыростью земле, молчали. Даже неугомонный Гаркуша, пробалагуривший всю первую половину ночи, притих, думая о чем-то своем. Стремительный бег времени словно замер и навсегда остановился тут, на этом, именуемом «передним краем», рубеже между Курском и Белгородом, по одну сторону которого в бесчисленных окопах, блиндажах, дзотах, землянках, траншеях, ходах сообщения затаились тысячи советских людей, приготовив и свое оружие, и самих себя для встречи врага.
Впервые услышав слова «передний край», Алеша удивился им, недоумевая, что могло означать это совсем непонятное ему и не соответствующее правилам русского языка название. Ведь, в самом деле, смешно и глупо прозвучит, если человек скажет «задний край» или «боковой край». Но всего за несколько дней Алеша не только освоился с этим понятием, но и постиг его настоящее значение. Да, это был именно край, и край именно передний, который и видимо и невидимо разрезает весь мир надвое. По одну сторону от него находится все свое, родное, кровное, готовое поддержать тебя всем, чем можно. Тут, по эту, свою, сторону, все прошлое, настоящее и будущее: Ока с ее малиновыми закатами; соломеннокрышая деревня в окружении белостволых берез; шумная, торопливая, вечно неугомонная Москва; школа с когда-то такими огромными партами, за которыми теперь и не усесться; техникум, куда Алеша не выдержал экзамены, но куда непременно поступит, как только кончится война; еще многое-многое, необъятное и радостное, и болезненное, и обнадеживающее, и тревожащее, но все, все свое, родное, близкое.
А по ту, по другую, сторону от переднего края зияет невидимая, но так отчетливо ощущаемая пропасть, куда стоит лишь ступить, как исчезнет и кончится жизнь, навсегда оборвется то ощущение радости и ожидания лучшего, что движет каждым человеком. Там, на той стороне, притих коварный, опытный и сильный враг. Сейчас он опутался проволочными заграждениями, обставился минами, укрылся в траншеях, окопах, блиндажах. А что замышляет он, к чему готовится, что предпринимает?..
Может, там, где в траншеях и окопах скопились полки пехоты в ядовито-зеленых шинелях, а за холмами и высотами выстроились сотни заряженных пушек и минометов, в дымчатых, красивых издали лесах и рощах, в пустынных, разгромленных селах вот-вот взревут моторы танков и самоходок, с аэродромов поднимутся самолеты. И все это, страшное, грозное, неумолимое, изрыгающее сталь и пламя, устремится сюда, к переднему краю, за которым после двух томительных ночей, с трудом раздвигая опухшие веки, сидишь ты, паренек с Оки, восемнадцатилетний Алеша Тамаев. Что будешь делать ты, если это случится? Не дрогнет ли твое сердце, не опустятся ли руки и не онемеют ли ноги, когда все это, воющее, грохочущее, свистящее, изрыгающее увечья и смерть, лавиной ринется на тебя?
Да, сердце, конечно, дрогнет, и руки расслабнут, и ногам захочется уйти назад, туда на восток, но не должен дрогнуть твой ум, не должно померкнуть твое сознание, ослабнуть воля. Они должны вернуть сердцу его прежнюю твердость, налить руки силой, заставить ноги врасти в землю, и все, что есть в тебе и у тебя, сосредоточить только на одном, на единственном — на борьбе с этой лавиной, угрожающей не только тебе самому, но и всей твоей Родине, частичкой которой являешься ты сам.
Такие мысли, как в полусне, неясно и смутно мелькали в сознании Алеши. Он то засыпал на мгновение, то встряхивал головой, отгоняя сонливость и опять, не в силах преодолеть дремоту, забывался. Он не помнил, сколько продолжалось такое полубредовое состояние, и очнулся лишь когда мягкий, ласкающий свет окончательно властно заполнил сырую траншею. Слезящимися глазами Алеша смотрел на полыхавшее красными отсветами невзошедшего солнца чистое небо, постепенно приходя в себя и все отчетливее сознавая, где он и зачем.
«Спокойно, тихо, значит немцы не перешли в наступление», — подумал он и так обрадовался этой мысли, что сонливая расслабленность тут же исчезла и все тело, словно под действием наплывавшего света, налилось свежей бодростью. Полежав еще немного, Алеша отбросил шинель, поднялся и пошел в дзот.
— Что не спишь? — спросил его сержант Чалый.
— Утро уж больно чудесное, — ответил Алеша, вставая к правой амбразуре.
— Да, утро на редкость, — подтвердил Чалый. — Смотри: туман-то стелется, словно бархатный, так и хочется рукой потрогать.
В узкий просвет бойницы обычно открывалось все, изученное до мелочей, обширное поле с грядой высоток, занятых нашим боевым охранением и отлогими, уходящими куда-то к Белгороду, холмами, на которых в бивших снизу лучах молодого солнца черными змеями петляли траншеи противника. И сейчас низкие волны, как говорил Чалый, бархатного тумана затопили наши окопы и траншеи, а прозрачный, лучезарный свет солнца, словно специально напоказ, оголил все ближнее расположение противника. Отчетливо были видны не только черные просветы траншей, но и перепутанная паутина проволочных заграждений перед ними, и уходившие за холмы изломанные нити ходов сообщения, и округлые пятна воронок от взрывов наших снарядов и мин.
Прежде, и особенно вчера под вечер, когда сам командир роты предупредил, что противник в любую минуту может броситься в наступление, Алеша с робостью и затаенным страхом смотрел на эти холмы, где сидел враг; сейчас же, в это раннее, погожее утро, он не чувствовал ни страха, ни даже робости, испытывая лишь какое-то странное, самому непонятное любопытство к тому, что делалось там, на холмах, и удивительное спокойствие, какого с прихода на фронт у него еще не было.
— Как вымерло все, ни одного движения, — видимо, как и Алеша, с любопытством рассматривая вражеское расположение, проговорил Чалый. — То палили день и ночь, как осатанелые, а эти четыре дня и не шевелятся даже.
Алеша вспомнил, что, действительно, в последнее время немцы почти совсем перестали стрелять и даже светить ракетами по ночам.
— А может, товарищ сержант, — заговорил он, не отрывая взгляда от залитых солнцем холмов, — они и не думают наступать, может, ушли, отступили куда?
— Ушли, отступили! — морща суровое лицо, зло усмехнулся Чалый. — Они не то, что не ушли, они, как тигры кровожадные, к прыжку приготовились. Недаром, гады, и стрелять-то перестали. Чтобы нашу бдительность усыпить, в обман ввести. А сами, небось, сидят в своих гнездах змеиных и зубы точат. Ну, пусть только сунутся, — яростно погрозил кулаком Чалый.
— Значит, они в самом деле в атаку бросятся? — наивно спросил Алеша.
— А ты что, сомневаешься в этом? — косо взглянул на него Чалый.
— Да нет, не совсем, — робея, потупился Алеша. — Уж больно тихо-то, спокойно.
— Не обольщайся спокойствием, — дружески и мягко сказал Чалый. — Тишина-то обманчива. Буря если, ураган свирепый — человек настороже, знает, что со всех сторон его опасность подстерегает. А в тишину человек расслабляется, очаровывается ею и забывает про всякую осторожность. Это вот и есть самое пагубное. Ты упился тишиной, забылся, и вдруг — вихрь, шквал и — все, капут! Так же вот и теперь. Хитрят фрицы, явно в заблуждение нас вводят. Только ничего не выйдет, — опять погрозил он кулаком. — Пусть только сунутся! А в общем-то, — внезапно оборвав дружеский разговор, сердито закончил Чалый, — идите отдыхать. Через два часа на дежурство к пулемету.
Алеша послушно ушел в ход сообщения и прилег рядом с безмятежно спавшими Гаркушей и Ашотом.
Утро разгоралось все ослепительнее и ярче. Неуловимо исчезла ночная сырость. Вокруг по-прежнему царил нерушимый покой. Не веря, что в такое чудное, упоительное время могут загрохотать артиллерия, завыть самолеты и ринуться в атаку пехота и танки, Алеша закрыл глаза и уснул. До самого завтрака спокойно проспал он, потом, сменив Ашота, два часа продежурил у пулемета и снова ушел отдыхать, а вокруг все так же сияло жаркое, слепящее солнце, нежилась напоенная зноем тишина, беззаботно синело высветленное до белизны бездонное небо. Только после обеда редкими островками поплыли крохотные облачка, бросая тени на разморенную землю.
В три часа дня Алеша снова заступил на дежурство. Он пристально смотрел то в центральную, то в правую, то в левую амбразуру и не единого движения в стане противника не видел. Немое безлюдие властно царило вокруг.
— Привет земляку! — услышал он вдруг звонкий голос Василькова. — Как дежурится, Алеша?.. Что там, фриц не шевелится?
— Как сквозь землю провалился: и не слышно, и не видно, — радуясь приходу Василькова, ответил Алеша. — А ты что к нам, в расчет, или еще куда?
— Туда, Леня, в боевое охранение, к хлопцам нашим из первого взвода, что в одиноком дзоте от тоски киснут. К тому же, говорят, у них и махорка вышла, и газеты принести позабыли, да и вообще жизнь никуды, куды, кудышная. Да, Алеша, — вспомнив что-то, торопливо полез он в брючный карман и из промасленной записной книжки достал небольшую фотографию.
— Во! Взгляни. Сам Александр Васильков собственной персоной в незабвенную пору безмятежного детства.
На совсем новеньком снимке стоял мальчишка лет десяти в коротеньких штанишках и, высоко подняв голубя, задорно смотрел вверх. Другой, точно такой же белый с наивными глазенками голубь примостился у него на худеньком голом плече, а третий, видимо, нетерпеливо ожидавший своей очереди взлететь, доверчиво сидел на ладони его левой руки и так же, как и сам мальчишка, призывно смотрел вверх.
— Папа мой, — пояснил Саша, почти точно повторив восхищенный взгляд мальчишки, — в каждом письме обязательно каким-нибудь сюрпризом удивит. То о заводе на целых пяти страницах распишет, то какую-нибудь давнюю поездку за город вспомнит, то фотографию редкостную пришлет. А теперь вот! Я и сам про болезнь голубиную позабыл, а он разыскал старый негатив, перепечатал и — мне. Эх, и любил же я голубей этих! Все пшено им перетаскаю бывало. Хватится мама кашу варить, а в пакетах пусто. Ну, ладно, — крепко обнял он Алешины плечи, — я побежал, спешу, а снимок себе возьми, разъедемся после войны, взглянешь в свободную минуту и, глядишь, письмишко накатаешь.
Алеша хотел было поблагодарить за подарок, но Саши уже не было в дзоте. Перевернув фотографию, Алеша увидел старательно выведенную надпись черным рисовальным карандашом: «Фронтовому другу Алеше Тамаеву. Будь чист, как голубь, смел, как сокол, стремителен, как ласточка в полете! Так говорил мой папа. Саша Васильков, 4 июля 1943 года. На боевых позициях севернее Белгорода».
Алеша долго рассматривал снимок, невольно опять уйдя мыслями в свое детство, потом подошел к амбразуре и всмотрелся в крохотный холмик, едва приметно желтевший почти перед самым проволочным заграждением противника. Там скрывался дзот пулеметного расчета первого взвода, и туда ушел Саша Васильков. Тени от проплывавших все чаще и чаще облаков то закрывали холмик, и тогда он сливался с такой же выгоревшей до желтизны равниной вокруг, то открывали, выдавая спрятанный там дзот.
«Неужели знают немцы, что там стоит наш пулемет? — тревожно подумал Алеша. — Он же совсем близко от них, каких-нибудь всего сотни две метров»…
Разморенную жаром тишь прорезал какой-то совсем неясный и смутный звук, совершенно чуждый привольному безмолвию. Насторожась, Алеша прислушался и через секунду, не слухом и не сознанием, а всем, что скопилось в нем за эти двое тревожных суток, совершенно отчетливо и ясно понял — идут немецкие самолеты.
— Воздух! — прокричал кто-то совсем рядом, и этот полный беспокойства и смятения возглас в разных местах тут же повторили несколько голосов.
Теперь уже, хотя сами самолеты еще не показались, было совершенно ясно, что идет их не один, не два, не три, а много-много и что это не какая-нибудь разведка или очередной беспокоящий налет, а именно начало того самого, что две ночи и два дня ждали советские войска на огромной территории севернее, западнее и южнее Курска.
— Расчет — в укрытие! — звонко скомандовал Чалый и, вбежав в дзот, сердито кивнул Алеше:
— В блиндаж!
— Так я же дежурный, товарищ сержант, — заговорил было Алеша, но Чалый метнул на него такой взгляд, что Алеша пулей выскочил из дзота. Он хотел сразу же нырнуть в блиндаж, но любопытство пересилило, и он, став в углу траншеи, всмотрелся в помутневшее небо. Самолетов еще не было видно, и только где-то западнее Белгорода все угрожающе нарастал их взвывающий гул.
Через минуту позади, справа и слева резко и отрывисто застучали зенитки и тут же из-за обширного с холодной синевой облака выползла первая стая бомбардировщиков. Их было штук тридцать, а за облаком взвывало еще множество моторов. Такого большого количества бомбардировщиков Алеше еще не приходилось видеть, и он, забыв об опасности, неотрывно смотрел на их распластанные крылья, с любопытством ожидая, что же будет дальше.
— Сбит! — чуть не крикнул Алеша, увидев, как шедший несколько впереди бомбардировщик накренился, повернул в сторону и резко пошел вниз. Только, когда за ним, также взвывая моторами и валясь набок, ринулись и другие бомбардировщики, Алеша замер и невольно закрыл глаза. Это было излюбленное фашистами выстраивание в круг перед заходом в атаку.
Зенитки били все ожесточеннее и чаще. Широкую полосу неба испятнали белесые шапки взрывов. Один самолет вывалился из круга и стал падать. Вспыхнули и косо пошли к земле еще два бомбардировщика, потом еще один, но остальные, словно связанные невидимыми нитями, один за другим с оглушающим ревом ринулись вниз. Целыми сериями, неуловимо разрастаясь в размерах, полетели вниз темные сосульки бомб. Разом вздрогнула и сотряслась земля. Грязные фонтаны земли и дыма выросли там, где располагалось наше боевое охранение.
«Саша Васильков… — увидев, как в коричневом мраке скрылся желтенький бугорок, отчаянно подумал Алеша, — Саша там».
Грохот взрывов и рев моторов слились в один, всесотрясающий гул. Тяжелый мрак, рассекаемый кровавыми всплесками огня, густо накрыл позиции нашего боевого охранения. Нельзя было ни увидеть, ни понять, что творилось в этом месиве дыма, пыли, нескончаемых взметов пламени.
Еще ревели и взвывали фашистские бомбардировщики, как обвальный грохот бомб прорезали и сменили новые резкие и частые взрывы.
— Артподготовку начали, — неторопливо проговорил кто-то рядом с Алешей. Он обернулся, дивясь спокойствию голоса, и увидел взводного командира и его помощника.
— Да. И артиллерия и минометы бьют, — точно так же спокойно и равнодушно подтвердил Дробышев, — а потом атака танков и пехоты.
— Ого! Вот и наши заговорили и сразу на басах, — просияв лицом, воскликнул Козырев, когда позади в разных местах гулко ахнул воздух и в вышине с грузным шелестом понеслись невидимые снаряды.
— Так мне здесь оставаться? — помолчав, спросил Козырев.
— Да. Пока с этими двумя пулеметами будьте, а я пойду на правый фланг, — ответил Дробышев, и Алеша только сейчас заметил, что лейтенант одет, как на праздник: на свежей гимнастерке подшит белый воротничок, сапоги начищены до блеска, промасленная пилотка заменена на зеленую командирскую фуражку.
— Товарищ лейтенант, вы бы каску все-таки прихватили, — мягко сказал Козырев, — дело-то, по всему видать, развертывается не шутейное.
— Ах, каску!.. — словно спросонья, проговорил Дробышев. — Да, да, обязательно. Она у меня на НП. Так я пошел, — поспешно добавил он, — вот-вот атака начнется. Да вы не беспокоитесь, Иван Сергеевич, — совсем смущенно сказал он, поймав тревожный взгляд Козырева, — дуриком, как говорите, не попру. С НП без крайности ни шагу.
— Да что вы, что вы, я и не думаю, — тая добродушную усмешку под усами, сказал Козырев. — Вы не новичок на фронте и не в первом бою. На себе испытали, почем фунт лиха и как плясать вприсядку.
— Вот именно вприсядку, — весело рассмеялся Дробышев и со всей силой пожал руку Козыреву. — Ну, Иван Сергеевич, как это говорят: «Ни пуха, ни пера!»
— Не ждите, к черту я посылать не буду и через левое плечо не плюну, — шутливо напутствовал лейтенанта Козырев, — пожелаю только одно: расколошматить зверье это фашистское и как можно меньше пролить крови людей наших.
Слушая разговор Дробышева и Козырева, Алеша не заметил, как немецкие бомбардировщики очистили небо и там уже парами разгуливали серебристые советские ястребки.
— Ну, как, сынок? — подошел к Алеше Козырев и, тут же уловив что-то, от чего глаза его похолодели, лицо подернулось суровыми морщинами, а жилистые руки сжались в кулаки, отрывисто приказал:
— Передай сержанту: расчет — к бою, приготовиться к отражению атаки, без моей команды огня не открывать.
Вздрагивая от волнения, Алеша повторил приказание помкомвзвода и опрометью бросился к пулемету.
«Атака, сейчас атака…» — все время назойливо билась одна и та же мысль, не вызывая ничего определенного и ясного.
Дыма и пыли впереди стало меньше, накат и земля над дзотом скрадывали звуки, а Чалый, Гаркуша и даже Ашот были так спокойны, что Алеша никак не мог поверить, что именно сейчас вот лавиной хлынут фашистские танки и пехота и начнется то, о чем столько было передумано и перечувствовано.
— За патронами бегать только ходом сообщения, голову свою дуриком не выставлять. Делать все, как молния, ленты подавать, воду заменять, если потребуется, без мешканья. И вообще ни суетни, ни паники тем паче, чтоб и в помине не было! Нервочки свои — в руки, душу — в ежовые рукавицы, страх — на послевоенные воспоминания, и все — туда, на противника! — по-хозяйски деловито и внушительно наставлял Чалый.
— Та що балакать, товарищ сержант, — воскликнул Гаркуша, — наш расчет, як тот механизм часовой сработае. Хай тильки сунутся, мы з них фарш зробим, та що перчиком приправим, та присолим трохи, щоб до самого до Гитлеру довезли и не протухло.
Чалый укоризненно взглянул на Гаркушу и, ничего не сказав, приник к амбразуре.
— Товарищ сержант, — не унимался Гаркуша, — та що воны все молотят и молотят по нашему охранению боевому. Хучь бы к нам один снарядик пальнули для иллюминации. А то сидим, як кроты, и никакого эффекту.
— Подожди, пальнут, враз язык прикусишь, — нехотя отозвался Чалый.
— Тю!.. Бачили мы и не таки концерты. По Мамаеву кургану целых полгода день и ночь молотили — и домолотились. Сами, як курята обшарпанные, целыми тыщами в плен брели да пид кресты березовы полягали, мабудь, раз в десять больше.
На какое-то мгновение гул боя стал тише, и Гаркуша, заметно побледнев, первым из всего расчета устремился к просвету амбразуры. Впереди по-прежнему взрывы кромсали землю, но дыма и пыли стало меньше, обзор расчистился и уже без особого напряжения можно было рассмотреть позиции нашего боевого охранения. Всего-навсего за какие-то десять минут они стали неузнаваемы. Там, где совсем недавно весело зеленела ревниво оберегаемая солдатами молодая травка, где сложным лабиринтом петляли темные углубления траншей и ходов сообщения, где прикрывавшие дзоты, землянки, блиндажи пожелтевшие дернины земли все же радовали глаз пробивавшейся зеленью, — вся эта неширокая полоса была теперь почти сплошь черной. Казалось, ничто живое не могло уцелеть и сохраниться там.
Глядя на эту избитую и развороченную взрывами полоску земли, все четверо пулеметчиков молчали. Среди поредевших взрывов снарядов и мин теперь уже отчетливо различался тот самый, тогда еще не всеми уловленный шум, что так мгновенно и резко изменил Козырева. Это был гул танковых моторов, перемешанный с лязгом гусениц и все разгоравшейся автоматной и пулеметной стрельбой. Подобно самой крутой штормовой волне на море, нарастая и тяжело переливаясь, шум этот неудержимо надвигался, густел, грозя накрыть и смести все, что окажется на его пути.
— Эх, — не выдержал Гаркуша, — и прет же адская сила!
Чалый искоса взглянул на него и обнял сгорбленные плечи неотрывно смотревшего в амбразуру Ашота.
— Вот они! — вскрикнул Алеша, увидев как из лощины вынырнули вначале темные купола башен, а через мгновение валко и грузно вывалились и сами, тянувшие хвосты пыли, фашистские танки. Прямо за ними бесформенной массой наступали пехотинцы. Весь сжавшись и похолодев от вида этой, еще совсем далекой от него, лавины машин и людей, Алеша продолжал отыскивать тот самый желтоватый бугорок, куда ушел Васильков, и никак не мог найти его. Видно, что с дзотом и с теми, кто укрывался в нем, все кончено. Эта мысль была так невыносимо больна, что Алеша громко прошептал: «Эх, Саша, Саша!..»
— Какой Саша? — нервно спросил его Чалый.
— Саша Васильков, наш комсорг ротный, он туда ушел, в боевое охранение.
— Було охранение боевое, а теперь тильки поле издолбленное и могилки безвестные, — буркнул Гаркуша и с треском расстегнул ворот гимнастерки.
— Все! Напоролись! — свистяще прошептал Чалый и, гордо показывая рукой в амбразуру, воскликнул:
— Молодцы, саперы! Первые фрицев угостили. Видал, видал, крутятся! — уже во весь голос кричал он. — Славно миночки наши сработали! Трах — и танк больше не танк, а коробка искореженная.
Наткнувшись на минные поля, фашистские танки замедлили ход, остановились, потом, неуклюже переваливаясь и отстреливаясь поползли назад. На том месте, куда они дошли, осталось четыре недвижно застывших машины и семь огромных, истекающих жирным дымом костров. С отходом танков, словно провалясь сквозь землю, исчезла и пехота. В помутневшем небе вновь нудно завыли фашистские бомбардировщики и на истерзанную взрывами полосу боевого охранения вновь посыпались бомбы. С еще большим ожесточением била и фашистская артиллерия. Грохот взрывов возрос до невыносимого предела. Даже находясь в километре от позиций боевого охранения, куда обрушился весь шквал вражеского огня, дзот расчета Чалого дрожал и скрипел бревнами. Все четверо пулеметчиков угрюмо смотрели на то, что творилось впереди.
— Чалый, — крикнул, заглянув в дзот, Козырев, — одного человека на помощь санитарам!
— Тамаев, бегом, — словно давно ожидая этого распоряжения, крикнул Чалый и вновь прильнул к амбразуре.
В изгибе хода сообщения, куда вслед за Козыревым прибежал Алеша, желтея обескровленным лицом, лежал пожилой усатый пулеметчик. Ему, видимо, было так тяжело, что он даже не открыл глаз, когда Козырев поднес к его запекшимся губам горлышко фляги.
— Благодать-то какая, водичка свежая, — судорожно отпив несколько глотков, хрипло прошептал он и, дрогнув совсем черными веками, с трудом проговорил:
— Помощь послать надо комсоргу-то нашему, один в дзоте остался.
— Жив Саша Васильков, жив? — склоняясь к самому лицу раненого, нетерпеливо спросил Алеша.
— Там он, с пулеметом остался. Меня провожая, сказал: «Отправляйся, ты свое отвоевал, лечись теперь». Лечись, говорит, а сам один там остался, — с особенным выражением подчеркивая «там», натужно говорил раненый. — Послать надо к нему. Одному-то с пулеметом беда просто. Ни ленту подать, ни патроны поднести.
— Пошлем, ты не волнуйся, обязательно пошлем, — гладя синюю руку раненого, успокаивал Козырев.
— Товарищ старший сержант, разрешите мне к Василькову, я быстро, — с жаром сказал Алеша, но Козырев суровым взглядом остановил его и показал на раненого.
— Поднимай-ка осторожно, на медпункт понесли.
Пока Козырев и Алеша несли на медпункт раненого, бой ни на мгновение не утихал. По-прежнему ожесточенно били фашистские артиллерия и минометы; гулко ахали наши тяжелые гаубицы и пушки; шквалом из края в край перекатывалась пулеметная и автоматная трескотня; отрывисто и резко били танковые пушки. Только в небе стало заметно тише. Едва обозначались фашистские бомбардировщики, как встречь им бросались советские истребители и разгоняли их еще на подходе к линии фронта.
Когда Алеша вернулся в дзот, никто из троих пулеметчиков даже не взглянул на него. Все они, не то восхищенные, не то подавленные, напряженно смотрели в амбразуры.
— Товарищ сержант, — обратился Алеша к Чалому, — там в боевом охранении комсорг наш, один с пулеметом, я просился на помощь ему.
— Поздно помогать Василькову, — хрипло выдохнул Чалый.
— Как, — вскрикнул Алеша, — погиб?
— Танк, танк давить его полез, — отчаянно прошептал Ашот и отодвинулся, давая Алеше место у амбразуры.
— Вот парень! — воскликнул Гаркуша. — Две атаки один отбил! Сколько он их накромсал там! Сейчас и танку влепит горяченького!
Знакомый холмик, ставший заметно меньше, все так же упорно желтел выгоревшей на солнце травой. Окруженный сплошь черными провалами воронок, он, казалось Алеше, только одним своим видом излучал необоримую силу. Но приглядясь внимательнее, Алеша замер. Прямо к холмику, метрах в ста от него, полз огромный, размером чуть ли не с сам холмик, фашистский танк. Это был несомненно «тигр». Он не вел огня ни из пушки, ни из пулемета, видимо, нацеленный на разгром дзота своей огромной тяжестью и всеуничтожающей силой гусениц. Расстояние между танком и холмиком неумолимо сокращалось.
— Сейчас, сейчас ударит Саша гранатой, потом бутылкой, — забыв обо всем, шептал Алеша. Но черный танк подошел вплотную к холмику, вполз на него и, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, начал кромсать уцелевшую желтизну.
— Да куда же смотрят наши артиллеристы, — отчаянно закричал Гаркуша. — Трубадуры разнесчастные! Фасонить только, на марше в машинах и на лафетах своих раскатывать, а как нас, пехоту бедную, танки давят, их и в помине нет.
— Да куда бить-то, там же наш человек сидит, — укоризненно сказал Чалый.
— Эх, — что было сил ударил Гаркуша кулаком в стену, — где он теперь человек-то? Был — и нету!
Видимо, так решили и артиллеристы. Целая серия тяжелых снарядов прошелестела в воздухе, и вокруг холма выросли широченные черные столбы. «Тигр» еще крутнулся, теперь уже по совсем черному месту, резко развернулся и на полной скорости пошел назад.
— Да бейте же, бейте, уйдет гад! — кричал Гаркуша.
Словно внемля его отчаянной мольбе, несколько фонтанов дыма и пыли окутали «тигр» и сразу же ахнул сотрясающий взрыв. Когда дым рассеялся, на месте «тигра» чернела только бесформенная груда обломков.
— Это памятник тебе, наш комсорг, — сняв каску, тихо сказал Чалый. — От артиллеристов пока, но и мы свой поставим! Воздвигнем не хуже этого!
Давясь от слез, Алеша тоже снял каску и сквозь мутную пелену смотрел, как фашистская пехота поднялась и широкой цепью двинулась к тому месту, где недавно желтел знакомый холмик.
— Дай, дай резану, — рванулся к пулемету Гаркуша.
— Нельзя, — остановил его Чалый, — наше время еще не пришло!
— К черту время! Душу отвести, кипит все!
— Бьет, сам бьет! — вскрикнул Ашот и рванул Алешу за руку. — Жив, значит, жив Саша!
— Там, где только что ползал «тигр», частыми вспышками мелькали коротенькие язычки пламени, и фашистская пехота вразброд, пятная упавшими землю, побежала назад.
— Давай им, Саша! — кричал Гаркуша. — Круши паразитов, щоб на веки вечные угомонились!
Но радость была слишком короткой. На холмик вновь обрушился вихрь огня фашистской артиллерии, и когда через полчаса, в предзакатных лучах солнца, фашистская пехота поднялась в атаку, холмик безмолвствовал.
Глава тридцать первая
Когда Саша Васильков отправил раненого пулеметчика и вернулся в дзот, фашистская пехота, поспешно окапываясь, залегла в буйных зарослях бурьяна. Откуда-то слева короткими очередями бил наш ручной пулемет.
— Давай, давай, браток! — выкрикнул Саша, вставляя новую ленту. Сейчас и я включусь, помогу…
Но едва успел он взяться за рукоятки пулемета, как на дзот с воем и свистом обрушился вихрь минометного огня. Взрывы слились в сплошной грохот. В дзоте стало совсем темно от дыма и пыли. Удушливая гарь сдавила горло и резала глаза.
Внезапно все стихло, и в коричневом тумане через просвет бойницы Саша совсем близко, почти рядом увидел широкую цепь гитлеровцев. Пригибаясь чуть не до земли, они вприпрыжку бежали, на ходу стреляя из автоматов. Одним рывком Саша повернул пулемет влево, где виднелись крайние солдаты атакующей цепи, и привычно нажал спуск. Пулемет задрожал в руках, послушно передвигаясь слева направо, и вдруг неожиданно смолк.
— Задержка! — выкрикнул Саша и, взглянув на приемник, облегченно вздохнул. В горячем порыве он не заметил, как одной очередью выпустил целую ленту.
— Так не пойдет, — сердясь на себя, бормотал Саша, — всего две ленты осталось, пульнешь — и пой Лазаря.
Он вновь зарядил пулемет и, склонясь на земляную площадку, всмотрелся в амбразуру. Фашистской цепи как не бывало. Только в низине подозрительно качались залитые солнцем макушки сорняков, выдавая откатившихся туда вражеских пехотинцев. Саша взялся было за рукоятки пулемета, но, взглянув на последнюю ленту, остановился. Нужно было экономить патроны.
И снова, давя дымом и пылью, обрушился шквал минометного огня. По редким, тупым ударам Саша догадался, что к минометам присоединилась и артиллерия. Один за другим четыре страшных взрыва ахнули совсем рядом, и Сашу с неудержимой силой ударило о стену. Борясь с подступившей вдруг тошнотой, он с трудом поднялся, раздвинул слипшиеся веки и, увидев свой пулемет, вскрикнул:
— Цел, цел «Максим»!
Он схватился за рукоятки, прижался щекой к холодному металлу короба и, ощутимо чувствуя, как возвращаются силы, посмотрел в просвет амбразуры. Там, в низине, выскакивая из бурьянов, опять выстраивались в цепь фашистские пехотинцы. Дыма и пыли стало меньше, и Саша отчетливо видел их перекошенные злостью темные лица под шишкастыми зелеными касками. Вначале ему показалось, что это не атака, а просто обезумевшие от боя вражеские солдаты, побросав оружие, собираются перебежать к нам. Но вот у одного на груди блеснула короткая вспышка автоматной очереди, потом у второго, третьего, и вся широкая с большими разрывами цепь замерцала тусклыми языками вспышек, быстро надвигаясь на Василькова.
Унимая дрожь в руках, Саша поймал на прицел самую ближнюю группу пехотинцев и нажал спуск. С поразительной отчетливостью он видел, как падали гитлеровцы, как остатки группы бросились в бурьян, и перенес огонь на другую группу. Он бил короткими очередями, весь слившись с пулеметом и дрожа в такт его дробному перестуку. Он остановился, когда вся вражеская цепь исчезла, а в ленте осталось десятка два патронов. Он обшарил весь дзот, но ни одной новой ленты не нашел. Только в углу валялся чей-то подсумок и в нем штук тридцать патронов. Саша поспешно вставил их в ленту и прильнул к амбразуре. В лучах клонившегося к горизонту солнца все еще плавали рваные клочья дыма. Истоптанный бурьян отливал бронзовым налетом. Справа и слева суматошилась беспорядочная стрельба, то чаще, то реже ухали взрывы, доносился приглушенный рев моторов и лязгающий скрежет гусениц. Впереди же дзота было пустынно и удивительно тихо.
«Значит, атаки отбиты и наступление сорвано», — облегченно подумал Саша и вдруг почувствовал страшную, опустошающую усталость. Он прислонился к стене и не заметил, как сами собой закрылись глаза. Он не помнил, сколько продолжалось это забытье, и очнулся от резкого ожога на руке. Он испуганно дернулся, открыл глаза и сразу же понял, что задремал и в полусне опустил руку на горячий кожух пулемета. Он смущенно оглядел дзот, чувствуя, как жарко запылало все лицо, отстегнул от пояса флягу и, жадно выпив несколько глотков воды, склонился к амбразуре. Справа и слева бой не утихал. Впереди по-прежнему было пустынно. Вдруг внимание его привлекло что-то темное, выползавшее из низины. Еще толком не понимая, что это, Саша сжался от страшного предчувствия. В горле мгновенно пересохло, и шершавые губы никак не могли поймать горлышко фляги.
С трудом он поборол волнение, выпил воды и теперь отчетливо рассмотрел неторопливо выползавший прямо к дзоту, окутанный пылью и дымом, длинностволый танк.
«Тигр!» — мгновенно сообразил Саша. — Навалится на дзот, как скорлупу, раздавит».
Он лихорадочно оглядел стены, потолок и, сам не злая зачем, постучал кулаком по сосновым бревнам. До «тигра» было метров двести. Тяжело дыша, Саша рванулся к пулемету, но, взглянув на бревенчатый потолок, бросился к выходу. Он хорошо помнил, что, когда бежал сюда, в боевое охранение, метрах в тридцати от дзота темнела ниша, прикрытая сверху толстым слоем земли.
— А пулемет? — вскрикнул он и, бросившись в дзот, сорвал пулемет с площадки, подхватил коробку с лентой и ходом сообщения ринулся к нише. Танк ревел и громыхал уже совсем рядом. Вдруг что-то затрещало, рев мотора на мгновение усилился, и Саша понял, что это рухнул раздавленный дзот. Он ожидал, что танк пройдет дальше, навалится на нишу, но мотор взвывал на прежнем месте. Видимо, фашистские танкисты решили начисто сравнять с землей неугомонный дзот. Мысль, что он обманул, перехитрил гитлеровцев так обрадовала Сашу, что он не удержался и выглянул из ниши. «Тигр», действительно, крутясь на одном месте, кромсал гусеницами землю с торчавшими обломками бревен.
«Эх, да что же артиллеристы наши спят», — с досадой подумал Саша и чуть не вскрикнул, услышав грозный шелест летевших с востока снарядов. Он едва успел нырнуть в нишу, как шквальный гул потряс землю. На мгновение все стихло, и снова ахнул сотрясающий залп.
Когда Саша вновь выглянул из ниши, над растерзанным дзотом высилась бесформенная груда черных обломков. От истоптанных бурьянов вразброд надвигалась реденькая цепь пехотинцев.
Саша вытащил из ниши пулемет, поставил на бруствер и, не маскируясь, ни о чем не думая, ударил по набегавшим пехотинцам. Пулемет послушно прострочил и смолк. Саша в отчаянии рванул ворот гимнастерки. Патронов больше не было. Он отстегнул крышку короба, выхватил замок пулемета и, сунув его за пазуху, ходом сообщения побежал назад. Он не видел, как под его последней пулеметной очередью захлебнулась и эта вражеская атака, с досадой упрекая себя, что погорячился, сжег без толку патроны и не сделал всего, что нужно было сделать. Что-то не совсем ясное, но до трепета ощутимое с властной, все нарастающей силой давило на него. Он не успел сообразить, что это, как горячая волна воздуха швырнула его на дно хода сообщения. Падая, он наяву увидел яркое, ослепительное солнце над Москвой и склоненные лозины над тихой гладью лефортовских прудов.
Очнулся Саша от резкой боли в плече. Он поднял отяжелевшую голову, с трудом раздвинул тяжелые веки и ничего не увидел.
«Ослеп», — опалила его страшная мысль. Он рывком встал на четвереньки, хотел было подняться, но острая боль пронзила все его тело, и он рухнул на землю. С трудом повернувшись на бок, Саша откинул голову и чуть не закричал от радости. В темной вышине ослепительно сияли звезды.
«Вижу, вижу, — беззвучно шептал он распухшими губами, жадно вглядываясь в ночное небо. Боль в плече и во всем теле как будто стихла и только нестерпимо хотелось пить. К счастью, фляга уцелела. Он отцепил ее от ремня, всем ртом схватил горлышко и, захлебываясь, вытянул последние остатки воды. С сожалением опустив флягу, он прислушался и замер. Совсем рядом жужжали приглушенные, явно немецкие голоса. Саша тревожно огляделся по сторонам. Вокруг зияла сплошная чернота. Только вверху еще веселее и радостнее мерцали звезды. Саша протянул руку и пощупал сначала одну, а потом другую земляную стену. Впереди и позади было пусто.
«Ход сообщения», — догадался он и сразу же вспомнил все, что было с ним. Немецкий говор звучал все так же глухо, не удаляясь и не приближаясь. Вражеские солдаты, очевидно, стояли на месте, а может и укрывались под бревенчатым накатником блиндажа.
Саша напряг все силы, стиснул зубы и, приподнявшись, осторожно пополз в противоположную сторону от голосов. Дно хода сообщения заметно опускалось. Впереди явно была лощина, и это, несомненно, была та самая, что отделяла передний край нашей главной обороны от боевого охранения. Теперь Саша отчетливо понимал, где он. Нужно преодолеть всего метров восемьсот, и он спасен. Саша хотел встать, но позади послышались шаркающие шаги и тот же приглушенный немецкий говор. Саша прижался к земляной стенке и затаил дыхание. Ему казалось, что бешеный стук сердца слышат те, кто разговаривает там, позади. Говор все приближался. Саша опять хотел ползти, но больно ударился локтем о что-то твердое и на бедре почувствовал гранатную сумку. Неверными движениями ослабевших рук он достал гранату, вырвал кольцо взрывателя и, собрав для взмаха все силы, метнул в сторону неумолкавших голосов. Прежде, чем раздался взрыв, темное небо вдруг озарилось праздничной россыпью разноцветных ракет, и сразу же там, впереди, где была наша оборона, взметнулось вверх множество огненных хвостов. Они стремительно росли, прочерчивая светящиеся дуги и освещая землю неровным, огненно-белым светом.
— Наши «катюши», — прошептал Саша и тут же услышал взрыв своей гранаты, сразу же покрытый страшным грохотом.
Еще летели и рвались реактивные мины, а там, впереди, в разных местах нашей обороны, полыхнули зарева, доносился глухой рокот, и в небе свистело множество невидимых снарядов.
«Наши наступают», — думал Саша и, пересиливая боль, полз по дну хода сообщения. Но не успел он отползти и сотни метров, как мгновенно все стихло и кромешная тьма свалилась на землю.
— Что же это?.. Почему наши стрелять перестали? Неужели опять немцы наступать будут? — отчаянно прошептал Саша, рванулся вперед и упал, теряя сознание.
* * *
— Ну и фейерверк закатили! — воскликнул Лесовых, когда отгремели последние взрывы и над фронтом сгустилась непроглядная тьма. — Маловато, правда, пять минут всего. Так с полчасика, и едва ли фрицы пошли бы в наступление.
— По плану главная контрподготовка утром будет. А сейчас дали всего пятиминутный огневой налет, — сказал Поветкин. — Теперь нужно быстро сменить огневые позиции.
Он позвонил командирам дивизионов и батарей и, убедясь, что старые огневые позиции уже оставлены, присел на бруствер траншеи. Далеко в расположении противника что-то горело в нескольких местах, и от кровавых отблесков пожарищ ночная тьма вокруг казалась густой и вязкой, наполненной какими-то смутными, таинственными движениями. Вглядываясь туда, где ночь скрыла позиции боевого охранения, Поветкин вспомнил все, что сегодня произошло там. И как всегда после огромного нервного напряжения, многое из минувшего рисовалось отчетливо и ясно, многое было туманно, как недосмотренный сон. Особенно ярко запомнилось начало вражеской атаки, когда фашистские танки под прикрытием шквала артиллерийского огня ринулись на крохотные островки гарнизонов боевого охранения. Тогда Поветкин, вздрагивая всем телом, с трудом удерживал себя от команды открыть огонь всей артиллерией, и сейчас радовался этому. Боевое охранение при поддержке гаубиц и тяжелых пушек стойко выдержало вражеский натиск, и гитлеровцы так и не узнали, где находятся позиции противотанковой артиллерии. А это была уже победа. Теперь, даже начав массированную артподготовку, они не смогут нанести точных ударов по нашим противотанковым пушкам.
Уйдя в раздумья, Поветкин не заметил, как подошел Лесовых и встал рядом с ним. Ночная тьма понемногу редела. Звезды, казалось, опустились ниже, ласкаясь к истомленной земле. Потянул легкий ветерок, разгоняя: пороховую гарь и обдавая свежим, уже напоенным росой, воздухом.
— Вернулись команды сбора раненых, — тревожно проговорил Лесовых. — Нашли двоих раненых, одного убитого. Василькова нигде нет.
— Погиб Васильков, — с трудом выговорил Поветкин, — только передай, чтоб пока родным не писали. Сами напишем. И еще вот что: бери всех писарей и пиши листовку о подвиге Василькова. К утру чтобы каждый солдат знал об этом. О том, что он погиб, не пиши, расскажи, как он один четыре атаки отбил, как даже «тигр» не смог его раздавить, и в конце добавь, что Васильков представлен к званию Героя Советского Союза. Завтра напишем представление.
— Ясно, — ответил Лесовых и, положив руку на горячее колено Поветкина, попросил:
— Сергей, ложись спать. Завтра еще труднее будет, силы беречь надо.
— Нет, — спрыгнул в траншею Поветкин. — В эту ночь не до сна. Видишь, тьма какая, всякое может случиться. А вот в подразделениях отдых организовать нужно.
Одного за другим он вызвал по телефону командиров батальонов, дивизионов и батарей, выслушал их доклады и приказал до утра каждому человеку дать возможность поспать не менее двух часов.
— Что там в батальонах, что противник? — выждав, когда Поветкин закончил переговоры, спросил Лесовых.
— На переднем крае спокойно. Из глубины доносится сильный шум моторов. Да вот, слушай.
Они плечом к плечу опустились на бруствер и замерли. С юга из низины наплывал едва уловимый не то шорох, не то гул, то стихая и обрываясь совсем, то вновь вырастая до отчетливых звуков работающих моторов.
— И все же ты иди, хоть часок усни, — настойчиво потребовал Лесовых. — В такой темноте наступать танками они не рискнут. Я здесь буду — чуть что, сразу же разбужу.
— Хорошо, — чувствуя, как от усталости слипаются веки, согласился Поветкин, — сейчас одиннадцать, не позже часу ночи разбуди. Пусть ничего не случится, пусть тишина — все равно буди!
Сняв ремень и расстегнув ворот гимнастерки, он лег на топчан, закрыл глаза и, стараясь ни о чем не думать, решил немедленно заснуть. Уставшее за трудный день тело расслабло, в висках ощутимо пульсировала кровь, в голове туманилось, и горькая тошнота подступала к горлу.
Он уже совсем было задремал, как вспомнил, что не успел проверить, пришла ли из дивизии машина с боеприпасами.
«Сейчас не пришла, утром подойдет. Боеприпасов хватит», — успокоил он себя и опять решил немедленно заснуть. Один за другим мелькали обрывки мыслей. Он не отгонял их, надеясь, что сон все переборет. Вновь вспомнились боеприпасы. Хорошо, что утром приказал как можно больше передать их в подразделения, а остальные разделить на две части. Сегодня немцы били артиллерией и бомбили так плотно, что если и завтра будет так, то какой-нибудь склад наверняка взорвется. Лучше было бы разделить боеприпасы не на две, а на три или даже четыре части. А как в подразделениях? Нервничают люди, волнуются. Конечно, нервничают. Сегодня за каких-то четыре часа боя почти сто человек ранено, а завтра что будет? Хорошо, что Ирина Петровна догадалась всех раненых отправить в медсанбат. Какая она ловкая, никогда еще раньше я не видел, чтобы так быстро обрабатывали раненых. И он увидел ее ясные, серые с крохотными крупинками голубизны, смотревшие прямо на него глаза. Они, все приближаясь, увеличивались и росли. Темные зрачки расширялись, излучая удивительно мягкий свет. Серовато-голубое окружье светлело, также лучась нежным сиянием. Длинные, совсем черные ресницы едва уловимо дрожали, и под ними светлели крохотные слезинки. Они подобно зрачкам росли и увеличивались, сползая вниз. Поветкин хотел было достать платок, вытереть слезинки, но руки не подчинялись ему. Он весь напрягся, силясь поднять руки, но не смог, и самая крупная слезинка, величиной с большую горошину, упала на его лицо. Он вздрогнул, как от ожога, и… проснулся.
Вокруг было темно и тихо. Поветкин резко встряхнулся, чиркнул спичкой и посмотрел на часы. Было без двадцати час. Он торопливо поднялся, подпоясал ремень, застегнул гимнастерку и вышел из землянки. Прохладный воздух бодрящей волной приятно ударил в лицо. В небе все так же безмятежно мерцали звезды. Где-то справа глухо перестреливались.
— Ты, Сергей?.. — выйдя из укрытия НП, спросил Лесовых. — Почему так рано встал?
— Освежился немного, и хватит. Теперь твоя очередь. Что противник?
— Минут двадцать назад шум моторов утих. Началось какое-то движение в траншеях. Слышен говор, иногда металлические стуки. Дважды в первом батальоне вспыхивала перестрелка. Как выяснилось, все случайно. Первый раз немцы начали, а наши ответили. А вот совсем недавно наши переполошились. Показалось им, что немцы подползают к проволоке, и застрочили.
— Листовку о Василькове написал?
— Написал, размножил и во все взводы разослал.
— Теперь иди спать.
— Полежать полежу, устал очень, — послушно согласился Лесовых, — а заснуть едва ли удастся.
— Ничего. Закрой глаза и считай до тысячи, — посоветовал Поветкин и, вспомнив свой сон, сердито добавил:
— Ну, иди, иди. Каждую секунду использовать нужно.
Отправив Лесовых, Поветкин спустился в блиндаж, посмотрел в едва заметные просветы всех амбразур и, присев на ступеньку, закурил. Болезненный шум в голове постепенно утих, и мысли опять потекли спокойно и ровно.
В два десять по плану должна начаться контрподготовка. Общий сигнал: серия красных ракет над командным пунктом дивизии и слово «шквал» по телефону. Первыми бьют реактивные минометы. За ними вся артиллерия с закрытых позиций, батальонные и ротные минометы. А немцы шумят на переднем крае. Значит, пехота исходное положение для атаки занимает. А как начнется сама атака?.. Напором танков, или сначала они бросят на прорыв пехоту с небольшими группами танков?
— Приполз, приполз! — обрывая мысли Поветкина, закричал невидимый в углу блиндажа телефонист.
— Кто приполз? — решив, что телефонист задремал и прокричал это спросонья, рассердился Поветкин.
— Он приполз… Наш телефонист… Майор Бондарь, — захлебываясь словами, бессвязно выкрикивал телефонист.
— Куда майор Бондарь приполз? Какой телефонист? Говорите толком!
— Наш телефонист… майор Бондарь говорит, Саша Васильков приполз.
— Васильков?!.. Быстро Бондаря вызывайте… Что с Васильковым, где он? — услышав голос Бондаря, спросил Поветкин.
— Васильков сам приполз в первую траншею, — доложил Бондарь. — Ранен осколками в руку и в плечо. Ранение не тяжелое, но сам он очень сильно контужен. Ничего не слышит и почти не может говорить.
— Немедленно носилки и на полковой медпункт. Что противник?
— Совсем затих. Ничего не слышно и не видно.
— Поговорив с Бондарем, Поветкин хотел было позвонить на медпункт, но, вспомнив сон, положил трубку.
— Будете еще с кем говорить? — предупредительно спросил телефонист, видимо озадаченный странным молчанием Поветкина.
— Да, да. Вызывай первый батальон, потом гаубичный и минометный дивизионы, истребительные батареи и танковую роту.
В телефонных разговорах Поветкин скорее по тону голосов, чем по словам командиров подразделений уловил немного нервное, но бодрое и уверенное настроение, царившее в полку, и ощутимо почувствовал те незримые нити, которые связывали его со всеми этими людьми.
Уточнив положение в подразделениях и узнав, что ничего нового о противнике нет, он позвонил своему начальнику штаба, приказал подготовить донесение в штаб дивизии и проверить, пришла ли машина с боеприпасами.
Время приближалось к двум часам. Над землей все так же висела зыбкая тьма, озаряемая только мерцанием звезд. До начала контрподготовки оставались считанные минуты. Вот-вот над высотой у развилки дорог, где располагался наблюдательный пункт генерала Федотова, взовьются красные ракеты, и разом загрохочет вся наша артиллерия, заливая огнем и сталью позиции гитлеровцев.
Как и всегда перед началом большого дела, Поветкину думалось, что время остановилось на месте. Казалось, прошла уже целая вечность, а часы показывали всего лишь без десяти два.
— Вас, сам генерал, — тревожно прошептал телефонист, протягивая Поветкину трубку.
— Не спите? — спросил Федотов. — Немного отдохнули? Это хорошо. Противник и перед вами затих? Это совершенно понятно. Затишье перед бурей. Ничего, ждите. Скоро будет сигнал.
Разговаривая отрывочно, полунамеками, Поветкин отчетливо понимал все, что хотел ему сказать генерал, и чувствовал, что он также понимает каждую его мысль. Эта особенность незримой связи между командиром и подчиненным всегда ободряюще действовала на Поветкина. Он чувствовал в такие моменты огромную силу окружающего его коллектива, и все беспокойное, тревожное исчезало куда-то, заменялось нараставшей уверенностью, что все будет хорошо и именно так, как нужно.
— Ну, Сергей Иванович, — прощаясь, сказал генерал, — смотри в оба! И главное, не теряйся и помни, что рядом с тобой и позади огромные силы.
— Ясно, товарищ генерал, все ясно! — взволнованно воскликнул Поветкин и, отдав трубку телефонисту, вышел из блиндажа.
Звездная россыпь как будто побледнела, хотя небо по-прежнему было бездонно-чистое. Весь фронт лежал безмолвно, словно затаясь перед надвигавшейся грозой. Длинная стрелка наползала на цифру двенадцать. Еще десять минут и…
Поветкин не успел додумать, ослепленный множеством бледных вспышек далеко в расположении противника. С глухим рокотом донеслись отдаленные раскаты, и сразу же, сотрясаясь, засвистел, застонал воздух, потом все раскололось множеством вспышек там, где оставалось наше боевое охранение.
— Опередили нас, — с отчаянием прошептал Поветкин и нырнул в блиндаж.
Вой и грохот все нарастали. С трудом поймав телефонную трубку, Поветкин вызвал Бондаря.
— Что, что делается?
— Бьет по боевому охранению, — яростно кричал Бондарь, — немного задевает передний край. Из немецкой траншеи выскакивают пехотинцы. Сквозь разрывы вижу танки. Они развертываются, движутся к нам.
— Спокойно, — в ответ ему, напрягая весь голос, кричал Поветкин, — не спешить открывать огонь! Подпустить танки ближе, бить только в упор. Кто перебивает? — услышав чей-то посторонний голос крикнул Поветкин.
— Телефонист я, — ответил голос, — с ЦТС[3]. По линии передали «шквал».
— Замечательно! Молодец! — кричал Поветкин. — Повторяй по всем линиям. Повторяй без конца!
Шумно дыша, он оторвался от телефона и выскочил из блиндажа. На всем пространстве, насколько хватало глаз, бледно-кровавое небо прорезали огненные полосы реактивных мин. Позади, справа, слева полыхали залпы батарей, дивизионов, целых артиллерийских полков и бригад. Выстрелы и взрывы смешались в один сплошной ревущий гул. Вся широченная полоса холмов, лощин и высот по ту и другую сторону от нейтральной зоны полыхала сплошным разливом бесчисленных взрывов.
— Что случилось? — тряс Поветкина за руку прибежавший Лесовых.
— Фашисты артподготовку начали, — прокричал ему на ухо Поветкин, — а наши сразу же ответили контрподготовкой. Видишь, что творится. Теперь кто кого!
С каждой секундой грохот и пламя взрывов все ширились и нарастали. Среди низких вспышек далеко за передним краем противника взвился в небо огромный столб пламени и, повисев мгновение, рассыпался каскадом огненных брызг.
— Горючее взорвалось! — крикнул Поветкин. — Смотри, смотри — второй взрыв.
Теперь уже в разных местах по всему расположению противника полыхали пожары. Прошло уже более двадцати минут яростной дуэли, но сила огня с той и с другой стороны все нарастала, ни на секунду не снижаясь. Только в волнах дыма заметно побледнели отблески взрывов и почти совсем погасли звезды.
— Сдают, сдают фрицы! — воскликнул Лесовых. — Видишь, все реже и реже рвутся их снаряды.
Впереди, где только что бушевало огненное море, и в самом деле затихло, а дальше, за нейтральной зоной, там где змеились вражеские траншеи, все так же полыхали взрывы и неумолчно грохотало. Когда сила огня начала снижаться, небо вновь прорезали огненные хвосты реактивных мин, сплошным разливом пронеслось по земле пламя взрывов, и сразу же все замерло. Опять густая тьма свалилась на землю. Только далеко на юге, в стане противника, все еще кровавили небо неутихавшие пожары.
Глава тридцать вторая
Казалось, после столь сокрушительного удара советских артиллерии и минометов по вражеским позициям, немецко-фашистские войска не только сегодня утром, но и вообще не смогут перейти в наступление. Так думал вначале и Поветкин, но чем больше разгоралась утренняя заря, тем убедительнее понимал он ошибочность этого мнения. Верно, позиции гитлеровцев, озаряемые наплывшим с востока мягким светом, выглядели сейчас совсем не так, как вчера. Бесконечная россыпь темных пятен от взрывов наших снарядов и мин густо покрывала холмы, лощины и высоты. Многие участки хорошо видных теперь траншей и ходов сообщения были разрушены. В разных местах среди темных ворохов земли торчали обломки бревен и досок, совсем недавно прикрывавших землянки и блиндажи. Но в траншеях и ходах сообщения было людно и оживленно. А когда брызнули на землю первые лучи солнца, Поветкин в бинокль отчетливо рассмотрел знакомые силуэты танков, разбросанных и по лощине, сразу же за передним краем, и в редком кустарнике, и в разбитом селе, где еще дымились пожары. Поветкин хотел было позвонить генералу и попросить снова ударить артиллерией по вражескому расположению, но далеко на юге послышался нараставший гул авиационных моторов, и вскоре показались большие косяки фашистских бомбардировщиков.
— Передай во все подразделения, — приказал Поветкин телефонисту, — укрыть людей, оставить только дежурных!
Наступало самое трудное время. Как и обычно, фашистские самолеты выстроились в круг и, круто пикируя, обрушились теперь не на боевое охранение, а на главную полосу обороны. Минут двадцать продолжалась яростная бомбежка, и только приход советских истребителей ослабил силу ударов. В воздухе закипел яростный бой, а на земле вновь загудели немецкие артиллерия и минометы.
— Ужасная сила огня, — только по движению губ понял Поветкин вскочившего в блиндаж Лесовых, — нужно отвечать, сопротивляться!
Поветкин отрицательно покачал головой и, склонясь к Лесовых, прокричал ему на ухо:
— Отвечают дивизионная, корпусная и армейская артиллерия, авиация. А наше дело силы беречь для отражения атаки.
Лесовых безнадежно махнул рукой, прильнул к амбразуре и тут же отстранился, с искаженным от злости лицом что-то крича Поветкину.
— Танки, танки выдвигаются, — понял, наконец, Поветкин и схватил бинокль.
Впереди, за волнами дыма на залитых солнцем холмах и высотах, справа и слева от свинцово-серой ленты шоссе в бесконечную цепь развертывались фашистские танки. Передние, словно для парада, медленно переползая, выравнивались в линию, а из лощин, из разбитого села, из рыжих под солнцем кустарников выползали все новые и новые танки, догоняя передние и растягиваясь во вторую, такую же бесконечную линию.
«Впереди явно «тигры» и «пантеры», — определил Поветкин, — это их таран, а за ними средние и легкие танки для развития успеха. Значит, главное — остановить первую волну, — мгновенно решил он, — это и определит все дальнейшее».
«Но как, чем остановить? Их же так много, — нахлынули сомнения. — Командиры батарей и орудий знают, куда бить, но могут поспешить, ударят рано. А надо подпустить — и в упор».
— Передай командирам батальонов и батарей, — не отрываясь от бинокля, крикнул он Лесовых, — без моей команды огонь по танкам не открывать. Сигнал — зеленые ракеты.
Сила огня фашистских артиллерии и минометов заметно стихла. Сразу же первая волна танков дрогнула и, плавно изгибаясь то в одном, то в другом месте, поползла к нейтральной зоне. Перед ней широкой полосой вспыхивали взрывы нашей артиллерии, но танки, не убыстряя и не замедляя хода, все так же ровно, словно нехотя, катились вперед. Теперь уже отчетливо доносился монотонный гул их моторов. Гул все нарастал, надвигался, заглушая все другие звуки. Поветкин стиснул руками бинокль, чувствуя, как деревенеет тело. Прошла, казалось, целая вечность, а окутанная дымом волна черных громад только подползала к нейтральней зоне. А позади нее темнели пятна средних и легких танков, длинных бронетранспортеров и перебегавших групп пехотинцев. Впереди же, все нарастая, метались взрывы заградительного огня наших гаубиц и тяжелых пушек. Правее шоссе вспыхнули два танка, потом задымил еще один, но остальные, словно в парадном строю, сомкнулись и все так же неторопливо покатились в лощину. До нашего переднего края оставалось всего метров четыреста.
— Бить надо, бить, — тряс Поветкина за плечо Лесовых.
— Рано, — стиснув зубы, процедил Поветкин и, отложив бинокль, схватил ракетницу.
Танки уже вползли на то место, где вчера стояло наше боевое охранение, замедлили вдруг движение, и резкий, металлический треск танковых пушек шквалом прокатился по всему фронту, и почти одновременно у нашего переднего края полыхнула волна взрывов. Рев моторов возрос до предела, опять полыхнули из края в край кровавые вспышки, и фашистские танки, словно соревнуясь в быстроте, с огромной скоростью ринулись вперед.
— Да бей же, бей!.. — простонал Лесовых. — Сомнут все.
— А минные поля, ты забыл про них? — зло прокричал Поветкин, с трудом пересиливая желание нажать курок ракетницы.
Лесовых испуганно и удивленно взглянул на искаженное до неузнаваемости лицо Поветкина и отошел к телефонисту.
Стиснув зубы и давя нараставшую во всем теле дрожь, Поветкин впился глазами в узенькую, ничем не приметную полоску земли, к которой катилась танковая лавина.
— Только бы сработали, только бы взорвались, — непослушными губами прошептал он.
«А вдруг не сработают? — мелькнуло в сознании. — Тогда, тогда…»
Вдруг на той самой узенькой, ничем не приметной полоске земли, куда с надеждой и отчаянием смотрел Поветкин, в разных местах один за другим вспыхнули взрывы, и сразу же запылали восемь костров. В стороне от них крутились на месте еще три танка. Остальные, словно наткнувшись на невидимую преграду, замерли, выбрасывая частые дымки выстрелов.
— Огонь! — что было сил прокричал он, и раз за разом четырежды выстрелил из ракетницы.
Еще не успела отгореть первая ракета Поветкина, как вся наша оборона ахнула единым залпом. Вокруг фашистских танков вскипел разлив взрывов, взметнулись черные фонтаны. Резкие удары противотанковых пушек и обрывистые хлопки бронебоек задавили, смяли рев танковых моторов. Фашистские танки скрылись в сплошной пелене дыма и пыли.
— Стой!.. Прекратить огонь! — крикнул Поветкин.
Но пушки, бронебойки, пулеметы и автоматы все продолжали бить, словно стремясь с лихвой отплатить за то нечеловеческое напряжение, которое испытали люди, глядя на катившуюся волну фашистских танков. Только многократно повторенное приказание прекратить огонь остановило наконец ожесточенную пальбу.
Когда дым немного рассеялся, перед самым передним краем нашей обороны фашистских танков уже не было. Только буйно полыхали в разных местах еще десятка полтора пожарищ и между ними темнело много навеки замерших машин с длинностволыми пушками.
Поветкин схватил поданную Лесовых флягу с водой, жадно пил, захлебываясь, а сам все смотрел на юг, куда, догоняя уходящие фашистские танки, били наши гаубицы и тяжелые пушки.
— Прикажи, пожалуйста, командирам подразделений доложить результаты боя, — допив последнюю коду из фляги, расслабленно сказал он Лесовых и обессиленно прислонился к стене траншеи.
Пелена тяжелого тумана заволокла сознание, и Поветкин на мгновение совершенно забыл, где он и что с ним. Открыв глаза, он удивленно осмотрелся. Справа и слева от шоссе было совсем тихо. В нежных лучах поднявшегося солнца призрачными островами лениво плавали волны дыма. Среди бесформенных пятен вздыбленной земли нежно зеленела еще сизоватая от росы трава. В траншеях, в ходах сообщения, в окопах и котлованах виднелись люди — в касках, в пилотках, с непокрытыми головами. И над всем этим лучилось бездонное, сияющее голубизной утреннее небо.
Поветкин снял фуражку, расстегнул ворот гимнастерки и дышал всей грудью, чувствуя, как молодеет, наливается силой все тело. Он хотел взмахнуть руками, размяться, но, взглянув на юг, где, разбрасывая искры, догорали фашистские танки, сурово сжал губы и взял бинокль. В светлом круге окуляров отчетливо вырисовывалась лощина с кустарником и остатки разбитого села. Внимательнее всмотревшись, Поветкин увидел, что и в кустарнике, и в селе, и на поле стояли фашистские танки, а вокруг них суетились танкисты.
«Опять к атаке готовятся», — подумал Поветкин и, вызвав по телефону командира гаубичного дивизиона, приказал открыть огонь по танкам. Сразу же ударила и фашистская артиллерия. Первые ее снаряды взорвались кпереди НП. Второй залп прошел дальше.
«Сейчас накроют, — тоскливо подумал Поветкин. — Ракеты зеленые заметили. Теперь начисто сметут все».
Он хотел перебежать в нишу, но не успел. Нарастающий вой снарядов оборвался, тупой удар страшной силы потряс блиндаж и — все померкло. Новый удар обрушился с еще большей силой и отрезвил Поветкина.
— За мной, на запасной НП, — крикнул он Лесовых и радисту с телефонистом и бросился в ход сообщения.
Когда, отбежав метров сто, Поветкин оглянулся назад, на месте его НП темнела истекающая дымом бесформенная груда земли.
— Быстрее связь, — вбежав в новый блиндаж, приказал Поветкин телефонисту и повернулся к Лесовых.
— Сейчас, наверняка, снова бросятся в атаку. Ты держи связь с командирами подразделений и докладывай обстановку командиру дивизии, а я наблюдать буду.
Но прошло больше часа, а противник в атаку не переходил, продолжая методически бить артиллерией и минометами.
«Может потери у них столь велики, что и наступать нечем?» — с затаенной радостью подумал Поветкин. Однако радость его была преждевременной. К восьми часам сила огня фашистской артиллерии возвысилась до шквала, и из кустарников, из лощины, от разбитого села танки вновь ринулись в атаку. Но шли они совсем не так, как в первой атаке, не сплошной, занявшей весь фронт волной, а отдельными группами, часто останавливаясь, стреляя из пушек и вновь продвигаясь вперед.
Поветкин сосредоточивал огонь своей артиллерии то по одной, то по другой группе танков, заставляя их увертываться, менять курс, отходить назад и вновь повторить попытки прорваться вперед.
Он, не отрываясь от бинокля, следил за ходом боя, скорее инстинктом, чем сознанием определяя, что происходит и что нужно делать. Лесовых на лету ловил его короткие приказания и сразу же по телефону передавал командирам подразделений. Одновременным ударом двух истребительных батарей и гаубичного дивизиона удалось остановить и заставить попятиться фашистские танки перед первым батальоном. Поветкин стремительно сосредоточил огонь всей своей артиллерии перед вторым батальоном, где вражеские танки подошли вплотную к первой траншее. Минут тридцать шла ожесточенная борьба, и, когда уже противник левее шоссе начал откатываться назад, Поветкин увидел, как перед самым центром второго батальона из крохотной, почти невидимой лощины выскочили штук пятнадцать танков и на бешеной скорости ринулись вперед. Поветкин перенес туда огонь одной, потом второй истребительных батарей, но танки, все убыстряя скорость, ломились напролом. Поветкин сосредоточил туда огонь и гаубичного дивизиона, окутались дымом еще два танка, но тут же артиллеристы прекратили огонь. Стрелять больше было нельзя. Фашистские танки ворвались в оборону батальона Бондаря.
* * *
Оглушающий грохот совсем близких и дальних взрывов, шквальный накат автоматных и пулеметных очередей, гул множества моторов на земле и в воздухе перемешались в сплошной хаос звуков, который, казалось, навсегда перечеркнул обычные понятия о жизни. Пристроясь в углу дзота, Алеша никак не мог представить, что творилось вокруг, и завидовал Ашоту, уже второй раз убежавшему на патронный пункт. Командир расчета сам встал за наводчика, Гаркуша помогал ему, а Алеша с самого начала наступления противника томился от безделья.
— Что там, наверху-то? — спросил он мокрого, взъерошенного Ашота, притащившего целую связку коробок с пулеметными лентами.
— И-и-и! — крутнул головой Ашот, сузив покрасневшие глаза. — Пальба кругом, танки ползают…
Алеша пытался подробнее расспросить Ашота, но тот крутил лишь головой, махал руками и бросал несвязные, сбивчивые слова.
— А-а, эх, — простонал вдруг Чалый и оборвал стрельбу.
— Что, ударило? — встревоженно спросил Гаркуша.
— Пулей, кажется, — морщась, совсем спокойно сказал Чалый. — Встань на мое место, я перевяжусь. Бей туда вон, по выходу из лощины. Не давай им головы поднять.
Алеша и Ашот бросились к Чалому, но сержант отстранил их, стянул с себя уже намокшую гимнастерку и с треском разорвал нательную рубашку. Все его плечо и часть левой руки были залиты кровью.
— Товарищ сержант, я за санитаром сбегаю, — стараясь подавить нервную дрожь, совсем не своим голосом проговорил Алеша.
— Не надо, сам перевяжусь, — отмахнулся Чалый. — Становись к пулемету!..
Едва успел Алеша занять свое обычное место помощника наводчика, как что-то огромное ударило в землю и с невероятной силой тряхнуло ее.
Когда Алеша опомнился, было удивительно светло. Вместо привычного наката бревен, над головой плавали грязные клочья дыма. В воздухе пахло приторной гарью и едким чадом. Первым, что осознанно различил Алеша, были воспаленные, в упор смотревшие на него глаза сержанта Чалого. Голый до пояса, с пропитанным кровью бинтом на плече, он стоял около пулемета и что-то, видимо, сердитое говорил ему, Алеше.
— К пулемету! — только через несколько секунд понял Алеша команду сержанта и привычно схватился за рукоятки. Прямо впереди, у самого края лощины извилистой цепью бежали фашисты. То, что это были враги и что до них оставалось всего каких-то метров двести, Алеша сообразил сразу же и не раздумывая, длинной очередью ударил из пулемета. Знакомый ритмичный стук и привычная дрожь рукояток пулемета вернули ему сознание. Теперь уже было отчетливо видно, как атакующая цепь гитлеровцев, редея, остановилась, а потом побежала назад. Перед выходом из лощины остались только лежавшие вразброс темные бугорки.
Упругий, режущий звук сдавил воздух, и, блеснув ржавым пламенем, перед самым пулеметом ахнул оглушающий взрыв. Невольно пригнувшись, Алеша услышал, как просвистели над головой тяжелые осколки и с мягким шелестом посыпалась земля.
— Нащупали, гады, теперь житья не будет, — с натугой прохрипел Чалый.
Новый удар ахнул справа, потом слева, опять справа. Все сотрясая, взрывы следовали один за другим. Выли, стонали и шлепались осколки, едкий дым сдавливал дыхание, песок и пыль хрустели на зубах, в горле нестерпимо першило, и саднили воспаленные губы.
Прижавшись спиной к стене раскрытого взрывом дзота, Алеша вначале вздрагивал при каждом взрыве, потом, когда удары снарядов участились и слились в сплошной грохот, перестал вздрагивать, чувствуя только, как онемело и расслабло все тело и по лицу из-под каски катятся струи пота.
— Хлебни водички, — по движениям губ понял он Чалого и, отстегнув флягу, припал губами к прохладному горлышку. От теплой, удивительно вкусной воды сразу же стало легче и светлее в глазах. Взрывы все так же беспрерывно ухали то ближе, то дальше, то совсем рядом. Но теперь Алеша чувствовал себя совсем по-другому. Он поудобнее устроился в углу полуразбитого дзота, вытер пот с лица и впервые осмысленно посмотрел на Чалого. Сержант, поджав ноги, сидел в углу и поправлял окровавленную повязку на левом плече. Черное лицо его было спокойно, только запекшиеся губы что-то шептали.
— Помогу, товарищ сержант, — потянулся было к нему Алеша.
— Сиди, сиди, — остановил его Чалый. — Не высовывайся и духом не падай. Сейчас они опять в атаку бросятся. Только стреляй экономнее, патроны береги, поднести-то некому.
«А где же Ашот? — подумал Алеша, только сейчас сообразив, что в развалинах дзота остались они вдвоем с сержантом. — Где Гаркуша?»
Он хотел спросить об этом Чалого, но, взглянув на выход из дзота, увидел распростертого на дне Ашота и склонившегося над ним Гаркушу.
— Ашот, Ашотик, что с тобой? — одним рывком подскочив к Ашоту, прошептал Алеша.
Маслянисто-черные с розовыми белками глаза Ашота горели лихорадочным блеском, темные скулы заострились, мальчишески неокрепшая грудь судорожно и часто вздымалась.
Увидев Алешу, Ашот скривил посинелые губы, яростно сверкнул глазами и с нескрываемой болью прошептал:
— Фашист лезет, а я лежу, совсем, как чурбак, лежу… Нога осколком, рука осколком, и другой рука осколком… Зачем так, — резко возвысил он голос, — все наши бьются, все воюют, а, я лежу.
— Ничего, ничего, — мягко сказал Гаркуша, — и ты еще навоюешься. Вот подлечишься в госпитале и опять в строй.
— Подлечишься, подлечишься, — по-детски обидчиво бормотал Ашот. — Фашист бить надо, воевать надо, а не в госпиталь.
— Вот, берите пулеметчика нашего, — крикнул Гаркуша показавшимся в ходе сообщения санитарам.
— Нельзя берите! Я тут буду! — отчаянно закричал Ашот. — Никуда не пойду! С пулеметом останусь!
— Нельзя дорогой, нельзя, — заговорил пришедший вместе с санитарами Козырев.
Умоляюще взглянув на парторга, Ашот всей грудью вздохнул, послушно лег на носилки и, глазами подозвав Алешу, прошептал:
— Будь здоров, Алеша, я скоро… Совсем скоро… Вместе воевать будем.
Алеша щекой прижался к воспаленному лицу Ашота и, поцеловав его горячие губы, с трудом ответил:
— Будем, Ашот, обязательно будем. Возвращайся скорее, лечись хорошенько.
— А как остальные? — проводив санитаров с Ашотом, спросил Козырев.
— Мы, вроде целые, — указывая на Алешу и на себя, ответил Гаркуша. — А вот сержанта нашего пулей в плечо ударило. Крови столько вытекло, а он не уходит.
Очередной снаряд взорвался совсем рядом, и взвихренная пыль закрыла стоявшего у пулемета Чалого. Когда Козырев, а за ним Гаркуша и Алеша, пригибаясь, подошли к Чалому, он искоса взглянул на них, потом повернул голову в сторону противника и, резко махнув рукой, с каким-то странным воодушевлением проговорил:
— Сейчас опять рванутся и наверняка впереди себя танки пустят.
— Немедленно на медпункт, — строго сказал Козырев.
— На медпункт?! — насмешливо щуря глаза, вызывающе переспросил Чалый и взмахнул черным кулаком:
— Нет! Я никуда не уйду, пока сполна с ними за семью не поквитаюсь!..
— Какую семью? — с тревогой глядя на искаженное горем и злобой лицо Чалого, спросил Козырев.
— Мою, мою семью, — стремительно, словно торопясь куда-то, сказал Чалый. — Мать, дочку, жену и сестренку. Всех они, гады, — задыхаясь и глядя на Козырева полными слез глазами, выкрикнул Чалый, — всех на восьмой день войны в Белоруссии в хате спалили. Живыми спалили! — отчаянно прокричал он и, вздрагивая окровавленными плечами, беззвучно зарыдал.
— Не надо, не надо отчаиваться, — обняв его, успокаивал Козырев. — Мы с ними за все поквитаемся. А сейчас силы беречь надо, боев впереди еще очень много. Ты ранен, ослаб…
— Я не ослаб! — резко перебил Чалый. — Еще руки работают, глаза видят, а совсем обессилю, без рук останусь, зубами рвать буду, кровью своей топить…
— Присядь, передохни маленько, — уговаривал Козырев, — водички выпей, закури.
— Эх, товарищ парторг! — воскликнул вдруг Чалый. — Вы что, не понимаете, что на этом вот самом месте, тут вот, под Белгородом, судьба наша решается. Они же прут, как осатанелые, они же опять туда, к Москве, к центру, к самому нашему сердцу, рвутся. У меня душа окаменела от горя. Но мое горе это лишь кусочек общего горя. Сколько таких, как моя семья, погублено и уничтожено! А сколько еще погибнет, если мы вот на этой земле белгородской, вот тут в дзоте этом, не остановим их, не свернем им шею! А вы говорите: медпункт! — укоризненно махнув рукой, закончил Чалый и взял у Гаркуши недокуренную папиросу.
— Ты прав, Борис, — сурово склонив голову, тихо сказал Козырев, — мы должны остановить их. И остановим!..
Внезапная, словно откуда-то свалившаяся тишина оборвала слова Козырева. Все четверо переглянулись, и сразу же, без слов поняв, что сейчас начнется новая атака противника, заняли свои места.
Пулемет был, как и всегда, заряжен. Алеша, сам не зная зачем, потрогал вставленную ленту, раскрыл еще две патронные коробки, переложил с места на место лежавшие в нише гранаты и только после этого посмотрел вперед. Там, где полчаса назад у края лощины скрылась вражеская пехота, было пустынно. Но правее, на уходившей к дороге высоте, и слева, у разбитого хутора, в наплывах дыма и пыли ползали фашистские танки и суетливо перебегали пехотинцы.
А впереди, где было совсем пусто, вдруг словно из-под земли вынырнули штук пятнадцать танков и на полной скорости устремились вперед. Встречь им, вздымая фонтаны взрывов, ударили наши пушки, но танки, увертываясь от разрывов, неудержимо катились вперед. От их все нараставшей близости, от рева моторов у Алеши похолодело в груди и мелко задрожали руки. На мгновение он вспомнил, как во время обкатки нашим танком у него было точно такое же состояние, и от этого воспоминания почувствовал вдруг легкость. Алеша плотнее прижался к земле, ощупал рукой гранаты и зажигательные бутылки и, совсем успокоясь, посмотрел влево. Гаркуша обеими руками вцепился в рукоятки пулемета и пригнул голову к прицелу. Рядом с ним, так же напряженно склонив голову вперед и что-то внизу делая руками, стоял Чалый. Позади него у самого выхода в траншею привалился к брустверу Козырев. Изборожденное морщинами лицо его было спокойным, и только правая рука нетерпеливо перебирала обвисший ус.
Разрывы нашей артиллерии ложились все чаще и гуще, преграждая путь фашистским танкам. Уже два из них горели, остановился и задымил третий, но остальные, все убыстряя скорость, неудержимо надвигались. Когда до переднего края оставалось всего метров двести, задымили еще два танка, и это, казалось Алеше, должно было остановить атаку. Но уцелевшие танки даже не замедлили своего движения. Самый ближний резко вырвался вперед, крутнул влево, вправо и, сверкая лапами гусениц, устремился прямо на дзот. Едва Алеша успел схватить гранату, как из-за пулемета выскочил на бруствер сержант Чалый и, ослепительно белея повязкой на плече, весь перегнувшись, неторопливо пошел навстречу танку.
— Назад! — отчаянно закричал Козырев, но Чалый даже не обернулся и, все так же неторопливо шагая, сближался с отчаянно стрелявшим из пулемета и из пушки танком.
— Там, там щель наша, — проговорил Гаркуша, и Алеша сразу вспомнил, что впереди дзота он сам же копал узкие и глубокие щели, куда нужно было выбегать при атаке вражеских танков. Теперь он хорошо видел еле заметный просвет щели и выглядывавшую из нее каску сержанта.
Танк подошел уже почти к самой щели, но каска Чалого все так же недвижно отливала зеленой краской.
— Бить, бить надо! — хрипло прокричал Гаркуша.
— Видать, не ударит, — надрывно сказал Козырев и отчетливо, совсем так, как на обычных занятиях, скомандовал: — Гранаты и бутылки к бою!
Алеша схватил правой рукой гранату, левой бутылку, приготовился швырнуть их в уже подходивший к самому дзоту танк, но впереди что-то негромко хлопнуло, потом хлопнуло еще раз, и огромный, с желтым крестом маслянистый танк круто повернул, осел набок и задымил вдруг так густо, что закрыл всю южную половину неба.
Радостно крича, Алеша тряс Гаркушу за плечо, но тот сердито отмахнулся и рукой показал на второй, выскочивший из-за дыма танк. Он был так близко, что Алеша невольно попятился назад, замахнулся гранатой и остановился только от властного окрика Козырева:
— Пропустить танк! Бить в заднюю часть!
«В заднюю часть, в заднюю часть», — мысленно повторил Алеша, не сводя взгляда с угловатой, нырявшей то вверх, то вниз башни танка.
Эти мгновенно промелькнувшие мысли, словно яркая вспышка, осветили все последующие действия Алеши. Вместе с Гаркушей они убрали пулемет в нишу, пригнулись к самому дну траншеи и, когда над головой оглушающе и страшно прогрохотало, вскочили и, будто по единой команде, ударили по едва отошедшему от них «тигру». Алеша отчетливо видел, как его граната, чиркнув в воздухе, взорвалась на броне, как там же раскололась зажигательная бутылка и как едва уловимые змейки огня поползли по танку и, все разрастаясь, превратились в сплошное, бушующее пламя.
— Угомонили! — махая руками, кричал Гаркуша. — Був «тигр», а стал куренком на вертеле. Алешка, щуренок ты окский, — цепкими руками мял он Алешу, — ухандокали «тигру» хвашистскую, в костер пылающий переделали!
Алеша радостно отбивался от Гаркуши, глядя, как прямо к дзоту, низко пригнувшись, бежит сержант Чалый.
— Ну, хлопцы, еще один наскок гитлеровцев сломили, — обняв за плечи Алешу и Гаркушу, весело сказал Козырев. — Как, если еще наскочит, выдюжим?
— Не только выдюжим, но и передюжим! — выкрикнул Алеша, прижимаясь к костлявому телу парторга.
* * *
— Кто поджег танки? — все еще взволнованный неравным поединком пулеметчиков с двумя фашистскими танками, спросил Поветкин Бондаря.
— Первый танк подбил сержант Чалый, второй — рядовые Гаркуша и Тамаев, — ответил Бондарь.
— Передай по цепи, передай всем: за героическую борьбу с фашистскими танками сержант Чалый награжден орденом Отечественной войны первой степени, рядовые Гаркуша и Тамаев — орденами Отечественной войны второй степени, — приказал Поветкин и, закончив разговор с Бондарем, сказал Лесовых:
— Готовь листовку об их подвиге и сейчас же — во все подразделения!
Грозная опасность в районе второго батальона была ликвидирована. Поветкин вытер мокрое, распаленное лицо, хотел доложить обстановку генералу Федотову, но, взглянув на левый фланг первого батальона, замер от неожиданности. Три фашистских танка проскочили траншеи, где сидели стрелки, и на полной скорости неслись прямо к командному пункту полка. За ними, так же плотными рядами, устремились еще восемь танков и шесть бронетранспортеров с пехотой. В траншеях первого батальона творилось что-то неладное. По прорвавшимся танкам даже огня никто не вел. Лихорадочно соображая, что предпринять, Поветкин заметил вдруг, что танки шли краем той самой лощины, которая заставила Поветкина мучительно краснеть на занятиях генерала Федотова. Тогда Поветкин много передумал об этой лощине и пришел к выводу, что самое лучшее устроить в этой лощине ловушку для противника. Он приказал саперам ее вершину и скаты перегородить минами, а на флангах подготовил запасные позиции для противотанковых батарей. Теперь противник сам почти влез в эту ловушку. Оставалось только подхлестнуть его, заставить отвернуть от шоссе вправо и спуститься в лощину.
Поветкин приказал командиру гаубичного дивизиона дать огонь по северным скатам лощины, а командиру первого батальона закрыть пути отхода противника назад.
— Закрыл, все закрыл, — радостно доложил командир первого батальона. — Они когда рванулись, я вспомнил, что вы говорили тогда, после учений, и пропустил их в лощину. А сейчас загородил, не проскочат.
Все остальное произошло в считанные секунды. Встретив стену разрывов гаубичного дивизиона, фашистские танки повернули вправо и поползли в лощину, где никого не было. Как только они приблизились к ее вершине, Поветкин дал залп дивизионом реактивных минометов. В пламени и дыму фашистские танки устремились вперед и в стороны и сразу же ворвались на минные поля. Выскочившие на запасные позиции две пушки первой и второй истребительных батарей в упор добили уцелевшие танки и зажгли бронетранспортеры.
— Все кончено, — докладывая по телефону, восторженно кричал командир первого батальона, — тридцать семь фрицев сдались в плен. Все из танковой дивизии СС «Адольф Гитлер». Говорят, что вдоль шоссе и севернее наступает танковая дивизия СС «Мертвая голова».
«Неужели полк воюет с двумя танковыми дивизиями, да еще такими, как «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова»? — раздумывал Поветкин. — Если это так, то жарковато будет. Нужно немедленно доложить генералу. Нет, сначала уточню положение в подразделениях и тогда доложу».
То, что узнал Поветкин из разговора с командирами батальонов и истребительных батарей, резко изменило его настроение. За полдня боя полк понес большие потери. В батальонах были выбиты все противотанковые орудия и разбито семь пулеметов. В истребительных батареях оставалось всего по две пушки. С такими силами выдержать новую массированную атаку фашистских танков казалось Поветкину совершенно невозможно.
— Не удивляйтесь, что перед вами части танковых дивизий СС «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова», — сказал генерал Федотов, когда Поветкин доложил ему о захваченных пленных и о положении в полку. — Это действительно так. Ваш полк стоит на самом горячем месте. И потерям не удивляйтесь. Потери, конечно, велики, но не напрасны. Посчитайте, сколько бы одних только фашистских танков уничтожили. Полк дрался превосходно. Объявите всему личному составу благодарность командования и продолжайте бить гитлеровцев так же, как били. Сил у вас еще много. Я же помогу вам всем, что у меня есть. Держитесь, Сергей Иванович, главное сделано: первые удары противника отражены, его планы молниеносного танкового прорыва сорваны. Теперь нужно выстоять и разгромить противника до конца!
Как и всегда, разговор с генералом успокоил Поветкина. Он вновь осмотрел всю свою оборону и подступы к ней, передал в подразделения благодарность командования и впервые с начала боя закурил.
Противник, словно решив сделать передышку, утих. Только его артиллерия и минометы изредка били то в одно, то в другое место, не причиняя полку вреда.
Воспользовавшись затишьем, помощник Поветкина по снабжению подогнал к батальонам кухни.
Принесли завтрак и Поветкину с Лесовых.
— Вот и подкрепимся, наконец, — задорно потирая руки, схватил Лесовых котелок с кашей и вдруг замер в тревожном напряжении.
— Летят, — прошептал он, сузившимися глазами показывая вверх.
Поветкин выскочил из блиндажа и прямо в вышине увидел четыре группы фашистских бомбардировщиков. Они на большой скорости летели вдоль шоссе и, не дойдя до фронта, не развернувшись в свой излюбленный круг, с ходу один за другим ринулись вниз.
«Это удар на полное уничтожение, — с отчаянием подумал Поветкин, сразу же определив, что гитлеровцы бьют вдоль шоссе, как раз по всему участку обороны его полка. — А где же наши истребители, и почему не бьют зенитки?».
Он яростно сжал кулаки, хотел позвонить генералу и вылить весь свой гнев на летчиков, но, еще раз взглянув вверх, увидел серебристые фигурки наших ястребков, парами ринувшихся на фашистские бомбардировщики. Когда справа и слева от шоссе взметнулась целая серия столбов дыма и пыли, от строя фашистских бомбардировщиков сразу отвалили четыре самолета и, густо дымя, безвольно пошли на снижение. Но остальные фашистские бомбардировщики, словно не замечая советских истребителей, все ныряли и ныряли вниз, резко поднимались и развертывались для нового удара. Еще вспыхнуло несколько бомбардировщиков, но бомбежка не ослабевала.
Тусклым диском, словно в полное затмение, безжизненно проглядывало солнце. Рев моторов, треск авиационных пушек и пулеметов в диком хаосе переплелись с непрерывным уханьем бомб. Что творилось на земле, нельзя было разобрать. Поветкин пытался позвонить в подразделения, но все линии связи были порваны. Он хотел было выскочить из блиндажа и посмотреть, что происходит, но волна сдавленного воздуха с огромной силой отбросила его назад. С трудом владея собой, он поднялся и тут же упал от нового взрыва.
«Неужели конец?» — молнией пронеслось в сознании. Собрав все силы, он привстал, схватился рукой за край амбразуры и поднялся. У его ног лицом вниз лежал Лесовых.
— Андрей, Андрей! — склонясь над ним, прокричал Поветкин.
Лесовых передернул плечами, поджал руки и, шатаясь, встал. Лицо его было совсем черное, глаза красные, лоб окровавлен.
— Ты ранен? — спросил Поветкин.
— Да нет вроде, — кривя распухшие губы, проговорил Лесовых, — швырнуло о землю, как бревно какое-нибудь.
Грохот взрывов смолк. Но вверху еще грознее и отчаяннее ревели моторы, беспорядочно суматошилась воздушная стрельба.
Поветкин и Лесовых одновременно выскочили из блиндажа. Весь район обороны полка окутал грязно-коричневый, не пробиваемый слепящим солнцем, туман. На переднем крае взахлеб строчили пулеметы и автоматы, раскатисто ухали танковые пушки, натруженно ревело множество моторов.
Когда мрак немного рассеялся, там, где только что стояли уцелевшие два орудия первой истребительной батареи, ползали фашистские танки. Безмолвствовала и третья, правофланговая батарея. Совсем рядом с ее позициями колонной ползли танки противника. Только в самом центре, отбиваясь от наседавших, окутанных дымом машин, отчаянно палили две единственные пушки второй батареи.
— Прорвались, окружают, — скрежеща зубами, простонал Лесовых.
— Сейчас, сейчас остановим, — мгновенно соображая, что предпринять, проговорил Поветкин и крикнул в соседний окоп:
— Командир танковой роты, ко мне!
— Слушаю вас, — стремительно подлетел маленький танкист в огромном шлеме.
— Три танка выдвинуть к лощине, три на скаты высоты, остальным перекрыть шоссе. При прорыве противника развернуться фронтом на север и драться в окружении, — громко, подчеркнуто чеканя каждое слово, приказал Поветкин. — Задача ясна?
— Так точно! Разрешите выполнять? — в тон Поветкину лихо ответил танкист.
— Только, дорогой, учти, — взяв танкиста за плечи, сказал Поветкин, — вся надежда на тебя. Противотанковые орудия выбиты, остались твои машины и гаубичный дивизион.
— Выдержим, остановим! — взмахнув стиснутым кулаком, решительно заверил танкист. — А если обойдут, в окружении драться будем.
— Иди, дорогой, — легонько подтолкнул танкиста Поветкин и обернулся к Лесовых.
— Теперь гаубичный дивизион выдвигать нужно, правый фланг прикрыть.
— Я пойду, — не допускающим возражения голосом сказал Лесовых, — выведу. Места подготовленных позиций знаю.
— Хорошо, иди, — шумно вздохнув, согласился Поветкин и, с силой обняв Лесовых, прошептал ему на ухо:
— Трудно будет, Андрей, но держись до последнего.
— Ты… Ты сам только никуда не рвись. Твое место на НП. Ринешься куда-нибудь, потеряешь управление — все погибнет, — сказал Лесовых и, оторвавшись от Поветкина, огромными прыжками побежал к огневым позициям гаубиц.
Туман неуловимо рассеивался, и в слепящих лучах солнца Поветкин увидел, как справа и слева, беспрепятственно двигаясь колоннами, фашистские танки углубились далеко в тыл. Там, на севере, уже гремела канонада. Теперь полк был полностью отрезан и от соседей, и от тылов.
Поветкин с яростью взглянул на не вовремя щедрое солнце и стиснул зубы. До вечера оставалась еще целая, непомерно длинная половина дня. И эту половину нужно было выстоять, выдержать на крохотном пятачке земли, со всех сторон стиснутом фашистскими войсками.
Глава тридцать третья
Командующего Первой танковой армией генерал-лейтенанта Катукова Андрей Бочаров нашел на опушке крохотной рощи, почти у самой автомагистрали Курск — Белгород. Высокий, юношески стройный, в сером комбинезоне Катуков стоял у разрубленной взрывом березы и пристально смотрел в бинокль. Услышав шум подъехавшего автомобиля, он недовольно сморщил совсем молодое, с посеревшими скулами лицо, но, узнав Бочарова, скупо, одними лишь острыми глазами улыбнулся и стремительно, словно боясь потерять хоть долю секунды, проговорил:
— И наше времечко подходит, вот-вот стукнемся.
Он поздоровался с Бочаровым и, кивнув головой на подернутые пылью и дымом всхолмленные поля, скороговоркой добавил:
— Пока разведку выдвинул, а главные силы еще не тронул; жду темноты.
— Что в обстановке нового? — спросил Бочаров.
— Пока особой опасности нет, но борьба исключительно напряженная и… — Катуков помолчал, видимо, подыскивая удачное слово, — и я бы сказал, крайне ожесточенная. Видите там, справа, где пожары — это горят села Черкасское, Бутово и Коровино. Там противник развернул две танковые и две-три пехотные дивизии. А здесь вот, левее, вдоль автомагистрали, прямо на Курск рвутся эсэсовцы, танковые дивизии «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова». У них на флангах также две или три пехотные дивизии. И, наконец, восточнее Белгорода, отсюда не видно, третий участок прорыва. Там наступают еще три танковые и две пехотные дивизии. В общем итоге в сражение противник уже бросил семь танковых и примерно столько же пехотных дивизий. И среди них «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» и «Великая Германия». А каждая из них, — понизил Катуков голос и склонился к Бочарову, — по количеству танков равна чуть ли не двум нашим танковым корпусам. Вот какова обстановочка-то здесь на белгородско-курском направлении. А что там, на севере, перед Центральным фронтом, на орловско-курском направлении? У вас есть данные?..
— Да, — ответил Бочаров, — всего полчаса назад уточнял. Положение на Центральном фронте примерно такое же, как и здесь, на Воронежском. Первые атаки противника отбиты. Сейчас идет борьба в главной полосе обороны. Разница лишь в том, что противник наступает в основном пехотными дивизиями, усиленными большим количеством танков. Всего пока наступают восемь-девять пехотных и одна танковая дивизия. Основная танковая группировка — пять танковых и две моторизованные дивизии — еще не введена в сражение и остается в резерве.
— Ох, и хитрец, видать, этот Модель, — сурово блеснул глазами Катуков, — чует, что у нас мощная и глубокая оборона, вот и держит танковые дивизии в резерве. Правда, и Манштейн не дурак. Резервы, кажется, и у него солидные. Пока еще и третья танковая дивизия и дивизия СС «Райх» в сражение не введены. А это свежие и мощные дивизии. А там еще в районе Харькова стоит танковая дивизия СС «Викинг» и с ней две, а может, и три танковые дивизии. Так что борьба еще только начинается. Только начинается, — повторил Катуков с каким-то особенным, не то строгим, не то грустным оттенком в голосе, — а я уже получил задачу. Во-первых, ни при каких обстоятельствах не допускать прорыва противника на Курск. Это значит подпереть нашу пехоту, а если она не выдержит — встать насмерть и схлестнуться с главными силами противника. А во-вторых, быть готовым всеми силами танковой армии завтра на рассвете перейти в контрнаступление на юг, на Томаровку.
— Да, я об этих задачах знаю, — сказал Бочаров.
— И как оцениваете их? — опять с неудержимой стремительностью метнул Катуков острый взгляд на Бочарова.
— Сложные и нелегкие задачи.
— Нелегкие, — шумно вздохнул Катуков, — если бы только нелегкие. Вон они, — резко обвел он рукой полуокружье, охватывая пространство вправо и влево от шоссе. — Фашисты по самым осторожным подсчетам уже ввели в сражение не менее семисот танков. А нам, танкистам, надо их перемолоть. Конечно, артиллерия поможет, авиация. Но и у противника артиллерии тоже — будь здоров! Слышишь, как ревет? Да и авиация с самого рассвета висит в воздухе. Так что главный-то удар, кажется, моим коробочкам принять придется. А их, как знаешь, не так уж много. Да и, — понизил он голос, — «тигры» с «пантерами» — зверье свирепое.
Катуков говорил задумчиво, тихо, будто рассуждая сам с собой и совершенно забыв о Бочарове.
— Знаешь, полковник, — словно желая исправить оплошность, придвинулся он к Бочарову, — я, как говорят, танкист до мозга костей. А для танкиста главное — удар, стремительность, лихой прорыв, натиск. Ни один настоящий танкист пассивную оборону терпеть не может.
— Но у танков, помимо удара, есть и другие тактические приемы, — сказал Бочаров, — засады, огонь из укрытий…
— Конечно, есть, — воскликнул Катуков, — и можете не сомневаться, мы их применим. Но сейчас-то речь идет не о действиях отдельных машин, взводов, рот и даже батальонов, а о целой танковой армии, о ее контрнаступлении. А сила таких махин, как армия, в массовом, стремительном, ошеломляющем ударе. Можно всю армию посадить в засады и просидеть без толку, прозевать все и вся. Подожди, что-то неладное творится там, — встревоженно сказал он, прислушиваясь к внезапно возросшему гулу боя на автомагистрали. — Никулин, — крикнул он в сторону замаскированного в кустах бронетранспортера с рацией, — узнай, что там на шоссе, в дивизии Федотова!
Бочаров еще с утра знал, что дивизия Федотова попала под самый сильный удар противника и с тревогой следил за ее борьбой. Сейчас в ее полосе действительно происходило что-то необычное. Не только сплошь изрытые холмы и высоты, где располагались стрелковые полки, но и ближняя низина, и глубокие овраги, и две рощи, занятые дивизионными тылами, — все сплошь утонуло в грязной пелене дыма. Грохот канонады возрос до такого предела, что ни Катуков, ни Бочаров не расслышали подбежавшего к ним танкиста. Только вплотную приблизясь к нему, Бочаров понял смысл его торопливого доклада. Две большие группы правее и левее шоссе прорвали нашу оборону, окружили полк Поветкина и стремительно развивают наступление прямо вдоль автомагистрали. Услышав о несчастье с полком Поветкина, Бочаров стиснул зубы от нахлынувшей вдруг боли и невольно подался вперед. Там, вместе с полком в окружение, очевидно, попала и Ирина.
— Да вот они, вон выползают, — прокричал танкист, в отчаянном порыве забыв субординацию и тряся Катукова за рукав.
— Вижу, — сквозь зубы процедил Катуков. — Где наша левая разведгруппа?
— Прямо в той лощине.
— Передайте: вперед! Задержать танки противника.
Танкист метнулся от Катукова к рации и только в этот момент Бочаров понял, что разговор шел о тех двух танковых колоннах, которые разрезали оборону Федотова, и увидел эти колонны. Пересекая крутой изгиб шоссе, они вынырнули из грязного мрака и, развертываясь в изломанную линию, на полной скорости двигались к лощине, где, как танкист доложил Катукову, была левая разведгруппа танковой армии. Когда фашистские машины не дошли до лощины километра полтора, встречь им на взгорок выскочили три наших танка. И тут случилось неожиданное. Не успели они пройти и сотни метров, как все три хорошо видные машины, словно по единому сигналу, задымили и вскоре утонули в бушующем пламени.
— Назад! — закричал Катуков, увидев, как из лощины к трем кострам выдвигаются еще пять танков, и бросился к рации. — Назад! В засаду! В укрытие! Бить только с ближних дистанций!
Радист, видимо, с лету поймал и тут же передал приказ Катукова. Все пять машин расползлись в стороны и скрылись в лощине. Цепь фашистских танков, полыхая частыми выстрелами, катилась все так же на предельной скорости. Бочаров не успел еще рассмотреть, куда отошли наши танки, как в строю гитлеровцев остановился один танк, потом задымил и вспыхнул второй и, словно играя, закрутился на месте третий.
— Вот так-то и надо! — крикнул Катуков. — Не на рожон лезть, а из засад бить, из укрытий.
Бочаров только по вспышкам выстрелов и округлым дымкам отыскал наши танки. Два стояли в кустах, один в какой-то яме, а еще два били из-за темного бугра, горбиной возвышавшегося на самом краю лощины.
Прошло всего несколько минут, а строй гитлеровцев раскололся, замедлил ход и вдруг на полной скорости покатился назад.
— Передайте разведчикам: молодцы! — крикнул Катуков радистам и подошел к Бочарову. — Вот так и будем драться! Сейчас доложу Военному совёту фронта и буду просить отмены контрнаступления. Огнем из укрытий и засад мы из этого зверья полосатого столько костров понаделаем!
Видимо радуясь удачно найденному решению, он заметно повеселел; вместе с Бочаровым закурил и, взглянув на неутихавшее клокотанье недалекого боя, сурово проговорил:
— Тяжеленько нашим пехотинцам, а помочь пока ничем не могу. Рано еще мои танки вводить, да и далековато они, не скоро подойдут.
И вновь Бочаровым овладело беспокойство. Где-то там, в диком хаосе взрывов, огня и дыма, вместе с окруженным полком Поветкина, осталась Ирина.
* * *
Бой в окружении не был для. Поветкина новым ни теоретически, ни практически. На академических занятиях и здесь вот при подготовке к обороне он много читал, изучал, обдумывал, готовился практически к борьбе в условиях окружения. И все же то, что случилось в этот сплошь пронизанный огнем первый день наступления противника под Курском, казалось и невероятным, и ни на что не похожим. Всего два километра по фронту и немногим больше в глубину — такова была теперь площадка, на которой стиснутые со всех сторон фашистскими танками, пехотой и артиллерией, должны были удержаться и выстоять поредевшие подразделения полка… Полчаса назад, когда полк дрался в нормальных условиях, отражая напор противника с фронта и с флангов, можно было укрыться от его огня за обратными скатами высот и холмов, в глубоком овраге и двух лощинах; израсходовав боеприпасы, можно было почти беспрепятственно получить их из дивизионных тылов, туда же отправить раненых, надеяться на помощь стоявших позади резервов; в обычном телефонном разговоре с командиром и штабом дивизии получить поддержку, указания и пусть даже неприятный и строгий нагоняй.
Теперь же ничего этого не было. На пронизываемой со всех сторон вражеским огнем площадке изрытой земли все скаты высот и холмов стали передними, спасительные лощина и балки открытыми, тылы, резервы, штаб и сам командир дивизии — отрезаны широкой полосой вражеских войск.
Десятки новых, совсем неожиданных проблем, о которых раньше не стоило задумываться, возникали теперь на каждом шагу. Даже обычную воду, столь необходимую истомленным полусуточным боем и тридцатиградусной июльской жарой людям, приходилось добывать теперь ценой крови и жертв.
Сразу же, как только замкнулось кольцо окружения, Поветкин с неожиданным для себя спокойствием и ясностью мысли, разослал всех офицеров своего штаба на самые ответственные участки и подразделения. Затем расставил по всему кольцу танки, гаубицы и уцелевшие пушки, послал связного разыскать и вызвать на НП Лесовых. По чудом уцелевшим линиям проводов он поговорил со всеми командирами подразделений и, написав коротенькое донесение, приказал радисту передать его командиру дивизии. К счастью, противник немного затих, продолжая лишь то в одно, то в другое место бить артиллерией и минометами. Но, осмотрев весь, теперь проходящий замкнутым крутом, фронт, Поветкин понял, что затишье это обманчиво и скоро начнется если не самое страшное, то самое трудное. В лощине, скаты которой удерживала лишь совсем ослабшая вторая рота, скопилось штук десять фашистских танков. Поветкин хотел на помощь второй роте перебросить хоть тройку своих танков, но и перед грядой широченного холма, который, растянувшись в ниточку, прикрывала танковая рота, противник готовился к атаке. Единственное, что оставалось сделать, это повернуть часть гаубиц и огнем помочь стрелкам, но все гаубицы были уже скованы развернувшимися от шоссе фашистскими танками.
Лихорадочно ища выход, Поветкин перебросил на позицию второй роты свой последний резерв — четыре противотанковых ружья и, вновь осматривая весь фронт, приготовился к самому худшему.
— Вас… Генерал… — удивительно веселым, почти торжествующим голосом проговорил радист, подавая Поветкину наушники и микрофон.
— Держитесь спокойно, — раздался в наушниках невозмутимый голос генерала Федотова. — Вам на помощь высылаем авиацию. Обозначьте, как условлено, свой передний край ракетами, также ракетами покажите самые важные цели. Штурмовики уже вылетели, ждите — скоро подойдут. Как поняли? Прием.
— Вас понял, вас понял, — совсем не слыша своего голоса, прокричал Поветкин в микрофон. — Жду штурмовиков… Обозначаю передний край… Указываю цели… Жду штурмовиков… Только скорее…
Как хрупкую ценность, передав радисту наушники и микрофон, Поветкин рванулся из блиндажа и приказал сидевшим в нишах связным из подразделений:
— Передать всем: к нам на помощь идут штурмовики. Командирам подразделений обозначить ракетами свой передний край и показать, где фашистские танки. Бегом в подразделения! — Затем вернулся в свой блиндаж, выхватил из рук телефониста трубку и тем же торжествующим, звенящим от радости голосом, заговорил:
— Слушайте все, слушайте все. К нам на помощь идут штурмовики. Обозначить свой передний край ракетами…
— Товарищ подполковник, — когда Поветкин оторвался от трубки, впервые с начала боя озарился широкой улыбкой чумазый телефонист, — водички вот выпейте, холодная, свеженькая. Наши ребята линию исправляли, к роднику пробрались.
— Спасибо, — обнял Поветкин телефониста, взял флягу и от удара страшной силы выронил ее.
«Неужели наши самолеты?» — мелькнула отчаянная мысль, когда ударило вторично и нестерпимым удушьем заполнило весь блиндаж.
Только выскочив в траншею, он понял, что это точным огнем била фашистская артиллерия, видимо нащупав его новый НП. Снаряды ложились так часто и густо, что вся высотка с несколькими блиндажами на ней лихорадочно дрожала, почти сплошь покрытая взрывами.
«Уходить надо, разнесут в щепки», — подумал Поветкин и хотел было вызвать из блиндажа радиста с телефонистом, как смерч земли и пламени взметнулся совсем рядом и тугая волна отбросила его в изгиб траншеи.
«Вот и все, — тускло мелькнуло в сознании, — а где же наши штурмовики?»
Совсем не чувствуя своего тела, он пытался встать, но не смог, замер, ожидая наплыва боли, и, как сквозь сон, услышал слабый гул, похожий на какую-то хорошо знакомую музыку. Инстинктивно радуясь, что боль все не подступала, он ловил нараставшие звуки и, поняв, наконец, что это было, оперся на руки и, шатаясь встал. Справа и слева, в знойном разливе солнца, круто валясь вниз, один за другим двумя бесконечными лентами до ослепления стремительно неслись крутолобые «Илы». А под ними праздничным фейерверком взлетали над землей красные и зеленые ракеты.
Штурмовики, покрыв две широкие полосы копнами взрывов, поднялись вверх и плавно развертывались для нового захода. В стороне от них и выше, захватывая все небо, серебристыми метеорами носились истребители. Их стремительный полет и мощный раскат моторов штурмовиков были так захватывающи, что Поветкин взмахнул сжатыми в кулаки руками и по-мальчишески восхищенно закричал:
— Спасибо, братцы! Спасибо, соколики!
Он не заметил, как по всему кольцу, вынырнув из траншей и окопов, кричали, махали руками, касками, пилотками прокопченные и истомленные боем воины окруженного врагом полка.
Второй, третий, четвертый раз, заливая противника огнем, валились вниз и облегченно взмывали в небо штурмовики, а Поветкин все стоял, восхищенный силой и мощью советских машин.
Когда последние штурмовики, ударив реактивными снарядами, круто развернулись и, догоняя товарищей, плавно пошли на восток, Поветкину стало вдруг холодно и тоскливо. Затуманенным взглядом проводил он таявшие в синеве машины и тревожно осмотрелся. В лощине перед второй ротой, за холмом, у шоссе, уходившего в сторону Курска, и далеко позади, среди россыпи кустарников, где полчаса назад, готовясь к атаке, ползали фашистские танки, теперь полыхали и тускло курились огромные костры, темнели бесформенные груды металла, в самых неестественных позах замерли навсегда лишенные своей силы стальные громады.
Ошеломленные ударом советских штурмовиков, гитлеровцы минут тридцать совершенно молчали. Только далеко по сторонам — на западе, на севере, на востоке и юго-востоке — гул боя все нарастал и ширился, напоминая подразделениям полка Поветкина, что хоть и затих подавленный «Илами» противник перед ними, но захлестнувшее их смертельное кольцо не разорвано и они все так же отрезаны и от соседей, и от тылов.
Вызванный Поветкиным Лесовых прибежал возбужденный, лихорадочно сияя покрасневшими глазами.
— Жив, — увидев Поветкина, воскликнул он, — и невредим! А я, как увидел, что тебя артиллерия фашистская накрыла…
— Что там, в гаубичном? — нетерпеливо перебил его Поветкин.
— Все на местах и держатся прекрасно! Правда, есть потери, но небольшие. Одно орудие немного покалечено, сам командир дивизиона контужен, двое командиров батареи ранены, но уйти все категорически отказались, — торопливо, все заметнее возбуждаясь, рассказывал Лесовых. — По пути забежал я на медпункт. Раненых много скопилось, но все обработаны, перевязаны, укрыты в землянках. Ирина Петровна просто чудо, а не женщина! Потрясающе спокойна, невозмутима и делает все молниеносно. Раненые прямо расцветают при виде ее…
— Молодец, — опустив глаза, пробормотал Поветкин, — обязательно к награде представим ее. Она хорошая женщина… Я хотел сказать врач…
— Непременно и сегодня же, — не заметив смущения Поветкина, подхватил Лесовых. — И артиллеристов!.. Я сам видел, говорил с офицерами, записал все… Сорок семь человек орденов достойны, а медалями, я думаю, вечером ты сам наградишь.
— Конечно, конечно, — поспешно согласился Поветкин, подумав: «Только до вечера-то еще продержаться нужно. Еще часа три светлого времени. Да и неизвестно, что будет, когда стемнеет».
— Товарищ подполковник, — вихрем вылетел из блиндажа радист, — из штаба дивизии передали: «Вариант семь. Доложите решение».
— Вариант семь? — переспросил Поветкин.
— Так точно! Я записал и квитанцию передал.
— Хорошо. Передайте: «Вариант семь понял».
— Значит, прорыв из окружения? — воскликнул Лесовых, когда радист скрылся в блиндаже.
— Да, ночью. Дневной прорыв — это вариант шесть.
— Но, как мне помнится, в седьмом варианте обстановка не совсем такая, как сейчас.
— Поэтому генерал и требует доложить решение, — сказал Поветкин, доставая из полевой сумки план обороны полка. — Вот и пригодился этот вариант, — улыбаясь, добавил он. — Помнишь, сколько мы корпели, разрабатывая все эти варианты и как жучил нас генерал. Значит, суворовское «тяжело в учении, легко в бою» — закон не только для солдат, но и для командиров и для штабов.
— Я этот вариант во сне несколько раз видел. Из меня тогда генерал всю душу вымотал, пока не добился правильного решения.
Поветкин и Лесовых склонились над чистенькой схемой, старательно вычерченной на плотном листе бумаги.
— Все ясно, — сказал Поветкин, — разница обстановки лишь в том, что теперь с нами находится гаубичный дивизион и сам район окружения глубже.
— Это, конечно, осложнит прорыв, — добавил Лесовых, — потребует больше сил на прикрытие флангов и больше времени на выход из окружения.
— Смотри, смотри, — лукаво улыбнулся Поветкин, — а здорово тебя генерал нашпиговал. Настоящим академиком стал.
— А что, зря я ночи над книгами просиживал, — с шутливой гордостью ответил Лесовых. — Да к тому же, паря, я ведь сибиряк. А сибиряк, как у нас говорят, если упрется во что, то скорее голову проломит, чем назад отступится.
— Так, — хлопнул Поветкин ладонью по схеме, — значит, усиливаем прикрытие на флангах, пускаем гаубичный дивизион сразу же за третьим батальоном и время отхода прикрытия увеличиваем на двадцать минут.
— И в прикрытии останутся коммунисты и лучшие комсомольцы.
— Так сейчас и доложим генералу, а потом ты останешься здесь командовать, а я пойду в подразделения прорыв организовывать, — решительно сказал Поветкин и, помолчав, со вздохом добавил:
— Да! Нам-то с тобой генерал работу облегчил. Мы два месяца обдумывали этот план и сейчас все решили за пять минут. А вот каково будет тем, кто первым в прорыв бросится и кто отход прикрывать останется! Тут тренируйся не тренируйся, планируй не планируй, а противник остается противником: или ты его сломишь, или он тебя сомнет.
Глава тридцать четвертая
Еще с вечера, когда противник начал наступление на позиции боевого охранения, Чернояров по своим обязанностям командира пулеметной роты, постоянно находясь вблизи командного пункта батальона, чувствовал себя почти ненужным в стремительно нараставшем вихре событий. Там, в полукилометре от переднего края, в двух дзотах бились с противником два его пулемета, а он, как сторонний наблюдатель, сидел на своем НП и ничего не делал. Он несколько раз, теряя самообладание, порывался попросить у Бондаря разрешения пойти в боевое охранение, но, сам понимая всю бессмысленность такого поступка, удерживал себя. Весть о гибели одного расчета и о выходе из строя всех пулеметчиков второго окончательно выбила его из равновесия. Он вбежал в блиндаж Бондаря и, опять почувствовав всю нелепость своего намерения, заговорил с озлобленной растерянностью:
— Разрешите… Туда… В боевое охранение… Сам пойду.
Бондарь бросил на него понимающий взгляд, с нескрываемой болью сморщился и, как всегда в разговорах с Чернояровым испытывая неловкость, вполголоса ответил:
— Нет больше у нас боевого охранения. Один Васильков держался, но и…
Бондарь обессиленно махнул рукой, с хрипом передохнул и уже совсем едва слышно добавил:
— И Василькова нет.
От вида бледного, подернутого синевой худенького лица Бондаря и, особенно от его сдавленного переживаниями голоса Чернояров и сам почувствовал неожиданные слезы.
— Потерять такого парня, — дрогнувшими губами прошептал он, — эх, черт, и как я не удержал его!
Бондарь ничего не сказал, в мрачном раздумье опустив голову. Не находил нужных слов и Чернояров. Несколько минут длилось тягостное, невыносимое молчание.
— Разрешите идти? — не выдержал Чернояров.
— Да, да, — машинально ответил Бондарь и вдруг, резко вскинув голову, в упор встретился с взглядом Черноярова.
— Михаил Михайлович, — заговорил он спокойно, без обычной стеснительности, — очень прошу вас, поймите правильно только: не надо уходить со своего НП.
«То есть не рвись понапрасну в пекло и будь на своем месте, — перевел Чернояров его уклончивую просьбу на действительный смысл. — Ты командир роты, да еще пулеметной, и дело твое командовать, а не лихачествовать, хотя ты и штрафник».
Догадка эта была верна, и в другое время Чернояров взбеленился бы от нее, но теперь он понимал, что Бондарь прав и говорил с ним от чистой души.
— Хорошо, — прошептал он и ушел на свой НП.
За ночь он дважды обошел все позиции роты, посидел в землянке Дробышева и Козырева, первым бросился к Василькову, когда стрелки привели его с переднего края, и взволнованный этим радостным событием почти совсем успокоился. Под утро он написал жене длинное письмо и долго рассматривал фотографию дочки. Мысли о ней и о Соне окончательно развеяли его неудовлетворенность. Но успокоение было недолгим. Как только перед рассветом противник начал артподготовку, а затем в ответ ударила наша артиллерия и начался этот полный огня и грохота изнурительный июльский день, он все горше и острее чувствовал себя лишним и почти ненужным в этом кипении яростной борьбы. Не отрываясь, следил он за действиями противника, за своими расчетами, переносил и сосредоточивал огонь по наиболее важным целям. В нужное время перевел весь первый взвод на запасные позиции, чтобы поддержать дрогнувшую было третью стрелковую роту. Распекал старшину за медлительность в доставке боеприпасов и воды. Затем опять переносил и сосредоточивал огонь по новым целям. Но все это, как он и сам понимал, нужное, необходимое, именно то, что и должен делать командир пулеметной роты, казалось ему мелким, незначительным, какой-то лишь крохотной частицей всего, что он хотел и действительно мог бы сделать. Своим большим командирским опытом Чернояров превосходно понимал, что успех в бою в значительно большей степени зависит от всего, что он сделал для подготовки своих людей к борьбе с врагом, а не от того, сколько распоряжений и приказов отдаст он непосредственно в ходе боя.
И все же, зная это и отчетливо понимая, что делает именно то, что нужно и не допустил еще ни одного промаха, он все тревожнее ощущал недостаточность своего участия в общем ходе борьбы. Его кипучая, неугомонная натура не укладывалась в те рамки, которые определяли роль и поступки командира пулеметной роты. Одновременно с этим бешеный натиск противника и каждый, даже малейший его успех ожесточал и наливал Черноярова все большей яростью и ощутимой физической ненавистью к тем, кто наступал на него самого, на его роту, на батальон и полк, на всех, кто оборонялся между Курском и Белгородом.
Когда расчет Чалого поджег два фашистских танка, Чернояров не выдержал, бросился с НП к разрушенному дзоту. Увидев Чалого, Гаркушу и Тамаева он в бессознательном порыве благодарности обнимал и целовал их одного за другим, растерянно и покорно подчинявшихся ему и не понимавших толком, чем вызвана эта неожиданная нежность всегда сурового командира.
На свой НП вернулся Чернояров опустошенно-радостный, словно выплеснул все тяжелое, что накопилось у него. Но как только противник после ожесточенной бомбежки вновь начал атаки, прежнее настроение злости и нетерпения овладело Чернояровым. Когда две колонны фашистских танков обошли и окружили полк, он с трудом удержал себя, чтобы не броситься с гранатами, с зажигательными бутылками туда, к шоссе, где ползали эти отвратительные, ревущие чудища. Он бы, пожалуй, и сделал это, если бы не прилетели «Илы» и не рассчитались с лихвой за то, что только что натворили гитлеровцы.
— Так их, так! Круши гадов, — приговаривал он, неотрывно глядя на пикирующие с ревом могучие машины.
Когда ушли штурмовики, он впервые за весь день съел кусок жесткой колбасы и спокойно закурил. Он хорошо понимал, что ожидало полк, и почти не верил в то, что удастся прорвать окружение, но не чувствовал ни страха, ни даже малейшей боязни неизбежной катастрофы, которая наступит, вероятно, не завтра, не послезавтра, а через несколько часов, а может, даже минут. Он вспомнил, что письмо жене отправить не удалось, вытащил его из кармана, долго рассматривал и вдруг, сам не зная почему, чиркнул спичкой и поджег конверт. Бесшумное, легкое пламя лизало бумагу, сворачивая в трубочку черный пепел. Жгучие язычки коснулись пальцев, но он не бросил письма, выдержав боль, пока не догорело все.
Беспорядочный треск стрельбы резким толчком поднял его на ноги. Это по всему западному полукольцу окружения с какой-то осатанелой яростью стреляли гитлеровцы. Ядреным дождем хлестали пули по всем позициям второго батальона.
Чернояров смотрел в амбразуру и никак не мог понять, чем вызвана столь шумная пальба.
— Ах, вот оно что, — воскликнул он, увидев, как впереди, за первой траншеей, из лощины один за другим выползали три фашистских танка и, разойдясь далеко друг от друга, двинулись в атаку. По ним тут же ударили наши уцелевшие пушки. Танки, резко отворачивая то в одну, то в другую сторону, открыли ответный огонь.
«Тут у вас ничего не выйдет, — вновь ожесточаясь, мысленно пригрозил Чернояров гитлеровцам, — минные поля еще целы, да и бронебойщиков на переднем крае достаточно».
Но взглянув вправо, Чернояров сразу понял замысел гитлеровцев. От шоссе, где темнели разбитые орудия третьей истребительной батареи, прямо в тыл второго батальона по совершенно пустому, ничем не прикрытому полю ринулся окутанный пылью «тигр». Он был уже в тылу правофланговых подразделений, но не сворачивал к ним, а полз дальше, явно нацеливаясь отрезать командные пункты от стрелковых взводов. Еще несколько минут, и «тигр» безнаказанно прорвется, один совершив то, что не смогли сделать за целый день десятки танков. Все это Чернояров понял не раздумьем, не мыслью, а скорее каким-то особенным чутьем, рожденным опытом. И так же, ее раздумывая, не определив даже, что и как нужно делать, он схватил две противотанковые гранаты и бутылку с горючей смесью, выскочил из блиндажа и, по привычке согнувшись, бросился наперерез «тигру». Он не видел, что делалось вокруг, не слышал бешеного свиста пуль и воя рикошетов, стремясь только к этой черной громаде с мелькающими гусеницами и обрубленными углами неуклюжей башни. Черный крест на желтом круге ниже башни, казалось, надвигается и растет до чудовищных размеров.
«Там за крестом мотор, туда и бить», — мелькнуло первое осознанное решение. Пробежав еще несколько метров, Чернояров метнул бутылку в зад танку, сразу же одну за другой швырнул гранаты под гусеницы и, отскочив в сторону, упал на землю. Он нисколько не сомневался, что ударил точно, и когда ахнули два взрыва, вскочил и бросился назад. Только прыгнув в ход сообщения, он оглянулся и в лучах клонившегося к горизонту солнца увидел похильнувшийся набок, охваченный пламенем «тигр».
— Михаил Михайлович, — кто-то громко окликнул его, — сюда, сюда скорее.
Чернояров, уловил в голосе что-то особенное, но неясное, поспешно повернулся. У входа в блиндаж Бондаря стоял Поветкин.
— Скорее, скорее, — говорил он, дружески глядя прямо на Черноярова, — сейчас они ударят в ответ.
— Конечно, ударят, — радостно, совсем по-мальчишески воскликнул Чернояров и вслед за Поветкиным по ступенькам скатился вниз.
— Вот, выпейте, вода свежая, холодная, — подал ему флягу Бондарь.
Чернояров неторопливо, чувствуя удовлетворение и душевный покой, отвернул пробку, ладонью вытер губы и с наслаждением выпил почти половину фляги.
— Так вот, — пригласив Черноярова сесть, продолжил Поветкин, видимо, давно уже прерванный разговор. — В двадцать три часа начинаем прорыв. Пробивают брешь в кольце окружения танковая рота и третий батальон. Затем они развертываются в стороны и прикрывают фланги прорыва. В пробитый коридор пропускаем гаубичный дивизион, тылы полка, и батальонов, и самыми последними выходят подразделения вашего и первого батальонов. Дивизионная артиллерия весь свой огонь сосредоточивает на флангах прорыва вот здесь и вот здесь, — показал Поветкин на схеме, — а с фронта вы и первый батальон прикрываетесь своими силами. Как думаете, сколько нужно выделить сил для надежного прикрытия отхода батальона? — спросил он Бондаря и Черноярова.
— Танками ночью он едва ли будет нас преследовать, — сказал Бондарь, — очевидно, бросил пехоту.
— Конечно, танками не решится, — поняв, что Поветкин хочет знать и его мнение заговорил Чернояров, — ну, а пехоту мы удержим огнем пулеметов. Я думаю, — разгораясь и чувствуя себя все легче и свободнее, продолжал он, — пара станковых пулеметов и десять-двенадцать автоматчиков вполне справятся.
— А не маловато? — морща лоб, спросил Поветкин.
— Меньше людей, меньше жертв, — сказал Чернояров, теперь уже совершенно спокойно и прямо глядя на Поветкина. — Ночью все решает не количество, а смелость, отвага и умение воевать.
— Больше оставить — перепутаются и друг друга в темноте перестреляют, — поддержал Черноярова Бондарь.
— Хорошо. Так и решим, — сказал Поветкин, — выделяйте два лучших пулеметных расчета и в каждый расчет по шесть автоматчиков из коммунистов и комсомольцев. Это будет две самостоятельные группы прикрытия. Во главе каждой группы офицер. Кого вы предлагаете назначить командирами групп?
— Основа-то пулеметы, — торопливо, не отрывая взгляда от Поветкина, сказал Чернояров, — значит, и командовать должны пулеметчики. Разрешите одну группу мне вести, а вторую — Дробышеву.
— Вам? — задумчиво проговорил Поветкин.
— Сергей Иванович, — резко, с обидой и настойчивостью перебил его Чернояров.
— Хорошо, — мягко остановил его Поветкин. — А теперь обсудим, как лучше действовать.
* * *
Давно сгустились сумерки, расплылись в чадном полумраке очертания холмов и высот, по-мирному весело и беззаботно сияли звезды. Бои же все не утихали, то в одном, то в другом месте взвихряясь шквалом пулеметной и автоматной стрельбы, аханьем взрывов, приглушенным ревом моторов и лязгающим скрежетом гусениц.
— Ну, Костя, — обнял Чернояров Дробышева, — осталось всего полчаса. Я пошел к своему расчету. Тебя прошу только об одном: не горячись и не допускай, чтобы противник обошел тебя. Главное — действовать решительно, дерзко и стремительно! Ну, — сжав плечи Дробышева, прижался он колючим подбородком к его щеке, — всего самого лучшего! Держись, от нас зависит судьба многих людей.
Чернояров резко отпустил Дробышева и растаял в черноте траншеи. От душевной теплоты и нежности Черноярова Дробышев почувствовал неожиданные слезы и, стыдясь их, сурово сдвинул брови. Но сколь ни решительно осадил он свою, как ему казалось, сентиментальность, на душе у него было радостно и тепло.
Козырев, Гаркуша, Тамаев и шестеро пулеметчиков из шестой роты, тесно окружившие пулемет, вполголоса переговаривались, доедая консервы.
— Сидите, сидите, — заметив их торопливые движения, сказал Дробышев. — Как ужин, ничего?
— Пидходяще, — отозвался Гаркуша, смачно прожевывая, — вот же б того самого пивка или хучь кваску с ледочком и тоды бы не фронт був, а курорт той черноморский.
— Не курорт, а праздник настоящий, — весело проговорил кто-то из автоматчиков. — Видал, какой фейерверк и на земле, и в небе.
— Только музыки не хватает, — так же шутливо добавил пулеметчик.
— Як не хватает? — притворно возмутился Гаркуша. — Ось це слухай.
Где-то совсем невысоко в темном небе равномерно и приглушенно рокотали моторы нескольких самолетов.
— Наши «кукурузнички» фрицу нервы трепать идут, — с уважением и теплотой сказал пулеметчик. — Ох и неугомонные же эти наши У-2. Умеют насолить фрицам. Пленные говорили, Гитлер всякому, кто У-2 собьет, — крест на грудь и в отпуск на целый месяц.
Навстречу невидимым в ночном небе самолетам из расположения противника потянулись мерцающие трассы пуль, но легкие самолеты все так же ровно и неторопливо потрескивали мотором, словно презирая врага и надеясь на свою дерматиновую обшивку, как на толстенную, непробиваемую броню. Вскоре гул мотора ближнего самолета оборвался. Стрелки и пулеметчики замерли в тревожном предчувствии. Но прошла всего минута или две, и мотор еще резвее и легче застрекотал, а впереди, где был противник, блеснув короткими, вспышками, ахнули взрывы.
— От це ж хитрец, — хлопнув ладонями по коленям, воскликнул Гаркуша, — притих, як вмер, пидкрався куды треба и — бабах по голови самого наиподлющего хрица!
Дробышев присел рядом с Козыревым, закурил, как и другие, пряча огонь папиросы в рукав, и с радостью вслушался в оживленный разговор. Сейчас все эти девятеро сидевших тесным кружком людей, с которыми он скоро начнет выполнять трудное и опасное задание, казались ему одним большим и сильным человеком, готовым перенести любые испытания. Дробышев был доволен, что ему удалось доказать Черноярову, что весельчак и балагур Гаркуша, хоть и не был ни коммунистом, ни комсомольцем, человек крайне необходимый в группе прикрытия отхода. Вспомнив, что Гаркуша и Тамаев, да и сам станковый пулемет были из расчета Чалого, он пожалел, что его нет здесь, вместе со всеми. Со своим злым, но лихим и отчаянным характером, он в эту ночь был бы незаменим. А сейчас Чалый, очевидно, лежит в медсанбате, обессиленный двумя тяжелыми ранами и большой потерей крови, и наверняка ворчит и сердится на врачей и сестер.
«А как же Валя, где она?» — вспомнив медиков, подумал он. За весь день боя он не только не видел Валю, но ничего не слышал о ней. Говорили только, что медпункт на прежнем месте и его не задели ни бомбы, ни снаряды.
— Скоро? — едва уловимым шепотом прервал его мысли Козырев.
— Еще десять минут, — взглянув на светящийся циферблат часов, ответил Дробышев.
Вопрос Козырева сразу же изменил настроение Дробышева. Он встал, прилег грудью на бруствер траншеи и всмотрелся в темноту. Он хорошо знал, что сейчас между ним и противником в двух траншеях еще сидят наши стрелки, пулеметчики, бронебойщики. Но вот минутная стрелка подойдет к цифре «12», и все, кто сейчас занимает две первые траншеи, ходами сообщения двинутся в тыл, а он, Костя Дробышев, с тремя пулеметчиками и шестью автоматчиками окажется лицом к лицу с противником. Правда, там, далее, останется точно такая, же группа Черноярова, а еще левее три подобных группы из первого батальона. Но и Чернояров, и особенно, другие группы будут далеко, растянувшись по всему двухкилометровому фронту. Все эти торопливо наплывавшие мысли тревожили Дробышева. Чтобы отвлечься от них, он подошел к пулемету, ласково погладил холодный металл и вдруг вспомнил, что с этим самым пулеметом они с Чалым ползли по снегу к высоте, за которой укрылись фашистские пулеметы.
«Друг ты мой, дружок, — мысленно сказал Дробышев, держась за рукоятки, — под Воронежем не подвел ты, послужи честно и теперь».
Этот мысленный разговор с пулеметом, как с живым: существом, который в другое время он бы высмеял, сейчас наполнил Дробышева новыми силами и уверенностью, что все будет хорошо.
— Ну, товарищи, — отойдя от пулемета, заговорил он с удивительным спокойствием в голосе, — время! По местам!..
Бесшумно и неторопливо, словно отправляясь на самое обыденное дело, Гаркуша и Тамаев встали у пулемета, а стрелки по трое разошлись в стороны.
Дробышев и Козырев стояли рядом, чувствуя плечами друг друга. В небе все так же невозмутимо потрескивали, то удаляясь, то приближаясь, неторопливые У-2; отыскивая их, все так же чертили небо светящиеся пунктиры, и все так же, наперекор им, полыхали вдали коротенькие зарева и доносились глухие взрывы. На земле бой почти совсем замер. Только справа и позади, к северо-западу и на юге, где-то у Белгорода, все еще гремела канонада и кровавые всполохи метались по небу.
Дробышеву хотелось заговорить с Козыревым, но тот, видимо, о чем-то думал, круто склонив голову.
Резкий отсвет одна за другой взлетевших ракет прорезал темноту.
— Сигнал, — прошептал Дробышев.
И не успели еще отгореть красные ракеты, как далеко позади, там, где, как знал Дробышев, должны были прорывать кольцо вражеского окружения третий батальон и танковая рота, раздались гулкие выстрелы, застрочили пулеметы.
— Это дивизионная артиллерия наши фланги прикрывает, — пояснил Дробышев. — Вот здорово бьет. Ну, если так все время будет, то прорвемся наверняка.
— Конечно, прорвемся, — поддержал Козырев.
По ходам сообщения от переднего края послышались осторожные, шуршащие движения ног, легкие стуки, приглушенные не то шепот, не то вздохи. Вскоре едва уловимый шум приблизился, и над ближним ходом сообщения замелькали темные силуэты поспешно уходивших людей. Дробышев хорошо знал, что это покидают свои позиции и начинают отход стрелковые роты, но почувствовал вдруг, как что-то оборвалось внутри и по всему телу пробежал колючий озноб.
Первые минуты после начала прорыва, видимо еще не понимая, что случилось, противник молчал. Но вот, словно спросонья, где-то справа протрещала пулеметная очередь, потом взвилась, разбрасывая слепящий свет, ракета, и сразу же, как по единой команде, по всему окружью застрочили автоматы, раскололось в небе множество ослепительных ракет, лающим аханьем ударили минометы.
Дробышев замер, щурясь от яркого, нестерпимого света. Хотелось лечь на дно траншеи и не подниматься, пока не исчезнет этот противный мертвенный свет и не утихнет пальба.
Кто-то, тяжело дыша, подбежал к нему и хрипло спросил:
— Дробышев?
— Я, — отозвался Дробышев, узнав в подбежавшем командира пятой роты.
— Из первых траншей все люди отведены, перед вами наших никого нет, — торопливо сказал командир пятой роты и, на ходу пожав руку Дробышева, скороговоркой добавил:
— Будь здоров! До скорой встречи.
«До скорой встречи!» — с ядовитой ухмылкой повторил Дробышев, сам не понимая, за что осуждал командира пятой роты.
Огонь противника усиливался и нарастал. Подавляя ночную темноту, непрерывно взлетали осветительные ракеты.
— Давай, давай, — с каким-то странным вызовом воскликнул Козырев, — пуляй ракеты, свети ярче!
Дробышев удивленно взглянул на него, недоумевая, чему он радуется, но тут же поспешно отвернулся, стараясь скрыть от Козырева свою оплошность. Шквал вражеской стрельбы и этот мертвенный, заливающий все слепящий свет ошеломили его, и он совсем забыл, что одной из особенностей действий групп прикрытия отхода ночью является использование осветительных ракет противника.
Дело в том, что противник, пуская ракеты, освещает не только наши, но и свои позиции и, особенно, пространство между позициями. В этих условиях малейшее движение на любой стороне будет немедленно замечено. Это было особенно важно для крохотных групп прикрытия, которые, затаясь на большом участке, могли видеть все, что делается у вражеских позиций, оставаясь невидимыми. Короче говоря, если противник усиленно светит ракетами, то нечего опасаться его наступления.
«Свети, свети!» — повторил теперь и Дробышев, но противник, видимо, понял все и, продолжая по-прежнему строчить из пулеметов и автоматов, прекратил пускать ракеты. Густая, зыбкая темнота, усиливаемая отблесками выстрелов, вновь окутала землю.
Теперь, когда главные силы оставили первые траншеи, началась работа групп прикрытия отхода. Нужно было показать противнику, что в обороне ничего не изменилось, что советские войска как упорно стояли на своих позициях, так и стоят. Если же противник попытается наступать, то задержать его, дать возможность нашим подразделениям беспрепятственно отойти, а затем и самим группам прикрытия незаметно перебраться на новый рубеж.
— Начинаем, Иван Сергеевич, — сказал Дробышев, хватая ракетницу и сумку с ракетами, — как договорились, вы там, слева, а я — справа. Смотрите, командир роты уже начал, — показал он на взвившуюся впереди и справа осветительную ракету.
Пока Дробышев по траншее отбегал вправо, в группе Черноярова, а затем еще левее, сменяя одна другую, взлетело несколько ракет. Дробышев выстрелил, перебежал дальше и пустил еще одну ракету. Как и несколько минут назад, все полуокружье, где оставались только наши четыре группы прикрытия, сияло ярким, режущим глаза, светом. Ослепленный противник ослабил, а затем и совсем прекратил огонь, видимо, ожидая темноты. Но ракеты взвивались то в одном, то в другом месте, не давая ни на секунду сгуститься темноте.
Противник, не имея возможности вести огонь с переднего края, ударил минометами из глубины. И сразу же, как было условлено, все группы прикрытия затаились, прекратив светить ракетами. Вражеские мины, с треском разрываясь, густо покрыли все пространство, откуда уже давно ушли все наши подразделения.
Первая удача вдохновила Дробышева. Он подбежал к пулемету, обхватил руками склонившихся к площадке Гаркушу и Тамаева и в перерывах между близкими взрывами прокричал:
— Сейчас они в атаку бросятся. Мы осветим, а вы, как только они поднимутся, бейте на пределе, а потом сразу назад, на следующую позицию.
— Есть, товарищ старший лейтенант, — ответил Гаркуша, — вмажем, аж в том самом Берлине отзовется.
«Ну и орел же этот Гаркуша, все ему нипочем», — подумал Дробышев и спросил второго пулеметчика:
— Как, Тамаев, угостим фрица?
— Так точно, товарищ старший лейтенант, — прокричал Алеша, — патронов хватит.
Как только минометный обстрел стих, Дробышев в разных направлениях выпустил четыре ракеты и сразу же перед нашей, теперь совсем пустой первой траншеей, увидел бежавших группами вражеских пехотинцев.
— Огонь! — закричал он пулеметчикам, но те уже строчили длинными очередями. К ним присоединились очереди автоматчиков, и фашистская пехота, так и не добежав до нашей траншеи, приросла к земле.
— Скорее назад, скорее! — торопил Дробышев пулеметчиков и подбежавших к ним автоматчиков. — Ваши все? — спросил он Козырева.
— Все, идите впереди, — я замыкаю, — ответил Козырев.
Ходом сообщения Дробышев побежал вниз. Топая и тяжело дыша, за ним спешили пулеметчики и автоматчики. Позади, где перед нашей траншеей залегла фашистская пехота, трещали автоматы, потом послышались далекие выстрелы, и мины обрушились на то место, откуда только что ушла группа Дробышева.
«Удачно отскочили, — на бегу радовался Дробышев, — теперь еще на второй позиции повторить такое же и — порядок!»
Но на второй позиции задержаться не пришлось. Над высотой, где размещался командный пункт, вспыхнули три зеленые ракеты. Это означало, что отвод главных сил закончен и группы прикрытия могут, не задерживаясь, отходить самостоятельно.
— Все, товарищи, — сказал Дробышев, — задача выполнена, полк вырвался из окружения, теперь только…
Дикий, сотрясающий вой мин и гул взрывов оборвали его слова. Весь район бывшей обороны полка от переднего края и до высоты, под которой еще не догорели зеленые ракеты, покрылся сплошными всплесками пламени. Вражеский огонь все усиливался и нарастал. Ослепленный, ничего не слыша, Дробышев махнул рукой пулеметчикам и автоматчикам и что было силы бросился по скату вниз, где располагался медпункт батальона. Он до мелочей помнил дорогу к этой незабываемой для него землянке и сразу же нашел ее.
— В укрытие! — не слыша своего голоса, крикнул он и, вслед за солдатами и Козыревым, вскочил в землянку.
Кто-то чиркнул спичкой и осветил окровавленный пол, куски бинтов, ваты, обрывки бумаги. В землянке остро пахло лекарствами. Оголенные стены и потолок мелко вздрагивали. Крохотные оконца, как при сильной грозе, полыхали розовыми отблесками.
— Никого не ранило? — спросил Дробышев.
— Кажется, нет, — ответил Козырев.
Присев на какой-то ящик, Дробышев передохнул и вспомнил вдруг, как впервые в этой землянке встретился он с лучистыми, смотревшими прямо на него глазами смущенной Вали. Видимо, всего полчаса назад, а может и меньше, она была здесь, поспешно собирала вещи, подгоняемая суровой Марфой.
Минометный огонь не утихал. По всему скату высоты, через которую нужно было идти, полыхали взрывы. Неуловимо стремительно летело время. Дальше сидеть в землянке нельзя. Нужно уходить, иначе можно попасть к противнику.
— Иван Сергеевич, — позвал Дробышев Козырева, — прямо через высоту не пройдем, перебьют всех. Придется в обход, слева, там огонь слабее.
— Другого выхода нет, — согласился Козырев.
Когда группа выскочила и побежала влево, где мелькали только отдельные взрывы, из низины от пересохшего ручья, шипя, взвилась ракета, и сразу же ударили автоматы.
— Ложись, — крикнул Дробышев, — немцы!
Вжимаясь в землю от сплошного свиста пуль, он пытался определить, откуда стреляют, но взлетели еще две ракеты и режущий свет их скрыл вспышки выстрелов. Только по звукам Дробышев понял, что бьют не меньше десятка автоматов и где-то совсем рядом, слева за ручьем.
— Огонь! — крикнул он, поняв, что лежать дальше нельзя, и выстрелил из ракетницы туда, откуда доносилась стрельба. Яркий свет выхватил из полумрака скат бугра, низину на месте ручья и распластанные фигуры немцев. Шесть автоматов, а вслед за ними и станковый пулемет роем фонтанчиков покрыли бугор и ложбину, где лежали немцы.
— Вперед! — перекрывая шум стрельбы, крикнул Дробышев и, вскочив, бросился к ручью. Пробежав метров двести, он упал, повернулся и из своего автомата ударил туда, где лежали гитлеровцы.
— Дальше, дальше вперед! — крикнул он подбежавшим пулеметчикам. — Я прикрываю, а потом вы. Огонь!..
Он ждал, что противник вновь откроет стрельбу, но в низине было тихо.
«Или затаились и ждут, или все уничтожены», — подумал он и, вскочив, догнал своих пулеметчиков и автоматчиков. Но едва он упал на землю, как прямо впереди затрепетали коротенькие вспышки и свистящий ветер запел над головой. Дробышев поднял автомат и ударил по вспышкам. Рядом трещали автоматы солдат шестой роты и Козырева. Вспышки мгновенно погасли, и впереди кто-то закричал отчаянно и дико.
— Вперед! Их немного, — скомандовал Дробышев, оглядывая своих людей.
Автоматчики и Козырев, словно подхваченные невидимой силой, мгновенно скрылись там, где кто-то кричал.
— Свободно, товарищ старший лейтенант, — донесся хриплый возглас.
— Вперед! — приказал Дробышев Гаркуше и Тамаеву, лежавшим за пулеметом.
— Шестеро наповал, один ранен, но еще чуть жив, — встретив Дробышева, сообщил Козырев.
— А наших никого не задело?
— Все благополучно.
Откуда-то слева и сзади ударил один, второй, потом третий пулемет. Над крохотной ложбиной, где укрылась группа Дробышева, засвистели пули.
— Иван Сергеевич, — подполз Дробышев к Козыреву, — медлить ни минуты нельзя. Нас могут отрезать. За высотой наши. Выбирайтесь с автоматчиками на гребень. Я с пулеметчиками буду прикрывать.
— Товарищ старший лейтенант… — заговорил было Козырев.
— Ни слова! — резко прервал его Дробышев. — Сейчас вступим в борьбу с пулеметами, и немедленно отходите.
Не глядя на Козырева, Дробышев схватил хобот пулемета, шепнул Гаркуше: «Давай ленту», — и пополз на край ложбины. Вражеские пулеметы били метров с четырехсот из трех мест. В розовом полумраке Дробышев хорошо видел их вспышки и, зарядив пулемет, ударил сначала по левому, потом по среднему и остаток патронов в ленте выпустил по правому.
— За мной, — подхватив пулемет, приказал он Гаркуше и Тамаеву и, не глядя, что делается там, куда он только что стрелял, стремительным рывком отскочил далеко в сторону.
Два фашистских пулемета молчали. Третий полыхнул длинной безудержной очередью по той самой ложбине, откуда только что выскочил Дробышев с пулеметчиками.
— Припозднився, хриц разнесчастный, — вставляя новую ленту, зло бормотал Гаркуша. — Пуляй, пуляй, сейчас мы те вмажем.
Дробышев, как на стрельбище, неторопливо установил прицел, старательно прицелился и, стиснув рукоятки, нажал спуск. Удерживая дрожавший пулемет, он стрелял до тех пор, пока не погасил вспышки фашистского пулемета.
— Берите пулемет, за мной, — сказал он пулеметчикам и, тяжело дыша, поспешно побеждал вверх по скату.
Позади гулко ахали взрывы, суматошилась беспорядочная стрельба, доносились какие-то крики.
Выбежав на гребень высоты, Дробышев увидел какие-то кучи и услышал радостные голоса:
— Сюда, сюда!
— Наши, — прошептал он и почувствовал, как, подкашиваясь, слабеют ноги.
Неуверенными шагами подошел он к ближней куче и увидел башню и ствол танковой пушки.
— Товарищ старший лейтенант, — узнал он голос одного из своих автоматчиков, — старший сержант вот…
— Что, — бросаясь к лежавшему на земле Козыреву, проговорил Дробышев, — что с вами, Иван Сергеевич?
— Да подранило малость, — устало ответил Козырев.
— Какой там малость, — воскликнул тот же автоматчик, — его еще там, как на немцев бежали, стукнуло, промолчал он, теперь еще в ногу и в бок. Санитары, да где же санитары! — озлобленно закричал он.
— Идем, идем, — раздался вблизи гулкий бас Марфы, — кто тут у вас? Иван Сергеевич, вы, — кинулась она к Козыреву.
— Чего, чего кричишь-то, — беззлобно упрекнул ее Козырев, — носилки-то есть, давай. Там, где поспокойнее, перевяжешь. Ну, Костя, — взял он руку Дробышева, — дело мы свое сделали, и неплохо, кажется.
— Неплохо, совсем неплохо, — с дрожью в голосе пробормотал Дробышев.
— Да ты что? — укоризненно сказал Козырев. — Уж не плачешь ли? Тю, дурной! Мы еще повоюем, — вновь сжал он руку Дробышева, — а потом, потом на свадьбе твоей гульнем. Не забудешь пригласить-то?
— Иван Сергеевич, — застенчиво проговорил Дробышев.
— Ну, ладно, ладно. Ты ребят-то уводи скорее, а то опять начнет минами швыряться.
Когда Козырева положили на носилки, чья-то нежная рука взяла руку Дробышева.
— Валя, — встрепенулся он.
— Вы живы, не ранены? — прошептала она. — А я так волновалась, так боялась за вас…
Глава тридцать пятая
Что-то теплое, трепетно нежное коснулось лица Привезенцева, и он проснулся. Прямо на него смотрели глаза, похожие на Наташины.
— Говорил, не подходи, разбудила, дуреха, — с укором прошептал где-то рядом ломкий мальчишеский голосок.
«Матвейка Ксюшу воспитывает», — радостно подумал Привезенцев, дружески подмигнув склонившейся к нему кудрявой, с пухлыми щечками и вздернутым носиком дочке Наташи.
— И вовсе не разбудила, — ободренная ласковым взглядом Привезенцева, решительно отразила Ксюша начальнический наскок брата, — он давно проснулся. Правда, дядя Федя, вы уже не спите?
— Конечно, кто же спит до такой поздноты, — вставая, поддержал девочку Привезенцев.
— Здрасьте, дядя Федя, — выдвинулся из-за Ксюши круглолицый крепыш в клетчатой, видимо, совсем новой рубашке с откладным воротником.
— Здравствуй, Мотя, — как взрослому, протянул ему руку Привезенцев и, не сумев сохранить серьезности, погладил стриженую головку мальчика.
Матвейка застенчиво улыбнулся и, очевидно, еще не решаясь приласкаться к чужому дяде, смущенно покраснел.
— А мама яичницу жарит, — сообщила более смелая Ксюша. — Ой, какая яичница, с луком зеленым, с ветчиной, как на праздник. Вы любите яичницу, дядя Федя?
— Очень, — серьезно заверил девочку Привезенцев, — больше всего на свете.
— И я тоже, — весело прощебетала Ксюша, — а еще репу люблю. Только бабушка ругается, когда я из грядки дергаю.
— Это она зеленую не дает рвать, — уточнил заметно посмелевший Матвейка, — а как поспеет, ешь сколько влезет и никто ни слова.
— Да, ни слова, — вспомнив какие-то прежние обиды, нахмурилась Ксюша, — даст одну репку, и больше не проси.
— А тебе, может, целый воз нужно, — уколол Матвейка младшую сестренку. — Ты же у нас известная ненасыта.
— И неправда, и неправда, — замахала ручонками Ксюша, — ты сам ненасыта, огурчики даже малюсенькие таскаешь с огорода.
Привезенцев с любопытством и какой-то еще самому непонятной радостью слушал беззлобную перебранку детей. Он часто задумывался о Наташиных детях, пытался представить, как могут сложиться отношения с ними, и, сам человек бездетный, ничего определенного представить не мог. Чаще всего ему казалось, что дети встретят его если не отчужденно, то наверняка настороженно. Будь они крохотные несмысленыши, тогда все было бы проще. Но младшей Ксюше, было уже шесть, а старшей, как говорила Наташа, уже «заневестившейся» Анне, шел пятнадцатый год, и она почти наравне со взрослыми работала в колхозе. Особенно беспокоил Привезенцева Матвейка. Мальчишки всегда больше тянутся к отцу, и приход в семью чужого мужчины обычно переживают болезненно.
Но и Матвейка и девочки встретили дядю Федю, как давно знакомого человека. Они помнили его еще с прошлого лета, когда он, провожая Наташу, несколько раз подходил к их дому, а однажды даже был в гостях. Младшие, конечно, не догадывались об отношениях матери и этого усатого, веселого дяди Феди. Старшая, Анна, несомненно, понимала и, встречаясь с Привезенцевым, вначале смущенно краснела, а потом, видимо, привыкнув, по-взрослому здоровалась с ним и глядела на него просто, без неприязни и отчуждения.
«Что же за человек этот погибший Наташин муж? — глядя на льнувших к нему Ксюшу и Матвейку, думал Привезенцев. — И года не прошло после смерти, а его даже дети родные не вспоминают. А ты свою бывшую жену как вспоминаешь? — тут же спросил он себя — Да, теперь никак, а раньше только как подлую женщину. Но они же дети, если тебе лихо было, то каково же им отца родного позабыть».
У него заныло в груди и всколыхнулась такая жалость к этим, еще малосмышленым детям, что он, чувствуя, как слезы наплывают на глаза, прижал к себе послушных Ксюшу и Матвейку и, чуть не заговорив вслух, поклялся:
«Все сделаю, все, все, чтобы заменить им отца, чтобы не коснулись их сиротство и нужда, чтобы жили они, как все дети, радостно, весело и в достатке».
Подняв голову, он встретился с сияющими, удивительно счастливыми глазами Наташи. Она, очевидно, стояла давно, видела все и все понимала. Она побледнела, сморщилась, словно борясь с какой-то внутренней болью, и, шумно вздохнув, с нарочитой сердитостью прикрикнула на детей:
— Это что же вы поспать-то не даете? Ну, марш отсюда!
— Он наш, наш, дядя Федя, — задорно выкрикнула Ксюша, обвивая ручонками Привезенцева. — И мы не будили его, он сам проснулся. Правда, дядя Федя?
Привезенцев плотнее прижал детишек к себе, притворно строго взглянул на Наташу и, подражая ломкому голоску Ксюши, так же задорно ответил:
— Мы друзья самые большие, и нашу дружбу никому не дадим поломать!
— Вот! — сияющими глазенками стрельнула Ксюша на мать. — Дру-зь-я!
— Ну, ладно, ладно, — с трудом подавляя подступавшие рыдания и болезненно улыбаясь, проговорила Наташа, — завтракать пойдемте. Ксюша, Матвейка, огурчиков свеженьких — живо!..
Отпустив Привезенцева, дети с шумом выбежали на улицу, а Наташа, поглядев им вслед, неуверенными шагами подошла к постели.
— Федя, — прошептала она, и, не владея собою, глухо зарыдала.
— Не надо, не надо, — растерянно пробормотал Привезенцев, обнимая ее вздрагивающие плечи.
— Ничего. Я так, — прошептала Наташа и мокрым, горячим лицом уткнулась в шею Привезенцева, — если бы всегда, всегда было вот так легко!..
— Будет, будет, милая, всегда будет так, — страстно проговорил Привезенцев. — Поверь только и ни о чем плохом не думай, выбрось все мысли тревожные, начнем жизнь сначала. Все, что было, с корнями вырвем.
— Я уже из прошлого все вырвала, — немного отстранясь и глядя прямо в глаза Привезенцева, сказала Наташа. — Теперь у меня только ты, один-разъединственный, на всю жизнь. Только ты! — И, помолчав, добавила: — Ты и дети.
— И у меня, у меня тоже… поверь этому, поверь навсегда, без всяких сомнений, — сказал Привезенцев дрожащим, почти умоляющим голосом.
— Верю, — выдохнула Наташа и сильным, молодым телом прижалась к Привезенцеву.
* * *
— А-а-а, товарищ начальник штаба, — еще издали, шагов за тридцать от Наташи и Привезенцева, протяжно прогудел Гвоздов, одергивая гимнастерку и поправляя сбившуюся на затылок артиллерийскую фуражку. — Рады, рады, всем колхозом рады приветствовать вас. Надолго ли к нам? — прищурясь, протянул он руку.
— Вроде, навсегда, — пристально разглядывая Гвоздова, ответил Привезенцев, — как примете. Не покажете от ворот поворот?
— Вас? — еще шире расплываясь в улыбке, воскликнул Гвоздов. — С превеликим удовольствием, с распростертыми, как это говорят, объятиями.
Наташа недовольно отвернулась, стараясь не встречаться взглядом с председателем, но радость была так сильна, что она забыла все плохое о Гвоздове.
— А Наталья Матвеевна наша враз расцвела, — подмигнул он Привезенцеву. — То, бывало, мрачнее тучи ходит, а теперь вон как щечки-то полыхают. Не обижайся, не обижайся, — заметив, как Наташа недовольно передернула плечами, проговорил он. — Мы же тут все свои, и я по-дружески, как это говорят, без подначки. Просто от души рад и от души поздравляю. Значит, в самом деле, Федор Петрович, у нас в деревне остаетесь? — помолчав, озабоченно спросил Гвоздов. — В город-то не хотите?
— Я житель чисто деревенский, — ответил Привезенцев, — куда же мне еще рваться. Город меня не привлекает.
— И совершенно справедливо, совершенно точно, — подхватил Гвоздов. — Что такое город: пылища, духотища, суматоха. Ни тебе простора, ни воздуха вольного. А у нас-то раздолье!..
Еще вчера узнав, что Привезенцев окончательно решил осесть в деревне, Гвоздов всю ночь думал об этом неожиданном событии. В прошлом году, хотя и редко встречался с ним, Гвоздов отметил, что Привезенцев деловит, не глуп и решителен. Такой человек в деревне, конечно, будет сразу замечен и, несомненно, влезет во все колхозные и сельские дела. Хорошо, если он еще отвлечется чем-то, ну, будет, к примеру, выпивать частенько или уйдет в свое домашнее хозяйство, а если сразу врежется в сельскую жизнь по-военному, то множество дел может натворить. К тому же и Наташа Круглова не из тех, что даст ему разгуляться. С ней одной-то держи да держи ухо настороже, а тут еще он… Нерадостные, тревожные думы терзали всю ночь Гвоздова. Но к утру само собой пришло спасительное решение.
«А что, — думал Гвоздов, — это же расчудесно. Пусть он будет председателем колхоза и расхлебывается со всеми делами этими распроклятыми, а я место Слепнева займу. Все одно не жилец он, да и в районе его не больно жалуют, а меня враз поддержат. Буду из колхоза в колхоз разъезжать и мозги председателям вправлять. Ни тебе беготни, ни тебе ответственности. Разлюбезная жизнь будет! Когда захотел, — домашними делами занялся, когда освободился — в сельсовет зашел, в колхозы заглянул. Вот и все».
Эти мечты так овладели Гвоздовым, что он не выдержал и прямо в открытую сказал Привезенцеву:
— Это очень замечательно, что вы в деревне оседаете, Федор Петрович. Отдохните малость и давайте-ка на мое место. Человек вы грамотный, опытный, целым полком руководили и колхозом так завернете, что ахнут все.
Наташа в недоумении смотрела на Гвоздова и никак не могла понять, всерьез говорит он или только для отвода глаз.
— Нет, Алексей Миронович, — так же сбитый с толку словами Гвоздова, сказал Привезенцев, — председательское кресло не по мне. Я же педагог, учитель, мое дело с детишками возиться.
— Ну, учителей-то проще простого найти, а председателей колхоза раз-два и обчелся. Там, в школе-то, по книжкам все расписано, а в колхозе руководить нужно, головой кумекать. Да и рука нужна твердая, могутная, так, чтобы не дрогнула. А у вас она как раз военная, на больших делах отвердевшая.
— Да что ты агитируешь-то, — сердито оборвала Гвоздова Наташа, — прежде дай человеку осмотреться и передохнуть. А к тому же, — сурово сдвинула она брови, — не твоя забота, где ему работать.
— Ну, все, все, молчу, — замахал руками Гвоздов, — я так это, к слову. Пойдемте-ка лучше ко мне домой. Медком угощу, да и завалилась там у меня настоящая белоголовая…
— Нет, — не дала договорить ему Наташа, — мы к Слепневым идем.
— Ну, тогда вечерком милости прошу, — не сдавался Гвоздов, — попросту, без всяких церемоний.
— Там видно будет, спасибо за приглашение, — сказала Наташа и решительно взяла Привезенцева под руку.
* * *
Неторопливый, с ясными, слегка прищуренными глазами и серебристой проседью в волосах секретарь райкома партии удивительно напоминал Привезенцеву Поветкина. Он даже почти точно повторял поветкинское движение, левой рукой поглаживая до синевы выбритый подбородок и в такт разговору постукивая пальцами. Только его правая рука в черной перчатке висела безвольно, не взмахивала, как у Поветкина, часто, резко и нетерпеливо.
— Очень хорошо, что вы хотите взяться за свою прежнюю работу, за учительство. Это сейчас исключительно важно, — говорил секретарь, все ближе склоняясь к Привезенцеву. — Я бы сказал, что хороший учитель сейчас дороже председателя колхоза и даже сельсовета. Война много наделала бед и в образовании. Только у нас в районе, а район сравнительно небольшой, в этом году не ходило в школу более двух тысяч подростков. А на будущий год эта цифра может удвоиться. И если вам удастся всех ребят из окрестных деревень привлечь к учебе, вы сделаете великое дело. Помощь вам будет, — легким кивком головы остановил он хотевшего заговорить Привезенцева, — многое не обещаю, но кое-что сделаю. Доски для парт дадим, известь для ремонта, дрова для отопления, но главное — ваша инициатива и напористость. Думаю, что энергии и решительности у вас хватит.
— Постараюсь, — смущаясь под настойчивым взглядом секретаря райкома, сказал Привезенцев. — Я, собственно… — замялся он, — я с детства мечтал быть настоящим учителем. До войны как-то не получалось, теперь вложу все силы.
— Вот и чудесно! — одобрил секретарь. — И еще один весьма важный вопрос, вернее поручение. В вашем сельсовете нет партийной организации, и это остро чувствуется во всех делах. Есть там два члена партии, но двое — это еще не организация. Вы будете третий, и вам районный комитет поручает создать первичную партийную организацию. И не просто создать, а развернуть настоящую партийную работу, сплотить вокруг себя лучших людей. — Секретарь устало прикрыл глаза, минуту помолчал и продолжил. — И еще я хочу вам дать одно очень неприятное поручение. Что-то там с Гвоздовым происходит нехорошее. Я всего третий месяц в районе, из госпиталя, как видите, — кивнул он на руку в черной перчатке, — толком еще не разобрался во всем. Район-то по размерам хоть и средненький, а хозяйств различных — море. Одних колхозов больше сотни, да еще совхозы, кое-что из промышленности. Одним словом еще руки до всего не дошли. Так вот о Гвоздове. О нем много говорят, даже пишут. Лучший председатель колхоза в районе. И вдруг на днях обнаруживается махинация. С лесником спутался, всем колхозом сено косил, как это раньше бывало, исполу. Половину в колхоз, половину леснику. А лесник — чистейший спекулянт. Ну, это дело разбирает прокурор. Виноват Гвоздов — будет отвечать. Появилось другое. Письма вот, — достал он из стола пачку бумаг, — четыре штуки, все о Гвоздове, и все анонимные. Терпеть не могу анонимок, но тут приходится подумать. Или клевещут на Гвоздова, или он так зажал колхозников, что просто боятся его. Очень прошу вас, Федор Петрович, вы человек новый, свежий, возьмите эти письма, разберитесь во всем и приезжайте ко мне. Только объективно, честно, без малейшего влияния кого бы то ни было. Не обижайтесь, что я вас пускаю с места в карьер.
— Нет, что вы, — улыбкой на улыбку ответил Привезенцев, — я очень рад вашему доверию.
— Вы же офицер и коммунист, как же я не буду доверять. Но учтите, — строго погрозил секретарь пальцем, — я тоже офицер и коммунист. Поэтому и спрошу за все жестко, без скидок на объективности. Да, вы ели что-нибудь?.. Может, закусим?
— Что вы, спасибо, — взволнованный искренностью и теплотой секретаря райкома, сказал Привезенцев, — меня жена продуктами на целую неделю снабдила.
— Значит, хорошая у вас жена?
— Изумительная! — воскликнул Привезенцев, совсем забыв, что говорит с человеком, которого знает всего лишь около часу.
* * *
Поручение секретаря райкома было столь деликатным, что Привезенцев долго раздумывал, как его выполнить. Все осложнялось тем, что письма о злоупотреблениях Гвоздова были анонимные, без подписей, а в подтверждение фактов в них перечислялось много имен колхозников. Привезенцев хорошо знал, что разговор даже с двумя-тремя из этих колхозников эхом отзовется по всей деревне, вызовет множество толков и кривотолков, а это может отразиться на работе Гвоздова и резко подорвать его авторитет. Он хотел поговорить об этих письмах с Наташей, но не решился, привыкнув в армии к строжайшему хранению секретов даже от близких друзей.
Всему помог случай. Под вечер, когда большинство колхозников возвращалось с работы, Привезенцев пошел на конюшню, надеясь встретить там кого-либо из нужных ему людей и, словно невзначай, издали завязать разговор. Едва миновал он полуразвалившийся сарай, как от распахнутых ворот конюшни послышался приглушенный гневный женский голос:
— Креста на тебе нет. Жалости ни капельки. Ты же знаешь, что делом этим распутным я ни в жизнь не занималась. Где я возьму тебе самогонки?
— Ну, литруху-то раздобудешь, — уверенно, с чувством несомненного превосходства прозвучал голос Гвоздова, — а закусить и огурчиком обойдемся.
— Да нету же, нету. Ни денег, ничего. На что купить-то? — с горечью проговорила женщина.
— Ну, эти разговорчики вовсе ни к чему. Лошадь-то на весь день оторвать тоже чего-то стоит, — с еще большей настойчивостью ответил Гвоздов.
Услышав этот разговор, Привезенцев чуть не остановился. О случаях вымогательства Гвоздова сообщалось в трех письмах. Об этом как раз и шел сейчас разговор.
— Оглоед ты окаянный! Душа твоя бесстыжая!.. — видимо закипев от возмущения, вскрикнула женщина.
— Ну, ты полегче, полегче на поворотах, — заметив подходившего Привезенцева, в замешательстве пробормотал Гвоздов, — уж и пошутить нельзя.
— Ишь ты, какой шутник выискался, — также увидев Привезенцева, громче и напористее продолжала женщина, — твои шутки эти самые слезьми для людей оборачиваются. В кабалу всех вгоняешь, на кажном, что ни на есть пустяке пользуешься.
— Ну, хватит тебе, — умоляюще прогудел Гвоздов, — услышат люди, могут черт-те что подумать. Ты болтаешь тут, а люди…
— А что думать-то, что думать, и так все знают, все на своей шкуре твои шутки испробовали, — теперь уже обращаясь больше к Привезенцеву, чем к Гвоздову, гневно продолжала Арина Бычкова — маленькая женщина с худым, испитым лицом.
— Вот, пожалуйста, Федор Петрович, вы человек военный, сами на войне пострадали, — обратилась она к Привезенцеву, — вот послушайте, что вытворяет этот пузан жирный с нами, с солдатками.
— Что ты, ошалела, что ль, — властным окриком пытался остановить ее Гвоздов, но Арина, озлобленно сверкнув на него подсиненными глазами, с нескрываемой болью продолжала выкрикивать:
— Никанор мой два года, как на фронте. Одна с пятерыми малолетками осталась. Обносились все — ни на ноги надеть, ни на плечи набросить. Овечку сберегла я, подкормила, на базар свезти хотела, ребятенкам хоть справить что-нибудь. А базар-то двадцать верст. Христом богом прошу у него, — презрительно кивнула она на Гвоздова, — дай лошаденку в город съездить. Лошади-то, как трактор приехал, почти половина гуляют. А он чего? «Пожалуйста, — говорит, — только угости»…
— Да пошутил же я, дуреха, — вновь попытался прервать скандал Гвоздов. — Соображать надо, где в шутку, а где всерьез.
— Осенью, когда мне хворост из лесу надо было привезти, ты тоже не всерьез две бутылки самогонки выжрал да целого куренка смолотил? — яростно размахивая руками, наступала Арина на Гвоздова. — А соломы когда просила, крышу подправить, тоже шутейно опять целую литровку выдул? Молчи уж, бесстыжие твои глаза, крохобор разнесчастный. Ты же за все, что ни попросят люди, как грабитель какой, последнее вытягиваешь. Повозку по делам в город — тебе литру, соломы гнилой возок — опять литру, к родственникам на денек отпроситься — опять угощай. Хапуга ты, жулик распоследний!..
— Я не позволю клеветать, — багровея, прошипел Гвоздов.
— Клеветать! — гордо подбоченясь, гневно проговорила Арина. — Бабы! — пронзительно крикнула она возвращавшейся с прополки группе женщин. — Бабоньки, давайте сюда. Да скорее, скорей.
С тяпками и вязанками травы женщины послушно свернули к конюшне.
— Клевета, значит? — зло и насмешливо повторила Арина. — А ну, Федосья, — обернулась она к женщинам, — сколько самогонки стребовал с тебя этот самый вот Алешка Гвоздов за тую повозку, что ты дочь на станцию отвозила? Говори, говори, что жмешься?
— Ну, было, выпил зашел, — робко ответила пожилая женщина, скрываясь за спинами подруг.
— Выпил, значит! — укоризненно воскликнула Арина. — Ах, какая ты добренькая и жалостливая! А сама же говорила, что на полтыщи рублев он у тебя нажрал. А ты, Марья, что глаза опустила? Не с тебя ли он литру содрал за воз соломы? А ты, Марфуша? Ты, Анна? Нечего в молчанку играть да по углам шептаться. Этого паразита на чистую воду надо…
— Я не позволю… — задыхаясь от ярости, прокричал Гвоздов. — Да за такие слова… Да Советская власть за оскорбление руководителей колхозных…
— Ты, Гвоздов, Советской властью не фигурируй, — прервал его незаметно подошедший Слепнев. — Советскую власть народ выбирает, и Советская власть ему служит.
— А-а-а! — насмешливо протянул Гвоздов. — Вот он откуда ветерок-то дует. Все товарищ Слепнев подстроил. Так Гвоздова подкусить нечем, так давай несознательный элемент настраивать.
— Заткнись! — с хрипом выскочила из толпы высоченная женщина с темным остроскулым лицом. — Не смей марать Сергея Сергеевича! Он всю душу за народ, а ты только и знаешь, что тянуть с народа. Хватит, бабы, — призывно махнув рукой, крикнула она женщинам, — довольно молчать, натерпелись от этого толстомясого, и будет. Вот и Сергей Сергеевич тут, и Федор Петрович — он, говорят, теперь партийный руководитель, — давай собрание требовать.
— Правильно! Собрание! Нечего терпеть! — зашумели женщины. — Вконец обнаглел. Пчел, как у помещика! Спекулянт без подделки…
Под гневными криками толпы Гвоздов сник, потом резко поднял голову, злобно взглянув на Слепнева, на женщин и, видимо, поняв, что всякое сопротивление бесполезно, с хрипом проговорил:
— И пожалуйста, и собирайте, и снимайте, в ножки поклонюсь, что избавился от такой должности…
— Нет, ты запросто от нас не уйдешь, — остановила его Арина, — мы с тебя за все спросим, и не как-нибудь, а сполна…
* * *
Колхозное собрание закончилось под утро. Наташа с Галей и Слепнев с Привезенцевым вышли из душной, продымленной конторы и, не сговариваясь, сизым от росы пригорком направились к озеру. Говорить никому не хотелось, и все четверо шли молча, думая о совсем необычном шумном и горячем собрании. Огромная луна свалилась почти к самому горизонту, и распластавшееся по лощине озеро тускло розовело, скрываясь в прозрачной дымке легкого тумана.
— Нет! Никак не могу опомниться, — остановясь на плотине, сказала Наташа. — Ну как можно такое? Что за председатель из меня? И выдумают тоже!
— Наталья Матвеевна, вам известна такая пословица: «Не боги горшки обжигают», — шутливо спросил ее Слепнев.
— Во! Видали! — кивнула Наташа Гале и Привезенцеву. — Уже Натальей Матвеевной величает! То была: — Наташка, Наташа, а теперь вдруг Матвеевна!
— А как же иначе, ты же теперь не кто-нибудь, а председатель колхоза. Верно, Федор Петрович?
— Ох, председатель, председатель!.. — горестно вздохнула Наташа. — Как натворит этот председатель делов несуразных и полетит вверх тормашками, вроде Гвоздова, с должности и под суд. А я судов-то этих и в глаза не видела.
— Да что ты, — вступилась Галя. — Гвоздов жулик настоящий, а ты… ты… ты же, как слезиночка… Ты дело наладишь.
Привезенцев слушал разговор и все еще никак не мог опомниться от всего, что произошло на собрании. Его нисколько не удивило, что почти все колхозники яростно обрушились на Гвоздова и решили снять его с должности председателя колхоза и отдать под суд. Совсем неожиданным, ошеломляющим было шумное, единодушное требование женщин на место Гвоздова избрать Наташу. Вначале от радости у него запылало лицо, но, подумав, что за работа ляжет на ее плечи, он внутренне похолодел, жалея ее. У него даже мелькнула мысль выступить и попросить всех не наваливать на нее столь непосильную ношу. Но было уже поздно. Лес поднятых рук окончательно сбил его мысли.
«Остается только одно, — решил он, — всеми силами помогать ей, на каждом шагу, в каждом деле. И главное учить, учить. Она хоть и окончила семилетку, но, видать, многое перезабыла».
— А вы что, Федор Петрович, загрустили? — спросил Слепнев.
— Загрустишь, — весело рассмеялась Галя, — жена-то, чай, теперь не кто-нибудь, а председатель! Ой, Федор Петрович, и вредные же эти председатели. По себе знаю. Мой председатель ни днем, ни ночью покоя не знает. Только вы не горюйте. Пусть они председатели, а мы с вами вдвоем против них.
— Это что же, вроде заговора? — усмехнулся Слепнев.
— Конечно, — задорно воскликнула Галя, — критику что есть сил на вас наводить будем, чтобы не очень-то нос задирали.
— Точно, Галя, — оживился Привезенцев, — мы в обиду себя не дадим.
— Товарищи, дорогие, — шумно вздохнув, восторженно прошептала Наташа, — а хорошо-то как! Озеро — и конца не видно! Рыбки там блаженствуют, сил набираются, утятки подрастают. Ведь это же благодать, как в сказке, озеро-то это наше.
— Тихо, — легонько подтолкнул Слепнев Привезенцева, — в эту минуту рождается новый председатель колхоза.
Глава тридцать шестая
Никогда еще фельдмаршал Манштейн не был так суров, груб и беспощаден, как в эту трагическую неделю с четвертого по десятое июля 1943 года. И никогда еще он столько не передумал и не пережил, как в эту же несчастную неделю.
А начиналось все так прекрасно. Первого июля на совещании высшего командования в Восточной Пруссии Гитлер выступил с большой речью. Он, оперируя множеством исторических примеров, убедительно доказал, что Германия в настоящее время, как никогда, сильна и могуча, что еще за всю историю не имела такой огромной по численности армии, оснащенной достаточным количеством лучшей в мире военной техники. И эта армия нанесет под Курском последний сокрушительный удар по Советам, навсегда покончит с ними, а затем примется за англичан с американцами.
Эта, длившаяся более двух часов, речь Гитлера произвела на всех присутствующих огромное впечатление. Даже скептически относившийся к наступлению на Курск генерал-полковник Модель подошел к Манштейну и необычайно взволнованно сказал:
— Теперь кажется, с русскими будет покончено. До встречи в Курске, господин фельдмаршал, — торжественно попрощался Модель.
После совещания Гитлер задержал Манштейна и, бегло поговорив о положении в группе армий «Юг», дал фельдмаршалу почетное поручение — от его имени вручить маршалу Актонеску золотой знак за Крымскую кампанию.
Полный радужных надежд, Манштейн вернулся в штаб своей группы, а утром третьего июля вылетел в Бухарест. Антонеску встретил Манштейна, как самого знаменитого гостя, угадывая и предупреждая каждое его желание. В пышном торжестве, под гром музыки и треск киноаппаратов Манштейн вручил маршалу Антонеску золотой знак, побыл на торжественном обеде и к вечеру возвратился на самолете в Запорожье. В этот же вечер, даже не отдохнув после полета в Румынию, он специальным поездом с оперативной группой выехал в район Белгорода.
На фронте обстояло все как нельзя лучше. Полностью укомплектованные и вооруженные одиннадцать танковых и восемь пехотных дивизий стояли в полной готовности и прыжку на Курск.
К тому же утро и первая половина дня четвертого июля выдались на редкость чудесные, насквозь пронизанные солнцем и напоенные благоуханием разгоревшегося лета. Но вторая половина дня, начавшаяся наплывом, легких облаков, закончилась разочарованием и вспышками гнева Манштейна. Да и как можно было оставаться спокойным? Более пяти часов части двух пехотных дивизий и танковой дивизии СС «Мертвая голова» штурмовали позиции советских войск, но не смогли даже полностью сбить их боевое охранение. И все это при условии, что на помощь трем дивизиям было брошено около сотни, бомбардировщиков и большая часть артиллерии, предназначенной для главного удара. Сколько, ни возмущался, сколько ни буйствовал Манштейн, ничего определенного ни от командующего 4-й танковой армией, ни от командиров корпусов и дивизий добиться не мог. Все они, словно сговорясь, твердили, что оборона противника сильнее, чем ожидали, а упорство русских солдат граничит с фанатизмом.
В довершение всех бед первого дня борьбы русские, едва стемнело, дали пятиминутный шквальный налет артиллерией и минометами. Это было даже хуже того, что целым трем дивизиям не удалось сбить боевое охранение противника. Артподготовка русских, как восприняли этот налет немецкие войска, не только нанесла большие потери в людях и технике, но, главное, посеяла в войсках первые признаки неуверенности в успехе наступления на Курск. Нужно было немедленно и решительно рассеять эти настроения и любым путем поднять дух солдат. Для этого Манштейн приказал ночью во всех подразделениях торжественно прочитать специальный приказ Гитлера, обращенный к войскам, предназначенным для наступления на Курск. Манштейна самого приводил в восторг этот приказ, где говорилось:
«Колоссальный удар, который будет нанесен сегодня утром советским войскам, должен потрясти их до основания!»
Первые же сообщения из войск подтвердили надежды Манштейна. Немецкие солдаты, как говорилось в этих сообщениях, с великим энтузиазмом восприняли приказ Гитлера, особенно восторгаясь непосредственным обращением к ним, к солдатам:
«Помните, что от вашего удара может зависеть все!»
Успокоенный этими сообщениями, Манштейн ненадолго заснул. Но цепь неудач, как позже говорил Манштейн, не прервалась даже и во время его сна. Оказывается, немецкое наступление на Курск для русских не только не было неожиданным, но они знали и день и час начала этого наступления. Только этим и объяснял Манштейн огромный ответный удар невероятного количества русских: артиллерии и минометов сразу же после начала немецкой артподготовки. С этого собственно и начались неудачи. У Манштейна мелькнула было мысль вообще отказаться, от наступления, но, вспомнив Гитлера на последнем военном совещании в Восточной Пруссии, он навсегда отбросил эту мысль, как пагубную и крамольную. Выступление в это время против основного плана Гитлера было равносильно подписанию самому себе смертного приговора. Успокаивало только одно — на прорыв обороны русских будут брошены невиданные силы. На узких участках в атаку одновременно ринулись шесть танковых и четыре пехотные дивизии, не считая трех пехотных дивизий, прикрывавших фланги ударных группировок. На основном участке прорыва вдоль автомагистрали Белгород — Курск наступали прославленные танковые дивизии СС «Мертвая голова», «Адольф Гитлер», «Великая Германия». Во Франции только этих дивизий теперешнего состава вполне хватило бы для проведения целой кампании. Здесь же, на белгородско-курском направлении свершалось нечто невероятное. Атаки крупных танковых масс, подготовленные и поддержанные ударами огромного количества артиллерии и авиации, почти до середины дня пятого июля не имели никакого успеха. Только введением в сражение на главном направлении свыше семисот танков одновременно удалось на ряде участков вклиниться в русскую оборону и окружить один стрелковый полк и несколько мелких подразделений. Но как только стемнело, стрелковый полк вырвался из окружения, а мелкие подразделения растаяли, словно провалясь сквозь землю.
С утра шестого июля пришлось ввести в сражение танковую дивизию СС «Райх» и третью танковую дивизию. Вдоль автомагистрали Белгород — Курск действовало одновременно уже свыше тысячи танков. Но продвижение ограничилось метрами, а потери в танках были потрясающи. Полностью укомплектованные танковые дивизии и отдельные батальоны «тигров» и «пантер» таяли, как снег, под ударами русских. К вечеру картина на фронте была столь ужасающа, что Манштейн не решился доложить о случившемся в ставку Гитлера. Он прибег к испытанному методу общего выражения, что события развиваются планомерно, и подробного освещения отдельных героических подвигов немецких солдат и офицеров. Чтобы сломить наконец сопротивление противника, Манштейн приказал танковые дивизии СС «Адольф Гитлер», «Райх» и «Мертвая голова» сосредоточить на узком участке фронта восточнее автомагистрали и огромным тараном бросить их в ночную атаку. Танки дивизий «Адольф Гитлер» и «Райх» прорвали оборону русских и вышли к железной дороге у станции Беленихино, но к утру советские танки окаймили район прорыва и остановили дальнейшее продвижение. Пришлось снова перегруппировывать силы и начинать атаки.
Эти три дня — седьмое, восьмое и девятое июля — слились в какой-то сплошной кошмар. Командиры наступающих дивизий с утра и до вечера докладывали, что они продвигаются, захватывают населенные пункты и важные высоты, беспощадно громят и истребляют русских, но к вечеру или на следующее утро оказывалось, что продвижение ограничилось всего несколькими километрами, а русские, как стояли плотным фронтом, закрывая дорогу на Курск, так и стоят. Более того, они уже не просто стояли, а то в одном, то в другом месте переходили в контратаки, вырывая инициативу у наступающих и навязывая им свою волю. Манштейн отчетливо понимал, что эти пока еще отдельные контратаки были первыми отблесками надвигающейся грозы.
Манштейн метался в штабном вагоне, выезжал к фронту, собственными глазами видя страшное напряжение борьбы, ругался, угрожал, снял для примера одного командира дивизии и четырех командиров полков, но все было напрасно. К вечеру девятого июля Манштейн совершенно отчетливо понял, что начался кризис наступления и прорыв вдоль автомагистрали Белгород — Курск не удался.
Мрачный, озлобленный, наводя страх на всех, кто к нему заходил, Манштейн вечером девятого июля приказал остановить наступление, привести войска в порядок и быть готовыми к получению новых задач.
Тяжкие раздумья охватили старого фельдмаршала. За последний год после Крыма это была его уже вторая крупная неудача. И если первая — неудача прорыва на помощь окруженным у Волги войскам Паулюса — на общем фоне потрясающего разгрома немецких войск в степях между Волгой и Доном осталась сравнительно незамеченной Гитлером, то теперь провал наступления на Курск, в которое немецкая армия вложила все свои силы, Гитлер никогда не простит. Несомненно, как только ему станет все известно, последует соответствующее возмездие. Одна лишь мысль о неизбежном разговоре с Гитлером приводила Манштейна в дрожь. Выход был только один — любой ценой прорваться в Курск, хотя бы стоило это потери всех танков и всех солдат, которые уже целую неделю штурмовали позиции русских и не смогли сломить их упорства.
Глядя на сплошь испещренную знаками карту оперативной обстановки, Манштейн отчетливо видел, что прорыв прямо на Курск, вдоль автомагистрали, уже невозможен. Там намертво встали танкисты Катукова, о котором Манштейн слышал еще в сорок первом году. Тогда он всего-навсего с какой-то потрепанной танковой бригадой с потрясающим упорством блестяще дрался с прославленной танковой армией Гудериана на пути от Орла к Туле. Затем не менее блестяще сорвал немецкий прорыв на Серпухов и каким-то неуловимым маневром сразу же оказался под Можайском, где развивалось немецкое наступление на Москву. Еще тогда танкисты Катукова показали свои основные качества, которые отчетливо проявились здесь, в боях между Курском и Белгородом. Они не ломились, очертя голову, на противника, как часто это случалось с воспитанниками Гудериана, не шарахались из одной крайности в другую, а действовали расчетливо, спокойно, удивительно удачно выбирая самые выгодные приемы и моменты. Едва лишь узнав о вводе в сражение танкистов. Катукова, Манштейн сразу же предупредил своих командиров корпусов и дивизий о необходимости учитывать, что за противник перед ними, но, как часто бывает в жизни и, особенно, на войне, предупреждение это не пошло впрок. В первых же боях танкисты Катукова, умело и хитро сочетая засады с короткими и стремительными ударами, по существу сорвали наступление немецких танковых дивизий и предрешили провал прорыва вдоль автомагистрали Белгород — Курск. Прорываться снова на этом направлении, когда немецкие дивизии ослабли, а армия Катукова сосредоточила все силы в районе автомагистрали, было чистейшим безрассудством. Нужно сковать войска Катукова и нанести решающий удар в другом месте, там, где другие войска, не такие сильные и не такие опытные, как эти чумазые черти в прожженных комбинезонах.
Как и всегда, общая наметка нового решения вызвала у Манштейна бурный поток мыслей. Ему уже отчетливо виделись и другие невыгоды наступления вдоль автомагистрали, которая пересекала широкую болотистую пойму реки Псел. На пути расположен пусть небольшой, но все же город Обоянь, где легче обороняться и слишком трудно и опасно наступать, рискуя влезть в затяжные, изнурительные бои, которые опять-таки выгодны только обороняющемуся. Еще при планировании операции «Цитадель» внимание Манштейна привлекало обширное плато у станции и поселка Прохоровка, откуда открывался беспрепятственный путь через пологие холмы и высоты» выводящие в обход Курска. Тогда, при планировании, удар через Прохоровку был признан нецелесообразным из-за того, что он удлинял путь до Курска, а главная идея «Цитадели» заключалась в стремительном прорыве по кратчайшим направлениям к этому русскому городу. Но теперь, когда стремительного прорыва не получилось, прохоровское направление приобрело совсем другое значение.
Все больше увлекаясь новой идеей, Манштейн стремительно рисовал на карте значки своих дивизий, подсчитывал их возможности и за час работы набросал план нового наступления. Главный удар на Прохоровку нанесут самые мощные танковые дивизии СС «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» и «Райх». Но об этом противник даже догадываться не должен. Нужно создать у него впечатление, что основные силы по-прежнему действуют вдоль автомагистрали. Там, на узком участке, нанесут удар танковая дивизия СС «Великая Германия» и 11-я танковая дивизия, а 3-я танковая, 255 и 332-я пехотные дивизии прикроют их с запада. Это будет хоть и не столь мощный удар, но он скует противника, а при упорном наступлении может оказать серьезную помощь главной группировке.
Нужно продолжать наступление и северо-восточнее Белгорода. Там удар нанесут 6, 7 и 19-я танковые, 106, 198 и 320-я пехотные дивизии. Их нужно бросить в прорыв на узком фронте и попытаться выйти к Прохоровке с востока. Это поставит под угрозу окружения большую группировку русских севернее Белгорода и опять-таки отвлечет их внимание от прохоровских высот и плато.
Разгоряченный Манштейн резко бросил карандаш на карту и встал. Где-то недалеко рвались бомбы. Это опять русские ночники начали бомбежку. Манштейн вновь склонился над картой. Новый план со всей силой захватил его, и он решился на последнее рискованное мероприятие — на подтягивание к району боев своего последнего резерва: танковой дивизии СС «Викинг» и 17-й танковой дивизии. Через сутки и эти соединения могут быть под Прохоровкой и завершить то, что не успеют сделать «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» и «Райх».
Озлобленная растерянность, так властно овладевшая Манштейном в последние дни, вновь сменилась твердой уверенностью в блестящем завершении операции «Цитадель», и это сразу же возбудило кипучую деятельность. Никому не доверяя тайны своего замысла и торопясь, он сам в разные концы звонил по телефону, приказал все маршевые батальоны и роты танков немедленно передать дивизиям «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» и «Райх». Не задумываясь, он распорядился большую часть артиллерии перебросить на прохоровское направление и, не приняв еще окончательного решения о времени нанесения новых ударов, связался по телефону со своим соседом — командующим группой армий «Центр» фельдмаршалом Клюге.
С первых же слов Клюге, Манштейн понял, что фельдмаршал взбешен и с трудом владеет собой. Не дослушав даже, о чем хочет говорить Манштейн, он, шепелявя и пропуская целые слова, обрушился градом упреков на своего подчиненного, столь ненавистного ему Моделя.
— Выскочка… Проходимец… Языком воюет… Неделю просил для прорыва, а сам завяз в обороне русских и десятью дивизиями какие-то Поныри и Ольховатку не возьмет… Подкрепление требует, резервы, а у меня фронт колоссальный, направление Московское. Русские вот-вот на Смоленск ударят.
Хорошо зная Клюге, Манштейн не перебивал его, дав старику излить свой гнев. Наконец Клюге начал стихать и уже осмысленно и ясно сказал:
— Я приказал ему приостановить наступление, на фронте всего в десять километров сосредоточить шесть танковых, две моторизованные и три пехотные дивизии, тщательно подготовиться и с утра одиннадцатого начать последний и решительный штурм обороны русских. Если и этот удар не даст успеха, то значит, кончилось все и война проиграна!
Высказав это столь резкое и опасное мнение, Клюге смолк, видимо, досадуя на себя за горячность.
— Я также решил приостановить наступление на сутки, — стараясь успокоить старика, мягко сказал Манштейн, — и также сосредоточиваю свои главные силы на узком фронте. И утром одиннадцатого наношу последний, сокрушающий удар.
— Совершенно правильно, — воскликнул Клюге, — другого выхода нет. Только решительный удар всеми силами спасет положение. Иначе — катастрофа!..
Глава тридцать седьмая
До неузнаваемости худой, землисто-бледный от переутомления Савельев сутуло горбился над картой, изредка поднимая на Бочарова лихорадочно блестевшие глаза.
— Одиннадцатый час, а на фронте тишь да гладь, — с натугой проговорил он, устало протягивая руку к зазвонившему телефону. — Полковник Савельев слушает. Так. Ясно. А что в первой танковой? Атаки мелкими группами. Ясно. Вот и новое донесение, — положив трубку, сказал он Бочарову, — везде одно и то же: атаки на отдельных участках двумя, тремя танками и одним-двумя взводами пехоты. Это, собственно, не атаки, а разведпоиски. И это продолжается уже четырнадцать часов, со вчерашнего вечера. Пять суток день и ночь сотнями танков ломились и вдруг булавочные уколы по два-три танка. Что это: отказ от прорыва на Курск или передышка для подготовки новых ударов?
— А где командующий и член Военного совета, — думая о том же, что и Савельев, спросил Бочаров.
— Ватутин на рассвете к Катукову уехал, а Никита Сергеевич еще ночью был в дивизиях шестой гвардейской армии и сейчас там. Так что же это, как ты думаешь?.. — продолжал прерванные раздумья Савельев.
— Да черт его знает, — недоуменно пожал плечами Бочаров, — если судить по тому, что доносят штабы о потерях противника, то можно подумать, что немецкая ударная группировка выдохлась.
— А-а, — пренебрежительно отмахнулся Савельев, — ты что, не знаешь, как в горячке боя потери противника определяют? Кто там считает, что и где уничтожено. Помнишь, как Суворов говорил об этом: «Пиши больше, чего их жалеть, супостатов».
— Но потери противника все же значительны, — возразил Бочаров.
— Несомненно, — согласился Савельев, — особенно в танках. Это и пленные и аэрофотосъемки показывают. Но мне кажется, что силенки у противника есть еще — и немалые. Но почему он не наступает, вот вопрос. Ведь всякому ясно, что каждый час задержки его наступления мы используем для усиления нашей обороны.
— Сила наступления в стремительности и непрерывности. Это абсолютный закон, — подтвердил Бочаров. — Но почти во всяком наступлении, если силы обороны не сломлены, неизбежны паузы. Войска нужно перегруппировать и привести в порядок, тылы подтянуть, резервы, а часто, в силу сложившихся обстоятельств, изменить направление удара.
— Узнаю пунктуального воспитанника академии, отличника Андрея Бочарова, — сияя повеселевшими глазами, звонко рассмеялся Савельев, — целую лекцию закатил. Ты мне вот что скажи, дорогой товарищ академик, что в мозгах у этого самого Фрица Манштейна и почему он теряет больше полусуток столь неоценимого для него времени?
— Могу ответить совершенно точно: Фриц Эрих фон Манштейн, если именовать его по приемному отцу, а по родному — фон Левинский — сидит сейчас и ломает голову, что замышляет против него Юрка Савельев и Андрюшка Бочаров, — шуткой на шутку отпарировал Бочаров.
— Ну, тогда я ему не завидую. Несчастный он человек. Да, — вновь нахмурился Савельев, — смешки смешками, а положение-то как в ночку темную.
Положение действительно было неясное. Пять суток, непрерывно атакуя днем и ночью, мощнейшая группировка немецко-фашистских войск исступленно рвалась от Белгорода к Курску. Ценою огромных усилий и жертв она клином около сорока километров в основании и вершине, с центром движения вдоль автомагистрали Симферополь — Москва врезалась в расположение советских войск и в конце пятых суток вдруг остановилась и продолжала стоять всю ночь и уже половину дня. Никакие виды разведки не давали определенных данных о замыслах и намерениях противника. Правда, воздушная разведка доносила о непрерывном движении немецких войск и техники на всем пространстве вбитого в советскую оборону клина и на тыловых подступах к нему. Но так было и во все прошлые дни и представлялось вполне естественным при столь огромном сосредоточении войск на сравнительно небольшой территории. К тому же стояла жаркая погода, земля высохла и даже единственный автомобиль, а тем более танк, пройдя по грунтовой дороге, поднимал и тянул за собой такие хвосты пыли, которые с воздуха можно было принять за движение длиннейшей колонны.
Подобное положение десятого июля создалось не только между Курском и Белгородом, в полосе Воронежского фронта, но и севернее Курска, где против Центрального фронта со стороны Орла наступала вторая мощная группировка немецко-фашистских войск. Там с утра десятого июля так же наступило сравнительное затишье и продолжали атаковывать лишь мелкие группы немецких танков и пехоты.
Все это не могло быть случайным, но и не говорило ни о чем определенном. Можно было ожидать самые различные варианты действий немецко-фашистских войск.
Дружески переругиваясь и обмениваясь колкостями, Бочаров и Савельев один за другим обсуждали эти варианты, но и ни к каким определенным выводам придти не могли.
В тринадцать часов поступило первое тревожное донесение: до сотни фашистских танков с пехотой бросились в атаку вдоль автомагистрали. Через несколько минут стало известно, что противник возобновил наступление северо-восточнее Белгорода. Это было второстепенное направление, где за пять суток боев немцам удалось всего лишь форсировать Северный Донец и создать на его левом берегу, непосредственно у Белгорода, небольшой плацдарм.
— Все ясно, — воскликнул Савельев, прочитав последнее донесение. — Подтягивают резервы, тылы и готовятся к продолжению наступления на прежних направлениях.
— Похоже, — согласился Бочаров и поспешно встал, увидев входившего в комнату Хрущева в бархатистом от пыли комбинезоне и в такой же насквозь пропыленной полевой фуражке.
— Что нового? — пожав руки полковникам, спросил Хрущев и подошел к расстеленной на столе оперативной карте.
— В двенадцать тридцать противник возобновил наступление вдоль автомагистрали и северо-восточнее Белгорода, — неторопливо, отчетливо выговаривая каждое слово, доложил Савельев. — На главном направлении в атаке участвует до ста танков, у Белгорода силы атакующих пока не установлены, но, очевидно, действуют все те же три танковые и две пехотные дивизии.
— Вчера на автомагистрали противник имел ограниченные успехи, позавчера — ограниченные, а сегодня передохнул и снова решил попытаться атаковать, — вполголоса проговорил Хрущев, водя карандашом по карте, — логично это, товарищ Савельев, или нелогично?
— И логично, и нелогично, — потупясь под пристальным взглядом Хрущева, уклончиво ответил Савельев.
— А как вы думаете, товарищ полковник? — стремительно взглянул Хрущев на Бочарова.
— С точки зрения упрямства логично, а если рассуждать здраво, то… — стараясь и не обидеть Савельева и высказать то, что думал, замялся Бочаров.
— То это значит лезть на рожон, — договорил Хрущев и, опять взглянув на густо покрасневшего Савельева, спросил Бочарова:
— Как вы думаете: верна пословица, что если налетчик не прорвался в дверь, то он будет лезть в окно?
— Да, вообще-то, конечно. Не прошел прямо — иди в обход.
— Вот именно, именно, — морща широкий лоб, задумчиво проговорил Хрущев. — Умный генерал Манштейн, а прет напролом. Или Гитлер давит немилосердно, или что-то ещё. Дверь-то на этот раз наглухо закрыта. А Манштейн не ищет окна.
— Разрешите, товарищ генерал, — робко спросил Савельев, услышав гудок телефона.
— Пожалуйста, — разрешил Хрущев, склоняясь над картой.
Бочаров, не отрываясь, смотрел, как карандаш Хрущева медленно, с короткими задержками, полз вдоль линии фронта от коричневой ленты магистрали на запад, потом назад к магистрали, на восток, к Прохоровке и дальше, вниз к Белгороду.
— Что? — отрывисто спросил Хрущев Савельева.
— До пятидесяти танков с пехотой атаковали в районе «Красный Октябрь».
— Это под Прохоровкой? — с явной заинтересованностью спросил Хрущев.
— Так точно!
— А может это и есть окно? — вновь склонясь над картой, проговорил Хрущев, и в его негромком, усталом голосе Бочаров уловил удивительно радостные нотки. В первый момент он не понял их значения, но, глядя, как острие карандаша Хрущева все ходит и ходит около Прохоровки, Бочаров замер. Это же было то самое, о чем они спорили и что искали с Савельевым. Это был ответ на мучительный вопрос о замыслах противника.
— А что перед Орловским плацдармом? Есть какие-нибудь новости? — оторвался от карты Хрущев.
— Сведения самые общие, — потупясь, проговорил Савельев, — ударные группировки и Западного и Брянского фронтов к наступлению готовы. Но точно, когда и какие силы будут наступать, мы не знаем.
— Как же так? — нахмурился Хрущев. — В штабе Брянского фронта есть наш представитель. Что же он там делает?
— Вчера под вечер вылетел на У-2 к нам с докладом, но…
— И самолет был сбит?
— Нет. Пилот ушел от «Мессершмидта». — Приземлился восточнее Курска. Но сам пилот и наш майор Коновалов тяжело ранены и сейчас лежат в госпитале Центрального фронта.
— Вот досада, — с горечью проговорил Хрущев и одобрительно воскликнул, — а пилот молодец! На тихоходном «кукурузнике» ушел от скоростного истребителя! Молодец! Надо послать кого-то потолковее в штабы Брянского и Западного фронтов. Все выяснить, уточнить и подробно доложить. Обязательно побывать в третьей, шестьдесят третьей и одиннадцатой гвардейской армиях. Это ударные группировки, и от их действий многое зависит.
— Ясно, Никита Сергеевич.
— А не могли бы вы слетать, Андрей Николаевич? — обратился Хрущев к Бочарову.
— С удовольствием, Никита Сергеевич, — горячо отозвался Бочаров, — это и важно и очень интересно.
— Вот и добре. Я поговорю с Решетниковым А сейчас пойду умоюсь, до костей пропылился, — улыбаясь, сказал Хрущев и, уходя, добавил:
— Внимательно следите за обстановкой, товарищ Савельев, особенно на Прохоровском направлении.
* * *
В штабе 63-й армии Брянского фронта, куда под вечер 10 июля прилетел Андрей Бочаров, было тихо и безлюдно. Все командование армии еще на рассвете выехало в войска, и самым большим начальником в штабе, как сказал Бочарову оперативный дежурный, оставался заместитель начальника оперативного отдела подполковник Гавриков.
«Не тот ли Гавриков, что в академии учился? — подумал Бочаров, торопливо шагая к землянке командарма, где безвыходно дежурил подполковник. — Едва ли. Он же увлекался журналистикой и собирался изменить военной профессии».
Но сомнения Бочарова оказались ошибочны. Заместитель начальника оперативного отдела оказался тем самым Гавриковым, который поступил в академию имени Фрунзе в год выпуска Бочарова и был известен своими статьями и очерками в военных газетах и журналах. Он сидел за обширным столом командующего над ворохом бумаг и хрипло, с явным недовольством в голосе с кем-то говорил по телефону.
— Подождите минуточку, — едва взглянув на Бочарова, торопливо бросил он и продолжал телефонный разговор. — Постойте, постойте. Да не спешите. Вот так… Теперь ясно. Сколько машин пришло? Девятнадцать. А где остальные? Так что у вас саперов нет мостик восстановить? Давно бы и послали. Подождите, звонит второй телефон.
Он схватил изящную белую трубку второго телефона и, старательно прижимая ее к уху, мягко, с заметным волнением ответил:
— Подполковник Гавриков. Так точно. Командующий и начальник штаба в дивизиях. Так точно! Все готово, ждем сигнала. Есть! Как приедет, доложу.
Он положил белую трубку, что-то быстро записал в тетрадь и вновь строго и сердито заговорил по первому телефону.
— Бросьте кивать на обстоятельства! Никаких оправданий! К вечеру все должно быть на месте. Не к утру, повторяю, не к утру, а к вечеру…
Слушая Гаврикова, Бочаров и узнавал и не узнавал того совсем молоденького старшего лейтенанта с цепкими, изучающими глазами и, видимо, врожденной привычкой о всем дотошливо расспрашивать, изводя собеседника бесконечным множеством самых неожиданных вопросов. Он заметно раздался в плечах, погрубел лицом и приобрел ту спокойную уверенность, которую дает служба на ответственных военных должностях.
Окончив разговор, он обернулся к Бочарову, но позвонил третий, видимо, внутренний штабной телефон.
— Никаких отсрочек! — сразу же возвысил он голос. — Повторяю в последний раз: через час все материалы должны быть у меня на столе. Через час и ни минутой позже! Все! — сердито бросил он трубку и взглянул на Бочарова.
— Андрей Николаевич! — вставая, радостно и приветливо заговорил он. — А я вас сразу не узнал. И не много, вроде, лет прошло, но каких, каких лет-то!
— Да и вас узнаешь не сразу, Федор, Федор… — никак не мог вспомнить отчества Бочаров.
— Кузьмич, — подсказал Гавриков и, чему-то мечтательно улыбаясь, проговорил: — Помню очерк о вас писал. Честно признаюсь: восторгался вами и писал с огромным вдохновением. Ну еще бы! — воскликнул он, — отличник учебы в академии, солидный командир и превосходный лыжник. Довольно редкое сочетание даже для армии. Как вы тогда, в Сокольниках, на межакадемических соревнованиях здорово обошли всех!
— Да, было, было, — неожиданно увлекся воспоминаниями и Бочаров, — а мне ваши статьи очень нравились. А сейчас пишете?
— Какой там! — разочарованно махнул рукой Гавриков. — Тут не до журналистики. Вот она, моя писанина, — кивнул он на заваленный бумагами стол, — если собрать все, что за время войны написать пришлось, чуть ли не как у Льва Толстого получится. Десятки томов. Только все это, — вздохнул он, — текучка. Нужное, важное, но не то, к чему душа рвется. Ну, ничего, журналистика от нас не уйдет, после войны займемся. А вы где сейчас, Андрей Николаевич?
— При Воронежском фронте, представителем Ставки.
— При Воронежском? — склоняясь к Бочарову, переспросил Гавриков. — И у вас и на Центральном фронте такое творится, что читаешь информации и в жар бросает. Такую мощь Гитлер бросил. Одновременные атаки нескольких сотен танков. Это же невероятно!
— Да, борьба невиданная, — сказал Бочаров, — и не только по количеству сил, но и по упорству, напряженности, ожесточенности, я бы сказал — ярости.
— Так расскажите, расскажите! — нетерпеливо просил Гавриков.
Слушая Бочарова, он, видимо, по укоренившейся привычке что-то записывал в тетрадь, изредка переспрашивал и все время в раздумье морщил лоб.
— Да, — проговорил он, когда Бочаров смолк, — это превзошло все, что было раньше. И действительно, как сказал Никита Сергеевич, это, видать, последний перевал.
— Несомненно, — подтвердил Бочаров, — Воронежский и Центральный фронты пока преодолевают самые отвесные кручи, а войскам вашего Брянского и Западного фронтов придется начать штурм вершины. Вот за этим я и прилетел, Федор Кузьмич, чтобы узнать, как и когда начнете штурмовать, эту вершину.
— Скоро, — уклончиво отозвался Гавриков, — целое лето готовились и скоро начнем.
— Понимаю, — отгадал Бочаров причину изменения тона Гаврикова и подал ему письмо Ватутина командующим Брянского и Западного фронтов с просьбой подробно ознакомить полковника Бочарова с планами наступления на Орел.
— Да нет, я просто так, — прочитав письмо, смутился Гавриков, — не подумайте, что недоверие.
— Федор Кузьмич, — улыбаясь, остановил его Бочаров, — мы же оперативники, и сейчас головы наши и все, что есть в них, не нам принадлежат, а службе.
— Да, да. Верно, — радуясь, что Бочаров сам развеял возникшую было неловкость, сказал Гавриков, — у нас за что не возьмешься, все тайна, секрет. Такова доля оперативников. Знаете, — вскинул он на полковника улыбающиеся глаза, — я же хоть и липовый журналист, но давно привык записывать разные события и мысли. Еще со школы. А теперь и дневник забросил. Ну что писать, когда даже простенькая поездка в войска — тайна. Приходится больше на память надеяться, а она, говорят, дырявая. Сегодня запомнилось, а завтра вытряслось. Так вот, — развернув обширную карту, строго продолжал он, — план штурма орловской группировки противника состоит в нанесении трех мощных ударов с трех сторон…
Бочаров из рассказов Решетникова знал общий замысел штурма орловского плацдарма. Сейчас же слова Гаврикова развертывали перед ним огромную картину сражения, которое вот-вот развернется вокруг занятого гитлеровцами Орла. Почти два года, окружив Орел и прилегающие к нему районы системой мощных оборонительных сооружений с севера, с востока и с юга, немецко-фашистские войска укрепляли орловский плацдарм, — эту обширную территорию, клином врезавшуюся в расположение советских войск. Отсюда, с этого гигантского овала, гитлеровцы надеялись ударить по прямому пути через Тулу на Москву. Отсюда же они рассчитывали при удачных обстоятельствах развить наступление на восток, на Воронеж и дальше. Здесь же, в центре и в южной части орловского плацдарма, они сосредоточили мощную ударную группировку и всего неделю назад начали наступление на Курск. Долгое время орловский плацдарм воспаленным аппендицитом лихорадил центр советского фронта. Теперь на этот аппендицит были нацелены три острейших ножа. Один с северо-запада от Орла — 11-я гвардейская армия Западного фронта — ударом на город Корачев отсекал все его кровеносные сосуды: дороги и пути, связывавшие орловскую группировку гитлеровцев со своим тылом. Второй нож — 3-я и 63-я армии Брянского фронта — вонзался в самую оконечность аппендицита, нанося удар с востока прямо на Орел. И третий, менее острый нож — 61-я армия Брянского фронта, — парализуя общую систему вражеской обороны, наносил вспомогательный удар на город Волхов. В разгар агонии парализованного, но еще не добитого врага, с юга должен был вступить в дело и четвертый нож — войска Центрального фронта, отражавшие вражеский натиск на Курск.
— Вот так спланирован штурм орловского плацдарма, — резким, отрывистым взмахом руки закончил рассказ Гавриков, — три, а затем и четвертый удары разрежут на части и сомнут всю орловскую группировку противника. Тяжелее всех, пожалуй, достанется нам, 63-й и 3-й армиям, — нахмурясь, сурово продолжил он. — Перед нами сплошная, многотраншейная оборона от переднего края и до самого Орла. Мощнейшие узлы сопротивления на высотах, холмах, в населенных пунктах. Железобетонные колпаки, минные поля, проволочные заграждения. Все это нужно брать штурмом, ударом в лоб. Ни флангов открытых, ни пустых пространств в обороне противника нет. Все-все укреплено и связано между собой.
— Как бы ни было трудно, нужно бить и как можно скорее, — проговорил Бочаров, вспомнив суровое, озабоченное лицо провожавшего его Ватутина и тихий, полный внутреннего напряжения голос сидевшего рядом Хрущева.
«Сил у нас достаточно, чтобы выдержать любой натиск противника, — сказал тогда Хрущев, — но легче бить врага, когда он скован со всех сторон. А сейчас у него руки пока свободны и он все бросил на Курск. Поэтому любые удары на Орел немедленно отзовутся на Курском выступе».
— И будем, будем бить, — с горячностью сказал Гавриков. — У нас же, Андрей Николаевич, у всех, начиная от командующего и до последнего ездового, душа изболелась. Воронежский и Центральный фронты насмерть бьются, а мы стоим. Сил много, все готово и…
Он расправил грудь, исподлобья задорно блеснул разгоревшимися глазами, опустил руку на расстеленную по столу карту и вполголоса проговорил:
— Завтра утром…
— Так утром начало?! — воскликнул Бочаров.
— Пока только отдельными батальонами, по одному от каждой дивизии с целью уточнения системы обороны противника и выхода к его переднему краю. А главное, — помолчав, тихо проговорил Гавриков, — главное послезавтра, утром двенадцатого. Но, — заметив разочарование на лице Бочарова, живее продолжал он, — наступление отдельных батальонов организуется так, что противник наверняка примет их действия за удар главных сил. Вот посмотрите.
Действительно, действия отдельных батальонов были спланированы как настоящее большое наступление. Вместе со стрелками в атаку шли танки, противотанковые орудия, саперы, а их поддерживало множество минометов, гаубиц, пушек, реактивных установок. Как в большом наступлении была организована и поддержка батальонов с воздуха. Еще ночью, накануне атаки батальонов, удары по укреплениям противника наносили тяжелые бомбардировщики, затем вступали в дело пикирующие бомбардировщики, штурмовики и истребители.
Изучая план наступления, Бочаров опять вспомнил слова Хрущева: «Любой удар на Орел немедленно отзовется на Курском выступе». Да, этот удар, а особенно удар главных сил утром двенадцатого июля, решит многое. Если Западный и Брянский фронты будут действовать успешно, то едва ли гитлеровцы рискнут продолжать наступление на Курск, особенно со стороны Орла. Их наступающая на Курск группировка окажется под угрозой ударов по ней с тыла. Если действовать будут удачно, а если неудача, срыв…
Бочаров оборвал свои мысли, стараясь подробнее вникнуть в план наступления и понять, все ли сделано для обеспечения успеха. По разгоревшемуся лицу и отрывистым, взволнованным пояснениям Гаврикова Бочаров понимал, что заместитель начальника оперативного отдела так много вложил своих сил в план наступления, что он стал частицей его собственной жизни.
— Будет очень трудно. Это несомненно. Но мы, кажется, все предусмотрели, все учли. У него мощная оборона, мы обрушим на нее авиацию и артиллерию. То, что от них уцелеет, сомнут танки. Они с самого начала атаки будут вести за собой стрелков. А как только прорвем первую полосу укреплений, в бой будет брошена третья танковая армия генерала Рыбалко. Она тараном прорежет все расположение противника. За ней хлынут стрелковые части.
— Все это правильно, все хорошо, но… — глядя на карту, проговорил Бочаров.
— Реки, которые нужно преодолеть? — опередил его мысли Гавриков. — И это учтено. Готовы переправочные средства, готовы саперы, стрелки, танкисты. С ходу перемахнем все реки и речушки. Три месяца наши войска учились и укрепления штурмовать, и реки форсировать, и в городах драться.
Гавриков говорил с такой непоколебимой уверенностью в успехе наступления, что Бочаров, глядя на него, с улыбкой сказал:
— А у вас заманчивый оптимизм, Федор Кузьмич, позавидовать можно.
— Нет, Андрей Николаевич, возразил подполковник, — это не просто оптимизм, а, видимо, итог всего, что пережито. Может мне так довелось, но с первого дня войны я попадал в такие места, где считали каждый патрончик, а уж про оружие, про людей и говорить нечего. А теперь? — показал он на расчет сил и средств для наступления на Орел, — не пушчонки и танки отдельные, а целые бригады артиллерийские, полки и даже целая армия танков. И не бумажные цифры, а реальность. Я все это своими глазами видел и даже не вытерпел — многое руками пощупал. А у нас еще сил не так много, у наших соседей, у третьей армии и у одиннадцатой гвардейской — больше. Тут даже самый отъявленный скептик в оптимиста переродится.
— А с планом третьей армии вы знакомы?
— Наши армии наступают по общему плану. В принципе все одинаково, только сил у них побольше.
— Так что, может мне не летать в третью армию, а сразу в одиннадцатую, к генералу Баграмяну? — в раздумье проговорил Бочаров.
— Конечно, — поддержал Гавриков, и достал из сейфа светлую папку, — вот копия плана наступления третьей армии. Берите и знакомьтесь. А про одиннадцатую, простите, сам знаю только в общих чертах.
— Да, — согласился Бочаров, — придется у вас переночевать и утром сразу к Баграмяну.
Глава тридцать восьмая
Десятого июля под вечер генерал Федотов получил приказ передать мотострелковой бригаде часть полосы обороны дивизии и, сосредоточив все свои силы на оставшемся участке, не допустить прорыва противника в направлении железнодорожной станции и поселка Прохоровка. Прочитав приказ, он облегченно вздохнул. Произошло именно то, о чем думал он с самого утра. За шесть суток непрерывных боев части дивизии так ослабли, что в двух полках стрелковые подразделения пришлось свести в один батальон. И только один полк Поветкина, получивший пополнение сразу же после выхода из окружения, имел два батальона, да и те по численности немного превышали нормальную роту. Не лучше было и с артиллерией. Выдержать бешеный натиск противника такими силами в прежней полосе обороны дивизии было просто физически невозможно. Теперь же положение менялось. Высшее командование, словно угадав мысли Федотова, облегчило его положение.
Бесконечно длинный, прокаленный немилосердно палившим солнцем июльский день клонился к вечеру, но изнурительная духота не спадала, еще сильнее разморяя и так истомленных людей.
«Ну хоть бы на минутку брызнул дождь», — расстегивая мокрый воротник кителя, подумал Федотов. И вскоре, словно отвечая его мольбе, по болезненно-розовому небу потянулись редкие, явно дождливые облака.
«Что же еще загадать? — шутливо подумал Федотов. — Может время наступило особенное — что ни захочешь, то сбудется».
— Вот хотя бы полк противотанковый на усиление, да минеров с минами пусть две или даже одну роту прислали, — вздохнув, вполголоса проговорил он. И опять, как по волшебству, мольба его еще засветло исполнилась. Прямо из фронтового резерва в его распоряжение прибыл не полк, а целая противотанковая артиллерийская бригада, еще свеженькая, только что вернувшаяся с формирования, а вслед за ней командующий армией прислал минно-заградительный инженерный батальон.
Едва успел Федотов поставить задачи артиллеристам и саперам, как позади его наблюдательного пункта зашумел мотор тяжелого автомобиля и минуты через две в окоп ввалился громадный человечище в авиационном шлеме.
— Разрешите, товарищ генерал, — гулко пробасил он и, не ожидая ответа Федотова, представился:
— Полковник Столбов, заместитель командира авиационного корпуса. Прибыл к вам по приказу командующего воздушной армией для авиационного обеспечения вашей дивизии.
— Очень рад, очень рад, — снизу вверх глядя на авиатора, долго тряс его руку Федотов. — Располагайтесь, пожалуйста, присаживайтесь, может чайку хотите, мне только что принесли. Поостыл, правда, но вкусный.
— Спасибо, — прогудел полковник, — чаем особенно не увлекаюсь, больше предпочитаю водичку ключевую, да посущественнее чего-нибудь, вроде порционной белоголовки или коньячку хотя бы моих звездочек, что на погонах.
— Последнего нет, а порционная всегда найдется, — совершенно серьезно ответил необычайно раздобревший Федотов.
— Спасибо, спасибо. В жару не переношу, при холодах употребляю только. Мне бы, товарищ генерал, свою машину с радиостанцией где-то поблизости поставить надо, чтобы с вами рядом быть и авиацией управлять.
— Эх, черт возьми, — сожалеюще проговорил Федотов, — местность-то здесь неподходящая: равнина, как стол, вокруг — ни овражка, ни балочки.
— Ничего, — добродушно успокоил авиатор. — В приволжских степях не слаще было. Мне бы в помощь радистам саперов с десяток или на крайность пехотинцев, одним словом, руки рабочие с большими лопатами. К утру так зароем мою халабуду, только антенна будет торчать.
Пока авиатор распоряжался устройством котлована для машины с рацией, случилось еще одно радостное для Федотова событие. Всегда медлительный и меланхоличный, а теперь возбужденный и суетливый шифровальщик принес приказ Военного совета фронта. В нем отмечались героические действия дивизии в минувших боях, объявлялась благодарность всему личному составу и выражалась уверенность, что воины дивизии и впредь будут доблестно выполнять свой священный долг и успешно громить противника в любых условиях.
— Сейчас же передайте в полки: к утру довести приказ до всего личного состава, — почувствовав вдруг странную слабость, сказал Федотов, возвращая шифровку.
— Слушаюсь! — лихо выпалил шифровальщик и опрометью выскочил из окопа.
Федотов устало закрыл глаза, с минуту посидел в безвольном оцепенении и, встряхнув головой, несколько раз вполголоса повторил:
— Бить противника в любых условиях, в любых условиях!..
— Вот и порядок, — возвратясь, пробасил авиатор, — котлован рою вовсю и начальству доложил, что прибыл и начал свою работу. Только трудновато работать придется, — взглянул он на потемневшее небо, — облачность все разрастается, а там вдали и молния, вроде, поблескивает.
— Дождь, дождь нужен, хоть воздух освежит немного, — возбужденно сказал Федотов, все еще никак не успокоясь от приказа Военного совета фронта.
— Дождь, конечно, это благодать, — согласился Столбов, — только пусть уж сразу выльет все и — конец! Нам чистое небо нужно. Завтра, товарищ генерал, — склонясь к Федотову, понизил он голос, — будут брошены в бой две воздушные армии: нашего Воронежского и соседнего Юго-Западного фронтов. А это не одна сотня штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей. По первое число накостыляем фрицам. И еще, — совсем шепотом продолжал он, — мне приказано сообщить только для вашего личного сведения: с утра двенадцатого намечается переход войск нашего фронта в решительное контрнаступление. Капут фрицам делать будем, как говорит один мой друг армянин. В тылах столько войск свежих подтянуто — ни пройти, ни проехать.
«Просто невозможно счастливый вечер сегодня, — подумал Федотов, — одна радость за другой. Но каким-то утро будет. Контрнаступление только двенадцатого, а завтра одиннадцатое. Целые сутки продержаться нужно. И не тем, кто главную задачу будет решать в контрнаступлении, сосредоточиваясь где-то в тылах, а нам. Недаром такое усиление дали и даже две воздушных армии в сражение бросают. Видимо сильнейший натиск противника ожидается».
Эти мысли напомнили Федотову шесть бесконечно длинных суток минувших боев, когда его дивизия, первой приняв на себя удар противника, ни на одну минуту не выходила из боя и на его глазах таяла, теряя людей и вооружение. Он знал, что жертвы эти не напрасны. Люди его дивизии в тяжелых условиях огромного превосходства противника сделали много, может даже больше того, что можно было сделать. И все же, вспоминая, какой была дивизия до середины дня четвертого июля и какой стала теперь, всего лишь через шестеро суток, Федотов чувствовал все нараставшее недовольство самим собой и всем, что он сделал, как командир дивизии. Он без малейшего намека на бахвальство мог даже самому себе твердо сказать, что командовал, как нужно, не допустил ни одной грубой ошибки, действовал соответственно сложившейся обстановке. Но уже одно то, что из девяти стрелковых батальонов в дивизии осталось всего четыре, да и те половинного состава, вызывало у него жестокое самоосуждение и тревожные мысли о том, что будет завтра.
К счастью, прибывший к нему авиатор был настроен весьма оптимистически, своим гулким басом разгонял мрачное настроение Федотова.
— Только бы рассеялась облачность, — с железной убежденностью говорил он, — тогда вы можете быть спокойны. Штурмовики наши задавят фрицевские танки и пехоту, бомбардировщики скуют артиллерию и резервы, истребители — уж будьте уверены, до переднего края «юнкерсов» не допустят. Представьте только — две воздушные армии, да еще какие!..
Но облачность, как и настроение Федотова, то сгущалась, сплошь закрывая небо, то раздвигалась, освобождая мерцающие россыпи звезд. К середине ночи небо почти совсем очистилось, предвещая погожий день, но через полчаса на юге потемнело, и фосфорически блеснули первые молнии. Тяжелый, не отстоявшийся после знойного дня воздух повлажнел, сразу повеяло блаженной прохладой и весело зашумел над землей игривый ветерок.
На всем фронте, сколько видел из своего окопа Федотов, словно по единой команде все стихло. Сплошь рассекаемая молниями сизо-черная туча надвигалась все ближе и ближе. Один за другим пронеслись порывы свежего ласкающего воздуха, потом вихрем взметнулась удушливая пыль и сопровождаемый раскатом грома хлынул ливень. Авиатор, завернувшись в плащ-палатку, скорчился в углу окопа; Федотов же, прикрыв лишь спину и плечи, без фуражки стоял во весь рост, забыв обо всем и чувствуя только давно не испытываемое блаженство. Крупные капли стучали по плечам мягко, словно ласкаясь, стекали по лицу и шее, освежающими струйками вползали на грудь и спину. Задыхаясь, мелко вздрагивая, Федотов чувствовал, как молодеет, сбрасывая тяжесть, все тело, как, словно вымываемые дождем, исчезают тревога и недовольство, как все легче и просторнее становится на душе.
Но, отстучав, ливень вскоре с шумом откатился на север, вновь на свежем небе заискрились звезды, впереди, где рассыпались окопы стрелковых подразделений, глухо застучал пулемет и одна за другой взметнулись осветительные ракеты.
— Вы же вымокли, товарищ генерал, — осуждающе пробасил авиатор.
— Ничего, — все еще переживая нежданное блаженство, воскликнул Федотов, — я теперь как новый стал.
Он подошел к телефону и начал одного за другим вызывать командиров полков.
* * *
Только перед рассветом Федотов, закончив все дела, решил хоть немного поспать. Он оставил на НП начальника оперативного отделения штаба дивизии, а сам ушел в блиндаж, где уже давно могуче храпел полковник Столбов. В блиндаже было душно, и Федотов, взяв шинель, прилег в узенькую щель рядом с НП. Небо так же, как и вечером, то заслоняли, то открывали перистые облака. Звезды все еще ярко сияли, но едва уловимая синь на востоке уже выдавала близость утра.
«Спать, спать, — закрывая глаза, приказал самому себе Федотов, — денек, кажется, нелегким будет».
Он с минуту лежал, стараясь ни о чем не думать, но мысли опять невольно потекли, возвращая его к тому, что он только что делал. Все три полка, вернее четыре неполных батальона, стояли рядом, занимая гладкую, как доска, равнину с вытоптанной крупноколосой рожью.
Справа к западу тянулась такая же равнина, спускавшаяся к сплошь покрытому деревеньками берегу реки Псел. Слева местность была еще ровнее, на ней темнели всего лишь два населенных пункта — совхоз «Комсомолец», позавчера захваченный противником, и совхоз «Октябрьский», отстоявший в трех километрах от нашего переднего края. Равнина тянулась и дальше на восток, где даже в самое светлое время с трудом просматривались лесные посадки вдоль железной дороги между станциями Беленихино и Прохоровка.
Все это отчетливо рисовалось в памяти генерала. Особенно ясно видел он свою дивизию, занимавшую частицу этой, словно специально проутюженной равнины на подступах к Прохоровке между железной дорогой Белгород — Курск и рекой Псел. Дивизии нужно было оборонять всего лишь около трех километров фронта, но Федотов предчувствовал, что эти три километра удерживать будет намного труднее, чем те шесть километров, что занимала дивизия до четвертого июля. Он пытался объяснить себе, чем вызвано это предчувствие, и не мог. С точки зрения арифметических подсчетов оборона его дивизии была значительно прочнее, чем тогда, до четвертого июля. Больше был он уверен и в своих людях, выдержавших целую неделю столь ожесточенных боев. Ничего особенно примечательного не было и в противнике. Как и тогда, он точно не знал и не мог знать, сколько танков и пехоты бросится в атаку и когда начнется эта атака. Но тогда у него отчетливо рисовались возможные варианты действий противника и так же отчетливо складывались все наиболее лучшие и целесообразные варианты ответных действий. Теперь же, сколько он не раздумывал, даже приблизительного представления, что и как будет происходить после начала вражеского наступления, никак не складывалось. Он пытался успокоить себя тем, что в ходе боев и сражений никогда нельзя точно предугадать, что будет, и основные решения принимаются не по заранее обдуманным вариантам, а по той конкретной обстановке, которую создадут развернувшиеся события. Это было верно, это он знал хорошо сам и этому учил своих подчиненных. Но успокоение не приходило. Все нежнее и прозрачнее голубело в вышине, все бледнее мерцали звезды, все ощутимее сгущалась утренняя прохлада, а Федотов никак не мог заснуть, напрягая все силы, чтобы не думать, и все же думая о предстоящем бое. Наконец, он не выдержал, отбросил шинель и встал.
Освеженная ливнем земля беспечно дышала легким испарением. Розовые отсветы огромным веером охватили половину неба, нежно окрашивая края редких облаков. Густая белая гряда волнистого тумана обозначала извилистую долину реки Псел. И на юге, в расположении противника, и на равнине, занятой нашими войсками, было тихо и безлюдно.
Узнав от начальника оперативного отделения, что в полках ничего особенного не случилось, а о противнике новых сведений нет, Федотов отправил его спать и на НП остался сам. Дремавший в углу окопа телефонист при виде генерала ободрился и вполголоса начал проверять связь. Из соседнего окопа вышел командующий артиллерией и, доложив Федотову, что вся артиллерия находится в полной боевой готовности, заговорил было о погоде, о предстоящем дне, но Федотов мягко прервал его и посоветовал также отдохнуть. Ему сейчас почему-то хотелось быть одному и ни с кем не разговаривать. Но в окоп пришел, сладко позевывая, шумный авиатор и сообщил, что восточнее Белгорода противник уже начал наступление.
— Слышите, — показал он рукой в сторону железной дороги, — гудит канонада.
Действительно, с юго-востока, где был Белгород, доносился едва уловимый гул.
— Товарищ генерал, «воздух» передают, — округлив заспанные глаза, испуганно доложил телефонист.
— Вот и у нас начинается, — совсем спокойно проговорил авиатор. — Разрешите, товарищ генерал, выносной телефон в вашем окопе поставить, отсюда буду управлять авиацией.
Федотов не любил многолюдия на своем НП, но представитель авиации был в этот день, как ему казалось, особенно необходим, и он разрешил Столбову занять часть своего окопа.
Сигнал воздушной тревоги на этот раз оказался ложным. Группа фашистских бомбардировщиков, как уточнил Столбов, пошла не к Прохоровке, а вдоль автомагистрали, устремляясь на обороняющиеся там танковые части Катукова.
«Восточнее Белгорода наступает, бросает авиацию на автомагистраль, где все эти дни продолжались решающие бои, а под Прохоровной тихо, — что это: случайность или преднамеренные действия, чтобы отвлечь внимание нашего командования от прохоровского направления?»
Федотов не успел ответить на этот вопрос, как позвонил сам командующий армией и предупредил об усилении бдительности.
— Не обольщайтесь тишиной, — сказал командующий, — есть все основания предполагать, что главный удар противник нанесет именно на прохоровском направлении. Так что будьте начеку и — никаких иллюзий!
«Не спит начальство, тревожится» — подумал Федотов, забыв, что и сам от раздумий и беспокойства не мог уснуть.
Он всегда старался как можно реже отвлекать своих подчиненных телефонными разговорами и звонил им только в случае крайней необходимости. Теперь такой необходимости не было, но он все же взялся за телефон. Все командиры полков были на своих местах. Он так же, как и его командующий, предупредил их об усилении бдительности и сказал, что главный удар противника ожидается на прохоровском направлении.
Шел уже девятый час утра, а противник никаких признаков подготовки к наступлению не проявлял Получая сведения по авиационной радиосети, Столбов докладывал, что восточнее Белгорода идут тяжелые бои, а на автомагистрали усиленно действуют фашистские бомбардировщики.
— Только главные силы нашей авиации еще не брошены в дело, — радостно добавил он, — сам Красовский предупредил, чтобы я был наготове принять руководство воздушными боями.
— Пока еще в воздухе чисто, давайте позавтракаем, — предложил Федотов, увидев своего ординарца с котелками.
— С превеликим удовольствием, — радостно согласился авиатор и, сдвинув вдруг широченные брови, скороговоркой добавил, — кажется, и позавтракать не успеем и обедать не придется. — «Орел», «Орел». Я — «Чайка два», — поспешно схватив шлемофон, встревоженно заговорил он, — прошу подготовить группу номер один, прошу подготовить группу номер один.
Только пристально посмотрев на юг, Федотов понял причину внезапной тревоги авиатора. Там, в разрывах между облаками, едва заметно темнели крохотные, все увеличивающиеся точки. Оттуда же доносился нараставший гул моторов.
Столбов, неотрывно глядя в небо, вызывал то «орла», то «метеора», то «комету», говорил то умоляюще, упрашивая, то крича и ругаясь, обвиняя кого-то в медлительности, нерасторопности, в позорном неумении действовать решительно и быстро. По его разговорам Федотов понимал, что сейчас на наших аэродромах готовились к взлету и уже взлетели звенья, эскадрильи, полки, а может быть и целые дивизии истребителей, но все это было еще где-то там, а здесь фашистские бомбардировщики уже подходили к линии фронта и по ним уже начала бить наша зенитная артиллерия.
— Да где же, где ваши истребители, — не выдержав, закричал Федотов, когда из-за облаков вывалились штук пятьдесят «юнкерсов» и с ревом устремились вниз.
— Вижу вас, вижу, — кричал Столбов. — Заходи от солнца, заходи от солнца. Правее, правее к западу. Правильно! Атакуй!
Федотов напряженно смотрел и нигде не видел тех истребителей, которыми командовал Столбов. Только когда один за другим задымило четыре фашистских бомбардировщика, он заметил крохотные фигурки юрких ястребков, стремительно нырявших то в облака, то из облаков.
«Орел», «Орел», я — «Чайка два», я — «Чайка два!» — все так же настойчиво кричал Столбов. — Поднимите вторую группу, поднимите вторую группу. Да скорее, скорее же!
В воздухе стало невообразимо тесно от звуков. За облаками, в облаках, ниже облаков отчаянно взвывали моторы, трещали авиационные пулеметы, резко татакали пушки. А на земле с юга, от совхоза «Комсомолец», к северо-востоку, на совхоз «Октябрьский» и дальше на Прохоровку широченной полосой полыхали взрывы. Совхоз «Октябрьский» потонул в сплошном дыму. Часть полосы взрывов, как видел Федотов, захватила и его дивизию.
— Опять Поветкину жарче всех, — проговорил Федотов, глядя на все нарастающие взрывы.
— «Орел», «Орел». Я — «Чайка два», я — «Чайка два»! — все отчаяннее и жестче кричал Столбов. — Поднимите третью группу, поднимите третью группу.
Рев и треск в воздухе достигли, казалось, предела. Уже в разных местах, врезавшись в землю, догорали сбитые самолеты. Истребители, бомбардировщики переплелись в сплошном мелькании с трудом уловимых теней. Но взрывов на земле заметно уменьшилось. Дым над совхозом «Октябрьский» рассеялся, и открылось сплошное бушующее пламя. Там, видимо, не оставалось больше ни одного уцелевшего здания.
И сразу же, как только заметно стихли взрывы бомб, ударила фашистская артиллерия.
— Огонь гаубицами и тяжелыми пушками, — приказал Федотов своему командующему артиллерией, сразу поняв, что с этого момента начались главные события на земле. Он поспешно взглянул на часы. Было ровно половина десятого.
От совхоза «Комсомолец» донесся рёв танковых моторов. Взревели танки и в других местах. Сквозь клочья дыма Федотов увидел мелькавшие фашистские танки перед полками Поветкина и Аленичева.
— Заградогонь перед Поветкиным и Аленичевым, — приказал он командующему артиллерией.
Сразу же ударившие гаубицы и тяжелые пушки накрыли взрывами атакующие танки. По всему фронту били противотанковые пушки и минометы, взахлеб трещали пулеметы, кое-где слышалось приглушенное аханье гранат.
Федотов, отбросив бинокль, смотрел на разгоравшуюся битву и по едва уловимым, только ему понятным, признакам видел, что в его полках пока все благополучно и противнику нигде не удалось достичь успеха.
— Бросаем штурмовиков, — прокричал Столбов, — сейчас ударят перед всем фронтом.
— Давай, давай, — радостно ответил Федотов, — и по огневым позициям артиллерии, обязательно по огневым позициям!
Столбов в ответ только утвердительно закивал головой, продолжая говорить со своими «метеорами», «чайками», «кометами».
Вскоре парами, четверками, шестерками из-за облаков вывалились советские штурмовики и с ревом, бомбя и поливая противника пулеметно-пушечным огнем, пронеслись перед самой линией фронта. Под ними вспыхнуло несколько костров и гул боя заметно стих.
— Начинай второй заход, — командовал по радио Столбов, — бей по огневым позициям артиллерии. Видишь огневые позиции? Так бей, бей насмерть!
Второй, а потом и третий раз прочесали штурмовики вражеское расположение и, ушли на север.
— Кажется, малость угомонили, а, товарищ генерал? — вытирая бурое, разгоряченное лицо, сказал Столбов и попросил у телефониста флягу с водой. Отпив всего несколько глотков, он отстранил флягу и опять схватил шлемофон.
— Вас, товарищ генерал, — подал телефонист трубку Федотову.
— Докладывает Поветкин, — хрипло затрещала мембрана. — Атака противника отбита. Перед полком горят одиннадцать фашистских танков. Погиб командир первого батальона. В других подразделениях потери незначительные. Разрешите на первый батальон назначить Черноярова.
— Черноярова? — переспросил Федотов.
— Так точно! — ответил Поветкин. — В боях он действовал исключительно героически и смело. Я очень прошу, товарищ генерал.
— Согласен. Назначайте, — вспомнив все, что докладывал ему Поветкин о Черноярове, согласился Федотов. — Передайте ему, что я надеюсь на него.
«Справится, несомненно справится, — закончив разговор, думал он о Черноярове… — Урок для него был весьма серьезный. И хорошо, что о его назначении попросил сам Поветкин».
* * *
Когда первая атака фашистских танков была отбита и на застланном дымом поле перед позициями остались только жирно полыхавшие костры, Бондарь приподнялся из окопа и, разминая затекшие ноги, прошел в соседний окоп. Там, у замаскированного полынью пулемета, сидел Дробышев с двумя своими пулеметчиками — Гаркушей и Тамаевым. Между ними стоял котелок, и они все трое, поочередно работая ложками, ели кашу.
Увидев Бондаря, они хотели было встать, но он движением руки остановил их и, обращаясь к Дробышеву, спросил:
— Как у вас, все в порядке?
— Так точно, — с готовностью ответил Дробышев и, видимо, считая, что сказанного недостаточно, добавил:
— Все люди на местах, раненых и убитых нет, пулеметы целы.
— Товарищ майор, вас командир полка к телефону, — догнав Бондаря, просипел к удивлению всех простудившийся в такую жару телефонист.
Бондарь всегда, бросая все, стремглав бежал на вызовы командира полка, но сейчас ему не хотелось уходить от пулеметчиков и он неторопливо пошел в свой окоп.
Поветкин расспросил о положении в батальоне, о противнике, посоветовал сменить огневые позиции пулеметов, которые больше других вели огонь и в заключение вдруг мягко, с какой-то неожиданной радостью в голосе спросил:
— Где Чернояров?
— Здесь, недалеко от меня, — ответил Бондарь, недоумевая, чем вызваны изменения в голосе командира полка.
— Пошлите за ним, — сказал Поветкин и уже совсем другим тоном продолжал:
— Чернояров назначен командиром первого батальона. Пулеметной ротой пусть командует Дробышев.
— Командиром первого батальона?! Замечательно! — не выдержав, воскликнул Бондарь.
— Да, это очень хорошо. Как, Дробышев справится?
— Несомненно, — ответил Бондарь и со вздохом добавил, — к тому же пулеметов-то в роте всего четыре.
— Разрешите? — хрипло прогудел над Бондарем бас Черноярова.
— Пожалуйста, Михаил Михайлович, вас командир полка, — подал Бондарь трубку Черноярову.
— Слушаю, — присев на корточки, заговорил Чернояров.
Глядя на его, как и у всех в эти дни, серое с синью под глазами, лицо, Бондарь ожидал, что он смутится или обрадуется своему назначению комбатом, но Чернояров спокойно выслушал Поветкина, своим обычным басом невозмутимо повторяя:
— Ясно. Понимаю. Будет сделано. Так точно. Сейчас же.
Только когда, поговорив с Поветкиным, Чернояров встал, суровые глаза его повлажнели и лицо словно просветлело.
— Поздравляю, Михаил Михайлович, — сжал его руку Бондарь, — от всего сердца.
— Спасибо, Федор Логинович, — дрогнувшим голосом ответил Чернояров, — спасибо за душевное отношение в это… в это… в это горькое для меня время, — нашел он наконец нужные слова. — Я всегда это чувствовал и это… это… Это очень мне помогло.
Он смолк, силясь еще сказать что-то, беззвучно пожевал губами и, вдруг улыбнувшись по-детски искренне и просто, совсем не своим, тоненьким голоском, сказал:
— Как замечательно все! Вот расколотим фрицев, и такой праздник закатим. Правда? Ну, разрешите пойти передать все Дробышеву и — на свое место, — опять твердо и решительно сказал Чернояров.
— Да что передавать, он и так все знает.
— Нет, — возразил Чернояров, — я хочу с пулеметчиками проститься. Мы же столько вместе пережили.
Проводив Черноярова, Бондарь почувствовал удивительную легкость. Он привалился на бруствер окопа и всмотрелся в истоптанное ржаное поле впереди. Уцелевшие пятна высокой, склонившей колосья ржи нежно переливались зеленовато-золотистыми отсветами, резким контрастом выделяясь среди развороченной взрывами опаленной земли. Казалось, сама жизнь неудержимо рвется из этих, чудом уцелевших картин столь милой сердцу простой, самой обыкновенной ржи. Особенно мил и привлекателен был ближний кусок уцелевшего поля, со всех сторон стиснутый черными пятнами воронок. Бондарю хотелось пойти туда, лечь среди стеблей на спину и, вдыхая нежный аромат, бездумно смотреть на плывшие по небу перистые облака. Искушение было так сильно, что Бондарь приподнялся и чуть было не вышел из окопа.
«Что ты, как мальчишка», — сердито одернул он самого себя и весь сжался, услышав нараставший вой снарядов. Долгий опыт войны подсказал ему, что эти снаряды летят не правее, не левее, а именно туда, где сидел он сам. Инстинктивно пригнувшись, он хотел было перебежать в соседний окоп, но над землей пронеслась волна горячего воздуха, и страшный грохот погасил сознание. Он не помнил, сколько продолжалось это небытие, и когда, опомнясь, привстал, впереди, на месте живительной куртины ржи, дымились черные язвы воронок.
— Товарищ майор, — сквозь нестерпимый звон в ушах, услышал он испуганный голос Дробышева, — вас ничего, не задело?
— Вроде, не задело, — ответил Бондарь, глядя на обугленные воронки.
Снаряды и мины рвались все учащеннее и гуще. Бондарь силился рассмотреть позиции своих рот и не мог: совсем рядом ахавшие взрывы заставляли его то и дело нырять в окоп.
— Идут, товарищ майор, — как из-под земли донесся до Бондаря голос стоявшего совсем рядом Дробышева.
Бондарь рывком высунулся из окопа и замер. От совхоза «Комсомолец» широченной стеной с промежутками всего в несколько метров между машинами, на ходу стреляя из пушек и пулеметов, ползли «тигры». Впереди них, расчищая дорогу, клокотала, передвигаясь к совхозу «Октябрьский», сплошная волна огня и дыма. Метрах в двухстах за «тиграми» так же почти сплошной стеной двигались средние танки и позади них мелькали каски пехотинцев в кузовах бронетранспортеров.
«Все раздавят, ничего не уцелеет», — невольно подумал Бондарь, определив, что лавина огня и стальных громадин захватила часть и его батальона. Фланговые «тигры» были так близко, что Бондарь отчетливо видел масляные потеки на их грязных бортах. Стоявшая позади наша противотанковая батарея уже била по крайним «тиграм», но они, словно заколдованные, не снижая скорости, невредимо шли и шли. В первое мгновение Бондарю показалось, что в атаку шли одновременно не десятки, не сотни, а тысячи танков. И в это же мгновение Бондарь почувствовал страшную тяжесть во всем теле и неодолимое желание врасти в землю. Только собрав все силы, он с огромным трудом выпрямился, крикнул Дробышеву «Огонь по бронетранспортерам!» и побежал к артиллеристам.
— Куда вы бьете! — отчаянно закричал он. — Огонь по средним танкам! «Тигров» встретят другие батареи!
Выскочивший из окопчика артиллерийский лейтенант ошалело взглянул на него и метнулся к своим пушкам. Вразнобой все четыре пушки ударили по средним танкам, и сразу же вспыхнули три крайних машины.
— Вот так-то, так, — кричал Бондарь, — бейте по бортам, по гусеницам.
Словно опомнясь от растерянности, пушки били все чаще и ожесточеннее. Застыли на месте еще два танка, и сразу же на батарею обрушился шквал вражеского огня. Бондаря сильно толкнуло в грудь, и, падая, он увидел, как от строя «тигров», отделились четыре машины и с фланга ринулись на батарею. Кто-то из артиллеристов отчаянно закричал и побежал назад.
— Стой! — вскакивая, что было сил, крикнул Бондарь. — Спокойно! Без паники!
Он подбежал к ближнему орудию и, встряхнув за плечо склонившегося за щитом усатого наводчика, показал на подползавших «тигров».
— Бей прямо!
Наводчик стремительно заработал механизмами, а Бондарь бросился ко второму орудию и приказал расчету бить по соседнему танку. Командиры третьего и четвертого орудий, видимо, сами догадались, куда бить, и взяли под обстрел два дальних «тигра».
В грохоте выстрелов и взрывов Бондарь не рассмотрел, как распластав на земле гусеницу, закрутился на месте самый ближний танк. Он заметил только второй, вспыхнувший дымным пламенем, «тигр», и упал, потеряв сознание.
Когда он опомнился, все тело полыхало нестерпимым жаром. Особенно больно жгло левое плечо и правую ногу. Открыв глаза, он увидел искаженное болью лицо склонившегося над ним Дробышева.
— Сейчас, товарищ майор, сейчас, я санитаров вызвал, — побелевшими губами шептал Дробышев.
«Зачем санитаров?..» — с удивлением подумал Бондарь, пытаясь привстать, но острая боль сковала все его тело.
— Командуйте батальоном, — то теряя, то вновь видя лицо Дробышева, шептал он. — Четвертая рота, кажется, вся раздавлена. Пятой и шестой старшины командуют… Вы… Вы только… офицер в батальоне остались.
* * *
Федотов видел, как ринувшаяся из совхоза «Комсомолец» лавина фашистских танков смяла нашу оборону и устремилась к совхозу «Октябрьский».
— Куда направлять штурмовиков, товарищ генерал? Где немцы, где наши? Все перепуталось, — возмущался Столбов.
Положение действительно создалось настолько сложное, что, даже хорошо видя весь район, где прорвались фашистские танки, невозможно было разобраться, что происходит. Перед головными фашистскими танками дрались наши отдельные орудия и группы стрелков. Отдельные орудия и группы стрелков оставались и внутри полосы вражеского прорыва, отчаянно сопротивляясь противнику, наседавшему на них со всех сторон.
— Бросай штурмовиков на тылы прорвавшихся танков. Не допусти ввода в прорыв новых сил противника, — сказал Федотов, убедясь, что ударом по самому району вражеского прорыва можно поразить и свои подразделения, — а я бросаю свою артиллерию на фланг прорыва.
— «Орел», «Орел», я, — «Чайка два», я — «Чайка два», — кивком головы ответив Федотову, заговорил по рации Столбов.
Прорвавшиеся в совхоз «Октябрьский» фашистские танки пока еще стремились к Прохоровке, не пытаясь распространиться в стороны флангов. Этим воспользовался Федотов и на фланг выбросил четыре противотанковых батареи. Грузовики с пушками на прицепе под огнем противника выскочили почти вплотную к фашистским танкам. От столь лихого и смелого броска у Федотова захватило дыхание.
— Молодцы! Молодцы артиллеристы! — проговорил он, глядя, как тут же развернувшиеся пушки почти в упор ударили по фашистским танкам.
В это же время от Прохоровки поднялась широкая полоса пыли и волной устремилась к совхозу «Октябрьский». Вскоре в бинокль Федотов увидел, что пыль вздыблена перешедшими в контратаку советскими танками. У совхоза «Октябрьский» разгорелись встречные танковые бои.
— А где же? Где штурмовики? — спросил Федотов Столбова и тут же смолк. С севера уже неслись, распластав крылья, большие группы «Илов».
Вытирая взмокшее лицо, Федотов облегченно вздохнул. Дальнейшее продвижение фашистских танков к Прохоровке было остановлено. Теперь нужно было только надежно прикрыться от противника, узким клином прорвавшегося из совхоза «Комсомолец» в совхоз «Октябрьский». На помощь развернувшимся противотанковым батареям Федотов бросил две роты противотанковых ружей и все станковые пулеметы, оставшиеся в полку Поветкина.
— Удержались, товарищ генерал, а? — проводив отбомбившихся штурмовиков, радостно воскликнул Столбов.
— Удержались, вроде, — в тон ему ответил Федотов.
— А времени-то, времени, всего двадцать минут второго, — взглянул на часы Столбов, — до темноты-то, ой-е-ей, что может случиться еще. Теперь нужно ждать удара с воздуха. Да вот они, кажется, уже идут, — встревоженно добавил Столбов, хватая шлемофон.
На этот раз фашистские бомбардировщики шли широким фронтом, захватывая всю полосу прохоровской равнины между железной дорогой и рекой Псел. Вражеской авиации было так много, что Федотову показалось будто небо сплошь закрыто самолетами. Не выдержав напряжения, он схватил Столбова за плечи и сильно встряхнул.
— Сейчас, сейчас, — успокоил его Столбов, — всех, что есть поблизости истребителей, бросаем.
Более получаса кипела невообразимая борьба в воздухе. Чудом разбираясь, где свои, где фашистские самолеты, Столбов командовал истребителями, направляя их то на одну, то на другую группу фашистских бомбардировщиков.
Еще не утихли бои в воздухе, как на всем фронте от реки Псел и до железной дороги, фашистские танки и пехота бросились в атаку. Стиснув кулаки, Федотов видел, что происходило перед фронтом и на левом фланге его дивизии, и от ярости скрипел зубами. Сейчас он ничего не мог сделать. Все зависело от выдержки подразделений и частей, схлестнувшихся с противником. Почти целый час нельзя было разобрать, что происходило на фронте.
Чтобы хоть как-то облегчить положение на земле, советские штурмовики и бомбардировщики ударили по вражеским тылам и по путям подхода к фронту. Несмотря на упорство советских истребителей, не прекращала действия и фашистская авиация. Особенно настойчиво бомбила она подступы к Прохоровке и села на берегу реки Псел.
А еще через час Федотов узнал, что противник узким клином прорвался по берегу реки и захватил припсельские села: Козловку, Васильевку, Михайловку. Создалось исключительно сложное положение. Два глубоких вражеских клина — один от совхоза «Комсомолец» до совхоза «Октябрьский» и второй вдоль берегов реки Псел — разъединили оборонявшиеся под Прохоровкой советские войска, поставив их под угрозу окружения.
Федотов отчетливо понимал, что сейчас положение его дивизии, оказавшейся в самой глубине территории, отрезанной прорвавшимся противником, было, как никогда, тяжелым. С двух сторон на нее наседали фашистские танки и пехота. Вражеская артиллерия из совхоза «Октябрьский» и из сел Васильевка и Михайловка насквозь простреливала все тылы и подступы к фронту. Никогда еще Федотову не приходилось испытывать столь отчаянного положения. Все, что было в дивизии, уже находилось в бою. У Федотова не осталось не только резервов, но даже надежной охраны собственного командного пункта, к которому почти вплотную подошли фашистские танки. Он приказал начальнику штаба собрать всех людей и занять круговую оборону. Все штабы полков давно уже дрались вместе с подразделениями. На своих местах оставались только командиры.
— Ну, дружок, надежда только на тебя, — сказал Федотов удивительно спокойному Столбову. — Все, что у меня есть, брошено в бой. Еще один натиск и…
Федотов резко взмахнул рукой и бессильно опустил ее. Столбов сурово нахмурил сросшиеся брови:
— Сила, сила адская прет, черт бы их позабирал на тот свет. Ну, ничего, — взмахнул он кулаком, — мы еще всыпем им горяченького до слез. Сейчас вызываю группы штурмовиков и будем непрерывно, до самой темноты штурмовать и бомбить фрицев. И носа не дадим сунуть дальше тех районов, куда они прорвались.
Раздумывая о дивизии, Федотов видел только один выход из отчаянного положения: вывести части из этого мешка между вражескими клиньями. Он уже приготовился доложить это командиру корпуса, но тот позвонил; сам и приказал начать отход к селу Прелестное, что западнее Прохоровки.
— Хоть бы дождь ливанул, что ли, — закончив разговор с командиром корпуса, воскликнул Федотов.
— Ни боже мой, — сузив красные от напряжения глаза, возмущенно проговорил Столбов, — это же скует авиацию, а без наших штурмовиков и бомбардировщиков вас фрицы, как яичную скорлупу, раздавят.
В другое время Федотов обиделся бы на столь самонадеянное и нелестное для наземных войск заявление, авиатора, но сейчас он понимал, что Столбов был прав.
— Давай, давай штурмовики, — умоляюще сказал он авиатору, — только действуйте непрерывно. Нужно сковать противника и дать нам возможность хоть немного оторваться, выйти из боя.
— Все, как по нотам, разыграем, — воскликнул Столбов, — будьте спокойны, товарищ генерал! Прикажите только обозначить ракетами свой передний край, чтобы нам бить точно и не поразить своих.
Все дальнейшее произошло действительно, как разыгранное по нотам. Одна за другой группы советских бомбардировщиков ударили по тылам и огневым позициям артиллерии гитлеровцев, а «Илы», также одна группа сменяя другую, непрерывной бомбежкой и штурмовкой сковали фашистские танки и пехоту. Под столь мощным прикрытием авиации все советские части к вечеру вышли из мешка между вражескими клиньями и заняли оборону у села Прелестное.
Глава тридцать девятая
Командующий 11-й гвардейской армией Западного фронта генерал-лейтенант Баграмян, прикрыв опухшими веками усталые глаза, терпеливо ждал, когда Бочаров закончит разговор по телефону «ВЧ». Смуглое лицо» его с крохотными усиками казалось совершенно бесстрастным, но едва Бочаров попрощался с Решетниковым, командарм склонился к нему и полным нескрываемой тревоги глухим голосом отрывисто спросил:
— Что?
— Трудно там, — в тон ему, так же глухо и тревожно проговорил Бочаров, — противник отчаянно рвется к Прохоровке с двух сторон: с юго-запада и юго-востока. На юго-западе наши войска отошли километров на шесть, но все же противника остановили. На юго-востоке сложнее. Более двух немецких танковых дивизий узким клином прорвали нашу оборону и угрожают тылам главной группировки Воронежского фронта. Генерал Ватутин для ликвидации прорыва вынужден был бросить в бой часть войск пятой гвардейской танковой армии. А это же главная сила в завтрашнем контрударе.
— Плохо, очень плохо, — сурово нахмурился Баграмян. — Ротмистров пришел кулаком бить, а его раздергивают и туда и сюда.
— И часть армии Жадова уже введена в бой, — добавил Бочаров.
— Совсем плохо, — резко встряхнул крупной наголо обритой головой Баграмян, — не завидую Жадову и Ротмистрову. Положение у них никудышное. Завтра бить надо, каждый солдат дорог, а тут отвлекайся. Неприятная обстановка.
— И все же утром контрудар под Прохоровкой состоится, — желая успокоить генерала, сказал Бочаров, — и контрудар мощный, решительный.
— А был бы еще мощнее. И как это не удержались, а? — осуждающе развел руками Баграмян. — Держались, держались и — пожалуйста, в самый решительный момент не выдержали.
— Это неверно, товарищ генерал, — с обидой проговорил Бочаров.
— Как, то есть, неверно?
— Противник прорвался не потому, что наши войска не выдержали, не смогли устоять.
— А почему же? Может в ловушку его, в капкан заманивали? — насмешливо спросил Баграмян.
— Только потому, что противнику на какой-то момент всего на одном единственном участке удалось создать подавляющее превосходство в силах, — выдержав настойчивый взгляд командарма, по-академически четко сказал Бочаров, — это и решило все. А наши войска дрались героически.
— Эх, полковник, полковник, — шумно вздохнув, задумчиво сказал Баграмян. — Я прекрасно понимаю, что там произошло и не менее прекрасно знаю, что в этом никто не виноват. Война есть война, и если судить командующих и солдат за каждый вражеский прорыв, то и командовать и воевать будет некому. Но тут, тут вот, — гулко постучал он кулаком по своей обширной выпуклой груди, — сосет, дорогой, нудит, как при какой болезни — не могу, никак не могу спокойным быть, когда слышу, что противник опять где-то прорвался. За два года эти прорывы душу, всю душу истерзали.
Выразительное, кавказского типа, лицо Баграмяна нахмурилось, и длинные подвижные пальцы торопливо пробежались по бумагам на столе.
— Ну, ничего, — вскинув брови, весело улыбнулся он, — пошел в горы, обрыва не пугайся. У всякого обрыва хоть какой-нибудь карнизик есть. Зацепиться все равно можно. Только сердце нужно орлиное и нервы стальные. Погоди минутку, — протянул он руку к мелодично зазвонившему телефону, — спешит кто-то, беспокоится.
— Слушаю, — гулко ответил он, прищуренными глазами глядя на крохотную лампочку походной электростанции, мягко озарявшую просторную землянку, — минутку, минутку. Повтори, пожалуйста. Так, так. Понимаю. «Русские перешли в решительное наступление, натолкнулись на нашу сильную оборону и, не сумев прорвать ее, остановились». Понятно. Так и сказано: «В решительное наступление? Остановились?» Очень хорошо!
Окончив телефонный разговор, командарм долго молчал, чему-то весело улыбаясь.
— А мы как раз это самое и ожидали, — в такт словам резко жестикулируя рукой, горячо и взволнованно заговорил он, — понимаешь, полковник, о-жи-да-ли! Тогда еще, два месяца назад, когда планировали вот это сегодняшнее наступление отдельными батальонами, мы с товарищем Соколовским так и рассчитывали: ударим авиацией, дадим мощную артподготовку и — будь здоров, — противник посчитает, что мы бьем не отдельными батальонами, а главными силами. Вот так оно и получилось.
Баграмян вышел из-за стола и зашагал по землянке.
— Перешли в решительное наступление? — Вполголоса говорил он. — Натолкнулись на сильную оборону, а? Вот, пожалуйста, вам, — остановился он напротив Бочарова. — Это мои разведчики перехватили доклад штаба немецкого армейского корпуса своему командованию о сегодняшнем бое.
— Это очень важно, товарищ генерал, — взволнованно проговорил Бочаров, сразу же поняв, какое огромное значение этот факт может оказать на весь ход борьбы на орловском и курском участках фронта, — надо сообщить об этом командованию Воронежского фронта.
— Погоди! Не спеши! Доложишь. Это еще не все, — нетерпеливо остановил его Баграмян и, склонясь к Бочарову, понизил голос:
— Оказывается, удар наших отдельных батальонов так переполошил немецкое командование, что оно не решилось продолжать наступление на Курск со стороны Орла. Не решилось! — воскликнул он, резко взмахивая рукой. — И даже более того: из ударной группировки, что била на Курск, Модель начал выводить целые дивизии и подтягивать их сюда, к участкам наступления 63-й и 3-й армий, к Болхову, против 61-й армии. В Орел маршируют 36-я моторизованная и 292-я пехотная немецкие дивизии, в Болхов идет 12-я танковая дивизия. По всем дорогам с курского направления на север движутся артиллерия, танки, пехота, специальные части.
— Значит, конец наступлению противника на Курск? — жадно ловя каждое слово Баграмяна, спросил Бочаров.
— Пока, может, и не конец, — в раздумье ответил Баграмян и резким, полным радости голосом воскликнул:
— Но утром завтра, когда ринемся на них главными силами, можно сказать, что начнется конец. Да, — помолчав, с напряжением и тревогой продолжил он, — под Курском-то легче станет, а вот у нас… Сюда же, к нам, он тянет эти дивизии из группировки, наступавшей на Курск. Нам с ними драться придется. Ну, ничего, — мгновенно переменил он и тон речи и выражение лица, — главное-то сорвать их наступление на Курск. А это, вроде, уже сделано. Садись-ка, дорогой полковник, пиши шифровку. Надо порадовать и Николая Федоровича Ватутина, и Никиту Сергеевича Хрущева, и всех товарищей под Курском. Пиши, отправим и спать, спать. Нынче были цветочки, а завтра ягодки начнут вызревать.
* * *
Наступила душная, темная, полная тревожного напряжения ночь на 12 июля. Сгущая мрак, с востока поплыли редкие грозовые тучи. Бледная россыпь звезд то исчезала, скрываемая тяжелыми водянистыми облаками, то вновь скупо мерцала, бросая на землю холодные отблески. Между Белгородом и Курском и ночная тьма не приглушила все разгоравшихся боев. Последние сведения, что удалось получить Бочарову от Решетникова, были мало утешительны. Прорвавшиеся северо-восточнее Белгорода немецкие танковые дивизии узким клином продолжали надвигаться на Прохоровку с юга. Вдоль линии железной дороги от Белгорода на Прохоровку под угрозой окружения оказалась большая группа советских войск. Командование Воронежского фронта приняло решение отвести эту группу к Прохоровке.
С каждым часом росла угроза Прохоровке и с запада, где готовились к новому удару немецкие танковые дивизии СС «Адольф Гитлер», «Райх», «Мертвая голова» и «Великая Германия». А из Харькова к Белгороду уже двигались колонны танковой дивизии СС «Викинг» и еще двух немецких танковых дивизий.
Бочаров стоял в узеньком окопе командного пункта 11-й гвардейской армии Западного фронта и тревожно смотрел на юг. Временами ему казалось, что сквозь эти три с лишним сотни километров, что разделяли незаметную высотку на лесистом просторе северо-западнее Орла и охваченную огнем сражения Прохоровку между Курском и Белгородом, он отчетливо слышит противный скрежет танковых гусениц, угрожающий рев моторов и неумолчную пальбу. Когда минутная стрелка на цифре «12» обогнала часовую, Бочаров уловил отдаленный гул моторов. Сняв фуражку, он настороженно прислушался. Сомнений не оставалось: действительно где-то далеко, все усиливаясь, глухо, монотонно гудели моторы.
— Наши, наши пошли! Тяжелые бомбардировщики дальней авиации, — взволнованно проговорил кто-то в соседнем окопе, и Бочаров сам едва удержался от радостного крика.
Да это было начало большого наступления ударных группировок Западного и Брянского фронтов на орловский плацдарм немецко-фашистских войск!
Бочаров выпрыгнул из тесного окопчика, распахнул китель и, не чувствуя ночной сырости, смотрел в темное небо. Гул тяжелых, машин все нарастал, растекался вширь, приближаясь сюда, к северо-восточной оконечности Брянских лесов, где в бесчисленных траншеях и окопах приготовились к броску на врага гвардейцы генерала Баграмяна. Это шли первые вестники решающих событий, которые через несколько часов вихрем разольются северо-западнее, севернее и восточнее Орла, захватывая в свой неудержимый поток сотни тысяч людей и оказывая свое решающее влияние на ход войны не только здесь, в районе Орла, но и под Курском, Белгородом и на многих других участках фронта. Эхо этих событий несомненно прокатится не только по всему советско-германскому фронту, но и неудержимо разольется по всей земле.
«Сообщить, немедленно сообщить в штаб Воронежского фронта, что здесь началось авиационное наступление, — решил Бочаров, — это поможет там, под Прохоровой. Нет, — тут же отверг он свою мысль, — рано, еще рано. Вот разгорится артиллерийское наступление, тогда можно. А пока все это еще тайна».
Первая партия тяжелых бомбардировщиков уже подходила к линии фронта. В расположении противника испуганно взметнулся белесый луч прожектора, скользнул по небу и уткнулся в черное брюхо грозовой тучи. Там, где поднялся луч, разнобойно, не в лад, ударили немецкие зенитки и сразу же обвальный грохот поглотил их лающие хлопки. Закрывая темный горизонт, по земле широкой полосой плеснулись взрывы, мерцающим багрянцем вспыхнуло небо, и опять в разных местах забухали взрывы тяжелых бомб.
А вверху все продолжали неторопливо и ровно гудеть авиационные моторы. К мощным звукам тяжелых, высоко летевших машин присоединились дерзкие стрекотания вездесущих «кукурузников», и взрывы в расположении противника приблизились почти к самому переднему краю.
— Как полковник, ничего? — услышал Бочаров бодрый голос Баграмяна, — это пока еще прелюдия. На рассвете начнем увертюру, а потом уж вступят в дело и наши главные музыканты — стрелки и танкисты. Да, увертюра, — глуше, с заметной тревогой в голосе, продолжал генерал. — А каково музыкантам нашим и главным исполнителям! Пока что зритель помалкивает, а вот начнет аплодировать, да в ответ с земли и с воздуха швыряться…
Баграмян смолк, вслушиваясь в гул самолетов, и подозвал кого-то из офицеров своего штаба.
— Проверьте еще раз, чтобы ни стрелков, ни танкистов пока не беспокоили, — строго сказал он, — пусть отдыхают, им впереди самое трудное.
На востоке едва уловимо начало светлеть. Все яснее и отчетливей вырисовывались низкие холмы, где проходил передний край, скрытая белесым туманом долина реки Жиздры, призрачные очертания дымчатых лесов и рощ. Гул самолетов все усиливался. В мощные перепевы тяжелых бомбардировщиков и беззаботное стрекотанье легкокрылых «У-2» вплелись свистящие, катившиеся сверху вниз раскаты «Петляковых». Частые взрывы бомб почти сплошь покрыли все ближнее расположение противника. Еще минут сорок гудели самолеты. Исчезли звезды, и легкой синевой неуловимо наливалось небо. Можно уже было видеть нырявшие к земле и взмывавшие в поднебесье мощные силуэты пикировщиков.
И почти разом все стихло. Только, удаляясь к северу и к востоку, облегченно гудели моторы самолетов. Зыбкая тишина на несколько минут замерла над фронтом. В расположении противника в разных местах что-то горело. Над Жиздрой еще гуще поднимался туман. В наших траншеях и ходах сообщения изредка мелькали каски, фуражки, пилотки. У орудий и минометов хлопотливо суетились расчеты.
«Сейчас начнется артподготовка», — взглянув на часы, подумал Бочаров и сразу же вздрогнул от обвального грохота, прокатившегося по всему опоясанному лесами и Жиздрой пространству. Он долго не мог понять, откуда и сколько било артиллерии. Казалось, каждый кусок земли вокруг грохотал, извергая в сторону противника пламя и дым.
Баграмян стоял около рогатой стереотрубы и неотрывно смотрел вперед. Смуглое лицо его словно окаменело. Крупные руки недвижно лежали на мокром от росы бруствере. К нему то и дело подходили офицеры штаба и что-то докладывали. Он в ответ только едва заметно кивал головой, все так же сосредоточенно и напряженно глядя на дым и пламя, бушевавшие на позициях противника. Только когда сообщили, что начали артподготовку и армии Брянского фронта, он облегченно вздохнул и присел на земляной выступ окопа.
— Сообщи, дорогой, своим, — тихо сказал он Бочарову, — мы начали.
Томительно долго телефонисты «ВЧ» дозванивались до штаба Воронежского фронта. От нетерпения Бочаров курил одну папиросу за другой, слушая, как над тяжелым накатом блиндажа все так же неумолчно бьют артиллерия и минометы.
Когда, наконец, телефонист подал трубку, Бочаров услышал заметно усталый, но бодрый и сильный голос Ватутина.
— Очень хорошо, — выслушав доклад Бочарова, сказал Ватутин, — передайте Ивану Христофоровичу и всем товарищам наши самые горячие пожелания успехов. У нас положение пока сложное, но через пару часов и мы стукнем. Вас, Андрей Николаевич, еще раз прошу: внимательно изучить организацию наступления и ход боевых действий. Скоро, очень скоро их опыт потребуется нам.
«Через пару часов. Через пару часов»… — выйдя из блиндажа, повторял Бочаров. Над землей уже ослепительно сияло июльское солнце. Артиллерия и минометы смолкли, и над вражеской обороной властвовали советские штурмовики. Из ближних и дальних траншей, из окопов и ходов сообщения уже выскакивали стрелки. Позади них виднелись выдвигавшиеся танки, противотанковые орудия, группы минометчиков, расчеты пулеметов и противотанковых ружей. Начиналось то, что на военном языке именуется выходом на рубеж атаки. Много раз Бочарову приходилось видеть атаку, но то, что сейчас наблюдал он, превосходило все им виденное. Казалось, здесь, в излучине реки Жиздры и речушки Вытебеть у Брянских лесов, накопилось столько гневной силы, что никакие преграды не смогут удержать и остановить ее. А там, в полусотне километров юго-восточнее, у города Болхов уже наступает вторая ударная группировка — 61-я армия Брянского фронта, еще полусотней километров юго-восточнее, прямо на Орел, поднялась в атаку третья группировка — 63-я и 3-я армии Брянского фронта. Всего восемь суток назад немецко-фашистские войска, начав наступление на Курск со стороны Орла и Белгорода, посеяли ветер. Теперь же начиналась вызванная этим ветром буря!
* * *
Весь день в наспех вырытом котлованчике, прикрытом сверху двумя плащ-палатками, Ирина обрабатывала раненых. Теперь, когда в полку осталось так мало людей, не было ни ротных санитаров, ни батальонных медицинских пунктов. Все уцелевшие санитары и санинструкторы собрались вокруг Ирины и доставляли раненых к ней прямо с передовой. Помогали Ирине Марфа и Валя. Фельдшер Пилипчук и двое санитаров, сразу же после обработки, забирали раненых из котлованчика и отправляли в медсанбат дивизии.
Как и всегда, поглощенная работой Ирина не знала, что происходит на фронте, слыша только не совсем понятные, часто отрывочные и путанные разговоры раненых о нескончаемых атаках немцев, о жесточайшей бомбежке и о наших солдатах и офицерах, которые, по словам одних, стояли насмерть, а по рассказам других, еле удерживались и, вероятно, недолго продержатся и начнут отступать.
— Что болтаешь-то, — резко осаживала таких рассказчиков Марфа. — У самого, видать, душа в пятки ушла, думаешь, и все такие. Послушай-ка вон, как строчат да палят наши. Ты лучше рукав засучивай повыше, уколю сейчас.
Могутная, не женского, а мужского сложения, с огромными, казалось, неуклюжими руками, Марфа так ловко и легко обрабатывала раненых, что никто из них не кричал и даже не ойкал.
Хрупкая, застенчивая Валя, словно каким-то особым чутьем угадывая каждое желание Ирины, стремительно подавала ей нужные инструменты, помогала накладывать повязки, вытирала кровь и успокаивала раненых. Отрываясь от работы, Ирина видела ее светлое, подернутое грустью лицо и совсем спокойные, только узившиеся, когда раненому было особенно тяжело, васильковые глаза. Это была теперь совсем не та Валя, которая чуть не потеряла сознание при виде первого раненого. В ней произошел тот хорошо знакомый Ирине перелом, когда обыкновенная женщина становится настоящим медиком, выражающим свою жалость к пострадавшему человеку не испугом, растерянностью и слезами, а стремлением как можно скорее облегчить его страдания.
Вблизи котлованчика часто рвались бомбы, иногда долетали снаряды, но Ирина работы не прекращала. Все так же бесстрашно, словно не замечая взрывов, помогали ей Марфа и Валя.
Во второй половине дня, когда принесли истекавшего кровью майора Бондаря, Валя не выдержала и, отвернувшись в земляной угол, судорожно задергала острыми плечиками.
— Ты что, дуреха, — яростно зашипела на нее Марфа, — людям и так невмоготу, а ты еще хлюпаешь.
— Да я так… Я ничего, — кончиками пальцев вытирая слезы, пробормотала Валя и поспешно разрезала гимнастерку майора.
— Все будет хорошо, Федор Логинович, — матерински ласково говорила Марфа, — перевяжем вас — и в медсанбат, а там в госпиталь. Подлечитесь, сил наберетесь, и, глядишь, в тыл, с семьей встретиться доведется.
Бондарь терпеливо переносил боль. От потери крови он был совершенно белый, и только на впалых щеках проступали красные пятна. Когда Ирина закончила накладывать последнюю повязку, а Валя вытирала пот на его лице, он глазами подозвал Марфу и, напрягаясь, с натугой проговорил:
— У меня в левом кармане гимнастерки список. Передайте его старшему лейтенанту Дробышеву. Это кого к награде представить нужно. Как немного затихнет, пусть напишет наградные листы.
— Жив, жив Дробышев? — не выдержав, дрожащим шепотком спросила Валя.
— Жив, — слабо улыбнулся, скосив на нее потеплевшие глаза, Бондарь, — батальоном командует. Геройский парень, настоящий офицер.
— Ты что, непутевая, — когда унесли Бондаря, накинулась на Валю Марфа, — люди муки мученические переносят, а она с глупостями.
Валя покорно опустила голову, но Ирина видела, как нескрываемым счастьем светились ее васильковые глаза.
Марфа грозно стояла над Валей, и, если б не новый раненый, множество упреков пришлось бы выслушать девушке.
— Ирина Петровна, — тревожно зашептал на ухо Ирине вбежавший в котлованчик Пилипчук, — приказано отходить в село Прелестное. Это вот там, позади, километра четыре. Я с санитарами пока тут останусь, раненых собирать, а вы идите, новый медпункт создавайте.
— Хорошо, — послушно согласилась Ирина, твердо веря в благоразумие умудренного опытом Пилипчука.
Только выйдя из котлованчика, Ирина поняла, а вернее почувствовала, в сколь трудном положении на этом участке фронта оказались наши войска. Непрерывно стрелявшие пушки, мимо которых проходила Ирина с Марфой и Валей, смотрели не на юг, откуда раньше наступал противник, а на восток и на запад, создавая длинный коридор, по сторонам которого шли бои. Беспрерывная стрельба доносилась и сзади, оттуда, с юга, где еще утром был передний край.
«Неужели окружают наших?.. — тревожно подумала Ирина. — Конечно, окружают, поэтому и отходить приказано».
Она вспомнила, сколько за последние дни было доставлено раненых, и поняла, как ослаб и обессилел полк. Если уж совсем юный, хоть и старший лейтенант, Дробышев командует батальоном, значит положение действительно тяжелое.
«А где же Поветкин? Как он? — с еще большим беспокойством подумала она и, вспыхнув от негодования, оборвала себя. — Командует, воюет, как и все. Что тебе за дело до него».
Но мысль о Поветкине никак не оставляла ее. Помимо своей воли, она представляла его то раненым, истекающим кровью, то по-прежнему деловитым, невозмутимым, командующим остатками полка, то с ужасом думала, что он погиб в сплошном аду, который остался позади нее.
Заняв уютный домик под горой и начав опять принимать поступавших от Пилипчука раненых, она жадно вслушивалась в их разговоры, надеясь услышать о Поветкине хоть одно слово.
— Ну вот и все благополучно, — сказал Пилипчук, уже в сумерках догнавший Ирину. — Наши отошли и заняли оборону на окраине деревни. Командир полка приказал подготовить списки раненых и доложить ему.
«Жив, значит, жив и командует», — бессознательно обрадовалась Ирина и, опять досадуя на себя, принялась за работу.
По тому, как все меньше и меньше поступало раненых, она поняла, что бои затихают, и вскоре медпункт совсем опустел.
Переписав начисто список раненых за последние двое суток, Ирина хотела было отправить его с Пилипчуком, но, решив, что это будет нарушением воинских порядков и может вызвать недовольство Поветкина, пошла сама.
В деревне было многолюдно и шумно. Узенький серпик луны, повиснув над горизонтом, тускло озарял беленькие дома с черными провалами окон. За окраиной вяло перекликались пулеметы, но на востоке, где, как знала Ирина, была станция Прохоровка, неумолчно гудела канонада. Частая стрельба и гулкие взрывы доносились и с запада, от реки Псел.
Ирина нашла домик, который занимал командир полка, и, узнав у часового, что Поветкин у себя, вошла в сени. Из-за неплотно прикрытой двери сочился слабый свет. На стук Ирины никто не ответил.
«Может, там еще одна комната, а в первой только прихожая», — подумала она и решительно распахнула дверь. За столом, рядом с ярко горевшей лампой из артиллерийской гильзы, обессиленно положив голову на руки, сидел Поветкин. Рядом с полусжатыми пальцами руки валялась телефонная трубка.
— Сергей Иванович, — решив, что с командиром полка случилось что-то недоброе, тревожно окликнула она Поветкина, но он, совершенно не шевелясь, продолжал безмолвно сидеть. Худое, изможденное лицо его страшно побледнело. Запекшиеся губы полуоткрылись, и прядь седых волос спадала на покрытый бусинками пота такой же, как и щеки, почти черный лоб.
Ирина еще раз окликнула Поветкина и, не получив ответа, нащупала пульс на его руке. Сердце билось учащенно, но ровно, выдавая глубокий сон смертельно уставшего человека.
«Боже мой, как же он похудел», — подумала Ирина, и волна жалости к этому душевному, сильному, но сейчас совсем уставшему человеку властно нахлынула на нее. Она смотрела на его серебристые волосы, на острые, выпиравшие из-под гимнастерки плечи и с трудом удерживала желание погладить ладонью его седую голову и худые руки с длинными пальцами.
«Пусть отоспится, на фронте пока тихо», — подумала она и вздрогнула от неприятного звука. Это пищал зуммер стоявшего рядом телефона. Испуганно взглянув на Поветкина, она схватила трубку и шепотом ответила:
— Вас слушают.
— Мне подполковника нужно, — загудел в телефоне так знакомый ей бас Черноярова. — Это вы, Ирина Петровна, а его что, нет?
«Что я делаю, — с ужасом подумала Ирина, — что подумает, что скажет Чернояров? Он же так ненавидит Поветкина!»
— Нет, он здесь, — стараясь говорить как можно спокойнее, ответила Ирина, — только, знаете, я вошла, а он спит. Прямо за столом уснул.
— Пожалуйста, не будите его, — совсем неожиданно для Ирины, мягко, с теплым участием в голосе, сказал Чернояров, — он же безумно устал, пусть хоть немного отдохнет.
— Да, да, пусть отдохнет. Я сейчас часовому скажу, чтобы никого не пускал.
— Совершенно верно, — поддержал Чернояров, — на фронте перед нами затихло, и нечего зря беспокоить его.
Давно не видев Черноярова и думая, что он все еще оставался прежним, Ирина никак не могла понять причину его несомненно душевного отношения к Поветкину.
Осторожно положив трубку на стол и пристально посмотрев на чуть порозовевшее лицо Поветкина, Ирина на цыпочках вышла из комнаты и строго сказала стоявшему у входа часовому:
— Подполковник очень устал и уснул. К нему никого не пускать!
— Слушаюсь, никого не пускать к подполковнику! — с готовностью отчеканил часовой и, секунду подумав, спросил:
— А если опять загудит и бой начнется?
— Тогда зайдете и разбудите, — властно, без тени раздумья, ответила Ирина и впервые за всю эту неделю боев увидела чистое, чистое, усыпанное звездами бездонное ночное небо.
Глава сороковая
Отдав все необходимые распоряжения и убедившись, что они выполняются точно и неукоснительно, фельдмаршал Манштейн в ночь на одиннадцатое июля решил вдоволь выспаться и встать утром пораньше, чтобы еще раз проверить готовность войск к последнему решающему броску на Курск через прохоровское плато и высоты. В мягкой полутьме освещенного ночной лампочкой салона было уютно и тихо. Казалось, ничто не должно было мешать приятному сну фельдмаршала. Но он все же не спал. Или резко сказывались годы, или сильны были пережитые волнения и ожидание завтрашнего, решающего дня, но фельдмаршал заснуть не мог. Услужливая память возвращала его то к воспоминаниям далекого прошлого, когда он тридцать шесть лет тому назад в прусской армии был всего лишь кандидатом в офицеры, то к последним событиям, в которых он почти шестидесятилетний фельдмаршал играет такую решающую роль. Вслед за воспоминаниями нахлынули раздумья о том, что будет дальше и как разовьются последующие события.
Приняв решение на сокрушающий удар через Прохоровку, он нисколько не сомневался в том, что его войска задачу выполнят блестяще и русская оборона, наконец, будет сокрушена, смята и прорвана. На участке шириною всего около десяти километров удар почти тысячи танков, поддержанных к тому же огромной массой авиации и артиллерии, не в состоянии выдержать ни одна, даже самая могущественная оборона. В этом фельдмаршал был уверен, как всегда был уверен в самом себе. Волновало и тревожило другое. Удар его группы армий на Курск был всего лишь половиной операции «Цитадель». Вторую половину осуществляла девятая армия Моделя. Хоть Клюге и заверил, что в последний удар на Курск со стороны Орла он вложит все свои силы, но беспокойство за действия партнера не оставляло Манштейна.
Пролежав без сна более двух часов, он решил переговорить непосредственно с Моделем.
Как и всегда, энергичный и напористый Модель ответил уверенным, полным свежих сил голосом.
— Я нисколько не сомневаюсь, — звонко передавала мембрана его чеканные слова, — что оборона русских будет сломлена и что через пару дней я буду иметь честь встретиться с вами, господин фельдмаршал, в этом самом Курске. Мои войска заняли исходное положение и ждут сигнала.
Если уж Модель, всегда сомневавшийся в успехе операции «Цитадель» и смело высказавший свои сомнения самому Гитлеру, был теперь уверен в неизбежном крушении обороны русских, то можно было спокойно спать и не тревожиться больше о завтрашних событиях.
И фельдмаршал Манштейн спокойно уснул.
На рассвете он проснулся, не поднимаясь с постели, узнал у начальника своего штаба, что на фронте все спокойно и что ударные группировки готовы к наступлению, и решил, чтобы накопить для трудного дня больше сил, еще полежать. До начала действий второстепенной группировки, наступавшей от Белгорода на северо-восток, оставалось еще больше часу. Эта группировка в составе трех танковых и трех пехотных дивизий была тем обманным охотничьим рожком Манштейна, которым он заманит советское командование в ловушку и отвлечет его внимание от главного, прохоровского направления, где будет нанесен решающий удар.
Лежа в постели, Манштейн с наслаждением представлял, как будут метаться Ватутин и Хрущев, когда эти шесть дивизий, составлявшие ударную группировку «Кемпф», так же, на очень узком фронте, от Белгорода ринутся на северо-восток, угрожая тылам и резервам главных сил Воронежского фронта. Они несомненно бросят против этих дивизий часть своих сил, и в первую очередь авиацию. Это будет восхитительно. Но каково же будет самочувствие советского командования, когда в десять часов вдоль автомагистрали на Курск вновь нанесут удар «Великая Германия» с третьей и одиннадцатой танковыми дивизиями? Туда так же придется бросать резервы и авиацию. И не успеют советские военачальники опомниться, как их войска под Прохоровой постигнет самый сокрушительный удар. Что будут делать тогда Ватутин и Хрущев, уже бросив свои резервы и авиацию под Белгородом и на автомагистраль?
В разгар раздумий Манштейна начальник штаба доложил, что группа «Кемпф» перешла в наступление. Шестая и седьмая танковые дивизии на фронте в три километра прорвали оборону русских у села Мелехово и успешно продвигаются вперед. Остальные дивизии действуют по плану и так же имеют успехи.
— Вот и начинается главное, — воскликнул Манштейн, поспешно вставая. — Теперь посмотрим, как это говорят русские, на чьей улице будет праздник.
Блестящее начало наступления группы «Кемпф» так взволновало Манштейна, что он отказался от традиционного утреннего кофе и в честь такого события выпил рюмку коньяку.
Но через час пришло первое омрачающее сообщение. Перед группой армий «Центр» северо-западнее Орла войска советского Западного фронта перешли в наступление.
Торопливо подойдя к карте, Манштейн быстро нашел место, где советские войска перешли в наступление, и своим почти сорокалетним военным опытом сразу же понял колоссальное значение этого факта. Советские войска наносили удар как раз под основание орловского плацдарма, который огромной дугой опоясывал Орел с северо-запада, с севера, с северо-востока, с востока, с юго-востока, с юга и юго-запада. На этом плацдарме располагались немецкие вторая танковая и девятая армии. Положение на орловском плацдарме осложнялось особенно тем, что, как сказали Манштейну Клюге и Модель, все резервы сняты с плацдарма и сосредоточены для нанесения удара на Курск с севера. Если советское командование бросило в наступление крупную группировку, то положение немецких войск на орловском плацдарме в самое ближайшее время станет катастрофическим.
Не успел Манштейн еще полностью оценить создавшееся положение, поступило новое известие: 61-я армия советского Брянского фронта также перешла в наступление на орловском плацдарме, нанося удар в направлении города Болхов. Это еще больше осложняло положение в районе Орла. Теперь все зависело только от устойчивости немецкой обороны севернее и северо-западнее Орла и от решительности Клюге и Моделя. Если они не поддадутся панике и, несмотря на угрозу с севера, бросят свою ударную группировку в наступление на Курск, то операция «Цитадель» будет успешно развиваться. Если же они не выдержат и войска из ударной группировки начнут перебрасывать на участки наступления русских, то бить на Курск придется одним войскам Манштейна, ожидая в крайнем случае незначительные поддержки с севера.
В тяжелом раздумье метался Манштейн по своему блестящему салон-вагону. Так детально продуманный и весьма обнадеживающий план в самом начале выполнения встретил непредвиденные обстоятельства. Правда, и раньше Клюге, Модель, да и он сам, Манштейн, опасались перехода русских в наступление или на орловский плацдарм или в районе Донбасса. Но эти опасения реальными фактами не подтверждались и были всего лишь обычными предположениями. Сейчас на севере эти предположения обращались в действительность.
У Манштейна мелькнула было мысль повременить с переходом главной ударной группировки в наступление на Прохоровку, но, вспомнив обещание Гитлеру во что бы то ни стало одиннадцатого, в крайнем случае двенадцатого, июля сломить оборону русских, он отбросил эту мысль. К тому же машина наступления была уже заведена, и остановить ее не так-то просто. С рассветом вся авиация в воздухе, наступают дивизии группы «Кемпф». В девять часов утра перешла в наступление и группировка на автомагистрали. Через несколько минут ринутся в атаку на Прохоровку танковые дивизии «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» и «Райх».
Весь день прошел в страшном напряжении. Немецкие ударные группировки и под Прохоровкой и на автомагистрали, несмотря на их колоссальные усилия и непрерывную поддержку авиации, до середины дня не продвинулись ни на шаг. Только группа «Кемпф» все так же узким клином настойчиво врезалась в советскую оборону северо-восточнее Белгорода. Это радовало и вдохновляло Манштейна. Успех группы «Кемпф» можно было использовать для прорыва к Прохоровке. Он приказал всю авиацию бросить на прохоровское плато и смять там советскую оборону. Это оказало свое воздействие. Дивизия «Райх» пробилась, наконец, в совхоз «Октябрьский» и вышла на подступы к Прохоровке. Но тут же перешедшие в контратаку советские танковые бригады остановили ее дальнейшее продвижение. Продвинулась вдоль берега реки Псел и дивизия «Мертвая голова». Но ее тоже сковали советские артиллерия и авиация. Ни угрозы Манштейна, ни новые удары немецкой авиации не спасали положения. Каждым нервом Манштейн чувствовал, что наступление захлебывается и силы ударных группировок вот-вот иссякнут.
В тринадцать часов пришло новое сообщение из группы армий «Центр»: 3 и 63-я советские армии перешли в наступление восточнее Орла. Теперь орловский плацдарм находился под трехсторонним ударом советских войск. О наступлении на Курск со стороны Орла не могло быть и речи. Манштейн прекрасно понимал состояние Моделя, решившего не начинать наступления на Курск, и часть дивизий ударной группировки перебросил на участки ударов советских войск.
К вечеру положение на фронте достигло наивысшего напряжения. Все попытки немецких войск прорваться к Прохоровке и пробиться вдоль автомагистрали наткнулись на непреодолимую стену советских войск. Оставалась только одна надежда та успех прорыва группы «Кемпф», которая распространялась все дальше и дальше на север, угрожая Прохоровке с юга.
За эту спасительную соломинку и ухватился Манштейн. Он приказал группе «Кемпф», не обращая внимания на угрозу с флангов, всеми силами устремиться на Прохоровку с юга, а главной ударной группе подготовиться и утром двенадцатого июля ударить на Прохоровку с запада. Как и обычно, этот новый план властно овладел Манштейном, и он опять развил кипучую деятельность. К тому же вечером поступили обнадеживающие вести и с орловского плацдарма: наступление советских войск на всех трех участках было остановлено. Модель заверил Манштейна, что с утра двенадцатого он начнет наступать на Курск с севера.
Но утро двенадцатого июля началось совсем не так, как ожидали Манштейн и Модель. На рассвете советская авиация обрушилась на самые важные узлы обороны орловского плацдарма, а едва взошло солнце, как началась артиллерийская подготовка на всех трех участках, где вчера наступали советские войска. Судя по отрывочным сообщениям штаба Клюге, Манштейн понимал, что на орловском плацдарме творится что-то невообразимое.
В семь часов утра новое известие потрясло Манштейна. Оказывается, одиннадцатого июля советские войска на орловском плацдарме наступали не главными силами. Действовали всего лишь разведывательные отряды по одному стрелковому батальону от каждой дивизии, а главные силы ударных группировок Западного и Брянского фронтов начали наступление только утром двенадцатого июля. Эта хитрость советского командования перевернула все надежды немецкого командования.
Манштейн тупо смотрел на карту, где северо-западнее, севернее и восточнее Орла войска четырех советских армий красными стрелами врезались в немецкую оборону. Положение было настолько страшным, что Манштейн больше часу ничего не мог сообразить. Тусклыми глазами из-под набухших век он безразлично взглянул на вошедшего начальника штаба и никак не мог понять, что говорил ему тот.
— Что?! — вскакивая, бешено крикнул он. — И у нас русские начали контрнаступление?!
— Да, — повторил начальник штаба. — В восемь часов начали артподготовку, а в восемь тридцать танки и пехота перешли в атаку. Судя по первым данным, русские атакуют район нашего вклинения с трех сторон: с запада, с северо-запада и с северо-востока. Сильные контратаки начались и против группы «Кемпф». Ее передовые танки уже отброшены назад. Самый сильный удар русские наносят под Прохоровкой. Там, как удалось нам установить, наступают свежие, только что введенные из резерва 5-я гвардейская и 5-я гвардейская танковая армии.
— Это генералов Жадова и Ротмистрова? — спросил Манштейн.
— Так точно. Те самые армии, что стояли между Воронежом и Курском.
«Это начало нашего конца, — глядя на карту начальника штаба с этими ужасными стрелами атакующих советских войск, думал Манштейн. — Операция «Цитадель» провалилась, и что будет дальше, даже господь бог не знает».
Только многолетняя военная выучка спасла Манштейна от паники. Он бросил все силы, чтобы остановить или хотя бы замедлить советское контрнаступление.
Весь день двенадцатого июля шла ожесточенная борьба, а вечером, когда Манштейну доложили, что только под Прохоровкой немецкие войска потеряли разбитыми и сгоревшими более 400 танков, он выслал всех из своего кабинета и, повалясь на постель, от злости и отчаяния судорожно зарыдал.
Глава сорок первая
Павел Круглов лежал в тени густого ельника, с наслаждением вдыхая напоенный хвоей ароматный воздух. Еще весной отрядный врач сказал Круглову, что серьезная опасность для его здоровья миновала. Самое главное теперь: беречь больное сердце, не делать резких движений, не утомляться и жару стараться проводить в холодке на вольном воздухе. Тогда же, по совету врача, Васильцов поручил Круглову присматривать за подтощавшими отрядными лошадьми. По ночам Круглов пас лошадей на лугах и полянах вблизи лагеря, а как только рассветало, загонял их в дебри непроглядного бора и держал там до вечера. Это дневное, ничем не занятое, время было для Круглова самым блаженным. Он часами спал под лошадиные всхрапы и перестук копыт, в полдень шел на кухню, получал свою порцию обеда и, напоив лошадей, опять дремал на мягкой шелковистой траве.
Партизаны куда-то ходили, что-то делали, проводили какие-то занятия, но Круглов ничем этим не интересовался, лишь изредка слыша обрывки, оживленных разговоров о походах, минах, ночных засадах и внезапных тревогах. Часто на кухню прибегала озорная девушка-почтальон и, зная всех до одного партизан не только по фамилии, но по имени и отчеству, с шумом раздавала письма.
— А вам нет, — всякий раз сочувственно говорила она Круглову, — только не переживайте, в следующий раз обязательно принесу.
— Спасибо, дочка, не всем же сразу, — отвечал Круглов, стараясь поскорее уйти от резвой почтальонши.
После каждого такого разговора он собирался сегодня же, в крайнем случае завтра, написать домой. По ночам, когда, гремя цепными путами, кони паслись на лужайках, Круглов обдумывал строки длинного-предлинного письма. В нем он перво-наперво передаст поклоны всем родным, всем знакомым, потом сообщит о том, что жив и здоров, что долго болел, но доктора, к счастью, оказались хорошие, и теперь он совсем, как прежний, вот только схватывает иногда сердце и ломят в непогоду простуженные ноги.
Слова письма складывались у него легко и гладко, как ровные кирпичи на стене, ладно прикладываясь одно к другому. Оглядывая темные силуэты лошадей, он представлял, как обрадуется, получив его письмо, Наташа, как из глаз потекут слезы. Конечно, она заплачет, может закричать, как всегда кричат бабы при всяких вестях, а может и промолчит. Нет, не промолчит! Хоть чуточку да всплакнет. Ведь, куда не кинь, а прожили они вон сколько лет, троих детей нарожали, да и, как говорят, соли не один пуд съели. Было, известно, у них много и плохого, только какая семья без раздоров может через всю жизнь пройти.
Оправясь от болезни, Круглов почти никогда не вспоминал прошлое и думал только, как пойдет его жизнь, когда он вернется в свою семью. Он часто пытался и никак не мог представить, какими же стали теперь его дети. Они все казались ему маленькими, на один рост, хотя отчетливо помнил, что самой старшей Анне, шел уже пятнадцатый год. Да и Наташа представлялась ему как-то смутно, совсем не такой, какой была она при совместной жизни. Отлично помнил Круглов только ее мягкие, шелковистые волосы, старательно убранные в аккуратный пучок.
Всю ночь он, присматривая за лошадьми, все в одном и том же варианте сочинял письмо. Но наступал рассвет, разгорался день, и все, так старательно подобранные слова исчезали из его памяти. Им овладевала сонливость, и он решал сесть за письмо завтра, сразу же после завтрака или, на крайность, после обеда. Эти завтра продолжались у Круглова нескончаемой чередой.
Уже во всю силу разгорелось лето, и в начале июля где-то далеко на востоке, под Орлом и Курском, глухо загудела канонада. Днем она была не так слышна, но по ночам, особенно на утренней зорьке стрельба доносилась отчетливо и ясно. Больше недели стрельба нисколько не приближалась и не удалялась. Но утром двенадцатого июля загудело совсем в другой стороне, намного ближе и яснее. С каждым днем гул заметно нарастал и приближался. Теперь стали говорить, что Красная Армия начала наступление на Орел сразу с трех сторон.
— Чуешь, Паша, — сказал подошедший Васильцов, когда на рассвете Круглов загнал лошадей под деревья, — наши пушечки грохочут, лупят фашистов и в хвост и в гриву.
Васильцов присел рядом с Кругловым, закурил и, пуская сизые клубы дыма, мечтательно продолжал:
— Идут наши и прямо сюда. Вот соединимся скоро и опять заживем во всю силушку. Тебе-то, конечно, домой придется, здоровье твое слабовато, а я нет, я до их Берлина дойду. Последний гвоздь в гроб фашизма вколочу. Попрошусь только на, недельку семью повидать — и на фронт. Ты в колхоз, конечно, подавайся. Хоть не ахти какое твое здоровьишко, а все подмога колхозу. Там же теперь старый да малый, да бабы разнесчастные. Мужчина — редкость большая.
Теплые душевные слова Васильцова вмиг оживили в потускневшем сознании Круглова картину родной деревни, куда скоро, совсем скоро вернется он и заживет, как говорит Васильцов, во всю силушку. Он уже мысленно начал молить, чтобы гул скорее придвинулся и в леса ворвались наши солдаты. А Васильцов продолжал говорить все так же задумчиво и мечтательно, докуривая одну папиросу и торопливо сворачивая другую.
— А ведь ровно год, как попали мы в плен. Даже в самом кошмарном сне не виделось мне такое. И вот на тебе, очутился в плену. Лежал, помню, из ручного пулемета стрелял, а тут ударило, помню, раз, другой и все провалилось. Очнулся, когда фрицы прикладами охаживали…
Васильцов неожиданно поперхнулся, словно проглотив что-то острое, удушливо закашлялся и, вытирая ладонью слезы, с горечью сказал:
— Вот так и очутился в плену. А будь в сознании, ни в жизнь не захватить бы им меня. Тебя-то, я помню, они тоже чуть живого в подвал приволокли, — сожалеюще добавил он и смолк.
— Да… Я уж и не помню, — прошамкал Круглов, мгновенно вспомнив Костю Ивакина и его полные ненависти слова: «Гадина! Предатель!», которые давно уже затерялись в помутневшей памяти Круглова.
Васильцов еще говорил что-то, но Круглов не слышал. Перед ним, как живое, стояло перекошенное злобой лицо Кости Ивакина, точно такое же, каким он видел его, когда, подняв руки, побежал навстречу наступавшим немцам. Гул канонады в это время заметно возрос, и Круглову почудилось, что он видит там, среди наступавших цепей, Костю Ивакина.
— Ну, отдыхай, сил набирайся, скоро с родными, с нашими встретимся, — сказал Васильцов и, к великой радости Круглова, тут же ушел.
«Наши… Скоро… встретимся… — беспорядочно билось в уме Круглова, — сил набирайся… с нашими встретимся…»
Он обессиленно свалился на траву, чувствуя теплую, отдававшую прелью, захвоенную землю. А в ушах все явственнее и жестче продолжал звучать совсем было позабытый голос Кости Ивакина: «Гадина! Предатель!»
«Да ведь если он жив, то все знают, что я не попался, а сам побежал в плен, — опалила Круглова впервые осознанная им мысль. — Он же командирам рассказал, а те, известно, сразу написали, куда нужно. Какой же мне теперь дом…»
В полном сознании, совсем не чувствуя ни боли в груди, ни ломоты в ногах, ничком лежал он на лесной земле и, как давно с ним не бывало, лихорадочно думал. Конечно, и в деревню сообщили, что сам по себе, добровольно перебежал к немцам. Сразу же власти понаехали, корову, может, отобрали, а может, и всю семью выслали. Ведь сколько же говорили и в присяге писалось, что тех, кто перебегает, ждет самая суровая кара. Ну, может, Наташку и детишек пощадили, а уж корову-то верняком отобрали.
Ему стало так жаль рыжую, с белой звездочкой на лбу, всего по второму телку корову, что он заплакал.
«Сдурел совсем, — через минуту опомнился он и пугливо осмотрелся по сторонам, — если и тут узнают, даже Васильцов и тот не пощадит. Ведь все-то в плен, не как я, попали… А может, и не уцелел тогда Ивакин», — ободрила его радостная мысль, но тут же наплыло другое:
«Ивакин-то не один там был. Позади-то командиры сидели. Они все видели…»
Неудержимое отчаяние вновь придавило Круглова к земле. В памяти мелькнула веселая, дрожавшая от смеха Наташа и тугой пучок волос на ее голове. Наташу сменило весеннее, далекое-далекое утро, когда он еще мальчонком с работниками выехал в залитое солнцем, сизое от легкого пара яровое поле. От этого воспоминания у него потеплело в груди. Он приподнялся, потом встал на колени. Сквозь густые ветви сосен упрямо сочились тонкие и прямые иглы такого же, как в то далекое утро, солнечного света. Укрытые под деревьями лошади, разбившись попарно, с упоением чесали зубами друг другу холки.
«А может, и не знает никто, — жадно оглядывая лошадей, недвижно уснувшие ели и испещренную солнечными бликами землю, подумал Круглов, — может, перебили всех в тот день, и один я в живых остался…»
* * *
От командира партизанской бригады Перегудов вернулся только на третьи сутки. Возбужденный, с худым сияющим лицом и необычно улыбчивыми глазами, он старательно захлопнул дверь землянки и с каким-то праздничным тоном в голосе торопливо заговорил:
— Ух, Степан Иванович, и дела развертываются. Как услышал, дух захватило! Первое — это положение на фронтах. Наступление гитлеровцев на Курск от Орла и Белгорода в пух и прах провалилось. Воронежский и Степной фронты отбросили немцев назад к Белгороду и полностью вышли на свои прежние позиции. Западный, Брянский и Центральный фронты с трех сторон штурмуют орловскую группировку гитлеровцев. Есть сведения, что немцы начинают поспешно оттягивать свои тылы из Орла. Так что не просто жарковато фашистам, а совсем горячо, вот-вот жареным запахнет.
— Это одно, — торопливо прикурив от папиросы Васильцова, продолжал Перегудов, — а теперь второе, наше, партизанское. Только лично для тебя, больше пока никому ни звука! Все наши партизанские силы начинают грандиозную операцию. «Рельсовую войну»! Понимаешь? Не налет, не взрыв, не операцию, а войну, да еще рельсовую. Это, Степан Иванович, и представить трудно. Суть вот в чем. Все наши партизанские отряды, группы, соединения по общему единому плану, в одну и ту же ночь на всей нашей территории, захваченной фашистами, рвут на железных дорогах рельсы, мосты, переезды, стрелочные устройства. Короче говоря, наносят мощный одновременный удар по всем железным дорогам в тылах немецких войск. Подумай только, — склонясь к Васильцову, воскликнул Перегудов, — каково будет самочувствие немецких солдат, да и не только солдат, когда на всех основных магистралях оккупированной территории разом полыхнут тысячи взрывов. Вот те и уничтожены советские партизаны!.. Вот те и горстки бродяг и бандитов, как распинается о нас Геббельс. А что они запоют, когда почти вся прифронтовая железнодорожная сеть будет выведена из строя, когда эшелоны не смогут двинуться ни к фронту, ни от фронта?
Затаив дыхание, слушал Васильцов Перегудова и от возбуждения переломал целую коробку спичек.
— Эй, эй! — остановил его Перегудов. — Ты что же это? Спички у нас на вес золота, а ты их, словно фрицев, крошишь.
Васильцов по-мальчишески густо покраснел и поспешно собрал обломки спичек с уцелевшими головками.
— Ну, ладно, — миролюбиво сказал Перегудов, — скоро всего будет вволю, а не только спичек. Так вот, — развернул он карту, — на операцию приказано вывести всех партизан. Охрану лагеря поручим тем больным и раненым, которые способны владеть оружием. А впрочем за лагерь опасения напрасны. Фрицам сейчас не до нас, их с фронта так жмут, что только треск стоит. Так вот, идем на подрыв вот этих участков.
Как и всегда, принимая решение, Перегудов то и дело спрашивал Васильцова, думал, вновь советовался и, выбрав лучший вариант действий неизменно восклицал:
— Подписано! Точка!
— А теперь вот что, — поставив очередную «точку», в раздумье сказал Перегудов, — помимо участков железнодорожного полотна нам приказано уничтожить еще один объект. Это мост, да собственно не мост, а мостик на перекрестке большака и железной дороги. С виду объект не больно важен, но роль его сейчас очень велика. Его уничтожение закупоривает сразу две дороги. Вся беда в том, что подобраться к нему трудно и сделать это может не всякий. Тут нужна и голова светлая и отвага безграничная.
— Кленов, Артем, — сказал Васильцов.
— И я так думал. Этот справится. И группа у него надежная.
— Вот только, — болезненно морщась, с трудом проговорил Васильцов, — только вот Нина… После столь тяжелой работы в Орле она еще не совсем оправилась.
— Верно, — всей грудью вздохнул Перегудов, — думал я о ней. Жалко. Но она хорошо знает немецкий язык, а группе Кленова наверняка придется с немцами столкнуться. Да и другое, — увереннее продолжал Перегудов, — если вся группа Кленова пойдет, а она останется, то это смертельно обидит ее. Она же, сам знаешь, какая.
— Да, — согласился Васильцов, — придется посылать.
* * *
Перегудов и Васильцов, не глядя друг на друга, сидели в шалаше и уже второй час молчали.
Трижды выходил отряд на линии железных дорог, и трижды ночную тьму на широком пространстве рвали сотни взрывов самодельных партизанских мин. Все группы подрывников без потерь вернулись в лагерь. Только в первую же ночь не вернулась группа Артема Кленова.
Перегудов и Васильцов прождали сутки, вторые и в третью ночь к месту действий группы Кленова послали самых лучших разведчиков. Два часа назад разведчики возвратились в отряд. На месте железнодорожного моста, что пересекал большак, в грудах обломков под сильной охраной со всех сторон работала немецкая восстановительная команда. Никаких сведений о группе Кленова добыть разведчикам не удалось. Только жители лесного хутора рассказывали, что часа через два после взрыва моста за железной дорогой вспыхнула сильная автоматная стрельба. До самого рассвета трещали ожесточенные очереди, потом лопнуло несколько гранатных взрывов и все смолкло.
* * *
Васильцов бежал, не чувствуя ни собственного тела, ни хлеставших по лицу колючих веток. С востока, меж расступившихся деревьев, приближались еще смутно различимые люди в защитных гимнастерках с погонами, в касках, пилотках, фуражках с красными, удивительно сияющими звездочками.
Стремительное, неудержимое «ура» неслось с двух сторон и, схлестнувшись всколыхнуло весь лес. Васильцову показалось, что дрогнула, качнулась земля, и в каком-то пьянящем вихре закружились деревья. Не помнил, он ли первым схватил подбежавшего советского бойца или тот раньше обвил руками его шею, не знал, был ли это один человек или несколько, и не мог представить, сколько продолжалась эта встреча в сосновом, затопленном сияющим светом, бору.
Опомнился Васильцов от чьих-то настойчивых рывков за руку. Обернувшись, он увидел испуганное лицо мальчишки, который в последние дни был приставлен подпаском к Павлу Круглову.
— Там… Там вон, — бессвязно лепетал паренек, — дядя Павел… Дядя Круглов лежит…
— Круглов? Что с ним?
— Не знаю. Бежал, как все, когда сказали, что наши подходят. Я тоже. Потом он повернулся, назад пошел и упал.
У куста колючего чепыжника, вывернув стоптанные каблуки сапог, ничком лежал Круглов. Стягивая с головы фуражку, над ним возвышался отрядный врач.
— Что? Что случилось?
— Сердце. Этого давно нужно было ожидать, — проговорил врач, опуская руки.
Глава сорок вторая
В этот день, 23 июля 1943 года, точно так же, как и девятнадцать суток назад солнце светило ослепительно ярко и по бледной синеве высветленного неба лениво скользили редкие облака. Только на земле было совсем не так, как тогда, 4 июля 1943 года. По холмам и высотам, через разбитые села и покалеченные огнем реденькие рощи, вздымая тучи пыли на дорогах, от Курска к Белгороду, с севера на юг наступали советские войска. Собственно, наступления в полном понятии этого слова не было. Получив 12 июля сокрушительный удар под Прохоровной, белгородская ударная группировка немецко-фашистских войск еще несколько дней создавала видимость продолжения наступления на Курск, а затем, прикрываясь заслонами, стала отходить на юг, к Белгороду, на прежние позиции. Отсюда начала она свое наступление во второй половине дня 4 июля. Сбивая заслоны, советские войска неотступно преследовали ее и 23 июля полностью очистили свои траншеи и окопы, которые занимали они до перехода гитлеровцев в наступление. Почти три недели ожесточенных кровавых боев закончились полным крахом замыслов гитлеровского командования.
А в это же время войска Западного, Брянского и Центрального советских фронтов с трех сторон штурмовали позиции немецко-фашистских войск на орловском плацдарме, с каждым днем стискивая и сужая его, надвигаясь на Орел с севера, с востока и с юга.
* * *
Четвертые сутки сопровождал Андрей Бочаров Никиту Сергеевича Хрущева в поездке по войскам Воронежского фронта. Он не однажды встречался и говорил с членом Военного совета фронта, но никогда еще не работал с ним так близко и столь длительное время. Поэтому, собираясь в поездку, когда генерал Решетников сказал ему, что Никита Сергеевич приглашает его с собой, Бочаров подготовил новенькую оперативную карту с самыми последними и точными данными обстановки. Он запасся также сведениями о состоянии и положении войск, штабов и тылов фронта, заново переписал и выучил почти наизусть список руководящего состава соединений и частей, захватил с собой вторую карту с маршрутами дорог и местами расположения командных пунктов.
Однако все эти приготовления оказались излишними. Хрущев удивительно точно знал не только расположение огромного количества войск и тылов Воронежского фронта, но и помнил фамилии и многие имена и отчества командиров корпусов, дивизий, бригад, полков, не говоря уже о командовании общевойсковых, танковых и воздушных армий. С какой-то совершенно непонятной Бочарову интуицией ориентировался Хрущев и на местности, часто опережая адъютанта и подсказывая шоферу, куда нужно ехать на самых запутанных перекрестках неисчислимых фронтовых дорог.
Перед выездом Хрущева в войска 23 июля была закончена разработка планов большого наступления Воронежского и Степного фронтов на белгородско-харьковском направлении с последующим выходом к Днепру и захватом плацдармов на его правом берегу. Проверка подготовки к этому наступлению и была целью поездки Хрущева в войска.
Участвуя в разработке планов операции, Бочаров был восхищен грандиозным замыслом и размахом этого наступления. Воронежский и Степной фронты начинали прорыв вражеской обороны силами двух общевойсковых армий и одного стрелкового корпуса, которые в первом эшелоне развертывали шестнадцать стрелковых дивизий, усиленных танками. Затем непрерывно наращивая усилия, они последовательно вводили в сражение первую и пятую гвардейские танковые армии, четыре отдельных механизированных корпуса и еще четыре общевойсковых армии, стоявшие на флангах главного удара. Напором всех этих сил вражеская оборона на огромном фронте от Белгорода до Сум за несколько дней должна быть взломана, подходившие резервы смяты, и вся белгородско-харьковская группировка немецко-фашистских войск, насчитывавшая в своем составе пятнадцать пехотных, одиннадцать танковых и одну кавалерийскую дивизию, разгромлена, и остатки ее обращены в бегство. На сотни километров, освободив Белгород, Сумы, Харьков, Полтаву, Ахтырку и множество других городов, должны были всего за две-три недели продвинуться советские войска.
Тогда, во время обсуждения планов этого наступления, Бочаров видел, как светлело, искрясь заразительным блеском разгоревшихся глаз, подсиненное усталостью, лицо Хрущева при упоминании городов и сел, которые должны были освободить советские войска, Бочаров видел также, как стремительно и порывисто бегал по карте его карандаш, прочеркивал пути движения дивизий, корпусов и армий, как задерживался этот карандаш, медленно обчерчивая границу украинских земель, на которые после двух лет вражеской оккупации вступят вскоре советские воины.
— Только не брать города и населенные пункты в лоб, — несколько раз повторял он. — Везде, где будет малейшая возможность, обходить их, блокировать, окружать вражеские гарнизоны. Так будет меньше разрушений и меньше жертв в войсках и среди местного населения.
Эту же мысль повторял он в каждом батальоне и полку, в каждой дивизии и бригаде, каждому командиру во время своей поездки в войска. Обычно спокойный и неторопливый, он сердился, когда докладывали ему о лобовых атаках и почему-то вошедших в особую моду штурмах городов и сел, которых было так много на пути наступающих войск.
— Штурм, штурм, — нетерпеливо оборвал Хрущев молодого командира дивизии, чеканившего план овладения большим селом на берегу реки Ворскла. — Зачем штурмовать, когда можно взять простым обходом через вот эти холмы и высоты. Село-то в низине, а вокруг возвышенность. Обрушьте весь огонь по этим высотам, захватите их танками и пехотой — и ни один фашист не усидит в селе. Садитесь-ка, полковник, с командиром дивизии, — сказал он Бочарову, — и переработайте весь план наступления. Никаких лобовых атак и бессмысленных штурмов! Обход, охват, удар с тыла — вот основа всех действий в наступлении. Как можно меньше жертв и разрушений, как можно больше ума, гибкости и воинского мастерства!..
— Итак: пятнадцать минут огня всей артиллерии, залп реактивных минометов — и город взят, — насмешливо говорил он другому командиру дивизии, — так что ли, Петр Андреевич?
— Так точно, Никита Сергеевич, — не поняв иронии Хрущева, с готовностью ответил польщенный его вниманием пожилой генерал. — Огневых средств достаточно, все сметем!
— Да, да. Теперь огневых средств достаточно. Не приходится, как в сорок первом году, каждую пушчонку учитывать, — задумчиво проговорил Хрущев и, приглушенно вздохнув, тихо спросил:
— А где твоя семья, Петр Андреевич?
— В Сибири, — совсем растроганно ответил генерал, — я же с дивизией оттуда приехал.
— Далековато, далековато, — с затаенной грустью проговорил Хрущев и, резко подняв голову, в упор посмотрел на генерала. — А как бы вы чувствовали себя, Петр Андреевич, если бы ваша семья жила не в Сибири, а вот в этом городке, на который вы нацелили более трехсот орудий и минометов и восемнадцать батарей «катюш».
Генерал багрово покраснел, судорожно дернул серебристой головой и невнятно пробормотал:
— Война же… Необходимость, Никита Сергеевич…
— Конечно, война, конечно, необходимость, — подтвердил Хрущев и, глядя прямо в растерянные глаза генерала, положил руку на его плечо.
— Вот что, Петр Андреевич, — мягко сказал Хрущев, — даю тебе в помощь полковника Бочарова. У него солидный опыт планирования наступления, да и генштабист он к тому же. Пересмотрите-ка с ним весь план действий дивизии. Тщательно, внимательно, критически пересмотрите. А я пока в полки ваши загляну, с людьми потолкую.
Объезжая одну дивизию за другой, Бочаров поражался кипучей неугомонности Хрущева. С рассвета и до темна неторопливой походкой ходил он по подразделениям, часами говорил с солдатами и офицерами, заглядывал на кухни, склады, медпункты, осматривал оружие и технику, терпеливо, то хмуря широкий лоб, то озаряясь заразительной улыбкой, выслушивал множество людей, часто говорил сам, то с той же веселой улыбкой, то резко и требовательно, подчеркивая и поясняя свои мысли меткими пословицами, поговорками, стремительными жестами подвижных рук. А как только сгущалась темнота, он уединялся с командирами, с политработниками, с хозяйственниками в землянках, в блиндажах, в скрытых лесами палатках, опять слушая, осаждая собеседника множеством вопросов, растолковывая и объясняя, как лучше и целесообразнее действовать, как поступить в конкретных условиях обстановки. И почти в каждой дивизии или бригаде, найдя какие-либо недостатки, он тихо, с затаенным недовольством в голосе говорил Бочарову:
— Займитесь, Андрей Николаевич, помогите товарищам.
— Вы не в обиде, Андрей Николаевич, что я столь обильно нагружаю вас работой? — возвращаясь в штаб фронта, с лукавой улыбкой спросил как-то Хрущев.
— Что вы, Никита Сергеевич, я так рад, — с жаром воскликнул Бочаров. — Это же… Это же настоящее, живое дело!
— А вы по живому делу, видать, всерьез соскучились. Надоело в больших штабах сидеть и все контролировать, контролировать? Правда?
Словно уличенный в недостойных мыслях, Бочаров отвел глаза в сторону и, стараясь говорить как можно спокойнее, смущенно проговорил:
— Работа у меня очень интересная и, я понимаю, очень нужная, только…
— Только хочется самому, засучив рукава, в полную силушку потрудиться, — закончил его невысказанную мысль Хрущев.
— Очень, — чистосердечно признался Бочаров.
— Законное, абсолютно законное стремление, — сказал Хрущев и смолк, с грустью глядя на плывшие навстречу машине изрытые окопами и избитые воронками пустынные поля.
* * *
Всю ночь со второго на третье августа 1943 года северо-западнее Белгорода по ходам сообщения с севера на юг, из тылов к переднему краю двигались стрелки, автоматчики, пулеметчики, бронебойщики, редкие группы саперов и связистов. Они старались идти как можно тише, не лязгать оружием и инструментами, не говорить и не кашлять. И все же, несмотря на жесточайшие предосторожности, в зыбкой полутьме куцей летней ночи от множества одновременно передвигавшихся людей плыл, все нарастая к тылу, странный на этих безводных просторах шорох, похожий на шум морского прибоя. В разных местах с юга, из траншей немецко-фашистских войск взлетали осветительные ракеты. Шорох замирал и, как только, отгорев, рассыпалась искрами ракета, вновь плыл, приближаясь к переднему краю и растворяясь там.
Дальше в тылах, в двух, трех, пяти километрах от переднего края, рокотали моторы, фыркали и стучали подковами лошади, приглушенно лязгал металл, стучали колеса, и уже, почти не таясь, переговаривались люди.
А еще дальше, так же с севера на юг, с открытыми люками ползли совсем черные в темноте колонны танков, броневиков, бронетранспортеров. В балках, в лощинах, реденьких рощах и жалких остатках разбитых сел они растекались в стороны и замирали точно так же, как замирало движение пехотинцев на переднем крае.
К рассвету все стихло. Когда брызнули первые лучи солнца, все обширное пространство северо-западнее Белгорода было безлюдно, словно за ночь ничего не произошло и все оставалось точно таким, как вчера, позавчера и в другие дни полуторанедельного затишья на этом участке фронта.
— Доложите командиру корпуса: «Дивизия и все приданные ей части заняли исходное положение и готовы к наступлению», — приказал генерал Федотов своему начальнику штаба и вышел из душного блиндажа.
В окопе наблюдательного пункта, опираясь локтями на бруствер, сутулился генерал Катуков. В такой же позе, напряженно глядя на закрытые дымкой вражеские позиции, стоял он и час назад, когда Федотов ушел в блиндаж, чтобы принять доклады командиров частей о занятии исходного положения для наступления.
— Вы бы вздремнули, Михаил Ефимович, — подошел к нему Федотов.
— Не могу, — шумно вздохнул Катуков, — уж кажется, черт знает, в каких только переделках не бывал. Как говорят, огни и воды и не только медные, а даже ржавые трубы прошел, но как только предстоят серьезные бои, совладать с собой не могу. И главное знаю же, точно знаю, что все сделано, все готово, причин для волнения нет, а нудит и нудит на душе, словно червяк подтачивает, не могу ни спать, ни есть, ни думать спокойно, пока бои не начнутся. Вот кому позавидуешь, — кивнул он на темное углубление окопа, где, закутавшись в плащ, свернулся опять прибывший в дивизию Федотова полковник Столбов, — храпит, как целый квартет оркестровых басов.
— Простите, товарищ генерал, — сбросив плащ, приподнялся Столбов, — может и дал небольшой концертик, но вот уже больше часу, как мои инструменты бессильно молчат.
— Что ж такое, рассохлись что ли? — подмигивая Федотову, усмехнулся Катуков.
— Тональность потеряли в предчувствии свиста, а не аплодисментов в сегодняшнем концерте, — оправляя китель и причесывая растрепанные волосы, ответил Столбов.
— Что вы говорите? — иронически воскликнул Катуков. — Неужели все так мрачно?
— Мрачно не мрачно, а все же хмарновато, — в тон Катукову ответил Столбов и, кивнув головой в сторону противника, настойчиво спросил:
— Сколько он своих зверей бронированных против каждых десяти ваших коробочек может выставить?
— Сколько точно будет их танков против наших десяти, сказать трудно, но в общем-то у нас танков в шесть-семь раз больше, — ответил Катуков.
— Во! — резко взмахнул крупной головой Столбов. — Вы в семь раз сильнее противника и все же говорите, что червячок вас подтачивает. И пушкари тоже, небось, охают да тревожатся. У них тоже беда: против каждой немецкой пушки они выставили шесть своих. Во! Шесть против одной! — еще резче встряхнув головой, подчеркнул Столбов. — А что нам, бедным авиаторам, делать? Не семь и шесть против одного, а всего лишь десять своих самолетов против девяти фашистских можем выставить мы. Десять против девяти! От такой арифметики не очень-то вздремнешь!
— Не горюй, полковник, не привыкай хныкать, — жилистой рукой дружески похлопал Катуков по плечу Столбова, — в сорок первом не десять против девяти, а один против десяти, а то и еще меньше бывало, но выдержали. И не только выдержали, а повернули их от Москвы и погнали назад. Я помню, — помолчав, с блуждающей на лице улыбкой продолжал Катуков, — перед Московским наступлением считали мы, считали, мозговали, мозговали и даже на самом главном направлении не могли сосредоточить и десяти танков на километр фронта. А сейчас мы бросим до семидесяти танков на каждый километр фронта и не на каком-то одном направлении, а в широченной полосе, которую и пушкой насквозь не прострельнешь.
— Да, под Москвой… — увлекся воспоминаниями и Федотов, — под Москвой мы еле-еле наскребли два десятка орудий и минометов на километр фронта.
— А теперь? — оживленно спросил Катуков.
— Чуть-чуть больше, — усмехнулся Федотов и, погасив усмешку, вполголоса добавил:
— Двести тридцать орудий и минометов на каждом километре всего фронта наступления.
— Во! — вновь с укоризной воскликнул Столбов. — Такой махиной не то что какую-то оборону фрицевскую прорвать, можно высоченные горы свернуть. А нам опять понатащили фрицы свежих авиационных частей со всей Европы и будь здоров — кувыркайся с ними в воздухе один на один.
— Ничего! — с жаром проговорил Катуков. — Вот войдут наши гвардейцы в прорыв и начнут аэродромы фашистские прочесывать, враз соотношение сил в воздухе изменится.
— Четыре сорок шесть, — взглянув на часы, озабоченно сказал Федотов, — сейчас дадим первый пятиминутный огневой налет всей массой артиллерии и минометов.
— А мы сразу же после этого удара бросим бомбардировщики на тылы и огневые позиции фашистской артиллерии, — сказал Столбов, прилаживая шлемофон.
— А я буду вздыхать на ваши действия глядючи и ждать своего часа, — шутливо добавил Катуков и, привалившись на бруствер, вновь устремил взгляд на вражеские позиции.
* * *
— Лексей, та що ж хиба тэбэ цэй хваршмак ни по ндраву? — по обыкновению подшучивал над Алешей Тамаевым Гаркуша, успевая одновременно и балагурить и неуловимо поглощать макароны с мясом.
Давно привыкший к Гаркуше, Алеша только молча улыбался и еще напряженнее вслушивался в гул канонады и свист пролетавших в вышине снарядов и мин.
Уже второй час, все нарастая и расширяясь, продолжалась наша артподготовка. Вначале Алеша смотрел на кипевший метрах в восьмистах впереди шквал огня и дыма, потом, потеряв к нему всякий интерес, сел на дно окопа и, когда принесли завтрак, почти совсем забыл, что над головой воет раскаленный металл, а совсем недалеко впереди ахают тысячи взрывов. Но, уж почти окончив завтрак, он вспомнил вдруг, как всего месяц назад по тому же самому месту, где сидел он, все сотрясая и давя, била фашистская артиллерия. При одном этом воспоминании у него по всему телу пробежала изморозь и непослушно задрожали пальцы. На мгновение подумалось, что сейчас наша артиллерия смолкнет и опять, как тогда, месяц назад, ударит противник. Он решительно отогнал эту мысль, но она вернулась опять, теперь уже не оставляя и все властнее захватывая его. Он не доел макароны, встал и прижался грудью к стенке окопа.
— Т… т… ты что, Алеша? — окликнул его Саша Васильков, позавчера вернувшийся из медсанбата и назначенный командиром расчета, в котором были только Гаркуша и Алеша. Саша был совсем здоров, но от сильной контузии все еще заикался иногда, особенно когда волновался и спешил высказать свои мысли.
— Так просто, посмотреть хочется, — ответил Алеша, мельком взглянув на Сашу, и в этот самый момент уловил то новое, что подсознательно отметил он еще вчера, и никак не мог определить, что это было. Светлые, всегда веселые Сашины глаза с большими зрачками словно померкли отчего-то и смотрели хоть и спокойно, но с заметной грустью и какой-то невысказанной болью. Такое же выражение скрытых переживаний таилось и на побледневшем с опавшими щеками лице Василькова.
Саша хотел было сказать что-то, но видимо не смог или побоялся, что не сможет твердо выговорить первое слово, только судорожно дернул головой и застенчиво опустил глаза.
— Как завтрак? — здороваясь, спросил вышедший из хода сообщения майор Лесовых.
— О… о… очень замечательный, — багрово покраснев, с натугой проговорил Васильков, и Алеша так же, как и он, смущенно опустил глаза.
Лесовых не видел еще Василькова после возвращения в роту, хотел спросить его о здоровье, но, заметив его смущение, явно вызванное заиканием, присел на выступ окопа и, кивком головы пригласив пулеметчиков садиться, весело сказал:
— Вот и опять на нашей улице праздник начинается!
— Пид такой оркестр, та з таким фейерверком можно гульнуть — воскликнул Гаркуша. — Цэ нэ як тоды, колысь хриц колошматил нас!
— Да, теперь совсем другое дело, — задумчиво проговорил Лесовых и, пристально посмотрев на Гаркушу, добавил: — И земля украинская рядом, всего полтора десятка километров.
— Эх, товарищ майор, хучь верьте, хучь не верьте, — строго нахмурив кустистые брови, с еще большим жаром воскликнул Гаркуша, — во сне стал видеть землю украинскую. Я вить распробродяга из всех бродяг. И где только меня черти не носили! Уж не говорю там про Сибирь таежную, где я, наверно, дерев тыщь сто свалил и Мурманск распрохолодный. В Ташкенте, даже в городе этом, что отцом яблок называется, в Алма-Ате побывал. Не совру: заколачивал я гарно. Не то, что в Одессе на бычках да барабульке. А вот приеду в новое место какое, обжиться еще не успею и опять Одессой и во сне и в здравом рассудке брежу. А теперь, ну, просто сил нету. Хоть бы глазком одним на море глянуть.
— Скоро, совсем скоро и Днепр увидите и море, — сказал Лесовых, — война уже явно переломилась и на убыль пошла. Вот рванем сегодня и — как в гражданскую войну говорили, — даешь Харьков! Даешь Днепр! Даешь Киев и Одессу!
— Ой, товарищ майор, — без обычного притворства вздохнул Гаркуша, — далеконько еще до Одессы. Если пешком шагать, пятки до костей сотрешь.
— А… а… а ты их салом смажь, — шутливо бросил Саша Васильков.
— Точно! — с готовностью подхватил Гаркуша. — А ну, Лексей, — подтолкнул он Алешу, — пулей на кухню и скажи, что Потап Гаркуша сало требует.
— Только не топленого, а шпиг, окорочок или грудинку на крайность, — весело добавил Саша.
— Точно! — с напыщенной строгостью подтвердил Гаркуша. — Тильки щоб та свинятина нешкуреная была, а паленая. Щоб кожуринка румяненькая, як персик переспелый, и щоб на зубах похрустывала.
Лесовых, улыбаясь, смотрел на веселых пулеметчиков и настороженно вслушивался в гул неумолкавшей артподготовки. Он всю ночь ходил по подразделениям, в шести ротах побывал на партийных и комсомольских собраниях, много выступал и говорил с солдатами, но усталости совсем не чувствовал. Он хотел до начала атаки посидеть с пулеметчиками, немного отдохнуть, но в окоп вбежал празднично-сияющий, раскрасневшийся так, что совсем не было видно веснушек, Дробышев и, не заметив Лесовых, одним духом выпалил:
— Приготовиться к выдвижению на рубеж атаки! Простите, товарищ майор, — увидев Лесовых, все так же вдохновенно продолжал он, — сейчас — семь сорок, будет огневой налет «катюш».
— Командуйте, командуйте, — одобрительно сказал Лесовых, — я на минутку к вашим пулеметчикам заглянул. Если кто спрашивать меня будет, скажите — в третий батальон ушел. Ну, товарищи, — пожал он руки Дробышеву, Василькову, Гаркуше и Тамаеву, — желаю самого, самого лучшего!
Он хотел сказать хоть что-нибудь сильное и возвышенное, но мгновенно изменившиеся после приказания Дробышева лица пулеметчиков выражали одновременно столько решимости, напряжения и нескрываемой радости, что обычные слова казались Лесовых слабыми и неспособными выразить даже крохотную частичку их переживаний. Он еще раз стиснул руку самого молодого из всех — Алеши Тамаева и, взглянув в его коричневые с огромными зрачками глаза, с силой прижал его к себе.
— Идите, друзья, — задыхаясь, прошептал Лесовых, — идите смело вперед. Там наше счастье, там наша победа!
Лесовых уже скрылся за поворотом хода сообщения, а Алеша все стоял растерянно, чувствуя, как буйно стучит кровь в висках и глаза туманятся от нежданных слез.
«Да мы, да мы, товарищ майор, — мысленно сказал он замполиту, — мы их так погоним, так погоним, что в Днепре утопим».
Когда, опомнясь, повернулся он лицом к фронту, над позициями полыхали тысячи взрывов реактивных мин, а из нашей первой траншеи, словно чудом вырастая, стремительно выскакивало множество людей и кто пригибаясь, кто — в полный рост, бежали туда к сплошной стене синевато-коричневого огня и дыма. А в вышине все гуще и плотнее шелестели снаряды, улетая куда-то за разлив огня и дыма.
— Стрелки пошли, и нам пора, — с заметной дрожью в голосе проговорил Саша Васильков и, перекинув через плечо связку из шести коробок с пулеметными лентами, воскликнул:
— За мной! Вперед!..
Схватив вместе с Гаркушей левой рукой пулемет за хобот, а правой две коробки с лентами, Алеша побежал вслед за Васильковым, совсем не чувствуя ни тяжести катившегося пулемета, ни патронов в коробках, ни собственного тела. Впереди, неоглядно растянувшись вправо и влево, густой цепью бежали стрелки. Позади них по двое, по трое, по пять человек так же спешили к густевшему дыму пулеметчики, бронебойщики, минометчики, связисты. На мгновение Алеше показалось, что эта огромная лавина людей, как штормовой накат, ворвется в дым и неудержимо, не останавливаясь, покатится на юг, к украинским землям и дальше вперед, где как он знал по карте, распластался синий разлив Днепра. Но бежавшие первыми стрелки вдруг остановились почему-то почти у самого края призрачной пелены дыма и начали падать. Подбегавшие к ним другие стрелки также падали, словно встретив непреодолимое препятствие.
«Остановили!» — опалила сознание Алеши отчаянная мысль, но он тут же понял, что это была не атака, а всего лишь выход на рубеж атаки. Стрелки падали не под силой вражеского огня, а чтобы передохнуть, собраться с силами, выждать, когда наша артиллерия перенесет огонь в глубину, и уж тогда кинуться в атаку. Развернув пулемет и упав рядом с Гаркушей, Алеша привычно откинул крышку патронной коробки и вытащил конец ленты.
Снаряды и мины рвались совсем рядом впереди, где были вражеские траншеи. В сплошном грохоте потонули людские голоса. Не слышно было даже рева и лязга танков, вынырнувших из лощин позади наших позиций и приближавшихся к залегшим на рубеже атаки стрелкам.
— Силища, неудержимая силища! — только по движениям губ понял Алеша, что прокричал бледный от волнения Саша Васильков.
Гаркуша, привстав на колени и что-то крича, махал руками лежавшим впереди стрелкам. Те, ничего не слыша, но видимо хорошо понимая Гаркушу, ответно махали касками, автоматами, показывая вперед, где в дыму и огне скрывались вражеские позиции.
Внезапно грохот взрывов смолк. Набирая скорость, взревели позади танковые моторы, из края в край призывно пронеслось «В атаку! Вперед!», и тысячи лежавших людей вскочили, перемешались с обгонявшими их «тридцатьчетверками» и, паля из автоматов, винтовок, пулеметов, кинулись в еще не рассеявшийся дым. А еще дальше, где-то за первыми траншеями противника, тысячеголосо разрезая воздух, опять сплошным гулом били наши артиллерия и минометы.
Когда, вскочив и побежав вслед за стрелками, расчет Василькова приблизился к темному, изрытому воронками взрывов углублению, Алеша понял, что это была та самая первая траншея противника, на которую с трепетом и затаенным страхом смотрел он больше четырех месяцев. Он хотел было приостановиться, хоть бегло оглядеть это так знакомое издали место, но Саша Васильков, громыхая бившими по его спине и груди патронными коробками, повернул распаленное лицо с огромными сверкающими глазами и властно прокричал:
— Не задерживаться! Вперед! Не отставать от стрелков!
Перетаскивая пулемет через траншею, Алеша заметил только какие-то обрывки ядовито-зеленой одежды, расплющенную немецкую каску и бесформенное сплетение обожженного металла с торчавшим куском тонкого ствола.
Наступавшие впереди танки и стрелки продвигались так быстро, что пулеметчики напрягали все силы, чтобы не отстать. Позади них, облепив колеса и станины, с отчаянным упорством артиллеристы катили противотанковые пушки. Другие пушки выбрасывали вперед конные упряжки и тягачи. Прислуга развертывала их для боя, но, постояв несколько минут, вновь отставала от танков и стрелков и, вызвав упряжки и тягачи, неслась вперед.
Уже прошло не меньше получаса, как началась атака, уже остались позади четыре развороченных взрывами траншеи и неисчислимое множество пустых окопов, а противник огня еще не открывал. Только в разных местах грудились кучки грязных, оборванных и обезоруженных немецких солдат с землистыми, искаженными страхом лицами.
В низине вспыхнула было перестрелка, но туда из разных мест сразу же ринулось штук десять «тридцатьчетверок», и через несколько минут все стихло; Лавина людей и танков опять неудержимо покатилась на юг. В этом общем, все поглощающем движении Алеша ничего не видел, кроме бежавших впереди, справа, слева, товарищей, ничего не слышал, кроме гула моторов, топота ног и гомона людских голосов, ни о чем определенном не думал. Он находился в каком-то странном опьянении, стараясь лишь не отстать от Саши Василькова и не выпустить из руки горячего хобота пулемета. Не было ни страха, ни усталости, ни ощущения самого себя. Всем его существом властно завладело одно единственное стремление вперед и вперед, туда, где еще далеко-далеко расстилалась приднепровская равнина и мягко шелестели воды никогда не виденного им седого Днепра.
Глава сорок третья
— Что так сияете, — спросил Яковлев шагавшего на новом протезе Лужко, — радость какая или от погоды?
— В госпитале был, — возбужденно заговорил Лужко, — однополчанина навестил. Полтора года в одном батальоне воевали. В пулеметной роте парторгом был. Да вы знаете, вероятно, Анну Козыреву, шофера из автобазы. Муж ее, Иван Сергеевич Козырев. Изумительный человек!
— Если он под стать жене, то вполне могу представить. И как он, здоров?
— Здоров-то, здоров, но в армию больше не попадет, — с грустью сказал Лужко, опуская глаза.
— А вы еще тоскуете о военной службе?
— Да нет, сейчас уже привыкать начал, — приглушенно вздохнул Лужко, — а первые месяцы, ох, и лихо было. Думал, что жизнь окончена и впереди пустота, растительное существование.
— Привычка, говорят, вторая натура. Я вот себя без завода и представить не могу. Кажется, вырви меня из заводского коллектива и задохнусь, как рыба без воды. Да, — взглянул на часы Яковлев, — совсем забыл. У меня же чайник кипит. Пойдемте, Петр Николаевич, чайку попьем, до смены еще целых полчаса.
Яковлев жил в крохотной комнатушке дома заводоуправления рядом с парткомом. Единственное, упиравшееся в грязную стену соседнего дома окно тускло освещало давно не беленые стены, железную солдатскую кровать, накрытую байковым одеялом, забитую книгами этажерку и обширный стол, заваленный рулонами чертежей, стопками брошюр и книг, кипами старых и свежих газет.
— По фронтовому живете, — осматривая комнату, улыбнулся Лужко.
— Какой тут фронт, просто порядок некогда навести. Правда, у меня есть жесткий закон: каждую неделю генеральную чистку проводить. Ну, денек, два еще ничего, а уж к концу недели столько всего накопится, что и подступиться страшно.
— Ирина Петровна, — воскликнул Лужко, увидев на столе фотографию женщины в красивой рамочке. — Точно, она, Ирина Петровна.
— А вы знаете ее? — побледнев, с дрожью в голосе спросил Яковлев.
— Да как же не знать, — не заметив перемены в Яковлеве, пристально рассматривал фотографию Лужко, — у нас в полку старший врач. Если бы не она, я бы не сидел здесь. Эго же такая женщина! Ее в полку так любят, так любят…
Взглянув на суровое, нахмуренное лицо Яковлева, Лужко смолк, смутно догадываясь, что с Ириной Петровной у Яковлева было связано что-то нерадостное и, очевидно, даже тяжелое.
— А вы… А вам она кто? — смутясь, проговорил Лужко и под строгим, почти злым и отчаянным взглядом Яковлева опустил глаза.
— Моя неудавшаяся любовь, — ледяным, страшно спокойным голосом сказал Яковлев. — Точнее: моя растоптанная любовь.
Ошеломленный столь резким и откровенным ответом и особенно безжалостным и безнадежным тоном голоса Яковлева, Лужко перекладывал из руки в руки фотографию и не знал, что сказать.
— Простите, Александр Иванович, — с трудом проговорил он наконец и прямо посмотрел на Яковлева, — я чувствую, вам тяжело, что с Ириной Петровной…
— Теперь уже не тяжело, и с Ириной Петровной все кончено, — неторопливо перебил Яковлев.
— Но я не понимаю: такой человек, как Ирина Петровна, и вдруг…
— Никаких «вдруг». Обычная история. В юности любила одного, а потом встретила лучшего и — все, что было, быльем поросло.
— Не верю! — с горячностью воскликнул Лужко. — Кто другой — может быть, но Ирина Петровна… Не верю! Я всего полгода знал ее. Немного, вроде, времени. Но такие полгода равны десятилетию. Это же на фронте, и не где-нибудь, а в стрелковом полку. Там каждый человек на виду. Ничего не скроешь. И солдаты к подобным вещам так внимательны и так безжалостны. Чуть что-либо, и такая женщина — ничто в глазах солдата. А Ирина Петровна, — склоняясь к Яковлеву, с жаром продолжал Лужко, — да вы представляете, что такое Ирина Петровна в глазах солдат нашего полка? Идеал душевности и чистоты!
— Может быть, может быть, — болезненно морщась, пробормотал Яковлев.
— Да не может быть, а совершенно точно.
— Для меня сейчас это не имеет никакого значения.
— Но вы же ее любите, — все так же в упор глядя на Яковлева, прошептал Лужко.
— К несчастью, да, — вырвалось у Яковлева, но он тут же поднял голову, зло сверкнул глазами и с яростью сказал: — Любил когда-то, но все кончено, все сгорело. Давайте лучше пить чай и не будем ворошить старое.
Он старательно и внешне спокойно разливал чай, но Лужко видел, как дрожали его руки и все учащеннее вздымалась грудь. На мгновение Лужко представил себя на его месте, а Веру на месте Ирины Петровны и от этого представления чуть не уронил стакан.
— Простите, Александр Иванович, — отодвинув чай, решительно сказал Лужко, — вы можете на меня обижаться, это ваше дело, но я не могу молчать. Я не верю, понимаете, не верю, что Ирина Петровна лживая, вульгарная женщина.
— А я и не говорил этого, — холодно возразил Яковлев.
— Но вы же, вы…
— Я просто обманулся в ней. Вернее, она меня обманула.
— Не верю.
Яковлев с минуту напряженно смотрел на Лужко, потом болезненно сморщился и, достав из ящика стола письмо, бросил ему:
— Коль не верите, читайте!
— И все же не верю, — перечитав коротенькое, всего на полстранички письмо, воскликнул Лужко; — не верю ни в то, что написано, а в то, что вы думаете о Ирине Петровне. Да! Было что-то, несомненно было. Она сама прямо, честно, открыто пишет, что полюбила другого. И хоть в письме ничего не сказано, но я чувствую, что любовь та была неудачна, несчастлива. И то, какой я знаю Ирину Петровну, только подтверждает это. Она именно несчастна!
— Мне от этого не легче, — бросил Яковлев.
— Вот этого, простите, я не понимаю, — чувствуя нараставшее раздражение, сказал Лужко. — Если вы по-настоящему любили ее, то она не может быть безразлична для вас. Никогда не может. Любовь дается однажды и на всю жизнь.
— А вы любите Веру Васильевну?
— Если бы не любил, я бы не женился.
— И вы бы забыли, простили, если бы, пока вы были на фронте, она полюбила другого, пусть даже, как вы говорите, неудачно?
— Смотря, как бы сложилось все. Твердо знаю одно: Вера для меня на всю жизнь. Что бы ни случилось с ней, что бы она ни сделала, я никогда не забуду ее. Может, переживал бы, мучился, ненавидел, но никогда бы не забыл. А простил я ее или не простил, — в напряженном раздумье глухо продолжал Лужко, — это зависело бы только от нее. Видите ли, Александр Иванович, — вновь разгорячился Лужко, — самым главным в жизни я считаю честность. Ошибок, глупостей, необдуманных поступков может натворить всякий. Но не каждый может честно признаться в этом. Чаще всего ошибки и промахи скрываются именно от близких людей. Тут, видимо, сказывается желание казаться лучшим близкому человеку, чтобы сохранить его уважение. Нужно огромное мужество, чтобы человеку, мнением которого ты дорожишь, сказать горькую правду. Это я по себе знаю, — едва слышно закончил Лужко, и Яковлев понял, что говорил он о том недавнем прошлом, когда у него с Верой чуть было не произошел разрыв.
— Нет, Александр Иванович, — отогнав тревожные мысли, продолжал Лужко, — если бы у нас с Верой случилось что-то и она честно призналась в этом, я бы начисто выжег из своей памяти все, что было. И никогда бы, ни единым намеком не напомнил ей об этом. Но если бы… — металлически зазвучал голос Лужко, — если бы она скрыла и обо всем я узнал бы позже, от кого-то другого, то это был бы конец всему. Нельзя жить с человеком, который скрывает от тебя что-то, не говорит всей правды, пусть горькой, страшной, может быть, даже убийственной.
— А вы, Петр Николаевич, оказывается, философ, — натянуто улыбнувшись, сказал Яковлев.
— Не надо, Александр Иванович, — умоляюще остановил его Лужко, — вы же совсем не такой и совсем не так думаете. Простите, мне пора на работу.
Он поспешно встал и, не взглянув на Яковлева, вышел из комнаты.
В этот день Яковлев впервые ушел с завода в рабочее время. Тихими переулками он спустился к Яузе и прошел в Лефортовский парк. В знойных лучах полуденного солнца безмятежно дремала сияющая гладь прудов. Старые лозины, склонясь к воде, безвольно опустили вниз тонкие ветви. У ветхого с выбитым кирпичом мостика стояли молодой военный без фуражки и женщина в белом платье. Облокотясь на перила, они о чем-то задумчиво говорили, видимо, не замечая никого и ничего, что было вокруг. На пожелтевшей лужайке у нижнего пруда пестрела стайка парней и девушек, усевшихся тесным кружком под тенью древней липы. Они, видимо, пришли учить уроки, но книжки и портфельчики сиротливо лежали на земле, совсем позабытые их развеселившимися хозяевами.
У древней, почернелой беседки Миниха пожилой военный что-то горячо доказывал женщине с усталым, тронутым морщинами лицом. Передергивая плечами, она нетерпеливо слушала, потом опустила голову, долго стояла в раздумье, затем порывисто обняв военного, поцеловала его в щеку. Военный с силой прижал ее к себе, что-то зашептал на ухо, и Яковлев увидел, как нескрываемым счастьем сверкнули взглянувшие на него большие глаза женщины.
Стиснув зубы и стараясь ни о чем не думать, Яковлев пошел к стадиону, но на пути то и дело попадались парочки, то совсем молодые, то его возраста, то пожилые мужчины и женщины.
«Эх, Ира, Ира», — прошептал он, садясь на берегу верхнего пруда.
В подернутой зеленью воде скользили крохотные рыбки. У самого берега на илистой отмели, игриво наскакивая друг на друга, купалась пара воробьев. Где-то в ближнем доме напевно заиграло пианино, и Яковлев, едва услышав музыку, торопливо встал и почти бегом пошел на завод.
— Петр Николаевич, — пряча глаза и с трудом сохраняя спокойствие, подошел он к Лужко, — дайте мне адрес вашего полка…
Глава сорок четвертая
Большое, утопающее в садах село Березня, раскинув перепутанные улицы на обширной возвышенности, огромным пауком закрывало перекрестье шести дорог, которое должен был захватить полк Поветкина. Все эти четверо суток после прорыва вражеской обороны северо-западнее Белгорода, преследуя в беспорядке отступавшие немецкие части, полк без серьезных задержек продвигался на юг, с каждым днем все убыстряя движение. Минувшей ночью выскочившие далеко вперед разведчики Поветкина побывали в Березне, захватили там двух шоферов и одного кладовщика, которые показали, что в селе боевых частей нет и размещаются только армейские склады горючего и боеприпасов. Поэтому Поветкин с утра нацелил свои батальоны на овладение селом с ходу, охватывая его через высоты справа и слева.
И вдруг еще на подходе к селу и высотам батальоны встретили столь плотный и организованный огонь противника, что сразу же отскочили назад в лощину, залегли и начали окапываться. Генерал Федотов, заметно нервничая, сердито отчитал Поветкина за непредвиденную задержку наступления и потребовал немедленно овладеть селом. Поветкин и сам понимал всю важность перекрестка шести дорог, который мог затормозить наступление не только дивизии, но и всего корпуса.
Подтянув артиллерию и минометы, Поветкин еще дважды поднимал батальоны в атаку, и оба раза стрелки под вражеским огнем откатывались назад.
С востока, со стороны города Богодухов, куда направились все корпуса и бригады танковой армии Катукова, доносилась сильная канонада. Видимо, и там противник начал оказывать серьезное сопротивление.
— Черт знает что, — падая рядом с Поветкиным, озлобленно проговорил Лесовых, — я был и в первом и в третьем батальоне. Сила огня неимоверная. Кажется, сплошь пулеметы и пушки понаставлены.
— Как наши? — встревоженно спросил Поветкин.
— Рвутся вперед, но…
Лесовых смолк, рукавом гимнастерки вытер вспотевший лоб и, склонясь к уху Поветкина, вполголоса сказал:
— Уже полсотни раненых. Два взводных командира погибли. Еще одна такая атака и…
Он опять не договорил, судорожно дернул головой и беспокойно взглянул на Поветкина.
— Может, до ночи подождать, — помолчав, сказал Лесовых и сам же отверг свое предложение:
— Никак нельзя. Еще часа четыре светлого времени. Это же задержит все, что позади нас.
— Нет, нет, — согласился Поветкин, — нужно брать до темноты. Но как, как? — с отчаянием воскликнул он. — Если бы танки были, а они ушли на Богодухов и Харьков.
— Что это? — вскрикнул Лесовых, напряженно прислушиваясь. — Стрельба в селе. Кто же это?
Из укрытого садами села отчетливо доносились автоматные очереди, треск одиночных выстрелов, приглушенные взрывы гранат. Не успели Поветкин и Лесовых определить, что произошло, как впереди, где лежали стрелки первого батальона, взвилось раскатистое «ура», и широкая цепь всех трех рот россыпью бросилась к селу. Все резче и ожесточеннее хлестали автоматные и пулеметные очереди, перекатывались из края в край села гулкие взрывы, где-то позади церкви взметнулся черный клуб дыма и жарко запылали длинные языки пламени.
— Паника в селе, — поспешно прокричал по телефону Чернояров, — видимо, наши партизаны там. Мои роты уже ворвались на окраину.
Пожар в селе все разрастался. Рванул в небо второй клуб смрадного дыма. Из лощины к северной окраине, не ожидая команды, хлынули стрелки второго батальона.
По всему селу вразнобой ударили фашистские артиллерия и минометы, а из дальних садов и с высот на окраинах высыпали темные фигурки вражеских пехотинцев.
Группами и в одиночку они бежали прямо полем, видимо, намереваясь скрыться за холмами.
— Я в село, там сейчас самое главное, — прокричал Лесовых, выскакивая из окопчика.
— Подожди, вместе поедем, — остановил его Поветкин и вскочил в подъехавший вездеход.
Всего несколько минут назад безлюдное село кишело народом. Из подвалов и щелей вылезали женщины, детишки, старики, спеша навстречу бежавшим солдатам, обнимая и задерживая их.
— Наступать по левой дороге, не задерживаться. Не дать противнику опомниться, — приостановив машину, крикнул Поветкин командиру третьего батальона и положил руку на плечо Лесовых. — Иди во второй батальон. Наступать прямо через лес. Я выскочу на окраину и туда подтяну всю артиллерию.
Лесовых одним махом выпрыгнул из машины и бросился на северную окраину, где еще не утихла беспорядочная стрельба.
Поветкин тронул машину, но тут же остановился. К нему, широко разбрасывая ноги, бежал Чернояров.
— Все кончено, — на ходу крикнул он, — село занято. Первая и третья роты вышли на южную окраину. Вторая проверяет дома и сады. Врача нужно. У партизан раненые…
— Немедленно за врачом и санитарами, — приказал Поветкин шоферу.
В суматохе Поветкин не сразу разузнал, что же произошло в селе и кто открыл в тылах противника такую спасительную для полка стрельбу.
— Так где же партизаны, вы видели их? — спросил он Черноярова.
— Да партизан-то, собственно, только четверо: девушка и три парня, двое из них ранены. Они уже несколько дней скрывались здесь в селе, ну, собрали вокруг себя молодежь, несколько стариков, раздобыли немецкие автоматы и, когда мы подошли, решили ударить гитлеровцев с тыла.
— Товарищ подполковник, товарищ подполковник, — испуганным воплем прервал рассказ Черноярова ординарец Поветкина. — Военврач… Доктор… Ирина Петровна убита.
— Ирина Петровна, — забыв обо всем, вскрикнул Поветкин. — Где? Как?
— Там, партизан раненых перевязывала. Вышла из дома… Два снаряда… И…
Не дослушав ординарца, Поветкин бросился к дому у церкви.
Под сенью тополей у дома грудилась пестрая толпа военных и гражданских. Заметив бежавших офицеров, толпа расступилась, и Поветкин увидел санитарные носилки на земле и лежавшую на них Ирину. Военфельдшер Пилипчук и Марфа с Валей что-то делали, склонясь над ней.
Едва взглянув на лицо Ирины, Поветкин сразу понял, что судьба ее решена. Всегда нежные, с крохотными ямочками щеки ввалились, наливаясь мертвенной синевой. Полные розовые губы почернели, не закрывая ярко белевших зубов. Тусклые глаза смотрели отчужденно.
— Сергей Иванович, — увидев Поветкина, едва слышно прошептала она, — как все нехорошо, Сергей Иванович, раненых столько, а я вот…
Она пыталась поднять руку, но не смогла, обессиленно закрыла черные веки, и по щеке покатилась слеза.
— Ничего, Ирина Петровна, — с трудом подавляя страшную тяжесть в горле, проговорил Поветкин, — сейчас хирурга вызову, в госпиталь отправим…
— Пульс исчез, — держа руку Ирины, прошептал фельдшер Пилипчук.
— Да делайте, делайте что-нибудь! Спасайте, что вы шепчете, — отчаянно закричал на него Поветкин, но Пилипчук только ниже склонил голову, выпустил из своей руки безвольно упавшую на грудь Ирины ее руку и, видимо, так же с трудом владея собой, медленно снял фуражку. В толпе кто-то всхлипнул, и сразу же в несколько голосов пронзительно зарыдали женщины.
Поветкин, шатаясь, вышел из толпы.
— Сережа, — позвал его страшно знакомый, словно звучавший из какого-то потустороннего мира женский голос.
Поветкин ошеломленно остановился, встряхнул головой и испуганно осмотрелся. Никого из женщин поблизости не было.
— Сережа, — уже отчетливее, яснее и ближе раздался все тот же, удивительно знакомый голос.
Поветкин повернулся вправо и замер. Прямо к нему, от дома, где лежали раненые партизаны, бежала Нина.
* * *
Развертываясь все шире, наступление советских войск неудержимо катилось к Днепру. Пятого августа, через два дня после начала наступления Воронежского и Степного фронтов, Москва салютовала своим доблестным сынам, освободившим от гитлеровцев Орел и Белгород. В середине августа под городами Богодухов и Ахтырка продвижение советских войск замедлилось. Гитлеровское командование, собрав все свои резервы, нанесло в этом районе несколько сильных контрударов, пытаясь удержать Харьков и не допустить советские войска к берегам Днепра. Целую неделю западнее Харькова кипела ожесточенная борьба с фашистскими танковыми дивизиями. В это время дивизии Степного и Юго-Западного фронтов с трех сторон надвигались на Харьков, окружая оборонявшуюся там группировку из шестнадцати вражеских дивизий. В это же время, в третью неделю августа, правофланговые армии Воронежского фронта нанесли новый удар у города Сумы и начали стремительно продвигаться на юго-запад между реками Ворскла и Псел, глубоко обходя группировку фашистских танковых дивизий между городами Ахтырка и Богодухов. В начале двадцатых чисел августа советские войска, заняв города Зеньков, Ахтырка и Котельва, поставили под угрозу полного окружения и эту фашистскую группировку. 22 августа, стремясь любой ценой спасти свои войска, Гитлер отдал приказ об отходе к Днепру. А 23 августа Москва вновь озарилась залпами салюта, отмечая освобождение Харькова.
Все это время, когда развертывалось наступление, Андрей Бочаров почти не был в штабе фронта, разъезжая по армиям, корпусам и дивизиям, то под Богодухов и Ахтырку, то в район Сум, то опять к Ахтырке и Котельве. Дважды пришлось ему бывать совсем недалеко от дивизии Федотова и дважды он, мучительно борясь с собой, не решился заехать туда.
Утром 24 августа, только что возвратясь из освобожденного Зенькова, он написал доклад о своей поездке и до прихода генерала Решетникова прилег отдохнуть. Множество впечатлений от поездки теснилось в голове и не давало уснуть. Опять вспомнилось, как вчера вечером, находясь всего в двух десятках километров от дивизии Федотова, он мучительно боролся с желанием заехать туда и повидаться с Ириной.
«Нет! — решительно сказал он себе, — в следующую поездку обязательно заеду».
Немного успокоясь, он закрыл глаза и вздрогнул от резкого телефонного звонка. Вяло подняв трубку, он ответил, и тут же вскочил с постели. По телефону говорил Федотов каким-то странным, с трудом узнаваемым голосом.
— Ирина Петровна погибла, — поздоровавшись, удивительно медленно сказал он, — вчера в Харькове похоронили. Я искал тебя и не мог найти.
Он говорил еще что-то, но Бочаров ничего не слышал. Страшная, все подавившая тяжесть навалилась на него. Он сидел, тупо глядя на упавшую на стол телефонную трубку. Не было ни мыслей, ни чувств, ни, казалось, самого себя. Одна острая, разламывающая боль давила его.
— Доброе утро, — поспешно войдя в комнату, поздоровался генерал Решетников, — как отдохнули? Поспали немного? Да что с вами, Андрей Николаевич? — встревоженно спросил Решетников. — Вы же белее стены. Нездоровится, что ли?
— Н… нет, — с трудом пробормотал Бочаров. — Просто устал. Дорога длинная, тяжелая…
— Ну, сейчас вы мгновенно оживитесь, — чему-то радуясь, сказал Решетников и, приняв торжественно-важную позу, отчеканил:
— Поздравляю вас, Андрей Николаевич, во-первых, с присвоением звания генерал-майора, а во-вторых, с назначением на должность начальника штаба армии.
— Спасибо, — прошептал Бочаров, с трудом понимая, что сказал Решетников.
— Пошли в Военный совет, — подхватил его Решетников под руку, — Ватутин и Хрущев приглашают вас.
Яркое солнце, бившее из-за вершин, усыпанных плодами яблонь, ослепило Бочарова. Он резко встряхнулся, пытаясь овладеть собой, но тяжесть не исчезала.
— Новая работа, самостоятельная. Это же замечательно, — не поняв, что творилось с Бочаровым, оживленно говорил Решетников. — Вы можете очень многое сделать, тем более сейчас, когда развертываются такие события.
«Новая работа, — машинально повторял про себя Бочаров, — много сделать… Новая… А ее похоронили в Харькове…»
Только у входа в кабинет Ватутина Бочаров немного опомнился и попросил у адъютанта холодной воды.
— Идите один, я здесь подожду вас, — подтолкнул его к двери Решетников.
Войдя в превращенную в кабинет командующего фронтом низенькую крестьянскую комнатенку с подслеповатыми оконцами, Бочаров хотел, как положено, доложить о прибытии, но у порога встретил его улыбающийся Хрущев и, протягивая руку, заговорил приветливо и весело:
— Рад поздравить вас, Андрей Николаевич, и с генеральским званием, и с…
Хрущев лукаво прищурился, пристально посмотрел на Бочарова и тут же, подавив веселость, строго спросил:
— Вы что, не довольны новой должностью?
— Очень доволен, Никита Сергеевич, — смущаясь под взглядом Хрущева, ответил Бочаров, — надеюсь оправдать доверие, работать в полную силу.
— И даже, если потребуется, сверх сил, — решительными взмахами руки подчеркивая каждое слово, добавил Хрущев.
— Так точно, — воскликнул Бочаров, — все, что у меня есть, отдам работе.
— Вот что, товарищ Бочаров, — поздравив молодого генерала, сказал Ватутин, — предшественник ваш оставил не весьма лестное наследство. Штаб неслажен. Люди там хорошие, но работают вразброд. А для штаба самое главное — четкая слаженность и полная взаимозаменяемость. Наведите порядок, поднимите людей, сцементируйте их вокруг себя. И все это нужно сделать на ходу, во время наступления. Видите, — показал Ватутин на карту оперативной обстановки, — на всем фронте наши войска полным ходом к Днепру устремились.
— Настоящее половодье, — вставил Хрущев.
— Именно половодье, — согласился Ватутин, — и этим половодьем нужно умело управлять. Все ручейки в единое русло направить, слить в могучий поток, смять, сбросить с левого берега Днепра вражеские войска и, ни на секунду не задерживаясь, ворваться на правый берег, захватить плацдарм и продолжать наступление дальше, к нашим государственным границам.
Ватутин смолк, видимо, давая возможность Бочарову подумать. Молчал и Хрущев. Он склонился над картой, и Бочаров увидел, как и тогда, при рассмотрении плана белгородско-харьковской операции, стремительное движение его карандаша. Только теперь карандаш от тех прежних мест ушел намного западнее и скользил по голубым извивам Днепра, задерживаясь у Киева, потом спускаясь вниз к Черкасам, к Днепропетровску, к Запорожью, выходя на государственную границу и вновь возвращаясь к Киеву.
— Фашисты на весь мир кричат о «Днепровском вале», — не отрываясь от карты, заговорил Хрущев, — называют Днепр последним рубежом, дальше которого они ни на шаг не отступят. Это конечно, геббельсовская чепуха. Но помните, главное сейчас — форсировать Днепр с ходу. Если мы это осуществим, будут спасены тысячи жизней и ускорено приближение конца войны. Посылаем мы вас в армию, которой предстоит форсировать Днепр.
— Все сделаю, — сказал Бочаров.
— Ну и чудесно. Желаю успехов! — воскликнул Хрущев и сильно пожал руку Бочарова.
— Отправляйтесь в свой штаб — и за работу, — так же пожав руку Бочарова, сказал Ватутин.
— Разрешите, — с дрожью в голосе попросил Бочаров. — Разрешите в Харьков заехать. Вчера, — едва владея собой, с трудом продолжал Бочаров, — вчера там похоронили… одного моего друга похоронили.
— Пусть съездит, Николай Федорович, — взглянув на Ватутина, сказал Хрущев.
— Только прошу не задерживаться, — согласился Ватутин.
— Спасибо, — прошептал Бочаров и, забыв попрощаться, выскочил из комнаты.
Глава сорок пятая
— Ну, капитан, поздравляю, не смотри так, не смотри, честно поздравляю, — басил Полунин, цепко сжимая пальцы Лужко. — Был ты в армии капитаном, теперь на заводе капитанствуй. Только, эх, — шумно выдохнул он, — чует моя душенька, что немало ты мне кровушки поиспортишь. Ты же въедливый, как вцепишься — и клещами не оторвешь. Когда в ОТК сидел ты, там я еще прицыкнуть мог, а теперь председатель завкома, профсоюзный вождь. Да ты же вконец изведешь меня, а? Изведешь?
— Буду стараться, Семен Федотович, — отшутился Лужко, все еще находясь в радостном возбуждении, охватившем его в самом начале заводского профсоюзного собрания.
— Во! Видите! — лукаво прищурился Полунин, обращаясь к Вере, — и дела еще не принял, а уже грозится. Вера Васильевна, голубушка, вся надежда только на вас: возьмите вы своего суженого в ежовые рукавички, не дозволяйте ему нас, несчастненьких, кусать да подкусывать.
— Что? Уже нового председателя завкома обрабатываешь? — выходя из комнаты парткома, весело проговорил Яковлев. — Ушлый мужик ты, Семен Федотович.
— Будешь ушлым, — с притворной горечью вздохнул Полунин. — Разнесчастная должность эта директорская. Все жмут на директора. В цехах чего-нибудь не хватает, куда — к директору; план не выполнили, кто виноват — опять директор; несчастье какое — опять же директора за шкирку. А чуть директор где-нибудь промахнулся, тут на него и рабочие с критикой и завком с наставлениями, и партком с требованиями. Я уж не говорю о высшем начальстве. Тут на своем заводе-то ходи да оглядывайся.
Вера редко видела Полунина таким шутливым и веселым. Обычно он был строг, немногословен и часто даже по мелочам раздражался.
— Ну, ладно, — сурово, словно мгновенно переродясь, сказал Полунин, — все решено, теперь за дело, Петр Николаевич, я на вас большие надежды возлагаю. Засучивайте рукава и поднимайте профсоюз.
Еще на собрании, когда начальник второго цеха предложил председателем заводского комитета профсоюзов избрать Лужко, Вера вздрогнула от радости и, боясь взглянуть на сидевших рядом рабочих, замерла в нетерпеливом ожидании. Она страстно хотела и трепетно боялась избрания Петра. Как и для каждой любящей женщины, он был для нее самым красивым, самым умным и самым смелым человеком на свете, но в ее сознании он жил еще не тем Лужко, каким он стал теперь, а студентом, веселым, неугомонным парнем, до застенчивости скромным и, как говорили тогда, «совсем неактивным в общественной работе». Председателем же завкома должен быть самый общественник из всех общественников, и Вера не могла представить, как будет Петро вести себя, заняв эту беспокойную должность. Особенно тревожили отношения с Полуниным. Но все опасения ее оказались напрасны. Выступая на собрании, Петро говорил легко, свободно, с твердой убежденностью и внутренним жаром — рабочие слушали его внимательно, часто одобряя его мысли приглушенным гулом. И Полунин, когда обсуждали кандидатуру Лужко, говорил о нем душевно и тепло, словно и не было столкновения в ОТК, из-за которого завод вынужден был перестраивать все производство. И теперь, глядя, как Полунин, Яковлев и Лужко, спокойно, как равные, обсуждали заводские дела, Вера окончательно успокоилась. Она ловила каждое слово их разговора и дивилась, как смог Петро так быстро врасти во всю жизнь заводского коллектива и откуда он знал такие подробности, о которых она даже не догадывалась.
— Товарищи дорогие, — взглянув на Веру, укоризненно сказал Полунин, — да что же мы делаем-то! Болтаем, болтаем, а Вера Васильевна стоит и скучает. Хватит деловых разговоров, мы еще успеем и наговориться, и наругаться, пошли-ка по скверику прогуляемся.
— А вам, оказывается, и лирика не чужда, Семен Федотович, — весело рассмеялся Яковлев.
— Ты что же думал, я и родился сухим производственником, — полушутя, полусерьезно ответил Полунин, — нет, дорогой товарищ парторг, я даже стихи писал. Да еще какие! Про любовь, про луну, про шепот листьев и нежное дыхание весны.
— Учтем, Петр Николаевич, и редактора стенной газеты напустим на него. А то, что это за газета, ни одного стишка.
— И напишу, — с притворной суровостью сказал Полунин. — Только имей в виду: не лирические излияния, а едкую сатиру про завком, про партком. Так что держитесь начальство: и партийное, и профсоюзное!
Лужко молча улыбался, и по его лицу Вера видела, что Петру сейчас легко и радостно. Весел был и Яковлев. Он перебрасывался шутками с Полуниным, обращаясь за поддержкой то к Вере, то к Лужко, удивительно радостными глазами глядя на подернутые желтизной деревья, на кофейно-розоватое предзакатное небо, на тихие домики по сторонам сквера.
По рассказам Лужко Вера знала о его отношениях к военному врачу Ирине, знала, что он написал ей большое письмо и теперь нетерпеливо ждал ответа.
— Да-а, вот и еще одно лето промелькнуло, — задумчиво проговорил Полунин, — уже осень надвигается, а там и зима. Эх, сейчас бы в лес куда-нибудь подальше, надышаться вволю…
— Петр Николаевич, — воскликнул Яковлев, — ловим директора на мечтательном настроении. Давай-ка, Семен Федотович, десяток грузовиков, посадим рабочих и на все воскресенье в лес, по грибы.
— Замечательно! — подхватила Вера. — Говорят, столько грибов, столько грибов…
— Идея заманчивая, — согласился Полунин, — вот только с бензинчиком беда.
— Беру на себя, — сказал Яковлев, — никогда еще блатом не пользовался, но для такого дела ради общества рискну. Появился в Главке один мой однокашник по институту. Он, как раз, горючим ведает. Как-нибудь уговорю.
— Да мы сами сэкономим, Семен Федотович, — совсем забывшись от радости, тряхнула Вера Полунина за плечо. — За одну неделю накопим. Петя, — прервав разговор, шепнула она Лужко, — смотри-ка, Иван Сергеевич.
По дорожке, грузно опираясь на палку, медленно шел Козырев. Опустив голову, он сутуло сгорбился, весь как-то странно сник, словно пережив тяжкое горе.
— Что с ним, Петя? — встревоженно спросила Вера и шепотом пояснила Полунину и Яковлеву. — Это муж нашей Анны Козыревой, с Петей вместе воевали.
— Иван Сергеевич, — негромко окликнул Козырева Лужко.
— А-а-а, Петр Николаевич, — устало подняв голову, проговорил Козырев, — а я к вам шел. Расстроился, Петр Николаевич, разволновался, горе у нас…
Он смолк, опять опустил голову и, ни на кого не глядя, с натужным хрипом сказал:
— Доктор наш полковой, Ирина Петровна погибла…
— Иван Сергеевич, — метнув испуганный взгляд на Яковлева, пытался остановить Козырева Лужко.
— Ребята наши письмо прислали, — видимо не слыша Лужко, все так же болезненно и хрипло продолжал Козырев. — Осколками в грудь и в бок… В Харькове похоронили…
— Простите… мне… нужно… — чужим голосом сказал Яковлев и, ни на кого не взглянув, свернул в глухой, совсем черный от густых теней пустынный переулок.
Глава сорок шестая
Дробышев, вжимаясь в землю, лежал под коряжистым кустом рябины и краем глаза из-под каски смотрел на поникшие в безветрии жухлые травы. Метрах в двадцати-тридцати впереди, ударяясь в землю, цвенькали пули.
— Не взять, товарищ старший лейтенант, — сказал лежавший позади Васильков, — назад ползите. Он, как на ладони видит все, а сам курганом и буграми закрыт.
Васильков был несомненно прав, но Дробышевым овладело злое упрямство и желание во что бы то ни стало сбить этот проклятый пулемет, остановивший продвижение всего батальона. Он вновь попытался поднять голову, посмотреть на высоту, но, едва приподнявшись, тут же рухнул на землю. Над ним длинной очередью просвистели пули. От злости Дробышев стиснул зубы и пополз назад.
— Дозвольте, товарищ старший лейтенант, — умоляюще и строго заговорил лежавший у пулемета Гаркуша. — Вин же гад, всех перещелкает. Дозвольте с гранатами, ложбиной та по тим бурьянам пидповзти к нэму и — капут!
Нетерпеливо расстегнув ворот гимнастерки, Дробышев из-за куста посмотрел на лощину, на высокие заросли трав, на высоту с курганом, откуда бил неуязвимый фашистский пулемет, и сразу понял, что предложение Гаркуши было единственным выходом из создавшегося положения. Медлить с ликвидацией этой последней огневой точки больше нельзя, сзади все подходят и подходят наши подразделения, а впереди, совсем недалеко, где-то за курганом — Днепр, о котором говорил и мечтал в эти дни весь фронт. Но как пробраться той ложбиной и бурьянами?
— Ужом проползу, товарищ старший лейтенант, — словно поняв мысли командира, умолял Гаркуша, — я к нему так пидбирусь, так пидбирусь, що и ахнуть не успеет.
— Подобраться можно, только одному нельзя ходить, там в бурьянах и на, высотке еще могут сидеть…
— Разрешите и мне, товарищ старший лейтенант, — не дал договорить Дробышеву умоляюще смотревший на него Тамаев, — мы вдвоем, вдвоем лучше.
Дробышев взглянул на его облупленное, курносое лицо и невольно улыбнулся. Точно таким же казался он самому себе год назад и, видимо, точно так же смущенно и гордо смотрел на своего командира, на капитана Бондаря.
«Где-то он теперь, — вздохнув, подумал Дробышев о Бондаре. — В госпитале, наверно. Вот сколько людей потеряли. Козырев в госпитале, Чалый в госпитале, только Васильков, Тамаев и Гаркуша из старичков остались. А то все новички, пополнение…»
Гаркуша и Тамаев, не отрывая взглядов, смотрели на Дробышева и ждали. Он чувствовал это и отчетливо понимал каждую их мысль. Они несомненно уверены, что он не откажет, поручит им это трудное и опасное задание. И чувствовал он также, что отказ, если не Тамаева, то Гаркушу смертельно обидит.
«Лощиной, а потом через бурьян, — раздумывал Дробышев, — но если их заметят от кургана, то…»
Он оборвал мысль, еще раз посмотрел на рыжую в песчаных плешинах высоту и подозвал Василькова.
— Идите в первый взвод и передайте: бить, ни на секунду не переставая, по высоте. А я отсюда ударю. Скуем фашистов огнем, отвлечем внимание, а они в это время проберутся к кургану.
— Спасибо, товарищ старший лейтенант, — взволнованно проговорил Гаркуша, — мы все, как по нотам, разделаем.
— Только вот что, — хмурясь, сказал Дробышев, — действовать внимательно, осторожно, без риска. Если столкнётесь в бурьянах или в лощине с немцами — дальше ни шагу! Лезть на рожон категорически запрещаю.
— Ни боже мой, — торжественно заверил Гаркуша и с прежним балагурством добавил: — Я ж ще холостой, товарищ старший лейтенант, який черт на рожон понесе мэнэ, колысь я писле войны ожениться думаю. И Тамаев тэжь о дивчине думае. Верно, Лексей?
Тамаев смущенно заморгал белесыми ресницами, потом вдруг озорно сверкнул глазами и с неожиданной развязанностью ответил:
— Не только о дивчине, но и о детях малюсеньких мечтаю.
— Во! Бачилы! — воскликнул Гаркуша, показывая Дробышеву и Василькову на Алешу. — Так что, товарищ старший лейтенант, будьте в полной надежде: и фрицев укокошим и сами целехоньки вернемся.
Эта неуместная веселость перед столь опасным заданием не понравилась Дробышеву. Он пристально посмотрел на Гаркушу и Тамаева и по их лицам сразу же понял, что именно так они могли вести себя в эти минуты. Понял он, что и сам был бы сейчас только таким, как они.
— Ну, хлопцы, — сказал он, чувствуя невольную дрожь и в голосе, и в руках, — еще раз прошу: никакого лихачества! Ну, и… ждите нас на высоте.
Он пожал горячие руки Гаркуши и Тамаева, глянув каждому в глаза, улыбнулся и, еще раз стиснув их руки, прошептал:
— Вперед!
* * *
Та куцая, словно обрубленная по концам, ложбина перед высотой казалась бесконечно длинной, а бурьян, покрывавший ее, словно втянулся в землю, торча только низкорослыми будыльями.
Первым полз Гаркуша. Преодолев метров тридцать, он останавливался и кивком головы давал сигнал Тамаеву. Когда тот равнялся с ним, Гаркуша снова полз вперед, сильно и ловко работая ногами и руками. Лицо его, когда он поворачивался к Тамаеву, было неузнаваемо. Строгое, сосредоточенное, с опущенными вниз сросшимися бровями оно выражало непреклонную решимость и так не свойственную Гаркуше удивительную серьезность. Даже озорные, насмешливые глаза, которые раньше так ненавидел Алеша, теперь смотрели то ласково, то презрительно строго, то сосредоточенно.
Слева беспрерывно били по высоте наши пулеметы. От кургана, словно издеваясь над теми, кто залег на равнине, лениво отвечали гитлеровцы.
— Смотри, — когда метров на сто подползли к кургану, подозвал Гаркуша Тамаева, — видишь, гады, где пристроились.
За рыжей возвышенностью кургана виднелись темные углубления окопов и легкие дымки от пулеметных выстрелов. Сам пулемет и фашистские пулеметчики скрывались за черной насыпью ниже кургана.
— Алексей, — сузив гневные, суровые глаза, возбужденно заговорил Гаркуша, — ну что мы будем по этим бурьянам карабкаться. Воны ж, гады, на выбор бьют наших. Пока доползем, они столько перещелкают. Давай вскочим, рванем вперед — и гранатами!..
Алеша и сам думал об этом, но в памяти его все время повторялось предупреждение старшего лейтенанта — не рисковать, не лезть на рожон, а действовать осмотрительно.
— Может, еще подползем, — неуверенно проговорил он, с ненавистью глядя на вспыхнувшие опять дымки под курганом.
— Какого черта лежать! Видал строчат, паразиты, — яростно прошептал Гаркуша, — готовь гранаты, и пока они палят — разом туда, к ним!
Пока Алеша вытаскивал чеку запала гранаты, тело его расслабло, жадно прижимаясь к теплой, ласковой земле. Далеким воспоминанием мелькнул сизый, в утреннем тумане берег Оки и тут же исчез. Перед глазами все вспыхивали и вспыхивали дымки ниже кургана. Алеше, показалось, что он видит, как от этих дымков летят очереди пуль, летят туда, где на равнине залегли наши стрелки и пулеметчики.
— Готов? — прошептал Гаркуша.
— Готов, — ответил Алеша, правой рукой сжимая гранату, левой подтягивая автомат.
— Вперед! — скомандовал Гаркуша, и все разом исчезло из сознания Алеши. Он не чувствовал ни самого себя, ни земли, по которой бежал, видя только черные язвы окопов и фашистский пулемет с тремя пулеметчиками.
Гаркуша первым бросил гранату и тут же упал. Упал, метнув гранату, и Алеша.
— Вперед! — во весь голос прокричал Гаркуша, когда в окопе полыхнули два взрыва.
Алеша вскочил и прыгнул в окоп.
— Все, — остановил его Гаркуша, — не лезь, там месиво… — Он за руку перетянул Алешу в соседний окоп и, прижимая его к земле, прошептал: — Смотри вправо, я влево, — может еще кто есть.
— Ура-а-а, — протяжно разнеслось перед высотой с курганом, и по равнине из кустарников развернулась широченная цепь стрелков.
— Сломили, Алешка, сломили фрицев, — буйно сжимая Тамаева, кричал Гаркуша, — а впереди Днипро, наш ридной Днипро!
— Где, где Днепро? — вырываясь из цепких рук Гаркуши, спросил Тамаев.
— Да вон же, вон, смотри!
С высоты от кургана катилась вниз испятнанная кустами, зарослями камышей, куртинами еще удивительно веселых лугов бескрайняя равнина. Изумрудной россыпью сияли под солнцем озера, узкие и длинные заводи, стиснутые зеленью протоки. А вдали едва различимо синела извилистая полоса Днепра, окаймленная дымчатой грядой правобережных круч.
Примечания
1
ИПТАП — истребительно-противотанковый артиллерийский полк.
(обратно)2
НП — наблюдательный пункт.
(обратно)3
ЦТС — центральная телефонная станция.
(обратно)


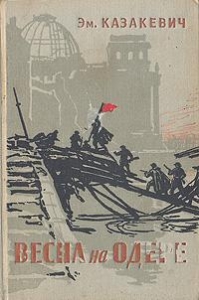





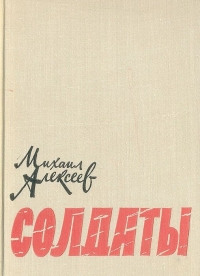



Комментарии к книге «Впереди — Днепр!», Илья Иванович Маркин
Всего 0 комментариев