Звездные ночи
Пролог
На моем письменном столе — фотографии двух девушек — Ольги Санфировой и Магубы Сыртлановой. Как они прекрасны! К ним тянется моя душа, как цветок к солнечному свету. Уложенные волнами черные волосы, полные жизни глаза… Губы, кажется, вот-вот дрогнут, и я услышу чистые, нежные голоса… Легендарные девушки-соколы, летчицы 46-го гвардейского Таманского женского полка ночных бомбардировщиков. Хочется попросить их: заговорите, расскажите людям о себе, о своих необыкновенных подвигах, о том, что виделось вам в глубинах звездного неба, откройте душу!..
На знамени прославленного полка — орден Красного Знамени и орден Суворова. На счету летчиц — более двадцати тысяч боевых вылетов. В составе полка — двадцать три Героя Советского Союза! Девушки сражались над Доном и Тереком, помогали отважным десантникам удерживать плацдарм на Малой земле, участвовали в освобождении Белоруссии и Польши. До Берлина долетели!
Ольга Александровна Санфирова, Лейла, как называли ее боевые подруги-однополчанки. Командир эскадрильи, Герой Советского Союза. Звание присвоено 23-го февраля 1945 года посмертное.
Магуба Хусаиновна Сыртланова. Заместитель командира эскадрильи, Герой Советского Союза. Умерла в Казани 1-го октября 1971 года…
Магуба провожала Лейлу, свою любимую, верную подругу, в последний полет.
Магуба означает — достойная уважения, располагающая к себе. Она такой и была.
Я много раз навещал ее. Подолгу стоял перед ее домом, прежде чем войти, думал о необычайной силе духа этой женщины, которая в последние годы жизни была тяжело больна, но не сломлена.
На легком, как бабочка, самолете она сотни раз поднималась в звездное или мглистое небо и, глядя смерти в глаза, прорывалась сквозь огненный ад к цели. Может быть, борясь с недугом, она снова уносилась туда, к звездам? И оживали в памяти голоса и лица подруг, спящих вечным сном в могилах, усыпанных розами?
К ней часто приходили дети, подростки. Бесшумно раздевались, проходили в комнату, ставили на стол цветы. Однажды при мне пионеры начали читать Магубе-ханум «Сказки тысячи и одной ночи».
Зачем ей, прожившей такую жизнь, сказки, созданные много веков назад? — подумалось мне. Она слушала, закрыв глаза. Врачи советовали ей не волноваться, может быть, это хорошо — читать ей старинные сказки…
С тех пор дети, навещая Магубу-ханум, каждый раз по ее просьбе открывали томик сказок и читали по очереди. Но однажды она прервала чтение.
— Слов нет, — сказала она, — красноречива прекрасная Шахерезада. Но сидеть на ковре и рассказывать хану сказку за сказкой — это не такое уж трудное дело. Я слушаю эти чудесные сказки и думаю, думаю о девушках нашего полка. Спасая человечество от фашизма, они сражались не щадя жизни. Тысяча восемьдесят ночей… По шесть-восемь боевых вылетов за одну ночь… Мы бомбили огневые позиции врага, переправы, штабы, уничтожали танки, автомашины, склады. Не было покоя фашистам ни днем ни ночью. Они люто ненавидели нас, называли ночными ведьмами. Придумывали всякие небылицы. Писали в своих газетах, что мы — выпущенные из тюрем уголовные преступницы.
Благородная ярость переполняла наши девичьи сердца. Льет дождь, метет метель, а мы не вылезаем из кабин самолетов, ждем хотя бы небольшого просветления. Случалось летать и в нелетную погоду. Однажды под Севастополем… Низкая облачность, слишком низкая, если с такой высоты сбросишь бомбы, осколки или взрывная волна могут погубить самолет. Разведчики погоды в пяти мужских полках нашей воздушной дивизии доложили командирам: летать нельзя. А наша разведчица заявила командиру полка Евдокии Давыдовне Бершанской: летать можно! И полетели. Наши бомбовые удары были для немцев… хотела сказать: как гром среди ясного неба. Не подумайте, что летчикам-мужчинам не хватало опыта или храбрости. За их спиной была Сталинградская битва — настоящие асы. Наш полк незадолго до этого вошел в состав новой воздушной дивизии, мужчины посматривали на нас снисходительно, свысока. А мы уже отвыкли от этого…
Ночной бомбардировщик… Звучит внушительно, правда? А ведь это — маленький фанерный самолет «По-2». Скорость — всего 150 километров в час. Под крыльями — четыре бомбы. В открытых кабинах — летчик и штурман. Закрою глаза и… замирает сердце. Над головой — звезды, звезды… Высота полторы тысячи метров. Приближаемся к цели. С приглушенным мотором иду на снижение. Высота триста метров. Где-то здесь, по данным разведки, — склады горючего. Штурман сбрасывает светящуюся авиабомбу — САБ, которая повисает на парашюте. Вижу цель. Но и немцы нас видят. Ослепительно сверкают зеркала прожекторов. Бьют крупнокалиберные спаренные пулеметы. Чуть позже заговорили «Эрликоны» — автоматические зенитные пушки. Серии снарядов при взрывах превращаются в красно-белые облака, начиненные смертью. Попадет один снаряд — все, конец, самолет вспыхнет, как факел, мы сгорим заживо. Парашютов нет, мы отказывались от них, предпочитали брать дополнительные бомбы. Два прожектора вцепились в нас, взрывы — со всех сторон, самолет вздрагивает, как жеребенок. Выдерживаю боевой курс, отклоняться нельзя. Ах, какими долгими-долгими, оказывается, могут быть секунды… Штурман прицеливается, нажимает на рычаг бомбосбрасывателя… Самолет качнуло. Резко пикирую, ныряю под хищный рой трассирующих пуль. На земле яркая вспышка, мощный взрыв. Попали! Бросаю самолет влево, вправо. Нет, не уйти… И вдруг один прожектор погас. Двойной взрыв… Погас второй. Снова взрывы. Спасибо, Лейла! Это она спасла нас. Ее самолет взлетел через три минуты после нашего старта. Неписаный закон нашего полка: если кому-то приходится туго, немедленно, не теряя ни секунды, другие самолеты кидаются на помощь, в самое пекло.
А ночь еще только начинается. Не вылезая из кабины, докладываю командиру полка о выполнении задания. Глотаем горячий чай — штурман тоже не вылезает из кабины — выслушиваем новое задание и ставшее привычным напутствие Бершанской: «Девочки, будьте предельно внимательны и осторожны, прошу вас…» Наши подруги-техники успели осмотреть самолет, бомбовой груз на месте. Отдаем девушкам пустые чашки и снова — в ночное небо!
Сколько прекрасных девушек погибло… В одну страшную ночь мы потеряли сразу четыре экипажа…
Магуба Хусаиновна тяжело вздыхает, нервно поправляет иссохшей старческой рукой седые волосы.
Меня вдруг осенило:
— Магуба-ханум, расскажите ребятам об этих ночах! — выпалил я. И спохватился: ей же нельзя волноваться. И я знаю, и она знает, что жить ей осталось немного — болезнь неизлечима, беспощадна.
Хозяйка, чуть улыбаясь, молча смотрит на гостей. Ребята замерли…
Разговаривая с Сыртлановой, я не делал никаких записей. Запоминал каждое ее слово. Вернувшись домой, записывал все подряд. Думал, придет время, разберусь, может быть, напишу очерк.
Магуба Хусаиновна снова вздохнула.
— Что ж, попробую рассказать. Только… — она глянула на меня, помолчала немного. — Обо всех ночах не успею. Придется кое-что пропустить. Не будем откладывать. Слушайте, родные мои. Ночь первая…
Так родилась эта повесть — о легендарных девушках, об их воинской доблести и любви.
Ночь первая
В первые же дни войны многие девушки, воспитанницы аэроклубов, летчицы Гражданского воздушного флота подали заявления с просьбой направить их на фронт. Мы еще не знали тогда, что с такой же просьбой обратилась в военкомат Марина Раскова и получила категорический отказ.
В предвоенные годы для нас, влюбленных в небо, Марина Раскова была звездой счастья, мы преклонялись перед ней. Еще бы: Герой Советского Союза, совершившая в 1938 году вместе с Валентиной Гризодубовой и Полиной Осипенко беспримерный сверхдальний перелет по маршруту Москва — Дальний Восток на самолете «Родина», она словно дала нам крылья. Да разве можно было удержать ее в тылу! Да и мы не сидели сложа руки: обратились в Центральный Комитет комсомола. Письма девушек прочитала Раскова и предложила сформировать женские авиационные полки. И добилась своего.
Все полки формировались в городе Энгельсе. Я жила в это время в Тбилиси, работала пилотом-инструктором городского аэроклуба. С Лейлой мы переписывались.
«Марина Михайловна Раскова, — писала она, — поставила свою подпись на моем аттестационном листе, с улыбкой посмотрела на меня, поздравила…
Познакомилась с летчиком-истребителем Ахметом Султановым. Он родом из Алупки. Веселый, остроумный, красивый парень. Говорил всякую ерунду…»
Все ясно, подумала я. Влюбился бедняга. Безответной будет его любовь, я знала тайну Лейлы.
Еще письмо — целая тетрадь. Как любила я ее почерк — буквы крупные, как горошины. Радость Лейлы была безмерной — в марте 1942 года ее приняли в партию. Порядка в письме не было, но каждое слово излучало свет, никакой рисовки.
«До последнего дыхания быть преданной Родине — это и есть счастье…»
Первым был сформирован истребительный полк. Вскоре летчица Валерия Хомякова сбила в воздушном бою бомбардировщик «Юнкерс-88». Мы ликовали вместе со своей наставницей.
В мае 1942 года после шестимесячной подготовки улетел на фронт полк ночных бомбардировщиков. В нем сначала было две эскадрильи, потом стало четыре.
Третий женский авиационный полк — пикирующих бомбардировщиков «Пе-2» — вылетел на фронт в январе 1943 года. Как и первые два при перелете его возглавила Марина Раскова. В том же месяце ее самолет попал в сильный снегопад и потерпел катастрофу. Экипаж погиб. Девушки нашего полка, утирая слезы, выводили на бомбах надпись: «За Марину Раскову!»
Полк ночных бомбардировщиков сражался в составе 4-й воздушной армии на Южном фронте, в Донбассе. Я подала рапорт на имя командующего армией генерала Вершинина: «Хочу на фронт!» Понял меня генерал, спасибо ему. В полк я прибыла осенью 1942 года. А а начале его боевого пути знаю по письмам Лейлы и рассказам подруг-однополчанок.
К девушкам-летчицам начальство сначала относилось с недоверием. То и дело следовали тренировочные полеты: «гасили фонари» — так мы называем попадание в цель учебных бомб, — при неосвещенном аэродроме отрабатывали посадку самолета. В полку один за другим появлялись инспектора из воздушной армии, все твердили: «Привыкайте… Изучайте район боевых действий…» Девушки приуныли. Но деваться некуда: по оперативным картам изучали расположение огневых точек врага, вновь и вновь тренировались. А в душе росло недовольство. Разве они прибыли на фронт для того, чтобы проводить время впустую, греть на солнышке спину? Тем более положение наших войск не из легких. Враг после позорного поражения под Москвой пытается свести счеты. На юге идут жестокие бои, в огненном кольце Таганрог, танковые бригады, находящиеся под специальным наблюдением Гитлера, готовятся в нескольких местах форсировать Дон. В приказе Верховного Главнокомандующего о защите Дона отмечается, что должны делать полк, эскадрилья, каждый экипаж, воин. Комиссары, пропагандисты, агитаторы постоянно говорят об этом. Только женскому авиаполку все еще не позволяют участвовать в войне…
Аэродром находился недалеко от города Краснодона. На девушек, одетых в гимнастерки и брюки-галифе, жители смотрели с восхищением. Наверняка среди зрителей были и будущие молодогвардейцы. Разве могли не обратить внимания на юных летчиц, на командира полка, статную женщину с орденом «Знак Почета» на груди, Ульяна Громова, Люба Шевцова?..
Командир полка Евдокия Давыдовна Бершанская летала уже больше десяти лет, работала до войны инструктором Батайской летной школы (в этой школе училась Лейла), потом перевозила почту, опыляла химикатами поля на Кубани. Требовательная, справедливая, бесстрашная и очень душевная ханум. Она и научила летать Лейлу, очень ценила ее, еще в Энгельсе назначила заместителем командира эскадрильи. А командиром была любимица всего полка Люба Ольховская.
Наконец — приказ подниматься. Весь полк собирается на аэродроме. У командного пункта командиры эскадрилий, их заместители, политработники. Кому выпадет счастье открыть боевой счет, кому поручат такое ответственное дело? А тут еще нередко слышишь: женскому полку не под силу тягаться с летчиками мужчинами, не женское это занятие. Вдруг случится: полетишь одной из первых и вернешься, не найдя цели, или вовсе перетрусишь? Что тогда? Можешь испортить все дело. Да и фашист не станет стрелять в тебя учебными снарядами. Если загоришься и упадешь на землю — оценят как неспособную воевать. Чего доброго, могут весь полк расформировать и отправить в тыл…
Теплая июньская ночь. Все вокруг замерло: не пошевелится ни травинка, ни листок на дереве. Полное безветрие. Луна еще не взошла. Если и взойдет, не страшно — небо покрыто черными тревожными тучами и от этого кажется еще темнее. Напоминая летающих светлячков, помигивают карманные фонарики — со склада подвозят бомбы. В тишине ночи позвякивают металлические ключи, слышатся переговаривающиеся голоса. Перебивая горький аромат опаленной степи, распространяется острый запах эмали. Откуда он?
Из командного пункта выходит группа офицеров и вместе со стоявшими перед дверью девушками-летчицами направляется на стартовую площадку. Техники, отдав честь, докладывают о полной боевой готовности самолетов.
Комиссар полка Евдокия Яковлевна Рачкевич — крепкая, здоровая женщина — говорит взволнованно:
— Начинается наша первая боевая ночь. Пришел час рассчитаться с коварным врагом, показав ему нашу ненависть и силу. Пусть каждая бомба попадет точно в цель. На них священные слова: «За Родину!» Их мы только что написали… — И, выдержав паузу, звонким голосом закончила: — Поклянемся беспощадно мстить за нашу землю, за горестные слезы младенцев и седовласых матерей!
«Клянемся!» — повторило ночное эхо.
Командир дивизии, пожелав девушкам успеха, разрешил взлет. Зарокотали моторы трех самолетов. На землю из выхлопных труб просыпались искры огня. Старт!
Первым в ночной темноте исчезает самолет Бершанской. Через три минуты поднимается командир эскадрильи Серафима Амосова, еще через три минуты — Люба Ольховская.
Остающиеся на аэродроме девушки машут руками. Желают доброго пути:
— Не подкачайте, подружки! Вернитесь со счастливыми крыльями для нашей эскадрильи!
А на душе каждой неспокойно, сердце охвачено тревогой. Ведь это первый вылет на боевое задание. Только бы не растерялись!
Девушки не расходятся, с нетерпением ожидают возвращения самолетов. Выполнят ли они задание? Оправдают доверие? А минуты, будто нарочно, тянутся долго-долго. В тишине июньской ночи где-то далеко ухают взрывы. Может, это от бомб их самолетов?.. Рядом в траве беззаботно стрекочут кузнечики…
Слышится гул мотора. Звук все нарастает.
— По рокоту узнаю: Бершанская! — крикнула Каширина, техник, и запрыгала от радости, как маленькая.
Самолет развернулся и, плавно опустившись, побежал по земле к командному пункту, со свистом разрезая пропеллером воздух.
Девушки побежали навстречу.
Бершанская вышла из кабины и, отдав честь, доложила командиру дивизии о выполнении боевого задания, В назначенное время ее самолет пересек линию фронта и вышел на цель. Попал в луч прожектора, но вырвался…
Вскоре встретили Серафиму Амосову и Любу Ольховскую. И эти экипажи выполнили боевое задание. Так что все живы-здоровы. Их даже не обстреляли. А бомбы точно накрыли цель — колонну автомашин. Лиха беда начало. Командование вскоре убедилось что ночные бомбардировщики — грозная сила. Поняли это и немцы.
По указанию Гитлера немецкие зенитчики и летчики за каждый уничтоженный «По-2» награждались железным крестом, получали кратковременный отпуск и пять тысяч марок. Можете представить, как фашисты охотились за нами.
Ночь вторая
Весь полк вылетел на боевое задание.
Не вернулись. Люба Ольховская и ее штурман Вера Тарасова…
В эту ночь никто не сомкнул глаз. Может быть, приземлились на другом аэродроме? Или получил повреждение самолет и девушки ждут помощи? Утром начали поиски. Пролетели по всему маршруту — ничего не обнаружили, будто и машина, и люди канули в воду.
Жизнерадостная красавица Люба, спокойная, всегда приветливая Вера — неужели они навсегда покинули этот мир, своих подруг? В голове не укладывалось: были и нет…
Лейла сидит между двумя койками, слева — койка Любы. На столе — ее бумаги, план работы эскадрильи, альбом с фотографиями. Возле открытой двери, потупив глаза, словно малые дети, стоят девушки: Гашева, Каширина, Доспанова, Белик… Молчат.
Штурман Ульяненко, не выдержав тишины, сдавленным голосом спрашивает:
— Товарищ младший лейтенант, Лелечка, что же это такое?
— Это война! — отчеканила Лейла. — Идите обедать…
Девушки ушли. Лейла закрывает ладонями лицо и, чтобы не разрыдаться, подходит к открытому окну. Нестерпимо ярко светит солнце. Деревья неподвижны, словно дремлют или ждут чего-то. Ни одной птицы. Только бабочки порхают в саду. В детстве Лейла слушала, что в бабочек переселяются души умерших людей. Нет, не может быть… Она тянется в карман за носовым платком и вспоминает, что вчера отдала его Любе перед вылетом — протереть очки шлема.
Вечером, ожидая своего первого боевого вылета, Лейла сидела на крыле самолета. Только что в штабе она получила задание, а значит и возможность отомстить врагам за Любу…
Позднее летчики мужского полка рассказали, что видели «По-2», когда бомбили железнодорожный узел. Самолет, схваченный двумя прожекторами, был сбит на их глазах. Почему-то Люба отклонилась от маршрута. Может быть, ее привлекли вражеские эшелоны — самая важная цель в этом районе? Или просто сбилась с курса? Тайну своей гибели девушки унесли с собой.
Ночь третья
Лейла отправилась в свой первый боевой полет. Штурман — Вера Белик, белолицая украинка, аккуратная, скромная девушка. Она выросла в Керчи, училась в Московском университете, собиралась стать учительницей. Находит время — проверяет надписи на бомбах, если обнаружит ошибку, непременно исправит.
В небе спокойно сияют звезды, словно нет никакой войны. Привязанный к приборной доске, плавно покачивается длинноносый Буратино. Тревожно поблескивают его большие, выпуклые глаза. Во всех самолетах есть амулеты, которым хозяйки доверяют свои сокровенные тайны. Буратино — подарок Любы.
Лейла наклоняется к переговорной трубке, спрашивает:
— Верочка, где мы?
— Изварино рядом, товарищ командир, — отзывается штурман. — До цели семь минут.
Задание — нанести удар по скоплению автомашин у переправы через реку Миус. Почему так тихо? Не сбились ли с курса? Вера тоже забеспокоилась — наклоняется то с правого, то с левого борта, ищет знакомые ориентиры.
— Ну как, Вера?
— Идем точно.
— Бросай САБ.
Вокруг стало светло, видно, как движутся автомашины, прикрытые ветками. Вера наклоняется к прицелу, ждет удобного момента. Две бомбы отцепились. Еще две… Огненные снопы взметнулись над землей.
— Порядок, — деловито говорит Вера.
Лейла, довольная, поворачивает самолет на обратный курс. Они выполнили задание и от этого полегчало на душе. И даже «По-2», кажется, стал послушнее…
Когда приземлились, к самолету первой подбежала Глафира Каширина. Стройная, легкая, но почему-то хмурая, подавленная. Молча пожала руки девушкам, даже не поздравила, ни о чем не спросила.
— Что с тобой, Глаша? — спросила Лейла.
— Вот листовка, немецкая, шофер дал. Днем «рама» сбросила.
На листовке — портрет Любы Ольховской…
«Москва скоро будет взята. Девушки, следуйте моему примеру. Перелетайте к немцам, не пожалеете…»
— Чушь какая-то, — с омерзением разглядывая листовку, сказала Лейла. — Да она скорее бы погибла с самолетом вместе… Верочка, идем в штаб.
А перед глазами — Люба Ольховская, неутомимая, полная внутреннего огня. До войны она работала инструктором в летной школе. Ее родное село на Украине фашисты стерли с лица земли… Девушка будто говорила: не верьте проклятой немчуре. Для них нет ничего святого на Земле. Всех оболгут, оклевещут, и живых, и мертвых.
Погода резко менялась: все небо обложили тучи. Где-то вдали утробно рокочет гром — словно рычит огромный, вышедший на охоту хищник.
Ночь десятая
Утром Лейла летала вдоль линии фронта, в кабине штурмана сидел начальник оперативного отдела штаба армии, что-то отмечал на своей карте. Несколько раз их обстреляли из пулеметов, но все обошлось. В тот же день из штаба на имя Бершанской пришло письмо: командование благодарило Лейлу.
А вечером — новое ответственное задание: взять пассажира, пересечь линию фронта, совершить посадку в указанном месте, у террикона. Самолет встретят, сигнал: два костра.
— Филипп Матвеевич, — представился пассажир, пожимая руку Лейле. Пожилой, грузный человек. Тесновато ему в самолете.
«Наверно, разведчик, — подумала Лейла. — Интересно, куда он направляется. В Краснодон?»
Самолет летит вдоль реки. Пассажир смотрит вниз, называет поселки, рудники, словно хочет помочь Лейле сориентироваться. Но она и сама хорошо изучила эти места.
«Старый шахтер, коммунист, — продолжает гадать Лейла. — Будет руководить подпольщиками, партизанами. Встретится с сотнями людей, нет, пожалуй, с немногими, самыми надежными… Попросить его, чтобы узнал всю правду о Любе и Вере?»
Филипп Матвеевич будто подслушал мысли Лейлы, заговорил сам:
— Я знаю вашу историю, дочка. Меня уже просили выяснить при случае, что произошло с девушками. Выясню непременно. Листовка гнусная, я ее видел, явная липа. Геройские вы девчата. Гляжу на вас, и жалко, вроде, и нельзя не гордиться такими, как вы. Придет время, засияют ваши имена… Не отвлекаю я тебя?
— Нет, меня только смерть отвлечь может. Спасибо вам за добрые слова… А вон и огни!
Встречающих было двое. Лейла даже не разглядела их. Филипп Матвеевич ласково похлопал ее по плечу.
— Спасибо, голубка, счастливого пути тебе. Прощай…
Лейла помахала ему рукой.
Ночь пятнадцатая
Один из «братишек» — так девушки называли летчиков соседнего мужского полка — стеснительный, долговязый парень, увидев штурмана Руфу Гашеву, обомлел, А она — ноль внимания. Девушки насторожились. Парень стал приходить ежедневно, наконец набрался смелости, подошел к Руфе, протянул ей букетик полевых цветов, представился:
— Миша…
Кавалер даже к руке девушки не прикоснулся, но Ирина Себрова недовольна своим штурманом:
— Шуры-муры… Нашли время…
Девушки посмеиваются, никто и не думает осуждать Руфу — не за что. А Ирина не унимается:
— Опять твой продавец цветов на горизонте. Что хлопаешь ресницами? С Лейлы пример бери.
Руфа чуть не плачет от обиды. А Лейлу она последнее время побаивается. Та исполняет обязанности командира эскадрильи, строгая стала. Получила сразу два письма от своего Ахмета, на одно только глянула, второе даже не распечатала, разорвала оба на мелкие кусочки и пустила по ветру…
Экипажи делают по три-четыре вылета за ночь, никаких чрезвычайных происшествий. И вот авария: при посадке самолет Ирины срезал крылом молодую березку — девушки не заметили, что ветер переменился. Обеих отправили в санчасть. Когда вернулись, Бершанская объявила свое решение:
— Экипаж разъединить!
Руфа пролепетала:
— Только, пожалуйста, очень вас прошу, не переводите меня в другую эскадрилью…
Такая была шустрая девушка и вдруг сникла. Командир полка понимает ее состояние, и у самой на душе тревожно. В книге полетов у Руфы только хорошие оценки, но в какие руки передать ее теперь? Где уныние, там неуверенность, а к чему это приводит, Бершанская знает. Выручила Лейла:
— Если разрешите, товарищ командир, я возьму Гашеву к себе.
— Не возражаю, — охотно согласилась Бершанская и подумала: «Золотая ты девушка, Лейла, только глянешь, и все поймешь, никаких объяснений не надо».
Руфа покраснела, потупила глаза, чтобы не заметили ее благодарных слез. А она-то считала Лейлу высокомерной, черствой!
Ночь двадцатая
Самолет в огненном кольце. Перед глазами Лейлы мечется сама смерть…
— Пятнадцать градусов влево! — командует Руфа.
Лейла поворачивает самолет, но, видимо, не поверив штурману, наклонилась, глянула вниз, из-за крена Руфа упустила нужный момент. Надо делать новый заход. Лейла соглашается, и злость у Руфы сразу проходит.
Бомбы ложатся точно: машины с горючим, растянувшись цепочкой, взрываясь, горят синим пламенем. Визжа, скрежеща зубами, смерть осталась позади, лишь в израненных крыльях свистит ветер.
Вскоре колеса коснулись земли, мотор заглох… Девушки постепенно пришли в себя, вылезли из кабин. Бесшумно, как тени, появились техники. Руфа шепотом попросила огня у обнявшей ее девушки, достала из кармана папиросы.
— Штурман Гашева! — так строго Лейла к Руфе еще не обращалась. — Что это такое? Кто разрешил? Ты с ума сошла!
Захлебываясь дымом, кашляя, Руфа с трудом выдавила из себя:
— В полете не курю… Только на земле.
— Запрещаю!
— Но это мое личное дело.
Девушка-техник дергает Руфу за рукав — не спорь, мол, с начальством — мягко отбирает у нее папиросу, отходит в сторону.
— Ты знаешь, что говорят мужчины о курящих девушках? — мягко спрашивает Лейла.
— Что? — глаза Руфы полны слез.
— В общем… не любят они этого. Вдруг Миша узнает?
— А я из-за него курить начала.
— Из-за него? Почему?
— Да он же пропал без вести. Два дня прошло…
Руфа убежала.
Лейла села на крыло самолета, сняла шлем. «Вот, оказывается, в чем дело, — размышляла она. — Неужели погиб?.. Но курить Руфа все равно не должна. Надо держать ее под строгим наблюдением. Потом сама спасибо скажет. Пропитается никотином, ни один порядочный парень близко не подойдет, А если дети?.. Ужас!»
Ночь двадцать седьмая
Наши войска отступают. Полгоризонта в огне. Девушки впервые узнали, что немцы называют их ночными ведьмами. Посмеялись — «почетное звание!» Каждую ночь вылезают бомбить мосты, войска, которые движутся по дорогам к линии фронта.
Лейлу назначили дежурной по аэродрому. Руфа заменит заболевшего штурмана в самолете Амосовой.
Подошла Бершанская, спросила:
— Как Руфа?
— Ожила.
Миша совершил вынужденную посадку в тылу у немцев, вчера вернулся в свою часть.
— Пойдем ко мне, потолкуем, — предложила Бершанская.
Штурман и по совместительству адъютант командира полка Хиваз Доспанова, быстрая, миниатюрная казашка, которую девушки почему-то прозвали Перепелочкой, принесла чай.
Евдокия Давыдовна озабоченно глядит на Лейлу, не спешит заводить разговор.
— Очень устаете вы все. — Бершанская побарабанила пальцами по столу. — Спите мало. Поспать вволю — несбыточная мечта. Надо бы немного отдышаться, но… Сама видишь, что творится. На износ работаем. А воевать еще ой-ой сколько… С завтрашнего дня, договорилась с врачом, будем получать специальный шоколад «Кола». Скажи девушкам.
После четвертого вылета самолет Симы Амосовой и Руфы задержался и появился над аэродромом не с той стороны. Лейла подошла и ахнула:
— Решето! Ранены?
— Нет, товарищ командир, мы в полном порядке, — бодро ответила Амосова. Руфа хмурится, отводит глаза. Что-то случилось…
— Докладывайте!
Предчувствие не обмануло Лейлу. Выполнив задание, девушки на обратном пути по настойчивой просьбе Руфы пролетели над аэродромом «братишек». Штурман Гашева сбросила САБ, затем вымпел с письмом Мише. Потом их атаковал «мессер».
— Что за безрассудство! Фашист наверняка, засек аэродром «братишек», — возмутилась Лейла. — Штурман Гашева, я отстраняю тебя от полетов.
Всхлипнув, Руфа убежала в столовую, а Серафима с деланной беззаботностью стала уверять Лейлу, что ничего особенного не произошло.
— Это любовь! Ты понимаешь, Лейла, первая, чистая любовь, — тараторила она. — Конечно, глупость она допустила с этим своим посланием, но ее нельзя судить строго, потому что…
— Замолчи! — резко оборвала ее Лейла. — Вам обеим грозит трибунал, как ты не понимаешь?!
Бершанская, к удивлению Лейлы, выслушала ее рапорт спокойно. Погладив руку девушки, сдержанно сказала:
— Что-нибудь предпримем. Руфа пусть пока летает, но мы ее накажем, конечно. Надо же, что придумала!
Лейла с облегчением вздохнула:
— Прямо гора с плеч.
Ночь двадцать восьмая
Полк получил задание чрезвычайной важности — бомбить эшелоны, доставляющие к фронту горючее.
Перед самым полетом штурман эскадрильи Женя Руднева сообщила Лейле страшную весть: вчера днем фашисты разбомбили в пух и прах аэродром «братишек».
Лейла опешила: вот он, результат… Что же Бершанская: забыла сообщить куда следует? На нее это непохоже. Может, что случилось с рацией? Словом, есть над чем поломать голову.
— Не знаешь, Женя, потери большие? — растерянно вымолвила Лейла.
— Бершанская сказала: фашистская радиостанция передала, что полностью уничтожили, мол, полк Бочарова. Вот и подтверждение… — Женя протянула Лейле листовку, еще пахнущую типографской краской. В глаза бросился фотоснимок: жалкие развалины аэродрома, пожары. Тут же предупреждение немецкого командования девушкам-летчицам. Переходите на сторону войск фюрера, не то и вас постигнет судьба полка Бочарова. С землей сравняем ваш аэродром. И подпись: генерал Фолькнерс.
— Обратила внимание на фамилию? — спросила Лейла.
— Это главарь зондеркоманды СС.
— Фашист из фашистов, очень коварный.
— Послушай, Лейла, листовку, написанную от имени Любы, наверное, состряпали они же?
— А ты думала кто? Конечно, они!.. Теперь вот опять взбесились. Это, Женечка, означает: женский полк дает о себе знать. Нет им спокойного сна ни днем, ни ночью. А найти эффективное средство против нас не могут. Отсюда коварство, угроза. Естественно, они могут сделать и налет.
— Может, бомбардировка полка Бочарова всего лишь обман? — усомнилась Женя.
— Не знаю. Только ты пока что про эту листовку никому ни слова. Вернусь с задания — поговорим.
Ровно, приглушенно работает мотор. Лейла, по обыкновению, уставилась в приборы, а Руфе хочется поговорить. В темном небе всегда тревожно и одиноко. Но, чувствуя отчужденность Лейлы, она не решается прервать молчание. Командир не терпит пустых разговоров не только в воздухе, но и на земле, такой уж характер. Вот и выходит: не с кем поделиться сокровенными мыслями, развеять грусть…
Сильный ветер обжигает лицо, из глаз льются слезы. Руфа ворочается в кабине, осматривая свое нехитрое хозяйство.
— Сиди спокойно, штурман, — делает замечание Лейла. — И надень очки.
«Наблюдает за мной в зеркальце, — обиженно думает Руфа. — Следит. Значит, в чем-то не доверяет. Разве я такая плохая? Черствая все-таки она, подозрительная. А я не такая, совсем не такая!.. Может быть, она мне завидует? Нет, на Лейлу это не похоже. А Ирина завидует, это уж точно».
Самолет летит над облаками. Внизу темень — словно все кругом покрыто черной попоной. Ни огонька, ни просвета.
В душе Лейлы — смятение: она с нежностью думала о своем штурмане, радовалась ее счастью. Но Руфа нарушила дисциплину и никак не может осознать свою ошибку. Ведет себя, будто так и надо. Это плохо. О случившемся на аэродроме «братишек» она еще не знает, Что будет? А может, все это — действительно утка Фолькнерса? Как бы там ни было, любовь не должна ослеплять человека. Если она не делает его лучше, сильнее, зорче — значит, это не любовь. «Надо поговорить с Руфой по душам, — решила Лейла, — пока не натворила еще чего-нибудь…» Вслух спросила:
— Штурман, где мы?
— До нашего квадрата десять минут.
— Начинаю снижаться…
Густые облака гасят скорость самолета, Руфа, конечно, учитывает это. Водяная пыль превращается в капли, капли в ручейки, кажется, что самолет, одежда, САБы обливаются потом. «Мы, наверно, похожи на мокрых котят», — подумала Лейла.
Она сделала круг — внизу никакого просвета.
— Бросить САБ? — спросила Руфа.
— Бросай.
Не помогло. Свет бомбы — словно блестящая ложка в стакане киселя. Хоть бы ударили зенитки. Но немцы не дураки. Конечно, слышат шум мотора, затаились. Неужели придется возвратиться ни с чем? Обидно.
Где-то внизу проносятся цистерны с горючим, утром немцы заправят им самолеты, танки, самоходки, автомашины, мотоциклы. Если бы удалось остановить эти машины смерти…
Руфа бросает САБы — никакого толку.
— Штурман, что там слева? Река? Железная дорога?
— Реки поблизости нет, не должно быть. Я ничего не вижу. А ты?
— Что-то там мелькнуло темное. Смотри: искры! Это поезд! — Лейла круто разворачивает самолет. — САБ! — приказывает Руфе.
Та, будто не слышит, корректирует:
— Десять градусов вправо! Еще немного. Так держи. Пошли!
Вытягивая шеи, девушки смотрят вниз. Две бледных вспышки, одна за другой. И тут же пропадают. Значит, не попали.
— Почему САБ не бросила? — спросила Лейла, развернув самолет.
— Почему, почему, — обиженно ворчит Руфа. — Кончились САБы. На складе было мало.
«Где тут напастись, если на уме любовные письма…» — Лейла до хруста в пальцах сжимает рукоятку управления. Только поезд словно сквозь землю провалился. Упустили.
Снижаясь, Лейла добавила газ, с ревом вычерчивает восьмерку. Проносятся силуэты деревьев, гор.
— Вот он! — крикнула Руфа.
В тот же миг к самолету протянулись дорожки трассирующих пуль. Край козырька, прикрывающий кабину Лейлы, будто ножом отхватило. Забарахлил мотор: стал чихать как простуженный. Самолет затрясло, скорость резко снизилась.
«Падаем!» — мелькнуло в голове Руфы. Сердце сразу забилось тревожнее. Однако Лейла, наклонившись вперед, двигает руками и ногами, пытается оживить мотор. Земля совсем-близко… Еще усилие, еще… Мотор очухался, заработал ровно. На душе отлегло. Можно продолжать преследование.
Минута — поезд опять под ними. На этот раз бомба попала куда надо, паровоз свалился под откос, волоча за собой цистерны. Заплясало пламя, рванул мощный взрыв.
— Молодец, штурман! — не удержалась от похвалы Лейла.
Руфа молчит.
Лейла, хоть и довольная, что выполнили задание, мысленно возвращается к разговору с Женей Рудневой. Может, она сообщила эту «новость», надеясь что-либо смягчить, пока дело не приняло серьезный оборот. Конечно, в том, что аэродром «братишек» взлетел на воздух, в какой-то степени виновата Руфа. Но кто желает, чтобы дурная слава распространялась о своей эскадрилье? Да и Бершанская обо всем знала. Не могла же она забыть предупредить командира соседнего полка Бочарова или вовсе промолчать? Словом, как бы там ни было, Лейла поступит по справедливости — как секретарь комсомольской организации эскадрильи, не зря же ее выбрали. Она никогда не закрывает глаза на правду, не кривит душой.
Резко развернув самолет влево, она добавляет газ, набирает высоту.
— Зачем повернула? — спрашивает удивленно Руфа. — Уже прилетели домой. Вон маяк светит…
— Пусть светит. Сейчас и без САБа увидишь, чего натворила!
— Не понимаю…
— Скоро поймешь!..
Лицо Лейлы белое как полотно. Губы сжаты. Глаза неотрывно глядят вперед, сузились. Мотор, словно чувствуя состояние хозяйки, работает в полную силу.
Руфа, кажется, поняла: они летят к аэродрому «братишек». Но что Лейле взбрело в голову, что ей тут нужно? Какую еще пытку придумала она для Руфы?
Внизу развороченная бомбами земля, разрушенные и искореженные остатки строений, груды лома, пепелище.
Лейла дважды провела самолет над мертвым аэродромом. Вот, мол, полюбуйся, чем обернулось твое минутное утешение. Может, в голове прояснится. Остальное — на комсомольском собрании или собрании эскадрильи… Конечно, ей тоже неприятно: как-никак, ее штурман, ее комсомолка…
Руфа, поникшая, только и вымолвила:
— Неужели все погибли?.. Миша…
Утром Бершанская собрала всю эскадрилью и объявила приказ:
«За отклонение от заданного маршрута и проявленное самовольство штурмана Гашеву отстранить от полетов на пять дней».
Лейла насторожилась: «Что за полумера? Почему не упомянут аэродром? Или тут что-то не так?»
Сразу после завтрака началось комсомольское собрание. Разговор пока что не выходит за рамки приказа. Само собой, никто ничего не знает. Бершанской пока нет, но она подойдет. Конечно, выскажется. А пока адъютант Хиваз Доспанова все записывает, положив блокнот на крыло самолета. Лица девушек суровы. За исключением Кати Рябовой, все крепко обвиняют Руфу. Катя, закусив губы и устремив свои черные, полные слез глаза на Руфу, чуть не плачет. «Душа моя, — говорит ее взгляд, — хоть и очень велика твоя вина, я не обвиняю тебя: ты это сделала из-за любви. А что может быть достойнее, возвышеннее этого?!»
Руфа, подавленная, осунувшаяся, сидит, глядя под ноги. Когда выступающие говорят сердито, зло, плечи ее вздрагивают. Но истинный смысл слов, кажется, не доходит до ее сознания: вина и переживание сделали свое дело. Высохшие губы, словно молитву, все повторяют шепотом одни и те же слова: «Миша… Миша… В твоей гибели виновата я. Только я…»
Но тут с семинара вернулась на аэродром секретарь комсомольской организации полка Саша Хорошилова. Она привезла свежие газеты, раздала их усевшимся в кружок девушкам. Глядят: на первой странице о Руфе. Хвалят за проявленный героизм в ту ночь, когда летала с Амосовой. Вот тебе на! Хотя все правильно: Руфа выполняет задания самоотверженно. Этого никто отрицать не станет. Однако судьба аэродрома говорила сама за себя…
Девушки зашушукались, загомонили. Собрание принимало другое направление. Получился перекос. Лейла напомнила, какой вопрос стоит на повестке дня, подала знак комсоргу полка. Только та, кивнув: дескать, потерпи, продолжала свою речь.
Стали беспокоиться Дуся Носаль и Ира Себрова: желая высказаться, они подняли руки.
В этот момент перед КП остановилась хорошо замаскированная ветками грузовая автомашина. Из кабины вышли двое мужчин в военной форме. Один из военных направился к самолетам второй эскадрильи, где проходило собрание. Когда он приблизился, Глаша Каширина, сидевшая напротив, сложила газету и вдруг заметила: старший лейтенант с букетом цветов в руке и с огромным арбузом знаками просит позвать кого-то. Она все поняла: мягко ступая, подошла к одиноко сидевшей Руфе и, взяв ее за подбородок, повернула голову к гостю.
Руфа как-то неосмысленно посмотрела, наконец уверившись, что улыбающийся старший лейтенант — ее любимый, поспешила навстречу.
— Миша! Ты жив? Милый мой…
— Жив, конечно. Кто же меня без тебя хоронить станет? — сказал он, как всегда, шутя.
— Так ведь вашего аэродрома больше нету?
— Да, да, — вступили в разговор удивленные девушки, — фашистское радио объявило, что ваш полк больше не существует.
— И в листовке есть фотоснимок разрушенного аэродрома…
— Лейла с Руфой своими глазами видели обломки…
Михаил весело улыбнулся:
— Выходит, я не я, а дух святой, Но, девочки-красавицы, я ведь безбожник и ребята — тоже. К слову, чтобы рассеять ваше недоразумение, они шлют вам полный тоски привет. И этот арбуз.
Все рассмеялись, даже Руфа.
— И самолеты ваши целы? — усомнилась Ира Себрова.
— Целы, конечно!
— Как так?
— Так. Мы уже сами меняли дислокацию, а тут звонок Бершанской. Пришлось поторопиться. А так как на войне без хитрости не обойтись, мы выкатили на открытое место пустые бочки, замаскировали их ветками, а сами — фьюить! — Михаил, по-мальчишески свистнув, взмахнул рукой, — Были и нет. Пусть и фрицы немного порадуются: разгромили, мол, полк. И нам на новом месте будет спокойнее… Теперь вот первый визит — к вам. Ну и Евдокию Давыдовну поблагодарим.
У Руфы на душе посветлело. Возможно, она, сбросив без надобности САБ, способствовала тому, что немцы попали в ловушку. Но никто и не подумал поддержать в ней эту надежду. Сколько немецких бомб пропало даром, по сравнению с этим САБ — мелочь. Правда, случилось и такое: при бомбежке не хватило САБа… Может, того самого, одного…
Лейла, краснея за вчерашние свои мысли, стояла растерянная. Вот ведь как получилось. А она чего только не подумала! И хотя никакой трагедии с аэродромом «братишек» не случилось и дело закончилось благополучно, Руфа виновата. Хорошо, что Бершанская успела предупредить, в противном бы случае обвинили штурмана.
Словом, много суровых, колючих слов пришлось Гашевой еще выслушать от своих подруг. И когда у нее спросили: мол, что ты сама нам скажешь, она с волнением в голосе ответила:
— Спасибо всем вам. Я такая дура, но я все поняла. Правда-правда.
Ночь двадцать девятая
Были ночи, которые мы называли «максимальными».
У Шахерезады была буйная фантазия, она ворковала с вечера до утра, попивая между делом душистое вино, закусывая фруктами, сладким изюмом. Но «максимальные ночи» придумать невозможно, это не под силу самой изощренной фантазии.
Ночной бомбардировщик вооружен четырьмя фугасными бомбами, вес каждой — пятьдесят килограммов.
Пять боевых вылетов — тонна бомб на головы фашистов. Это обычная ночь.
Максимальная ночь — это шесть-восемь боевых вылетов.
В полку двадцать самолетов, которые могут за одну такую ночь обрушить на вражеские позиции десятки тонн бомб.
У немцев, наверное, создавалось впечатление, что в ночном небе кружатся сотни самолетов. Беззащитные, тихоходные, они были невероятно живучими. С тех пор, как пропали без вести Люба Ольховская и Вера Тарасова, в полку потерь не было. А времени прошло немало. Фашисты израсходовали впустую огромное количество боеприпасов.
Крохотный самолетик мечется в перекрестье световых столбов, кажется, достаточно одной пули, одного снаряда, и все будет кончено. Но потоки трассирующих пуль, десятки снарядов словно огибают его или проходят насквозь, не причиняя ему вреда.
Это неестественно!
В небе — ведьмы!
Как-то незаметно самолет удаляется. А над фашистами — новый САБ! Заметались щупальца прожекторов… Вот она, новая ведьма! Огонь!
Самолет идет, как по ниточке. Взрыв, второй, третий, четвертый…
Вдобавок ведьмы сбрасывают еще термитные бомбы.
Первая уже ускользнула.
Снова САБ…
Один за другим, бесшумно, как призраки, несущие смерть и опрокидывающие вековую, испытанную военную науку, появляются маленькие краснозвездные самолеты, которыми управляют не суровые, многоопытные асы, а юные девушки, совсем недавно получившие первый приказ — остричь косы…
В те тяжелые месяцы, как известно, фашистская авиация господствовала в воздухе. Но на том участке фронта, где сражался женский авиационный полк, господствовали в ночном небе наши непобедимые «По-2».
Очередная «максимальная ночь», а Руфа отстранена от полетов. Первый самолет скрылся в мглистом, белесом небе, второй, третий…
Несколько месяцев спустя Руфа Гашева по моей просьбе рассказала мне о своих мучениях, об этой жуткой ночи, когда она, не находя себе места, бродила по аэродрому; «Мы никогда не вспоминаем эту историю, — сказала Руфа. — Но тебе так и быть расскажу».
По быстрым, пристальным взглядам подруг она чувствовала, что ее жалеют, и от этого еще муторнее становилось на душе. Бершанская вроде не обращает на нее внимания. Ну и пусть! Правда, у командира полка нет ни минуты свободной, некогда ей с бездельницей нянчиться.
Лейла сочувствует, по глазам видно, но она же сама первая заявила: «Отстраняю от полетов!» Сама настаивала на разборе дела. Конечно, могли бы как-нибудь по-другому наказать. Или просто ограничиться обсуждением, она же сама себя всю исказнила.
«Хожу, как прокаженная, как дармоедка какая-нибудь, — рассказывала Руфа. — Думаю: так мне и надо! И все же обида гложет: на собрании никто не вступился за меня. Даже те, кто не выступал, умом я понимала, были на стороне командира полка и Лейлы. Значит, я хуже всех. Надо спрятаться куда-нибудь, нельзя же лить слезы на виду у всех. Но чувствую — уйти не могу. Почему? Сама не знаю. Даже поплакать нельзя. Не имею права — у девушек может испортиться настроение. Улыбайся. Радуйся. Отдыхай. Пой песни!
Пять долгих ночей впереди…
Кажется, все заняты своим делом, а ощущение такое, что исподтишка наблюдают за мной. И Бершанская, хотя и не глядит на меня, а видит, я чувствую. Видит, боковым зрением следит за мной.
Пять ночей, пять ночей…
Лейла возвратилась из второго полета. Подойти? Докладывает Бершанской, неудобно.
Какая долгая ночь. Самая долгая в моей жизни.
Надо взять себя в руки. Выдержать испытание. Доказать, что я не лишняя в народной, священной войне. Что я настоящая комсомолка.
Лейла улетела.
А вдруг в эти пять ночей кто-нибудь из девушек погибнет? Как мне тогда жить на свете?!
Нет, я не выдержу. Сойду с ума…
Когда Руфа проходила мимо ремонтной мастерской, ее окликнули, попросили помочь. Девушки ремонтировали самолет Амосовой, тот самый… «Не нервничай, не отвлекайся, — успокаивали они ее, когда она прислушивалась к гулу моторов. — Случится что — нам сообщат».
Утром, еще до завтрака, Бершанская объявила, что отменяет свой приказ об отстранении штурмана Гашеной от полетов в связи с изменившейся оперативной обстановкой.
Девушки кинулись к Гашевой, обнимали, целовали. Чувство огромной благодарности к подругам, охватившее ее, Руфа сохранила в своей душе на всю жизнь. И поверила, что она не хуже других. Весь полк ее любит.
Ночь тридцатая.
Линия фронта изменяется ежедневно, ежечасно. Изо всех сил сдерживаем наступление врага.
Перебрались на новый аэродром, фронт вроде бы стабилизировался. Воспользовавшись этим, расширили взлетную полосу. Расположенный поблизости колхозный ток превратили в общежитие. Называем его гостиницей «Крылатая корова».
Погода портится. Сгущаются облака, сверкают молнии. Командира полка срочно вызывают в штаб дивизии. Разведка сообщила, что немцы перешли в наступление, фронт прорван. Что делать? Ветер, дождь. Появятся фашистские танки, сомнут, раздавят самолеты. Если поднять их в воздух, где приземлиться? До ближайшего аэродрома — двести пятьдесят километров. В баках горючего на один час полета. В штабе об этом знают.
Бершанская принимает решение: лететь на поиски подходящей площадки для нового аэродрома. Словно протестуя против этого решения, свитая из молний плеть стегает небо, наполняя его трескучим громом.
— На поиски аэродрома полечу сама, — не считаясь с погодой, сказала Бершанская. — Со мной полетят…
Она не успела закончить фразу, все летчицы и штурманы, как по команде, сделали два шага вперед. Евдокия Давыдовна развела руками, улыбнулась.
— Со мной полетят штурман Розанова и техник Радина. Через пять минут старт. Остальным быть в полной боевой готовности!
Лариса Розанова… Высокая, стройная, с продолговатым белым лицом и узкими, словно прищуренными глазами, она казалась дочерью неба, а не земли. Перед войной окончила авиационную школу, работала, как и Лейла, инструктором-пилотом. К тому же она еще и штурман.
Зина Радина… Мы все любили эту девушку, она притягивала нас к себе, как магнит. Невозможно забыть ее пряди белокурых волос, выбившиеся из-под шлема, чистые, доверчивые, как у ребенка, глаза, словно нарисованные брови. И все на ее лице смеется — глаза, губы, каждая ресничка… В моем альбоме есть две ее фотокарточки. Я покажу вам. Да, может, самое главное я не сказала. Зина писала стихи. Выберет минуту — и тут же за карандаш. Старалась, правда, чтобы поменьше видели. А за самолетом как ухаживала, как за малым ребенком. Мыла, чистила, прихорашивала. И лечила. То, что Бершанская выбрала Ларису и Зину, никого не удивило.
Словно три богатыря, они направились к самолету. Бершанская, широкоплечая, с величавой осанкой, в кожаной куртке, с пистолетом на поясе; Розанова, чуть пониже ее, с планшетом в руке; Радина, самая маленькая, с тонкой талией, в синем комбинезоне. На головах шлемы, — чем не богатыри? И предстояла им яростная схватка с бурей. Правда, один конь на троих, зато крылатый.
Лариса и Зина устроились в кабине штурмана.
Самолет в воздухе. Обходя грозовые фронты, Бершанская часто меняет направление. Розанова уточняет маршрут. Радина подсвечивает, ракетами землю. Через полчаса, поиграв в прятки со смертью, пошли на посадку. Внизу поле, примыкающее к лесу. Шасси коснулось земли… Удары не сильные: поле ровное.
Девушки с фонариками в руках осматривают поле, мнут грунт в ладонях.
Земля кругом влажная, самолет может не взлететь, Бершанская, тронув за плечи девушек, предлагает:
— Вы остаетесь здесь. Будете встречать полк. Так что подготовьте огни. А я полечу одна.
Две подружки остались на ветру, под дождем на опушке дремучего леса. Неужели когда-то было — шелковое белье, теплые постели… Шумит лес, а им мерещится, что где-то вдали мягко, дружно тарахтят моторы…
Фашистские танки — в трех километрах от аэродрома. Боевая тревога!
Лейла спешит в гостиницу, едва распахнув дверь, кричит с порога:
— Подъем! Бершанская вернулась. Летим на новый аэродром! В нашем распоряжении пятнадцать минут…
С дальнего конца станицы доносится лязг танковых гусениц. Но самолеты уже взлетают один за другим.
На аэродроме остался один самолет. Он неисправен. В моторе при свете карманного фонарика копаются инженер Соня Озеркова и техник Глаша Каширина. Ничего не выходит. С минуты на минуту должна подойти автомашина, доставить запасные части. Приказ командира полка: попытаться спасти самолет, если не удастся — сжечь.
Автомашина пришла, но оживить мотор девушки не смогли — необходим, оказалось, основательный ремонт…
Вспыхнуло пламя. Глаша, изогнувшись будто от боли и прикрывая лицо руками, медленно попятилась. По ее щекам текли слезы.
Ночь сорок пятая
Прошла неделя, вторая — о Кашириной и Озерковой никаких вестей, как в воду канули. Самолет они, конечно, взорвали, в полку никто не сомневался в этом, но дело будет расследоваться, доказательств нет, значит… Опять неизвестность, затаенная душевная боль плюс новая изнуряющая нервотрепка. Снова девушка-лейтенант из особого отдела, сухопарая дылда с петушиным голосом, будет приглашать на беседы, изводить вопросами…
Судьба Любы Ольховской и Веры Тарасовой теперь известна, все нелепые подозрения лопнули, как мыльные пузыри. В штаб дивизии поступили точные сведения, самолет упал на вражеской территории, девушки погибли, местные жители похоронили их на своем кладбище. На могиле — искореженный пропеллер от «По-2», столбик с прибитым к нему обгоревшим куском стабилизатора. Надпись: «Девушки-Летчицы. Две».
Лейла видела фотографию могилы и была уверена, что точку в этом деле поставил Филипп Матвеевич. Как она ему благодарна! Если бы он был рядом…
В ушах до сих пор петушиный голос: «Значит, вы учили ее летать…» Многозначительное ударение на каждом слове. «Знала ли Ольховская немецкий язык?..» Выведенная из себя подобными вопросами, Лейла чего только не наговорила этой сверхбдительной службистке, другая бы взвилась, а она: «Успокойтесь, пожалуйста, и ближе к делу…» Лейла кинулась к Бершанской, разрыдалась, та ее поила чаем, как больную, из своих рук и настойчиво внушала: «Образумься, прошу тебя, деточка, у них такая работа. Не принимай близко к сердцу, не терзайся, рано или поздно все встанет на место, береги нервы, небо слез не любит».
Воображение быстрыми, яркими мазками рисовало картины одна страшнее другой. Сгорели вместе а самолетом… Рухнули, сраженные осколками или пулями… Раздавлены танками… А может, взлетели, да отказал мотор?.. В темноте врезались в склон кургана… Возможно и такое — подбиты «мессером». Тогда из последних сил они ползут по степи, умирают от жажды… Сонных, фашисты грубо выволакивают из-под стога, заламывают руки. Нет, только не это…
А вдруг распахнется дверь, и они, исхудавшие, веселые, перешагнут порог и в один голос: «А вот и мы!..»
О Лейле я готова говорить без конца. Такая она была многогранная, гармоничная, в ее характере слились воедино беспредельное мужество и ангельская сердечность, у нее, как у богини, не было недостатков, она была неповторимо прекрасна… Печаль в моей душе, но вам печалиться не надо. Я попробую вас развеселить. Сейчас. Представьте себе такую сценку…
Лейла сидит за столом, установленным на краю аэродрома под сосной, готовится к беседе, которую она должна провести с девушками, пополнившими эскадрилью. Подходит Руфа, свеженькая, как майская роза, чистенькая, аккуратная, и Лейла, уложив конспекты в планшет, поднялась, поправила ремень, ее руки обвились вокруг шеи подруги.
— Если бы я была парнем, — улыбаясь, защебетала она, — я бы не отдала тебя никому, никому, ты была бы только моей! Моя великая нежность покоряла бы тебя, и ты любила бы только меня одну… одного. Ты стала бы у меня еще лучше, ты бы сияла, как Вега…
Руфа, не ожидавшая такого страстного порыва от обычно сдержанней подруги, даже растерялась. Прижала ладони к жарким щекам.
— А ты? — не унималась Лейла. — Ты бы стала меня любить?
— Лейла… джаным…
— Да или нет?
— Да, да, да!
— Всю жизнь?
— Конечно.
— Все вы так говорите!
— Клянусь! Как жалко, что ты не парень! Тебе бы еще усики… — Руфа мизинчиком провела две черточки над верхней губой Лейлы.
— А Миша? Ты бы его отшила?
— Не знаю… Пришлось бы, наверно. Нет, лучше уж ты оставайся девушкой. Не будете мешать друг другу и разрывать меня на части.
— Я бы тебя отбила. Непременно. Проходу бы тебе не давала. Руфиночка, разрешите пригласить вас на танец… — Лейла подхватила подружку, напевая, закружилась с ней по лужайке. Усадила на пенек, склонилась в почтительном поклоне: — Руфиночка, хотите покататься на лодке? При луне!
— Не смеши меня, — Руфа замахала руками.
Лейла прерывисто шептала ей на ухо:
— Я вас люблю. Умираю от любви… Счастье мое… — Отступив на шаг, она подбоченилась: — Ну что? Закружилась твоя юная головка? А Михаил твой: здравствуй я пришел… До свиданья, я пошел…
— Фантазерка. А я бы ни за что не согласилась превратиться в парня. Лучше бы умерла.
— Не могу представить. Парень из тебя не получится.
— Из тебя тоже.
— Ты думаешь? Плохо ты меня знаешь… Миша злится на меня, да? За ту историю? — посерьезнела Лейла.
— Нет, нет, что ты!
— А тогда злился?
— И тогда… Он все твердил, что ты справедливая, добрая, чуткая, искренняя.
— Злился, злился, только виду не подавал… Ой, что такое? Бежим!
Воет сирена. Подруги бегут к траншее. Самолеты замаскированы зелеными ветками, на взлетной площадке ни души.
Более двадцати «Юнкерсов» с тяжелым, ленивым гулом, в сопровождении всего двух истребителей, наплывают на аэродром. Где же ты, Ахмет, со своим истребителем?.. «Юнкерсы» скрылись за горизонтом.
После отбоя экипажи получили задание: нанести удар по железнодорожной станции в тылу врага.
Самолет Лейлы взлетел четвертым. Вскоре она уже прорвалась сквозь хоровод прожекторных лучей. И хотя яростно били зенитки, бомбы пошли на цель. А самолет, будто играет в прятки, то круто ныряет вниз, то взмывает вверх. Бедный Буратино, подвешенный к козырьку кабины, не знает куда ткнуться, одна нога у него подвернулась, голова запрокинулась. Воздушная волна, горячая, плотная, швырнула самолет в сторону, мотор заглох. Лейле удалось снова включить его. У самой земли «По-2» выровнялся и скользнул в спасительную кромешную тьму, Буратино, сверкая выпученными глазами, радостно подпрыгивал, как озорной ребенок.
— Молодец, Лелечка! — крикнула Руфа.
Лейла молчит. Радоваться рано. Мотор работает с перебоями, самолет качается, как на качелях. До аэродрома не дотянуть. Это поняла и Руфа.
— Сколько до «Крылатой коровы»? — в голосе Лейлы ни малейшей тревоги.
— Минут десять-двенадцать. Надо повернуть на двадцать градусов.
— Поворачиваем…
Руфа, кусая губы, уточняет маршрут. Лейла наклоняется, к приборной доске, трогает бензиновый подсос. Лица девушек покрыты крупными каплями пота, волосы растрепались.
— Еще чуть-чуть, Лелечка. Еще…
Мотор глохнет, самолет снижается бесшумно, как планер.
Лейла, не теряя присутствия духа, готовится к любой неожиданности, расстегнула кобуру пистолета. Крохотный аэродром расположен в стороне от дорог, фашистам он ни к чему, но все же…
Приземлились!
— Ты жива? — тихим, тревожным голосом спросила Лейла. — Не ушиблась?
— Чуть жива. От страха.
— Приготовь пистолет. Появятся немцы, стреляем до последнего. Стреляй аккуратно, не торопись. Они будут стараться взять нас живыми, но ты не бойся. Я подожгу бензин. Запасная канистра под рукой.
— Давай, простимся, Лелечка.
— Не дури, — одергивает Санфирова. — Наблюдай.
— Возьми мой пистолет, я все равно промахнусь. А мне дай канистру.
— Не промахнешься. Мы подпустим их поближе.
— Может, лучше вылезти?
— Подождем еще немного. Похоже, немцев поблизости нет. Развернем самолет, замаскируем. Видишь: светает, отладим мотор, может быть, успеем улететь. И еще. Осмотрим место, где стоял неисправный самолет. Убедимся…
Руфа вдруг пронзительно завизжала и выскочила из кабины. Лейла крутила головой, не понимая, в чем дело.
— Мышь! Лейла, в моей кабине мышь!
Лейла вылезла, прижала к себе подругу. Та дрожала с головы до ног.
— Успокойся, мой героический штурман. Не съест она тебя. Тише.
— Прости меня, Лелечка. Я так испугалась.
— Хорошо, хорошо. Наблюдай. Теперь гости явятся наверняка. Если в радиусе ста километров есть кто-нибудь.
— Ой, что я наделала. Трусиха несчастная. Но ведь мышь.
— Я думала, немец подкрался, обмерла.
Кругом было тихо, луна еще висела в небе. Низина, залитая мертвенно-белым светом, похожа на большой очаг, покрытый золой. Кажется, если разворошишь ее — обдаст жаром. Чувствуется ядовитый запах гари. Ни малейшего шороха.
Лейле удалось отрегулировать мотор, но лететь было уже поздно. В небе ни облачка. Собьют. Где-то уже гудят «Юнкерсы», вылетают патрульные самолеты.
Девушки завалили самолет ветвями и, отбежав в лощину, улеглись в кустарнике. На противоположной стороне аэродрома они разглядели останки сгоревшего самолета. На месте, где стоял прожектор, у одинокой сосны, служившей отличным ориентиром, — куча металла. Там, где была землянка, в которой располагался командный пункт, — большая воронка. Возле нее — труп собаки. Дотла сгорела «Крылатая корова». Несколько голых обугленных деревьев застыли на краю аэродрома в траурном карауле.
— Побудь здесь, — сказала Лейла. — Я проберусь к обломкам самолета, может быть, осталась какая-нибудь деталь с номером. И осмотрюсь там. Вернусь не позже, чем через час. Жди.
— Я с тобой.
— Нет, Руфа. Охраняй самолет.
Вернулась она вся серная от пыли. Переведя дух, рассказала шепотом.
— Раскопала приборную доску. На ней хорошо виден номер. Захватим с собой, сделаем доброе дело. Кругом следы танков, автомашин, мотоциклов. Но остова машины не видно. Судя по всему, успели уехать. Понимаешь, автомашина с запасными частями тут была. Шофер и техник механических мастерских тоже пропали без вести. С ними что-то случилось в дороге.
— По-моему, хуже всего — припасть без вести, — вздохнула Руфа. — Живет человек, сражается с врагом, вдруг взрыв, рядом никого. Пропал без вести. Какая-нибудь мерзлая кочерыжка, вроде нашего лейтенанта из особого отдела, настораживается: а не сдался ли он в плен? Может быть, дезертировал? Несправедливо это. Думать, что Люба Ольховская, командир эскадрильи, или Каширина, которая ухаживала за самолетом, как за грудным ребенком, могли такое совершить — это преступление.
— Конечно, — согласилась Лейла. — Я думаю, придет время, все будет проверено-перепроверено, правда откроется. Каждый фронтовик надеется, что если он погибнет, имя его останется в народной памяти. Установить судьбу тысяч людей, конечно, непросто, но я верю, что это будет сделано. Ведь у пропавших без вести есть родственники, друзья. Никто не может, не должен остаться безвестным.
— Все же можно и пропасть, — возразила Руфа. — Вот мы приземлились здесь, накроет нас каким-нибудь шальным снарядом, и все, унес военный ветер две песчинки неизвестно куда. Пройдут годы, десятилетия, а люди еще будут гадать о нашей судьбе, кто-то будет думать, что мы с тобой, может быть, живы. Неспроста говорят, что на миру и смерть красна. Ведь наш самолет не упал, не сгорел. В любой момент могут появиться немцы: «Хенде хох!» Сразу стреляй в меня, в сердце. Ты командир!
— Ты пессимистка, — улыбнулась Лейла. — Найдут наш самолет, наши документы. И помянут нас добрый словом. Спи. Будем слать по очереди. У меня все кости болят, а спать что-то не хочется.
— А у меня глаза слипаются.
— Я вижу.
— Разбуди меня часика через два. Как начнет клонить в сон, буди. «Юнкерсы» возвращаются, слышишь?
— Не обращай внимания, спи спокойно. Сверху нас не видно.
«Как весело было здесь, наверно, до войны, — думала Лейла, глядя сквозь просвет в кустарнике на пепелище бывшего колхозного тока. Хлебом пахло. — Сколько нашей земли заграбастали фашисты… А мы все отступаем. Мало самолетов, танков, пушек, снарядов. Заводы в тылу работают день и ночь. Там, в тылу, и решается судьба войны. Наша армия превосходит немецкую по всем статьям, кроме вооружения, это ясно. Когда оружия будет поровну, немцы попятятся. Сначала наши рабочие победят немецкий тыл, а этого ждать недолго, потом мы сокрушим захватчиков. Даже с равным оружием мы бы дошли до Берлина, а придет время, когда у нас оружия будет больше, тогда немцы сдадутся или мы их уничтожим.
Землю мы вернем, города и села восстановим, а миллионы людей исчезнут навсегда. После такой войны, наверно, народы поумнеют, поймут наконец, что к чему, и никто никогда больше не станет под черное знамя фашизма…»
Руфа проспала около четырех часов, поворчала на подругу, что не разбудила раньше. Успела выспаться и Лейла. Протерла глаза и услышала рокот мотоцикла. Вскоре он появился на противоположной стороне аэродрома. Немцев двое, едут прямо на них.
— Твой слева, — прошептала Лейла. — Бери на мушку. Жди команды. Пусть подкатят поближе…
Но мотоцикл свернул в сторону, и скрылся за стеной кустарника. В их сторону немцы даже, не взглянули.
— Пронесло, — сказала Руфа. — Как я испугалась! Одно дело сбрасывать бомбы, другое стрелять вот так, в живого человека.
— В живого фашиста, — поправила Лейла. — Поспи еще часик, Руфа.
— Нет, я теперь не засну.
— Я тоже. Поболтаем?
Этот их разговор Руфа потом часто вспоминала. Лейлу многие считали скрытной, но с близкими подругами она была откровенна.
— Наши там извелись, — сказала Руфа.
— Не переживай, — Лейла погладила ее по голове. — Только ради приборной доски стоило совершить здесь вынужденную посадку. Пусть эта кочерыжка ткнется своим длинным носом…
— Ты знаешь, — встрепенулась Руфа, — она ведь непроходимая дура. Спросила меня про твоих родителей. Я смотрю на нее и думаю: тронешь Лейлу, пеняй на себя. Она что-то про бдительность начала толковать, я говорю: «Какая вы умная». Всерьез приняла, поверила, представляешь? Глазенки так и засияли. И пошло-поехало: она высказывается, а я повторяю: «Какая вы умная». А о твоих родителях я в самом деле почти ничего не знаю. Только запало: ты как-то сказала, что отца не помнишь.
— Я выросла в доме деда, в Куйбышеве. Моя мама, его младшая, любимая дочка, была очень своенравной, В 1914 году решила убежать на фронт, стать сестрой милосердия. Отец догнал ее в Москве, вытащил из вагона, привез домой и — под замок. У деда был свой каменный дом, небольшой магазин. Моя будущая мама сумела вырваться из неволи, вышла замуж за студента Виноградова и умчалась с ним в Казань. Через несколько месяцев вернулась. Родилась я. Мама второй раз вышла замуж и опять неудачно. Спился мой отчим. В Куйбышеве я училась в школе, там полюбила… Потом мы уехали в Среднюю Азию…
— Ты все ждешь писем от того соседского парня? Неужели твоя первая любовь будет и последней? — спросила участливо Руфа.
— Не знаю. Все может быть. А весточки жду, что же мне еще делать. Только вот неизвестность хуже всего. Сама посуди: росли вместе. Когда расставались, дали друг другу обещание… Он написал мне всего лишь одно письмо, перед войной, и затих.
— Может, что случилось…
— Нет, Руфа, он жив, я знаю точно, мне писали знакомые.
— А этот второй, Ахмет, красивый парень?
— Да. Пожалуй, слишком красивый.
— Тогда почему не укрепляешь связи, не отвечаешь на его письма?
— Пишу изредка. Он знает, что я люблю другого. Но на что-то надеется. Уверяет, что полюбил меня с первого взгляда, что я для него единственная и так далее.
— Не веришь? — улыбнулась Руфа.
— Почему не верю? Верю. Сейчас единственная. Придет время, полюбит другую. А вам с Мишей надо пожениться.
— Разрешаешь? — оживилась Руфа и лукаво добавила: — Скажу ему, пусть порадуется. — Помолчала. — А Ирина — шуры-муры…
— Не обижайся на нее. Она тебе желает только добра. Беспокоится за твою судьбу, как старшая сестра. Подшучивает, ну и что?
— Сначала обижалась, теперь нет. — Руфа ткнулась лицом в плечо подруги. — Какая была дурочка… А замуж — подожду. Сейчас моя семья — наш замечательный полк.
Лейла в задумчивости заметила:
— Одна семья другой не помешает.
— А вдруг… Я ему сказала — сразу после победы.
— Если бы я была на его месте… — Лейла не докончила.
— Знаю, пропала бы я… Что-то хотела спросить у тебя… Да, я слышала, что эта девушка-лейтенант еще в Энгельсе подкапывалась под тебя.
— Да, спрашивала, почему я скрыла, что жила в собственном каменном доме. Если бы не Бершанская, отстранила бы она меня от эскадрильи.
— И зачем таких держат в особом отделе? Бершанская говорит: «Работа такая». Но это чушь. По-моему, как раз на такой работе должны быть самые умные, самые справедливые люди. Послать бы ее саму на боевое задание…
— Самолет бы пропал, жалко. Раскусят ее, пошлют куда надо.
— Пока раскусят, сколько крови людям испортит.
— Это верно, — согласилась Лейла. — Только что мы все о ней? Ну ее к черту!..
Потом они долго говорили обо мне. Лейла мечтала о встрече со мной…
Никто девушек не потревожил. Когда стемнело, они погрузили в самолет свою находку и полетели домой. Можете представить, как их встретили! А они даже не захотели отдыхать, подкрепились чашкой кофе и улетели на задание.
Ночь сто шестьдесят девятая
В ноябре 42-го года я прибыла в полк. Он располагался в станице Ассиновская недалеко от Грозного, До Терека — пятьдесят километров, там к северу фронт. Море зелени, аккуратные домики. Подхожу к одному из них, открываю дверь — Лейла!
Обнялись, плачем, смеемся, молчим…
Поворачиваю ее туда-сюда, любуюсь. Она стала еще красивее. Оказывается, ей чертовски идет военная форма! Гимнастерка, белоснежный подворотничок, кубики в петлицах, тонкая талия перетянута новеньким желтым ремнем, брюки-галифе, кирзовые сапоги — лейтенант-принцесса, которой только любоваться. Раньше, в гражданке, я знала ее как инструктора аэроклуба. И вот теперь она военный летчик…
В комнате полно девушек. Одна из них подбежала ко мне, расцеловала в обе щеки. «Руфа», — решила я и не ошиблась.
Как строгая мать, выбирающая невесту сыну, разглядываю штурмана Лейлы. Большие карие глаза, родника на щеке, лицо светлое-светлое — обаятельная девушка, от нее веет юностью, весной, солнцем.
«Ты прекрасна», — мысленно говорю я Руфе, и она, словно угадав мою мысль, покраснела.
Потом подошла красивая, черноглазая девушка. Мило улыбаясь, она протянула мне красную розу:
— Хиваз Доспанова.
Я даже растерялась: мои однополчанки, с которыми я давно знакома заочно, по письмам Лейлы, одна за другой тянут ко мне руки:
— Вера Белик…
— Таня Макарова…
— Наташа Меклин…
— Женя Руднева…
— Ирина Себрова…
— Лариса Розанова…
— Глаша Каширина.
Нет, я не оговорилась — Глаша Каширина, пропавшая без вести! Кружится голова…
Снова подошла Руфа.
— Будем умываться, товарищ лейтенант, — проворковала она и повела в другую комнату, раздевая меня на ходу. Когда вернулись, на двух сдвинутых столах уже стояли миски с виноградом, яблоками, персики, сливы, бутылки с вином. Вдоль стен — аккуратно убранные койки, белые покрывала, расшитые подушки.
— Мне только чай, — предупреждаю я.
— Древние мудрецы говорили, что чай дает силу и просветляет взор, — сказала Хиваз Доспанова и, пожав плечами добавила: — Но Омар Хайям предпочитал вино.
Об Омаре Хайяме я что-то такое слышала, но стихов его не читала. Так что он для меня не авторитет. А главное — я еще не доложила начальству о своем прибытии.
— Мне надо в штаб, извините.
Лейла разрядила обстановку:
— Только чай, девушки, вино потом.
Вдруг кто-то тревожно крикнул:
— Комиссар!
Мигом — динь-динь-динь — словно какой-то, волшебник произнес заклинание, бутылки и бокалы исчезли со стола.
Лейла писала мне о комиссаре Евдокии Яковлевне Рачкевич: «Чудесная ханум, мы за глаза называем ее мамой. Но если рассердится, может, лягнуть в оглоблю…»
Я знаю, что она в гражданскую войну, девочкой, была связной у партизан, потом — пограничная застава. Окончила Ленинградскую военную академию.
«Мама» — у меня перед глазами. Крепкая, полная женщина, в руке — повидавший виды планшет, набитый газетами и журналами.
Отдаю честь, рапортую.
— Я провожу вас к Евдокии Давыдовне Бершанской, командиру полка, — негромко говорит она. — Идемте.
По дороге поинтересовалась моим здоровьем, настроением. Ощущение такое, будто мы с ней знакомы давным-давно.
Подходим к большому белому дому, окруженному яблонями. У входа девушка с винтовкой.
— Наш штаб…
Стою по стойке смирно перед командиром полка. И к этой встрече меня подготовила Лейла. Все точно: чуть прищуренные серые глаза, пронизывающий взгляд, крепкие длинные руки. Улыбнулась, и на душе у меня стало легко.
— Во вторую эскадрилью… — назначила Бершанская. — Пока осматривайтесь, вам надо привыкнуть. Получим машину, посмотрю, как летаете.
— Есть! — ответила я. Щелкнула каблуками и вышла.
В одной эскадрилье с Лейлой, отлично. Прямо сердце радуется. Вот только когда получу самолет — неизвестно…
Вокруг, куда ни кинешь взгляд, сады. Деревья усыпаны спелыми плодами, до которых людям нет дела.
Где-то вдали, то усиливаясь, то затухая, рокочет злобный военный гром. Погода нелетная. Навстречу движутся автомашины, накрытые зелеными ветками. Людей на улицах не видно. Ни одного дымка над домами.
Слышу нарастающий, леденящий душу вой. У самой станицы разорвался снаряд. Земля дрогнула, гулкий грохот заполнил всю долину. Дрожу, как осиновый лист. Посматриваю по сторонам — не видит ли кто… Грубый, оглушающий голос войны я слышу впервые. Что ж, как сказала Бершанская, надо привыкать.
В тот же день представилась секретарю партийной организации Марии Ивановне Рунт. Среднего роста, розовощекая женщина, лет двадцати пяти. В волосах уже поблескивает седина. На столе перед нею — газета политотдела 4-й воздушной армии «Крылья Советов».
— Здравствуй, землячка, — просто сказала Мария Ивановна, пожимая мне руку. — Садись. Расскажи о себе. Подробно.
Я рассказала. Ответила на множество вопросов. Собеседница пропустила меня, как говорят в народе, через игольное ушко. Все кажется? Нет…
— Какие у тебя планы на будущее?
Я едва не рассмеялась. Родная земля стонет под фашистским сапогом — какие могут быть планы?
— Прибыла, чтобы воевать, товарищ лейтенант! — отчеканила я. — Никаких других планов у меня нет. Прошу вас помочь мне поскорее получить самолет.
Помолчав немного, Мария Ивановна ошеломила меня новым, совершенно неуместным, как мне показалось, вопросом:
— А отдыхать ты умеешь?
Я улыбаюсь. Кто же не умеет отдыхать. Было бы время и желание. Улыбка, наверно, была глупой. Отдыхать, надо же… Говорить об этом в такое время как-то стыдно. Но ведь эта серьезная женщина не станет задавать мне пустых вопросов. В самом деле, умею я отдыхать или не умею? Не знаю. Лучше промолчу. Надо подумать.
Мария Ивановна, словно давая мне собраться с мыслями, переложила на столе бумаги. Не дождавшись ответа, задала новый, на этот раз чисто женский вопрос, но тоже неожиданный:
— Вышивать умеешь?
Не летать, не стрелять, не прыгать с парашютом, а вышивать… Куда это я попала?
— Умею, — продолжая улыбаться, ответила я.
— Не смейся. Это отличное средство для успокоения нервов. Для того, чтобы хорошо воевать, надо уметь отдыхать. Особенно женщинам. Спорт любите?
— Признаться, не особенно. Я хочу воевать, уничтожать фашистов, мстить.
Кивнув головой, Мария Ивановна встала из-за стола, подошла к окну, постояла немного, прислушиваясь, видно, к далекой канонаде. Повернулась ко мне и, словно размышляя вслух, заговорила:
— Месть, месть… Да, сегодня это естественное желание. Но мы победим, война закончится и что же делать с истеричками, у которых истрепаны нервы, надорваны сердца? Нельзя без конца повторять: «Месть! Месть!» — это может замутить душу. После победы наши воины, особенно вы, девушки, должны предстать перед миром красивыми, одухотворенными. Такова наша миссия. После войны придется работать, засучив рукава, — на заводах, фабриках, на полях, в институтах и школах, в больницах, детских садах и яслях. В общем всюду. И любить, быть любимыми, растить детей. Если в женском сердце нет ничего, кроме чувства мести, она долго не продержится, превратится из цветущего дерева в столб. Подумай над этим, Магуба…
В огне войны проявляются лучшие качества советских людей, в будущем на нас, фронтовиков, будут равняться целые поколения, мы поднимаемся сами и поднимем других, своим примером, на новую нравственную ступень. Ну а фашисты уже совершили нечто противоположное. Женские авиационные полки в этой борьбе занимают особое положение. Подобных формирований история авиации не знает. Большая честь выпала нам, и надо сказать, что в эти тяжелейшие месяцы наши девушки превзошли себя. У каждой более двухсот боевых вылетов, у некоторых — около трехсот. На знамени нашего полка — ни одного пятнышка. Потери — тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить. — небольшие. Недавно один экипаж, который мы считали погибшим, вернулся в полк. Тебе еще не рассказали об одиссее Сони Озерковой и Глаши Кашириной?
— Нет.
— Не успели. Расскажут.
— С Кашириной я уже познакомилась. А что за одиссея?
— Лейла расскажет подробно или сама Глаша.
Я подумала: сегодня, может быть, поговорить по душам с Лейлой не удастся, неудобно уходить из компании, а вечером, если погода улучшится, начнутся полеты. И попросила Марию Ивановну хотя бы коротко рассказать, что произошло с Озерковой и Кашириной. Она согласилась. В двух словах объяснила, при каких обстоятельствах девушки оказались вдвоем на аэродроме у неисправного «По-2».
— Самолет сгорел, — продолжала она. — Едва полуторка выехала на дорогу, случилось несчастье — заклинило мотор. Ничего нельзя было сделать. Пришлось сжечь и машину. Дальше пошли пешком. Заночевали в стогах. Утром Глаша открыла глаза — рядом стоили пожилая женщина, изумленно глядит на нее. С ума, говорит, сошли, кругом немцы, а вы в форме. Привела их на хутор, накормила, дала всем одежду. Шли от станицы к станице, немцы принимали их за местных жителей. Ночевали на хуторах, в станицах, девушки в одной хате, мужчины в другой. Утром собирались вместе, шли дальше. Однажды мужчины в условленном месте не появились. Искать их не стали, побрели дальше вдвоем по раскаленной степи. В платках, длинных юбках, босиком. У поворота дороги натолкнулись на двух немецких мотоциклистов. Один из них возился с мотором, другой стоял рядом. Увидев девушек, подошел к ним, что-то начал лопотать, тыча пухлым пальцем в узелок, который держала в руках Глаша. То ли хотел есть, то ли решил проверить, что несут. А в узелках — по куску хлеба и пистолеты. Девушки понимали, что им грозит, тем более, что вот здесь, — Мария Ивановна приложила руку к груди, — партийные билеты. Соня не растерялась. Подмигнув Глаше, развязывай, мол, узел, отвлеки внимание. Глаша, теребя узел, стала пятиться, немец подступал к ней. Соня оказалась сбоку, сделала шаг, другой и выстрелила ему в спину. Не успел он упасть, она, как молния, кинулась к другому немцу и всадила в него две пули. Побежали прочь от дороги, бежали долго, пока не выбились из сил.
Прошло несколько дней, Глаша совсем ослабела. Подошли к станице, постучались в первую хату. Хозяйка оглядела их с головы до ног, сказала: «Постойте тут». Минуты через две вернулась: «Заходите». Вошли и остолбенели: за столом сидел старший лейтенант с орденом на груди, чисто выбритый, спокойный. Как во сне. Оказалось, он и десять его бойцов выходят из окружения. Прикрывали отход батальона. Теперь, выполнив задачу, прорываются к своим. Все в форме, с оружием. У них две повозки, два пулемета. Командир не сомневался, что его отряд рассечет части наступающих немцев и соединится с батальоном. Двигались только по ночам, если встречали вражеские войска, стремительно атаковали их, прорывались…
Видя изумление девушек — они просто не верили своим глазам, — старший лейтенант усмехнулся, вынул из кармана партийный билет и показал им. Соня и Глаша показали ему свои. Рассказали о своих мытарствах. Вскоре вместе с отрядом они добрались до Моздока, который в то время еще удерживали наши войска. В пути, правда, Глаша заболела, лежала в госпитале, но теперь все это позади — Мария Ивановна немного помолчала и улыбнулась: — Желаю тебе удачных полетов.
— Я сделаю все, что в моих силах, — заверила я парторга, — чтобы оправдать доверие Родины.
— Не сомневаюсь в этом, — Мария Ивановна приблизилась ко мне, обняла за плечи. — Лейла Санфирова все время твердила, что твое место здесь. Мы тебя ждали.
— Мне бы самолет поскорее! — взмолилась я.
— Самолет будет, но когда, сказать трудно. Наберись терпения. Без дела тебя не оставим…
Вспоминая этот разговор, я думаю: наш полк возглавляли настоящие женщины. Далеко видела Мария Ивановна. Мы были беспощадны к врагам, но наши сердца не ожесточились. Кого только нет среди бывших моих однополчанок: доктора и кандидаты наук, мастера спорта, инженеры, учительницы. Все они матери…
Вечером я вместе со всеми пошла на аэродром. Командир нашей эскадрильи Дина Никулина находилась в госпитале, ее замещала Лейла. Все шло своим чередом, без суеты. Самолета были укрыты в яблоневых садах. Девушки перебросили через арыки мосты, выкатили самолеты на взлетную дорожку. Быстро, ловко, как в цирке, словно отрабатывали свой номер. Также слаженно действовали техники, подносчицы бомб, оружейницы, как мы их называли.
— Красиво работают девушки, — восхищенно сказала я.
— Да, мастерицы, — согласилась Лейла, — их бы руками подносить розы.
Самолеты взлетали один за другим. Подошла очередь Лейлы и Руфы. Помахав мне руками, они унеслись в облака.
Минуты ожидания сливаются в вечность. А вдруг… Вернулись! Подношу им по чашке горячего кофе. Они бомбят переправу у Моздока, торопятся. Едва опорожнили чашки, улетели снова.
После пятого вылета Лейла и Руфа вылезли из кабин, опаленные, как пожарники, похудевшие, изнуренные. На самолет страшно смотреть: фюзеляж прошит пулями, крылья истерзаны осколками.
— Задание выполнено, — хриплым голосом докладывала Лейла командиру полка. — Уничтожена зенитная батарея. Экипаж жив-здоров. Самолет неисправен. — И, чуть помедлив, сбивчиво добавила: — Очень сильно стреляют… Нину Распопову сбили.
— Сбили, — как эхо повторила Бершанская. — Сама видела?
— Попали в перекрестие семи прожекторов. Однако бомбы легли на цель. Но и самолет пошел вниз, заваливаясь на крыло. Прожекторы держали его в ножницах почти до самой воды. Ни огня, ни дыма не было. Всплеска не видела тоже.
— Отдыхайте, — Бершанская направилась к другому самолету.
Отдыхать мы не пошли. Занималась заря. Теплый ветерок резвился в садах, стряхивая яблоки. Просыпались птицы, в арыках еле слышно журчала вода. Мы медленно бродили возле аэродрома, ожидая, когда приземлятся последние самолеты.
Вернулись все, кроме Распоповой. Вскоре погас посадочный прожектор, а за ним и стартовые огоньки, которые светились на этот раз как-то печально.
— Пропали без вести, — слышу я чей-то негромкий, сдавленный голос.
В мозгу неотвязная идиотская мысль: я принесла несчастье эскадрилье.
Проходим мимо крайнего домика.
— Медпункт? — спрашиваю я, разглядев на двери крест.
— Да, — вздохнув, ответила Лейла. — Недавно здесь скончалась Валя Ступова. Такая была веселая всегда. Пела как соловей. От ран умерла. Понимаешь, во сне слышу ее голос. Льется откуда-то с неба. А ее не вижу…
Небольшие потери? Нет, небольших потерь на фронте не бывает. Только большие.
Ночь сто семидесятая
Днем провели открытое партийное собрание. В президиуме, за хвостом самолета — Рунт, Рачкевич, Бершанская. Повестка дня: «О новой тактике ночного боя». Докладчик — командир полка.
— Немцы приноровились к нашей тактике, — говорит она. — Значит, пора ее менять…
Новшество, предложенное Бершанской, такое: самолеты должны стартовать не поодиночке, а парами. Обычно первый самолет, снижаясь над целью с приглушенным мотором, сбрасывает бомбы без особых помех, иногда его вообще не успевают обстрелять. Экипажам, получившим задание бомбить тот же объект, стартующим позднее, приходится туго: враг встречает их яростным огнем зенитных батарей. Надо усилить мощь первого удара. У второй пары задания разные: один экипаж поражает цель, второй сбрасывает бомбы на прожекторы и огневые точки.
Гляжу на Бершанскую и жалею, что я не скульптор. Сколько силы и красоты, несокрушимой воли в ее облике!
Лейла говорила мне, что семья Евдокии Давыдовны осталась в Сталинграде. Никаких вестей из этого огненного ада, она, конечно, не получает.
Предложение командира полка одобрено. Решено изменить интервал между взлетами. Тактика бомбометания меняется постоянно. Бершанская и сами девушки придумывают все новые ухищрения, помогающие перехитрить, ошарашить врага.
После собрания мы с Лейлой прогулялись по станице. Жители, в основном старики и старухи, работали в садах, в поле. Видно, что до многого руки не доходят: не убрана кукуруза, стоят нетронутыми виноградники, сады. Народ здесь приветливый и щедрый.
Вечер. С горных пастбищ, позванивая колокольчиками, возвращаются коровы и козы. Я отправилась за молоком, не удержалась, попросила у хозяйки разрешения подоить корову. Худенькая старушка охотно согласилась. Только я приступила к делу, за спиной голос:
— Магуба, научи меня доить.
Вера Белик. С удовольствием даю первый урок. Вот бы чем нам заниматься!
— Ты способная ученица, — говорю я.
— Правда? — новоиспеченная доярка недоверчиво качает головой, смущенно улыбается.
Хозяйка поглаживает корову, говорит ей ласковые слова. Ведро постепенно наполняется душистым молоком.
— Кто-то бежит сюда, — хозяйка вытягивает шею: — Танечка Макарова.
— Сейчас скажет: срочно на командный пункт! — проворчала Вера.
Она угадала.
— Верочка, срочно на командный пункт! Летим на разведку…
Расстелив на хвосте самолета штурманскую карту, Лейла уже уточняла задание. Девушкам предстояло подыскать подходящую площадку для аэродрома подскока. Такие аэродромы давали возможность увеличить продолжительность и дальность боевых вылетов.
— Обратите внимание на этот суходол, — Лейла постучала указательным пальцем по карте. — Правда, там стога сена… Не беда, — решила моментально, — переместим их. Используем для маскировки. Главное; найти ровную площадку…
Самолет улетел.
Вскоре на станицу с гор хлынули потоки холодного воздуха. Туман закрыл долину и все вокруг. Что делать? Самолет Макаровой должен вот-вот вернуться.
Не мешкая, с двух сторон аэродрома мы зажигаем костры. Огонь жадно пожирает кучи хвороста, но отойдешь метров на двадцать — ничего не видно. Поливаем хворост автолом: в небо взлетают языки пламени. Пускаем ракеты.
Слышим: самолет кружит над нами. Кажется, он совсем низко. Нет, не видят девушки сигналов. Гул удаляется, затем приближается снова. Снижаться опасно, можно врезаться в скалы, а с высоты огней не разглядеть.
Гул мотора все тише, тише. Вот и пропал совсем. Костры тоже прогорели, угли подернулись пеплом.
Еще один экипаж пропал без вести…
К Вере Белик я уже успела привязаться.
Таня Макарова, Макарыч, как ее называют девушки. Взлетела безупречно. Как-то изящно развернулась, чем вызвала довольную улыбку на лице Бершанской. Будто пролетела жар-птица. И по земле Таня ходит красиво. Удивительная походка. Так проплывают девушки с ведрами на коромыслах мимо парней. Самолета уже не видно, а мы стоим и смотрим в небо.
— Таня и Вера — неразлучные подруги, — тихо говорит Лейла, зябко прижимаясь ко мне. — Лучший экипаж в полку. Макарыч летает с семнадцати лет. Настоящий ас. Ты же видела, у нее бесподобный почерк, Бершанская говорит, летает, как ангел. Не может она разбиться.
В знак солидарности я крепко обнимаю Лейлу. А в воображении мелькает, повторяясь без конца, одно и то же видение: из белой тьмы бесшумно появляется самолет, врезается в черную каменную стену, обломки мучительно медленно падают в пропасть…
Вернувшись на квартиру, мы и тут не знаем покоя: склоняемся над картой.
— По-моему, они пролетели на ту площадку, которую выбрали для аэродрома, — предполагаю я.
— Я тоже так думаю, — соглашается Лейла, впиваясь в карту глазами. — Они здесь, в суходоле. Горючего у них ни капли.
Хозяйка, бабушка Марфа, услышав наши рассуждения, утешает:
— Туман только тут, у нас, в соседних станицах его нет, там ясно.
Бабушка души не чает в Лейле. Связала ей теплые носки. Если что печет или жарит, первый кусочек на пробу — тоже своей любимице. А вообще-то у каждой девушки есть в станице своя бабушка, только у меня пока нет. Впрочем, хозяйка коровы, которую мы подоили с Верой Белик, так ласково на меня глядела…
Не спим всю ночь, надеемся, что туман рассеется. Но он словно прилип к земле.
Ночь сто семьдесят первая
Ближе к обеду туман частью рассеялся, частью навис над долиной, превратившись в мглистую пелену, летать все равно нельзя.
С Лейлой мы наговорились вволю. После ее рассказов о боевой жизни полка мне хотелось кричать на всю станицу: «Я должна летать! Должна!» Но я молчала, утешая себя надеждой, что не сегодня — завтра мое желание сбудется.
Вечером меня назначили дежурной по аэродрому.
Как назло снова сгустился туман. Вижу — по дороге навстречу мне медленно движется автомашина: фары вспыхнули и погасли. Показалось подозрительно. Может быть, патруль ее не заметил?
— Стой! — кричу во весь голос.
Машина продолжает ползти. Тогда, вынув из кобуры пистолет, стреляю вверх.
Машина останавливается. Шофер, молодой парнишка, высовывается из кабины, испуганно смотрит на меня.
— Куда? Документы.
Вместо ответа шофер спрашивает:
— Ассиновская?
Призвать его к порядку я не успела, из кузова раздались женские голоса:
— Кто это?
— Свои!
Один голос кажется знакомым. Подхожу, свечу фонариком… Нина Распопова со своим штурманом Ларисой Радчиковой! У Нины под шлемом белеет полоска бинта.
— Сыртланова! — кричу я. — Дежурная! — И разряжаю в воздух всю обойму. Просто ошалела от радости.
Через несколько минут примчались девушки. Началось столпотворение…
Распопова повторила то, что рассказала Лейла. Но у самой воды она выровняла самолет, и он, пролетев немного, ткнулся на ничейную полосу. Девушек спасли наши кавалеристы, доставили их в госпиталь.
— А где Вера Белик? — спросила вдруг Нина. — Зовите ее! Мы ей письмо от жениха привезли, пусть попляшет!
Неловкую паузу прервала Лейла:
— Она и Макарыч на новом аэродроме. Дай-ка письмо, я полечу к ним, передам.
Посыпались вопросы:
— Что за жених?
— Он в госпитале?
— Вера получает письма только от родных, почему он не писал раньше?
— Кавалерист? Значит, прискачет на белом коне!
И предположения:
— Самозванец какой-нибудь.
— Увидел портрет в газете, влюбился.
Распопова подняла руку.
— Все расскажу. Слушайте как все было. Лежим мы с Ларисой в палате и тихо между собой разговариваем. Вдруг слышим могучий голос: «Вера Белик не здесь?» Ничего не понимаем. Кричим: «Кто ее спрашивает?» Наконец он входит. Борода, как лопата, — во!
Девушки прыснули.
— Ой, как страшно!
— Дедушка, что ли, он?
— А борода не синяя?
— Ничего страшного, — успокоительным тоном сказала Нина. — Симпатичный молодой парень, борода черная, джигит. Он из Керчи, как и Вера, жили на одной улице…
«Соседский парень», — мелькнуло у меня в голове. Глянула на Лейлу, она понимающе улыбнулась, по ее лицу словно прошла тень. Да, почти у каждой из нас был свой довоенный «соседский парень».
— Работает механиком в ПАРМе[1], — продолжала Нина. — Прибыл осмотреть самолет командира кавалерийского корпуса. Знал, что Вера в одном из женских авиаполков, услышал, что в госпиталь доставили двух летчиц, и примчался. Мы ему сказали: хочешь получить нашу Верочку, пожалуйста, мы не возражаем, но готовь калым. В качестве задатка потребовали «По-2» для эскадрильи.
Мы шумно похвалили девушек за находчивость и практичность. И все же Распопова уловила скрытую тревогу в наших глазах.
— Девочки, а с Верой и Макарычем ничего не случилось? Вы что-то скрываете.
— Улетели искать площадку, — за всех ответила Лейла. — Немножко беспокоимся.
С минуту все помолчали, потом разошлись.
Мне невольно подумалось: с чем только не встретишься на фронте. Произошло почти невероятное: Озеркова и Каширина прошли сквозь вражескую танковую армию, вернулись в полк. Еще две девушки, которые, можно сказать, погибли на глазах, воскресли: вернулись в полк! Радость неописуемая. И тут же новая загадка: что с экипажем, который только что кружил над родным аэродромом? Никакого обстрела — тишина. Лишь туман. Но он страшнее вражеских зенитных батарей. Нахлынула боль невозвратимых утрат, неутихающая тревога за родных людей, за любимых, за всю страну. Может ли все это выдержать человеческое сердце?..
Ночь сто семьдесят вторая
Во второй половине дня небо прояснилось, и Лейла с Руфой полетели на поиски пропавшего самолета.
Наступил вечер — они не вернулись. Оба экипажа пропали без вести!
Погода снова испортилась, накрапывал дождь. Заданий на полеты из штаба дивизии не поступило.
Угрюмые громады гор, низкое осеннее небо — все вызывало тоску, усиливало тревогу.
Бершанская вызвала к себе командиров эскадрилий. Явились к ней также комиссар полка и секретарь партийной организации. Думали-гадали. Ясно было одно: пока не улучшится погода, ничего предпринять нельзя.
Еще одна бессонная ночь. Девушки собрались в одном доме, тихо поют грустные песни, одну за другой.
В десятый раз разворачиваю карту. Глаза впиваются в суходол. Допустим, первый экипаж там. Лейла и Руфа заметили девушек, приземлились. Почему потом не прилетели на основной аэродром? Что могло им помешать? Если первый самолет неисправен, Лейла должна была вернуться. Оба самолета вышли из строя? Маловероятно. Налетели «мессеры»?
Может быть, в суходоле не оказалось подходящей площадки, Лейла высматривала следы катастрофы, что-то обнаружила, приземляясь, повредила самолет? И где-то под дождем — два трупа, двое раненых? А может, совершила вынужденную посадку из-за непогоды? Вопросов много, ответов нет.
Иду на аэродром. Тьма будто сгустилась. Ветер и дождь усилились. Но я не покидаю аэродрома. Жду…
К утру погода переменилась: небо очистилось, ветер стих. И я первая услышала знакомый рокот моторов.
А произошло следующее. Едва Лейла сделала круг над суходолом, Руфа увидела пропавших без вести.
— Они! Лелечка, видишь? — закричала она. — Справа у стога, машут руками!
— Вижу, — спокойно отозвалась Лейла. — Осмотрись. Я сделаю еще один круг.
Вражеских самолетов в небе не было, и девушки приземлились благополучно. Площадка не очень ровная, но лучшей в этом районе не оказалось.
Обнялись, расцеловались.
— Распопова не разбилась, — сообщила радостную весть Лейла. — Девушки вернулись.
Таня и Вера вытаращили глаза, загалдели наперебой:
— С того света!
— Лейла, ты же сама видела. Даже не верится.
— Ранены?
Лейла небрежно махнула рукой.
— Ничего страшного. Подробности потом. Танечка, что с самолетом?
— Самолет в порядке. Он за тем стогом. Садились почти вслепую. Но ничего, обошлось. Спасибо Верочке, точно рассчитала курс. Говорит, сердцам чуяла землю. С таким локатором не пропадешь Долго нас искали?
— Нет, мы прямиком сюда. Слышали вас вчера. Вы кружились над самым аэродромом. Костры, ракеты — не видели?
— Нет. Предполагали, что аэродром под нами, но решили не рисковать. Проклятый туман. А тут вот было чуть посветлее.
—Как с бензином?
— На исходе.
— Тогда давайте сразу за работу, — предложила Лейла.
Фронт был в двадцати километрах — оставлять самолет на виду опасно. Быстро подкатили его к стогу, замаскировали. И вовремя — в облаках промелькнул фашистский самолет-разведчик.
В стогу уже было оборудовано убежище, Руфа расстелила скатерть-самобранку — штурманскую карту.
— Чем вы питались? — спросила она. — Сеном?
— Как бы не так! — рассмеялась Таня. — Молоком.
— Откуда молоко?
— А здесь у козы бродят. Жили, как Робинзон и Пятница. Только попугая не хватало. На том берегу, — она указала в сторону Терека, — каннибалы.
— Спасибо Магубе, — вмешалась в разговор Вера, — вовремя из меня доярку сделала. Ох, посмотрели бы вы, как мы козу ловили! Умора.
Девушки заправили первый самолет горючим. Но погода портилась на глазах, стало ясно: сегодня вылететь не удастся. Вдали полыхнула молния, начался дождь, который усиливался под порывами ветра. На Кавказе ночь наступает стремительно. Когда возвратились к стогу, уже стемнело.
Погоревали, что в полку о них будут тревожиться.
— Прямо сердце разрывается, — сказала Таня. — Нет, лучше не думать об этом. Площадку мы исходили вдоль и поперек. Два стога передвинем, можно будет разместить весь полк.
— Ой, совсем вылетело из головы, — спохватилась Лейла. — Тебе, Верочка, письмо от жениха… Вот! Распопова доставила из госпиталя. Плясать потом будешь.
— Без меня меня женили, — рассмеялась «невеста». — Нет же у меня никакого жениха и не будет, пока не возьмем Берлин. Разыграть вздумали?
Она повертела в руках письмо, при свете фонарика, который держала Руфа, начала читать.
— Сашка, надо же… — ее длинные ресницы дрогнули. — Соседский парень, Саша Костенко. Вот глупый. Почему решил, что я попала в госпиталь? Не умещается в голове…
Подруги внимательно наблюдали за ней, покусывая травинки.
Чувствуя на себе их взгляды, Вера все больше смущалась.
— Выключи фонарик, — попросила она.
— Так, так, — многозначительно прозвучал в темноте голос Макарыча.
— Ни разу даже не целовались, — пробормотала Вера. — Честное слово.
Дружный хохот.
— А девушки уже насчет калыма договорились с твоим Сашей, — деловито объявила Лейла. — Задаток — «По-2». Дело решенное. Так что не рыпайся. То, что не целовались, это, конечно, ваше упущение. Но дело поправимое. Кстати, он отрастил бороду, смахивает на Отто Юльевича Шмидта. В общем, пиши ответ. Так, мол, и так, Сашенька, повинуясь воле родной матери-эскадрильи и учитывая ее материальные интересы, я согласна пойти навстречу твоим необоснованным притязаниям на мою руку и сердце. Задаток в счет калыма прошу прислать незамедлительно, иначе мамаша может рассердиться и толкнуть меня в объятия другого, более расторопного и щедрого жениха. Учти, что ты просто соседский мальчишка, а тут у меня под боком — полк летчиков. Асы вокруг меня так и кружатся. К тому же есть подозрение, что борода твоя крашеная, натуральный ее цвет — синий…
— Я еще поставлю такие условия, — подлаживаясь под тон Лейлы, сказала Вера. — Первое: бороду сбрить. Второе: о свадьбе до дня Победы не заикаться. Третье: в случае расторжения данного соглашения вопроса о возвращении задатка не поднимать.
— И еще, — вставила Руфа. — Самолеты эскадрильи ремонтировать вне очереди.
Опьяненные запахом сена, цветов и трав, девушки побалагурили еще немного, утихомирились и заснули.
Но Лейле не спалось. В забавной истории с «женихом» она видела и серьезную сторону. Дело в том, что ее самолету предстоял капитальный ремонт в этих самых мастерских: двигатель доживал последние дни, вернее, ночи. В таких случаях экипажи участвовали в ремонте, который иногда затягивался на месяц и больше. Руфа неспроста внесла условие о внеочередном ремонте самолетов. Несколько пренебрежительное отношение работников мастерских к «По-2», к женскому полку некоторые экипажи уже испытали на себе.
Лейла решила не смыкать глаз — надо было следить за погодой. Чувство ответственности никогда не покидало ее, а в трудные минуты даже усиливалось, обострялось.
«Девушкам после таких переживаний поспать необходимо, — думала она, прислушиваясь к дыханию подруг. — Вера всхлипывает во сне, странно, ей бы надо смеяться. Что-то есть у нее на душе, неведомое нам. Хорошо бы улететь до восхода солнца. Только бы не случилось чего-нибудь непредвиденного. Эскадрильи наши, наверно, не спят, ждут, ждут, ждут…»
Душа ее перелетела в станицу, к нам. Прислушиваясь к шуму ветра и дождя, Лейла шевелила в темноте губами, бесшумно шептала слова-заклинания:
«Евдокия Давыдовна, не волнуйтесь, мы живы-здоровы, у нас все в порядке. Девушки спят. Самолеты готовы к старту. Только погода задерживает нас. Не можем мы, ваши ученицы, сразу четверо, погибнуть в своем тылу. Нам еще летать и летать. Задание выполнено. Как мы с вами предвидели, сухой дол — самое подходящее место для нового аэродрома. Мы оправдаем ваши надежды. Спите спокойно…»
«Магуба, не терзай себя понапрасну. Завтра на рассвете мы прилетим. Мы вместе с тобой, прикрывая друг друга, будем громить врага. Я еще о многом хочу тебе рассказать. Я знаю, как тебе сейчас тяжело, но скоро я буду рядом. Ты слышишь меня?..»
Вы знаете, в ту ночь в какой-то момент я внезапно почувствовала облегчение. «Они живы! — образованна подумала я. — Все четверо. Напрасно я себя мучаю».
Лейла осторожно выбралась из стога — решила взглянуть на самолеты. Мелкий, нудный дождь, никакого просвета. Но ветер утих.
Заметив какое-то движение возле самолета, Лейла похолодела, выхватила из кобуры пистолет, замерла. Может быть, померещилось? Нет, кто-то есть. Самолеты в опасности! Что делать? Спокойно. Без паники…
Где-то далеко в стороне вспыхнула молния. Лейла прислонилась к стогу и облегченно вздохнула — козы! Укрылись от дождя под плоскостями, недовольны, что их кто-то побеспокоил.
— Напугали до смерти, — проворчала Лейла. — Вы почему не ушли домой? Одичали, наверно.
Стараясь не спугнуть коз, она ощупала оба самолета, поправила маскировку. Дождь прекратился внезапно, подул теплый южный ветерок. Погода в это время года меняется в этих местах очень быстро. Лейла подняла подруг. «Пока не появились воздушные охотники, надо нам сверкнуть пятками», — рассудила она и громко скомандовала:
— На зарядку становись!
Девушки, потягиваясь, побрели к самолетам.
— Чайку бы горяченького, — мечтательно сказала Таня. — Или парного молочка.
— Если Лейла разрешит, — подала голос Вера, — я это устрою. Какие смирные сегодня козочки.
Лейла не разрешила. Ее самолет доставил девушкам много хлопот: мотор не заводился. Обливаясь потом, они по очереди крутили винт. Снова и снова открывали капот, вынимали свечи, чистили и обдували их. Никаких неисправностей не было, но мотор не заводился.
— Не хочет просыпаться, — заявила Руфа. — Попробую еще раз.
Наконец, словно сжалившись над девушками, мотор чихнул раз-другой и ожил.
Когда самолеты подлетели к аэродрому, там уже собрались обе эскадрильи.
Такого ликования в полку еще не бывало.
Приказом командира полка обоим экипажам была объявлена благодарность.
Совсем по-другому звучали в это утра песни над станицей Ассиновская.
И Магуба тихим голосом пропела:
Там, где пехота не пройдет, И бронепоезд не промчится, Угрюмый танк не проползет, Там пролетит стальная птица!А как мы исполняли припев! Наши голоса, наверно, долетали до Казбека.
Пропеллер, громче песню пой, Неся распластанные крылья. За вечный мир, в последний бой Лети, стальная эскадрилья!И сейчас звучит у меня в ушах голос Лейлы:
Где облака вершат полет, Снаряды рвутся с диким воем, Смотри внимательно, пилот, На землю, взрыхленную боем…И снова — припев.
На этом можно было бы закончить рассказ о сто семьдесят второй ночи. Но я загляну вперед, скажу о некоторых событиях, которые произошли позднее. Ведь я не Шахерезада и рассказываю не волшебные сказки. Не хочу вас заинтриговывать.
Таня Макарова и Вера Белик вылетали на боевые задания более семисот раз. Они первыми сбросили бомбы на территорию Германии.
Сгорели вместе с самолетом в августе 1944 года.
Ночь сто семьдесят третья
Девушки-техники долго возились с мотором самолета Лейлы, но устранить все дефекты не смогли.
— Необходимо заменить некоторые детали, — сказала техник звена Зина Радина. — У нас их нет. Надо идти в дивизионные мастерские. Лелечка, пойдем вместе. Заведующий мастерских такой жмот, зимой снега не выпросишь.
— Думаешь, против двоих он не устоит? — рассмеялась Лейла.
— Ну да, заставим его сражаться на два фронта, пустим в ход личное обаяние. Чем-нибудь да разживемся. Я заявку составила с запасом, учла потребности всей эскадрильи. Он глаза вытаращит.
— Ну что ж, пошли.
Заведующего на месте не оказалось. Отыскали его на полигоне, где группа офицеров тренировалась в стрельбе по мишеням из пистолета.
— Подождите, — отмахнулся от них молодой лейтенант — заведующий. — Я занят.
Подошла его очередь стрелять. Девушки молча наблюдали. Стрелял он так себе: набрал менее половины возможных очков.
— Зиночка, давай заставим его подпирать кривую березу, — прошептала Лейла. Глаза ее озорно блеснули.
— Как это? Почему кривую? — не поняла Зина.
— Ну, оставим в дураках.
— Как это сделать? Что ты предлагаешь?
— Постреляем.
— Думаешь, собьем спесь, он станет сговорчивее? — засомневалась Зина. — Вряд ли. Ну ладно, хоть посмеемся. — Громко, чтобы все слышали, она сказала язвительно: — Посчитали — прослезились. Товарищ лейтенант, у вас же пистолет с кривым стволом, удивительно, что вы вообще попадаете в мишень. Я бы не попала. Может быть, попробуете из моего?
— Ишь ты какая, — усмехнулся лейтенант, явно задетый. — Может, сама постреляешь из своего прямого ствола, а мы посмотрим.
Зина только этого и ждала.
— С удовольствием. Только договоримся. Если я наберу больше очков, чем вы, — нашу заявку удовлетворяете полностью.
— Хорошо, — не раздумывая согласился лейтенант. — А если наберете меньше, вечерком составите нам компанию в кино. Вместе с подругой. И заявка будет удовлетворена лишь частично. Идет?
Не знал он, голубчик, что Зиночка — мастер спорта по стрельбе из пистолета.
— Как, Лейла? — обернулась Зина к подруге. — Принимаем условия?
— Принимаем! — беззаботно ответила Лейла. — Целься хорошенько.
Офицеры, шутливо переговариваясь, сменили мишень. Сделав три выстрела, Зина переложила пистолет в левую руку. Раздались удивленные возгласы:
— Во дает!
— Что делает, а?
— Вот это кино!
Все шесть пуль попали в черный круг мишени, в «яблочко». Офицеры дружно зааплодировали. Попросили и Лейлу выйти «к барьеру». Она охотно согласилась. Но предупредила:
— Выступаю вне конкурса. Пари мы уже выиграли.
Стреляла она менее удачно, но лейтенанта тоже превзошла.
По дороге в мастерские лейтенант, просмотрев заявку, растерянно заморгал глазами.
— Это что же… Вы с ума сошли!
Зина и Лейла одновременно положили руки на кобуру. Лейтенант расхохотался.
— Сдаюсь, сдаюсь. Но поймите, при всем желании удовлетворить вашу заявку не могу. Нет у меня этих деталей, — он поставил красным карандашом на заявке несколько минусов. — И этих, и этих…
— А когда они поступят? — вкрадчиво спросила Зина.
— Поступят, сообщу.
Выдав детали девушкам, лейтенант нерешительно спросил:
— А как все же насчет кино?
— Никак, — отрезала Зина. — Уговор дороже денег.
— Не расстраивайтесь, товарищ лейтенант, — посочувствовала заведующему Лейла. — Может быть, в другой раз. Вы потренируетесь…
— Все ясно, — сокрушенно вздохнул лейтенант. — Горе побежденным. Неспроста вас называют ведьмами.
— А вы думали, спроста? — последнее слово осталось за Зиной.
В тот же вечер самолет был готов к полетам, но техники предупредили, что летать та нем Лейла сможет недолго. Пророчество подтвердилось. После первого же вылета самолет Лейлы, заходя на посадку, выпустил красную ракету — сигнал бедствия.
— Санитарку! — распорядилась Бершанская. Так мы называли санитарную машину. Не спуская глаз с самолета, она закурила.
Лейла пронеслась над аэродромам, пошла на второй круг. В чем дело? Почему она не садится?
Я в ту ночь была дежурная но аэродрому. Гляжу на командира полка, а в голове мелькает мысль: «Каждый самолет, наверно, пролетает через ее сердце». Лицо у нее каменное.
— У них бомбы, — глухо говорит Бершанская, затаптывая папиросу. — Очистить аэродром: видать, неисправность!
По полю уже мчится машина с красным крестом, я сигналю, чтобы отвернула в сторону. На аэродроме осталась одна Бершанская.
С бомбовым грузом садиться опасно. Самолет может подпрыгнуть, накрениться, пропахать землю крылом, а много ли надо, чтобы бомбы взорвались?
Посадку Лейла, как всегда, совершила мастерски. Самолет остановился в дальнем конце аэродрома, все облегченно вздохнули. Бершанская, перехватив санитарную машину, вскочила на подножку. Невеселые мысли лезут в голову…
Оказалось, после близкого разрыва зенитного снаряда отказали замки бомбодержателей, и одна бомба едва держалась.
К утру самолет привели в порядок. Да, отслужил он свой век — заплата на заплате.
Я собиралась лечь отдохнуть, вбежала Лейла.
— Летим с Руфой в ПАРМ. Как не хочется, если бы ты знала. Счастливо оставаться.
Расставание было грустным. Обе мы стали «безлошадными».
Ночь сто семьдесят четвертая
Полдня, не переставая, лил дождь. Кипарисы на краю станицы напоминают стоящих на посту солдат в набухших шинелях. Плодовые деревья и кустарники словно кто-то окунул в воду. Все тропинки залиты водой, арыки переполнены, ручьи превратились в речки. Используя цинковые ящики из-под взрывателей, мы стираем белье. Обычно сдаем его старшине, но когда появляется возможность, стираем сами. Сняв сапоги и закатав рукава, с наслаждением занимаемся своим сугубо женским, домашним делом. Никаких приказаний, указаний — здесь все равны. Шутки, смех…
— Смотрите, самолет! — крикнул кто-то.
В стороне от нас заходит на посадку «По-2».
— Сел красиво, — одобрительно сказала Вера Белик. — Не хуже Лейлы.
Раздались возгласы?
— Интересно, кто это?
— Начальство какое-нибудь.
— Или корреспондент.
— Генерал! Ордена нам привез.
— Девочки, это же Лейла и Руфа. Смотрите!..
Да, это были они. А мы-то ждали их через месяц. Новый самолет — откуда?
— Калым получили! — радостно кричит Макарыч. — Теперь уж, Верочка, ничего не поделаешь…
Вера брызнула на нее водой.
Мы осмотрели самолет — чистенький, не новый, но и не старый, пахнущий свежей краской — закатили его в укрытие.
Полетов в эту ночь не было: снова полил дождь. Собрались в нашей комнате, потребовали у Лейлы подробного отчета.
— Значит так, — лукаво улыбается она. — Прилетаем. Находим Вериного жениха…
— Никакой он мне не жених, — гневно заявляет Вера Белик. — Нужен он мне!
— Ты же написала ему, — замечает кто-то ехидно.
— Ну и что? Написала: спасибо за весточку, будь здоров и счастлив. Точка!
— Находим Вериного жениха, — упрямо повторяет Лейла и, выждав, когда утихнет смех, продолжает: — Он бригадир механиков, старшина. Говорим: гони калым. Он отвечает: с удовольствием, только присмотрите за невестой, чтобы не выскочила замуж за какого-нибудь аса из соседнего полка.
— Лейла, — укоризненно произносит Вера, — не ожидала от тебя. Ведь ты все выдумываешь.
— Присмотрим, говорю, не беспокойтесь, — продолжает Лейла, не обращая внимания на замечание подруги. — Но для полной гарантии еще один самолетик требуется. Острая нужда у нас, И желательно поскорее.
Девушки загалдели:
— Правильно!
— А он что?
— Обдерем, как липку!
— Не старые времена, баранами не отделается!
— В общем, — рассказчица посерьезнела, — бригада просто замечательная. Ребята со списанных самолетов снимают все, что может пригодиться, и собирают из этих деталей новые «По-2». Один достался мне. Мы их ни о чем не просили, ничего не требовали. Просто не успели. Обещают специально для нашей эскадрильи собрать еще один самолет. Приняли даже обязательство. Саша Костенко прилетит сам и вручит подарок лучшему экипажу. Вот и все.
— Ура! — закричала я и расцеловала Лейлу. Сама тут же сообразила: «Освободившийся самолет передадут мне…»
Девушки подхватили Лейлу и с криками «Ура!» начали подбрасывать ее к потолку. Потом, успокоившись, стали обсуждать, чем отблагодарить механиков.
— Верочку, конечно, не отдадим, это слишком дорогая цена, — заявила Руфа. — Но, я думаю, эскадрилья не будет возражать, если она…
Вера заткнула уши, закричала:
— Слушать не хочу!
— Я хотела сказать, — Руфа пожала плечами, лукаво улыбнулась, — после Победы…
Посмеялись и решили, что лучшим подарком ребятам из ПАРМа будут наши боевые успехи.
Ночь сто семьдесят пятая
После завтрака работаем в саду бабушки Марфы: окапываем деревья, разрыхляем под ними землю, отсекаем лишние ветки. Будто дожидаясь, когда возьмемся за лопату, тут как тут снуют куры, подбирая червей. Рослый, с золотистой грудкой и нарядным хвостом петух, заметив поживу, не трогает ее сам, а сзывает кур. Мы называем его джентльменом.
Бабушка Марфа, решив отблагодарить нас за труды, попросила поймать курицу. Со смехом и визгом девушки взялись за дело. Проходившая мимо Бершанская не утерпела, зашла во двор и, присев на скамейку, стала наблюдать. Я подсела к ней.
— А знаете, Евдокия Давыдовна, говорят, куры когда-то умели летать. Постепенно разучились.
— Намек поняла, — улыбнулась Бершанская. — Ну что ж, полетай пока на моем самолете, потренируйся, а то в самом деле превратишься в курицу.
В тот день я полетала вволю, отвела душу, показала, на что способна.
— Летаешь неплохо, — похвалила Бершанская. — Замечаний у меня нет. Переходи на ночные тренировки, учебные бомбометания.
Все девушки эскадрильи сердечно поздравили меня. Много хороших слов сказали.
Домой я вернулась под утро. Настроение приподнятое. Как-никак, ночные тренировки прошли успешно. К тому же меня выбрали председателем офицерскою суда чести. И это еще не все. Некоторые штурманы нашего полка хотят стать пилотами — за их переподготовку отвечаю я.
Лейла спит. Лицо усталое, бледное. Шесть вылетов за ночь. Листаю ее альбом, она мне разрешает. Небольшой, в бархатной обложке. Рисунки, стихи.
В полку было немало поэтесс: Глаша Каширина написала поэму, посвященную Бершанской, несколько стихотворений Наташи Кравцовой было напечатано во фронтовых газетах. Тогда у нее была другая фамилия — Меклин. Мы регулярно выпускали рукописный литературный журнал. Бессменный редактор его — Галя Докутович. Я их часто вижу во сне, своих однополчанок. Очень талантливые девушки, словно у каждой было два сердца. Послушайте одно стихотворение Наташи:
Не скоро кончится война, не скоро смолкнет гром зениток. Над переправой — тишина, а небо тучами закрыто. Зовет мотор: вперед, скорей, лети, врезаясь в темень ночи! Огонь немецких батарей как никогда предельно точен. Еще минута — и тогда взорвется тьма слепящим светом… Но может быть, спустя года во сне увижу я все это. Войну и ночь. И свой полет. Внизу — пожаров свет кровавый. И одинокий самолет среди огня над переправой.Никто не написал точнее и лучше о наших боевых ночах. И вряд ли напишут. Наташа стала Героем Советского Союза.
Из стихотворений Лейлы мне больше всего нравится вот это:
На звезды глядя, я мечтала: Открою новую звезду, На звезды глядя, я вздыхала: Когда ж любовь свою найду? На звезды глядя, я мечтала: Взойдет звезда моей любви. Тебя в тот вечер повстречала, Всю ночь нам пели соловьи. На звезды глядя, я вздыхаю: Моей сегодня не видать. Зачем нашла тебя, не знаю, Не для того ль, чтоб потерять?После войны композитор Сара Садыкова написала на эта стихи музыку. В этой песне — душа Лейлы, тайна ее любви.
Новых стихов в альбоме Лейлы я в ту ночь не обнаружила, но увидела странный рисунок, сделанный карандашом: два стройных кипариса над одинокой могилой. «Почему два?» — удивилась я.
Мне вспомнилась наша недавняя прогулка…
— Посмотри на кипарисы, — Лейла замедлила шаги. — Чудо! Каждый раз, когда прохожу мимо, шепчу: «Я вас люблю».
— Красивые деревья, — согласилась я.
— Удивительные. Душу тревожат. Мягкие, нежные, печальные. Прав Омар Хайям:
Да, лилия и кипарис — два чуда под луной, О благородстве их твердит любой язык земной, Имея десять языков, она всегда молчит, А он, имея двести рук, не тычет ни одной…«Помешались вы с Хиваз Доспановой на своем Хайяме», — хотела сказать я, но с моих губ непроизвольно слетели совсем другие слова:
— Почитай еще.
Дело в том, что стихи этого поэта сами по себе не производят на меня сильного впечатления, но когда их читали Хиваз или Лейла, я готова была слушать без конца. Звучание их голоса, свет глаз, движение губ и рук придавали древним стихам какую-то особую сладость. Читали они по-разному и тем более интересно было их слушать. Просто колдуньи какие-то.
Лейла прочитала еще две строки и вдруг умолкла.
— Забыла? — спросила я.
— Нет, не хочу отбивать хлеб у Хиваз, — рассмеялась Лейла. — Она читает лучше меня.
— А мне нравится, как ты читаешь, — возразила я. — Ну, прошу тебя.
И Лейла прочитала:
Шел я трезвый — веселья искал и вина, Вижу: мертвая роза — суха и черна. «О несчастная! В чем ты была виновата?» «Я была чересчур весела и пьяна!»Читая последнюю строку, она изогнула стан, склонила голову, опустила ресницы, вздохнув, плавно повела руками. Настоящая Шахерезада.
— А ты знаешь, что кипарис — это имя?! — неожиданно спросила она.
— Впервые слышу.
— Мне рассказала Женя Руднева. Кипарис был другом бога Аполлона. Однажды на охоте от случайно убил своего любимого оленя. И сказал другу: «Мое горе слишком велико, я не хочу жить в этом мире. Сделай так, чтобы я вечно грустил по своему любимцу». И Аполлон исполнил его просьбу: превратил в печальное темно-зеленое дерево. В древние времена кипарисы сажали у могилы, это символ вечной грусти и слез…
Дальше мы шли молча. Я смотрела на тихие, неподвижные деревья и чувствовала, как в душе рождается чувство горячей благодарности к давно ушедшим людям, которые сумели разглядеть скрытую красоту мира и рассказали нам о ней.
Возможно, не я одна видела тот рисунок в альбоме Лейлы. Во всяком случае этот рисунок оказался пророческим: у ее могилы стоят два кипариса.
Ночь сто семьдесят седьмая
Белые облака отрываются от гребней гор и как огромная стая лебедей плывут к аэродрому. Медленно поднимается солнце, напоминая ребенка, который, еще плача, начинает улыбаться. Мы собрались возле аэродрома, напряженно прислушиваемся, глаза устремлены ввысь. Ждем подарочный самолет. Он близко, из штаба дивизии сообщили: встречайте. Где-то гудят тяжелые бомбардировщики. А «рама» не появляется уже несколько дней, видимо, немцы потеряли интерес к нашему району.
— Летит! — объявила Руфа.
У нее необычайно острый слух. Как в сказке, слышит, что делается за морями, за горами. Вообще-то мы все не глухие, но до Руфы нам далеко.
— Ничего же не видно, — ворчит кто-то у меня за спиной.
Проходит несколько минут.
— Теперь-то слышите, наверное, — улыбаясь, говорит Руфа.
Нет, не слышим.
— Выдумываешь, — тот же ворчливый голос.
И вдруг все услышали и увидели. Летит…
Самолет сделал круг над аэродромом, приземлился. Повернулся к нам «лицом». Двигатель работает ровно, четко, словно молодая невеста нарезает лапшу.
Бершанская и наш комсорг Саша Хорошилова встречают гостей — молодого, широкоплечего летчика с совершенно седой головой и чернобородого бригадира Сашу Костенко.
Начинается митинг. Самолет торжественно передается лучшему экипажу полка — Тане Макаровой и Вере Белик.
После митинга девушки, как стригунки, кинулись к самолету. Ощупали его со всех сторон и укатили в укромный уголок, приготовленный заранее.
Саша и Вера прогуливаются в сторонке. Держатся свободно, словно и не расставались. «Жених» всем понравился, простой, деловой парень, правда, оратор не ахти какой, но это не беда. И борода ему идет.
Под вечер за гостями пришла машина, и они уехали.
Самый счастливый человек в полку сегодня — я! Самолет, на котором летали Таня и Вера, теперь мой. Техники во главе с Зиной Радиной облепили его, как пчелы. Из тайников были извлечены дефицитные детали, девушки сделали все, что могли, и преподнесли мне самый дорогой подарок в моей жизни.
В эту ночь полк бомбил колонну танков в ущелье недалеко от Моздока, а я провела очередной тренировочный полет.
Ночь сто семьдесят восьмая
В 216-м году до нашей эры в северной Италии вблизи небольшого селения Канны произошло знаменитое сражение карфагенского войска, возглавляемого Ганнибалом, с римскими легионами, которыми руководил консул Терентий Варрон. На протяжении многих веков все полководцы мира мечтали о своих Каннах, о лаврах Ганнибала.
У Варрона было 80 тысяч пехотинцев и 6 тысяч всадников, у Ганнибала соответственно — 40 тысяч и 14 тысяч.
Римский консул, выступая в поход, похвалялся, что в тот день, когда он увидит противника, война будет окончена. Возможно, именно у него позаимствовал Гитлер бредовую идею — «блицкрига», молниеносной войны. Свои легионы Варрон построил в 70 рядов, на флангах расположил конницу.
На другой стороне равнины выстроилось войско Ганнибала, напоминающее по форме полумесяц, обращенный выпуклой стороной к противнику. На концах полумесяца — разделенная на две равные части конница.
Первым атаковал Варрон. Под натиском легионеров карфагенский полумесяц прогнулся. Римская пехота оказалась в изгибе. Конница Ганнибала устремилась вперед и напала на римлян с тыла. Задним рядам легионеров пришлось развернуться на сто восемьдесят градусов, чтобы отразить неожиданную атаку. А справа и слева на легионы Варрона обрушились лучшие отряды Ганнибала. Огромное, невиданное по тем временам римское войско оказалось в кольце. Началась паника. На поле боя осталось более 50 тысяч убитых римлян, около двадцати тысяч сдались на милость победителей. Ганнибал потерял в этом сражении всего шесть тысяч воинов.
Каннами двадцатого века историки назвали Сталинградскую битву. По своим масштабам и последствиям эти два сражения, конечно, несопоставимы. В битве при Каннах с обеих сторон участвовало 140 тысяч человек. В Сталинградской битве, в период нашего контрнаступления — более двух миллионов. К тому же восемь тысяч римских воинов, в том числе и сам Варрон, вырвались из кольца и удрали в Рим. А под Сталинградом оказавшиеся в кольце окружения отборные гитлеровские войска, свыше 300 тысяч человек, были уничтожены и пленены полностью. Был взят в плен и главнокомандующий, фельдмаршал Паулюс.
Сколько-нибудь значительного превосходства в живой силе и технике у нас, как известно, не было. С битвой при Каннах Сталинградское сражение сравнивают потому, что сравнить его больше не с чем. Правда, некоторые зарубежные горе-историки пытаются приравнять к Сталинградской битве отдельные военные операции, проведенные нашими союзниками в 1942 году в Африке и на островах Тихого океана, которые якобы определили «коренной перелом во Второй мировой войне», но это просто смешно. Они сами не верят тому, что говорят и пишут.
Я немного отвлеклась…
Битва на Волге происходила одновременно с битвой за Кавказ, они были взаимосвязаны. Турция в то время держала у нашей южной границы 26 дивизий и после падения Сталинграда намеревалась вступить в войну на стороне Германии, ударить в тыл Закавказскому фронту, в составе которого сражался наш полк.
Маршал Гречко пишет в своих воспоминаниях:
«Сражение за Кавказ нельзя рассматривать изолированно от Сталинградской битвы… Эти взаимосвязанные действия большого стратегического значения умело направлялись ставкой Верховного Главнокомандования и имели решающее значение в разгроме врага».
Можете себе представить, с каким напряжением мы следили за ходом битвы на Волге и с каким ликованием встретили сообщение о том, что наши войска замкнули кольцо окружения вокруг армии Паулюса. Все мы, конечно, были уверены, что рано или поздно Красная Армия перейдет в решительное контрнаступление, но все же не ожидали, что оно начнется с такой грандиозной, изумительной победы.
Достаточно было взглянуть на карту, чтобы понять: вся немецкая группировка на Северном Кавказе оказалась под угрозой окружения. Удар из района Сталинграда на Ростов — и более двадцати гитлеровских дивизий окажутся в мешке.
Мы горячо обсуждали этот стратегический план и не сомневались, что важная военная мысль, озарившая наши головы, в ближайшее время получит воплощение в директивах Генерального штаба. Мы не ошиблись, но полностью осуществить план по разгрому гитлеровской группировки на Северном Кавказе не удалось. Фашистское командование предприняло отчаянную попытку выручить армию Паулюса, а когда эта попытка с треском провалилась, приняло решение о срочном отводе части сил, в том числе 1-й танковой армии, с Северного Кавказа через Ростов в Донбасс. Двадцать две дивизии немцы оставили на Таманском полуострове, ценой огромных потерь удерживали Новороссийск.
Окрыленные радостной вестью, девушки рвались в бой, но осеннее небо, к счастью для немцев, было затянуто низкими, черно-синими облаками, временами шел мокрый снег.
Топчемся на аэродроме, но уходить и не думаем. Чтобы согреться, толкаемся, пляшем.
— Может быть, высота облачного слоя невелика, — ни к кому конкретно не обращаясь, высказала предположение Бершанская, — и над линией фронта есть просветы.
— Разрешите произвести воздушную разведку, товарищ командир полка! — выпалила я.
— Разрешаю, — немного подумав, ответила Бершанская. — С тобой полетит Руднева…
Летим. Высота — две с половиной тысячи метров, над нами сияют яркие, крупные, близкие-близкие звезды, хоть в подол собирай. А внизу клубятся серые облака, словно огромная отара овец спешит нам навстречу.
Женя Руднева напевает «Катюшу». Я лечу с ней не первый раз. Штурман полка, она считает своим долгом летать с новичками, чтобы они чувствовали себя увереннее. Дивная девушка. Умная, начитанная, с мечтательными серо-голубыми глазами, неторопливая, она не была создана для того, чтобы командовать. И когда ее назначили штурманом полка, кое-кто сомневался, что она справится со своими обязанностями. Но она справлялась. «Очень прошу…», «Пожалуйста, девочки…» — ее ласковые слова действовали на подчиненных неотразимо, никакой громогласный генерал не смог бы добиться такого беспрекословного повиновения.
На фронт она ушла с четвертого курса Московского университета. Была влюблена в астрономию, каждая звезда, казалось, была ее подругой. О звездах, о созвездиях она могла говорить бесконечно.
Теперь мало кто видит в очертаниях созвездий фигуры животных, героев и героинь. А Женя видела.
Незабываемы ее рассказы, ее мягкий, завораживающий голос…
— Смотрите, чуть пониже ручки ковша Большой Медведицы — группа слабых звездочек. Это созвездие Волосы Вероники. Единственное, названное в честь реально существовавшей личности — египетской царицы. У нее были роскошные, очень красивые волосы. И она их остригла! Ее муж Птоломей Третий ушел на войну, она дала обет: если вернется, принесет свои волосы в дар богине любви. Муж вернулся. Увидел остриженную жену и разгневался. Выручил придворный ученый, звездочет. Он заявил фараону, что подарок его супруги очень понравился богине, и она превратила его в созвездие. «Можешь убедиться сам, — сказал он, — посмотри, еще вчера этого созвездия не было». Птоломей поверил и сменил гнев на милость…
Мне говорили, что у самой Жени были бесподобные светло-золотистые косы. Остригла. Приказ есть приказ. Когда волосы упали к ее ногам, все ахнули, а глазах парикмахера стояли слезы.
— Цефей, Кассиопея, Андромеда — это одна эфиопская семейка, созвездья-родственники. Цефей, по преданию, царь. Кассиопея его жена, Андромеда их дочка, царевна…
Все родственные, любовные и другие связи небесных обитателей Женя знала назубок.
— Плеяды — дочки Атланта, который держал на своих плечах небесный свод. Семь веселых девчонок. Однажды за ними погнался охотник-великан Орион, они добежали до края Земли и… видите, как они играют, смеются. В России их называли Стожарами. Семь звездочек сверкают как сто огней!..
— Большую Медведицу египтяне называли «Бычьей ногой», казахи «Конем на привязи», а на самом деле это — красавица Каллипсо, возлюбленная Зевса. Его ревнивая жена превратила девушку в медведицу, а он устроил ее в небесах вместе с любимой собачкой — Малой Медведицей, чтобы не скучала…
Просветов в облаках над Тереком мы в ту ночь не обнаружили, но свою воздушную разведку вели до конца войны.
Женя Руднева — Герой Советского Союза. На ее счету — 644 боевых вылета. Сгорела заживо в крымском небе в апреле 1944 года на глазах подруг.
В ночном небе я вижу теперь не звезды, не созвездья, а глаза погибших однополчанок, горящие пряди девичьих волос. Думаю, придет время, и многие созвездия будут переименованы. Небо — достойным!
Ночь сто семьдесят девятая
На нашей полковой улице — праздник: командование разрешило создать третью эскадрилью женского полка ночных бомбардировщиков. Значит, будут новые самолеты, новые экипажи, сила нашего бомбового удара возрастет.
Мы не сомневаемся, что решение командования принято по ходатайству Марины Расковой. Не так давно отправили ей письмо. Написали о боевых успехах полка, о своих нуждах и чаяниях. Помню, как Вера Белик внимательно перечитала письмо несколько раз, прежде чем запечатать его в конверт. Беспокоилась, нет ли ошибок.
— Можно посылать, — сказала она. Подумала немного, взяла ручку и жирной чертой подчеркнула то место, где речь шла о третьей эскадрилье. Теперь девушки уверяют ее, что именно та черта сыграла в этом важном деле решающую роль.
Погода — как по заказу, но вместо бомб девушкам предложено взять бумажный груз — листовки. Многие недовольны. Но приказы, как известно, не обсуждаются. Штурманы обкладывают себя пачками листовок со всех сторон, только головы торчат.
В листовках — горькая для немцев правда о положении на фронтах, об огромных потерях, о неминуемом возмездии в случае продолжения войны, об авантюризме Гитлера и его приспешников.
Женя Руднева перевела листовку, она неплохо знает немецкий язык. Нам показалось, очень убедительным обращение к немецким солдатам, подписанное их соотечественниками-антифашистами. Чеканные, беспощадные формулировки, железная логика, ни одного лишнего слова. Понравилось нам и стихотворение известного немецкого поэта Иоганнеса Бехера о будущей Германии. Будем надеяться, что наши бумажные бомбы сделают свое дело — прочистят мозги рядовых солдат, одураченных Гитлером и его кликой. Очень своевременно появились эти листовки. Как они непохожи на лживую стряпню гитлеровцев, которую они подсовывали нам. Непостижимо, как могли пойти за фашистским отродьем миллионы немецких рабочих, крестьян. Как удалось им оболванить, запугать целый народ?..
Бабушка Марфа знает, что мы будем сбрасывать листовки вместо бомб. У нее с фашистами свои счеты. Кровожадные изверги удушили в газовой камере ее десятилетнего внука, который лечился в детском санатории в городе Ейске. В здании санатория теперь — увеселительное заведение для немецких летчиков. Наша хозяйка переходила линию фронта, добралась до Ейска, узнала страшную правду от местных жителей. Мы дали обещание отомстить за ее внука… Умом, конечно, мы понимаем, что листовки — тоже оружие, но нам больше по душе вправлять мозги гитлеровцам 50-килограммовыми бомбами.
Некоторые девушки и слушать не хотят, что написано в листовках, машут рукой, отворачиваются.
А я даже бумажных бомб не могу доставить, к линии фронта. Дежурю.
Ночь двести двадцать первая
Мы наступаем. Немцы, огрызаясь, драпают с Кавказа.
Последний раз оглядываемся на станицу. Прощайте, добрые люди! Прощайте яблони, кипарисы, тихие домики — мы отстояли вас.
— Помнишь, как мы любовались петухом, ловили курицу? — спрашивает вдруг Лейла. Потерла щеку рукой. — Пчела меня укусила, там, в нашем саду…
Наш полк перелетел через Терек, и дальше — от станицы к станице, с площадки на площадку. Днем над головами немцев ревут наши самолеты — бомбардировщики, штурмовики, истребители. Наступаем…
За два последних месяца 1942-го года фашисты потеряли почти четвертую часть — считая окруженные группировки — своих вооруженных сил, действовавших на советско-германском фронте. А Красная Армия набирает силу. Как-то рывком прибавилось у нас танков, орудий, самолетов, минометов и другой техники. Гитлеровские стратеги, однако, все еще рассчитывали спасти армию Паулюса, удержаться на Волге, закрепиться на южном крыле фронта. Погнались за тремя зайцами и не поймали ни одного, хотя с запада в спешном порядке были переброшены эсэсовские дивизии «Адольф Гитлер», «Рейх», «Мертвая голова».
Вечером нас неожиданно построили перед штабом. Холодный, пронизывающий ветер, жесткий снег. Начальник штаба Ирина Ракобольская зачитала телефонограмму: при исполнении служебных обязанностей, в сложных погодных условиях погибла любимая дочь советского народа, командир авиационного полка Герой Советского Союза Марина Михайловна Раскова.
Горестный стон полка… Головы наши склонились, шлемы оказались в руках.
После короткого митинга экипажи получили задание — нанести удар по отступающим колоннам противника. Враг может уйти с Кавказа, но не уйдет от возмездия.
За Марину Раскову!
Ночь двести пятьдесят третья
Мои подруги делают по шесть-семь вылетов за ночь, а я… Чувствую себя, как лошадь, привязанная к столбу.
Вспоминается сказка, слышанная в детстве от бабушки.
На цветущую, мирную страну напал враг. Навстречу ему отправился первый отряд богатырей. Ни один из них не вернулся, все сложили головы на поле битвы. Защищать родную землю ушел еще один богатырский отряд. И снова никто не вернулся. Третий отряд скрылся за горизонтом. В тылу остался лишь один богатырь. «Подожду, когда наступит день решающего сражения», — думал он, лежа в тени большого дерева. Проходили дни, недели, а он все ждал своего часа. Однажды на рассвете богатырь услышал топот коня, хотел подняться, но не смог: руки и ноги ослабли, затекли, кровь остыла и еле струилась по жилам, кольчуга затвердела, превратилась в панцирь. Всадник остановил коня, протрубил в рог, крикнул жителям:
— Многие из нас погибли, но враг уничтожен, мы победили!
Взошло солнце, снова зазвучали песни в селеньях, зацвели сады, в арыках зажурчала вода. Понимая, что он не имеет права радоваться вместе со всеми, ленивый, ослабевший богатырь пополз прочь от родного дома. Каждое движение давалось ему с трудом, от натуги помутнели глаза. Проходившая мимо молодая женщина, увидев его, удивленно воскликнула: «Черепаха!»
«Если сегодня не получу боевого задания, — решила я, — пойду к Бершанской и для начала расскажу ей эту мудрую сказку».
Но Евдокия Давыдовна опередила меня: сама вызвала и дала задание.
Вернувшись в эскадрилью, я поделилась своей радостью с подругами.
— Нарисуй на первой бомбе свой знак, — деловито сказала Лейла. — Такая традиция.
Я окунаю кисточку в белую масляную краску. Рисую на тучном теле бомбы букву «М» и молнию.
Первой взлетает Дуся Носаль с Ниной Ульяненко. Потом Лейла с Руфой. За ними, через две минуты, — я и Женя Руднева.
Лейла, сидя в кабине, улыбнулась мне, помахала рукой, сжатой в кулак. Ее самолет пробежал по площадке и скрылся во мраке.
— Контакт! — слышу я тонкий голос механика Тони Вахромеевой.
— Есть контакт.
Тоня поворачивает винт и — мотор заработал. Убавляю газ. По всему телу — дрожь. Жду разрешение на взлет.
Подошла Бершанская. Пожала руку:
— Пусть у тебя будет тысяча боевых вылетов. В добрый час! Будь предельно внимательна и осторожна.
Мария Ивановна Рунт положила руку мне на плечо, прокричала:
— Светлого пути, землячка! Возвращайся живой-здоровой и обязательно с победой.
Вспомнились родные белебейские края, напутствие мамы, когда я уходила к отцу в Куйбышев: «Смотри, доченька, что впереди, что сзади, на темную ночь глядючи, в путь не выходи…».
Летим.
Над головой свистит ветер, мороз пощипывает руки — двухпалые кожаные рукавицы я сняла: в эти минуты мне почему-то было в них не сподручно.
Высота три тысячи метров. Летим по ветру. Над нами, куда ни глянь — звездный океан. Молчаливый и тревожный. Наклоняюсь к переговорной трубке:
— Женечка, ты не замерзла?
— Пока терпимо. Ничего, скоро станет жарко. Видишь, луна всходит. Как прожектор. Внимание, линия фронта.
Будто-услышав слова Рудневой, в трех местах вспыхивают прожекторы. Нащупали. Бьют «Эрликоны».
— Пора снижаться, — будничным голосом говорит Женя.
Сбавляю газ. Стараясь вырваться из луча прожектора, бросаю самолет в сторону, вверх, ударяюсь виском о козырек кабины. Ничего не вижу.
— Магуба, очнись! — голос у штурмана обрел твердость. Она толкает меня в плечо. — Очнись…
Ощупью нахожу ручку управления. Прозреваю. Глаза, вроде, приноравливаются к слепящему свету.
Напоминая чалму муллы, впереди возникает белый клубок. Самолет подрагивает, постанывает — в него попадают осколки снарядов. Сажусь поудобнее.
— Ну-ка, покажи… — обращаюсь я сама к себе.
Мотор ревет во всю мощь, самолет выделывает немыслимые фигуры. Жарко…
— Десять градусов влево, — голос как голос, милый, приятный. — Ничего страшного, Ты просто молодец. Станция справа.
На дороге за станцией — большое скопление вражеской техники. Ничего не видно, но цель близка. Наши разведчики никогда не ошибаются. Женя высовывается из кабины.
— Три градуса влево. Так, так…
Внизу мерцают огоньки — это малые фары грузовых автомашин. Прошло время, когда они мчались, полыхая всеми лампами, по этим же дорогам. Теперь ползут ощупью, как немощные старцы.
Женя сбросила САБ. Застучали зенитные пулеметы.
— Женечка, первая бомба — на правом крыле, — напоминаю я. — Не торопись, прицелься получше.
— Не промахнусь. Пошли…
Летите, бомбы! Рази врага, моя первая молния!
Внизу пожар. Одной машиной у немцев стало меньше. Врассыпную разбегается живая сила противника, какая-то ее часть уже мертва.
Второй заход.
— Пошли!..
Еще один пожар. Не штурман за моей спиной, а снайпер.
В эту ночь мы сделали четыре вылета. Немцы отходят быстро, летать приходится далеко.
В общежитие я вернулась, когда над горизонтом уже всплывало солнце. Поела и легла спать. Но сна — ни в одном глазу. До мельчайших деталей мысленно повторяю свой первый боевой вылет. Ни одна бомба не пропала даром. Уничтожено три машины, в двух — боеприпасы, в одной — солдатня, гитлеровские молодчики. Многие успели укрыться, но не все. Первая победа над ненавистным, злобным, опытным врагом. Это заслуга всех троих: Жени, моя, самолета. Если бы действовали несогласованно, вразнобой, не было бы победы и нас, всех троих, тоже, возможно, не было.
Знаю, что этого не будет, но почему не помечтать?.. Женя Руднева — мой постоянный штурман. С каждым полетом мы все больше привязываемся друг к другу. Она меня понимает с полуслова, я ее тоже. Мы — лучший экипаж в полку, совершивший сотни боевых вылетов. Хотя нас сбивают, но мы чудом остаемся живы. Попадаем в госпиталь, но ненадолго. На другой же день возвращаемся в полк. Нам на блюдечке — новенький самолет. Генерал вручает ордена. Жене и мне.
— Служу Советскому Союзу, — шепчу я…
— Не спится? — громким шепотом спрашивает Лейла, — возвращая меня к действительности.
— Не спится, Лелечка, не знаю, что со мной делается.
Лейла, неслышно ступая босыми ногами, в шелковой сорочке, изящная, похожая на русалку, подошла, скользнула ко мне под одеяло. Обнявшись, лежим, шепчемся.
— Я тоже после первого вылета не сомкнула глаз. Всю ночь летала. Страшно было?
— Да, очень. Когда я на миг ослепла. Стукнулась о козырек. Подумала — все.
— Сейчас ничего не болит?
— Нет. Устала.
— Как Женя?
— Идеальный штурман. По-моему, она мне вернула зрение, своим голосам.
— Это она умеет. Она умеет все, — категорично заключает Лейла.
— Век бы с ней не расставалась.
— Почти все так говорят. Но у нее любимчиков не бывает. Ты уже настоящий пилот, а ей надо выводить в люди других. Она рискует больше, чем мы. Страшно бывает за нее. Не только мне. Но виду, конечно, не подаем.
— Теперь воевать будет легче. Не в том смысле, что риску меньше.
— Я понимаю…
От меховых унтов, комбинезонов, уложенных вокруг печки, валит пар. Девушки спят.
Ночь двести пятьдесят четвертая
Хотя вечер еще не наступил, мой самолет уже готов к полету. Я сижу в кабине. Техники хорошо поработали. Никаких пробоин, аккуратные заплаты почти не видны под слоем краски. Чтобы самолету пробыть один час в небе, техники должны трудиться целый день, не покладая рук.
Самолеты стоят на аэродроме, укрытые маскировочными сетями. Сверху они, наверно, выглядят как небольшие стога сена. Надо все ощупать, проверить, перепроверить. Скоро — в бой!
Сеть над самолетом Лейлы то и дело колышется. Слышу приглушенные голоса. На землю спрыгивает Глаша Каширина — она готовится стать пилотом, берет уроки у Лейлы.
Неожиданно раздается звонкий голос дежурной по аэродрому.
— Летному и техническому составу построиться перед КП!
Тревожно переглядываясь, бежим к месту сбора, поправляем шлемы. Глаша спрашивает на бегу:
— Кто-то умер, что ли?
Прошло пять-шесть минут, все — в строю.
На аэродроме метет метель, снег липнет к бровям, ресницам, к груди. Ветер теребит наушники шлемов, расчесывает мех унтов, всхлипывает, как разлученная с женихом юная невеста.
На крыльцо выходят командир дивизии генерал Попов, Бершанская, несколько офицеров. По нашим рядам проносится вздох облегчения: лицо у командира полка оживленное, как никогда, значит нас ожидают добрые вести.
— Смирно! Строй замер.
Краем глаза гляжу на подруг: синие комбинезоны, темные шлемы, светлые унты, туго перетянутые талии — хоть на парад!
Генерал скользнул взглядом по первой шеренге, чуть заметно улыбнулся. В руках его какая-то бумага.
Обмениваемся приветствиями. Попов читает:
— Указ Президиума Верховного Совета СССР… — голос у молодого генерала не то, что у нас — как труба. — 588-й женский авиационный полк ночных легких бомбардировщиков переименовать в 46-й гвардейский авиационный полк ночных бомбардировщиков…
— Ур-р-ра! — дружно крикнули мы на всю округу. Затем следуют короткие выступления Бершанской, Рунт, Хорошиловой. От счастья мы — на седьмом небе. Вместо того, чтобы разойтись, сгрудились, обнимаемся, целуемся и, конечно, по праву слабого пола сладко плачем. Как же удержаться от слез, если мы, первые в дивизии, стали гвардейцами!
Погода испортилась окончательно, буйствует ветер, но мы, впервые за всю войну, не ропщем: сидим в кабинах и ждем приказа на вылет, вдруг погода переменится. Так до одиннадцати вечера просидели на командном пункте, потом перешли в общежитие. Полетов в эту ночь не будет — мы надели парадную форму, подкрасились. Жаль, что генерал уже уехал. Поглядел бы, какие мы в юбках. Ничего, не последний раз встречаемся…
Кто-то под гитару отбивает чечетку, кто-то настраивает скрипку. Талантливых актрис у нас хоть отбавляй. Концерт будет на славу. А пока, набирая силу, звучит наша любимая песня:
Пропеллер, громче песню пой, Неся распластанные крылья…На наше торжество пришли гости — летчики из соседнего полка истребителей. Бершанская села за стол в углу, я пристроилась рядом. Евдокия Давыдовна смотрела на танцующих и словно не видела их, думала о чем-то своем. Повернувшись ко мне, сказала:
— Гляжу на этих ребят, а сама вспоминаю лето сорок второго. От первого состава полка истребителей никого не осталось. Все погибли. Они тоже могли стать гвардейцами. Не успели. — Она потерла ладонью глаза, словно избавляясь от какого-то виденья, неожиданно улыбнулась. — Признавайтесь, страшновато было? Не учебное бомбометание, как-никак — боевой вылет.
— Признаюсь, — ответила я. — Во время первого вылета был момент, когда мне показалось, что все кончено. А Руднева: «Ничего страшного». Потом, когда бомбили станцию, несколько раз попадали в пиковое положение, но я стискивала зубы и твердила про себя: «Ничего страшного!»
Бершанская кивнула головой, повторила:
— Ничего страшного… Руднева у нас молодец. Значит, смерти в глаза заглянули. Привыкайте.
— Евдокия Давыдовна! — воскликнула я с дрожью в голосе. — Уже привыкла: у меня такое ощущение, что я летаю в эскадрилье сто лет.
Бершанская тихонько сжала мне локоть.
— Это самое главное. А вы на меня обижались, что долго не даю задания. Не возражайте, я бы на вашем месте тоже обижалась. Дать задание нетрудно…
К нам подсела Женя Руднева. Я ни разу не видела ее танцующей. Многим нравилась эта обаятельная, большеглазая девушка, но она словно не замечала этого. Приглашавшим ее потанцевать неизменно отвечала: «Я не танцую». На настойчивых кавалеров смотрела с каким-то изумлением: «Вы что, плохо слышите?»
— Как жаль, что Раскова не дожила до этого дня, — сказала Женя. — Вот был бы для нее праздник.
— Я тоже все время думаю об этом. — Бершанская закурила. — Женский гвардейский полк… Сколько Марине Михайловне пришлось спорить, доказывать. Противники женских авиационных формирований приводили, по их мнению, неотразимые аргументы: «Нет армейской выучки, никакого представления о военной дисциплине, в авиации необходимы железные нервы, колоссальная сила воли. Ваш перелет — явление исключительное, к тому же он был совершен в мирное время». Ну и тому подобное. А она верила в нас и расчистила нам дорогу в военное небо.
— Ничего нового не узнали о ее гибели? — тихо спросила Женя Бершанскую. — Вы обещали нам сказать, если узнаете. До сих пор не верится, что Расковой нет. Какая-то чудовищная несправедливость судьбы.
— Нового почти ничего. Известно только, что она попала в снегопад. Потеряла ориентир — самолет врезался в гору. Бомбардировщик «Петляков-2» сложная машина. Даже некоторые летчики-мужчины побаиваются его.
К нашей компании присоединились другие девушки. Евдокия Давыдовна продолжала:
— Когда она совершала на этой машине первый самостоятельный полет, сначала все шло нормально. Стала заходить да посадку — отказал левый мотор. Самолет стал заваливаться на крыло. Все решали какие-то мгновенья. Марина Михайловна сумела выровнять машину, на одном моторе долетела до соседнего маленького аэродрома и благополучно приземлилась.
Мы долго говорили о Расковой. Евдокия Давыдовна рассказывала о своих встречах с ней. Вспомнили, как она заботилась о семьях своих воспитанниц, писала письма в разные инстанции, чтобы помогли эвакуированным с жильем, с топливом. Выложили на стол фотографии Марины Михайловны, вырезки из довоенных газет. Бережно перебирали их, всматривались снова и снова в дорогие черты.
— Какие глаза!
— Какая улыбка…
— А лоб — высокий, чистый, ни одной морщинки.
— Очи, а не глаза, не лоб, а чело.
— Военная форма ей шла.
— И властная была, когда надо, и суровая…
Кто-то вспомнил слова Константина Симонова:
«Марина Раскова поразила меня своей спокойной и нежной русской красотой. Я не видел ее раньше вблизи и не думал, что она такая молодая и что у нее такое прекрасное лицо».
— У нее были чудесные косы…
— Помните, мы провожали ее в Энгельс? Стройная, в гимнастерке, на груди Золотая Звезда. Я такой ее и запомнила на всю жизнь. Умирать буду, вспомню.
— И не думали, что видим ее в последний раз..
— А помните, что она сказала нам на прощанье? — спросила Бершанская. — Ее последние слова: «Я уверена, вы станете гвардейцами!»
— Вот и стали. А ее нет…
Одна из девушек призналась:
— С ее книгой «Записки штурмана» я до войны не расставалась. И в гости, и на свидание, даже в туалет с ней ходила.
Все рассмеялись.
Лейла встала и строгим голосом отчеканила:
— Всему личному составу приказываю: перед баней пройти стрижку волос. Устанавливаю для всего личного состава сбора единую прическу: перед — на пол-уха и под польку — затылок. Ношение других видов причесок только с моего персонального в каждом отдельном случае разрешения. Начальник сбора особых полков майор Раскова.
Мы повернулись в сторону танцующих. С минуту молча смотрели на Зою Парфенову, высокую, сероглазую красавицу с роскошными белокурыми косами, уложенными вокруг головы. Словно почувствовав на себе наши взгляды, она удивленно и весело глянула на нас: что, мол, уставились?
Приказу Расковой о короткой стрижке будущие боевые летчицы подчинились беспрекословно, даже не задумываясь над оговоркой, содержащейся в нем. Но вот в парикмахерской Зоя распустила косы, и кто-то решительно заявил:
— Такую красоту надо сохранить, в виде исключения. Правда, девочки?
Все с этим согласились. В самом деле, волосы у Зои были удивительные: густые, светлые как лен, шелковистые. Но когда ей предложили идти к Расковой за разрешением, она вспыхнула:
— Я с ума еще не сошла!
Подруги настаивали и чуть ли не силой вывели ее из парикмахерской.
— Марина Михайловна предусмотрела в своем приказе именно такой случай, — уверяли девушки Зою.
— Не выдумывайте, — возражала она. — Да и неудобно воевать будет.
— Ничего, привыкнешь.
И Зоя Парфенова, девушка из Чувашии, стала единственной летчицей в полку, сохранившей довоенную прическу. Косы не помешали ей воевать — она стала Героем Советского Союза.
Приятно было смотреть на эту милую, непосредственную девушку — невольно вспоминалась довоенная юность.
Зоя подошла к нам, но ни о чем не спросила, стояла и слушала.
Перебивая друг друга, девушки вспоминала:
— У Хиваз ножка, как у Золушки, тридцать третий размер, а сапоги получила — сорок второй!
— Рая Аронова уступила ей свои, чуть поменьше.
— Белье мужское…
— Я однажды по тревоге выскочила в шинели, но без брюк, и сапоги на босу ногу…
Внезапно наступила пауза, лица девушек стали серьезными.
«Вспомнили погибших подруг», — мелькнула у меня мысль. Я знала, что в марте 1942 года в Энгельсе во время тренировочного ночного полета погибли два экипажа. Ожидала, что сейчас разговор пойдет об этой трагедии, но пришло время расходиться. По пути в общежитие я спросила у Лейлы:
— Как тогда погибли девушки? Подробностей я до сих пор не знаю.
Лейла с минуту шла молча, потом, взяв меня под руку, тихим голосом, чтобы не слышали другие, рассказала:
— Попали в снегопад, потеряли пространственную ориентировку. Погибли Лиля Тормосина, Надя Комогорцева, Аня Малахова, Марина Виноградова. Так их было жалко… Не успели сделать ни одного боевого вылета, не сбросили на врага ни одной бомбы. Никогда не забуду, как прощались с ними. Почетный караул, траурные мелодии… Я тогда думала: только бы попасть на фронт, сделать один вылет, сбросить бомбы, например, на мост, по которому движутся фашистские танки, своими глазами увидеть, как они обрушиваются в воду, как идут на дно гитлеровцы — и больше ничего мне в жизни не надо. Потом появилась мечта: дожить до нашего победоносного наступления по всему фронту, увидеть драпающих немцев, и все, можно умереть спокойно. А теперь…
Лейла замолчала.
— А теперь? — спросила я, прижимая к себе руку Лейлы. — Дожить до полной победы?
— Ну, это сверхмечта! — рассмеялась она. — А ближайшая, очередная — дожить до того дня, когда на нашей земле не останется ни одного фашиста. А какая у тебя мечта? Я имею в виду не далекую, а близкую.
— Самая близкая — забраться в постель, а далекая — плюнуть сверху на Берлин, потом погулять на твоей свадьбе.
— Погуляем!.. Скажи, Магуба, а у тебя было такое — теряла ты в полете ориентировку относительно горизонта?
— Если бы теряла, не шла бы сейчас с тобой. Впрочем, что-то подобное было, когда начинала летать. Выручал инструктор.
— В ту страшную ночь разбился и самолет Иры Себровой. Штурманом у нее была Руфа Гашева. Упали на крыло, машина — в груды обломков, а они отделались легкими ушибами. Пожалуй, потеря пространственной ориентировки — самое страшное, что может произойти с летчиком. Помню, инструктор рассказывал… Пилот, попадая в плен ложных ощущений, перестает представлять, как идет самолет. Это может случиться и в ясную ночь. Огоньки внизу вдруг покажутся звездами и наоборот. Машина идет ровно, а летчику кажется, что она накренилась на девяносто градусов. Он перестает верить приборам, начинает выравнивать самолет и по спирали устремляется к земле… Нам тогда, в Энгельсе, просто не хватало опыта, мы еще не знали по-настоящему, что такое ночь, не умели по малейшим штрихам определять свое местонахождение. А приборов для слепого полета — почти никаких… Когда прилетели на фронт, ожидали, конечно, что сразу ринемся в бой. Как все девушки полка, я тогда тоже считала: командование нас недооценивает, почти месяц мы, отважные асы, потеряли даром. А теперь уверена: все было сделано правильно. Мы учились летать в свете прожекторов, с опытными штурманами пересекли линию фронта. При первых боевых вылетах немцы нас почти не обстреливали, мы решили, что командование бережет нас, возмущались. Запомнилась мне одна фраза, сказанная кем-то из девушек: «На такой войне даже не поседеешь!» Какие мы были глупые. Объекты, которые мы бомбили, были, конечно, важными, хорошо охранялись, но немцы готовили крупное наступление и не хотели раньше времени демаскироваться.
Дальше мы шли молча. Я не хотела спорить с Лейлой, подумала: «Если тогда, в июне 1942 года, командование выбрало для первых полетов слабоохраняемые цели, осуждать его за это нельзя, но таких целей, по-видимому, в прифронтовой полосе просто не было»…
Лежа в постели, я задумалась над словами Бершанской о летчиках-истребителях: «Все погибли». Конечно, им намного труднее было, чем нам. Против них не только зенитные батареи, но и «мессеры». Словом, превосходящие по количеству силы. Тут никакая выучка, смелость не помогут…
В первых двух боевых вылетах у меня были сравнительно безопасные задания. Бершанская все продумала. Потому, видимо, долго не выпускала меня, чтобы я получше освоилась в эскадрилье — «это самое главное». Напрасно я на нее обижалась. Она сделала все, чтобы я не сгорела, как ночная бабочка, в пламени костра.
Когда бомбили станцию, прямо по курсу я увидела фонтан трассирующих пуль. Самолет летел в лучах трех прожекторов. «Ничего страшного, ничего страшного», повторяла я про себя, сознавая, что сейчас пулеметные очереди прошьют самолет от пропеллера до хвоста. И вдруг фонтан исчез. Наши бомбы пошли на цель, взорвалась цистерна с горючим, да так, что нас подбросило. Я развернула самолет. Но что это: нас уже не обстреливают, лишь один прожектор будто прилип к нам. Видимо, немцам не верилось, что самолет цел и невредим, ждали, когда загорится, грохнется. «Кто-то из девушек подстраховал, сбросил бомбы на пулемет», — подумала я тогда, в воздухе. Приземлившись на своем аэродроме, никого ни о чем не расспрашивала, никто и мне нечего не сказал. Обычно после первых же стартов очередность нарушается: кто за кем летит, определить невозможно, бортовые номера не видны, да и некогда их разглядывать. Но во всех случаях любой экипаж придет на выручку другому, когда это необходимо. В ту ночь и мы сбросили бомбы на огневую точку, на прожекторы.
В том, что полк стал гвардейским, нет никакой моей заслуги. Стремлюсь доказать, что я достойный член этой дружной героической семьи.
В ту ночь я так и не заснула, все думала, думала…
На другой день мы с воодушевлением разучили свой собственный, полковой «Гвардейский марш». Слова написала Наташа Меклин, музыку сочинили сами, на ходу:
На фронте стать в ряды передовые Была для нас задача нелегка. Боритесь, девушки, подруги боевые, За славу женского гвардейского полка! Вперед лети С огнем в груди, Пусть знамя гвардии алеет впереди! Врага найди, В цель попади, Фашистским гадам от расплаты не уйти! Никто из нас усталости не знает, Мы бьем врага с заката до зари. Гвардейцы-девушки в бою не подкачают, Вперед, орлы, вперед, богатыри! Вперед лети, С огнем в груди…Полк пикирующих бомбардировщиков, которым командовала Раскова, тоже стал гвардейским, ему было присвоено ее имя. Он прошел боевой путь от Волги до Восточной Пруссии — 125-й гвардейский бомбардировочный Борисовский имени Героя Советского Союза Марины Михайловны Расковой полк.
Что-то изменилось в нас после того, как мы стали гвардейцами. Повзрослели, что ли. А может, возросло чувство ответственности. Даже внешне девушки стали чуть-чуть другими. В осанке, во всем облике появилось что-то неуловимо новое — изящное, мужественное. И никакой заносчивости. Немцы, естественно, стали ненавидеть нас еще больше. И еще больше бояться. А я слова своего первого штурмана «Ничего страшного!» пронесла через всю стою жизнь.
Ночь двести пятьдесят седьмая
Нам разрешили отращивать косы! И еще одно приятное событие: сняли мерки — сошьют новые шинели!
Вскоре их привез пожилой, расторопный старшина с бравыми, похожими на пропеллер, усами. Девушки в глаза называли его дядечкой, а за глаза старикашкой. Он пытался заигрывать с ними, но получил оплеуху, и усы его сразу потеряли бравый вид.
— Рученьки у вас тяжелые, — проворчал он, потирая щеку.
— Гвардейские!..
Стали примеривать новые шинели: шум, гам, как на ярмарке. И вдруг — негодующий голос Наташи Меклин:
— Девочки! — ее красивые карие глаза, похожие на спелые вишни, полны праведного гнева. — Моя шинель застегивается на правую сторону… Да все шинели — «правые»…
Не успели по-настоящему возмутиться — приказ построиться у КП, надеть новые шинели. Построились. Вышла Бершанская. На ней старая шинель. Рядом семенит «старикашка». Хмуро оглядев строй, Евдокия Давыдовна строго спросила:
— Видите?
Стукнув себя кулаком по лбу, старшина громко сказал:
— Болван!
За моей спиной кто-то шепчет:
— Сейчас Бершанская прикажет провести его сквозь строй.
— Забьем до смерти!
— Более двухсот бракованных шинелей. Держись, старшина!
Бершанская распорядилась:
— Переделать!
Вооружившись ножницами, иголками, женская гвардия под присмотром старшины обметывала новые петли, перешивала пуговицы. В два счета привели шинели в порядок.
Теперь у девушек был совсем другой вид. В старых мужских шинелях они походили на огородные чучела, которыми отпугивают ворон.
А под Новороссийском идут тяжелые бои. Там сражается 47-я армия генерала Леселидзе. Выполнить задачу по освобождению города ей тогда не удалось. Южнее Новороссийска, в районе Мысхако, 4-го февраля был высажен морской десант во главе с майором Цезарем Куниковым. Отважный командир вскоре погиб, ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Небольшой плацдарм, названный Малой землей, десантники удерживали в течение многих месяцев.
Освобожден Краснодар — город казачьей славы. Это уже неподалеку от Новороссийска.
Наша общая радость растет. Возвращаясь из полетов, в первую очередь спрашиваем: какие города освобождены, как идет наступление?
Немцы укрепляют «голубую линию» — так назвали рубеж, наверно, потому, что значительная часть его проходит по рекам. Он протянулся от Азовского моря до Черного. Мы получили задание: выявлять и уничтожать огневые точки врага на этой линии.
В ночь на тринадцатое февраля мы сделали с Женей Рудневой пять боевых вылетов. Уничтожили два орудия. Штурман полка ведет дневник, аккуратно записывает результаты бомбовых ударов.
«Голубую линию» немцы удерживали до октября 1943 года. Сосредоточив на Таманском полуострове огромные силы, фашистское командование допустило очередной стратегический просчет: эти силы по существу в течение полугода выполняли пассивные задачи. Но очень уж не хотелось Гитлеру расставаться с последним клочком земли, с которого он рассчитывал развернуть новое наступление на Кавказ.
В полку чаще стали проводиться политбеседы, собрания. Оказывается, за скорейшее открытие фронта выступали широкие слои населения в Англии и Соединенных Штатах Америки. В одной американской газете сообщалось, что потери США в войне с Германией составляют всего один процент по сравнению с потерями Советского Союза. Открытие второго фронта в Европе, по мнению газеты, заставило бы Гитлера снять с Восточного фронта пятьдесят дивизий, и тогда Красная Армия разнесла бы противостоящие ей немецкие войска в пух и прах.
Разнесем, конечно. Даже без второго фронта. Но заплатим за это миллионами жизней. Если бы наше наступление было сейчас поддержано союзниками, война бы закончилась быстро, это очевидно. Но господин Черчилль, от которого многое зависит, по-видимому, рассуждает так: пусть два петуха ослабнут, сражаясь между собой, а я потом обоих положу в мешок.
Ночь двести восемьдесят девятая
Из-за весенней распутицы переход на новый аэродром не только затягивается, но и становится сущей каторгой. Дороги, по которым прошли войска, превратились в сплошное месиво грязи. Полковые машины буксуют, девушки приносят охапки хвороста, суют под колеса и, ухватившись за борта, координируют свои богатырские усилия незаменимым «Раз-два — взяли!» Дороги обстреливаются дальнобойной вражеской артиллерией, Днем в небе то и дело появляются «мессеры». Наших «ястребков» они побаиваются, но иногда нам приходится наблюдать жаркие воздушные бои.
Размещаемся в станице Пашковской — в ожидании подвоза горючего, бомб. Когда-то здесь жила Бершанская, работала на здешнем аэродроме. Теперь тут все разрушено. Живем в землянках — сыро, холодно, неуютно. Питаемся тоже кое-как, в основном кукурузой. У местных жителей не осталось ни скота, ни птицы, ни фруктов — все подмели немцы. По улицам рыскают крысы.
Опасаясь налетов вражеской авиации, мы усиливаем меры безопасности. Посадочный прожектор не включаем. Бортовые огни тоже. При посадке и взлете ориентируемся лишь по огонькам карманных фонариков — всю ночь на аэродроме дежурят девушки-сигнальщицы.
Посадка стала чрезвычайно трудным делом, требующим огромного напряжения. Многие девушки жалуются на синяки и ушибы. Приземлившись, дольше, чем обычно, сидят в кабинах, ждут, когда отойдут плечи, руки, приходят в себя.
Перебрались в станицу Джерилиевскую и, кажется, выдохлись окончательно. Море грязи окружает аэродром, покрытый лужами. На завтрак, обед и ужин — кукурузная каша. На исходе бензин, мало осталось бомб. Не выберешься и на автомашинах — буксуют. Полк словно оказался на пустынном острове. На фронте затишье — бездействуют танки, артиллерия, даже авиация. А мы хотим воевать! Наташа Меклин сочинила «Молитву летчика», поем ее как частушку, хором обращаясь к всевышнему:
Выведи из ада в рай, Дай бомбить передний край!..Текст «молитвы» повесили в столовой на самом видном месте — пусть начальство почитает. Настроение у всех пасмурное: жди, когда улучшится погода, просохнут дороги. Но роль всемогущего бога, точнее, всемогущей богини, взяла на себя Бершанская, и все изменилось. По ее приказу девушки, утопая в грязи, выкатили «По-2» на полоску сравнительно сухой земли. Лариса Розанова получила задание: слетать в город Кропоткин — до него двести километров — и доставить оттуда бензин. Лететь придется над самой землей, иначе как снег на голову могут свалиться «мессеры». Лариса слетала благополучно. На крыльях самолета привезла по три канистры, еще четыре — в задней кабине. В каждой — двадцать килограммов бензина. Едва сняли груз, Розанова снова улетела. За ней — другие. К вечеру мы обеспечили полк горючим, бомбами, мукой, сахаром, крупой, другими продуктами, в общем всем необходимым для нормальной боевой жизни. Впрочем, нормальной жизни на войне не бывает, мы убедились в этом несколько дней спустя.
Выполнив задание, я и штурман Женя Руднева еле дотянули до аэродрома подскока — так «Эрликоны» отделали наш самолет. Зина Радина, осмотрев его, проворчала:
— На несколько часов работы. Отправляйтесь в землянку на чаепитие, не мешайте нам.
Женя вопросительно посмотрела на меня.
— Что-то чаю не хочется, — сказала я. — Иди, Женечка, одна, узнай, кстати, не было ли писем, а я полежу тут где-нибудь.
Руднева ушла, я устроилась среди пустых ящиков, сваленных возле аэродрома. Меня охватило какое-то уныние, на душе тревожно — от мамы долго нет писем.
Ночь теплая, мартовская. Негромко рокочут моторы. Когда они смолкают, слышны девичьи голоса.
Неудачно приземлилась Полина Макогон, повредила шасси. Прошлась немного, остановилась недалеко от меня. Смотрю на поникшую фигуру, хочется посочувствовать, чем-то помочь.
— Предлагаю последовать моему примеру, товарищ старший лейтенант, — говорю я, — Удивительные ящики — мягкие, как перины.
Полина даже не шелохнулась. «Недовольна посадкой, — подумала я. — Переживает». Техники возятся с ее самолетом.
Закрываю глаза, погружаюсь в какой-то полусон.
— Может быть, вернетесь на основной аэродром? — это голос дежурной по аэродрому. — Вам надо отдохнуть.
Дежурную беспокоит, что опытный пилот так неудачно приземлился.
— Отдыхать будем после войны, товарищ лейтенант…
Не думала я, что естественное желание Полины продолжать полеты приведет к трагедии. Дежурная, младшая по званию, не проявила должной настойчивости. Я не виню ее, сама на ее месте, наверно, поступила бы так же.
Подошла Женя с маленьким термосом в руке.
— Писем нет. Попей чайку. — Она присела рядом. — Знаешь, на наш фронт немцы перебросили эскадрилью «Генерал Удет». Это любимцы Геринга, опытные стервятники. — Не дождавшись от меня ответа, Женя поднялась. — Передам письмо дежурной.
Мой штурман принес в ладони радость юному лейтенанту — девушка так и запорхала по аэродрому, ее веселый голос наполняет отрадой сердце.
Готовятся к очередному полету Юлия Пашкова и Хиваз Доспанова. Дежурная что-то говорит о привязных ремнях. Некоторые штурманы не пользуются ими, говорят, мешают прицеливаться. Застегнуть ремни, взлететь — отстегнуть, перед посадкой застегнуть снова — чего проще?
— Жаксы! — кивает Хиваз. По-казахски жаксы — хорошо.
Дежурная не унимается, видимо, ремни не в порядке, может быть, их изгрызли крысы.
— Бомбы подвешены…
— Самолет заправлен…
Это голоса техников. Они недовольны: из-за такого пустяка, как неисправный ремень, откладывать вылет не хочется.
— Джаным, жеребеночек мой, не будь злым шакалом, — в голосе Хиваз — мольба.
«Не устоит лейтенант», — подумала я.
Дежурная не устояла: самолет улетел.
Послышался нарастающий гул немецкого бомбардировщика. На аэродроме сразу воцарилась могильная тишина. Никакого движения. Мы укрылись в окопах.
Вспыхнул САБ, осветив все вокруг. И хотя аэродром пуст, грохочут взрывы. Один, другой, третий… Утробный гул «Юнкерса» удаляется.
Мы вылезли из укрытий. Вскоре дежурная распорядилась включить прожектор, осмотрела посадочную полосу. Если есть повреждения, она направит самолеты, которые должны вот-вот вернуться, на основной аэродром. Но бомбы упали в стороне от аэродрома, воронок нет.
Неожиданно в темноте раздались три пистолетных выстрела подряд. Что такое? Прислушиваемся — тишина…
— Вроде, я слышала какой-то треск, — неуверенно сказала дежурная.
— Где?! — у меня защемило сердце.
— Вон там…
Недалеко от аэродрома мы обнаружили обломки двух «По-2» — они столкнулись в воздухе при заходе на посадку. В смятых кабинах — три неподвижных тела. Почему три?..
— Вызову «санитарку», — всхлипнув, сказала одна из девушек-техников, сунула мне в руку свой фонарик и убежала.
Полина Макогон и Лида Свистунова были мертвы. Юля Пашкова, истекающая кровью, была еще жива. В руке она сжимала пистолет. Где же Хиваз?..
Посветив фонариками, мы обнаружили ее в двух шагах от места катастрофы. Склонившись, шепчу:
— Хиваз, Хиваз, ласточка моя… — услышав легкий хрип, кричу: — Жива! Жива!
Подкатила «санитарка», девушек увезли в полевой госпиталь. На рассвете туда вылетели Бершанская и Рачкевич. Им сказали, что Юля Пашкова умерла на операционном столе, Хиваз Доспанову доставили мертвой.
— Где они? — едва сдержав стон, спросила Бершанская.
— В мертвецкой.
— Мы хотим проститься с ними…
Они лежали рядом. На лице Хиваз проступал едва заметный румянец.
— Она жива! — крикнула Бершанская. — Жива! Слышите?..
Несколько суток врачи боролись за жизнь девушки и победили. У нее были раздроблены бедренные кости обеих ног. Срочно нужна была кровь для переливания. К счастью, подходящая кровь оказалась у шофера санитарной машины.
Хиваз можно, пожалуй, назвать трижды воскресшей. Она не пристегнулась ремнями к сиденью, и это ее спасло: при столкновении самолетов выбросило из кабины в сторону. Потом, как волшебницы, появились командир и комиссар полка. И наконец — шофер… Но страдания юного штурмана еще далеко не кончились. Врачи, опасаясь гангрены, собирались ампутировать ей ноги, но главный хирург госпиталя заявил:
— Не могу я лишить ног эту девочку! Если она выживет, они ей пригодятся…
Едва придя в себя, Хиваз спросила:
— Где Юля Пашкова? Что с ней?
— Она легко ранена, осталась в полевом госпитале…
То же самое говорили и подруги, навещавшие ее.
Хиваз перенесла несколько мучительных операций — кости срастались неправильно, их приходилось ломать и начинать все сначала.
— Потерпи, деточка, — говорил хирург. — Вылечим, еще летать будешь.
— Конечно, буду, — шептала она.
Лишь когда состояние ее улучшилось, врачи сказали правду о Пашковой.
Лечилась Хиваз в Ессентуках, в авиационном госпитале. В одной палате с ней лежала Рая Аронова, раненная в бедро осколками снаряда, и техник Таня Алексеева, болевшая желтухой. На кратковременный отдых в санаторий, расположенный по соседству, прилетела Наташа Меклин. Она навещала подруг ежедневно, приносила Хиваз цветы, подолгу разговаривала с ней. Прилетали в госпиталь Дина Никулина и Ира Себрова.
Хиваз рассказала подругам, что в ту роковую ночь они с Юлей, возвращаясь с задания, увидели свет посадочного прожектора, начали снижаться. И вдруг — удар. Очнулась и не могла понять, что произошло, где находится. Услышала голос Пашковой:
— Хиваз, ты здесь?
— Да…
— Мы сегодня летали?
— Не знаю. Не помню…
— Может быть, нас сбили?
— Не знаю…
— Ты можешь стрелять? — голос Юли все слабее.
Собрав последние силы, Пашкова достала пистолет, выстрелила несколько раз и этим, по-видимому, спасла своего штурмана, Хиваз, потянувшись к кобуре, сделала резкое движение рукой и потеряла сознание…
Почему столкнулись самолеты? Роковые мелочи, роковые секунды, уступчивость дежурной — трагическая цепочка поступков… Самолет Полины Макогон зашел на посадку не с той стороны. Почему? Уходила от «мессера»? Сбилась с курса? Отвечать некому. А посадку в те весеннее ночи самолеты совершали, не зажигая навигационных огней, чтобы не демаскировать аэродром.
Погибших девушек мы похоронили в центре станицы Пашковской. Отгремел воинский салют, а мы еще долго стояли, обнажив головы, у могильных холмиков, на которых лежали три пропеллера.
Ночь триста тридцатая
Гордостью нашего полка была Дуся Носаль, бесстрашный пилот, мужественно скрывавшая свою неутихающую душевную боль. В первый день войны от фашистской бомбы погиб ее первенец, малыш, которому от роду было всего несколько дней. Она лежала с ним в родильном доме, в пограничном белорусском городе. Сама осталась жива каким-то чудом. Муж ее во время войны жил на Урале, работал летчиком-инструктором. Рвался на фронт, но его не отпускали, в тылу он был нужнее — готовил летчиков-истребителей. Может быть, в небе горе Дуси притуплялось — она всегда была первой по количеству боевых вылетов.
Однажды я полетела с ней в качестве штурмана, мой самолет ремонтировался. Из-за тумана в низине мы не смогли обнаружить цель — склад боеприпасов. САБы не помогли. Немцы затаились. Можно было сбросить бомбы наугад и возвратиться на аэродром, но Дусе такая мысль, наверно, и в голову не приходила. Хоть какую-то цель, пусть самую малую, мы найдем!
— Справа, недалеко железная дорога, — сказала я. — Место возвышенное, бросим САБ, разрушим путь.
— Летим, — согласилась Дуся, меняя курс.
Нам выпала редкая удача: в лунном свете мы разглядели дым паровоза. Решили ударить сбоку, иначе упустим время, эшелон нырнет в туман.
Из четырех бомб одна попала в цель, взрыв разорвал поезд пополам. Головная часть скрылась, два вагона свалились под откос, остальные замерли. Упавшие вагоны горели.
С поезда нас обстреляли, но ни одна пуля не задела самолет, он, словно заговоренный, прошел сквозь огненный смерч.
— Жаль, что бомб больше нет, — возбужденно сказала я.
— А мы вернемся, — успокоила меня Дуся. — Успеем. Обработаем хвост. Вагоны никуда не денутся, мы их все расколошматим.
«Дуся мстит за своего сыночка, — размышляла я, когда мы взяли курс на аэродром. — И ее муж тоже. Для немцев она, наверно, самая страшная из «ночных ведьм». Сами виноваты. На что рассчитывали, когда бросали свои бомбы на наши мирные, спящие города? Что это сойдет им с рук? Главное возмездие еще впереди. Придет время, огненный фронт докатится до Германии. А потом наступит, может быть, день, я постучу в дверь, мне откроет Дуся, я войду, она скажет: «Знакомься, это мой муж. А это — сын…» Мы будем сидеть за самоваром, вспоминать войну. «А помнишь?.. А помнишь?..» Переберем много боевых ночей, доедем до сегодняшней… Чтобы это стало возможным, мы должны непременно вернуться к этим вагонам, разбить их вдребезги — на какую-то неуловимо крохотную крупицу времени приблизить Победу. А если и не придется нам с Дусей посидеть за мирным самоваром, это не так уж важно, посидят другие, миллионы таких, как мы, и помянут нас добрым словом. Привет вам, счастливейшие люди Земли! Вы не будете, в отличие от оставшихся в живых немцев, прятать глаза от своих сыновей и внуков… Ах, Дуся, долетим ли мы с тобой до мирного аэродрома?»
В ту ночь мы еще четыре раза прилетали к вагонам и довели дело до конца.
Ночь триста тридцать первая
Немецкий летчик возвращался на свой аэродром. Мощный самолет, облитый лунным светом, гремящей тенью проносился над кубанской землей, как огромный снаряд, пролетал сквозь плотные облака. Слева под крылом — Цемесская бухта, Новороссийск, крохотный плацдарм, который русские именуют Малой землей. С высоты этот плацдарм казался догорающим костром, над ним висели немецкие САБы, тяжелые бомбардировщики осыпали его градом бомб. Летчик, недавно прибывший сюда из Франции, удовлетворенно подумал, что после сегодняшнего ночного удара Малая земля, наконец, прекратит свое существование, само ее название улетучится из памяти людей, это место станет безымянной частицей великого рейха. Правда, дела здесь, на Восточном фронте, в последние месяцы шли неважно. Сталинградская катастрофа занозой сидит в мозгу, и этот чертов плацдарм раздражает его, покорителя Европы, которому недавно сам фюрер нацепил на грудь очередной крест. Ну что ж, война есть война, могут быть и заминки, возможно, и с этой Малой землей придется еще повозиться день-два, но все равно скоро, очень скоро, можно не сомневаться, эти истекающие кровью фанатики разобьют свои лбы о «голубую линию» и тогда… Он, прославленный ас, прибыл сюда вовремя…
Внизу впереди он увидел «рус-фанер», ползущий навстречу, и, усмехнувшись, вспомнил сказочки о неуязвимости «ночных ведьм». Сейчас он продемонстрирует, как надо расправляться с этими черепахами. Надо уметь стрелять без промаха, вот и все, а не тратить боеприпасы попусту.
Летчик видел, что снаряд, посланный им, пробил прозрачный плексигласовый козырек и взорвался в кабине. Фанерный самолет словно налетел на упругую стену, медленно вошел в пике и, набирая скорость, полетел вниз. Краснорожий ас повел плечами и расхохотался. Какое веселенькое письмо он напишет завтра утром своей Эльзе!
Бледное лицо ведьмы, ее горящие ненавистью глаза, пряди волос, торчащие из-под шлема… И — бац!
Опытный воздушный пират похвастался своим «подвигом» в вонючем пивном баре и написал веселенькое письмо, но если бы он мог проследить за падающим самолетом, его послание было бы совсем другим, и ему, и собутыльникам, и восторженной возлюбленной было бы не до смеха…
У самой земли самолет вышел из пике, покачиваясь, пролетел несколько сот метров, набрал высоту и направился к аэродрому. Когда впереди показались посадочные огни, из самолета вылетела красная ракета. Почти в тот же миг вспыхнул посадочный прожектор, самолет приземлился…
А произошло вот что.
Ослепленная яркой вспышкой, оглушенная взрывом, Глаша Каширина все же заметила черную тень, на миг заслонившую звезды, и поняла: Дуся Носаль убита. Теперь их самолет падал.
— Дуся! Дуся! Дуся! — кричала Глаша не своим голосом, вцепившись в плечи мертвой подруги.
Странное, ледяное спокойствие пришло внезапно, в руках появилась нечеловеческая сила. Приподняв тело Дуси, штурман Каширина высвободила ручку управления и вывела самолет из пике. Вспомнила, как шла босиком по раскаленной степи с Озерковой. Тогда тоже было испытание на пределе сил, но рядом находилась живая подруга, теперь — мертвая.
Это был их первый совместный полет. И последний.
Мертвое тело снова давит на ручку управления. Самолет раскачивается, теряет высоту…
Увидев красную ракету, Бершанская скомандовала:
— Прожектор!
Не зажигая навигационных огней, самолет, переваливаясь с крыла на крыло, шел на посадку.
— Дуся, — прошептала Бершанская, разглядев номер — тройку — на хвосте самолета. — Ранена.
Колеса коснулись земли, самолет, подпрыгнув, покатился по полосе. Замер. К нему подкатила санитарная машина.
— Товарищ командир полка, — собрав последние силы, доложила Каширина, — задание выполнено. Дуся убита…
Рядом со свежим могильным холмиком на окраине станицы появился еще один. Прозвучал прощальный салют — три залпа. И клятва — отомстить за Дусю!
Через несколько дней в газетах был опубликован Указ Верховного Совета СССР — Евдокии Носаль было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.
На ее счету — более трехсот пятидесяти боевых вылетов.
Ночь триста тридцать третья
В ночь на Первое мая мы получили задание нанести удар по колоннам автомашин, идущим к линии фронта. Летим с Женей Рудневой. За несколько минут до нас стартовали Лейла и Руфа.
Полк постарается встретить праздник достойно. Предельное напряжение сил — в будни и праздники. Все наши веселые торжества впереди, и начнутся они с дня Победы.
И все же праздник есть праздник — завтра командир дивизии будет вручать нам гвардейские значки, награды. Так сказала Бершанская.
Летим молча. О чем сейчас думает Женя? Конечно, о звездах, о тайнах неба. Ведь ее призвание — астрономия, она, еще будучи студенткой, писала научные статьи.
Звезды, звезды… Дивная ночь. Женя говорит, что невооруженным глазом можно различить на небе примерно три тысячи звезд. Сто из них имеют собственные имена. В нашей Галактике — больше ста миллиардов звезд, по мнению Жени, это не так уж много — примерно по тридцать звезд на человека.
Внимательно всматриваюсь в среднюю звезду в «ручке» ковша Большой Медведицы. Я давно слышала, что люди с очень острым зрением видят, что эта звезда — двойная. Одна большая, другая маленькая. Еще в древности им дали названия: Мицар и Алькор, что означает Конь и Всадник. А Женя говорит, что каждая из этих звезд тоже двойная, четыре звезды мы видим, как одну. Если там есть планета, вроде нашей, ее жители видят четыре солнца. И все разные. Может быть, смотрят на нас в свои телескопы и сочувствуют нам: бедные существа, у них всего одно солнце…
— Внимание!
Сразу улетучиваются звездные фантазии. Снижаемся. В луче прожектора — самолет. По нему бьют пулеметы. Это Лейла и Руфа. Уже отбомбились. На перекрестке дорог — несколько горящих автомашин.
Женя бросает САБ. Вспыхивает новый прожектор, ищет нас. Я огибаю луч, захожу на цель. Первые две бомбы взорвались рядом с прожектором, он погас. Но самолет Лейлы еще раньше вырвался из луча и ушел в сторону, мы это ясно видели. А второй прожектор поймал нас, правда, ненадолго. Все обошлось. Мы подожгли еще одну машину и вернулись на аэродром. Сделали еще четыре вылета. Когда приземлились после последнего задания, узнали: Лейла и Руфа пропали без вести. Их самолет не вернулся после первого вылета. Мы с Женей не уходили с аэродрома, пока не взошло солнце. Что же с ними произошло? Самолет не горел, не падал. Значит, их сбили на пути к аэродрому.
Днем командир дивизии вручил нам гвардейские значки, десяти пилотам и штурманам — ордена. На столе перед ним остались две алые коробочки. Он объявил, что Ольга Санфирова и Руфина Гашева награждены орденами Красного Знамени.
Такую же награду получила и Глаша Каширина. Но в ее глазах не было радости.
Они очень подружились с Лейлой в последнее время, Глаша, возможно, считала, что Лейла спасла ей жизнь — научила управлять самолетом. Правда, она до войны училась летать в аэроклубе, но старых знаний, старого опыта могло и не хватить в той ситуации, в какую попала Глаша, когда ее пилот был убит.
Конечно, я не находила себе места. И не только я — Лейлу и Руфу любил весь полк, все тяжело переживали, праздничного настроения не было ни у кого.
Может быть, думала я, самолет Лейлы был сбит сразу, как только она вырвалась из луча прожектора. Или несчастье произошло над линией фронта? На нашей территории их нет, нам бы сразу сообщили. Если даже они остались живы, их, раненых, могли схватить немцы.
Неужели случится так, что мы никогда не узнаем, что с ними произошло? Жить с такой тяжестью на душе… И ничего, ничего сделать нельзя. Только ждать.
Бершанская подробно расспросила меня и Женю о нашем первом в эту ночь вылете, о том, что мы видели. И тоже сказала:
— Будем ждать.
Ночь триста тридцать пятая
На рассвете 2-го мая, когда мы, выполнив задание, возвращались на аэродром, я сказала своему штурману:
— Сегодня день рождения Лейлы.
Женя Руднева кивнула головой и промолчала.
Не буду рассказывать, как я провела этот день. Скажу только, что крепилась как могла. Небо слез не любит — эти слова Бершанской я никогда не забывала. День рождения пропавшей подруги мы решили отметить не слезами и вздохами, а беспощадными бомбовыми ударами по врагу.
«Скорее бы наступила ночь, — подумала я, направляясь в общежитие. — И только бы погода не подвела».
Когда, напрягая силы, исполняешь свой высший долг, легче переносить горе.
В эту ночь мы сделали с Женей пять вылетов. И что важно — она ни разу не промахнулась, но на самолет было страшно смотреть. Он перешел в руки техников, а мы, выпив по чашке чая, решили посидеть на ящиках — дождаться возвращения подруг, которые вновь ушли на задания. В воздухе мы почти не разговаривали, произносили только самые необходимые слова, и теперь я бы с удовольствием послушала какую-нибудь звездную сказку. Женя, видимо, уловила мое настроение.
— Видишь Марс? — тихо спросила она.
— Вижу. Бог войны. У него была жена? — я настраивала Женю на нужный лад.
— Да. Ее звали Чулпан.
— Чулпан? Ты хочешь меня рассмешить?
— Нет, Магуба, я говорю серьезно. Ты называешь так Венеру, утреннюю звезду. А законной женой Марса была богиня любви Афродита. Римское ее имя — Венера.
— Понятно. А дети у них были?
— Да, четверо. Маленький шалун Амур, который до сих пор пронзает наши сердца своими стрелами, прелестная дочка Гармония и… как говорится, в семье не без урода, — Женя подняла голову, рассматривая Марс, — тут правильнее будет сказать не без уродов, еще два сына. Ты знаешь, как называются спутники Марса?
— Ты как-то уже говорила — Страх и Ужас.
— Да, по-гречески — Фобос и Деймос. Они уродились в папу, а не в маму.
— Бедная Венера. Не надо было ей выходить замуж за Марса.
— Богини мужей не выбирают. Такова была воля Зевса. Кстати, Марс — его родной сын.
— Все ясно, — сыронизировала я. — Постарался для сыночка.
— Марс — глупый, жестокий, кровожадный бог. Его никто не любил на Олимпе. Даже отец. По свидетельству Гомера Зевс однажды сказал, обращаясь к сыну: «Всех ненавистней ты мне из богов, на Олимпе живущих! Милы тебе только распри, кровавые войны и битвы…» У Венеры, между прочим, были и незаконные дети…
— Женя, смотри!
По небосводу прокатилась звезда, оставляя за собой узкий светящийся след.
— Загадала? — с улыбкой глядя на меня, спросила Женя.
— Загадала. А ты?
— Я тоже.
Говорить о загаданном желании вслух нельзя. Но я знала, что мы загадали одно и то же…
— Моя заветная мечта, — прервала молчание Женя, — побывать на месте падения Тунгусского метеорита.
— Возьми меня с собой.
— С удовольствием.
— А что мы там будем делать? — не терпелось мне узнать.
Женя мечтательно ответила:
— Разожжем огромный костер, будем пить чай и петь песни.
— Прекрасно, — согласилась я. — Демобилизуемся — и туда.
— Договорились. Если посчастливится, найдем осколок этого метеорита.
— Конечно найдем. Кажется, там была экспедиция и ничего не нашла? Но я думаю: плохо искали. Мы наберем целый рюкзак этих осколков…
Почувствовав, что я проявляю интерес и к этому ее увлечению, Женя оживилась:
— Хотя бы одну маленькую крупинку — и удивительная загадка была бы решена. Метеорит весил сотни тысяч тонн. Когда он взорвался над тайгой, огненный столб был виден за четыреста километров, на месте взрыва — поваленные деревья, как скошенная трава, а от самого метеорита — ничего, как будто его и не было. Единственный такой случай в истории Земли. После взрыва небо по ночам светилось, вот здесь, где мы сидим, в полночь можно было читать газету.
— Для нас была бы нелетная погода, — к слову замечаю я. Спрашиваю: — А откуда прилетела эта диковина, ты знаешь?
Вместо ответа Женя вдруг насторожилась:
— Наши девушки летят, слышишь? В другой раз доскажу…
Мы с Женей еще спали, когда в общежитие ворвались девушки-техники.
— Подъем! Подъем! — они так кричали, что мы вскочили, как ошпаренные. — Лейла и Руфа вернулись! У Бершанской сидят, чай пьют, а вы спите.
Радостная весть облетела весь полк.
Лейла и Руфа, похудевшие, вымазанные болотной жижей, еле держались на ногах, а мы налетели на них, как ураган — тискали, целовали, поздравляли с наградой. Ни о чем не расспрашивали, не до того было. Краем уха я услышала слова Бершанской:
— Вынужденная посадка… Перешли через линию фронта…
Да, упавшая звезда нас не подвела.
Ночь триста тридцать шестая
Я знаю, как выглядят спящие царевны, своими глазами видела.
Погода была нелетная, мой самолет еще ремонтировался, поэтому я с вечера сидела между двух коек и любовалась спящими красавицами. Женя Руднева проводила занятия со штурманами, но мы договорились: когда Лейла и Руфа проснутся, я ее позову.
Время от времени я поправляла их одеяла, хотя можно было и не поправлять, девушки спали спокойно, просто хотелось лишний раз прикоснуться к ним, убедиться, что вижу их наяву, а не во сне. В десять часов вечера я прилегла сама, не раздеваясь, на койку. Закрыла глаза и сразу увидела сон: в полной тишине «По-2» выходит из луча прожектора, валится на крыло и, охваченный пламенем, летит в бездну, превращаясь в падающую звезду. Открыла глаза, надумала: «Странно, не спала, а сон видела». Только закрыла глаза — опять та же картина: луч, самолет, падающая звезда… Наваждение.
Когда я проснулась, Лейла и Руфа гладили гимнастерки. Вошла Женя и с порога заявила:
— Не мне одной делиться опытом, рассказывайте о своих мытарствах.
Лейла была простужена, я дала ей таблетку и снова уложила в постель. Но рассказывала, в основном, она, Руфа гладила…
Как оказалось, когда самолет проходил уже над целью, заглох мотор, Руфа этого не заметила.
— Попали! — крикнула она, не отрывая взгляда от перекрестка дорог. — Посмотри.
И вдруг, удивленная странной тишиной, увидела: пропеллер неподвижен. Лейла, согнувшись, подкачивает бензин, пытаясь запустить мотор. Потом она выпрямилась, безнадежно махнула рукой.
Планируя, «По-2» терял высоту. До аэродрома, конечно, не дотянуть, единственный выход — приземлиться здесь, на территории, занятой противником.
Внизу — лес, речка. Видны небольшие прогалины, поляны.
— Приготовь ракету, — в голосе командира ни малейшего волнения.
— Лучше без подсветки, — возразила Руфа. — Немцы же кругом.
«Она права, — подумала Лейла, — не стоит привлекать лишнее внимание. Да и толку от ракеты… Ну, разгляжу, что на прогалине пни, все равно высоту не наберешь. Была не была».
— Хорошо, Руфа. Видишь прогалину? На нее и сядем.
— Лелечка, мало ли что… Давай на всякий случай…
— Опять за свое? Прекрати разговоры. Держись крепче, готовься…
Самолет тряхнуло. Пробежав несколько метров, он зацепил крылом дерево, круто, со скрежетом, развернулся и, подогнув шасси, застыл.
Первой очнулась Руфа. Расстегнув ремни, приподнялась. Лейла сидела неподвижно, уткнувшись лбом в приборную доску. На плече у нее, раскинув руки и ноги, лежал Буратино.
— Лелечка, очнись.
Лейла не шелохнулась.
Руфа вылезла на крыло, приподняла голову подруги, прошептала:
— Слышишь? Очнись!
Лейла медленно открыла глаза, покрутила головой.
Тишину разорвали автоматные очереди, над лесом взлетели ракеты.
«Неужели нас ищут? — испуганно подумала Лейла. — Наверно заметили самолет да фоне неба. Или услышали треск. Надо бежать, пока не поздно».
— Руфа, — она схватила подругу за руку, — к речке! Ты штурман, прокладывай курс.
Пробежали несколько шагов — Лейла остановилась.
— Стой! Буратино… Я мигом.
Она вернулась к самолету, схватила талисман, прислушалась. Стрельба прекратилась. Никакого движения.
— Вовремя спохватилась, — прошептала она, подойдя к Руфе. Засунула Буратино за пазуху. — Немцы, вроде, и не думают нас искать.
Речку они обнаружили быстро. Сбросили с себя комбинезоны, шлемы, затолкали их в воду, под корягу. Остались в гимнастерках.
Руфа глянула на звезды, махнула рукой:
— Нам туда.
Долго шли по лесу. Когда забрезжил рассвет, вышли на открытое место, увидели дорогу.
— Надо где-то спрятаться, — сказала Лейла. — Днем идти опасно. Как-никак, мы ночные ведьмы.
Недалеко от дороги они обнаружили воронку от бомбы, решили, что лучшего укрытия не найти, и, прижавшись друг к другу, затаились. Вскоре услышали далекие голоса. По дороге проносились автомашины, мотоциклы. Снова послышалась чужая речь. Голоса приближались. Девушкам показалось, что немцы идут прямо к воронке. Лейла вынула пистолет, оттянула затвор.
— Я в этот момент, — вступила в разговор Руфа, — посмотрела на Лелечку и пожалела: «Так и не успели проститься. Говорила ведь ей, а она — прекрати разговоры… Так было тяжело на душе».
— А я, — рассмеялась Лейла, — подумала: только бы Руфа не увидела мышь, которая копошилась на краю воронки.
— Я ее раньше тебя заметила и ни капельки не испугалась, — в голосе Руфы звучала гордость. — Она меня не трогала, занималась своим делом.
Немцы шли, не торопясь, их было двое. Девушки решили: это связисты, тянут провод. Немного успокоились, хотя немцы были от них в нескольких шагах. Наконец голоса стали удаляться.
Ночью, выбравшись из воронки, они наткнулись на провод — догадка подтвердилась.
— Слышишь? — спросила Руфа.
— Что?
— Наш «По-2».
Девушки замерли. Лейла услышала милый сердцу рокот, когда самолет уже удалялся. Как бы наверстывая упущенное, быстро зашагали к линии фронта. Кругом то и дело вспыхивали ракеты. Приходилось прижиматься к земле, затаиваться, потом идти снова. Неожиданно недалеко от них затарахтел пулемет, над головами засвистели пули. Лейла отпрянула в одну сторону, Руфа — в другую.
Пулемет умолк, они ползали в темноте и шепотом звали друг друга:
— Лейла… Лейла… Где ты?
— Я здесь. Слышишь, Руфа?
Столкнувшись лбами у края воронки, они скатились в нее, крепко обнялись, словно встретились после долгой разлуки. Воронки попадались на каждом шагу, фронт был близко. Вскоре они увидели железнодорожную насыпь.
— Надо перейти, — сказала Лейла. — Только выберем удобный момент, чтобы наверняка.
Они установили, что немцы пускают ракеты, освещая насыпь, не как попало, а через определенные промежутки времени. Такая ритмичность была на руку девушкам.
— Бежим! — скомандовала Лейла, когда очередная ракета догорела.
Едва они перемахнули через полотно, как застучал пулемет, за ним шторой, третий… Стреляли со всех сторон, так им показалось. Они решили, что их заметили, залегли в густом кустарнике. Наконец перестрелка прекратилась. Возможно, немцы в самом деле обнаружила их, приняли за разведчиков и открыли огонь. Не задумываясь особенно над этим, Лейла и Руфа поползли дальше.
— Ты слышишь? — шепотом спросила Руфа.
— Опять наши?
— Нет, лягушки квакают.
— Не слышу, но это неважно. Важно другое: там плавни. Ползем туда.
Вскоре они действительно наткнулись на болото, заросшее камышом.
— Надо выбрать укромное местечко, — сказала Лейла. — Скоро начнет светать.
— Хорошо бы найти остров, — Руфа улыбнулась. — Необитаемый. С козой.
Обследуя берег, они набрели на большую корягу, почти всю погруженную в воду. Со всех сторон ее окружала стена камыша. Кое-как разместились.
— Тебе удобно? — спросила Лейла.
— Сижу, как в кресле.
— Считай, что твои лягушки спасли нам жизнь. Немцы сюда не сунутся. Одно плохо — ни козы, ни кокосовых пальм, а есть хочется. Ты тоже проголодалась?
— Еще как. Давай затянем ремни потуже, я где-то читала, что это помигает.
Лейла промолчала. На востоке занималась заря, а на противоположной стороне небосвода еще мерцали звезды.
— Ты что загрустила? — обеспокоенно спросила Руфа. — О чем задумалась?
— У меня сегодня день рождения.
— Лелечка, поздравляю! — Руфа прижалась к подруге. — Как жаль, что подарить нечего. — Она сунула руки в карманы, загадочно улыбнулась. — Есть. Есть подарочек, сейчас. Ни за что не догадаешься. Вот!
На ладони Руфы лежали четыре семечка подсолнуха.
— Спасибо! — Лейла сразу повеселела. — Давай разделим. Больше нет?
Обшарили все карманы, но ничего съедобного не обнаружили. Затянули потуже ремни. О дне рождения больше не вспоминали — не до того.
— Будем дремать по очереди, — предложила Лейла, привлекая Руфу к себе. — Положи голову мне на грудь. Вот так. Попробуй уснуть.
Вокруг ухали пушки, минометы, раздавались пулеметные очереди, а здесь, где-то посередине «голубой линии», пригретые майским солнцем, дремали две девушки. К ним подлетали болотные кулики и, удивленно попискивая, отходили в сторону, переставляя длинные ножки.
Заметив какое-то движение на кочке, Лейла невольно вздрогнула. Лягушка! Тяжело дыша, та выпучила глаза на незваных гостей.
— Красавица ты моя, — нежно прошептала Лейла. — Потерпи еще немного, мы скоро уйдем.
Когда настала ее очередь подремать, она сказала:
— Руфа, посмотри на кочку. Видишь? Наша спасительница. Мы, наверное заняли ее пляж.
Не только поспать, даже подремать толком девушкам не удалось: тревожные думы не давали покоя.
«Ослабеем от голода, — беспокоилась Лейла. — Протянем ноги где-нибудь в плавнях и исчезнем навсегда. Были и нет. Обидно — до своих рукой подать, а тут… Были бы продукты, можно было бы дождаться нашего наступления, оно не за горами. Никогда еще так не хотелось есть. У меня, кажется, температура. Только этого не хватало. Руфа одна не пойдет, шагу не сделает. Может быть, напрасно мы сразу пошли к линии фронта. Недалеко от развилки дорог — станица. Запаслись бы продуктами. Нет, наверно, немцы в каждом доме. Лучше умереть с голоду».
И Руфу одолевали мрачные мысли: «Как мы пройдем через немецкие позиции? Даже если пройдем — свои могут подстрелить. Или подорвемся на минах. Один шанс из тысячи. А Лейла уверена, что все будет хорошо. Может быть, у нее есть какой-нибудь план. Умереть вместе, сразу — это меня не пугает. И не сразу, например, от голода — согласна. Только не плен».
Ноги затекли, одеревенели. Маловат островок, не разгуляешься.
Наступил вечер.
— Лейла, не пора?
— Подождем немного. Через плавни не пройти. Надо выбраться на сухой берег.
В небе опять засверкали ракеты.
— Магуба и Женя нас видели, — сказала Руфа. — Спешили на выручку. Внизу во всю горели машины и можно было спокойно заходить на цель, но они бросили САБ — чтобы отвлечь на себя внимание.
— Да? — воспрянула Лейла. — Значит, знают, что нас не сбили. Может быть, видели, как мы снижались над лесом. Беспокоятся, конечно, но надеются, что выберемся. Ждут. Это лучше, чем увидеть горящий самолет.
— И то, и другое плохо, — возразила Руфа. — Хорошо, если выберемся, а если нет? Будут думать, что мы разбились, потеряли сознание, и немцы нас сцапали.
— Ну, ну, — улыбнулась Лейла и, чтобы ободрить подругу, сказала: — Мели дальше, язык без костей.
— Что… дальше? — растерялась Руфа. — Ты почему улыбаешься?
— Как почему? Лелечка, стреляй прямо в сердце, не промахнись, давай прощаться, пока не поздно…
— Ничего смешного нет, — запротестовала Руфа, хотя сама не смогла сдержать улыбки, так похоже Лейла воспроизвела ее интонацию.
— Не сердись.
— Разве я могу на тебя сердиться?
— Я, наверно, неудачно пошутила, прости меня.
— Вот теперь ты говоришь глупости, товарищ командир.
Лейла преобразилась — скомандовала:
— Вперед, штурман! Даешь «голубую линию»!
Они доползли до зарослей кустарника, стали осторожно пробираться на восток. Вступив в лес, поднялись и, как тени, заскользили между деревьями. Руфа шла впереди, Лейла след в след за ней — так меньше шума. Слева и справа постреливали пулеметы. Когда близко вспыхивала ракета, они замирали. Тьма сгущалась. «Может быть, мы уже перешли линию фронта?» — подумала Лейла, и в этот момент Руфа вдруг остановилась, попятилась. Лейла обняла подругу и почувствовала, как колотится ее сердце. Хрустнула ветка. Лейла инстинктивно шарахнулась в сторону, увлекая за собой Руфу. Обе упали.
Шагах в пятнадцати от них затрещали два автомата, пули, как шершни, проносились над головами, срезали ветки, впивались в стволы деревьев.
Когда стрельба прекратилась, они услышали немецкую речь. Лейла осторожно достала пистолет. Руфа лежала рядом. Шагов не слышно. «Что они тут делают? — подумала Лейла. — Шли нам навстречу? Ночью от линии фронта, в тыл — зачем? Замолчали, стоят, прислушиваются. Какой-нибудь пост? Подумают — померещилось. Пробежал зверек… Главное — не шуметь».
Они лежали, боясь пошевелиться. Немцы перебросились несколькими фразами, потом один из них стал прохаживаться вправо, влево, напевая песенку. «Успокоились, — удовлетворенно подумала Лейла. — Только бы не чихнуть, не кашлянуть. В речке вода была холодная, вот и простудилась. Один, наверно, лег спать. — Она напряженно всматривалась в темноту. — Что же делать? Чуть не изрешетили нас, гады».
Прошло часа два, начало светать. Вытянув шеи, они разглядели шалаш и немца. Он сидел у входа, положив автомат на колени, и клевал носом.
Девушки переглянулись и, как ящерицы, поползли а сторону. Потом поднялись и быстро, без оглядки зашагали по темному, тихому лесу Когда совсем рассвело, остановились. Пора было искать убежище на день.
— Ты почему там в лесу сразу замерла? — спросила Лейла. — Услышала что-нибудь?
— Да. Кто-то заговорил.
— Хорошо с тобой ходить по тылам противника, — у Лейлы был веселый, беззаботный голос. — В разведке тебе цены бы не было.
— Тебе бы тоже. Ты никогда не теряешься.
— Знаешь что, Руфа, нам надо осмотреться, — Лейла показала на высокий дуб. — Заберешься?
— Конечно. Когда-то я любила лазать по деревьям.
Она подпрыгнула, ухватилась за нижний сук и, подтянувшись, скрылась в зеленом шатре, Лейла прислонилась спиной к теплому, шершавому стволу, осмотрелась. Прямо перед глазами — край небольшого оврага, поросшего кустарником. «Вот и убежище, — решила она. — Может быть, на дне есть вода. Укроемся ветвями, поспим. Не то, что в воронке. И простуда пройдет…»
В лесу не было ни одного дерева, которое война обошла бы стороной. Срезанные осколками, печально поникли высохшие, почерневшие ветви, много было обгорелых и поваленных деревьев. Куда ни глянь — каски, колеса автомашин, куски брезента, стреляные гильзы. Весна в меру своих сил врачевала израненную землю, покрывая ее зеленой муравой.
— Следы невиданных зверей, — прошептала Лейла и горько вздохнула.
Кустик на краю оврага дрогнул, и Лейла увидела человеческую руку. Достала пистолет…
Руфа поднялась до середины дерева, решила передохнуть, глянула в сторону и оторопела: в рогатке ветвей лежали стрелянные винтовочные гильзы. «Одна, две, три, четыре, — зачем-то пересчитала она. — Гнездо «кукушки»! Снайпер может вернуться сюда в любую минуту. Убьет Лейлу!» В то же мгновенье она услышала голос подруги:
— Стой! Руки вверх!
Руфа скользнула вниз по стволу, спрыгнула на землю.
Перед Лейлой с поднятыми руками на краю оврага стоял молодой солдат, удивленно переводя взгляд с одной девушки на другую.
— Наш, — не веря глазам, одними губами прошептала Руфа. — Наш.
Видимо, не верила и Лейла.
— Кто такой? — строго спросила она. — Не шевелись, буду стрелять.
— Не будешь, — добродушно сказал парень и улыбнулся. — Вы же свои, я вижу.
— Ладно, опусти руки. Почему без оружия? — продолжала допрос Лейла.
— Да вот в овражек спустился, к роднику.
— Где командир?
— Тут, близко…
В отсутствие Лейлы пришло письмо от Ахмета. Прочитав его, она сказала:
— Мой Меджнун в госпитале. Ничего опасного, несколько царапин, как он пишет, но…
— Если не получит письма от тебя, умрет от любви, — закончила я за нее.
— Вот именно, — рассмеялась Лейла. — Надо спасать человека.
Она принялась за письмо, а мы с Женей пошли в сад, где были укрыты самолеты. Сели на скамейку.
— Вот и сбылось наше желание — девочки вернулись, — сказала Женя. — Удивительное совпадение, правда? А кто такой Меджнун?
— Юноша-поэт, герой древних арабских легенд. Он был влюблен в красавицу Лейлу. Ее отец, богатый, жестокий феодал, был против их брака. Юноша покинул селение, стал скитаться по пустыням, подружился с дикими зверями и птицами, читал им свои стихи, посвященные Лейле, и они его отлично понимали, сочувствовали ему. Люди решили, что поэт сошел с ума. Меджнун значит безумный, одержимый джинами. А Лейла по-арабски — ночь.
Об этой истории узнал один арабский царь и приказал разыскать юношу, привести его к нему. Приказ был исполнен. Царь стал попрекать Меджнуна за его безумства, за то, что он, такой одаренный, красноречивый, обладающий многими совершенствами, предпочел обществу людей диких животных, и все это из-за какой-то девчонки. Поэт ответил, что красота Лейлы оправдывает его поступок. Если бы ты, сказал он, обращаясь к царю, увидел мою возлюбленную, то не стал бы корить меня. Тогда царь приказал доставить во дворец Лейлу. Ее привели. Он посмотрел на хрупкую, смуглую девушку и пожал плечами: «Самая некрасивая из моих жен прекраснее твоей Лейлы. Возьми из моего гарема любую красавицу себе в жены, забудь эту дурнушку и живи в моем дворце». Меджнун отказался. Надо знать Лейлу с детства, как знаю ее я, сказал он, и надо смотреть на нее моими глазами, чтобы оценить ее достоинства. Отец девушки был неумолим. Меджнун вернулся в пустыню.
Его стихи о Лейле люди передавали из уста в уста, переписывали. Ее отец — феодал возмущался, считал, что такая слава позорит его дочь и решил убить Меджнуна. Но поэта охраняли львы, тигры, барсы и другие дикие звери, они пропускали к нему только его друзей.
Вскоре отец выдал ее замуж за богатого человека. Она перешла жить к нему, но близко к себе не подпускала. Муж смирился: он был рад и тому, что может любоваться такой красавицей.
Меджнун, узнав, что Лейла вышла замуж, чуть не умер от горя. Потом он получил от нее письмо, в котором она сообщала, что верна ему. Немного успокоившись, Меджнун написал ответ.
Вскоре муж Лейлы заболел лихорадкой и умер. Ей не было его жалко и, почувствовав свободу, она прибежала к Меджнуну в пустыню. Дикие звери пропустили ее. Друг поэта поставил для влюбленных шатер и ушел. Лейла и Меджнун пробыли вместе одни сутки. От счастья они часто теряли сознание.
Опьяненный ласками возлюбленной, Меджнун в порыве вдохновения побежал в пустыню, там сочинял и пел песни. Лейла вернулась к матери и скоро умерла. Когда Меджнуну сообщили об этом, он упал, как будто его сразила молния. Умер он на могиле Лейлы.
Восемь веков назад великий азербайджанский поэт Низами на основе народных сказаний написал поэму «Лейли и Меджнун». И другие поэты тоже писали об этих влюбленных. Так что теперь ты будешь знать, кто такой Меджнун.
— Восточный вариант «Ромео и Джульетты», — задумчиво сказала Женя. — За четыреста лет до Шекспира. Останусь жива, обязательно прочитаю. Какая я невежда.
— Свои письма к Лейле Ахмет всегда подписывает «Твой Меджнун».
— А она… побежит за ним в пустыню?
— По-моему, нет. У нее есть другой Меджнун, которому она верна. Тоже, как в том предании, знают друг друга с детства.
— Бедный Ахмет… — покачала головой Женя. — А тот, первый, почему он не пишет Лейле? Мне девочки говорили.
— Не знаю. Разлюбил, наверно.
— Разве можно ее разлюбить? Такую красавицу. По-моему, она ни в чем не уступает своей прославленной восточными поэтами тезке.
— Она-то не уступает, а вот он… — Я не нашлась, что и сказать. Женя, вздохнув, посочувствовала Лейле:
— Тяжело ей. Или я ошибаюсь?
— Не ошибаешься. Очень тяжело.
— И ничем нельзя помочь. Своему сердцу не прикажешь, а чужому тем более. Встретить бы мне этого Меджнуна, я бы с ним поговорила. Не оценить такое сокровище… — И, вздохнув, спросила: — Ты давно дружишь с Лейлой?
— Я знала ее, когда она была еще подростком, — ответила я. — С той поры и люблю ее, как младшую сестру.
Мы помолчали. Мне на память пришел наш разговор о метеорите. Очень уж интересно Женя тогда рассказывала. Не забыла ли?
— Ты обещала досказать…
— Да, помню, — встрепенулась Женя и рассмеялась: — Видишь ли, если мы с тобой не вмешаемся, тайна Тунгусского метеорита, возможно, никогда не будет разгадана. Предположений много. По одному из них, это был осколок планеты Фаэтон, которая когда-то находилась между орбитами Марса и Юпитера, но потом по непонятным причинам взорвалась, распалась.
В одном из древнегреческих мифов рассказывается, как Фаэтон, сын Гелиоса, бога солнца, решил прокатиться по небу на огненной колеснице отца. Гелиос отговаривал юношу: дорога опасная, слева и справа подстерегают чудовища, самое страшное из них — огромный Скорпион. Кони пугаются, удержать их будет трудно, но сын настоял на своем.
Фаэтон не смог справиться с крылатыми конями, выпустил вожжи. Кони свернули с привычной дороги, покатили колесницу вниз, к земле. Покрытые лесами горы вспыхнули, закипели моря и океаны, реки испарились, земля стала трескаться. Фаэтон с пылающими кудрями пронесся по небу и рухнул на землю. Его похоронили нимфы на берегу реки Эридан. На могилу пришли сестры юноши. Боги превратили их в тополя, а слезы деревьев — в прозрачный янтарь.
Женя замолчала, поглядела на рассветное небо, будто и там искала отзвуки далекого времени. Потам заключила:
— В основе мифа, по-видимому, какое-то реальное событие, воспоминание о грандиозной катастрофе…
Я не перебивала ее, слушала, и она продолжала:
— Астрономы давно обратили внимание, что между орбитами Марса и Юпитера существует неестественно большой разрыв, нарушающий общую гармонию солнечной системы. Там должна быть планета, решили они. Направили туда телескопы и одну за другой открыли четыре планетки. Дали им имена: Церера, Паллада, Юнона, Веста. Планеты малюсенькие, самая большая — 800 километров в поперечнике. Из них только одну, Весту, можно увидеть невооруженным глазом, если точно знать, куда смотреть. Потом были открыты сотни астероидов — так стали называть эти небесные тела. Все они намного меньше «большой четверки» — просто каменные глыбы. Их очень много, как предполагают ученые, — сотни миллионов. Если их соединить, получится планета величиной с Марс. Большинство астрономов считают, что астероиды — осколки когда-то существовавшей планеты. По предложению одного советского ученого эту условную планету назвали Фаэтоном. Некоторые астероиды пересекают орбиту Земли. Один из этих скитальцев, Икар, так близко подходит к солнцу, что раскаляется докрасна. Встреча с таким астероидом очень опасна, он может пробить твердую оболочку Земли, как яичную скорлупу. Тунгусский метеорит, возможно, был небольшим астероидом. Огромные кратеры на Луне, во всяком случае часть из них, — следы падения гигантских метеоритов. На Земле подобные «раны» обнаружить трудно: она успела залечить их — промыла водой, высушила ветром, прикрыла зеленью, просто затянулись.
— Раны, которые наносит война, — сказала я, — залечить труднее. Когда-то люди сражались дубинами, убивали друг друга, но Земля почти не страдала, а теперь… Если фашистам дать волю, они изобретут такое оружие, нанесут Земле такие раны — не помогут ни воды, ни ветры, ни зелень. Рунт говорила, что Гитлер уже пугает весь мир каким-то секретным сверхоружием.
— Нас, конечно, не запугаешь, но Германию надо разгромить как можно скорее. Каждый час дорог, а наши союзнички не торопятся…
Женя вскинула голову:
— Смотри сколько самолетов.
Над станицей в лучах еще невидимого солнца в сторону Новороссийска неслись краснозвездные «Ильюшины», «Петляковы», «Яковлевы», «МиГи».
Ночь триста тридцать седьмая
Весну 1943 года военные историки назвали весной великих ожиданий. С середины апреля на всех фронтах установилось небывалое за всю войну затишье. Только в воздухе шли ожесточенные бои, да на Малой земле десантники отбивали яростные атаки немцев. Всем было ясно: после весенней паузы грянет летняя кровавая буря.
Линия фронта шла почти прямо от Ленинграда до Черного моря, лишь в одном месте на запад выдавался огромный выступ, названный позднее Курской дугой. Изучая карту, мы снова без особого труда разгадали замысел фашистского командования: нанести удары в основание выступа с юга и севера, срезать его и окружить находящиеся там советские войска. Ждали, конечно, и наступления Красной Армии — по всему фронту.
Наша стратегическая мысль снова оказалась на высоте: как потом выяснилось, Гитлер еще в середине апреля подписал приказ о проведении операции «Цитадель». Этому наступлению, говорилось в приказе, придается решающее значение, оно должно завершиться быстрым успехом. Гитлеровцы отчаянно жаждали реванша за поражение под Сталинградом, они готовы были сжечь в огненном пекле новые сотни тысяч солдат, лучшие дивизии, лучшее оружие, лишь бы снова оказаться на коне. Победа под Курском, вещал Гитлер, станет факелом для всего мира. В этом «факеле», как известно, гитлеровская «Цитадель» сгорела дотла.
Весной Советское командование поставило перед военно-воздушными силами очень важную задачу: до начала летних решающих сражений добиться господства в воздухе. Над «голубой линией», затем над другими участками советско-германского фронта разгорелись невиданные воздушные бои. За полтора месяца только в кубанском небе было сбито более тысячи немецких самолетов. Здесь сражались многие прославленные советские летчики, в том числе будущий трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. Наша авиация бомбила и вражеские аэродромы. Всего с апреля по июнь гитлеровцы потеряли более трех с половиной тысяч самолетов. Приказ Верховного Главнокомандования военно-воздушные силы выполнили: господство в воздухе было завоевано, в дальнейшем оно неуклонно возрастало и к концу войны стало подавляющим.
Лейле отдали резервный самолет. Она с Руфой, я с Женей и еще два экипажа получили задание нанести удар по одному из отдаленных аэродромов противника. Охранялся он усиленно: много зениток, пулеметов, больше десятка прожекторов, но ночью его не бомбили, так что рассчитываем на внезапность.
Первая пара, планируя, заходит на цель. Мы различаем силуэты самолетов. Сейчас они сбросят САБы, И вдруг внизу вспыхнули две цепочки огней… Взлетная полоса! По таким сигнальным огням поднимаются и садятся самолеты. Я вижу темную громаду бомбардировщика, выруливающего на старт. «Хана тебе, голубчик, — мелькнула мысль. — Отлетался». САБы нам не понадобятся…
Четыре бомбы отделились от самолета Лейлы. Они еще в воздухе, а из кабины штурмана вываливаются одна за другой зажигалки — термитные бомбочки, начиненные смесью, которая при взрыве дает температуру три с половиной тысячи градусов.
Всплески огня, взрывы. Вспыхнули прожекторы, заработали зенитные пушки, но их снаряды рвутся где-то высоко в облаках. Чтобы исправить ошибку, изменить прицел, зенитчикам потребуется не меньше минуты, нас это вполне устраивает.
Аэродром — как на ладони. Видны самолеты, укрытые в капонирах. Не один и не два. Я отсчитываю про себя секунды, жду желанного возгласа Жени «Пошли!». Время тянется долго, мучительно долго.
Наконец дождалась. Дав полный газ, я проношусь между голубоватыми, рассекающими ночь смерчами, жду, что Женя крикнет: «Попали!» Но она молчит, хотя внизу грохочут взрывы, бушует пламя. Гляжу в зеркало — она копошится в кабине, как белка в дупле.
— Ты чего вертишься?
— Не могу найти…
— Что?
— Бомбу!
Самолет летит сквозь рой трассирующих пуль, каждая из них — как маленькая шаровая молния. Луч прожектора полоснул сзади, у меня похолодела спина. Вырваться из этого ослепительного яркого тоннеля, ведущего прямо на тот свет, пока не удается.
— Нашла! — в голосе Жени такая радость, словно она обнаружила осколок Тунгусского метеорита. — У-у, проклятая…
Термитная бомбочка полетела за борт. Я резко взяла ручку на себя — самолет устремился вверх. А внизу неожиданно раздался адский грохот, вспышка озарила, как мне показалось, всю «голубую линию». Воздушная волна подхватила «По-2», и он, содрогаясь, взлетел к звездам, как скоростной истребитель, сам Покрышкин позавидовал бы такому маневру. Немцы нас потеряли. Как говорит Лейла, мы улизнули, сверкнув пятками.
— Вот это да! — восхищенно воскликнула Женя. — А я ее ругала.
— Кого?
— Да бомбу эту. Наверно, в бензохранилище угодила. Все еще горит, как здорово.
«Хорошо, что высота была приличная, — облегченно подумала я, — иначе мы бы тоже все еще горели». Уточнив курс, Женя запела:
Не смеют крылья черные Над Родиной летать, Поля ее просторные Не смеет враг топтать…Припев горланим втроем: Женя, я и мотор:
Пусть ярость благородная Вскипает, как волна. Идет война народная, Священная война…На аэродром мы вернулись последними.
Подбежала Лейла, обняла меня, закружила:
— Летаем! Воюем!..
Давно я не видела ее такой оживленной.
Немцы обстреляли только два самолета, и оба — целехонькие! Сгрудившись у края аэродрома, мы все вместе пьем чай, молча любуемся далекими отблесками пожара.
На новое задание, в район Новороссийска, полетели не с обычными бомбами, а с кассетами, начиненными зажигательными ампулами. С таким грузом надо обращаться очень осторожно.
Бершанская несколько раз повторила:
— При взлете будьте предельно внимательны, прошу вас, и тем более при посадке, если по каким-либо причинам придется приземляться с кассетами.
Успели сделать по три-четыре вылета, все шло нормально. Наступил рассвет, я заходила на посадку последней, подумала: «Слава богу, задание выполнили, кажется, все вернулись благополучно». Заруливая на стоянку, увидела: с самолета Лейлы техники сняли неиспользованную кассету, но не придала этому значения. У подбежавшей Радиной спросила:
— Все живы-здоровы?
— С экипажами полный порядок, Магуба, а машины, как всегда, нуждаются в нашей срочной помощи. Поздравляю с благополучным возвращением.
— Спасибо, милая, — я вылезла из кабины. — А что у Лейлы с кассетой?
— Еле отцепили, дужка погнулась. А мотор не барахлил?
— Нет, Зиночка. Работал, как часы…
Пришла я в общежитие, сняла комбинезон, стою перед зеркалом, причесываюсь. Появилась Лейла и — с размаху кулаком по подушке.
— Ненормальная! — проворчала сердито.
— Кто?
— Руфа! — она повернулась ко мне. Лицо бледное, брови сдвинуты.
— Что случилось? — встревожилась я не на шутку.
— Ты представляешь, что она выкинула? — Лейла всплеснула руками. — Правая кассета не отцепилась, я пыталась стряхнуть ее над целью, ничего не вышло, делать нечего, легла на обратный курс. Предупредила Руфу: расстегни ремни, как приземлимся, выпрыгивай на ходу и отбегай в сторону. Она спросила: «А ты?» А что я, отвечаю, посажу самолет как надо, уже светает, ничего не случится. И вдруг Руфа говорит: «Вылезу на крыло, попробую отцепить». Я крикнула: не смей! Она свое: «А вдруг кассета сорвется при посадке? Она, наверно, чуть держится». И вылезла на крыло. Что мне было делать? Лечу ровно, как на боевом курсе, думаю: «Ну, покажу я тебе на земле, где раки зимуют!» Дотянулась она до кассеты, помучилась, ничего сделать не смогла — та как припаянная. Вижу: выдохся мой милый штурман, вернуться в кабину у нее нет сил. Вот-вот свалится с крыла. Говорю ласково: Руфиночка, милая моя, не нервничай, попробуй подтянуться. Кое-как она добралась до моей кабины и совсем обессилела. Говорит: «Не могу больше». Я ей: душечка моя, дорогая, бесценная, ну еще чуточку, совсем немного осталось. Попыхтела она изрядно, добралась, свалилась в свою кабину. Ну, тут я отвела душу: бестолковая! — кричу, — сумасшедшая! Она сидит, помалкивает. Ты представь — как бы я вернулась без штурмана? Да я бы сама выбросилась.
Никогда, ни раньше, ни позже, я не видела Лейлу такой возбужденной. «Неужели, — подумала с горечью, — такой экипаж распадется?» А вслух спросила:
— Бершанской доложила?
— А как же, конечно, доложила.
— Ну, не расстраивайся, все кончилось хорошо. Руфа, конечно, виновата, но она же хотела сделать как лучше, беспокоилась за самолет, за тебя.
Лейла неожиданно рассмеялась.
— Тебе весело? — удивилась я.
— Очень! — с вызовом ответила она. — Плакать мне, что ли? Пусть Руфа плачет.
— Где она?
— У Бершанской.
— Что же теперь будет? Как Бершанская реагировала на твой доклад?
— Да вроде тебя, мне потому и смешно стало: хорошо, что все обошлось, Гашева виновата, но проявила самоотверженность, хотела спасти боевую машину. Похвалила меня за посадку. Спросила: «Что ты предлагаешь?» Я, конечно, не хочу, чтобы она строго наказала Руфу. Говорю: главное, чтобы она больше никогда не вылезала из кабины без моего разрешения. Вашего внушения будет достаточно. Бершанская закурила, подумала немножко, говорит: «Штурман Гашева получит устное предупреждение. Если повторится подобное, отстраню от полетов». Ты об этом никому не рассказывай.
— Могла бы не предупреждать, — обиделась я.
Лейла обняла меня, и обида моя мгновенно улетучилась.
Появилась Руфа — расстроенная, с пылающими щеками.
— Ты что так долго? — как ни в чем не бывало спросила Лейла. — Мы тебя заждались. Пошли, выпьем вина… Умираю, хочу спать!
Мы никогда не вспоминали об этом случае.
Ночь триста тридцать восьмая
Мы с Рудневой сидели на своей любимой скамейке в саду. Ждали задания.
— Какие хорошие стихи посвятила тебе Галя Докутович, — сказала я и, с нежностью глядя на Женю, прочитала:
Рассказала ты чудесную сказку, И сама ты на сказку похожа! В нашей жизни, простой и суровой, Ты как солнечный зайчик весной…Немного помолчали.
— Расскажи что-нибудь, — попросила я.
— Нет, Магуба, твоя очередь, — неожиданно запротестовала Женя. — Все я да я. Хочу сегодня сама послушать. Расскажи мне сказку.
— Какую? — растерялась я.
— Ну, народную татарскую. Про любовь, про верность.
В детстве я слышала от бабушки множество сказок. Перебираю их в памяти, волнуюсь.
Мне по душе Женина просьба. Кажется, вспомнила.
— Один джигит, — начала я рассказывать, — захотел жениться. Долго выбирал себе невесту, но так и не выбрал. У каждой находил какой-нибудь недостаток. Ну и раздумал жениться, решил: лучше остаться холостяком, чем жить с недостойной женой.
Прошло несколько лет. Однажды в деревню, где жил этот джигит, приехали заморские купцы и рассказали, что посредине Аральского моря есть остров, на котором обитают удивительно красивые девушки. Они высматривают корабли, заманивают путешественников, осыпают их цветами, уводят во дворец и, странное дело, никто с острова не возвращается. Исчезают люди, и все. Что с ними происходит, никто не знает. Ходят разные слухи. Одни говорят, что путешественников сжигают живьем, другие — что им отрубают головы, третьи — что они женятся на островитянках и живут припеваючи.
Остров весь в садах, речки и озера блестят, как серебряные, посредине зеленый холм, на вершине которого белокаменный дворец, окруженный фонтанами. Корабль, на котором плыли эти купцы, подошел близко к острову, они видели девушек, очень хотели высадиться, но капитан почему-то испугался, не разрешил. Девушки бежали по берегу, тянули к кораблю руки, но капитан даже головы не повернул. Один из купцов посмотрел на остров в подзорную трубу и разглядел девушку, которая прогуливалась возле дворца. Такой красавицы, рассказал он, не найти даже в раю. Нарядная, стройная, вся светится, как полумесяц в майскую ночь, косы до пят. Купец чуть в воду не бросился, но капитан схватил его за шиворот и столкнул в трюм.
Услышав эту историю, джигит вскочил на коня и помчался к Аральскому морю. Половину пути проскакал, вдруг видит: на камне сидит старуха. Хотел проехать мимо, но конь сам остановился. «Отдохни, джигит, — сказала старуха, — и коню дай отдохнуть, а то не доскачет он до Аральского моря».
Джигит понял, что перед ним не простая старуха, а волшебница, слез с коня, поздоровался.
Покачала она головой и говорит: «Знаю, на остров хочешь попасть, невеста тебе нужна. Только без моей помощи ты пропадешь. Слушай меня внимательно. Хозяин того острова — злой колдун. У него во дворце триста девушек, одна другой краше, он их похитил еще маленькими в разных странах. Самая красивая, триста первая, как раз по тебе, он выдает ее за свою дочь, но это неправда, она родом из твоей деревни, дочь бедного пастуха, сирота, которую он похитил.
Тебя ждут три испытания. Встретят тебя приветливо, проведут во дворец, хозяин усадит тебя на мягкий ковер рядом со своей дочерью, будет угощать вином и яствами. Потом предложит сразиться с его телохранителем-шайтаном. Пообещает отдать тебе красавицу-дочь, если ты возьмешь верх в этом поединке. Это первое испытание. Дай-ка мне твой меч…»
Старуха взяла у джигита меч, что-то пошептала над ним, отдала обратно.
«Соглашайся, — продолжала она, — на этот поединок, я твой меч заговорила, шайтана ты одолеешь. Второе испытание потруднее. Хозяин острова не выполнит своего обещания, прикажет запереть тебя в железный сарай. Девушки обложат его со всех сторон хворостом, подожгут, сарай раскалится докрасна…»
Старуха протянула ему чашку с кумысом и предложила: «Выпей!»
Джигит, не раздумывая, выпил.
«Теперь ничего страшного с тобой не случится, — продолжала старуха. — Встанешь посредине сарая да пот со лба утрешь. Когда сарай остынет, девушки откроют дверь и ты выйдешь.
Третье испытание самое трудное, и тут я тебе ничем не могу помочь. Даже не стану говорить, такое оно, сам узнаешь, если не передумаешь и не повернешь обратно».
«Не поверну!» — крикнул джигит и вскочил на коня.
«Ну, тогда скачи дальше», — сказала волшебница и пошла прочь.
Прискакал джигит к Аральскому морю. Увидел корабль, попросил капитана перевезти его вместе с конем на остров.
«Это нам по пути, — ответил капитан, — только сами мы высаживаться не будем».
Подошел корабль к острову, спустили сходни, джигит вместе с конем сошел на берег. Дальше все произошло так, как предсказывала старая волшебница. Он победил шайтана, вышел целым и невредимым из остывшего сарая. Снова привели его во дворец, усадили на ковер рядом с красавицей. Вошел хозяин острова, в руках у него алмазный топор.
«Вызываю тебя, джигит, на поединок, — сказал он, сладко улыбаясь. — Одолеешь меня — получишь мою дочь».
«Вот оно, третье испытание», — подумал джигит и повернулся к девушке, чтобы посмотреть на нее в последний раз. Глядят они друг на друга, в глазах любовь и печаль, того и гляди — заплачут. А колдун перебрасывает алмазный топор из руки в руку, посмеивается…
— Женя Руднева — к командиру полка! — раздался звонкий голос дежурной.
— Иду! — крикнула Женя и повернулась ко мне: — Чудесная сказка, потом доскажешь, ладно? Подожди меня здесь, Магуба.
Вернулась Женя через полчаса.
— Немцы усилили противовоздушную оборону «голубой линии», — сообщила она. — Два экипажа получили задание: пролететь вдоль фронта, вызвать на себя огонь зенитных батарей и засечь их. На одном самолете полетят Наташа Меклин и Полина Гельман, на втором — Ира Себрова и я.
Как штурман полка Женя Руднева не обязана была летать на боевые задания. Но она летала постоянно. Время от времени ей надлежало контролировать работу пилотов, особенно малоопытных. Ира Себрова — отличная летчица, одна из лучших в полку, ни в каком контроле не нуждается. Но Женя летит с ней… «Наверно, сама напросилась», — подумала я, но промолчала.
Самолеты улетели.
Вместо того, чтобы с выключенными моторами подкрадываться к цели, девушки будут дразнить немцев: мы здесь, открывайте огонь. В душе у меня все перемешалось: восхищение, зависть, тревога, уверенность, что все кончится хорошо.
Отважная четверка выполнила задание и вернулась на аэродром. Правда, оба самолета словно одеты в лохмотья, в крыльях зияют дыры — кулак пролезет. А девушки стоят перед командиром полка, свежие, как розы. Собранные ими данные о новых огневых средствах противника были немедленно отправлены в штаб дивизии.
В эту ночь нам было не до сказок. А утром, едва встретившись, Женя с улыбкой напомнила:
— Значит, хозяин острова поигрывает алмазным топором… Досказывай, что дальше?
— В это время, — стараясь воспроизвести таинственную бабушкину интонацию, начинаю я, — у входа раздался шум, и девушки ввели шестерых молодых купцов, только что прибывших на остров. Хозяин очень обрадовался, стал рассаживать гостей, а красавица придвинулась к джигиту и шепнула: «Он колдун, его можно победить только его же оружием, алмазным топором».
Когда все уселись, начался поединок.
Колдун, перебрасывая топор из рук в руки, дразнит юношу, приноравливается, с какой стороны вступать в бой. И вдруг джигит — цап! — перехватил на лету волшебный топор, размахнулся, и голова колдуна покатилась по ковру.
В тот же день на острове сыграли семь свадеб.
— Все? — спросила Женя, словно ожидая продолжения. — Чего замолчала?
— Все, — с улыбкой развела я руками.
— Бик якши![2] — воскликнула Женя, и мы обе рассмеялись. — И так в жизни бывает: парень ищет, ищет, а женится на соседской девчонке. Но дойти до нее нелегко: надо победить нечистую силу.
Ночь триста шестьдесят пятая
Уже несколько месяцев мы носим гордое звание гвардейцев, на груди у нас — почетные значки, но только сегодня командующий 4-й воздушной армией генерал Вершинин вручает нам гвардейское знамя.
Командиры, политработники, пилоты, штурманы, механики, техники — весь личный состав полка — выстроились на зеленой поляне. На нас парадная форма: гимнастерочки, юбки, хромовое сапоги. Незримые, рядом с нами стоят погибшие пилоты и штурманы, на правом фланге — Евдокия Носаль, первая в полку удостоенная звания Героя Советского Союза.
Командующий зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР.
Командир полка опустилась на колено, поцеловала знамя. На алом полотнище вышито: «46-й гвардейский авиационный полк». Бершанская выпрямилась, и в торжественной тишине зазвучал ее сильный голос:
— Товарищи гвардейцы! Принимая гвардейское Знамя, мы даем клятву советскому народу, Коммунистической партии, Советскому правительству: высокое звание гвардейцев оправдаем с честью в жестоких боях с врагом. Мы, женщины-воины, гордо пронесем гвардейское Знамя через фронты Отечественной войны до окончательного разгрома врага. Будем преданно служить Родине, защищать ее мужественно и умело, не щадя своих сил, крови и самой жизни.
— Клянемся! — прозвучал мощный хор.
— Будем свято хранить и множить славные боевые традиции русской гвардии, советской гвардии!
— Клянемся!
— Не пожалеем жизни, чтобы отомстить фашистским извергам за разрушение наших городов и сел, за истребление советских людей.
— Клянемся!
— Клянемся своим гвардейским знаменем, своей гвардейской честью, что пока видят наши глаза, пока бьются наши сердца, пока действуют наши руки, мы будем беспощадно истреблять фашистских разбойников. Мы не успокоимся до тех пор, пока не лишим врага последнего дыхания.
— Клянемся!
— Проклятие и смерть фашистским оккупантам! Слушай нас, родная земля! С гвардейским знаменем под водительством Коммунистической партии мы пойдем к победе до полного изгнания врага из пределов нашей любимой Родины!
— Клянемся!..
Бершанская передала знамя знаменосцу полка — Наташе Меклин. Слева и справа от нее вытянулись по стойке смирно ассистенты — штурман Глаша Каширина и техник Катя Титова.
Поют трубы, гремят литавры, радостно трепещут сердца. Алое шелковое полотнище, окаймленное золотой бахромой, развевается на ветру, с него, как живой, глядит в глаза каждому из нас Владимир Ильич Ленин.
Незабываемые, святые минуты…
На торжество прибыли «братцы» и «сестренки» из полка пикирующих бомбардировщиков имени Марины Расковой. Они громят врага днем, здесь же, на нашем фронте, а мы ночью. Со многими из них Лейла, Женя, другие девушки полка подружились еще в Энгельсе. Есть о чем вспомнить.
За боевыми успехами друг друга мы следим по газетам, потому рассказам нет конца. По нашей просьбе начальник оперативного отдела штаба полка имени Расковой Катя Мигунова поведала нам о недавнем сражении эскадрильи бомбардировщиков с «Мессершмиттами» в районе станицы Киевская.
…Девять «Петляковых» вылетели на задание. Прошло полтора часа, и на аэродроме девушки ждали их возвращения.
— Летят! — раздался наконец радостный возглас.
Но… без обычного разворота, с ходу на посадку один за другим заходили только пять самолетов. Машины истерзаны: множество пробоин, сорвана обшивка…
Ведущая эскадрильи Женя Тимофеева доложила командиру полка майору Маркову:
— Задание выполнено. Над целью нас атаковали истребители противника. Мы вели с ними бой, сбили четыре «Мессершмитта-109», но и сами понесли потери: самолеты Шолоховой, Долиной, Скобликовой и Федотовой сбиты. Судьба экипажей неизвестна…
— Подробности доложите на КП, — сухо сказал командир полка.
Как выяснилось, их истребители прикрытия, вступив в бой с «мессерами», скрылись в облаках. Когда «Петляковы» подходили к цели, из-за облачности пришлось снизиться до тысячи метров. На эскадрилью обрушился шквал зенитного огня. И снова — «мессеры». А прикрытия нет! На каждом самолете — более тонны бомбового груза. Ведущая приказывает снизить скорость, сомкнуть строй и организованным огнем отбивать атаки истребителей. Наконец отбомбились, сфотографировали результаты удара. В это время из-за облаков вынырнули еще восемь вражеских истребителей. Вся эта свора набросилась на одно звено, намереваясь сбить ведущего, нарушить строй и по одиночке уничтожить наши самолеты.
Штурманы и стрелки-радисты открыли но «мессерам» огонь из пулеметов. Гитлеровцы отвернули, но сразу же снова начали атаковать «Петляковых» с разных направлений. Эскадрилья держала строй. Вспыхнули один за другим два «мессера». Но отстают машины Шолоховой, Долиной, Скобликовой. «Мессершмитты» продолжают наседать, их черные кресты так и мелькают перед глазами девушек. Ведущая снизила скорость — строй «Петляковых» сохранялся.
Еще два «мессера» загорались и рухнули на землю. Лишь одна мысль занимала девушек: «Не отказали бы пулеметы, не кончились патроны!» Наконец — линия фронта. «Мессеры» отстали — побоялись заходить на нашу территорию.
Над утро в штаб сообщили: самолет Федотовой благополучно приземлился на прифронтовом аэродроме, экипаж готовится к вылету «домой».
Наступил рассвет — о судьбе других экипажей никаких известий. Командир полка не спал всю ночь: звонил по телефону, запрашивал наземные войска — не знают ли что-нибудь о судьбе девушек-летчиц?
Вскоре самолет Кати Федотовой благополучно приземлился на родном аэродроме. Несколько часов спустя совершил посадку еще один «Петляков». По номеру определили — экипаж Скобликовой. Но из машины вышли шесть девушек — два экипажа! Все живы и невредимы. И хотя приближался вечер и не было никаких сведений об экипаже Лели Шолоховой, отличной летчицы, девушки ждали, не уходили с аэродрома, без устали крутили ручку полевого телефона. Неожиданно в землянку КП влетела дежурная:
— Привезли экипаж Шолоховой! На транспортном самолете. Они ранены…
Оказалось, последний из поврежденных «Петляковых» приземлился в речных плавнях.
Не потеряв ни одного экипажа, девушки выполнили боевое задание и сбили четыре «Мессершмитта»!
Заглянем вперед: пять девушек этого авиаполка стали Героями Советского Союза.
На этом вечере мы вспомнили, конечно, и «сестренок» из полка истребителей, которые сражались на другом фронте. Еще весной мы прочитали в армейской газете об очередном их подвиге:
«Обнаружив группу вражеских «бомбардировщиков типа «Юнкерс-215» и «Дорнье-215» в количестве 42 самолетов, летчицы-истребители Тамара Памятных и Рая Мурначеская вступили в бой, сбили четыре вражеских самолета, остальные повернули на запад»…
А всего девушки-истребители обили 39 фашистских самолетов.
Оба полка наших «сестренок» по ряду причин были «разбавлены» мужчинами, только наш, Таманский, с начала до конца войны оставался чисто женским.
Мы «спросили у «сестренок», строгий ли у них командир. Одна из них ответила:
— Мы все очень волновались — кого назначат вместе Марины Михайловны. Прилетел майор Марков. Перво-наперво осмотрел несколько самолетов. Сделал замечание девушке-вооруженцу: «Пулеметы сказаны слишком густо, стрелять не будут». У той еще улыбка с лица не сошла, а в глазах — слезы. Видим — смутился. Приказал построиться. Первые его слова: «Я ваш новый командир. Предупреждаю, буду спрашивать с вас строго. Никаких скидок на то, что вы женщины, не ждите. Прошу это запомнить…» Мы следили за каждым его шагом, все примеряли а как бы поступила Раскова? Трудно ему было с нами первое время. В общем, очень строгий, но много общего в характере с Мариной Михайловной, к такому мы пришли выводу: человечный, скромный, справедливый. Опытный, бесстрашный летчик. Он не намного старше нас, но мы за глаза называем его Батей…
Погода была нелетная, и вечер наш затянулся. Пели, танцевали. Мы с Лейлой исполнили свой коронный номер: спели дуэтом татарскую народную песню «Кара урман».
Женя увлекла меня в сад, неожиданно спросила:
— Ты знаешь стихи Тукая?
Я улыбнулась.
— Конечно, знаешь. А я нет, только по наслышке. Почитай что-нибудь и переведи.
Я прочитала несколько стихотворений, с ходу перевела.
— Его саз звучал недолго, — сказала я. — Он прожил всего двадцать семь лет.
— Как Лермонтов, — тихо сказала Женя.
— Да, только у Тукая жизнь сложилась по-другому. Он лишился отца, когда ему было полтора года. Мать вышла замуж за муллу соседней деревни, мальчик остался на попечении бедной бабушки. Однако мать его очень любила, забрала к себе, но вскоре умерла. Вспоминая детство, Тукай писал: «Я в муках жил…», «Бродил по миру сиротой, среди могил…» Габдуллу отправили в деревню к деду. У бедного старика шестеро детей, сам не знает, как сводить концы с концами. Упросили проезжего ямщика отдать изнуренного голодом мальчика кому-нибудь в Казани на воспитание. Приютила его семья кустаря. Хозяин и хозяйка заботились о нем, как о собственном ребенке, но внезапно заболели и отправили малыша, обратно к деду. А тот, не чая, как от него избавиться, отдал на воспитание крестьянину из деревни Кырлай. Там Тукай жил до девяти лет. Потом у него объявилась родственница в Уральске, забрала к себе.
В 1907 году он приехал в Казань, стал печататься… Мизерные гонорары, жизнь впроголодь. Короче, полная неустроенность. А у него чахотка. Болезнь обострялась с каждым днем, и Тукай таял, как свечка. Несмотря на плохое здоровье, побывал в Нижнем Новгороде, Астрахани, Уфе, Петрограде. Весной 1913 года умер в казанской больнице. Так вот безвременно и оборвалась жизнь поэта. А его стихами и поэмами зачитываешься. Может, потому, что он сумел выразить в своих произведениях всю душу народа, ненавидел националистов, «толстобрюхую знать». Своими учителями он считал Пушкина, Лермонтова, переводил их и других русских поэтов на татарский язык. В одном из его стихотворений есть строки:
Пушкин — море! Море — Лермонтов! В небе вечности сверкай, Негасимое созвездие: Пушкин, Лермонтов, Тукай!Демократ по убеждению, он дружил с первым татарским большевиком Хусаином Ямашевым. Говорят, Максим Горький плакал, слушая переводы его стихов.
— Да, трудно представить, сколько песен он унес с собой в могилу, — Женя помолчала. — И каких песен. Только гений мог в таких условиях и за такой короткий срок стать классиком.
Ночь четыреста двадцать пятая
Самая ужасная ночь в истории нашего полка: выполняя задание, над целью сгорели сразу восемь наших девушек: Галя Докутович, Глаша Каширина, Аня Высоцкая, Женя Сухорукова, Соня Рогова, Лена Саликова, Валя Полунина, Женя Крутова.
Полеты остановили. Восемь коек — как восемь могил. Койки Гали Докутович и Глаши Кашириной стоят рядом. Одна тумбочка на двоих. На ней — стеклянная банка с полевыми цветами…
К Гале Докутович в полку относились с особой нежностью. Она училась до войны в Московском авиационном институте, была одним из лучших штурманов полка, мечтала стать пилотом. Год назад с ней произошло несчастье: после очередного боевого вылета, ожидая, когда техники отремонтируют самолет, она легла на траву около аэродрома, уснула и на нее в темноте наехал бензовоз. С поврежденным позвоночником ее отправили в госпиталь. Через полгода она вернулась в эскадрилью, снова стала летать, хотя это давалось ей нелегко. Бершанская неоднократно предлагала ей перейти на штабную работу, но Галя не соглашалась. Без неба для нее не было жизни.
И Глаша Каширина мечтала стать пилотом. Снова и снова я представляла, как она в длинной не по росту юбке, босиком, с пистолетом в узелке идет по степи, мечтая, как о высшем счастье, о встрече с родным полком… Как ведет в темноте одинокий самолет, управляя одной рукой и приподнимая другой залитое кровью тело подруги. Звучит в ушах ее надломленный голос: «Дуся убита». Нет, она шепчет: «Я убита… Мы убиты…»
В ту страшную ночь полк получил задание нанести удары по сильно укрепленному району «голубой линии». Эскадрильи одна за другой дважды отбомбились, все экипажи благополучно вернулись на аэродром. И снова самолеты выруливают на старт. Первой летит эскадрилья Тани Макаровой. Задание прежнее — бомбить огневые точки в районе станицы Крымской.
В ночь ушел самолет командира звена Жени Крутовой со штурманом Леной Саликовой. Это был один из лучших экипажей в полку. Женя летала с 1937 года, до войны работала пилотом-инструктором Чебоксарского аэроклуба, успела подготовить двадцать летчиков. Она никогда не терялась даже в очень сложных ситуациях. Однажды совершила вынужденную посадку на дно оврага. Награждена двумя орденами.
Над целью самолет попал в паучьи лапы пяти прожекторов, но зенитные орудия и пулеметы огня не открывали. В темноте над станцией кружил фашистский истребитель, он как коршун бросился на добычу и с близкого расстояния, почти в упор, расстрелял беззащитный «По-2». Прожекторы погасли. Подлетел второй самолет — все повторилось. И так четыре раза. Самолеты вспыхивали и падали, рассыпая красные и зеленые искры — в кабинах штурманов взрывались ракеты.
Все экипажи, кроме первого, понимали, что происходит, маневрировали и продолжали выполнять задания. И выполнили. Те, кто попал в лучи прожекторов, погибли. Помочь им было невозможно — на истребитель бомбы не сбросишь…
Молча мы лежали в своих постелях. Никто не спал… Ночь скорби.
— Мы будем мстить, — беззвучно шепчу я, — до последней военной ночи.
Днем Бершанская собрала летный состав. Как всегда — подтянутая, внешне спокойная, но ужасная ночь не прошла бесследно: заметнее стали морщины у глаз и седых волос прибавилось. «Как ей трудно», наверно, сейчас», — подавляя вздох, подумала я. Вспомнились строчки Глаши Кашириной, посещенные командиру полка:
Мы все ее любим, и каждая тайно мечтает сплети ее в жарком бою, без шума и пафоса, будто случайно, отдать за нее жизнь и силу свою…Вспомнила я в эти минуты и рассказ Лейлы о том, как Бершанская в дни отступления однажды сама подыскала подходящую площадку для нового аэродрома и спасла полк, вывела его из-под танкового удара. Но война есть война — прошлой ночью фашисты перехитрили нас, мы потерпели поражение.
На разбор полетов, как обычно, пришли Рачкевич и Рунт.
— За полчаса мы потеряли восемь боевых подруг, — негромко сказала Бершанская. — Давайте восстановим события прошедшей ночи во всех подробностях, выявим ошибки, подумаем, что мы можем противопоставить тактике врага.
Пилот Розанова и штурман Студилина — единственный экипаж, который наблюдал гибель всех четырех самолетов. Послушаем их.
— Мы стартовали четвертыми, — рассказала Лариса Розанова. — Примерно на полпути увидели: над целью в лучах прожекторов маневрирует «По-2». А зенитки и пулеметы почему-то молчали. Это нас насторожило. Самолет загорелся, хотя обстрела не было. «Погибли Женя Крутова и Лена Саликова», — тоскливо подумала я. Прожекторы погасли, а на земле полыхал костер.
Снова вспыхнули прожекторы, поймали второй самолет. Над ним вспыхнула желтая ракета, и тут же в темноте, над «По-2», замелькали вспышки выстрелов. Мы поняли: в воздухе немецкий истребитель. Горящий самолет медленно падал. По времени мы определили — это был экипаж Ани Высоцкой и Гали Докутович. Прожекторы погасли. В этот момент мы пересекали линию фронта.
Как в страшном сне — третий «По-2», пойманный прожекторами, летит над Крымской. Это был самолет Вали Полуниной и Глаши Кашириной. На очереди — мы. Что предпринять? О возвращении и мысли не было. Не могли же мы вернуться с бомбами и доложить командиру полка: вернулись, потому что испугались.
Третий экипаж на наших глазах стал добычей ночного стервятника. Надя крикнула: «Я приготовила пистолет!» Спрашиваю: сколько до Крымской? Штурман отвечает: «Примерно восемь километров». Принимаю решение: подойти к цели на самой малой высоте. Даже если попадем в лучи прожекторов, истребитель побоится пикировать, атаковать нас в темноте на бреющем полете. Это и днем опасно. Убрала газ, высота быстро падает. Стали видны белые домики и темные пятна — сады.
«Высота четыреста метров», — доложила Надя. Прошли станицу, я развернула самолет. Высота меньше трехсот метров. Пришлось нарушить инструкцию, но другого выхода я не видела. Мы могли погибнуть от своих же бомб, но это лучше, чем стать живой мишенью для «мессера».
Надя сбросила бомбы на цель, все сразу. Взрывная волна ударила по самолету. Вспыхнули прожекторы. Лучи шарят в небе, а я продолжаю планировать. Высота меньше двухсот метров. Даю газ. Немцы услышали рокот мотора, начали палить из автоматов. Надя крикнула: «Еще один!» Я оглянулась и увидела в вышине «По-2», схваченный четырьмя прожекторами. Подумала: это Соня Рогова и Женя Сухорукова, они стартовали вслед за нами.
Набираю высоту. Обреченный «По-2» вспыхнул, как факел. Мне казалось, что я слышу, как кричат девушки. Гляжу на горящую машину, как загипнотизированная, не могу отвести глаз. И вдруг над нами вспыхнул свет, пулеметная очередь хлестнула по самолету, он содрогнулся, пули прошили правую плоскость рядом с кабиной. Я разглядела силуэт истребителя, он со свистом пронесся мимо и пропал в темноте. «Сейчас вернется», — додумала я, приглушила мотор и резко отвернула в сторону. Видимо, «мессер» выходил из пике после атаки на самолет Роговой и наткнулся на нас случайно. Осветил фарой, дал очередь, но нам повезло…
Наташа Меклин и ее штурман Лида Лошманова, подлетая к цели, тоже увидели самолет в лучах прожекторов, удивились, что зенитки молчат. Над «По-2» мелькнула тень, вспыхнула желтая ракета, Наташа по цвету определила — немецкая, поняла: истребитель подал сигнал зенитчикам: «Я — свой». Цепочка трассирующих снарядов — «По-2» вспыхнул. Наташу охватила дрожь. Она стала кружить вокруг цели, набирая высоту. Нельзя идти напролом на верную гибель, решила она, но задание должно быть выполнено. На размышление — несколько минут. Лида доложила: «Высота тысяча пятьсот метров». Наташа сказала: «Бросай САБ». Приглушив мотор, стала лавировать между лучами прожекторов. Истребитель кружил где-то поблизости. Бомбы пошли на цель. Высота триста метров. Наташа включила мотор и направилась к линии фронта. А над целью уже горел еще один «По-2»…
Экипаж Марины Чечневой и Ольги Клюевой стартовал в ту ночь восьмым. Они тоже были очевидцами трагедий — два экипажа погибли на их глазах — поняли, в чем дело, и решили, как и Лариса Розанова, подойти к цели на минимальной высоте. Маневр удался, Ольга без помех сбросила бомбы на цель. Самолет подбросило, Чечнева продолжала некоторое время снижаться, потом дала газ, развернулась, стала набирать высоту. Прожекторы их не нащупали, но из выхлопных патрубков мотора вырвалось пламя, и немцы обстреляли самолет из «Эрликонов». Не попали.
Выступила Лейла, сказала, что немцы отлично знают, с какой высоты мы обычно сбрасываем бомбы.
— «Мессер» кружил на высоте семисот метров, — продолжала она, — жертвы сами летели к нему в пасть. Потери могли быть меньше, если бы все экипажи, разгадавшие замысел врага, действовали так же находчиво, как Розанова, Меклин, Чечнева. Чтобы побеждать фашистов, одной смелости мало, необходимо еще умение творчески решать боевые задачи.
Инструкция предписывает проводить бомбометание с высоты шестисот метров. Подняться выше — штурман не разглядит цель, спуститься ниже — можно погибнуть от осколков своих же бомб, кроме того, «По-2», летящий на высоте двухсот — трехсот метров, могут сбить даже из автомата. И все же инструкцию мы не должны превращать в шаблон. Ее составители, умные, знающие люди, не могли предусмотреть всего, и прошедшая ночь подтвердила это. Все четыре «По-2» погибли одинаково, все экипажи, избежавшие ловушки и вернувшиеся с победой, действовали по-разному…
Лейлу поддержала Женя Руднева:
— Высокое мастерство, умноженное на жгучую ненависть к врагу, плюс разумная голова на плечах — вот что такое настоящая смелость.
Разбор полетов на этот раз затянулся. В заключение Бершанская сказала:
— Полк будет продолжать боевую работу. Мы получили суровый урок, но у фашистов не хватит истребителей, чтобы надежно прикрыть все объекты. А против одиночных «мессеров» у нас есть оружие — это высшая смелость, о которой здесь говорили. Мы сумеем отомстить за гибель боевых подруг. Горе не сломит нас. Выше головы!
Так «без шума, без пафоса» восемь девушек отдали жизнь за всех нас, за Родину. После войны гвардии подполковник Евдокия Яковлевна Рачкевич установила место их гибели. Останки наших незабвенных подруг покоятся в братской могиле на площади в селе Русское, недалеко от станицы Крымской.
Ночь четыреста тридцать вторая
Фашистского аса за сбитые четыре самолета представили к награде, обещали ему в ближайшее время внеочередной отпуск, его портрет напечатали в газете, но с той памятной ночи в его душе поселился страх. Во время полетов ему казалось, что его высматривают горящие ненавистью глаза советских летчиков, которые ждут только удобного момента, чтобы расправиться с ним. Один из его приятелей выбросился из горящего самолета с парашютом, ветром отнесло его прямо в окопы малоземельцев — теперь русские наверняка знают номер его машины. Страх усилился, «победитель ночных ведьм», как окрестили его газетчики, чувствовал себя обреченным. Впрочем, это чувство испытывал не он один: огромные потери в воздушных боях, изумительная отвага и мастерство советских летчиков, потрясающая живучесть их новых машин, катастрофа на Курской дуге, необъяснимая, нечеловеческая стойкость малоземельцев — все это превратило многих вчерашних крикливых, компанейских забияк в настороженных, угрюмых одиночек.
Глаза мстителя, которые виделись ему в ночных кошмарах, он увидал наяву — советский истребитель летел ему навстречу, лоб в лоб. «Не сверну!» — решил Эрих Вайнер, но не выдержал, рванулся вверх, подставив брюхо «мессера» под снаряды и пуля. Последнее, что он увидел, — еще один «Ла-5», пикирующий на него…
Закончив полеты, мы направились в столовую и увидели там группу летчиков-истребителей из соседнего полка. С ними был незнакомый пожилой человек в штатской одежде. Летчики коротко рассказали нам, как они выследили ночного стервятника.
— Он пошел вниз, как комета, — сказал один из них, — взорвался над плавнями.
Мы поблагодарили летчиков, стали спрашивать, какие истребители лучше — немецкие, американские, английские или наши. Они как-то странно посмотрели на человека в штатском. Заинтригованные, мы тоже, как по команде, уставились на него.
— Что же, девушкам надо знать, — он оглядел нас серьезными, усталыми глазами. — Я из конструкторского бюро, специалист по истребителям. Попробую коротко ответить на ваши вопросы… Наши истребители встретились с «Мессершмиттами-109» впервые в испанском небе. Ястребки Поликарпова, который сконструировал и ваш замечательный «По-2», дрались с «мессерами» на равных, даже кое в чем превосходили их. Это в какой-то мере пошло нам во вред. Драматизм успеха. Мы не учли, что немецкие конструкторы сразу же стали устранять недостатки своих машин, выявленные в ходе боев. Задержка с созданием новых моделей истребителей, отвечающих самым высоким требованиям современной войны, дорого обошлась нам.
Мессершмитт — умный конструктор, убежденный фашист. В гитлеровскую партию вступил одним из первых. Его истребитель, длиннохвостый, такой неуклюжий на вид, очень прост, послушен в воздухе, умеет вертеться и доступен пилотам самой низкой квалификации.
Мы довольно быстро поняли свою ошибку. Перед конструкторами была поставлена задача — в короткие сроки создать истребители, превосходящие лучшие зарубежные машины. В 1940 году из десятка проектов было отобрано для серийного производства три. Победу в конкурсе несколько неожиданно одержали молодые конструкторы: Яковлев, Микоян с Гуревичем и Лавочкин с Горбуновым и Гудковым.
Истребитель «ЛаГГ-1» в серию не пошел, его создателям было предложено довести машину, увеличить дальность полета вдвое. Усовершенствованный истребитель «ЛаГГ-3» — четные номера, как вы, наверно, знаете, даются у нас бомбардировщикам, поэтому «ЛаГГ-2» не было — на испытаниях пролетел тысячу километров и пошел в серию.
Летом 1940 года немцы продали нам несколько своих боевых самолетов. Никаких секретов они, конечно, не открыли: эти машины уже участвовали в массовых боевых операциях. Хотели, по-видимому, убедить нас в своем миролюбии, хотя в это время их генеральный штаб уже разрабатывал план нападения на нашу страну, план «Барбаросса». Мы смогли убедиться — наши истребители ничуть не хуже, а кое в чем и лучше. Но «мессеры» были более доведенными. К началу войны «МиГов», «Яков», «ЛаГГов» у нас было еще очень мало. Мы успели обновить свои военно-воздушные силы менее чем на 20 процентов.
В чем превосходство наших истребителей? Главным образом в живучести. Приведу пример. В феврале 1942 года в воздушном бою под Сталинградом летчик Алексей Гринчик атаковал группу «мессеров». Одного сбил, второго подбил. Немцы стреляли по нему со всех сторон — попадания одно за другим, снаряд разорвался в моторе. Гринчик стал планировать. Фашисты расстреливали «ЛаГГ», как учебную мишень. Крылья и фюзеляж — как решето, из перебитых трубопроводов хлещет бензин, течет масло, фонарь кабины сорван, а самолет летит. Взбешенные гитлеровцы стреляли почти в упор. Один из них увлекся, оказался впереди «ЛаГГа», Гринчик чуть-чуть довернул машину и дал длинную очередь. «Мессершмитт» взорвался. «ЛаГГ» приземлился на своем аэродроме. Алексей Гринчик и сейчас летает.
От фронтовых летчиков, однако, поступало много нареканий. Лавочкин учел все пожелания и претензии летчиков, сконструировал новый отличный скоростной истребитель, но как внедрить его в производство, не снижая выпуска уже освоенных машин? Серия есть серия. Война — фронт требует тысячи самолетов. Если задерживается выпуск хотя бы одного самолета, об этом докладывают Верховному. Заменить даже одну гайку — огромная проблема. Надо учитывать и труд ремонтников, которые во фронтовых и прифронтовых условиях возрождают за считанные часы и минуты поврежденные самолеты.
Конструктор Лавочкин сумел, не меняя технологии, не снижая выпуска боевых машин, дать летчикам новый истребитель «Ла-5» — качественно новый, еще более живучий, чем его предшественник, И скорость «Ла-5» на 50 километров в час выше, чем у «мессера». Битву умов выиграли наши конструкторы. Как утверждают зарубежные газеты и журналы, Гитлеру пришлось испытать величайшее разочарование.
Надо еще учесть, что нам пришлось эвакуировать большое число авиационных заводов на восток. У каждого завода — около двухсот заводов-смежников. Тысячи эшелонов…
Превосходство наших истребителей над всеми зарубежными неоспоримо, и мы продолжаем совершенствовать их, постоянно поддерживаем связь с фронтовыми летчиками. Вот так обстоят дела. Есть у вас еще вопросы ко мне?
За вопросами бы дело не стало, но мы понимали, что у нашего гостя лишнего времени не бывает. За всех ответила Лейла:
— Нам все ясно. Спасибо.
Уже после войны я узнала, что трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб все свои шестьдесят два вражеских самолета сбил, летая на истребителях дважды Героя Социалистического Труда Семена Алексеевича Лавочкина. Одним из первых прославленный советский летчик на модернизированном «Ла-5» настиг и разнес в куски появившийся в 1944 году реактивный «мессер». Другой прославленный советский ас Александр Покрышкин, лично уничтоживший 59 немецких самолетов, в конце войны тоже летал на «Ла-5». Два воздушных богатыря истребили более 120 вражеских самолетов — смели с неба целую армаду!
Проводив гостей, мы вернулись в столовую. Настроение было приподнятое, девушки оживленно обменивались репликами:
— Кошмарная работа у авиаконструкторов.
— Может быть, это был сам Лавочкин? На «ЛаГГи» нажимал.
— Весной в газетах была его фотография, вроде не похож.
— Значит, его зам.
— По живучести мы первые, это самое главное.
— Молодцы истребители, угробили того пирата, недолго радовался…
Позавтракать мы не успели — в открытое окно заглянула дежурная по аэродрому и крикнула:
— Воздушный бой!
Я всю жизнь восхищалась Летчиками-истребителями и не упускала ни одной возможности понаблюдать, как они на огромной скорости, с изумительным мастерством плетут свои немыслимые кружева в глубинах неба. Истребитель — летающее оружие, слитое с пилотом, у него нет вращающейся турели, как у бомбардировщика, пушки и пулеметы закреплены намертво и стреляют только вперед. Чтобы поразить врага, летчик должен прицеливаться в него всем самолетом. Удивительная легкость, с которой истребитель выписывает головокружительные фигуры, — кажущаяся, нервы пилота, все его жилы натянуты до предела. Воздушные бои были для нас не зрелищем, а высшей военной школой.
Обычно воздушные сражения происходили вдали от нашего аэродрома и на большой высоте, ничего толком разглядеть было нельзя даже в бинокль, но самолеты, преследуя друг друга, пролетают десятки километров, отдельные схватки мы наблюдали во всех подробностях.
Утро была тихое, ясное. Первое, что мы увидели, — окантованный огнем, чадящий немецкий бомбардировщик, с тоскливым воем и нарастающей скоростью несущийся вниз. Он скрылся за холмом, и к небу взметнулись пламя взрыва, дым, земля дрогнула. В ту же минуту раздалось наше дружное «Ура!» В саду с деревьев посыпались яблоки.
От «голубой линии» в наш тыл направлялись одиннадцать «Юнкерсов» — теперь их было десять — в сопровождении четырех «мессеров». Наших истребителей было шесть. Строй бомбардировщиков распался. Почти одновременно зачадили еще четыре «Юнкерса», остальные разлетались врассыпную, сбрасывая бомбы куда попало. Один из «мессеров» превратился в огненный шар, второй, кувыркаясь, падал, как нам показалось, прямо на наш аэродром.
Мы, как всегда, активно поддерживали наших летчиков, неистово хлопали в ладоши, кричали, давали советы, предупреждали об опасности.
— Цепляйся за хвост!
— Не сворачивай, жми!
— Долбани сверху!
— Так его!
— «Мессер» справа!..
Если бы наши соколы могли слышать нас, у немцев на Таманском полуострове не осталось бы ни одного самолета.
Задымил наш истребитель, вспыхнуло крыло. Мы замерли. Летчик пытался сбить пламя, резко, уверенно маневрировал, клочья огня отлетали прочь от самолета, казалось, еще усилие, и все будет в порядке, но огненные змейки упорно ползли к кабине.
— Прыгай! Прыгай! — отчаянно кричали мы, уверенные, что летчик нас слышит.
Его борьба с огнем продолжалась очень долго, секунд пятнадцать, пламя сбить не удалось, и он выбросился с парашютом. Белый купол опустился на вершину далекого кургана, мы снова задрали головы, но ни одного самолета уже не было видно.
Молча постояли мы у ямы, в которой догорали останки одного из поверженных «мессеров». Попинали обломки, бросили в яму несколько камней и пошли в столовую.
Но оказалось, воздушный бой еще не кончился. Из-за облака показались два истребителя: «мессер» и «Ла-5». Наш летчик висел на хвосте у немца и находился чуть выше — идеальная позиция для атаки. Мы ждали, что вот-вот грянет очередь, и конец еще одному стервятнику. Но советский летчик не торопился. Ожиданию, сказалось, не будет конца, девушки не выдержали, заговорили разом:
— Хочет в упор, наверняка.
— Может, идет на таран?
— Точно!
Мы замерли. Таран нам видеть еще не приходилось. И вдруг — та-та-та… — раздалась короткая очередь. Пули прошли над самой кабиной фашистского истребителя.
— Промазал…
— Чуть бы пониже.
— Наверно, ранен, кровь заливает глаза, потому и промахнулся…
Я готова была поверить этому, но «Ла-5» прибавил скорость, обошел «мессера» справа, сделал боевой разворот — на 180 градусов с набором высоты — и снова оказался позади и выше вражеского самолета. Маневр был выполнен безупречно — не похоже, что летчик ранен.
— Он прижимает «мессера» к земле, — предположила я. — Хочет посадить на наш аэродром.
Девушки дружно поддержали меня:
— Правильно, Магуба. Правильно!
— Указал дорогу и снова сел на хвост!
— У немца кончился боекомплект, но вдруг он сам пойдет на таран?
— Не пойдет, фашисты таран не применяют, кишка тонка…
Еще одна короткая очередь — на этот раз пули прошли справа от «мессера», он послушно отвернул влево и, снижаясь, направился прямо на нас.
С пистолетами в руках мы выстроились вдоль посадочной полосы.
Оба самолета приземлились с интервалом в несколько секунд. Из «Ла-5» выпрыгнул коренастый, смуглолицый летчик, кинулся к «мессеру», вскочил на крыло. Когда мы подбежали, к нашим ногам вывалился долговязый немец. Все это произошло очень быстро.
— Хенде хох! — хором крикнули девушки, направив на поверженного врага пистолеты.
Немец встал и, прижавшись спиной к фюзеляжу, медленно поднял руки.
— Рус-мадам… Рус-мадам… — залопотал он.
Кто-то из девушек язвительно заметил:
— Какой галантный.
Наш летчик уже успел обезоружить врага — бросил на траву «вальтер» и нож. Подойдя к пленному, сорвал с него планшет, ощупал карманы.
— Это Ахмет, — шепнула мне на ухо Лейла. Глаза ее сияли, щеки разрумянились.
«Вот он какой», — подумала я, разглядывая летчика. Суровое, скуластое лицо, огненно-карие глаза, между бровями — резкая складка, на лбу — капельки пота. На вид ему было лет двадцать пять. Повернувшись к нам, он сдернул с головы шлем, улыбнулся.
— Общий привет!.. Лейла?!
— Ахмет… здравствуй. Ты ранен?
Только теперь мы заметили, что с левого рукава летчика капает кровь.
— Пустяки. Не думал, что встречу тебя. Явился без подарка. Впрочем, вот, — он показал здоровой рукой на «Мессершмитт». — Дарю!
Лейла приложила руку к груди, слегка наклонила голову, улыбнулась.
— Я тебя провожу в медпункт, идем.
— Царапина, я даже не почувствовал, — в нем еще не остыл жар боя. — Где ваш командир? Надо сообщить в штаб…
— Она все видела, сообщит. Пошли.
Девушки наперебой поздравляли Ахмета с победой, давали шутливые советы Лейле:
— Не отказывайся от подарка, на «По-2» обменяем.
— Можно и не менять, перекрасим, освоим, в гости будем летать.
— В санаторий — туда и обратно.
— Почту возить.
— В хозяйстве пригодится…
Ахмет и Лейла ушли, мы снова обступили немецкого летчика. Он, видимо, понял, что расстреливать его мы не собираемся, стоял, заложив руки за спину, и с любопытством разглядывал нас.
Девушки оживленно заговорили:
— Что с ним делать?
— Женя, спроси у него, нравятся ли ему ведьмы.
— Отвоевался, гад летучий!
— Очухался, а когда нас увидел, душа в пятки ушла.
— Женя, ты что молчишь? Допрашивай!
Подошла Бершанская с двумя солдатами из батальона аэродромного обслуживания. Они увели пленного.
— Техникам осмотреть оба самолета, заправить, — распорядилась Евдокия Давыдовна. — Их скоро заберут. Накормите нашего сокола, скажите, что его ждут в штабе дивизии. Пленного тоже доставят туда. Этот «язык» очень кстати.
— Наш летчик ранен, — сказала я. — Рана, видимо, не опасная.
— Отправим на санитарном самолете. Это Ахмет Султанов, старший лейтенант, у него три ордена.
— Вы его знаете? — раздался удивленный голос.
— Нет, — улыбнулась Бершанская. — Я сообщила в штаб номер его машины, мне сказали, кто ее хозяин. Перед отлетом пусть зайдет ко мне…
Ахмету сделали перевязку, и мы наконец приступили к завтраку. Перед гостем поставили полную кружку сухого вина, он чокнулся с нами, но пить не стал. А мы выпили свою норму — по сто граммов. Крепче спать будем.
— Расскажи, как тебе удалось притащить сюда «мессера», — попросила Лейла.
Она сидела слева от Ахмета, спокойная, сдержанная, как всегда. Он тоже не проявлял своих чувств, даже как мне показалось, избегал смотреть на Лейлу. «Боится выдать себя, — подумала я. — Надо оставить их вдвоем».
— Я вел огонь по «Юнкерсу», — Ахмет оживился и, как все летчики, рассказывая, начал жестикулировать, видимо, рана дала себя знать, он поморщился и рассмеялся, — «Мессер» налетел сбоку, зацепил меня. Ушел вверх, — он очертил здоровой рукой в воздухе полукруг. — Я слежу за ним краем глаза. Вижу: атакует одного из наших, скалится, а огня нет — то ли отказало оружие, то ли кончился боезапас. Отвернул от меня и — деру. Я за ним. Догнал у самой линии фронта. Дал сверху короткую очередь, пули прошли у него перед носом. Начал вилять, я еще очередь, почти в упор, но мимо, с упреждением. Думаю: не поймет что к чему, третьей очередью продырявлю ему башку. Он понял, закатил шикарный разворот. Остальное вы видели.
Он поднялся, но Лейла снова усадила его.
— Доешь плов, выпьешь компот, тогда отпущу, — решительно заявила она. — Ты потерял много крови, девушки говорят, в кабине целая лужа.
— Подчиняюсь, — улыбнулся Ахмет и за две минуты управился с остатками завтрака. — Задание выполнено!
— Молодец.
— Служу Лейле Санфировой!..
Они вышли, а мы задержались в столовой. Самые любопытные прильнули к окнам. Я сидела за столом и слушала их репортаж:
— Пошли в сад…
— Дистанция два метра…
— Красивая пара!
— Просто созданы друг для друга.
— Глаза у него, как прожекторы, держись, Лейла!
Я рассмеялась и вышла на крыльцо. Следом за мной выпорхнули девушки. Ахмет и Лейла бродили по саду, он что-то говорил, взмахивая рукой, она, наклонив голову, слушала.
Сон не приходил. Вспомнились строки из письма Ахмета, которое Лейла получила несколько дней назад:
«У каждого человека должна быть своя звезда, звезда надежды. Представь, ты летишь одна в бездонной тьме, полной угроз. И вдруг в вышине, среди черных туч, вспыхивает звездочка. Она словно говорит: над тучами — чистое звездное небо, здесь я, твой верный, вечный друг. Лети сюда, ко мне, ничего не бойся. Тучи уйдут, а я останусь… Для меня такая звезда — ты, Лейла».
Она уже не рвала его писем. Даст прочитать, спросит, вроде, небрежно: «Что скажешь?» А глаза серьезные, полные каких-то тайных дум. Я отвечала коротко: хорошее письмо. И спрашивала сама: а ты что скажешь? В ответ она лишь улыбалась да пожимала плечами…
Только стала засыпать, пришла Лейла.
— Проводила? — сонным голосом спросила я.
— Проводила. Спи. Поеду с ним в Алупку. Ты одобряешь?
Я так и подскочила, сна как не бывало.
— Вы что, оба спятили?
— Тише, девочки спят, — Лейла тихонько рассмеялась, зашептала:
— Не сейчас, конечно, а когда освободим Крым. Он говорит, ждать недолго. В Алупке у него родители. Отец — партийный работник, мать учительница. Никаких известий. Оба, наверно, в подполье. Ну, если мне дадут отпуск, почему не съездить?
— Ты серьезно?
— Да как сказать… В Крыму немцы, отпуска может и не быть.
— Выйдешь за него замуж? — мне хотелось поставить точки над «и».
— Об этом я и не думаю, — беззаботно ответила Лейла.
— Но он-то думает!
— Пусть, — Лейла скользнула под одеяло. — Я ему сказала: будет возможность, побываю с ним в Алупке. Самолет подарил, неудобно было отклонять приглашение…
Лейла заснула раньше меня, а я, слушая ее ровное дыхание, никак не могла унять смутную душевную тревогу.
Ночь четыреста пятьдесят шестая
Лейлу назначили командиром эскадрильи, я сердечно поздравила ее и в шутку поинтересовалась:
— С чего начнешь свою командирскую деятельность?
— С беседы, — серьезно ответила она.
Собрались в саду на лужайке. Лейла внимательно, строго оглядела нас и, поигрывая карандашом, начала свою «тронную» речь:
— В некотором царстве, в некотором государстве жила королева, у нее был единственный сын, и когда он подрос, она решила подыскать ему невесту…
Мы слушали нового командира с недоумением, девушки стали переглядываться, подталкивать друг друга локтями.
— Узнав об этом, — как ни в чем не бывало продолжала Лейла, — одна благородная женщина решила показать королеве своих четырех дочерей. К дворцу подкатила карета, из нее одна за другой вышли четыре красавицы. Королева приняла их и сразу указала на третью по возрасту девушку: «Вот она будет женой принца».
Все, конечно, удивились, в том числе мать девушек. «Не удивляйтесь, — сказала королева, — я видела, как они выходили из кареты, в окно наблюдала. Старшая, спрыгнув на землю, споткнулась, вторая застыла на месте, открыв рот, четвертая, как коза, взбежала по лестнице. А третья сошла с достоинством, красиво, потому я ее и выбрала. Старшая, видимо, больна, вторая глупа, младшая ветрена… Догадались к чему я клоню? Война кончится, я буду выдавать вас замуж… — Лейла выждала, когда стихнет смех, — а некоторые будущие невесты до сих пор ходить правильно не научились. — Она выдержала паузу. — И как я вас на парад поведу?.. Ничего смешного нет. С завтрашнего дня начнем заниматься строевой подготовкой по-настоящему. Посмотрите, как ходят Никулина, Чечнева, Смирнова, Меклин, Макарова — как богини! И они же регулярно делают зарядку, играют в мяч…
Лица у слушательниц стали серьезными, кое-кто надул губки — Лейла назвала богинями девушек из других эскадрилий.
— А что делать тем, — раздался недовольный голос, — у кого фигура от природы напоминает не веретено, как у некоторых, а снежную бабу?
— Таким тем более надо усиленно заниматься спортом, строевой подготовкой, — спокойно ответила Лейла. — Вы знаете, какая я была толстая? Вот… — она нарисовала в воздухе такую фигуру, что все рассмеялись. — Если не верите, спросите у Магубы, она подтвердит.
Я подтвердила. В самом деле Лейла в шестнадцать-семнадцать лет была пухленькой, круглолицей девушкой. От той Лелечки остались одни глаза да волосы.
— Гимнастика, спортивные игры, ежедневная зарядка, — Лейла оставила шутливый тон, — помогут вам сохранить не только внешнюю привлекательность, но и молодость души. Бессонные ночи, нервные перегрузки, горечь утрат ложатся на наши плечи тяжким гнетом, и чтобы не упасть, не сломиться, необходимо, понимаете, совершенно необходимо держать себя в руках, следить за собой, высоко нести голову, чеканить шаг. Мы не на прогулке, на войне, мы гвардия.
Вы же сами видите, что иногда происходит в общежитии: падает девушка на койку, обливает слезами подушку, рыдает, подруги кидаются к ней, спрашивают, что случилось, почему плачешь, а она утирает слезы, смеется и говорит: «Сама не знаю…»
— Это разрядка, — важно заметила одна из техников. — Вещь в наших условиях необходимая.
— Может быть, не спорю, — согласилась Лейла. — Но на других это действует удручающе, правда? Если уж так необходимо, можно порыдать где-нибудь в одиночестве.
— В одиночестве неинтересно, — возразила та же оппонентка. — Полной разрядки не получится.
— А вы представьте, что будет, — невозмутимо, не обращая внимания на общий смех, продолжала Лейла, — если мы все начнем вот так разряжаться. Наше общежитие превратится в Бахчисарайский… водопад. А если к нам присоединится майор Бершанская…
— Не присоединится, — уверенно заявила девушка-техник. — Никогда.
— Вот именно. Хотя она нуждается в разрядке, пожалуй, больше чем мы. На нее и надо равняться. Мы должны мужественно переносить все тяготы, все горести, которые выпали на нашу долю, такая уж у нас судьба, мы ее сами выбрали. И хватит об этом.
Я буду строго следить за состоянием вашего личного оружия. Кое-кто смотрит на пистолет, как на обузу. Пора кончать с этим. Завтра проведем внеочередные учебные стрельбы…
После беседы все взялись за пистолеты, — разобрали, вычистили, собрали. И в тот же день произошло ЧП…
Бершанская предложила штурману Кате Рябовой перейти в другую эскадрилью, та вступила с ней в пререкания и получила предупреждение.
Катюша — скромная, спокойная девушка, не представляю ее спорящей с командиром полка.
— Нетипичный случай, — сказала Вера Белик. Это было ее любимое выражение наряду с противоположным по смыслу «типичный случай», она часто употребляла их не к месту, но на этот раз все с ней согласились. Характер у Кати мягкий, ровный, никогда не увидишь ее раздраженной, сердитой. Движения легкие, первая плясунья, руку протянет, хлопнет ресницами — любой парень побежит за ней по снегу босиком… Летчик-истребитель Григорий Сивков влюбился в нее с первого взгляда, письма пишет каждый день, арбузы присылает, изюм. Конечно, Лейле и всем нам очень не хотелось отдавать Катю в другую эскадрилью, но начальству, как говорится, виднее, интересы полка превыше всего.
Лейла совсем расстроилась, когда узнала, что нашего штурмана будут обсуждать на комсомольском собрании полка. Ходит по комнате, как Бершанская по аэродрому.
— Две шкуры с одного медведя не спускают! — заявила она. — Разве предупреждения мало?
— Может быть, и мало, — я решила подзадорить немножко Лейлу. — Говорят, Бершанская недавно опять получила предупреждение от начальства, в который раз, не действуют они на нее. Вот и на Катю…
— Не предупреждение, а замечание, — уточнила Лейла.
Наш командир полка чаще, чем это необходимо, сама вылетала на боевые задания, причем на самые трудные участки, чтобы, как она говорила, разобраться в обстановке, а начальству это не нравится.
— Пойду на собрание, выступлю! — решительно заявила Лейла. — Индивидуальный подход нужен. Катюша… Она же влюблена в своего Григория, беспокоится, переживает, он летчик отчаянный.
На собрании она присутствовала, но не выступала, потому что никакого взыскания Рябова не получила, ограничились обсуждением. Но ей, конечно, досталось. Переживала она ужасно. Лейла думала-думала и пошла к Бершанской. О чем они говорили, не знаю, но минут через пятнадцать, сияющая, она прибежала ко мне и объявила:
— Катюша поедет отдыхать в санаторий! Вопрос о переводе в другую эскадрилью пока остается открытым.
На Кавказе были санатории для летного состава, некоторые наши девушки там побывали. «Молодец, Лейка», — подумала я, вслух сказала:
— Конечно, надо ей отдохнуть, такое потрясение перенесла: чуть в другую эскадрилью не перевели. Да еще любовь к отчаянному летчику. Ты, наверно, такие аргументы выдвинула, когда просила для нее путевку?
— Да, что-то вроде этого, — рассмеялась Лейла.
— Если бы еще Григорию Сивкову дали путевку в тот же санаторий, — пошутила я, — совсем было бы хорошо. Отдыхать так отдыхать.
Лейла мою шутку приняла всерьез.
— Это, идея, — многозначительно сказала она. Прошлась раз-другой по комнате и вышла.
«Неужели побежит к командиру полка с этой «идеей?» — подумала я. — Сама схлопочет предупреждение».
Наступил вечер. Погода была неважная, заданий не поступило, но Бершанская распорядились начать тренировочные полеты. Ну что же, начальству виднее.
Я полетела с Катей Рябовой. Полет, хотя и тренировочный, оказался довольно сложным, тем более что видимость была никудышной. Никаких ошибок Катюша не допустила. Выслушав мой рапорт, Бершанская освободила нас от дальнейших полетов и обеих направила к полковому врачу.
Первой на прием пошла Рябова. Вышла из кабинета взволнованная, бледная.
Врач осмотрела меня, измерила давление, прослушала сердце — все в норме.
— Как сегодня ваш штурман ориентировалась в полете? — официальным тоном спросила она:
— Вполне удовлетворительно, — ответила я.
— Удивительно…
Почему удивительно, я не поняла. Задавать вопросы врачу не положено.
Не все отнеслись одобрительно к тому, что Катюша поедет в санаторий. Когда полеты закончились и все собрались в общежитии, кто-то из девушек негромко пропел:
Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет…Смех, шутки. Кто-то язвительно заметил:
— Только любовь…
Девушки явно намекали на то, что летчик Сивков будет сражаться с фашистами не на жизнь, а на смерть, а его любимая Катя — «загорать» в санатории.
Катю было не узнать: осунулась, опустила голову, прикусила губу, вот-вот заплачет. Я думала, Лейла призовет девушек к порядку, но она, оторвавшись от своего альбома, спокойно сказала:
— Не обращай внимания, Катенька. Они же тебя разыгрывают.
Женя Руднева, читавшая письмо, хмыкнула, что-то раздраженно проворчала. Потом рассмеялась.
Общее внимание переключилось на нее:
— Читай вслух!
— От кого письмо, Женечка?
— От папы, — Женя, растерянно улыбаясь, подняла голову. — Сколько раз писала: не называй меня героиней, а он опять свое. Читать неловко.
Ну и зашумели. Дело в том, что в письмах домой мы, конечно, не писали всей правды о своих полетах, чтобы не пугать родных. Но наши отцы и матери, братишки, сестренки всех нас поголовно считали героинями Советского Союза. И не только они — все их знакомые, наши односельчане. Я, например, писала маме, что занимаюсь исключительно подготовкой молодых девушек к полетам, объедаюсь фруктами и шоколадом, а она: «героиня наша, Гвардеец — непременно с большой буквы — вся деревня гордится тобой…»
Слово за слово — разгорелась дискуссия на тему «Что такое героизм?»
— А ты, Женечка, и есть самая настоящая героиня, — сказала Руфа Гашева. — Для меня это ясно, как день.
— Глупости, — Женя пожала плечами. — Я самый обыкновенный штурман. Летаю, рассчитываю курс, бросаю бомбы на цель. По-моему, герой это тот, кто в самый напряженный, решающий момент проявляет необычайное мужество, совершает подвиг, вырывает из груди пылающее сердце, как Данко, и освещает дорогу к победе своим товарищам.
— А Покрышкин и Кожедуб? — возразила Руфа. — Они же не вырывают свое сердце. Тоже могут сказать: мы самые обыкновенные летчики, летаем, сбиваем фашистские самолеты.
Я не выдержала и тоже вступила в спор:
— Покрышкин и Кожедуб — выдающиеся летчики-истребители. Разве они не освещают путь к победе своими подвигами? Не рискуют своей жизнью в каждом полете?
— Мы тоже рискуем, — сказала Руфа.
— Да, конечно. На фронте каждый солдат рискует своей жизнью. Но герои-летчики не просто рискуют, они наносят врагу огромный урон. Десятки бомбардировщиков, истребителей — это не шутка. А сколько они уничтожили самолетов в групповых боях — мы даже не знаем. По-моему, героизм — это какое-то сверхусилие. Лейтенант Горовец — единственный в мире летчик, сбивший в одном бою девять вражеских самолетов: если не ошибаюсь, восемь бомбардировщиков и один истребитель. Вот это настоящий героизм. Или Мересьев. Восемнадцать суток, тяжело раненый, пробирался к своим из немецкого тыла. Ему ампутировали обе ступни, а он вернулся в строй и под Курском сбил три самолета противника…
— У героизма могут быть разные формы, — вступила в спор Нина Ульяненко, наша северяночка, спокойная, рассудительная удмуртская девушка. — И стремиться к смертельному риску совсем не обязательно, исключительные обстоятельства тоже в общем-то явление сравнительно редкое.
Нина подлила масла в огонь. Она в самом деле не похожа на некоторых наших решительных, отчаянно храбрых девушек, семь раз отмерит, один раз отрежет, но если уж возьмется за что-нибудь, сделает все безупречно. Была хорошим штурманом, сказала: буду летчицей. И стала. Два ордена на груди, десять благодарностей от командования.
Пошумели, поговорили, основательно запутали вопрос, который поначалу всем казался простым и ясным. Попросили высказаться Лейлу.
— Каждый мечтает совершить подвиг, стать героем, — сказала она. — Это естественно. Но к подвигу надо готовиться. На одном желании далеко не уедешь. Висит, например, яблоко на яблоне, хочется достать, но рост маловат, подпрыгнешь и схватишь рукой воздух. Надо очень любить дело, которым занимаешься, и совершенствовать свое боевое мастерство — изо дня в день, из ночи в ночь. Да и чтобы дело было не мелкое, а значительное. Случайных подвигов не бывает.
Мы не заметили, когда в общежитие вошла Евдокия Яковлевна Рачкевич, наша «мама».
— Интересный у вас разговор получился, — сказала она.
Мы повернулись к ней, она стояла у двери, прислонившись к стене, улыбалась.
— Много правильных, горячих слов здесь было сказано, — Рачкевич подошла поближе, села на край койки рядом с Лейлой. — Хочу только добавить несколько слов. Подумайте, девушки, вот над чем. Героизм у нас носит массовый характер. Это главное. Массовый героизм на фронте и в тылу. Он подготовлен всем укладом нашей жизни, всей системой воспитания. И в тылу у немцев, на нашей оккупированной территории, героически сражаются партизаны, подпольщики. Данные о важнейших объектах в тылу врага, о движении воинских эшелонов в наши руки не с неба падают.
Отгремела Курская битва. Она длилась в общей сложности около пятидесяти дней. Потери врага — более пятисот тысяч человек. Наши воины уничтожали в среднем по десять тысяч гитлеровцев в день. Враг потерял полторы тысячи танков, три тысячи семьсот самолетов. Мы тоже понесли большие потери, но победа за нами, Германии нанесен страшный удар. Первый наш победный салют — это салют массовому героизму советского народа.
Вы честно исполняете свой воинский долг, у каждое из вас на груди ордена и медали, вас осеняет гвардейское знамя, и я считаю: правы ваши родители, ваши земляки — вы настоящие героини! Я уверена, что пройденный вами ратный путь — это подготовка к новым славным подвигам…
Катя Рябова в дискуссии не участвовала, но слушала очень внимательно. «Этот разговор, — подумала я, — отличная разрядка, у всех посветлело в душе. Нет у нас героев-одиночек, «мама» права. Каждый воин связан незримыми нитями со своими боевыми друзьями, с командирами, разведчиками, с тысячами людей в тылу, которые вложили в его руки золотое оружие, одели, обули и накормили всю многомиллионную армию. Цель у всех одна. А славой сочтемся…»
Утром Лейла снова побывала у Бершанской и, разыскав меня в саду, не скрывая радости, сообщила:
— Григорий Сивков тоже получит путевку в санаторий. Они будут отдыхать вместе.
Признаюсь, я в то время смотрела на себя и всех своих однополчанок только как на воюющих людей, И в глубине души считала, что сердечным делам на фронте не должно быть места. Добровольно явились сюда, значит, все силы надо отдавать главному делу, кате можно больше летать, громить врага. Стараться ни о чем другом не думать, не забивать голову. Конечно, я была неправа. Лейла оказалась умнее и дальновиднее меня.
— Все условия для… — смеясь, начала я, но, встретив осуждающий взгляд Лейлы, прикусила язык.
— У них настоящая, чистая любовь, — холодно сказала она. — После санатория Григорий и Катюша будут драться, как львы.
Я пожала плечами, подумала: «Уж не этот ли довод ты высказала в разговоре с Бершанской?».
Правоту Лейлы доказала жизнь. Старший лейтенант Григорий Сивков стал дважды Героем Советского Союза. Катюша стала его женой. Михаил Пляц был награжден орденом Славы, женился на Руфе, после войны стал генералом. Герои Советского Союза Рая Аронова, Ирина Себрова, Марина Чечнева и многие другие девушки нашего полка вышли замуж за тех, кого полюбили на фронте. Жизнь — лучший учитель, пришло время и я осознала свою ошибку. Но что было, то было.
Недовольная собой, я пошла на аэродром. Настроение пасмурное.
— Магуба, — окликнули меня, — подойди к нам.
Гляжу, под крылом самолета лежат на траве Таня Макарова и Вера Белик, рассматривают какую-то карту. Подошла, смотрю, сверху на карте красным карандашом написано: «Маршрут Победы». Красные кружочки, синие линии. Так, так… С Таманского полуострова через Керченский пролив — в Крым. Потом — Украина, Белоруссия… Варшава — Прага — Берлин.
— Путь нашего полка, — торжественно сказала Таня. — Просим утвердить.
И подала мне красный карандаш.
В углу карты я размашисто написала: «Утверждаю. М. Сыртланова». Чувствовала себя в этот момент по меньшей мере командующим фронтом.
Девушки поблагодарили меня, я хотела уйти, но…
— Не уходи, — Таня как-то странно улыбнулась. На губах улыбка, а глаза серьезные. — Еще одна просьба.
— Слушаю вас, девочки. Что за просьба?
— Если с нами, со мной и Верой, что-то случится… В общем, если погибнем, мы тебя просим написать наши имена на здании рейхстага в Берлине.
— Никаких возражений! — вмешалась Вера, видя, что я собираюсь протестовать. — Никому о нашей просьбе не говори.
— Хорошо, — согласилась я. — А если со мной…
— Договорились! — Таня вскочила и, бережно сложив карту, спрятала ее на груди.
Позднее я узнала, что с такой же просьбой девушки обратились к Лейле, Жене Рудневой и Марине Чечневой. Их просьбу смогли выполнить только двое: Марина и я.
Ночь четыреста восемьдесят седьмая
Нелегко быть командиром эскадрильи. Лейла похудела, она в постоянных хлопотах. Склонившись над картой, что-то шепчет, высчитывает. Гляжу на нее и хочется чем-нибудь порадовать ее, поддержать, сказать что-нибудь хорошее-прехорошее… Думаю, соображаю — ничего не приходит в голову. Радость — огромная, долгожданная — явилась в облике Тани Макаровой. Она ворвалась, как вихрь, в общежитие и начала лихо отстукивать чечетку. Мы вскочили, вытаращив глаза. Сердце колотится в такт бешеной пляске. Сейчас скажет. Не томи!..
— Ну, Таня, Танечка…
— Новороссийск наш! — выкрикнула плясунья и, гордо вскинув голову, умчалась.
С ликующим «Ура!» мы бросаемся в объятия друг другу, то замираем, то кружимся.
Войска Северо-Кавказского фронта — 18-я армия под командованием генерала Леселидзе и 56-я армия под командованием генерала Гречко, взаимодействуя с Черноморским флотом и Азовской флотилией, 16 сентября освободили Новороссийск, «голубая линия» прорвана.
Отступая, расставаясь навсегда с бредовыми мечтами о новом броске на Кавказ, к бакинской нефти, о победоносном марше в солнечную Индию, гитлеровцы предают огню многострадальный Таманский полуостров. Наш парторг Мария Ивановна Рунт ознакомила нас с приказом Гиммлера войскам СС и полиции, в котором им предписывалось:
«Добиться того, чтобы при отходе… не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса, чтобы ее остались в сохранности ни один дом, ни одна шахта… чтобы не осталось ни одного колодца, который бы не был отравлен. Противник должен найти действительно тотально сожженную и разрушенную страну».
Вот как они воюют с нами.
Кажется, что сама наша жгучая ненависть вращает пропеллеры самолетов. Эскадрилья получила задание бомбить скопление живой силы и техники противника на мысе Чушка, с которого немцы перебираются в Крым, на Керченский полуостров. Прикрывая отход, озлобленные гитлеровцы сконцентрировали на последнем, оставшемся в их распоряжении клочке кавказской земли множество прожекторов, зенитных орудий и пулеметов. По мысу бьет наша артиллерия, «катюши», днем и ночью на прижатые к проливу вражеские части, падают бомбы всех калибров. Враг несет огромные потери — тем легче будет нам штурмовать Крым.
Эскадрильи с разных направлений пробиваются к цели. Впереди — самолет Лейлы. Изредка она включает бортовые огни, я сразу повторяю сигнал — за нашим «По-2» следует Нина Ульяненко.
Самолет командира покачивает крыльями — значит, надо прибавить газ. Выполняю указание, повторяю сигнал, усаживаюсь поудобнее. Мотор ревет, но высота почему-то уменьшается… Тысяча метров… восемьсот… пятьсот… Холодное воздушное течение, направленное сверху вниз, давит на самолет. Меняю режим полета, тяну на себя ручку управления. Ладони горят, пот катится по щекам, щиплет глаза. Мы, по существу, падаем. Падаем с исправным мотором, работающим с полной нагрузкой. Внизу — Азовское море. Еще несколько минут такого полета, и мы врежемся в волны. Что предпринять? Повернуть назад? Это невозможно. Командир летит, будем лететь и мы…
Вместо подвига — нелепая гибель. Просто упадем в воду и утонем. Пытаюсь представить скорбь матери, Лейлы — в том, что она вернется на аэродром, у меня сомнений нет, — Бершанской, Тани Макаровой, Жени Рудневой — всего полка, но ничего не выходит, слишком это нелепо, чудовищно. Опускаюсь мысленно на дно моря… Бр-р-р… Не может этого быть!
«Следуй за мной!» — сигналит Лейла. Повторяю приказ для Нины Ульяненко, улыбаюсь. Ничего страшного!
Ночную темень разрывают огненные шары. Мой штурман сегодня — Вера Белик, ее командир Таня Макарова дежурит на аэродроме.
— Нас обстреливают сторожевые катера, — спокойно говорит Вера, как будто кто-то посылает нам воздушные поцелуи. — Пятнадцать градусов левее.
— Сколько до цели?
— Минут восемь…
Высота триста метров. Медленно, но снижаемся. Виден мыс Чушка — длинная, изогнутая коса, разделяющая Черное и Азовское моря. Отсюда до Крыма — рукой подать.
Самолет неожиданно устремился вверх. Сбавляю обороты, мотор работает в четверть мощности, но высота растет. Новый сюрприз. То вниз, то вверх.
— Верочка, что, будем делать? Теплое течение снизу. Поднимаемся к туманности Андромеды.
— Глуши мотор!
Легко сказать. А если он потом не заведется? Но другого выхода нет, иначе пролетим высоко над целью. Убираю газ. «По-2» летит, как планер. Тишина. Мне кажется, что я слышу дыхание штурмана. Она наклоняется, глядит вниз, шуршит картой. Лейла не сигналит — враг рядом, нельзя обнаружить себя раньше времени.
Вспыхнули прожекторы, их много. Рявкают, «Эрликоны». Вера сбросила два САБа. Светло — хоть иголки собирай, как поется в песне.
Автоматически включается шестое чувство — очень совершенный и важный прибор, который часто нас выручает. Этот удивительный прибор подсказывает мне, что через несколько секунд под правым крылом взорвется снаряд — отворачиваю влево. Снаряд взрывается точно там… Теперь вправо и вниз. Зенитчики опять промахнулись. Но когда пойду над целью, прибор не нужен, он отключится на двадцать секунд, может быть навсегда. Пусть стреляют, никаких маневров я производить не буду. Пока не оторвутся бомбы.
Воздушное течение позади, включаю мотор. «Эрликоны» ведут особенно яростный огонь по самолету командира. Надо поскорее приниматься за работу.
— Вера, бомби! Лейлу собьют!
Внизу — самоходные орудия, танки, автомашины, обозы, множество немцев, они расползаются как тараканы.
Самолет качнуло. Один за другим последовали взрывы. Попали.
— Магуба, взгляни, какие странные машины. Спустись пониже, термички сброшу.
Захожу на второй, круг.
— Что ты там увидела?
— Длинные, безобразные машины…. Это душегубки. Зондеркоманда!
Об этих страшных машинах, об отрядах карателей нам рассказывала бабушка Марфа еще в станице Ассиновская.
— Жги их!
— Готово…
Летим домой.
Самолет стал легче, справляться с коварным воздушными потоками теперь труднее, Напрягаю все силы. Жарко. Почему-то вспомнилось, как один экипаж несколько месяцев назад погиб на полпути к аэродрому. Заблудились в тумане, а тут кончился бензин… Последний приказ: «Делай, как я!» Это значит — приземляйся, докладывай о выполнении задания…
В эту ночь самолеты полка сделали более ста боевых вылетов.
Битва за Кавказ завершилась 10 октября — Таманский полуостров был полностью очищен от оккупантов. В приказе Верховного Главнокомандующего, объявившего благодарность войскам Северо-Кавказского фронта, был назван и наш полк.
«В ознаменование одержанной победы, — говорилось в приказе, — соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за освобождение Таманского полуострова, представить к присвоению наименования Таманских».
Москва салютовала нашей победе.
За высокое воинское мастерство и отвагу в боях нашему полку было присвоено наименование Таманского.
Ночь четыреста девяносто седьмая
Полку приказано готовиться к переезду на новый аэродром. Куда будем переезжать, пока неизвестно. Ясно одно — на запад, поближе к Крыму.
К вечеру заморосил мелкий, как пыль, дождик. Работали на аэродроме дотемна, поужинали и не спеша побрели домой. На пороге общежития Лейлу предупредили:
— У тебя гостья.
Входим — на Лейлиной койке сидит бабушка Марфа, пьет чай. На одеяле — белые шерстяные носки, на волу — большой узел.
Нежданная встреча…
— Носочки тебе, Лелечка, новые привезла, старые-то износила, поди.
Лейла обнимает бабушку, гладит на нее, не наглядится.
Вывшая наша хозяйка постарела, она вся словно соткана из морщин и пепла. Еще раз побывала в Ейске. Услышала, что один из воспитанников детского санатория каким-то чудом спасся, подумала: а вдруг ее Шурик? Нет, в живых остался другой мальчик, Леня Дворников.
Бабушка Марфа узнала новые подробности зверской расправы гитлеровцев с больными детьми. Когда немцы вошли в Ейск, к зданию санатория подъехала легковая автомашина. Из нее вышли эсэсовские офицеры. Осмотрев помещения, они потребовали у директора списки детей, сказали, что намерены их эвакуировать. Директор почуял неладное, стал протестовать. Один из офицеров усмехнулся и заявил: «О ком вы беспокоитесь? В Германии, культурной стране, детей, больных костным туберкулезом, вообще не держат».
К санаторию подошла автомашина серо-зеленого цвета, большая, похожая на шеститонный холодильник. Дети пытались убежать, гитлеровцы ловили их и заталкивали в машину. Лишь одному Лене Дворникову удалось вырваться и спрятаться в цветочной клумбе. После освобождения Ейска во рву за городом было обнаружено 214 детских трупов.
Скоро в Краснодаре состоится суд над группой предателей, которые служили в зондеркоманде СС и совершили неслыханные злодеяния в Таганроге, Ейске, Ростове, Краснодаре, Новороссийске. О предстоящем суде объявлено в газетах. Приглашаются в качестве свидетелей очевидцы преступлений эсэсовцев и их пособников. Через газеты суд обратился к населению с просьбой передать в его распоряжение сохранившиеся документы, имеющие отношение к деятельности зондеркоманд.
— Вон сколько набрала. Бумаги всякие, хранили люди, верили, что пригодятся. — Бабушка ткнула пальцем в узел. — В суд передам, из рук в руки. Хотите покажу?
Чего только не было в этой груде бумаг: приказы немецких комендантов, инструкции, объявления, обрывки газет, письма. Женя Руднева, преодолевая брезгливость, стала перебирать бумаги, некоторые перевела. Страшные документы…
В одном из них — инструкции для зондеркоманд — говорилось, что уничтожению подлежат в первую очередь сотрудники коминтерна, руководящие партийные работники, наркомы и их заместители, комиссары Красной Армии, интеллигенты, евреи. Палачам предписывалось производить расправы в уединенных местах, заботиться о немедленном погребении трупов.
Документы свидетельствовали, что в зондеркомандах существовало «разделение труда»: в них имелись специалисты по расстрелам, виселицам, газовым камерам, по закапыванию и сжиганию трупов.
Запомнилось мне написанное на русском языке «Воззвание к еврейскому населению Ростова». Германские полицейские органы, говорилось в нем, в целях обеспечения безопасности евреев решили сконцентрировать их в отдельном районе города. Для проведения в жизнь этого мероприятия все евреи, обоих полов и всех возрастов, а также лица от смешанных браков евреев с неевреями должны были явиться на сборные пункты. Им рекомендовалось взять с собой ценности и деньги, ручной багаж.
— Хорошее дело вы сделали, бабушка, — сказала Женя. — Судьи вам спасибо скажут, и не только судьи. Это вещественные доказательства.
Бабушка кивнула головой:
— Не зря, значит, собирала. Поймали все же этих супостатов. Многие убегли, говорят. Сказывали мне, что на Чушке их скопилось видимо-невидимо, и вы всех порешили. И машины эти душегубные пожгли. Расскажи все, как было, Лелечка.
Лейла неторопливо, поглаживая высохшие руки бабушки Марфы, рассказала «как было». Бабушка довольна:
— Настигла окаянных небесная кара. Спасибо вам, доченьки…
Утром бабушку Марфу проводили. Попутную машину дожидаться не захотела:
— Пойду потихоньку. Подберут меня добрые люди, подберут, мимо не проедут…
Краснодарский процесс вызвал огромный интерес во всем мире. Фашистских палачей и их прихвостней суд приговорил к смертной казни через повешение. Это был первый процесс такого рода, от него путь вел к Нюрнбергу. В те дни, наверно, у Гитлера и всех его приспешников заныли шеи.
Ночь пятьсот первая
У самого обрыва над морем, обхватив руками плечи, стоит штурман Вера Белик. На другой стороне пролива — Керченский полуостров, он хорошо виден. О чем она сейчас думает? О том, что сегодня ночью пролетит над древней горой Митридат, сбросит САБы, потом фугасные и термитные бомбы — может быть, на родной дом, на родную школу, в которую она так мечтала вернуться учительницей? Кто знает.
Поодаль на берегу — почта весь полк во главе с Бершанской. Она подошла к Вере, тронула ее за плечо.
— Лейтенант Белик, считайте, что мы школьники, а вы наша учительница. Расскажите нам коротко об этом городе, который мы хотим отвоевать у наглых захватчиков и вернуть его вам.
Вера медленно оборачивается. Я думала, она вся в слезах — ничего похожего, глаза ее сухи, чуть прищурены и светятся каким-то внутренним огнем.
— Хорошо, дети мои, — серьезно и просто ответила она. — Слушайте… Керчь очень древний город. Он был основан две с половиной тысячи лет назад. У него тогда было другое имя — Пантикапей. Это была греческая колония.
Город располагался на склонах горы Митридат. На вершине стоял белоснежный акрополь, окруженный стеной. Склоны были опоясаны искусственными террасами. На уступах стояли богатые общественные и частные здания. Внизу, на окраинах, жили ремесленники, беднота. Внешняя стена опоясывала весь город.
В 480 году до нашей эры здесь образовалось Боспорское царство. Столица — Пантикапей. В это царство входили Феодосия, Анапа и несколько мелких городов. Жители выращивали пшеницу, ячмень, просо, чечевицу и другие сельскохозяйственные культуры. Разводили овец в коз. Землю пахали на быках.
В конце второго века до нашей эры по Боспорскому царству прокатилась волна восстаний рабов. Рабы захватили власть в Пантикапее и удерживали ее целый год.
К началу первого века до нашей эры все побережье Черного моря оказалось под властью Понтийского царя Митридата. Он воевал с Римом — с переменным успехом. В середине первого века против Митридата восстало местное население. Осажденный в своем роскошном дворце в Пантикапее, он покончил жизнь самоубийством. Пантикапей стал колонией Рима. Позднее город входил в состав Тмутараканского княжества и получил новое имя — Корчев.
Расположенный между двумя морями, Черным и Азовским, город неоднократно подвергался нашествиям, бывал разрушен, но снова восставал из руин.
До наших, точнее до наших довоенных дней, сохранились отдельные замечательные сооружения. Например, Царский курган, названный так за красоту, за великолепие. Это квадратный склеп с уступчатым сводом и длинным коридором. Некоторые склепы имеют роспись. В одном из них на стенах изображена битва карликов с журавлями.
В августе 1820 года в Керчь приезжал Пушкин. Я помню отрывок из его письма, которое он написал брату. «С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я — на ближней горе посреди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных, — заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни — не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнявшийся с землею, — вот все, что осталось от города Пантикапеи. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками…»
Лицо Бершанской, обычно такое суровое, было неузнаваемо. В глазах, в каждой морщинке читалось: «Вот у меня какие штурманы!»
Мы возвратились в рыбачий поселок Пересыпь, где теперь живем. Он расположен на берегу моря. Аэродром рядом, небольшой. Взлетная площадка узкая, как солдатский ремень.
Наша эскадрилья поселилась в бывшем складе, сделанном из ракушечника. Половины потолка и одной стены не оказалось, пришлось натянуть брезент. На нем Руфа масляными красками нарисовала самолет и девушку, выходящую из воды. Совсем другой вид. Сразу у новой «гостиницы» появилось название: «Шатер шахини».
На рисунке лица девушки не видно, но фигура ее восхитительна. У шахини роскошные волосы, рассыпанные по обнаженным плечам, на безымянном пальце — бриллиантовый перстень.
В первую же ночь мы вылетели на задание. Мне довелось лететь с Верой Белик: Таня Макарова снова дежурит.
Подлетаем к Керченскому полуострову. Как ни старались проскользнуть, нас услышали, обстреляли из крупнокалиберного пулемета. Пули пронеслись мимо, как рой оводов.
— Магуба, скажи правду, ты не боишься? — спросила Вера. — Ты смелая?
— Смерти не боятся только слабоумные, Верочка. Я боюсь, конечно. Но научилась управлять страхом, как самолетом.
— Понятно.
К Керчи мы должны подойти кружным путем. Невесел сегодня мой штурман.
— Ты не заболела, Верочка? Что-то тихая, хмурая, молчишь.
— Я здорова.
«Конечно, ей не до разговоров, — размышляю я, глядя на штурмана в зеркало, — И я бы на ее месте молчала. Как хорошо она рассказала о Керчи…»
Я взглянула на высотомер, и волосы встали дыбом: всего триста метров!
Вспыхнул прожектор. Луч, словно длинное полотенце на веревке, качнулся туда-сюда, приблизился к нам. Поймал… К самолету полетели золотые точки, то сзади, то спереди рвутся снаряды.
— Прибрежные сторожевые корабли стреляют, — докладывает Вера. В голосе — ни малейшего волнения. Она умеет управлять страхом не хуже меня.
Направляю самолет в тучу. Хочется все же расшевелить штурмана.
— Вера, Саша Костенко тебе пишет?
В ее глазах сразу засияла луна любви.
— Сегодня письмо получила, — улыбаясь, ответила она.
— А мама?
— И от мамы получила.
— Все живы-здоровы?
— Да, спасибо… Через три минуты цель, товарищ командир.
Из бездонной тьмы снизу на нас набросились одновременно десятки лучей, зенитки открыли бешеный огонь. Летим сквозь свинцовую бурю. «Да, крепкий орешек Керчь», — мелькнула мысль. Самолет то и дело содрогается. Только бы не в мотор, не в бак…
Пробиться в нужный квадрат не удалось. Захожу на второй круг.
Вера неподвижно сидит в кабине, глаза закрыты.
— Ты не ранена, Верочка?
— Нет.
— Что будем делать? Может быть, развернуться над морем? Или над городом?
— Решай сама, Магуба.
— Страшно приблизиться к горе Митридат. Наверное, нашпигована пушками.
Лучи двух прожекторов схватили, словно клещами, летящий следом за нами самолет Наташи Меклин. Держись, Наташа, душечка, держись, вдвоем будет полегче. Я резко набираю высоту, убираю газ и, планируя, спускаюсь все ниже и ниже.
— Где мы?
— Так держать, товарищ командир.
Высота двести пятьдесят метров. Если еще потеряем высоту, стукнемся о деревья. Зенитки теперь не страшны, но если здесь установлены крупнокалиберные пулеметы, нам хана.
— Пятнадцать градусов вправо!
Желтое каменное здание кажется очень большим. Это бывшая школа. Та самая, в которой училась Вера. Теперь здесь немецкий штаб. Но мы должны сбросить бомбы не на здание, а на огневые точки, окружающие его.
Сердце готово выскочить из груди, каждая клетка моего тела ждет, когда упадут бомбы.
— Пошли!
Внизу гремят взрывы: бомбы накрыли цель.
— Пожар, — говорит Вера.
— Долго ты целилась, но попала точно, молодец.
Прожекторы просвечивают все небо. Стреляют со всех сторон. Мы словно в осином гнезде, так жужжат пули. А пожар еще полыхает.
Мотор начинает чихать, число пробоин на крыльях и в фюзеляже увеличивается на глазах. Смерть костлявыми руками хватает за сердце. На уме только одно: скорее вырваться из этого ада.
Внизу черная, как смола, ночь. Под нами море, оно притягивает нас к себе — мотор заглох. Хорошо, что стрельба позади. Впрочем, если не удастся запустить мотор, какая разница — стреляют или нет… Кругом тишина. Только крылья тихонько шепчут: «Держитесь…»
Подкачиваю бензин. Как человек ночью спешит пройти мимо кладбища, так и мне хочется поскорее проскочить море. Наконец, мотор чихнул раз, другой… Попадающий в нос дымок кажется приятнее самых лучших, самых благородных духов. Мотор ожил. Мое лицо, наверное, сияет, как звезда. Плавно тяну ручку управления на себя. Нос самолета поднимается кверху. Живем! Обрадованно хочу взглянуть на Веру, но не успеваю —мотор снова начинает чихать, по-стариковски кашлять…
Пережив тысячи мучений, мы все-таки дотянули до аэродрома. Онемевшие, сидим, вжавшись в сиденья. Голова трещит, в глазах туман.
Доложив Бершанской о выполнении задания, я иду в «Шатер шахини». Глянула в зеркало и охнула: в волосах появились белые пряди.
Ночь пятьсот вторая
Самый веселый и неугомонный человек в полку — Хиваз Доспанова. Да, та самая, наш колокольчик, маленький штурман, лейтенант с узкими, черными, как южная ночь, глазами, которая осталась жива после катастрофы. Помните — самолеты столкнулись над аэродромом. Когда мы навещали ее в госпитале, она, с трудом шевеля губами, шептала:
— Я вернусь… Буду летать.
Никто не верил в это. Она, вся в бинтах и гипсе, походила на мумию. Главное — осталась жива, утешали мы себя. И вот она вернулась. Бершанская сначала устроила ее на работу в штаб. Но… Хиваз есть Хиваз. Штабная работа пришлась ей не по душе. Теперь она летает. Догадываемся, это дается ей нелегко, но она не унывает: поет, болтает без умолку, читает стихи. Любимый ее поэт — Джамбул.
Много радости доставила полку Хиваз Доспанова.
После обеда она уговорила нас прогуляться по берегу моря — меня, Лейлу, Женю Рудневу, Руфу Гашеву.
Пригляделись: море покачивается, как младенец в зыбке. Издали заметили Веру Белик, она стояла на том месте, что и вчера, в той же позе — смотрела вдаль, как Ассоль. Тихонько прошли мимо. Я немного отстала, и Вера окликнула меня. Лицо у нее просветленное, глаза сияют.
— Посмотри, Магуба, — она показала в сторону, горы Митридат, где в небе неподвижно висели кучевые, позолоченные солнцем облака. — Видишь? На уступах горы — здания с белыми колоннами, на вершине — обелиск. Верхняя его часть не видна — она в облаках…
Я поняла ее мечту и тихо ответила:
— Вижу.
Мы догнали девушек. Под обрывом увидели лодку, спустились на узкую прибрежную полосу. Расселись — кто на камнях, кто на бортах лодки. Волны покачивают ее, и на корме грустно позвякивает обрывок цепи. В днище и в носовой части — пробоины.
— Искупаемся? — предложила Лейла.
Мы ответили дружным смехом: какое же в эту пору купанье. Она пожала плечами, отошла в сторонку, быстро разделась. На фоне зеленых волн ее стройная фигура кажется ожившей прекрасной статуей.
— Наяда, — восхищенно сказала Женя. — Милосские линии.
«Сейчас она перенесет нас в Элладу», — подумала я и приготовилась слушать.
Хиваз попробовала рукой воду, крикнула:
— Лейла-джан, не надо, вода холодная, простудишься.
Я успокоила ее:
— Не простудится.
Лейла стремительно пробежала по отмели, вздымая фонтаны сверкающих брызг, и поплыла, точно русалка». Вкруг раздался ее пронзительный крик:
— Мама!..
Вера Белик первая бросилась в воду, мы за ней. Окружили Лейлу, как стая дельфинов, подхватили на руки — и назад. Едва выбрались на берег, помогаем ей одеться. Она вся дрожит, глаза полны ужаса. Спрашиваем наперебой:
— Судорога?
— Акула?
— Осьминог?
— Мина?..
Лейла отрицательно трясет головой. Руфа растирает ей плечи, руки, приговаривает:
— Ничего, ничего, успокойся, мы же с тобой, ну что тебя так напугало?
А сама тоже дрожит, с опаской поглядывает на волны. Лица бледное, зубы выбивают чечетку.
— Я… я увидела… — Лейла, силясь улыбнуться, глядит в лицо Руфе, голос у нее прерывается. — Никак не отдышусь… Увидела водяную мышь.
Мы облегченно рассмеялись. Только Вера Белик даже не улыбнулась.
— Водяных мышей не бывает, — мягко сказала она.
— Это была водяная крыса, — уверенно заявила Хиваз. — Маленькая. Она купалась, ты купалась, ну и что?
Успокаивая Лейлу, мы гурьбой заспешили в «Шатер шахини». Вера и я отстали.
— Сомнительно что-то, — нерешительно сказала я.
— Чего только в море не встретишь, — покачала головой Вера, — но водяных крыс в нем нет, ни маленьких, ни больших. Она увидела что-то другое. Я догадываюсь…
Догадалась и я. Слышала, местные жители говорили, что шторм иногда выбрасывает на берег трупы. Их закапывают тут же, в песке.
Мы почти угадали. Вечером, после сна, перед тем как отправиться на аэродром, я вопросительно посмотрела на Лейлу.
— Я увидела, — шепотом сказала она, — женскую руку. Представляешь, белая женская рука с золотым перстнем, шевелится. Нельзя купаться в военном море…
Погода портится: ветер, нагоняя облака, крепчает. Без дела не сидим. Я и Хиваз отправляемся в тренировочный полет. Но в вышине тоже не спокойно, недолго покружив, садимся уже при сильном ветре. Техники помогают нам укрепить и замаскировать самолет. Дальнейшие полеты прекратили.
— Ты не устала, Хиваз? — поинтересовалась я.
— Что ты, апа-джан, отчего мне устать. — В ее глазах мелькнул испуг, она очень боится, что Оля Чуковская, наш полковой врач, отстранит ее от полетов. — Я же внучка Джамбула!
«Я ей кажусь, наверно, бабушкой», — с грустью подумала я. Что ж, я старше ее лет на десять, мне тридцать один год. И седина…
— Джамбула почитать? — Хиваз заглядывает мне в глаза. — Или споем?
И зазвенел колокольчик:
Нам было весело, весело, весело, Ну что ж ты, милая, курносый нос повесила…С песней, чеканя шаг, идем в столовую.
Ночь пятьсот третья
Ирина Себрова и я летим в Армавир, в ПАРМ, пришло время ремонтировать наши самолеты. Моторы одряхлели.
Вера Белик вручила мне письмо, адресованное Саше Костенко, а Хорошилова, наш комсомольский вожак, приволокла на аэродром целый мешок подарков.
— Ребятам от нас…
Прибыли на место в тот же день, без приключений. Встретил нас Саша, мы ахнули — сбрил бороду! Уже лейтенант, на груди две медали. Письму Веры обрадовался, покраснел, и южный загар не помог, я заметила.
— Спасибо, — смущенно улыбаясь, сказал он. — Сегодня же напишу ответ. Как она?
— Ночи не спит, — я нахмурила брови, вздохнула. — Страдает, извелась, это письмо орошено слезами…
Ребята главное внимание уделяют Ирине. Я командир, занимаюсь оформлением документов, к тому же она моложе и красивее меня… Я ее не узнаю. Сбегала в парикмахерскую, просто расцвела. Симпатичный парень, высокий, с черными, как смоль, кудрями, похожий на цыгана, не сводит с нее восхищенных глаз. В нашу честь ребята организовали вечеринку. Я вручила подарки: вышитые полотенца, наволочки, носовые платки, разную мелочь. Никто не обделен, все довольны. Ира, с двумя орденами на груди, — шахиня вечера. Саша все расспрашивал меня о Верочке. «Любит по-настоящему, молодец, — мысленно похвалила я его. — Ни на кого не променял соседскую девчонку. Что ж, с чистой водой не расстаются. Ира, похоже, тоже нашла свое счастье. Еще один Саша. Фамилия украинская — Хоменко. Какая необыкновенная, легкая ночь..
Ремонтники работали круглосуточно, в две смены. Через три дня мы вернулись в полк. Самолеты — как новенькие.
Ночь пятьсот шестая
В полку переполох — нам прислали радиста мужского пола! Девушки встретили его, точно амазонки, невзлюбили с первого взгляда.
Лейла мне рассказала:
— Позвонили Бершанской из штаба дивизии: встречайте радиста. Я стояла рядом. Евдокия Давыдовна не разобрала фамилию, стала переспрашивать: «Как? Паушан? Раушан?» Раушан, конечно, — женское имя, я подсказываю: «Соглашайтесь». И вот — пожалуйста — является рыжий дылда, с белесыми ресницами, руки в карманах, в зубах папироса. Мы его прозвали Полтора Ивана. Бершанская только глянула, говорит: от греха подальше. Тут же стала звонить в штаб: «Вы кого нам прислали?» Отвечают: направлен по вашей просьбе, радист первого класса. Ну и как в таких случаях бывает — «используйте по назначению». Вот и весь разговор. Бершанская спрашивает у Полтора Ивана: «Выдержишь? У меня девушки отчаянные». А тот криво усмехнулся: мол, не такое выдерживал, Я подумала: «Посмотрим!» А он мне подмигивает — скорый на руку. Бершанская говорит: «Идите к санинструктору». Хоть против воли, но пошел. Та ему: «В баню. Немедленно». Он заартачился: «Не хочу». Инструктор как крикнет: «Никаких разговоров! Не нарушайте устав! Кругом, шагом марш!» Пошел как миленький. Пока парился, одежду его сожгли. Принесли другую — целый ворох. Белье, само собой, женское. Но делать нечего, оделся, хотя тоже начал было пререкаться, а ему: «Распишитесь вот тут, пожалуйста». Расписался. Получил, значит, все сполна. Галя Пилипенко сюрприз приготовила — угостила его спиртом: «С легким паром!» У него, рыжего черта, улыбка до ушей — хлоп! Только когда спирт разводили, в стакан плеснули слабительного…
Увидев на улице Ирину Себрову, радист сразу подкатился к ней. Тары-бары. Она слушает, улыбается, посматривает на него искоса. А он все рассыпается, гоголем ходит. Прогулялись туда-сюда. Вроде все ладком получается. Но тут подбежала дежурная — Иру посылают на разведку погоды: на самолете у нее рация. Само собой, радист первого класса — за дело, на связь. А через несколько минут, глядим, он мчится к Бершанской:
— Себрову сбил «Мессершмитт»! — кричит с порога.
— Как это сбил? Вы что… слышали?
— Она успела передать: «Атакует «мессер». И все. Я слышал пулеметную очередь…
Даже испугаться по-настоящему не успели, Руфа говорит:
— Летит!
Самолет приземлился, выскакивает Ирина, жива-здорова, идет, посвистывает. Под испепеляющим» взглядами Бершанской и девушек радист сжался и убежал к себе.
— Над морем напоролись на «мессера», — рассказала Себрова. — Нырнула вниз, в облака, в общем, ушла…
Мы втроем, Ира, Хиваз и я, так увлеклись «эфирной проблемой», что забыли про строевую подготовку. Девушки вышагивают, горланят песни, а мы… Лейла ждать не заставила: влепила нам наряд вне очереди. И вот деваться некуда, мы чистим картошку и, конечно, вынашиваем планы страшной мести рыжему черту.
Явилась вестовая:
— Наряд отставить! Срочно на КП!
Хотя видимость неважная, низкая облачность, ветер, летим — у наших «По-2» новые моторы.
Полтора Ивана на другой день отбыл в штаб дивизии. Не выдержал.
Ночь пятьсот четырнадцатая
Через наш поселок проезжают автомашины с морскими пехотинцами-десантниками, которые спешат к месту сбора. Некоторые останавливаются. Моряки группами подходят к нам, знакомятся, балагурят, назначают свидания — на Крымском берегу, на вершине Митридата. Мы понимаем, что им предстоят тяжелые бои, но виду не подаем, больше того, не скупимся на встречи, кокетничаем напропалую.
— Значит, вечерком?
— Лучше в полночь…
— Я буду в юбке, узнаете?
— У меня в руках будут розы, у него — гитара…
— А что такое полундра?..
Проводив моряков до машины, мы дружно машем руками, улыбаемся. А с другой стороны уже слышится песни!
Не думали, братцы, мы с вами вчера, Что нынче умрем под волнами…Поют с упоением, невольно создается впечатление, что смерть под волнами — это что-то удивительно интересное, приятное.
Больше всех получила приглашений на Митридат Хиваз. Ее пытались даже увезти, но мы были начеку.
Когда остановилась очередная машина, человек семь-восемь подошли к «Шатру шахини», остальные остались в кузове. Один моряк — высокий, стройный — спрыгнул на землю, но даже не посмотрел в нашу сторону. Слегка прихрамывая, он стал разминаться у машины. Хиваз, видимо, решила «подцепить» и его. Подбежала, сунула ему в руку большое яблоко. Вернулась с трофеем — маленькой губной гармошкой. Играет на ней, приплясывает, прямо как заведенная. Лейла этой сценки не видела, была в штабе.
Вечером в общежитии гармошка пошла по рукам, девушки по очереди демонстрировали свои музыкальные способности. Вошла Лейла, удивленно подняла брови.
— Откуда?
— Морячок подарил, — Хиваз протянула гармошку. — Поиграй.
Лейла, присев на койку, начала играть, да так, что все притихли. Но вдруг оборвала мелодию, стала внимательно рассматривать гармошку со всех сторон.
— Ой, Лейла-джан, какая ты молодец, — защебетала Хиваз. — Дарю ее тебе. Поиграй еще.
— Спасибо, — каким-то странным голосом сказала Лейла. — Потом поиграю, устала…
Я почуяла что-то неладное. Глянула — на Лейле лица нет.
— Что с тобой? — тихо спросила.
— Ничего…
Она быстро разделась, легла и, сунув подарок под подушку, укрылась с головой.
На море шторм, дождь. У меня отчего-то ноет сердце, не могу уснуть. Лейла тоже не спит, я чувствую, В ночной тишине нежно воркует гитара, кто-то напевает:
Очи черные, очи страстные, Очи жгучие и прекрасные…На другой день все разъяснилось. Вернее, запуталось.
— Это его гармошка, — Лейла сделала ударение на слове «его». — Я узнала. Есть отметинки. Он меня научил играть на ней, там, в Куйбышеве.
— Но почему он не подошел? Видел же — аэродром, одни девушки. Нет, не может быть, — усомнилась я. — Да и он летчик, а не моряк.
— Ну и что, война. Все может быть, — возразила Лейла. — Я расспрашивала Хиваз. Это был он.
— Что-то не верится. Просто подарил какому-то приятелю, вот и пошла по рукам… А точно — та гармошка?
— Точно. Это он, он, — волнуясь, утверждала Лейла. — Я чувствую.
— Надо проверить, — не уступала я.
— Проверю.
— А как?
— Не знаю. Как-нибудь…
Случай взволновал и меня. Протянув руку, я попросила:
— Дай-ка мне гармошку, погляжу…
Гармошка как гармошка. Бывшая в употреблении.
Ночь пятьсот семнадцатая
В октябре 1943 года войска Южного фронта — он потом был переименован в 4-й Украинский — вышли к Сивашу и Перекопу, крымский капкан захлопнулся. Но немцы не собирались уходить из Крыма. Бои за Керчь были особенно тяжелыми, гора Митридат сверху донизу омыта кровью.
На Керченском полуострове находилось 85 тысяч гитлеровцев, 70 батарей береговой и зенитной артиллерии, много танков и самолетов. Прибрежная полоса в районе Керчи — сплошное минное поле, у берега постоянно патрулировали фашистские военные корабли.
Бершанская, как всегда, провожает нас в полет. Затем, поглядывая на часы, она будет ходить до рассвета по аэродрому, глотая гарь, тревожиться.
Мой штурман сегодня — Хиваз. Летим над Керченским проливом. Встречный ветер, мелкий, как из сита, дождь. Сырой воздух распирает легкие. Лейла где-то впереди.
Вспыхнули десятки прожекторов, и мы увидели внизу катера, мотоботы, тендеры, лодки. Кажется, они стоят на месте. С берега по ним бьют орудия, пулеметы. Пролив расцвечивается зловещими кострами. Наша задача — поддерживать десантников, подавлять огневые точки врага, гасить прожекторы.
Часть лучей перекидывается на нас. В перекрестье будто застыл «По-2».
— На прожектор! — крикнула Хиваз. — Сброшу две…
Но прожектор почему-то погас раньше, чем отцепились бомбы.
— Испугались, — говорит Хиваз, — я не промахнулась бы. Айда на второй круг…
Во время третьего вылета, глядя на горящие суда, мощные фонтаны взрывов, кинжальные полосы трассирующих пуль, я с горечью подумала: «Неудача… Десант разгромлен».
— Магуба-джан, гляди, берег горит!
В районе поселка Эльтиген, южнее Керчи, в оранжевом тумане сверкают разрывы снарядов, взвиваются и распадаются на части столбы дыма. «Часть десантников все же высадилась, — без особой радости подумала я. — Они там сгорят».
Но они не сгорели, хотя в ту же ночь родилось название «Огненная земля». Сорок дней и сорок ночей удерживали десантники клочок керченской земли.
Тогда, в ночь с 31 октября на 1 ноября, мы еще не думали, что действия нашего полка будут определять судьбу «Огненной земли».
Десант 18-й армии у поселка Эльтиген был вспомогательным. Гитлеровцы нащупали его в проливе прожекторами и открыли убийственный огонь. На берег удалось высадиться лишь передовому отряду. Остальные десантники частью погибли, частью вернулись в Тамань.
Передовой отряд занял Эльтиген. Утром немцы обнаружили, что десантников мало, бросили на плацдарм танки, рассчитывая одним ударом разделаться с горсткой храбрецов. В течение часа десантники, действуя гранатами и противотанковыми ружьями, успешно отражали натиск врага. Наконец, удалось наладить связь с Таманью. Командир передового отряда прохрипел в трубку:
— Огня! Огня дайте!
С Таманского полуострова ударила наша артиллерия, «катюши». Немцы, казалось, затихли, но лишь на время, чтобы снова ринуться в бой.
Девять яростных атак отбил героический отряд в первый день. Боеприпасы были на исходе. Прижатые к морю, десантники поднялись все, даже раненые, и во весь рост сами ринулись в атаку. Гитлеровцы дрогнули и отступили. А вечером прибыло пополнение.
Второго ноября в десять часов вечера с косы Чушка по району северо-восточнее Керчи открыли огонь более 400 орудий и два полка «катюш». Через двадцать минут огонь перенесли в глубину вражеской обороны. Под его прикрытием на берег высадились штурмовые группы основного десанта. К исходу пятого ноября десантники захватили плацдарм, его длина по фронту составляла десять километров, глубина — шесть.
В те дни Совинформбюро ежедневно сообщало о ходе боев на «Огненной земле» и на северо-восточном плацдарме.
Седьмого ноября: уничтожено более тысячи гитлеровцев, захвачены пленные…
Восьмого ноября: уничтожено более 800 солдат и офицеров противника, шесть танков…
Двенадцатого ноября: десантники северо-восточного плацдарма вклинились в оборону противника, окружили и уничтожили 1500 немцев, многие гитлеровцы утонули в море. Захвачено более 20 орудий, десять прожекторов…
Совинформбюро сообщало и о действиях нашего полка. Это были «максимальные ночи». Однако я забежала вперед. Вернемся назад, пойдем, как говорится, на второй круг…
Ночь пятьсот двадцатая
— Построиться поэскадрильно! Перед КП! — выкрикнула дежурная.
На море шторм, облика, словно крылатые чудовища, проносятся над аэродромом. Наташа Меклин выносит полковое знамя. Рядом с Бершанской — незнакомый морской офицер.
— Симпатичный какой! — услышала я за спиной быстрый шепот.
— Товарищи гвардейцы! — в голосе Бершанской звенит сталь. — Командование армии объявило вам благодарность за успешные, самоотверженные действия в операции по высадке десанта южнее Керчи.
В наступившую паузу врывается дружное:
— Служим Советскому Союзу!..
— Сейчас огнеземельцы, — продолжала Бершанская, — находятся в очень трудном положении. Они оттянули на себя основные силы керченской группировки противника, но у них на исходе боеприпасы, продовольствие, нет медикаментов, воды. В море шторм, пробиться нашим судам к Эльтигену не удается. Сбрасывать грузы с больших самолетов бесполезно, плацдарм слишком мал. По летной инструкции я не могу приказать вам лететь. Погода нелетная. Но кто хочет добровольно протянуть руку помощи отважным огнеземельцам — два шага вперед!
Строй колыхнулся, мы шагнули все, как одна.
Морской офицер взволнованным голосом поблагодарил нас, назвал соколами…
С автомашин выгрузили мешки, оружейницы и техники подвесили их вместо бомб. Лейла, прикрывая лицо от ветра планшетом, бегает от самолета к самолету. Она должна лететь первой. Бершанская напоминает!
— Ориентир три огня, треугольник возле школы…
В полете Хиваз молчит, и это как-то непривычно.
— Апа-джан! — вдруг обращается она ко мне взволнованным голосом.
— Что, детка? — настораживаюсь я.
— Этот дядька с гармошкой… Он что, обидел Лейлу?
— Темная история.
— Вот сброшу ему прямо на голову…
— Правильно, — невольно улыбаюсь я, — так и надо, целься получше.
— А я ему яблоко дала. Лучше бы сама съела…
Ветер тащит нас через пролив, никакого мотора не надо. Но я даю полный газ, набираю высоту. Летим вслепую, кругом чернота. Вся надежда на штурмана.
— Пора снижаться, товарищ командир.
— Ты не ошиблась, Хиваз? Все точно?
— Как в аптеке!
— Тогда ищи огни.
— Увижу, Магуба-джан, не беспокойся, у меня глаза острые, как у степного орла.
Впереди зажигаются бледные шары — это зенитки бьют по самолету Лейлы. Прожекторов не видно, лучи застревают в тучах.
— По расчету, огонь открыли, когда Руфа уже отбомбилась, — обрадованно сообщает Хиваз.
— Не отбомбилась, а сбросила груз, — поправляю я.
— Да, правда. Всю ночь будем летать, выручим наших кавалеров! На меня один так смотрел, как будто…
— Не тараторь.
С выключенным мотором летим вдоль берега. Высота сто метров… Восемьдесят… Пятьдесят…
— Вправо. Еще. Так держать! — командует Хиваз. — Вижу. Вижу треугольник!
Только бы не подвел мотор — врежемся в свои же окопы.
Самолет качнуло: это груз пошел к земле.
— Полундра! — орет Хиваз. — Картошку привезли. Угощайте фрицев! Гвардейский привет!..
Несколько прожекторов впиваются в самолет, кажется, во всем мире нет ничего, кроме этого противного света, трассирующих пуль, лая «Эрликонов».
— Ничего страшного, — шепчу я и, убрав газ, заваливаю самолет — падаем в море.
Немцы прекратили огонь, все прожекторы, кроме одного, отшатнулись прочь. Выждав время, включаю мотор на полную мощность — спасибо ПАРМу! — тяну ручку на себя. Сквозь зубы напеваю:
Все выше и выше, и выше Стремим мы полет наших птиц…— Магуба-джан, ты поешь или кашляешь?
— Кашляю.
— Давай споем. Вот хорошая песня:
Наверх вы, товарищи, все по местам, Последний парад наступает, Врагу не сдается наш гордый «Варяг», Пощады никто не желает…В ту ночь мы сделали более двухсот вылетов. Помогли и второму десанту. На том плацдарме, в случае чего, можно было приземлиться. Первая вынужденную посадку там совершила Ира Себрова. Потом рассказывала:
— Одно колесо, на наше счастье, угодило в воронку. Иначе врезались бы в горку. Вылезли, глядим: справа — танк с крестом, слева надолбы, позади колючая проволока, кошмар…
Иру и ее штурмана в тот же день вывезли с плацдарма на катере. Кругом раненые, убитые, и они двое. Попали под бомбежку. А мы, ожидая, все глаза проглядели…
В армейской газете «Знамя Родины» каждый день печатались материалы военного корреспондента Сергея Борзенко, участника южного десанта. Ему потом присвоили звание Героя Советского Союза. На «Огненной земле» каждый человек был на счету, и корреспондент ходил в атаки, подбивал танки. Помню, он написал о женщине, санинструкторе. Бойцы лежали перед колючей проволокой. Вокруг рвались снаряды, мины — никакой защиты. А время уходит, Саперы сделали проход. Все готово, можно идти в атаку, а командира, видимо, убило. Все лежат. Орудия и пулеметы бьют почти в упор. Жить им оставалось минуты, всех бы перебили. И вдруг женщина, Галина Петрова, поднимается во весь рост, бросается в проход и кричит:
— Вперед!
Моряков будто ветром подхватило. За этот подвиг Галине Петровой было присвоено звание Героя Советского Союза. Позднее мы узнали, что она погибла. Моряки похоронили ее с воинскими почестями, поклялись отомстить за нее, И клятву сдержали.
Писал Сергей Борзенко и про наш полк.
Северо-восточный десант расширил плацдарм, там была создана Отдельная Приморская армия. Десантники с боями прорвались в восточный район Керчи. Эльтигенский десант свою задачу выполнил и седьмого декабря ночью пошел на соединение с главным десантом. Прошли с боями двадцать километров и штурмом взяли гору Митридат! Но силы были слишком неравные, десантникам пришлось отступить, их сняли с керченского берега и отправили на отдых и лечение в тыл.
Ночь пятьсот пятьдесят седьмая
Лейла готовит двух новых пилотов, по очереди летает с ними на своем самолете. После обеда, проводив ее в полет, я направилась домой и по пути встретила незнакомого моряка. Он был низкого роста, с могучей грудью, угрюмым, загорелым лицом. Голова забинтована. Шесть наград, два ордена Славы.
— Где мне найти Ольгу Санфирову? — спросил он рокочущим, как мотор бомбардировщика, голосом.
Сердце у меня екнуло. Лейла говорила мне, что в один из мешков, сброшенных десантникам, она вложила записку, просила сообщить, есть ли на «Огненной земле» ее куйбышевский знакомый. Мне не верилось, что на записку кто-то обратит внимание. Но, кажется, она дошла по назначению.
— Санфирова в учебном полете, — сказала я сдавленным голосом, предчувствуя недоброе. — Будет через полчаса.
— У меня пять минут времени, — моряк нахмурился. — Жаль. Учится, значит.
— Не учится, а учит, — уточнила я.
— Понятно. А вы письмо ей передать можете?
— Конечно. Она моя подруга. От кого письмо?
— От человека, которого она разыскивала.
— Он жив? — насторожилась я.
— Ранен в ногу, — моряк протянул мне листок бумаги, свернутый треугольником. — Раз уж вы ее подруга, скажу кое-что от себя, можете передавать ей или не передавать, дело ваше.
— Слушаю вас.
— Записку Санфировой мы прочитали, передали ему. Была возможность послать ответ, но он не захотел. Кое-что нам было известно. В общем, ребята с ним крупно поговорили, заставили написать вот это, — он кивнул на конверт. — У него семья: жена, сын. Женился перед войной.
— Трус, — невольно вырвалось у меня.
Моряк поежился.
— Воевал он неплохо, а в этих делах… — он развел короткими, почти черными от загара и ветра руками.
Из-за дома выскочила Хиваз, увидев незнакомца, тихонько запела:
Раскинулось море широко…Моряк повернулся к ней, и она прикрыла рот ладошкой, испуганно вытаращив лукавые глаза.
— А ты что здесь делаешь, кроха? — спросил он удивленно. — Неужто воюешь?
— Подаю руку помощи с неба морячкам всяким, — затараторила Хиваз. — У меня сердце доброе, почему не помочь, если просят.
— Мой штурман Хиваз Доспанова, — представила я подругу.
— Вот как, — глаза десантника подобрели. — Прошу прощенья. Я о тебе слышал, между прочим. Внучка Джамбула, кажется?
— Так точно! — Хиваз вытянулась, щелкнула каблуками.
— Родная? — недоверчиво спросил моряк, с интересом разглядывая девушку.
— Конечно, родная. Все говорят: похожи, как две капли воды.
— И то верно, как это я сразу не заметил, — улыбнулся моряк.
— То-то же… А от кого вы про меня слышали?
— От ребят, которые хотели встретиться с тобой на вершине Митридата. Они там тебя ждут… — И, сразу посерьезнев, сказал: — Дай руку.
Моряк бережно взял тонкую, смуглую руку растерявшейся Хиваз и поцеловал ее.
— Спасибо, сестричка, — он выпрямился, от его угрюмости не осталось и следа. — Мне пора. Пока…
У меня подкосились ноги, я опустилась на ступеньку, держа письмо в руке. Хиваз, утирая слезы, всхлипывая, спросила:
— Лейле-джан?
— Да…
Я знала, что Хиваз умеет хранить секреты, и посвятила ее в тайну подруги. Посидели, погоревали.
— Не будет ему счастья, — зло сказала Хиваз, стукнув кулачком по коленке. — А Лейла свое счастье найдет. Теперь она свободна, как птица. Выйдет замуж за Ахмета. Красивый, храбрый, любит ее всей душой… Хуже всего неопределенность, правда?
Я была с ней согласна, но жалость к Лейле терзала сердце. Полетов в эту ночь, к счастью, не было. Впрочем, Лейла перенесла удар мужественно. Прочитав письмо, показала его мне, потом вместе с гармошкой бросила в печь.
— Никому не говори, ладно?
Я призналась, что выдала ее тайну Хиваз.
— Ей можно. Руфе я еще скажу… — она помолчала и добавила: — Ты знаешь, как ни странно, я чувствую какое-то облегчение.
— Еще бы! — воскликнула я.
— Да, теперь все встало на свои места. Наверное, это к лучшему. Понимаешь, ведь он стал за эти годы другим человеком, я не раз над этим задумывалась. А любила я того, довоенного соседского парня. И буду любить всегда…
Мы никогда больше не заговаривали об этом человеке. Судить его я не хочу, да и права не имею. А простила ли его Лейла, не знаю.
Ночь пятьсот семьдесят восьмая
Накануне Нового года Хиваз Доспанова, Руфа Гашева, Вера Белик, Ира Себрова и я получили совершенно неожиданно дорогие «подарки»: командир нашей дивизии генерал-лейтенант Федоров вручил нам ордена. В мае меня наградили орденом Красного Знамени и вот сегодня — орденом Отечественной войны.
После праздничного обеда я решила написать письмо маме. Сижу и думаю, как бы, не пугая особенно родных, сформулировать простую истину: за что я удостоена такой высокой награды… Вбежала Хиваз и начала сердито взбивать подушку на своей постели.
— Что случилось, деточка?
— В резерв поставили! — сердито выкрикнула она.
Можно было подумать, что ее не взяли на какой-нибудь веселый праздник.
— Радоваться надо, не злиться, — упрекнула я ее. — Признаться, лететь в новогоднюю ночь на задание не очень-то приятно. И отдохнуть тебе не мешает.
— Не хочу отдыхать, — продолжала капризничать Хиваз. — Я и так от всех отстала по количеству вылетов.
— Я тоже отстала, но подушку свою не терзаю.
— Апа-джан, с кем ты сегодня летишь? Не знаешь? Может, сбегать узнать?
— Не надо.
— Тогда и тебе сегодня лететь не обязательно, тем более, нет настроения. У тебя же фурункулы. Иди в санчасть, возьми освобождение.
Действительно, уже неделю меня мучают фурункулы, но прекращать полеты из-за такого пустяка я не хочу. Правда, спала плохо, утром стукнулась головой о верхние нары… Может быть, в самом деле отдохнуть? Тем более праздник. Но я тут же устыдилась своих мыслей и твердо решила — полечу.
— Поможешь мне забраться в самолет, ладно?.. — попросила я Хиваз. Она кивнула.
Оказалось, на сегодня мой штурман — комиссар полка Евдокия Яковлевна Рачкевич. Летать она не обязана, на земле дел хватает, но иногда превращается в штурмана, чтобы, как она говорит, размяться. Мне с ней летать не приходилось, но я слышала, что справляется она со штурманскими обязанностями неплохо.
Пришла Лейла с новостью: организуется четвертая эскадрилья, меня собираются направить в нее командиром звена и парторгом. Не знаю, горевать или радоваться: не хочется расставаться с родной эскадрильей. А сама недавно посмеивалась над Катюшей Рябовой. Кстати, она после санатория выглядела посвежевшей, спокойной, просто счастливой.
На аэродроме обычное оживленье: подъехал укрытый ветками бензовоз, техники в последний раз осматривают самолет, оружейницы подносят бомбы. С помощью Хиваз я поднимаюсь на крыло, сажусь в кабину. Мотор заводится сразу. Рачкевич поздоровалась с девушками, проверила бомбовые замки, расписалась в журнале. Несмотря на свою полноту, мигом очутилась в кабине, словно на коня вскочила.
«Знает, что некоторым девушкам не хочется рисковать в праздничную ночь, — подумала я, — решила показать пример».
Полетели. Про свои фурункулы я сразу забыла. Задача у нас не простая — мы будем бомбить небольшую железнодорожную станцию Багерово, через которую в Керчь идут эшелоны с оружием, боеприпасами, пополнениями. Станцию окружают холмы, на них много зениток, прожекторов.
— Погода портится, — ворчит Рачкевич, ворочаясь в кабине. — Надо же, только что сияли звезды и вот… дождь со снегом. Пожалуй, полеты отменят. Может, вернемся?
Я молчу, продолжаю полет. Возвращаться или нет — решать мне, я командир экипажа. А погода ухудшается на глазах: порывистый ветер, мокрый снег. С приглушенным мотором я планирую над станцией, закрытой низкими тучами. Чтобы различить цель, надо опуститься ниже, чем разрешает инструкция. Что делать? Может быть, за моей спиной — строгий контролер?
— Спускайся, Магуба, я же знаю, как вы поступаете в подобных случаях.
Вот это по-нашему!
Немцы, видимо, не ждали нас в такую погоду, и Рачкевич точно сбросила бомбы на вагоны, стоящие на путях.
— Новогодний гостинец, — удовлетворенно сказала она и вышвырнула из кабины несколько термитных бомб.
Нас обстреляли. Самолет качнуло, я еле выровняла его и с ужасом увидела, что правое крыло горит. Немцы, увидев, что «рус-фанер» вспыхнул, прекратили огонь, лишь один прожектор провожал нас, пока мы не скрылись в тучах. Мне казалось, что я чувствую жар щекой, будто сижу у печки. Рачкевич смотрела на огонь широко раскрытыми глазами, как завороженная. Штурман мне ничем не могла помочь, лишь бы сидела, не суетясь, на своем месте.
— Ремни застегнуты? — спросила я.
— Да, Магуба.
— Держитесь. Ничего страшного…
Дав полный газ, резко накреняю самолет. Воздушная волна дробит пламя, рассыпая искры. Непогода, которую мы еще несколько минут назад проклинали, спасла нас — дождь и снег сделали свое дело, пламя погасло.
— А я уж думала, Новый год встретят без нас, — сказала Рачкевич, обтирая руками лицо. — Чуть не испортили праздник. Хорошо, что немцы прекратили огонь, снарядов пожалели.
— Снаряды они не жалеют, — заметила я. — Готовились встретить другие самолеты.
— Выходит, так…
Рачкевич поправила летный шлем.
— Первый раз летела в горящем самолете. Ощущение не из приятных. Душа ушла в пятки. А тебе страшно было, Магуба?
— Как никогда, — призналась я. — Особенно в первый момент. Сгореть заживо… Потом вдруг появилась уверенность, что мокрый снег нас выручит.
— А сказала — ничего страшного, — Рачкевич рассмеялась. — Я была потрясена.
— Это я переняла у Жени Рудневой. В самые жуткие моменты она произносит эти слова. Разница в том, что она, по-моему, в самом деле ничего не боится. Я слышала, есть такие люди, их очень мало, но есть.
— Что-то не верится. Просто огромное самообладание.
— Может быть…
Незадолго по полуночи в столовой появились гости: командующий армией генерал Вершинин с группой офицеров и командир соседнего полка майор Бочаров со своими орлами. Поздоровавшись с Бершанской, Бочаров, как всегда, начал подшучивать.
— Показывай, показывай своих невест… Так, так… На вид хороши, просто глаза разбегаются, а вот как с приданым, а?..
— Порядок, — успокоила его Евдокия Давыдовна, — есть очень богатые невесты — по пятьсот вылетов и больше…
Командующий зачитал новогоднее поздравление Военного совета фронта.
— С Новым годом, дорогие товарищи, с новыми победами!
Мы дружно выпили вино. Кружек на всех не хватило — пили из консервных банок. Мужчины в эту праздничную ночь превозносили нас до небес. Самый приятный комплимент нам сделали французские летчики из полка «Нормандия — Неман». Командующий передал их слова, обращенные к нам: «Даже если собрать все цветы мира и положить к вашим ногам, их будет мало, чтобы воздать должное вашей отваге».
Когда начались танцы, мы с Женей Рудневой устроились в уголке, вспомнили все хорошее и плохое, что было в старом году.
Большинство девушек были награждены орденами и медалями. Нам первым в дивизии вручили гвардейское знамя. Нашему полку присвоено наименование — Таманский. Враг отступает, победа стала ближе… А плохое — четырнадцать погибших подруг. Их мы никогда не сможем забыть: воевали бок о бок, делили последний сухарь. Гибель девушек — это наша тревожная память, которая не дает покоя, призывая мстить ненавистному врагу.
Однако праздник есть праздник. Предаваться унынию и грусти не хотелось.
Помолчав, Руднева спросила:
— А ты знаешь, Магуба, кто у нас в России была самая первая летчица?
— Нет, Женечка, не знаю.
— Лидия Зверева. Она стала пилотом в 1911 году. Летала на неуклюжих аэропланах, которые прокладывали тогда в небе первые трассы. А после революции первым военным летчиком Красной Армии, первой из женщин, стала в 1925 году Зинаида Кокорина. Ее муж был летчиком, погиб в одном из полетов, и она решила заменить его. Поступила в летную школу, там познакомилась с Чкаловым. Он очень помог ей на первых порах. В то время еще не было ясно, сможет ли женщина выдержать огромную физическую и психологическую нагрузку, которую испытывает пилот военного самолета. Кокорина доказала: женщине это по плечу. Позднее она окончила школу воздушной стрельбы и бомбометания. Первая женщина-ас!
Лейла веселилась вовсю, танцевала вальс с командующим, а потом кружилась со всеми гостями по очереди. Много было спето песен, прочитано стихов, наши плясуньи отвели душу, вволю постучали каблуками.
— На следующем новогоднем празднике, — грустно сказала Женя, прижимаясь щекой к моему плечу, — кого-то из нас не будет…
Я вся похолодела. Обняла Женю и неожиданно для самой себя сказала:
— Дай мне обещание, что не будешь летать на задания с неопытными пилотами.
— Даю тебе, дорогая Магуба, торжественное обещание, — не задумываясь, ответила Женя, — что никогда не буду летать на трудные задания с очень опытными пилотами. Разве уж задание будет очень, очень трудным. Обещаю летать, пока жива, с малоопытными пилотами на любые задания как можно чаще…
Ну что с ней поделаешь!
Ночь шестисотая
Непроглядная, сырая январская ночь. Ощущение такое, что время остановилось, что наш «По-2», схваченный мглой, неподвижно повис где-то в космическом пространстве и еще долго-долго вокруг ничего не изменится…
Неожиданный, как всегда, удар света, и мы попадаем из царства тьмы в ослепительно яркий полдень. По всему побережью Керченской бухты вспыхивают прожекторы, немцы открывают беспорядочный огонь по самолетам. Кажется, уцелеть в этом клокочущем море огня невозможно. Но тут по немецким позициям наносят удар «катюши»: по берегу словно пролетает огнедышащий змей, часть прожекторов гаснет, в том числе «наш», зенитки, подавившись пламенем, умолкают. Через несколько секунд они заговорят снова, но не все, а мы уже кое-что успеем сделать.
Немцы догадываются, что к берегу движется десант, освещают прожекторами пролив, но мы долбим и долбим их сверху бомбами. Нервы гитлеровцев не выдерживают: лучи прожекторов мигают все с большими перерывами. Совершенно очевидно: тщательно продуманная система оборонительного огня не срабатывает.
Прикрывая десант, наш полк в эту ночь, с 22-го на 23-е января 1944 года, по существу парализовал вражеские прожекторные установки в районе Керченской бухты, и немцам пришлось освещать пролив ракетами, САБами.
Возвращаясь на аэродром, я увидела целую флотилию наших катеров, лодок, тендеров, некоторые из них горели, но упорно шли к берегу. Им бы нашу скорость!..
После нашего массированного налета с косы Чушка по немецкому оборонительному рубежу ударила артиллерия. Когда огневой вал переместился в глубину, по берегу бухты еще раз прогулялись «катюши», и десантники высадились прямо посредине излучины, в порту, с ходу пошли в атаку. Одновременно в наступление перешли войска северо-восточного плацдарма, двое суток на улицах Керчи шли ожесточенные, кровопролитные бои, часть города была освобождена. Но враг еще силен — более 60 тысяч гитлеровцев вцепились в Керченский полуостров, их главный оборонительный рубеж проходил через Керчь. Во избежание больших потерь Ставка Верховного Главнокомандования дала указание прекратить штурм и закрепиться на завоеванных рубежах.
Саперы перебросили через пролив с Чушки четырехкилометровую канатную дорогу, по ней на крымский берег хлынул поток грузов для десантников. Дорога действовала безотказно в течение нескольких месяцев, немцы, как ни старались, вывести ее из строя не смогли.
Ночь шестьсот четырнадцатая
В сотый раз внимательно изучаю по штурманской карте район станции Багерово — ночью снова полетим туда. Мой сегодняшний штурман скромная кареглазая девушка Рая Аронова разбирает пистолет, аккуратно раскладывая детали на газете. Несмотря на молодость, Рая успела сделать более четырехсот вылетов, у нее два ордена. Родом она из Саратова, бывшая студентка университета, перед войной училась летать в аэроклубе, прыжки с парашютом были ее любимым занятием. Рая лучший стрелок из пистолета в эскадрилье.
Она давно мечтает стать пилотом, сегодняшние полеты — последний экзамен. Если нас не собьют, я завтра утром первая от души поздравлю ее.
«Есть же на свете люди, которые так любят оружие», — с некоторым недоумением думаю я, глядя, как Рая дышит на пистолет и тщательно протирает его чистой тряпкой. Наконец положила в кобуру, поправила гимнастерку, взглянула на часы.
— Магуба, давай твой пистолет почищу заодно, — предложила она.
— А успеешь?
— Успею.
Мое оружие в порядке, но я тронута заботой девушки и не в силах отказать ей.
Так же любовно, как свой, она разобрала мой пистолет, продула каждую детальку, протерла, быстро и ловко собрала, проверила, хорошо ли ходит затвор. Приятно смотреть на ее тонкие, гибкие, как у пианистки, пальцы.
— Спасибо, Раечка…
Наш последний совместный полет запомнился мне на всю жизнь.
По очереди управляя самолетом — в штурманской кабине имеется приспособление, позволяющее брать управление на себя, — мы сделали в ту ночь пять вылетов. Прямо радость охватила: станция вся в огне, и сами мы целехоньки, ни единой царапины. Рая на прощание поддала жару, сбросила термитные бомбы. Так сказать, поставила последнюю точку. Мы возвращались на аэродром уже на рассвете.
— Генерал Енеке, наверно, рвет и мечет, — сказала Рая. — Крепко мы ему насолили сегодня. По-моему, в Багерово есть наш разведчик, как ты думаешь? Есть, конечно. Только прибыл эшелон с горючим, а мы тут как тут…
Генерал Енеке — командующий двухсоттысячной армией, обороняющей Крым. Гитлер стремится любой ценой удержать полуостров, так как пока немецкие войска здесь, они сковывают наши силы на юге, и Черноморский флот вынужден ограничивать свои действия. Кроме того, как рассказала нам Мария Ивановна Рунт, владея Крымом, гитлеровцы прикрывают румынские нефтяные промыслы и оказывают политическое давление на Турцию.
Разумеется, Крым фашистам не удержать. Наши главные «полковые стратеги» Таня Макарова и Вера Белик давно все рассчитали. Правда, сроки наступления, предсказанные ими, оказались неточными, но своих ошибок девушки не признают — разве могут они ошибаться? Просто операция по освобождению Крыма задерживается из-за того, что выпало слишком много снега, такой зимы не помнят даже старожилы.
На станции Багерово, по-видимому, в самом деле орудует наш разведчик, может быть, даже не один: эту перевалочную базу мы «обрабатывали» не раз и всегда заранее знали, где размещены прибывшие грузы и что они собой представляют. Но говорить на эту тему не хочется, меня клонит в сон, хотя я сгрызла за ночь несколько плиток шоколада «Кола». Рая сегодня выделывала над станцией умопомрачительные номера, как акробатка под куполом цирка, но когда я спросила, не устала ли она, весело ответила: «Только разошлась!» Незаметно я задремала и проспала бы, наверное, всю дорогу, если бы не испуганный возглас Раи:
— «Мессер»!
Сонливости как не бывало.
— Беру управление на себя, — как можно спокойнее сказала я, хотя сразу сообразила, что мы обречены.
Фашистский летчик тоже увидел нас. Он летел навстречу, чуть правде, и мог бы сразу сбить беззащитный «По-2», но решил, видимо, покуражиться. Уменьшив скорость, он откинул фонарь кабины и, пролетая мимо, ухмыляясь, показал два пальца. Лицо одутловатое, с приплюснутым носом и бульдожьей челюстью. На хвосте и фюзеляже «мессера» намалеваны какие-то уродливые звери и птицы — для устрашения противника.
Рассветное небо было ясным, высота полторы тысячи метров, внизу Азовское море. Кажется, шансов на спасение никаких. Страх пришел и ушел, осталась одна тоска. Даю полный газ — маневрировать уже нет смысла. С горькой нежностью думаю о самолете. Мы получили его недавно, в связи с созданием новой эскадрильи, «По-2» делают в Казани, за приборной доской мы обнаружили послание молодых ребят-комсомольцев, рабочих завода. Обращаясь к летчику, они писали: «Желаем долететь до Берлина…»
Серые, холодные волны, уходящие за горизонт, кажутся неподвижными, они словно отлиты из гранита, «Наше надгробье, — подумала я, выжимая из мотора все силы. — А Рая молодец, сидит и не шелохнется. Пусть посмотрит этот пират, как умирают советские летчицы…»
Но Рая Аронова шелохнулась.
Немец сделал разворот и приблизился к нам с другой стороны. Набрал высоту, атакует сбоку, но стрелять не торопится. Снова, высунув руку, показал два пальца. Что он хочет этим сказать, непонятно.
В этот момент я услышала пистолетный выстрел. Второй. Третий… И «мессер», клюнув носом, в отлогом пике пронесся под нами и врезался в волны. Длинный хвост задрался, встал вертикально…
— Сдох! — не своим голосом закричала Рая. — Магуба, он сдох. Капут! Ты видела?
Я не могла вымолвить ни слова, онемела от нежданной радости. Вдруг захотелось исполнить какой-нибудь «танец» в воздухе, не знаю, как и удержалась.
«Почему он показывал два пальца? — немного успокоившись, задумалась я. — Хотел сказать — вас двое? Но это очевидно, нет смысла считать. Может быть, изображал первую латинскую букву в слове «Виктория»? Победа… Нет, вряд ли. Истребитель новейшей марки, последнее слово немецкой военной техники и фанерный «По-2» — силы слишком неравные, чтобы вести речь да еще на пальцах о какой-то победе. Безоружного человека, стоящего у стенки, которого расстреливает целый взвод, никто не станет уверять, что он побежден…»
И все же я, кажется, догадалась, что хотел нам внушить фашистский ас. Вероятно, именно он атаковал самолет Дуси Носаль. И вот — вторая жертва, второй «По-2», как он был уверен, на его счету. Двойная ошибка…
«Пистолет отблагодарил тебя за ласку», — хотела я сказать Рае, но промолчала. Наверняка эта мысль ей самой пришла в голову.
До самого аэродрома мы летели молча. Выйдя из самолета, я попросила у штурмана пистолет и на глазах Бершанской, группы техников поцеловала его. Никогда не думала, что буду целовать оружие, а вот довелось.
— Задание выполнено, — доложила я командиру полка. — На обратном пути нас атаковал «Мессершмитт-109», штурман Аронова выстрелами из пистолета сбила его.
Лицо Бершанской дрогнуло, она кивнула головой и сказала:
— Расскажите подробнее.
Я рассказала.
Раю обступили, поздравляли, расспрашивали. Уходя, я слышала ее лепет:
— Да что вы… Ну, выстрелила. Этот же инстинкт самосохранения…
Герой Советского Союза Рая Аронова из скромности или из опасения, что ей не поверят, никогда не рассказывала об этом случае, а в своих военных воспоминаниях приписала факт, свидетелем которого я была, совсем другому человеку, безымянному пилоту какого-то разведывательного самолета. Но с «мессером» она расправилась своей рукой у меня на глазах. Это произошло в феврале 1944 года. Более точную дату указать не могу, прошло столько времени. Возможно, рассказывая и о других событиях, я иногда допускаю неточности в датах, не судите меня строго за это. Что-то может сместиться в памяти, хотя я на нее и не жалуюсь пока.
Счет военным ночам я веду несколько условно, с первого боевого вылета, а не со времени прибытия нашего авиаполка на фронт. Учтите это. Так я считаю правильнее: ведь всегда памятны факты, события, а не просто дни или ночи.
У меня нет времени, чтобы что-то проверить, уточнить, да и, признаться, не вижу необходимости. Если и ошибусь в датах, то ненамного, за это я ручаюсь.
Ночь шестьсот пятнадцатая
Мы с Лейлой живем теперь в разных домах. Я захожу к ней по пути на аэродром. Сидит за столом, читает какие-то бумаги.
— Поворковать пришла? — ласково спросила она, подняв голову и застегивая верхнюю пуговицу на гимнастерке.
— Да, по поводу бригадного метода обслуживания самолетов.
— Посиди минутку — догляжу отчет старшины… — И, словно спохватившись, спросила: — Чаю хочешь?
— Не откажусь.
— Наливай. Еще горячий…
Новый метод, на который перешли недавно наши техники, расхвалили в сегодняшнем номере армейской газеты, но он мне не по душе. Все техники эскадрильи налетают скопом на один самолет, осматривают, ремонтируют, если есть необходимость, потом переходят к другому. Выигрыш во времени немалый, но, как говорится, у семи нянек дитя без глазу. Что-нибудь да в спешке проглядят. Часто говорит за себя качество ремонта. То недотянули гайку, то перетянули, а от разнобоя добра не жди.
Поговорили, поворчали — Лейла тоже не в восторге от новшества — но не выступать же нам в роли гонительниц новаторов производства. Никто нам не позволит ставить палки в колеса новому методу, одобренному высоким начальством. Хочешь не хочешь — доверяй самолет бригаде. Видимо, нужно усилить контроль.
Когда я приземлилась после первого вылета, самолет Лейлы готовили к старту. Прежде чем появилась моя бригада, сама осмотрела, сосчитала пробоины в крыльях — всего три, немного. Теперь не услышишь от техников горделивых возгласов:
— У моей — шестнадцать пробоин было, рекорд эскадрильи!
— А видела, как моя приземлилась? Клочья перкаля развевались, как флаги!..
Отдыхаем с Хиваз на ящиках. Она взволнованно говорит о вчерашнем подвиге Ароновой.
— Надо ей орден дать за это. Человек иногда способен совершать чудеса…
В истинности этих слов мы еще раз убедились, спустя несколько минут.
Метрах в десяти от самолета Лейлы, заправленного, с подвешенными бомбами, стоял неисправный «По-2», который ремонтировала бригада техников. Вспыхивали и гасли карманные фонарики, постукивали гаечные ключи и молотки, поскрипывала пила. И вдруг — яркая вспышка, девушек как ветром сдуло, самолет загорелся.
Лейла подскочила к своему самолету и, приподняв его за хвост, откатила далеко в сторону. Вскоре, пронзительно воя, подъехала пожарная машина. Работа закипела. Водой, снегом, песком, пеной огнетушителей яростное пламя удалось усмирить, но от самолета остался лишь остов. С трудом затолкали его в мастерскую, Лейла улетела на задание. Техники молча проводили ее восхищенными взглядами. Обычно, чтобы передвинуть «По-2», требовались усилия нескольких девушек, а Лейла справилась одна. Если бы огонь перекинулся на ее самолет, трудно даже представить, что бы произошло.
На другой день была отличная погода, снег, выпавший ночью, мерцал, искрился под лучами солнца. Девушки на аэродроме по очереди пытались в одиночку перекатить «По-2» с места на место — ничего не получалось. А почти все они на вид были сильнее Лейлы. Увидев ее у командного пункта, закричали:
— Лейла, иди сюда!
— Поделись опытом: научи нас перекатывать самолеты…
— Повтори вчерашнее!..
Лейла, улыбаясь, подошла к самолету, ухватилась, напряглась… «По-2» не сдвинулся с места. Раздались веселые голоса:
— Ты завтракала сегодня?
— Он же без бомб, полегче. И бак пустой!
— По заказу не могу, — Лейла смущенно развела руками. — Поиграем лучше в снежки…
Кстати, подобный случай произошел за год до этого на Кубани. Тогда в роли богатыря выступила Марина Чечнева, теперешний командир эскадрильи.
Многие люди и не подозревают, какие возможности заложила в них природа. Главное — не теряться.
Происшествие расследовала специальная комиссия. Конкретно никого не обвинили, никто не был наказан, но члены комиссии долго беседовали с техниками полка, отметили, что бригадный метод заслуживает всяческих похвал, но девушки пользуются новшеством неумело. Каждая из них должна нести ответственность за свой «плацдарм», за тот или иной узел, тогда не будет никаких ЧП. И в самом деле, чрезвычайных происшествий больше не было.
Ночь шестьсот шестьдесят третья
Стоя у карты, Мария Ивановна Рунт рассказывала нам о ходе наступления Красной Армии на Правобережной Украине.
— Корсунь-Шевченковская операция, — Рунт обвела карандашом круг на карте и поставила на нем крест, — может быть названа Сталинградом на Днепре. В окружении оказалось около 80 тысяч гитлеровцев. Вырваться из кольца немцам не удалось. А Гитлер направил обреченным солдатам радиограмму: «Можете положиться на меня, как на каменную стену. Вы будете освобождены из котла…» Ультиматум советского командования о капитуляции был отвергнут. И вот результат: на поле боя осталось 55 тысяч немецких солдат и офицеров, остальные — в плену. Наши войска продолжают победоносное наступление, бои идут у предгорья Карпат.
В столовую вошла Бершанская с листком бумаги в руке. По ее лицу видно: она принесла важную, хорошую новость. Девушки расступились перед ней.
Бросив взгляд на карту, Евдокия Давыдовна немного пошепталась с парторгом и громко объявила:
— Сегодня, на 1009-й день войны, наши войска вышли на государственную границу СССР с Румынией на 85-километровом участке фронта. Вот здесь, — она провела пальцем черту на карте, — попранная врагом тридцать три месяца назад наша священная граница восстановлена, боевые действия перенесены на вражескую территорию. Сегодня столица нашей Родины салютует блистательной победе воинов 2-го Украинского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий…
После сообщения Бершанской Рунт прочертила на карте новую линию фронта и переставила красные флажки.
Митинг, посвященный долгожданному событию, начался с общего ликования, которому, казалось, не будет конца.
После митинга я подошла к Тане Макаровой и Вере Белик, которые, склонясь над своей картой, производили какие-то измерения линейкой. Занятые делом, они не обратили на меня внимания.
— Если по прямой, — шептала Вера.
— Лучше через Бухарест… — предлагала Таня.
Я поняла, что они уже разрабатывают предстоящую в скором будущем Берлинскую операцию, и не стала им мешать.
Одна из наших девушек-техников Ганна Борсунь стояла у большой карты, плакала и повторяла:
— Бельцы… Бельцы… — Заметив меня, спросила: — Значит, можно писать письмо?
— Конечно, — ответила я. — Кто у тебя там?
— Двое ребятишек, свекровь.
— Такая молодая и двое детей? — удивилась я. — Когда ты успела?
— Успела. Не знаю, живы ли… Пойду писать письмо.
Ганна убежала, меня тронула за плечо Макарова.
— Магуба, надо помочь ей собрать посылку, письмо письмом…
— Правильно, Макарыч! — загорелась и я. — Не будем откладывать.
Пока Ганна писала письмо, посылка двум маленьким гражданам, освобожденным от фашистской неволи, была собрана. Сахар, сухари, два вышитых полотенца, мыло, шоколад. Ящик уже обшивали, когда в общежитие вошла Женя Руднева. Узнав, в чем дело. Похлопала себя по карманам, растерянно огляделась.
— Вот! — она протянула девушкам деревянную ложку. — Ничего подходящего нет.
— Пригодится в хозяйстве, — сказала Таня, засовывая фронтовой гостинец в сверток. — Будет чем кашу есть…
Не все, однако, к жесту Жени отнеслись одобрительно. Кто-то шепнул мне на ухо:
— Не к добру.
Я сердито отмахнулась. Мало ли людей на фронте теряли или дарили на память свои ложки. До чего же суеверный народ — летчики…
Таня Макарова взяла на руки посылку и, покачивая ее, как младенца, направилась в общежитие техников.
В эту ночь полк наш получил задание провести разведку боем. Штурманы уточняли на картах расположение вражеских зенитных установок в районе Керчи.
Ночь шестьсот шестьдесят пятая
Там, где встречаются два океана или два моря, хорошей погоды почти не бывает. Моряки всего мира проклинают мыс Горн, мыс Доброй Надежды, а сегодняшней ночью, я чувствую, достанется Керченскому проливу от моего штурмана Хиваз Доспановой. Час назад, в первый наш вылет, погода была сносной, всем полком мы бомбили укрепленные пункты в районе Керчи, а вот второй вылет…
Со стороны Крыма с большой скоростью навстречу нам катятся волны тумана. «Надо возвращаться», — думаю я, но продолжаю полет. Где-то впереди — самолет командира эскадрильи Чечневой. У нее опытный штурман Таня Сумарокова. Какое они примут решение?..
Вспоминаю напутствие Бершанской: «Действуйте, исходя из обстановки. Если облачность будет ниже шестисот метров, возвращайтесь». Мы часто нарушаем это ее указание — снижаемся иногда до трехсот метров, осколки своих же бомб пробивают плоскости, но если поражена цель, выведена из строя, скажем, огневая точка противника, значит, риск оправдан. Ведь каждое попадание в цель — это спасенные жизни наших солдат, которым предстоит освобождать Крым.
Никакого просвета — весь Керченский полуостров залит туманом.
— Ветер меняется, — докладывает Хиваз. — По времени мы в районе Керчи. Проклятый туман.
— Возвращаемся, — говорю я и разворачиваю самолет на 180 градусов. Жалею, что не повернула раньше. Предстоит посадка с бомбовым грузом в тумане на наш открытый всем ветрам аэродром. Но до него еще надо долететь.
— Термички сброшу, — говорит, Хиваз. — Пять штук… Получайте, вараньи морды! Пауки! Скорпионы!
Она немного отвела душу, притихла. Но я знаю — ненадолго. С ней не соскучишься.
— Проклятый, ветер. Не пролив, а какая-то труба… Магуба, нас сносит к северу.
Значит, ветер тоже повернул, на 180 градусов, из этой — «трубы» он нас вытолкнет.
Хиваз уточняет курс. По ее расчетам мы должны подлететь к аэродрому со стороны Азовского моря. Летим против ветра, скорость сорока километров.
— Не мотор, а черепаха, — ворчит Хиваз. — На автомашине давно бы доехали.
Ее не смущает, что под нами море.
— Тяни, тяни, голубчик, не подведи!
Превратить черепаху в птицу Хиваз ничего не стоит.
Если бы ее энергию подключить к мотору…
— Магуба-джан, берег должен быть близко. А прожектора не видно.
Не только прожектора, я вообще ничего не вижу, кроме приборов. Главное — дотянуть до земли. Голая, темно-бурая равнина, без единого деревца, покрытая тысячами воронок, наводящая тоску, — какой желанной и милой она вдруг стала для нас!
Шквальный ветер не пускает самолет к берегу, мне кажется, что мы летим назад, а не вперед.
— Ни за что не согласилась бы жить в этой Пересыпи, — заявляет Хиваз. — День и ночь, круглый год — ветер, ветер, ветер! Туманы, дожди, мокрый снег! Магуба, а ты бы согласилась?
— Никогда, — отвечаю я и думаю: Пересыпь для нас вроде аэродрома подскока для перелета в Крым и дальше — к Победе. А вдруг откажет мотор?..
— Магуба-джан! Землей пахнет, слышишь? Земля!
Ах, если бы она еще крикнула: «Пересыпь!»
Порывистый ветер, то затихая, то усиливаясь, рвет туман в клочья. Хиваз, постоянно уточняя маршрут, что-то разглядела.
— Чуть правее…
Белое размытое пятно впереди — неужели это наш прожектор? Ну да, нас ждут, встречают, как же иначе? За моей спиной — лучший штурман в мире.
Садиться будем поперек взлетной полосы, с ходу. Ширина ее — триста метров. Но за ней — высоковольтные провода, столбы. На второй круг не зайдешь…
Едва касаемся земли, техники и вооруженцы с двух сторон подхватывают самолет, закрепляют его. Мы узнаем, что не вернулся один экипаж — Тася Володина и Аня Бондарева. Все другие приземлились с бомбами. Накрывшись капотом, мы молча сидим в кабинах. Подавленность сменяется тревогой. Где-то там, над морем, кружит одинокий маленький самолет. Он вылетел на задание раньше нас. Горючее на исходе…
Тася и Аня — скромные, обаятельные девушки, самый молодой и, пожалуй, самый неопытный экипаж в полку. Правда, Бондарева — штурман звена, ей недавно присвоили звание младшего лейтенанта. Что с ними?
Рано утром несколько самолетов вылетели на поиски. Азовское море, побережье были разбиты на условные квадраты, которые мы тщательно обследовали — никаких следов пропавшего самолета не обнаружили.
Месяц спустя в Пересыпь приехал незнакомый пехотный капитан и вручил Бершанской два летных планшета. Глянув на них, Евдокия Давыдовна побледнела. На одном была надпись: «Т. Володина».
— Что с ними?..
Капитан рассказал, что его бойцы обнаружили трупы девушек и обломки самолета на восточном берегу Азовского моря.
В тот же день комиссар Рачкевич с двумя солдатами из батальона аэродромного обслуживания выехала туда. Было установлено: самолет отнесло ветром на середину Азовского моря. Когда кончился бензин, он, планируя в тумане, пролетел над плавнями и врезался в береговой обрыв.
Гробы с останками девушек привезли в Пересыпь. Похоронили Аню Бондареву и Тасю Володину с воинскими почестями.
Ночь шестьсот семьдесят шестая
Восьмого апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта начали штурм Перекопа. Бои шли там, где в 1920 году красноармейцы под руководством Фрунзе громили банды черного барона Врангеля. Через день немецкая оборона была прорвана, и наши войска, развивая успех, двинулись на юг.
В этот день, восьмого апреля, я вылетела в учебный полет с молодой девушкой-техником, которую я сама уговорила начать обучаться штурманскому делу. На обратном пути, километрах в двадцати от аэродрома, мотор неожиданно начал чихать, указатель расхода горючего приближался к нулевой отметке.
— Идем на вынужденную посадку, — сказала я и посмотрела вниз. Воронки, колдобины… Мотор заглох.
Из задней кабины вылетела красная ракета. Я улыбнулась — юный штурман действует по инструкции. Но ведь под нами не аэродром, кому она подает тревожный сигнал?
Приземлились не совсем удачно: хвост самолета задрался вверх, но мы живы-здоровы. Подпрыгиваем, пытаемся дотянуться до хвоста — роста не хватает. К счастью, к нам подбежал мальчик-пастушок, из его кнута мы сделали петлю и с ее помощью придали самолету нормальное положение. Оказалось, в моторе лопнула трубка, если бы мы были на аэродроме, заменить ее — десятиминутное дело.
— Мне нельзя оставлять боевую машину, — сказала я штурману. — Придется, Валюша, тебе идти пешком к нашим. Пусть пришлют бензин и все, что надо для ремонта. Не заблудись…
Валя ушла. Когда стемнело, я забралась в кабину, уселась поудобнее, вынула пистолет. Около полуночи не выдержала, соскочила на землю — что-то тревожно стало на душе. До утра кружила вокруг самолета, почти уверенная в том, что в мое отсутствие в полку произошло какое-то несчастье. Страшная вещь — одиночество, чего только не приходит в голову.
Утром я подыскала поблизости подходящую площадку. Медленно тянулись часы. Несколько раз к самолету прибегали деревенские дети, но близко не подходили. Их, наверное, удивляло, что летчик — тетя!
Наступил полдень… Теперь я уже могла предположить, что Валя до аэродрома не дошла: с ней что-то случилось. Странная девушка. В полку ее прозвали «ворожеей» — все свободное время она занималась гаданием на картах. Однажды во время концерта художественной самодеятельности, которой проходил прямо в столовой, на «сцене» появилась сутулая дама с картами в руке и, подражая Валиной интонаций, забубнила:
— Милые, сердешные! Всю правду расскажу, что было, что будет…
Едва прозвучали эти слова, Валя выбежала из столовой — и к морю. Я подумала, что она побежала топиться, бросилась за ней. Нашла ее на берегу. Сидит, тихонько напевает:
То не ветер ветку клонит…В тот вечер я и повела разговор с ней об учебе на штурмана. Бершанская не возражала: «Под твою ответственность…»
И вот теперь Валя пропала. Думай, что хочешь.
Мои мысли неожиданно нарушил знакомый звук самолета. Прилетела Лейла. Сделав круг, приземлилась. Первые ее слова прозвучали для меня точно гром среди ясного неба:
— Жени Рудневой нет. Погибла…
Я сразу обмякла. Сердце забилось прерывисто, из глаз полились слезы.
Валя на аэродроме не появлялась, хотя прошло уже больше суток. Придется Лейле прилететь еще раз. Обнявшись, мы сидим с ней у костра, горюем…
Женя Руднева отправилась на задание в ночь с 8-го на 9-е апреля с пилотом Пашей Прокофьевой, которая недавно прибыла в наш полк. Зайдя на цель в районе поселка Булганак, их самолет попал в скрещение нескольких прожекторов, со всех сторон били зенитки. Бомбы Женя сбрасывала уже из горящего самолета. «По-2» на глазах нескольких экипажей превратился в огненный факел, который, казалось, озарил полнеба. Это был 645-й вылет Жени Рудневой. Она сбросила на головы врага почти 80 тонн бомб.
Я не могла тебе представить, что вернусь в полк, а Жени там не будет. Никогда она больше ничего нам не расскажет…
Валя вернулась на аэродром почти одновременно со мной — заблудилась.
Ночь шестьсот семьдесят восьмая
Вечером 10-го апреля после мощной артиллерийской подготовки начался штурм Керчи. Мы всю ночь подавляли вражеские огневые точки, бомбили штабы, узлы связи, железнодорожные станции, указывали САБами цели нашим артиллеристам.
На рассвете над горой Митридат взметнулось красное знамя. В тот же день мы услышали приказ Верховного Главнокомандующего, в котором, в частности, говорилось, что в боях за овладение городом и крепостью Керчь отличились летчики генерал-полковника авиации Вершинина. Вечером Москва салютовала войскам, освободившим город, двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий.
Не вернулся с задания еще один экипаж: Полины Белкиной и Тамары Фроловой. Об их судьбе впоследствии рассказали бывшие военнопленные. Как оказалось, их самолет загорелся, упал на территорию, занятую немцами. Обе девушки были еще живы. Пилот Белкина, тяжелораненая, скончалась тут же, на руках подруги. Штурман Фролова, не желая попасть в лапы гитлеровцев, бросилась, грудью на пылающий самолет. Военнопленные, которых немцы заставили тушить огонь, похоронили девушек под большой дикой грушей возле шоссейной дороги у станицы Греческая.
Обгоревшие тела Жени Рудневой и Паши Прокофьевой обнаружили позднее и похоронили их в братской могиле на горе Митридат.
Штурману полка Евгении Рудневой было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
А на ее имя приходили письма от любимого человека. «Мне что-то грустно и не по себе. Я вспоминаю тебя и знаю, что далеко-далеко есть моя дорогая, горячо любимая девушка…» Но что мы могли ответить?
Ночь шестьсот восемьдесят шестая
Всей эскадрильей мы уговариваем Веру Белик идти к Бершанской, просить увольнительную, чтобы осмотреть освобожденную родную Керчь.
Вера начала собираться, надела гимнастерку задом наперед. Мы помогаем ей, она сопротивляется, ворчит:
— Сама не без рук. Как в гости собираете…
Но руки у нее дрожат, она не может застегнуть ремень. И вдруг решительно заявила:
— Не пойду. Я солдат…
В Керчи мы побывали через неделю после того, как вышибли немцев.
Из освобожденных районов Крыма возвращались жители. Они пришли буквально на пепелище: город почти полностью разрушен. Жителей в нем осталось всего около тридцати человек. Никаких запасов продуктов, никакого снабжения.
За годы оккупации фашисты убили около 15 тысяч мирных жителей, почти столько же угнали в Германию, уничтожили много военнопленных…
Вернувшись на аэродром, мы, потрясенные, всю ночь делились впечатлениями от увиденного — полетов в эту ночь не было. Вера — и вовсе как в воду опущенная, ни жива ни мертва. Даже знакомых никого не встретила.
Побывали мы и на горе Митридат — с цветами. Как договаривались. Но «вручили» их… павшим. Впоследствии саперы соорудили на этой вершине памятник героям-освободителям Керчи…
В эту нашу встречу Магубе-ханум нездоровилось: лицо ее заметно осунулось, хотя глаза по-прежнему были полны жизни. Она устала.
— Магуба-ханум, может, сделаем перерыв? — предложил я.
Ребята поддержали меня.
— Да, мне надо отдохнуть, подумать, — сказала она, — не пропустила ли чего-нибудь важного. И вы пока подумайте. Над чем? Ну, например… В нашем полку было 23 Героя Советского Союза. Подобного полка в наших Вооруженных Силах нет. Золотых Звезд, которые были вручены нам, хватило бы на целую армию. Не подумайте, что женщинам в военных делах давали какие-то поблажки. Нет, такого не бывает.
Магуба-ханум передохнула и, прощаясь с нами, приветливо пригласила:
— Вы все приходите, как и раньше. Почитаете мне сказки Шахерезады, а потом… Как говорил мой отец, раз уж взялись за дело, надо добраться до вершины стога. Так что я постараюсь докончить свой рассказ.
Конец первой книги
Примечания
1
Передвижные армейские мастерские.
(обратно)2
Очень хорошо! (тат.)
(обратно)
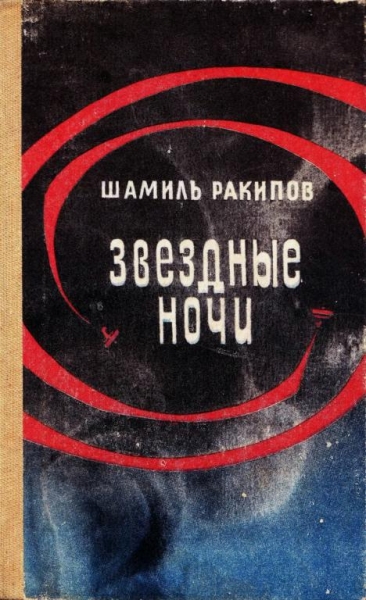

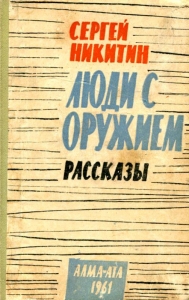




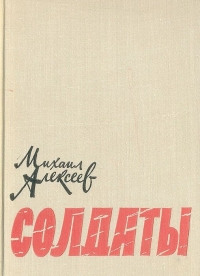



Комментарии к книге «Звездные ночи», Шамиль Зиганшинович Ракипов
Всего 0 комментариев