ЛЮДИ ОСТАЮТСЯ ЛЮДЬМИ
Двадцатый век. Бродивших по дорогам,
Среди пожаров, к мысли привело:
Легко быть зверем, и легко быть богом,
Быть человеком — это тяжело.
Евгений Винокуров
Художник посвящает свои рисунки автору книги Ю. ПИЛЯРУ узнику Маутхаузена
ФРОНТ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
На фронт я пошел добровольно. 14 декабря 1941 года солнечным морозным утром я постучался в избу, где квартировали командир и комиссар части, остановившейся по пути с Урала в большом вологодском селе для короткого отдыха.
В этом же селе жили мы, мобилизованные на рытье окопов, — занятие, на мой тогдашний взгляд, совершенно бесполезное: был разгар нашего наступления под Москвой…
На мой стук за дверью прогремел низкий голос:
— Войдите!
Я вошел и увидел плотного рыжеватого майора, обутого в новые валенки. Я поздоровался и протянул рекомендательное письмо, которым накануне снабдил меня знакомый политрук.
— Комиссар, это тебе, — посмотрев на конверт, крепким, густым басом сказал майор.
Из-за перегородки появился высокий военный, молча взглянул на меня и отошел с письмом к окну.
— Просится добровольцем, — резко сказал он через минуту.
Майор поднял густые рыжие брови.
— Никаких добровольцев мы брать не можем. Комиссар сел на стул. Майор — на лавку к столу.
Я стоял у порога, комкая в руках шапку.
— Не можем, — звучно и низко повторил майор. Я был упрям.
— По-моему, я не в гости к вам прошусь…
— Что? — удивился майор.
— Я хочу воевать. Майор надел очки.
— Сколько вам лет? — спросил он, как-то по-новому, серьезно и придирчиво разглядывая меня.
— Вы садитесь, — сказал комиссар и закурил папиросу.
— Восемнадцатый, — ответил я, проглотив конец слова так, что могло послышаться «восемнадцать». Точно — мне было семнадцать лет и два месяца.
— Вас надо еще учить, — сказал майор.
Я расстегнул ватный пиджак, чтобы были видны мои оборонные значки — я предусмотрительно надел их, отправляясь в штаб части, — и полез в карман за документами.
— Вот справка. Все «отлично». По военному делу тоже. — Я выложил на стол все свои бумаги. — Подлинник аттестата в Ленинградском институте журналистики имени Воровского, — добавил я для солидности.
Майор пробежал глазами мои бумаги и передал комиссару.
— И все-таки не можем.
— Но почему?
— Убить могут.
— Не всех же убивают, — глубокомысленно заметил я.
— Скажите, пожалуйста! — Майор иронически усмехнулся и посмотрел на комиссара. — Романтика заедает молодежь, опоздать боятся… Твое мнение?
Комиссар, по-видимому, колебался.
— Значит, редактировали стенгазету? — для чего-то спросил он (об этом было написано в характеристике, выданной мне директором школы и нашей комсомольской организацией).
— Романтика! — снова загремел басом майор. — Губительная, вредная романтика!
— Романтика бывает всякая, — сдержанно сказал комиссар. — Бывает и хорошая. Бывает и такая, без которой вообще нельзя… Знаешь что, — сказал он, обращаясь к майору, — давай возьмем его на свою ответственность в порядке исключения.
Я притаил дыхание.
— Формальные трудности, я думаю, мы преодолеем…
— Дело не в формальных трудностях, а в существе, — вставая, сказал майор. Стали видны морщины и тяжелые складки возле его рта. — Что он знает о войне и что будет делать на войне? На экране, сам понимаешь, все это выглядело красиво, в книжках — здорово… Я хочу предупредить вас, — глядя на меня серьезными, пожалуй, слишком серьезными, глазами, сказал майор, — предупредить, прежде чем дать окончательный ответ. Война — это не то, что вы себе представляете или можете сейчас себе представить. На войне убивают…
— Товарищ комполка… — негромко сказал комиссар.
— Обожди, — остановил его майор. — Я хочу, чтобы они знали, на что идут. Убивают, понятно вам?.. Это тяжелый труд. Война — это грязь, голод, окружения, когда вы будете валяться с разорванным животом и никто не сможет помочь вам. Это постоянный страх перед смертью… И все это будет продолжаться долго, нам придется еще долго воевать… Подумайте, потому что обратного пути не будет.
Я был несколько озадачен и не нашелся сразу, что ответить.
— Вы, конечно, можете еще подумать, — сказал комиссар. — Подумайте наедине с собой, со своей совестью. Нам нужны сознательные бойцы, тут командир прав. Тем более, что в армии вы не служили.
— Да и щупловат он, может просто но потянуть, — чуть пренебрежительно, как мне показалось, сказал майор.
Это меня задело. Я был хорошим физкультурником и гордился тем, что умею «крутить солнце» и ходить на руках. Кроме того, не за красивые же глаза мне дали четыре оборонных значка…
— Я подумал, — заявил я твердо, успев еще подумать только о том, что, майор, наверно, испытывает меня и поэтому сгущает краски. — Возьмите. Потяну не хуже других.
На этот раз майор не ответил. По-видимому, он тоже колебался. Сердце мое громко стучало.
— Я буду стараться. Даю слово…
— Ну, бог с тобой, — вдруг сдался майор. Ему, вероятно, были нужны бойцы.
Он поднял трубку полевого телефона.
— Начальника штаба… Сейчас к вам подойдет молодой товарищ, гражданский, да. Оформить его к Горохову… Ничего, оправдаемся. Пока все.
— Спасибо, — сказал я.
— Поздравляю, — сказал комиссар.
— Служу Советскому Союзу! — взволнованно отчеканил я.
В штабе полка, расположенном по соседству, я отдал свой паспорт и вскоре получил пакет, на котором было написано название одной из ближних деревень и крупными печатными буквами — «Горохов».
«Горохов так Горохов», — уже весело думал я, шагая по сверкающей на солнце дороге. Теперь я был абсолютно убежден, что майор, рисуя всякие ужасы, просто проверял, не трус ли я.
Мороз щипал нос и уши. Глаза резало от острого блеска снега. Голубыми столбами высился над трубами дым. Деревушки тонули в глазированных сугробах— точь-в-точь как на картинках из старых отцовских журналов.
Я пел песни, которые мы пели до войны: «Три танкиста», «Катюша», «Если завтра война». Пропою куплет и подсчитываю ногу: «Раз, два, три!.. Раз, два, три!»
Потом вспомнилась мать, и стало грустно. И немного жалко себя и ее. Вспомнилось, как ненастным ноябрьским днем она провожала меня на оборонные работы. Она была уже старенькая, и я не позволил ей идти со мной на станцию. В последнюю минуту, глядя в ее тоскующие глаза, я смутился. Я догадался, что она поняла сердцем своим, что я ухожу надолго и, может быть, мы никогда больше не увидимся. Я попросил ее сказать что-нибудь мне на прощание. «Что сказать? — ответила мама (голос ее дрожал). — Будь всегда честным…». Мне почему-то хотелось, чтобы она просила меня поберечь себя.
— Раз, два три! — опять стал я подсчитывать ногу, снова запел про трех танкистов и так незаметно дошел до деревни.
Через час по распоряжению командира батареи старшего лейтенанта Горохова я был обмундирован, зачислен в отделение разведки взвода управления, затем вместе с политруком побывал в штабе оборонных работ и, получив там расчет, вернулся на батарею.
С наступлением вечера, счастливый и гордый, я шагал за стандартной воинской повозкой в колонне бойцов. Я смотрел на дальние огоньки утонувших в морозной дымке деревень, на серьезные лица своих новых товарищей и не понимал, почему они не разделяют моей радости.
Тем же вечером мы погрузились в товарные вагоны-теплушки и поехали на фронт.
Светлый соснячок, голые белоствольные березки, а рядом большие черные ели, облепленные мерзлым снегом. Под ними сейчас наш дом: там в шалашах сидят мои товарищи — дремлют, мерзнут, скупо переговариваются. Костры разводить нельзя: могут заметить немцы. Но им и так, наверно, известно, что мы в этом лесу: над нами все время кружатся вражеские самолеты и хлещут пулеметными очередями…
Борясь с сонливостью и слабостью, я брожу по светлой опушке, чтобы согреться. Надо мной низко проносится серебристое брюхо самолета, мелькает черная рокочущая тень, а впереди красиво отваливаются белые на сломе мутовки елей. Рокот отходит волной, а через минуту новая нарастающая волна — отлетает сучок сосны, возле меня падает нежная березка, будто срубленная топором. Березку жалко.
Я наклоняюсь и вижу в снегу на промерзшем листке бумаги женский портрет. Носком валенка выбиваю из снега журнал. Это что-то интересное: журнал немецкий, иллюстрированный; с обложки на меня смотрит красивая женщина с копной темных волос. Читаю под портретом: «Франческа Гааль»… Неужели это та самая — из «Петера» и «Маленькой мамы»? Как она сюда попала?
Чья-то рука ложится мне на плечо. За моей спиной стоит человек в белом командирском полушубке.
— Читаешь?
— Франческа Гааль, — говорю я. — А вы кто?
— Помощник оперуполномоченного полка, Коваленко.
Кажется, я мигом согреваюсь.
— По-немецки читаешь? — уточняет он.
— По-немецки.
Что же мне еще отвечать?
Коваленко отбирает у меня журнал, прячет его в полевую сумку.
— Какого подразделения?
— Батарея старшего лейтенанта Горохова, — упавшим голосом докладываю я. По-видимому, я попал в глупую историю.
— Идем к командиру.
Помощник оперуполномоченного ведет меня к шалашу, где отдыхает Горохов. Может быть, командир батареи заступится за меня?
— Горохов, — наполовину просунувшись в шалаш, говорит Коваленко, — ты почему не сообщаешь, что у тебя люди с немецким языком?
— Кто такие? — слышится изнутри.
— А вот… — Коваленко оборачивается. — Как твоя фамилия?
Я называю.
— Так он новичок… Я хочу сделать из него хорошего артиллериста, — отвечает из шалаша Горохов.
— Ты приказ знаешь? — наседает Коваленко.
— Знаю, но мне нужны артиллеристы.
— Я забираю его. Идем! — тоном, не допускающим ни малейшего возражения, говорит Коваленко.
Что ж, наверно, это его право.
— Вещи брать?
— Все бери, — говорит Коваленко.
Допрос начинается уже по дороге. Мы идем через искалеченный бомбами и пулями лес, прячемся за толстые стволы, когда к нам с грохотом и ветром приближается очередной пулеметный ливень с самолета, и за это время я успеваю ответить на все предварительные вопросы: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, социальное положение, партийность. Записи Коваленко не ведет. Вероятно, во фронтовых условиях это излишне.
— А откуда знаешь язык?
Как ему сказать? Я еще в восьмом классе, готовясь к будущей профессии журналиста, начал брать уроки немецкого и французского у одной старушки, платя за ее труды тем, что, в свою очередь, занимался по математике с ее пятнадцатилетней внучкой, девочкой хорошенькой и в общем неглупой, но поразительно неспособной к точным наукам… Так и говорю.
— Хорошенькой? — подозрительно переспрашивает Коваленко.
Уже смеркается, когда мы выбираемся из леса и подходим к глухой черной деревеньке. У помощника оперуполномоченного довольный вид: как же, поймал важного преступника… Нелепая, досадная история!
Заходим в избу. Окна закрыты плотной бумагой. За кухонным столом при свете коптилки сидят люди и что-то пишут. Коваленко оставляет меня у двери и, шагнув вперед, радостно докладывает:
— Товарищ майор, нашел! Это обо мне?..
Из-за перегородки показывается плотный рыжеватый человек — я сразу узнаю в нем командира полка майора Шлепкова.
— Ба, наш доброволец!.. Комиссар, тут наш вологодский доброволец! — звучным басом восклицает Шлепков.
— Хороший хлопец, — вставляет довольный Коваленко.
Я ничего не понимаю.
— Проходи, — зовет меня за собой Шлепков. Оставив карабин у двери и сняв шапку, прохожу.
— Садись к столу.
Сажусь. Перед моим носом появляется бумага с немецким текстом. Написано на машинке.
— Ну-ка, переводи, раз ты у нас такой образованный, — говорит Шлепков.
Я читаю сперва про себя, потом начинаю переводить вслух фразу за фразой. Текст очень простой, не надо даже словаря. Я перевожу довольно бегло и без запинок.
— Очень хорошо, очень важно, — сразу посерьезнев, говорит Шлепков. — Начштаба, дайте знать об этом документе в штадив и заодно подготовьте распоряжение по личному составу… Как у нас именуется эта должность?
— Военный переводчик второго разряда, — отвечает сухопарый капитан, тот самый, который недавно давал мне направление к Горохову.
— Вот-вот. Оформите… Молодец, доброволец! Я рад, — говорит Шлепков и вместе с комиссаром уходит.
— Видишь, — улыбаясь, говорит мне Коваленко, — неплохо разбираемся в людях.
Оказывается, у него симпатичное лицо: курносый нос и живые, веселые глаза.
И все-таки я еще не совсем понимаю, что теперь со мной будет. Справляюсь у Коваленко. Он подтверждает, что я буду работать в штабе полка переводчиком.
Чудо какое-то!
Мне разрешают сходить на батарею за ужином и отдыхать до завтрашнего дня.
2
Моя служба военным переводчиком начинается в первую же ночь. Возвратившись из расположения батареи, я устраиваюсь на охапке сухой, теплой соломы в той половине избы, где отдыхают все штабисты, сплю без сновидений и вдруг слышу: «Переводчик!» Меня кто-то трясет, дергает за шинель.
— Переводчик! — кричит кто-то надо мной.
Я хочу повернуться на другой бок, но мне не дают.
— Встаньте, вас комиссар полка, — говорит над моим ухом незнакомый голос.
Вскакиваю, протираю глаза. Спросонья ничего не разберу: кто переводчик, зачем я нужен комиссару.
— Переводчик, проснись, — произносит резкий голос комиссара полка.
Да, это я теперь переводчик…
В темной комнате круг света от коптилки, и в этом желтом мерцающем кругу стоит долговязый, нескладный немец в пилотке, обмотанный женским платком. Комиссар сидит в тени за столом, штабисты приподнялись со своих мест и с любопытством взирают на пленного.
— А ну, поговори с ним, — приказывает комиссар. Подхожу к немцу поближе. Он выше меня на целую голову и дрожит. Где это его прихватили?
— Ирэ намэ унд форнамэ? — начинаю я.
Так близко мне еще не приходилось видеть живого врага. Почему-то ощущаю неловкость.
Немец вдруг разражается потоком слов, на что-то, вероятно, жалуясь.
— О чем он? — спрашивает комиссар.
— Сейчас, — говорю я, вслушиваясь в невнятный лепет… Ни черта нельзя понять: сплошная мешанина из незнакомых слов.
— Биттэ, лангзамер, — прошу я.
— Да о чем это вы? — нетерпеливо снова спрашивает комиссар.
— Я спросил его имя и фамилию и попросил говорить медленнее… У него какой-то странный диалект.
— Байерн? — обращаясь к немцу, называю я наугад одну из известных мне земель Германии.
— О, я, — обрадованно кивает немец. — Пайерн. Аукспурк.
— Он из Баварии, из Аугсбурга… У них там очень своеобразный диалект, — докладываю я комиссару.
— Аугсбург я тоже понял, — вставая, говорит комиссар. — А какой он части?
Я перевожу вопрос. Немец отвечает. Перевожу на русский трехзначное число — номер гренадерского полка, к которому принадлежит пленный. Это несложно.
— Ну, ладно. В штабе дивизии его допросят как следует. Отдыхайте, — говорит комиссар.
Немца уводят. Немного смущенный, я возвращаюсь на ворох соломы.
Утром чуть свет меня будит Коваленко — зовет умываться. В его руках котелок теплой воды и кружка. Он по всем правилам чистит зубы, не спеша намыливается. Я поливаю ему из кружки.
— Теперь давай тебе, — предлагает он.
После завтрака — чая из общего котла, который мы пьем с сахаром и сухарями, — Коваленко представляет меня своему начальнику, оперуполномоченному полка Милютину, худощавому человеку с бледно-розовым лицом. Милютин дает мне две бумажки. Я тут же перевожу тексты пропуска и удостоверения предателя-полицая. Затем меня подзывает капитан, начальник штаба.
— Посмотрите, — говорит он, указывая на стопку аккуратных листков, лежащих на столе.
Разбираю листки. Это письма из Гамбурга, написанные мелким готическим шрифтом. В конце каждого: «Твоя любящая Эрна».
— Что это? — интересуется капитан.
— Письма какой-то Эрны.
— Тогда оставьте. Мы перешлем их в политотдел.
Капитан критически оглядывает мою шинель, прожженные у костра валенки, потом берет четвертушку бумаги и, нацарапав на ней несколько слов, вручает мне.
— Ступайте на вещевой склад. В конце деревни, на нашей стороне.
3
Вернувшись в штаб, некоторое время осматриваюсь.
На служебной половине избы за перегородкой сидят начальник штаба и его первый помощник, безусый лейтенант с девичьим румянцем. Перед ними потертая на изгибах карта и кипа помятых бумаг, очевидно, боевых донесений. Румяный лейтенант пишет, а начальник штаба диктует ему, заглядывая в карту.
У стены на железной кровати лежат одетые в полушубки помощник начальника по разведке, рыхловатый немолодой мужчина, и помощник по связи, смуглый, круглолицый, с узкими черными глазками младший лейтенант Малинин. Похоже, что они предаются мирным воспоминаниям.
По другую сторону перегородки, ближе к выходу, за кухонным столом восседают писаря. Возле них пузатый сундук, в котором они хранят документы и котелки с недоеденной кашей. В сыром, заиндевевшем углу стоят их винтовки. Писаря затачивают карандаши и о чем-то шепчутся.
На широкой нетопленной русской печи, свесив головы, дремлют связные из подразделений. У двери— сонные телефонисты с наушниками, надетыми поверх шапок.
«И это боевой штаб!» — думаю я. Странно. Штаб полка я рисовал себе совсем иным.
И вообще я рисовал себе все иным. Мы уже больше недели на фронте, но ни развернутых знамен, ни окружений, ни даже особенного страха перед смертью— ничего не было; только длительные ночные переходы, бомбежки, обстрелы, и все время очень хотелось спать…
Ни командира, ни комиссара в штабе не видно: они, кажется, занимают отдельный дом. Милютина и Коваленко тоже нет.
Поначалу я решительно не знаю, к какой группе пристать, как держаться и, главное, что делать. Ведь должен я что-то делать, раз меня взяли сюда?.. Дождавшись, когда начальник штаба заканчивает диктовать, прошу у него письма Эрны. Пристроившись затем на лавке, старательно надписываю огрызком карандаша над немецкими словами русские, чтобы в политотделе легче было сделать полный перевод…
К обеду обстановка в штабе резко меняется.
Вдруг все летит кувырком.
Сперва до слуха доносится глухое гудение, и все настораживаются.
— Воздух! — распахнув дверь, выкрикивает кто-то. Потом почти одновременно слышится мощный звук близкого бомбового разрыва и могучее рокотание, сотрясающее стены избы.
Начальник штаба торопливо собирает со стола бумаги и запихивает в полевую сумку. Помощник по разведке и Малинин соскакивают с кровати. Телефонист у двери кричит:
— Товарищ третий, вас первый!
Начальник штаба большими шагами идет к ящику телефона. В эту минуту раздается еще более близкий взрыв — с печи сыплются связные. Писаря поспешно укладывают папки в сундук. Новый оглушительный, до ломоты в ушах взрыв — начальник штаба бросает трубку и выскакивает в сени, на ходу цепляя крючки полушубка. Вслед за ним с непостижимой быстротой исчезают писаря, таща за ручки громоздкий сундук. Вылетают наружу первый и второй помощники начальника штаба. У двери растерянно топчутся связные и один молоденький губошлепый телефонист, другой отправляется исправлять повреждение.
Малинин садится за стол начальника. Я присаживаюсь на край железной кровати, покрытой поверх досок плащ-палаткой. Ухает очередной взрыв.
— Между прочим, а почему ты не идешь в блиндаж? — певучим, медлительным тенорком спрашивает меня Малинин.
— В какой блиндаж?
Малинин удивленно уставляется на меня, будто я с неба свалился.
В этот момент что-то с жутким воем низвергается на нас, адски ударяет. Тоненько звякает стекло, вылетевшее из верхней части окна (нижняя забита досками).
— Вот, — произносит Малинин, снимая ушанку и стряхивая с нее песок.
— Да, — отвечаю я.
— Пожалуй, пошли? — предлагает он.
Становятся слышны басовитые очереди авиационного пулемета. Бомбардировщики продолжают рокотать и выть, опускаясь в пике, но разрывов больше не раздается.
— Отбомбились, — говорю я.
— Да? — Малинин намеревается опять сесть.
— Может, посмотрим?
— Что ж, можно и посмотреть.
Он берет через плечо свой автомат ППШ, я — карабин, и мы выходим.
4
В глаза бросается прежде всего огромная, еще дымящаяся, желтоватая по краям воронка. За ней непривычно зияет пустота: там был домик — его словно ветром сдуло. Валяются лишь темные бревна и обломки кровли. В белесоватом небе гудят, постреливая, немецкие самолеты, а со стороны леса, где сутки назад стояла наша батарея, доносятся частые разноголосые переговоры автоматных очередей.
— Дело швах, — прищуриваясь, говорит Малинин. — В том домике помещалось наше командование.
Сбежав с крыльца, мы направляемся к развалинам— убитых вроде нет. Поворачиваем обратно и видим, что в штабную избу вносят человека в белом полушубке, Вероятно, ранен. Кто же это?
Спешим вслед. Раненого укладывают на широкой лавке. У него пепельно-серое лицо с провалившимися щеками. Правый рукав полушубка распорот, рука привязана к дощечке и обмотана белым. Я с трудом узнаю начальника штаба. Около него хлопочут его первый помощник, румяный лейтенант, и штабной санинструктор.
Писаря тоже вернулись. Сидят вокруг сундука, держа винтовки между колен. Связные на месте. Губошлепый телефонист, вытянувшись, что-то взволнованно докладывает Малинину.
Начальник штаба открывает посиневшие веки. Двигает желваками, видимо, борясь с мучительной болью.
— Малинин, сукин сын… Где связь? — сдавленно произносит он. — Связь с батальонами… Марш!
— Есть! — бледнея, отвечает Малинин и пулей выскакивает из избы.
Появляется запыхавшийся оперуполномоченный Милютин.
— Капитана эвакуировать… Возьмите мою лошадь, — говорит он санинструктору. — Приказ командира полка, — объясняет он лейтенанту.
Начальник штаба вновь закрывает глаза.
— Майор приказал срочно вывезти документы, — продолжает Милютин. — Только быстро, пока не поздно!
Лейтенант идет за перегородку. Писаря — они словно того и ждали — хватают сундук и скрываются за дверью.
— Остальным занять оборону. — Милютин, потирая высокий лоб, садится к столу.
Начальника штаба уносят.
За окном, нарастая, перекатываются пулеметные и автоматные очереди. Никто из штабных командиров не возвращается.
Помедлив с минуту, Милютин встает, поднимает чью-то винтовку, прислоненную к железной кровати, щелкает затвором.
В штабной избе только связные — их пятеро, — два телефониста и я.
— Идемте, — говорит нам Милютин.
На улице посвистывают пули. Вовсю светит солнце. Морозный воздух спирает дыхание… «Но почему Милютин? Разве это его дело?» — мелькает у меня.
Мы залегаем возле сарая в цепь. Все ближе и громче трещат автоматные очереди. В стороне, по полю и за дворами, видны перебегающие фигурки наших бойцов.
— Задача: не допустить прорыва автоматчиков к штабу. Стрелять по цели, — приказывает Милютин. Глаза его широко раскрыты — яркие влажные синие глаза. Тонкая кожа на лице в малиновых пятнах.
Очевидно, немецкие автоматчики уже просочились на окраину деревни: очереди перекатываются совсем рядом.
— По окнам крайнего дома справа и огороду… Пли! — командует Милютин.
Мы стреляем. Получается внушительно — залп. Перезаряжаем винтовки. Тянет кисловатым дымком.
Снова залп. Опять перезаряжаем. Немцы на какое-то время перестают. Милютин выжидает: у нас мало патронов.
И вдруг я вижу, как через дорогу метрах в ста пятидесяти от нас перебегают, точно мыши, зеленые человечки.
— Пли, пли! — кричит Милютин.
Мы стреляем, но зеленые секундой раньше успевают упасть. Пули начинают густо сеять, стучат по бревнам сарая, визжат, отлетая рикошетом.
— Обходят, — тревожно шепчет мой сосед, из связных. — Гляньте, нос у меня не побелел?
— Пли!
— Ох! — слабо произносит сосед.
Выстрелив, я гляжу на него: он уронил голову в снег и недвижим.
Автоматы стучат уже слева. Милютин приказывает взять у убитого патроны и по одному перебираться к другому двору. На новом месте нас оказывается всего шестеро вместе с Милютиным. Мы опять стреляем, пока автоматчики снова не обходят нас.
— Только бы продержаться до сумерек, — цедит сквозь зубы Милютин, с ненавистью посматривая на красный шар солнца, застывший над лесом.
Мы еще трижды меняем позицию. У меня остается два патрона.
— К овину! — приказывает Милютин.
Теперь нас четверо: убило еще двоих, в том числе губошлепого молоденького телефониста.
У овина в голубоватых сумерках вижу крепкую фигуру командира полка Шлепкова. Укрывшись за угол, он тоже стреляет. «Как Чапаев», — думаю я. Здесь же, окопавшись в снегу, все штабисты, вооруженные винтовками, и комиссар.
За овином по одну сторону — бугор, по другую — поле, и на поле — силуэты отходящих к низкому темному лесу бойцов. Вероятно, немцам удалось бесшумно снять наших часовых.
С бугра скатывается белозубый, с кудрявым чубом лейтенант. «Как чапаевский Петька», — опять думается мне. В руках у него автомат. За ним по крутизне съезжают на спинах трое красноармейцев.
— Товарищ майор, кончились патроны, — хрипло, виноватым тоном докладывает Петька-лейтенант.
Рядом грохочет дующая пулеметная очередь.
Шлепков, комиссар, Милютин, а за ними все штабные начальники и бойцы по-одному мчатся через снежное поле, падая и поднимаясь. Лейтенант вскидывает автомат и бьет по верхушке бугра — всего несколько секунд, потому что автомат вдруг намертво умолкает.
— Бежим, — говорит лейтенант.
Он надвигает шапку на чуб, пропуская меня вперед. Бегу, падаю и отползаю в сторону — это все уже знакомо. Снова знакомое ощущение невесомости. Снова чирикают злые пташки — пули. Но вот опасность как будто миновала: позади тишина.
Беру карабин на ремень и, переводя дух, оглядываюсь. Меня нагоняет лейтенант. Вместе доходим до опушки леса, где в снежных траншеях сидят бойцы, потом присоединяемся к цепочке бредущих по лесной дороге людей.
Примерно через час, свернув на проселок, мы вступаем в темную тихую деревню. В конце улицы, за полем, которое вырисовывается, как мглистое пятно, взлетают осветительные ракеты и погромыхивают выстрелы: там передовая. Там в снежных окопах мерзнут в обнимку с винтовками бойцы, и где-то там, немного позади их, стоят наши пушки…
Штаб полка размещается в большой пятистенной избе. Когда я захожу, в ней уже все готово: окна зашторены, у двери сидят телефонисты, писаря оттачивают карандаши.
Как будто ничего страшного и не было!..
Без четверти двенадцать наши кружки наполняются водкой. На столе консервы, белые сухари, копченая колбаса из посылок, присланных нам из тыла под Новый год.
— С Новым годом, товарищи! — встав, говорит исполняющий обязанности начальника штаба румяный лейтенант.
— За победу! — подняв кружку, говорит Малинин. — И чтобы не было так, как сегодня…
— С Новым, победным годом! — раздаются голоса.
Мы чокаемся и пьем. Потом сразу, не сговариваясь, ложимся отдыхать — все, кроме оперативного дежурного.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Я примащиваюсь в ногах у Малинина на лавке и, кажется, только-только засыпаю, как вдруг удар сумасшедшей силы сбрасывает меня на пол. Через голову летят осколки стекла, волна морозного воздуха окатывает и разливается по полу.
— В ружье! — вопит голос нашего дежурного.
В кромешной тьме хватаю карабин, ноги — в валенки, и к выходу. У двери давка: застрял сундук.
— Так вашу мать! — кричит юный звенящий голос лейтенанта.
Он дергает кого-то за шиворот, кому-то поддает коленкой под зад. Наконец пробка рассасывается, и мы на улице.
Б-б-бах! Думается, всего в десятке шагов от нас сверкает косой грохочущий вихрь.
Мы кидаемся врассыпную. Дождь осколков падает сверху. В ту же минуту нас подхватывает темный бурлящий поток и увлекает за собой.
Мы куда-то бежим. Мы бежим из деревни по снежной целине — бойцы с винтовками и командиры с револьверами в руках, — бежим, обгоняя друг друга. Сзади нас гремят разрывы и стучат пулеметы. Мы бежим, пока не попадаем в большой овраг.
И сразу все стихает… Настает рассвет. Я вижу кругом смущенные лица. Что же опять случилось?
Отправляюсь на поиски своих. В конце оврага в кустах толпятся люди в белых полушубках. Вижу красное хмурое лицо командира полка. Комиссар, вытянув руки по швам, замер перед маленьким подвижным человеком. Тот, энергично потрясая кулачком, вероятно, отчитывает его.
Шлепков стоит в стороне. Грузный, с одутловатым лицом подполковник водит пальцем по раскрытой планшетке, которую держит перед ним коренастый, похожий на молодого медведя командир.
Через минуту Шлепков и комиссар полка, понурившись, идут к одной повозке — их, наверно, отстранили от командования, — маленький, подвижный человек шагает к другой. У грузного подполковника в руках появляется бинокль.
Коренастый командир отдает распоряжения. По оврагу разносятся негромкие протяжные крики команд. Все заряжают винтовки, карабкаются по склону, потом выскакивают из-за укрытия и несутся по истоптанному снеговому полю обратно к деревне.
До деревни метров триста. Я вижу густую цепь бойцов, катящуюся полукольцом. В центре — напоминающий медведя командир с винтовкой наперевес. Мы с Малининым бежим в цепи шагах в двадцати от него. Это что-то совершенно новое: без артподготовки, без стрельбы и даже без криков «ура».
Мы успеваем преодолеть, наверно, половину пути, когда со стороны деревни раздаются первые беспорядочные выстрелы. Мы не обращаем на них внимания и несемся дальше. Кто-то рядом падает. Но мы несемся. Наш командир бежит впереди, упруго отталкиваясь короткими сильными ногами. Грохочут сразу несколько пулеметов. Снова с размаху падают люди. А наша молчаливая, ощерившаяся винтовками цепь, сужаясь, уже берет деревню в клещи. Серые фигуры справа, прыгая и пригибаясь, достигают крайних дворов…
Внезапно пулеметы смолкают. Утихают ружья. Теперь становятся слышны крики впереди, на другом конце деревни, и это не наши крики: гортанные и панические.
Вот обломки раскиданных жердей, черный сарай, свежие задымленные воронки. Закопченный, рябой от осколков снег. Стена избы в белых ссадинах.
Так это же наша штабная изба! Я останавливаюсь, судорожно ловя ртом воздух. Поспевает Малинин. Мы взбегаем на крыльцо, врываемся внутрь: точно, наша изба. Малинин, топча стекла, бросается в угол.
— Никого нет? — кричу я.
— Никого и ничего, — отвечает Малинин.
В сенях за дверью слышатся шаги и возбужденные осипшие голоса.
2
В избу заходит коренастый командир, за ним наш начальник штаба, лейтенант, и остальные штабисты. Все веселые, шумные, красные от холода и бега.
— Так это твоя хата, начштаб?
— Так точно, товарищ командир полка, — отвечает лейтенант.
— А красиво мы их турнули, а? — Коренастый показывает б улыбке два ряда ровных, крепких зубов. — А?
— Лихо, товарищ комполка.
— Ну добре, затыкайте окна и за дело. Смотрите, чтобы фрицы снова не преподнесли нам букет вонючего запаха.
— Слушаюсь, — говорит лейтенант. — Разрешите представить командиров штаба?
— Давай… Старший лейтенант Симоненко, ваш новый командир полка, — называет он себя первым.
Пока штабные начальники, подходя и козыряя, знакомятся с новым командиром, я украдкой разглядываю его. Лицо у Симоненко обветренное, губы твердые, в светлых глазах — умные чертики. На голове ушанка с подоткнутыми ушами — явно не по форме. Дубленый командирский полушубок порыжел и местами вытерся, не то что у наших штабистов. На ногах валенки-чесанки домашней работы, уже порядком изношенные. В общем, боевой командир, видавший виды… Шлепкова мне все-таки жаль: он принимал меня в полк.
— Военный переводчик второго разряда… пока не аттестован, — говорит начштаба.
Я делаю шаг вперед и прикладываю руку к шапке.
— Добре, — произносит Симоненко, задерживая на мне взгляд. — Все?
— Из командиров все.
— А адъютант у меня есть?
— Адъютант убит на прошлой неделе, — чуть померкнув, докладывает начштаба.
— Ага… Так вот я пока беру его к себе, — говорит Симоненко, указывая на меня. — Будешь по совместительству переводчиком и адъютантом у меня с комиссаром.
— Есть, — отвечаю я не очень весело… Не переоценивает ли он моих способностей?
— Ваше помещение рядом, — говорит начштаба. — Телефон подтягивают.
— Добре. Пошли.
Подхватив свой карабин, я направляюсь за Симоненко и начальником штаба. Малинин подмигивает мне.
На улице уже тихо. Лениво падает редкий серый снежок. У дома, к которому мы подходим, стоит пустая запряженная кошевка — это бывшая кошевка Шлепкова…
В доме тепло. На самом видном месте — кровать, застланная синим ватным одеялом. У печи старушка в черном платке. За столом гладко причесанный голубоглазый человек с матерчатой шпалой на петлицах. Он кивает командиру как старому знакомому и, поднявшись, протягивает руку начальнику штаба.
— Старший политрук Худяков.
— Наш комиссар, — говорит Симоненко.
Я старательно отдаю честь новому комиссару полка.
Скинув полушубок, Симоненко немедленно садится за карту. Худяков достает из планшетки свою. Начальник штаба докладывает обстановку, затем сверяет свои часы с часами командира и просит разрешения уйти.
Я выхожу вместе с ним в сени. Спрашиваю, каковы мои новые обязанности. Румяный лейтенант дружески хлопает меня по плечу.
— Везучий ты, черт… Только больше не говори «пожалуйста», в армии это не принято. А по существу так: неотступно следуешь за командиром или комиссаром, отвечаешь за их безопасность, выполняешь все поручения и, конечно, заботишься о быте.
На моем лице, вероятно, появляется кислая мина, потому что лейтенант ободряюще добавляет:
— Ну, не все сам, понятно. На то есть повар, ездовые. Тебе надо только распоряжаться… Словом, живи!
Хлопнув меня еще раз, он уходит. Я остаюсь в холодных сенях… Распоряжаться мне еще никогда не приходилось. Но делать нечего — отправляюсь знакомиться со своими подчиненными: двумя пожилыми ездовыми и толстощеким поваром, который уже хлопочет вместе с хозяйкой-старушкой у печи.
Через час мы обедаем — командир, комиссар и с какой-то стати я с ними. В пять вечера начинаем проверку постов. Наши бойцы окопались вдоль извилистой речки, отрыли в снегу траншеи и небольшими группами скрыто ходят обогреваться в сараи. Пушки и минометы замаскированы в палисадниках на окраине деревни. Наша задача — пока держать этот рубеж.
В девятом часу возвращаемся к себе. Ездовые как-то догадались истопить баню. Она черная, полуразвалившаяся, но такая жаркая, что даже дышать горячо.
За ужином Симоненко выпивает стакан водки. Худяков от выпивки отказывается — он собирает в штабе полка политработников из батальонов — и вскоре уходит. Симоненко, сбросив валенки, ложится на кровать.
Почти мирная жизнь!
— Не хватает только жинки, — насмешливо говорит Симоненко.
Он вынимает из нагрудного кармана кружевной платочек, письма и фотокарточку женщины; на одеяло вываливается тяжелый серебряный орден Красного Знамени.
Это меня сразу мирит с Симоненко.
— Ваш?
— Нет, взял напрокат.
— А почему не носите?
— Вот как раз сейчас и нацеплю… Щоб адъютант уважал.
Удивительно! Мне раньше казалось, что все герои должны чем-то походить на Рахметова; уж, во всяком случае, не таскать при себе дамских платочков и не пить за ужином водки.
3
Наше относительное благополучие кончается, как и все на войне, внезапно. Одним светлым морозным утром, когда по заданию комиссара я корпел в штабе над переводом дневника убитого обер-лейтенанта, немцы неожиданным ударом опрокидывают нашу оборону и выбивают нас из деревни — почти таким же манером, каким они дважды выбивали нас при Шлепкове… Я бегу в рядах отступающих бойцов и мучаюсь мыслью: как же так, ведь Симоненко не новичок, о войне он знает не понаслышке; а может, командир полка и не виноват, что мы опять бежим, может, виноватых надо искать где-то выше?..
До нового места добираюсь с опозданием и за это получаю нагоняй от Симоненко. Оказывается, я должен был задержать любую повозку и нестись вслед за ним — сам он ускакал на коне. Я был нужен.
Симоненко зол, мечется от окна к окну. Комиссар Худяков, хмурясь, сидит в углу под образами. Начальник штаба стоит у стола, как провинившийся школьник.
— Соедините меня со штадивом.
— Связи еще нет, товарищ комполка, — чуть слышно говорит лейтенант.
— Так это же не война, а хреновина одна! — кричит весь красный Симоненко. — Каждый день этот букет… вонючего запаха!
— Кушать будете? — выглядывая из-за печи, спрашивает повар.
— Пошел… — кричит Симоненко. — Водка есть?
— Водки не надо, — негромко, но твердо говорит Худяков.
Симоненко стихает и садится к столу. Начальник штаба докладывает о потерях. Симоненко опять вскакивает на ноги, застегивает полушубок и решительно объявляет:
— Еду к хозяину.
Хозяином он называет командира дивизии, того грузного подполковника с одутловатым лицом, по заданию которого он так лихо контратаковал немцев в новогоднее утро.
Я молча беру карабин.
— Оставайся с комиссаром, — приказывает Симоненко.
Он возвращается к вечеру в отличном расположении духа. По его распоряжению я вызываю командиров батальонов, командиров спецподразделений, штабное начальство, приглашаю оперуполномоченного Милютина. Симоненко проводит совещание. Насколько я могу уразуметь, нам предстоит переброска на другой участок фронта и большие наступательные бои.
Немедленно после этого совещания Худяков вызывает в штаб полка политработников. Спокойным тоном, как хороший учитель, он говорит, что надо усилить политико-воспитательную работу, так как наши отдельные неудачи деморализующе подействовали на бойцов, а нас ожидают новые серьезные испытания.
Пока я сижу с Худяковым в штабе, Симоненко успевает подзаправиться. Подзаправиться в буквальном смысле: от него за несколько шагов несет бензином, точнее, немецкой горючей смесью спирта и бензина.
Симоненко вновь весел, шутит, в его глазах снова чертики.
— Отойди, адъютант, взорвусь, — предупреждает он, вставляя в рот немецкую сигарету и поднося к ней огонек зажигалки, тоже немецкой.
Худяков укоризненно качает головой.
— Опять дань разведчиков?
— Ясно… Адъютант же у нас спит, — с усмешкой отвечает Симоненко.
Это камешек в мой огород. Днем я отказался от поездки в тыл с нашим начпродом Рогачом, симпатичным парнем с подбритыми бровями, который обещал снабдить меня «горилкой» и военторговскими папиросами для командования. Я, возможно, и поехал бы, да побоялся новых нареканий Симоненко, что меня нет под руками в нужный момент…
Выступление батальонов назначено на 21.00. Штаб полка должен сняться с места через час после их ухода. Без четверти девять Симоненко посылает меня узнать, готовы ли подразделения к маршу.
Выхожу из избы. В воздухе морозный туман. На улице обычная сутолока построения. Покрикивают простуженными голосами командиры.
Подражая Симоненко, я тоже кричу:
— Комбат-один!
Меня подозрительно оглядывают в темноте.
— Комбат-один! — повторяю я громче.
— Я… В чем дело? — отзывается в хвосте строящейся колонны низкий голос.
— Готовы ли люди к маршу? — строго спрашиваю я, подходя.
— Так точно, — отвечает комбат, силясь разглядеть меня в тумане.
Я шагаю дальше и снова кричу:
— Комбат-два… Готовы ли к маршу?
— Готов! — весело отвечает звонкий голос. Иду дальше и снова уверенно спрашиваю:
— Комбат-три! Готов ли?
— Это еще кто такой? — раздается рядом хриплый медлительный голос высокого, затянутого в портупею человека.
— Адъютант командира полка… Вы комбат-три?..
— Знаешь, что, адъютант… Катись-ка ты к дьяволу, — раздраженно говорит высокий.
— Готов ли ваш батальон к маршу? — потише, но столь же строго спрашиваю я.
Откровенно, я просто побаиваюсь, что, спрашивай я нормальным человеческим тоном, меня не захотят слушать.
— Готов, готов… Да научитесь обращаться по форме, — отходя, желчно произносит командир третьего батальона.
Возвращаюсь в дом и докладываю, что все готовы.
— Добре, — отвечает Симоненко.
Он и Худяков пьют чай. Минут через двадцать снова выхожу узнать, выступил ли последний бетальон. На улице все тот же туман и сутолока построения.
Не решаясь больше тревожить желчного комбата-три, я обращаюсь к одному из бойцов:
— Вы третьего батальона?
— Кажись, третьего.
Колонна и в ней боец, ответивший мне, трогаются.
Прихожу и сообщаю Симоненко, что третий батальон выступает.
Через полчаса Симоненко сам выходит наружу. Возвращается разъяренный.
— Адъютант!
— Я!
— Ты что арапа заправляешь? Третий батальон еще стоит!
— Мне сказал боец…
— А бойцов о таких вещах не спрашивают. Ничего не понимаешь!
«Ничего, — с горечью соглашаюсь я про себя. — Ничего не понимаю, ничего толком не умею».
Отчитав меня, Симоненко достает карту и приказывает вызвать начальника штаба. Я прошу телефониста соединить меня с «третьим».
Наконец батальоны уходят. Выезжает штаб. Ездовой выносит чемоданы командира и комиссара и укладывает на повозку. Рядом водружает свои мешки наш повар.
Туман рассеивается. Над головой ярко блестит молодой месяц. Кошевка с командиром и комиссаром, повизгивая полозьями, уносится вслед за батальонами.
Я, провинившийся («ничего не умею»), сижу на хозяйственной повозке, которая плетется со штабным обозом. Шествие замыкает комендантский взвод.
4
Под утро мы добираемся до пункта назначения. Это большая деревня, запруженная тайно сосредоточенными здесь нашими войсками. Днем в деревне абсолютная тишина. Пушки, автомашины, повозки — все укрыто под навесами и замаскировано.
Люди сидят в избах, сараях, банях. Ходить по улицам запрещено.
Деревня кажется вымершей.
Между тем в нашем штабе небывалое оживление. Симоненко опять собирает всех командиров: совещается, приказывает, торопит. Командиры батальонов уточняют на карте линию рубежа, который им надо занять, согласовывают взаимодействие.
Малинин возится с только что полученными новыми телефонными аппаратами. Писаря вдохновенно пишут.
Когда темнеет, Симоненко вместе с представителями штадива отправляется на рекогносцировку; меня он с собой снова не берет.
Худяков, весь день пропадавший в подразделениях, прикрывает дверь на штабную половину и просит меня сесть.
— Знаешь, — говорит он негромко, — завтра мы должны взять город Сычевку, будет большой бой… Давай договоримся: тебя ранят — я тебя вынесу, если меня, — не оставляй.
Мне даже капельку обидно. Я отвечаю, что это мой прямой долг.
— Долг долгом, — говорит Худяков, — но не мешает и так, просто по-человечески.
Он показывает через окно на утонувшую в снегу скособоченную хибарку.
— Сбегай туда. Командир разведчиков даст тебе автомат, он мне обещал.
Когда выхожу в мглистые сумерки, в разных концах деревни раздаются гулкие звуки как бы откупориваемых бутылок: это стреляют наши орудия. Очевидно, ведется перестрелка. Там, где глухо погромыхивают разрывы, — чернота.
«Интересно, каков будет этот большой бой?» — думаю я. Мне еще не доводилось участвовать в большом бою, в таком, чтобы были наши танки, самолеты, кавалерийские атаки, то есть чтобы все было так, как полагается…
А разве может быть для человека «маленький» бой, просто для человека, бойца или командира, если во время такого боя могут убить?..
От разведчиков возвращаюсь с трофейным немецким автоматом.
Худяков бегло осматривает его и вручает мне в обмен на мой карабин, которым он решает вооружиться на завтра.
— А теперь спать… до четырех утра, — приказывает он.
Симоненко остается на ночь в первом батальоне.
Ровно в четыре комиссара будит повар. Мы вместе с начальником штаба завтракаем, лейтенант остается пока в штабе, а мы с Худяковым уходим в морозную темь.
Кругом тихо и безмолвно, по сути, еще ночь. Миновав деревню, мы останавливаемся возле полуразваленного ' домика.
Тут комиссара встречает политрук роты, оповещенный, видимо, с вечера. Нас заводят в темное помещение, переполненное спящими бойцами, усаживают на какой-то ящик.
Дремлем, мучаемся. Худяков шепотом говорит, что, когда возьмем Сычевку, станет легче: соединимся с войсками Западного фронта, там положение стабильнее. Надо лишь постараться.
Вообще ведь надо воевать, как и жить, с полной отдачей сил, только тогда можно добиться успеха…
Он почему-то все больше напоминает мне школьного учителя.
Но вот сквозь пробоины в потолке сочится рассвет. Мы с Худяковым надеваем белые маскхалаты и направляемся к исходному рубежу нашего второго батальона…
Очень морозно, стоит туман. Он закрывает от наших глаз город и мешает идти. Продвигаемся по истоптанному хрусткому снегу почти на ощупь, пока на востоке молочная пелена не окрашивается в розовый цвет.
— Так не забудь, о чем условились, — говорит Худяков.
Ускоряем шаг. На нашем пути все чаще попадаются индивидуальные окопы.
Туман исподволь редеет. Мы видим впереди серую линию наших бойцов.
Худяков занимает снежный окопчик и зовет меня к себе: вдвоем не так холодно… Снег на кромке окопа начинает искриться. Худяков все чаще поглядывает на часы. Его голубые глаза сужаются: позади нас вдруг звучат четкие в стылом воздухе удары.
Удары — и тотчас впереди мощные звонкие разрывы. Удары и разрывы — целая серия звонких громовых разрывов.
— Артподготовка, двадцать минут, — сухими губами произносит Худяков. — Сейчас…
Слышится шум залпа гвардейских минометов, будто строчит гигантская швейная машина. Я выглядываю из окопчика.
Впереди, метрах в семидесяти, за невысокой снежной грядкой неподвижно лежат бойцы. Вокруг — огромное искристое поле. А в конце его — прямо перед нами — залепленные морозным снегом крыши Сычевки, церковная ограда, зеленая маковка колокольни, и там, подымая белые сверкающие фонтаны, рвутся наши снаряды.
— Сейчас… — повторяет сухими синими губами Худяков, сводя с предохранителя курок карабина.
Гляжу на Худякова, потом опять вперед. Сверкает еще несколько разрывов возле колокольни. Бойцы у снежной грядки вдруг шевелятся, вскакивает фигурка в белом и что-то выкрикивает.
— Начали! — хрипло и твердо говорит Худяков.
5
На всем громадном искристом поле поднимаются серые цепи наших бойцов. Они бегут с белыми заиндевевшими винтовками по склону. Крики «Ура!» тонут в грохоте артиллерии, которая продолжает молотить вражеские позиции. Мы с Худяковым быстро шагаем вслед за атакующими. Церковная ограда приближается — становятся видны старая кирпичная кладка и комья снега поверх стены. Перед ней, внизу, — нетронутая полоса скованной льдом речки.
Передовая цепь достигает пологого берега, и в это время кирпичная ограда в мгновение ока обрастает острыми дрожащими дымками. В то же мгновение я вижу, что первый ряд атакующих подпрыгивает и падает, как срезанная косой трава…
Набегает вторая волне бойцов и снова, будто наткнувшись на невидимое разящее лезвие, падает в снег. Бегут новые бойцы и опять падают. Худяков и я, не доходя до речки, ложимся, окапываемся и начинаем стрелять. Стреляют из винтовок и автоматов — слева, справа и впереди — бойцы и командиры наших прижатых к земле подразделений.
Поместив автомат на бугорок, я посылаю короткие очереди в сторону дрожащих дымков. По временам немецкие пули роют снег у самого носа. Особого страха пока нет, чувствую себя только словно раздетым и очень большим. Часто поглядываю на Худякова: не ранен ли; он тщательно прицеливается… Что же будет дальше?
На берегу у самой кромки льда вдруг снова вскакивает фигурка в белом, прыгает вправо, потом влево, потом кидается вперед — по-моему, это сам комбат-два. Десятка полтора людей бросаются за ним. В воздух вздымаются и летят, описывая дугу, темные предметы — соображаю, гранаты, — раздаются резкие хлопки, и они как сигнал для нашего нового броска. Поднимаются и бегут к ограде поредевшие цепи бойцов, мы с Худяковым, перепрыгивая через убитых, тоже устремляемся вперед, и опять, как проклятье, перед нами вырастает незримая стальная коса. Мы тыкаемся в снег, затем отползаем под прикрытие низкого берега.
Наша первая атака, выражаясь военным языком, захлебнулась — это нам ясно. Если не подавить спрятанные в стене немецкие пулеметы, то они перебьют всех нас до единого. Это понятно и тем, кто наблюдает за боем в бинокли с командных пунктов: очевидно, следует приказ, и разрывы нашей артиллерии круто перемещаются к ограде. Делается даже жутковато: так близко начинают рваться наши снаряды.
Худяков, глубоко врезаясь плечом в снег, беспокойно взглядывает на небо. Его малиново-красное лицо в испарине… В небо из-за городских крыш со свистом и громом вырываются «юнкерсы», проносятся над нами и уходят к деревне, где стоят наши батареи. В ту же минуту за спиной протяжно и мощно ухают бомбовые удары.
— Истребители, истребители где? — быстро и беззвучно говорит Худяков. — Вот в чем дело… истребители!
«А танки? — думаю я. — А кавалерия?»
Разрывы за церковной оградой исчезают. На какую-то долю секунды кажется даже, настает тишина. Эта тишина немедленно наполняется стуком немецких тяжелых пулеметов. С нашей стороны, из цепи, зарытой в снег, опять летят гранаты, но они падают и рвутся, не достигая цели. Немцы отвечают новым, еще более плотным шквалом огня, теперь они расстреливают нас в упор — наши не выдерживают и начинают пятиться.
Отползаем и мы с Худяковым. Нескладно получается. Но, может, лучше пока отойти на исходный рубеж? Может быть, наши пушки снова заговорят и уничтожат наконец фашистские пулеметы?
Вот уже окопчик, где мы лежали с Худяковым. Я узнаю его по широкой вмятине на снежном бруствере. Мы опять забираемся в него. Бойцы перебежками приближаются к нам. Прямо по снегу тащат раненых — окровавленных и полузамерзших.
Худяков тревожно следит за перебегающими. Они отступают все дальше. Лишь немногие задерживаются там, откуда поднялись в атаку. Какой-то приземистый командир, матерно ругаясь и размахивая наганом, пытается положить бойцов. Слева от нас перебегает в тыл целая группа.
— Останови их, — приказывает мне Худяков и сам быстро вылезает из окопа. Выпрямившись во весь рост, он направляется к другой группе справа, которая отходит от снежной грядки начального рубежа.
Я кидаюсь к группе слева. Взяв автомат в правую руку и вытянув в сторону левую, кричу:
— Товарищи красноармейцы, ни шагу назад!.. Занимай оборону! Товарищи красноармейцы!
После хриплой матерной ругани приземистого это «товарищи красноармейцы» действует… Бойцы вдруг поворачивают и, пригибаясь, бегут к снежной грядке.
Я иду за ними, а справа, метрах в пятидесяти, шагает во весь рост в центре большой группы Худяков.
Пули звонко сеют и лопаются, но сейчас они нисколечко не пугают меня: так хорошо на душе! Однако едва мы залегаем в просторном окопе, как случается нечто новое и непредвиденное.
Сперва поблизости начинают остро и часто рваться мины, потом в городе металлически четко ударяют выстрелы немецких пушек, и над нами вырастают белые облачка, которые распадаются на черные и желтые клочья.
Дождь осколков и пуль сыплется на наши головы. В голос вскрикивают раненые, мычат умирающие.
— Шрапнель! — орет кто-то дико.
В довершение всего над нами показываются разгрузившиеся «юнкерсы». Они начинают поливать нас пулеметным огнем.
С таким трудом созданная линия обороны рушится— все бегут, согнувшись, по полю.
Я снова неотступно следую за Худяковым. Он идет, сгорбившись, кусая губы. Когда над нами воет «юнкере», мы падаем в снег и пережидаем очередную волну пуль; в нас не так-то легко попасть: выручают маскхалаты.
На минуту мы ложимся в снежный окоп перевести дух. Появляется чувство апатии. Опять идем, опять падаем при приближении рева моторов и опять метров через триста останавливаемся передохнуть в окопчике, я — в одном, Худяков — рядом в другом.
…Я смотрю на небо. Морозная синева испещрена черно-желтыми клочьями и пересекается время от времени рокочущими серебристыми «юнкерсами» — они похожи на огромных крылатых рыб. Я вынимаю из кармана кусок сахара и кладу в рот. Хочется закрыть глаза и не открывать… «Поражение, — думаю я. — Но почему? Почему?»
Я смыкаю «а секунду веки — всего на секунду, как мне кажется. И вдруг вижу над собой лицо Худякова — огромное, испуганное, с расширенными зрачками.
— Ты ранен?
— Нет. — Я поднимаюсь.
— Быстро, бежим! — кричит он. Я оборачиваюсь.
По всему полю с лязгом и грохотом ползут на нас какие-то чудовища.
— Танки… Быстро! — кричит Худяков. — Я был уже далеко… вернулся… думал, ты ранен…
Впереди в беспорядке движутся последние группы отступающих.
Мы в самом конце. Сердце заходится при мысли, что если бы не комиссар, то со мной все было бы кончено…
Возле деревни нам с Худяковым удается вскочить на дровни. Пегая лошадь мчит нас по горящей дымной улице.
Сбоку по дороге бегут бойцы, бегут командиры, плетутся за подводами раненые…
Беспощадно светит морозное январское солнце, и от его холодного блеска слезами застилает глаза.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
И еще один бой. 5 февраля 1942 года нам приказывают выбить немцев из деревни Н., чтобы расширить коридор, по которому идет снабжение наших войск, действующих юго-западнее Ржева… Грохочет артподготовка, в черное небо врезается красная ракета.
Это сигнал к атаке. Начинается пальба из винтовок, автоматов и пулеметов — стоит сплошной гул и треск. На горизонте, там, где чернеет деревня, вспыхивает зарево пожара.
Пальба продолжается с четверть часа, затем все замирает. Потом опять разгорается с новой силой — слышен басовый стук крупнокалиберного немецкого пулемета — и вновь обрывается. Затем следует самая ожесточенная волна выстрелов, и снова минут через десять тишина.
Симоненко и Худяков нервно топчутся на краю оврага. У обрыва в кустах оборудован узел связи — там хлопочет Малинин. Откуда-то появляется Милютин, он встревоженно что-то говорит Симоненко.
— Да. Давайте, — отвечает тот.
Милютин собирает почти все:: штабистов, подзывает меня и ведет нас в темное поле. Он объявляет, что мы командирское заграждение; наша задача — проверять тех, кто отходит в тыл. Он расставляет нас цепью с интервалами метров в сто и поворачивает в сторону горящей деревни.
Деревня пылает. Языки пламени лижут черное небо. Гремит перестрелка, но наши, видимо, больше не решаются атаковать: слишком плотен огонь немцев. Ночь темная, теплая и кажется совсем черной, когда переводишь взгляд с горящих домов на поле.
В этой черноте я вскоре различаю две ковыляющие фигуры. Направляюсь к ним. Два пожилых красноармейца, опираясь на винтовки и прихрамывая, бредут к оврагу.
— Ранены? — спрашиваю я.
— Ранены, — говорят они.
— Держитесь левее, там перевязочный пункт.
У деревни опять завязывается перестрелка, звонко хлопают разрывы гранат, и вновь, покрывая все звуки, победно стучит тяжелый пулемет.
Из черноты выступает группа. Двое ведут, почти тащат под руки низкорослого бойца. Еще двое поддерживают тех, кто тащит.
— Все ранены? — спрашиваю я.
— Ранены, ранены, — торопливо отвечают мне.
— Минуту… Вы куда ранены? — обращаюсь я к одному из тех, кто поддерживает.
— Куда ранен?.. Я никуда, это товарищ ранен.
— Его доведут двое. Возвращайтесь. Вы тоже, — говорю я второму поддерживающему.
— Как возвращайтесь? Зачем возвращайтесь? — горячо возражают мне. — Товарищ ранен, наш товарищ.
— Возвращайтесь немедленно! — прикрикиваю я на двоих.
— Ай, нехорошо, нехороший человек, — стыдят меня те двое, пятятся и уходят обратно к деревне…
Очень неприятно… Наверно, деморализованы нашим недавним поражением под Сычевкой, объясняю я себе. Или просто несознательные.
Минут пятнадцать спустя в темноте показывается длинная фигура с винтовкой за плечом.
— Ранен?
Фигура начинает хромать.
— Куда ранен? — спрашиваю я, приблизившись. На меня смотрит здоровая молодая физиономия с коричневатыми впадинами глаз.
— В ногу ранен. — Голос тоже молодой и здоровый. Парень старше меня, вероятно, года на три.
— А ну, покажи! — требую я.
— Отойди, — глуховато произносит он. — Тебе легко тут… Ты бы там попробовал.
Он задевает за живое.
— Пробовал. А ну, кругом… Марш!
Парень безмолвно поворачивается и идет к деревне. Я— за ним…
«Чертовщина, — думаю я. — Трус он, и все. Не может справиться с низменным инстинктом самосохранения… А я?»
Зарево пожара все ближе. Когда обрушиваются крыши, столб искр бежит к небу. Перестрелка не прекращается. Пули дзинькают и словно лопаются в воздухе.
— Разрывными, гад, бьет, — замечает парень.
Я молчу. Сейчас мне очень важно убедиться, что я сильнее своих инстинктов.
— Закурить не будет? — не оборачиваясь, спрашивает он. — А то я почти пришел.
— Не курю.
Над нами проносится пулеметная очередь, парень падает, потом бросается к снежному окопу, где посверкивают винтовочные выстрелы. Я кидаюсь ничком, отползаю к груде торчащих из снега обугленных бревен.
Отсюда, кажется, рукой можно достать до крайнего ряда горящих изб. Ловлю себя, что мне хочется побыстрее в темное поле, на свой пост, и вижу в освещенном пространстве между двумя объятыми огнем домами мелькающие тени. Почти машинально вскидываю автомат и строчу. Рядом из окопов тоже стреляют, и вдруг все заглушается низким громовым стуком крупнокалиберного пулемета. Всплывает мертвенно-голубое сияние ракеты — я вжимаюсь в снег. С двух сторон бьют немецкие автоматы. Ракета наконец гаснет, я привстаю, и в этот момент что-то точно палкой ударяет меня по левой руке.
Я щупаю повыше локтя — пронзает острая боль. Что-то теплое стекает в перчатку. Понимаю, что ранен, беру автомат на шею, правой рукой поддерживаю левую и, согнувшись, бегу в темноту.
На минуту охватывает страх. Что я скажу Симоненко? Как оправдаюсь перед ним и комиссаром? Пули посвистывают и будто лопаются, но я уже знаю: эти мимо… Если бы мне пришлось объясняться только с Худяковым!
2
На мое счастье, у спуска в овраг я наталкиваюсь как раз на Худякова. Он сразу замечает, что я ранен.
— Сильно?.. Куда?..
Сняв с моей шеи автомат, Худяков вынимает из полевой сумки перевязочный пакет и туго перетягивает простреленную руку поверх шинели. Потом молча идет со мной в конец оврага, где стоят наши лошади.
— На перевязочный, — приказывает он ездовому. — Если нужно, в санбат.
— Спасибо, — говорю я каким-то не своим голосом. Мне больно.
— Подожди. — Худяков шуршит карандашом в блокноте и выдирает листок. — Это отдашь комиссару медсанбата. Поправляйся.
Кошевка выбирается из оврага и мчится к лесу. Позади остается догорающая деревня, шум боя.
На перевязочном пункте в лесной сторожке рану промывают, перевязывают. Пуля пробила мягкие ткани плеча и поцарапала кость. Поскольку кость все-таки задета, ранение считается серьезным.
Свободных подвод на пункте нет, все в разгоне. Боль донимает, и я прошу своего ездового везти меня в медсанбат.
Через час мы на месте. Уже рассвело. Падает мягкий чистый снежок, и деревенька, куда мы попадаем, кажется очень мирной, очень далекой от войны. Кругом так тихо, что делается немного не по себе и будто чего-то не хватает.
Мы высаживаем у околицы двух попутчиков, подъезжаем к дому, где принимают раненых командиров, я отпускаю ездового.
Худой, с воспаленными глазами и землистого цвета лицом человек вертит в руках бумажку, написанную в темноте Худяковым.
— Вы кто по званию? — спрашивает он.
— Военный переводчик второго разряда.
— Это такое звание? Первый раз слышу… А должность?
— Тоже переводчик и по совместительству адъютант командира полка.
— Ничего не понимаю… Вы средний командир?
— По-видимому, да.
— Гм… По-видимому. Ну, хорошо. Отправляйтесь в палату начсостава, третий дом справа… По-видимому!
Несколько растерянный, ухожу. Откуда я знаю, какой я командир и какая разница между званием и должностью? Я думал, что это приблизительно одно и то же — пост, звание, должность…
В тихом, чистеньком домике мне отводят место на полу у окна. Я осторожно снимаю шинель, меховую безрукавку, валенки, раздеваюсь до нижнего белья и, несмотря на ноющую боль в руке, тотчас засыпаю.
Просыпаюсь от громких голосов и усилившейся боли.
— Обедать-то по крайней мере будете? — говорит приятный, бархатистый голос.
Поворачиваю голову. Облокотившись на подушку, на меня смотрит сосед, молодой мужчина.
— Вы меня? — говорю я.
— Вас.
— А что, уже обед?
Гляжу на часы. На ремешке засохшая кровь. Стрелки показывают пять минут первого. Прикладываю к уху — тикают. Здоров я спать!
Мне приносят полкотелка жидкого горохового супа и сухарь. На второе — полкрышки сухой пшенной каши. Поковырявшись в каше, возвращаю все санитару.
Сосед насмешливо-сочувственно следит за мной.
— Аппетита нет?
— Не проголодался, да и рука болит.
— Ничего, полежите здесь с недельку, аппетит появится. Еще какой аппетит! Познакомимся?.. Воентехник Иванов.
Пожимаем друг другу руки. Иванов здесь уже третью неделю. Осколок мины ранил его в бедро, когда он был в командировке на передовой. Да, да, в командировке, нечего удивляться: постоянно он работает в оружейных мастерских дивизии, это довольно глубокий тыл, во всяком случае, снаряды не долетают.
— Как же вам так не повезло? — спрашиваю я.
— Да вот так. Вообще не везет… Должны были эвакуировать в госпиталь, но на самолетах всех не эвакуируешь, берут лишь самых тяжелых. — Иванов супит темные брови.
— А разве эвакуируют на самолетах?
— Конечно. Другие же пути сейчас отрезаны… Так я узнаю страшную новость. Оказывается, мы окружены. Тот узкий коридор, который соединяет нас с главными силами Калининского фронта, насквозь простреливается немцами… Поразительно, что в тылу об этом известно, а мы даже в штабе полка в неведении.
Оглядываю палату. Обычная крестьянская изба, только пустая: вынесено вон все, вплоть до лавок. Раненые лежат на полу. Кое-кто тихо стонет.
— Невеселая картина, — говорю я.
— Да, невеселая, — отвечает Иванов.
3
Через час меня вызывают к хирургу. Вместе с молодым голубоглазым лейтенантом я иду к дому с мезонином. Возле него на расчищенной дорожке следы санных полозьев и конский помет.
— Этой ночью привезли много тяжелых, я не спал, — говорит лейтенант. — А тебя тоже сегодня?
— Под утро.
— Лупят нашего брата, — вздыхает лейтенант. — Техника у них, подлецов, богатая, я насмотрелся на их технику.
— Где?
Он перчаткой смахивает с валенок снег и поднимается на крыльцо.
— По долгу службы… Получше обмети валенки, а то Наджарова выставит за дверь.
В передней, скинув шинели, мы садимся на скамью. Впереди нас трое. За перегородкой слышатся женские голоса: один — уверенный, строгий, другой— высокий, потише. Им отвечает скрипучий бас. Пахнет, как во всякой амбулатории, йодом, спиртом и еще чем-то, может быть, человеческой болью.
Из-за перегородки, в двери, занавешенной простыней, появляется рослый капитан, за ним — девушка в белом халате. У нее мальчишески широкое, миловидное лицо с большими серыми глазами.
— Есть вновь поступившие? Я поднимаюсь.
— Проходите. — Девушка пропускает меня вперед, придерживая край простыни на двери.
В прохладной комнате около окна стоит высокая, статная, совершенно седая женщина в белом и потирает ладонь о ладонь. Догадываюсь, что это и есть знаменитый в нашей дивизии хирург Наджарова.
— Снимайте гимнастерку и садитесь, — приказывает девушка.
Стаскиваю одной рукой гимнастерку и нижнюю рубаху— другая рука перемотана и привязана к шее — и сажусь на табурет. Девушка ловкими кругообразными движениями освобождает меня от бинтов. Наджарова подходит ближе.
— Как вы попали на фронт? Вы же совсем мальчик, — неожиданно ласково говорит она мне.
Пожалуй, это она зря: мальчика уже давно нет.
Мне, конечно, безразлично, как отнесется к такому определению девушка, но все-таки неприятно… Отвечаю, что пошел сам.
Девушка быстро и безжалостно отдирает прилипшую к ране марлевую накладку.
— Наверное, после десятилетки? — Наджарова осматривает, затем ощупывает руку. — Нина у нас тоже добровольцем пошла на фронт, она у нас молодец, смелая и школу окончила отличницей.
Попросив ее подать какой-то инструмент, Наджарова снова обращается ко мне:
— Вы тоже уралец?
— Нет, я вологжанин.
— И уже успели стать командиром?
Она просовывает в рану что-то длинное, твердое— это причиняет нестерпимую боль… «Настоящий палач», — думзю я про нее.
— Я не командир, я переводчик… — Пытаюсь терпеть, но голос выдает меня. — И по совместительству адъютант… — Чувствую, что от боли глаза лезут на лоб. — А до этого был… артиллерийским разведчиком…
Нина подносит к моему носу склянку с нашатырем.
— Ну, разведчики молодцы, умеют терпеть, — спокойно произносит Наджарова. — У нас здесь есть один… Нинина симпатия.
— Неправда, — говорит Нина. Я готов заорать от боли.
— Вот и все, — объявляет Наджарова. — Все, что надо, вынули, почистили, теперь будете поправляться… А ты не криви душой, — прибавляет она сурово, полуобернувшись к Нине.
Она идет к умывальнику. Нина делает мне перевязку. Я сижу обессиленный и обмякший, как вытряхнутый мешок.
— Следующего, — говорит Наджарова.
Сейчас я замечаю под ее глазами густую синеву. Я прощаюсь.
— Придете послезавтра, — говорит мне Нина. — Не забудьте.
И вызывает следующего.
4
Мой сосед Иванов, лежа на левом боку, читает «Анну Каренину». Книга потрепана, выпадают листки, но обложка аккуратно обернута чистой бумагой.
— Хотите почитать? — Иванов взглядывает на меня поверх книги и лезет под подушку за расшитым кисетом.
Я не хочу: я дважды читал «Анну Каренину».
— Может, у вас есть что-нибудь еще?
— У меня нет, — говорит Иванов, — а вот если вы попросите Ниночку, — у нее много книг… Вы, конечно, обратили внимание на сестру из хирургического?
Он неумело скручивает цигарку.
— Только не вздумайте ухаживать за ней, предупреждаю по-дружески. Смотрите, а то наживете опасного врага… Наджарову, нашего хирурга, да вы ведь были у нее? Дело в том, что мать этой Ниночки, тоже врач и подруга Наджаровой, поручила ей свое чадо. Так что глядите в оба.
Я благодарю Иванова за совет и вытягиваюсь под одеялом. Думаю, какое мне дело до Ниночки, до того, кому ее поручили… Идет война. Нас калечат и убивают, мы фактически в окружении. Неужели тут можно помышлять еще о каких-то ухаживаниях;
Иванов, опираясь на палку, отправляется курить. Я открываю потрепанный том Толстого, читаю первые строчки, и на меня вдруг веет домом, детством, и больно сжимается сердце.
У нас в семье при жизни отца была своя библиотека. Помню, как, делая стеллажи, отец строгал на верстаке сухие доски, приколачивал к стене кронштейны и тюкнул себя по пальцу; тараща глаза и размахивая ушибленной рукой, кричал: «Ах, лешак тебя побери!» — Я прыснул со смеху и получил за это от мамы шлепка…
Я рано, еще до школы, выучился читать. Однажды сестра застала меня за «Евгением Онегиным».
— Ну что ты понимаешь, цыганенок?
— Все понимаю, — пробурчал я.
Сестра отобрала книгу и сперва нахмурилась, а потом залилась веселым хохотом. На цветной картинке, изображающей сцену бала у Лариных, я гвоздиком расцарапал толстую, обтянутую до колена светлым чулком ногу Онегина и красным карандашом начертил кровь. Так я отомстил ему за Ленского.
В другой раз, почитав «Бахчисарайский фонтан», — книга была тоже с картинками, — я намотал на голову наподобие чалмы полотенце, вооружился кривым садовым ножом и как-то неожиданно для себя пропорол в нескольких местах пестрый домотканый ковер, которым прикрывалась дверь в нашу библиотеку.
Поскольку я тут же явился с повинной, наказания удалось избежать. Правда, с того дня отец сам стал подбирать мне книги для чтения.
Постукивая палкой, возвращается Иванов.
— Все же читаете?
— Да.
Под вечер у меня вновь сильно разбаливается рука. Тупая ломящая боль не перестает и весь следующий день. Ночью подскакивает температура, и, когда на другое утро надо идти к хирургу, я еле держусь на ногах.
Осмотрев припухшее плечо, седовласая Наджарова за что-то нещадно отчитывает Нину. Я не знаю, куда глаза деть, — словно это моя вина, что плечо распухло. Мне делают укол, заставляют проглотить красную таблетку и, опять наложив повязку, отправляют меня в палату в сопровождении санитара.
В сумерки, когда почти все уже спят, я слышу шепот за перегородкой.
Минуту спустя входит на цыпочках наш санитар, за ним… Нина. Санитар бесшумно направляется к моему месту.
Я сажусь, до пояса прикрывшись одеялом. Нина подходит. Санитар, выразительно вздохнув, так же, на цыпочках, удаляется.
— Как чувствуете себя? — У Нины довольно-таки расстроенный вид.
— Спасибо… Садитесь, пожалуйста.
— Как температура? — Она присаживается на краешек постели и берет холодными пальцами мою ру: iy повыше кисти, нащупывает пульс, которого у меня, по-моему, нет.
Я стараюсь не дышать и не глядеть на нее. И все-таки вижу опущенные веки, сосредоточенно сомкнутый рот.
— Кажется, температура спала, — говорит Нина.—
Но все равно вам надо лежать, на перевязку пока не ходите. Я приду к вам сама.
— От Наджаровой вам за это не нагорит?
— Глупости, — отвечает Нина. — Это все злые языки… На самом деле она очень добрая.
Теперь, в сгустившихся сумерках, я смелее гляжу в ее лицо: большие глаза, нежный овал подбородка…
— А потом вы опять на передовую? — Нина спрашивает об этом, уже поднявшись.
— Нет, я в штабе… Если вам не трудно, принесите мне завтра что-нибудь почитать, на свой выбор.
Она обещает.
5
Нина приходит утром. Температура у меня действительно спала, и она смеется, рассказывая всем, как вчера ей влетело от военврача второго ранга Наджаровой за то, что она, негодная сестра, забыла дать мне стрептоцид. Мне приятно, что раненые улыбаются, глядя на ее мальчишески округлое, с ямочками лицо.
Нина не забыла о моей просьбе. Я бережно кладу в изголовье завернутый в газету томик Джека Лондона.
Два следующих дня я провожу в палате: перевязку пока менять не надо, и мне велено лежать. Нина не показывается, я читаю и перечитываю рассказы и… злюсь на себя.
На третий день после обеда отправляюсь в хирургическую. Наджарова почему-то холодна со мной. Нина молчит.
— Доктор, можно мне теперь выходить на прогулку? — спрашиваю я Наджарову.
— Можете, можете, — отвечает она.
В передней я говорю Нине, что хотел бы вернуть ей книгу. Она вполголоса просит меня прийти в шесть вечера к бывшему клубу.
В палате я застаю Иванова за сбором вещей. Он упаковывает в чемодан белье, теплый свитер, носки, бритвенный прибор. Он настоял на выписке и сегодня же возвращается в свои мастерские. Мне жалко расставаться с ним: за неделю мы подружились. Иванов достает со дна чемодана пухлую книжечку.
— Тебе это нужнее.
Я смотрю на обложку: «Русско-немецкий и немецко-русский словарь» — мне он, правда, очень нужен.
— Рекомендуется как успокоительное и сдерживающее… Противопоказаний нет, — добавляет Иванов с улыбкой, и мы прощаемся.
До пяти вечера я учу по книжечке немецкие слова, потом начинаю одеваться. Санитару я объясняю, что теперь мне предписаны прогулки.
Уже темнеет. На заснеженной улице по одному, по два прохаживаются выздоравливающие. Некоторые с палочками и костылями. Разговаривают негромко, курят, по привычке пряча папиросы в рукаве…
Нина является с опозданием: с передовой привезли несколько раненых. Она еще не была дома, но это ничего, ей хочется подольше подышать воздухом. В сизоватых сумерках ее лицо кажется совсем белым, а глаза еще больше и таинственно поблескивают, слоено они вобрали в себя вечернее мерцание снега.
— Я принес вашу книгу… Вот, — говорю я.
— Спасибо.
— Я подумал, что вы злая искусительница и что лучше держаться от вас подальше. Поймет она мою шутку?
— Неплохо, — улыбается Нина. — А знаете, что подумала я о вас?.. Что вы страшно влюбчивый самоуверенный мальчишка, этакий начинающий дон-жуан, которому полезно преподать хороший урок.
Тоже неплохо для начала.
— Значит, в известном смысле, мы пара. Так? Она смеется. На ум отчего-то приходит весеннее утро и лесной ручеек.
Мы медленно идем к окраине деревни.
— Интересно, что вы подумали обо мне, когда я назначила вам эту встречу? — спрашивает Нина.
Она рядом, и я четко вижу ее профиль: плавную линию лба и носа, припухлость губ, ямочку над подбородком.
Мне делается вдруг весело. Озорной дух встает во мне.
— Нет.
— Почему?
Нина поворачивает ко мне лицо — мерцают снега.
— Потому что мы все-таки очень разные. Это звучит уже по-серьезному.
Разговаривая, мы незаметно для себя добираемся до конца улицы, минуем часовых у последней избы — они даже не окликают нас — и идем дальше по чистой снежной тропе.
Внезапно на меня нападает припадок красноречия— такое со мной случается. Глядя на притухающую полоску заката, я говорю, что мы люди одной судьбы, листики, отлетевшие от родимого дерева и брошенные в котел войны, солдаты, которые уже умеют умирать, но которые еще блуждают в поисках верной дороги к победе. Я несу еще какую-то торжественную чушь, понимаю это, но боюсь остановиться в потоке слов, потому что потом, знаю, я Могу вообще потерять дар речи — такое со мной тоже случается. Нина, к моему удивлению, слушает меня очень внимательно.
— Я не заговорил вас? — наконец догадываюсь спросить.
— Нет, пожалуйста.
И тут я чувствую, что говорить мне больше нечего, поток иссяк. Я останавливаюсь и опускаю голову.
— Вы устали? — спрашивает она.
— Нет, это другое.
— Повернем обратно? Мы далеко зашли.
Новый прилив красноречия обуревает меня. Я говорю, что никогда не следует поворачивать обратно, что надо проделать свой путь до конца, что на этом пути — в любых человеческих свершениях, больших или малых, — невозможно зайти слишком далеко, пока цель не достигнута и сияет где-то в желанной дали, как огонек на ночной реке. Нина опять слушает, пытаясь понять что-то свое… И опять на меня находит столбняк.
— Отчего вы остановились? Я молчу, как дерево.
— Что вы? — В голосе Нины настороженность.
Я обнимаю здоровой рукой ее за шею — она не противится — и начинаю горячо целовать ее в щеки, в подбородок, в глаза. У меня легкое головокружение. Я ощущаю на своих губах соленый вкус слез.
— Почему? — шепчу я, проклиная себя в глубине души.
— Я думала, — отвечает она, — я думала, вы необыкновенный, а вы такой же, такой, как все… как остальные. Идемте, — решительно говорит она, отстраняясь от меня.
Так мне и надо. Жалкий петух, вообразивший себя орлом.
На обратном пути мы молчим. В смятении я забываю даже проститься с Ниной.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Ровно через неделю меня выписывают из медсанбата. Всю эту неделю я усиленно занимался немецким языком, много размышлял. Я пришел к выводу, что главная моя беда в том, что, помимо слабого знания военного дела, я еще плохо знаю людей, человека вообще, даже самого себя Так, я был уверен, что владею своими инстинктами, а что получилось? Нина, и правда, преподала мне хороший урок, и я не забуду его… Чтобы стать настоящим человеком, достойным защитником Родины, думал я, надо научиться подавлять в себе животные инстинкты, в первую очередь страх перед смертью — и человек это может, человек ведь все может!.. Значит, изучать военное дело, постараться постигнуть внутренний мир человека-бойца, а через него, вероятно, многие сложности жизни на войне — вот моя задача. Я обязан сам восполнить то, чего недоставало в нашем воспитании мирного времени.
Кажется, я здорово повзрослел за эту неделю, повзрослел и поумнел… Нину видел лишь дважды, когда ходил на перевязку, но заговорить с ней не осмелился: меня мучил стыд.
И вот я и голубоглазый лейтенант, выписанный вместе со мной, шагаем по разъезженной февральской дороге к линии фронта. Светит невысокое солнце, морозец веселит кровь.
— Ничего, — рассуждает лейтенант. — Хоть техника у них и богатая, но совести ни черта нет. На войне это имеет исключительное значение, по себе знаю. Представь того же вора. Дай ему, какому-нибудь карманнику, по морде — никогда не ответит, а то и в штаны накладет. Замечал? Немцы, конечно, могут воевать, но механически, а так, чтобы по сознанию— здорово живешь! Ты, я слышал, доброволец?
— Да.
— У меня во взводе тоже был доброволец, учитель. Отвлек на себя огонь, нас выручил, а сам… все. Я бы памятник поставил ему.
Быстро летит за разговорами время. Мелькают телеграфные столбы с оборванными проводами. Проходят мимо безлюдные, полузасыпанные снегом и полусожженные деревни. Слепят глаза блещущие на солнце ледянистые пригорки, замерзшие ручьи, сверху белые молодые сосенки — моя давняя любовь…
Через два часа мы делаем привал. Стучимся в покосившуюся избенку у перекрестка дорог. Дверной засов отодвигает замшелый старичок.
— Здравствуй, дедушка. Можно часок передохнуть? — бодро спрашивает лейтенант.
— А что же? Заходьте. Отчего не можно?
В избе черный, давно не мытый пол, темные стоны, но тепло. Мы сбрасываем с плеч вещмешки, расстегиваем шинели и садимся на лавку к столу. Лейтенант вынимает кисет и угощает табачком старика, который, не снимая шубенки, усаживается напротив.
— Как живете тут, дедушка?
— А ничего жиём, не трогают, слава богу, — охотно отвечает старичок, ловко ладя кривыми пальцами цигарку. — Не жалимся.
— Вы один живете? — спрашиваю я.
— Не один… постояльцы всегда есть, не дают пропасть: кто хлебца, кто чего иного. Так и жиём.
— А родные где?
— А родные, кто где. Сноха с малыми куировалась, сынок воюе. Старуха недавно померла… Но ничего, схоронили, ничего.
Лейтенант толкает меня коленом.
— Давай сообразим насчет закусить. И отец не откажется.
Старичок оживает, бросает шубенку на печь и принимается хлопотать вокруг заляпанного чем-то белым самовара. Сунув зажженные лучины в трубу, он тащит его в сени. Мы развязываем вещмешки и достаем сухой паек, выданный в медсанбате: четыре сухаря, кусок сахара, комочек комбижира и плитку концентрата горохового супа-пюре.
Через четверть часа мы дуем на кружки, грызем сухари. Старичок прячет в карман выделенную ему долю сахара, сухари делит на три равные части.
— Так и жиём, — твердит он.
2
Еще не успеваем распроститься с гостеприимным хозяином, как в дверь снова стучат. — Слава осподи, — бормочет старик, натягивая драный кожушок.
В избу вваливается плотный румяный человек с седеющим пучком усов под шишковатым носом, в белой чистой шубе, затянутой скрипучими ремнями.
— Здравствуй, дед… А вы кто, товарищи?
По виду он большой начальник, голос тоже уверенный. Мы подтягиваемся.
— Возвращаемся из медсанбата… Лейтенант Огурцов.
— Военный переводчик второго разряда. Человек устремляет на меня светлые глаза, присматривается и говорит:
— Постой… Ты казал переводчик? Який переводчик?
— Немецкого языка. Из штаба полка.
— От это дило. А я как раз шукаю переводчика… А ну, идем зо мной.
Я переглядываюсь с лейтенантом.
— Идем, идем, — повторяет плотный. — Я комиссар штаба дивизии Николаенко.
Лейтенант, прощаясь, встряхивает мне руку, потом просит у комиссара штаба разрешения идти и, козырнув, исчезает за дверью.
Николаенко и вслед я тоже выходим. Подле колодца стоит кошевка. Ездовой, курносый парень, поит из ведерка лошадь.
— Так ты переводчик? — рассматривая меня на ярком свете, вновь справляется Николаенко. — Скильки тоби рокив?
— Восемнадцатый.
— Гарный хлопец… Комсомолец?
Николаенко расспрашивает, откуда я родом, кек попал на фронт, и под конец решительно заявляет:
— Едем в штадив.
Резвая лошадка живо доставляет нас в большое село, раскинувшееся по обе стороны речки. Проходим мимо часового в просторную, без перегородок, с окнами в две стены комнату.
В углу за столом сидит человек в длинной шинели и пишет. У него аскетически худое, нервное лицо, чуть сощуренные глаза, вислые брови. На петлицах две «шпалы»: видимо, майор.
Приложив руку к виску, я останавливаюсь у порога. Николаенко, улыбаясь, подходит к майору.
— Ось побачь, якого хлопца я тоби привел.
— Вместо Мешкова, что ли? — спрашивает тот.
— Ага… Он военный переводчик, был ранен, я перехватил его по дороге из санбата… Добровольно пишов до армии, комсомолец. Был у Симоненки.
Майор молча бросает на меня проницательный взгляд.
— Так шо, оформим вместо Мешкова? — торопится Николаенко.
— Подожди, — говорит майор. — Подойдите ближе, — приказывает он мне.
Я подхожу.
— Вы знаете, что должность переводчика в штабе полка ликвидирована?
Я этого не знаю.
— Аттестацию на вас подавали?
— Кажется, нет.
— Ну, вот, видишь… Не можем мы оформлять красноармейца на должность помощника начальника разведотделения штадива, — заключает майор.
Николаенко недовольно морщит шишковатый нос.
— Так шо, по-твоему, оставлять Мешкова?
— Так ведь этот-то — красноармеец, — раздраженно говорит майор. — Вам как комиссару штаба надо бы понимать такие вещи.
— Ну, и аттестуем, — тоже раздраженно говорит Николаенко. — И прошу вас, товарищ начальник штаба, не забываться, уот…
— Разрешите мне вернуться в полк, — обращаюсь я сразу к тому и другому.
— А вас не спрашивают. Выйдите в сени! — грозно приказывает майор.
Глубоко оскорбленный, выхожу. Так еще никто со мной не разговаривал. И главное, за что?
В открытой двери второй половины избы показывается юноша с двумя кубиками на петлицах. У него пухлые губы, прыщавый лоб, круглые темные испуганные глаза. Он быстро проходит, почти пробегает мимо меня к начальнику штаба. По-видимому, это и есть Мешков.
Вскоре вызывают меня.
— Через несколько дней вы примете дела заведующего делопроизводством оперативного отделения, — сухо говорит майор. — А пока будете помогать технику-интенданту второго ранга Мешкову. Ясно?
— Ясно, — отвечаю я… По-другому отвечать в армии не положено — доволен ты или нет, согласен или не согласен.
Нас с Мешковым отпускают.
Мой новый непосредственный начальник ведет меня на жилую половину избы. Тут есть и неизменная в здешних крестьянских домах дощатая переборка, и добрая русская печь, и вдобавок между стеной и печью закуток, прикрытый ветхой ситцевой занавеской. Туда прямо и заводит меня мой начальник.
Мы садимся на топчан, застеленный шинелью. Знакомимся. Мешков сообщает, что его зовут Костей.
— Снимай шинель, а то вспотеешь, — говорит он. В закутке, верно, жарковато, темно и жарковато. — Правда, здесь тараканы, но они не кусаются, — предупреждает он. — Ты где учился на переводчика?
Говорю, что специально, нигде — сам… Мешков в отличие от меня после десятого класса закончил трехмесячные курсы.
— С языком, значит, не особенно? — осведомляюсь я.
— Конечно, не особенно… Но не в этом дело. Николаенко меня невзлюбил. Придирается. Говорит, будто я все время сплю.
— Ладно, в работе я тебе помогу… А работы много?
— То-то и беда, что никакой работы нет. — Мешков печально вздыхает. — А если нет, то что же мне делать? Вот и сижу здесь за печкой… с тараканами. А сплю не больше других, он просто придирается ко мне.
Молчим некоторое время, прислушиваясь к домовитому шуршанию на стенах. Поневоле начинает клонить ко сну.
— Ты уралец? — спрашиваю я.
— Нет, москвич. Точнее, из Кунцева. А ты? Сидим еще минут пять. Наконец я не выдерживаю.
— Знаешь, пойдем лучше на улицу.
— Пойдем, — соглашается Мешков. — Только ненадолго. А то вдруг хватятся, Это еще хуже, чем когда застают спящим.
3
Он на полголовы выше меня, с пухлыми бледными щеками и розовыми прыщиками на лбу; один глаз немного косит. Несмотря на то, что он почти на год старше меня, и я прикреплен к нему в помощники, на то, что он аттестован, а я нет, между нами сразу устанавливаются отношения, при которых первое слово принадлежит мне: как-никак я уже понюхал пороху, и это отлично понимает Мешков.
— Тебе бы надо встряхнуться, — говорю я, когда мы сходим с крыльца. — Попросись дня на два на передовую.
— А вдруг убьют? — испуганно возражает Мешков. На это я не нахожу, что ответить: правда, убить могут.
— Может, зайдем в разведроту? — предлагает он. Поворачиваем к обгорелому дому и там возле калитки сталкиваемся с низеньким темнолицым лейтенантом.
— Скучаете? — насмешливо, но беззлобно говорит он Мешкову.
— Вот, знакомлю нового товарища, — невнятно отвечает Мешков. — Пока прикреплен к нам.
Лейтенанту на вид лет тридцать пять. Судя по черным миндалевидным глазам и горбатому носу, он не русский: грузин или армянин. Я поясняю ему, что временно назначен помощником переводчика.
— Понятно, — говорит лейтенант. — Идемте обратно в штаб, разведчики позаботились о работе для вас.
— Это Григорьян, начальник отделения, мой шеф, — шепчет в сенях Мешков. — Кандидат исторических наук. Нестрогий.
Проходим за перегородку. Григорьян выкладывает на стол кипу немецких бумаг, раздобытых минувшей ночью дивизионной разведкой. Тут и письма, и блокноты, и тонкие листы, заполненные машинописным текстом, — вероятно, приказы или инструкции. Обрадованные, мы с Мешковым садимся за работу.
Мешков просит меня не спешить: потом опять нечего будет делать. Для начала рассортировываем бумаги по степени их важности. Попутно я присматриваюсь к новой для меня жизни штаба дивизии.
По сравнению с нашими полковыми штабистами эти более пожилые и более высокие по воинскому званию. Одного из них, маленького энергичного капитана, я не раз видел в нашем полку.
— Разрешите приступить к составлению оперативной сводки, товарищ начальник? — почтительно обращается он к рослому синеглазому майору, черному и морщинистому.
— Валяй, — хрипато отвечает тот, сворачивая здоровенную самокрутку.
У капитана вздрагивают уголки губ — очевидно, ему не нравится такая форма ответа, но он тотчас достает из планшетки карту, блокнот и помятые исписанные листки, похожие на те, которые мы ежедневно направляли из штаба полка в штадив.
Тихонько спрашиваю у Мешкова, кто они, этот капитан и майор.
— Это майор Ерошкин, начальник оперативного отделения, хороший мужик, а капитан Пиунов — его первый помощник, педант, службист.
Еще раз гляжу на Ерошкина и Пиунова: через несколько дней я должен перейти в их распоряжение. Ерошкин, полуобернувшись к окну, пускает огромные клубы махорочного дыма, Пиунов, чуть склонив голову, быстро строчит в блокноте.
Около двери у телефонов сидит подтянутый, с правильными чертами лица старший лейтенант. Ровным голосом он спрашивает что-то про связь, требует то «Марс», то «Землю», то «Луну». Одной рукой он придерживает наушники, а другой постукивает карандашом по колену. На нем не ватные стеганые брюки, как у всех, а синие галифе.
Мешков сообщает, что это начальник связи Павел Самойлов, москвич, его земляк. Любитель старинных романсов. Очень корректный.
Рассортировав немецкие бумаги, принимаемся сперва переводить те, которые помечены грифом «geheim» («секретно»), Мешков опять просит меня не спешить. Он вынимает из кармана распечатанную пачку «Беломора».
— Старший лейтенант, не хотите? — Он показывает Самойлову папиросы и говорит мне — Московские, явские. Отец на Новый год прислал, он у меня завмаг… Бери!
Закуриваем. Подходит Самойлов и тоже закуривает.
— Есть что-нибудь интересное? — кивает он на наши бумаги.
— Пока ничего особенного, — отвечает Мешков. Пиунов кидает в нашу сторону негодующий взгляд.
Через минуту, закончив писать, он поднимает на Самойлова усталые, с кровяными прожилками глаза.
— А что, Аида не звонила? — помедлив, спрашивает Пиунов слегка изменившимся голосом.
— Нет. — Самойлов, подмигнув Мешкову, вновь садится за телефоны.
Мешков наклоняется над моим ухом.
— Аида — это машинистка оперативного отделения, она сейчас помогает отделу кадров. Ничего девочка, веселая. У тебя женщины уже были?
Вот тебе и Мешков!
Я вспоминаю Нину, и мне становится грустно… А может, все так и должно быть в человеке — и страх, и любовь, и потребность в ласке, и готовность, если надо, умереть за Родину?
Я отрицательно качаю головой.
Мешков шепчет:
— А у меня была одна — продавщица. Ну, давай трудиться.
4
На другой вечер меня вызывают к начальнику штадива. Еще не доходя до двери, слышу стук пишущей машинки, шум, хриповатое урчание голоса майора Ерошкина.
Начальник штадива сидит у своего стола, закинув ногу за ногу, и заливается тонким беззвучным смехом. Посреди комнаты стоит Ерошкин. Лукаво поблескивая синими глазами, он что-то рассказывает. У другого стола за портативной машинкой — симпатичная девушка, рядом — аккуратно причесанный, средних лет старшина. В тот момент, когда я захожу в комнату, девушка разражается взрывом такого неподдельно-задорного хохота, что даже черный морщинистый майор Ерошкин, который по положению рассказчика должен был бы, очевидно, хранить серьезность, не выдерживает и сам смеется, взмахивая отчаянно рукой и охая.
В некотором замешательстве я останавливаюсь у двери.
Начальник штадива утирает слезы.
— Ну, хватит тебе, Ерошкин.
— Ей-богу, так и сказал. Такой ведь был плут, Еконя-Ваня!
И снова все хохочут.
Начальник штадива взглядывает на меня добрыми, еще смеющимися глазами из-под тяжелых бровей.
— По вашему приказанию явился, — докладываю я.
— Хорошо. Принимайте дела. Аида, донесение готово?
Девушка извлекает из машинки веер черно-белых листков.
Дела сдает мне аккуратно причесанный старшина. Я перебираю пронумерованные папки с надписями: «Оперативные сводки», «Боевые донесения», «Входящая почта», «Исходящая почта» — всего около десятка. Разобраться в таком хозяйстве не торопясь было бы, вероятно, нетрудно, но старшина поминутно поглядывает на часы: он должен еще сегодня поспеть на новое место службы, в штаб армии.
— Все поймете. Тут и понимать-то нечего, — говорит он.
Наконец он расписывается после слов: «Дела сдал», я строкой ниже: «Дела принял». Вся процедура длится не более двадцати минут.
Старшина прощается с начальником штадива, с майором Ерошкиным, пожимает руку Аиде, мне и уходит.
Я еще раз не без тревоги просматриваю пронумерованные папки: не запутаться бы. Начальник штадива — его фамилия Павлычев, это я вижу по подписи на распоряжениях — берет экземпляр боевого донесения и отправляется к командиру дивизии. Аида начинает что-то отстукивать на машинке под диктовку Ерошкина.
Через полтора часа передо мной высится гора деловых бумаг. Боевой приказ надо разослать в полки и спецподразделения дивизии, боевое донесение— в штаб армии.
— Смелее, смелее, Еконя-Ваня! — подбадривает меня Ерошкин.
Оказывается, этим же вечером мы должны сняться с места и занять новый оборонительный рубеж в восемнадцати километрах от нашего села.
С помощью Аиды я регистрирую документы, запечатываю сургучом пакеты и передаю оперативному дежурному. Потом, уложив папки в чемодан, иду ужинать.
Мешков уже спит. В закутке под топчаном стоят два котелка: в одном каша, в другом чай. Я быстро управляюсь с едой и кричу:
— Подъем!
— Вызывают? — Мешков спрыгивает с топчана, быстро кулаками трет глаза.
— Никто не вызывает, просто сейчас уходим. Мешков с облегчением вздыхает.
— А я думал, опять…
Скоро раздается команда на выход.
Беру чемодан с делами, поторапливаю Мешкова. Нас ждет лошадь, запряженная в розвальни. Рядом с нашими вещами ложатся вещи других штабистов. Аида уезжает в кошевке начальника штадива Павлычева. Ерошкина приглашает к себе комиссар Николаенко. Пиунов, Григорьян и начальник связи Самойлов садятся на вторые розвальни.
Штаб дивизии выезжает из села.
Мы с Мешковым молча шагаем за подводой. Чемодан с документами охраняет наш посыльный, вооруженный винтовкой, он примащивается возле ездового. Ночь теплая, тихая, наверно, будет оттепель. Порой низко над горизонтом вспыхивают ракеты, выгибаются светящиеся пунктирные трассы, но это далеко и похоже на воспоминание.
Проходит час, два, три. Каждые полчаса мы с Мешковым поочередно присаживаемся на розвальни передохнуть, но быстро замерзаем и снова идем в безмолвной мглистой ночи.
Но вот наша подвода останавливается около темного дома. Впереди у крыльца виднеются пустые сани, на которых ехали Пиунов, Самойлов и Григорьян. Немного в стороне — кошевки Павлычева и Николаенко.
Я подхватываю одной рукой чемодан, другой — вещмешок и захожу в дом. На столе у окна коптилка. За столом Павлычев. В углу монотонно бубнит, вызывая какую-то «Розу», дежурный телефонист. Я крепко устал, вероятно, еще не набрался сил после медсанбата.
— Подойди сюда! — резко приказывает Павлычев. В недоумении подхожу. — Знаешь, что ты наделал, раззява?.. Ты послал в штаб армии экземпляр боевого приказа для полков, а в одну из частей — боевое донесение для штаарма. Ты у меня сейчас же отправишься за тридцать километров в штаарм! Ясно?
— Ясно, — отвечаю я, полный ужаса.
— Разгильдяй! — кричит Павлычев. — Раззява!
Я молчу… Лучше бы мне провалиться сквозь землю!
— Марш спать!
Повернувшись, бреду в соседнюю темную комнату, ставлю у двери чемодан, сверху кладу вещмешок и тут же, не раздеваясь, валюсь на пол. Голова попадает на чьи-то ноги — все равно! На душе горько, до того горько, что заревел бы.
5
Уже сквозь сон ощущаю яркое пятно света, направленное в мое лицо, слышу осторожные шаги. Затем свет еще дважды возникает неподалеку и гаснет.
Пробуждаюсь с тяжелой головой. Возле меня чьи-то ноги — маленькие серые валенки. Приподнявшись, вижу белый полушубок и розовое лицо спящей девушки. Сразу вспоминаю вчерашний провал, на душе делается опять нехорошо, встаю, умываюсь во дворе талым снегом, потом, перебравшись в пока пустую служебную комнату, снова начинаю изучать свои папки с делами.
Постепенно комната наполняется хрипловатыми голосами. Самойлов уезжает с проверкой в один из полков. Григорьян — он сегодня оперативный дежурный— обзванивает части, требуя доложить обстановку. Входят незнакомые люди. Начальники отделений коротко и хмуро отдают им распоряжения.
Из соседней комнаты доносится голосок Аиды, выползает заспанный, весь в соломе Мешков. Майор Ерошкин, положив руку мне на плечо, негромко, укоризненно спрашивает:
— Ты что же это наделал-то вчерась? А? Ладно еще связь была, поправили ошибку, а кабы не было связи?..
Шумно появляется комиссар штаба Николаенко. Он идеально побрит, подтянут, новенькие ремни скрипят на нем; свежий, крепкий, как огурчик. Захлебываясь от радостного возбуждения, он говорит, остановившись посреди комнаты:
— Усэ на месте? А Аида де? А Мешков?.. Представляете, захожу ночью у комнату и бачу: Аидочка так раскинулась, а Мешков руци протянул до ней, а з другой стороны товарищ майор Ерошкин, а этот малый… — Николаенко бросает на меня радостный взгляд и, еще более захлебываясь, продолжает: — а малый так нежно-нежно обнял Аидочкины ноги.
На лицах штабистов разглаживаются озабоченные складки. Ерошкин похохатывает. Из полураскрытой двери выскакивает одетая в гимнастерку и брюки Аида.
— Опять разыгрываете меня, товарищ комиссар?
— От честное слово даю! — Николаенко улыбается еще шире и, улыбаясь и поскрипывая ремнями, уходит.
Настроение повышается. Голоса веселеют. Ерошкин спрашивает, завтракал ли я, и, узнав, что нет, отправляет меня на кухню, попросив захватить заодно его котелок.
Только возвращаюсь и еще не дохожу до штаба, как вдруг в конце деревни с треском и грохотом рвется снаряд. Я уже поотвык от этого — становится страшно. С грохотом рвутся подряд три снаряда — я распластываюсь на снегу, потом, подхватившись, быстро бегу… В штабном доме пусто. Вылетаю во двор, несусь к одному из блиндажей, построенных посреди огорода, кубарем скатываюсь по земляным ступеням.
Внутри в желтоватом свете вижу Павлычева, Ерошкина, Пиунова. Пиунов сидит за дощатым столом, перед ним карта и донесения из частей, он пишет в блокноте: вероятно, обстрел застал его за составлением оперативной сводки. Павлычеву нездоровится, он кутается в свою длиннополую шинель.
Ерошкин берет у меня котелок и спрашивает, вздергивая подбородок:
— Ну, что там?
Ударяет еще раз, затем еще. Павлычев просовывает руки в рукава шинели и приказывает телефонисту соединить его с оперативным дежурным. Григорьян — он, очевидно, в соседнем блиндаже — пока ничего объяснить не может. Павлычев толкает дверь, в блиндаж вместе с оглушительным треском и косым синеватым отсветом врывается волна воздуха. Коптилка гаснет. Павлычев захлопывает дверь. Пиунов в темноте чиркает спичку и подносит дрожащий огонек к дымящемуся фитилю.
Ерошкин, стоя, ест из котелка. Павлычев, опоясываясь ремнем, снова требует оперативного дежурного. Пиунов продолжает писать, лицо его непроницаемо и неподвижно.
— Откуда стрельба? Что? — кричит Павлычев в трубку. — Я без вас вижу, что тяжелыми… Полки, полки… Спокойно? Что? Что?.. Алло!
Наверху гудит и ударяет. Наш потолок вздрагивает, сыплется земля.
— Алло! — кричит Павлычев. — Связь!
Ерошкин ест, загораживая котелок ладонью. Пиунов пишет, держа туловище неестественно прямо.
— Связь! — кричит Павлычев. — Связь! — Потом отдает трубку телефонисту. — Обождите пока, — говорит он другому телефонисту, который сунулся было к двери.
Павлычев подходит к столу, опускается на скамью. Пиунов вопросительно поднимает на него глаза. Ерошкин наконец закрывает крышкой котелок и тоже садится за стол. И я сажусь.
Тяжелые снаряды продолжают молотить деревню. Снизу кажется, будто колотят огромные железные цепа. Все чаще и сильнее вздрагивает перекрытие блиндажа, сочится песок. Если будет прямое попадание, наши четыре наката не выдержат. Это может произойти в любую следующую секунду.
Я гляжу на Пиунова. Он пишет. В синих глазах Ерошкина отражается колеблющийся огонек коптилки. Павлычев смотрит прямо перед собой, челюсти его крепко сцеплены.
Вот мы, наверно, и сравнялись, думаю я. Он — начальник штадива, майор, и я неаттестованный завделопроизводством, раззява. Перед лицом смерти мы одинаковы, сейчас мы просто люди, которые не в силах остановить стальной шквал, гудящий над нашей головой… Может быть, проходят часы, а может, минуты — мы ждем.
Огромный цеп со страшной мощью ударяет поблизости — пламя коптилки ложится набок и гаснет. Новый удар — блиндаж на момент озаряется голубым сиянием, и слышно, как ворочаются бревна. Павлычев вскакивает на ноги, вскакивает Ерошкин. Чиркает спичка, твердый острый язычок огня вновь засвечивает фитилек.
Пиунов тушит спичку и аккуратно прячет ее обратно в коробку — не бросает… В эту минуту я прощаю начальнику штаба за «раззяву» и «разгильдяя»: прав он, прав «службист» Пиунов, а не мы с Мешковым, меряющие здесь на войне людей привычной мирной меркой… Ерошкин что-то сконфуженно бормочет. Павлычев, насупя брови, опять садится за стол.
А у меня вдруг начисто пропадает страх. И хотя железный цеп еще тяжело похаживает вокруг блиндажа, я почему-то убежден, что с нами ничего не случится. По крайней мере пока горит огонек коптилки и возле нее работает маленький педантичный капитан.
Через четверть часа все затихает. Мы подымаемся наверх. В десяти шагах от блиндажа край громадной воронки, из-под раскиданной земли на перекрытии выглядывают желтые торцы бревен…
Вечером я пишу матери письмо. Пишу ей о том, что меня окружают хорошие, смелые люди, что я здоров. Я прошу ее не беспокоиться обо мне и поцеловать сестер. О ранении так и не сообщаю: зачем волновать, когда самое опасное и трудное для меня уже позади?
6
Настает весна. Дороги, в просовах и буграх, делаются непроходимыми, повсюду — у обочин, в покрытых тонким ледком канавах и прямо в поле — темнеют вытаявшие трупы. Боевые действия, если не считать перестрелки и поисков разведчиков, приостанавливаются.
Мы перебираемся в лес, в блиндажи. Пользуясь затишьем, я начинаю всерьез заниматься военным самообразованием. Мне помогает майор Ерошкин: учит читать карту, ориентироваться на местности, понимать разные непростые военные термины.
В самую распутицу, в середине апреля, я вновь налегаю на немецкий — приходится по совместительству замещать заболевшего Мешкова — и очень радуюсь, что Павлычев доверяет мне допрос пленного эсэсовца, девятнадцатилетнего прохвоста из Ганновера…
Я слушаю, как в светлом ольшанике, подернутом нежной майской зеленью, поют соловьи, и, подавляя всякие недостойные лирические порывы, упорно учусь рисовать схемы, которые мы прилагаем к нашим боевым донесениям в штаарм. Я штудирую условные знаки — наши и немецкие — огневых точек, артбатарей, стрелковых ячеек, КП и НП, упражняюсь в их начертании и потом сам себя экзаменую.
Работаю где попало: на пеньке, около костра, сидя под шуршащим от дождя зеленым пологом. Ерошкин диктует, а я, положив на колено планшетку, пишу, и это тоже похоже на урок: мне не без труда дается сжатый, часто отступающий от обычных грамматических норм язык военных донесений…
Незаметно подходит июнь. Мы прочно обосновываемся в деревне Воронцово, у истоков Днепра — в здешних местах узкой речки. На передовой по-прежнему спокойно (мы наступать пока не можем, у нас здесь слишком мало сил; немцы, по-видимому, тоже не готовы к наступлению) и жизнь штадива в это время протекает так, как, по моим представлениям, ока должна протекать в мирных условиях. Мы работаем и отдыхаем строго по часам. Я получаю наконец общественную комсомольскую нагрузку: читать газеты бойцам комендантской роты, обслуживающим штаб. Организуется столовая, вводятся политзанятия и командирская учеба.
Теперь я занимаюсь с еще большим рвением, учусь, может быть, бессистемно, но учусь, на мой взгляд, главному, что необходимо культурному штабисту, — от правил военной этики и составления оперативных сводок до меткой стрельбы из пистолета, — и когда в конце июня погожим вечером майор Ерошкин извещает меня, что приказом командира дивизии мне присвоено звание старшего сержанта («В семнадцать годов и старший сержант, а, Еконя-Ваня?!»), я даже не пытаюсь скрыть своей бурной радости: значит, я уже кое-что умею, я нашел свое место и отныне, наверное, по-настоящему нужен в армии…
Я торжествую, и я полон самых радужных ожиданий. Я уверен, что где-то в глубинах нашего тыла собираются новые могучие силы, и скоро, очень скоро, мы опять — теперь уже безостановочно — погоним фашистов с нашей земли.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
5 июля 1942 года над штабом на большой высоте проходит немецкий двухфюзеляжный разведчик «фокке-вульф». В другое время на него, вероятно, не обратили бы особого внимания, но вот уже несколько дней в штадиве творится что-то непонятное: проводятся секретные совещания, все начальники приуныли…
К вечеру нам приказывают снова перебраться в лес, в загодя выстроенный шалашный городок. Однако едва разгружаем повозки в лесу, поступает новое распоряжение: оставить городок и следовать по дороге на северо-запад вместе с проходящими частями. Наши начальники срочно уезжают в полки… Опять погружаемся, опять трясемся по корням. Потом нас поглощает колонна — пешие, конные, какой-то обоз.
Мешков, я и наш посыльный сидим на передней подводе, на задней — три бойца комендантской роты. Сумерки сгущаются. Голос Мешкова, назначенного старшим нашей группы, почти беззвучен…
Окружение. Да, теперь полное окружение: немцы замкнули кольцо, но с рассветом мы пойдем на прорыв. Впереди гвардейские части, усиленные танками, тяжелой артиллерией и «катюшами». Танки будут охранять нас с флангов, в середине должны двигаться армейские и дивизионные тылы. Один из наших полков замыкает колонну с задачей сдерживать противника с юга. Есть точный, разработанный во всех деталях план.
С полчаса едем в безмолвии. По бокам в темноте колышутся головы бойцов, всхрапывают кони, вспыхивают красные угольки цигарок. Заметно свежеет.
Развязываем вещмешки, едим, затем, по совету посыльного, старого солдата, пытаемся по очереди подремать. Мне это удается.
…Открываю глаза. Мы стоим. Пахнет сыростью, травой, колесной мазью. Внизу чернота, но небо уже начинает наливаться предрассветной мутью.
— Почему встали?
— Пробка, — отвечает ездовой.
Мешкова и посыльного нет. Соскакиваю с повозки. Очень свежо. Мимо, колыхаясь, продолжает двигаться пехота. Из черноты выходит посыльный, за ним Мешков.
— Чертов мост! — ругается Мешков. — Надо же было ему провалиться так некстати… Целый час из-за него потеряли.
Снова едем. Нас обгоняют танки — они ползут метрах в двухстах в стороне. Небо все более мутнеет. Мешков говорит, что до рассвета мы должны сосредоточиться в большом лесу южнее намеченного пункта прорыва.
Просветляется небо. Отчетливее видны люди. Они идут по дороге и по полю — сотни людей со скатками шинелей и с винтовками за плечами. По бокам урчат танки, они приостанавливаются и опять ползут вперед.
Небо принимает зеленоватый оттенок. Ярко горит заря. Люди уже не идут — они бегут, многие сотни людей с винтовками и со скатками шинелей. Я вкладываю в трофейный автомат магазин, встаю на колени.
Впереди темный лес и целая река повозок. Вершины ближних елей окрашиваются в нежно-розовый цвет.
Мы достигаем лесной опушки в тот момент, когда за нашими спинами начинают гудеть немецкие самолеты.
Почти в ту же минуту впереди раздается стальной грохот артиллерийского залпа. Оглядываюсь. За нами в клубах пыли людской поток, разлившийся километра на два.
Стальной грохот повторяется. Вздрагивает воздух. Мы прыгаем с повозки. Сзади напирают — бежим. Слышен напряженный прерывистый шум: бьют «катюши». И снова стальной перекатистый грохот.
Взглядываю на Мешкова. Он сжал зубы. Посыльный задирает голову — его тревожит воздух. В паузах между орудийными залпами доносится нарастающее рокотание самолетов… Неужели накроют нас?
Мы бежим уже в лесу. Оглядываться некогда. Впереди на широком фронте гремит наша артиллерия. Подразделения растекаются по лесу, но все устремлены на север, туда, где сейчас будет взламываться немецкая оборона. Наши танки, вероятно, достигают рубежа атаки — по обе стороны дороги тянутся свежие полосы раздавленных кустов.
Мы углубляемся в лес, наверно, на полкилометра, как над нами вдруг раздается резкий вой и шипящий свист.
— Ложись! — командует кто-то.
Прыгаю через канаву, падаю и поворачиваю голову. Вижу пикирующий «юнкере» и еще «юнкерсы» — огромная ревущая стая повисла над лесом. Оглушительный взрыв будто подбрасывает меня.
Я впиваюсь пальцами в узловатое корневище, смыкаю веки. Поют осколки, и новый взрыв, как удар грома над головой, и еще, и еще взрывы…
Дрожит земля. Трещат, ломаясь, деревья. Вой, свист и грохот не утихают ни на минуту. Еще удар и еще удары, и нет никакого конца. Нет конца реву, свисту, грохоту, дрожанию земли. Я почти физически ощущаю, как лес наполняется стонами, кровью, криками, паникой.
Внезапно в общем хаосе звуков слух улавливает нечто новое. Приподнимаю голову. Между верхушек иссеченных елей — стеклянное небо, и в нем дымная, низвергающаяся полоса огня. Немного поодаль вижу горящий «юнкере». Грохочут еще взрывы, но «юнкерсов» уже нет. В блестящем небе кувыркаются какие-то светлые птички, за ними носятся другие, длинные, — это «мессершмитты». Идет воздушный бой. Он постепенно отдаляется к востоку.
Встаю. В ушах звенит… Где же наши? Как прорыв?.. Я слышу стон, который тут же заглушается грохотом близкого минометного разрыва. Отовсюду поднимаются головы.
Выхожу на дорогу. Потока больше нет. Лес посветлел — собственно, это уже не лес, а остатки, обломки леса… Где же повозка? Где Мешков? Почему немцы стреляют сюда из минометов?
Гляжу влево и вправо. Бегу вперед. Слева огромная бомбовая воронка и рядом трупы лошадей, убитые люди… Нет, не мои. Бегу назад. Смотрю на другой стороне — ни Мешкова, ни повозки, никого из наших бойцов; только убитые, но эти тоже незнакомые.
Снова бегу вперед по узкой пыльной дороге. Думаю, что если Мешков и повозка уцелели, то они должны двигаться дальше, к пункту прорыва. Пережидаю очередной минометный разрыв, вскакиваю на ноги и опять бегу.
Кругом валяются убитые. Живые понуро бредут на север… Лишь бы не опоздать, лишь бы прицепиться к колонне… Но почему немцы так спокойно обстреливают лес из минометов? И почему больше не слышно наших пушек?
Дорога впереди пуста. Передо мной глубокая черно-рыжая воронка. Около нее в кустах люди. Подхожу ближе. Люди, опустившись на колени, обливают керосином связки бумаг, поджигают и сбрасывают вниз.
— Что вы делаете?
Один из поджигающих обращает ко мне пунцовое лицо.
— Документы…
— А прорыв? Прорыв?
— Нет больше прорыва. — Пунцовый зло сплевывает в огонь.
Огибаю воронку с пылающими бумагами. Навстречу по обочине дороги и прямо по лесу меж стволов плетутся бойцы. Многие с повязками, некоторые без винтовок. Останавливаю пожилого старшину с забинтованной головой.
— Вы какой части? Он не отвечает.
— Что случилось? — кричу я. Старшина болезненно морщится.
— Отрезали, что ли? — кричу я, кивая на север.
— Отрезали… рассекли колонну танками… остальное— авиация. Ох! — с усилием произносит раненый и, махнув рукой и уже не глядя на меня, бредет дальше.
Шагов через сто натыкаюсь на молоденького лейтенанта-артиллериста с суковатой палкой в руке. На одной ноге у него нет сапога — стопа обмотана грязным вафельным полотенцем.
— Дай закурить, — просит он у меня. На его бледном лице пот.
— Некурящий.
— Скверно… Все скверно, — заключает он. — Тебе не попадалась какая-нибудь санчасть?
— Нет. А что впереди?
— А черт его знает, что впереди… Сейчас передали — просачиваться мелкими группами. Главные силы вроде там… продвигаются с боем, а нам просачиваться… А как это сделать, разрешите узнать, если прострелена нога и… разбиты все пушки? — В расстегнутом вороте гимнастерки лейтенанта белеет странно тонкая шея. — Так санчасти, говоришь, не попадалось?
— Нет.
Артиллерист вытирает потный лоб.
— Что ж, тогда скажем — всё. Подстрелю еще из пистолета парочку фрицев и спою… прощай, любимый город.
Он силится улыбнуться, но видно, он готов разрыдаться…
Иду по инерции еще некоторое время вперед, понимаю, что бессмысленно: впереди пусто, но все-таки иду, потом останавливаюсь возле переломленной пополам молодой сосны. На изломе в солнечном свете разноцветными огоньками вспыхивают капли застывающей смолы… Чувствую, что на меня наваливается отчаяние.
Как все быстро! Как неожиданно!.. Разгром. Что же делать? Как найти хоть кого-нибудь из своих?
Я сажусь на землю, закрываю лицо руками и тотчас вскакиваю. Придерживая на груди автомат, бегу обратно вслед за лейтенантом, но он куда-то пропадает… Что же делать? Что делать?
Возвращаюсь к черно-рыжей воронке, где какие-то штабисты жгли бумаги, — их тоже нет… Почему я но пристал к ним? И почему в лесу тишина? Успел ли Мешков вместе с посыльным и ездовым, если они не погибли во время бомбежки, уничтожить наши документы?
Кружу по изувеченному лесу часа два, пытаясь отыскать бойцов из своей дивизии или какое-нибудь подразделение с командиром, однако повсюду вижу только убитых, раненых и небольшие группы совершенно растерянных и измученных людей.
2
Поблуждав еще немного, решаю вернуться к опушке. Мне припоминается, что колонну должна замыкать одна из частей нашей дивизии. Возможно даже, что наши батальоны обороняют этот лес с юга.
Обхожу стороной разбитые повозки, конские трупы, затем через несколько минут сворачиваю с дороги… Прямо передо мной в тени орешника сидит… воентехник Иванов — да, это он, Иванов, — а рядом с ним пожилой, с брюшком человек, лицо которого тоже знакомо, и какой-то старший сержант… Иванов держит на коленях развернутую карту, человек с брюшком неотрывно следит за движением его указательного пальца.
— Товарищ Иванов!
Он вскидывает глаза — он сильно загорел и похудел.
— Не узнаете?.. Зима, медсанбат, — напоминаю я.
— А-а, ну как же… Здравствуй… Ты один?
— Бывший адъютант Симоненко, по-моему, — прищуриваясь, говорит пожилой.
— Да. А вы, по-моему… помощник командира полка по хозяйственной части.
— Совершенно верно.
Наконец-то свои!.. Я страшно рад, просто счастлив.
— Присоединяйся, — говорит Иванов. — Мы обсуждаем, куда нам податься… Что ты знаешь об обстановке?
Он по-деловому спокоен и сосредоточен.
Сообщаю все, что мне известно. Иванов подтверждает, что поступил такой приказ командующего — просачиваться мелкими группами. Он, Иванов, лично того мнения, что нам следует идти сперва на юго-запад, где немцев, несомненно, меньше, а потом восточнее Белого повернуть снова к северу и лесами и болотами попытаться достигнуть Нелидова, возле которого должна проходить основная линия фронта.
— Двигаться придется только ночами. Днем отдыхать… Вы как, товарищ интендант третьего ранга?
Помкомполка — он почему-то без знаков различия — кивает.
— Я целиком и полностью… План хороший. И в дальнейшем прошу принимать решения и командовать, товарищ Иванов… вы меня, конечно, понимаете.
— Твое мнение? — Иванов смотрит на меня.
— Я согласен.
— А ты, Герасимов?
— Я, как все, — отвечает старший сержант, очевидно, сослуживец и подчиненный Иванова.
На душе делается веселее. Нас четверо, у нас два автомата, винтовка, три пистолета, карта, компас. Правда, все мы нестроевые, но оружием владеем. Вероятно, мы теперь и есть одна из тех мелких боевых групп, которые по приказу командующего должны просачиваться через вражеское кольцо…
— Какие предложения, товарищи? — спрашивает Иванов.
— Давайте перекусим, — говорит помкомполка, развязывая большой, туго набитый рюкзак. — А вы, молодой человек, что же так, налегке?
— У меня все осталось на повозке… и шинель и мешок. Не мог найти после бомбежки.
— Ничего, теперь у нас все общее, — успокаивает меня Иванов.
Мы едим сухари и копченую колбасу из запасов помкомполка, Иванов пускает по кругу фляжку с холодным чаем, потом проверяем оружие и встаем.
Уже полдень. Немцы сейчас обедают. В лесу тихо.
Пересекаем дорогу, движемся по наклонной извилистой тропе и скоро выходим на берег болотистой речки. Осматриваемся, прислушиваемся. Иванов, раскрыв планшетку, пробует сориентироваться.
Через речку перебираемся по сваленной ели — впереди Герасимов, за ним Иванов, помкомполка и я. Только ступаю на дерево, как позади раздается треск автомата…
Спрыгиваем на трясинистый берег, вновь слышим автоматные очереди и быстро углубляемся в редкий ельник. Здесь одурманивающе пахнет багульником, стоячей водой, болотной гнилью. Взбираемся на бугорок, поросший ивняком.
— Надо узнать, что там. — Иванов указывает в ту сторону, где должна находиться просека.
Герасимов, не произнеся ни слова, берет винтовку за плечо. Я отправляюсь вместе с ним.
Пригибая головы и вспугивая тонконогих куличков, бесшумно идем в заданном направлении. Подле густой одиночной ели Герасимов останавливается. В эту минуту спереди доносится гулкая автоматная очередь. Мимо, чирикая, проносятся пули.
Гляжу прямо. Ивняк, островки зеленой осоки и бархатисто-желтый влажный мох. Недалеко стена невысоких глянцевитых елок.
— Я поползу туда, а ты случай чего прикрывай,—
говорит Герасимов. Голос у него глуховатый, лицо темное и строгое. — Держись шагов за сто.
Ползем. Колени и гимнастерка на груди промокают. Руки то и дело по локоть проваливаются в воду. Кисти черны и блестят на солнце.
На момент Герасимов исчезает из моего поля зрения. Ползу проворнее и чуть не напарываюсь носом на его сапог. Герасимов лежит в осоке метрах в пятидесяти от ельника. Пячусь до ближнего куста. Справа, как будто совсем рядом, строчит автомат. Никого не видно. Сапоги тоже исчезают. Опять переползаю вперед в примятое место. Герасимов, почти неразличимый в траве, скрывается в ельнике.
Снова автоматные очереди — справа и слева. Жду Герасимова. Кажется, жду очень долго. Наконец появляется. На темном лице капельки пота, ко лбу приклеилась сухая былинка.
— Там дорога, гать, — шепчет он. — Становят тяжелые минометы, чуток правее. А тут автоматчики по опушке, ты сам, поди, видел…
Возвращаемся к своим. У Иванова автомат наготове, помкомполка надел очки… Герасимов докладывает, и Иванов делает пометки на карте.
— Будем отдыхать, — говорит он. — Я дежурю первым, ты, Герасимов, вторым.
— Есть, — отвечает тот.
Отвечает как положено, думаю я. Это хорошо.
Сажусь на бугорок в кусты, подтягиваю под себя ноги, опускаю лицо в колени и сразу проваливаюсь в какое-то небытие.
3
Меня поднимает Герасимов. Иванов и помкомполка спят, завернувшись в плащ-палатки. Уже шестой час. Немцы постреливают.
— Гляди особенно туда. — Герасимов кивком показывает на густую одиночную ель. — Ежели будет все спокойно, начальников не тревожь, я сам тебя сменю через два часа.
Он раскатывает шинель, ложится и затихает.
Время останавливается. Вьется мошкара, тонко звенят комары. Каждая минута как вечность. Смотрю и слушаю, думаю, прислушиваюсь и смотрю.
Но вот восемь. Бужу Герасимова.
— Все в порядке?
— Да.
— Подремли еще пару часиков на моей шинелке. Укутываюсь с головой во влажную, пропахшую ружейным маслом и махоркой шинель. На этот раз долго ворочаюсь, вспоминаю Павлычева, Ерошкина, Аиду — где теперь они, что с ними, — но усталость берет свое…
Сбрасываю с себя шинель. Над болотом туман. В белой пелене чернеют кусты и елки. Звенят комары. Прямо перед нами тускло вспыхивает ракета. Позади через правильные промежутки времени ухают разрывы мин.
Ровно в одиннадцать мы поднимаемся и идем к придорожному ельнику. Герасимов снова впереди, потом Иванов, за ним помкомполка и я. Мне приказано в случае необходимости прикрывать отход. Когда достигаем ориентира — густой одиночной елки, — взвивается белая ракета. Мы падаем. Над головой с грохотом проносится пулеметная очередь. Слышно, как щелкают перебитые ветки. Едва ракета гаснет, делаем резкий бросок вперед и опять падаем. В этот момент правее, должно быть, у самой речки, раздается громовой залп винтовок. И сразу же в той стороне взлетает несколько осветительных рбкет, начинают басовито стучать пулеметы.
Новый ружейный залп, очевидно, на прорыв идет еще одна наша группа. Ракеты гаснут. Прыгаем вперед. Мы уже в ельнике — впереди яркий свет, сбоку треск выстрелов, меня бьет по лицу колючая ветка, и я бросаюсь за товарищами в яркий свет.
Я всего на мгновение ощущаю под ногами бревенчатый настил, в следующее мгновение вновь попадаю в темноту. Я мчусь вперед, рядом раздаются гортанные выкрики, прерывистый стук автоматов, из-под земли, как из невидимого улья, выпархивают огненные пчелки трассирующих пуль. Я слышу удаляющееся хлюпанье — это бегут товарищи — и гром очередного залпа винтовок.
Сворачиваем к речке. Бежим по берегу. Сзади гремят выстрелы. Переходим на скорый шаг, опять бежим… Неужели нам удалось? Неужели прорвались?
Немцы продолжают навешивать ракеты и стрелять, но теперь они мало волнуют нас: это уже позади. Бежим еще с полчаса, наконец останавливаемся около большого черного дерева, рассаживаемся вокруг толстого ствола и здесь решаем ждать рассвета.
Как только между кронами деревьев проступает небо, мы снова трогаемся в путь.
Идем, как и раньше, гуськом: первый — Герасимов, я замыкающий. Лес еще хранит следы недавнего пребывания наших войск: пожелтевшие обрывки газет, пустые консервные банки, патронные гильзы, порожние лотки из-под мин. Пахнет гарью и чем-то сладковатым.
Неожиданно Герасимов останавливается.
— В чем дело? — спрашивает Иванов. Впереди лесная поляна. В центре ее большая, с рваными краями воронка. Деревья вокруг поломаны и обожжены. Под деревьями на земле — клочки искромсанных человеческих тел, засохшие окровавленные бинты, труп лошади с вывалившимися внутренностями, новенькая санитарная сумка с черным пятном посредине… У ног Герасимова в траве — круглая женская гребенка.
— Дальше! — приказывает Иванов.
Минуем поляну. День сидим в мелком овражке. Когда солнце поворачивает на запад, Иванов сам отправляется в разведку.
Возвращается хмурый.
— Ну, что, товарищ Иванов? — спрашивает помкомполка.
— Новое кольцо… Помкомполка бледнеет.
Вечером спускаемся к какой-то реке, доходим до опушки леса. Здесь опять топь, но теперь у нас в руках колья. Опираясь на них, ползем вдоль низкого берега, осыпаемые дрожащим светом ракет…
4
К утру мы достигаем густого сосняка, продираемся сквозь валежь и попадаем на тропу, скрывающуюся в чаще. На тропе кое-где заметны свежий конский навоз и врезы от подков. Вскоре нас останавливают наши спешившиеся кавалеристы, вооруженные карабинами.
Спускаемся в ложбину. Повсюду видны группки по пять-шесть стреноженных лошадей. Неподалеку прямо на голой земле спят бойцы — у них изнуренные, серые лица.
На дне балки около березового шалаша нас просят подождать. Появляется высокий, худощавый капитан с взлохмаченными волосами. Глаза его воспалены, он щурится, очевидно, его разбудили.
— Какие командиры? Откуда?
Помкомполка показывает свое удостоверение, и капитан — вероятно, командир кавалеристов — приглашает нас в шалаш.
Узнаем, что в лесу застряли два эскадрона кавполка, прикрывавшего отход наших войск с юго-запада. В день прорыва боевые порядки части были расчленены вражескими танками. Два эскадрона оказались отсеченными, отошли в этот лес и потом трижды пытались пробиться через большак к Нелидову. Минувшей ночью отряд понес особенно тяжелые потери. У них осталось по десятку патронов на бойца, кончился хлеб и фураж, не хватает воды и бинтов для перевязки раненых. Немцы в лес не суются, но и не выпускают — блокировали накрепко.
— Что думаете делать? — спрашивает Иванов.
— Прорубаться, — говорит капитан. — Просачиваться мы не умеем.
Ночью вместе с кавалеристами атакуем немцев. Нас встречают сильным пулометно-автоматным огнем. Четыре раза мы бросаемся на дорогу, четыре раза смывает нас обратно. Потеряв половину отряда убитыми и ранеными и израсходовав почти все патроны, мы отходим в лес.
Днем, подавленные, сидим в балке. В голове ворочаются безотрадные мысли… Что значит не умеем просачиваться? Не умеем выходить из окружения? А может, это не только я один ничего не умел, может, все мы в какой-то мере были не подготовлены к таким неприятным вещам, как вражеские котлы и наше вынужденное отступление?
В пятом часу мы, четверо, выбираемся на опушку, откуда пришли: по настоянию помкомполка мы решаем вновь действовать самостоятельно.
Еще светло, но мы ползем на вырубки. Здесь много сияющих березок, и ольх, и молодых ярких елок; очень много земляники — я срываю прямо губами спелые, душистые ягоды. Мы прячемся в высокой траве у кустов. Между нами и лесом на рысях проходит кавалерийский дозор немцев.
До наступления сумерек наблюдаем. Когда темнеет, осторожно ползем вперед и неожиданно оказываемся в центре вражеского расположения. Мы слышим голоса немцев, я разбираю их отдельные слова. Слева и справа коротко строчат автоматы. Ориентируясь по ним, продолжаем ползти.
К полуночи добираемся до большака, примерно на километр южнее того места, где мы пытались прорваться вместе с кавалеристами… Со стороны леса доносятся выстрелы. Взмывают ракеты. Когда вспышки гаснут, мы, пригнувшись, перебегаем через дорогу. Мы падаем, прислушиваемся и несемся дальше. Кажется, все благополучно — нас не обстреляли. Может, теперь… просочились?
Снова шагаем через перелески, вырубки, поля. Мы очень спешим. Мы идем строго на северо-запад, выбирая самый короткий путь. За ночь нам надо дойти до Нелидовских лесов. Там фронт, и мы всеми силами — душевными и физическими — устремлены туда.
Под утро попадаем в полосу густого тумана. Возле какого-то ручья чуть не нарываемся на немцев. Опять слышим гортанные голоса, короткие автоматные очереди, опять прижимаемся к земле, обливаемые молочным светом ракет. Мы по одному переходим ручей и движемся в тумане дальше.
Очередной рассвет застает нас в небольшой березовой роще. До Нелидовского леса мы не дотянули. Приближаемся к западной опушке и видим просторный луг, который с юга окаймлен грядой мелкого ельника, смыкающегося в одном месте с нашим березняком. На севере за вытоптанным полем голубеет бор. Пройти туда сейчас, конечно, невозможно. Отступить тоже нельзя: позади открытая поляна и ручей — там немецкий заслон…
И вдруг со стороны ельника доносятся винтовочные выстрелы и короткие переговоры автоматов. Минутой позже на лугу показывается группа безоружных бойцов в разодранных гимнастерках, а за ними — цепь немецких автоматчиков. Наши — с поднятыми руками.
Я оглядываюсь на Иванова. Он кусает побелевшие губы. Гляжу на луг. Один из немцев быстрыми шагами подходит к группе, хватает за ворот высокого человека и отводит в сторону, ближе к нам. Теперь я вижу на рукаве высокого красную звезду политработника, а на плечах немца узенькие серебряные погоны. Немец неторопливо расстегивает кобуру.
— Товарищ Иванов, — шепчет помкомполка, — товарищ Иванов…
Я слышу хлопок револьверного выстрела — смотреть на это не могу.
— Маскируйтесь, — сухо приказывает Иванов.
Он и Герасимов ползут влево, помкомполка — вправо, я отползаю немного назад к кусту шиповника и прячусь в густой траве.
На лугу раздается мерный топот ног. Вероятно, автоматчики собираются прочесывать нашу рощу. Дикий страх овладевает мной.
Бежать некуда. Защищаться нечем: во время ночной атаки с кавалеристами у меня кончились патроны, вдобавок расклинило прямым попаданием магазин автомата; у меня остался только пистолет.
Что же делать?.. Мерный топот приближается. Ударяют первые очереди. Секунды нечеловеческого напряжения — что делать? Что?
Страшным усилием воли я ломаю себя («подавляю низменный инстинкт самосохранения», — мелькают где-то смешные слова; разве дело только в инстинкте?). Я ломаю в себе все — эту зеленую росистую траву, эту милую землю, на которой лежу, этот прозрачный, осиянный утренним солнцем воздух, то теплое, свое, единственно мне принадлежащее, которое называется моей жизнью… Я решаю застрелиться.
Я оттягиваю курок. Засовываю пилотку под ремень. Нет, не сразу — застрелиться, я еще убью первого, ближнего ко мне немца.
Да, убью, убью сперва его, а потом себя…
Где же страх?
Я просто приложу пистолет к виску и нажму на спуск. Очень просто. Боли я не почувствую — быстро. Я умру?
Нет, не умру. Мне становится яснее ясного, что я не умру: я останусь тут — в этом воздухе, в этих листьях, в этом щебете птиц. Мне спокойно и даже несколько удивительно, что я поначалу так испугался…
Топот ног — вот он! Над головой секущий удар пуль. Немецкие жесткие сапоги рядом, можно схватить рукой. Сапоги — мимо…
Я встаю. Я вижу розовые затылки. Немцы, сукины дети, шагают в ногу, рукава закатаны до локтей, автоматы у бедра… Я иду вслед за ними по примятой траве, держа пистолет наготове, чтобы выстрелить в первого оглянувшегося, а затем в себя. Мне нисколько не страшно, потому что знаю: я все равно не умру.
Они, грохоча короткими очередями, удаляются. Я останавливаюсь… В следующую секунду, согнувшись, я бегу по опушке к ельнику. Я бегу изо всех сил и слышу позади жалобный вскрик — однажды я слышал, так, по-человечески, вскрикнул смертельно раненный кролик… Мне опять делается жутко.
…Я уже в ельнике. Я один. А что я могу один? Что человек может один?
— Иванов! — кричу я. Молчание. Тишина.
— Иванов…
Между зеленых колючих лап появляется белое лицо Иванова.
— Тихо… Убью!:
Все равно: я счастлив, что Иванов нашелся, что он здесь.
Появляется и Герасимов, он тяжело дышит, на щеке кровь. Нету лишь помкомполка… Обессиленные, мы садимся на землю.
5
Мы шагаем снова на юг. Нас теперь трое. Иванов предлагает попытаться обойти город Белый с юга и потом двигаться лесами запада нее Белого… Мы понимаем, что достигнуть линии фронта кратчайшим путем немыслимо: на этом пути сосредоточены главные немецкие силы, воюющие с окруженцами.
Идем днем: немцы в лес по-прежнему не суются. Ночью, как правило, спим, замаскировавшись в кустах; нас нередко будят близкие пулеметные и автоматные очереди. По временам, когда надо переходить дороги, мы соединяемся с другими мелкими группами — нас порой набирается до ста человек, — и тогда мы все вместе опрокидываем небольшие вражеские заслоны, а потом опять разъединяемся: такая тактика оправдывает себя…
Несколько дней спустя мы, пробуем прорваться через большак южнее Белого. В ночном бою немцы легко разбивают наш летучий отряд: здесь, неподалеку от города, вновь крупные вражеские силы… Утром, отступая, мы, трое, забредаем в лесной хуторок. Жители его настолько напуганы, что прячутся даже от нас; лишь один хмурый старик на костыле выносит нам миску холодной картошки. К сожалению, он не может посоветовать, в какую сторону нам лучше направиться: их, гражданских, тоже не выпускают из леса; где сейчас немцев больше, где меньше, никто в точности не знает.
— А ты бы оставил этого парня у нас, — вдруг говорит старик Иванову, ткнув в мою грудь скрюченным пальцем. — Будет потише, тогда и возвернется.
Иванов измученно глядит на меня.
— Мы справим ему одежонку, — добавляет старик. — Еще молодый, сойдет за сынка.
— Может, имеет смысл? — спрашивает Иванов. Я против.
Поворачиваем опять на север. На этот раз идем в сторону Оленине Иванов считает, что нам теперь выгоднее держаться открытых мест, днем в оврагах отдыхать, а ночами продвигаться по полям к железнодорожной линии Ржев — Великие Луки. Не доходя до нее, мы свернем влево и постараемся перейти фронт восточнее Нелидово…
19 июля вечером мы наконец проникаем в лес, за которым, по нашим расчетам, должна находиться передовая. Наше предположение оправдывается. Мы слышим выстрелы немецких пушек, стоящих в этом лесу, ровный, сильный стук наших пулеметов впереди. Сердце окрыляется радостью, мы в каком-то полузабытьи идем прямо на звук пулеметных очередей.
Лес разрежается, светлеет — близко опушка. Мы тщательно маскируемся в кустарнике у самой кромки леса на взгорье и принимаемся наблюдать за дорогой внизу. Слева виден небольшой деревянный мост, там немцы-часовые. Справа доносятся громкие голоса, потом показываются солдаты с котелками: вероятно, получают ужин…
А наши пулеметы все шлют и шлют сюда короткие сильные очереди. Они — как привет Родины, они ободряют нас. Бухают немецкие пушки — теперь вражеские батареи позади.
Садится солнце. Мы лежим, не сводя глаз с дороги. Начинает смеркаться. Выплывает луна. ААы лежим. Поднимается туман, луна исчезает.
— Два часа, — шепчет Иванов. — Ну!..
Держа оружие наготове, медленно спускаемся к дороге. Мы идем кучкой: в промозглой тьме нас трудно отличить от кустов. Замираем, слушаем и вновь осторожно движемся.
Главное, перебраться через дорогу. За ней большой лес, и в нем наше спасение, там свои.
Дорога едва белеет впереди. Быстро, по одному, перебегаем. Все тихо, все спокойно. Лишь сердце стучит, как молот, до перехвата дыхания… Теперь в лес, к своим, там спасение!..
Грохочет огонь — длинное красное пламя. Я никогда не думал, что огонь может так бить. Земля вдруг переворачивается, громоздится стеной и придавливает меня всей своей невыносимой удушливой тяжестью.
НЕВОЛЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Убит. Я думаю, что я убит. Но если я думаю об этом, то значит — не убит? Я живой?.. Вокруг меня черная стенка, сверху дышащее холодом мглистое пятно и блуждающий красный огонек… Что это?
Я приподнимаю голову — она словно набита острыми камнями и ноет в затылке. Я вижу возле себя серые неподвижные кули.
— Иванов!
Меня кто-то дергает за ногу.
— Иванов, Иванов!..
Красный огонек наверху останавливается. Один из кулей протягивает ко мне руку, затем поблизости возникает смутный овал лица.
— Иванов, это ты?
— Ш-ш! — Холодная рука ложится на мою и быстро шершаво поглаживает.
Ничего не пойму. Где мы?.. Кружится голова, поташнивает, я снова закрываю глаза.
Опять дергают за ногу… Уже светло. Надо мной мутно-голубое небо и в середине его… немецкий солдат с винтовкой.
Я в яме.
— Вставай, — откуда-то издалека доносится глухой голос Иванова, хотя он рядом.
Немец с винтовкой склоняется над нами. Его зеленоватое лицо чуть — расплывается и дрожит, как кисель. Он что-то говорит, напряженно раскрывая рот.
Плен!.. Я соображаю: мы в плену. Плен! Я — и вдруг плен. Как это может быть?..
Иванов помогает мне встать. Он распоясан, безоружен, оборван. Герасимов подсаживает меня на край ямы и вылезает сам — он в шинели без хлястика и тоже безоружен. И я распоясан и безоружен. Из ямы выбирается еще кто-то.
Все кругом дрожит, расплывается, и как-то непривычно тихо: я слышу лишь шумы и шорохи. И у меня очень болит голова…
Нас гонят на дорогу. Там уже большая толпа таких же, как мы, распоясанных. Немцы с винтовками суетятся вокруг и что-то кричат, широко раскрывая рот. Мы становимся в ряд — нас в ряду пятеро. Трогаемся. Справа виднеется взгорье, покрытое кустарником, слева — угол лесного массива, а впереди— пыльная белая дорога и стоптанные башмаки шагающих людей…
Мир шатается, мир покачивается. Начинает пригревать солнце — неужели это то солнце? Неужели это те же поля, которые были вчера? И неужели я, это болящее бредущее существо, — это я?
Все рушится, все переворачивается. Случилось самое страшное, что только могло с нами случиться: плен. Или, может быть, вообще мы разбиты, и немцы победоносно катятся в глубь нашей страны?..
Завивают пыль белые стоптанные башмаки. Светит бессмысленное солнце — бездушный горячий шар. Зеленеет пыльная трава, туманятся дали.
Плен, плен, плен…
Если бы я мог плакать, я плакал бы… Почему я не убит? Почему не умер дома, когда болел воспалением легких? Почему, за что этот позор?
Если бы я мог плакать… Но сухо и туманно в глазах, расплываются дали, и беспощадно жарит ноющую голову пустое холодное солнце.
Нас приводят на незнакомую станцию и загоняют за колючую ограду. Тут какой-то табор: сотни людей в распущенных шинелях и гимнастерках стоят, сидят, лежат на земле или слоняются взад и вперед. По углам заграждения деревянные вышки с часовыми, у одной колючей стены серое строение с кирпичной трубой — оно отделено от толпы тоже забором из колючей проволоки, у противоположной стены — два барака.
Ноги подкашиваются от усталости, я сажусь.
— Пошли в тень! — кричит-шепчет Иванов.
С трудом поднимаюсь и бреду за ним к бараку. В тени все места заняты, но Герасимов что-то говорит, и сидящие подвигаются.
Иванов усаживает меня на теплую землю, прислоняет спиной к дощатой стенке.
— Попить, пить… нет? — спрашиваю я. Герасимов, кивнув, уходит. Иванов смотрит в мои глаза, и мне становится не по себе оттого, как он на меня смотрит.
— Небольшая контузия, — шепчет-кричит он. — Ничего. Пройдет.
— Пройдет, — говорю я.
Он пробует улыбнуться. Милый мой Иванов, что же с нами случилось?!
Мне тяжело видеть тоску в его глазах, его выпачканное глиной лицо, рыжую щетину на щеках. Он еще пытается ободрить меня!..
Возвращается Герасимов. С водой. Она теплая, горьковатая, отдает железом. Я отпиваю несколько глотков и гляжу на Иванова.
— Пей, пей, — произносят его запекшиеся губы. Гляжу на Герасимова.
— Пей, — отворачиваясь, шепчет он.
Протягиваю ему котелок с остатком воды и, упершись затылком в доску, закрываю глаза. Голова идет кругом, кругом идет вместе со мной земля…
Плен, плен, плен…
2
Вот он, плен… Растворяется калитка в колючем заборе, огораживающем серое строение с трубой, и сотни людей, давя друг друга, устремляются к дымящимся деревянным ушатам. Наперерез толпе бросается человек в желтой форме. С какой-то веселой неистовостью он начинает бить толстой палкой по головам. Он бьет во всю силу, со всего размаха, он кричит и хохочет при этом. Я вижу, как падают под его ударами люди; я первый раз в жизни вижу, как бьют взрослых людей.
Опять делается не по себе. Слабеют ноги, и вместе с тем что-то темное и яростное вздымается во мне. Если бы у меня сохранился пистолет, то я сейчас пристрелил бы этого человека в желтом. Я пристрелил бы его совершенно спокойно, как стреляют взбесившихся животных!
И все-таки глядеть не могу… Бьют! Бьют взрослых людей, вчерашних бойцов и командиров Красной Армии!.. Что же будет-то в конце концов?..
Пленные разбредаются от ушатов, держа котелки и консервные банки, на дне которых — серая бурдз. Показываются Иванов и Герасимов с такой же бурдой. Внезапно я ощущаю сильный голод.
— Дай… котелок, — прошу у Иванова.
— Тебя раздавят, не ходи, — шепчет он.
— Дай!
— Мы поделимся с тобой, — шепчет Герасимов.
У него ввалившиеся глаза, щеки запали… Мы голодаем уже много дней, но на воле было легче: там была надежда, здесь нет надежды. И товарищи не должны страдать еще и из-за меня.
Герасимов одалживает у соседа пустую банку и направляется вместе со мной в толкучку. Толпа мало-помалу редеет. Недалеко от ушатов топчутся пленные и голодными острыми глазами наблюдают за раздачей. Мне вплескивают в банку бурды, а желтый изверг ставит на моей ладони химическим карандашом крест. Такие же фиолетовые кресты на ладонях других пленных, получивших свою порцию.
Теплая серая жидкость пахнет молотыми костями и поскрипывает на зубах. Я выпиваю ее, как и все, не прибегая к помощи ложки. После еды тут же, сидя у барака, засыпаю…
Просыпаюсь оттого, что солнце бьет прямо в глаза. Рядом дремлет Герасимов. Иванова нет. Наши соседи по одному перебираются в тень на другую сторону барака. У меня разламывается от боли голова, но вижу как будто отчетливее.
— Герасимов, Герасимов!.. Он открывает глаза.
— Где Иванов? — спрашиваю я, радуясь тому, что я, кажется, и слышу получше.
— Он скоро вернется, — отвечает Герасимов.
Да, лучше. Я слышу уже не шепот, а голос, хотя и с шумами.
— У меня немного отлегло от ушей, — говорю я.
— Он ушел к санитару.
— Мне полегче.
— Там есть места для раненых, в бараке… Ты не говори, что полегче, может, тебя туда положат.
Но мне на самом деле лучше. Я рассматриваю Герасимова, ощупываю себя — карманы пусты, часов на руке нет.
— Как все было с нами?
Приходит Иванов. Утирает грязное лицо рукавом, садится.
— Стервецы, — глухо произносит он. — Что стало с людьми?
— Мне получше.
Иванов обнимает меня за плечо. Его губы дрожат.
— Только раненых, контуженых не берут… А если у тебя будет припадок?
— Ничего со мной не будет… Как нас взяли? Иванов горько усмехается.
— Наскочили на засаду. И все… Я кое-что узнал, — быстро прибавляет он и поворачивается ко мне. — Ты меня хорошо слышишь?.. Мы в Оленино, в пересыльном лагере. Пленные все прибывают. Дня через два нас отправят куда-то дальше. Давайте держаться вместе и, если представится случай… Понятно?
— Ясно, — говорит Герасимов.
Мне тоже ясно, что Иванов имеет в виду: мы попытаемся бежать.
— Только бы не ослабеть от голода, И чтобы ты… окреп, — говорит Иванов мне.
— Я постараюсь.
— Давайте походим, оглядимся, — предлагает он. Мы встаем и принимаемся тихонько бродить.
— А что же на фронте? — спрашиваю я.
— Тс-с! — Иванов прикладывает палец к губам. Из кухонной калитки выползает изувер в желтой форме. На его белой нарукавной повязке какие-то немецкие буквы — какие, я издали не вижу.
— Полицай, — тихо говорит Иванов. — Изменник. На полицае сверкающие хромовые сапоги, физиономия красная и веселая.
— Давайте от греха подальше, — говорит Герасимов.
Однако полицай уже увидел нас. Подходит, щупает, суча пальцами, материал моей гимнастерки.
— Скидывай!
— Почему это?..
— Он контужен, оставьте его, — говорит Иванов.
— Скидывай, дура, — настаивает полицай. — Я тебе хлеба дам… контуженый!
Откуда он взялся — такой? Где он жил?..
Ничего не поделаешь, снимаю с себя диагоналевую гимнастерку с двумя памятными дырочками на рукаве: следом входа и выхода пули. Я специально не зашивал их, думал, когда-нибудь покажу маме.
Полицай довольно хмыкает, бросает мне кусок хлеба, потом орет:
— Эй… эй, санитетер!
Подбегает худой желтолицый пленный.
— Раздобудь этому воробью что-нибудь взамен. У тебя сегодня готовые есть?
— Трое сегодня после обеда…
— Так вот одень его, я тебе приказываю.
— Есть!
— Не «есть», а «яволь» надо отвечать, деревенщина!
Полицай сворачивает мою гимнастерку и, посвистывая, уходит. Неожиданно я замечаю, что у нас нет знаков различия. И на моей гимнастерке, кажется, не было, хотя я сам не снимал своих треугольников… Вероятно, содрали немцы.
Санитар приносит мне вылинявшую красноармейскую гимнастерку.
— Может быть, все же возьмете его на пару дней? — говорит ему Иванов про меня. — Хоть на ночь…
— Ладно, приходите на ночь вместе… Часов, случаем, не сберегли?
— Нет.
— Ладно, ребята, приходите, переночевать устрою. Мы возвращаемся к бараку, садимся и делим хлеб. Я рад, что могу поделиться с товарищами хлебом. Только мы, пожалуй, очень уж долго и тщательно его делим.
3
Солнце опять в зените. Жарко, душно.
Перед строем пленных прохаживается длинноногий немецкий лейтенант, за ним, как хвостик, — переводчик, юркий человек с помятым лицом. По бокам строя — полицаи с палками.
— Итак, политруков, коммунистов и евреев среди вас нет?.. Господин комендант спрашивает еще раз — нет? — тонким голосом выкрикивает переводчик.
Мы молчим.
— Хорошо, — вслед за лейтенантом произносит переводчик и разворачивает какую-то бумагу. — Офицеры от младшего лейтенанта и выше… два шага вперед!
— Придется… у них все мои документы, — хмуро бормочет Иванов.
— Ну?.. В противном случае буду вызывать поименно, и тогда пеняйте на себя.
Из строя, поколебавшись, выходит человек десять.
— До свидания, ребята, может, еще встретимся, — говорит Иванов и делает два шага вперед.
— Еще есть? — спрашивает переводчик. Строй молчит.
— Офицеры… марш!
Группа наших командиров вразнобой шагает к лагерным воротам. В последний раз вижу в профиль лицо Иванова… До свидания, верный товарищ, до свидания, а может, прощай!..
Через полчаса нам выдают по пол-литра костяной бурды и вновь приказывают построиться. На запасный путь к лагерю подъезжает состав. За воротами цепью выстраиваются конвоиры. Подгоняемые криками и руганью, мы погружаемся в товарные вагоны.
…Ржевский лагерь для военнопленных, куда нас привозят в тот же день, мало чем отличается от оленинского. Он тоже рядом со станцией. В нем такая же вытоптанная серая земля. Такие же серые дощатые бараки. Такие же толпы бессмысленно слоняющихся голодных людей. Такие же желтые изверги-полицаи. Правда, здесь значительно больше и бараков, и пленных, и полицаев. Бараки переполнены. Первую ночь мы с Герасимовым проводим на земляном полу у двери. Спим, согревая друг друга своими тощими телами. Утром получаем по маленькому черпаку суррогатного кофе, в обед — по поллитра темной, неведомо из чего приготовленной похлебки, вечером — по куску серого колючего хлеба.
Голод все растет, и через два дня, узнав, что на станцию водят пленных разгружать составы, Герасимов в надежде раздобыть что-нибудь из съестного подстраивается к рабочей команде. Больше я не встречаю его. Я остаюсь один — совершенно один в чужом страшном лагере. Я не узнаю людей. Они ли это, бойцы нашей армии, гназшие врага с родной земли? Они ли это, бросавшиеся под пулеметный ливень на церковную ограду Сычевки? Они ли это, наши советские люди?..
Все чаще попадаются до предела ослабевшие, опустившиеся пленные. Здесь их называют доходягами. Они никогда не снимают с себя шинелей, никогда не умываются, на голове у них как печальный отличительный знак — пилотка с отогнутыми на уши краями. В землисто-черных пальцах они постоянно держат котелок или банку и тихо блуждают по лагерю, высматривая что-то. У большинства из них уже ненормальные глаза: в них светится какой-то хитроватый, безумный огонек.
Раз я вижу, как один доходяга, заметив в яме возле кухни комочек сырого мяса, хватает его и, дрожа, бросается ч лужице дождевой воды. Ополоснув его, сует в рот. В другой раз двое доходяг кидаются на дорогу за окурком.
Голод!.. Я не знал, что это такая ужасная сила — голод…
В конце июля в жаркий солнечный вечер на железнодорожных путях неподалеку от нас начинают рваться тяжелые снаряды. Они с шуршанием пролетают над лагерем, они летят с северо-востока… Значит, мы существуем? Значит, гибель наших окруженных соединений — это еще не гибель армии?
Радость наполняет меня. Я вижу радость в глазах и других пленных… Нет, мы не разбиты! Мы живы. Мы воюем…
Шелестит невидимый снаряд… Взрыв! Это вам, фашистские мучители! Новый взрыв!
Коротко свистит снаряд. Звонкий грохот раздается возле одного из бараков… Это похоже, уже нам… Но пусть стреляют ребята, пусть по ошибке достается и своим. Лишь бы били, лишь бы не останавливались!..
Я, как мальчишка, реву навзрыд. Я кулаком растираю слезы… А кто же я, в сущности, есть? Большинство моих ровесников учится еще в школе. И я мог бы учиться. Я мог бы еще целый год ждать, пока меня призовут. И тогда со мной, конечно, не случилось бы этого…
Умолкает грохот разрывов на станции, и в светлом небе над городом появляются наши верткие «ястребки». Они стреляют из пулеметов и сбрасывают листовки, они с могучим рокотом проносятся низко над крышами домов и взмывают кверху, они нагоняют страх на немцев, сеют среди полицаев панику…
Ведь вот они, наши! Они ведь совсем близко! Стреляйте, стреляйте, дорогие летчики, стреляйте, бейте их крепче!..
…В лагерь врывается охрана. Немцы в касках, с винтовками и автоматами. И отряд полицаев.
— Antreten! — орут немцы.
— Строиться! — орут полицаи.
Раскрываются основные и запасные ворота. Пыхтя, подкатывает паровоз, он тянет за собой вереницу красноватых вагонов.
Нас собираются вывозить отсюда, соображаю я.
Вбегаю в барак. Тут уже орудуют полицаи, выгоняя пленных. Я ныряю под нижние нары, забиваюсь в самый темный угол… Если наши придут, то я буду свободен. Я снова возьму в руки оружие. Нет, я уже не мальчишка. Я снова буду драться. Я еще не так буду с ними драться!
В лагере шум, крики, зычные немецкие команды. В бараке все стихает.
Я очень радуюсь, я ликую: я спрятался, и меня освободят!
И вдруг я слышу топот кованых сапог, громкие голоса, потом противное поскрипывание фонарикажучка. Луч света скользит по земляному полу, упирается в меня…
— Raus (Вон)! — кричит немец.
Если я не вылезу, он, конечно, выстрелит… Выползаю. Встаю, держась обеими руками за живот.
— Ага, сбежать хотел! — кричит полицай. — Мы тебя проучим, мы тебя сейчас расстреляем перед строем, чтобы другим было неповадно!..
Ударом сапога он выбрасывает меня в открытую дверь.
— Herr Soldat, ich bin nur krank (Господин солдат, я только больной), — приподнимаясь на корточки, говорю я немцу.
— Was (Что)?! — Немец переглядывается с полицаем.
Я кидаюсь в толпу. Работая локтями и головой, углубляюсь все дальше, и меня затягивает, засасывает, скрывает от глаз охранников людской водоворот.
4
Нас везут без остановки целую ночь. Вначале мы еще слышим гул орудийной канонады и еще надеемся, что нас успеют освободить. Но потом звуки разрывов слабеют, и мы слышим лишь стук колес да по временам тревожный рев паровоза.
Стоим всю ночь напролет. Сесть нельзя: нет места. Стоим друг к другу так плотно, что можно даже спать — не упадешь. От двери распространяется зловоние: там параша. Хочется пить. Духота. Мучают вши. Дважды мне делается плохо, дважды я прощаюсь с жизнью и опять воскресаю. Находятся добрые люди — проталкивают меня к окошку. Запрокинув голову, я глотаю капли свежего ночного воздуха.
Ранним утром поезд останавливается на глухом полустанке. Я подтягиваюсь на руках, выглядываю в окошко. Блеклое небо, желтовато-серая насыпь, за ней в десятке метров — кусты…
У вагона — пожилой конвоир с винтовкой… А что, если еще раз попытать счастья?
— Господин часовой, — обращаюсь я к нему по-немецки. — Мы здесь умираем от духоты и жажды… Пожалуйста, разрешите мне на минуту вылезти из вагона, чтобы… — Я не могу сразу вспомнить нужного немецкого выражения, наконец нахожу: — Um auszutreten (оправиться).
Ничего более остроумного в голову не приходит.
Старик конвоир пялит на меня изумленные глаза: замызганный русский пленный — и вдруг немецкий литературный язык…
— А-а! — Немец, махнув рукой, отворачивается.
— Помогите, — прошу я своих.
Меня подталкивают снизу, я просовываю в окошко голову, затем, сжав плечи, наискосок протискиваюсь в узкий оконный проем, цепляюсь за обшивку, за угол вагона — недаром я когда-то занимался акробатикой, — спрыгиваю на насыпь…
— Хальт! — раздается от соседнего вагона.
Мигом оборачиваюсь — передо мной настороженные щелки глаз другого часового, молодого верзилы, и дуло вскинутой винтовки… Что делать?
— Я попросил разрешения у вашего коллеги оправиться, — по-немецки объясняю я верзиле, — но если это запрещено…
— Да, да, запрещено, — растерянно подтверждает старик.
— Ауф! — кричит верзила, и я понимаю, что он приказывает мне лезть обратно в вагон. И я понимаю, что еще две-три секунды — и он прикончит меня на месте.
Откуда-то берутся новые силы: я вскарабкиваюсь на буфер, хватаюсь за угол окна, подтягиваюсь, товарищи втаскивают меня за руки и плечи — сзади ударяет выстрел. Вероятно, для острастки. Ну, это еще не самое худшее!..
Опять стоим, покачиваясь в такт движению вагона. Нас одолевают вши. Тело от их укусов горит. Железная крыша вагона накаляется от солнца. Мы обливаемся потом, задыхаемся.
Ровно в полдень пунктуальные конвоиры выдают нам суп. Позволяют вынести из вагона парашу. Заодно выносят трех умерших. Поезд стоит минут двадцать, и вновь начинается пытка: вши, духота, боль в затылке и в ногах…
Выгружаемся в Смоленске. Строимся в колонну и плетемся вверх по улице. По бокам — груды кирпича, щебня, обожженное, искореженное железо. Входим в лагерь… Может, удастся сбежать отсюда?..
Умяв вечерний «порцион» — двести граммов жесткого, с опилками хлеба, — принимаюсь осматривать лагерь. На углах его стандартные деревянные вышки с часовыми. За рядами колючей проволоки патрулируют солдаты… Днем тут не проскочишь. А ночью?
Заставляю себя проснуться в полночь. Бесшумно слезаю с нар. Дверь барака заперта снаружи. Через щель вижу, что лагерь ярко освещен. Слышится разноголосое скуленье и тявканье псов…
Возвращаюсь на нары. Подтягиваю колени под подбородок. Маленькой холодной змеей вползает в душу отчаяние…
«Выдержка и терпение, — говорю я себе. — Не горячиться. Не отчаиваться…»
Настает новый день. Получаем кофе. Есть хочется еще больше. У ворот выстраиваются рабочие команды. Может, попробовать, как Герасимов?
— Пошел прочь, заморыш! — Полицай замахивается на меня.
Голод сосет, голод мутит… Неужели нельзя ничего придумать? Неужели я тоже превращаюсь в доходягу?
Бреду к колючей проволоке. По другую сторону ее стоит пышущий здоровьем немец с винтовкой. Его щеки лоснятся на солнце. Он невероятно широкий, плотный, грудь, плечи, ноги огромны. Очень сытый, по-видимому.
— Haben Sie Brot (У вас есть хлеб?)? — спрашиваю я.
— Warum (Здесь: «А в чем дело?»)? — говорит он.
— Я очень хочу есть.
— Вот как (So)! — Немец улыбается. — Однако ты оригинал…
«Был, наверно», — думаю я.
— Там живет комендант лагеря? — помолчав, снова спрашиваю я, чтобы продлить разговор, и киваю на одно из целых зданий за проволокой.
— Нет, юноша, там бордель. Тебя женщины еще интересуют? — Немец густо хохочет. Румяные щеки-яблочки прыгают.
— Глупое животное, — говорю я ему. Немец пуще хохочет.
— Ты, тень, — говорит он. — Хочешь сигарету?
— Не курю.
— Тем лучше для тебя, бедный несчастный идиот… Сгинь! — Он выпучивает глаза и хватается за винтовку.
Я поспешно ретируюсь. Немец просто подыхает со смеху.
Ночью снова душит отчаяние. После ухода Иванова и исчезновения Герасимова у меня нет больше близких товарищей. Люди пугают меня хмурой замкнутостью, ожесточением, видимым безразличием ко всему, кроме еды. Я понимаю, что сейчас силы каждого направлены лишь на то, чтобы не свалиться от голода и не умереть. Но ведь какое-то сочувствие к другим должно оставаться у нас, если мы люди?..
И я впервые задаюсь вопросом: что же это за существо— человек? Неужели голод заставит забыть о своем достоинстве, о наших убеждениях? Неужели в основе своей мы всего-навсего жалкие животные?
Все во мне протестует против такого вывода. На фронте я не раз видел, как люди сознательно рискуют жизнью во имя Родины. Многие человеческие слабости и недостатки не исключают проявления героизма, который, очевидно, всегда — порыв любви… Так что же сильнее в человеке — эгоистическое, животное начало или заложенное в нас семьей, обществом чувство любви, совести, чести нашей?..
Утром я гляжу на сторожевые вышки, на руины Смоленска — я прикрываю глаза и вижу свой дом. Милая мама, если бы ты знала, как мне трудно сейчас!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Тускло светит солнце. Посреди лагерной площади за столиком сидит плоский, будто вырезанный из фанеры, немец-переводчик, рядом с ним — писарь-пленный. Они регистрируют наших командиров, которые должны направляться в специальные лагеря для офицерского состава. По словам переводчика, военнопленные офицеры получают там приличный паек, их не принуждают к тяжелому физическому труду, им гарантируется особое обращение в соответствии с правилами офицерской чести…
Переводчик, приподняв над головой фуражку, вытирает синим платком лысый лоб. Я подхожу к столику.
— Запишите маня.
— Ты есть официр?
— Да.
— Чин?
— Техник-интендант второго ранга… Можно просто лейтенант.
Переводчик недоверчиво смотрит на меня.
— Какой военный должность?
— Заведующий делопроизводством штаба дивизии.
— О, штаб дивизии?.. Сколько имеешь лет?
— Двадцать.
— Коммунист?
— Нет.
— Иметь в виду, мы будем проверяйт. Если ты лгал, запираем в карцер. — Он протягивает мне сухой птичьей лапкой какой-то жетон. — Первый барак, штубе два.
Я поворачиваюсь и иду к ближнему от ворот бараку… Расчет мой прост: записавшись офицеры, я, может быть, встречу знакомых из своей дивизии, возможно, даже Иванова; я сохраню остаток сил и тогда при первом удобном случае вместе с товарищами сбегу. Я все равно сбегу из лагеря — в этом я уверен. Что до моральной стороны дела, то сейчас она мало заботит меня: во-первых, я обманываю врага, а, во-вторых, по занимаемой должности я и был лейтенантом…
В офицерском бараке сравнительно чисто. Дощатые полы и нары вымыты, есть даже стол. На нарах лежат люди. Одеты они почти так же, как и остальные пленные, только побриты.
Я нахожу на нарах свободное место, ложусь. Думаю, что неплохо бы и мне побриться. Правда, темный пушок над верхней губой и на подбородке, наверно, делает меня с виду старше, но раз здесь все бреются, то, вероятно, и я должен.
— А где же ваши вещи?
На меня глядят внимательные, очень усталые глаза.
— Какие вещи?
— Ну, шинель, котелок хотя бы… — У соседа пергаментное лицо, длинное, но приятное. Ему, видимо, уже под пятьдесят.
— У меня ничего нет, — отвечаю я. — Все разбомбило.
— Трудненько вам так… Вас из-под Ржева сюда? — Из самого Ржева. А вас?
— Я был до этого в Сычевке.
Мы знакомимся. Я узнаю, что капитан Носов — артиллерист, заместитель командира дивизиона, что он ранен в ногу, к счастью, не тяжело; он москвич, по гражданской профессии — архитектор, в далеком прошлом — подпоручик: ему пришлось воевать с немцами еще в ту войну. У него здесь тоже нет близких знакомых и никого из сослуживцев, так что, если я не против, мы можем держаться вместе.
Я с большой радостью принимаю предложение Носова.
После обеда, пристроившись на завалинке барака, мы долго обсуждаем причины нашей неудачи под Ржевом. Конечно, немцам удалось создать огромный перевес в силах, особенно в танках и авиации. Но, как полагает Носов, если бы нам дали приказ на выход из окружения неделей раньше, когда еще существовал коридор, то всей этой трагедии не произошло бы. По мнению Носова, в Ржевском котле мы потеряли несколько дивизий. Это страшно.
— Я иногда имею возможность просматривать вырезки из немецких газет, — говорит он, — мне тайком приносит один писарь-москвич… Так ежели верить их сводкам, они продвигаются уже к Волге, обходя Москву с юга… Страшно, страшно!
Вскоре Носов, прихрамывая, отправляется в санчасть. Я захожу в барак.
За столом сидят трое. Невысокий лупоглазый пленный сечет воздух раскрытой ладонью.
— И правильно! Давить их надо. Загубили Россию. Разорили. Зимогоры!
Короткопалая пятерня поднимается и опускается после каждой фразы.
Я забираюсь на нары и оттуда наблюдаю за спорящими.
— Ты, Николай, здря шумишь, — говорит один из сидящих, хмурый и длинный. — Что мы знаем? Ничего не знаем.
— А по мне, — басит третий, с распухшим лицом, — попала птаха в дермо — не чиликай.
— То есть как это не знаем? — Лупоглазый от злости бледнеет. — А какие же тебе нужны еще особые знания?
— Ну, в масштабах-то государства. Не везде же было так.
— Везде, везде, везде! — опять сечет воздух пятерня.
— Ты что, посажен был? — интересуется распухший.
— Я — нет.
— А я был, восемь месяцев под следствием находился. Всего повидал и испытал, туды твою мать. У меня поболе твоего оснований для обид. Понятно тебе? — басит распухший. — Но я русский. Русский — разумеешь ты это или нет?
— А я не русский?
Хмурый еще сильнее хмурится.
— Ничегошеньки мы не знаем, Николай. Решительно ничего!
— А «у вас! — Лупоглазый с шумом встает. — Поглядим, что вы запоете через месяц, когда германская армия дойдет до Урала.
Хмурый и распухший умолкают и будто сжимаются.
— Эх, шкура! — бормочет рядом со мной человек с худым, суровым лицом. Он, кажется, бывший комбат, старший лейтенант.
Дня через два Носов украдкой показывает мне немецкую сводку. «Верховное командование («Das Oberkommando») сообщает…» — читаю я первые слова, отпечатанные жирным шрифтом.
В это время к нам быстро подходит Николай.
— Что они пишут? — В меня вперяются пустые, оловянные глаза. — Ты знаешь немецкий?
— А что тебе надо?
— Вот дурак! — Лупоглазый мотает головой. — Кабы я знал язык, я бы часа не пробыл тут, за проволокой.
Мне хочется съездить ему по морде, но Носов придерживает меня за рукав.
2
Снова везут. Жара, духота. Вагонное оконце оплетено колючкой. Мы сидим и лежим на подпрыгивающем полу, дремлем, чешемся, ругаемся, слушаем, как грохочут сапогами конвоиры, перебегающие по крыше с вагона на вагон, вновь дремлем — и вот Борисов…
Перед входом в лагерь нас встречает комендант, полный, с мягкими округлыми движениями гауптман.
— Мне нужен переводчик… Кто из вас понимает по-немецки?
— А вот, вот у нас есть, молоденький, вот. — Николай суетливо, с заискивающей улыбкой показывает на меня. Вопрос коменданта, заданный по-немецки, он уразумел, а ответить, беда, может только по-русски. — Вот, этот вот, молоденький…
Комендант, розовый, благоухающий, приближается ко мне.
— Вы говорите по-немецки?
— Очень плохо (sehr schlecht).
— Вы понимаете то, что я вас сейчас спрашиваю?
— Да.
— Желаете быть моим переводчиком?
— Нет… Я плохо владею языком.
— Но вы понимаете мои вопросы?
— Понимаю.
— Почему же в таком случае вы не хотите быть переводчиком?.. Странно! — Комендант, не снимая перчатки, достает батистовый платок и прикладывает его к зардевшейся щеке.
— Что за болван! — вполголоса возмущается лупоглазый, косясь на меня. Он чуть не стонет с досады.
Нас вводят в ворота и ведут к кирпичному бараку, похожему на гараж. Тут нас поджидает группа людей в желтой форме и один немец, черноусый в очках, с унтер-офицерскими погонами.
— Все командиры? — спрашивает он по-русски.
— Все, — отвечаем мы.
Унтер-офицер раскрывает папку для бумаг и перекликает нас по званиям и фамилиям. Нас двадцать девять, почти все младшие лейтенанты и лейтенанты. Старших — трое. Капитан один — Носов.
— Вы будете старостой группы, — приказывает ему унтер.
Гараж разделен перегородками на несколько отделений. Мы размещаемся в последнем, у входа. Немного погодя Носова вызывают к начальнику лагерной полиции. Я потихоньку выхожу вслед за Носовым.
Снаружи у двери стоит мрачноватый, уже в годах человек с тяжелым, давящим взглядом.
— Капитан Носов?
— Так точно…
Разговора их я не слышу, хотя и напрягаю слух, прохаживаясь за углом. Когда минут через десять начальник полиции удаляется, Носов сам подходит ко мне.
Нет, это еще не офицерский лагерь, а обыкновенный пересыльный и, возможно, проверочный. Здесь мы тоже долго не задержимся. Шеф лагерной полиции требует строжайшей дисциплины и беспрекословного выполнения всех распоряжений германского командования. На днях в лагере закончат строить баню с дезинфекционной камерой. Тогда, может быть, избавимся от вшей. Мыло выдадут нам сегодня.
— В общем, теперь, кажется, не пропадем, — говорит Носов.
— И все?
— А что еще?.. Кстати, вы окончательно решили отказаться от должности переводчика?
— Да.
— Я понимаю вас, но… это в какой-то степени нейтральная должность, а потом… — Носов понижает голос, — вы смогли бы окрепнуть, присмотреться и… Впрочем, дело ваше.
«Ни за что, ни за какие блага», — думаю я.
На следующее утро нас, новоприбывших, выстраивают перед бараком. Снова является начальник лагерной полиции, черноусый унтер-офицер в очках и несколько рядовых полицаев. Носов подает команду «смирно». Шеф полиции, выйдя вперед, говорит:
— Господа офицеры! Как вам известно, на сегодняшний день победоносная армия великой Германии продолжает свой путь на восток. Дни Москвы, Ленинграда и прочих крупных советских центров сочтены. Но большевики и евреи сопротивляются. В данной обстановке долг всех русских патриотов — подумать о том, как избавить Россию от дальнейшего бессмысленного кровопролития. В настоящее время среди широких слоев наших военнопленных рождается новое движение. Мы предлагаем всем честным пленным вступать в ряды русской освободительной армии… Кто из вас согласен записаться в эту армию?
На нас смотрят острые глаза унтера. А может, это просто проверка: хотят узнать, кто чем дышит?
Первым из строя выходит, конечно, лупоглазый. За ним — еще двое. Унтер и начальник полиции пронзают нас испытующим взглядом. Под таким взглядом чувствуешь себя неуютно, как голый.
— Кто еще? Кто против большевистско-еврейской заразы?
Вопрос поставлен совсем определенно… Из строя, боязливо поеживаясь и озираясь, выступает хмурый, называющий лупоглазого по имени — Николаем, за ним тянется человек с распухшим лицом, бывший репрессированный. Глядя на них, делают два шага вперед еще четверо…
Остальные не двигаются с места. Стоит Носов, стоит кадровый старший лейтенант-комбат. И нас большинство.
— Ясно, — бросает начальник полиции. — Ра-азой-дись!
Ровно через сутки за мной приходит полицай. Он ведет меня в лагерную канцелярию. Наверно, опять будут звать в переводчики, думаю я… За длинным столом вижу усатого унтера в очках и писаря. Начальник полиции позади их, у окна.
— У нас есть сведения, что ты коммунист и политрук, — заявляет унтер.
— Неправда, — отвечаю я, слегка пораженный.
— Советую тебе признаться. — Унтер разговаривает по-русски свободно и без всякого акцента… Может, он какой-нибудь гестаповец?
— Мне не в чем признаваться. Мне нет еще восемнадцати, и я не мог быть коммунистом, а поэтому и политруком.
— Врешь! — Начальник полиции выходит на середину комнаты. — Ты политрук и работал переводчиком в политотделе дивизии.
— Я работал в штабе дивизии.
— Ты мне голову не морочь, я как-нибудь майор.
— Но тогда вы должны знать.
Я пока довольно спокоен, потому что прав. Мне кажется, установить истину нетрудно.
— Да, — хмуро говорит начальник полиции. — Тем не менее ты политрук и сотрудничал с политотделом.
— Неправда, — повторяю я.
— Правда! — Унтер хлопает ладонью по столу. — Ввести свидетеля!
Из-за портьеры показывается знакомое лицо. Широкое, пылающее от волнения. Глаза блестят. Черные шнурочки бровей насуплены… Это техник-интендант второго ранга Рогач, бывший начпрод моего полка. Это он однажды приглашал меня к себе в тыл, обещая снабдить наше командование «горилкой» и военторговскими папиросами. И он попал, бедняга…
В то же время я очень рад, что нашелся свидетель. Сейчас недоразумение разрешится… Только почему он так волнуется?
Рогач вытягивает руки по швам. На меня не глядит.
— Действительно, я подтверждаю, что этот человек был адъютантом командира полка, а затем его перевели на должность переводчика в политотдел дивизии. — Голос у Рогача какой-то деревянный.
У меня от возмущения спирает в горле. Я потрясен, я просто не верю своим ушам.
— Ты… лжешь… Рогач! Я ведь тогда был ранен! Он, не мигая, смотрит на унтера. Пальцы его вытянутых рук сжимаются и разжимаются.
— Ну, что ты теперь скажешь? — усмехается унтер.
— Вы только взгляните на этого подлеца, — говорю я и сам гляжу в трепещущее багровое лицо Рогача. Думаю: как же ему не стыдно? — Посмотрите, он сейчас чувствует себя хуже, чем я, он… предатель!
— Молчать! — прикрикивает унтер. — Вы свободны, свидетель.
Рогач исчезает за портьерой. Хлопает дверь.
— Лучше признайся, — говорит мне начальник полиции. — В твоих же интересах.
— Нет, — говорю я, — вы же майор, вам же известно, что в партию не принимают моложе восемнадцати лет. Я с двадцать четвертого года… мне лишь в октябре исполнится восемнадцать. Я никак не мог быть политруком хотя бы по своему возрасту.
— Послушай, ты… — прерывает меня унтер. — Отправляйся в свой барак и думай до утра. Если ты утром не признаешься, я сгною тебя в карцере. Убирайся!
Ошеломленный и подавленный, я ухожу.
3
Всю ночь меня преследуют кошмары. Всю ночь надвигаются на меня тяжелые клубящиеся тучи — я отталкиваю их, но они снова ползут с высоты, их много, я знаю, что им нет конца, но я отталкиваю и отталкиваю их, задыхаюсь, изнемогаю и все-таки отталкиваю, потому что — я понимаю это, — если я не буду отталкивать их, то они задушат меня…
Наступает утро. У меня сильный жар. Носов, которому я вечером рассказал о допросе, щупает мой лоб.
— Негодяи! — шепчет он. — Мерзавцы!
Он сам идет со мной в санчасть — небольшой дощатый барак с красным крестом на двери. У входа неожиданно встречаемся с черноусым унтером. Тот молча задирает мою гимнастерку до подбородка.
— Тиф…
И поворачивается к двери с крестом, приказав нам ждать его на улице. Носов опять шепчет:
— Мерзавцы, негодяи!.. Но ничего, ты молод, выздоровеешь. Мы выстоим, как бы нам ни было трудно, мы должны выстоять. Не теряй веры и будь хоть немного похитрее.
Снова унтер.
— Заходи. — Он сторонится меня, боясь заразиться.
Я в последний раз взглядываю на Носова и захожу в барак. Дверь за мной захлопывается.
Человек в белом халате приказывает мне раздеться. Я снимаю гимнастерку, нижнюю рубашку и вижу на своем теле розовую сыпь.
— Одевайтесь, — говорит человек в белом. — Санитар, проводите его в изолятор…
У меня какое-то странное, умиротворенное состояние. Я покорно плетусь за санитаром к лагерным воротам, к нам присоединяется вооруженный дубиной полицай. Мы идем к бревенчатой избе, стоящей вне лагеря в окружении сосен. Правда, изба тоже огорожена колючим забором и ее охраняет немец-часовой.
Сопровождающий нас полицай остается у калитки. Мы с санитаром заходим внутрь. Возле крыльца санитар спрашивает меня:
— Ты политрук, что ль?
— Нет.
— А ты меня не бойсь, я не враг. Приказано не спускать с тебя глаз, учти. Понял? Обождите минуту.
Он зовет кого-то через дверь. Появляется пожилой, желтый, заспанный человек.
— Принимай, фершал, — говорит ему мой санитар. — Да ты выдь, выдь на момент, проветрись. Я тебе должен сказать инструкцию доктора.
Заспанный фельдшер выходит. Оказывается, он не заспанный, а просто очень утомленный. Санитар отводит его в сторону.
— Велено передать, — слышу я его шепот, — чтоб за этим больным особо присматривали, он политрук. Понятно? И все вытекающие последствия.
Мне уже невмоготу стоять. Ноги подкашиваются.
— Так что лечи как следует, — шепчет санитар.
— Ты скажи военврачу, чтобы медикаментов прислал, — отвечает фельдшер. — Что я могу делать с пустыми руками?.. Пойдемте, — говорит он мне.
У меня, наверно, вновь начинается бред. Мне чудится, будто мы входим в празднично убранную крестьянскую избу. Перед темными образами в углу красновато теплится лампадка. Пол застлан пестрыми половиками. Кто-то невидимый совершает молитву… или это стон?
— У меня есть пара чистого белья. Переоденьтесь. — Фельдшер протягивает мне прохладный белый сверток.
Я переодеваюсь. Теперь я тоже белый. Мы вступаем в праздничный храм. Мы шествуем по нарядному ковру, мы медленно продвигаемся к светлому окошку.
— Параша у выхода, — предупреждает фельдшер. Вдоль стен стоят двухъярусные койки. На них люди. Зачем они здесь?
— Ложитесь пока на верхнюю. Освободится место внизу, тогда переведу. Сможете залезть?
— Спасибо. — Я очень люблю этого человека, фельдшера.
Я всех сейчас люблю. Всех, всех людей.
Я ложусь на койку. Мне удивительно хорошо. Мне тепло и покойно… Своды раздвигаются. Надо мной глубокое небо. Лишь бы на меня опять не поползли тучи. Я так боюсь этих туч… Пожалуйста, не надо туч! Пожалуйста, не надо!
…Я теряю всякое представление о времени. Я иногда поднимаюсь, слезаю с койки — мне при этом кажется, что я вылезаю из вагонного окна и у меня длинные, как у обезьяны, руки, — я иду к параше, потом, раскачиваясь, снова взбираюсь на свое ложе. Порой в мое изголовье ставится баночка с кашей и кладется кусочек сахару. Баночку я прошу взять обратно — я не хочу каши, я только хочу воды. Я сосу сахар и запиваю его водой.
Я всех люблю. Мне постоянно тепло. Мне тяжело, что-то мешает мне, и все-таки мне хорошо. Я люблю свою койку, светлый квадрат окна и особенно руки, которые подают мне воду и сахар.
Не знаю, сколько проходит дней и ночей, прежде чем настает это. Это очень страшное. Я чувствую вдруг, что начинаю раздваиваться. Мне страшно. Мое «я» вдруг раскалывается и двоится. Одно «я» лежит на койке, другое «я» где-то в стороне и надо мной. Очень трудно удержать обе половины вместе, я борюсь изо всех сил, хватаю руками другую свою половину, стараясь удержать ее. Но она хочет оторваться от меня: она мое второе «я».
— Не отпущу, не отпущу! — кричу я. — Не отпущу!
Баночка с водой стучит о мои зубы. Делаю несколько глотков. Мои «я» соединяются. Но это лишь короткая передышка. Скоро опять завязывается отчаянная борьба.
— Не дам! — кричу я. — Не дам!..
Начинаю метаться по койке, ловя уходящую свою часть, задыхаюсь, теряю последние силы… Где я? Что со мной? Темный горячий клубок душит меня.
— Помогите мне! — кричу я. — Помоги-ите!..
Дует ветер. Прохладное, чистое облако. Чьи-то любящие руки поддерживают меня. Я глубоко вздыхаю, минута облегчения, и я перестаю вообще что-либо ощущать…
Я сплю, долго-долго сплю. Просыпаюсь, съедаю кашу, сахар — и снова сплю.
— Ну, как? — спрашивает меня фельдшер. — Полегче?
— Да. Спасибо.
— Теперь будете поправляться. Самое опасное перевалили.
Постепенно все становится на свои места… Я в плену, в Борисовском лагере, в тифозном изоляторе. Меня продал начпрод Рогач — он предатель и изменник Родины, а капитан Носов — очень порядочный человек. Немцы рвутся к Волге, но нам надо выстоять и надо не терять веры. А мне, кроме того, следует быть похитрее…
— Какое сегодня число? — спрашиваю я через несколько дней фельдшера.
— Двадцатое августа. Сегодня я переведу вас к выздоравливающим.
Значит, я лежу тут больше десяти дней… А что будет дальше? Кто сможет ответить на этот вопрос?
Я впервые выглядываю в окно и вижу за рядами колючей проволоки сосны, пожухлую траву и поблекшую, уже тронутую кое-где желтизной листву берез на косогоре.
4
Минует еще неделя. За мной являются двое полицаев и немец с винтовкой. Я прощаюсь с фельдшером и с его помощью выхожу из изолятора. Так как ноги пока не подчиняются мне, полицаи подхватывают меня под руки. Куда это они меня?
Мы проходим мимо лагерных ворот, пересекаем железнодорожное полотно. Мы идем по какой-то лесной дороге. Наконец впереди в просвете между деревьями вырисовываются сторожевые вышки нового лагеря.
— Куда вы меня тащите?
— На курорт, — отвечает один из полицаев. — На хороший германский курорт.
Они оставляют меня перед вахтой. Солдат с винтовкой что-то говорит часовому, и тот приказывает мне войти в этот новый лагерь. Через минуту меня берут под руки два других полицая и волокут дальше. Мы останавливаемся перед зеленым бараком, огороженным колючкой. Здесь у калитки дежурит еще один полицай.
— Что, словили рыбку? — усмехаясь, спрашивает он своих коллег.
Меня впускают за загородку.
— Эй, старшой! — орет дежурный полицай. — Пополнение!
Показывается невысокий, с ямкой на подбородке человек. Он в сапогах, в комсоставской гимнастерке, заправленной в брюки.
— Помогите… до двери, — прошу я его.
Он заводит меня в барак. Я ложусь на указанную мне пустую дощатую койку — они тут, как и в изоляторе, двухъярусные, — подкладываю под голову котелок, который подарил мне фельдшер. Я очень устал.
И вдруг я вижу комиссара своего полка Худякова… А может, это и не Худяков? Он поднимается с соседней койки… Неужели он? Неужели Худяков? Чувство, похожее на испуг, овладевает мной.
— Товарищ ко… — говорю я и спохватываюсь. — Михаил, — тихо зову я. Отчество Худякова вылетает у меня из памяти, но это сейчас не так важно. — Михаил!
Он вздрагивает. Смотрит на меня. Его лицо словно ссохлось, губы темные, нос будто крупнее.
— Ты? — Он подходит. — И ты тоже?
— Да.
Он волнуется, прикусывает губу, как тогда зимой при отступлении под Сычовкой.
— Ты ранен?
— Нет, я только что из лазарета, болел тифом. — «Как же он изменился!» — думаю я. — А вы?
— А почему ты здесь?
— Не знаю. А что здесь!
— Здесь пленные политработники… Как ты сюда попал?
Я отвечаю не сразу… Значит, немцы все-таки считают меня политруком… Слишком еще свежа в памяти сцена расстрела на поляне перед березовой рощей человека с красной звездой на рукаве, чтобы я мог спокойно отнестись к тому, что я в глазах немцев политрук.
— Вы помните начпрода Рогача?
— Да. А что? Он тоже в плену?
— Он донес, что я якобы был политруком и работал переводчиком в политотделе дивизии.
— Рогач?.. Такой старательный, дисциплинированный… — Худяков мучительно потирает лоб.
— Рогач, — говорю я.
— Поговорим об этом после, — тихо произносит Худяков.
Лежа на жесткой койке, я весь остаток дня присматриваюсь к людям. Первое впечатление таково, что военнопленные политработники просто не знают, что их ждет. Они заметно отличаются от тех пленных, с которыми я сталкивался раньше: выдержаннее, спокойнее и, обращаясь к старшим, употребляют слово «товарищ». Даже одежда у них опрятнее— я вижу, что кое-кто пришивает отлетевшие пуговицы. А главное, здесь не слышно подленьких разговоров о победоносном продвижении германских войск и нашем близком конце.
На другой день я без посторонней помощи выхожу на проверку. Нас пересчитывает во дворе перед бараком добродушного вида немец-ефрейтор. Нас человек пятьдесят. Есть молодые, лет по двадцать, есть старики, большинство же среднего возраста; все худые, но подтянутые — сразу видно, что военные. Мне как-то легче дышится здесь, хотя я и убежден, что рано или поздно нас расстреляют.
После обеда приводят новеньких. Среди них бросается в глаза человек с яркой рыжей бородой. Некоторые так и называют его — Борода. Вечером по случаю воскресенья нам выдают, кроме обычного куска эрзац-хлеба, еще по четверть литра жидкой мучной заболтки. Рыжебородый, стоя у деревянного бачка с небольшим излишком похлебки, солидно поглаживает усы.
— Старичку надо добавить, — убежденно говорит он нашему старшому. — Не обижайте старичка, грех.
Глаза у него молодые, жуликоватые, на лице ни единой морщинки. Ему, наверно, лет тридцать.
Перед отбоем мы с Худяковым гуляем во дворе. Вспоминаем фронт, полк, Симоненко, нашу трудную, но такую хорошую, как теперь кажется, былую жизнь. Во время окружения Худяков с группой бойцов пробивался к партизанам. Не удалось. Счастье еще, что на нем случайно оказалась красноармейская шинель. Партбилет, зашитый в подкладке брюк, он уничтожил уже в лагере, а удостоверение личности и прочие документы попали в руки немцев.
— Если меня расстреляют, — вдруг останавливаясь, говорит Худяков, — а ты уцелеешь и вернешься, сообщи, пожалуйста, моим родным… Я сделаю все, что смогу, чтобы тебя перевели отсюда.
5
Ани идут за днями, но ничего не меняется. Я по-прежнему среди политруков. Тут их становится все больше. Поговаривают об отправке в какой-то специальный лагерь.
…Из соседней комнаты выходят мои новые приятели — Виктор и Ираклий. Они зовут меня сыграть в домино. Четвертым они приглашают батальонного комиссара Зимодру.
Мы садимся за стол и принимаемся стучать. Но игра что-то не клеится.
— Надо бы сделать шахматы, — говорит Ираклий. У него светло-карие глаза, с горбинкой нос (отец у него — грузин, мать — украинка). Ираклий — мастер на все руки: он искусно вырезает из дерева матрешек, вытачивает мундштуки, лепит из глины забавные фигурки божков и животных.
— Надо бы сделать самолет, — острит Виктор, синеглазый неунывающий одессит.
Оба они тоже причислены к политсоставу, хотя Ираклий только временно исполнял обязанности замполитрука, а Виктор и вовсе — летчик, сбитый при попытке доставить груз десантникам.
Зимодра зевает.
— Сделайте пока что из себя порядочных людей, черти сопливые.
Он говорит, растягивая слова, взгляд у него с ленцой и чуточку надменный.
Зимодра до войны был секретарем Мурманского горкома комсомола, а на фронте — комиссаром отдельного авиадесантного батальона… Короткие русые волосы его курчавятся, брови, как и у Ираклия, черные и крылатые.
— Навестим писателя? — помедлив, предлагает он мне.
Идем через короткий коридор в комнату, окна которой обращены к лесу. Сквозь окно за колючей проволокой виднеется часовой-автоматчик, дальше меж стволов желтеет полоса железнодорожной насыпи.
Илья Михайлович Соколов, он же Типот, московский литератор, лежит на животе и что-то мелко пишет карандашом в самодельном блокноте.
— Мы не помешали? — вежливо осведомляется Зимодра.
— Милости прошу, — отвечает Типот (он любит, чтобы его называли Типот: кажется, это его литературный псевдоним).
Он невысокий, большеголовый, смуглый. У него тонкий голос. Он прячет в нагрудный карман блокнот, из другого — вынимает трубку. Закуривает.
— Скажи мне, кудесник, любимец богов, — нараспев произносит Зимодра.
— Слушаю вас, — серьезно отвечает Типот.
— Что с нами будет? — спрашивает Зимодра. — Как твоя писательская интуиция?
— Мы превратимся в дым. — Типот выпускает изо рта сизый ядовитый клубочек.
— А вообще?
— А вообще в основном все будет, как и было. Люди будут рождаться, учиться, делать разные глупости, совершать подвиги и открытия, умирать. А потом все сначала… А по-твоему, как?
Зимодра тонко улыбается.
— После войны все будет по-другому. Умирать никто не будет.
— Живые и теперь не умирают.
— Вот именно. Молодец, старина!.. Сколько мы с тобой уже знакомы?
— Год и два месяца, старик…
Проходит еще неделя. Положение не меняется. Проходит месяц. Нас здесь уже около ста человек.
Стоит золотая осень. Светятся погожие дни. Легкий ветерок заносит к нам клейкую прозрачную паутину, а однажды я нахожу во дворе прилетевшие из-за колючки два багряных листка. Я часами простаиваю на улице, наблюдая за тяжелыми составами, которые с грохотом катятся на восток — всё на восток… Мы ждем.
В середине октября как-то сразу настает осень. Резко холодает, дождит, быстро смеркается. Немцы будто забыли о нас. Правда, иногда нас выводят на работу. Под большой охраной мы ремонтируем дороги вокруг лагеря.
Я все лучше узнаю товарищей. Зимодра, Типот, Худяков, Виктор, Ираклий — это настоящие. И большинство пленных комиссаров и политруков настоящие люди. Большинство, но не все…
С наступлением сумерек и до отбоя у нас теперь часто устраиваются вечера устных рассказов. Старший политрук Костюшин очень интересно описывает технологию производства шоколадных конфет: он по гражданской специальности кондитер, работник прославленного «Моссельпрома».
Типот, посасывая пустую трубку, повествует о жизни великих писателей.
Зимодра с увлечением рассказывает, как ведется промысел в наших полярных морях.
— А я вам вот о чем поведаю, братцы, — объявляет раз Борода. — Беспартийных среди нас нет, так что, надеюсь, никаких тайн я не разглашу…
Смакуя подробности, он вспоминает о том, как брал взятки у председателя передового колхоза, как пьянствовал вместе с прокурором и гулял с районными активистками.
— Ну, было же так, правда? Чего греха таить! — с ухмылкой произносит он.
Кое-кто похихикивает.
— Мы люди свои, товарищи, можно сказать. Верно?
— Серый волк — тебе товарищ, в Брянском лесу, — резко отвечает из темноты Зимодра.
— Это кто такой? Кто? — обеспокоенно спрашивает Борода.
— Я вот сейчас встану и морду тебе набью, — заявляет Зимодра, — тогда узнаешь, кто!
— Ну, назовись… Давай подебатируем.
Но Зимодра больше не отзывается. По-моему, кто-то из соседей удерживает его…
И еще один день — пасмурный, холодный день конца октября. После утренней проверки дежурный полицай глумливо поздравляет нас с «победой». Как только что сообщило радио, германская армия якобы овладела Сталинградом и завершает окружение Москвы… Среди наших воцаряется подавленная тишина. Люди молча расходятся по своим местам.
Не грустят только Борода и его три дружка. (Вчера их снова вызывал на беседу немецкий офицер. С шутками и прибаутками усаживаются они за стол и начинают «забивать козла». Я выхожу из барака.
По двору, засунув руки в карманы шинели, прогуливается Худяков. Он думает. В последнее время он совершенно замкнулся в себе и постоянно о чем-то думает.
— Давай побродим вместе, — заметив меня, говорит он. Взгляд его хмур и серьезен. — Ты знаешь, между прочим, почему у нас такой тяжелый провал на фронте?.. Мы наделали кучу ошибок. И самая большая — это тридцать седьмой год, несомненно. Мы потеряли много честных партийцев, в том числе и в армии, а такие прохвосты, как Борода или Рогач, остались. Мы сами себя ослабили — вот в чем дело… в чем наша трагедия.
— Что же, по-вашему, теперь победят нас? — напрямик спрашиваю я.
— Нет. Не победят. Когда народ полностью осознает, что ему грозит, все переменится.
Я вижу на глазах Худякова слезы.
Днем в барак приходит холеный немецкий обер-лейтенант. Нам приказывают построиться. Оберлей-тенант выкликает по списку шесть человек. Среди них и Борода.
— Вот истинные патриоты своей родины, — на чистейшем русском языке говорит немец.
«Патриоты» прячут глаза. Они зачислены пропагандистами в армию изменников. Вскоре их уводят от нас.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Раз, два! Раз, два! В стороны, вместе, в стороны, вместе!.. Положив руки на бедра, мы делаем подскоки. Из наших ртов вылетают клубочки пара. Сквозь дверную щель снизу в вагон сочится желтый морозный свет.
— Хватит, согрелись, — говорит Ираклий.
— Кто согрелся, переходи на ходьбу. Остальные… раз, два! Раз, два! — Виктор легко подпрыгивает на своих длинных ногах, обутых в разбитые сапоги.
— Хватит, — говорю я и тоже останавливаюсь. Стены вагона белые от плотного слоя инея. Мы словно в леднике. Окошко забито фанерой и перетянуто крест-накрест проволокой. Полутьма, и только снизу желтеет морозная полоска воздуха.
У двери, запертой снаружи на замок, приплясывает Васька. Щелкают по рельсам колеса, он в такт их ударам постукивает каблуками и мурлычет свою любимую песенку:
Марфуша все хлопочеть, Марфуша замуж хочеть, Марфуша будет ве-ерная жена…Васька — моторист из Керчи. Он, как и Ираклий, десантник и тоже или замполитрука, или младший политрук, а по его собственному уверению — обыкновенный рядовой, которого подлюги продали за горсть махорки. В этом вагоне, похоже, мы все такие: здесь нас человек двадцать, заподозренных в принадлежности к политсоставу и теперь отделенных от настоящих комиссаров и политруков.
Васька коренаст, плечист, с толстой шеей, покрытой белыми пупырышками. Говорит он всегда охрипшим баском и часто шикарно сплевывает сквозь зубы. Он и сейчас плюет в морозную щель и подходит к нам.
— Ну что, хлопцы, может, споем?
— Марфушу?
— Нет, чего-нибудь для души… Из России увозят нас, вы чуете это? Понимаете — из России…
Ночью мы проехали Минск. Сегодня нас везут дальше на запад. Вероятно, мы уже где-то поблизости от нашей старой государственной границы.
Васька опускается перед Виктором на корточки.
— Так-то, Одесса-мама.
— Ладно, не трави, — говорит Виктор. — Давай, запевай.
— А что?
— Что хочешь. «Галю».
Ой, ты, Галя, Галя молодая, Пидманули Галю, завлекли с собо-ю…—хрипло, сильным басом поет Васька, потом матерно ругается: никто не подтягивает…
Попереду, попереду Дорошенко, Попереду, попереду Дорошенко, Что променяв жинку на тютун та люльку… —тоскует Васькин бас, протестует, жалуется, но опять никто не поддерживает его. Не поется.
— Зарядочку? — спустя минуту спрашивает Виктор. Но и прыгать не хочется.
— Будем замерзать, как японские самураи, — решает Ираклий, утыкает нос в ворот шинели и, обхватив себя вперехлест руками, раскачивается из стороны в сторону.
Васька, отойдя к двери, вновь ругается нехорошими словами.
В середине дня поезд останавливается надолго. Мы слышим чужую, незнакомую речь проходящих мимо людей, вероятно, железнодорожных рабочих. Брякает, поворачиваясь, ключ в замке, громыхают железные засовы. Дверь отодвигается.
«Raus» («Выходи») — приказывает старший конвоир.
Один за другим вылезаем из ледника. Строимся. На путях товарные и пассажирские вагоны, в воздухе нити заиндевевших проводов, за станцией в розовой морозной дымке большой город с высокими крышами, многочисленными башнями и шпилями.
Нас ведут прямо через пути на одну из узких улиц. Еще раз пересчитывают…
Впереди показывается мрачное здание, обнесенное каменной стеной. Глаза постепенно различают башенки с часовыми, зарешеченные окна, ворота и перед ними — полосатый шлагбаум и такую же полосатую будку с постовым, вооруженным винтовкой. Неужели нас туда?
Да, точно, ведут в этот каземат. Почему? Зачем?..
Доходим до шлагбаума. Старший конвоир предъявляет постовому сопроводительную бумагу. Тот нажимает на кнопку в стене. Шлагбаум поднимается. Затем медленно раздвигаются створы ворот.
2
Мы входим в каменный тюремный двор. Слева от нас ров. с крутыми стенками, за ним — трехэтажный серый корпус. Через ров перекинут легкий мостик. Прямо — невысокое здание с большими окнами. Справа, видимо, хозяйственные помещения и кухня: пахнет горячей похлебкой…
Из здания напротив выходит толстый немец-офицер, за ним — высокий молодой человек в английской шинели. Старший конвоир, отдав честь офицеру, удаляется.
Офицер подходит к нам. На его лице с двойным подбородком довольная улыбка. Худощавый, чуть порозовевший от холода молодой человек очень оживлен. На белой нарукавной повязке у него слова «Dolmetscher», — значит, он переводчик.
— Also… — произносит офицер.
— Итак… — с готовностью повторяет по-русски переводчик и говорит далее вслед за офицером — Итак, милостивые государи, вы прибыли к нам. Мы рады. С нашей стороны вы встретите здесь полное понимание и соответствующую заботу. С вашей стороны, подчеркивает господин комендант (эти слова переводчик добавляет от себя), мы надеемся встретить дисциплинированность, дисциплинированность и еще раз дисциплинированность. Вот все, о чем я хотел бы пока уведомить вас, весьма уважаемые господа.
Комендант любезно улыбается. Переводчик тоже — у него полные губы и круглые карие глаза.
— Also, — заключает комендант.
— Итак, вам, конечно, все ясно, — говорит переводчик.
Многозначительное вступление. А дальше что?
Комендант уходит, показав нам широкую спину и гладкий, обтянутый зеленым сукном шинели зад. Переводчик остается.
— Между прочим, с вами разговаривал один из видных психологов Германии, — доверительно сообщает он. — Здесь вам будет неплохо… Вы политруки?
— Какие там политруки!.. — отвечает за всех Васька. — Рядовые… есть и средние командиры. Только заподозренные.
— Ну, по мнению немецкого командования, это почти одно и то же. Теперь многое зависит от вас самих… Слева по одному за мной… марш! — командует переводчик и ведет нас направо к хозяйственным помещениям.
В длинном с цементным полом коридоре нам приказывают раздеться и сдать одежду в дезинфекционную камеру. Затем нам выдают по кусочку жесткого, как сухая глина, мыла, заводят в прохладную душевую.
— Психолог! — фыркает Васька. — Опыты, что ли, над нами собираются проделывать? А, Одесса-мама, как считаешь?
— Я — пожалуйста, — усмехается Виктор. — Всю жизнь мечтал…
Из душевой выбираемся через другие двери. Тут уже лежит сваленная в кучу наша одежда. Шагах в десяти от нее восседает на табурете немец в белом халате и тонких резиновых перчатках, рядом с ним— тот же переводчик.
— Подходите к нему, не стесняйтесь, — говорит он. — Евреи среди вас имеются?
Все молчат.
Немец в белом халате внимательно осматривает нас, голых, ниже пояса, потом заглядывает в лица, щупает нос, голову… Чудно и неловко. Зачем это?
— Jude? — вдруг настораживается немец. — Еврей? — спрашивает переводчик.
— Я татарин, — отвечает один из наших, — мусульманин.
Немец достает из кармана рулетку и, встав, принимается измерять окружность черепа, длину носа, пристально вглядывается в глаза татарина. Потом пишет в блокноте какие-то формулы, что-то подсчитывает и надолго задумывается.
— Да-а, — хрипловато тянет Васька.
— Тш-ш! — шипит переводчик… — Следующий! Татарин, шумно отдуваясь, бредет к груде одежды.
Немец осматривает Ираклия, отпускает его и вдруг, взглянув на его затылок, кричит: «Zurück» — «Назад!»
— Jude? — спрашивает он Ираклия.
— Я наполовину грузин, наполовину украинец, — объясняет тот.
Но немец, видимо, не верит. Он ощупывает голову Ираклия, трогает нос, заглядывает в рот, опять пишет формулы и что-то подсчитывает…
— Следующий! — командует переводчик.
Когда эта дикая процедура заканчивается и мы одеваемся в нашу еще горячую, пахнущую чем-то удушливо-острым одежду, он ведет нас через мостик к серому трехэтажному корпусу. Мы поднимаемся на второй этаж. Нам отводят тесную комнату с узким, схваченным толстой железной решеткой окном. В комнате двухъярусные нары, возле двери стол, над ним — электрическая лампочка.
— Сейчас вам принесут суп, — говорит переводчик и, помедлив, спрашивает — Москвичей нет?
Москвичей среди нас нет.
— А что же здесь все-таки — лагерь или тюрьма? — интересуется Виктор.
— Научно-исследовательский институт, — острит пе-резодчик. — Лагерь, конечно… Еще какие вопросы?
— Как с харчишками? — спрашивает Васька.
— Соответственно.
— Не бьют?
— Не рекомендуется.
— Вы как дипломат, — ухмыляется Васька.
— Должность такая, — отвечает переводчик. — Работать пока не будете, выберите старшего, соблюдайте чистоту… Для начала все.
Вскоре после его ухода нам приносят баланду и пять кирпичиков хлеба. Каждый кирпичик на четверых, баланды по три четверти литра на брата. Мы трое — Виктор, Ираклий и я — залезаем на верхние нэры. Васька пытается завести знакомство с рабочими кухни.
— Керченских не знаете?
— Вроде бы не попадалось.
— А мелитопольских?
— Запрещено нам разговаривать с вами, — хмуро признается один из рабочих. — Пошли, Степан.
— Подозрение не снято, — констатирует Васька.
3
Ранние декабрьские сумерки. Сегодня ровно год, как я ушел на войну. Хочется побыть одному и подумать.
Я прогуливаюсь вдоль корпуса. Морозно и ветрено. Тюремная стена освещена электрическими лампочками, но двор в полумраке. Возле мостика, переброшенного через ров, по одну сторону стоит Васька, по другую — полицай. Они изредка обмениваются короткими репликами.
Я хожу и думаю о том, что прошел всего год, а сколько событий совершилось на моих глазах, сколько людей — и хороших и плохих — повстречалось за это время… Интересно устроен человек. Никогда теперь я не перестану удивляться человеку.
…Из лагерной канцелярии показывается комендант-психолог в сопровождении высокого переводчика— его зовут Сергеем. Они поворачивают к нам. Полицай вытягивается и по-немецки щелкает каблуками. Васька вытаскивает руки из карманов. Комендант, перейдя мостик, останавливается возле Васьки.
— Почему не приветствуете? — слышу я голос Сергея: он переводит вопрос коменданта.
— А как я должен приветствовать его? — робея, спрашивает Васька.
Сергей переводит Васькины слова.
— По меньшей мере встать по стойке «смирно», — говорит затем Сергэй.
Комендант берет рукой в кожаной перчатке Ваську за подбородок, оттягивает кверху, всматривается в лицо и что-то говорит, что, я не могу разобрать. Потом отряхивает руки.
— Дегенерат, — громко переводит Сергей. — Характерный экземпляр восточноевропейского преступника.
Васька молчит. Переводчик справляется о его фамилии и делает какую-то пометку в блокноте.
Комендант идет в наш корпус. Замечает меня. Я стою около серой стены, думал, не обратит внимания.
— Давай сюда! — приказывает переводчик. Подхожу. Комендант закуривает сигарету и подносит огонек зажигалки к моему лицу.
— Типичный большевистский выкормыш. Опасен, — заключает он по-немецки.
Сергей переводит и от себя добавляет:
— Не повезло тебе, парняга. Как фамилия?
Он снова что-то записывает в блокноте и бежит за комендантом, который уже скрывается за дверью.
Мы с Васькой направляемся следом. Наши строятся в шеренгу в коридоре перед входом в комнату. Нам с Васькой Сергей приказывает встать отдельно.
— Смирно! — командует он и вынимает из шинели блокнот.
Комендант подходит к левофланговому. Это длинный поджарый татарин, смуглый, с добрыми бараньими глазами.
— Коммунист, — заявляет комендант. — Магометанин. Лицемер.
Сергей переводит и, опять справившись о фамилии, записывает.
Вторым стоит Виктор.
— Комсомолец, — безапелляционно судит комендант. — Склонен к иронии. Опасен.
Сергей записывает.
— Большевик, явный политрук и фанатик. — Комендант медленно шествует вдоль строя.
— Кретин и в потенции людоед, — говорит он.
— Слабохарактерный. Убеждений не имеет.
— Начинающий уголовник. Хитрый.
— Коммунист и большевик. Крайне опасен. Очередь Ираклия. Я вижу, как напрягаются мускулы на его лице.
— Интеллигент. Чрезвычайно опасен.
Так, аттестуя каждого, комендант доходит до конца строя.
— Вольно! — произносит Сергей.
Комендант вновь, как и в день прибытия, обращается к нам с краткой речью, которую Сергей переводит целиком.
— Господа («Meine Herren»), у меня пока нет оснований быть недовольным вами. Я уверен, что и вы, в свою очередь, не можете пожаловаться на меня и на мой персонал. Мы здесь еще продлим наше знакомство, а теперь я разрешаю вам удалиться в ваши покои.
— Смирно! — выкрикивает Сергей.
Комендант поворачивается к выходу, переводчик спешит за ним.
— Разойдись! — говорит наш старший.
Виктор, Ираклий и я забираемся на нары. И хотя нам в общем не очень весело, начинаем хохотать…
Вот, оказывается, мы какие. Дегенераты, людоеды, уголовники и магометане. И сверх того почти все большевики и одновременно коммунисты, комсомольцы, а также политруки и вместе с тем фанатики… Ну и ну, великая наука — психология! Ну и ну, господин ученый комендант Вильнюсского лагеря военнопленных!
Удивительно и другое: мы смеемся. Я уже забыл, когда смеялся последний раз. И никогда не думал, что здесь, в плену, буду смеяться.
К нам на нары влезает Васька.
— Вы объясните мне, хлопцы, почему я… как его… дегенерат. — Он по-серьезному удручен и расстроен. — Конечно, я не шибко грамотный, но разве на моей физии есть что-нибудь такое… как он сказал… востокоевропейско-преступное?
— Есть, — радуется Виктор. — Есть на твоей вывеске такое, знаешь ли, южнороссийско-босяцкое, такое типично портово-черноморское.
— А ну вас к етакой маме! — Васька сердится. — К вам, как к людям, а вы… Упекет он нас теперь, попомните мое слово. Ежели, конечно, не случится чуда.
Насчет «чуда» мы помалкиваем. До нас доходят слухи, что немцы завязли на Волге, а Москва все стоит и стоит, наша Москва. Но об этом вслух мы не говорим.
4
Квадратная комната с двумя узкими высокими окнами. В комнате прохладно и мрачновато. Под потолком вполнакала горит электрическая лампочка.
Мы сидим за столами. Перед нами обер-лейтенант, коротенький, желтый, морщинистый, как сморчок. По распоряжению коменданта он проводит с нами урок немецкого языка. Это, вероятно, какой-то новый психологический эксперимент, тем более замечательный, что наш учитель не знает ни слова по-русски, а большинство из нас, его учеников, — ни слова по-немецки.
Сцепив пальцы на животе, сморчок произносит первую вступительную фразу:
— Die deutsche Sprache ist eine harte Sprache (Немецкий язык — твердый язык).
При этом он изо всех сил пытается твердо выговорить букву «г», но у него не получается: он картавит.
Он спрашивает, поняли ли мы его.
— Я-а, — тянем мы. Сморчок удовлетворен.
— Gut (Хорошо).
Он смотрит на часы и переходит к следующему разделу урока. Он объясняет, что нам необходимо запомнить восемь основных положений, регламентирующих человеческую жизнь, восемь «Ich muß» («Я должен»), а именно:
— Ich muß aufstehen (Я должен вставать).
Чтобы мы лучше усвоили эту истину, сморчок заставляет нас трижды повторять вместе с ним: «Ich muß aufstehen».
Поняли ли мы его? Да, конечно.
— Ich muß mich waschen (Я должен мыться), — провозглашает далее наш учитель.
Поразительное открытие!.. Я гляжу на склонного к иронии Виктора — он зажимает подрагивающие губы кулаком. Снова хором повторяем немецкую фразу — относительно того, что я должен мыться.
— Ich muß arbeiten (Я должен работать), — заявляет вслед за тем обер-лейтенант и, тревожась, справляется, понятно ли нам это.
Отвечаем без всякого энтузиазма:
— Я-а.
— Ich muß reinigen (Я должен наводить чистоту), — убежденно декларирует учитель.
Против чистоты мы ничего не имеем. Пожалуйста.
— Ich muß ruhen (Я должен отдыхать), — менее уверенно говорит он.
В том, что человек должен отдыхать, мы тоже не совсем уверены, но он не заставляет повторять: «Ich muß ruhen».
— Ich muß essen (Я должен есть), — скороговоркой выпаливает сморчок.
— Ich muß austreten (Я должен посетить уборную), — тут же бодро произносит он и считает необходимым обратить особое внимание на столь важный момент человеческого бытия. Мы трижды повторяем вместе с учителем: «Ich muß austreten».
— Ich muß schlafen (Я должен спать), — делится он с нами еще одним открытием.
Он опять смотрит на часы и начинает проверять, как мы усвоили урок.
«Что это — идиотизм, вырождение? — думаю я. — Может быть, лагерное начальство вообще не считает нас за людей?»
Мне больше не смешно. Я вдруг понимаю, что этот обер-лейтенант — мой личный враг, он наш общий враг, и таких, по-видимому, тысячи, готовых твердо осуществлять предначертания своего фюрера… Вот он, их «новый порядок», вот в миниатюре картина будущей жизни человека, которую они уготавливают нам!
В заключение урока обер-лейтенант посвящает несколько минут теоретическим рассуждениям. Ему известно, что в большинстве своем мы офицеры политической службы Красной Армии, да, но хорошо ли мы представляем себе, что такое политика?
— Политика — это страшно, — возвещает он.
— Политика — это кошмар, — подчеркивает он.
— Политика — это смерть, — пугает он нас.
Он сам когда-то командовал взводом солдат, расстреливавших коммунистов. Это, надо сказать, жутковато. Это как бред наяву. Он призывает нас отказаться в дальнейшей жизни от всякой политики…
Нет, не столь уж безобиден и глуп этот наставник. И не сморчок он, а маленькая ядовитая поганка!
Возвращаемся в свою комнату. Настроение отвратительное. Я подхожу к узкому крепостному окну. Оккупированный фашистами Вильнюс мигает редкими огоньками. Внизу за освещенной тюремной стеной темнеет полоса реки.
Если бы придумать такую катапульту, которая выбрасывала бы из окна прямо в реку!.. Я, наверно, согласился бы — пусть с большим риском, — чтобы меня вышвырнули первым. Уж лучше еще сто раз рискнуть жизнью, чем находиться во власти этих полуидиотов-полузверей. Я все равно убегу, лишь бы дождаться весны. Убегу, чтобы потом воевать с ними, с учеными людоедами и наставниками, и рассказывать о них людям.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
И снова вагон-ледник. Снова, чтобы согреться, подскоки на месте. И хриплый Васькин бас, затягивающий то «Галю», то «Казаки идуть». И ненависть и тоска оттого, что нас увозят все дальше от Родины.
Опять какая-то большая станция, нерусские дома, нерусская речь. Опять конвоиры, высокий забор из колючей проволоки, вышки с часовыми… После дезинфекции и душа мы получаем вместо наших ботинок и сапог долбленые деревянные колодки, затем нас под охраной ведут к длинной землянке, похожей на овощехранилище. Землянка обнесена еще одним колючим забором — это что-то вроде лагеря в лагере; у калитки топчется дежурный полицай.
Во дворе за загородкой нас ожидают два немца: офицер и унтер-офицер. Офицер — невысокий, очень прямой, щеголеватый, с маленьким фотоаппаратом на груди. Унтер— угрюмый, длинноносый, с сильно выступающим вперед подбородком.
— Живей, живей! — вдруг по-русски прикрикивает на нас офицер.
Мы входим во двор, подравниваемся. Офицер, достав из кармана бумагу, делает перекличку. Все целы.
— Будем знакомь! — говорит он. — Я зондерфюрер Мекке, ваш духовный отец. Унтер-офицер, которого вы перед собой видите, — шеф зондерблока. Любое его распоряжение — для вас закон. Ясно?
— Ясно, — отвечаем мы.
— А теперь марш в барак. Бего-ом!
Мы бежим в землянку. Внутри темно, пахнет плесенью V, лежалой соломой. Слева и справа с низких нар свешиваются ноги в деревянных колодках.
— Упек нас психолог, кость ему в горло, — бормочет Васька.
Осматриваемся. На одном из скатов крыши виднеется четырехугольное окошко, от него на земляной пол падает серый столб света.
К нам подходит высокий человек в шинели.
— Здравствуйте. Я старший зондерблока. Размещайтесь на нарах у выхода, в середине все занято. Сколько вас?
— Восемнадцать, — отвечает Васька.
Двоих из нашей группы все-таки перевели в рабочую команду и оставили в Вильнюсе.
Мы занимаем место на нарах неподалеку от заиндевевшей двери.
— Никак наши? — внезапно слышу знакомый медлительный голос.
— Игнат! — восклицает Виктор.
С нар привстает Зимодра. На его шапке соломенная труха. Здороваемся.
— Вы, собственно, откуда взялись, подозрительные личности?
— А тебя как сюда угораздило? — спрашивает Ираклий.
— Да тут почти все наши из Борисова.
— И Худяков? — говорю я.
— И Худяков, и Костюшин, и Типот… А вы где были?
Рассказываем Зимодре о Вильнюсском лагере. Один за другим подходят наши товарищи по Борисову.
Крепко пожимаю руку Худякову.
— А это что за лагерь? — интересуется Васька. — Где мы, ежели это не военная тайна?
— Тайны нет, — нехотя произносит Зимодра. — Мы в Польше, в шталаге номер триста девятнадцать, к тому же в зондерблоке.
— Ас кормежкой как?
— Отлично… Жив будешь, а любить не захочешь. Вновь появляется высокий человек в шинели, здешний старший. Он просит прекратить беседу. Тут это запрещено.
— Есть, товарищ майор. — Зимодра, усмехнувшись, опять ложится на солому.
Я приглашаю к нам на нары Худякова. Он выглядит еще более убитым, чем в Борисове.
— E другой раз, после как-нибудь, — говорит он сухим, сонным голосом и плетется на свое место в середину землянки.
Скверно. Поистине, упек нас психолог. Впрочем, я уже начинаю привыкать к тому, что я политрук и что мне так или иначе придется разделить участь своих старших товарищей. Конечно, если не удастся бежать.
Томительно тянется время.
Животы наши подвело до предела: к обеду мы опоздали, а до выдачи хлеба надо ждать еще несколько часов. Может, поспать? Но спать не хочется.
Я придвигаюсь к Зимодре. Он лежит на спине с открытыми глазами — в шинели, в колодках, в шапке-ушанке на голове. Похоже, что он, как и Худяков, крайне подавлен.
— В чем дело, Игнат? Бьют здесь?
— Случается. — Он отвечает тихо, не поворачивая головы. — Шеф — зверюга, зондерфюрер, говорят, бывший разведчик-шпион и здесь шпионит за нами… А главное, отсюда уводят.
— Куда?
— Болтают, что всех политруков, которые тут были до нас, пустили в расход.
— Зачем же везли нас в Польшу? Разве они не могли сделать это раньше?
— Кто их знает. — Зимодра перевертывается на живот, подпирается локтями. — А что на фронтах? Что под Сталинградом?
Рассказываю об окружении немецких армий. Он кое-что уже слышал. Я говорю, что за зиму немцев разобьют и будем свободны. Зимодра качает головой.
— За зиму не успеют. Слишком далеко они забрались. А вообще — здорово… Значит, правду говорили кухонные рабочие.
— Насчет Сталинграда?
— Да, и насчет всего. Постреляют нас эти гады. Он опускает лицо в трухлявую солому. Паршивое дело, думаю я.
2
Глухая ночь. В землянке черно, как в могиле. Воздух спертый даже у двери. Мы лежим на правом боку, притиснутые друг к другу. Теперь я понимаю, почему здесь многие спят днем. Ночью, когда все в сборе, места на нарах не хватает и спать почти невозможно. И все-таки я сплю, точнее, дремлю, а еще точнее, пребываю в каком-тс темном, тревожном полузабытьи.
— Не поджимай ноги, не поджимай! — истошно выкрикивает кто-то напротив.
— В ухо заработаешь, Пашка, не ворочайся, — раздается через некоторое время на нашей, стороне.
Кто-то скрипит зубами и постанывает. Кто-то подавленно вздыхает. Кто-то тихо, яростно ругается.
— Рука-а! — жалуется кто-то поблизости. — Раненую ру-уку отлежал… Старшой, а старшой!
Потом тишина. Чернота, дурман. Я сплю. И вдруг:
— На-а левый бок! — Это командует старший. Шумно поворачиваемся, притираемся друг к другу и опять как будто спим.
— На-а правый! — снова слышится голос старшего.
Вновь шум, шуршание соломы, стон и тихие ругательства.
И так всю ночь.
Рано утром скрипит дверь, струя ледяного воздуха бьет в ноги.
— Auf! Auf! — лает шеф.
— Подъем! — кричит старший.
Нас выпроваживают на улицу. Приказывают построиться. Шеф пересчитывает нас. Затем он берет шесть человек и отправляется на кухню за кофе. Мы должны дожидаться его, не выходя из строя.
Серый, холодный рассвет. Над внешним забором еще светятся лампочки — они все более тускнеют. Освещено и низкое барачное строение кухни слева от зондерблока…
Кто бы из нас год тому назад мог подумать, что в середине января 1943 года мы, командиры, политработники и бойцы Красной Армии, будем стоять под морозным небом где-то в Польше, в немецком штрафном лагере для военнопленных, окруженные рядами ржавой колючки, часовыми-пулеметчиками и предателями в форме и без формы, стоять и ждать, когда нам принесут теплое горьковатое пойло, именуемое кафе, пригодное, пожалуй, лишь для того, чтобы прополоскать наши пустые желудки. Мы были готовы ко многому: к вечной усталости, к страху, к боли от ран, даже к смерти в бою, но не к этому. Плен казался чем-то немыслимым и невероятным; никакие уставы не предусматривали случая, когда раненые или просто окруженные и расстрелявшие патроны бойцы могут попасть в лапы врага. Что же им делать теперь, как вести себя?
Мы стоим и ждем. Поеживаемся от холода. Терпим.
Наконец приносят кофе. Получаем по четверть литра и заходим внутрь. Выпиваем на ходу и вновь забираемся на нары. Не успеваем еще согреться после часового стояния на морозе, как угрюмый шеф снова гонит нас вон.
— Raus! — кричит он. — Raus! Raus!
Не кричит, а лает. Что за манера объясняться по-собачьи!
Толкаясь в узкой двери, опять выбираемся наружу. Лампочки уже погашены: светло.
— Становись! — командует старший.
Строимся в колонну. Нас человек сто пятьдесят— больше роты.
— Marschieren! — приказывает шеф.
Начинаем маршировать. Старший идет сбоку мелкими шажками и подсчитывает ногу:
— Раз, два, три! Раз, два, три! Левое плечо вперед… арш!
Огибаем землянку, похожую на овощехранилище. Низкая крыша ее засыпана снегом. На нем — следы ног.
«Клац, клац, клац», — хлопают наши колодки по утрамбованному снегу. Очень неудобно маршировать в деревянной долбленой обуви.
«Клац, клац, клац»…
Шеф цепко следит за нами. Старый подлый бюргер, злой длинноносый гном!
— Halt! (Стой!) — кричит он, подходит к нам и вытягивает из строя Ваську.
— Не сбиваться с ноги! — командует старший. — Раз, два, три! Левой! Левой!
Проделываем очередной круг.
— Halt! — опять орет шеф и вытягивает еще двоих. Продолжаем старательно печатать шаг. Но шеф снова к кому-то придирается. Рядом с Васькой уже четверо.
— Стой! — вслед за шефом командует старший. — Напра…во!
Смотрим, как подлый немец заставляет наших товарищей взбираться на крышу и сбегать по другому скату. Он гоняет их минут десять, потом разрешает вернуться в строй.
— Петь, — по-русски приказывает шеф. — Если сафтра фойна…
Мы снова маршируем вокруг землянки. Высокий осипший голос запевает:
Если завтра война, если враг нападет. Если темная сила нагрянет, — Как один человек, весь советский народ За свободную Родину встанет!Мы подхватываем:
На земле, в небесах и на море Наш напев и могуч и суров: Если завтра война, Если завтра в поход,— Будь сегодня к походу готов!Что это — глумление? Конечно, глумление, но странно другое: как фашист не боится советской песни? Он стоит, выставив ногу в начищенном башмаке, и преспокойно крутит сигарету.
— Раз, два, три! Раз, два, три! — в паузе командует старший.
А запевала уже поет:
Мы войны не хотим. Но себя защитим — Оборону крепим мы недаром. И на вражьей земле мы врага разгромим Малой кровью, могучим ударом!Нет, не такой мы представляли себе будущую войну. Совсем не такой. Даже враги издали нам казались другими: слабее и, может быть, примитивнее.
На земле, в небесах и на море Наш напев и могуч и суров: Если завтра война, Если завтра в поход,— Будь сегодня к походу готов!Шеф взмахивает перчаткой.
— Стой! — командует старший. — Разойдись!
В землянку пока не пускают. Там убираются дневальные. Разыскиваю Худякова. Здороваюсь с Костюшиным и Типотом.
Худякова трудно узнать. Шинель висит на нем, как на палке. Ноги обмотаны грязными тряпками. На одной колодке — трещина, он ее перетянул веревкой. Торчат острые скулы, кожа шелушится, в глазах — скорбь.
Я предлагаю ему походить.
— Знаешь, — говорит он, — натер ноги. Давай лучше постоим.
— У вас что-нибудь болит?
— Ничего… кроме сердца. Только сердце. — Он оглядывается по сторонам и горячо шепчет — Правду надо было говорить народу, пусть горькую, но правду. На правде воспитывать бойцов, а не так… как с этой малой кровью, на вражьей земле. — Он умолкает, потом, подняв голову, строго смотрит на меня. — Пойми правильно. Я и себя тоже критикую, я ведь тоже в какой-то мере в ответе за все, что с нами произошло. Мы начали поправлять свои ошибки, но какой ценой, какой ценой!..
— Вы насчет Сталинграда знаете? — спрашиваю я, желая приободрить его. Глаза Худякова оживают.
— Да, спасибо. Да ты не беспокойся за меня, я как-нибудь справлюсь. Пошли в барак, кажется, стали пускать.
3
Немцы в трауре. Немцы вывесили с черной каймой флаги… Весь февраль, словно в отместку за свое поражение на Волге, здешние немцы с особенным усердием измываются над нами. Метут метели, мокрый снег лепит лицо, а мы с утра до вечера маршируем и поем. От деревянных колодок кровавые мозоли на ногах, кружится от голода и слабости голова, а мы маршируем и поем. Злой гном, наш шеф, придумывает новое наказание для провинившихся: приказывает садиться в снег и сидеть, не шевелясь, пять минут. Кто не выдерживает — лишается обеда. «Раз, два, три!» — хрипло командует старший. «Если завтра война», — кажется, в тысячный раз ослабевшим, дрожащим голосом запевает запевала. «Клац, клац, клац», хлопают наши колодки… Тяжело, но и радость на сердце: наконец-то большой перелом в войне.
И скоро повсюду повернут их и погонят безостановочно— в этом теперь никто не сомневается.
Однажды под вечер в зондерблок приводят новенького: худого, старого, в огромных, слетающих с ног колодках. Зимодра, подойдя, обнимает его. Оказывается, это наш старший по Борисову, полковой комиссар, которого немцы возили в Берлин, пытаясь переманить на свою сторону. Не вышло! Молодец, товарищ полковой комиссар!
Утром его вызывают к зондерфюреру. Потом по очереди вызывают Зимодру, Худякова, Костюшина. День спустя к зондерфюреру ведут Типота, Виктора, Ираклия, Ваську и остальных наших (Ираклий потом рассказывает мне, что на каждого из нас заводится учетная карточка — вероятно, перед отправкой в какой-то новый лагерь). В числе последних вызывают и меня.
Длинноносый шеф указывает мне на дверь, куда я должен войти. Стучусь.
— Herein! — слышится изнутри.
Вхожу. Чистая, светлая комната. За письменным столом сидит одетый с иголочки зондерфюрер Мекке.
— Фамилия?
Он помечает в карточке мою фамилию, затем перебирает тонкими пальцами картонные папки, видимо, наши личные дела.
— Можете сесть.
Сажусь на табурет, стоящий посреди комнаты. Страшновато почему-то. Мекке читает бумаги, усмехается.
— Вот почему вы сразу отозвались на мое «herein»… Вы были переводчиком в штабе полка?
— Да.
— Прекрасно. — Он откладывает папку в сторону. — Значит, если верить вам и бывшему вашему комиссару полка Худякову, вы не политрук?
— Нет. Когда я поступил в армию, мне было семнадцать лет, я еще не мог быть политруком.
— Я знаю ваши порядки, можете не разъяснять. — Мекке вооружается карандашом и листком чистой бумаги. — Отвечайте быстро: сколько вам лет и месяцев сейчас?
— Восемнадцать лет и четыре месяца.
— Дата рождения?
— Четырнадцатое октября тысяча девятьсот двадцать четвертого года.
— В каком году пошли в школу? Быстро, быстро!
— В тридцать первом. Мне не было еще семи лет.
— В каком закончили?
— В сорок первом.
— Сколько было лет?
— Шестнадцать.
— Когда поступили в армию?
— Четырнадцатого декабря сорок первого. Мне было семнадцать лет и два месяца.
Мекке отчеркивает карандашом свои вычисления.
— Stimmt, как говорится. Но это еще не все. Как вы семнадцати лет попали в армию?
— Пошел добровольно.
— Что, комсомолец?
— Да.
— Гм… Похвальная прямота. У нас здесь редко сознаются в своей принадлежности к комсомолу, то бишь к Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи, не так ли? Хотя мне-то отлично известно, что восемьдесят процентов вашей молодежи — комсомольцы. Еще несколько вопросов. Отвечайте быстро. Последняя занимаемая должность в армии?
— Заведующий делопроизводством в штабе дивизии.
— Звание?
— Старший… — Я прикусываю язык. Поймал меня, сволочь. Мекке насмешливо кривит губы.
— Старший политрук? Старший лейтенант?.. Не верю.
— Старший сержант, — помедлив, говорю я. — В Смоленске я зарегистрировался как техник-интендант второго ранге.
— С какой целью?
— Хотелось встретить кого-нибудь из командиров-сослуживцев.
— Понятно. Рассчитывал найти знакомых, стакнуться и бежать. Правда? Ну, ну, договаривайте до конца!
— Нет, — твердо отвечаю я. — О побеге я не думал.
Ишь чего захотел, проклятый шпион!
— Ладно, — говорит Мекке. — Где вы изучали немецкий язык? В спецшколе НКВД?
— В обыкновенной школе, в десятилетке. Кроме того, я брал частные уроки.
Мекке закуривает сигарету.
— И последний, так сказать, деликатный вопрос… Что бы вы сделали со мной, если бы я попал к зам в плен? — Его холодные, колючие глаза, кажется, прощупывают меня.
— Ну, как и любого немецкого офицера… — подумав, отвечаю я, но он прерывает:
— Расстреляли бы?
— Отправили бы в лагерь для военнопленных.
— Вы пешка, — внезапно раздраженно говорит Мекке. — Возможно, я переведу вас в блок для рядовых. Можете идти.
Вернувшись в зондерблок, я подробно рассказываю Худякову о своем разговоре с Мекке.
— Тебя обязательно выпустят отсюда, — говорит Худяков. — Только будь поосторожнее с незнакомыми. И вообще научись не показывать, когда это нужно, своих чувств — прибереги для настоящего дела.
— Постараюсь…
Тянутся снежные, вьюжные дни. Заканчивается февраль. Настает март. Мы все чаще поглядываем на восток, откуда вместе с солнцем приходят к нам новые надежды. В лагере упорно бродят слухи, что немцы медленно отступают по всему фронту. С мыслями о фронте мы теперь укладываемся на свои треклятые тесные нары, с этими мыслями пробуждаемся по утрам.
Очередное серенькое утро.
— Auf! Auf! — лает угрюмый шеф.
— Подъем! — кричит старший.
Шеф зовет его к себе и что-то быстро говорит ему.
— Всем выходить с вещами! — дрогнувшим голосом командует старший.
Неприятно сжимается сердце. Товарищи берут вещмешки, противогазные сумки — у кого что есть, я цепляю к крючку шинели котелок, и мы выходим. Выстраиваемся в колонну на дороге за оградой. Нас окружают конвоиры. Появляется Мекке в сопровождении нескольких офицеров.
Мекке достает из портфеля бумагу и начинает выкликать людей по фамилии в алфавитном порядке. Вызванные строятся отдельно.
Уходят полковой комиссар, Зимодра, наш старший — майор, Костюшин, Васька. Потом Виктор, Соколов, Типот, Худяков, Ираклий… Через четверть часа на дороге напротив зондерблока нас остается всего человек двадцать.
Мекке прячет список и вместе с другими офицерами направляется в здание комендатуры.
— Марш! — командует начальник конвоя. Колонна отобранных трогается. Даже не удалось попрощаться с друзьями!
Нашей группе приказывают повернуться кругом. Немец-ефрейтор и полицай ведут нас мимо кухни к серому дощатому бараку, огороженному новеньким колючим забором.
— С новосельем вас, землячки, — улыбается полицай, закрывая за нами калитку.
Ефрейтор с красным, пьяным лицом размышляет с минуту, затем, сняв перчатку, показывает нам два пальца.
— Zwei Mann. Kafee holen.
— За кофеем. Двух, — переводит полицай и указывает на меня и на плечистого синеглазого человека.
4
Мой новый приятель и напарник Саша Затеев — лейтенант-танкист. Он из Ельни. В плен попал раненный летом 1942 года. В лазарете для военнопленных кто-то сболтнул, что он коммунист, и с тех пор вот уже полгода он мается по карцерам и зондерблокам.
— Понимаешь, как получается, — печально говорит он мне, — ежели ты не подхалимничаешь и вообще стараешься держаться как-то по-человечески, моментально подозрение: коммунист, мол… Ну, что ты будешь делать?
— Слушай, Саша, — говорю я, — а тебе не кажется, что тут есть своя закономерность? То, что всех наиболее честных людей они считают коммунистами, — это ведь, по существу, здорово!
— Может, и так. — Он смотрит в барачное окошко, и вдруг на его лице изображается беспокойство. — Мюллер идет.
Мы слезаем с нар. В барак заходит наш новый шеф, ефрейтор.
— Ахтунг! — командует Затеев.
Он по нашему общему желанию исполняет обязанности старшего группы. Слезают с нар и остальные товарищи.
— Gleich kommen Zugänge, — говорит шеф Затееву.
Тот не понимает и вопросительно взглядывает на меня.
— Сейчас приведут новеньких, — вполголоса перевожу я ему.
— Гут, — отвечает немцу Затеев.
Пополнение поступает сразу после обеда. Новоприбывших человек восемьдесят. Среди них выделяется высокий, сухощавый человек с очень бледным, бескровным лицом. Я замечаю, что другие пленные разговаривают с ним с некоторой почтительностью.
В бараке делается тесно и шумно. Нас, «старичков», засыпают обычными вопросами: как здесь кормят, не бьют ли, что это за лагерь? Мы, в свою очередь, интересуемся, откуда их привезли и что слышно нового о фронтах.
Дня через три, обратив внимание на то, что я помогаю Затееву объясняться с шефом, высокий, сухощавый человек приветливо подзывает меня к себе.
— Залезайте к нам, — говорит он, подвигаясь на нарах…
Он чисто побрит, виднеется белая полоска подворотничка.
Я взбираюсь на нары.
— Товарищ старший батальонный комиссар, — обращается к сухощавому один из его соседей, — я пойду покурю у выхода.
— Идите.
«Значит, он старший батальонный комиссар», — думаю я. Мне очень нравится, что его называют по званию: видимо, тоже настоящие люди.
— Давно в плену? — так же приветливо спрашивает меня старший батальонный комиссар.
— Семь с половиной месяцев.
— Ну и как, конца войны будете дожидаться в лагере?
Вопрос меня настораживает.
— Хотелось бы не в лагере.
— Надо вырываться отсюда, — тихо говорит он. — Что вы об этом мыслите?
Я невольно оглядываюсь.
— А почему вы так прямо спрашиваете меня об этом? Разве вы знаете меня?
Он улыбается.
— А вас очень нетрудно понять. Вы хороший советский парень. Что еще надо?
Я чувствую себя обезоруженным.
— Постарайтесь узнать у шефа, сколько времени будут держать нас в этой клетке.
— Есть, — отвечаю я.
Он подает мне руку. Она большая, и крепкая, и, по-моему, надежная рука.
Еще через несколько дней перед самым отбоем в зондерблок приходят три немецких солдата. Они хотят побеседовать с одним из политруков. Старший батальонный комиссар вновь подзывает меня к себе.
Немцы сообщают, что их должны отправить на фронт. Воевать особой охоты у них нет, и вот они решили посоветоваться, как быть.
— Сдавайтесь в плен, говорит старший батальонный комиссар, и я перевожу его слова на немецкий язык.
— А как русские обращаются с пленными? — интересуется один из солдат.
— Не так, как вы… Немецкие пленные, например, получают у нас такой же паек, как наши военнослужащие, — объясняет старший батальонный комиссар.
Солдаты задают еще несколько вопросов, потом благодарят и уходят.
Проходит неделя, прежде чем мне представляется удобный случай поговорить с Мюллером. Мы относим пустые бачки на кухню, и на обратном пути я специально поотстаю от товарищей.
— Господин шеф, скоро кончится война? — по-немецки спрашиваю я.
— Война — дерьмо, — заявляет Мюллер. Он, как всегда, навеселе. — Война — свинство. У меня сын пропал без вести на войне.
— На востоке?
— На востоке.
— Может быть, он в плену?
— Плен — дерьмо, — убежденно говорит Мюллер. — Раньше пленных обменивали, не то что теперь.
— Обменяют на нас.
— Только не на вас. Вам, парни, будет капут. Только молчи.
— Когда?
— Когда наберут комплект.
Возвратившись в зондерблок, украдкой передаю свой разговор с шефом старшему батальонному комиссару. Он молча кивает, а затем долго совещается со своими товарищами.
В первых числах апреля, около полуночи, до нас доносится беспорядочная стрельба. Утром дежурный полицай, скаля зубы, говорит, что поляци-партизаны угнали со станции грузовик с боеприпасами.
— Куда угнали? — как бы между прочим справляется Затеев.
— Ма-алчать! — прикрикивает на него полицай. — Зараз достанешь по морде. — Помолчав и подумав, все-таки отвечает: — В лес, на Буг. Куда же еще?
Два дня спустя, уже под утро, снова слышим близкую стрельбу. Завывает сирена: очевидно, лагерный гарнизон поднимают по тревоге. Мы лежим взволнованные и настороженные. Может, партизаны замышляют налет на лагерь, чтобы освободить нас?
Чуть свет в барак неожиданно является Мюллер. Вопреки обычаю он трезв и мрачен.
— Alles raus! (Все на выход!) — приказывает он. — Alles!
И опять, как в марте, мы строимся в колонну. Опять зондерфюрер Мекке вызывает по списку. Опять, окруженные конвоем, уходят куда-то в неизвестность наши товарищи. Уходит и старший батальонный комиссар.
Не успели партизаны. Не успел, наверно, и старший батальонный комиссар осуществить какой-то свой план.
В зондерблоке вновь остаются «подозрительные»: командиры, обвиняемые в том, что они коммунисты, и рядовые — бывшие разведчики и те, кто пытался бежать из плена.
Дни становятся все продолжительнее и теплее. Все выше и ярче солнце, короче ночь. Теперь мы часами просиживаем возле барака, наблюдая через проволоку за тем, как во дворе соседнего блока играют в футбол пленные английские летчики.
— Ничего у них житуха, — ворчит Лешка Толкачев. — Письма и посылки из дому получают, жалованье им идет, чины тоже вроде присваивают.
Толкачев — старший лейтенант, горьковчанин. У него зоркие серые глаза и глубокий шрам на скуле. Он любит рассматривать его в осколке зеркальца, трогает пальцем, потом уголком белой тряпицы чистит золотую коронку-фикс.
— Тут как-то дежурный полицай рассказывал, что эти англичане совершили по два-три побега, причем двигались на восток, к нашей линии фронта, — говорит Затеев. — Поэтому их и засадили в штрафной лагерь.
— Вот и я говорю, что ничего у них житуха, даже в штрафном лагере. — Толкачев шумно вздыхает. — Только как волка ни корми, он все в лес глядит.
Затеев коротко усмехается.
— Потому нас и не кормят.
Лес от нас приблизительно в километре. В последнее время мы особенно часто поглядываем в ту сторону. Мы все еще не решаемся открыться друг другу до конца, но я уверен, что каждый из нас думает об одном и том же: как прорваться через эту колючку в лес.
5
Сияет солнце. Небо очень высокое и светлое. Теплынь.
После очередного пополнения нас опять человек семьдесят, и все мы во дворе зондерблока. Сегодня Перзомай. Настроение приподнятое. Наши мысли сейчас устремлены далеко на зосток, туда, к Красной площади, где покоится прах великого Ленина, где — в тот самый момент, когда мы стоим здесь, оцепленные фашистской колючей проволокой, — четко маршируют наши войска на военном параде. Милая Родина, ты жива, ты борешься, и ты побеждаешь, а это ведь главное! Пусть сегодня мы оторваны от тебя нашим несчастьем и сотнями километров пути — сердцем своим, всеми помыслами своими мы с тобой.
Мы стоим перед бараком и смотрим на восток. Мы стоим в положении «смирно» и молча — это наша безмолвная демонстрация. А на нас смотрят часовые-пулеметчики с вышек, за нами пристально следят дежурный полицай и солдат с винтовкой, поставленный сторожить зондерблок по случаю праздника. Смотрят на нас и пленные английские летчики и наши военнопленные-инвалиды, занимающие два барака наискось от зондерблока.
В лагере тишина. Начинается смена караулов — значит, уже одиннадцать. Сейчас в Москве на Красной площади заканчивается военный парад.
— Вольно! — произносит кто-то за моей спиной. Мы покидаем наши символические посты и начинаем прогуливаться вокруг барака.
Я хожу вместе с Толкачевым. Мы с ним теперь близкие друзья. Толкачев поделился со мной своим замыслом. Он считает, что мы должны силой прорваться из лагеря. Ночью во время воздушной тревоги, когда в лагере выключают свет, надо бесшумно снять полицая, незаметно подползти к внешним рядам заграждения, потом быстро закидать его шинелями, плащ-палатками, и, перебравшись через проволоку, бежать к партизанам в лес. Конечно, немцы откроют огонь, и, возможно, многие погибнут. Но другого пути нет. И я согласен с Толкачевым. Мы обязаны рассматривать себя как боевую единицу, попавшую во вражеское кольцо. Война продолжается, продолжается, собственно, и то окружение, в котором мы очутились летом прошлого года. Нам надо сделать последний рывок. Но поддержат ли нас остальные товарищи?
— Сегодня после проверки я разговаривал кое с кем, — негромко говорит мне Толкачев. — Идея нравится, но ребята того мнения, что надо как-то снять еще часового с угловой вышки. Если бы раздобыть хоть одну паршивую гранату!
У торца барака, обращенного в сторону английского блока, мы останавливаемся. Мы видим, что группа англичан рассаживается полукругом, в руках у них музыкальные инструменты: труба, аккордеон, кларнет… Несколько человек издали приветствуют нас по-антифашистски — вскинутым к плечу кулаком.
Неожиданно мы слышим знакомую вещь. Или это галлюцинация слуха? Англичане играют «Москву майскую».
Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом Вся советская земля.Любимая песня моего детства!.. Мы снова замираем. Мы видим, что англичане, прогуливающиеся в своей загородке, тоже останавливаются, вытягиваются, смотрят на нас и в то же время на восток, в сторону нашей Родины. Так они выражают нам свою солидарность. Молодцы англичане! Если бы они только не тянули со вторым фронтом.
А оркестр уже выводит мелодию припева, и я тихонько подлезаю:
Кипучая, Могучая, Никем не победимая. Страна моя, Москва моя, Ты самая любимая!Рядом с музыкантами показывается новая группа пленных англичан. Они вдруг приближаются к нашему забору и перебрасывают через него пакеты. Затеев вскрывает один из них — в нем печенье, сигареты, сушеные фрукты.
— Прекратить! — орет дежурный полицай. Солдат подбегает к английскому блоку, угрожающе щелкая затвором. Затеев, торопливо подобрав пакеты, поспешно скрывается в бараке.
Откуда-то выскакивает Мекке, как всегда, щеголеватый и злой. Он кричит нам:
— Если вы посмеете ответить им, я прикажу закидать зондерблок гранатами!
Он энергичным шагом направляется к англичанам. Но те успевают доиграть «Москву майскую» до конца.
Жаль, что мы не сможем ответить нашим союзникам хорошей песней, с Мекке шутки плохи: он действительно может приказать закидать нас гранатами.
— Гляди! — говорит Толкачев и кивает на блок инвалидов.
Я поворачиваю голову. Худые, заморенные люди выстраиваются в две шеренги. Некоторые на костылях, кое у кого болтаются пустые рукава.
Перед строем появляется бородатый человек на клюшке. Он взмахивает палкой, и мы слышим, как дружно, сильными, грубыми голосами запевают инвалиды:
Броня крепка, и танки наши быстры, И люди наши мужества полны, В строю стоят советские танкисты. Своей великой Родины сыны!Озноб восторга пробирает меня. А я, дурак, еще когда-то сомневался в них, в своих товарищах по несчастью, думал, что голод и издевательства надломили их и они больше не способны ни к какой борьбе.
Нет, не животные, мы, и нет такой силы, которая превратила бы нас в животных!..
Лагерь, кажется, цепенеет. Цепенеют от растерянности часовые на вышках, полицаи, солдат с винтовкой, стерегущий нас. Цепенеет от страха и неожиданности зондерфюрер: он явно ошеломлен — я вижу его застывшую фигуру на полпути к блоку инвалидов. Цепенеют от восхищения многие англичане. Замираем от чувства глубокой благодарности и любви к нашим товарищам мы, обитатели зондер-блока: коммунисты и комсомольцы, бойцы, командиры и политработники — выявленные и невыявленные.
А калеки-пленные с прекрасными, одухотворенными лицами продолжают:
Гремя огнем, сверкая блеском стали, Пойдут машины в яростный поход…Крикни кто-нибудь сейчас: «Вперед, за Родину!»— и мы с голыми руками бросимся на колючую проволоку, на вышки, на охранников. Ну, крикни же кто-нибудь! Ну!
Я чувствую, что меня больше ничто не страшит; в эту минуту я понимаю людей, закрывающих своим телом вражескую амбразуру, — сейчас у меня на душе то же, что было в рощице, когда нас окружили немецкие автоматчики и когда у меня вдруг совершенно пропал страх и я почувствовал, что меня невозможно убить.
Никто не подает команды в атаку. Песня заканчивается. Молча я ухожу в барак, ложусь на нары, закрываюсь с головой шинелью. Затеев сует мне полгалеты и сухую сладкую ягодку — моя доля от подарка англичан.-.
Наутро в зондерблок приводят бородатого человека на клюшке. Потом — еще одного инвалида. Наши жмут им руки, благодарят. Бородатого зовут Громов, его товарища — Недоткин. Они держатся с нами просто и дружелюбно.
После обеда Громова вызывают на допрос. Вечером его опять тащат к зондерфюреру. На следующий день — снова. Проходит неделя, и одним светлым майским вечером Громов возвращается к нам с допроса, сопровождаемый самим зондерфюре-ром и шефом.
— Achtung! — выкрикивает Мюллер.
Мы соскакиваем с нар, становимся по стойке «смирно». У Мекке на губах язвительная усмешка.
— Позвольте, дорогие товарищи, представить вам вашего коллегу… Алексей Иванович Муругов, бывший прокурор города Москвы, а в войну — дивизионный прокурор, коммунист, депутат и прочая и прочая… Пожалуйста, Алексей Иванович, — кривя губы, добавляет Мекке, — теперь вы можете спокойненько отдыхать.
Громов-Муругов, тяжело припадая на клюшку, направляется на свое место.
— Это что, правда? — спрашивают его.
— Правда, — подавленно отвечает он.
Мекке уходит. Муругов ложится. Тем же вечером Толкачев перебирается со своими вещами на нары к Муругову. Они долго о чем-то шепчутся.
Ночью мы опять слышим близкую стрельбу. Пулеметчик с вышки дает короткую очередь по зондер-блоку. Когда наступает рассвет, мы видим пробоины в крыше, а попозднее находим сплющенную пулю на железном листе возле печки.
После завтрака — все того же теплого горьковатого пойла, «кафе», — Толкачев зовет меня на улицу.
— Как бы ты посмотрел на такое дело? — говорит он, когда мы уединяемся. — Кому-то из нас надо попытаться немедля бежать, сперва кому-то одному, чтобы найти партизан и сообщить им о Муругове и о других наших старших товарищах… Пусть партизаны ударят по вышкам и подгонят поближе какую-нибудь повозку. Надо спасать Муругова любой ценой. Понимаешь?
— Да. — Чувствую, что по моему телу ползут мурашки. — Понимаю, Леша. Я тоже думал об этом. Я попытаюсь.
Легко сказать — попытаюсь! После первомайских волнений в лагере зондерблок охраняют два вооруженных винтовками солдата и два полицая. На каждой стороне забора по охраннику. К тому же отныне нам запрещено выходить после отбоя из барака даже в уборную. Нас уведомили, что часовые будут стрелять без предупреждения.
— У тебя есть уже какой-нибудь конкретный план? — спрашивает Толкачев.
— Да, есть.
Хорошо, что товарищи доверяют мне столь опасное дело. Я ловкий и еще довольно сильный, я невысокий, неширокий в плечах — мне легко пролезть сквозь колючку; я знаю немецкий — это тоже может пригодиться; наконец, как всякий северянин, я хорошо ориентируюсь в лесу. Выбор правильный.
Рассказываю Толкачеву, как, по-моему, можно было бы бежать одному. Мы обсуждаем подробности больше часа.
Следующим вечером Толкачев просит меня подойти к Муругову. Тот ждет меня в противоположном от выхода конце барака. У него крупные глаза, спокойное, немного отекшее лицо.
— У меня к вам личная просьба, — шепчет он, взяв меня под руку. — Если доберетесь до наших, передайте, что меня выдал капитан Дзюбенко, одиннадцатого года рождения, уроженец Винницкой области. И еще, пожалуйста, мой домашний адрес: Москва, Лихов переулок… Запомните?
— Запомню.
Муругов пожимает мне руку повыше локтя и сразу уходит. Я забираюсь на свое место у окна и с помощью Толкачева начинаю кроить из отпоротых рукавов его телогрейки чувяки — мягкие матерчатые сапоги.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Шестнадцатое мая 1943 года. Я стою в уборной и через щели между рассохшимися досками стены наблюдаю за охранниками. Я подолгу стою здесь каждый вечер, уже четвертый вечер подряд. И сегодня стою уже долго — с полчаса, наверно. И завтра, может быть, буду стоять и послезавтра, пока не настанет удобный момент. У меня на ногах чувяки, гимнастерка заправлена в брюки, на голове буденовка, в кармане самодельный нож. Я слежу главным образом за высоким солдатом с винтовкой, охраняющим ту часть колючего забора, возле которой расположена уборная. Если он в течение ближайших пятнадцати минут не отойдет куда-нибудь, то мне опять придется возвращаться в барак ни с чем. Я должен успеть все сделать до без четверти девять — это крайний срок: в девять начинается смена караула. Отойди, солдат, отойди поговорить с другим часовым или куда-нибудь еще!..
Напротив входа в уборную в колючей ограде есть лазейка. Я почти целую неделю проделывал ее: подойду к забору, сорву травинку и поверну железный усик, скрепляющий колючую проволоку крест-накрест, часа через два снова подойду и поверну. И так каждый день по нескольку раз: сорву травинку и быстро поверну усик. Теперь усики болтаются на проволоке — я сумею проскочить в окошко, в эту лазейку.
А за лазейкой — зигзагообразная противоосколочная щель в земле. Туда прячутся во время воздушной тревоги охранники. Щель тянется метров на двадцать в сторону кухни. А там, где щель кончается, там бурьян. Бурьяном зарос весь пустырь вплоть до внешних рядов заграждения.
Я вижу, что солдат достает сигарету — высокий солдат с узким клинообразным лицом. Его штык розово отсвечивает в последних лучах солнца. Наступают зыбкие вечерние сумерки — это тоже учтено. Над внешним забором зажигаются электрические лампочки, и их свет, смешиваясь со слабеющим светом неба, создает тревожную игру теней и полутеней; цвет предметов больше неразличим — различимы только полутона. Все учтено, все, все!
У солдата не зажигается зажигалка. Он щелкает и щелкает крышечкой, трясет ее, согревает дыханием — зажигалка не зажигается. У меня начинает сильно колотиться сердце. Сейчас все произойдет, сейчас — я предчувствую…
Солдат оглядывает пустой двор зондерблока и направляется к дежурному полицаю у калитки. Он шагает длинными шагами. У меня такое ощущение, будто я должен прыгать в ледяную воду или куда-то еще, куда-то прыгать, туда, откуда наверняка возврата не будет. Ломай, ломай же скорее себя!
И я ломаю. Как и тогда, в рощице. Я полуоткрываю дверь уборной и, испытывая ужас от того, что я делаю, руками вперед бросаюсь в лазейку. Колючки рвут гимнастерку до самого тела, но я проскакиваю. Я съезжаю головой вниз в противоосколочную щель и прислушиваюсь. Я слышу сумасшедший стук своего сердца. Я напрягаю слух — наверху все тихо. Я ползу по дну щели в конец ее. Терпко и как-то холодновато и влажно пахнет землей. Наверху все тихо. Кажется, никто не заметил. Ну, конечно, никто, а то уже подняли бы тревогу.
Теперь спокойствие. Теперь главное — спокойствие. Теперь я должен дождаться, когда от комендатуры по направлению к кухне пойдет развод немцев: в девять они меняют караулы. В ту минуту, когда часовой будет подниматься на вышку, мне надо проползти по бурьяну к внешнему заграждению. А когда он залезет и еще не успеет оглядеться, я проползу под нижним рядом проволоки и спрячусь под стогом сена, стоящим рядом с заграждением. Потом все будет проще.
Главное — спокойствие, теперь главное — спокойствие. Я прислушиваюсь. Мне кажется, что я слышу чьи-то шаги. Кажется, уже начинается смена караула. Пора…
Я приподнимаю голову — сверху по откосу скатывается камешек. Слава богу, это только камешек. Я приподнимаю голову и вдруг вижу толстые запыленные сапоги. В ту же секунду я вижу глаза полицая — светлые и испуганные. Он останавливается прямо надо мной. Я гляжу прямо в его глаза. Это не наш полицай, не из тех, кто охраняет зондерблок. Неужели попался? Неужели все?
— Шо смотришь, вылазь, — с дрожащей усмешкой говорит он мне, но не очень громко.
— Слушай, — говорю я и сам слышу свой голос, — слушай, ты же русский, уйди, сейчас будет смена постов, никто не узнает.
— Хотишь, чтоб и меня расстреляли? — отвечает он тревожно и вдруг кричит: — Постен! Постен!
Не кричи, друг, не выдавай меня, не кричи, сволочь, не кричи, миленький: сейчас меня убьют! Не кричи, изменник, подлец! Не кричи, не кричи!
— Постен! — кричит полицай, весь белый.
Я поднимаюсь на ноги. Щель в этом месте мне по грудь. Вижу все, как во сне, и все сразу: и пустой двор зондерблока, и длинную фигуру солдата с винтовкой наперевес, и синевато мерцающий штык его, и бегущих ко мне других солдат со стороны кухни. Я слышу немецкие крики с двух сторон и крик полицая. Затем я снова вижу клинообразное перекошенное лицо длинного солдата и на уровне его глаз плоский широкий штык. Сейчас он приколет меня к земляной стенке («…бабочку булавкой», — мелькает где-то в подсознании). Я поплотнее упираюсь спиной в стенку, я еще успеваю заметить взмыленного унтера с раскрытым ртом, я зажмуриваюсь. Сейчас…
Меня хватают чьи-то железные лапы и вытаскивают из щели. Меня швыряют на землю, пинают сапогами— это совсем не больно. Меня бьют в грудь, в лицо, в живот — только бы не в живот… Тупые, дребезжащие удары по голове — совсем не больно. Удары в нос, в зубы — все не больно, совсем не больно. Это ничего.
Я выплевываю кровь и встаю, но тут же почему-то падаю. Ноги они мне, что ли, перебили? Один немец кричит: «Schießt doch!» («Стреляйте»), — другой кричит: «Nein!» Он прав, этот второй немец: в меня не надо стрелять. Пусть уж лучше бьют: это не больно.
Немцы кричат, попутно колотят меня сапогами и прикладами и все не могут решить, стрелять или не стрелять. Конечно, не стрелять, не надо стрелять.
Прибегает еще один немец — с металлической бляхой на груди. Крики на момент смолкают и опять разгораются. Я слышу слова «политрук», «зондерблок», «допросить» — «untersuchen». Меня снова хватают железные лапы и куда-то тащат. И вновь пинают и дребезжаще колотят по голове, и по лицу, и в грудь.
2
Меня втаскивают в какую-то высокую полутемную комнату. Я вижу круглое бабье лицо переводчика-немца — он бывал у нас в зондерблоке, — он безбородый, с писклявым голосом, как евнух, спокойный, с конфузливой улыбкой. Я вижу рослого фельдфебеля, начальника караула, и его жесткие сверкающие сапоги — он расхаживает взад и вперед по комнате. Я вижу какие-то двери, несколько закрытых дверей, зажженный карбидный фонарь, бросающий сбоку желтую полосу света. Я стою у входа, у деревянного косяка и дрожу. Я никак не могу справиться с противной, прохватывающей меня насквозь дрожью.
Жесткие сапоги меряют широкими шагами комнату. Круглое безбородое лицо печально улыбается. Они чего-то ждут. Желтеет полоска света от карбидного фонаря. И я жду. Я жду самого ужасного. Только бы не дрожать.
Почему они со мной не разговаривают? Почему ничего не спрашивают? Почему конфузливо улыбается бабье лицо? Что сейчас будет?
Я слышу возбужденные голоса и топот ног за дверью, возле которой стою. Я немножко отодвигаюсь и нащупываю спиной стену. Теперь у меня дрожат только ноги в коленях. Что сейчас будет?
Распахивается дверь, и порог переступает огромных размеров немец — в фуражке, в перчатках, с револьвером на поясе. У него массивная спина, брюки галифе, поскрипывающие сапоги. Начальник караула щелкает каблуками. Переводчик тоже щелкает каблуками. Следом входит зондерфюрер Мекке.
— Где он? (Wo ist er?) — отрывисто спрашивает огромный немец.
— Здесь, господин комендант. Вот он, господин комендант. — Начальник караула, вытянув руку, указывает на меня.
Огромный немец — это, наверно, и есть господин комендант — оборачивается. Я вижу тонкое лицо в пенсне на носу. Мои ноги дрожат.
— Почему он не расстрелян? — Голос возбужденный, резкий; наверно, то, что я сделал, для него большая неприятность. Он сказал, кажется, почему я не расстрелян? Не расстрелян? «Warum ist er nicht erschossen?» — сказал он. Значит, меня надо было расстрелять?.. Меня трясет, но все еще как-то не верится в конец.
Начальник караула вновь щелкает каблуками.
— Господин комендант, в зоне «А» расстреливать запрещено.
— В таком случае отведите его в зону «Б» и расстреляйте немедленно! — быстро, возбужденно приказывает комендант.
— …er versteht deutsch, — долетает до меня писклявый голос переводчика…
Меня — расстрелять. Меня именно. Немедленно… Чепуха какая-то!
— Сколько тебе лет? (Wie alt bist du?) — зачем-то спрашивает меня этот человек в пенсне.
— Восемнадцать, — зачем-то отвечаю я.
— Почему бежал? Закончится война, мы обменяем пленных, и ты мог бы вернуться домой, а теперь я должен тебя расстрелять, — говорит огромный человек передо мной.
И я сейчас ему скажу. Мне, видимо, нечего больше терять. И я скажу. Только не знаю, как лучше — в имперфекте или в перфекте. Нет, надо в перфекте — в прошедшей определенной форме. Уже в перфекте. Меня уже почти не трясет. Фраза хорошо складывается в голове.
— Ich habe meine Pflicht vor dem Vaterland erfüllt (Я выполнил свой долг перед Родиной), — отвечаю я и радуюсь, что так отвечаю, я понимаю, что хорошо отвечаю. Я, наверно, уже подготовился к концу.
Огромный немец в пенсне — комендант лагеря — отступает от меня на несколько шагов. Настает тишина. Комендант опять подходит, наклоняется, заглядывая мне в лицо, снимает пенсне и вновь сажает на нос. Все молчат. Он снова отходит, и я вдруг слышу его глухо вздрагивающий голос:
— Отведите его в карцер и дайте ему хлеба.
Это меня?.. Не может быть. Этого не может быть. Не может быть.
Начальник караула в третий раз щелкает каблуками и открывает рядом со мной дверь.
…Я лежу на узком дощатом топчане в карцере. Абсолютная темнота кругом. Чернота. Холодная каменная стена сбоку. Я лежу на спине, скрестив руки на груди.
Я не верю этому огромному немцу, коменданту лагеря. Меня все равно расстреляют. Расстреливают всегда на рассвете. Комендант просто обманывает меня…
Не дали же мне хлеба? Почему они не дали мне хлеба? Они не выполнили приказа коменданта. Они обманывают меня…
Это очень трудно — переходить от жизни к смерти и снова — от смерти к жизни. Я забываюсь в коротком сне, но тут же просыпаюсь от внутреннего толчка: расстреляют.
Я стараюсь думать о Родине, но воображение рисует только какие-то солнечные поля, очень много знакомых лиц, и я мысленно обращаюсь к ним: «Придите, отомстите за меня».
Засыпаю. Толчок. Расстреляют… Я крепче сжимаю руки… Не удалось. Не удалось бежать, добраться до партизан, помочь Муругову и всем товарищам. Не удалось…
А нельзя ли бежать отсюда, из карцера? Сейчас, немедленно, пока не наступил рассвет?..
Снаружи все тихо. Сбоку холодная каменная стена. Прямо дверь — ее в темноте не видно, видна лишь желтая дырочка, это замочная скважина.
Я потихоньку поднимаюсь и бесшумно крадусь к двери. Осторожно трогаю ее, щупаю, нажимаю на нее — ну, конечно, смешно, если бы дверь оставили незапертой. Окон в карцере нет. Я снова ложусь на топчан.
Толчок. Просыпаюсь. Расстреляют…
Вместо желтой дырочки в двери — уже голубая, потом она делается розовой, потом через некоторое время ярко-розовой, от нее протягивается к кирпичному полу серебряный лучик света.
Скоро все свершится. Я, наверно, умру хорошо. Это все-таки радостно понимать, что ты умрешь хорошо.
Я слышу железное постукивание ключа в замочной скважине. Вскакиваю с топчана. Под ногами деревянные колодки с матерчатым верхом. Откуда они тут? Я надеваю их. Медленно открывается дверь, и в солнце, в голубоватом краешке неба показываются двое: немец-унтер и молодой белокурый начальник лагерной полиции — его фамилия Кунц.
Он входит. Несколько секунд разглядывает меня. Затем совершенно обыкновенным тоном спрашивает:
— Ты что же подводишь моих полицаев?
Его вопрос поражает меня. Разве важно это? Мелькает сапог — я от удара в живот опрокидываюсь на топчан. Кунц хватает слетевшую с моей ноги колодку и начинает с остервенением бить меня. Я прикрываюсь руками — боюсь, что проломит голову. Он бросает колодку на пол и, как ни в чем не бывало, снова совершенно обыкновенным голосом говорит:
— Давай выходи.
Унтер безучастно глядит на нас с улицы. Я надеваю колодки и выхожу.
Меня приводят в здание комендатуры и оставляют одного в высокой комнате со множеством дверей. По-видимому, это вчерашняя комната. Кунц скрывается за дверью, которая прямо напротив меня. Минуту спустя дверь отворяется, и я вижу Мекке. Кунц уходит. Мекке приказывает мне войти в его кабинет. Я захожу и вижу переводчика с бабьим лицом. Он сидит на табурете у стены.
— Так вот какой ты, герой! — со злой усмешкой говорит Мекке. — А я ведь тебя, идиота, собирался перевести в рабочую команду.
— Да, да, — со смущенной улыбкой подтверждает переводчик.
Мекке берет со стола металлическую линейку.
— Кто с тобой еще хотел бежать? Отвечай!
— Я один.
— Врешь! — взвизгивает Мекке и бьет линейкой меня по лицу. — Я все знаю, что у вас творится. Все! Кто?
Снова удар линейкой. Удар обжигает, но терпимо.
— Я один.
Мекке наступает сапогом на пальцы моих ног, спрятанные под матерчатым верхом колодок, давит на них — это очень больно, но еще терпимо.
— Отвечай! Отвечай!
— Я один.
Он бьет металлической линейкой — она посвистывает, упруго изгибается и обжигает лицо, но еще терпимо. Почему он бьет меня линейкой?
— Отвечай! Кто еще?
— Я один.
— Неправда! — пищит переводчик.
С застенчивой улыбкой на круглом лице он встает с табурета и ударяет меня ребром ладони по горлу. Этого я от него никак не ожидал! Проклятый евнух!
За моей спиной хлопает дверь. Мекке и переводчик вытягиваются и щелкают каблуками. Краем глаза вижу витой серебряный погон, огромную серо-зеленую грудь с орденской ленточкой.
— Сейчас прибудут представители гестапо, — говорит уже знакомый глуховатый голос коменданта. — Выведите его.
Переводчик выводит меня из кабинета и ставит у наружной двери, как вчера. Значит, комендант не обманул. Расскажи кому-нибудь об этом — и не поверят. Хороший комендант. Разве такие бывают?.. Расстреляют меня все-таки или не расстреляют?
В комнату мимо меня проходят два офицера в галстуках и с портфелями. Это, наверное, и есть представители гестапо. А зачем еще гестапо? Они без стука растворяют дверь в кабинет Мекке. Я вижу, как они по-фашистски вскидывают руки. Потом дверь за ними закрывается. Расстреляют меня или не расстреляют?
Евнух-переводчик выталкивает меня в коридор. Расстреляют или не расстреляют? У выхода на солнечном крыльце дежурит полицай. Может быть, спросить его? Переводчик смотрит на меня печальными глазами. Его спросить?
— Хороший комендант, — говорю я.
— Господин комендант — полковник, — говорит переводчик.
— Меня, расстреляют?
Переводчик отворачивается и не отвечает.
Примерно через полчаса мимо нас проходят гестаповцы с портфелями. Переводчик и дежурный полицай мгновенно вытягиваются и щелкают каблуками. Почему они все время щелкают каблуками? Гестаповцы садятся в легковую автомашину, она тотчас вздрагивает и, урча, трогается с места, оставив в воздухе голубой клочок дыма. Расстреляют или нет?
Появляется Мекке с красным, злым лицом. Он молча сует мне засохшую, в трещинках, лайку хлеба.
— В карцер его, — приказывает он полицаю.
Не расстреляют, не расстреляют, ликую я. Дали хлеба и в карцер, — значит, не расстреляют.
3
Опять лежу на топчане. В голове все тот же неотвязчивый вопрос: расстреляют или нет? Если комендант настоял на своем, то не расстреляют. Если настояли на своем гестаповцы, то расстреляют. Я почему-то убежден, что гестаповцы добивались того, чтобы меня расстрелять тут же в лагере, а комендант был против.
Так или иначе я, вероятно, смертник или кандидат в смертники… А что такое смерть? Я задумываюсь над этим, и, странно, я, кажется, вдруг перестаю понимать, что это такое. Наверно, очень глупо, но я сейчас не знаю, что такое смерть. Это что-то противоестественное, ненормальное, неправильное, несправедливое, это то, когда ты перестаешь быть, но и это, я чувствую, еще не все, и я не знаю. Я только знаю, что если все-таки будут расстреливать меня, то мне надо умереть как следует, как подобает советскому человеку и комсомольцу, — это я знаю.
Гремит ключ в замке, раскрывается тяжелая дверь. В косом вечернем солнце я вижу немолодого унтер-офицера в полной боевой выкладке. Он протягивает мне котелок с обеденной похлебкой — мой котелок, из зондерблока. Я стоя съедаю похлебку и гляжу на унтера, который, не закрывая двери, ждет меня.
— Собирайся с вещами, — по-немецки говорит он. Цепляю котелок к поясу.
— Я готов. Выхожу из карцера.
— Прямо, — говорит унтер.
Я иду к перекрестку дорог, и чем ближе, тем непослушнее ноги. Если унтер скажет «направо», то, значит, меня снова водворят в зондерблок: он отсюда с правой стороны; если скажет «налево» — налево дорога уходит к лагерным воротам и дальше на пустырь, — значит, мне будет конец.
Такое ощущение бывает во сне: надо идти или бежать, но ноги, как ватные…
— Налево! — приказывает унтер. Значит, на пустырь…
Мы медленно проходим мимо вахты — я вижу, что солдаты, прекратив галдеж, показывают пальцем на меня, и это почему-то приятно мне, выходим через ворота из лагеря и идем вдоль колючего забора по сухой тропке к пустырю.
И вдруг я вспоминаю, что у меня в кармане нож. Мой самодельный нож, отточенный на куске кирпича и обмотанный тряпкой. Охранники в суматохе даже забыли обыскать меня. Я не буду покорно смотреть в зрачок винтовки, ожидая, когда он выстрелит. Я буду драться. Пусть он убьет меня в драке — это легче. Я успею дотянуться до кармана: руки мои опущены. Только отойдем подальше от ворот.
— Вы расстреливать меня? — не останавливаясь и лишь полуобернув голову, спрашиваю унтера по-немецки. Я знаю, охранники обычно не делают большого секрета из того, что они намереваются расстреливать.
Унтер идет за мной шагах в пяти, в семи. Винтовка у него за плечом. Это мне удобно, может, ударив его ножом, я еще сумею бежать и скрыться.
— Нет, не расстреливать, — слышу я спокойный хрипловатый голос. — Видишь, юноша (Siehst du, Junge), когда ловят пленного, пытавшегося бежать из лагеря, его сажают в зондерблок; а ты бежал из зондерблока. Я веду тебя в тюрьму.
Значит, еще не конец. Пусть тюрьма. Это еще не конец. Я чувствую по голосу немца, что он не обманывает, и мне радостно.
— Направо! — приказывает он.
Мы переходим железнодорожные пути, шагаем вдоль высокой каменной стены и останавливаемся возле окованной железом двери. Унтер трогает белую пуговку звонка. Дверь полурастворяется, а потом распахивается настежь.
Унтер сдает меня здоровенному охраннику с черными петлицами на мундире. Тот расписывается в получении, затем ударом кулака сшибает с моей головы буденовку. Очевидно, в эту тюрьму, как в храм, надо входить с обнаженной головой.
Меня отводят в подвал и запирают в темной, до отказа набитой людьми камере.
Вот я и в тюрьме. Не в бывшей тюрьме, как в Вильнюсе, а в настоящей. Сейчас поздний вечер 17 мая 1943 года. Я стою в совершенно темной, тесной камере, среди совершенно чужих — я не слышу вокруг ни одного русского слова — людей-арестантов, в тюрьме, в польском городе Хелм, оккупированном немцами. Я советский военнопленный, старший сержант Красной Армии, меня хотели расстрелять за то, что я пытался бежать из лагеря, чтобы связаться с партизанами. Неужели это я? Я, которого в детстве дразнили «цыганенком» и «сухим бесом»? Я, мечтавший учиться на литературно-критическом отделении института журналистики? Я, столько раз огорчавший маму своим плохим поведением в школе и радовавший ее и отца отличными отметками?..
Я стою в камере у самой двери, незнакомые нерусские люди тоже стоят, плотно прижатые друг к другу, и вдруг мне становится жутко. Что это за тюрьма? Почему мы здесь стоим? Сколько мы будем так стоять? Что с нами собираются делать?
А может, мы все смертники? Может, на рассвете нас выгонят в тюремный двор и расстреляют? Наверно, это так и есть. Гестаповцы добились моего перевода в тюрьму, чтобы здесь убить меня. Комендант в порыве какого-то малопонятного великодушия сохранил мне жизнь там, в лагере, но здесь, в тюрьме, он уже не хозяин. Здесь командуют гестаповцы. Что же делать?.. Ноют от усталости ноги, ноют плечи, грудь, голова, руки, истоптанные и исхлестанные охранниками. Упираясь спиной в гладкую железную дверь, я съезжаю вниз на корточки и ложусь на каменный пол, вытянувшись в струнку. Деревянные колодки я кладу под голову, буденовку — под правый бок, чтобы не застудить его. Я буду спать, что бы ни случилось, говорю я себе.
Ночью сквозь сон слышу пьяные выкрики гестаповцев, грохот выстрела, крики моих товарищей по камере, но я не пробуждаюсь — не могу пробудиться. Я слышу стон, вздохи, сдавленный шепот и, кажется, молитву, но я сплю. Я смертельно устал. А что такое в конце концов смерть? Люди сами придумывают себе страхи. Смерть — это только прекращение всех мук. Ничего страшного на свете нет. Смерть — это лишь длинный сон, и я больше не боюсь ее.
4
Утром нас гонят в душевую. Приказывают раздеться у одной двери, а выводят после мытья через другую. Я навсегда расстаюсь со своей буденовкой и с ножом. Жалко. Жалко и старенькую, разодранную гимнастерку. Мне кидают в лицо жесткое тюремное белье и тюремную одежду — серую куртку и брюки. Когда заканчиваем одеваться, нас разводят по камерам. Вместе с молодым скуластеньким поляком я попадаю в камеру номер одиннадцать— в «целле эльф» — на третьем этаже.
Как только за нами запирается дверь, старожилы камеры окружают нас.
— Кто ты естэсь? — спрашивают скуластенького. У того на глазах слезы. Он всхлипывает и, жалуясь, рассказывает о себе. Насколько я могу понять, его посадили за то, что он продал кому-то курицу, а это немцами запрещено.
— А, шмукляж! — заключает один из старожилов, тоже молодой поляк, светлоглазый, горбоносый, с красивым, несколько хищным лицом. — А ты? Ты русский? — обращается он ко мне. — За что ты есть арестованный?
Говорю, что я старший сержант и посажен сюда за побег из лагеря.
— О, старший сэржант. Хорошо!.. Естэм старший целли, Тадек. — Он протягивает мне руку. — Ты, старший сэржант, имеешь свое место тут.
Он показывает на свободный кусочек пола возле топчана, накрытого домашним одеялом.
— Ты, шмукляж… — И Тадек что-то говорит быстро и недружелюбно по-польски, я понимаю только, что он отводит скуластенькому место у двери.
Я сажусь к стене. Под потолком оконце с толстой решеткой. Виден лоскуток блеклого голубого неба.
Проходит несколько дней, и я чувствую себя тоже старожилом.
Слева от меня, в углу, пожилой, рыжеватый, с бледным, изможденным лицом пан Владек. Он сносно говорит по-русски. Пан Владек сообщает мне, что он был солдатом царской армии в первую мировую войну, но ему удалось дезертировать. Кажется, он гордится тем, что ему удалось дезертировать. Он желчный, нервный и открыто бранит немцев за то, что они скверно кормят в тюрьме, и бранит партизан, которые, по его словам, удобно устроились в лесу, «жрут швиниву» и не думают освобождать его, пана Владека, из неволи.
По правую сторону от меня — место коренастого человека средних лет. Все его зовут «солте-сом» — старостой. Немцы обвиняют его в том, что он якобы помогал партизанам. Солтес тоже знает русский язык, но разговаривает со мной по-русски изредка и украдкой.
Напротив, у другой стены, вытянув хромую ногу, сидит высокий старик с печальными, всегда красноватыми от слез глазами — Станислав. Он часто вспоминает свою «жону», смотрит на зарешеченный квадратик неба и плачет.
Рядом со Станиславом, ближе к двери, скуластенький «шмукляж»; одно место у той стены занимает железная параша, закрытая крышкой.
В центре камеры на топчане возлегают старший «целли» Тадек и его друг Марьян, тоже молодой парень, белозубый и добродушный на вид; он почему-то постоянно носит на голове носовой платок с завя-оанными уголками.
Примерно через неделю, в середине дня, вдруг распахивается дверь, и мы видим приземистого, с засученными рукавами и с черной волосатой грудью гестаповца. Тадек выкрикивает:
— Achtung!
Мы вскакиваем, вытягиваемся. Гестаповец, оглядез нас мутноватыми глазами, спрашивает по-немецки:
— Русский жив?
— Жив, — отвечаю я.
Гестаповец, помедлив, захлопывает дверь.
— Тут до тебя сидел один русский, — негромко говорит мне пан Владек. — Тоже тикал с лагеря. И тоже так спрашивали: «Жив?»
Он прячет от меня глаза. В камере тягостная тишина.
Станислав вздыхает и, что-то нашептывая и кряхтя, поднимается с места. Вчера вечером на решетку нашего окна присел воробей, маленькая взъерошенная пичуга. Он подпрыгнул, показал нам левое крылышко, потом — правое, чирикнул и улетел. Станислав убежден, что воробья присылала его старуха, чтобы воробей посмотрел, как он тут — ее старый…
— Езус коханый, — шепчет Станислав и, припадая на одну ногу, начинает ковылять по камере.
— Гуляй, Стасю, гуляй, — непонятно для чего говорит пан Владек.
— Езус коханый, — повторяет Станислав, сморкается в темный платок и смотрит выцветшими заплаканными глазками на окошко…
Проходит еще неделя, и в раме двери снова вырастает мрачная фигура гестаповца.
— Русский жив?
— Жив, — отвечаю я.
Ровно неделю спустя вопрос повторяется.
— Жив, — отвечаю я.
Видимо, гестаповцы рассчитывают на то, что я долго не протяну на голодном тюремном пайке. Им, наверно, и невдомек, что поляки, получающие из дому скромные передачи, подкармливают меня.
И в четвертый раз, 17 июня, появляется гестаповец.
— Русский жив? Приготовиться с вещами! — приказывает он и запирает дверь.
Печальны лица моих друзей. Снова тягостное молчание в камере. Тадек достает из изголовья картонную коробку — в ней кусок домашнего пирога и два вареных яйца. Роются в своих узелках солтес, пан Владек, Станислав, скуластенький. Они кладут в коробку хлеб, «ковалэк» сала, сморщенное яблоко. Марьян протягивает все это богатство мне.
— Ешь, старший сэржант.
— Ешь, хлопче, бо идешь грушке пильновать, — говорит пан Владек.
И все они убеждены, что я иду «грушке пильновать» — «стеречь груши», то есть что меня расстреляют и зароют где-то под деревом, под какой-нибудь грушкой. И я сам, пожалуй, думаю так, хотя мысль о том, что меня убьют и зароют, теперь отчего-то не слишком волнует меня.
Я съедаю яйцо, кусочек хлеба и яблоко, остальное в коробке возвращаю Марьяну.
— Почему? — тихо спрашивает он, мой брат.
— Спасибо, я сыт.
Я так люблю их всех в эту минуту! Я прощаюсь с каждым в отдельности, я каждому крепко пожимаю руку.
В последний раз слышу, как вставляется в замочную скважину ключ.
— Russki, raus! (Русский, выходи!) — приказывает гестаповец.
— Прощайте, ребята, — говорю я.
СОПРОТИВЛЕНИЕ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
Грохочут выстрелы. Это расстреливают Алексея Ивановича Муругова и его товарищей. Их расстреливают под открытым небом, под голубым сияющим небом 21 июня 1943 года. Они всего в каких-нибудь пятидесяти метрах от нас, стоящих внутри барака. Они падают мертвые — Алексей Иванович Муругов и его десять товарищей, наших товарищей, евреев, советских военнопленных.
Мы стоим внутри барака — человек семьдесят. Лица белые, почти окаменевшие, чуть дрожащие. Тишина. Но тишина только снаружи, а в сердце, повторяясь, как эхо, еще стучат выстрелы. Грохочут выстрелы. Наши товарищи уже мертвы…
Мы в Австрии, в концентрационном лагере Маутхаузен. Когда четыре дня назад два охранника привели меня из тюрьмы прямо в вагон, который они называли вагоном смертников, и я, очутившись в нем, сказал, что нас везут убивать, мне не поверили. В вагоне были мои друзья и знакомые по зондерблоку (были и незнакомые, доставленные после моего побега), они радостно встретили меня, они думали, что меня уже нет в живых, но они не поверили, что мы в вагоне смертников. Они говорили: это бессмыслица, нас вымыли в бане, нам дали чистое белье и обмундирование; зачем бы немцам это делать, если нас собираются убивать? Но я-то своими ушами слышал, как один из охранников спросил у часового, который прохаживался по платформе вдоль состава: «Где тут вагоны смертников?» — и как тот ответил: «Zwei letzte» («Два последних»). Меня втолкнули в самый последний, а Муругов был в предпоследнем, и я еще жалел, что не могу рассказать ему, как меня поймали и что было потом…
Мы все еще стоим, прислушиваясь к ударам собственного сердца. Наших товарищей уже нет. Их, как и нас, по прибытии в Маутхаузен постригли, побрили, вымыли под горячим душем, переодели в свежее белье, и вот их расстреляли… Зачем же стригли и брили? Зачем везли сюда через три страны?..
За окном, за густыми рядами колючей проволоки, натянутой на каменные столбы с белыми изоляционными катушками, погромыхивает тележка. На ней — что-то, прикрытое брезентом. Тележку, сгибаясь от натуги, тянут двое в пестрой одежде. Они катят ее в ту сторону, где из-за крыши соседнего барака торчит верхушка закопченной трубы с тоненькой струйкой дыма. Внезапно мы все понимаем: это что-то — тела расстрелянных, и их отвозят в крематорий.
Скоро от них останется лишь грудка пепла, серая горка золы… Нет, не так. Не пепел, не зола — они, убитые, уже стали частью нас самих, и, пока бьется наше сердце, они будут жить в нас, в нашей памяти, в нашем сердце.
Тишина… Прощайте, товарищи!
Открывается узкая дверь, входит толстый сутулый человек с сильно развитой нижней челюстью. В руках у него белые прямоугольные тряпицы и коробка с железными номерами. Вслед за ним двое уборщиков втаскивают носилки с одеждой. Они выдают нам куртки, брюки и шапки — мы в одном нижнем белье, — сутулый человек вручает каждому по две тряпицы и по железному номеру. Он объясняет на ломаном русском языке, что тряпицы с намалеванными на них цифрами и красным треугольником мы должны пришить — одну к куртке, над сердцем, другую к брюкам с правой стороны, пониже кармана; жестяной номер с выбитыми на нем теми же цифрами мы обязаны прикрепить проволочкой к левой руке. Это наши документы, и мы должны беречь их, если не хотим вылететь в трубу… Молча принимаемся за работу.
Через полчаса мы готовы. Толкачев щупает свои красные суконные штаны, Затеев ворочает плечами— пиджак ему явно тесен, — Жора Архаров внимательно исследует подкладку голубой куртки: а вдруг там что-нибудь спрятано? На наших спинах — красная масляная полоса, такие же полосы по бокам брюк — вроде коротких лампасов.
— Кто же мы теперь? — озадаченно спрашивает Савостин, мой новый знакомый.
— Клоуны какие-то, — подавленно замечает Жора. В помещение, где мы стоим, вносят два стола и несколько табуретов. На них рассаживаются молчаливые люди, облаченные в гражданскую одежду, но тоже с тряпицами и красными полосами. Они раскладывают перед собой какие-то формуляры. Сутулый приказывает подходить к ним. Вероятно, собираются регистрировать.
Я не ошибаюсь. Мы называем свою фамилию и имя, национальность, год рождения, вероисповедание. Нас спрашивают на исковерканном русском языке, и когда, отвечая на последний вопрос, я говорю, что неверующий, меня не понимают.
— Католикер? Протестант? Православный? Магометанец? — пытаясь разобраться, торопливо произносит тихий, словно пришибленный человек.
— Атеист, — говорю я, но он все равно не понимает. — Gottlos, — догадываюсь наконец сказать по-немецки.
— Ach, Gottlos! — восклицает человек и пристально глядит мне в глаза. — И ты не маешь… как это… страха?
— Почему?
— Как это?.. Ад? Да?.. Попадать ад?
— Нет, ада нет, — уверяю я его.
Когда отхожу от стола, кое-кто из товарищей пеняет мне: для чего нужно декларировать тут свои убеждения, лучше уж так, записаться каким-нибудь православным, магометанином или даже католикером, вроде Коли Янсена. Черт с ними! А то, говорят, в концлагере верующих только расстреливают, а безбожников обязательно вешают. Впрочем, Архаров и Савостин тоже записались неверующими. Они тоже не знали.
После регистрации нас выгоняют во двор, мощенный крупным булыжником. Печет солнце. Я и Толкачев подходим к железной сетке, протянутой от угла нашего барака к углу соседнего. У замкнутых проволочных ворот сидит человек с маленькими свирепыми глазами.
За сеткой видны ряды зеленых стандартных бараков и высокая каменная стена — она тоже оторочена колючкой, прикрепленной к изоляционным катушкам. Справа над барачными крышами возвышается сторожевая башня, из ее открытого окна глядит тупое рыло пулемета.
— Вот, Леша, — говорю я, — отсюда совсем не уйдешь.
— Да, — отвечает он. — И Алексея Ивановича тоже нет…
На крыльце нашего барака появляется кряжистый седоватый немец.
— Antreten (Строиться)!
На рукаве его темного френча белая нашивка со словом «Blockältesler» («Старшина блока»). На груди, как и у нас, белая матерчатая полоска с красным треугольником. Только номер у него четырехзначный, а у нас — пятизначный.
Мы строимся. Старшина приказывает подравняться, проходит мимо, поглядывая на наши номера, потом заставляет поворачиваться налево и направо, кругом, стоять смирно и вольно. Убедившись, что мы хорошо понимаем его команды, он требует снять шапки и надеть их вновь, снять и надеть. Наконец и эту команду — «Mützen ab» и «Mützen auf» — как будто усваиваем.
Где-то внизу, у лагерной стены, раздается мелодичный удар колокола. Человек со свирепыми глазками, распахнув ворота, становится в наш строй. Из барака выбегают уборщики, какой-то толстяк с папкой под мышкой. Они тоже подстраиваются к нем. Старшина командует: «Stillgestanden!» («Стоять смирно!»), — потом шагает к раскрытым воротам — оттуда, взбираясь по ступеням, показывается серо-зеленая фигура эсэсовца.
Эсэсовец, выслушав рапорт старшины, пересчитывает нас. Примерно через полчаса во двор вносят несколько закрытых железных бачков, и нам выдают по миске горячей брюквенной похлебки.
2
От обеда и до вечера, все еще подавленные расстрелом товарищей, мы продолжаем тихо бродить в загородке под палящими лучами солнца. Когда тень от соседнего барака добирается до середины двора, мы вновь слышим мелодичный удар колокола и по команде старшины опять становимся на проверку.
Вся процедура повторяется: подравниваемся, глядим прямо, снимаем шапки; старшина рапортует эсэсовцу, именуя нас «хефтлингами».
Вскоре в ворота вступает колонна до предела худых, запыленных с ног до головы людей. Все они в полосатых шапках, в пестрой одежде с номерами, в деревянных колодках. Колонна растекается по двору, и вдруг кто-то сзади хватает меня за рукав. Я оборачиваюсь и не верю своим глазам. Передо мной Ираклий, изможденный, черный, состарившийся Ираклий.
Мне кажется, что это — злое наваждение. Я трясу головой. Я вижу в его глубоко запавших, затравленных глазах слезы.
— Думал, что хоть ты не попадешь сюда, — шепчет он.
— Так здесь плохо? Он кивает.
— А где остальные наши?
— Частью расстреляны, частью еще работают.
— А Худяков?
— Пока жив.
— Виктор?
— Жив еще…
Снова приказывают строиться. Я слышу вокруг французскую, польскую, немецкую и русскую речь — все вперемешку.
— Anlrefen! — резко повторяет старшина и достает из-за спины резиновую палку.
— Бьют?
Ираклий только кивает.
Друг за другом подходим к раскрытому окну. Сутулый сверху вниз сует нам по куску хлеба и кружочку фиолетовой колбасы. От окна сворачиваем к железным бачкам, поставленным в центре двора, и получаем по маленькому черпаку кофе.
Я нагоняю Ираклия.
— Кто этот раздатчик?
Ираклий, не ответив, шагает в дальний угол загородки и садится на камни.
— Почему ты такой бледный?
— Я месяц провел в тюрьме, немного ослаб, — отвечаю я.
— Бас завтра погонят на работу?
— Не знаю. Пока ничего не объявляли.
— Тебя убьют в первый же день, — быстро шепчет он. — Тебе нельзя сейчас на работу. Тебя убьют.
— Почему?
— Слабых убивают сразу. Тебе нельзя. Надо что-то делать.
Он даже не ест.
— Ты все-таки ешь…
Он выпивает кофе, а хлеб и колбасу кладет в котелок. Я принимаюсь за хлеб.
— Колбасу не трогай, — предупреждает он. — Может, выменяем брюквы.
Он ищет кого-то глазами. Я тоже: мне хочется побыстрее увидеть Худякова и Виктора.
— Кого расстреляли, Ираклий? Когда?
— В конце марта. Большую группу. Ребята пытались резать стену вагона, но не успели. Их накрыли. Всех потом расстреляли.
— А Зимодра, Костюшин, Типот?
— Они были в другом вагоне, пока живы. Ираклий отламывает хлеб маленькими кусочками и старательно пережевывает, как старик. До нас долетает сиплый крик сутулого — он высовывается наполовину из окна.
— Кто он?
— Это штубовой, чех по национальности, но редкая скотина. Сами чехи-заключенные ненавидят его. Бывший адвокат, — негромко говорит Ираклий. — А старшина блока, блоковой, как мы его зовем, немец, — кажется, социал-демократ — Штумпф. Зверь, но с причудами. Писарь, толстый такой — заметил? — поляк Проске, профессор-химик, бывает ничего, но временами тоже звереет… Подонки, выжившие на костях других, — шепчет Ираклий и поспешно добавляет: — Поменьше попадайся им на глаза… Но что делать с тобой?
Он опять ищет взглядом кого-то.
— Игнат! — вдруг выкрикивает он и поднимается. — Игнат, возьми две наши колбасы.
Я встаю и вижу Зимодру. Он окружен группой товарищей, лица которых будто знакомы. Все просят его о чем-то. Зимодра сильно осунулся, потемнел, но глаза, как и прежде, смелые, с отчаянным холодком.
Ираклий забирает мою колбасу, прикладывает к своей и через головы протягивает Зимодре.
— Обождите, ребята, — медленно говорит Зимодра. — А если засыплюсь?
Взгляд его падает на меня, он кивает так, словно мы расстались вчера.
— Ладно, давай, — говорит он Ираклию. — Попытаю счастья… Ты что-то очень бледный. Болел?
— В тюрьме сидел, — отвечаю я.
— Это плохо. Плохо. — Спрятав котелок с колбасой под куртку, Зимодра исчезает в толпе.
Мы с Ираклием находим Виктора — его лицо отекло, а шея стала тонкой, как у ребенка; разыскиваем Худякова — меня кидает в дрожь, когда я вижу его усохшие, узенькие плечи; Костюшина — черного, печального; маленького, сгорбленного Типота…
Плохи, видно, наши дела… Мы направляемся снова в дальний угол двора. Ираклий рассказывает, что на работе бьют. Бьют палками, черенками лопат, кирками, ломами. Бьют уголовники-надсмотрщики, бьют и эсэсовцы-командофюреры. Бьют и убивают не только на работе, но иногда и в бараке, на блоке, как здесь выражаются…
Перед отбоем нас загоняют в спальную комнату барака, в «шлафзал». Тут по всему полу расстелены тощие тюфячки. Выстраиваемся в несколько рядов лицом друг к другу, раздеваемся, затем по команде сутулого штубового: «Ab!» — ложимся. Мы почти падаем, чтобы успеть занять место: на каждом тюфячке должны поместиться четверо. Укладываемся впритирку, свернутую одежду убираем под голову.
Ираклий возвращает мне фиолетовый кружочек колбасы. Сегодня Зимодре не удалось прорваться в общий лагерь, где можно выменять у заключенных иностранцев хлеб или брюквенную похлебку — тут некоторые иностранцы получают посылки и не едят лагерной баланды… Ираклий огорчен. Я не очень. Что-то будет с нами завтра?
3
Нас, новичков, на работу пока не посылают. Мы проходим «карантин». И весь наш барак — по-здешнему, восемнадцатый блок — считается почему-то карантином.
Мы встаем, как и все, в половине седьмого, умываемся и получаем во дворе кофе. Затем старшина блока Штумпф приказывает строиться. Мы, новенькие, становимся своей группой, старожилы — своей; точнее, они выстраиваются в колонну по рабочим командам: политруки, мои давние товарищи, образуют так называемую баукомандо-айнс, советские военнопленные, доставленные сюда еще осенью 1941 года, — команду каменотесов, часть иностранцев, размещенных на нашем блоке, — команду чернорабочих каменоломни.
После их ухода и утренней проверки нас на короткое время распускают. Мы сидим на камнях, прогуливаемся или издали через окно наблюдаем, как завтракает штубовой. Скоро мы снова видим кряжистую фигуру Штумпфа. Снова — «Antreten!». Под его водительством мы маршируем, бегаем, ходим гусиным шагом, тренируемся в исполнении различных команд, особенно в снимании и надевании шапки…
В наше первое маутхаузенское воскресенье, знойным ярким утром, Зимодра знакомит меня с одним из старых военнопленных. Это невысокого роста светлоглазый человек с кривым носом. Его зовут Леонид Дичко. Он работает в команде каменотесов, а по вечерам делает уборку в комнате, которую занимают Штумпф и писарь Проске. Дичко — лейтенант, он хорошо понимает по-немецки, он серьезен и держится с достоинством. Штумпф почему-то уважает его.
— Где ты был в тюрьме? — спрашивает Дичко.
— В Польше, в городе Хелм.
— За побег?.. И оттуда в Маутхаузен?
— Он еще тиф перенес до этого, — говорит Зимодра. — Угробят завтра парня, в момент.
— Ваша группа пойдет завтра на работу, — говорит Дичко, — но я попробую потолковать со Штумпфом, может, удастся придержать тебя некоторое время на блоке, уборщиком каким-нибудь… Ты знаешь немецкий?
— Да, но я не хотел бы…
— Тогда будет капут, милый. А что зазорного в том, что ты побудешь уборщиком?
— Хорошо. Если это так, — я согласен. Дичко усмехается.
— Согласен… Дай бог, чтобы Штумпф согласился.
— А Смольянинова нельзя подключить? — спрашивает Зимодра и поясняет мне: — Тут вечерами приходит на блок один художник-академик, бывший эмигрант Смольянинов, он пишет картины для коменданта лагеря…
— Со Смольяниновым я тоже поговорю, думаю, он не откажет, — отвечает Дичко. — Ну, пока.
Он уходит в барак, а Зимодра по секрету сообщает мне, что Дичко хранит орден Красного Знамени, который ему, Зимодре, удалось незаметно протащить в лагерь.
— Тебя же могли повесить, Игнат.
— И Дичко могут повесить. В Маутхаузене это запросто…
Я горячо благодарю Зимодру за поддержку.
— Ты погоди, погоди, — чуть смущается он. — Еще ничего не сделано. Как там еще блоковой, шут его знает. У него всякие бывают заскоки: то зверь, то вроде н? человека смахивает.
— Важно, что мы на него не смахиваем.
— Оно, конечно, — улыбается Зимодра. — Самое важное в войсках — высокий моральный дух… Однако вопрос наполнения желудка тоже существен, а посему я займусь небольшой рекогносцировкой… По-позднее увидимся.
Он плывущей походкой направляется к воротам, возле которых сидит человек со свирепыми глазками. Я вижу, что Зимодра пытается о чем-то договориться с ним и что тот — он из числа старых военнопленных, его зовут Володей, — что этот Володя, кажется, торгуется с Зимодрой.
Я разыскиваю Толкачева и говорю, что нашу группу завтра погонят на работу. Ребята хмуро молчат: они тоже достаточно наслышаны о том, какая здесь, в концлагере Маутхаузен, работа.
4
Двор пустеет. Расходятся после утренней проверки те немногие, кто остается на блоке. Уборщики — мне это видно с улицы через распахнутые окна — начинают натирать полы в комнатах. Я занимаю свой пост у ворот вместо свирепого Володи, который сегодня отправился с командой каменотесов.
Сегодня не жарко. Небо затянуто легкими облаками. Солнце выглянет на секунду, брызнет горячим светом и снова прячется в белых барашках, прыгает от облачка к облачку, плывет за тонкой пушистой пеленой светлым диском.
Нынче тревожный день. Товарищи из моей группы работают там, за лагерной стеной. У меня такое чувство, будто они воюют и им приходится очень плохо: они воюют безоружные, окруженные врагом, они опять пытаются прорваться сквозь вражеское кольцо.
А я в тылу, пока в тылу. У меня передышка. Потом я тоже пойду туда, я знаю…
Я стою у замкнутых проволочных ворот. Штумпф сам объяснил мне мои обязанности, и одна из них — открывать ворота перед эсэсовцами…
Я открываю. По каменным ступеням поднимается приземистый, с болезненным лицом эсэсовец-блокфюрер.
Он поднимается, не сводя с меня глаз. У него тяжелый и какой-то липкий взгляд. Поравнявшись со мной, он еще некоторое время молча озирает меня, словно чего-то ждет. Я смотрю на него.
— Что, недавно тут? — спрашивает он.
— Недавно.
— За что попал?
— За побег.
— Ну, отсюда ты уже не убежишь, мой дорогой друг (Mein lieber Freund), — злорадно произносит эсэсовец и, гремя подковками, шагает к бараку…
Я стою. Я слышу, как внизу, в общем лагере, раздается крик «Блокшрайбер!».
— Блокшрайбер! — кричу я, повернувшись к открытым окнам.
Это тоже моя обязанность — передавать на блок команды, которые подаются в общем лагере.
Писарь Проске, оплывший от жира, в широченных штанах, проносится мимо меня, на ходу вытирая вспотевшую лысину.
Он возвращается минут через сорок, кроткий, с умиротворенными глазками.
— Ты всегда так делай, — говорит он мне по-русски и кивает головой. — Так громко кричи и потом растворяй брому, эти ворота, как ты сегодня делал. Понимаешь?
Он задерживает на мне голубенькие глазки, глазки-цветочки. Очевидно, он сейчас в хорошем расположении духа.
— Ты служил где? — подумав, спрашивает он с рассеянной улыбочкой на круглом, украшенном тройным подбородком лице.
Я понимаю, что ему хочется поговорить со свежим в лагере человеком — просто так, по-людски поговорить.
Отвечаю, что в последнее время я служил в штабе дивизии.
Проске кивает. У него на розовой шее пониже затылка шрам крестиком: видимо, вырезали лишний жир.
Он кивает, и розовая кожа натягивается, и шрам чуть разглаживается.
— И я служил в штабе, — сообщает он. — Я служил в штабе корпуса. Понимаешь?
— Понимаю.
— Я был майор. Понимаешь?
— Понимаю.
Проске кивает. Шрам разглаживается. Он еще раз взглядывает на меня голубенькими цветочками-глазками и, немножко оступясь на неровностях булыжника, идет в барак.
Тоже экземпляр, думаю я. Обжирается, наверно. А ведь и он числится политическим заключенным…
По-видимому, для богатых людей в Маутхаузене — один режим, а для бедноты — другой.
Солнце, прорвавшись в прогалину облаков, окатывает двор жарким светом… Ребята воюют. Они воюют за жизнь. Окружение продолжается, война продолжается.
Где-то за тысячу километров отсюда громыхает фронт. Там гибнут и враги и наши — здесь гибнут только наши.
Неужели они все-таки дойдут до нас, придут и освободят? Когда это будет? Уцелеем ли мы до той поры? Неужели возможно такое счастье?
— Кострегер! — доносится снизу. «Кострегер» — это доставщики еды. Странное слово, думаю я. — Кострегер! Кострегер!
— Кострегер! — кричу я.
Из барака выходит штубовой с двумя уборщиками. Они отправляются за обедом. Мелко постукивают колодки по камням.
Холодной тушей проплывает мимо фигура штубового. Меня он не замечает: он меня сразу невзлюбил, я это чувствую…
Хочется есть.
Я ощущаю, как болезненно сжимается мой желудок. Есть, есть! Вот уже почти год, как непрерывно хочется есть.
Голод, все время голод. Сегодня почему-то особенно хочется есть.
Брюквы бы этой самой побольше бы! Я бы съел три, нет, четыре котелка этой брюквы — горячей, нарубленной тонкими кусочками и плавающей в желтоватой дымящейся воде.
Только приносят бачок с похлебкой — начиняется дневная проверка.
Потом штубовой берет круглый блестящий черпак. К моему удивлению и радости, он наливает мне, как и уборщикам, двойную порцию. Я ем дрожа, словно голодный пес.
Я съел бы четыре таких порции и все равно, наверно, не наелся бы. Я съедаю половину, а остальное, закрыз котелок крышкой, прячу под табурет.
Вечером, когда товарищи, запыленные, усталые и мрачные, возвращаются с работы, я разыскиваю Худякова и украдкой отдаю ему остаток обеденной похлебки.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
1
Через две недели поздним воскресным вечером писарь Проске объявляет, что «ютро» я иду на работу. Я не удивляюсь, воспринимаю это как должное. Удивляет меня другое: я делал все, что мог, чтобы помочь товарищам, — иногда выпускал по одному за ворота, не препятствовал выгодному для нас обмену колбасы на суп через проволоку, — и старшина Штумпф, которому, несомненно, доносили на меня, смотрел на мои «прегрешения» сквозь пальцы…
И вот я шагаю в колонне заключенных по лагерной площади — аппельплацу. Солнце еще чуть золотит крыши бараков, воздух пока прохладен, и четко постукивают по асфальту деревянные подошвы. Я иду в одном ряду с Затеевым, Толкачевым, Жорой Архаровым и Савостиным. Мы соблюдаем строгое равнение. Мы держим голову прямо, как на параде. Мы выпячиваем костлявую грудь и ни за что не собьемся с ноги.
Стучат по асфальту колодки, розовеют каменные башни лагерных ворот.
— Линкс, цво, трай, фиы! — звучит зычный голос нашего надсмотрщика Пауля. — Мютцен… аб!
Хлопают, опускаясь к бедру, шапки. Руки вытягиваются по швам. Голова застыла. Глаза не мигают. Ноги, будто какие-то механические палки, поочередно выбрасываются вперед.
— Лиикс, цво, трай, фиы…
Первый ряд достигает черты ворот, и вновь слышится зычный голос:
— Баукомандо-цао… фуфундзибцихь хефтлингэ! Слева и справа от нас стоят эсэсовцы и считают.
Неконец ворота позади. Пауль разрешает надеть шапки.
Проходим небольшой кусок асфальтированной дороги и поворачиваем направо. Останавливаемся на площадке в тени старых каштанов. На краю площадки — зеленая будка. Пауль отпирает замок, открывает дверь и приказывает брать инструмент.
— Aber schneller (Поживее)! — орет он.
Мы снимаем куртки, вооружаемся лопатами, кирками и бежим по склону. Немедленно начинаем перебрасывать землю с места на место.
— Los, los! — покрикивает Пауль. Мы стараемся вовсю.
— Tempo!
Я не знаю, зачем и для чего мы ворошим эту каменистую почву, — возможно, здесь потом будут строиться бараки, — но мне уже известно от товарищей, что здешняя работа — это прежде всего медленное и верное выматывание сил.
Пауль отворачивается от нас. Мы тотчас замедляем движение лопат. Он снова обращает к нам свою багровую физиономию — мы мгновенно набавляем скорость. Он хитер и понимает наши уловки. Мы тоже не просты и зорко следим за ним… Разве это не война?
— Tempo, los! — кричит Пауль и, топая сапогами, бежит в противоположный конец участка.
Я слышу удары резиновой палки и грубую ругеиь. Товарищи рядом со мной набирают по пол-лопаты земли, и я набираю неполную лопату.
— Los, tempo! — доносится крик Пауля, потом опять раздается топот ног, мы опять стараемся изо всей мочи, но он хлещет кого-то из нас.
Он носится по участку, как разъяренный бык, — глаза налиты кровью, дыхание с присвистом. Он бьет резиной по полусогнутым спинам, стоит, раздувая ноздри и поводя головой, затем, наметив жертву, снова несется, топая сапожищами.
Багровый, со слюнявым ртом и покрасневшими белками глаз, Пауль должен вымотать наши силы, а мы должны сохранить их до вечера, потому что, если кто-нибудь из нас ослабеет и упадет, в барак он не вернется. Пауль добьет его молотом — ребята мне рассказывали. Так погибли уже многие из нашей команды и гибнут ежедневно.
— Schneller, schneller (Быстрей, быстрей)! — орет Пауль и, вероятно, устав сам, поднимается к зеленой будке.
Мы остаемся с его помощником, мрачноватым чернявеньким уголовником по прозвищу Цыган.
— Los! — тонким голосом выкрикивает Цыган и колотит нас резиновой палкой.
Он, по свидетельству Жоры, лентяй. Он тоже не любит работать. Он кричит и дерется с четверть часа, потом, отойдя к железной вагонетке-лёре, на которой перевозят землю, закуривает. И он посматривает на зеленую будку — там в это время Пауль подкрепляется бутербродами.
Мы круто сбавляем темп.
— Ну как? — спрашивает Жора.
— Пока ничего, — отвечаю я, хотя руки и поясница уже здорово ноют.
— Это еще цветики, — говорит он, — ягодки будут после обеда… Не останавливайся, не останавливайся!
— Los, los! — издали покрикивает Цыган.
Жора от меня слева, справа — Савостин, за ним Толкачев. Слева от Жоры — Затеев. Мы стоим цепью и перебрасываем друг другу землю. Мы перемещаем ее справа налево. Крайним в нашем ряду работает веснушчатый парень — младший политрук из Орла. Он все время молчит и о чем-то думает. Раза два я вижу на его глазах слезы.
Пауль не показывается почти до обеда. Пользуясь этим, мы набираем по четверть лопаты.
— Давайте не кантовать, — вдруг резким голосом произносит веснушчатый.
— Что, тебя дурная муха укусила? — спрашивает Толкачев.
Веснушчатый смотрит на него странным взглядом и не отвечает.
— Tempo! — выкрикивает Цыган и бросается к нам.
Я успеваю заметить, что из будки выходят Пауль и высокий стройный эсэсовец.
— Давайте не кантовать! — опять резко говорит веснушчатый.
— Очумел парень, — бормочет Жора.
Цыган подскакивает к веснушчатому и сильно бьет его резиной по голове.
— Работать! — вдруг во всю силу кричит парень. Цыган, не понимая, снова бьет его по голове. Тот, странно улыбнувшись, начинает рыть землю и бросать ее в разные стороны.
— Работать! — радостно повторяет он и все быстрее роет и разбрасывает землю.
Цыган опять опускает на голову парня резину. Парень ульбается все шире и ярче и все неистовее роет и разбрасывает землю. Подходят Пауль и эсэсовец — командофюрер. Мы жмем на лопаты. Парень у нас все время на виду. Пауль заботливо заглядывает в его лицо и поднимает с земли кирку.
— Работать! — в третий раз безумно восклицает парень.
Холодные мурашки ползут по моей спине. Пауль, размахнувшись, ударяет парня по правой руке киркой плашмя и снова заботливо заглядывает в лицо. Парень, поморщившись — его правая рука повисает, как плеть, — начинает кланяться.
Он хватает лопату левой рукой и, помогая себе коленом, продолжает быстро копать землю.
— Да здравствует Гитлер! — кричит он.
Пауль подбирает молот, лежавший на груде камней, и сверху вниз бьет парня по голове. Эсэсовец расстегивает кобуру револьвера…
Мы налегаем на лопаты. Мы лихорадочно перебрасываем землю. Мы больше не смеем поднять глаз… Хлопает выстрел. Потом слышится стрекочущий свисток.
— Обед, — хрипло говорит голос Жоры.
2
Мы едим брюквенную похлебку, сидя в тени под каштанами. Мы угрюмо молчим. Жара усиливается. Духота. А впереди еще пять часов беспрерывной гонки, побоев и, вероятно, новых убийств…
Как странно, что до войны мы почти ничего не знали о фашистских концлагерях: не было ни специальных книг, ни фильмов, за исключением «Болотных солдат». Надо бы кричать еще в ту пору, что такое Маутхаузен и Бухенвальд. Надо было сделать так, чтобы каждый человек на земле узнал хотя бы сотую долю того, что творится здесь, в Маутхаузене. И тогда злее дрались бы наши бойцы на фронте.
Я смотрю на лица товарищей. Все худые, темные, строгие — не лица, а лики. Многие сидят с закрытыми глазами, и все молчат: берегут силы. Это мы теперь болотные солдаты.
Почему болотные? Мы земляные солдаты. И не земляные.
Мы просто солдаты. Мы просто люди, которым необходимо выстоять. Стрекочет свисток.
— Antreten! (Строиться!)
Выстраиваемся в две шеренги. Пауль, покусывая и часто облизывая губы, словно его изнутри печет жар, слегка наклонив бычью голову, медленно движется вдоль строя, присматриваясь к каждому из нас.
— Komm her (слышится: «Ко мне»), — остановившись, ласково подзывает он кого-то.
Из строя выступает седой согбенный югослав — у него на красном треугольнике, знаке политического заключенного, — буква «о». Пауль пальцем указывает место, где тот должен стать. Седой югослав поворачивается лицом к нам. Его опущенные жилистые руки чуть дрожат.
— Ко мне, — снова ласково произносит Пауль. — Ду, ДУ.
— Их? — будто не веря, спрашивает пожилой француз в темных роговых очках. Он наискосок от меня, в первом ряду.
— Яа, яа, — подтверждает Пауль. — Ду. Француз пожимает плечами и не трогается с места.
— Ду, ду, — говорит Пауль и вдруг прикрикивает: — Los!
Пожилой француз — у него на красном треугольнике буква «F»— быстро встает рядом с югославом.
— Ко мне, — далее вкрадчиво зовет Пауль. Выходит еще один пожилой человек с буквой «F» — красивый худощавый брюнет. Его красный треугольник перекрещивается с желтым, так что образуется шестиконечная звезда с тремя красными и тремя желтыми лучами, — это знак политзаключенного еврея.
— Ко мне, — произносит Пауль.
Рядом с французским евреем встает один из нашей группы — Федя, еще сравнительно молодой, крепкий, но занемогший. На нем нет лица, он морщится от боли и держится за живот.
— Ко мне…
— Ко мне…
Шестеро стоят против нас. Шесть наших товарищей. Им будет плохо.
Все это понимают: и мы и они. Эсэсовец-командофюрер, похлопывая себя по бедру перчатками, задумчиво курит сигарету.
— Марш, марш! — орет на нас Пауль.
Мы бежим вниз к своим лопатам и немедля принимаемся за работу.
Шестеро вместе с Паулем спускаются к большой груде камней.
— Tempo! — кричит Цыган и, подражая Паулю, начинает носиться по площадке. — Tempo! Tempo!
Щелкает его резина, опускаясь на наши плечи. Срывается на визг голос. Черной обезьяной мечется перед глазами.
— Los, tempo! Los, tempo!
Внезапно Цыган замирает и, открыв рот, глядит на то, как пожилой француз силится поднять тяжелый камень… Француз надрывается, он держит камень у пояса, он делает судорожные движения, чтобы взгромоздить его на себя. Он дергается одним боком, руки его натягиваются, как струны, а камень неподвижен.
Цыган высовывает кончик языка. В его черных светящихся глазах восторг.
Француз дергается одним боком. Пауль, спрятав руки за спину, наблюдает, покусывая и мусоля губы. Пятеро в сопровождении эсэсовца возвращаются к груде камней: они уже отнесли наверх по ноше. Француз, блестя очками, что-то говорит им, — наверно, просит помочь.
Федя и пожилой еврей протягивают руки к камню, который держит француз; Пауль стремительно выхватывает из-за спины молоток и бьет по рукам.
Француз, уронив камень, вскрикивает: очевидно, отдавил ноги…
Я ощущаю звенящий удар — это достает меня резиной Цыган. Не останавливаясь, продолжаю перебрасывать землю. Загребаю полную лопату и кидаю влево, к Жоре. В мою кучу кидает Савостин. Я бросаю в кучу Жоры.
Еще звенящий удар и еще… Проклятая черная обезьяна!
Цыган ругается, но тут же отворачивается от меня.
Не прекращая работы, вновь. поднимаю голову. Пятеро, сгибаясь под тяжестью, плетутся в гору. Француз, опустившись на колени, обнимает свой камень.
— Fressen (Жрать)! — приказывает Пауль. Француз, коснувшись камня губами, делает вид, что ест его. Эсэсовец, широко расставив ноги, спокойно глядит на француза. И Цыган глядит, нетерпеливо ерзая на месте.
— Friß ihn auf! — вопит Пауль.
С ума сошел, проклятый выродок!.. Может, лучше не смотреть? Нет, надо смотреть! Надо, надо! Это легче всего — не смотреть. Смотреть надо — надо все видеть, все, все запомнить!
— Fressen! — осатанело кричит Пауль, пикает француза сапогом и ударяет по затылку.
Эсэсовец с широко расставленными ногами чуть покачивается взад и вперед — высокий, стройный, белокурый дьявол.
Цыган застывает, как собака на стойке.
— Fressen! — ярится Пауль.
И француз ест камень. Я вижу светлую кровь на камне…
Смотреть! Смотреть! Запоминать!
И вдруг француз встает. Бледный, с окровавленным ртом, дрожащий, с трясущимися руками. Он уже без очков… Он щурит глаза. Он снимает полосатую шапку и прикладывает ее к красному рту.
Эсэсовец перестает раскачиваться.
Пауль втягивает голову в плечи и, приседая, тянется к молоту.
Цыган привстает на цыпочки. Смотреть! Запоминать!
Француз круто поворачивается и, пошатываясь, идет к колючей проволоке. Там эсэсовец-автоматчик, охраняющий рабочую зону оцепления. Француз поднимает в трясущейся руке полосатую шапку с кровавым пятном и идет прямо на часового… Гулко строчит автомат.
Мы перебрасываем землю. Мы перемещаем ее справа налево. Савостин бросает мне, я — Жоре.
— Fluchtversuch! (Попытка к бегству!) — орет Пауль. Он, эсэсовец-командофюрер и Цыган кидаются к проволоке. Я больше не вижу их. Они сейчас за нашей спиной.
Мы продолжаем перебрасывать землю. Мы стараемся и спешим. Пахнет дымом и кровью.
— Tempo, los! — опять появляясь, кричит Цыган. Пятеро нагружаются камнями. Эсэсовец прячет в футляр маленький фотоаппарат. Пауль, мусоля губы, приглядывается к Феде.
У меня деревенеют от усталости руки, ноет спина, но это пустяки… Неужели очередь Феди?
Федя сравнительно легко взваливает на плечо камень. Пауль переводит слезящиеся глаза на пожилого брюнета — французского еврея. Тот тоже пока справляется. А седой югослав уже начинает выбиваться из сил — ноги его подкашиваются и заплетаются.
Цыган бьет резиной Толкачева, потом, перебежав, ударяет Савостина, потом опять достается мне, потом он хлещет Жору. Пересчитывает всех подряд.
— Tempo! — повизгивает он. — Tempo! Tempo!
Поносившись перед нами, он снова застывает в собачьей стойке. Мы немедленно сбавляем темп. Я опять поднимаю, глаза.
Пауль ведет какие-то переговоры с седым югославом, энергично жестикулируя и показывая на колючую проволоку. Югослав отрицательно качает головой. Пауль вдруг срывает с него шапку и отшвыривает к часовому-автоматчику.
— Gehe (Иди)! — приказывает Пауль.
Югослав, не соглашаясь, все быстрее качает седой головой.
— Los (Пошел)! — кричит Пауль и хватает кирку… Нет, не могу смотреть. Больше не могу смотреть!.. Строчит автомат. Тянет дымом и кровью. Мы перебрасываем землю. Справа-налево. Справа-налево.
— Tempo, los! Tempo, los! Справа-налево. Справа-налево. Не могу смотреть. Не могу! Опять грохочет автомат.
Не могу!
— Девай, давай! — хрипит Савостин.
— Не останавливайся! — хрипит Жора.
Еще трижды стучит автомат… Справа-налево. Справа-налево… Раздается свисток.
— Конец, — выдыхает кто-то рядом со мной совсем беззвучно.
3
Мне кажется иногда, что все это ненастоящее. И Пауль, и Цыган, и эсэсовцы, и весь Маутхаузен. Просто какой-то злой волшебник усыпил меня и мучает немыслимыми кошмарами. Гнусный, злой старичок-волшебник. Или, может быть, я тяжело болен?
Может быть, это все галлюцинация? Тифозный бред?
…Пауль ломает рельсами людей. Оказывается, человеческое тело, переламываясь пополам, издает такой звук, как будто ломается сухая доска: слышится сухой короткий треск.
Пауль кладет человека на землю, помещая его шею на рельс. Пауль упирается коленом в грудь человека и бьет его кулаком по лбу…
Пауль очень любит рельсы. Он помешался на рельсах. Он предлагает человеку поцеловать рельс и железным ломиком пробивает ему голову. Пауль приказывает взяться за руки и идти по рельсам на часового, Пауль неистощим в своих садистских выдумках…
Больной кровавый бред. Ад наяву…
Выстоять. Выстоять, несмотря ни на что! Выстоять хотя бы для того, чтобы потом рассказать о Пауле…
Ясный июльский вечер. Получив ужин, я ожидаю товарищей в дальнем углу двора. Они собирают пять порций колбасы и вручают мне, я добавляю свою, заворачиваю все в чистую тряпку и прячу за пазуху. Затем съедаю хлеб, выпиваю кофе и отдаю пустой котелок на хранение Савостину. Когда штубовой разрешает входить в шлафзал, я захожу первым и, обогнув сложенные в высокую кучу матрацы, быстро выскакиваю через открытое окно в соседний двор.
Привратник девятнадцатого блока — мой приятель, его зовут Ян.
— Знув (Опять)?
— Так, — говорю я. — Вечер добрый, Ян.
— Добрый. — Он выпускает меня через ворота в общий лагерь.
Бегу к седьмому блоку. Там живут немецкие цыгане, посаженные в Маутхаузен за отказ от работы. Нахожу немолодого жгуче-черного человека по имени Кики, здороваюсь с ним.
— Abend (Добрый вечер)! — отвечает он.
— Хлеб есть? — спрашиваю я по-немецки.
— Колбаса есть? — спрашивает он.
— Четыре порции, — говорю я. — Давай буханку.
Кики крутит пальцем около виска. Это значит, что я спятил.
— Сколько? — справляюсь я.
— Семь порций. — Кики ворочает желтыми белками глаз, пытаясь меня надуть — без этого он не может.
Теперь я кручу пальцем около своего виска: спятил, конечно, не я, а он.
— Сколько же? — равнодушно осведомляется Кики.
— Пять.
— Шесть, — торгуется он.
— Пять.
— Шесть, — повторяет он. — Кроме того, ты получишь сигарету.
— Две сигареты.
— Хорошо, — соглашается Кики и делает знак, чтобы я следовал за ним.
Мы заходим в полутемную умывальную — вашраум — и препираемся еще минуты две: Кики желает, чтобы я сперва отдал колбасу, и тогда он даст мне хлеб; я хочу, чтобы было наоборот — взять буханку хлеба, две сигареты и только тогда передать ему колбасу. Наконец я прячу хлеб под куртку, сигарету — в нагрудный карман, вторую сигарету Кики обещает отдать после (тоже попытка сплутовать), — и мы прощаемся, оба довольные.
— До свидания, старый мошенник, — говорю я.
— До завтра.
Мы с ним встречаемся не первый раз.
Я бегу переулками к своему блоку. У ворот снова стоит свирепый Володя. Я сую в его кулак сигарету и беспрепятственно проникаю во двор.
— Ужо свернут тебе шею, — ворчит он, озираясь.
Перед входом в барак я снимаю деревянные башмаки и, стараясь не привлечь к себе внимания штубового, на цыпочках пробегаю в шлафзал. Друзья ждут меня. При моем появлении их лица веселеют… Завтра перед работой мы съедим по куску хлеба, а это означает: завтра мы выдержим гонку. Завтра мы выстоим…
Мы лежим на жестких матрацах и вполголоса беседуем. Вот уже месяц, как мы в Маутхаузене. Политруков сюда больше не привозят: наверно, в лагерях для военнопленных выловили, кого могли, а новых нет; теперь ведь в нашей армии нет политруков, теперь у нас офицеры — к этому еще надо привыкнуть. И вновь попадающих в плен намного меньше: сейчас не сорок первый и не сорок второй. Сейчас отступают они, а не мы…
Интересно, сколько отсюда до линии фронта… Тысяча километров? А за какое время наши могут пройти этот путь? За месяц? За два? Два месяца, шестьдесят дней — с ума можно сойти. Выдержать еще шестьдесят дней!..
Еще один ясный вечер. Я влезаю в открытое окно шлафзала — сегодня я возвращаюсь на блок тем же путем, каким и выходил, — и вдруг кто-то грубо хватает меня за плечо.
В простенке меж окон, притаившись, стоит штубовой. Я спрыгиваю на пол. Он, не отпуская меня, зло улыбается.
— В лагере вшицко можно, али не можно попадаться: aber laß dich nicht erwischen. Verstanden (Понял)?
Я не отвечаю. У меня под курткой заткнутая за пояс буханка хлеба — это то, что еще дает нам держаться… Лишь бы он не обыскивал, думаю я. Пусть бьет, лишь бы не обыскивал.
— Понял? Verstanden? — И он ведет меня в свою комнату-штубу.
В комнате натертые желтые полы. У стены двухъярусная койка, заправленная клетчатым покрывалом. На столе белые цветы, Пахнет жареной колбасой.
Из-за занавески, отгораживающей левый угол штубы, показывается смуглый черноволосый немец Сепп. Он старшина карантинных бараков и одновременно заместитель старшины всего лагеря. Он сам редко бьет рядовых заключенных: предпочитает, чтобы их били другие. Я раза два разговаривал с ним, когда стоял у ворот, — он немного понимает по-русски.
— А, ключник! — придушенным голосом и как будто обрадованно произносит Сепп и приподнимает толстые черные брови.
Он прозвал меня почему-то ключником — черт его знает, почему.
— Стой тут, — дойдя со мной до середины комнаты, приказывает штубовой и шагает на другую половину барака.
Он возвращается вместе со Штумпфом — тот в сапогах и в белой нижней рубашке с засученными рукавами.
Штубовой берет со своей постели резиновую палку. Сепп удобно усаживается на табурет: вероятно, не прочь поразвлечься.
— Что случилось (Was ist los)? — спрашивает меня Штумпф.
— Теперь ты видишь, что это за птица! — возмущается штубовой. — Бандит из бандитов…
И он колотит меня резиной по голове. Он колотит короткими, быстрыми ударами и все по одному месту. Проклятая горилла, почему он колотит по одному и тому же месту?
— Момент, — говорит Штумпф. — Что тебе надо было на девятнадцатом блоке?..
Штубовой начинает вновь молотить меня по темени.
— Гавари, гавари, ты… Sauvogel (Свинская птица)! Сквозь мелькание резины вижу, как мрачнеет Штумпф. Он отодвигает штубового.
— Ты не птица… Ты величайшая свинья (Du bist das größte Schwein), — медленно выговаривает Штумпф и ударяет меня сапогом в живот пониже буханки.
Я отлетаю к стене, но все-таки удерживаюсь на ногах. Лишь бы они не нашли хлеб!
— Ab (Прочь)! — ревет Штумпф. Корчась от боли, я бреду в шлафзал.
4
Худо, очень-очень худо… Раз перед самым обедом Пауль застает меня и Толкачева в уборной — там мы отдыхаем от гонки. Пауль бьет нас резиной, потом Толкачезу приказывает таскать камни, а меня загоняет в глинистую яму с водой. Жидкая глина липнет к лопате и не отстает от нее, хоть плачь, я тороплюсь, надрываюсь, а над моей головой стоит командофюрер и покрикивает: «Schnell!» Когда покрикивает эсэсовец, это совсем плохо: потом он обязательно выстрелит. А глина липнет, и лопату никак не вытащить из вязкой массы… Спасает свисток на обед.
В другой раз, когда мы всей командой носим на наш участок, камни, мне достается массивный кругляк, который я не могу поднять на плечо. Пауль, поглядывая на меня, начинает возбужденно мусолить губы, подходит, посвистывая, эсэсовец — я из последних сил, так, что темнеет в глазах, рву камень кверху и, пошатываясь, как пьяный, волокусь на полусогнутых ногах к лестнице. Мне удается подняться только до половины: на девяносто восьмой ступени я оседаю, — но тут пониже меня раздается животный вскрик и грохот сорвавшегося камня, Пауль и эсэсовец бросаются к рухнувшему человеку, я быстро сваливаю свой кругляк в выбоину на земляном склоне обочь с лестницей и хватаю другой камень, полегче; внизу гремит выстрел эсэсовца, а мы, остальные, продолжаем медленно взбираться в гору… Для меня пока обошлось. А в следующий раз?..
Мы таскаем ящики с цементным раствором к лагерной стене. Огромные двенадцатипудовые ящики — один на двоих. Мы в отчаянии: если пальцы вдруг разожмутся или соскользнут с углов, — Пауль убьет…
Нас выручают политзаключенные испанцы-каменщики: улучив минуту, когда Пауль заходит в будку, они приколачивают к ящикам ручки. Пауль хлещет нас резиной, неистовствует, Пауль придумывает новые дьявольские способы угробить нас…
Худо, очень-очень худо. Я чувствую, что силы убавляются с каждым днем. Все больше слабеют мои товарищи: Жоре, Савостин, Толкачев, Затеев. Часть моих друзей из первой группы политсостава попадает в лагерный лазарет. Все они — Худяков. Костюшин, Виктор, Ираклий, Типот — дистрофики. Держится пока лишь Зимодра. Держится сам и пытается поддержать меня…
Уже конец августа. Сеет мелкий дождь. Мы возвращаемся с работы, но я не тороплюсь в барак. Я завожу разговор со свирепым Володей — одетый в брезентовый плащ, он стоит на своем посту у ворот. Я говорю ему, что он славный парень и мог бы быть еще лучше, если бы…
Одновременно одним глазом я слежу за переулком внизу под нами, где вот-вот должен появиться Зимодра.
— Что если бы? — буркает Володя.
— Если бы ты побольше сочувствовал другим. Он недобро ухмыляется.
— Ты, сочувствующий, долго простоял тут?
— Это неважно.
— Важно, — торжествует он. — Умри ты сегодня, а я завтра.
— Не умирай, пожалуйста, и завтра, — прошу я его. И я вижу прямую, в расстегнутой развевающейся шинели фигуру Зимодры. Он бежит, петляя по переулкам, к нашему блоку. За ним с криком гонится красномордый детина.
— Живи, Володя, нам на радость, — быстро говорю я. Мне надо отвлечь его внимание от крика. Сердце мое бьется учащенно. — Живи и давай хоть немного жить другим.
Володя подозрительно уставляется на меня маленькими кабаньими глазками.
— Ты это куда клонишь?
Крик утихает: вероятно, Зимодра ушел от погони. Сейчас он будет прорываться на блок.
— Слушай, Володя, — говорю я. — У меня есть к тебе дело.
Я приближаюсь к нему, хотя это и небезопасно: он может двинуть в ухо.
— Ты цыгана Кики знаешь?
— Ну? — Володя косится на меня.
— Он мой должник. Может, получишь с него?
— Брешешь!
— Честное слово… Чтоб мне свободы не видать.
— А чего получить?
Зимодра, прячась за спины прохожих, подбирается к нашим воротам.
— Сигарету, — говорю я Володе, — я дарю тебе эту сигарету, получи, пожалуйста, сигарету с Кики.
Я слышу, как скрипит створка ворот.
— Стой! Куда? — отпихивая меня, кричит Володя.
Но отважный Зимодра уже на блоке, он мчится в глубь двора.
А Володя не имеет права покинуть свой пост — я это знаю.
Лицо Володи наливается кровью, кабаньи глазки блестят.
— Сейчас я тебе сверну шею.
— А за что мне? — Я потихоньку пячусь.
— Пш-шел! — орет он.
— Живи на здоровье! — говорю я ему.
В шлафзале теперь просторно. Раздевшись, мы с Зимодрой усаживаемся на матрац и начинаем есть неочищенную толченую картошку, предназначенную, собственно, для комендантских свиней. Пусть они не обижаются на нас, эти симпатичные животные, мы одолжили у них всего один котелок…
Я живо рисую себе всю картину: как красномордый детина, напряженно. ступая, тащит два полных теплых ведра, как внезапно, выскочив из толпы возвращающихся с работы, Зимодра сзади протягивает к ведру худые руки, хватает картошку и запихивает в свой котелок, как ошеломленный его дерзостью детина, чертыхаясь, ставит ведра, чтобы поймать грабителя, который, запрокинув голову, уже несется прочь…
— Кто охранял его ведра? — спрашиваю я Зимодру.
Он посмеивается, бесстрашный, отчаянный человек. Таким бесстрашным он был, конечно, и на фронте, — я это тоже легко могу себе представить.
— Сегодня был без охраны, — медленно, врастяжечку отвечает он. — Вот что будем делать завтра вечером?
Думать, что будет завтрашним вечером, не хочется.
Сегодня мы относительно сыты, одну пайку хлеба оставляем на утро и, значит, предстоящую гонку выдержим, а что дальше — поглядим…
Мы ложимся рядом, укрываемся с головой просвечивающим одеялом.
— Ты завтра не пикируй, — говорю я Зимодре. — Завтра я сам что-нибудь раздобуду.
…Я останавливаю посреди двора пожилого человека в синем берете. У него темные настороженные глаза, чуть одутловатое лицо. Это художник Смольянинов, бывший эмигрант. Теперь он политзаключенный Маутхаузена и, кажется, свой человек. Замолвил же он за меня слово, когда Леонид Дичко просил Штумпфа поставить меня на время к воротам.
Мы здороваемся.
— Ну, как вы? — спрашивает Смольянинов.
Он держит под мышкой ящик с красками. Смольянинов пишет картины для коменданта и, наверно, не голодает.
— Спасибо. Вы тогда меня выручили… Помогите и сейчас.
Пусть я буду попрошайкой. Мне наплевать!
— Ведь я уже помогаю кое-кому, — осторожно замечает он. — Впрочем… — Он смотрит на меня своими настороженными, как у птицы, глазами.
— Спасибо, — говорю я.
Мне безразлично, что он сейчас подумает обо мне. Сегодня моя очередь доставать еду.
— Я возьму у Штумпфа вместо одной две миски супа, — решает Смольянинов. — Загляните в штубу через полчаса…
Мы с Зимодрой стоим в вашрауме и едим брюквенный суп.
Завтра мы тоже выдержим. Мы отвоюем у смерти и завтрашний день.
5
Сентябрь выдается сравнительно тихий. Идут дожди, и наши надсмотрщики отсиживаются в будке: играют в карты и в кости, пьют шнапс. Правда, убийства не прекращаются. Раз или два до обеда Пауль выглядывает наружу, подзывает кого-нибудь из ослабевших и ломиком ударяет его между глаз или в висок… В середине сентября один из наших, отобранный для уничтожения, пытается покончить с Паулем — швыряет в его голову камень. Эсэсовец пристреливает смельчака. Пауля кладут в лазарет.
Как-то уже в конце месяца, возвратясь с работы, мы видим на блоке группу людей в незнакомой военной форме. Они прогуливаются по двору, с любопытством разглядывают нас и, кажется, вообще пребывают в абсолютном неведении, где они и что тут происходит.
Перед отбоем, встретившись с Леонидом Дичко, Зимодра и я узнаем, что эти военные — итальянские офицеры. Оказывается, англичане высадились в Южной Италии, там герцог Бадольо совершил переворот, и немцы в отместку арестовали группу офицеров-итальянцев, в том числе племянника герцоге, служившего на севере Италии.
— Так что можно считать, это второй фронт? — спрашивает Зимодра.
— Если англичане будут наступать, то, наверно, да — это второй фронт, а если будут сидеть… — говорит и не договаривает Дичко. — Есть и другие новости. Наши вроде форсировали Днепр.
— Иди ты! — Зимодра хватает за руку Дичко.
— Взяли как будто Днепропетровск и окружают Киев… Вы передайте это своим ребятам. И крепитесь, авось теперь дотянем.
Ложась спать, я сообщаю насчет форсирования Днепра Савостину. Он из-под Киева, до войны работал там инструктором райкома партии.
— Нет, серьезно? — взволнованно спрашивает он.
— Вполне серьезно.
— И ты думаешь… — Савостин поворачивает ко мне свое распухшее от голода, небритое лицо. В его глазах начинает теплиться надежда.
— Думаю, что через месяц-другой будем дома.
«В самом деле, — рассуждаю я мысленно, — англичане до наступления холодов выбьют немцев из Италии и выдвинутся к границам Австрии с юга. Наши через две-три недели подойдут к границам Польши и Румынии. А в самой Германии произойдет восстание рабочих…»
Мы засыпаем почти счастливые. Тем более, что завтра выходной день.
В воскресенье погода разгуливается. С утра в воздухе еще висит дождевая пыль, но к обеду ветер разгоняет облака, и солнце обрушивает на землю потоки горячего света. Двор начинает дымиться, и наша неделями не просыхающая одежда дымится, и толевая крыша барака дымится. Блестит на солнце мокрый булыжник.
После дневной проверки и раздачи обеда все устремляются к колючей сетке, отгораживающей наш блок от общего лагеря. Теперь у каждого из нас есть друзья-иностранцы — камрады, живущие на «вольных» блоках. Они не заставляют долго ждать себя.
Первым, как обычно, появляется человек с морщинистым лицом, слегка сгорбленный и щурящий Глаза. У него трехзначный номер: он один из старейших узников Маутхаузена. Свирепый Володя немедленно открывает ему ворота: таких старых «хефтлингов» уважают не только заключенные, но в какой-то мере даже и эсэсовцы…
Это Иозеф Кооль, по прозвищу Отец, австрийский коммунист. Он дружит со всеми нами, но помогает едой только самым слабым. Он раздает ломтики хлеба, сырую брюкву и вдобавок находит очень простые и очень нужные нам слова. Он говорит по-русски: «Дружба», — и, сложив ладони, переплетает пальцы — это означает, что все мы, заключенные Маутхаузена, должны быть едины; затем, улыбнувшись, говорит по-немецки: «Bald nach Hause» («Скоро домой»). Больше он ничего не говорит и уходит, прикоснувшись двумя пальцами к козырьку синей фуражки-тельманки. Емко и выразительно. И тепло. И при каждом его посещении рождается вера, что мы не одиноки здесь, в этом страшном фашистском заповеднике, что сильные и верные друзья следят за нашей борьбой… Штумпф издали козыряет Коолю, но большею частью делает вид, что не замечает его. Сегодня Штумпф, увидев Кооля, поспешно скрывается в бараке.
К колючей сетке подходит чех Вацлав. Он говорит Зимодре: «Наздар» — и просовывает сквозь проволоку миску с супом. Володя отворачивается. Зимодра пожимает чеху руку.
У Жоры камрад тоже чех, у Савостина — поляк, у меня — испанец. Мы получаем миски с супом и переливаем его в свои котелки. Мы благодарим иностранцев по-русски, они по-русски отвечают нам. Мы им «спасибо», и они нам «спасибо». Мы отлично понимаем друг друга.
Миска супа — это еще один день жизни… Спасибо, ребята — чехи, поляки, испанцы, австрийцы, — мы не останемся в долгу перед вами. А если не мы сами, так наши солдаты, которые форсировали Днепр, потом отблагодарят вас. Впрочем, суть не в благодарности.
Мы люди. Люди мы даже здесь, в Маутхаузене, — вот что главное.
Подходят французы, немцы-антифашисты, немолодой бельгиец по фамилии Ляо. И снова через проволоку скрещиваются в братском пожатии руки.
Да, мы люди!
Володя отворачивается и отворачивается (он тоже слышал, что наши форсировали Днепр), с беспокойством посматривает на окна барака.
— Antreten (Строиться)! — высунувшись в окно, приказывает Штумпф…
Строимся. Маршируем. Снимаем и надеваем шапки. Без этого нельзя.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
1
Мы стоим возле лагерных ворот. Мимо, хлопая колодками, шагают заключенные; ряд за рядом, сотня за сотней — тысячи заключенных с обнаженными стрижеными головами. Руки вытянуты вдоль туловища, голова откинута назад, глаза застыли. Сотня за сотней, команда за командой шагают на работу: рыть землю, таскать и тесать камни, следить за эсэсовцами и надсмотрщиками. Играть в кошки и мышки со смертью. Воевать за жизнь.
Мы, стоящие у ворот, похоже, отыграли свое. Мы дистрофики. Кроме того, мы больны всякими другими болезнями: воспалением легких, голодным поносом, чесоткой. Я, например, дистрофик и чесоточник. Мы направляемся в лагерный лазарет, именуемый в нашем обиходе ревиром, или русским лагерем: на постройке его погибло много советских военнопленных…
Хлопают по асфальту колодки. За воротами скрывается последний ряд.
— Марш! — командует санитар.
Мы выходим за ворота, и вдруг я вижу то, что не мог, не в силах был видеть раньше. Я вижу голубые холмы и тронутую красками осени зелень садов. Правее — уступами спадающий в низину лес: темные столетние ели. Слева в утреннем солнце горы: воздушные, синие, сверкающие снеговыми пиками, — это Альпы. А ближе — Дунай: безмятежная голубизна в легких солнечных блестках. И какой-то город с красными черепичными крышами и готическими шпилями кирх. И какие-то руины в серебристом тумане, — может быть, остатки рыцарских замков…
Зачем они построили тут концлагррь? Зачем здесь эта красота? Почему я не мог смотреть на нее, когда работал у Пауля? Почему я боялся смотреть, инстинктивно боялся?..
Контрасты. Они тоже убивают. Все дьявольски рассчитано здесь…
Мы спускаемся к серым баракам, окруженным колючей оградой. На углах вышки с часовыми. У проволочных ворот будка, и там тоже часовой. Мы входим в лазарет, и нас разводят по баракам. Я, Толкачев и четверо французов попадаем в барак № 8 — это блок чесоточников.
Нас принимают блоковой врач и писарь. Врач — не то чех, не то югослав, писарь — поляк. Мы раздеваемся и ложимся по трое на койку — они здесь трехъярусные. Меня кладут с французами на среднем ярусе, я головой к окну, французы — наоборот: мы укладываемся валетом.
В бараке душно и пахнет чем-то едким. Почти все больные спят. Слышно неровное, сдавленное, беспокойное дыхание. Мы чешемся. Те из «старичков», кто не спит, тоже чешутся. Мы чешемся, как паршивые поросята.
В обед нам разносят суп. Это та же брюквенная похлебка. Едим без ложки, просто выпиваем через край и кладем миски в изголовье. Их потом собирает уборщик и уносит в судомойку. Мы лежим и чешемся.
Часа через два нас, вновь поступавших, вызывают в процедурную. В полутемной комнате с каменным полом нам приказывают снять белье, затем пучеглазый санитар, обмакивая малярную кисть в оцинкованный таз, мажет нас с шеи до пяток холодной жидкостью, от которой ест глаза.
Несколько минут мы просыхаем, потом голые возвращаемся в палату.
Наши тела покрываются серой чешуей. Мы, костлявые, тонконогие и тонкорукие, с узенькими, острыми плечами, с выпирающими ключицами и впалым животом, с некоторым удивлением озираем друг друга. Неужели мы, эти серые уроды, — это мы? Нас будто вылепил из цемента какой-то злобствующий скульптор, не скульптор, а враг рода человеческого. Мы, серые костлявые статуи, цементные уроды, удивленно пожимаем усохшими плечиками, влезаем в просторные полосатые рубахи и кальсоны и опять ложимся.
Теперь мы не чешемся. Слава богу!
Мы засыпаем и спим, как святые. Вечером нас пересчитывает эсэсовец, и когда дверь барака за ним закрывается, нам выдают по полмиски кофе, по куску хлеба и по тоненькому колесику лиловой колбасы. Хлеба и колбасы почти в два раза меньше, чем в верхнем лагере. Пожалуй, при таком питании можно скончаться и без тяжелой работы.
Едкая серая жидкость, оказывается, не излечивает совсем. Она унимает зуд только на время. Выпив кофе и съев хлеб, мы помаленьку снова почесываемся, ерзаем на койке, а потом все сразу дружно запускаем руки под рубашки и начинаем с остервенением скрестись.
Под потолком зажигается свет. Мы всей палатой дружно чешемся. Некоторые вполголоса ругаются, другие стонут, кое-кто даже плачет, но чешутся решительно все.
2
Мы, чесоточники, инфекционные больные, и нам не разрешают выходить из барака. Мы только лежим, спим, чешемся, ждем обеденной похлебки или хлеба, мучаемся голодными снами. От чесотки не умирают, но здесь каждое утро находят мертвецов: это тихо гибнут дистрофики. К нам почти не проникают никакие новости. Наш блок все более напоминает мне. запломбированный невольничий вагон, поставленный в глухой тупик и забытый всеми.
Чтобы быстрее проходило время, я и мои напарники-французы беседуем на разные темы. Мы изъясняемся на особом интернациональном жаргоне, состоящем из немецких, русских, французских и польских слов. Жаргон этот широко распространен в Маутхаузене, он позволяет свободно понимать друг друга, когда дело касается лагерной жизни или положения на фронтах. Однако как только мы отвлекаемся от проблем лагеря и войны, возможности жаргона резко сужаются, и нам приходится прибегать еще к языку мимики и жестов.
Один из моих соседей по койке — инженер, парижанин. Его зовут мосье Пьер. Он черноглазый, большеносый, очень вежливый. Ему тридцать четыре года. Он принципиальный холостяк.
— Почему? — спрашиваю я его, когда снова заходит речь о наших семьях. Я употребляю популярное немецкое слово «warum», тыкаю в мосье Пьера пальцем, затем поднимаю этот палец кверху. «Почему ты один?» — таким способом спрашиваю я и добавляю знакомое мне французское слово «пуркуа» («почему»).
— О! — отвечает мосье Пьер (он почти каждую свою фразу начинает с этого восклицания) и покачивеет головой. Его лицо принимает крайне озабоченное выражение.
Я понимаю его. Он хочет сказать, что иметь семью в наше время очень хлопотно и ответственно.
— Ты инженер, — говорю я ему по-русски, — и ты… — Тут я начинаю быстро двигать пальцами, воспроизводя известный жест, обозначающий подсчет денег. — «Viel» («много»), — опять употребляю я немецкое слово.
Он качает головой — на этот раз сверху вниз. Он согласен, что у него хватило бы средств содержать семью.
— Aber (Но), — продолжает он, — der Krieg (война) ту-ту-ту. — И показывает ладонью, как постепенно приближалась к ним война. — Бах, бах, die Kinder (дети) капут, die Frau (жена) капут… Нехорошо, — договаривает он по-русски. И по-польски — Розумешь? — И по-французски: — Компри (Понял)?..
Сегодня, чтобы скоротать время до обеда, мы вспоминаем. Я рассказываю французам, какие у нас под Вологдой огромные леса — не то что здесь, в Центральной Европе, или у них во Франции, — какие глубокие реки, какие люди-богатыри живут на русском Севере.
— Во! — говорю я, дотронувшись до своих плеч и потом разведя руки во всю ширь. — Во! — показываю я сложенные вместе два кулака.
Конечно, я слегка преувеличиваю.
Около нашей койки останавливается уборщик, работающий в судомойке, щуплый белобрысенький человек.
— Постой-ко, — вдруг обращается он ко мне, — Ты чего тут лопочешь?
Что-то родное-родное чудится мне в его словах.
— Ты вологодский? — спрашиваю я.
— Я-то вологодский. А ты? — Он недоверчиво глядит на меня небольшими голубыми глазами, и я знаю, почему: после смерти отца мне пришлось два года жить у сестры под Псковом, год — в Рыбинске, и за это время я утратил особенности нашего северного говора.
— Я из Вожегодского района, — говорю ему. Голубые глазки начинают лучиться, искриться, теплеют, наполняются радостью.
— Ой, ой! — восклицает он. — Ой, подумать токо!.. На Вожеге-то я ведь не раз бывал, дак ведь близкий ты, я-то ведь из Харовска.
Лучатся небольшие глаза, источают радость, и волнение радостное, и нетерпение.
— Ну-ко, пойдем, пойдем!
Я сам, обрадованный донельзя, оставляю недоумевающих друзей-французов, засовываю ноги в колодки с матерчатым верхом — в пантофли — и, придерживая сползающие кальсоны, шлепаю по каменному полу за земляком в судомойку.
Он — его зовут Афоня — усаживает меня на низенькую скамейку возле раковины. Он никак не может прийти в себя от приятной неожиданности, он говорит, что за два года встречает в Маутхаузене только третьего земляка, а такого близкого и вовсе не попадалось. Мы начинаем припоминать названия соседних от нас станций и разъездов, больших поселков, леспромхозов и лесопунктов — Явенгу, Пундугу, Сямбу, — и каждое из этих названий само по себе, произнесенное вслух, доставляет нам новую радость…
Я сижу с Афоней до тех пор, пока снаружи не доносится удар лазаретного колокола, возвещающего о начале дневной проверки.
Во время раздачи обеда Афоня ухитряется сунуть мне лишнюю миску супа; я по-товарищески делюсь с французами. Под вечер, закончив мытье посуды, он снова зовет меня, усаживает на свою койку и потчует сырым кольраби.
Он рассказывает о себе, и я узнаю подробности гибели в Маутхаузене первой группы советских военнопленных, в основном пограничников, попавших в руки врага в первые дни войны. Он здесь быстро выучился тесать камни и лишь благодаря этой работе уцелел: эсэсовцы ведь сильно наживаются на труде каменотесов. В лазарете Афоня очутился весной, да тут и застрял. Спасибо писарю-поляку, он поимел в виду, что Афоня давно в лагере, и поставил его после излечения мыть миски. Он хотел бы продержаться на ревире до конца войны, но это уж, конечно, как удастся.
— Наши-то, кажись, уже к Польше продвигаются, — шепчет он. — Так что терпи, земляк, возможно, еще вместе домой поедем.
3
Афоню выписывают в начале ноября, когда в лазарете проводится общий осмотр. Уходя, он ставит меня на свое место в судомойку. Писарь-поляк, крупный, чернобровый, мрачноватый человек, не возражает. Мы с Афоней договариваемся не забывать друг друга.
От чесотки я уже почти избавился, и мне возвращают верхнюю одежду. Трижды в течение дня я собираю пустые миски, мою их, затем составляю на проволочной сетке, прикрепленной над теплой батареей. В обед я помогаю двум другим уборщикам разносить похлебку. За нами обычно следит блоковой.
Так как в бараке ежедневно умирают дистрофики, у нас всегда есть небольшой излишек похлебки. Его делят между собой блоковой, писарь, врач и парикмахер-испанец. Блокперсонал здесь питается отдельно от больных, и я вначале не понимаю причин такой жадности. Вскоре, однако, я вижу, что блоковой отдает свою долю старичку-санитару, парикмахер-испанец через уборщиков выменивает колбасу у больных (миска брюквы кажется все-таки сытнее), а писарь и врач украдкой кое-кого подкармливают.
Я, как и остальные уборщики, получаю в обед рабочую порцию — три четверти литра, больным полагается только пол-литра. Я не наедаюсь, я по-прежнему постоянно голоден, но меня мучает совесть, что я ем побольше, чем мой старый товарищ Лешка Толкачев, лежащий на койке: в зондерблоке мы делили пополам каждую лишнюю кроху еды.
Однажды после обеда в судомойку заходит писарь и велит мне отнести миску супа французскому инженеру, с которым прежде я вместе лежал.
— Вы разве знакомы с ним? — спрашиваю я. Писарь хмуро сдвигает брови.
— Привыкай не задавать глупых вопросов. — Он, как и большинство поляков старшего возраста, сносно говорит по-русски. — Иди скоро.
Дня два спустя он дает мне новое поручение: я отношу похлебку политзаключенному немцу, прибывшему из Бухенвальда.
В третий раз, доставив миску брюквы одному незнакомому мне русскому, я осмеливаюсь поговорить с писарем насчет Толкачева.
— Это мой коллега, — говорю я. — Нельзя ли немного помочь ему?
— Какой нумер? — мрачновато справляется писарь.
Я колеблюсь, но все же называю номер Толкачева. Писарь уходит в свою комнатушку и через несколько минут возвращается.
— Завтра достанешь зупа для своего друга.
То есть завтра я получу миску супа для Толкачева… «Интересный человек этот писарь, — думаю я. — Кто он — коммунист?»
Теперь я каждый день по его заданию подкармливаю то одного, то другого больного. Писарь, как и раньше, не вступает со мной в объяснения: просто сунет миску, пробурчит, кому отнести, и все. Я, в свою очередь, стараюсь не задавать ему «глупых» вопросов.
Раз он будит меня, когда в бараке еще темно. Я быстро одеваюсь и иду за ним в судомойку.
— Вот тебе сигарета, выведи привратника с блока и покурите там, потребно минут пять задержать его. Сможешь?
— Смогу, наверное.
— Минут пять-шесть.
Писарь слегка волнуется, его негромкий голос подрагивает, и я, сам не зная отчего, тоже начинаю волноваться.
— Хорошо, — говорю я.
— Огонь есть?.. Вот маешь запальничка. — Он дает мне зажигалку. — Але минут пять-шешчь…
— Хорошо, хорошо.
Привратник, беззубый немец-уголовник, дремлет на табурете у двери. Над ней мерцает маленькая электрическая лампочка-ночник. Когда я подхожу, немец полуоткрывает один глаз, потом второй, затем настороженно выпрямляет туловище, обтянутое теплой вязаной курткой.
— Сервус, Готтфрид! — приветствую я его. У меня натурально-хрипловатый голос, как у всякого курящего, который только что проснулся.
— Сервус. Ты что так рано вскочил?
— У тебя есть сигареты? Я могу дать за две штуки свою вечернюю колбасу.
— Ах, откуда, человек (Mensch, woher denn)? — ворчит Готтфрид. Он злой курильщик — это всем известно, — и мне надо как-то раздразнить его.
— Не жадничай, Готтфрид, давай покурим.
— Разве ты куришь, ты, петух?
— Да, Готтфрид, и я сейчас умру, если ты не одолжишь мне сигарету… Будь добр!
— Человек! — Он елозит на табурете. — Я тоже подохну, если мы сейчас же не организуем сигарету.
— Мы не подохнем, дорогой Готтфрид, — говорю я. — У меня есть одна.
Он ощеривает беззубый рот в улыбке.
— Ты, бандит!
— Идем. — Я отмыкаю крючок на двери. Осторожно выбираемся на улицу. Колючий забор лагеря-лазарета залит электрическими огнями. Небо вдали мглистое, там еще ночь, но если посмотреть прямо над головой, оно светлее, как неровно и несильно закопченное стекло. Вероятно, скоро будет рассвет…
Бесшумно входим в барак. Я на цыпочках пробираюсь к койке. Успел ли писарь закончить свое таинственное предприятие?
Днем писарь вручает мне две миски похлебки.
— Одну — тому поляку, который лежал на третьей лужке (койке), он теперь с тем французом, инженером, другу можешь дать своему коллеге, политруку.
Значит, он знает, что Толкачев политрук?.. А когда перевели поляка с третьей койки к французам? Может, этим делом писарь и занимался ночью? Но почему ночью? Почему тайно?
— Мне ничего не надо говорить Зигмунду? — спрашиваю я про того поляка.
— Он не Зигмунд, он Юзеф, — тихо и твердо говорит писарь. — Зигмунд умер. Юзеф — розумешь?
— Юзеф, — отвечаю я. — Так. Я ошибся. Кажется, я начинаю кое-что понимать.
4
На наш блок иногда заходит крепкий невысокий поляк — второй писарь лазарета. Он приносит учетные карточки вновь поступивших больных и забирает карточки тех, кто выписан или умер. У него светлые глаза и волевой подбородок — лицо сильное, жестковатое, чуть замкнутое, как у большинства старых политзаключенных. Наш блоковой побаивается его, писарь на виду у всех отвечает ему по-немецки «слушаюсь», но, оставаясь с глазу на глаз, называет его по-приятельски Казиком. Время от времени, когда блокового нет в бараке, Казик и писарь, уединившись, о чем-то совещаются. Я в эти минуты должен наблюдать за выходом и тотчас предупредить их, если вернется блоковой или войдет кто-либо из эсэсовцев.
Накануне Нового года писарь просит меня незаметно сменить номер у одного умершего поляка. После вечернего кофе, собирая миски, я задерживаюсь возле койки, на которой лежит накрытый одеялом мертвец.
Рука у него тяжелая, резиново-мягкая и холодная. Я быстро отвинчиваю проволочку его номера, еще быстрее прикрепляю другой номер — крепкий удар пониже спины заставляет меня ткнуться носом в холодное тело.
Я оборачиваюсь, потом поднимаюсь. Блоковой смотрит на меня острыми гневными глазами.
— Что делаешь тут?
— Ищу пустые миски, блокэльтестер. Он кричит:
— Ты идиот или почитаешь меня за идиота?
— Я не понимаю, блокэльтестер. У меня недостает несколько мисок, и я думал…
— Ты думал, что мертвецы прячут миски под одеялом?
— Да, но…
— Заткнись (Maul halten)! — кричит он. — Что у тебя в руке?
У меня ничего нет в руке: подменный номер я успел сунуть под рубашку. Я показываю блоковому пустые руки.
Он дает мне пощечину.
— Где зуб?
— Какой зуб?
Он бьет меня еще раз, скидывает с головы покойника одеяло и задирает указательным пальцем его верхнюю губу.
Я вижу тускловато-желтую коронку на одном из зубов мертвеца.
Блоковой задергивает одеяло и, вероятно, с досады награждает меня новой пощечиной.
— Ты пытался украсть этот зуб.
— Нет, я искал миски.
— Ты смеешь возражать мне, ты, горшок дряни (Du, Scheißkübel)?!
Правда, возражать ему не следовало — следовало молчать. И я молчу.
— Ты русский бандит, проклятый большевик! — орет блоковой.
Я молчу.
— Грязный чесоточный поросенок!.. — Он отвешивает мне очередную пощечину и толкает лакированной туфлей. — Марш в койку!
Плетусь к своей койке. Вероятно, я уволен…
После отбоя, когда из-за перегородки блокового слышится храп, ко мне на минуту присаживается писарь. Я молча отдаю ему номер умершего поляка.
— Ты пострадал из-за меня, — шепотом говорит писарь, — но… как это по-российску?.. Но мы уберегли от этого… от расстрела еще одного нашего хорошего товарища поляка, партизана.
5
На дворе уже февраль, но я еще в лазарете, только теперь я на шестом блоке. Невидимая, но сильная и верная рука друзей по-прежнему поддерживает меня. И не одного меня: на шестом блоке спасаются от каторжной лагерной работы, особенно тяжкой в зимнюю пору, десятки советских военнопленных. Все мы числимся выздоравливающими, однако при каждом осмотре старший врач лазарета и блоковой врач находят у нас новые заболевания, и нас не выписывают.
Здесь вместе со мной почти все старые тозарищи: Зимодра, Костюшин, Типот, Жора Архаров, Савостин… Худякова нет. Худякова не стало в конце декабря. Он умер дистрофиком на руках у Зимодры — мой комиссар…
Мы — живые. Тощие, бледные, но живые. К нам хорошо относится здешний старшина штубы — немец-антифашист. Мы часто видим среди больных высокого, симпатичного, в очках, чешского доктора Зденека Штыха и знаем, что он наш друг. Нас постоянно навещают заключенные советские врачи — энергичный брюнет Саша Григоревский, белокурый и будто весь светящийся изнутри Михаил, сдержанный, немногословный Юрий. Они передают нам новости с фронтов и делятся своим скромным врачебным пайком, пытаются лечить нас, подбодрить. Но — и это они все понимают: старшина штубы, Штых, наши врачи— нам сейчас нужна еда, много еды, и тут помочь нам они, к сожалению, бессильны.
И все-таки мы живем, живут вопреки всему и другие политзаключенные в концлагерном лазарете. И хотя не все выживают, хотя дистрофики и тяжелые инфекционные больные продолжают умирать, эсэсовское начальство, как по секрету сообщает нам Саша Григоревский, бьет тревогу…
Обычный будний вечер. Мы сидим и лежим на койках. Внезапно дверь барака резко распахивается, и мы слышим громкую команду: «Achtung» («Внимание»)! Тот, кто лежит, обязан по этой команде сесть. Типот, мой напарник по койке, тоже садится. В последние дни он чувствует себя очень неважно.
В бараке появляются эсэсовцы, один из них — офицер, главный врач ревира. Блоковое начальство бросается к ним навстречу. По заведенному порядку старшина, писарь, врач и парикмахер выстраиваются в ряд у входа.
Офицер вполголоса что-то приказывает старшине. Тот, выйдя на середину палаты, объявляет, что все больные должны придвинуться к краю койки, к центральному проходу. Все должны сидеть. Голову держать прямо.
Мы, большеголовые и тонкошеие, придвигаемся к центральному проходу и сидим, укутав колени истертым одеялом. Типот очень волнуется.
— Anfangen (Начали)! — коротко приказывает офицер и, сухопарый, одетый в длинную шинель, в фуражке с высокой тульей, в теплых перчатках, подходит к первой трехъярусной койке. За ним ступает эсэсовец с раскрытым блокнотом.
Офицер всматривается в лица больных. У нас от напряжения покачиваются головы.
— Его (Den), — указывает офицер на кого-то.
— Нумер? — спрашивает эсэсовец больного и потом записывает в блокноте.
— И его, — приказывает офицер.
— Нумер? — спрашивает эсэсовец.
— Что это значит? — шепчет Типот. — Что они хотят?
Он очень волнуется, голова его колышется.
— Его, — перейдя к следующей койке, командует офицер.
— Нумер? — спрашивает эсэсовец.
Голоса все громче, потому что они приближаются к нам.
— Его, — звучит металлический голос.
— Нумер? — громче спрашивает эсэсовец.
— И его.
Типот дрожит, голова его плавно колышется… Не надо так волноваться, нельзя так волноваться!
— И его, — раздается рядом сухой, властный голос.
— И его, — звучит совсем близко.
— Нумер? Нумер? — густым хрипловатым голосом спрашивает эсэсовец и шуршит карандашом по бумаге.
Нельзя волноваться, нельзя так волноваться…
Мои глаза встречаются с холодными немигающими глазами. Взгляд тяжелый, неспокойный, преступный какой-то: такой взгляд бывает у убийц. Мне кажется, что моя голова тоже волнообразно покачивается и дрожит койка…
Нельзя дрожать, койка, нельзя… Преступный взгляд гипнотизирует, ему очень трудно оторваться от меня — какие-то сумасшедшие, напряженные мгновения, — взгляд перекатывается в сторону, я едва дышу.
— Den, — гремит, как выстрел, голос. Толстый кожаный палец направлен на Типота.
— Нумер? — спрашивает эсэсозец.
— Нет, — тихо отвечает Типот и мелко отрицательно трясет головой.
— Нумер? — рычит эсэсовец и, встав на нижний ярус, хватает Типота за левую руку и притягивает ее к себе.
Типот мелко отрицательно трясет головой. Железный номер болтается на его иссохшей руке. Эсэсовец взглядывает на номер, соскакивает на пол и записывает.
Офицер переходит к следующей койке.
— Его…
— Зачем? Куда? — бормочет Типот. — Я не хочу.
— Нумер? — потише спрашивает эсэсовец.
— Я не хочу, — повторяет мне шепотом Типот. — Понимаете, я не хочу.
Голоса офицера и эсэсовца слабеют, звучат уже издалека.
— Я не хочу! — горячо убеждает меня Типот. — Я не хочу, не хочу!
Он дрожит.
— Ахтунг! — доносится до нас.
Дальше мы слышим немецкую речь, которую я вполголоса перевожу Типоту. Оказывается, все записанные больные будут направлены в дом отдыха. Они должны приготовиться с вещами. Утром за ними приедут автобусы.
Типот крепко держит меня за руку. Он больше не дрожит. Он, откровенно, так перепугался. Ну, конечно, говорит он, вряд ли это настоящий дом отдыха, но во всяком случае их решили поправить. Немцам нужна рабочая сила…
И я так думаю?
Да, и я так думаю. Типот крепко держит мою руку. Он держит меня за руку всю ночь. Целую ночь мы говорим о доме отдыха, мы засыпаем, просыпаемся и опять говорим. Конечно, концлагерный дом отдыха нельзя назвать домом отдыха в полном смысле слова, но все-таки… Я согласен с ним? Он очень рад, что я согласен.
Под утро Типот плачет. В девять часов в барак опять являются эсэсовцы и уводят отобранных накануне— самых истощенных и слабых среди нас.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
1
— Линкс, цвай, драй, фир, линкс, цвай, драй, фир… Снова огромная лагерная площадь, запруженная людьми, снова четкое похлопывание колодок, снова руки по швам, глаза — прямо, ноги-палки механически выбрасываются вперед.
— Линкс, цвай, драй, фир, линкс, цвай, драй, фир!
Наш капо-надсмотрщик Вицек занимает свое место в первом ряду, мы сдергиваем шапки, вздымаем подбородок и, притаив дыхание, проходим в сквозящие ворота.
— Линкс… линкс… линкс унд линкс! Мютцен… ауф!
Надеваем шапки. Поглубже вздыхаем. Колодки начинают выбивать по булыжнику беспорядочную дробь.
Сбоку шагают эсэсовцы.
Занимается заря. Пламенеют вершины Альп. Окованная легким морозцем земля, туманные холмы, застывшие в инее колючие ели — все кажется игрушечным и голубым.
А вот и каштаны — серебряные облака на столбах, вот площадки, на которых мы воевали с Паулем «Цыганом, теперь тут какие-то бараки. Мы идем мимо, и перед глазами мысленно проходит жаркий, бесконечно длинный, в криках и топоте, в автоматной стрельбе день…
Мимо, мимо!
Впереди лестница: сто восемьдесят шесть ступеней. Гигантская чаша каменоломни синеет внизу. Голова колонны, выгнувшись, уже достигает дна, а в хвосте еще беспорядочная дробь колодок.
Придерживая друг друга на скользких ступенях, спускаемся на шуршащий гравий дна, бегом нагоняем передних и по команде останавливаемся. Поворачиваемся направо лицом к каменному холму. Подравниваемся.
Нас пересчитывают, затем мы перестраиваемся по рабочим командам и расходимся в разные концы каменоломни…
Наша команда во главе с Вицеком, в прошлом известным силезским вором, работает по левую сторону от лестницы (если смотреть на каменоломню со стороны спуска). Работа несложна. Мы сортируем камни и погружаем их на вагонетки. Когда поблизости нет эсэсовцев или оберкапо Зарембы, мы не спешим, зато когда они наблюдают за нами, носимся, как угорелые.
Капо Вицек (заключенные считают его хорошим капо) требует от нас лишь одного: не попадаться. Если начальство застает нас врасплох, — это неприятность и для него, и тогда он беспощадно избивает всех подряд резиновым шлангом. Однако когда у нас все благополучно — мы не попадаемся, — Вицек не придирается и большую часть дня проводит в своей будке, дуясь в карты с надсмотрщиком соседней команды.
Сегодня, как и в предыдущие дни, для начала отдираем примерзшие к земле камни. Мартовская погода с утренними заморозками и капелью нам кстати. Стучим ломиками и кирками, но не слишком сильно, даже совсем несильно. Мы будем, не напрягаясь, так постукивать, пока наш постоянный дозорный, немец Иоганн, не передаст по цепочке сигнал тревоги: «Агуа». Он прохаживается с метлой в руках возле будки Вицека и около гранитных глыб, на которых сидят испанцы и трещат пневматическими бурами.
— Сегодня хорошо, — говорит мне по-немецки итальянец Валентино.
Он красив. У него настоящий римский нос, твердо очерченные губы, лицо матово-смуглое, худое, но спокойное. Он напоминает мне какого-то благородного римского воина. К тому же он вообще славный парень. Другие итальянские офицеры, когда их внезапно превратили в рядовых заключенных, растерялись, многие упали духом, а Валентино держится стойко и голод переносит стойко и тяжелую работу.
— Сейчас хорошо, через час нехорошо, — отвечаю я ему. — Здесь всегда надо смотреть. Я считаю своим долгом заявить об этом как более опытный хефтлинг.
— В Маутхаузене, как на войне, — замечает он.
— Маутхаузен — это война, — говорю я.
Мы постукиваем ломиками и поглядываем на Иоганна: тот, широко размахивая метлой, подметает площадку перед будкой и в то же время неотступно следит за двумя дорогами, на которых могут появиться эсэсовцы.
— Маутхаузен: филь арбайтен, вениг эссен — крематориум; вениг арбайтен, филь эссен — никс крематориум, — сообщаю я Валентино высшую лагерную мудрость, сформулированную заключенными-испанцами.
Валентино согласен. В самом деле, если в Маутхаузене много работать и мало есть, то крематорий обеспечен; мало работать и много есть — крематория не будет.
— Много есть — как это сделать? — интересуется он.
Я, к сожалению, этого тоже не знаю.
— Надо попытаться получить добавку (ein Nachschlag), — помолчав, решает он.
Мысль ценная, я одобряю ее.
— Только как получить?
Валентино задумывается. Мы тюкаем железом о, камень и напряженно размышляем о том, как нам получить добавку. Обычно, когда при раздаче обеда в бачках остается суп, капо доливает в котелки своим любимчикам. Мы же с Валентино не принадлежим к любимчикам капо. Лицо Валентино вдруг просветляется.
— Я подойду с котелком к капо Вицеку и скажу, что мне надо добавить. — Он озаренно смотрит на меня. — Только так, — продолжает он. — Все сложные проблемы надо решать просто. Подойду и скажу…
Я скептически вздыхаю.
— Самый верный путь к человеческому сердцу лежит на прямой, — уверяет он.
— А ты убежден, что у капо человеческое сердце? Валентино слегка озадачен.
— А ты не убежден в этом?
— Я убежден, что у эсэсовцев и у капо нет никакого сердца, — отвечаю я. — Они не люди.
— Они дьяволы, — подхватывает Валентино.
— Они не люди, — повторяю я. — Дьяволов не бывает.
— Дьяволы, — утверждает он.
Мой взгляд падает на Иоганна. Наш дозорный подает условный знак — переворачивает метлу вниз палкой, — и в ту же минуту по цепи заключенных пробегает произносимое вполголоса таинственное слово «агуа».
— Агуа, Валентино, — быстро говорю я. Мы взваливаем на себя по камню.
— Schnell! Schnell (Быстро)! — покрикивает Вицек и угрожающе размахивает куском резинового шланга.
Неподалеку от его будки стоит эсэсовец по кличке Боксер. Он аккуратно застегивает кнопки на перчатках, потом, вскинув голову, направляется к нам.
2
— Крулик, с курвы сын, — встревоженно произносит мой сосед, немолодой поляк.
— Крулик, крулик! — тревожно разносится по рабочей площадке. Мы резко набавляем темп, однако не настолько, чтобы со стороны было видно, что мы заметили опасность. Ускоряем шаг, сваливаем в вагонетку камень за камнем и, не подымая глаз, спешим за очередной ношей.
Командофюрер, по прозвищу Кролик, прячется в кустах над обрывом. Он всегда прячется в кустах или за гранитными глыбами, подсматривает, выслеживает, намечая жертву, а затем, выскочив из засады, избивает кого-нибудь в кровь. Обязательно в кровь, без этого он не может.
Мы хитрим. Мы не слишком торопимся. Пусть Кролик думает, что мы всегда так работаем — энергично, но без суеты. Тот, кто слишком торопится, чаще всего и делается жертвой Кролика.
Пополуденное солнце сияет над скалистой стеной. Оно как раз над теми кустами, где сидит Кролик, оно светит нам в глаза и мешает наблюдать за эсэсовцем. Прямо под ним — глубокая овальная яма, там работают штрафники. На самом дне ее — зеленое озеро, очень живописное: зеленое зеркало воды, окруженное бурыми скалами.
Штрафники по крутой дорожке выносят на нашу площадку камни, мы рассортировываем их и грузим в вагонетки.
Мы работаем энергично. Вицек, предупрежденный Иоганном, для порядка покрикивает на нас. Погромыхивает железо вагонеток, постукивают, сталкиваясь, камни. Мы ждем Кролика. Сейчас он спустится по лестнице и кого-нибудь изобьет в кровь, обязательно в кровь.
Вицек прячет резину в карман и закуривает сигарету — значит, Кролик близко. Вот Вицек вздрагивает и, изобразив на лице смущение, снимает фуражку. Я энергично берусь за камень.
— …восемьдесят шесть хефтлингов за работой, — слышу я, как по-немецки рапортует Вицек.
— Komm her (Ко мне)! — произносит вибрирующий голос — это голос Кролика.
Я на секунду поднимаю глаза — нет, не меня, пока не меня. Я сбрасываю в вагонетку камень и энергично шагаю к обочине ямы.
Перед хилым, с большими темными болезненными глазами Кроликом стоит Валентине.
— Почему не снимаешь шапку? — спрашивает вибрирующий голос по-немецки.
— Я на работе, командофюрер. Кроме того, я полагал…
Чудак Валентино: разве можно объяснять эсэсовцу?..
Раздается треск пощечины. Я взваливаю камень на плечо.
— Я полагал… — упрямо повторяет Валентино. Лицо его побледнело, одна щека горит.
— Предатели, макаронники! — орет Кролик.
— Я полагал…
Совсем сошел с ума парень! Я энергично шагаю с камнем мимо.
— …итальянский капитан…
Хлопает пощечина.
— …не обязан…
Хлопает еще удар.
— …перед каждым ефрейтором, — твердо звучит голос Валентино.
Погромыхивает вагонетка. Коротко стучит камень о камень… Эх, Валентино, Валентино!
Кролик уже не дерется. На лице итальянца кровь. Тонкой изломанной струйкой сбегает она из разбитого носа, растекается над верхней губой, срывается каплями с подбородка.
Кролик снизу вверх завороженно глядит своими болезненными глазами на кровь. Кажется, он даже чуть подается навстречу крови.
Мы нагружаемся камнями. Валентино еще стоит перед эсэсовцем.
— Ab (Прочь)! — гремит вибрирующий голос. Валентино неподвижен.
— Ты оглох, ты… господин капитан! — кричит Кролик. — Ваше сиятельство!
Валентино стоит.
Кролик с бешенством плюет себе под ноги и, повернувшись, шагает к будке Вицека… Молодец, Валентино, настоящий человек, Валентино! Но если бы он все-таки не был итальянским капитаном, все кончилось бы иначе.
Валентино присоединяется к нам. Он тоже носит камни. Посрамленный Кролик, не заглядывая, как он это делает обычно, в будку капо, скрывается в направлении каменного холма. Вицек, выругавшись, возвращается в свою будку.
— Валентино, — говорю я, — спустись к озеру и умойся.
Он не отвечает.
Немолодой поляк, первым заметивший Кролика в кустах, протягивает итальянцу сухарь: этот поляк из Кракова, он еще получает посылки.
— Держи, Валентино, — говорю я.
— Тшимай, тшимай, — говорит поляк. Валентино кладет сухарь в карман и спускается по обрывистой тропе в яму, где работают штрафники. Сверху мы видим, как он осторожно сходит к зеленому озеру и, придерживаясь за острый выступ скалы, зачерпывает воду… В яме носятся штрафники — это «мёрдеркомандо», команда убийц, свезенных в Маутхаузен из каторжных тюрем; говорят, здесь должны уничтожить их: бывшие убийцы провели за решеткой по десять — пятнадцать лет, они уже старики, убивать больше не могут и поэтому не годятся на должность лагерных надсмотрщиков…
Валентино снова с нами. Я приглашаю его немного отдохнуть в уборной.
Мы сидим на отполированной доске за тесовой загородкой. Я угощаю его окурком, подобранным вчера на аппельплаце. Он затягивается. Окурок слабо потрескивает.
— Если я выйду живым из Маутхаузена, — медленно говорит Валентино, — я вступлю в компартию.
— Это хорошо, — говорю я. — Тебя должны принять.
— Если выйду.
— Конечно.
Он, обжигая губы, докуривает окурок, но еще не может успокоиться.
— Коммунисты умеют умирать, я однажды видел… Не все люди умеют как следует умирать.
— Да.
— Они умирали хорошо. Партизаны. Я видел. Хорошо умирает тот, кто хорошо, по-человечески живет… Я жил не очень хорошо.
— Ты будешь хорошо жить, Валентино.
— Я буду хорошо жить, — подтверждает он. — Я буду убивать эсэсовцев.
— Мы потом вместе убьем Кролика, — говорю я. — Почему он сказал тебе «ваше сиятельство»?
— Я граф, — отвечает Валентино. — Мне наплевать на графа.
— Не ты ли племянник герцога Бадольо?
— Мне наплевать на герцога Бадольо… Я дам тебе полсухаря.
Мы сгрызаем польский сухарь, поднимаемся с отполированной доски и идем носить камни.
3
Я живу теперь на двенадцатом блоке «зольного» лагеря. По сравнению с карантинным, восемнадцатым блоком и лазаретом здесь, верно, много вольнее. Мы имеем право, например, завтракать и ужинать, а по воскресеньям и обедать в комнате, в штубе, куда на карантине рядовых узников не пускают; у каждого из нас есть шкафчик, где хранится столовый прибор и полотенце; в спальной здесь двухъярусные койки с простыней и одеялом — койки полагается аккуратно заправлять; мы можем, не спрашиваясь, выходить из барака и гулять по лагерным переулкам до отбоя, менять колбасу на брюкву, разговаривать с камрадами. Правда, тут тоже бьют и занимаются муштрой, но не столь интенсивно, как на восемнадцатом.
В один из теплых воскресных дней начала апреля мы с Савостиным решаем прогуляться к первому блоку. Там находится лагерная канцелярия — «шрайбштуба», библиотека, составленная из книг преимущественно религиозного содержания, комнатка, где репетируют заключенные-музыканты, и комнаты, в которых живут проститутки; эти комнаты, вернее, все заведение, расположенное в них, именуется коротким непонятным словом «пуф».
Чтобы к нам не придрались уголовные начальники или блокфюреры, мы сперва проверяем, хорошо ли пришиты наши номера.
Потом мы обильно смазываем тавотом дерматиновый верх колодок, умываемся и, чувствуя себя франтами, выходим из барака.
Лагерь залит солнцем. От первого блока доносятся звуки штраусовского вальса «Весенние голоса». Чадит крематорий.
— Значит, культпоход, — говорит Савостин. На его припухшем желтоватом лице усмешка. — Приобщение, так сказать, к высшей цивилизации…
Мы дружно снимаем шапки перед эсэсовцем, хотя он и не смотрит на нас, — раздается единый хлопок. Мы уже ученые.
Приближаемся к первому блоку. В переулках прохаживаются такие же, как мы, пестрые люди. Звуки оркестра все громче: сегодня по случаю теплого воскресенья лагерные музыканты играют на улице.
— С чего начнем? — деловито осведомляется Савостин.
— С «катехизиса», конечно.
«Катехизисом» я называю белый щит, приколоченный над входом в «пуф». На нем черными буквами по-немецки написано пять условий, при которых узник Маутхаузена может стать вновь свободным человеком.
Огибаем угол барака и, так как мы в непосредственной близости от лагерных ворот, опять на всякий случай сдергиваем шапки.
Перед входом в «пуф» — очередь, человек двадцать. Среди них — капо Вицек и старшина нашего блока, морщинистый немец по кличке Хрипатый.
— Читай, — просит Савостин и указывает глазами на белый щит.
— Пункт первый, — переводя с немецкого, читаю я, — чистоплотность. Пункт второй: повиновение. Пункт третий: трудолюбие. Пункт четвертый: дисциплинированность. Пункт пятый: любовь к отечеству.
— Любовь к отечеству? — изумленно произносит Савостин (мы с ним уже дважды разбирали этот «катехизис», и он всякий раз удивляется). — Ну-ка, как это по-немецки?
— Прочти сам.
— Ли-бе цум фа-тер-лянд, — по складам выговаривает он. — Значит, если я хочу вернуться домой, то я должен… Они полоумные?
Из «пуфа» выходит Штумпф. Мы отворачиваемся. Оркестр продолжает с чувством играть «Весенние голоса».
Мы видим, что дежурный эсэсовец надевает железные наручники на человека в разорванной полосатой одежде и ставит его к башне ворот. Руки человека вывернуты за спину, от них к стене тянется ржавая цепь.
— Беглец… Пытался бежать в свое отечество, — говорит Савостин. — Нет, наглядная агитация у них все же не на высоте, вернее, достигает не той цели, какая им желательна.
Мне нечего на это возразить. Мы дружно надеваем шапки и идем к фасаду первого блока, где сидят музыканты. В конце аппельплаца чадит массивная крематорская труба. На площади по двое, по трое гуляют опрятно одетые узники.
Мы стоим некоторое время перед оркестром, смотрим на занавешенные окна с белыми решетками — это окна «пуфа», — затем медленно шагаем прочь.
Внезапно слышится треск мотора. Мы оборачиваемся. В лагерь въезжает мотоциклист. Заключенные, гулявшие на аппельплаце, бросаются врассыпную. Савостин и я вбегаем по ступеням в застекленный тамбур шестого блока.
Мотоциклист делает по опустевшей площади круг — когда он проезжает мимо, я узнаю в нем лагерфюрера Бахмайера, — потом, развивая бешеную скорость, чертом вырывается из лагеря. В раме распахнутых ворот видны голубые холмы, и по другую сторону каменоломни, на горе красная черепичная крыша крестьянского дома.
— Быть потехе, — мрачно вещает кто-то.
«Потеха» начинается в полдень. Как только заканчивается церемония проверки, которая здесь, в общем лагере, по воскресеньям проводится на аппельплаце, Бахмайер вызывает из строя музыкантов. Они выносят свои инструменты и рассаживаются около первого блока. Нам снова приказывают обнажить головы.
Я гляжу налево. Дежурный эсэсовец снимает наручники с человека в полосатой одежде. Другой эсэсовец выводит из башни громадного, золотистой масти дога.
Бахмайер отдает какое-то распоряжение музыкантам.
Что сейчас будет, мы знаем… Я не хочу смотреть на это, не хочу этого слышать: я достаточно насмотрелся и наслушался. Я слышу первые такты штраусовского вальса «На прекрасном голубом Дунае»: тихие звуки, как воспоминание, как сказка, плывущая из глубины веков.
Красота… Нет, красота без доброты — это не красота. Красота, сопровождающая пытку, — это двойная пытка. Проклятые человекообразные скоты, проклятые палачи-психологи!
Я приказываю себе ничего не видеть и не слышать. Я стискиваю зубы, опускаю глаза. Я ничего не вижу и не слышу…
Чудовищный клубок проносится перед строем — клубок воя, топота, крика… Этот клубок внутри меня, говорю я себе. Мне просто так кажется. Мою голову ломит от дикой музыки, но она во мне. Никакого Штрауса не было и нет. Мне это только кажется. Мне все кажется: лай пса, тонкий отчаянный крик, грубые команды эсэсовцев, голубая волна вальса — все кажется, только кажется, и ничего этого на самом деле нет.
Есть тиф. Есть тифозный бред. Но он тоже во мне, и он кончится, потому что все на свете когда-нибудь кончается.
Вой, крики, топот, рычание пса откатываются все дальше… Меня толкают в бок. Наступает тишина.
— Мютцен ауф!
Рука автоматически надевает шапку.
— Им гляйхшрит марш!
Шагаем в ногу к своему, двенадцатому блоку.
— Приобщились, ничего себе, — спотыкаясь, бормочет Савостин.
4
Афоня сидит на каменном брусе и ест из котелка брюквенную похлебку. Я сижу на тяжелой тачке— «каре» и тоже ем. Бухают выстрелы — это, как всегда, в обеденный перерыв гражданские мастера рвут скалы. Настоящая ружейная пальба, целая серия частых звучных выстрелов.
Мы обедаем в одном углу каменоломни, а в другом работают подрывники. Пока с утра мы носим камни, они длинными бурами пробивают в скалах дыры, закладывают взрывчатку, вставляют запалы. Гражданским мастерам помогают заключенные-испанцы. Я знаю одного из них: он приятель моего камрада барселонца Маноло.
Пальба не прекращается. Афоня облизывает ложку и все пристальнее поглядывает на стену заключенных, которые, приближаясь, получают похлебку…
Наконец дорога, на которой, перегораживая ее, стоят бачки, пуста.
— Кому сегодня добавка? — спрашиваю я Афоню.
— Кажись, чехам и полякам.
— А испанцы и греки разве получали?
— Вроде нет, тогда их очередь. Правильно, вчерась давали норвежцам и голландцам.
Это — нововведение оберкапо Зарембы: отныне добавка выдается организованно, по национальному признаку; в течение недели немцы, норвежцы и голландцы получают ее три раза, французы, итальянцы, испанцы и греки — два, чехи, поляки и югославы (сербы, словенцы, хорваты) — один раз. Русским и евреям добавка не полагается.
— Sämtliche Spanier, — басит Заремба.
— Всем испанцам, — переводит Афоня. — Поздравляю, землячок.
От толпы отделяется группа человек в пятьдесят. Несколько минут спустя ко мне подходит коренастый синеглазый испанец в брезентовой спецовке — Маноло. Мы заходим за дощатый барак, где зимой работают каменотесы, и он отливает в мой котелок половину своей добавки. Показываются другие испанцы. Они тоже делятся с камрадами — среди камрадов вижу знакомого польского еврея Юзика.
— Что нового, Маноло? — управившись, говорю я.
— Прима, — отвечает он. — Совьетик трум, трум нах Одесса — Гитлер Одесса капут; совьетик трум, трум нах Минск — Гитлер Минск капут.
Значит, бои идут за Одессу и Минск, соображаю я…
Гудит низкий резкий гудок на камнедробилке. Обеденный перерыв заканчивается.
— До свидания, Маноло.
— Дозвидани, камрада.
Хороший человек — Маноло. Он коммунист, боец республиканской армии. После победы Франко он сидел со своими товарищами во французском лагере. Потом пришли немцы и увезли их в Маутхаузен. Тут в каменоломне «Винерграбен» эсэсовцы убили больше шести тысяч испанских узников. Их сбрасывали с обрыва в зеленое озеро — с той поры скалистая стена, возвышающаяся над озером, называется «стеной парашютистов». Обо всем этом мне рассказывал Маноло при первой нашей встрече…
Когда вечером возвращаемся с работы, я говорю Афоне, что, по моим наблюдениям, испанцы — самые дружные здесь, в Маутхаузене. На днях, проходя мимо восьмого блока, я видел, как, подобравшись сзади к старшине, испанцы накинули на него одеяло, исколотили, а потом, как кошки, повыпрыгивали в раскрытые окна.
— Тоже не все у них одинаковые, — замечает Афоня. — Которые коммунисты, они, конечно, верно, а есть у них еще эти… как их… анархисты, дак они тоже, не приведи господь, не все, понятно. У нас работает капом один испанец-анархист. Дак они сами его били, сами испанцы…
— Чехи тоже дружные.
— И чехи всякие, — говорит Афоня. — И русские всякие, и немцы, и французы, и поляки.
— Немцы-политзаключенные все хорошие, — говорю я, — кроме Штумпфа и Сеппа.
— Насчет немцев особо не возражаю… Между прочим, у меня камрад — немец, Тоня его зовут, коммунист.
— Иоганн тоже коммунист.
— В Маутхаузене они с красными винкелями, большинство коммунисты.
— Откуда ты знаешь?
— А узнать их просто и не токо что среди немцев… Ты приметь: как человек мал-мальски хороший, то есть ежели он делится добавкой и вообще сочувствует, то считай без ошибки — коммунист.
У Афони ясные глаза, белесые брови торчком.
— Молодец ты, Афоня!
— Пошто же молодец?
— Глаза у тебя такие… точные…
— Глаза у меня ничего, — соглашается он. — Я в армии на снайпера учился.
Мы приближаемся к воротам. Подравниваемся в затылок и по рядам.
За нашей спиной опять начинается стрельба: подрывники рвут скалы… Если бы украсть у них тола и рвануть эти стены и башни!
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
1
Я в новой рабочей команде. Вот уже месяц, как нас в каменоломне заставляют таскать кирпичи, тес, железные балки. По слухам, мы строим авиационные мастерские.
Настроение тягостное. Мы не хотим строить, а отказаться нельзя. Мы стараемся работать как можно медленнее — нас понукают, бьют, нам грозят расправой. Недалеко от строительной площадки, на пологом выступе холма, стоит домик начальника охраны Шпаца. Многие из нас уже попробовали его плети. Шпац обычно разъезжает по каменоломне на велосипеде. Заметит какого-нибудь особенно худого человека без рубашки, несущего камень, быстро подкатит и сунет ему ножом. Он и нас, строителей, наверно, всех переколол бы с удовольствием, но мы нужны…
Мы работаем опять вместе: Жора Архаров, Савостин, Янсен и я. Толкачева и Затеева после выписки из лазарета отправили в один из филиалов Маутхаузена, в лагерь «Линц-III», Костюшина, Ираклия и Зимодру — в лагерь «Гузен», Виктору Покатило удалось пока зацепиться в лазарете.
Мы проклинаем свою работу и не знаем, как от нее избавиться. Жора Архаров считает, что надо затеять скандал: пусть нам всыплют по двадцать пять горячих и отошлют носить камни. Савостин подавленно вздыхает… Один Янсен никак не выражает своих чувств — спокойный рыжеватый Коля Янсен. Он скуп на слова, никогда ни на что не жалуется; я ни разу не видел, чтобы он улыбнулся. Просто удивительно, как человек с таким характером мог быть политруком.
Другое дело — Жора Архаров. Этот весь нараспашку — общительный, говорливый, неуемный. Ему чаще других достается от надсмотрщиков, но Жора не падает духом. И опять меня немного удивляет, как он со своей непосредственностью мог быть нашим разведчиком. Ему бы быть политруком — таких, как Жора, бойцы любят, — а замкнутому Коле Янсену — разведчиком.
Савостин мягок и душевен, легко пугается, но тут же берет себя в руки. Я его люблю. Я уважаю Янсена, с Жорой мы приятели — у нас много общего, — а Савостина я еще люблю как человека. Мы теперь живем на одиннадцатом блоке, и наши койки рядом. Мы с ним напарники: вместе едим, вместе проводим свободное от работы время…
Снова воскресенье. Пылает июньское солнце. Возле шрайбштубы играет оркестр, по площади прогуливаются заключенные, дымит крематорий — все своим чередом.
Мы с Савостиным прохаживаемся перед нашим блоком, обсуждая последние военные новости. Я, как всегда, высказываю самые оптимистические прогнозы, я уверен, что к концу лета немцы будут разгромлены, — Савостин поосторожнее меня, но в общем разделяет мои надежды.
— Так что мастерских мы им не успеем построить, — говорю я, имея в виду близкий конец войны, говорю об этом и вижу, что знакомый парнишка, работающий на кухне, Васек, делает мне настойчивые знаки подойти.
— Иди, может, брюквы даст, — говорит Савостин. Васек ведет меня в умывальную (вашраум) и просит спрятать под куртку тяжелый горячий котелок, закрытый крышкой.
— Давай на четырнадцатый, — шепчет он. — Там новенький, москвич, тренер «Спартака».
Шагаем на четырнадцатый блок. Тренер «Спартака»— это интересно. Надо обязательно поддержать тренера «Спартака»… Мы находим среди сидящих на булыжнике светлоголового светлоглазого человека.
— Вот, — говорит Васек. — Вы знакомьтесь, а мне пора на работу. До завтра.
Я сажусь на теплый булыжник и достаю тяжелый котелок. Тренер «Спартака» Алексей Костылин благодарит. У него узкое лицо, высокая шея, волевой рот.
Я слегка взволнован. Я сижу рядом с тренером «Спартака», я, обыкновенный смертный, вчерашний школьник, часами гонявший мяч. Он, разговаривая, приглядывается ко мне.
На следующий день после работы, взяв у Васька суп (ему самому опасно носить: как рабочего кухни его могут обвинить в воровстве), я снова иду к тренеру «Спартака». Мы говорим о положении на фронтах, и опять я чувствую, что он приглядывается. Почему он приглядывается?.. При третьей встрече получается так, что я рассказываю Костылину о себе, об обстановке в лагере, о строящемся авиационном предприятии. И вдруг я слышу слова, которые потрясают мою душу.
— Надо с ними бороться, организованно бороться. Нельзя допустить, чтобы они руками политзаключенных строили самолеты. — И дальше шепот — Во всех лагерях существует антифашистское подполье, есть центр, и в Маутхаузене теперь должны быть его представители… Подумай, что в этих условиях вы могли бы сделать полезного для Родины. Подумай несколько дней и тогда скажешь мне.
Он сильно пожимает мне руку. Я очень взволнован. Мы договариваемся встретиться в пятницу вечером.
2
Я взволнован и еще больше обрадован. И я горд, что Костылин открылся мне. Конечно, это он и есть представитель подпольного центра, ого специально направили к нам в Маутхаузэн. Вероятно, он даже наш разведчик и, возможно, поддерживает связь с Москвой.
Это же такое счастье, такое счастье, что он прибыл к нам! Несомненно, что наш генеральный штаб узнал о строительстве в Маутхаузене авиационного предприятия, и вот сюда срочно прислали разведчика, связанного с подпольным антифашистским центром… Какой я все-таки счастливый!
Я долго не могу успокоиться, хожу взад и вперед под окнами барака, наконец решаю переговорить с Савостиным о том, что могли бы мы сделать здесь полезного для Родины. Мы стоим у глухого участка барачной стены.
— Послушай, Володя, — говорю я, — по-моему, нам надо взорвать мастерские… Подожди, выслушай меня. Мы можем раздобыть через испанцев взрывчатку и заложить ее в кирпичную стену. Для этого, видимо, придется создать подпольную организацию. Доставку взрывчатки я возьму на себя. Мы все точно рассчитаем и взорвем. Среди эсэсозцев начнется паника, этим можно воспользоваться, разоружить охрану и бежать… Постой, не перебивай. Я подаю лишь идею. Как все это сделать, надо хорошо продумать, я подаю только идею. Мы скроемся в лесу и будем с боем отходить на север, к чехословацкой границе. Там партизаны. Но это пока лишь идея. Это все надо точно рассчитать и продумать… Как твое мнение?
Савостин испуганно глядит на меня.
— Ты не заболел?
— Почему же я заболел? Разве мы не солдаты, разве война закончилась? Это наш прямой долг — драться, когда появляется такая возможность.
— Да где эта возможность? — Савостин широко раскрывает серые встревоженные глаза. — Они перебьют нас в первую же минуту.
— Всех не перебьют. На фронте тоже многих перебивают. Но мастерские мы обязаны взорвать — это наш долг.
Савостин молчит. Я вижу, что он уже справился с волнением.
— Ты прежде всего не горячись, — чуть повременив, говорит он. — Над твоей идеей стоит подумать, но, не горячись. Посоветуйся с Колей Янсеном…
Я стою у глухой стены барака с Янсеном. Его лицо будто серая маска: ни черта нельзя понять, что он чувствует.
— Ну, как ты считаешь, Николай? — спрашиваю я. — Можем мы для такой цели создать подпольную организацию или хотя бы диверсионную группу?
О нашем разведчике, связанном с Москвой, я умалчиваю. Я не говорю о нем ни Савостину, ни Янсену. Это тайна, которая доверена пока только мне.
— Ты вот что, — тихо отвечает Янсен, — ты пока больше никого не посвящай в свои планы.
Очень спокойный, до противного спокойный, он уходит, так и не высказав своего отношения к моей идее…
В четзерг рано утром меня останавливает на аппельплаце парень в темном берете.
Его лицо мне знакомо: он работает тоже в каменоломне, и однажды я слышал, как его называли — Иван Иванович.
— Давай походим, — улыбаясь, предлагает он.
У него тонкие губы и близко придвинутые к переносице глаза. Несимпатичное лицо. И вообще он не похож на военного, а к таким у меня несколько настороженное отношение. Правда, судя по номеру, он старый «хефтлинг».
— Ты провалился, — негромко говорит Иван Иванович и чуть-чуть улыбается. — О твоих планах знает весь лагерь.
Меня бросает в жар.
— О чем ты болтаешь? О каких планах? Кто провалился?
— Ты.
Черт побери, кто же меня выдал?.. Неужели Савостин?
Не может быть. Янсен?
Тоже не может быть.
Больше ни с кем я не разговаривал насчет взрыва. Савостин или Янсен?
— Весь лагерь уже знает, — говорит Иван Иванович, следя за моим лицом большими, черными, узко поставленными глазами.
Савостин или Янсен?..
Меня арестуют. Задушат в газовой камере или затравят собаками… Лучше сам брошусь на проволоку под током, решаю я.
— Что знает весь лагерь?
— Что ты хочешь взорвать мастерские и бежать, — отвечает Иван Иванович.
Савостин или Янсен?.. Подлецы, иуды!
— Это чепуха.
— Не чепуха. Весь лагерь знает. — Тонкие губы, подрагивая, улыбаются, близко сдвинутые глаза, кажется, сливаются в один большой глаз, который следит за мной.
Ничего, я успею броситься на проволоку, успокаиваю я себя. Это быстро — одно мгновение… Меня выдал, конечно, Янсен, мне всегда не нравилось, что он не тощий. Янсен, Янсен…
— Что ты еще хочешь сказать мне? — с ненавистью говорю я Ивану Ивановичу.
— Больше ничего. Просто жалко тебя, пацана.
Он снова взглядывает на меня большим внимательным глазом и сворачивает в переулок.
Опять неудача, думаю я. Опять провал. Хорошо еще, что я ни словом не обмолвился о представителе подпольного центра… А может, мой разговор с Савостиным или с Янсеном кто-нибудь подслушал?
На работе я с подозрением посматриваю на Янсена и Савостина. Я не разговариваю с ними. Я ношу кирпичи и наблюдаю за домиком Шпаца. Я внутренне сжимаюсь при появлении на строительной площадке каждого эсэсовца… Только бы они не арестовали меня на работе: здесь нет проволоки под током. А в лагере я успею добежать до колючего забора, если они придут за мной. Надо, чтобы они попытались арестовать меня в лагере: я успею добежать до забора и схватиться за проволоку…
День тянется чудовищно долго — это самый длинный день в моей жизни. Меня не арестовывают до обеда. Я ем похлебку.
— Ты что-то сегодня вроде не в себе, — говорит Савостин.
— Тебе мерещится. Он меня выдал?
— Что с тобой? — В его глазах тревога. Нет, не он выдал меня. Савостин не из тех.
— Что с тобой? — повторяет он. Я встаю.
— Ты никому не говорил о том? — Я спрашиваю очень тихо, почти шепотом.
Он пугается.
— А что? Кто-нибудь узнал?
Нет, не он, не Савостин.
— Нет, — отвечаю я. — Никто ничего не узнал. — Зачем его волновать, думаю я. Если они явятся за мной, то я брошусь на проволоку, и концы в воду. — У меня сегодня здорово болит голова, — говорю я. — У меня после контузии при таком солнце всегда болит голова.
Савостин, кажется, успокаивается и идет к ручью мыть котелок… Это не он проболтался, я уверен в этом. Проболтайся молчальник Янсен. Именно проболтался кому-то, а не выдал, потому что если бы он хотел выдать, то эсэсовцы уже арестовали бы меня.
Янсен неторопливо и аккуратно доедает похлебку.
— Можно тебя, Николай?
— Да.
Мы тоже спускаемся к ручью.
— Ты кому-нибудь говорил о том?
— Нет. А что такое? — Янсен зачерпывает в котелок воды и не глядит на меня.
— Слово коммуниста?
— Я не болтун и не люблю высоких фраз, — отвечает он.
Нет, он тоже не выдавал меня. И он не болтун, это верно.
— Ты больше не подходи ко мне, Коля, — говорю я. — И Савостину скажи, чтобы не подходил… Я, кажется, попался. О моем замысле узнали посторонние. Не подходите больше ко мне.
Лицо Янсена неподвижно. Он протягивает мне котелок.
— Выпей, успокойся. Не паникуй и молчи. Ничего с тобой не случится.
Он поворачивается и уходит.
Если бы ничего не случилось… Я не хочу бросаться на проволоку, не хочу, чтобы эсэсовцы арестовали меня: я очень хочу жить!
3
Меня не арестовывают. Ни после обеда, ни вечером в лагере. На всякий случай я пока держусь подальше от товарищей, брожу между восьмым и тринадцатым блоками: отсюда близко до колючего забора, заряженного током.
Отсюда рукой подать и до Костылина, но, к сожалению, я не могу подойти к нему. А вдруг за мной следят? Может, меня специально не арестовывают, чтобы выследить, с кем я связан… Какой я неудачливый! Еще не успел ничего сделать и сразу провалился…
А почему, между прочим, я решил, что Костылин наш разведчик? Он бывший тренер «Спартака», советский офицер, попавший в плен… Но он, конечно, связан с антифашистским подпольем, он ясно намекнул об этом. И я хочу бороться в антифашистском подполье. И я знаю лишь один путь к нему — через Костылина.
Завтра вечером он будет ждать меня. Если сегодня меня не арестуют — значит, я еще не совсем провалился. Надо завтра как-то сообщить ему об осложнениях. Может, через Савоетина? Янсен сказал, что со мной ничего не случится, только я должен молчать.
Как это понимать?
А не связан ли Янсен с Иваном Ивановичем? Может быть, Иван Иванович просто попугал меня? Может быть, они просто решили заставить меня отказаться от своего замысла?.. Кто они? И зачем им это нужно?..
Я вижу командофюрера Кролика, сворачивающего в наш переулок. Я быстро иду к пятнадцатому блоку — там рядом проволока под током. В двух метрах от запретной зоны оборачиваюсь — Кролика нет. Иду обратно и вижу его спину: он вышагивает к восемнадцатому блоку.
На меня смотрит худой синеглазый человек в суконной фуражке-тельманке. Он наблюдает? Я засовываю руки в карманы и, небрежно насвистывая что-то, вновь направляюсь к пятнадцатому блоку. Синеглазый догоняет меня.
— Гуляете?
— Гуляю.
Останавливаемся. Он выше меня, но худ, сутуловат, веки его воспалены…
Я ударю его ногой в пах и брошусь на проволоку, думаю я.
Мы приглядываемся друг к другу. По-моему, я где-то видел его, вероятно, еще на восемнадцатом блоке. У меня хорошая память на лица, и этого человека я уже видел. У него хорошее лицо — худое, смуглое, с умными, немного насмешливыми глазами. Конечно, я уже не раз видел его. Он очень худой, это хорошо.
— Вы, кажется, ленинградец? — спрашивает он.
— Я два года жил в Ленинградской области, — отвечаю я.
— Мне говорили, вы ленинградец.
Теперь я точно припоминаю его. Он встречался на восемнадцатом блоке с Леонидом Дичко. Его зовут Валерий, он ленинградец.
— Я только собирался учиться в Ленинграде, в институте, — говорю я. — Вы Валерий?
— Да.
«Странно все же он знакомится, — думаю я. — Почему он сперва наблюдал за мной?»
Он усмехается, его толстые губы расклеиваются, показывая белую полоску зубов.
— Наверное, я что-нибудь напутал. Ну, это неважно. Мы все, русские, тут земляки. Походим вместе?
Мы медленно бредем по переулку к одиннадцатому блоку…
А не заманивает ли он меня поближе к крематорию?
У Валерия ввалившиеся щеки, тонкая шея — это хорошо. Значит, тоже голодает. Провокаторы не голодают. И потом у него насмешливые глаза. Это тоже хорошо.
Мы выходим на аппельплац, по которому, как всегда, по двое, по трое прогуливаются старые заключенные. Здесь можно разговаривать, не опасаясь, что подслушают… Зачем он ведет меня на аппельплац?
Валерий берет меня под руку — так удобнее. Он тоже старый заключенный. И я теперь сравнительно старый заключенный.
— Мы вспоминаем о Ленинграде, мы земляки, — предупреждает он. — Условились?
— Да. А вы знаете, как меня зовут?
— Знаю. — В его глазах тухнут насмешливые огоньки. — Я знаю и другое о вас… о тебе. Ты затеял рискованную игру, ведешь разговоры о какой-то подпольной организации, о взрыве, о побеге. Такие разговоры были бы простительны новичку, а тебе…
— Я не понимаю. — Меня снова бросает в жар, но не так сильно, как утром.
Дьявол побери, как же они все-таки узнали? Через кого? Через Янсена?.. Но не весь лагерь узнал, не весь. Эсэсовцы не узнали — иначе я был бы уже арестован.
— Не понимаю.
— Брось притворяться, — глухо, но твердо говорит Валерий. — Ты связан с ребятами, работающими на кухне, ты посвящал в свои планы Савостина… Ты отдаешь себе отчет, что за подобные разговоры — за одни только эти разговоры — эсэсовцы могут уничтожить сотки людей?
Он все знает. И про Савостина знает. И про Васька… Но эсэсовцы ничего не знают… Я понемногу успокаиваюсь.
— Неужели тебе не ясно, что ты ставишь под удар всех русских в Маутхаузене? — продолжает он.
— А ты вообще как хотел бы? — чувствуя себя увереннее, говорю я. — Ты хотел бы пересидеть здесь всю войну без риска? Или ты предпочитаешь, чтобы нас без всякого сопротивления уничтожали по одиночке— в газ-камере или на колючей проволоке? Тебя такой путь устраивает? — Краем глаза вижу, что Валерий беспокойно озирается… Пусть озирается — я выскажу ему все. — Меня и моих друзей, например такая смерть не устраивает. Мы хотим еще повоевать, и если ты честный советский человек…
Может, удастся и его сагитировать, мелькает в го лове.
— Хватит. — Валерий больно стискивает мой локоть. — Теперь послушай меня. То, что ты замыслил это авантюра, это все обречено на провал. По сути ты проповедуешь массовое самоубийство. Взорвать мастерские вам все равно не удастся, это технически неосуществимо, тут, в Маутхаузене, это технически неосуществимо. И даже если бы, допустим удалось подорвать одну из стен, ее через неделю восстановят, а вот убитых людей никто не восстановит, убитых не оживишь… Побег отсюда тоже невозможен. Ты видел двух повешенных австрийских инженеров, которые попытались уйти из лагеря через канализационный коллектор?.. Ну, вот! Так что, если тебе надоело жить, — иди на проволоку, но не тяни за собой других. И запомни: всякие разговоры о побеге и взрывах мы будем рассматривать как ловушку для заключенных, и мы найдем способ помешать…
Интересно, кто «мы», кого он имеет в виду, думаю я.
— Пойдете, донесете эсэсовцам?
— Нет. Зачем? Просто кое-кто сумеет повлиять на твоих товарищей… Кстати, я что-то не очень верю, что ты сам заварил всю эту кашу… Кто дает установки вашей группе? Кто ставит вам задачи?
Ишь чего захотелось ему! Кто же он сам-то, этот Валерий? От чьего имени он разговаривает со мной?.. А может, он и есть представитель подпольного центра?
— Я жду, — говорит он. Пробую иронизировать:
— Тебя номер интересует или имя и фамилия? Я окончательно успокоился.
— Меня интересует, кто из новеньких толкает вас, дурачков, на самоубийство.
— Совесть, — отвечаю я. — Обыкновенная человеческая совесть.
— Ладно, — говорит Валерий. — Сейчас будет отбой… Поразмысли хорошенько над тем, что я тебе сказал.
Неожиданно он крепко пожимает мне руку и, не оглядываясь, скрывается в одном из переулков.
4
Я долго не могу уснуть. Ворочаюсь с боку на бок, слышу шаги эсэсовцев на пустынном аппельплаце, вижу в окно багровый язык пламени над трубой крематория, и думаю, думаю…
Я не попаду в него. Я не стану этим огнем. Я не провалился: просто Янсен рассказал обо мне Ивану Ивановичу, а тот, вероятно, Валерию. Валерий связан с Леонидом Дичко. А Дичко хранит орден Красного Знамени Зимодры, он настоящий советский человек. И Янсен: он тоже дружит с Дичко. И Иван Иванович, раз он заодно с Янсеном. Это, конечно, о них говорил Валерий «мы»…
Я гляжу на Савостина. На его лице — красноватый отсвет крематорского огня. Он спит, мой друг Володя Савостин. Спи, Володя. Мы не провалились.
Наискосок спит Жора Архаров. Отблеск багрового пламени и на его лице. Спи, Жора. Это хорошо, что ты дружишь с Янсеном, Коля Янсен — верный человек: он сказал, что со мной ничего не случится, и ничего не случилось.
Спи, Коля Янсен…
Я вижу огонь крематория даже с закрытыми глазами. Я поворачиваюсь на другой бок и говорю себе: спи, старший сержант…
И я сплю. И вижу обычные сны, которые мне снятся в плену вот уже скоро два года: родной дом, где я никак не могу поесть, потому что еда всякий раз необъяснимым образом ускользает из моих рук; колючую проволоку и часовых с винтовками, догоняющих меня. Я просыпаюсь, когда они меня убивают, но часто просыпаюсь не совсем — мне только кажется, что я просыпаюсь; на самом деле я перехожу в какую-то другую сферу сна, похожую на явь.
Скрипит дверь.
— Auf (Подъем)!
Начинается очередной концлагерный день… Или, может быть, это третья сфера сна, из которой я не могу выбраться?
Быстро заправляем койки, умываемся, пьем кофе, строимся. «Мютцен аб» — выходим за ворота. «Шнель, шнель!» — таскаем кирпичи. «Лос!» — посвистывает и щелкает резина.
Маутхаузен продолжается.
Вечером я встречаюсь с Костылиным. Он бодр: ребята с кухни договорились, что его возьмут в команду «картофельшеле». Это здорово: Костылин не будет голодать. Завтра его переведут на шестой блок, где живут рабочие кухни. Теперь он не умрет от дистрофии и сможет заняться тем делом, ради которого его прислали к нам.
— Я много думал над вашими словами, — говорю я Костылину, когда мы уединяемся в глухом конце двора. — Я пробовал даже кое-что предпринять, правда, пока не совсем удачно… Мне кажется, вам надо прежде всего познакомиться с одним нашим авторитетным товарищем, это ленинградец Валерий.
— Хорошо, — говорит Костылин. — Ты покажешь мне его. Он военнопленный?
— Да. Он настоящий советский человек, только очень осторожный. И он старый узник.
— На каком блоке он живет?
— На пятнадцатом. Но мы можем увидеть его на аппельплаце, сейчас он, по-моему, там.
Я прошу привратника-немца выпустить на полчаса моего земляка.
Четырнадцатый блок, хоть он и огорожен колючкой, это не восемнадцатый, режим здесь намного легче, и Костылин выходит.
Мы направляемся к аппельплацу. Валерий прогуливается по площади с прямым худощавым человеком.
— Вот этот в темной фуражке, который повыше, — говорю я Костылину. — Немного сутулится. Видите?
— Остроносый?
— Да, остроносый, в суконной фуражке.
— Вижу, — отвечает Костылин. — Все. Запомнил. Мы идем обратно.
— Как его фамилия?
— Не знаю, но могу узнать.
— Не надо, — говорит Костылин. — Я сам узнаю. Навстречу нам попадается Янсен. Он искоса быстро оглядывает Костылина и молча проходит мимо.
— Кто это?
— Вместе работаем.
А может быть, Костылин и не представитель подпольного центра?.. Откуда я это взял? Зачем я показал ему Валерия? А вдруг этот Костылин враг?
Мы доходим до четырнадцатого блока, и он прощается со мной. Сегодня Костылин сдержаннее: он ни разу не заговорил об антифашистском подполье и о необходимости организованно бороться. А может, просто-напросто за последние дни он лучше узнал, что такое Маутхаузен?
Он поднимается к воротам. У него острые плечи, шея высокая, но тонкая… Нет, не враг, решаю я. Он бывший тренер «Спартака», военнопленный офицер, и он хочет бороться, как и я.
5
Мы прохаживаемся по аппельплацу — я и тот худощавый прямой человек, которого я видел с Валерием. Его зовут Иван Михеевич, у него смешная фамилия — Копейкин.
— Вы, случайно, не капитан Копейкин? — Я вспоминаю известного гоголевского героя.
— Какое там капитан, я цивильный, — отвечает Иван Михеевич и смотрит на меня светлыми улыбающимися глазами.
У него много морщин, выпирающий подбородок, но лицо удивительно хорошее — душевное русское лицо.
— Я вез рыбу, а немцы меня хап — и в лагерь, — говорит он. — И все. Черт их задери-то совсем!
Лукавит, думаю я. Выправка у него военная. Кадровых военных даже лагерь не меняет: у них прямые кости…
Он из Ленинградской области, я тоже жил в Ленинградской области, и поэтому мы земляки. Валерий так и представил меня Копейкину: вот, мол, твой земляк, из одной области.
— А как ты сюда угодил? — спрашивает Иван Михеевич и опять смотрит на меня, теперь с легким прищуром, чуть испытующе.
— Это длинная история.
— Ты политрук?
— Я здесь числюсь политруком, но я не политрук. В последнее время работал в штабе дивизии, в оперативном отделении. Знаете?
— Откуда мне знать, что ты!.. И ранен был?
— Разок был и разок контужен, но не сильно. — По-моему, этот Иван Михеевич «прощупывает» меня — не просто знакомится, а именно прощупывает зачем-то.
— А в плен как попал?
— Контузили, а потом взяли — во время окружения, и Иван Михеевич сочувственно покачивает головой и косит «а меня умненький, с прищуром взгляд.
— И бегать, поди, из лагерей приходилось?
— Приходилось.
— Да, — говорит он, — чего только пережить не довелось русскому человеку… Ну, до свидания, земляк, заговорились мы с тобой.
— До свидания…
Прогуливаюсь с Валерием. Вспоминаем мирную жизнь. Неожиданно он спрашивает, знаю ли я, что союзники высадились на французском берегу.
— Знаю.
— Откуда?
— От камрадов.
— Теперь я буду сообщать тебе военные новости, — негромко говорит Валерий. — А ты передавай их своим товарищам. Согласен?..
Через несколько дней я вижу на аппельплаце Валерия и Костылина. Они сосредоточенно беседуют. Еще через несколько дней вижу Костылина с Иваном Михеевичем. И опять Иван Михеевич, кажется, строит из себя простачка.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
1
Я член подпольной организации Маутхаузена. Я подпольщик, настоящий антифашист. Радости моей нет предела. Я снова боец великой Красной Армии, и пусть в моих руках пока нет ни винтовки, ни автомата; пусть подразделение, к которому я теперь принадлежу, по-прежнему плотно окружают враги; пусть борьба неравная — мы воюем. Мы тоже наносим удары по врагу — мы, маленькая частица нашей сражающейся Родины…
— Надо помочь полковнику Иванцову. Старик сильно ослабел, помереть может. Будешь носить ему похлебку, — приказывает мне Иван Михеевич.
— Есть, — отвечаю я.
— Гляди только, не попадись. Обстановка сейчас — сам понимаешь…
Я понимаю. После покушения на Гитлера эсэсовцы особенно лютуют. Уголовники, одно время было поджавшие хвост, опять приободрились.
Не исключено, что установлена слежка за заключенными-коммунистами и, конечно, в первую очередь за советскими старшими офицерами.
— Возьми в вашрауме мой котелок и тащи, — говорит Иван Михеевич.
И я тащу. Полковник Иванцов живет на четырнадцатом блоке. Проникнуть сейчас туда через ворота трудно: привратники стали строже; передать сквозь проволоку вовсе немыслимо: если заметит кто-нибудь из «зеленых» (уголовников), то Иванцова изобьют и вдобавок могут учинить допрос.
Заворачиваю сперва на седьмой блок и всеми правдами и неправдами получаю с Кики старый долг — сигарету (между прочим, Кики принимает меня за русского цыгана). С сигаретой в кармане я чувствую себя увереннее. Дойдя до четырнадцатого, подзываю к проволоке одного русского, судя по бледному лицу, новичка.
— Иванцова знаешь?
— Дедушку?.. Позвать?
У проволочной сетки появляется невысокий, большелобый, очень истощенный человек.
— Здравствуйте, земляк.
— Здравствуйте, — отвечает он, видимо, чуть недоумевая.
— Вы сейчас можете подойти к окну в шлафзале, в спальной комнате, — поясняю я, — к окну, которое смотрит во двор пятнадцатого блока?
— Могу. А зачем?
— Я сам из Омска (Иван Михеевич сказал мне, что Иванцов из Омска)… Поговорить было бы желательно, земляк.
— Ну, давай! — Недоумение на лице Иванцова сменяется очевидной радостью.
С привратником пятнадцатого блока я немного знаком.
— Хочешь сигарету, Юпп?
— Тебе надо войти?
— Ты угадал, старый плут.
Он совсем не старый, но такова уж форма приятельского обращения у «зеленых».
— У тебя дело? — справляется он.
— Так, мелочь, маленький гешефт.
— Одной сигаретой ты, бродяга, не откупишься.
— Ты получишь полторы сигареты, безбожник. У меня в кармане припрятан еще окурок.
— Как ты сказал?
— Безбожник (Gottloser). — Я не уверен, что есть такое слово — Gottloser — в немецком языке: я сам сконструировал его от Gottlos.
— Готтлезер мне нравится, — заявляет Юпп. — Проходи, малыш.
Шагаю в глубь двора. В одно из окон справа просовывается коротко остриженная голова Иванцова. У него круглый носик, острые морщины на лбу, под глазами отечные мешки.
— Держите. — Я быстро протягиваю в окно котелок.
Он приседает и минуты через две вновь показывается, вытирая ладонью губы. Пустой котелок я прячу под куртку.
— Спасибо, — говорит он. — Но вы, конечно, не сибиряк.
— Нет… Пожалуйста, завтра в это же время опять подойдите сюда.
— Спасибо, — повторяет он. На его выцветших глазах внезапно проблескивают слезы. — Я уж не спрашиваю, кто вы.
— Я солдат.
— Это вижу. Спасибо тебе, солдат. — Иванцов, видимо, стесняется слез… Напрасно стесняется, думаю я. Я же все понимаю… Хотя и у меня ни с того ни с сего начинает пощипывать в носу: честное слово, сидит в окне такой вот плешивенький полуживой старичок, нос пуговкой, под глазами мешки, а ведь он полковник Красной Армии, полковник-артиллерист, когда-то гроза для немцев.
— У вас пухнут ноги?
— Пухнут.
— Завтра я постараюсь принести вам хлеба вместо баланды. А то от брюквы вы еще больше распухнете.
Иванцов кивает. Мы прощаемся… Если Иван Михеевич завтра даст опять суп, размышляю я, то я обращу его в хлеб. Я знаю, как это сделать: я опытный бандит, большевистский выкормыш, старый «хефтлинг».
2
Я боец антифашистского подполья. Я безмерно горд, что могу снова воевать с врагом — не в одиночку, не в составе мелкой группы, которая должна куда-то просачиваться; я чувствую, что нас много, мы едины, и мы не только обороняемся, но и наступаем…
— Работать как можно медленнее, — говорит мне Валерий. — Наши это понимают, а вот с некоторыми иностранцами сложнее. Кого ты знаешь из каменщиков-испанцев?
— Антонио.
— Что за человек?
— Он друг моего камрада, коммуниста Маноло.
— Тогда вот что… поговори сперва с Маноло. Скажи ему, что мастерские строятся слишком быстро, или лучше просто пожалуйся осторожно на каменщиков, это будет естественнее. Скажи, что вы, русские, не поспеваете за испанцами-каменщиками.
— Но они тоже не спешат, Валерий.
— Ничего, пусть работают еще медленнее… Значит, сегодня же поговори со своим камрадом. Вечером на аппельплаце передашь мне, что он скажет. Давай.
— Есть…
Уже середина сентября. Сказочно хороша Дунайская долина, вся зеленая и голубая, с дымчатой линией гор на горизонте, с краснокрышими домиками, с холмами, покрытыми светлыми кудряшками виноградников…
Сегодня гоняют нас, как давно не гоняли. Нас колотят палками и кулаками, пинают, хлещут плетью. На нас орет дюжина надсмотрщиков. За работой следит сам Шпац… В стороне, на расчищенной от камней площадке, стоит комендант лагеря СС — штандартенфюрер Цирайс — огромный, сытый пес, вместе с ним — группа офицеров вермахта и несколько штатских. Гости, по-видимому, не очень довольны результатами нашего труда; Цирайс, по-моему, даже оправдывается перед одним из штатских — сухопарым надменным человеком в пенсне. Надсмотрщики, погоняя нас, лезут вон из кожи. Мы, потные и встревоженные, бегаем с высунутыми языками. Перед обедом, когда начальство удаляется, Шпац устраивает показательную порку. На заляпанный цементом стол укладывают каменщика-испанца, предварительно стянув с него до колен штаны; один надсмотрщик держит его за руки, другой — за ноги, а Шпац, покрякивая от усердия, бьет его своей знаменитой плетью, сделанной из бычьих сухожилий. На смуглых ягодицах испанца вспухают красные рубцы, он дергается и вскрикивает, а потом умолкает. Мне кажется, что Шпац запорол его. Но, когда вместе с гудком на обед экзекуция заканчивается и Шпац, изрытая проклятия, уходит в свой домик, испанец без посторонней помощи слезает со стола, выплевывает разжеванную пуговицу, сбрасывает штаны, башмаки и шагает к ручью.
— Мэ каго эн диос (дермо на бога)! — кричит он, заходя в воду и показывая сухой темный кулак надсмотрщикам.
— Ту, шпаньяка, пас ауф (Ты, испанец, смотри), — нерешительно огрызаются те. С уходом эсэсовцев пыла у них сразу поубавляется.
Другие испанцы-каменщики, бранясь по-своему, оттесняют надсмотрщиков от ручья. Антонио протягивает руку пострадавшему и выводит его на берег.
— Me каго эн диос! — с азартом кричит тот и, нагнувшись, обращает исполосованный зад в сторону домика Шпаца…
Великолепные они ребята, испанцы!
Доедаем обеденную похлебку. Утихает пальба взрывников. Вместе с Маноло я подхожу к v Антонио— маленькому, носатому, очень живому человеку.
— Мучо драбахо (Много работай), — говорю я ему.
— Но! Мучо драбахо, — темпераментно отвечает он, — но, но, но!
Черта с два, мол, мы будем много работать.
— Русские ганц эгаль но, но мучо драбахо, — говорю я негромко.
— Эспаньоль ганц эгаль но, но мучо драбахо, — говорит Антонио.
То есть, нас, русских и испанцев, все равно ничем не прошибешь.
— Хорошо?
— Харрашо, камрада!
Много ли нам надо, чтобы понять друг друга!..
После обеденного перерыва надсмотрщики пытаются продолжить гонку. Испанцы выставляют дозорных — им со стены виднее — и усиленно стучат по кирпичной кладке пустыми кельмами. Мы, русские, подаем им кирпичи, раствор, убираем мусор. Они возвращают нам одни кирпичи и требуют другие, они ругаются: они мастера, а мы бестолковые подсобники. Мы в быстром темпе подаем им другие кирпичи, они в быстром темпе возвращают и эти. Работа кипит… Жора Архаров и Савостин таскают на носилках мусор. Они выносят его через одни двери и вносят через другие в противоположном конце здания. Они стараются, почти бегают с носилками. Работа кипит.
Надсмотрщики покрикивают, походя поколачивают нас, а в общем-то им, наверно, глубоко наплевать и на нас и на будущие мастерские. Они, бывшие карманники, шулера, фальшивомонетчики, добросовестно делают свое дело: они гоняют нас. Результаты нашей работы их не интересуют — главное, чтобы мы пошевеливались. Убивать нас пока не требуется: мы нужны, — что до идей, то идеи тоже не интересуют их.
Так мы и трудимся до самого вечера: бегаем, почесываемся от тумаков, подаем и принимаем кирпичи, собираем и разбрасываем мусор. Жора усердствует больше всех, и мне временами страшновато за него. Кружит и кружит по площадке, вдохновенно кружит. За ним, переставляя коротенькие ножки, топает Савостин… А вдруг подглядят эсэсовцы?
Но эсэсовцы после обеда не заглядывают к нам. Таков уж тут закон: напрягаться целый день и эсэсовцы не любят.
Возвращаясь в лагерь, я снова любуюсь Дунайской долиной и Альпами. Горы горят закатным огнем, багряно светятся окна крестьянского дома на поле за каменоломней, темнеет зелень садов, темнеют дали, и лишь на востоке над сумрачной чертой горизонта разливается длинная светлая полоса.
Валерий уделяет мне сегодня всего одну минуту.
Он не очень доволен мной: по его мнению, я поступил неосторожно, открыто договариваясь с испанцами. Надо было действовать через Маноло, как он, Валерий, говорил мне утром.
3
Я рядовой подпольщик. Я не знаю и не должен знать никого, кто борется рядом со мной. Я знаю только двух командиров — Валерия и Иван Михеевича. От них я получаю задания, перед ними отчитываюсь.
Они здесь для меня — олицетворение воли Родины. Их приказ для меня — приказ Родины.
Валерий приказал спрятать в уголке воротника кусочек бритвенного лезвия. Он объяснил, как можно быстро покончить с собой в случае провала: надо перерезать себе сонную артерию. И я перережу, я уверен, потому что таков приказ командира— приказ моей Родины — и еще потому, что приказ этот разумен: в случае провала будут пытать, а потом все равно убьют, и поэтому самое правильное и легкое — покончить с собой.
Валерию я особенно благодарен: он мой крестный. Через несколько дней после нашей первой беседы он спросил, доверяю ли я ему. Я ответил, что доверяю: он знал обо мне все, и со мной никакой беды не случилось. Он спросил, хочу ли я бороться с врагом тут, в Маутхаузене. Я ответил, что хочу. Он спросил, согласен ли я выполнять его некоторые поручения, например, оказывать помощь ослабевшим, распространять среди заключенных сводки Совинформбюро. Я ответил, что согласен. Он спросил: понимаю ли я, на что иду? Я понимал это. Тогда Валерий сказал, что я могу считать себя членом подпольной концлагерной организации Сопротивления. Я был счастлив. Под конец он познакомил меня с простейшими правилами конспирации.
Я ежедневно ношу по полпайки хлеба полковнику Иванцову, рассказываю друзьям о положении на фронтах (они потихоньку передают новости дальше), вместе со всеми товарищами стараюсь как можно медленнее работать. В условиях Маутхаузена это тоже борьба, но я, как, наверно, и многие другие, не перестаю мечтать о борьбе с оружием в руках.
Наступит ли час, когда мы ударим по сторожевым башням? Придет ли минута, когда Иван Михеевич (он, конечно, кадровый военный — майор) прикажет штурмовать эсэсовскую вахту?
— Все будет в свое время, не торопись, — как-то говорит мне Валерий. — Кстати, раз уж у тебя столько энергии, возьми на себя еще одно дело…
На улице дождь. Мутные потоки бегут вдоль тротуаров, свиваются в жгуты, бурлят на железных решетках в асфальте. Дождь сечет потемневшую площадь, прибивает к земле бурые клубы крематорского дыма… Кое-как развесив над койками промокшую на работе одежду, мы лежим и слушаем стихи Маяковского в исполнении Жоры Архарова. Точнее, лежат товарищи, а я кручусь около окна и двери. У меня в руках куртка и игла с ниткой — мне надо подремонтироваться. На койке уже плохо видно, а возле окна не на что сесть. Вот и кручусь.
По длинному фронту купе и кают Чиновник учтивый движется. Сдают паспорта, и я сдаю мою пурпурную книжицу.Жора чуть картавит, но читает выразительно: медленно, теплым, слегка приглушенным голосом.
В шлафзале, кроме нас, военнопленных политработников и командиров, находится большая группа гражданских, доставленных сюда из прифронтовой полосы. Есть здесь и такие, которые поначалу смалодушничали и пошли на службу к немцам, а потом, спохватившись, стали искать связей с партизанами, попались и были тоже отправлены в Маутхаузен. Не все они изменники, и кое-кого из них надо морально поддержать. Надо поддержать честным сильным советским словом и многих гражданских: им в концлагере особенно трудно, у них нет за плечами, как у нас, фронтовой школы и тяжелого опыта плена.
И вдруг, как будто ожогом, рот скривило господину. Это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину,—читает Жора, и чувствуется — сам переживает: его голос от волнения немного дрожит, голос постепенно растет, голос наполняет весь притихший шлафзал… Вечно он увлекается!
А если кто-нибудь попробует выдать его? Возьмет какой-нибудь подлец и пойдет доносить старшине блока Фрицу? Пусть попробует! Для того я и кручусь. Я пойду вместе с ним и, едва откроет рот, дам ему по зубам. Он, этот кляузник, скажу я, украл у товарища пайку, есть свидетели (ребята предупреждены и подтвердят). И Фриц поверит, конечно, мне: в нашем блоке никто не говорит по-немецки лучше меня.
…я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте. завидуйте, я — гражданин Советского Союза,—с пафосом заканчивает Жора.
— Аплодисментов не надо, — предупреждает он.
— Надо, — возражает кто-то и хлопает. — Давай, парень, еще, да погуще.
— Давай, — соглашается Жора. — «Товарищу Нетте, пароходу и человеку».
Неожиданно растворяется дверь, показывается сам Фриц — голубоглазый, русый, с квадратной челюстью: он в прошлом боксер.
За горами, за лесами, За широкими морями. Против неба — на земле Жил старик в одном селе,—невозмутимо, нараспев читает Жора.
— Что здесь происходит? — строго спрашивает Фриц по-немецки.
Жора умолкает.
— Русская народная сказка, — отвечаю я, — про маленькую волшебную лошадку.
— Weiter machen (продолжайте), — милостиво разрешает Фриц.
Жора рад стараться.
Мы живем. зажатые железной клятвой. За нее — на крест, и пулею чешите: это — чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитьем…Сукин сын, Жора! Молодец, Жора!
— Rossija — das ist Russland, nicht wahr? — справляется Фриц,
— Точно (Stimmt), — говорю я. — Россия — по-немецки Русслянд.
Фриц уходит. Жора продолжает:
…чтобы. умирая. Воплотиться в пароходы. в строчки и в другие долгие дела.ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
1
Ноябрь.
Хмурое, мглистое небо, ледяной ветер. Около крематория — цепочка заключенных. Они покорно, шаг за шагом, очень медленно и, кажется, спокойно движутся к черной двери. Они по одному входят в дверь. Глухо стучат за каменной стеной крематория выстрелы.
Люди делают несколько шагов и останавливаются — стучит выстрел. Через минуту опять несколько шагов, опять останавливаются, и опять выстрел. Некоторые едят хлеб. Два эсэсовца, присматривающие за очередью, курят и разговаривают о чем-то своем.
Я стою с бывшим своим сослуживцем Павлом Самойловым у одиннадцатого блока. Мы прижимаемся спиной к дощатой стене — пронизывает ледяной ветер. Серые глаза Самойлова, не мигая, глядят на цепочку людей. Стучит выстрел. Глаза моргают. Но лицо остается неподвижным — знакомое, только очень бледное, неестественно бледное лицо… Старший лейтенант Самойлов, начальник связи штадива, мой дорогой фронтовой товарищ («…очень корректный… любитель старинных романсов…») — неужели это ты?
Неужели это все было — наши ночные марши по заснеженным калининским полям, бои, в которых, наступая, мы били немцев, и бои, в которых они били нас? Неужели еще в этой жизни был суровый Павлычев, и добродушный Ерошкин, и техник-интендант второго ранга Костя Мешков, милый Костя, и веселая Аида, и наши лесные блиндажи, радости и огорчения, и вера в нашу скорую победу?..
Стучит выстрел. Моргают глаза. Где-то за сотни километров отсюда на восток грохочет наша артиллерия.
— Завтра меня тоже расстреляют, — говорит Самойлов. — Я приговорен к смертной казни. Мы портили оборудование на одном заводе, нас поймали, потом судили… Вот видишь, мне даже не дали лагерного номера.
Я знаю, что это такое, когда не дают лагерного номера: его, Самойлова, должны расстрелять. Он живет пока на тринадцатом блоке — его лишь вчера привезли в Маутхаузен. Его не посадили ни в бункер, ни на карантин — они переполнены. В последнее время, чуя свой близкий конец, эсэсовцы вообще прекратили всякую маскировку и открыто казнят людей.
Цепочка делается все короче. Дует пронизывающий ноябрьский ветер. А где-то на полях Польши и Румынии бушует огонь орудий, рычат танки, стремительно проносятся над бурой землей краснозвездные штурмовики. Идет война… Стучит выстрел.
— Тебя не должны расстрелять, — говорю я Самойлову. — Иди отдыхай.
Мы прощаемся. Он уходит.
Я бегу переулками ко второму блоку. Темнеет, в бараках зажигается свет. Я вижу Валерия, он разговаривает с высоким угловатым человеком. Этот высокий— полковник Шаншеев. Я останавливаюсь шагах в десяти и жду. Валерий кивает мне. Я жду минут семь. Наконец они заканчивают. Я подхожу к Валерию. Я рассказываю ему о Самойлове, я прошу спасти Самойлова. Я знаю, что нашей организации иногда удается спасать от смертной казни. Я знаю, как это делается. Надо только найти способ отправить Самойлова в лазарет — там наши люди дадут ему номер умершего. Надо переправить Самойлова в лазарет немедленно, утром. Я бесконечно верю в силу нашей организации, и я прошу Валерия сделать все возможное, чтобы отправить Самойлова в лазарет…
Валерий не должен отказывать мне. Он должен помочь. Прежде всего потому, что Самойлов — достойный человек, коммунист, патриот: он тоже боролся в плену… Я редко обращаюсь к Валерию с просьбами, и он не должен отказать. Недавно мне удалось сочинить стихотворение, которое похвалил Франц Далем, бывший редактор «Роте фане», друг Эрнста Тельмана. Стихотворение перевели на немецкий, французский и испанский. Его назвали гимном узников Маутхаузене. Конечно, нехорошо, что я напоминаю об этом, но пусть Валерий поймет меня… Я уже не говорю об авиационных мастерских. С того времени, как закончили их строить и нас, чернорабочих, стали насильно обучать слесарному делу, а потом с помощью гражданских мастеров заставили собирать в этих мастерских детали крыла самолета, — с того времени я со своими товарищами рискую головой каждый час (мы налаживаем выпуск деталей со скрытым браком), и Валерию все это известно…Я очень прошу, очень, очень: Самойлова надо спасти.
Полоска света от затемненного окна падает наискось на лицо Валерия. У него острые скулы, на подбородке черная ямка. Глаза в тени, но я вижу, как они блестят. Я вижу, как ворочаются и каменеют его желваки.
— Ладно, — говорит он. — Я сделаю все, что смогу. Я верю: он сделает, — и в то же время я понимаю, что прошу о невозможном: у Самойлова нет лагерного номера. Я требую от Валерия почти чуда, и я страстно хочу, чтобы это чудо свершилось.
— Ладно, — повторяет он.
Утром, перед выходом на работу, я навещаю Самойлова. Он спокоен. Он улыбается, вспоминая Ерошкина и Аиду. Кстати, Ерошкину, кажется, удалось вырваться из окружения. Ерошкин, Николаенко и наш начальник политотдела, полковой комиссар, пристали потом к партизанам; ему, Самойлову, рассказывал об этом один лейтенант… А знаю ли я, что капитан Пиунов был влюблен в Аиду? Неужели не знаю? Самойлов улыбается, чуть прищуривая левый глаз, — очень знакомо, до боли знакомо, как тогда в штадиве… Раздается свисток на построение.
— Пока, Павел. Сегодня тебя, может быть, направят в лагерный лазарет.
Он улыбается.
Я весь день думаю о нем. Я осматриваю заклепки на деталях крыла и думаю о нем, о Пиунове, об Аиде, о той жизни, которая была у нас на фронте. Она тогда казалась очень трудной, та жизнь. В той жизни тоже погибали, случались и несправедливости и жестокости, и все-таки то была настоящая жизнь. За нами стояла Родина, и мы защищали ее. Мы были счастливы, хотя часто и не отдавали себе в этом отчета… Не может человек долго жить без Родины. Нельзя быть счастливым вне Родины и без нее.
Вечером, вернувшись в лагерь, я спешу на тринадцатый блок. По дороге встречаю Валерия. Воротник его темного пиджака поднят: дует порывистый ветер.
— Самойлова расстреляли, — глухо говорит он мне. — Утром… Если бы у нас был в запасе еще хоть один день, мы раздобыли бы ему номер. Понимаешь, поздно…
Чуда не свершилось. Как видно, возможности нашей организации не безграничны.
— Тяжело, — говорит Валерий. — Сегодня вместе с Самойловым в крематории расстреляно тридцать новеньких…
Сухо блестят синие глаза Валерия Захарова. Желтая кожа обтягивает острые скулы… Ладно, Валерий, думаю я. Мы тоже расстреляем тех, кто сегодня расстреливает наших товарищей.
2
Декабрь. Серое небо и белый снег. Белый свет от засыпанной снегом земли и черный дым крематория.
Почти каждую ночь в Маутхаузен поступают транспорты заключенных, эвакуированных с востока. Лагерь расширяется. Привозят и вновь арестованных — большею частью заложников. Одних расстреливают, других душат в газовой камере, третьи — истощенные и полузамерзшие — умирают сами. Крематорий чадит круглые сутки. Когда из его трубы валит лишь черный дым, мы знаем: это сжигают заключенных-дистрофиков; когда над трубой вместе с дымом поднимается дрожащий язык огня, — это жгут заложников, еще не успевших отощать.
Дым крематория не пахнет. Это неправда, что в лагере пахнет жженым мясом и костями, неправда. Мы, лагерные старожилы, не ощущаем никакого запаха. Может, принюхались и привыкли?
Ко многому человек может привыкнуть. Но к смерти он не может привыкнуть. В Маутхаузене ежедневно расстреливают, вешают, травят собаками и душат ядовитым газом. Это страшно. К этому нельзя привыкнуть.
Я каждый вечер вижусь с Иваном Михеевичем. Докладываю ему о наших делах в мастерских, получаю информацию о положении на фронте {у нас свой приемник, спрятанный на угольном складе крематория). Обычно мы встречаемся в переулке между седьмым и восьмым блоками. Сегодня я нахожу Ивана Михеевича около тринадцатого блока.
— Все в порядке? — спрашивает он.
— Да.
— Какие вопросы?
— Есть один… Долго ли мы будем безучастно смотреть, как душат и расстреливают?.. Неужели нельзя ничего сделать? Вы понимаете, эти массовые репрессии да еще морозы — все это плохо отражается и на наших людях: многие повесили нос…
Иван Михеевич берет меня под руку. Его лицо озабоченно, возле рта две резкие поперечные морщины. Мы отходим к стене двенадцатого блока.
— Массовым расправам мы пока не можем помешать. Ты, надеюсь, понимаешь. Насчет того, что некоторые повесили нос, согласен, и мы принимаем меры… Вот, кстати, приходи сегодня со своими ребятами сюда, на тринадцатый блок, примерно к половине девятого. Мы устраиваем небольшой концерт под предлогом рождества…
В начале девятого мы трое — Савостин, я и Виктор Покатило — заходим в штубу «Б» тринадцатого блока. Старшина здесь теперь «свой» — политзаключенный немец; писарь, фризер, штубовые — чехи и испанцы, симпатизирующие нам… Окна занавешены одеялами. Люди сидят на столах, табуретах, прямо на полу, несколько человек умудрились забраться на шкафы.
Вскоре, к нашему немалому удивлению, из-за шкафов появляются скрипач и виолончелист, за ними — парнишка лет пятнадцати с аккордеоном, видим оживленного Жору Архарова, красивого черноглазого парня и еще одного человека, немолодого, курносого, с лицом старого лагерника.
Народу все прибывает. Это и русские, и чехи, и поляки, и югославы. В первом ряду — Иван Михеевич и Валерий вместе с пожилым немцем по имени Якоб и незнакомым мне тоже пожилым чехом.
Позади музыкантов выстраивается хор — человек двадцать. Скрипач, виолончелист и парнишка с аккордеоном пробуют инструменты. Минута взволнованного ожидания, и вот на свободной площадке перед маленьким оркестром показывается черноглазый парень.
— Начинаем праздничный концерт… Маяковский. Стихи о советском паспорте…
Сила! Объявляет, как настоящий конферансье.
На площадке — Жора. И вновь звучат гордые слова о нашей краснокожей книжице, о высоком и слезном звании советского гражданина.
Лица людей светлеют, глаза загораются, Жору награждают горячими аплодисментами.
Опять выходит черноглазый. Он поет песню про Буденного — «Ехал товарищ Буденный стороной донской…». Черноглазому аккомпанирует парнишка. Здорово! Все хлопают. Лица светлеют все больше… Черноглазый поет про синенький скромный платочек, и передо мной встает заснеженное село, раскинувшееся по обе стороны речки, где я начал свою службу в штабе дивизии. В том селе я впервые услышал эту песню — ее пели под баян разведчики…
Как все это было давно: медсестра Нина, Николаенко, Григорьян, майор Павлычев!.. Уже сгорел в крематории старший лейтенант Самойлов, умирают другие советские патриоты, клубы черного дыма поднимаются над белой землей, а песня живет. Простенькая русская песенка, но в ней частица нашей души, вернее, она сама часть нашей души, и через какие-то невидимые связи она вызывает в нашей памяти и в нашем сердце дорогие образы и большие чувства — незамысловатая песенка про синий платочек…
На минуту в барак заглядывает подвыпивший блокфюрер, о его появлении заблаговременно дают знать Ивану Михеевичу. Старшина блока объясняет, что русские празднуют рождество. Хор старательно тянет: «Волга, Волга, мать родная». Все немцы почему-то знают эту песню, блокфюрер тоже знает и, потоптавшись у двери, уходит. А хор уже заводит «Широка страна моя родная». И все вместе с хором поют эту песню — русские, немцы, чехи, поляки, испанцы.
3
Январь. Снегопады, метели, а когда светит морозное солнце, в бледно-голубом небе горят крошеччые огоньки и гудит от бомбовых разрывов стылая земля.
Наши мастерские работают с перебоями: не хватает материалов. В то же время склады ломятся от готовой продукции — ее никуда не отправляют. Говорят, американские самолеты разбили сборочные цехи в Штайере. Разрушены, по слухам, и главные заводы Мессершмитта в Баварии.
Нам это на руку. Мы продолжаем потихоньку портить ответственные детали крыла — нервюры, и кто знает: попади они в сборку и случись катастрофа, — может, нас уже не было бы в живых.
Пожалуй, мы теперь больше стоим, чем работаем. И все-таки у нас, как и раньше, две смены. В середине января меня и Виктора Покатило разлучают на несколько дней: я выхожу с утра, он — в вечер.
…Я лежу на койке и обсуждаю с Савостиным очередные фронтовые новости. По нашим подсчетам, война должна закончиться через месяц, самое большее— через полтора. Каждый день войны для нашей маленькой «вредительской» группы — это лишний огромный риск, это дополнительная смертная опасность. Мы, наверно, так не гнали время, даже работая в команде Пауля. Остаются недели — пять, шесть, ну, семь недель — до полного разгрома Гитлера, и как будет обидно, если накануне победы гестаповцы схватят нас…
— Идут, — прислушиваясь, говорит Савостин.
Я тоже слышу дробный стук колодок: это возвращается вторая смена. Слезаю с койки, спешу в тамбур. Я вижу лицо Виктора, и у меня обрывается сердце от дурного предчувствия: у Виктора такие глаза, какие бывали, когда он отправлялся на работу с восемнадцатого блока.
Мы заходим в самый темный угол уборной.
— Что?
— Не знаю, — шепчет он, — не знаю, как обойдется.
— Что? — У меня начинает все дрожать внутри.
— Понимаешь, — шепчет он, — часа за два до конца работы обермастер притащил со склада двенадцать штук наших нервюр, почти на каждой было по три-четыре провалившихся заклепки. Наверно, бросали на складе, и головки проскочили… Представляешь?
— Дальше.
— Велел все переклепать,
— Что он говорил?
— Ни слова.
— А ты?
— Тоже ни слова.
— Переклепал? Виктор мнется и молчит.
— Переклепал? — повторяю я.
— Я сделал все по-старому, только поаккуратнее… Ох, Виктор, Виктор, думаю я. Молодец ты, Виктор.
Молодцы мы все же, хорошие ребята, не трусим: боимся, но не трусим. Я думаю об этом и вместе с тем чувствую, что во мне все дрожит.
А вдруг обермастер донесет? Вдруг утром нас арестуют? Но тогда почему он заставил менять заклепки? Если бы он хотел донести, то уж донес бы: в проходной стоит телефон. Обойдется или нет?..
Надо бы немедленно доложить Ивану Михеевичу, но… Мелодично звенит вахтенный колокол: отбой.
— Получай хлеб, и пошли спать, — говорю я.
— Даже есть неохота, — признается Виктор.
— Получай, и пошли…
Не спится. На душе тревожно. А может, обойдется? Конечно, если бы обермастер хотел донести, то он сразу позвонил бы оберконтролеру или в гестапо — проще простого. А может быть, он позвонил оберконтролеру и тот отложил дело до утра? Если оберконтролер явится утром в мастерские — тогда все пропало: он явится, конечно, не один. Что делать?..
Одеваюсь еще до подъема. При первом ударе колокола выскакиваю из барака. Пробираюсь в морозном тумане к блоку, где живет Иван Михеевич. Я почему-то верю, что все обойдется. Я хочу верить, что обойдется…
Иван Михеевич пьет из миски кофе. Заметив меня, тотчас надевает пиджак и фуражку. Мы выходим на улицу.
— Что опять?
Я подробно рассказываю.
— Приостановите порчу, — приказывает он. — Приглядывайся к обермастеру. Ежели все было так, как ты мне сказал, — он не доносил и, наверно, не собирается, а возможно, и вообще ничего не подозревает: могла же в работе случиться ошибка. Его надо как-то прощупать…
В мастерские я прихожу взбудораженным. Оберконтролера, слава богу, не видно; обермастер, рыжеволосый немец из гражданских, с расстроенным лицом стоит у окна и курит сигарету. Я здороваюсь с ним. Он рассеянно кивает в ответ, потом негромко спрашивает, интересует ли меня военная сводка. Я понимаю, что необходимо рискнуть, и говорю «да». Он, оглянувшись, вынимает из кармана газетную вырезку и сует мне…
Нет, не донес. Не донес — это точно… Война близится к концу, и он, немец, и я, русский, — мы оба хотим жить.
4
Февраль. Мне все чаще снится фронт. В коротких, обрывочных снах я вижу то Пазлычева, то Худякова, то командира батареи Горохова. Мы снова куда-то шагаем по ночным дорогам, вокруг нас, как и прежде, огненное кольцо, но теперь, во сне, оно больше не пугает меня. Я опытный. Я очень опытный и даже старый, и мне приятно, что, например, сейчас капитан Пиунов советуется со мной… Эсэсовцы нас не уничтожат, говорю я ему. Мы готовимся к вооруженному восстанию. Я, конечно, не знаю всего — мне как младшему командиру это не положено, — но одно я знаю точно: мы будем драться…
Я просыпаюсь от гулкого басового стука пулемета. Я открываю глаза — темь. Электрический свет над забором погашен. Абсолютная темь, и в ней длинно, гулко бьет пулемет — настоящий пулемет. Это уже не сон. Строчит пулемет.
Быстро одеваюсь, не слезая с койки. Толкаю Савостина — он тоже одевается. И Виктор одевается. И Быковский, член нашей подпольной группы, одевается. Поднимаем наших ребят, они тоже одеваются — лежа… Может быть, началось?
Грохочут пулеметные очереди. В перерывах слышны винтовочные хлопки. Темноту за окном вдруг прорезает ослепительно голубой поток света — это прожектор… Мы готовы. Иван Михеевич должен прислать к нам связного с приказом. Я жду человека от Ивана Михеевича. Сильно колотится сердце.
Грохот пулемета смолкает, и внезапно до нашего слуха доносится шум падающей воды. Какой-то странный, очень волнующий шум. Мне кажется, я слышу переговоры сотен голосов — это, конечно, лишь кажется. Шумит падающая вода, очень странно шумит, она очень волнует… Почему никого нет от Ивана Михеевича? Что происходит?
Опять вспыхивает стрельба. Отчетливо, властно грохочет пулемет. Обрывается очередь, и шумит, переговариваясь сотнями невнятных голосов, вода — правее от нас, от пятнадцатого блока. Что происходит?
Что же все-таки происходит? Может, Иван Михеевич о нас забыл? Может, надо действовать самостоятельно? Но внутри лагеря все как будто спокойно?..
Затихает стрельба, исчезает шум падающей воды, вокруг барака раздаются громкие голоса эсэсовцев. Постукивают одиночные револьверные выстрелы. За окном в голубом прожекторном тумане трещат мотоциклы, пробегают в касках, с винтовками охранники — направо, вдоль колючего забора, мимо наших окон.
Что там случилось? Что было? Мы, одетые, лежим на койках — очень взволнованные, встревоженные, готовые ко всему… Но голоса эсэсовцев постепенно утихают, одиночные выстрелы все реже. Над колючкой зажигаются электрические лампочки.
Мы не раздеваемся до утра. Натягиваем на себя одеяла и спим, как зайцы: сторожко, почти не закрывая глаз…
Встает новый, солнечный морозный день — 3 февраля 1945 года. В лагере необычно тихо: сегодня рабочие команды остаются на блоках. Выводят лишь нашу команду — в мастерские как раз поступил материал. Подходя строем к воротам, мы видим груду замерзших тел в полосатой одежде. Куртки и брюки разорваны, на босых, окоченевших ногах — черные раны. У ворот останавливаемся, пропускаем встречный грузовик, на нем тоже закоченевшие, растерзанные тела…
Все ясно: это был массовый побег, героическая попытка освободиться или умереть. Мы обнажаем, как всегда, по команде капо головы, мы обнажаем головы и проходим в ворота мимо убитых с особым чувством: вечная память вам, ребята, вы были настоящими солдатами и настоящими людьми…
Наши конвоиры заметно растеряны, капо смущен. Над Дунайской долиной тянутся светлые вертикальные дымы — топятся печи, искрится плотный снег. Светит студеное солнце, жмет мороз, а кто-то из бежавших, может быть, бредет сейчас по лесу к чехословацкой границе… Пощади их, мороз, скройся, солнце! Пусть небо затянут хмурые облака и будет оттепель, пусть их, наших товарищей, побыстрее встретят партизаны, пусть их спрячут, обогреют честные австрийцы…
Гражданские мастера тоже смущены. Обермастер вполголоса говорит мне, что было специальное сообщение Венского радио: из лагеря Маутхаузен сбежало несколько сот опасных преступников, власти призывают местное население помочь выловить их.
Значит, не все пойманы, думаю я. Очень хорошо. Значит, можно штурмовать и проволоку под током и сторожевые башни — это возможно. Очень хорошо. Опыт бежавших пригодится нам. Мы тоже будем штурмовать, теперь мы знаем наверняка, что это возможно. Теперь мы увереннее будем штурмовать, дайте только срок!..
Вечером я узнаю у Валерия подробности. Оказывается, бежали с двадцатого блока, с «хунгерблока», обнесенного каменной стеной. Люди разных национальностей, но большинство — советские военнопленные летчики. Они были обречены на голодную смерть.
Случай трагический, но настроение повышается. Мы понимаем: мы тоже так сможем. И еще похлестче, еще организованнее, дайте срок…
Морозы сменяются кратковременной оттепелью. Потом валит снег, потом вьюжит, и снова ударяет стужа.
Обстановка в концлагере накалена. Эсэсовцы, вероятно, боятся, как бы мы не последовали примеру двадцатого блока. Отныне внутри лагеря постоянно, кроме блокфюреров, дежурят «пожарники» — уголовники и политзаключенные-ренегаты, облаченные в голубую униформу. Команду «пожарников» возглавляет бывший писарь восемнадцатого блока Проске. Я не раз вижу его на крыльце шестого блока — он теперь «брандмайор», он окончательно продался эсэсовцам…
Мороз щиплет уши, спирает дыхание, мы снимаем шапки и, хлопая колодками, входим в лагерь. Мы возвращаемся из мастерских, с вечерней смены. Справа от ворот, между баней и лагерной стеной, толпятся цуганги — вновь прибывшие заключенные. Они в нижнем белье, босые, поеживаются, поджимают то одну, то другую ногу. Тут же, у ворот, стоят «пожарники». Я вижу брезентовый шланг, протянутый снизу по лестнице из бани. Я вижу жирную, бочкообразную фигуру Проске. Что они, звери, опять задумали?..
Мы следуем строем к одиннадцатому блоку — часть людей заходит в барак, затем, повернув налево, мы движемся к пятнадцатому блоку. Неужели готовится еще одно массовое убийство?..
Наступает утро. Я иду для очередного доклада к Ивану Михеевичу. Я еще никогда не видел таким Ивана Михеевича — сгорбленный, осунувшийся, но с гневно прищуренными и какими-то разящими глазами.
— Генерала Карбышева убили, — говорит он резко и не остерегаясь. — В лед превратили человека, в ледяную глыбу генерала Дмитрия Михайловича Карбышева, понятно вам или нет?..
Он чуть не плачет.
В то же утро становится известно, что эсэсовцы и «пожарники» этой ночью убили за баней около четырехсот заключенных, эвакуированных вместе с военнопленным генералом Карбышевым из концентрационного лагеря Заксенхаузен.
5
И вновь весна. Сверкает на солнце капель, сверкают прозрачные лужицы, сверкает набухший водой снег.
Чадит крематорий. Горят на заре вершины Альп. Глухо постукивают за каменной стеной бункера выстрелы эсэсовцев.
Они спешат. Вокруг лагеря роются братские могилы: крематорий не успевает сжигать трупы. Почти всех уголовников мобилизуют в войска СС. Мы тоже спешим. Наши пропагандисты настойчиво внушают людям мысль о необходимости сопротивления. Наши подпольные «тройки» объединяются в тайные штурмовые группы. В бараках устанавливается круглосуточное дежурство — чтобы эсэсовцы не могли застать нас врасплох. Наш военный штаб во главе с полковником Шаншеевым разрабатывает план захвата оружейного склада, комендатуры, вахты и все время вносит в него поправки в соответствии с быстро меняющейся обстановкой…
В начале апреля Изан Михеевич назначает меня ответственным за подготовку прорыва на пятнадцатом блоке. Я обязан обеспечить наблюдение за колючей оградой на участке своего блока — особенно в ночные часы; хранить специальные ножницы для разрезания проволоки, запастись тяжелыми предметами для первого удара (камн'и, куски железа, лопаты)… Сразу после разговора с Иваном Михеевичем и Валерием я иду к старшине нашего блока Генриху Дирмайеру.
Он австрийский коммунист, бывший комиссар Интербригады в Испании. Валерий предупредил меня, что Дирмайер — член руководства нашей организации, договориться с ним будет нетрудно.
Коренастый, смуглый, с черными блестящими глазами, Дирмайер протягивает мне руку, когда я говорю, что у меня к нему просьба.
— Пожалуйста (Bitte sehr), — произносит он. — С кем имею честь?
Я называю себя военнопленным лейтенантом.
— Пожалуйста, — повторяет он.
— Я прошу вас поставить ночным сторожем на блоке одного русского, его фамилия Быковский. Он уже немолодой, ему трудно работать в авиационных мастерских.
— Это все?
— Почти, — отвечаю я. — Мне хотелось бы только еще, чтобы никто из блокперсонала не отвлекал его на другие дела. Он больной человек, и обязанности ночного сторожа, вы меня понимаете?..
— Понимаю, — говорит Дирмайер. — Он нуждается в поддержке едой?
— Да, если можно…
Несколько дней спустя я передаю на хранение «ночному сторожу» Быковскому ножницы-кусачки и подробный план Мэутхаузена…
В конце месяца, тревожным воскресным вечером, меня опять срочно вызывает Валерий.
— Как у тебя на блоке?.. Сейчас мы придем к тебе втроем, нам надо обстоятельно побеседовать.
— Есть.
— Кстати, — говорит Валерий, — с завтрашнего дня ты не выходишь на работу: сейчас ты здесь нужнее.
— Есть. — Мне теперь очень нравится отвечать повоенному.
Иду на свой блок и выставляю посты в переулке. Через четверть часа появляются Валерий, Иван Михеевич и человек лет сорока пяти, высокий, с крупным лицом. У него неторопливые движения, он полон достоинства — в плену такие люди всегда привлекали меня к себе. Я выношу из штубы три табурета и ставлю на земляную площадку у глухого торца барака.
— Познакомьтесь, Андрей Игнатьевич, — придержав меня, говорит Валерий.
Я называю свою фамилию.
— Порогов, — негромко и спокойно произносит этот человек.
— Генерал-майор Порогов, — с лукавинкой говорит Иван Михеевич.
— Просто Порогов, майор Порогов, если угодно, — серьезно, без улыбки поправляет его этот высокий, с неторопливыми движениями человек, — Порогов. «Конечно, генерал-майор, — думаю я. — Он должен пока скрывать свое звание». Я убежден, что генералмайор Порогов — наш самый старший военный руководитель, наш командующий, и, соблюдая субординацию, удаляюсь с земляной площадки…
Теперь у меня нет ни малейшего сомнения в том, что эсэсовцам не удастся выполнить приказ Гиммлера — уничтожить нас, что мы будем драться с ними и победим.
6
Пятое мая 1945 года. Теплый неяркий денек. Дымит крематорий. На сторожевых башнях — часовые-пулеметчики. В лагере тишина. Я прохаживаюсь по переулку между четырнадцатым и пятнадцатым блоками — ближе к четырнадцатому, — время от времени останавливаюсь, поглядывая на раскрытые окна шлафзала. Сейчас там заседает наш комитет: Порогов, Валерий, Иван Михеевич, Иван Иванович, Алексей Костылин, недавно вернувшийся из лазарета. Барак усиленно охраняется нашими людьми. Я охраняю его со стороны пятнадцатого блока. У меня в кармане автоматический пистолет — подарок Маноло, — почти новый, хорошо вычищенный и смазанный, с полной обоймой патронов. Я все время ощущаю его приятную тяжесть в кармане. Я бережно поглаживаю его, ласкаю пальцами.
Я спокоен. Я чувствую себя так, как, наверно, чувствовал бы себя теперь на фронте — не семнадцатилетним наивным пареньком, а таким, каким я стал. Я поглаживаю ровную прохладную спинку пистолета и гляжу на трубу крематория — вместе с дымом она выбрасывает черные клочья — остатки сгоревших бумаг. Это эсэсовцы, стараясь замести следы своих преступлений, поспешно сжигают лагерные архивы. Ничего, пусть сжигают. Нас-то теперь они не сожгут.
Я поворачиваюсь и смотрю на крышу пятнадцатого блока. Там, в чердачной каморке, сидит капитан Быковский и ведет наблюдение. Он старый артиллерист, он умеет наблюдать. Вот уже несколько ночей подряд с северо-запада до нас долетают глухие раскаты артиллерийской канонады. Быковский следит и за угловой башней и за дорогой, ведущей на северо-запад, в сторону Линца.
И из других чердаков ведется наблюдение. Мы все в боевой готовности. Мы готовы выступить в любую минуту, по первому приказу майора Порогова: цепочка связных соединяет наш штаб с командирами штурмовых групп.
Я спокоен. Я заглядываю в окно шлафзала — Порогов разговаривает с Валерием. Я теперь нахожусь непосредственно в распоряжении Порогова: часто помогаю ему объясняться с зарубежными товарищами— перевожу с немецкого и польского; кроме того, охраняю штаб.
Порогов поворачивает ко мне усталое, серое лицо, и в этот момент кто-то хрипло окликает меня по имени… Я оборачиваюсь. Я вижу Быковского — без шапки, очень взволнованного. Он подбегает.
— Танк, — говорит он. — Примерно в километре от лагеря танк, движется от Линца по направлению к лагерю. Танк, это не немецкий танк. Посты сейчас разворачивают в ту сторону пулеметы…
— Товарищ майор, — кричу я в окно, — танк! Танк, не немецкий танк!
Порогов вскакивает на ноги.
— Танк! — кричу я ему. — Вот капитан Быковский…
Но Порогов, Иван Михеевич, Валерий, не слушая меня, уже бегут к выходу из барака. Бегут по переулкам наши связные. Бегут еще какие-то заключенные… Неужели начинается?
Сердце сумасшедше стучит. Из бараков выскакивают люди. Они что-то кричат. Некоторые лезут на крыши, другие несутся к воротам и к угловой башне. Я слышу первые выстрелы и, словно проснувшись бросаюсь по переулку к лагерным воротам.
Впереди стреляют, и справа стреляют — там угловая башня. Слева, у крематория, тоже раздается стрельба: вероятно, ударили наши боевые группы. Я бегу к воротам, и мне бежать все труднее: в переулках и на аппельплаце уже сотни людей. Я вижу изможденные, небритые, испуганные и радостные лица, полосатые шапки, какую-то пестроту. Я огибаю первый блок и слышу стрельбу у ворот, я кидаюсь к проходной — ворота распахиваются… У Ивана Михеевича дрожат темные губы, он сует мне красный сверток и что-то кричит, меня хватает за руку Алексей Костылин и тащит за ворота.
Я за воротами. Поток людей, вырвавшись из лагеря, катится по дороге, растекается налево и направо. И Алексей Костылин что-то кричит и дергает меня. Я кладу пистолет за пазуху и взбираюсь к нему на плечи, я сажусь на него верхом — он кричит на меня, — и я привязываю к веревке флагштока красное полотнище: привязываю двумя углами, затягиваю узлы. Я тяну веревку вниз — я поднимаю красный флаг, я лишь однажды поднимал красный флаг, в пионерлагере. Я ничего не пойму: растерялся я, что ли? Я сижу верхом на Алексее Костылине и тяну белый плетеный шнурок вниз, а на другом конце шнурка поднимается красный флаг — флаг нашего восстания. А рядом с Костылиным стоит эсэсовец — новый, косоглазый рапортфюрер, он наш человек, он помогал организации, я это знаю, и все-таки как-то дико: я поднимаю красный флаг, а рядом, задрав голову, стоит эсэсовец, и смотрит, и не трогает меня… Пусть только тронет!
— Готов, черт? — весело спрашивает снизу Костылин.
Я спрыгиваю с его плеч и вижу, как новая волна людей катится по дороге. Катится в лагерь. В середине ее — рокочущая пыльная машина с белой пятиконечной звездой. Я вижу вокруг искаженные страшными гримасами лица — худые, небритые, нечеловеческие лица, искаженные гримасами. Они плачут. Я вижу слезы на небритых, грязных щеках. Все обнимаются, целуются, тянут руки-кости к пыльной броне… При чем тут броня? И я плачу. И я обнимаю кого-то. И я делаю страшную, нечеловеческую гримасу — это я плачу. От радости, от необычности. Потому что эсэсовцы не сумели уничтожить нас. Они сумели бы уничтожить эту прекрасную машину — ей хватило бы одной гранаты, но нас — нет.
И Лешка Костылин плачет — я, чудак, когда-то думал, что он представитель генштаба. У него светлые глаза, и в них блестят слезы. И он опять тащит меня куда-то. Я вижу заключенных с винтовками. Вот Лелякин с ручным пулеметом — даже с пулеметом! Вот знакомые лица, и все с винтовками и автоматами. Разве еще не все?..
Вероятно, не все. Мы сбили часовых и захватили оружейный склад. Это лишь первая часть нашего плена — я это тоже знаю. Американский бронетранспортер отвлек внимание охраны, и огромное за это ему спасибо. Теперь мы должны продолжать. Мы с Костылиным быстро шагаем к зеленому бараку, где расположен эсэсовский узел связи, — там по плану должен быть наш командный пункт, я знаю и это.
Возле барака — сотни две вооруженных винтовками и автоматами людей. Очень много знакомых лиц. Подходят все новые и новые вооруженные группы. На крыльце Порогов, Валерий, Иван Михеевич, полковник Шаншеев, полковник Иванцов и какие-то незнакомые командиры. Командиры покрикивают — это здорово! Вооруженные люди строятся. Командиры командуют — очень, очень здорово! Один отряд, топая колодками, уходит по дороге в каменоломню, на север. Другой отряд под командой широкоскулого большого человека напревляется по дороге к станции. Вьется пыль. Стучат деревянные подошвы. За плечами людей — настоящие винтовки. Наших людей, бывших узников.
У барака остается группа человек двадцать. Порогов кивает мне.
— Пошли в лагерь… Иван Михеевич, ты здесь за меня.
Странно звучит — «пошли в лагерь». Но мы идем. По дороге нас задерживает Генрих Дирмайер — он, оказывается, председатель интернационального комитета. Он предлагает Порогову выступить на митинге на аппельплаце. Мы поднимаемся по лестнице на галерею, протянутую между% башнями ворот, и Порогов произносит перед многотысячной толпой речь. Он поздравляет с первой победой, он предупреждает, что опасность еще не миновала. Потом говорят француз, испанец, немец, выступает американский сержант — немного смущенно. Дирмайер говорит Порогову, что бронетранспортеру приказано вернуться в расположение своей части, машина вела здесь только разведку. Я перевожу слова Дирмайера, вижу, как мрачнеет лицо Порогова…
Возвращаемся на командный пункт. Из города Маутхаузен поступает первое донесение: наш батальон под командованием майора Белозерина и отряд испанцев заняли оборону возле моста через Дунай. Эсэсовцы ведут сильный пулеметный огонь, но на мост пока не лезут. Севернее лагеря действует наш другой батальон во главе с лейтенантом Перовым. Вместе с ним отряды чехов и поляков. Север особенно тревожит Порогова. Есть сведения, что в десяти километрах севернее Маутхаузена дислоцируется эсэсовская бронетанковая дивизия.
Приходит Валерий и вручает Порогову бумагу с машинописным текстом… Интернациональный комитет назначает советского майора Порогова руководителем всех вооруженных сил бывших узников. Австрийский полковник политзаключенный Кодрэ назначается ответственным за безопасность и порядок внутри лагеря. Наш штаб перебирается в прежние апартаменты Цирайса.
7
Огромный квадратный кабинет. Шелковые драпировки, дубовые панели, громадный ковер на полу. На письменном столе хлеб, консервы, бутылка с вином — этот провиант притащил Жора Архаров, возглавляющий охрану бывшего эсэсовского продовольственного склада. Он показался на минуту и опять исчез.
У нас сейчас полоса некоторого затишья. Порогов ждет донесений из батальонов. Иван Михеевич и Валерий корпят над немецкой картой, вымеряя путь от Маутхаузене до Мелька, где, по показаниям пленных охранников, находятся передовые посты советских войск. Мне приказано исполнять обязанность адъютанта…
В дверь стучат. Я выхожу. У порога — дрожащий эсэсовец, обершарфюрер. Грузный, с серым звероподобным лицом. Рядом — улыбающийся Васек с винтовкой. Тут же наш часовой-автоматчик.
— Принимайте, командование. Главный палач бункера, — не без гордости заявляет Васек.
— Rein! — почему-то с дрожью в голосе приказываю я эсэсовцу.
Обершарфюрер входит в кабинет. Порогов, чуть помедлив, кладет телефонную трубку на рычаг. У Ивана Михеевича сужаются глаза, и я вижу, как он бледнеет.
— Жаба, — тихо произносит он и встает, — свиделись все ж таки… Ребята, — вдруг не своим голосом, зазвеневшим и срывающимся, говорит Иван Михеевич, мелкими, быстрыми шагами подходя к эсэсовцу. — Он меня к потолку подтягивал, он, он, эта жаба, я его знаю…
Поднимается Валерий. Его лицо тоже бледнеет. Выходит из-за стола Порогов.
— Он, — повторяет Иван Михеевич, бледный и трепещущий, и с силой бьет по серому звероподобному лицу.
Эсэсовец начинает выть.
— Бей его, ребята! — выкрикивает Иван Михеевич. Ох, как я понимаю тебя, дорогой Иван Михеевич!
Я представляю себе, как пытали тебя здесь, в следственном отделе комендатуры, осенью 1942 года. «Бей его, ребята!» — кричишь ты, и я понимаю тебя: в эту минуту мы именно ребята — не майоры, не политические руководители подполья, не сержанты, — а просто ребята, просто пленные, хлебнувшие через край великого горя неволи…
Почувствуй теперь и ты, эсэсовский зверь, почувствуй и ты боль, и страх, и ужас перед близкой смертью. Мы не умеем пытать, не умеем выворачивать суставы и подтягивать на веревках к потолку, как это делал ты с Иваном Михеевичем и многими нашими товарищами. Но тебе сейчас тоже не сладко, ты воешь — мы тогда не выли! Сволочь звероподобная, вой, лижи наши деревянные башмаки, если тебе это нравится…
— Довольно! — тяжело дыша, приказывает Порогов. — Вон его… к черту!
— Raus! — ору я на эсэсовца… Я хорошо изучил эти команды: raus, rein, ab, los, auf — по-человечески они ведь с нами не разговаривали.
— К черту его! — открыв дверь, говорю я часовому-автоматчику…
Иван Михеевич, обливаясь водой, пьет. На его худом, костлявом лице лихорадочные пятна.
Верещит телефонный аппарат. Докладывает Белозерин.
Перестрелка продолжается.
— Через час буду у вас, — сдавленно говорит в трубку Порогов, его руки тоже трясутся. — Да. У Перова небольшая перестрелка. Что в лагере, спрашиваешь… Варим суп, кормим, перевязываем раненых, наводим порядок… Кто? Охранники? В бункер посадили. Штук пятьдесят. После разберемся, да… Держись. Все.
Входит усталый, с потным, грязным лицом полковник Шаншеев. Он налаживает противотанковую оборону: в каменоломне обнаружены брошенные немцами пушки.
— Садись, Митрофан Алексеевич, — приглашает его Порогов, — поешь сперва вот тутСнова стучат. Я вижу за дверью вооруженного винтовкой Иоганна и какую-то девушку.
— Любовница Цирайса. — по-немецки говорит Иоганн. — Вероятно, она знает, где прячется штандартенфюрер.
— Спасибо, Иоганн… Rein! — приказываю я любовнице коменданта.
Она входит — белокурая молодая женщина. У нее длинные, стройные ноги, голубые глаза. Порогов удивленно приподнимает брови.
— Любовница Цирайса, — докладываю я. — Вероятно, знает, где он прячется.
Порогов хмурится.
— Подай ей стул.
И Иван Михеевич хмурится. И полковник Шаншеев. Валерий опускает глаза.
Я подаю ей стул. Она садится. Она очень красива.
— Спроси ее, где Цирайс, — говорит Порогов. Я перевожу вопрос.
— Я не знаю, — отвечает она, спокойно отвечает и глядит на Порогова.
— Она не знает, — говорю я и все смотрю на нее и смотрю, черт бы ее побрал.
— Передай, что мы вынуждены будем ее расстрелять, если она не скажет, — говорит Порогов и хмурится.
И полковник Шаншеев хмурится, и Иван Михеевич, и Валерий.
— Вас расстреляют, если вы скроете местопребывание этого изверга, — произношу я с трудом. То, что я говорю, кажется мне чудовищным: у нее такие красивые глаза, такие золотые волосы… Но, конечно, придется расстрелять ее, если она не скажет, где Цирайс.
— Но я в самом деле не знаю, — отвечает женщина и опять глядит на Порогова, глядит с некоторым удивлением, как мне кажется.
— Не знает, — говорит Порогов, — или не хочет сказать… А, черт, что же с ней делать?
Я смотрю на хмурые, изможденные лица своих товарищей. Идет война. Мы ожесточены и ожесточены больше других, и мы не имеем права на жалость.
— Митрофан Алексеевич, ты из нас старший. Твое слово, — говорит Порогов.
— Спроси ее еще раз, — предлагает полковник Шаншеев.
— Я не знаю, — глядя спокойными, чистыми глазами на Порогова, в третий раз отвечает она.
Может быть, врет, может быть, не врет.
— Расстреляем, — говорит Порогов.
— Придется расстрелять, — говорит Шаншеев. Иван Михеевич тяжело вздыхает. Валерий, не поднимая глаз, молчит.
«Не надо расстреливать, — думаю я. — Не надо. Нельзя ее расстреливать хоть она и любовница коменданта: любовница — это не соучастница».
— Возможно, ее дети будут хорошими, — покосившись на угол стола, говорит Иван Михеевич. — Все же красота человеческая…
— Красота, — неопределенно, не то зло, не то горестно, произносит полковник Шаншеев.
— А может, действительно не знает. Сейчас не до любовных делишек, — говорит Порогов. Он берется за листок бумаги и приказывает, решительно поднимаясь — Вот что. Пусть ее пока отведут в шрайбштубу. До выяснения. Мы не фашисты…
Я радуюсь. Да, мы не фашисты! Очень радуюсь: нам чужда слепая месть. Не надо расстреливать… Хватит расстрелов!
— Идите, — говорю я ей, когда Порогов протягивает мне записку.
Она не трогается с места и все смотрит на Порогова— теперь уже с изумлением.
— Идите, идите, — повторяю я, вручаю ей записку и приказываю одному из часовых проводить ее в лагерную канцелярию. Часовой козыряет.
Я выхожу следом на улицу. Лагерь гудит тысячами голосов — живой лагерь. Со стороны Дуная доносится пальба. Татакает пулемет. Ледянистые пики Альп загораются вечерним светом.
ЧИСТИЛИЩЕ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
1
Я иду по невысокому зеленому берегу. Сумасшедший ветер бьет мне в лицо и едва не валит с ног. Справа — бурые волны Дуная, слева — пыльная мгла, несущаяся над дорогой. А еще с полчаса назад сияло солнце и в прозрачной, легкой дымке синели Альпы. Теперь их не видно.
Я иду с задания. Кажется, с последнего. Завтра заканчивается наш многодневный марш по ничейной австрийской земле: бывшие узники Маутхаузена, военнопленные солдаты и офицеры, мы возвращаемся к своим.
Загребаю ветер руками. Пригибаюсь чуть не до земли. Не пускает ветер, черт бы его побрал, парусом надувает пиджак, тащит обратно. Дунай совсем потемнел и местами почернел — свинцово-седой, хмурый, словно рассерженный. Пригибаюсь еще ниже — резкий треск впереди останавливает меня. Я вижу, как, сломавшись у основания и чуть перекрутившись, рушится дерево. Ломаются, врезаясь в землю, сучья. Ветер гонит навстречу мне струи шелковистой листвы на уцелевших тонких ветвях. Они точно простертые руки.
Дерево, еще не старый тополь, лежит поперек моего пути — в ветре, в брызгах реки, под внезапно помрачневшим и будто опустившимся небом.
Я переступаю через расщепленный ствол упавшего дерева и, снова подставив лицо ветру и размахивая руками, как пловец, иду дальше.
Мы размещаемся в чистеньком двухэтажном доме неподалеку от ратуши. Окна первого этажа на фасаде закрыты ставнями, во дворе зашторены. На первом этаже была бакалейная лавочка, от нее весь дом пропах корицей. Лавочка сообщается, как тут заведено, с нижними жилыми комнатами и кухней. Их сейчас занимает семья хозяина. Нам предоставлен верхний этаж.
Валерий Захаров сидит у окна, пощипывает струны гитары и шутливо-меланхолически напевает;
Сегодня вместе с вами я, цыгане. А завтра нет меня, я ухожу от вас. Не вспоминайте меня, цыгане, Прощай, мой табор, пою в последний раз.Напротив, в кресле, — Порогов. Он курит сигарету, уголки его губ время от времени насмешливо подрагивают, словно собирается сказать что-то смешное и все не соберется. Иван Михеевич бродит по комнате, трогает разные ненашенские вещи и покачивает головой. Я лежу, задрав ноги на деревянную спинку широченной кровати: отдыхаю после задания и жду ужина.
— Послушайте, цыгане, — наконец говорит Порогов. — Где бы нам достать несколько пар обмундирования? Хотя бы несколько пар. А то на что похоже: фуражка немецкая, костюм австрийский, башмаки не то французские, не то польские. Пожалуй, еще откажутся от нас таких.
Валерий немедленно подхватывает на известный мотив:
Мундир французский, костюм австрийский, А нос-то русский, тра-ля-ля.— Нет, в самом деле, — говорит Порогов. — Вот вы попробуйте представить себя на месте тех, кто будет нас принимать. Вот представьте: солдат возвращается из неволи, да еще не простой солдат, а офицер, к тому же ведущий за собой других.' Если он в своей форме, то с ним надо и обращаться по форме — верно? Тогда он может и доложить, как положено, и скомандовать своему войску… церемониальный шаг или что там еще потребуется от нас на завтрашнем параде…
Порогов чуть улыбается, но говорит по своему обыкновению неторопливо, негромко — с достоинством.
— А что, и впрямь нас, этаких-то цыган, не примут? — с лукавой обеспокоенностью говорит вдруг Иван Михеевич. — Идите, скажут, откуда пришли, и без вас хлопот предостаточно. Куда ж нам тогда, бедным?
— Да, куда же нам, братцы? — Валерий, усмехаясь, кладет ладонь на струны. — Сплоховали мы, сплоховали! Надо бы еще месяц назад подать заявление Цирайсу или Бахмайеру: мол, ввиду предстоящего возвращения домой просим вернуть наши гимнастерки и сапоги…
— А заодно и личные дела с перечнем наших преступлений против Гитлера, — добавляет, Иван Михеевич с озоровато блеснувшими глазами. — Топорик бы теперь тот, с биркой, которым я в сорок втором, находясь в бегах, зарубил полицая. — Он быстро поворачивается к Порогову: — Нет уж, дорогой товарищ Андрюша, что до меня, то я еще напялю тирольскую шляпу с пером и короткие кожаные штаны — видал у хозяина? — я непременно реквизирую их. В таком виде и буду докладывать: майор Копейкин после трехлетнего пребывания в санатории Маутхаузен… для дальнейшего прохождения службы.
У Порогова опять иронически дергаются уголки рта, но он не успевает ответить. Валерий проводит по струнам и вновь томно полуприкрывает глаза.
Довольно мне в разлуке быть, Что в новой жизни ждет меня, не знаю, О прошлом не-е-чего тужить…Они, конечно, шутят, они радуются, но и тревожатся немного, я чувствую.
А почему тревожатся? Может быть, все дело в том генерале, который незадолго до нашего ухода из Маутхаузена, уже занятого американцами, произнес перед нами не совсем удачную речь? Генерал страстно призывал нас вернуться на Родину. Было очевидно, что он ничего не знает о тяжелой борьбе советских людей в фашистских концлагерях — о борьбе, цель которой состояла именно в том, чтобы помочь своему народу победить врага и вернуться домой… Но пусть на Родине пока ничего не знают о нашей борьбе за колючей проволокой. Мы возвращаемся к своим, к себе — вот что главное! И единственное, что может печалить, — это близкая разлука с друзьями. Я предчувствую, что нам скоро придется расстаться…
В отворенную настежь дверь входит, пыхтя, повар Ефрем.
— Товарищи начальники, все готово, — объявляет он. — Стол накрыт, бутылки откупорены. Прошу!
Мы встаем и отправляемся в соседнюю комнату на прощальный товарищеский ужин.
2
Такого роскошного стола я еще не видывал. Белая накрахмаленная скатерть, накрахмаленные салфетки, цветы, сверкающие бокалы. И самое основное: разукрашенные аппетитные горки нашего русского салата — с яйцом, с мясом, со сметаной; открытые, с отогнутыми краями банки консервов, белый хлеб, сыр, ветчина; наконец, высокие темные бутылки с холодным терпким, сухим австрийским вином… Замирает дух, леденеет сердце! Ай да Ефрем, ай да гвардии сержант!
Сопровождающий нашу колонну майор Манин, уполномоченный по репатриации, переглядывается с Пороговым. Тот смотрит на Ивана Михеевича, Иван Михеевич — на Валерия, Валерий несколько подозрительно — на Жору Архарова. Затем все безмолвно уставляются на Ефрема: это же невероятно — соорудить такой стол всего на десятый день после окончания войны!
Ефрем от волнения потеет, на его круглом лице гордость, и радостное смущение, и некоторое беспокойство — целая гамма разнообразных чувств. Он шумно вбирает в себя воздух, обводит царственным взглядом стол и кидается поправлять загнувшийся уголок скатерти.
— Потрясающе! — говорит Манин.
— Без товарища Архарова не сумел бы, — почитает нужным скромно заметить Ефрем. — Он обеспечивал провиантом. Скатерть и приборы — хозяйские, цветы тоже. Я только сервировал, ну, и, понятно, готовил.
— Крепко, крепко, — говорит Порогов.
Жора тихонько хихикает, чрезвычайно довольный. Я подозреваю, что, будучи нашим начпродом, он вывез из прежних эсэсовских складов Маутхаузена по меньшей мере половину наличных запасов продовольствия да еще, вероятно, прихватил кое-что у американцев.
— У союзничков-то комси-комса? — спрашиваю вполголоса у Жоры.
— Организирен! — сияет он. — Молчи!
— Ну так давайте за стол. Товарищ Манин, Митрофан Алексеевич, девушки, Саша, пожалуйста! — приглашает Порогов.
Садимся. Очень торжественно. Девушки от меня справа, за ними Валерий и Иван Михеевич. Слева рядом со мной Жора, потом Быковский. Напротив, по другую сторону стола, — товарищи из лагерного лазарета: доктор Григоревский, художник Логвинов; дальше — Алексей Костылин, полковник Шаншеев и другие руководители и активисты маутхаузенского подполья. Очень торжественно и как-то по-хорошему строго — светло и строго. Все умолкают. Порогов поднимается с бокалом в руке.
— Выпьемте, други, прежде всего за Родину. За страну, вырастившую и воспитавшую нас, за страну, с именем которой мы вступили в бой в сорок первом, во имя которой боролись в лагерях в продолжение всех этих черных лет фашистской неволи… За Родину!
Во взволнованном молчании сдвигаются бокалы. Бокалы ставятся на стол уже пустые. Еще минуты две молчания. Затем снова булькает из горлышек вино. Поднимается полковник Шаншеев и предлагает помянуть погибших. Пьем за светлую память наших товарищей, убитых пулями и осколками, задушенных в газовых камерах, повешенных, растерзанных фашистскими овчарками. Шаншеев садится последним — высокий, изможденный старый солдат.
…Какой-то провал во времени. Легкий звон вокруг или он во мне? Постукивают ножи и вилки. Мир заметно сужается, теплеет.
— За счастливое возвращение домой. За жизнь, ребята! — восклицает Валерий и протягивает руку с полным золотистым бокалом на середину стола.
— За мирную жизнь! — говорит Иван Михеевич, чокаясь с Валерием.
И я чокаюсь с Валерием и Иваном Михеевичем, и с Жорой, и с девушками поочередно.
— Ты закусывай, закусывай, ешь! — заботливо наставляет меня Жора.
«Не останавливайся, не останавливайся!» — отчего-то слышится мне его голос издалека.
Я поднимаю голову и смотрю на лица товарищей. Неужели это те лица, те самые, что недавно были темными ликами обреченных на смерть людей?
Передо мной встает лицо Валерия — накануне того, как расстреляли Самойлова: я вижу лишь черные впадины глаз и окаменевшие скулы — сейчас он улыбается, Валерий… И Иван Михеевич улыбается, а как разяще сверкали его глаза в то морозное февральское утро, когда стало известно о казни генерала Карбышева!.. Алексей Костылин улыбается, Шаншеев улыбается, улыбаются оживившиеся девушки.
За мирную жизнь, думаю я. А что знаю я об этой жизни? Я знаю о мирной человеческой жизни ровно столько, сколько знал в семнадцать лет, до того, как ушел на войну… Но, может быть, это и хорошо и так еще интересней?
В руках у Валерия опять гитара. У него синие-пресиние, с веселыми искорками глаза… Да, вот что я теперь знаю: чем бы человек ни казался в этой обыкновенной мирной жизни: храбрецом или, наоборот, трусом, великодушным, добрым или жадным, — он в действительности таков, каким будет в минуту опасности.
Валерий поет, и голос у него сейчас совсем другой — звонкий и задорный, и глаза задорные, и в них еще что-то есть, чего раньше не было; он смотрит на девушек и поет:
На переднем Стенька Разин, Обнявшись, сидит с княжной, Свадьбу новую справляет. Сам веселый и хмельной.Иван Михеевич стремительно поворачивается, его лицо вспыхивает молодым светом, он подбоченивается и этаким петушком наступает на Валерия:
Что ты, что ты, что ты, что ты. Я солдат двадцатой роты! Тридцать первого полка! Ламцадрица ламцаца!И уже весь стол подхватывает и гремит:
Соловей, соловей, пташечка. Канареечка жалобно поет. Эх, раз поет, два поет, третий раз подумает, Канареечка жалобно поет.И вновь заводит Валерий про Стеньку Разина: задорно, с тем непонятным и непривычным, что появляется у него, когда он смотрит на девушек, и чего прежде не было.
Я тоже гляжу на девушек. Для меня они — это в сущности совершенно новый мир. Возле них — чувствую — я как-то теряюсь, исчезаю куда-то, и тем сильнее этот неведомый мир тянет меня к себе.
…Одну из них зовут Надей, другую — Олей. Надя черненькая, она очень нравится мне; я немного знаком с ней, она возглавляет группу девушек, идущих в нашей колонне. И как раз потому, что она мне очень нравится, я ощущаю дурацкую скованность и никак не могу заговорить с ней. Я решаю вначале чуть-чуть поухаживать за Олей. Ну, почему бы теперь мне тоже не поухаживать?
Порогов рассказывает анекдот. Что-то смешное про ветер и солнце. А потом предлагает выпить за хорошее отношение к женщинам — так получается из анекдота. Все хохочут, и я, хотя, откровенно, я не совсем уловил, в чем его соль.
— За хорошие отношения! — говорю я Оле, поднимая бокал.
Она, улыбаясь, загадочно взглядывает на меня и берется за тоненькую ножку своего бокала. Я выпиваю залпом, Оля — маленькими глотками.
— А что, если нам пойти погулять? — отважившись, спрашиваю я…,
Она, помедлив, кивает. Когда Валерий с гитарой перебирается к окну, мы с Олей выходим из комнаты.
3
Звезды крупные, белые, таинственно мерцающие. Темные купы деревьев, темные острокрышие дома, тихие улочки. Прострекотал кузнечик и смолк, будто напуганный. Воздух неподвижный, теплый; пахнет сиренью.
Мы о чем-то разговариваем — о незначительном, так, чтобы не молчать. И чувствуем: мы во власти чего-то глубокого, радостного, что в нас и чему я не знаю названия. Может, это и есть ощущение полной свободы?
Какие-то шорохи, невнятные вздохи, какой-то шепот. Силуэты повозок. Сонное бормотание людей, устроившихся на ночь на открытом воздухе. Великая бездомность народов, как кто-то назвал войну, но ведь войны уже нет?
Постукивают по тротуару шаги. Это мои шаги, они подлиннее и пореже. А Олины — постукивают отдельно, чаще и короче. Мы куда-то идем, я —; один мир, она — другой. Мы идем рядом. Нам непривычно, чуть неловко, но нам и хорошо, потому что мы знаем: не должно быть двух таких миров, а должен быть один. Мы хотим, чтобы был один мир, затем и идем. Правда, вслух говорить об этом неудобно, но мы понимаем все без слов.
Улочка обрывается. Тут светлее. Какое-то поле. Мы садимся на теплую землю посреди шуршащих жестких стеблей. Со стороны Дуная веет сыроватой свежестью. Огромный звездный шатер над нами.
Не должно быть двух миров. Не должно. Мир один, и это только война с ее кошмарами и голодом разъединила его. Больше не должно быть голода и кошмаров. И этой противоестественной разъединенности.
Глубокая ночь. Кругом туман. Он заволок городок, поле, дорогу, а звезды стали резче и ярче. Туман вокруг, а в центре его — мы двое. Кажется, мы заблудились в тумане, но это не так. Мы сами не хотим выходить из тумана.
Я гляжу на лицо Оли. Гляжу и не нагляжусь. Ничего подобного я не видел — не умел смотреть, не понимал, и поэтому не видел. Лицо говорит, дышит, улыбается, спорит, оно ласкает, обижается, любит — и все в одно и то же время, и все тогда, когда уста сомкнуты, и даже тогда еще явственнее, чем когда оно говорит словами.
Ее лицо живет. Я не знаю, красиво ли оно. — мне сейчас оно кажется прекрасным. Ее глаза большие и чуть отсвечивающие в полумраке; ее лоб — я прикасаюсь к нему и осторожно глажу его; и нос, и губы, и шея — все прекрасно, и все неотделимо от того жгучего чувства близости, которое я только что открыл для себя. Как же прекрасна эта обыкновенная человеческая жизнь!
И я опять обнимаю Олю. И вновь ощущаю то же. Этому, наверно, нет и не будет конца. Она смеется и мягко отталкивает меня ладонями.
— Пошли, пора!
— А куда спешить?
— Так ведь утро скоро, утро.
Чудачка, думаю я. Теперь все иначе: мы свободны, и времени для нас нет.
— Пусть утро. Нет, не утро. — Я вдруг вспоминаю про часы, которые мне подарил Быковский: ребята нашли в роще неподалеку от Маутхаузена брошенный «мерседес» и в нем портфель, набитый часами.
Я достаю из кармана — маленькие, золотые, в форме луковки. Они тикают, я заводил их.
— Вот посмотри, — говорю я, уверенный, что до утра еще далеко.
Мы пытаемся разглядеть в темноте крохотный циферблат. Безуспешно.
— Утром посмотришь, — говорю я и кладу в ладонь Оли луковку-часы.
— Это мне? — не верит она.
— Конечно. Ты посмотришь, какая это прелесть. Оля вздыхает.
— Ты сможешь продать их, когда вернешься. Дома понадобятся деньги.
Смешная она: о чем заботится!
— Зачем мне деньги? Осенью я пойду в институт, буду получать стипендию.
— Купишь костюм.
— У меня есть костюм.
— Ну, часы, мужские.
— А часы я себе еще достану, если захочу. Бери! Она наконец смягчается.
— Если только ты еще достанешь… А то у меня, правда, ничего, ничего нет. Когда немцы угоняли нас, все палили, разбивали. Как мы теперь жить будем, — не знаю.
— Все наладится, Оля, — успокаиваю я ее. — Теперь мы будем еще лучше жить. Больше не будет войн, не будет фашизма. Красивой и умной будет жизнь, Оля, вот увидишь, и справедливой. А мы к тому же такие счастливые!
Она доверчиво прижимается к моему плечу, и мы молчим.
Звезды куда-то исчезают. Серая пелена тумана разрежается. Прочерчиваются контуры домов.
— Рассвет…
— Тикают, — радуется Оля. — Пошли?
Я надеваю пиджак, и мы выходим на дорогу. Мир, кажется, несколько изменился, стал более спокойным, что ли. Над Дунаем неподвижно повисла плотная белая полоса.
У ближайшего перекрестка прощаемся. Девушки занимают старый дом под массивной крышей — он наискосок от нас. Я долго не могу выпустить из своей руки шершавую ладонь Оли.
После завтрака мы с Пороговым сидим на подоконнике. Лицо его строго и немного задумчиво. Через час мы выступаем. Доведется ли нам еще когда-нибудь так запросто посидеть и поговорить?
— Тебе ко многому надо будет заново привыкать… Вот, может статься, встретишься ты в будущем с кем-нибудь из лагерных товарищей. Новая обстановка, новые обязанности, семья, женщины там, детишки. И тебя, возможно, кольнет, что встреча получится совсем не такой, как ты ожидал… как, впрочем, бывает и с другими встречами, в особенности когда их очень ждешь. — Порогов смотрит мимо меня, куда-то в стену. — Кстати, насчет женщин. Не думай, что это просто. Даже то, что называется мимолетной связью, не проходит даром — портит душу. Не надо так. Все это совсем не просто, как кажется. Но это между прочим.
Это, по-видимому, не между прочим, а главное, что он хотел сказать мне. И я благодарен ему, не за совет — в подобных вопросах голым умом, вероятно, ничего не решается, — я благодарен Порогову за его отцовски бережное отношение ко мне.
Опять смотрит мимо, теперь в окно.
— Значит, не хочешь со мной?
— Спасибо, но я думаю, что найду родных, я говорил…
Он предлагал мне стать его приемным сыном, и хотя моего родного отца давно нет в живых, я надеюсь, что жива мама.
4
Все в солнце: поля, перелески, зелень земли и сияющая необъятность неба. Голубой Дунай позади, затерялся где-то за холмами, и Альпы позади — я никогда не забуду их, — и Маутхаузен, и трудные годы — годы моей юности, отданные войне.
Мы шагаем в головной колонне. Шагает Порогов, Валерий, Иван Михеевич, полковник Шаншеев. Идут в пешем строю, как простые солдаты. Идут герои, для меня они всегда будут героями — организаторы и стратеги подпольной войны в концлагере. Идут коммунисты.
А мы идем за ними. Нас больше трех тысяч — бывших политзаключенных Маутхаузена. Свыше тридцати тысяч наших соотечественников осталось там, убитых и превращенных в пепел. Но сегодня они тоже идут с нами, незримо, ставшие частью нас самих. Это боль и горе, мужество и отчаяние первых лет войны идут по австрийской земле на восток. Мы возвращаемся из вражеского окружения на нашу советскую землю.
Только солнце. Оно блестит на листве придорожных лип, в разогретой траве, в капельках пота на наших лицах. Солнце и солнце, и хорошо, что сегодня много солнца!
Я шагаю тоже в головной колонне. В предыдущие дни я ехал на легковой машине, выполняя специальные задания уполномоченного по репатриации майора Манина. Вместе с шофером Леней мы внезапно появлялись в отдаленных местечках и живописных виллах в стороне от шоссе: проверяли, не задерживает ли кто-нибудь там наших людей. Я шел обычно первым, правая рука на пистолете в кармане пиджака (нашу колонну дважды обстреляли), Леня — за мной, шагах в двадцати, в одних трусах, косолапый, с автоматом на шее… Теперь пистолет лежит у меня в заднем кармане брюк, все тот же, подаренный моим камрадом Маноло. Я не отдал его американцам, когда 7 мая, наведя на нас орудие с танка, они потребовали, чтобы мы разоружились; я очень хотел бы привезти его домой как память о боях с эсэсовцами в Маутхаузене…
Только солнце. Пожалуй, оно начинает припекать слишком сильно. Воздух накаляется, ни один лист не дрогнет на разомлевших липах. Я снимаю фуражку и вытираю пот с лица.
— Дождь будет, — говорит Быковский. — Косточки чуют, да и трава очень пахнет, перед дождем.
Насчет травы верно. Вообще я замечаю, что после концлагеря у нас обострилось обоняние. Я не подозревал, например, что можно на расстоянии ощутить горьковато-сладкий запах коры лип, пресный запах воды, в реке, грустный теплый аромат клочка свежего сена.
— По-моему, впереди река, — говорю я.
— Впереди гроза, — вещает Жора.
— Да, будет гроза, — соглашается Быковский. — Парит.
— Не будет грозы. А речка — вон она! — Я показываю на голубую полоску воды, изогнувшуюся подковой в яркой зелени луга; эта подкова — примета счастья…
Мы переходим через каменный горбатый мостик и медленно взбираемся в гору.
— Только не упрятывали бы сразу в казарму, — вслух размышляет Жора. — Хотелось бы еще погулять. Вы знаете, что мы сейчас проходим по суворовским местам — Энс, Перг, Марбах? Потом я хотел бы съездить в Вену.
Лицо Жоры оживляется. Он мечтает когда-нибудь найти и поблагодарить двух венок из Красного Креста, которые 20 июня 1943 года пытались передать нам, военнопленным политрукам, в невольничий вагон корзинку с хлебом и кофе.
— А я согласен на казарму, — тоже оживляясь, говорит Быковский. — Старый служака. Дай-то бог!
Порогов идет размеренным, тяжеловатым шагом. Вероятно, устал. Конечно, устал, это видно и по напряженной спине и по ссутуленным плечам. И по тому, что умолк — больше не разговаривает и не шутит. Он мог бы преспокойно катить в машине вместе с майором Маниным, но не захотел.
На Порогове старый темный костюм, еще лагерный. На спине след от красной полосы, счищенной бензином. На голове вылинявшая фуражка-тельманка… Зря он все же отказался от нового костюма, который я раздобыл ему на вещевом складе. Он хочет переодеться только в свою армейскую форму — его, кадрового офицера, нетрудно понять.
Почувствовав мой взгляд, Порогов оборачивается.
— Жарко?
— Нормально, — отвечаю я.
— Не ври. Жарко. И нечем дышать, это перед грозой.
Они все правы: Быковский, Жора, Порогов. Небо над головой чисто, но на горизонте уже собирается предгрозовая муть.
Печет солнце. Остро пахнет травой. Начинает донимать жажда… И все-таки радость, главное, радость: сейчас будет встреча с советским командованием, и скоро, теперь уже очень скоро я обниму маму, сестер, поцелую родную русскую землю!
Ряды безмолвно подравниваются. Головы — выше. И волнение — я вижу закушенные губы, возбужденно поблескивающие глаза.
На перекрестке дорог столб с фанерными стрелками-указателями. На одном из указателей русская надпись: «Цветль. 1 км».
Это тот город, куда мы идем, а вернее сказать, пришли: за поворотом сквозь сияющую зелень листвы проглядывают первые дома, и над ними в дрожащем мареве — высокие стены какой-то старинной кирхи или монастыря.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
1
Наверно, я тоже волнуюсь… Рядом с Пороговым идет майор Манин, но ведь он около часа тому назад проехал мимо нас к городу? Когда он возвратился? Как я не заметил? Майор Манин идет не рядом, а сбоку и на полшага впереди.
По обе стороны колонны — аккуратные фасады домов, подстриженные деревья, узорчатые чугунные оградки — как мы переступили черту города, я тоже почему-то не заметил. Я сейчас вообще плохо замечаю, что вокруг, зато отчетливо слышу стук своего сердца. Я стараюсь держаться прямо, глядеть только перед собой, как на параде… Может быть, это глупо?
Нет, не глупо. Мы вступили в советскую зону оккупации. Это же, по сути, самая торжественная минута в моей жизни за последние годы: я вернулся! Даже не верится. Неужели вернулся? Но почему все совершается как-то слишком просто?
Может, потому, что я чересчур долго ждал этой минуты, и мне теперь лишь кажется, что просто? Ведь я ждал этого непрерывно с тех пор, как 6 июля 1942 года замкнулось немецкое кольцо, и я почувствовал, что отрезан от Родины. Все дальнейшее по смыслу своему было ожиданием, борьбой за возвращение и ожиданием его. И вот теперь это наконец совершается, уже свершилось…
Так почему же нет музыки? Почему нет цветов и поздравлений? Где праздничные лица моих прежних командиров? Где родные?
Дурачок, говорю я себе. Успокойся. Откуда взяться здесь твоим родным и твоим прежним командирам? Здесь Австрия, ты возвращаешься из плена…
Я встряхиваю головой. Я хочу все трезво оценивать и понимать, но сердце мешает. Дурное сердце! Мало ли чего хочется ему, сердцу! Я встряхиваю головой и вижу еще более напряженную спину Порогова; жалко, не вижу его лица — что на нем? И еще я вижу впереди большой сквер, побелевшие на солнце верхушки тополей, а выше — синюю стену тучи, громадную синюю тучу с белесыми пятнами внутри и неясными розоватыми всполохами света.
Ну и дьявол с ней, с тучей, думаю. А Порогов просто устал. И никакой торжественной встречи не будет — я неожиданно понимаю это. Сейчас Порогов доложит, и нас разведут по казармам. И все. И так даже лучше…
Мы входим в тенистую аллею. Мы минуем аллею, спускаемся немного вниз, и вот наших шагов больше не слышно. Мы идем, по травяному полю вслед за майором Маниным, идем в конец поля — это футбольное поле: я вижу покосившиеся штанги ворот, — мы останавливаемся там, где должна проходить черта штрафной площадки.
Вероятно, мы на городском стадионе. Кругом деревья. Скамейки поломаны, доски свалены в кучу. Зачем?
И я слышу за спиной громкую команду:
— Нале…во!
Давно я не слышал такой команды: «во» — отдельно, отрывисто, как положено. Хорошо!
Поворачиваюсь, как положено. Я в первой шеренге. Я вижу немолодого старшину — подтянутого, бравого, с красной звездочкой на пилотке.
— Ра-авняйсь!
Ищу глазами грудь четвертого человека. Очень хорошо!
— Смирн-а!
Замираю. Скашиваю взгляд на старшину. Четким строевым шагом подходит он к чернявому капитану и что-то докладывает — что, я не слышу: по-прежнему мешает сердце.
Капитан кивает. Старшина поворачивается к нам. Сейчас, наверно, пригласят Порогова. Сейчас, думаю я…
И я вижу вдруг на углу поля, там, откуда подается мяч на угловой, — я вижу автоматчика. Нашего солдата в выгоревшей гимнастерке, нашего советского солдата, беленького безусого парня с автоматом. Зачем?!
И я вижу второго автоматчика на противоположном углу поля. Зачем?! И еще одного солдата с автоматом наготове. Зачем? Зачем?!
— У кого огнестрельное или холодное оружие — сдать! — командует старшина.
Что-то больно обрывается в груди, холодеет, но я не хочу этому верить. Это понятно, понятно, твержу я себе. Война закончилась.
Я выхожу из строя и кладу на землю свой пистолет. Мне подарил его испанец Маноло, мой камрад, он подарил мне его за неделю до нашего восстания. Я кладу его на землю, свой пистолет. Война закончилась. Это ничего, говорю я себе.
И я чувствую вдруг, что солнца больше нет. Его заслоняет туча. По верхушкам тополей пробегает короткая дрожь.
Я возвращаюсь на свое место в строй. Поворачиваюсь кругом через левое плечо. Как положено. Это ничего: оружие сдали, — теперь автоматчики уйдут.
Над головой глухо погромыхивает: начинается гроза. Порогов возвращается в строй, Валерий — в строй, полковник Шаншеев — в строй. На их лица ч не гляжу — стыдно.
— Поживей! — кричит старшина.
А почему он кричит? Что он здесь — старший? А где майор Манин? Я смотрю налево и направо — майора Манина нет. Где же майор Манин?
Косо сверкает молния. Грохочет. И сразу темнеет. Дышит холодом.
— Живей, говорю! — кричит старшина.
Где же Манин? Где майор Манин? Почему не уходят автоматчики? Почему с нами так? За что?
Снова сверкает. И вновь грохочет. Первые крупные капли дождя падают на сухую траву, на наши головы в чужих фуражках и полосатых концлагерных шапках, на наши плечи, на наши спины, тысячу раз битые палками эсэсовцев и надсмотрщиков…
И это ничего, что дождь. Это даже хорошо. Капли дождя на лицо — это даже приятно. И ничего незаметно, ничего незаметно, потому что капля дождя и человеческая слеза — попробуй, различи их!
Дождь припускает. Часовые автоматчики поеживаются. Старшина кричит:
— Берите доски, лопатьм Стройте себе жилье! Что стоите?
Да, что же мы стоим? Что я стою?
Порогов, ссутулившись, первым трогается с места. За ним полковник Шаншеев, Иван Михеевич, Валерий… Потом бросаются все в беспорядке.
Бушует дождь. Ослепительно вспыхивает и раскалывается небо, черное небо над почерневшей мокрой землей.
2
— Это нужно. Пойми, в среду пленных, таких, как ты и я, могли затесаться власовцы и полицаи. Тут, мой дорогой, необходимость, суровая, но необходимость. И откровенно, я предвидел что-то в этом роде. — Порогов приостанавливается и испытующе смотрит на меня.
Над головой опять солнце. После вчерашнего дождя земля еще не просохла, от влажных стволов, от сырой травы, на которые падает рассеянный солнечный свет, в старом парке сюит голубоватый дымок.
Лицо Порогова бледновато, под глазами мешки…
А верит ли он сам в то, что говорит? — думаю я. Или сам себя старается убедить, что есть такая необходимость? Хорошо, кабы верил, ему было бы легче.
— Да, — говорю я. — Необходимость. Я поднимаю.
— А мы выдержим и это! — Порогов пытается улыбнуться. — Уже выдержали. Теперь будет проще. Теперь будем отчитываться каждый за себя, а потом и за наши общие дела в Маутхаузене.
Он, очевидно, рад, что я понимаю. Пусть так думает. Я рад за него, если он так думает.
— За себя мы отчитаемся, — говорю я. — А за нашу подпольную работу в Маутхаузене — тем более. Пока мы все вместе, сделать это несложно.
Я тоже пробую улыбнуться. И улыбаюсь — довольно натурально, по-моему. Походив со мной еще немного по дымящемуся, в солнечных зайчиках парку, Порогов отправляется в свой шалаш. Я бреду к речке, огибающей парк с юга, и сажусь на замшелый серый камень.
На противоположном берегу высится старинный монастырь. Там расположился особый отдел. Чернявый капитан, принимавший нас вчера, — его начальник… У крепостной монастырской стены стоят часовые. Один из них смотрит прямо на меня: ему, вероятно, приказано следить за парком, где находимся мы, со стороны речки. Солдат смотрит на меня настороженными сощуренными глазами, на его гимнастерке поблескивает медаль. Я снимаю отсыревшие ботинки, кладу их рядом с собой на камень.
Необходимость, думаю я. Хорошенькая необходимость!
Я гляжу на часовых и на крутой, поросший ивняком откос противоположного берега. Ведь это сущий пустяк — уйти отсюда! Каждый из нас, имевший за своими плечами в плену хоть один побег, сумеет незаметно уйти из этого парка. И, возможно, кто-нибудь, не поборов обиды, смалодушничает и уйдет, а потом расскажет пленным в западной зоне, как встретили нас здесь. Вот что глупо! И вредно! Как наше командование не понимает этого?
Смотри, смотри, думаю я про часового с медалью. Неси свою службу как положено, солдат. По совести говоря, я очень завидую тебе: ты в форме, с медалью, при оружии. Мне же просто не повезло, солдат, мой дорогой незнакомый товарищ, а ведь я в душе такой, как и ты. И не беспокойся за меня: я не уйду. И никто из моих концлагерных друзей не уйдет — ты не волнуйся!..
Позади меня шуршат осторожные шаги. Затем я вижу сбоку опрокинутое в воде улыбающееся лицо своего земляка Афони.
— Что, друг, загораем? — спрашивает он. — Загораем. Составь компанию.
Он усаживается на бережок, подобрав под себя ноги. Когда-то мы мечтали вместе ехать домой. Это было очень давно, в какой-то иной жизни.
— И долго будем так… загорать? Ничего не, знаешь?
— Нет.
— А не посадят нас случаем? Болтали ведь, что за плен сажают. Оно похоже на то и выходит.
Улыбка исчезает с лица Афони. И белые брови, сдвигаясь, сосредоточенно топорщатся.
— Нас не за что сажать, — говорю я.
— Вроде бы и не за что. А с другой стороны — следует. По приказу-то каждый должен был до последней капли крови. Вот я и задумываюсь… — Афоня понижает голос. — Застрелиться надо было как-то, хотя особой возможности и не представлялось. Да и жалко самого-то себя стрелять. За что?
Голубые глаза Афони, глаза-звездочки, меркнут.
— Чепуха это, выбрось из головы, — говорю я. — Война внесла свои поправки в прежнее представление о плене. Любой фронтовик понимает: и с ним могло случиться то же. Плен — несчастье, а не преступление, по крайней мере для большинства таких, как мы. Подлецы и изменники в счет, конечно, не идут, да их и немного среди пленных.
Я сам несколько удивляюсь своей уверенности. Я хочу так думать, хочу верить, что и все так думают. Простой здравый смысл, больше того — сама печальная действительность войны на моей стороне.
Афоня горестно вздыхает.
— Пошто же нас сюда загнали?
— Это временно, — говорю я. — Надо проверить, не затесались ли к нам полицаи и власовцы.
— Дак ведь сказываешь — их немного. Для чего же над остальными, которых большинство, надругаться?
— Чтобы не ускользнули подлецы, — отвечаю я с прежней похвальной уверенностью.
«Зачем это говорю? — спрашиваю я себя. — Ведь неправильно оскорбить сто человек ради того, чтобы выявить одного негодяя. Их обязательно нужно вылавливать, предателей и всяких негодяев, но каким-то другим способом. А так — и бесчеловечно, и опять же нерасчетливо, и глупо».
— Словом, земляк, что у нас было, то и есть. — Афоня усмехается. — Лес рубят — щепки летят. Это мы уже слыхали в тридцать седьмом… а ты говоришь, война внесла поправки! — Он сплевывает в воду и поднимается. — Ладно, сиди, а я пошел.
Часовой у монастыря больше не смотрит на меня: надоело или понял, что я неопасен… А вдруг и правда посадят? Соберут всех вместе, погрузят в эшелоны и отправят в лагеря куда-нибудь на Север или в Сибирь?
Нет, лучше не думать об этом. Не хочу думать. Не хочу мучиться. Хватит мучиться! Я обуваюсь и спрыгиваю с камня на берег.
…В полуразваленном сарайчике в груде хлама я случайно нахожу старый, но еще вполне пригодный велосипед. Я гоняю на нем по всем дорожкам и аллеям парка, потом, положив длинную доску на откос футбольного поля, съезжаю вниз, я все круче срезаю углы, набираю все большую скорость, пока, сделав особенно резкий поворот и зацепившись за край доски, не лечу вверх тормашками. Я разбиваю лицо в кровь, но мне не больно. Наплевать мне на кровь!
Вечером Афоня ведет меня к своим друзьям в дальний шалаш. Ребята где-то раздобыли спирта. Мне наливают почти полный стакан. Я пью, как и все, не дыша, и запиваю спирт водой.
Наплевать, что обжигает горло и перехватывает дух. Наплевать мне на все!
Я возвращаюсь домой. Мне смешно. Я иду и отталкиваюсь от земли. Это ужасно весело. Черное звездное небо вдруг опрокидывается вправо, и тогда я отталкиваюсь левой рукой. Потом небо стремглав летит влево, и я отталкиваюсь правой. Но я не только отталкиваюсь, я еще горланю превосходную песенку, которую сочинили в наше отсутствие, когда мы сидели в плену:
И пока за туманами видеть мог паренек. На окошке, на девичьем, все горел огонек.3
Яне знаю, что это: своего рода защитная психологическая реакция, или обида и затаенный протест, в которых больно самому себе признаться, или легкомыслие мое, а может быть, все, вместе взятое, но меня, кажется, вдруг перестают волновать и мысли о том, что нас ждет, и даже то, что с нами было. Я просто хочу жить, дышать чистым воздухом, гулять, хочу обыкновенных земных радостей. Для меня сейчас нет прошлого и нет будущего — только настоящее. Я понимаю, что скатываюсь с каких-то высоких человеческих позиций, однако и это мало волнует меня. Мы, пленные, — шлак, который выгребают из потухшей топки войны, а то, что мы боролись с врагом в лагерях, — ну так что же: мы оставались и там советскими людьми и не могли вести себя иначе, и ничего особенного тут нет…
Уже середина июня. Стоят великолепные, в солнце, в тополином пухе, яркие длинные дни. После первой сортировки нас, бывших концлагерников, переводят за город, в палаточный лагерь. Формируется офицерская рота и несколько рот рядового и сержантского состава. Проводятся переклички, иногда — строевые занятия. Командиры у нас выборные, свои. Никто больше не стережет нас.
И все-таки настроение подавленное. Кто же мы такие? Военнослужащие? Но почему нам не выдают форму? Почему мы выбираем командиров, когда в армии они должны назначаться? А главное — зачем держат нас здесь? С какой целью? Что за неопределенность?
Я отмахиваюсь от этих вопросов, но они назойливо лезут в голову. И я опять отмахиваюсь от них.
…Валерий Захаров, упираясь грудью в край стола, пишет. По поручению бывшего подпольного комитета он составляет отчет о деятельности нашей организации в Маутхаузене. Он пишет быстро, видно, что рука еле поспевает за мыслью. Голова немного набок, ворот полосатой рубашки расстегнут… Что ж, пусть пишет. Не буду ему мешать.
Выбираюсь из палатки. На небе жаркое солнце. Невдалеке другая палатка, почище и попросторнее; там размещаются наши офицеры… Пойти туда? Наверно, опять играют в подкидного или простого дурачка. Нет, к офицерам не пойду.
Гляжу дальше. За дорогой, напротив палаточного лагеря, протянулись зеленые бараки. В одном из них санчасть, в другом живут настоящие военнослужащие, в третьем, полупустом, нечто вроде клуба или красного уголка. Я прочитал все газеты и журналы скопом, в один присест, а свежих еще нет.
Но деваться больше некуда: идти на речку под палящим солнцем не хочется, и я плетусь к клубу.
Еще издали вижу Порфирия. Он сидит на завалинке барака в тени и курит. Он один из самых старых моих товарищей по плену: мы познакомились в конце марта или в начале апреля 1943 года… Как бывшего оперуполномоченного, Порфирия теперь пригласили сотрудничать в особом отделе. Он живет на частной квартире в Цветле, у него свободный доступ в монастырь, ему даже разрешено носить личное оружие.
Мы здороваемся, и я подсаживаюсь к нему в тенек. Порфирий заметно пополнел, порозовел, даже морщины на лбу и возле глаз чуточку разгладились. Он весь будто помолодел и обновился: и взгляд веселее и голос звучней.
— Ну как там Жора? — спрашиваю я.
— Да пока без изменений, — отвечает Порфирий. Жора Архаров сразу по приходе в Цветль подал рапорт, что он разведчик генерального штаба и просит доложить о нем в соответствующие инстанции. Его временно поместили в монастыре.
— Кого-нибудь еще из наших ребят встречал?
— Из нашей группы? — Порфирий поводит длинной струей дыма. — Затеев и Савостин здесь, ты знаешь, Ермолаев Петр в госпитале… Лешка Толкачев, мне говорили, был повешен не то в Линце, не то в Штайере незадолго до конца. Слыхал?
Да, я слышал о гибели Толкачева. Его повесили за то, что он обозвал гадами эсэсовцев, тащивших на виселицу заключенного-поляка, пойманного при попытке к бегству. Лешку повесили на той же перекладине, что и поляка.
— Да, вот какое дело, — помолчав, говорит Порфирий. — Тебе Мишка на глаза не попадался? Ну, черный такой — помнишь? Работал в мастерских в нашем цехе…
— Помню. А что?
— Он власовец, я ищу его…
— Он не власовец. Он был в рабочей команде пленных на аэродроме под Парижем, он рассказывал мне.
— И мне рассказывал. Они под новый год будто бы разоружили пулеметчика и пытались бежать… Так где этот Мишка? — Порфирий мельком зорко взглядывает на меня.
— Я не видел его здесь, не знаю. Но он не власовец, ты ошибаешься.
— Власовец или не власовец, — это, друг, нам виднее. — Порфирий показывает в усмешке стальные коронки на передних зубах.
— Не власовец, — утверждаю я. — Мишка — свой парень. То, что они разоружили часового-пулеметчика и хотели бежать, — это же патриотический поступок! И в Маутхаузене он вел себя хорошо, ты сам помнишь.
Порфирий неожиданно грустно улыбается.
— А ты помнишь, как на восемнадцатом блоке уверял, что после концлагеря нас повезут отдыхать в Крым и наградят орденами?
Он задевает за самое больное.
— На твоем месте я не стал бы сейчас напоминать об этом, — говорю я.
— Может быть, может быть. — Порфирий снова мельком взглядывает на меня. — А ты не нравишься мне, промежду прочим.
— Почему же?
— Да так. — И Порфирий коротко смеется. — Не нравишься, не нравишься. Вроде чем-то недоволен. Вот и Мишку пытаешься взять под защиту. — Порфирий дружески похлопывает меня по плечу и еще раз полушутя-полусерьезно повторяет: — Не нравишься.
Он заплевывает окурок, тщательно растирает его подошвой и встает.
Чужой, думаю я. Стал чужим… Да, пожалуй, и все мы, лагерные друзья, стали теперь немного чужими: замкнулись в себе, как-то потускнели — даже Валерий и Иван Михеевич, даже Порогов. Неужели пришел конец нашему братству?
4
Мне грустно, так грустно, как не было еще никогда. Неправда, что меня больше не волнует будущее и безразличным становится прошлое. Мне очень больно за Валерия и Ивана Михеевича, моих первых командиров в антифашистском подполье, за Порогова, за Жору Архарова, за Быковского. Мне больно за всех честных военнопленных, оскорбленных и униженных недоверием.
И опять я с тревогой думаю о том, что же нас ждет: ссылка, тюрьма или бесславное возвращение домой на правах отбывших свой срок заключенных?
Я хотел бы жить только настоящим, но ведь настоящее — это всегда стык прошлого и будущего. В человеке неизбежно живет прошлое и предчувствие будущего, потому что будущее во многом вырастает из прошлого, а за прошлое — войну и плен — я, кажется, не могу ни в чем серьезно упрекнуть себя. Почему же меня должна ждать ссылка или тюрьма?
Я размышляю об этом, идя по душной, жаркой улице Цветля после невеселой встречи в госпитальном садике с одним из лагерных товарищей, иду, глядя себе под ноги, и вдруг слышу девичий голос, окликающий меня.
В открытом окне второго этажа Оля.
— Не узнаешь?.. Заходи, я встречу тебя в подъезде.
Значит, и их, гражданских, еще не отправили домой. А их почему?
Оля берет меня под руку и ведет наверх. В комнате стол, два стула, шифоньер, две железных кровати — голова к голове.
— Ты, я гляжу, не очень рад?
— А что ты тут в городе делаешь?
— Я работаю в госпитале, вольнонаемная.
На ней хорошее платье, хорошие туфли, у нее красивая прическа. В пепельнице на столе — торчок смятой недокуренной папиросы.
— Ты куришь?
— Нет, это не я. — Оля, смешавшись, вытряхивает пепельницу в мусорную корзину. — Это заходил один знакомый. Я сегодня дежурю вне очереди, заболела санитарка, он приходил сказать, чтобы я подменила ее. Ты садись. Есть хочешь?
— Нет, спасибо.
Я сажусь на подоконник.
— Может, выпьешь? — спрашивает она. — Ты мне совсем не рад? Совсем?
— Не знаю… Я больше ничего не знаю, Оля.
— Сойди с подоконника. Сядь на стул. У меня есть австрийское вино, какое мы пили тогда. Я налью тебе.
Платье плотно облегает ее тело. Шея и руки покрыты словно золотистой пыльцой. У нее крепкие ноги, загорелые и стройные. Я смотрю на нее, пока ока достает из шифоньера бутылку и стакан.
Это — настоящее. Не стык прошлого и будущего, а просто настоящее. Без мудрствований.
— Достань еще стакан.
Она достает, и я наполняю оба стакана.
— Выпьем за тебя, Оля.
— За нас!
Вино тепловатое и капельку горчит. Ничего. После спирта оно как детский фруктовый напиток. Оно немного вяжет во рту.
Оля придвигает ко мне тарелку с ломтиками шпига.
Я гляжу на ее обнаженные, пополневшие за последний месяц руки и думаю: «Слаб человек. В чем-то слаб. В чем-то непобедим, а вот в этой обыкновенной жизни, видимо, слаб».
И я кладу на ее руки свои и притягиваю ее к себе…
— Ты не опоздаешь на дежурство? — спрашиваю я ее через полчаса.
— Нет, я заступаю в восемь, а сейчас еще нет семи. — Она вынимает из-под подушки золотые часики-луковку. — Без четверти семь. Видишь?
— Тикают?
Оля смеется негромким счастливым смехом.
— Ты знаешь, — говорит она, — я еще тогда обратила на тебя внимание, когда ты молчаливый сидел за столом. Надя говорила, что ты был адъютантом Порогова и ты смелый и самый молодой. Я хотела прийти к тебе, когда вас загнали на стадион, но меня не пропустили. А потом я думала, что вас увезли в Россию. Я буду тебя всегда любить. Ты это помни.
— Спасибо, Оля.
— Что же с вами будет? Неужели опять лагеря?
— Не знаю. Но я тебя тоже не забуду. Ты первая у меня. Ты это тоже помни.
Оля утыкает лицо в измятую подушку и плачет.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
1
Желтые стандартные дома, громадный плац, кирпичное здание так называемого пищеблока, и все это обнесено забором из колючей проволоки. Часовой только у ворот, вышек нет, но на прилегающих к забору улицах прохаживаются патрули. Так выглядит местоположение нашего запасного полка в городе Винер-Нейштадт.
По-прежнему непонятно: кто мы? Снова выборные командиры — от отделенного до ротного, — пестрота одежды, снова неопределенность. Правда, командир запасного полка, молоденький кадровый лейтенант, изо всех сил старается придать нашему бытию видимость бытия воинской части, однако это ему плохо удается.
Странно подумать, но на дворе уже август. Солнце, неяркое и незнойное, обычное августовское солнце, заливает желтоватый плац. На нем в разных концах жидкие кучки людей. Люди сидят спокойно, не шумят, не разговаривают, лишь изредка кто-нибудь громко зевнет, а потом виновато поглядит по сторонам и полезет в карман за махоркой. Сейчас у нас политзанятия. Тема: присвоение верховному главнокомандующему высшего военного звания — генералиссимуса Советского Союза.
Я назначен заместителем командира роты по политчасти и в этом качестве стою с газетой перед одной из кучек и читаю вслух большую статью о полководческом гении главнокомандующего, благодаря которому мы победили интервентов в гражданскую войну и теперь наголову разбили фашистских агрессоров…
— Все ли понятно? — закончив, спрашиваю я.
— Все! — отвечают мне.
— Какие вопросы?
— Когда домой?
— Когда поступит приказ, — говорю я. — Вопросы прошу по теме.
— А увольнительные нам будут давать?
— Увольнительными распоряжается командир полка. Еще раз прошу: по теме.
Молчат.
Из каптерки вылезает долговязый старшина, тоже пленный, — он командир роты. Старшина смотрит на свои круглые карманные часы, потом на меня — время, отведенное на политзанятия, истекает, — я киваю ему, и он командует:
— Разойдись!
Теперь по распорядку дня свободное время. Его и так хоть отбавляй, и неизвестно, как его убить.
— Ну, как беседа? — солидно интересуется старшина.
— Как обычно, — говорю я.
— Плохо, значит. Обленился народ. Ему лишь бы пилось да елось, а поднимать свой уровень не хотят. — Он оглядывается и снижает голос: — Когда в увольнительную?
— Это уж как лейтенант.
— Просись сегодня, а завтра я.
— Люди тоже просятся.
— Люди людьми, а мы все-таки командование, соображать надо! — И старшина дергает себя за длинный нос…
Командира полка, лейтенанта, я нахожу в штабной комнате. Он разговаривает по телефону. За столом у двери сидит ефрейтор и пишет. За спиной его массивный несгораемый шкаф. В окно виден часовой у ворот.
— Слушаюсь. Есть! — говорит лейтенант в трубку и опускает ее на рычаг. — Вы ко мне?
— Так точно. Разрешите обратиться, товарищ командир полка?
Он, мой ровесник, очень любит, чтобы соблюдались уставные правила обращения.
— Да! — У него свежее, с легким румянцем лицо, новенький китель, новенькие необмятые погоны, очень чистый подворотничок.
Я беру руки по швам: шапки на голове у меня нет.
— Товарищ командир полка, прошу предоставить мне увольнительную в город, до вечернего построения.
— Гаврилов, глянь на список, — приказывает лейтенант ефрейтору. — Ничего? Отметок нет?
— Он по форме «А». Разрешено.
— Я про очередность спрашиваю, а не про то, разрешено или нет, — это я без тебя знаю.
— Он еще не был в увольнительной. Первый раз.
— Разве вы не ходили в город? — удивляется лейтенант. — Тогда я бесспорно выпишу. Только, знаете, чтобы без глупостей насчет женщин. Ясно?
Он мог бы и не предупреждать: до того ли сейчас; на душе, по правде говоря, еще хуже, чем было в Цветле.
— Ясно, — отвечаю я.
У выхода меня поджидают трое знакомых ребят: просят купить курева. Они здесь последние из маутхаузенцев. Наших офицеров, в том числе Порогова и Ивана Михеевича, отправили куда-то в Чехословакию, рядовых и сержантов распределили по разным запасным полкам.
2
У нас чрезвычайное происшествие. Даже два. Нынешней ночью группа пленных связала часового и ушла за ворота в неизвестном направлении. К штыку винтовки беглецы прикололи записку: «На колючую проволоку мы насмотрелись. Больше не хотим». Утром весь полк выстроили на плацу, и потрясенный лейтенант предал проклятию изменников. Потом за ним прикатила машина с угрюмым сержантом. Лейтенант вернулся лишь к обеду, заметно осунувшийся.
А час тому назад — новая неприятность: скоропостижно скончался старичок-генерал из белоэмигрантов, решивший было вернуться на Родину. Я помню, как его привезли к нам. Он поначалу весь будто светился, всем пожимал руку своей мягкой, пухлой рукой и всех уверял, что это его высшая мечта — взглянуть на новую Россию, а там хоть и помереть. Писарь-ефрейтор сказал мне по секрету, что генерал был каким-то военным ученым и что, пожалуй, не следовало сажать его в изолятор.
Сейчас старичок лежит в коридоре на деревянном диване. Белые руки сложены на груди, на ногах мягкие высокие башмаки. Возле него врач. Лейтенант в отчаянии.
— Это все изолятор. Ведь говорил, говорил — не послушали меня… А может, у него глубокий обморок?
— Он мертв, — довольно равнодушно констатирует врач.
— Голову мне теперь отвинтят за него, — плачущим голосом продолжает лейтенант. — Ведь кабы не предупреждал, так предупреждал, и не раз — старый, слабый человек, и нельзя было так с ним!
— Товарищ начальник, вас к телефону, — приоткрыв дверь, зовет ефрейтор.
Лейтенант, спотыкаясь, бредет в штабную комнату.
В коридоре, кроме меня, врача и мертвеца, — удрученный старшина, командир роты. Ему отказано в увольнительной.
— Вот и живи — лишь бы пилось да елось. И командуй, — бормочет он. — На кой это мне сдалось?
Врач, тоже из военнопленных, позевывает. Возвращается лейтенант. Губы его дрожат.
— Помогите, ребята, — говорит он нам. — Заверните генерала во что-нибудь… Гаврилов! — кричит он в комнату. — Дай твою плащ-палатку.
Мы со старшиной завертываем тело генерала в плащ-палатку и тащим к воротам. Там уже поуркивает крытый грузовик. Укладываем мертвеца в кузов, ефрейтор влезает в шоферскую кабину, и грузовик трогается.
Старшина жалостно глядит на лейтенанта.
— Товарищ комполка… может, пустите?
И вдруг я вижу, как яростный огонек загорается в глазах лейтенанта.
— Предатели, изменники Родины! Кругом, марш! — кричит он.
Старшина столбенеет.
— Круго-ом! — кричит лейтенант.
Старшина круто поворачивается, приставляет каблук, потом с левой ноги четко и прямо шагает прочь.
Губы лейтенанта белые и трясутся.
— А ты? — Он вперяет в меня ошалелый взгляд. У меня от волнения ком в горле и раздельно стучит сердце.
— А ты что стоишь? — кричит лейтенант, мой ровесник, и не нюхавший, по-видимому, пороху.
Я стою и гляжу на него.
— Что стоишь? — кричит он. — Не слышал команды? А я стою.
— Так. — Он трясущимися пальцами достает папиросы, закуривает, усмехается. — Не нравится обращение? Можете жаловаться, — все равно теперь из-за вас вылетел в трубу.
Мальчишка, думаю я. Разве ты знаешь, что такое — вылететь в трубу?
— Разрешите идти? — спрашиваю я.
— Нет! Отправляйтесь к штабу.
Я стою возле штаба, наверно, не меньше часа. Лейтенант, запершись, сидит в комнате. Наконец он приказывает мне войти.
— Садитесь.
Он закрывает на ключ несгораемый шкаф и опускается за свой стол.
— Курите?
Он приминает мундштук папиросы, щелкает зажигалкой, перекидывает папиросу в уголок рта, не спуская с меня взгляда исподлобья.
— Я еще раз поинтересовался вашей анкеткой… Что, не хватило духа покончить с собой?
— Когда?
— Когда в плен брали, конечно. Струсил? Я не отвечаю.
— Ладно. Тогда скажите вот что… В чем я неправ? Почему вы все смотрите на меня как на своего личного врага?.. У нас частный разговор, без свидетелей, так что можете не стесняться.
Я с облегчением вздыхаю. Я ожидал, что лейтенант прикажет посадить меня в изолятор.
— Вы неправы в том, что считаете нас изменниками Родины, — говорю я. — Мы не изменники Родины. Известно ли вам, что у старшины, которого вы оскорбили, два фронтовых ранения и две попытки к бегству из плена?
Лейтенант поспешно затягивается.
— Я лично не считаю всех вас изменниками, у меня это сгоряча сорвалось, я объяснюсь со старшиной, пусть так. Но вы же не маленькие, служили в армии и должны понимать, что я тоже подчиняюсь распоряжениям и выполняю определенные инструкции. Скажу больше — только это между нами, — насчет вас, бывших пленных, есть специальный приказ, подписанный маршалом Берия… Как же могу я по своей воле снять колючую проволоку или давать всем увольнительные, особенно теперь, после этого возмутительного ночного побега?
«А может, он не такой уж плохой? Может, какие-то инструкции плохие?» — думаю я.
— Скажите, а вы читали сами этот приказ?
— А для чего это вам? — Он снова исподлобья взглядывает на меня и отворачивается к окну. — Идите, готовьтесь в дорогу. Отправлю вас, так и быть, вне очереди, с первой ротой. Возможно, быстрее попадете в Россию.
3
Позади — вечерняя Вена, потом уголок Югославии — разукрашенный флагами город Суботица, — потом Будапешт, потом горы и пестрые равнины Румынии. Но Будапешт ярче всего: поезд вырывается на зеленую низменность, и вдруг — высокая многоэтажная коробка дома, похожего на небоскреб, а вокруг него ровный луг; а дальше руины, широкая гладь Дуная под мостом и опять руины, как порванные каменные кружева…
И снова, теперь на румынской земле, — ограда из колючей проволоки, и часовой у ворот, и прежняя неопределенность. Есть и новое: наше скопище больше не именуется запасным полком; народу здесь наберется на целую дивизию, но что это за народ! Гражданские обоего пола и всех возрастов, бывшие военнослужащие, цыгане, даже пленные немцы. По какому признаку нас объединили, непонятно. Официальное название — «Сборный пункт по репатриации, город Фокшаны» — мало что разъясняет нам.
Меня берут работать в штаб — составлять списки. Чувство тревоги и одиночества не покидает меня, но за работой все-таки легче.
Однажды к нам привозят подразделение казаков, служивших у Власова. Они в своей форме, с лампасами и чубами. В штабе возникает дискуссия, как обращаться к ним: «товарищи» или «граждане». По инструкции всех репатриантов, советских граждан, полагается называть товарищами. Но ведь эти-то… — настоящие власовцы и, значит, предатели? Однако других инструкций нет, и решено впредь до особого указания называть и этих казаков товарищами.
В полдень один из наших начальников, рослый щеголеватый старшина (нами, репатриантами, командуют почему-то главным образом старшины), приводит для регистрации первую группу казаков. В комнату, где я тружусь над списками, заходят двое: коренастый, с бурым лицом человек лет тридцати и пожилой, усатый. Старшина усаживается на подоконник. Я показываю коренастому, который вошел первым, на табурет у стола. Он не желает садиться. Как угодно.
— Ваша фамилия?
Он откашливается. Я некоторое время жду и повторяю вопрос. Коренастый молчит.
— Вы не слышите? Он не отвечает.
— Вы что, товарищ, оглохли? — спрашивает старшина. — У вас с ушами не в порядке? — И пальцем постукивает себя по уху. — Контужен, что ли?
Коренастый не поворачивает головы.
— Что же вы, товарищ?
Бурое лицо обращается к старшине, светлые глаза сужаются до щелок.
— Знаешь что… — Голос у него низкий и хриплый. — Волк тебе товарищ, а не я. — Он мгновенно подтягивается и, полуобернувшись к усатому, гаркает: — Хгосподин есаул, какие будут ваши дальнейшие распоряжения?
Усатый тоже сощуривается и что-то бурчит себе под нос. Старшина, оцепеневший было от неожиданности, соскакивает с подоконника, берет усатого есаула за плечо и выталкивает за дверь. Быстро возвращается, закуривает и, глотая дым, тихо говорит коренастому:
— Волк, значит…
Тот снова, как изваяние, нем и неподвижен.
— Волк, — повторяет старшина с побелевшим лицом, хватает табурет и обрушивает его на спину казака…
Чего только нам, пленным, не довелось повидать в немецких лагерях; там били человека на каждом шагу, били безжалостно и с наслаждением, избиение людей делалось бытом, и, притерпевшись, я уже не очень страдал, видя, как бьют. Но то враги, нелюди, а здесь на моих глазах человек в советской форме, советский старшина избивает — пусть преступника, пусть врага. Такое я вижу впервые.
…Казак, сгорбившись, сидит в углу; он не проронил ни звука, не застонал. Сидит на полу, подтянув к лицу колени, дышит хрипло, глаз не подымает. Рядом с ним валяются обломки табурета. Старшина ходит по комнате и утирает платком мокрое, в багровых пятнах лицо.
— Гады… Давить вас надо было танками, а не везти в Россию. Волка нашел, сучья морда!
Я, сам полуневольник, молчу. Я понимаю чувства старшины и нисколько не сочувствую коренастому: вот такие-то матерые предатели больше всего и истязали нашего брата, пленягу; они ловили сбежавших из лагерей, они служили в карательных отрядах, вешали и расстреливали партизан.
И все-таки мне не по себе. Расстрелять такого, если он это заслужил, по приговору суда можно, а ломать о спину табурет нельзя. Я абсолютно убежден: нельзя!
Старшина поворачивается ко мне.
— Ничего, выдюжит… Вынеси стол на улицу и пиши там. Я подошлю к тебе сержанта. Ежели спросят меня, скажешь — заболел. Я через них, гадов, в госпиталь, наверно, угожу. В сумасшедший дом.
Он поднимает казака и выводит его из комнаты. В окно вижу, как, обхватив его под руки и немного согнувшись — левая рука казака лежит на плече старшины, — он ведет его к санчасти.
У крыльца, на земле, понурившись, сидят другие казаки. Когда, вынеся стол, я прошу их подходить по одному, первым встает усатый есаул.
Полчаса спустя сержант приводит новую группу. Незадолго до ужина я заканчиваю регистрацию, отдаю листы старшему писарю и иду на кухню.
Кормят нас терпимо, хотя и похуже, чем в Цветле или в Винер-Нейштадте. На кормежку не обижаемся… Обижаться можно лишь на свою судьбу, но какой от этого прок?
4
На небе висит луна. Искрится изморозь на крышах бараков и утрамбованной земле. Тишина. Луна неправдоподобно большая, сияющая, низкая, такая она бывает только на юге. Тишина бездонная; редкие гудки маневровых паровозов на станции лишь подчеркивают ее. Земля и светлые крыши бараков будто посыпаны толченым стеклом.
Мы делаем обход зоны, где размещается спецконтингент, и смежного участка с хозяйственными строениями — пекарней и кухней. В бараках власовцев ни шороха, ни огонька — спят. Военнопленные немцы, в основном эсэсовцы, тоже спят. Милованов закуривает.
— Чудно все-таки, — вполголоса говорит он.
— Да, чудно, — отвечаю я.
Все чудно: и то, что уже конец октября, а мы по-прежнему в Фокшанах, и то, что в двадцати шагах от нас спят бывшие эсэсовцы и власовцы, и особенно, вероятно, то, что мы, недавние политзаключенные Маутхаузена, члены подпольной антифашистской организации, несем здесь полицейскую службу.
Да, полицейскую! Мы полицейские: я, Милованов и еще человек пятнадцать «чистых» пленных. Не знаю, было ли на то распоряжение свыше или это идея нашего начальника пункта, но в один прекрасный день нам выдали хорошие сапоги, шинели, ушанки и объявили, что отныне мы полицейские. В штабе даже состоялось специальное обсуждение, как должны обращаться к нам репатрианты и как должны мы называть друг друга: «господин полицейский» или «товарищ полицейский». Щеголеватый старшина, например, утверждал, что «товарищ полицейский» — это бессмыслица: полицейский, мол, не может быть никому товарищем. Я и Милованов наотрез отказались именоваться «господами». Тогда было найдено компромиссное решение: для немцев и власовцев мы «господа», для прочих — «граждане полицейские».
Я все же подозреваю, что затея с производством нас в полицейские — сумасбродство начальника пункта: если бы было распоряжение свыше, то, конечно, была бы и инструкция о форме обращения к нам…
Милованов смотрит на часы.
— Без пяти два. Пора к пекарне.
Мы затворяем за собой калитку «власовской» зоны и идем по застывшей земле к приземистому, с массивной трубой зданию, похожему на крематорий.
— Да, чудно, — повторяет Милованов. — Думали ли, гадали… Скоро полгода, как освободились, и все за проволокой. И до дома не ближе. Меня еще госпиталь подвел: не провалялся бы там столько и, может, сидел бы сейчас дома и пил чай… Ты когда-нибудь пил зеленый чай?
Я никогда не пил зеленого чая и не знаю, что это такое.
— Он по виду, как и обыкновенный, но вкус немного другой, — поясняет Милованов. — Казахи заправляют его молоком и подсаливают.
— Невкусно, наверно.
— Очень вкусно и полезно, надо только привыкнуть. — Гласа Милованова мерцают в лунном свете, лицо синеватое, как у утопленника. Он подносит ко рту цигарку, и я вижу его изуродованную руку: на ней нет двух пальцев, оторвало на фронте.
Привыкнуть, думаю я. Сколько же можно привыкать? В лагерях пленных привыкал, в Маутхаузене привыкал, но больше, кажется, не могу. К соленому чаю все-таки, вероятно, можно привыкнуть, к руке, напоминающей клешню, — тоже, но к вечной неволе — нет… Проклятая война, что же она сделала с нами?
— Ты, Коля, учился до войны?
— Я как раз окончил десятилетку. А ты?
— Я тоже десятилетку и должен был пойти в институт. Сейчас был бы, наверно, корреспондентом ТАСС или писал бы критические статьи на новые романы. Я, знаешь, мечтал возродить традиции Виссариона Белинского… Гордые были мечты, высоко в мыслях заносило, и хорошие это были мечты, человеческие. Хотел служить правде, коммунизму, своему народу… Гады проклятые!
— Кто? — тревожно спрашивает Милованов.
— Да кто первый взбаламутил нашу жизнь. Вот!.. — Я указываю на черные фигурки немцев-пекарей, выходящих из приземистого здания. — И заведение-то, как крематорий.
— Верно, — шепчет Милованов и кричит немцам: — Хальт!
Это тоже наша обязанность: следить, чтобы не выносили из пекарни хлеб.
Обыскивать людей противно, но надо. И хотя эсэсовцы не совсем люди, тем не менее противно.
— Хлеб несете? — по-немецки спрашиваю я, приближаясь к ним.
— О нет! — отвечает передний длинный немец в фуражке-финке; такую фуражку носил зимой начальник охраны каменоломни Шпац. — Нет, господа полицейские, мы не нуждаемся в хлебе, нам достаточно.
— Ihr habt genuq was zu essen und was zu rauchen, nicht (У вас хватает еды и курева, не правда ли)? — говорю я.
— Jawohl, Herr Polizist (Так точно, господин полицейский)! — несколько удивленно, но и довольно говорит длинный немец.
Удивляется, стерва, моему хорошему произношению, а доволен тем, что, как кажется ему, я не буду обыскивать: замечание мое звучит почти по-приятельски, скрытой издевки он не улавливает.
Он прикладывает пальцы к козырьку и, наклонившись вперед, шагает дальше. Остальные пекари-немцы трогаются за ним.
— Момент! — говорю я.
— До звидания, — полуобернувшись, кивает мне длинный. — Мы много работаль, давай, давай. Ошень усталь.
— Хальт! — снова командует Милованов. Немцы приостанавливаются, недовольно гудят что-то.
— Доставайте хлеб! — приказываю я длинному. Он, по-моему, старший пекарь… Знаем мы этих пекарей! В лагерях все называют себя поварами или пекарями.
— Но, господин полицейский… — произносит длинный; в его голосе проскальзывают тревога и раздражение.
Конечно, прихватил с собой буханку, я уверен. Для маленького гешефта, без этого они не могут.
— Никаких «но»! — отвечаю ему привычной, столько раз слышанной формулой. — Или, может быть, у вас нет хлеба?
Длинный умолкает. Я вижу его враждебно поблескивающие глаза.
— Расстегните шинель. Он не шевелится.
— Schnell (Быстро)!
Он не подчиняется. Я подхожу и нащупываю под его шинелью твердый предмет… Знаем мы эти штучки: втянул в себя живот и засунул буханку за пояс. Дать бы ему по морде, эсэсовской твари!
— Raus damit (Вынимай)!
Он начинает медленно расстегивать пуговицы. Пальцы его дрожат.
— Los! — кричу я и ловлю себя на страшном: ведь я невольно или со злости подражаю тем, кто так кричал на нас в Маутхаузене. До чего же я докатился! Но остановиться уже не могу. — Los, tempo! — Будьте вы все трижды прокляты, вы, придумавшие войны и лагеря…
— Stillgestanden!
Длинный немец в распахнутой шинели, держа буханку в руке, вытягивается и щелкает каблуками.
— Miitzen ab! — ору я, чувствуя, что у меня вотвот брызнут слезы.
Он стаскивает с головы фуражку-финку. Я отбираю у него хлеб. «По морде его, по морде!» — шепчет во мне злой голос, но я стараюсь не слышать этого голоса.
— Im Gleichschritt — marsch!
Эсэсовцы-пекари в ногу шагают прочь, к своей зоне.
— Папиросу, закурить, — прошу я.
Милованов лезет искалеченной рукой в карман, очень спеша.
Луна заходит. Колючий забор подмигивает электрическими огоньками. Вскрикивает, как от боли, маневровый паровоз. И снова глубокая тишина — тишина отчаяния.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
1
Нас двенадцать в этом вагоне. Двери заперты снаружи, но колючей проволоки на окнах нет. Нар тоже нет, и они не нужны: мы свободно помещаемся на полу.
Я, старый путешественник, занимаю место у окна. Вместе со мной Милованов. В противоположном углу по нашей стороне — летчик Ампилогин со своими друзьями. В другом конце вагона — четверо безусых ребят и три немолодых казаха.
Пока поезд стоит на станции, дожидаясь отправки, все льнут к окнам. На улице солнце, теплынь. Похоже, что на эту благодатную землю в середине ноября вернулось лето. Впрочем, не совсем лето: в пристанционном саду преобладает охра и багрянец, кое-где сад сквозит, но трава сочно-зеленая, как в июне.
На платформе под нами прохаживаются офицеры. Они в начищенных сапогах, со всеми регалиями, очень веселые. Половину нашего эшелона занимают демобилизованные, половину — репатрианты. Возможно, такое соседство кого-то и шокирует, но только не этих офицеров. Судя по орденским колодкам и нашивкам за ранения, они хорошо знают войну. Они смеются, радуясь солнцу и тому, что едут домой, и разговаривают с нами. Наш часовой стеснительно жмется к кондукторской площадке — хотя чего бы ему жаться! В воинском эшелоне часовой — фигура нормальная.
Я слежу за дежурным по станции, который то и дело заглядывает в окошко диспетчерской, и вдруг вижу странную пару, выходящую из калитки пристанционного сада. Седовласый старик, в посконной, ниже колен рубахе, и юная девушка, очень юная, лет шестнадцати, с прекрасным смуглым личиком, с большими, диковатыми, черными глазами. Она босая, в светлой расшитой кофточке и длинном нарядном сарафане. Старик направляется к нашим офицерам, девушка — следом; подол ее сарафана колышется, а прямой стан неподвижен, тоненький и горделивый. И головка с черной, ниспадающей на плечи волной волос горделива.
Офицеры останавливаются и замирают. Старик кланяется им. Девушка наивно уставляется на них своими прекрасными непонимающими глазами.
— Ко-опите, — произносит, низко кланяясь, старик. — Сто рубли, сто. Ко-опите…
— Что купить? — слегка испуганно спрашивает молодой красивый капитан. Я вижу его загорелые скулы и голубые глаза, в них растерянность и восхищение.
— Дочка ко-опите, любить. — И старик похлопывает девушку по спине.
Она доверчиво и диковато переводит взгляд на красивого капитана.
— Что за бред?.. — бормочет майор с эмблемами артиллериста.
— Сто, только сто-о, — объясняет старик. — Хороший дочка. Один раз любить — сто, ко-опите…
И низко кланяется, свешивая седину на лицо. Скулы капитана наливаются кумачом.
— Фу, черт! Что, с ума сошел? Слушай, папаша, ты в своем уме?
За вагоном кто-то жирно хохочет. Майор-артиллерист сердито поворачивается.
А девушка все стоит, доверчивая и покорная. У меня, чувствую, сжимается сердце.
Капитан торопливо лезет в карман, вынимает две красные бумажки, сует старику.
— На, отец, и иди, иди! Что ты, очертенел, старый? Придумал что! Дочь у тебя красавица, посмотри, какая!
И сам глядит на нее смущенно и восторженно.
— До чего же довели людей! — качает головой майор.
Старик держит деньги в вытянутых руках, явно недоумевая.
— Не понимаешь? — спрашивает капитан. — Мы советские, понимаешь? Мы против этого. — Скулы его снова загораются. — Ты иди, иди! — Он легонько подталкивает старика, показывая на калитку. — Да береги дочку, смотри, какая она у тебя красавица! — Он ненатурально смеется и, должно быть, борясь с собой и что-то в себе преодолевая, вновь поднимает восторженно-испуганные глаза на девушку.
— Не хороший? — бормочет старик. Он действительно ничего не понимает.
— Купи хлеб, кукуруз, мамалыг, что там еще у вас? Разумешь? — коверкая язык, точно от этого он становится понятнее румыну, продолжает капитан и опять ненатурально смеется.
А девушка, умница, вдруг все понимает. Радостно кивнув, она, как королева, переступая маленькими босыми ногами, колыша подолом, с неподвижным тоненьким прямым станом, идет обратно к калитке. Старик, низко поклонившись офицерам, — за ней. У калитки девушка оборачивается и дарит капитану улыбку… Такой улыбки нельзя забыть. Проживи хоть три жизни — не забудешь.
— Втюрился? А? Признавайся, — посмеиваясь уже, спрашивает майор-артиллерист капитана.
На того словно напал столбняк — не может оторвать глаз от опустевшей калитки.
— Так-то, друг, а еще говорят, не бывает с первого взгляда… Но, однако, положеньице. Ужас! Черт знает, до чего можно довести человека! Ну, да ладно. Закури лучше.
Майор достает пачку «Казбека», первый берет папиросу и оглядывается на нас.
— Что, чудо, ребята?
— Чудо.
— Вот до чего довели простой народ бояре и немецко-фашистские захватчики, — назидательно заключает майор.
Пожилой офицер, тоже капитан, третий их товарищ, не проронивший до сих пор ни слова, сумрачно вздыхает и отворачивается от нашего окна.
— По вагонам! — доносится в голове состава.
2
Нас двенадцать. И мы очень разные. Разных возрастов, разного жизненного опыта, разные даже по своей национальной принадлежности. Мы принимали разное участие в войне, по-разному вели себя в плену и теперь соответственно отнесены к разным категориям репатриируемых. У нас, видимо, нет ничего общего, кроме того, что мы едем в одном вагоне и неясно представляем себе свое будущее.
Отстукивают колеса, покачивается пол. Четыре разных группки по углам вагона покачиваются, сидя на полу. Я и Милованов — бывшие концлагерники, Ампилогин с двумя товарищами — «чистые» пленные, немолодой казах Мухтар Мухтарович со своими земляками — не совсем «чистые»: они работали в какой-то вспомогательной немецкой команде, и, наконец, Павло, Гришка и еще двое — бывшие рядовые власовцы.
Мы сидим в полудреме. Уже часа четыре в пути. Сквозь окошки в вагон сочится сизоватый свет. Солнечное пятно подрожало на моей стене и исчезло — это было с четверть часа назад. Начинает смеркаться.
Милованов, потянувшись, встает. Я слышу его неровные шаги, потом — тугой плеск струи в параше. Он возвращается, привстает на цыпочки у окна, смотрит и вдруг вскрикивает.
И вдруг все вскакивают на ноги и припадают к окнам. Я тоже, я взбираюсь на вещмешок, я вижу, как белеют от напряжения пальцы Милованова, вцепившиеся в край окошка.
И я больше не вижу ни Милованова, ни круглой головы Павло, как-то очутившегося рядом, ни вагона — ничего!
Передо мной в сизых сумерках река, крутой противоположный берег и покосившиеся в сторону реки деревянные дома.
Никто вслух не произносит этого слова, никто вообще ничего не произносит, но я спиной чувствую, кожей затылка своего чувствую какое-то поле напряжения, высокое напряжение сил, безмолвную, неподвижную бурю сил по бокам и позади себя, внутри вагона…
Здравствуй, Россия, здравствуй, мать! Вот мы и снова с тобой, в тебе, твои сыновья, чистые, не совсем чистые и совсем нечистые. Здравствуй, родное небо, родная земля, родные покосившиеся домики!
Поезд, грохоча, перемахивает через мост, проносится мимо полустанка, и я вижу на запасном пути девушку, почти девочку, с большой, укутанной теплым платком головой и с голыми озябшими коленками. Она стоит с длинным молотком, каким вбивают костыли в шпалы, и смотрит на нас из-под руки.
Здравствуй, сестренка! Тебе, наверно, тяжело забивать костыли, мы видим. Ты пусти нас, мы будем забивать за тебя, мы всё, всё будем, ты только пусти и прости нас, сестренка!
Прости за все: за наше отступление, за плен, за минуты отчаяния, за то, что мы были просто людьми, а не сказочными богатырями…
Поезд врывается в лес. Надсадно свистит паровоз.
Мы опять рассаживаемся по своим углам.
— Павло, — говорю я, — подойди сюда. Он сопит носом и не отвечает.
— Подойди на минуту, закурить дам.
— У меня е, не пойду. Я сам подхожу к нему.
— Ты, Павло, рад, что снова увидел Россию?
— А чого мне радоваться? Чого я в ней потеряв? — Он колупает свое колено и не глядит на меня.
— Брешешь, Павло, — говорит его дружок Гришка.
— А чого я брешу? — внезапно возмущается Павло и вскидывает на Гришку упрямые серые глаза. — Чого брешу? Чого радоваться? Из немецькой неволи та на советську каторгу.
Он усмехается искривившимися полными губами.
— Насчет каторги ты брось, — сдерживаясь, говорю я. — Никакой каторги у нас нет.
— Слушай, дай ты ему по зубам! — зазвеневшим от гнева голосом говорит Милованов. — Вот подлюги!
Павло, насупившись, поворачивается к нему.
— Все мы сейчас подлюги. И нам и вам — одна честь.
Милованов, покачиваясь, подходит к власовцам.
— Как ты сказал? Одна честь?
— Но, но! — бормочет Павло, с опаской поглядывая почему-то на сапоги Милованова. — Не в полицаях теперь.
Он так и говорит, — «в полицаях», а не «в полицейских», желая посильнее уязвить нас.
— Эх, паскуда! — вскрикивает Милованов. Мелькает его клешня, раздается треск пощечины. Ребята-власовцы вскакивают, упираются спиной в стенку, плечом друг к другу. Кулаки на уровне груди, в глазах — злость.
— Эй! — кричит Ампилогин (он старший вагона). — На губу захотели?
Но я уже чувствую противную мякоть тела под своим кулаком. И в ту же секунду чувствую крепкий удар по челюсти: это меня зацепили справа.
— Р-раз! — приговаривает Милованов.
— Р-раз! — повторяю я.
Стучат затылки по стене. Трещат наши скулы. Ничего, к боли мы привычные!
Чьи-то руки хватают меня сзади и оттаскивают на середину вагона.
— Стыдно! — кричит Ампилогин. — В такие-то минуты!
…Мы с Миловановым сидим на своих вещмешках, натруженно дыша и поплевывая. Пусть только еще откроют рот, власовские сопляки! К нам придвигается Ампилогин.
— На закрутку не одолжишь? — спрашивает он Милованова.
— А ты чего встрял? Кто тебя просил?
— Так ведь непорядок, ребята. Вы же пример должны подавать, мы же знаем, откуда вы…
— В том-то и дело, провокационных разговорчиков мы здесь не потерпим. Понял, старшой? — говорит Милованов.
— Понял-то понял, но все-таки вы напрасно. Рукоприкладством ничего не докажешь, можно только больше озлобить их.
3
Летят километры, летят дни. Для нас, сидящих а вагоне, стирается грань между временем и пространством: дни — это километры, километры — дни. Почему бы жизнь человеческую, проведенную на колесах, не измерять километрами?
И еще одно превращение. За неполную неделю пути на наших глазах сменилось три времени года: когда мы выезжали, было лето, через два дня за окнами проносилась глубокая осень, а теперь уже зима.
Холодно, тряско, и надоело. Все устали. Хочется побыстрее ступить на твердую землю и увидеть неподвижные дома, деревья, вновь ощутить себя неким центром, вокруг которого равномерно распределяется свет или тьма, но обязательно вокруг, а не с одной стороны, как теперь.
Дело в том, что в вагоне осталось одно окошко, и то перегородили колючкой. Остальные забиты досками. Так теплее, меньше сквозняков, но вагон делается похожим на тюремную камеру…
Минувшей ночью мы пересекли Волгу. Теперь поезд забирает все дальше на северо-восток. Говорят, что нас везут на Урал.
Сейчас утро. Мы сидим по своим углам, поеживаемся и ждем остановки и завтрака.
— Давай, что ль, пусть и нам погадает, — говорит мне Ампилогин, кутаясь в потертую пилотскую кожанку. У него на подбородке черная щетина, глаза запали и смотрят тоскливо.
— Давай. — Я поднимаюсь и иду к пожилому казаху Мухтару Мухтаровичу и прошу его погадать мне.
Пока он совершает молитву, поджав калачиком ноги и сверху вниз оглаживая ладонями лицо, я гляжу на серое небо, бегущее за колючим крестом окна.
Конечно, это лишь забава, способ убить время — гадание, но все же любопытно. Казахи считают Мухтара Мухтаровича святым, чуть ли не пророком. Он еще в лагере военнопленных якобы предсказал, когда кончится война. Они спокойны: знают, что с ними будет, хотя нам и не говорят. Мухтар Мухтарович тоже всегда спокоен. На его лице нет морщин, глаза умные, ясные, и он очень чистоплотен, каждый день чистит зубы. Своеобразная личность!
— Пожалуйста, — отвечает мне Мухтар Мухтарович, закончив молиться. Сейчас он особенно умиротворенный, с тихим сиянием на лице.
Я опускаюсь рядом на корточки.
Мухтар Мухтарович расстилает перед собой белую тряпицу, достает небольшой мешочек и вытряхивает из него сухую глянцевитую фасоль. Я вижу на ней какие-то крапинки — вообще-то обыкновенная фасоль. Он протягивает раскрытые ладони с длинными пальцами, слегка шевелит ими и делает плавные, как бы парящие движения. Я смотрю вовсю, и мне кажется, что фасолины капельку двигаются и переворачиваются, хотя — я вижу это отчетливо — он не прикасается к ним. Зрительная иллюзия, должно быть.
Мухтар Мухтарович на минуту прикрывает глаза, лицо его напрягается и застывает. Потом, открыв глаза, разводит руки и, вглядываясь в крапинки на фасоли, говорит едва слышно и монотонно:
— Число твоих лет нечетное, число членов семьи четное. Один член семьи приемный…
Я поражен: мне двадцать один год — число нечетное, наша семья состояла из восьми человек — четное; один член нашей семьи приемный — моя сестра Мария. Вот чудо-то! С числами еще могло быть случайное совпадение, но приемный член семьи — невероятно!
— Документы твои хранятся в большом городе… — как сквозь сон вещает Мухтар Мухтарович, и опять я поражаюсь: правда, аттестат отличника и некоторые мои справки должны храниться в Ленинграде, в институте.
— На левой руке твоей, у плеча, шрам («Верно, верно, ранение!»), в твоем мешке есть пестрый костюм и книга («Тоже верно. Откуда, дьявол побери, он знает?»).
Мухтар Мухтарович снова закрывает глаза и сосредоточивается. Теперь он скажет главное: что ждет меня. Он всегда так делает: сперва скажет, что с человеком было, что у него есть, а затем — что будет, я замечал. И удивительно, я чувствую как учащенно бьется мое сердце.
А Мухтар Мухтарович уже вновь смотрит на фасолины. И опять монотонно, как во сне, журчит его голос:
— Еще год — и вернешься домой. Будешь большим человеком. Хорошо жить будешь.
Я страшно рад, я потрясен, и я ему верю. Я обязательно вернусь домой, пусть через год. Я обязательно буду хорошо жить, он прав. Он прав, но что же это такое? А может, наука когда-нибудь объяснит это явление?
Благодарить за гадание не полагается. Я возвращаюсь к себе.
Милованов посмеивается. Он единственный, кому еще не гадал Мухтар Мухтарович (Ампилогин тем временем уже сидит на корточках перед «пророком»). И вот ведь что еще интересно: всем власовцам Мухтар Мухтарович предсказал встречу с домом лишь по прошествии семи лет, а «чистым» пленным — через год, как и мне.
— Чепуха! — заявляет Милованов, но тоже глядит во все глаза на Мухтара Мухтаровича.
— Сходи, Колька, ничего не потеряешь.
— Нет. — А сам не сводит взгляда с тихо сияющего лица казаха.
— Сходи, не мучайся.
— Откуда ты взял, что я мучаюсь? Я жрать хочу… Да он больше и не будет гадать. Теперь разве лишь после вечерней молитвы.
И то правильно. Мухтар Мухтарович гадает только утром и вечером и не больше, чем двоим кряду. Казахи говорят, что он очень устает. Действительно, всякий раз после гадания Мухтар Мухтарович ложится на боковую.
Я вижу чуть страдальческую мину на небритом лице Ампилогина. Потом вижу его широкую улыбку, глубокие морщины бегут от самого рта до ушей. Он выпрямляется и идет к нам.
— Год? — спрашивает Милованов.
— Даже поменьше, — отвечает Ампилогин.
В его глазах уже нет тоски… Славный все-таки Мухтар Мухтарович! И если он даже мистифицирует нас — хотя для чего бы ему нас мистифицировать? — он все равно славный. Человеку надо верить в свое будущее.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
1
Черный, присыпанный снегом лес, мглистое небо, разбитая дорога, и на ней — сотни две устало бредущих людей с серыми, несвежими лицами. По обе стороны дороги — другие люди, в полушубках, с винтовками, месят ногами грязный снег, угрюмо молчат. Дорога как бесконечность, небо как грязный снег.
Это этап. Не марш, не переход, даже не «транспорт», как было недавно, а этап. Мы, устало бредущие, не колонна, не строй, а «партия». Наши конвоиры не конвоиры: они называют себя «стрелки».
Все зловеще ново, непривычно и до ужаса тяжело. Правда, еще теплится надежда, что нас разошлют по штрафным батальонам (был такой слух), но с каждым километром пути и этой надежды все меньше: кругом безлюдье, никаких признаков близкого нахождения войск; наоборот, нам дважды попадаются навстречу настоящие арестанты в длинных стеганых тужурках, с быстрыми, звероватыми глазами.
Густеют сумерки. Начинают заплетаться от усталости ноги, сохнет во рту. Наконец мы видим невдалеке от дороги закопченное бревенчатое строение с резной башенкой, и нам приказывают остановиться возле него.
Это строение удивительно! Будто казачья сторожевая изба из времен Ермака Тимофеевича. Шестнадцатый век… Лучше не удивляться!
В избе нары и чад — я не удивляюсь. Окон нет — что же удивляться: изба курная. Давя друг друга, лезем на нары и в темноте, в холодном едком дыму, не снимая вещмешков, укладываемся. Стрелки остаются снаружи.
Не надо удивляться. Ничему не надо удивляться. Так лучше. Хочется только, сжав зубы и закрыв лицо шапкой, завыть.
Как волку. Когда в морозную ночь, голодный, он вздевает мохнатую морду к звездному небу и воет, жалуется…
Но человек не волк. Человек терпит.
Неподалеку разговаривают:
— Четыре куба на лесоповале я дам. Напилю. Тут, земляк, надо усвоить одно, дал норму — большая горбушка, недовыполнил — меньше горбушка. А меньше горбушка — меньше и сделаешь. А меньше сделаешь — еще меньше горбушка. И так покатишься день ото дня, пока тебя за ворота не будут выволакивать за шиворот, как отказчика, пока не дойдешь…
— Тоже доходяги и тут? — спрашивает испуганный голос.
— Обязательно. Это от нас и пошло — «доходяги», — отвечает первый голос, уверенный и грубоватый. — Так что вкладывай силушку, не жалея, в первый же день. Норма в лагере — это все, это бог. И жизнь… Поимей это в виду, землячок.
Значит, все-таки лагерь. Лагерь!..
Рядом со мной Ампилогин. Милованова с Мухтаром Мухтаровичем оставили в Соликамске, положили в госпиталь. Теперь я здесь один из Маутхаузена. Ампилогин мне ближе других, мы с ним держимся вместе.
— Слышал? — говорю я ему.
— Да, — отвечает он. — А что особенного? Будем проходить проверку и работать. Не понимаю, почему народ паникует. Там ведь хуже было…
Не понимает. Или не желает понимать.
Темнота. Дым постепенно развеивается… А чего тут не понимать? Каждый из нас, бывших пленных, знает, что такое человек за проволокой. И Ампилогин, конечно, знает это.
Человек за проволокой, чтобы выжить, должен бороться (против кого здесь бороться?!) или стать зверем. Исключения редки. По крайней мере так было до сих пор…
— Нет, мне не напилить столько, — шепчет испуганный голос. — Пропаду, честное слово.
— И пропадешь, — даже будто злорадно говорит уверенный.
— Не напилить мне нормы, не напилить.
— А я напилю. Я спокойненько.
— Что же мне-то делать? Я этим… доходягой-то три раза у немцев был. До сей поры слабый.
— А слабый — туда тебе и дорога. Хошь ты и земляк мне.
И я чувствую, как что-то холодное, отчаянное входит в мою душу.
— Послушай, ты! — говорю я в сторону уверенного голоса. — Не пугай слабых… Не пугай, зараза, а то придушу!
Настает вдруг абсолютная тишина.
Быть зверем? Я был бы, наверно, ловким зверем… Но ведь это и есть самое страшное — превратиться в зверя. Я не хочу быть зверем. За что меня ведут в лагерь?
— Это что за комиссар? — опомнившись, спрашивает уверенный голос.
— Брось, не связывайся, — еще тише шепчет испуганный. — Это концлагерник, смертник.
— Концлагерник? — : Уверенный, кажется, поражен. — Как же это ты… как ты-то сюда попал?
— Не пугай! — повторяю я.
— Да я, собственно, не пугаю, я наоборот. А ты. что… другое что-нибудь знаешь?
— Знаю, — говорю я, — Никто не пропадет. Мы будем проходить проверку и работать. И вернемся домой, кто не подличал в плену.
— И впрямь комиссар, — бормочет, неожиданно смягчаясь, уверенный.
— А когда, не скажете? — спрашивает робкий.
— Через год, а некоторые еще раньше.
И я вновь дивлюсь себе, как тогда в Цветле, при разговоре с Афоней: говорю то, во что сам почти не верю, лишь хочу верить, очень хочу.
— Год-то многовато, — пробует уже торговаться робкий.
— Давайте спать, товарищи, — предлагает Ампилогин.
— Еще год! — вздыхает робкий.
— Ну, полно. Спать так спать, — говорит уверенный, шебурша в темноте мешком.
Я тоже стаскиваю со спины вещмешок и кладу в изголовье.
2
Опять шагаем усталые. Опять мглистое небо, и грязный снег, и вороненые стволы винтовок за плечами стрелков. Лагерь появляется перед глазами внезапно, хотя мы все время и ждали его. Обрывается гать, редеет лесок — и вот он, наш лагерь. И опять, как вчера, первое чувство — удивление.
Что это? Стойбище вятичей или пермяков? Древнее русское городище? Какой это век?
Я вижу тын, нет, не тын, а плотный частокол из неошкуренных бревен, заостренных сверху. И сколоченную из досок вышечку шатром. И тяжелые, заиндевевшие ворота. И около них дозорного в тулупе — ему бы алебарду в руки, а не винтовку образца 1891/30 годов! И какие-то приземистые амбарчики с висячими пудовыми замками…
Но глазеть некогда. Нас пересчитывают, и мы проходим в открываемые со скрипом ворота.
Неровная, с обледенелыми пеньками площадь, обмазанные глиной ветхие жилища с крохотными окнами, и только вдоль бревенчатого частокола, метрах в пяти от него, нечто от настоящего лагеря — колючая проволока.
Она натянута на невысоких столбиках, стальная колючка. Она несколько мирит меня с этим городищем. Дозорные в шатровых вышечках обязаны стрелять в каждого, кто переступит проволоку, войдет в запретную зону. Это уже похоже на лагерь.
По команде поворачиваемся. Перед нами трое в полувоенной одежде, очевидно, начальство. Любопытно, любопытно! Я ловлю себя на том, что любопытствую: мне интересно, что это такое, наш лагерь. Странное создание — человек!
Мне бы сейчас совсем о другом думать, другое чувствовать, а я любопытствую… Наш лагерь! Нет, это в самом деле интересно.
Один из полувоенных выступает вперед. У него конопатое лицо с жесткими складками у рта.
— Что ж, с прибытием, значит, — говорит он, обращаясь к нам. Голос прокуренный, низкий, но в нем ни злости, ни издевки, в общем, обычно и даже довольно вежливо.
— Ну, так, ребята, — подождав немного, продолжает он. — Давайте, чтобы все было ясно с самого начала. Вы бывшие фронтовики, теперь репатрианты — не заключенные, я подчеркиваю, не заключенные, — я ваш начальник, тоже фронтовик, правда, не репатриант. — Он чуть усмехается твердыми губами. — Наше место называется командировка «Почтовая». Пока ваши дела разбирают в соответствующих организациях, вы будете работать. Ждем от вас, как от советских граждан, фронтовиков, сознательного отношения к труду. И дис-цип-линки! — Последнее слово он произносит по складам. — Какие будут вопросы?
Удивительный начальник лагеря! Неужели у нас все такие начальники лагерей?
— Какая норма на повале? Сколько кубиков? — спрашивает вчерашний уверенный голос.
Начальник ищет глазами спрашивающего. Снова чуть усмехается.
— Бывал прежде?
— Приходилось.
— Насчет норм узнаете у технорука. — Начальник кивает на худощавого краснолицего человека с маленькими злыми глазами. — Вот технорук Курганов, он ведает всеми нормами.
— А как с питанием? — негромко спрашивает Ампилогин.
Начальник бросает на него зоркий взгляд.
— До восьмисот граммов хлеба. Три раза горячее… Летчик, что ли?
— Летчик-истребитель.
— Питание удовлетворительное, — говорит начальник уже для всех. — Если вопросов больше не имеется, размещайтесь по баракам и отдыхайте. В двенадцать — обед, ужин — после возвращения из леса бригад. Все.
Хитрый он, думаю я. Уклончиво отвечает… И все-таки начало обнадеживающее. И главное, совсем-совсем не похоже на то, что было прежде…
Мы сидим в бараке вокруг тесового стола и хлебаем щи. Они весьма оригинальны, эти щи: в горячей воде плавает несколько скользких лепестков капусты, несколько перловых крупинок, и пахнет рыбой. Хлеб, как глина, четыреста граммов.
— Ешь вода и пей вода, спать не будешь никогда, — острит кто-то на нарах.
За столом, кроме Ампилогина и меня, сидят власовцы Павло и Гришка, щуплый азербайджанец Шамиль, похожий на одного моего фронтового товарища, погибшего под Ржевом, лейтенант Володька, умудрившийся попасть в плен за три месяца до конца войны, обладатель уверенного голоса дебелый ларняга Семен и его робкий земляк Ванятик.
— Так кто же из нас прав? А? — зачищая котелок, вопрошает Семен. — Товарищ комиссар али я? Каков твой взгляд, Ванятин?
Тот вздыхает, задумчиво глядя в пустой котелок: не наелся.
— Что же молчишь? Скусны были щи али нет? На этих щах, братишка, далеко-о уедешь! Не то что нормы — половины не вывезешь. Об чем я тебе и докладывал вчерась.
«Попробовал бы ты маутхаузенской брюквы», — мелькает у меня.
— А вообще мы оба вроде правы: будет и проверка и работа — начальничек подтвердил, — и домой, конечно, возвернемся… кто с этих щей ножки не протянет. — Семен вскидывает на меня умные, насмешливые глаза. — Вот объясни, товарищ комиссар… Вот Ванятин, земляк мой, у немцев не служил, в полицаях не был. Вот выйдет приказ: отпустить Ванятина домой, вчистую. А Ванятина-то и нет. Ванятинто с этих щей, потягав пилу, взял да и помер, не дождавшись приказа. Как тут быть?
— Брось! — говорю я. — Если Ванятин болен или слаб, никто его на тяжелую работу не пошлет. Мы не у немцев.
— Из немецьких лагерей та в советськи лагеря, — принимается опять за свое Павло. — Разве ж я тогда не правду казав?
— А ты цыц! Видел ты немецкие лагеря только с другой стороны забора, — хмуро обрывает его Ампилогин…
Ночь подбирается незаметно. Съев на ужин жидкий овощной супчик и поговорив со здешними «старожилами», вернувшимися с работы, мы ложимся спать. Не знаю, сколько проходит времени — час, может быть, два или три, — и вдруг я ощущаю, сонный еще, что тело мое горит. Словно его обложили горчичниками, когда горчичники еще не жгут, а только начинают забирать: пощипывают и покалывают.
Запускаю руку за ворот, пальцы хватают что-то мягкое — клоп, конечно! С отвращением тру руку о шинель, распространяется сухая едкая вонь. А тело горит… Чешусь, ловлю, давлю. Сколько же их здесь, этих тварей?
Слышу, как тревожно ворочается во сне Ампилогин, тоже чешется, вздыхает. И другие соседи чешутся, ловят, вздыхают. Вся секция вздыхает, постанывает, ловит и давит клопов.
— Так вони ж зажрут нас! — не выдержав, вопит Павло. — Зъедят до костей!
— Зажгите свет, — просит кто-то.
У двери щелкают выключателем, но света нет.
— Семен, а Семен, — канючит в темноте Ванятин. — Семен, может, ты знаешь какое-нито средствие против них? А, Семен?
Но Семен не отвечает. Он храпит…
Утром нас ведут на медосмотр, днем составляют списки бригад, а вечером в столовой объявляют, что с завтрашнего дня мы приступаем к работе.
3
Чуть брезжит рассвет. Звонко хрустит снег под ногами. Застывший в морозном серебре лес, как сказка. Ледяное безмолвие, серо-зеленые, голубоватые, стальные тона. Тишь. И только звонко хрустит снег под ногами.
У меня за плечом лучковая пила, на спине за поясом топор, сбоку — котелок. Все пригнано, ничего не болтается и не гремит: я старый солдат, старый лагерник. Остро льется в легкие разреженный воздух; сейчас лучше не открывать рта и не разговаривать, я знаю. Путь наш не близок, километров пять, и мы идем в ногу — так легче, я знаю. Работа будет тяжелой — я и это знаю, мне она не внове.
Наверно, мне теперь уже ничего не внове. Я иду и чувствую себя попеременно то солдатом, шагающим куда-то на передний край, то узником Маутхаузена, который должен во что бы то ни стало выстоять, то просто рабочим-лесорубом — мне пришлось быть и лесорубом, правда, недолго.
Лесные массивы сменяются заснеженными вырубками, вырубки — молодым частым подростом; крепнет утренний свет, и вот перед нами опять плотный застывший лес…
— Все понятно, комиссар? — спрашивает меня Семен. Он в хорошей телогрейке, в валенках, в прочных рукавицах: он бригадир.
— Понятно, понятно, — говорю я.
Он еще раз оглядывает мое рабочее место, улыбается, весело матерится и бредет по сугробам к Ванятину. Семен не только бригадир, но и инструктор: он должен обучить нас непростому искусству валки леса.
Разгребаю деревянной лопатой снег вокруг комля, делаю на положенной высоте надруб и берусь за пилу. Шагах в двадцати вижу сухощавое красное лицо технорука Курганова. Он стоит на узкой снежной дороге, волоке, и, вероятно, наблюдает за нами… Пусть наблюдает, мне-то что!
Сдвинув шапку на затылок и упершись левым коленом в ствол, отставляю подальше правую ногу, сгибаюсь, прикладываю стальные зубья пилы к дереву и, точно веду ее сперва на себя, делаю первый взрез. А потом осторожно и плавно — от себя, потом ровно, без нажима, чуть расслабляясь. — на себя, и вновь — теперь во весь размах — от себя.
Пила поет: «Жиг-жиг, жиг-жиг» — мелкие желтоватые опилки осыпают носки сапог. Пахнет скипидаром, чуть-чуть грустно пахнет, кажется.
А было так. На исходе первой недели войны я приехал в глухой северный поселок повидаться с сестрой. Муж сестры, молодой инженер, работавший техноруком лесопункта, сразу повел меня на пожарную вышку, и оттуда, сверху, мы долго смотрели на туманно-зеленый лесной океан. Помню, тогда именно у меня созрело решение пойти, не дожидаясь призыва, на фронт, и я сказал об этом Сергею. Он, ничего не ответив мне, предложил вместе поехать на делянку. В то время на Севере еще только вводилась лучковая пила, и Сергей дня за четыре научил меня владеть ею. Это был прекрасный спорт в дополнение к акробатике и футболу, которыми я увлекался… Позднее, когда мы с сестрой проводили Сергея на войну, мне пришлось на том же лесопункте забивать ржавые костыли в шпалы узкоколейки, а затем недели две ходить с бригадой вальщиков в лес.
«Жиг-жиг, жиг-жиг», — поет лучковая пила. Носки сапог уже густо запорошены опилками. Я приостанавливаюсь, сую рукавицы за пояс, трогаю пальцами блестящее полотно пилы. Оно теплое. И опилки чуть теплые, и нежные, и очень мягкие на ощупь. И пахнут скипидаром.
«Жиг-жиг, жиг-жиг»… Начинает поламывать поясницу и плечи. «Жиг-жиг, жиг-жиг»… Ощущаю легкую испарину на спине. «Жиг-жиг, жиг-жиг»…
Это уже не спорт. Это необходимость. Сама жизнь… Неужели Порогову, Шаншееву, Ивану Михеевичу приходится сейчас так же, под такой же сосной, в снегу, на морозе, таскать взад и вперед пилу, таскать до ломоты в плечах, до испарины, до горячего пота?
От моей спины, чувствую, валит пар, я взмок, но упрямо продолжаю резать, и вот уже накаленное стальное полотно, перевалив середину, приближается к верхней кромке надруба. Теперь лезвие топора в прорезанную щель, чтобы не зажимало пилу, еще несколько взмахов — и, кажется, можно валить.
Однако силы иссякли. Я вытираю мокрое лицо. Ничего. Капельку передохну и начну валить.
Поднимаю голову. Морозное солнце, яркий снег, синие тени. Слышу свистящий шум, длинный треск, потом гул упавшего дерева. По-моему, это Семен: его участок леса, «пасека», направо от меня.
Раздвигаются кусты, ко мне, весь в снегу, подходит технорук Курганов.
— В чем дело? За чем остановка? — спрашивает он.
— Сейчас буду валить.
— Валите. Вы же не новичок! Уже заметил!..
Упираюсь деревянной лопатой в ствол, тужусь изо всех сил.
— Раскачивайте, раскачивайте! — выделяя «ч», подсказывает Курганов и сам хватается повыше моих рук за черенок лопаты.
Вдвоем, конечно, легче… Огромный бронзовый ствол чуточку колеблется, зеленая макушка подрагивает в голубом небе, лопата то напрягается и давит на плечо, то, уходя за стволом, ослабевает в руках, и вдруг макушка стремглав несется наискось по голубизне, и едва я успеваю отскочить, как раздается четкий треск, свист и глухой, тяжелый грохот. В воздух взметается снежная пыль. Снежная пыль, оседая, горит на солнце, мельтешит, посверкивает и с шуршанием опадает на зеленые щетки ветвей. Красота все-таки!
— Спасибо, — говорю я Курганову.
Он усмехается.
— Наденьте рукавицы и принимайтесь за сучья. Не порубите ногу… Где учились пилить?
— На лесопункте. До армии еще.
— Рассчитывайте силы. День-то весь впереди. Костер разводить можете?
— Как-нибудь.
— В этой махине с четверть куба, не меньше. Отличная древесина! — неожиданно весело произносит Курганов, глядя на поваленное дерево. — Десяток таких хлыстов, и день прожит не напрасно.
Он вдруг настороженно поворачивает голову, прислушивается и тотчас уходит.
Я срезаю пилой козырек на торце, затем начинаю обрубать сучья.
4
Гулкие удары железа о рельс возвещают об обеде. Натягиваю поверх стеганки шинель, подпоясываюсь, оглядываю свой участок. Сделано, увы, немного: в раскиданных и примятых сугробах лежат три сосны с обрубленными сучьями — три хлыста — и две кучи тлеющей сырой хвои. Надо заготовить еще хотя бы столько, да раскряжевать хлысты — распилить их на бревна, да подкатить к волоку, а полдня уже нет. Хорошо, что нам, пока обучаемся, не устанагливают норм.
И все же настроение бодрое. Славная, в общем, это штука — работа! Лес, снег, солнце… Настоящий топор. Настоящие сосны, а из них — бревна, а из бревен — доски, бумага, крепление для шахт… Ноздри жадно вбирают запахи горьковатого дыма, смолы, спиртовый дух стынущих на морозе опилок. Все бы ничего, побольше бы только хлеба, да погуще суп, да, пожалуй, убрать бы стрелков, да вывести в бараках клопов — совсем пустяк!..
Едим под тесовым навесом за длинным, сколоченным из неоструганных досок столом. Власовец Гришка кашеварит, Павло помогает ему. Как они, сволочи, влезли на кухню, непонятно.
Напротив меня Ванятин, рядом с ним Семен. Оба раскрасневшиеся, усталые, но тоже довольные. У Ванятина на плоском лице цветут васильковые глаза.
— Сколько выдал, Ванятин? — спрашиваю я.
— Два дерева. А вы?
— Три. А ты, Семен?
— Я поболе. Хучь и бегаю по делянке, как пес. — Семен скашивает взгляд на будку кашеваров. — Как ты полагаешь, комиссар, должны нам добавить?
— Должны.
— Тогда спробуем. — Семен, облизнув ложку, решительно подымается.
— Обожди, — просит Ванятин, поспешно заскребывая со дна. — Айн момент!
А глаза его цветут. Может быть, тоже истосковался по настоящей работе нп родной земле?
И у других людей доброе настроение, я вижу. Хоть и тяжел труд и жидковата каша.
У дощатой будки — руки в карманах — стоит технорук. Опять наблюдает. Мы подходим к раздаточному окошку.
— Добавьте им, — кивнув на нас, говорит в окошко Курганов. Он, между прочим, тоже заключенный.
— Так це ж свои! — выглядывая наружу, широко улыбается Пазло.
Мы, трое, получаем еще по полчерпака. За нами быстро выстраивается хвост.
— Пошли, что ль, посидим у костра, покурим, — мечтательно предлагает Ванятин.
Идем на мою «пасеку» — она ближняя от кухни. Ванятин поплотнее сдвигает тлеющие хвойные лапы, потом, встав на четвереньки, дует на угольки, подкладывает сухих веточек, и огонь жарким веселым зверем набрасывается на сучья.
— Все ж таки ты, Сеня, смурый человек, — присев на поваленную сосну, говорит Ванятин. — И ничего такого ужасного тут нету, харчи, правда, слабоваты, ничего не скажешь, но так, чтобы протянуть ноги, нет. Неверно это!
Лицо его от огня становится пурпурным, самокрутку он держит большим и указательным пальцами, сомкнув их колечком и отставляя темный мизинец, похожий на припаленный в костре сучок.
Семен не отвечает: видно, думает о своем.
— Пущай год, я согласен, — говорит Ванятин. — Работы я не боюсь. Кажись, все время, сколько себя помню, и у нас в деревне, и на действительной, и на фронте, а в особенности в плену — токо тяжелую работу работал. Всю жисть. И с питанием тоже, сам знаешь. В окружении, бывалыча, палых лошадей из снега выкапывали и кушали… а я на фронте минометную плиту на горбу таскал, тяжелая плита была, страх! И не пропал. И до сей поры живу. И буду…
Он закашливается, сплевывает под ноги и, умолкнув, отрешенно глядит в огонь.
В эту минуту мне почему-то кажется, что с ним будет плохо. Этого не объяснишь, но я почти наверняка знаю — плохо.
— У вас дома семья, дети? — спрашиваю я.
— А как же! — В глазах Ванятина мгновенное оживление сменяется грустью, точно дымка дальних дорог обволакивает их. — Девочка-дочка, четыре годика ей было, когда уходил, а теперь ей восемь, в школу, должно, пошла. А сынок махонький, годочка в те поры еще не было, а ныне-то пять, пять уже сравнялось! Вот какая радость! Сын!.. Плохо, правда, помню его. — Он опять умолкает, потом, медленно подняв глаза, пытливо глядит на меня. — Болтали, будто нам скоро разрешат переписку. Слыхали? Я уж и гумагой запасся.
— Это хорошо, — говорю я. — Надо обязательно написать. Я помогу вам.
— Вот за это спасибо! — Ванятин весь просветляется. — Сам-то я не очень грамотен, а тоже охота, чтобы и с чувствами и тому подобное.
— Пошли работать, — вдруг мрачно говорит Семен и встает.
И как раз начинают бить в подвешенный рельс.
Ванятин тоже встает, отряхивает сзади оттопырившиеся пузырем ватные штаны, а васильковые глаза его снова цветут, но нехорошим, нездешним цветом.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
1
Он гибнет ранним декабрьским утром. Вековая ель, развернувшись при падении, комлем ударила его в грудь. Когда подбежали к нему, он лежал на спине, в уголках его черных губ дрожала кровь, а глаза уже стекленели…
Письмо домой он так и не успел написать. И, наверно, к лучшему. Пусть думают девочка-дочка и подрастающий радость-сын, что погиб их отец на фронте смертью храбрых, защищая Родину.
У меня немеет на морозе левое предплечье, пробитое когда-то немецкой пулей. Рука заметно слабеет, и я боюсь — сорвется топор или бревно с ваги или, еще хуже, — повалится дерево не туда, куда надо, и будет со мной то же, что и с Ванятиным.
В понедельник, до развода, я отправляюсь в медпункт. Вдоль барачной завалинки в темноте вытянулась длинная очередь. Люди топчутся, похлопывают себя по бокам драными варежками, зябко зевают. Мимо, поскрипывая сапогами, проходит плотная фигура начальника командировки.
— Сейчас дело пойдет живее, — произносит кто-то с невеселой усмешкой в голосе.
И верно. Дверь медпункта начинает открываться все чаще. Все чаще, тихо матерясь, бредут обратно люди в рваных варежках. Очередь движется, и я уже слышу за стеной прокуренный бас начальника, выговаривающего кому-то.
Захожу и я. Обледенелое оконце, керосиновая лампа на небеленой печке, стол, фельдшер в коротком застиранном халате, надетом поверх ватника. Один табурет у стола свободен, на другом сидит начальник.
В углу на скамье человек в мохнатой шапке, согнулся: вероятно, держит градусник.
— Простуда? Понос? — спрашивает, не поворачивая ко мне головы, фельдшер и лезет в картонную коробку, доставая какие-то порошки.
— Рука, — говорю я.
— Порубил? — Порошки опускаются снова в коробку, толстые пальцы фельдшера тянутся к темной бутыли, видимо, с марганцовкой.
— У меня была ранена рука, немеет сейчас на холоде, — объясняю я.
Темные круглые глаза фельдшера останавливаются на мне. Толстые пальцы разгибаются, не дотянувшись до бутыли.
— Не понял.
— Немеет левая рука, раненая, — объясняю я еще раз и встречаюсь со строгим, колючим взглядом начальника.
— Ну? И что же вы хотите? — отрывисто спрашивает он. — Немеет не холоде — потрите, погрейте у костра, а лучше всего — работой. Вальщик?
— Да.
— Стыдно! А еще фронтовик называется… Давайте, не задерживайте других!
— Так слабеет рука, гражданин начальник, а я на повале, — еще не сдаюсь я.
— Вот прими, прими, — отчего-то шепотом, торопливо говорит фельдшер, протягивая мне белую таблетку. — Это пирамидон, поможет, прими.
— Да зачем мне ваш пирамидон? У меня нет болей, — говорю я и слышу дребезжащие удары болта о железный диск: сигнал на развод.
В этот момент входит технорук Курганов, холодный, розовый, в твердых, припорошенных снегом валенках.
— Много их еще там? — нетерпеливо спрашивает его начальник.
— Двое, по-моему. — Курганов приоткрывает дверь. — Двое… Вы, кажется, сегодня собирались присутствовать на разводе? — говорит он начальнику, потом смотрит на меня.
А фельдшер все держит в протянутых пальцах таблетку.
— Рука у него, видите ли, немеет, — усмехается начальник, — холода боится! — Он надвигает шапку на колючие глаза и поднимается с табурета. — Давай, фронтовик, давай! Работа все лечит. И советую, топай поскорей, пока в отказчики не записали.
Фельдшер наконец прячет таблетку в карман.
— Он из этой бригады, где было… с Ванятиным, — негромко говорит Курганов начальнику. — Пусть осмотрит его, а то как бы опять худа не было.
— Либеральничаешь, Курганов, либеральничаешь, — вновь усмехается начальник и толкает дверь. — Давайте, кто там, заходите… Заходите же! Но за дверью уже никого нет.
— Вот они все какие больные! — раздраженно произносит начальник и бросает фельдшеру: — Осмотри его руку.
Я остаюсь с фельдшером и с согнутым человеком в мохнатой шапке. Фельдшер берет у него градусник, подносит к лампе, качает головой.
— Иди в барак, ложись и укройся потеплее. Сможешь один дойти?
— Дойду, — сипит человек и, горбясь, плетется к выходу.
Фельдшер сует ему на ходу какие-то порошки. Потом мы с фельдшером молча глядим друг на друга.
— Так что, — спрашивает он, — электромассаж и парафиновые ванны тебе требуются или просто спать пойдешь?
— Посмотрите руку, — говорю я.
Фельдшер долго мнет мышцы моего плеча с двумя круглыми узловатыми шрамами, зачем-то сгибает руку в локте, трясет за кисть.
— Вообще, объективно не противоречит… возможно, задет нерв, отсюда ослабление двигательной функции при пониженной температуре, то есть на морозе, — бормочет он. — На повале тебе, конечно, работать нельзя, но… — Он смотрит на меня своими круглыми глазами. — Сколько классов окончил?
— Десять.
— Понял… Значит, в лес сегодня ты все же иди, а я переговорю с техноруком. Может, он найдет для тебя работу полегче…
Перед темным неподвижным строем стоят начальник, Курганов и Ампилогин. Ампилогин теперь у нас воспитатель: оказывается, есть в лагере и такая должность.
— …и как фронтовики и сознательные советские граждане, — протяжно звучит высокий голос Ампилогина, — мы должны своим самоотверженным трудом доказать, что достойны этого высокого звания. — И после короткой паузы: — И теперь и в будущем, которое во многом зависит от нас самих, от нашего труда, от того, насколько добросовестно мы будем относиться к своим обязанностям… — Еще короткая пауза. — Товарищи! С сегодняшнего дня мы будем работать по плану. Каждая бригада, каждое звено получит производственное задание в соответствии с существующими нормами выработки. И дело нашей чести — выполнять и перевыполнять эти задания с тем, чтобы обеспечить решение задачи, поставленной перед командировкой в целом…
— Кончай, кончай уж молебен, — ворчит вполголоса Семен, и Ампилогин, будто услышав его и вняв ему, кончает.
Мы пятерками выходим за ворота и разбираем при свете костров подготовленный загодя рабочий инструмент.
2
Курганов назначает меня десятником. Это как нельзя кстати: с рукой у меня все хуже, да и сам начинаю сдавать, чувствую. Кроме того, накануне я подрался с кашеварами (они смеялись над доходягой-пленным, который просил у них, власовцев, «добавочки»), и кашевары, конечно, нашли бы способ мстить мне. Но теперь руки у них коротки.
Я обслуживаю три бригады вальщиков — двенадцать звеньев. Хожу по делянке от бревна к бревну, делая замеры и ставя знаки-точки на своей разграфленной дощечке. К вечеру я должен вычислить общий объем заготовленной древесины и сообщить бригадирам их дневную выработку. Вот, собственно, и весь мой труд, если не считать того, что попутно с замерами и записями я еще обязан следить за чистотой и порядком на «пасеках».
Перехожу от бревна к бревну, иногда останавливаюсь поговорить с кем-нибудь из ребят; со многими знакомлюсь заново: большинство их я знаю только в лицо или по имени.
…Лейтенант Володька, поставив ногу на поваленную густую ель, обрубает сучья. На нем длинный лагерный бушлат, похожий на малахай, шапка съехала на глаза, под посиневшим носом повисла светлая капля.
— Убери ногу, порубишь.
— А черт с ней! — говорит он.
— Саморубом запишут.
— Это вроде самострела на фронте? — вяло спрашивает Володька, но ногу убирает и смотрит на меня большими обиженными глазами. Светлая капля срывается с кончика носа.
— Ты что, простудился?
— Нет. А может, простудился, черт его знает! Доходит парень, думаю я.
— Как твоя фамилия, Володька?
— Мое фамилие — Ионайтес, — отвечает он со слабой улыбкой. — Вот какое у меня интересное фамилие.
— Литовец, что ли?
— Полулатыш-полурусский. Еще какие вопросы?
— Дай-ка твой топор, а ты жги кучи.
Обрубив ветки на его елке, я ухожу. Володька — мой сверстник, может быть, на год постарше. Был разведчиком. Жалко его.
Опять меряю бревна, ставлю точки.
Азербайджанец Шамиль сидит у костра, протянув к огню руки. Замерять у него почти нечего.
— Что-то ты мало сделал, Шамиль.
— А-азяб, товарищ командыр, сильно азяб. — У него очень смуглое лицо, длинный нос, черные грустные глаза — точь-в-точь, как у моего товарища по отделению Гаджибекова, разорванного прямым попаданием снаряда.
— Это фамилия твоя — Шамиль?
— Нэт. Фамилия — Бебутов. Шамиль — товарищи прозвали.
— Ты у немцев в легионерах не служил?
— Ка-акой служил?! — сердится он. — Бебутов не служил! Баланда в лагере кушал Бебутов!
Он поднимается и, пошатываясь на тонких, выгнутых, как у кавалериста, ногах, бредет к своей пиле, прислоненной к ели…
Между прочим, эти ели могут вогнать нас в гроб: очень уж ветвисты, обрубка сучьев отнимает много времени и сил, а выход готовой древесины по объему невелик. Но такая уж сейчас полоса леса пошла, ее не перескочишь…
Вечером, когда возвращаемся с работы, Семен хвалит меня:
— Молоток, комиссар, быстренько освоил специальность.
— У тебя учился, — посмеиваюсь я.
— Это ты, положим, не загибай, не у меня, а все же приятно: свой. Предполагаю, что сукой не будешь.
— В каком это смысле?
— В обыкновенном. Не дашь ребятам пропасть.
— Поясни, не понимаю.
— Ну, накинешь десяток — полтора десятка кубов на бригаду, чтобы пленяги могли побольше горбушку схватить. Кумекаешь?
Теперь я «кумекаю»… Не простой вопрос поставил передо мной Семен. Очень не простой.
— Прежний десятник нам приписывал?
— А ты как полагаешь, от своей пайки я вас кормил?
— Ладно, — поколебавшись еще, говорю я. — Сегодня я прибавлю на Володьку и Шамиля, ребята доходят, а там посмотрим.
3
В одной из комнат конторы сидит странный человек: лицо желтое, распухшее, маленькие треугольные глаза заплыли, над низким лбом торчит ежик черных с проседью волос; штаны у человека белые, рубашка синяя с воротником апаш.
Перед ним на столе счеты и разграфленная дощечка, такая же, как у десятников, только побольше размером и почище; в руке остро отточенный карандаш, за спиной на стене — коричневый ящик телефона старинного образца.
Этот человек — плановик-статистик. Он отбывает срок за крупное хищение: украл не то сто, не то двести тысяч рублей. В лагере уже пять лет. Мы, десятники, докладываем ему о выработке бригад и сдаем так называемые сортиментные справки.
— Туфты нет? — спрашивает он, просмотрев еще раз мою справку.
— Какой туфты?
— Ну, мошенничества?
— Нет…
— Посиди на лавочке. Хочешь, попей кваску. — Он указывает карандашом на ушат, стоящий в углу.
В ушате — хвойная настойка, это от цинги.
Пока он занимается с десятником по подвозке, я, прислонившись к стене, разглядываю свою дощечку: не допустил ли я какого-нибудь промаха с припиской, все ли сделал «чисто»…
Десятник по подвозке, пожилой мужчина в очках, отчитавшись, вежливо откланивается. Плановик подзывает меня.
— А ну, давай-ка проверим. В арифметике ты слаб или что иное? "
Он снова придвигает к себе мою справку, и тут я соображаю: на дощечке, подчистив ее, я прибавил лишние четыре кубометра, а в сортиментной справке, которую я заготовил еще на работе, до разговора с Семеном, — забыл.
— Туфта, — спокойно заключает плановик, сличив цифры.
И в это время, как на грех, в комнату заходят Курганов и нарядчик, по прозвищу Вышибайло, румяный, средних лет человек в шапке-кубанке и хромовых сапогах.
— Что-то вы сегодня копаетесь, — говорит Курганов плановику.
— Переписывай, — приказывает мне тот, отшвыривая по столу мою справку.
Я, обливаясь холодным потом, не подымая глаз, удивленный благородством вора-плановика, начинаю поспешно переписывать.
— Новичок, путается еще, — поясняет плановик.
— Так это и есть ваш новый десятник? — слышу я голос нарядчика.
— Мы с ним еще поговорим, — холодно произносит Курганов и берет дощечку плановика. Краем глаза я вижу руку Курганова с ревматическими вздутиями на пальцах.
Я чувствую на себе враждебный взгляд нарядчика. Интересно, о чем они собираются со мной поговорить?
— Можно передавать? — спрашивает плановик, когда Курганов опускает дощечку.
В эту минуту я подписываюсь под справкой, а старую, скомкав, сую в карман.
— Министерская подпись, — усмехается Курганов и говорит плановику: — Передавайте, начальство уже нервничает.
Я отдаю плановику новую справку, прячу карандаш и встречаюсь с сумрачным взглядом черных, с желтоватыми белками глаз нарядчика.
— Вот… а теперь потолкуем с ним, — говорит Курганов, садясь на лавку.
— Ты что руки распускаешь? — спрашивает меня нарядчик.
И я уже догадываюсь: кашевары нажаловались ему.
— Они власовцы, — отвечаю я. — Простые пленные вкалывают, а эти морды наедают да еще глумятся. Им не место на кухне.
— А это уж наше дело, — снимая кубанку и приглаживая черные блестящие волосы, говорит нарядчик, — наше дело определять, кому где место. Пока я вижу, что ты не совсем на своем месте, а не те ребята, которым ты нанес оскорбление физическим действием. Кто тебе дал право сводить здесь личные счеты?
— Алло, коммутатор, — говорит плановик и, повесив трубку, снова крутит ручку телефона.
Курганов молча присматривается ко мне. «Хороший человек — плановик, — мелькает у меня. — Может, неправда, что он украл сто тысяч?»
— Послушайте, — говорю я нарядчику, — а кто вам дал право «тыкать» меня?
— Коммутатор, комм… — произносит в трубку плановик и словно давится на полуслове.
— Если уж заговорили о праве, то сперва ответьте сами, кто вам дал право совать кулаки в бок отказчикам, то есть, выражаясь по-вашему, наносить им оскорбления физическим действием?
«Ничего, не убьет», — подбодряю я себя.
И я замечаю, как теплеют глаза Курганова — щелочки его сузившихся глаз. И плановик смотрит на меня с затаенной улыбкой.
— Правда, видно, говорят про него, что шибко грамотный, — с нервной усмешкой говорит нарядчик Курганову. — Я вынужден подать на него рапорт. Клеветник он или просто псих — пусть разбираются.
— Ты звони, — говорит Курганов плановику, — звони… А вы вот в чем неправы, — опять с холодком обращается он ко мне. — Администрация командировки, к сожалению, не располагает сведениями, кто из вас, репатриантов, власовец и кто не власовец. Проверка вашего политического лица и вашего поведения в плену — это функция специальных органов. Наша задача — обеспечить вас работой и организовать ваш быт, и мы судим о вас только по тому, как вы относитесь к работе и как ведете себя в быту. Сейчас вы все для нас равны. Поэтому всякое сведение личных счетов, всякое самоуправство с чьей бы то ни было стороны будет решительно пресекаться. Вы поняли меня? И чтобы это было в последний раз! А теперь идите.
Нарядчик провожает меня ненавидящим взглядом.
Я медленно иду в свой барак, расстроенный и удрученный, и вдруг спохватываюсь, что забыл в конторе дощечку. Возвращаюсь — технорука и нарядчика уже нет. Плановик, стоя посреди комнаты, протягивает мне дощечку.
— Спасибо, что не выдал, — говорю я.
— Хорошо ты отбрил нашего Держиморду, только за это и прощаю туфту. Гляди, будь теперь осторожен с ним!
— А кто он, между прочим? Почему с прической?
— Он через месяц освобождается, бывший судья-взяточник… Я вот что еще хочу тебе посоветовать. Никогда не плутуй по мелочи. Ну что это за глупость — четыре кубика?
— А сколько же надо было — сорок?
— Давай сорок, а еще лучше — четыреста. Только сумей так, чтобы комар носа не подточил.
Я не могу удержаться от улыбки, хоть мне и невесело.
— И ты пропустишь такую туфту?
— Четыреста кубометров — это не туфта, это, если хочешь, искусство или подвиг, — отвечает он на полном серьезе.
— А это правда, что ты похитил сто тысяч?
— Триста тысяч, — поправляет меня плановик, и его заплывшие глазки загораются. — Триста тысяч как один рубль!
В голосе — гордость.
— А за что посажен Курганов?
— Курганов — он, как говорят, из кировского потока. Секретарем одного из райкомов в Ленинграде был…
— Он хороший человек?
— Зверь, — говорит плановик. — За приписку отдает под суд. Даже за туфту. А вообще ничего мужик. Справедливый.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
Меня вызывают к начальнику командировки. Посыльный, белобрысый парнишка, стоит у порога, дергая тесемку ушанки. А я только было снял валенки и собирался прилечь.
— Ты-то, кубарик, что нервничаешь?
— Будешь нервничать, когда сказано — одна нога здесь, другая там. Что мне, разорваться из-за вас? — бурчит посыльный.
Я надеваю полушубок, и мы выходим на скрипучий снег.
Зачем я понадобился начальнику в неурочный час? Может, нарядчик исполнил свою угрозу — настрочил рапорт, и теперь меня загонят куда-нибудь в тартарары?
— Почему так срочно? — спрашиваю посыльного.
— Грузовик за воротами ждет — вот почему. Чуточку холодеет сердце.
В кабинете начальника накурено. Хозяин — за столом. На стульях Курганов и Ампилогин. У двери на табурете незнакомый военный в белой шубе.
— Садись, орел, — дружелюбно говорит мне начальник.
Недоумевая, присаживаюсь на крайний стул. Ампилогин подмигивает мне тоже дружелюбно. Курганов, заложив ногу за ногу, читает какую-то бумагу.
— Ну так, без дальних вступлений, — потирая конопатую щеку, говорит начальник. — Есть предложение поставить тебя воспитателем.
— Меня?!
— А что? Вот товарищ Ампилогин утверждает (начальник так и говорит: «товарищ»), что, кроме тебя, больше некого. Дескать, политически подкован, морально устойчив и тэдэ и тэпэ…
— А ты куда? — спрашиваю я Ампилогина, и вдруг мне все становится ясным: это его ждет машина и этот военный в шубе, начальник не оговорился, назвав Ампилогина товарищем…
Нет, не радость, а жгучая зависть и обида охватывают меня. Я понимаю, что это неблагородно, но я не радуюсь, я завидую, и мне обидно: почему он, а не я?! Или почему только он?
— Ничего, и ты скоро поедешь, — будто прочитав мои мысли, говорит Ампилогин.
Внезапно в моих глазах он делается чужим, принадлежащим к какому-то иному, высшему, недоступному мне миру.
— Я согласен, — быстро говорю я начальнику, хотя он, кажется, и не спрашивал моего согласия.
Предложение стать воспитателем, только что приятно ошеломившее меня, особенно потому, что я ждал совсем другого от встречи с начальником, уже не представляется мне лучезарным: я хочу домой, хочу уехать вместе с Ампилогиным, хочу на волю!..
— Добро. Не будем задерживать товарищей. Мы тут еще побеседуем. Ну!.. — И, поднявшись, начальник встряхивает большую руку Ампилогина. — Кланяйся столице. Буду в Москве, проведаю, если примешь.
— Без пол-литра не приму, — смеется Ампилогин, уже чужой мне, человек с иной, счастливой планеты.
Он и сам, вероятно, это чувствует и, желая как-то сократить вдруг возникшее расстояние между нами, подает мне руку и обнимает меня.
— Адрес мой у тебя есть. Заходи в любое время…
Словно я тоже москвич и вольный человек. И я прощаю ему его счастье.
— Будь здоров, Александр. Счастливого пути.
— Спасибо. Будь и ты.
Затем Ампилогин прощается с Кургановым и в сопровождении молчаливого военного, козырнувшего начальнику, уходит.
Начальник вновь усаживается за стол. Лицо принимает обычное властное, чуть озабоченное выражение. Курганов грустен — это понятно.
— Значит, так, — говорит мне начальник. — Завтра утром выступишь перед людьми. Через три дня годовщина Красной Армии, напомни об этом, о ее славных традициях, о героизме и тэдэ и тэпэ. Чтобы народ постоянно чувствовал, что здесь тоже фронт. Выполнение производственного плана — вот наша главная боевая задача. Установки ясны?.. Выступать перед народом приходилось?.. Только так — побоевей, побоевей! Ты ведь где-то очень боевой, я знаю. Даже жалобы на тебя поступают. — Начальник, усмехнувшись, взглядывает на Курганова. — Вот если бы не наш технорук, не быть бы тебе воспитателем, прямо скажу.
— А я, между прочим, не оправдываю его, — сухо говорит Курганов. — Мордобой — это не наши методы.
— Ну, подумаешь, разок двинул власовца, — говорит ему начальник и потом мне: — Вообще, конечно, словом надо воздействовать… Значит, все понятно?
— Понятно. — Я встаю.
— Кстати, гражданин начальник, пора наконец призвать к порядку нарядчика. По-моему, я уже не раз докладывал вам, — со сдержанным раздражением говорит Курганов.
Начальник морщится.
— Ладно, Курганов, ладно. Это-то вы как раз некстати… Вы свободны, — говорит он мне.
Я давно замечаю, что начальник и технорук не дружат, даже больше, недолюбливают друг друга.
Обычная церемония развода. Над заиндевевшим частоколом в морозной мгле горит тонкая полоска зари.
Я выступаю и говорю людям о том, что вчера вечером уехал домой наш воспитатель. Он был боевым пилотом на фронте, честным человеком в плену, хорошим товарищем здесь для всех нас, и вот теперь он возвращается в Москву, к семье. Не сомневаюсь, говорю я (и я искренне это говорю), что недалек тот час, когда мы с вами тоже вернемся к своим семьям. А пока перед нами стоит нелегкая задача — выполнить наш производственный план, и пусть пример товарища Ампилогина вдохнет в нас новые надежды и прибавит нам сил…
— Расплывчато, расплывчато, — недовольно произносит начальник, когда бригады трогаются. — Побоевее надо было, поконкретнее.
— Это то, что сейчас и надо людям. Молодец! — говорит мне Курганов и уходит в распахнутые ворота вслед за бригадами.
2
К нам приезжают артисты: голубоглазая девушка с ямочкой на подбородке, высокий горбоносый мужчина с сухим интеллигентным лицом и чернявый парень с наружностью карманного вора.
Одеты, как все заключенные, — в стеганые малахаи и ватные штаны. Даже девушка. И голодные: это я сразу вижу по особому блеску их глаз. Как только их передают мне, я веду артистов в столовую и прошу нашего повара, волосатого Петю-одессита, покормить их.
Они едят торопливо и жадно. Девушка тоже.
— Петя, подкинь им еще, — шепчу я повару.
— А кто мне эти пайки возместит? Начальник выпишет, да? — ворчит Петя, но «подкидывает»: приносит на стол с полдюжины клейких перловых запеканок.
— Ого! — радуется горбоносый. — Да у вас тут просто курорт!
— Мерси, — говорит девушка и тонкими, не очень чистыми пальчиками берет одну из запеканок и вонзает в нее белые острые зубы.
Чернявый парень уплетает свою порцию молча. Около его табурета стоит обшарпанный футляр с трофейным аккордеоном. Футляр перевязан грязноватым брезентовым поясом.
— И всех вас так здорово кормят? — интересуется горбоносый.
— Кушайте на здоровье, — дипломатично отвечаю я.
— Прекрасно, — произносит он, отправляя в рот последний кусок, прожевывает его, вытирает руки о ватные штаны и величественно-снисходительно смотрит на девушку. — О, Офелия, в последний час ты не забудь моей молитвы!
Его бархатистый баритон вибрирует, и я неожиданно робею перед горбоносым, перед девушкой и даже перед парнем с наружностью карманника: они причастны к чему-то высокому и священному, что именуется словом «искусство»… Пусть горбоносый даже и перевирает «Гамлета».
— А теперь было бы недурственно принять теплую ванну, надеть мягкий халат и выкурить трубку у камина, — шутливо продолжает он, видимо, приходя в хорошее расположение духа. — А вы, леди? Каково ваше желание? — спрашивает он девушку.
На полу у его ног котомка с веревочной петлей, такая же котомка у ног девушки — вероятно, реквизит.
— А я подремала бы… минуток сто, — отвечает девушка.
— Боже, какая проза! — Горбоносый улыбается и величественно поворачивает голову ко мне. — Скажите, сэр, не можем ли мы в самом деле где-нибудь немного отдохнуть?
— Шесть километров топали, — говорит парень, быстро и зорко оглядывая столовую. — А до этого полдня ишачили на морозе.
— Вы разве тоже в лесу работаете? — спрашиваю я.
— Да, мой друг, работаем, — отвечает за всех горбоносый. — Вот эта леди, например, ее зовут Верочка, пилит дрова, наш аккомпаниатор, он же солист балета, Шурик, грузит на платформы бревна. Такие же бревна катаю и я, Петр Леонидов, мастер художественного слова, ваш покорный слуга. Спасибо за завтрак.
— Пожалуйста, — говорю я, думая, куда бы мне отвести их на отдых: бараки днем не отапливаются — там холодно, в комнатушке, где я теперь живу вместе с плановиком, тесно, да и спит, наверно, опять этот странный плановик: все свободное от работы время он спит. Но, кроме комнатушки, некуда.
— Пойдемте ко мне.
— С величайшим удовольствием, — тотчас вставая, говорит горбоносый.
Он и девушка поднимают с пола свои котомки, парень — аккордеон, и мы шагаем к зданию конторы: половина этого здания отведена под жилье для обслуживающего персонала.
Мой плановик, разумеется, спит. Одна рука свесилась с топчана, ноги широко раскинуты.
— Ба, старый свистун! — восклицает горбоносый. — А мы-то были уверены, что он уже в своем Нальчике или в Кисловодске.
— Вы знакомы?.. Вот, располагайтесь здесь, если вам удобно. — Я показываю девушке на свой топчан.
— Еще бы не знакомы! — отвечает горбоносый, садясь к окну. Он говорит громко, нимало не беспокоясь, что может разбудить плановика. — У нас тут все знают его, знаменитого грабителя.
— Садитесь, — приглашаю я парня. — Конечно, знаменитый, — говорю я горбоносому. — Все же триста тысяч…
— Уже триста? — улыбается горбоносый.
— Да. А что?
— Скоро он скажет — четыреста, потом — полмиллиона, а начал с пяти тысяч… Безнадежный свистун!
— Обыкновенный бухгалтер-растратчик, — презрительно замечает парень и быстро, зорко окидывает взглядом комнатушку.
— Ну, вы устраивайтесь как-нибудь, — говорю я, — а у меня еще дела.
Девушка уже сняла с себя ушанку, малахай и сидит с сонным лицом на моем топчане.
Горбоносый выходит вслед за мной: хочет покурить не свежем воздухе.
— Да вы курите в тепле.
— Видите ли, — вполголоса и несколько смущенно говорит он, — у вас ничего такого в комнате нет? Из ценных вещей? — поясняет он. — А то сукин сын Шурка обязательно стянет. Такой уж выродок, клептоман.
— Нет, — отвечаю я. — Ценных вещей я не храню в комнате. Он вор?
— Главным образом карманник. Но одаренный… Способный артист.
— А девушка?
— Нет, нет, за нее и за меня не беспокойтесь, — нисколько не обижаясь, говорит горбоносый. — Мы политические. Пятьдесят восьмая, пункт десять… Верочка была суфлером в театре при немцах, я, грешный, повинен в куплетах — не у немцев, нет. В Сызрани. Не бывали в Сызрани?
И вот они выступают. Сильно нагримированный, в красноармейской гимнастерке, горбоносый Леонидов читает Твардовского. Он читает про бойца Теркина, а я, пристроясь на подоконнике, гляжу то на Леонидова, то на лица наших людей, набившихся до отказа в столовую.
Поначалу эти лица — сонные, красные и рассеянные, усталые, худые, шершавые; у некоторых раздраженные и злые.
Потом будто кто-то чистой тряпочкой проводит по ним: исчезает сонливость, добреет взгляд; потом в глазах начинают светиться интерес, участие, улыбка; потом я уже не могу спокойно глядеть на эти лица, на лица своих товарищей по беде.
Сколько сидит их здесь, в душной, с низким потолком столовой, здесь, за бревенчатым тыном, под охраной, посреди глухих уральских лесов, сколько сидит их здесь, таких же Теркиных, тертых и перетертых? Прошедших фронт, окружения, фашистские лагеря, столько раз смотревших смерти в глаза, что она перестала казаться им мифической старухой с косой, а являлась тем, что она и есть в действительности: жутким ожиданием непоправимого…
Хлопают грубые, каменно-твердые ладони, и Леонидов кланяется. Он улыбается и вновь кланяется — отдельно и особенно тем, кто сидит на табуретках о первом ряду: начальнику с медалями во всю грудь, его пышно разодетой жене, техноруку в лоснящемся пиджачке, нарядчику с его нагловато-блестящим зачесом.
На маленькой эстрадке девушка. Парень-вор трогает бело-розовые клавиши аккордеона, девушка кивает парню, и тот играет вступление.
Я знаю эту песенку — «Огонек». Она напоминает о Цветле, и мне неприятно. Я разглядываю певицу, бывшего суфлера в театре при немцах.
У нее хорошенькое юное лицо и фигура немолодой женщины. Голос слабый. И платье бедненькое… Уж платье-то могли бы дать ей получше!
А в столовой — сияющие глаза, добрые улыбки. И снова хлопают каменные ладони. И снова поклоны — отдельно рабочим и отдельно, особенно, начальству. Певица-суфлерша исполняет еще несколько песен военного времени (наш вечер посвящен годовщине Красной Армии). И за каждую песню девушку награждают долгими дружными хлопками.
В заключение девушка-артистка и парень-вор меняются местами: она берет аккордеон, парень выходит на середину эстрадки. Он лихо бьет чечетку, с необычайным шиком выбрасывает вперед то одну, то другую ногу, шаркая подошвой и пристукивая каблуками.
А ладони все хлопают, и глаза сияют…
Милые вы мои Теркины, непритязательные и отходчивые сердцем! Вы радуетесь в эту минуту, глядя, как ловко выделывает ногами вор-артист, а через час… Через час вы будете трудно думать о завтрашней работе в лесу, нет, сперва о предстоящей ночи с клопами, потом о хлебе, а потом о работе, о работе, потому что вам надо непременно выполнить норму, чтобы получить этот хлеб.
И я хлопаю парню. И снова хлопаю всем троим, когда, заканчивая концерт, они выходят на эстрадку и раскланиваются с нами. Они спешат переоблачиться в стеганые малахаи и ватные штаны.
Им еще предстоит протопать шесть километров по морозу — их уже ждут у столовой два дежурных стрелка.
3
Люди, будьте строги. Будьте мудрецы! Пусть смеются боги. Дети да глупцы.Днем, когда все в лесу, я записываю в тетрадь стихи — вперемешку свои и чужие, что первое придет на ум. Моя память хранит довольно много настоящих поэтических строк Маяковского, Брюсова, Блока, Есенина… А сегодня мне припомнилось стихотворение, которое поразило меня своей необыкновенной мрачностью еще в десятом классе, когда мы знакомились с творчеством поэтов начала XX века. Особенно вот эти строчки:
Мир над чем смеется И зачем смешит? Все, что. вознесется, Запятнать спешит. Темное смеется. Скудное смешит.Аж дрожь прохватывает: «Темное смеется, скудное смешит!»
Володька Ионайтес молча входит в комнату, садится к столу и уставляется своими обиженными глазами в окно.
— Как твоя нога? — спрашиваю я. (Он все же порубил ногу.)
— Заживает, сволочь.
— Ты только не ковыряй ее: схватишь заражение крови.
— Да я не ковыряю, мне наплевать: пусть заживает.
Володька придвигает к себе чистый листок, берет карандаш и пристально смотрит на меня. Потом, опустив глаза, быстрым движением проводит одну, слегка изогнутую линию, затем, взглянув на меня, — другую, под тупым углом к первой, затем, опять взглянув, — третью, с частыми резкими извилинами. Потом возвращается к началу парвоГ: линии, смотрит на меня и проводят неровный полукруг, делает внутри него завитушку к отодвигает листок ко мне.
— Похож?
— Это я?
— Ты. Разве непохож? Лесоруб, начинающий поэт, воспитатель заключенных. Кем ты еще был?
— Солдатом. А что?
— Еще?
— Военным переводчиком, адъютантом командира полка, штабной крысой. Для чего тебе это?
— Еще?
— Военнопленным. Сидел в гестаповской тюрьме. Носил камни в Маутхаузене…
— Еще?
— Подпольщиком и обратно адъютантом… тоже, пожалуй, командира полка.
— Еще?
— Любил одну женщину… Репатриантом. Замполитом. Товарищем, а иногда, по обстоятельствам, и господином полицейским. А зачем тебе все это знать?
Володька заостряет на рисунке мой нос, прочерчивает морщины на лбу, на щеке, под глазом (рисунок в профиль), делает залысину и любуется этим своим уродом.
— Пририсуй хоть рубашку с галстуком, — прошу я.
— Нельзя.
— Тебе жалко?
— Не жалко, но, понимаешь, для такого портрета рубашка с галстуком не годится. Надо бы подато что-то такое, чтобы можно было прочесть одновременно: солдатскую гимнастерку, робу узника, спецовку рабочего. Но это очень сложно, надо искать… Пусть останется так.
И он в уголке листка кудряво расписывается.
— Вот, прими на память. Постарайся сберечь.
— Этот мой портрет?
— Ну, не портрет — набросок, этюд, представление о трудяге и мученике, одержимом высокой идеей… Ничего не смыслишь. — Володька вздыхает, долго молчит, потом кладет растопыренную пятерню на свой рисунок. — Не можешь ли найти мне заказчика? Из начальства кого-нибудь… Может быть, из стрелков, а? Портрет — пайка хлеба. По-моему, недорого.
— Да тебя сразу в карцер за такой портрет.
— А я им не такой. Я сделаю их симпатично-похоженькими, даже морщинки уберу, даже галстучек привешу.
— Черт с тобой, поспрашиваю.
— Сделай милость!
И он опять уставляется в окно, глядит на колючие бревна тына, напоминающие отточенные карандаши, на белую, как лист бумаги, заснеженную площадку перед столбиками запретной зоны.
4
Солнышко. Торопкая капель. Прозрачные снеговые лужицы.
Лужицы во дворе. Лужицы и в бараках: ребята обливают кипятком нары.
Работа идет сразу во всех жилых секциях. На борьбу с клопами мобилизовано все трудоспособное население лагеря. Одни таскают в ведрах и шайках горячую воду из бани и кухни, другие ошпаривают нары, столы, скамейки, третьи, вооруженные палками, простукивают потолки и стены, четвертые — их целая бригада — пополняют запас дров, израсходованных сверх нормы.
Посреди лагерной площадки стоят начальник и технорук. Я, как зачинатель сегодняшней кампании., информирую их о ходе дел.
— Значит, можете, — говорит мне начальник, — можете поднять народ, когда захотите!
На нем по случаю выходного дня теплая суконная тужурка, отороченная серым каракулем, и начищенные до глянца сапоги.
— В следующее воскресенье устроим дезинфекцию белья и одежды, — докладываю я ему.
— Лады, — отвечает он.
Курганов — руки, по своей привычке, в карманах — с насмешечкой поглядывает на нас.
— И наглядную агитацию можем подновить…
— А вот с этого и надо было начинать, — подхватывает начальник. — Ты что, Курганов, не согласен?
— Вполне согласен.
— У меня есть художник, — продолжаю я, — настоящий художник.
— Вот и прекрасно, займитесь. Пора украсить командировку, придать, так сказать, подобающий вид. А с этой филантропией можно было бы и обождать.
Он. конечно, имеет в виду уничтожение клопов и дезинфекцию: это, по его мнению, филантропия.
— Мне кажется, одно другому не помешает, гражданин начальник. Надо только освободить художника от работы в лесу.
— А что, на пару дней освободим.
Ему, чувствую, явно по душе мое предложение подновить нашу наглядную агитацию: щитки и плакаты, вывешенные на столовой и конторе.
— Совсем освободить, — говорю я. — Перевести ого на работу куда-нибудь в баню или на кухню.
— Это хужее. С основных работ мы брать никого не можем… А вообще, была не была, я пошел бы и на это, да вот наш технорук не позволит.
— Нет, почему же, я возражать не буду, — говорит Курганов.
— Ты? — удивляется начальник. — Что-то я не пойму тебя. Ты соглашаешься отпустить человека с повала? Он, художник, на повале? — спрашивает начальник меня.
— Пусть твой художник хоть завтра же приступает к работе, — говорит мне Курганов. — Я подготовлю тексты и закажу в столярке щитки… Так что, гражданин начальник, остановка за вами: отдавайте распоряжение.
— Обожди, Курганов… — Начальник озадачен и даже начинает хмуриться. — Ты же знаешь, что у нас с этой статьей неблагополучно.
— Пошлем в лес кого-нибудь отсюда, кто засиделся здесь.
— Кого же: повара, плановика, бухгалтера? Может, нового нарядчика? — уже с недоброй усмешкой спрашивает начальник. — Или вот опять его? — Он кивает на меня.
— Это уж ваше дело решать, — невозмутимо отвечает Курганов. — Может быть, для кого-то наглядная агитация — украшение, а для меня это дополнительные кубометры древесины. Равно как и эта филантропия… с клопами.
Он тоже задира, технорук.
— Между прочим, — вдруг негромко произносит начальник, и я вижу, как на его побледневшем лице отчетливее проступают рябины, — между прочим, не советую вам забываться, Курганов… Для кого это наглядная агитация — украшение?
Сейчас они снова повздорят. И я поспешно убираюсь восвояси.
Захожу в секцию, где я жил первые три месяца. Тут пар, лужи, плеск воды. Ребята работают азартно. Они не ругаются: им нечего ругаться — здесь-то дело ясное.
— Кончаете, Семен?
— Давай, комиссар, засучивай рукава. Поможешь полы мыть.
— Покажи пример, воспитатель! — подзадоривают меня.
Ничего не попишешь: я тоже топтал эти полы и кормил собой клопов — и я сбрасываю с себя полушубок.
— Та мы шуткуем, товарищ воспитатель, — сладко произносит сверху, из облаков пара, Павло.
— Ничего не шуткуем, — раздается из-под нар свирепый голос Володьки. — Вот тряпка, держи, вдохновитель!
И он кидает мне под ноги тяжелую, разбухшую от горячей воды тряпку-мешковину.
5
В начале апреля гибнет Семен.
Не знаю, как могла прийти ему в голову такая мысль — бежать, не знаю и теперь уже никогда не узнаю: пуля стрелка уложила его.
На следующий день к нам приезжает старший оперуполномоченный из города. Он вызывает к себе поочередно начальника командировки, технорука, нового нарядчика. Потом из вахтенной избушки, расположенной за воротами, являются за мной.
Что поражает меня прежде всего, когда я вхожу в небольшую солнечную комнату, — это то, что старший оперуполномоченный, немолодой майор с орденом Ленина на груди, вежливо приподнимается из-за стола. И еще поразительнее — протягивает мне руку. Я сажусь по его приглашению на единственный в комнате стул — не на табурет в углу, а именно на стул, который стоит рядом с его деревянным креслом. Я сажусь, не спуская с майора глаз, и почему-то все время вижу его орден Ленина.
— Прискорбный случай, очень прискорбный, — говорит он, поворачиваясь вместе со своим креслом ко мне.
Лицо у него полное, приятно-розоватое. Очень чисто выбритое.
— Да, прискорбный, — отвечаю я.
— Прямо нелепость, — говорит он и вздыхает. — Такой еще молодой, ему бы жить да жить. Уму непостижимо!
Я пока не понимаю этого майора: прием, что ли, у него такой — расположить к себе, а потом оглоушить? Может, он подозревает меня в чем-нибудь? Считает соучастником побега?
— Вы были, кажется, хорошо знакомы с ним? — спрашивает он.
— Я работал около двух месяцев в его бригаде. Но я ничего не знал…
— Нет, вы не подумайте!.. — словно бы спохватывается майор, поднимая полные чистые руки над коленями. — Я, голубчик, совсем не о том, — говорит он ласково. — Я хотел спросить вас, не замечали ли вы в поведении, в поступках этого человека чего-то такого, ну, ненормального… какие-то отклонения? Ведь вы как воспитатель наблюдаете людей, верно?
— По-моему, он был нормальный, — отвечаю я. — Хотя этот его поступок…
— Вот-вот, я как раз об этом. Знаете, в моей практике встречались подобные случаи. Внезапное умопомрачение… Ведь человеческая психика — очень тонкая и капризная штука, очень!
Теперь я, кажется, понимаю: старшему оперуполномоченному хотелось бы задним числом объявить Семена сумасшедшим, квалифицировать его побег как результат внезапного помешательства и тем самым обелить наше начальство, которое, конечно же, должно нести ответственность за это трагическое происшествие. Ему, оперуполномоченному, вероятно, надо заручиться моей поддержкой — чтобы я подписал какой-нибудь акт, — и поэтому он так ласков и предупредителен. Теперь все понятно.
— Нет, он был нормальный, со здоровой психикой, — говорю я.
Не хочу я оправдывать нашего начальства и не хочу помогать этому ласковому майору.
Возможно, у Семена, вдруг решившего бежать, и было мгновенное помутнение рассудка. Но отчего? Оттого, что человек устал мучиться неведомо за какие грехи.
Майор мягко барабанит пальцами по подлокотнику кресла. Глаза его тускнеют.
— Вы сейчас дурно думаете обо мне, — говорит он, — и тут, наверно, ничего не поделаешь… Давайте, однако, попробуем быть объективными. Часовой трижды предупреждал беглеца, но тот не остановился. В сумке и карманах погибшего не обнаружено ни одного сухаря, ни крошки хлеба. Далее, он пытался бежать среди бела дня да еще в солнечную погоду. Спрашивается: если он был в своем уме, то на что он рассчитывал? Каким образом надеялся уйти и куда? И самое главное, зачем? Вот г и пригласил вас, чтобы вы помогли нам разобраться, хотя, не скрою, у нас уже сложилось довольно определенное мнение…
И тон у него уже другой — не ласковый, а усталый и, пожалуй, несколько печальный… А может, и правда, он хочет разобраться, искренне хочет?
— Из всех поставленных вами вопросов, гражданин майор, — говорю я, — мне ясен только один, вернее, я могу ответить только на один ваш вопрос…
— Почему «гражданин майор»? — перебивает он меня.
Я несколько теряюсь.
— А как же?
— Что вы, осужденный или подследственный? Вам предъявлено какое-нибудь обвинение? Что вообще у вас здесь происходит? — Майор встает и, часто переставляя свои полные ноги, отходит к окну, за которым тающий снег и солнце. — Почему «гражданин»? Откуда у вас это отчаяние?
Значит, понимает, что отчаяние, думаю я.
— Вы все скоро поедете домой, — продолжает он, — вам с самого начала было объявлено, что вы не заключенные. Откуда же отчаяние?
Теперь майор уже не ласков и уже не печален, а строг. Что за переменчивый человек!
— Но ведь стрелки, лагерь, охрана, — бормочу я.
— А в воинских казармах нет охраны? Я больше скажу вам: вы очень скоро поедете домой, все, за исключением нескольких власовцев. Дела ваши уже разобраны, я не понимаю, почему до сих пор вас об этом не известили.
Я тоже встаю. О чем он говорит? Кто очень скоро поедет домой? У меня сильно стучит сердце и дрожат ноги в коленях.
— Вы не шутите?
Майор, пропустив мимо ушей мой идиотский вопрос, снова садится в кресло.
— И еще скажу — пусть это только будет между нами, — что, видимо, вообще допущена ошибка. Вас не в этот лагерь надо было направлять, а в обычный проверочный пункт для бывших военнопленных. Но где-то наверху кто-то чего-то спутал, или не понял и поленился уточнить, или, возможно, на каких-то фильтрационных пунктах по пути следования вашего эшелона не было мест, и вас не смогли принять, и вот, нате вам: репатриантов фактически делают заключенными, устраивают настоящий лагерь, а теперь этот побег и еще со смертельным случаем… Возмутительное головотяпство!
Я тоже снова сажусь, едва дыша. Неужели справедливость наконец торжествует?!
— Я понимаю, что для вас это все очень важно и вы взволнованы, — опять ласково говорит майор, — но… как же все-таки расценивать побег вашего товарища — просто как акт отчаяния или?..
— Отчаяния, — говорю я.
— Это то, что мне и хотелось узнать. Ну, не буду вас больше задерживать. Спасибо… Да, и уж для полной ясности, — добавляет майор, пожимая мою руку своей крупной мягкой рукой. — Не исключено, что вас еще на некоторое время задержат в наших краях, тут, знаете, всякие хозяйственные соображения, потребность в рабочей силе и прочее, но охрану снимут действительно очень скоро. Всех благ вам!
Я иду в лагерь — в нашу командировку, в это чертово стойбище, в наше городище — и не чую под собой ног. Скоро свобода! Скоро домой!
И вдруг тяжелая, пригвождающая меня к месту мысль: как это могло случиться в нашей стране, что из-за одного головотяпа или мерзавца, занимающего какой-то пост, безвинно пострадало столько людей? Ведь никто теперь не воскресит Ванятина и Семена, честных пленят, хороших товарищей, так и не дождавшихся желанного возвращения…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
1
Теплый ветер упруго хлещет наши лица. Глаза жадно вбирают пространство — свет и тени, переходы красок, бесконечность линий. В ушах слитный стукоток колес и шелестящий бег ветра.
Мы мчимся на открытых платформах на берег Камы — длинная коричневатая цепь платформ, а мы на них. Возле меня мои друзья Володька Ионайтес и Шамиль — они мои, так сказать, непосредственные друзья. И все остальные, сидящие на платформах, мои друзья. Я их всех люблю. И они, я это знаю, меня любят.
Я уже давно не был так счастлив, как сейчас. Я смотрю на Шамиля и встречаюсь с его взглядом, доверчивым и благодарным. Такой взгляд, наверно, бывает у детей, когда они смотрят на мать или отца, своих кормильцев. Я и чувствую себя отцом Шамиля и Володьки и всех остальных. Потому что я их очень люблю — люблю за то, что они доставляют мне сейчас это огромное ощущение счастья, а счастье, я понимаю, оттого, что я люблю. Чудо!
Мчатся платформы, бьет встречный ветер, сливается в одну четкую мелодию стукоток колес, и я сейчас, в эту минуту, сливаюсь душой с душами своих товарищей. Только сейчас: ощущение абсолютного счастья не может быть продолжительным, оно всегда, как озарение.
Мы выгружаемся на берегу Камы и под предводительством Курганова проходим мимо стрелков в зону оцепления. Мы идем с высоко поднятыми головами: мы теперь вольные. Правда, у нас еще нет документов, удостоверяющих личность, и поэтому мы покинем зону последними, когда в конце рабочего дня из нее выведут всех заключенных; правда, мы по-прежнему живем в городище и потребляем прежнее лагерное довольствие. Но нас теперь никто не стережет, и уже одно это позволяет нам высоко нести голову.
Мы останавливаемся перед громадным, высотой в двухэтажный дом, штабелем древесины. Ребята, не мешкая, разбирают багры, спрятанные меж бревен, и поднимаются наверх. Штабель тянется в глубину — от кромки обрыва берега до подъездных путей — метров на сто, поэтому большинство людей занимается подкаткой, и лишь четверка самых сильных и ловких сбрасывает бревна в воду.
Курганов, а за ним я взбираемся на соседний, еще не тронутый штабель. Утреннее солнце заливает ровным светом рабочие площадки, простор реки, узкую кайму ивняка на противоположном берегу Камы. Этот ивняк — нежно-зеленый, каким ему и полагается быть в конце мая. А вдали, вниз по течению, он кажется голубоватым, и лес, протянувшийся на горизонте, кажется голубоватым. И всюду лес — слева, справа, впереди, — на десятки, на сотни километров кругом лес.
— Товарищ Курганов, как, по-вашему, вырубят когда-нибудь весь этот лес?
Курганов понимающе усмехается, немного грустно. С тех пор, как нас расконвоировали, я часто замечаю у него грустную усмешку. Он тоже расконвоирован, он почти уже отсидел свое, но, если нам обещают скорую отправку домой, то ему пока этого не обещают. Сам он думает, что его оставят здесь на поселение. Он сказал мне об этом Первого мая, когда, зайдя в его комнатку, мы распили четвертинку водки и впервые поговорили по душам…
— Я еще зэка, и ты перестань называть меня товарищем. Не надо бравады, — говорит Курганов. — Я и так знаю, что я товарищ тебе и любому другому честному советскому гражданину.
— А вы самолюбивый…
— Самолюбивый. И теперь еще больше, чем было раньше… Вот ты проработал на лесозаготовках полгода, и у тебя уже отвращение к лесу, а я здесь без малого десять лет, и ничего… Самолюбие, к твоему сведению, — это сила, с помощью самолюбия иной раз самые неприятные вещи можно обратить в приятные.
— В том случае, — говорю я, — если самолюбие не самоцель, а способ утверждения своего человеческого достоинства, своих принципов.
— Не только, — говорит Курганов. — Самолюбие при известных условиях может стать побудительной причиной для многих хороших дел, в том числе для главного — любви к своему народу. Это непросто. Тут диалектика.
— А я понимаю это, — говорю я. — Настоящая любовь к себе — это не что иное, как любовь к другим. Порой самоотречение дает человеку больше радости и больше возвышает его «я», чем… обладание самой безграничной властью.
Курганов щурит на меня удивленные глаза.
— Ты-то откуда это знаешь? Ты Энгельса читал? Ты коммунист?
— Два года назад я был, наверно, коммунистом, а теперь… видимо, не совсем. Признаться вам в одном своем грехе? Я не знаю, какой дьявол тянет меня за язык, сам не знаю.
— Интересно, — произносит Курганов, сразу настораживаясь.
«Насколько же он выше меня! — думаю я. — Обязательно прогонит с должности мастера, если признаюсь… «Гибни, но верь», — сказал он мне тогда же, Первого мая. «Гибни, но ущерба народу не приноси». Это он непременно скажет сейчас».
И я прикусываю язык.
Я гляжу вниз. Напротив штабеля, где работают наши люди, вода у берега клокочет, бурлит белыми бурунами.
Бревна одно за другим летят в Каму… Ребята так стараются, так верят в меня! И, полно, какой же ущерб приношу я народу, если тот паек, который я выписываю ребятам за счет сочинения всяких вспомогательных работ, якобы выполненных ими сверх того, что они действительно сделали, если этот паек, килограмм хлеба, — единственная плата за их лошадиный труд?!
— Так что же? — спрашивает Курганов. — Приписываешь кубы?
— Нет.
— Так что же? — повторяет он.
— Мне людей жалко, своих товарищей, — отвечаю я, так и не решившись сказать ему всего.
Курганов отворачивается и смотрит на дальний голубой лес.
— Не договариваешь ты чего-то и путаешь, — слышу я через минуту его тихий и, кажется, огорченный голос; он звучит будто издалека. — И почему это считают, что коммунист не должен жалеть… что он обязан быть только стальным или железным? Для врагов — железным, бесспорно, а для людей, которых девяносто девять и девять десятых… Жалеть, милый мой, не грех, если под жалением понимать то же, что понимается под словом «любить», то есть желать добра, делать добро. Не будешь жалеть товарища — и народа своего жалеть не будешь. Но ведь вопрос-то в том, чтобы, жалея одного, не обидеть десятерых — вот над чем постоянно надо думать!..
Курганов взволнован и в эту минуту даже красив.
И я уже люблю его. И у меня опять хорошо на душе, почти так же, как было, когда мы мчались на платформах.
2
В ближайшее воскресенье (на сплаве работают без выходных) я приезжаю на берег Камы, вырядившись в светлый костюм и новые сапоги. До сих пор я не надевал этих вещей: берег для дома, но…
Дело в том, что тут, в диспетчерской, я заметил одну девушку, вольнонаемную, и мне очень хотелось бы, чтобы она тоже заметила меня.
Расставив ребят по местам и понаблюдав немного за работой, я отправляюсь к домику диспетчерской и начинаю прогуливаться под окнами. Сапоги мои блестят, и это не обычные сапоги — их стачал по заказу Бахмайера лучший сапожник Маутхаузена, но они не попали к лагерфюреру: 5 мая, в день восстания, сапожник-австриец подарил их своему русскому камраду, а тот мне, так как они оказались ему тесны. И костюм, добытый на вещевом складе накануне нашего ухода из Маутхаузена, не совсем обычный: из тонкой шерсти, в елочку, с накладными карманами; брюки можно затягивать специальной пряжкой — у щиколоток, а можно и чуть пониже колен: получается красивый напуск.
Судя по нашивке «Warszawa» («Варшава») — это польский костюм, очень хороший. Я затягиваю концы брюк пониже колен, чтобы были полностью видны сапоги.
Я так рад, что не продал их повару, волосатому Пёте-одесситу, когда мне было туго!
Я прогуливаюсь под окнами, кручу головой — девушки из диспетчерской все нет — и уже тихонько поругиваюсь про себя с досады, как вдруг от того места на берегу, где работают на ошкурке балансов девушки-заключенные, отделяется одна, с красивыми дерзко-откровенными глазами.
— Ты что, как профура импортная, маячишь? — спрашивает она веселым смелым голосом, но дружелюбно и упирает руки в бока, обтягивая на талии серое, замаранное смолой платье.
— А тебе-то что? — отвечаю я тоже дружелюбно.
— Если ищешь жену, то здесь не ищи, в диспетчерской свободных нету. Ты спортсмен, что ли?
— Спортсмен… А жену я не ищу. Зачем мне тут жена?
— Не заливай! — И девушка подмигивает и откровенно смотрит на меня. — Приходи в обед за третий штабель, где лесок… может, там и будет свободная.
«Как же, нашла дурака!» — думаю я, провожая, однако, ее взглядом.
Девушка-вольнонаемная не показывается в окне. Я обзываю себя последним идиотом и все же торчу возле домика.
И все-таки потом ухожу: не желает она замечать меня!
Тогда привязывается мысль о леске. Чтобы отвязаться от нее, скидываю с себя жениховский наряд и в одних трусах топаю к своему штабелю. Я еще с довоенных лет знаю прекрасное средство против недостойного влечения: во-первых, турник и футбол, а зимой — колоть на морозе дрова, во-вторых, прочь мягкую постель — спать надо на голых досках (но не на гвоздях, конечно); в-третьих, ржаной хлеб с солью — самая вкусная и полезная еда… Но здесь не нужны ни футбол, ни голые доски, ни ржаной хлеб (хлеб, правда, нужен).
Я подхожу к мокрому от пота Шамилю и беру из его черных жилистых рук багор.
— Взяли! — кричу я Володьке, напарнику Шамиля, всаживая железный крюк в торец бревна и упирая отполированный конец шеста себе в живот.
Бревно сперва будто нехотя, тяжело поворачивается на четверть оборота, потом плавно вслед за крюком еще на одну четверть, затем, подталкиваемое багром, разгоняется все быстрее — приходится уже бежать, — наконец так раскручивается, что крюк выскакивает из торца, и бревно надо ловить, цепляя его сверху.
Володька утирает с лица пот и сплевывает белую слюну.
— Двинули!
Катим следующее бревно. Потом третье, четвертое… Хорошо, что наш штабель понизился до высоты человеческого роста. Когда он был двухэтажным домом, катать было еще трудней.
— Хватит, отдохнем, — наконец лепечет Володька.
— Сдох? — спрашиваю я. — Шамиль, бери свою пику!
Я влезаю на бревна и спрыгиваю около Володьки.
— Давай багор.
— С наслаждением…
Теперь я катаю с Шамилем, и тот минут за пятнадцать превращает меня в жалкого доходягу.
— Сдох, товарищ командыр?
— Сдох, Шамиль, — сознаюсь я.
Потом по теплым шершавым бревнам я иду в конец штабеля. Тут ужо настоящий штыковой бой. 3 торец втыкают не крюк, а острие багра. Бревна равномерно и ритмично сбрасываются под откос.
Кидать надо очень умело: бревна должны скатываться строго горизонтально, если будут разворачиваться на откосе и пойдут юзом, то у берега образуется залом, «костры», как здесь говорят, и тогда надо останавливать подкатку и посылать всех на разборку костров, а на это уходит много времени, и резко снижает нашу дневную выработку. Тут нужна сработанность, кого попало сюда не поставишь, и сам никого не подменишь.
Я только смотрю и не мешаю. Вода у берега бурлит, разлетается брызгами, покачивает на волнах уже плывущие бревна. А эти стремительно катятся, с легким плеском ныряют в реку, скрываясь под ее поверхностью, а потом точно всплывают, как маленькие подводные лодки.
— Покурите, что ли, ребята, — предлагаю я.
Они в ответ лишь скалят в улыбке зубы и, обливаясь потом, загорелые, грязные, ловкие, как черти, продолжают сбрасывать.
3
И вот, съев обеденную кашу и снова облачившись в костюм, я неожиданно для себя направляюсь за третий штабель, в живописный овражек, поросший ольхой и кустарником. Это какой-то зеленый оазис, островок спокойствия: высокая трава, ромашки, даже порхают бабочки. Уголок свободы, где нет ничего от лагеря. И трава не истоптана, и ни одной сломанной ветки, ни бумажки, ни окурка.
Я спускаюсь по узкой тропке к реке и, не доходя до нее, вижу незнакомую девушку. Вода в реке еще холодная, но она купалась: на ее шее блестят мелкие просыхающие капли, лицо промыто-свежее, глаза чистые, концы волос у шеи мокрые и торчат сосульками, а на макушке русо-золотистые, пышные и отсвечивают на солнце И тут я замечаю неподалеку в примятой траве какую-то площадку, украшенную цветами, точно ложе античной богини.
Я чувствую себя неважно, прямо подлецом, будто подглядываю за кем-то или подслушиваю чужие секреты. Но отступать поздно.
— Здравствуйте, — говорю я.
— Здравствуй, — отвечает девушка, стрельнув в меня удивленным взглядом.
Она замирает на месте, действительно удивленная. А почему удивленная?
Это мне надо удивляться, а не ей: она-то здесь, наверно, не впервые.
— Что это здесь у вас? — спрашиваю я.
— А как ты попал сюда? — И она вновь стреляет удивленным взглядом, но теперь не только удивленным — в глазах девушки смех: вероятно, видит мое смущение.
— А почему бы мне сюда не попасть? — говорю я смелее и делаю шаг вперед.
Девушка — ей лет девятнадцать — пятится на несколько шажков и впрыгивает на бугорок. Теперь она еще дальше от меня и выше. И сможет удрать, если захочет.
Она стоит надо мной и смеется. А глаза стреляют, в них любопытство, и лукавое ожидание, и еще что-то волнующее. И я вижу ее загорелые ноги. Они чуть-чуть напряжены — ясно, что стоит мне пошевелиться, и она удерет.
— Не удирай, — прошу я.
Она показывает мне кончик языка: конечно, удерет.
И тогда я тоже замираю. Я только гляжу на нее любуюсь и больше не чувствую себя подлецом. Я просто смотрю и любуюсь: девушка, освещенная солнцем, с длинными, чуть напряженными ногами, не девушка — женщина, и не женщина, а воплощенная женственность, манящая и отвергающая, прекрасная даже в своем непостоянстве.
Внезапно я слышу сдавленный смешок. Оборачиваюсь — никого нет.
Снова поворачиваюсь к девушке и вижу лишь ее короткое платье, мелькнувшее среди кустов… Вспугнули, гады!
Возвращаюсь к своему штабелю и до конца дня не могу ее забыть — в солнце, лукавую и настороженную, как козочку.
И на следующее утро не могу ее забыть. Нет, не ее — это не точно, — а то ощущение, которое было у меня, когда я любовался ею. Война, лагеря, ожесточение, и вдруг это, как светлый лучик, — женственность…
Я сижу на эстакаде, погруженный в себя, и не понимаю, что от меня надо Володьке.
— …уже отрубил ухо твоему тезке, — говорит Володька, чем-то сильно взволнованный.
— Какое ухо, кто отрубил?
— Кесарь.
(Кесарь — заключенный, знаменитый бандит — я знаю.)
— Почему отрубил? — спрашиваю я.
— Да ты спишь или что? Кесарь ищет тебя, хочет зарубить. Он по ошибке уже отрубил ухо одному твоему тезке, но ему объяснили, что это не ты. Теперь ищет тебя. Черт тебя дернул с тем леском: ведь это личное владение Кесаря!
Рядом с Володькой Шамиль.
— Ничего, товарищ командыр. Мы его багром! Неожиданно все как-то. Меня хочет зарубить Косарь. За что?
— Ты, может, пока выйдешь из зоны? — говорит Володька.
Я соскакиваю на землю и сразу прихожу в себя. Сейчас будет кровь, опять кровь… Сознание делается предельно четким, и я все понимаю: Кесарь приревновал меня… Эту каверзу подстроила та, с откровенными глазами Кесарь хочет меня убить.
— Мы его багром! — сурово обещает мой друг Шамиль.
— Сбросим в Каму! — решает и Володька.
Я знаю: они сбросят. Но я но хочу, чтобы они его убивали. И, конечно, не хочу, чтобы Кесарь прикончил меня. Что же делать?
В этот момент на дороге показывается человек с топором на плече, и я уже понимаю, что это Кесарь.
— Уйдите, — приказываю я Володьке и Шамилю. — Быстро!
Они исчезают: все-таки мое слово — для них закон.
Сознание становится еще отчетливее. Я понимаю: он, Кесарь, идет ко мне, он знает, что это я, — я вижу его узкий, словно приплюснутый, лоб, квадратную нижнюю челюсть, его глаза — два уголька, две капли раскаленной смолы, его нетвердо ступающие ноги и длинную руку с кистью, болтающейся у колена, вижу, что он пьян.
Я подтягиваюсь на руках и снова сажусь на бревно эстакады. Теперь я по меньшей мере на две головы выше Кесаря Пока он замахивается, я ударю его сапогом под подбородок…
Он медленно приближается, вглядываясь в мое лицо. Он смотрит так, словно хочет вывернуть меня наизнанку. Он останавливается шагах в пяти, берет топор на изготовку, и я вижу, как дрожит его нижняя челюсть.
А я уже спокоен. Удивительно спокоен. Даже внутри унимается дрожь. Когда дело идет о жизни и смерти, поневоле становишься спокоен: если человек спокоен, он сильнее, у него больше шансов отстоять жизнь.
— Ты… — хрипит Кесарь, — ты… трогал мою жьену?
— Нет, — говорю я и слышу свой удивительно ясный, твердый голос.
Это хорошо, что я сижу, хорошо, что спокоен… Но неужели она его жена?
— Нет, — повторяю я, — тебя обманули. Она даже не подпустила меня к себе.
— Нет?!
Две безумные черные капли тухнут. Каким-то звериным чутьем он понимает, безошибочно понимает, что я не лгу. И я вижу вдруг, как этот полузверь-получеловек, этот лагерный Кесарь, отшвыривает топор и валится ничком. Он рвет на себе короткие волосы, в его горле что-то булькает. Он плачет, страшно, нечеловечески плачет, а разве можно плакать нечеловечески?
Он любит. Но почему он плачет? У него же очень хорошая, верная жена… (Неужели она его жена?!) Как же был прав Порогов, предупреждая меня, что с женщинами все это непросто! Она лишь поговорила со мной, а я сутки о ней думаю, а Кесарь из-за нее отрубил кому-то ухо и теперь валяется в пыли, короткими, жесткими рывками выхватывая из головы волосы, а в его горле булькает.
— Встань, — говорю я. — Что ты ревешь?
Он затихает, потом снизу дико взглядывает на меня, приподнимается на четвереньки и бросается бежать. Он бежит куда-то наискось, к колючей проволоке зоны оцепления и скрывается за штабелями.
Я спрыгиваю на дорожку, поднимаю его топор. Из-за толстого бревна высовывается голова Шамиля, его руки сжимают багор, как винтовку с примкнутым штыком. Выходит из-за штабеля и Володька с багром наготове. Они прятались поблизости, чтобы в критический момент прийти мне на помощь.
— Спасибо, солдаты, — говорю я, обняв друзей.
Вечером мы узнаем, что Кесарь, оказывается, не только отрубил ни в чем не повинному человеку ухо, он, зверь, еще до объяснения со мной повырывал волосы на голове у девушки, ее прекрасные русо-золотистые волосы, и она, изуродованная, убежала к стрелку и сидела под его охраной до конца работы.
ЖИЗНЬ БЕСКОНЕЧНАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
1
До этого я не был в Москве. Я видел Москву лишь в кино да однажды во сне — в зондерблоке, в Хелме, незадолго до своего побега…
Тот сон удивителен и необъясним. Мне снилось, будто я стою на площади, запруженной автомашинами, а вокруг площади — большие дома, а справа, наискосок от меня, серый столб, и на нем репродуктор; и я знаю, что я в Москве, я асе так отчетливо вижу — дома, машины, репродуктор, — я слышу потрясающе знакомый, отчетливый голос диктора Ольги Высоцкой: «…радиостанция эрвээс-один имени Коминтерна на волне тысяча семьсот сорок четыре метра…» Помню, проснувшись, я обалдел: где сон, где явь?
Я вспоминаю это сейчас, стоя на площади Курского вокзала в Москве, и чувствую, что мне становится нехорошо: справа, наискосок от меня, серый столб, на нем репродуктор, и из репродуктора доносится знакомый, отчетливый голос; на площади машины, вокруг дома, большие, похожие на те. С ума я, что ли, схожу?
Володька уже уехал (это он потащил меня за собой в Москву: «Счастье должно быть полным!»), мы договорились встретиться завтра в полдень возле Мавзолея Ленина… Жаль, что Володька уехал! А может, и не было никакого Володьки? Может, сейчас я проснусь и увижу себя опять в зондерблоке?
Или на командировке «Почтовая»? Или в лесной уральской деревушке, где после завершения сплава мы прожили несколько месяцев, работая в дорожной изыскательной партии и ожидая окончательного освобождения?
Страшная чушь! Нет и не было никакой лесной деревушки, ни командировки «Почтовая», ни зондерблока, и не было такого сна, а есть только то, что есть во мне сейчас: радость, некоторая растерянность и предчувствие чего-то большого и настоящего, что будет — когда, я не знаю, в сроках я почти всегда ошибаюсь, — но обязательно будет, это я знаю наверняка.
…Московский речной техникум. Большая Ордынка, 19. Все точно. Я прячу бумажку со словом «Мосгорсправка» в карман и вхожу в красный кирпичный дом.
В коридоре, освещенном электричеством, тишина — особая, жужжащая тишина: идут занятия. И воздух тоже особый: теплый, немного спертый. Пахнет чернилами и мелом. На голубой стене белеет бумажный квадрат — видимо, расписание.
Женщина-вахтер, сидящая у входа, не останавливает меня, и я, сняв шапку, направляюсь прямо к расписанию. Я хочу выдержать себя до конца, сейчас проверю…
За весь этот год я не написал ни одного письма родным. Только одну открытку — старшей сестре, которая жила в Рыбинске. Я решил так: если не суждено выйти на волю, то пусть родные считают, что я погиб на войне. Я был даже рад, что единственная моя открытка не дошла до сестры. Мне ответили соседи, что сестра с семьей переехала в Москву, куда перевели на работу ее мужа, преподавателя речного техникума, и что их домашнего адреса в Москве они не знают.
Я пробегаю глазами расписание занятий, ищу в столбце, где написаны фамилии преподавателей, фамилию своего зятя — в этот момент звенит звонок, и я вижу зятя с большим деревянным циркулем в руке, выходящего из классной комнаты.
Бог ты мой! Он это или не он? Высокий черноглазый мужчине., красивый, хотя и не очень молодой, — таким на моей памяти он был всегда; высокий, черноглазый, с густой сетью морщин на лбу, с острыми ссутуленными плечами — теперь. Он или не он?
— Петр Николаевич, — тихо окликаю я его.
Он, вздрогнув, глядит на меня, хватает за рукав, будто я призрак или сновидение, которое вот-вот исчезнет, и я вижу, как мгновенно его глаза наполняются слезами, и он быстро, быстро промаргивает их.
— Андрюшка… — шепчет он.
— Мама жива?
— Андрюшка, — повторяет он и все не отпускает мой рукав.
А потом я чувствую его колкую щеку, приложившуюся к моей щеке, вижу, как он суетится, отворачиваясь от людей, промаргивая остатки слез и стараясь овладеть голосом.
— Бабушка — мама твоя — жива, а Андрюшку убили, — говорит он через минуту, но опять получается шепот.
Андрюшка, его старший сын, мой племянник и ровесник, мой добрый товарищ — мы вместе учились в девятом классе в Рыбинске, когда я жил у сестры, — Андрюшка убит.
Что я могу сказать зятю? Чем утешить? «Жалко Андрюшку» — не те слова. «У всех нынче какое-нибудь горе» — не те. И я не говорю никаких слов, я только на минуту представляю себе Андрюшку с его застенчивой и всегда будто чуть загадочной улыбкой, — и вот теперь Андрюшка где-то в земле.
— Ты подожди или лучше не жди, поезжай один. Катя дома. Сейчас я тебе нарисую… — И по старой привычке, очень знакомой мне, Петр Николаевич царапает на листочке бумаги слова и рисует стрелки, где мне повернуть направо, где налево.
— Поезжай. Катя так обрадуется! А я — через два часа.
Он заставляет себя улыбнуться — ну, надо же улыбнуться близкому родственнику, воскресшему из мертвых, ведь он искренне рад, что я воскрес! — он улыбается, но его жалкая, насильственная улыбка лишь подчеркивает всю безутешность его отцовского горя.
Пользуясь листочком-указателем Петра Николаевича, я быстро нахожу станцию метро «Новокузнецкая», беру в кассе билет и снова погружаюсь в блеск и великолепие Московского метрополитена.
Прошлое и настоящее, явь и сон — все перемешивается во мне. Мама жива — это главное, я чувствовал, что мама жива. А племянника Андрюшки, Андрея, больше нет. Где-то неподалеку от Инвалидного рынка, в общежитии речного техникума, живет моя сестра Катя. Она есть. Она думает, что меня нет, что я тоже убит, но я есть…
Я очень волнуюсь. Мама жива. Она, как и была, на Севере. Она есть, мама. И я есть… И я очень волнуюсь: сейчас после пятилетней разлуки я увижу родную сестру.
2
Все бегут. И я бегу. Все спешат. Я тоже спешу. Я выхожу вместе со всеми из теплого метро на мороз и поворачиваю за угол серого каменного здания.
Какие-то темные деревянные дома, сугробы в переулках и тупичках, еще поворот — здесь должен быть Инвалидный рынок («Почему Инвалидный? И почему рынок, а не базар?»), — я взглядываю на слой листочек со стрелками и бегу дальше.
Какие-то палатки, длинные столы под навесами, мочалки. Какие-то метелки, сушеные грибы на ниточках, толчея. Заиндевевшие кочаны капусты, семечки в стакане, картошка, ругань женщин. Я проношусь мимо и попадаю на прямую белую улочку. Здесь где-то должна быть чайная, мой последний ориентир по листочку. Если я найду чайную — найду и общежитие: они где-то по соседству.
— Простите, не скажете, где чайная? — спрашиваю я на ходу старушку, медленно плывущую по улочке.
Старушка, не оборачиваясь, плавным жестом показывает направо, я бегу направо, и действительно здесь чайная. Мне говорят, что общежитие речного техникума — через дорогу, за забором, но надо пройти в конец улочки, с той стороны калитка.
Я возвращаюсь на улочку — старушка все плывет, худенькая, в черном долгополом пальто и с авоськой, — я обгоняю ее, отыскиваю калитку и захожу внутрь.
Двухэтажный, с обвалившейся штукатуркой дом, слева — груда бревен и ветхий сарай. Какая-то пожилая женщина выносит ведро с помоями.
— Кудрявцевы здесь живут?
— Здесь. Второй этаж…
Я поднимаюсь по шатким ступеням и вдруг вижу с лестничной площадки в окно старушку, входящую через калитку во двор. Все так же тихохонько, словно доходяга, плывет она в своем черном, чуть не до пят пальто, и авоська ее с кочешком капусты плывет, едва не касаясь земли. Я всматриваюсь в лицо старушки и узнаю сестру.
Полно, говорю я себе, это не Катя. Кате — сколько же ей теперь? Кате сорок один год, она не старушка…
Я сбегаю вниз, распахиваю дверь, я сграбастываю сестру в охапку, я прячу нос в воротник ее вытертого, пахнущего домом и милым моим детством пальто…
Ничего не было. Ни окружения, ни Маутхаузена, ни стрелков. Все хорошо теперь. Все, как прежде: и этот светлый, отделанный под орех комод, этот коврик на полу, это старенькое пианино, эта знакомая, в пятнышках туши, чертежная доска Петра Николаевича. Я проснулся и лежу на кушетке, на которой спал когда-то в Рыбинске. Я наконец проснулся, и какое мне дело до тех страшных снов: штрафной команды, лесоповала, былого отчаяния? Прошлого нет. Времени тоже нет. Есть только настоящее, вот эта минута, и я в ней, лежащий на знакомой кушетке под знакомым одеялом.
Я поворачиваю голову и встречаюсь с глазами Андрея. Строгие, честные глаза, глядящие из рамки портрета. Немного пухлые губы, светлые, зачесанные набок волосы, белый воротничок рубашки — таким он был перед войной. Он погиб под Новгородом, сержант Кудрявцев, друг детства Андрюшка; так могло быть и со мной…
Скрипят пружины кушетки от неосторожного движения. Из соседней комнаты выходит сестра.
— Проснулся?
Седые волосы, отекшее лицо, морщинки… Ты ли это, Катя? Ведь ты не была ни в Маутхаузене, ни на фронте. Значит, и здесь, в тылу, вам было не сладко?
— Да, — говорю я. — И отлично выспался. А Петр Николаевич уже уехал?
Из-за спины сестры выглядывает племянница. Когда я уходил на войну, ей было лет семь. Теперь она серьезная длинноногая девочка-подросток.
— Ты полежи еще. — говорит мне сестра. — Я затоплю печку Только дров маловато…
— Принести?
Из-за материнской юбки, держась за нее, выползает вторая моя племянница. Двух с половиной лет. Голубоглазое, с розовыми щечками чудышко.
— Сейчас…
Я одеваюсь, натягиваю на себя телогрейку и иду в сарай. Готовых дров нет: надо напилить и наколоть. Отрезаю от сухого бревна несколько чурок, берусь за топор — неожиданно появляется сестра. Мы с ней еще не поговорили как следует, с глазу на глаз, так, чтобы нам никто не мешал, и я рад, что она пришла. Она присаживается на бревно…
Оказывается, она все-таки получила мою открытку. Ей переслали из Рыбинска. И еще получила одну открытку от моего товарища по Мэутхаузену — Быковского. Тоже переслали из Рыбинска. Быковский спрашивал, где я и что со мной, беспокоился. И мама в каждом письме спрашивает и очень беспокоится. Вчера вечером я наконец написал ей.
— Почему все же ты не писал маме? И вообще почему не писал, если было разрешено писать? — говорит сестра.
— Я объяснял тебе, почему.
— Но ведь если ты не чувствовал за собой вины, то как же мог сомневаться?
— А папа? — говорю я.
Наш отец, школьный учитель, погиб в 1939 году. Больше года, невиновный, он просидел в тюрьме. В конце концов его оправдали, но когда его в последний раз привели к прокурору и тот без всякой подготовки объявил отцу, больному, старому человеку, что он свободен, отца разбил паралич, и он тут же умер…
Сестра не отвечает на мой вопрос. Мы вообще никому не говорим, что было с папой. Это только наше личное горе. Так мы думали всегда.
— Хорошо. А дальше как? — спрашивает сестра.
— А дальше, по-моему, все будет как надо. Пока поступлю куда-нибудь на работу, а осенью — в институт.
— Мы с Петей сегодня много разговаривали. Ты знаешь, может быть, Адя тоже жив. Может быть, он тоже попал в плен и сейчас проходит проверку и тоже не пишет, до выяснения…
— Не надо, Катя, ведь Андрея похоронили.
— Петя еще надеется, а я, я…
Она проглатывает слезы и медленно встает.
— Пойду за водой. — И голос ее делается тоненьким и дрожащим, как у девочки, и нос краснеет…
Очень трудно уйти от прошлого и все забыть. Как может забыть мать сына? Как могут забыть другие мои сестры своих мужей, погибших на фронте? Один из них, танкист, был убит летом сорок первого, второй — в начале сорок третьего, третий, муж моей младшей сестры, учивший меня валить лес лучковой пилой, — весной сорок пятого: его, командира батареи, убило прямым попаданием снаряда… Попробуй забудь, что ты вдове и твои дети — сироты!
Я колю чурки, бросаю поленья в кучу и чувствую, что никогда, никогда, как бы я этого ни хотел, из избавлюсь я от своего прошлого и ничего не забуду.
3
— Ну, здорово? — спрашивает Володька. Я стою как завороженный и не отвечаю. Опять, будто сон или сказка: я на Красной площади, возле Кремлевской стены, рядом с Мавзолеем Ленина. Много раз видел я б кино и на фотографиях Кремлевскую стену и Мавзолей, и все равно, кажется, вижу впервые, и все кажется немного не таким, каким видел в кино и воображал.
Мавзолей Ленина представлялся мне огромным и темного цвета, а он совсем не огромный, не подавляет своей величиной, он тепло-красный, с сиреневым оттенком. И собор Василия Блаженного иной, чем я думал: поменьше и разноцветный, и вообще это не собор, а какая-то загадка, ожившая сказка о царе Салтане. И площадь поуже, и зубчатая Кремлевская стена пониже, и все равно волшебство, диво дивное!..
Но не только и не столько красота заставляет меня неметь, сколько сознание, что я, вчерашний пленный, смертник Маутхаузена, я, живой, свободный, стою сейчас на Красной площади — перед символом того, во имя чего шли мои товарищи на смерть, на плаху палача, во имя чего поднимались в последнюю свою атаку…
Я живой, счастливый, и мне ли держать зло на сердце за то, что при возвращении из плена нам пришлось пилить лес или просто посидеть за колючей проволокой, ожидая, когда с нами разберутся; ведь нас отпустили, ведь даже бывших рядовых власовцев, таких, как Павло и Гришка, простили, по сути дела: шесть лет вольной высылки им, изменникам, — смешно сказать! А мы, концлагерники и «чистые» пленные, поехали домой на правах демобилизованных, а я даже сюда, в Москву. Да будь я проклят, если сейчас же, сию минуту не выброшу из сердца обиды за Цветль, Фокшаны, за командировку «Почтовая»!
Володька понимает мои чувства и терпеливо ждет. Он не все, конечно, понимает — для этого он слишком мало был в плену. Он думает, что я потрясен только красотой, — пусть так думает; сам он не новичок в Москве…
— Слушай, — говорит он, потирая перчаткой посиневшее лицо, — может, для первого раза хватит?
— Ладно, пойдем. — Я предпочел бы постоять здесь, на Красной площади, с Валерием Захаровым, Иваном Михеевичем, Виктором Покатило или с теми, кто пел марш танкистов 1 Мая 1943 года в шталаге-319 под дулами немецких пулеметов, но… Володька ведь тоже свой парень.
— У тебя же ноги, наверно, закоченели, — словно оправдываясь, говорит он.
Насчет ног — верно. Сапоги Бахмайера, жестковатые и низкие в подъеме, совершенно не приспособлены для нашей зимы Зато Володька, я вижу, блаженствует в теплых, на меху ботинках; на шее у него пушистый шарф, на голове новая пыжиковая шапка.
— А ты чего посинел? — спрашиваю я.
Мы с ним уже спускаемся вдоль Кремлевской стены к заиндевевшему саду, обнесенному чугунной оградой.
— Жира нет, крови мало, — отвечает Володька. — После нашего уральского курорта долго еще не будет жира. Между прочим, моя тетушка находит у меня малокровие, очень трогательно, знаешь. Она кандидат медицинских наук.
— Это от нее? — Я носком сапога показываю на Володькины ботинки.
— Да. Вернее, от ее сына. Убит под Курском. А шапка дядькина, его подарок.
— Значит, родственники ничего?
— Сродственники у меня мировые, сродственники! — оживляется Володька. — Увидишь сам. Они ждут нас к обеду в три. А сейчас… — Володька отгибает конец рукава и смотрит на новенькие, сияющие никелем часы, — тридцать пять первого. Времени уйма. Пойдем перекусим где-нибудь? Ну, в «Национале», например? — небрежно роняет он.
Мы пересекаем улицу возле Истерического музея, потом еще раз — возле Музея Ленина.
— Понимаешь, — говорит Володька, — до «Националя» надо переходить еще две улицы на ветру. Да и есть невтерпеж. Пошли сюда, в ресторан «Москва»!
И все-то он знает, где какие рестораны, думаю я. А я ни черта не знаю и даже, по правде говоря, ни разу не был в настоящем ресторане, если не считать вокзальных.
— Насчет финансов не беспокойся, — предупреждает Володька. — Я получил кое-что на карманные расходы.
— Богатые сродственники-то? — Мы останавливаемся у массивной застекленной двери, за которой виден толстый, в золотых галунах швейцар.
— Ничего, неплохо живут, дьяволы! — Володька наклоняется к моему уху. — Дядька — начальник главка, член коллегии министерства. Разумеешь?
— Еще бы! — с уважением шепчу я. Швейцар в золотых галунах величественным жестом приоткрывает перед нами массивную дверь.
Володькин дядька оказался маленьким веселым человеком, разговорчивым и очень простым в обращении. Он доктор технических наук, ученый. Вот уж не ожидал, что могут быть такие ученые: без никакой седины и даже не рассеянный! Впрочем, ученый — член коллегии министерства, конечно, не должен быть рассеянным.
Мы с Володькой сидим за шелковой портьерой в полукруглой нише и листаем иллюстрированные журналы.
Они технические, и мы не знаем английского, и все же шикарно: мы сидим на диване, накрытом ковром, сбоку большое окно, чистый, снежный свет, а мы сидим себе в тепле на восточном ковре и листаем журнальчики!
— Каторжники, обедать! — кричит нам хозяин.
— С наслаждением, — отвечает Володька.
Мы выходим из ниши и видим белую скатерть на столе, салфетки, тарелочки, фужеры, как в ресторане «Москва».
— Вовка, доставай глубокие тарелки! — командует хозяин. С посудным полотенцем через плечо, растопырив локти, тащит он суповую кастрюлю. — Подставку, подставку для кастрюли давай! — покрикивает он.
Потом с оранжевым графином в руке заходит хозяйка, миловидная немолодая женщина, и нам приказывают садиться.
— Вовка, водку будете пить? — спрашивает сам.
— Не надо им водки, — мягко говорит Володькина тетка. Она даже больше похожа на ученого, чем ее муж. Она спокойная, с неторопливыми движениями, и глаза внимательные.
— Вы, каторжники, на меня не смотрите, я на работу, — говорит сам. — А им почему бы не выпить, мама? — вдруг тоже мягко спрашивает он жену. — Хотя пейте томатный сок. Томатный сок, как уверяют специалисты, вкусный и питательный напиток. Мама, правильно? А главное, нажимайте на мясо.
— Вы так поздно на работу? — спрашиваю я, решив, что пора о чем-нибудь спросить его: молчать же все время невежливо.
— Да, — отвечает он. — Все люди, как люди, днем работают, ночью спят, а мы, министерские тузы, шиворот-навыворот!
И весело смеется.
За томатным соком и очень вкусным супом следует жаркое, потом мороженое с ягодами клубники, потом черный кофе.
— Спасибо. Кофе не хочу, — говорю я. — За три года плена я столько его выпил, что больше, наверно, никогда в рот не возьму.
— Вам в плену давали кофе? — удивляется Володькина тетка.
— Не кофе, а кафэ суррогат, — объясняет Володька. — Это вместо завтрака.
— Суррогат, смурый гад, — пробует скаламбурить хозяин, первый смеется и, бросив перед собой смятую салфетку, встает.
Чудный человек, думаю я. Начальник главка, а такой простой и так хорошо относится к Володьке и ко мне, бывшим пленным.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
1
Снова вагонная полка. Я еду к маме. Я продолжаю пребывать в радостном возбуждении, несколько лихорадочном и все усиливающемся по мере того, как поезд уносит меня все дальше на Север.
Мне не лежится, и не сидится, и не спится, и со всеми хочется поговорить, а едва завязывается разговор, как появляется новое желание: куда-то идти, кого-то торопить, поглядеть в окно или опять прогуляться по всему составу, переходя из вагона в вагон по шатающимся железным площадкам.
Ведь все сбывается, думаю я, принудив себя уже в первом часу ночи лечь спать. Все сбывается — пусть не в заданные сроки, пусть с опозданием, но все, все! Я еду к маме, я побывал в Мавзолее Ленина, видел Москву, я буду жить в Москве, — так я решил. Справедливость восторжествовала, и жизнь теперь поворачивается ко мне самой светлой стороной, точно стремясь вознаградить за прошлое.
В самом деле, размышляю я, в институт я теперь приду не мальчиком, а зрелым человеком; и учиться будет легче, и, окончив институт, я не растеряюсь перед жизнью, как какой-нибудь очень юный выпускник… Кем я буду? Конечно, журналистом и литературным критиком — ничего не меняется!..
Я засыпаю под утро, а просыпаюсь, когда невысокое декабрьское солнце начинает вновь клониться к закату.
Бревенчатый полувокзальчик-полусторожка. Коптящий фонарь. Мороз. Непроглядная темь в той стороне, где лес и дорога… Ха! Для меня-то темь и мороз? Я бегу по обледенелым шпалам железнодорожной ветки, уходящей в глубь леса, к поселку, в котором живет мама с моей младшей сестрой. Я ведь знаю, что темно бывает лишь тогда, когда выходишь из ярко освещенного дома или поезда, а теперь уже не темно: светит снег. И мороз только тогда, когда стоишь, а теперь уже нет мороза: при быстрой ходьбе греет кровь. И семь километров по шпалам — это не расстояние; надо думать не о километрах, а о чем-нибудь постороннем и приятном, и тогда время поглотит расстояние.
А о чем думать? Нет, ни о чем думать не могу. Ни о приятном, ни о неприятном. Ни о чем… Что это за избушка? Бог с ней, не знаю. Серые, заваленные снегом штабеля, не очень большие штабеля, на Урале больше. Пиловочник или рудстойка? Черт с ними, с бревнами! Опять что-то чернеет впереди, слева. Опять избушка. Эту я, кажется, узнаю: в ней жил конюх лесопункта. Остается два километра — пустяк! А мама не знает, что я сейчас приеду. Я предупредил ее — написал, что приеду на этой неделе, но нарочно не указал дня, чтобы не выходила меня встречать в такую стужу…
Даже собаки поселковые не лают: забились от мороза в сени. Вот переезд. Скорее, скорее! Поворот. Направо — детские ясли, мне — налево. Вот дом с темными окнами. Все уже спят. Мама спит, сестра спит. Сейчас…
Я взбегаю на крыльцо. Сердце мое стучит так, что, кажется, не надо стучать в дверь: и без того услышат. Я поднимаю дрожащую руку — я сам вижу в темноте, что она дрожит, — я поднимаю руку, чтобы постучать в дверь, и я слышу, как торопливо открывается другая дверь, та, что ведет из комнаты в сени, и я слышу легкие бегущие шаги — сестра, конечно, — к этой двери, наружной, я слышу, как туго выдвигается из петли крючок, дверь распахивается, и я вижу… маму.
— Мама!
Если бы я крикнул во всю силу это слово «мама», оно, наверно, все равно не прозвучало бы так громко, как сейчас. И ничего не надо больше говорить, ничего объяснять — ничего!
Какая же ты у меня, оказывается, маленькая, мама, какая ты моя, и стоило все, все пройти, все, все перетерпеть ради вот одной этой минуты, ради одного того, чтобы своими руками, своими ладонями, сжимавшими и разгоряченную сталь автомата и черенок каторжной лопаты, успокоить дрожь в твоих стареньких плечах, чтобы той же ладонью в темноте, пока никто не видит, погладить тебя, как девочку, по голове, по твоим поредевшим, тоненьким на ощупь волосам… Здравствуй, мама, моя умница, красавица моя, самый близкий, самый лучший человек на свете! Вот я и снова с тобой!
И больше никакой лихорадки. Чудо свершилось! Теперь я по-настоящему дома, там, где мать, где меня любят, ничего не требуя за свою любовь взамен. Просто любят. Где можно, как и раньше, поваляться с книжкой на диване, попеть, подурачиться немного, добиться того, чтобы тебя пожалели и приласкали. И от этого ни капли не стыдно. Словом, дома!
Я дома, и хотя это не тот дом, в котором мы прожили много лет вместе с отцом, я чувствую себя отлично. Я выхожу на улицу и иду куда хочу. Я никуда не спешу. Я могу зайти к сестре в детские ясли и там, надев белый халат, могу повозиться с малышами. Хочу — буду в свое удовольствие колоть дрова. Хочу — и, засунув руки в карманы, пройдусь по поселку. А хочу — вернусь в теплую комнату, оттащу маму от плиты с кастрюлями и, поглаживая ее узкую, в голубых прожилочках руку, буду вновь и вновь расспрашивать, как они тут жили без меня. Я рад, что мама продолжает получать за папу пенсию и сестра сейчас получает пенсию на детей, что они держат коз и картошка у них своя. Это здорово, что мама не нуждается. Меня лишь тревожит ее сердце: маме уже шестьдесят четыре, и она все чаще принимает лекарства.
Вечером, отдавая дань обычаю, неукоснительно соблюдаемому здесь, захожу к соседям побеседовать. О моем приезде узнали ребята, в одно время со мной поступавшие в армию, и меня зовут в общежитие. Лесорубы, трактористы, конторские служащие — все жители этого лесного поселка пьют только водку. Нельзя нарушать обычаев: надо вылить с ними за встречу. Водку они пьют стаканами. Ну, что же, попробуем стаканами. Один из этих ребят, бухгалтер, бывший младший лейтенант, влюблен в мою сестру. Ладно, выпьем: это — дело серьезное. Как я себя чувствую? Отлично, друзья! Поехали дальше. Лица краснеют, улыбаются — все довольны. А я, кажется, опьянел. Но это ничего, потому что я у себя дома. И потому что справедливость на этом свете, ребята, все-таки есть!
2
Рядом с нами живет плотник дядя Паша. Он занимает половину нашего дома, пожалуй, лучшего в поселке. Высокий, костлявый и уже немолодой, дядя Паша все время трудится. Все время или с топором, отточенным и направленным, как бритва, или с рубанком, или с ножовкой — я всегда вижу его за работой. Для лесопункта он изготовляет сани, дома мастерит топорища, полочки, табуреты. В одной из ого комнат стоит верстак, на полу постоянно стружка, кудрявая и пахучая. А лотом — хозяйство. У дяди Паши поросенок, куры, две овцы. Они в основном на попечении его жены, но дядя Паша часто и сам задает корм, выгребает навоз, замешивает пойло. Работяга невероятный!
И при этом ласковый. Голос у него слабенький, как у больного, обращение обходительное; он будто с небольшим глушком, как и его жена, но я еще до фронта, прожив несколько месяцев под одной крышей с дядей Пашей, убедился, что он все отлично слышит. К тому же он знает не только плотницкое и столярное дело. В молодости дядя Паша работал счетоводом и прочел немало умных книг — об этом тогда же, до фронта, рассказывала мне его дочь, моя сверстница.
В первый день нового, 1947 года, опять же следуя здешним добрым обычаям, я, как младший сосед, иду с поздравлениями к старшему — дяде Паше.
— Здравствуйте. С Новым годом! — обращаюсь я вначале к хозяйке, встречающей гостя у порога.
— И вас также! Милости просим, — с вежливым поклоном отвечает она, потопив в круглых румяных щеках масленые глазки.
— С Новым годом! Здравствуйте, дядя Паша! — приветствую я хозяина, проходя в большую комнату.
— С Новым годом, с Новым годочком! Здравствуйте! — отвечает он приятно.
Сегодня дядя Паша не работает. Сидит на лавке, причесанный, в чистой, почти новой рубахе, и руки его с очень большими темными кистями отдыхают на острых коленях.
Садиться надо без приглашения. Вошел, снял шапку и сразу садись. Так полагается.
— Мороз, — говорю я.
— Да, заморозило нынче, морозик. Дак ведь пора уже и по времени, пора быть морозцу, да.
— Пора, — соглашаюсь я совершенно. — Середина декабря по старому стилю. Самый разгар зимы.
Поговорить о погоде тоже полагается. А теперь — о здоровье.
— Самочувствие, дядя Паша, не жалуетесь?
— Дак ведь что жаловаться? Похварываем со старухой, похварываем, со здоровьишком весьма неважно. Вы как?
— Спасибо, пока ничего.
— Матушка?
— Ничего. Сердце, знаете, у нее не совсем.
— Да, сердце, сердечьишко. Дак ведь и лета уже, да и пережито немало, надо сказать.
Он справляется еще о здоровье сестры (хотя видит ее каждый день), я — о здоровье его дочерей, вышедших замуж и живущих теперь в другом месте, и визит вежливости можно считать оконченным.
Однако уйти не удается. Хозяйка, все так же пряча в круглых щеках блестящие глазки, подносит нам с дядей Пашей по стопке и ставит на стол миску с отборными солеными рыжичками.
— Попробуйте, не побрезгайте. Наливку сама делала, на брусёнке, рыжики тож сама собирала.
— Спасибо. Стоит ли беспокоиться?
— Просим, просим, — говорит, как поет, дядя Паша. — Пожалуйте!
Мы переходим к столу. Хозяйка приносит ржаных лепешек, ложки и садится в сторонку, радушно сияя лицом.
Им хочется что-то выпытать у меня: прежде обходилось без наливки — своих соседей я знаю все-таки достаточно.
Мы выпиваем, закусываем. Дядя Паша снова наполняет стопки.
— Не писали вы долго матушке, очень ведь продолжительное время не писали, четыре года, считай.
— Я в плену был, дядя Паша, — говорю я прямо. С чего бы мне это скрывать, что я был в плену?
Он, поперхнувшись, опускает стопку. У хозяйки застывает на лице странная улыбка, словно ее попросили улыбнуться перед фотообъективом и затянули выдержку.
— Разве вы не знали?
— Дак ведь как сказать вам… вроде в последний год матушка ваша и повеселее стала, а все не то. Все ждала.
— И еще проверку пришлось проходить после плена. Поэтому и не писал.
— Так, так, — произносит слабенько дядя Паша. Ему, по-моему, уже и выпивать не хочется: он хотел выведать, что и как, искусным разговором, а я взял и бухнул сразу.
— Так, — повторяет он. — А проверка, позвольте полюбопытствовать, при воинских частях или…
— Нет, в лагере. — Меня внезапно осеняет. — А что, кто-нибудь из ваших родственников пропал без вести?
Дядя Паша поднимает стопку, делая вид, что не расслышал моего вопроса.
— Так… Ну, дак за возвращеньице, за радость вашей матушки!
Мы опрокидываем еще по стопке, и крепкая брусничная наливка ударяет в голову.
— Вы не ответили на мой вопрос. Кто-нибудь из ваших родных попал в плен?
— Ты бы, старуха, подбавила грибков-то нам.
— Пожалуйста, — говорит та и поспешно уходит за перегородку.
А меня уже зло берет: что он, черт, притворяется глухим — преступление это, что ли, если человек был в плену?
— Бывшие пленные приравнены в правах к демобилизованным. Есть специальное разъяснение Верховного суда СССР. Не читали?
— Как же, как же! Хоть и бедновато живем, а газетки выписываем, — отвечает дядя Паша. — Следим по мере возможности, да… Тоже вот у знакомых один пропал, как вы говорите, без вести, потом объявился, а потом похожий случай: не пишет, долгонько уже не пишет.
— Напишет, дядя Паша. Если честный человек — объявится еще раз.
— Так-то так, — произносит слабым голоском дядя Паша. — Вот жизнь-то как теперь у вас дальше пойдет? Затруднений каких не будет ли?
— Все будет нормально. И даже очень хорошо, — говорю я, вспомнив про обед у Володькиного дядьки. — Все будет в порядке, дядя Паша, не волнуйтесь…
И я ставлю свою стопку вверх донышком: сыт и доволен, значит.
3
На другой день я вместе с сестрой еду в райцентр. Мне надо получить паспорт и военный билет в обмен на справку, выданную мне в управлении лагеря. У сестры свои дела в райздраве и райкоме партии.
Моя сестра молодец. Она внештатный пропагандист и, кажется, член пленума райкома. Ее детские ясли — из лучших в районе. Несмотря на свои двадцать четыре года, она мать двух детей (это тоже не просто: растить без отца двух детей). Вообще молодчина, и я с детства дружу с ней.
На попутном мотовозе мы добираемся до станции с бревенчатым полувокзальчиком-полусторожкой, через полчаса пересаживаемся на почтовый поезд. Ехать нам недолго, и мы не заходим в вагон, остаемся в тамбуре.
— Путешественник, — смеется сестра. — Признаться, что я о тебе сейчас думаю? Что ты все, все врешь, и нигде ты не был, и все только выдумал.
— Конечно, выдумал.
— Нет, правда. Вот смотрю на тебя и по глазам вижу, что врешь. Ну, скажи: врешь?
— Вру.
— Ну, зачем ты врешь?
— Чтобы было интересно. Австрия, антифашистское подполье в концлагере — разве это не интересно?
Сестра не отвечает.
Шутки шутками, а я и впрямь начинаю подозревать, что она не совсем верит тому, что я рассказываю. Может, оттого, что в детстве я действительно был большим выдумщиком и она знает меня таким, а может, оттого, что в то, о чем я рассказываю, просто трудно поверить. Хотя рассказываю я далеко не все: о самых страшных вещах, щадя маму, я умалчиваю.
— Ладно, не надувайся, пожалуйста, — примирительно говорит сестра.
— Я не надуваюсь. Я просто думаю, что нет и никогда не будет пророков в своем отечестве.
— Ах, ты еще и пророк! — Она насмешливо-любовно смотрит на меня большими голубыми глазами.
— Я в переносном смысле, ты прекрасно понимаешь, о чем я… А будешь насмешничать — отлуплю. Забыла?
Ей нередко попадало от меня. Однажды, спасаясь от моих тумаков, она выпрыгнула в окно и угодила в ящик с томатной рассадой, поломав хрупкие, нежные растеньица. В жизни не забуду выражения отчаяния на ее лице — бесконечного отчаяния и обиды. Я и сейчас, вспомнив об этом, не могу удержаться от улыбки.
А сестра вдруг тяжело-тяжело вздыхает.
— Было и прошло… А как все хорошо было!
Райотдел милиции и райвоенкомат расположены по соседству в одинаковых, стандартных деревянных домах. В том и другом доме стоит одинаковый, особый казенный дух, состоящий из запахов хлорки, папиросного дыма и лежалых бумаг. В милиции пахнет еще свежей олифой и прелыми, полушубками — не знаю, почему.
Я пишу заявление с просьбой выдать мне паспорт и, к немалому своему удивлению, почти тут же получаю его. Никаких лишних вопросов, никакой волокиты: сдал заявление, две фотокарточки, справку из лагеря, — и пожалуйста: через полчаса у меня в руках твердая темно-зеленая книжечка с печатями и номерами. Паспорт. Мой паспорт гражданина Советского Союза!
— Спасибо, — говорю я девушке в окошко.
— Пожалуйста, — отвечает она по-нашему, по-северному, произнося раздельно каждую буковку: не «пажалста», а именно «пожалуйста». Наверно, на моем лице появляется что-то примечательное, потому что девушка задерживает на мне взгляд и любезно добавляет: — Можете сейчас и прописку оформить. Где будете прописываться?
— Я в Москве буду прописываться. Она уважительно глядит на меня.
— Женитесь там или по вызову министерства?
— Ни то, ни другое. Я буду жить у сестры.
— А-а! — И девушка отводит глаза в сторону, будто ей внезапно отчего-то становится неловко. — Ну, дак счастливенько вам.
— Еще раз спасибо. До свидания.
Потом я иду в военкомат. Опять пишу заявление, прилагаю к нему две фотокарточки и свой новенький паспорт.
Меня просят подождать. Я усаживаюсь на деревянный диван в коридоре и жду. Отчего же не подождать?
Минут через двадцать приглашают. Я останавливаюсь около деревянного барьера. По другую сторону его за столом — девушка, очень похожая на ту, что была в окошке в милиции.
— Рост? — спрашивает она, приготовившись записывать.
— Сто шестьдесят семь, — бодро отвечаю я.
— Окружность головы?.. Размер противогаза?.. Размер обуви?..
Девушка задает еще довольно много вопросов: где я проходил службу, какие должности занимал, имел ли ранения, — записывает все в анкетку и снова просит подождать в коридоре.
Я опять опускаюсь на диван. Я почему-то уверен, что сейчас из военкомата звонят в Москву, в какой-нибудь центральный справочный отдел Министерства вооруженных сил, и оттуда, из справочного отдела, порывшись в картотеке, сообщают сюда, в райвоенкомат, что все правильно: старший сержант такой-то действительно служил в таком-то стрелковом полку, а затем в штабе дивизии, тогда-то был ранен, а тогда-то контужен и взят в плен. Я даже испытываю удовольствие при мысли, что сейчас обо мне разговаривают с Москвой.
— Войдите, — приоткрыв двери, приказывает девушка.
Опять подхожу к барьеру.
— Распишитесь. — И она подает мне развернутую книжечку и ручку с обмакнутым в чернила пером. — Гам, — говорит она, — в графе «Личная подпись владельца».
Я ищу эту графу, и глаза мои натыкаются на слово «солдат», затем ниже — «рядовой».
— Простите, — говорю я, — тут вкралась ошибка.
— Где? — спрашивает девушка.
— Я но рядовой, а старший сержант, я же говорил вам, и вы, по-моему, правильно записали в анкету — «старший сержант».
Я улыбаюсь, мне не хочется огорчать девушку: ей, наверно, может влететь за испорченный бланк, исправления ведь в таких документах не допускаются.
— Никакой ошибки нет, — холодно отвечает девушка. — Расписывайтесь. А хотите — обратитесь к начальнику.
Из соседней комнаты входит пожилой капитан.
— В чем дело?
Я взглядываю на девушку, все еще боясь подвести ее и не понимая, почему она посылает меня к начальнику, но вошедший капитан, я догадываюсь, и есть начальник, и мне ничего не остается, как доложить о допущенной ошибке.
— Все точно, — заявляет капитан. — У вас нет документов, подтверждающих, что вы были старшим сержантом.
— Но позвольте, остальные же сведения записаны правильно.
— А мы все записали с ваших слов. А вот с военным званием — другое дело. Пока вы рядовой. Пока не получим официального подтверждения, будете рядовой.
Странно, думаю я. Значит, никакого телефонного разговора с министерством не было, все записано только с моих слов. Но почему же для военного звания исключение?
— Расписывайтесь, — говорит девушка.
И я расписываюсь, обиженный и удивленный.
Конечно, если бы мне пришлось получать военный билет в Москве, то меня не разжаловали бы в рядовые: там под боком и Министерство вооруженных сил и Министерство внутренних дел, где можно навести все справки.
Но в Москве я не стал получать ни паспорта, ни военного билета: я очень спешил к маме на Север.
4
Месяц домашней жизни пролетает, будто один день, и вот снова, как пять с лишним лет назад, я прощаюсь перед отъездом с мамой.
— Помнишь, что ты сказала мне тогда напоследок? — говорю я, держа ее небольшие попорченные ревматизмом руки в своих руках.
Она немного виновато качает головой: не помнит.
— Ты мне очень помогла теми своими словами…
— Что же? — тихо и грустно спрашивает мама. Ей в глубине души так не хочется, чтобы я уезжал.
— А что бы ты пожелала, если бы я снова уходил на войну?
— Что? — Мама чуть задумывается и отвечает мне почти теми же словами, что и тогда, в ноябре сорок первого: — Чтобы ты всегда был честным, это, по-моему, главное…
Помню, в тот раз мне хотелось, чтобы мама просила меня поберечь себя. Но это в тот раз. А теперь… горячая нежность заполняет мою душу, нежность и удивление. Откуда знает она, старенькая мама, полжизни прожившая среди лесов, что главное для человека — это всегда быть честным, то есть поступать по совести, так, как велит внутреннее понимание долга? Ведь даже смерть не страшна, а точнее, тебе лишь тогда удается победить страх перед смертью, когда совесть спокойна, когда ты понимаешь, что честно исполнил свой долг. Не в том ли весь опыт мой, опыт тех лет, что я на своем горбу проверил истинность этой старой истины?
— Мама, — говорю я, — ведь ты неверующая?
— Да, — отвечает она. — Уже давно неверующая. Я в душе коммунистка, ты знаешь. Почему ты об этом спрашиваешь?
— Может, мне все-таки повременить с отъездом, поработать до лета здесь? Еще не поздно.
— Нет, нет. В Москве у Кати ты лучше подготовишься в институт, поступишь на какое-нибудь подготовительное отделение или курсы, как это там. Ты ведь многое забыл, сам признался. Не надо менять, что обдумали и решили.
Она, конечно, права. Но как же не хочется расставаться с ней!
— Поезжай, — силясь улыбнуться, кивает мама. — Иди, а то опоздаешь на поезд.
— Я тебе пришлю ландышевые капли, — поборов какое-то оцепенение, говорю я и встаю. — Ну, не на войну же я теперь, мамочка, — добавляю я, заметив, как начинают дрожать ее губы. — Ну видишь, какая ты…
— Подожди, — шепчет она. — Может быть, это в последний раз. Наклонись!
И она, неверующая мама моя, благословляет меня. Неожиданно, даже для себя самой неожиданно, мне кажется.
— Будь, как папа!
С этим ее напутствием я и ухожу, просветленный и расстроенный, дав себе слово при первой же возможности — как только заработаю немного денег — вновь приехать повидаться с ней.
Сестра ожидает меня на линии, машет рукой. Она собирается проводить меня до станции.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
1
— Не можем, дорогой товарищ, не можем… У майора милиции хорошее лицо, особенно глаза, и глаза говорят больше, чем его слова; я вижу даже будто какую-то затаенную муку в его глазах, и до меня никак не доходит смысл этого «не можем».
Вернее, какой-то частью сознания я понимаю, что означает «не можем»: меня не могут прописать в Москве, и это серьезная неприятность, но другая часть сознания, вероятно, более сильная и по инерции еще радостная, подавляет ту, первую, и мешает полностью уразуметь смысл того, что говорит мне майор.
— Вот же форма, комендант подписал, и заявление родственников, и размер жилплощади позволяет, — продолжая улыбаться, говорю я и чувствую, что это уже глупо — улыбаться.
Однако майор снова берет форменный листок, подписанный комендантом общежития, заявление Петра Николаевича, придвигает к себе мой паспорт и снова углубляется в чтение, словно надеясь вычитать там такое, чего прежде он не заметил.
Я напряженно слежу за его лицом. Он напряженно потирает подбородок, шурша щетинкой, и опять поднимает на меня глаза, в которых будто какая-то мука.
— Нельзя.
— Но почему, товарищ майор?
— Почему да почему… — Он вдруг быстро и странновато улыбается и говорит: — Забирай документы и иди устраивайся на работу. Устроишься — возможно, пропишу на свою ответственность.
И тут же опять делается хмурым, а ведь хороший человек, я вижу, хотя чего-то и не договаривает, и мне непонятно, почему даже после того, как я устроюсь на работу, он пропишет меня все-таки на свою ответственность.
Но я уже снова бодр и полон надежд — такой, каким я и вошел сюда, в этот залитый солнцем кабинет начальника- паспортного стола. Устроиться на работу — это пустяк, я уже почти устроился на работу!
…Пал Палыч сидит в проходной будке и через окно наблюдает за погрузкой дров. Во дворе, обнесенном тесовым забором, стоят три полуторки, несколько мужчин и две женщины в холщовых фартуках закидывают в кузова машин тяжелые осиновые плахи.
— Привет, Пал Палыч!
— Привет. — Он подает мне через стол могучую волосатую руку.
Он заведующий дровяным складом и хороший знакомый моего зятя. Мы с Пал Палычем уже договорились в принципе, что он возьмет меня на должность кладовщика-учетчика: это место как раз недавно освободилось.
— Пришел оформляться, — говорю я.
— Давай. А то все сам. И за рабочими пригляд. И поставщики — мошенники. Разрываюсь. С пропиской готово? — Пал Палыч говорит отрывисто и все время отдувается: то ли жарко ему, то ли астматик.
— Почти, — отвечаю я. — Сейчас я прямо от начальника паспортного стола. Сказал, что пропишет, как только устроюсь на работу.
— Понятно. — Пал Палыч толкает форточку и кричит наружу громовым голосом (он бывший боцман). — Эй, березу не трогать! Отставить!
Один из рабочих, ухвативший было сухой березовый горбыль, не оглядываясь, бросает его и трусит обратно к штабелю с осиной.
— Мошенники! Глаз нельзя спускать, — отдувается Пал Палыч и кладет могучую руку на узкий обшарпанный стол. — Иди. К этому самому паспортному начальнику. Скажи ему, что берут. Конкретно и точно. Кладовщиком-учетчиком на дровяной склад номер три. Мое слово — олово.
— А нельзя ли вначале оформиться?
— Нет. Отдел кадров не пропустит. Пусть хоть наложит резолюцию: «Прописать». Тогда оформлю. Немедля… Плуты! — Последнее относится к рабочим, которые кинули-таки березовую дровину в кузов полуторки. Пал Палыч долбит в стекло, грозит пальцем и опять поворачивается ко мне. — Иди. И поживей. А то сам видишь: разрываюсь…
Трамвай доставляет меня вновь к красивому серому дому, в котором помещается отделение милиции. Начальник паспортного стола ушел обедать. Я решаю подождать его в приемной.
Ничего, думаю я. Раз Пал Палыч сказал, что возьмет, значит, возьмет. Слово — олово. Теперь майор не откажет.
И еще я думаю, что, наверно, надо быть понастойчивее. Ну, что было бы, если бы, услышав от майора «не можем», я повернулся бы и ушел? Тогда он ничего не сказал бы насчет работы, и я не поехал бы к Пал Палычу… Настойчивость и терпение!
Майор, не глядя на меня, хотя в этот час я один в приемной, проходит к своему кабинету и плотно затворяет за собой дверь.
Не очень любезно, но я не привык к любезностям. Ничего. Я негромко стучусь в дверь:
— Разрешите?
— Заходи! — Майор вешает шинель на стоячую никелированную вешалку и, не снимая шапки, садится за стол.
Я достаю из кармана форменный листок для прописки и остальные документы.
— Товарищ майор, — говорю я, — меня оформляют кладовщиком на дровяной склад номер три. Я только что оттуда.
— Быстро, — одобрительно замечает майор.
— А у меня была предварительная договоренность, так что теперь все зависит от вас.
Майор уже протягивает руку за моими документами, но на полпути останавливается и той же рукой, которой он хотел взять документы, берет из разорванной пачки «Беломора» папиросу.
— Справку с места работы принес?
— Нет еще. Меня просил передать вам заведующий складом, что, как только вы наложите резолюцию: «Прописать», — он немедленно оформит меня. Он не обманывает, товарищ майор, честное слово. Ему очень нужен помощник.
Лицо майора чуточку темнеет. Он молчит.
— Так что жег — говорю я. — Вы же сами сказали: устраивайся…
Он молчит.
— Разве что-нибудь изменилось?
— Дорогой товарищ, — медленно произносит майор, глядя в стол. — Наивный вы товарищ… Мне справка, справка нужна! Вот к остальным этим вашим бумагам. Не могу я без этой справки. — Он поднимает на меня хмурые глаза, и я снова вижу в них какую-то муку. — Обратитесь в райотдел милиции. Лучше всего к заместителю начальника: он добрый мужик, — прибавляет майор.
2
Заместитель начальника райотдела милиции уже собирается уходить: приемные часы окончены. Я в нерешительности топчусь перед полуоткрытой дверью, пока он сам не кивает мне: и правда, добрый мужик.
— Что-нибудь, конечно, срочное? Горящее? — ворчливо спрашивает он и опять опускается за стол.
Этот стол не письменный, а простой, на четырех ножках, только крышка обтянута синим сукном. И садится заместитель начальника почему-то не за длинную сторону стола, а сбоку.
— А где отказ? — спрашивает он, взглянув на форменный листок.
— Видите ли, — объясняю я, — тут не совсем обычный случай. Мне и не отказывают и в то же время не прописывают. Дело в том, что для прописки необходима справка с места работы, а справку я могу получить лишь тогда, когда пропишусь, потому что, вы понимаете, без прописки отдел кадров не пропустит, хотя у меня и есть твердая договоренность с руководством по поводу работы.
— Ясно, — говорит заместитель начальника. Он достает трубку, набивает ее душистым табаком, зажигает спичку.
Комната наполняется приятным медовым ароматом. Очень приятный дым. И заместитель начальника очень приятный. Он подполковник, и он почему-то не в синем милицейском кителе, а в зеленом.
— Военный билет у вас при себе?
— Пожалуйста.
— Садитесь. Что же вы стоите? — Голос у него тоже приятный, ровный, лицо интеллигентное. На лице мягкая усмешка, добрая.
Он листает книжечку моего военного билета, не вынимая трубки изо рта и часто выпуская клубочки медового дыма. Он подполковник МВД, это я вижу по его форме, я только не понимаю, почему он работает в милиции. И это хорошо, что майор направил меня к нему подполковник МВД, конечно, знает, что такое Маутхаузен, — у меня в военном билете в графе «Особые отметки» написано, что я «содержался» в концлагере Маутхаузен.
Но заместителя начальника, похоже, не интересуют мои особые отметки. Он возвращает мне военный билет и, мягко улыбаясь, говорит:
— Мой сын в сорок первом тоже удрал на фронт, семнадцати неполных лет. Тоже хватил горя парень. Вернулся без руки… Но как бы помочь вам?
Он попыхивает трубкой и задумчиво барабанит пальцами по столу. Я чувствую, что ему хочется помочь мне.
— А вы не смогли бы позвонить майору или заведующему дровяным складом? — пытаюсь подсказать я.
— Какому заведующему дровяным складом?
— Ну, куда меня оформляют на работу.
— Нет, это не годится. Да и не в этом суть. — Заместитель начальника выбивает трубку о край чугунной пепельницы, потом, немного щурясь, смотрит на меня. — Вам двадцать два года?
— Да, уже двадцать два.
— Уже! — грустновато усмехается он. — У вас еще все впереди, вся жизнь. Вы только начинаете… а начало редко бывает легким. И ваше дело с пропиской нелегкое. Совсем нелегкое. Давайте попробуем так: отказа писать я вам тоже не буду, а вы завтра утром пойдете на Петровку в управление милиции и поговорите там. Я вам обещаю позвонить туда, потому что без отказа райотдела вас могут не принять. Сделаем пока так…
Я ухожу не очень огорченный. Это «пока» сохраняет во мне надежду. Надо лишь потерпеть. А терпеть я, кажется, умею.
В просторной приемной на Петровке командует невысокого роста худощавый пожилой ефрейтор с орденом на груди. Своим лицом и голосом он напоминает мне капитана Пиунова. И такой же энергичный. И белки глаз чуть воспалены, будто он только что из блиндажа, где при свете коптилки корпел над оперативными сводками.
— Продвигайтесь, продвигайтесь, граждане, продвигайтесь! — командует ефрейтор. — У вас отказ есть? Оч-чень хорошо! Что? Права? Права вы свои знаете, а вот обязанности — не всегда.
У него хорошая дикция, на кителе орден, и кажется несколько ненормальным, что он всего-навсего ефрейтор. Надень на него капитанские погоны, и он, по-моему, сойдет за капитана. У него начальственный тембр голоса, уверенные жесты, и ведь это тоже чего-нибудь да стоит — его высказывание насчет прав и обязанностей граждан: «Права вы свои знаете, а обязанности — не всегда».
Уверенно постукивая каблуками, он пересекает наискось приемную и снова командует:
— Продвигайтесь, продвигайтесь! Отказ есть? Предупреждаю: без отказа не примут. Продвигайтесь, граждане.
И граждане продвигаются, вдоль стен. Сядут на стул, посидят с минуту и пересаживаются на следующий по порядку. Посидят на следующем и опять пересаживаются.
Получается культурно и, главное, не утомительно. Все время чувствуешь движение, чувствуешь, что ты ближе и ближе к цели.
Но вот мой черед. Я вхожу в светлую комнату и вижу два стола, за которыми трудятся два капитана, один черноволосый, другой блондин.
— Садитесь, — приглашает меня блондин. Поблагодарив, я сажусь.
— Документы… Ага. Это относительно вас звонили из райотдела, просили прописать в порядке исключения, — говорит он. — Так вот, отказ. Сейчас я напишу вам.
Он берет из розовой стопки бумаг какую-то карточку и аккуратно обмакивает кончик пера в чернила.
— Подождите. Почему отказ?
— Потому что отказ, — отвечает капитан-блондин и аккуратно вписывает что-то в розовую карточку. Затем берет мой форменный листок и в верхнем левом углу его пишет то же самое, это я вижу по движению его пера. — Если же вы не согласны, — не отрываясь от писания, продолжает капитан, — вы имеете право обратиться в наше министерство или даже в Верховный Совет. Это — ваше право.
— Простите, — говорю я, ошеломленный («Машина какая-то, а не человек!»), — простите, но почему отказ? Имею я право знать, почему вы мне отказываете?
— Вот, прошу! — И, спрятав форменный листок в свою папку, капитан скалывает скрепкой остальные мои документы вместе с розовой карточкой и кладет на край стола.
— Почему же? — настаиваю я. — Вы прочтите заявление моего родственника Кудрявцева, я у него и до войны жил. Я собираюсь поступать на подготовительные курсы, а потом в институт, и пока, конечно, придется работать. Куда же мне еще?
— Поезжайте туда, откуда приехали, — невозмутимо говорит капитан-блондин. — Где вы были до Урала?
— В Маутхаузене.
— Вот и езжайте… Постойте, это у немцев Поволжья?
— Это фашистский концлагерь, — недовольно покосившись на своего коллегу, говорит другой капитан, черноволосый.
Но капитан-блондин ничуть не смущается.
— В общем, это ваше, гражданин, дело куда ехать. Прошу не задерживать очередь.
3
Володька опаздывает. Я ожидаю его у кинотеатра «Ударник», как мы условились по телефону. Я жду, что он появится справа, со стороны моста — он живет в Замоскворечье, — но он появляется слева. И в первый момент я даже не узнаю его.
— Ты что, не из дома? — Я гляжу на него и стараюсь понять, какая перемена произошла в нем, почему я сразу не узнаю его.
— Из дома, только я сел в метро, а от Библиотеки Ленина на троллейбусе. Неохота было тащиться пешком по морозу, — говорит Володька. — Ты чего так смотришь? Пошли, тут недалеко забегаловка.
У него в, глазах обида, вот что! Опять, как на Урале, обида… И шапка не пыжиковая, а старая, лагерная.
— Ты поссорился с родными?
— А ну их! Давай сюда…
Мы спускаемся по обледенелым ступеням в закусочную, заказываем пиво, винегрет и проходим к дальнему столику.
— Жалко, что поссорился, — говорю я. — Мне отказали в прописке, и я как раз хотел посоветоваться с твоим дядькой. А из-за чего поссорился? Как твои дела?
Володька усмехается. В глазах обида.
— Я до сих пор паспорта не получил.
— Ты?!
— Понимаешь, это такой трус! В отделение милиции он со мной еще сходил, в райотдел тоже: тетка заставила, — а дальше ни в какую…
Я смотрю на Володькины обиженные глаза, на его кургузую лагерную шапчонку и чувствую, что у меня в горле начинают сами по себе сжиматься и разжиматься какие-то мышцы: меня разбирает смех. Неудержимый, нарастающий смех, переходящий в хохот.
Эти обиженные глаза и шапчонка из поросячьего меха — помереть можно!
— Не сердись, — говорю я, давясь от хохота, и никак не могу остановиться. И никак не могу не смотреть на его облезлую шапчонку и особенно на его глаза, в которых обида.
Племянник члена коллегии министерства!
— Слушай, — говорю я, вытирая слезы, — это, наверно, нервы, не сердись. Слушай, тебя на Петровке не посылали туда, откуда ты приехал?
— Посылали, — без тени улыбки отвечает Володька. — У меня отец и мать погибли в первые дни войны, я тебе, по-моему, рассказывал, попали под бомбежку при эвакуации; я тогда был у брата в Куйбышеве, писал этюды… Я и говорю им, на Петровке: ни родителей, никого из близких у меня больше нет в Риге, куда я поеду? Поезжайте, говорят, туда, где проживают ваши родители в настоящее время…
Володька вздыхает, рассеянно ковыряя вилкой винегрет.
— Кто разговаривал с тобой? Не капитан-блондин? — спрашиваю я.
— Да, блондин. Капитан, точно. Блондин-автомат… Что теперь думаешь делать?
— Пойду в министерство или в Верховный Совет. Надо добиваться.
— Напрасная трата сил. Тетка мне тоже не советует — с министерством. Они все дрожат перед этим министерством.
— А я, признаться, думал, что твой дядька может запросто поднять телефонную трубку и поговорить с каким-нибудь начальником главка того министерства, а то при случае и с самим Берия, верховным опекуном бывших военнопленных.
— Что ты! Берия для них страх господний и еще хуже… Нет, дружище, придется сматывать удочки.
— Ты считаешь?
— У брата большая семья и маленькая комната, но делать нечего. Приютит на первое время… А мой дядька, он вообще неплохой, его тоже можно понять. Персональный оклад, машина — тоже ведь не хочется лишаться из-за кого-то.
— Да что мы, преступники? Володька цепляет на вилку колечко лука.
— Не знаю, кто мы. Знаю только, что надо сматываться.
Я этого еще не знаю. Уехать долго ли? А с чем уехать? Что повезти с собой? Новые сомнения?
— Или жениться, — говорит Володька, показывая глазами на смазливую буфетчицу. — Взять себе вот такую… за прилавком. Тогда, наверно, и прописка будет обеспечена, и постель, и пиво бесплатное.
— Это гениальная мысль, Володя, — говорю я. — Пойдем куда-нибудь, где потеплее и посветлее, обсудим эту твою весьма ценную мысль. — Меня начинает опять разбирать дурацкий смех.
— А куда?
— В «Националь» или в «Москву»… Володька хмурится.
— Праздник окончен. От денег на карманные расходы я тоже отказался. Так что все…
4
Тихий вечер. Петр Николаевич сидит на кушетке, прислонившись спиной к стене. На коленях у него младшая дочка. Сосредоточенно, маленькими пальчиками крутит она большие, с якорями, пуговицы, расстегивая отцовский китель. Расстегивает, а потом опять застегивает. Очень углубленно, сосредоточенно — и молчит. Петр Николаевич жмурится, его тянет в дрему.
Старшая дочка готовит уроки. Сестра тихонько играет на пианино, что-то из «Времен года», не играет — священнодействует. Она воспитана на Глинке и Чайковском.
Я пишу письма маутхаузенским друзьям: Валерию и Ивану Михеевичу в Ленинград, Порогову в Кировоград, полковнику Иванцову в Омск. Перед тем, как двинуться в последний бой — пойти насчет прописки в министерство, — я на всякий случай подготавливаю отступление. Если мне и в министерстве откажут, то я последую примеру Володьки и уеду, уеду к кому-нибудь из старых друзей.
Я заклеиваю конверт, надписываю адрес — в дверь квартиры раздается негромкий, но уверенный стук.
Петр Николаевич, не отрывая затылка от стены, поворачивает голову к двери; Чайковский умолкает, сестра накидывает на плечи платок.
— Хочу гулять, — заявляет младшая дочка.
— Можно? — Ив комнату входит комендант общежития, а за ним участковый уполномоченный милиции.
— Здравствуйте, — говорит комендант.
— Здрасьте, здрасьте, — быстро отвечает Петр Николаевич и, поднявшись, уносит дочку в другую комнату.
Сестра опускает крышку пианино. Старшая дочка подхватывает тетради, чернильницу и тоже уходит в другую комнату.
— Побеспокоили вас, извините, — говорит комендант сестре и показывает участковому на меня.
— Документики, — говорит мне участковый.
У него круглое розовое лицо с чуть насупленными белыми бровями, в которых начальственная строгость.
Я вынимаю из кармана паспорт и военный билет — они всегда при мне.
— Проживаете без прописки? Разрешите стул, — говорит участковый.
Он садится к столу и достает из планшетки какие-то бланки. Сестра, нервно поеживаясь, кутается в платок.
— Я хлопочу насчет прописки. Завтра собираюсь в министерство.
— Долго хлопочете. Срок истек. — Участковый показывает мне форменный листок, тот самый, который оставил у себя на Петровке капитан-блондин.
— О сроках меня не предупреждали, я не знал.
— Вы грамотный? Читать можете? Ваше фамилие?
— Да вот же перед вами паспорт.
— А вы что, не желаете отвечать? Фамилие? — возвысив голос, повторяет участковый.
— Научитесь хоть это слово-то правильно произносить, — говорю я и называю свою фамилию.
Он, изготовившись было писать протокол (теперь я вижу, что у него бланки протоколов), откладывает карандаш в сторону.
— Это еще что за разговорчики? Проживаете без прописки и еще отвечать? Сейчас оштрафую и в двадцать четыре часа из Москвы, чтоб духу твоего тут не было!
— Товарищ Нефедов, — говорит комендант, — разреши мне его на пару слов.
— Можно, — буркает участковый.
Комендант отводит меня в сторону, к трепещущей, до полусмерти напуганной сестре.
— Давай, тащи пол-литра, — шепчет комендант.
— Зачем? — шепчу я и вижу, что участковый, снова вооружившись карандашом, что-то медленно и усердно пишет в протоколе.
— Тащи, не рассуждай.
— Но… — заикается сестра.
— Давай! — Комендант подталкивает меня в спину и выпроваживает из комнаты.
До сих пор он был доброжелателен ко мне, он с уважением относится к Петру Николаевичу и сестре, и у меня нет оснований думать, что комендант готовит какой-то подвох. Накинув пальто, я бегу в чайную и возвращаюсь через четверть часа с поллитровкой в кармане.
Участковый все пишет. Комендант о чем-то вполголоса разговаривает с сестрой, чрезвычайно взволнованной.
Я делаю коменданту знак, чтобы он подошел ко мне, я показываю на свой карман, но он только машет рукой.
— Ставь на стол. На стол!
Несколько растерянный, я на цыпочках подхожу к столу, ставлю бутылку. Потом достаю из буфета два стакана и ставлю рядом с бутылкой. Потом оглядываюсь на коменданта: так ли? Он кивает: все, мол, правильно. Сестра, ни жива ни мертва, удаляется к своим в другую комнату.
— Ну, Степаныч, потрудился и хватит. Рабочий день окончен! — весело говорит комендант участковому и звучным шлепком по дну бутылки вышибает пробку.
— Нет, нет, — говорит участковый, но не очень уверенно.
— А где третий стакан? Есть еще стакан? — оборачивается ко мне комендант.
Я ставлю на стол третий стакан. Комендант, не спрашивая согласия, наливает всем поровну и провозглашает:
— Будем здоровы!
Привычно и- благодушно, как в компании добрых друзей.
Розовое лицо уже не розовое, а малиновое. Белые брови немного приспущены и выражают сосредоточенность.
— Не надоть было на Петровку ходить, — назидательно говорит мне участковый. — С твоей автобиографией не на Петровку, а в другое место. Возможно, тебя еще разок проверить хотят, каково было твое поведение: тоже ведь морока с вами, пленными… А Петровка что? Им дадены указания — и все. И отказ. Верно, комендант? И распоряжение участковому: проконтролировать. Правильно?
— Правильно, Степаныч. Но он, понимаешь, еще неопытен. Он на войне столько повидал, представить страшно, а здесь, как дите, ничего не смыслит. Беда!
— И с министерством не надоть, — продолжает свое участковый. — Уж ежели иттить, то на самый верх, там доказывать свои права. Они, бывает, скорее учитывают…
Он вздыхает и достает папироску.
— А бывает и так: до бога доберешься — апостол шею намылит, как говаривал покойник дедушка. — И участковый, прикурив, берется за шапку. — Плохое твое положение, молодой человек, очень даже плохое. Ну, да ладно, неделю еще даю, хлопочи, добивайся, а уж после не взыщи. Служба!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
1
Проходит неделя. Мои маутхаузенские друзья молчат. Я упаковываю рюкзак: вечером буду перебираться на вокзал. Я не хочу больше доставлять неприятностей сестре, буду ночевать на вокзалах. Я продержусь так еще три, четыре дня и, если за это время друзья не откликнутся, уеду в Одессу или в Крым, где нет сильных холодов. В последние дни я начинаю что-то крепко мерзнуть.
В Москве у меня остается несколько дел. Мне надо навестить семью Алексея Ивановича Муругова, зайти к Ампилогину и, если удастся, послушать оперу «Князь Игорь» в Большом театре. Вообще быть в Москве и не побывать в Большом театре — это, конечно, непростительно.
После обеда, часа в три, узнав у постового милиционера, как проехать в Лихов переулок, я отправляюсь к Муруговым. Выйдя из метро на площади Революции, я еду дальше на троллейбусе, и, чем дальше еду, тем сильнее охватывают меня разные сомнения: а может быть, семья Муруговых уже не живет в Лиховом переулке; может, и сам Муругое — это не Муругов, может, это его вторая, лагерная фамилия: большие люди, попав в плен, иногда по нескольку раз меняли фамилию; а может быть, и никакого Лихова переулка нет: мне только почудилось, что Лихов?
— Скоро будет Лихов переулок? — спрашиваю я кондукторшу.
— Через две остановки. Следующая — Петровские ворота.
Лихов… Странные названия в Москве, думаю я. Все странно, все не так, как ожидал!
Стекла троллейбуса обросли льдом. Холод. Стынет спина, стынут ноги. Сапоги Бахмайера ни черта не греют.
— Следующая — Каретный ряд.
Или Каретный… Какая старина! Как странно… Я еду к семье Муругова, а самого Алексея Ивановича уже давно нет, его расстреляли и сожгли, а я теперь еду к его семье, я должен исполнить его просьбу.
— Следующая — Лихов. Кто спрашивал Лихов?
Я выхожу из троллейбуса, и новые сомнения охватывают меня: это такой короткий переулок, что в нем не может быть дома № 8. Я ускоряю шаг, смотрю на таблички: не может быть здесь такого дома! И, однако, этот дом есть — очень высокий, темный каменный дом.
Я вхожу в открытый подъезд и спрашиваю у женщины в белом фартуке, есть ли здесь такая-то квартира, — я называю ее номер. Про себя я очень сомневаюсь, чтобы здесь была эта квартира — под тем самым номером, который назвал мне Алексей Иванович Муругов в зондерблоке в первых числах мая 1943 года… Есть, оказывается!
Я поднимаюсь по каменной лестнице и думаю: что же это происходит? Ведь вот я иду к жене или к матери Алексея Ивановича Муругова, героя, патриота, я должен сообщить о его трагической гибели, и я иду почему-тo как частное лицо. Почему же я частное лицо? И частное и, чувствую, какое-то нежелательное здесь, в Москве, лицо… Ведь там, в плену и в Маутхаузене, я выполнял сколько мог волю моего народа, моего государства — боролся, — я не был тогда частным, сторонним лицом. И сейчас это же не частное дело — извещать родных о смерти на войне их близкого, да еще героя! Это же государственное дело, и я выполняю его, и я постараюсь сделать так, чтобы родные почувствовали не только боль, но и гордость за Алексея Ивановича, за Родину, воспитавшую его. Как же так? Ведь я советский человек, свой, за что же ко мне плохо относиться? Странно!
На четвертой или пятой лестничной площадке я останавливаюсь передохнуть. И снова мысль: за что? А потом мысль: зачем, кому это надо?
Еще четыре или пять лестничных маршей, и я на нужном мне этаже. Мне хочется быть спокойным, и я становлюсь спокоен. Я нажимаю на кнопку у двери. Через минуту щелкает запор, и дверь чуть приоткрывается — она изнутри перегорожена железной цепочкой.
— Вы к кому?
— Семья Муругова здесь живет?
Низкий женский голос, спросивший: «Вы к кому?», — не отвечает.
— Алексей Иванович Муругов здесь жил?
— Подождите.
У дверной цепочки в полутьме (на лестничной площадке и в квартире полутьма: вероятно, экономят электричество) появляется еще кто-то.
— Вы к родственникам Алексея Ивановича? — спрашивает меня другой женский голос, повыше и понежнее: похоже, девушка.
— Да.
Дверь перед моим носом захлопывается, потом я слышу, как гремит цепочка, и дверь открывается совсем.
— Проходите, пожалуйста.
Невысокая женщина (или девушка) ведет меня через прихожую к полураспахнутой двери, и я вижу рядом еще в одной двери серую щелку и чувствую, что оттуда на меня смотрят.
— Раздевайтесь.
Я раздеваюсь и прохожу в комнату.
2
Она, эта девушка или женщина, небольшого роста, в красивом ярком халате, с тонкой талией, с красивым тонким смуглым лицом, У нее темно-карие глаза, немного настороженные и строгие, но очень красивые. И волосы, черные, волнистые, очень красивые. И в комнате так все красиво — чисто и строго.
— Значит, Алексей Иванович здесь жил, — говорю я, опять начиная волноваться. Я вижу вторую комнату, смежную с этой, вижу через полураскрытую дверь широкую тахту и ковер на стене. Там он, наверно, спал, тогда еще, в той, нормальной, довоенной жизни.
— Алексей Иванович жил здесь недолго, с год…
— Вы его жена?
— Нет. Садитесь, пожалуйста.
— Дочь?
— Нет, что вы! У него маленькая дочь, ей всего семь лет… Я племянница Алексея Ивановича. Вы присаживайтесь.
— Это хорошо, — говорю я, — что бы племянница. Я боялся, что мне придется разговаривать с женой или с матерью Алексея Ивановича.
— Почему вы не садитесь? — спрашивает девушка и тоже начинает волноваться. Она волнуется так: ее смуглое тонкое лицо делается неподвижным, точно застывает. Иногда люди волнуются именно так: в них будто что-то застывает. — Почему? — спрашивает она.
А у меня сейчас такое чувство, словно я должен ни за что ни про что ударить человека, должен и знаю, что ударю.
— Я знаю, — говорит девушка, — мы знаем, что Алексей Иванович попел в плен, ему оторвало на фронте ногу — правда? Мы недавно узнали, что он не убит, вначале была похоронная, а в прошлом году пришел человек, который был вместе с Алексеем Ивановичем в плену. Вы тоже были вместе с ним в плену?
— Где же его дочь и жена? — Я тяну, мне не хочется ударять: это неприятно и больно.
— Они живут на улице Горького, на его старой квартире… Он умер?
— Да, — отвечаю я. — Он расстрелян двадцать первого июня сорок третьего года в концлагере Маутхаузен.
Я ударяю. Хорошо, что это племянница, а не мать или жена. Я ударяю и сам чувствую нелепость и жестокость своего удара: пусть бы думали что просто умер.
— Он был мужественный человек, настоящий коммунист. Его отправили в Маутхаузен за то, что он организовал в лагере демонстрацию пленных первого мая сорок третьего года. Они построились и пели советский «Марш танкистов». Мы готовы были голыми руками рвать проволоку.
Я говорю это и вижу, что девушка сидит, закрыв лицо руками; локти упираются в стол, а черные волосы ссыпались на руки. На голове посредине тонкий пробор — кожа белая-белая, нежная, — и от него по обе стороны ссыпались волосы.
— Простите меня, — говорю я. — Алексей Иванович просил, когда я готовился к побегу, зайти сюда, в Лихов переулок, он сам сказал мне ваш адрес. Мне тогда не удалось бежать, меня поймали. Может быть, сейчас и не стоило рассказывать обо всем, и если бы он не просил…
Девушка отрывает ладони от лица. Я думал, что она плачет, но она не плачет. И мне неприятно, что она не плачет. Она просто бледная, с сухими, жестковатыми глазами.
— Все-таки я считал своим долгом. А то люди умирали, а тут вот… живут! — добавляю я, пожалуй, недобро.
Мне не по себе оттого, что она не плачет. Конечно, племянница не мать, не жена…
— Я тоже была на фронте, но не в этом дело, — говорит девушка. — Несправедливо. Все так несправедливо. Ну и что же, что был в плену? Ну, хорошо, считали убитым, потом выяснилось: взяли в плен, тяжелораненым взяли, а теперь вот — расстреляли. Чем же он провинился перед Родиной?
— Кто провинился? Алексей Иванович? — Я от неожиданности сажусь.
— Да. Получается так. — Она встает, подходит, прислушиваясь, к двери и опять опускается на стул. — Ведь сейчас тут целая кампания. Узнали, что Алексей Иванович был в плену, и хотят отобрать квартиру. Я живу здесь с сорокового года, отсюда добровольно ушла на фронт, я ушла с первого курса института, но дело опять не во мне, не только в том, что по закону я тоже имею право на эту квартиру… Почему оскорбляют память человека, отдавшего жизнь за Родину? Алексей Иванович был на фронте почти с первых дней войны, есть свидетели, что он был тяжело ранен во время бомбежки, они так и сообщили еще тогда, в сорок первом, думая, что он умер от раны в окружении. И, пока считали его убитым, никто не претендовал на его жилплощадь. А теперь… Извините, вам, наверно, это не интересно?
— Наоборот, очень интересно.
— Но я им не отдам, — говорит девушка с гневно заблестевшими глазами. — До Сталина дойду, но не отдам. Разве виноват человек, что его, раненного, без сознания, взяли в плен? Вы можете, если понадобится, подтвердить, что Алексей Иванович в плену был без ноги?
— Конечно, могу. И то, что он вел себя в плену как советский патриот и что его расстреляли, — это было почти на моих глазах, все могу. Только надо с этими подтверждениями поторопиться, я через три дня уезжаю.
— Вы сказали, почти на ваших глазах? Расстреляли? — быстро переспрашивает девушка и морщится; кажется, лишь теперь до ее сознания доходит то, что Алексея Ивановича, ее дядю, расстреляли.
Она поднимает брови, собирая морщинки на лбу, и смотрит на меня с испугом, почти с ужасом.
— По-моему, я вам сразу сказал… А сейчас раскаиваюсь: вы даже не поняли. Не сообщайте об этом хоть дочери Алексея Ивановича.
Девушка оцепенело молчит.
— Я пойду, — говорю я, вставая. — Если я понадоблюсь в ближайшие дни, позвоните моему родственнику Петру Николаевичу Кудрявцеву в речной техникум…
— Подождите, — говорит она. — Извините ради бога. Вы не москвич?
— Нет. Мне отказали в прописке. Но я еще пробуду здесь дня три, четыре.
— Вы, наверно, побывали и в нашем лагере?
— Недолго. Пока проходил проверку. А что, разве это заметно по мне?
Девушка печально усмехается. Она так хороша собой, что я женился бы на ней.
— Почему же вы не добиваетесь? У вас здесь родные? А размер жилплощади позволяет?
— Размер-то позволяет, но милиция не очень. Мне отказали на Петровке, а идти в министерство, говорят, бесполезно.
— А вы в Верховный Совет… Я теперь специалист по жилищным вопросам, все законы изучила. Попробуйте в Верховный.
Она тоже встает. Она пониже меня ростом и очень красива. И мне грустно, что я вижу ее, вероятно, в последний раз.
3
Затем я отправляюсь к Ампилогину. Он живет на Садовой — я быстро нахожу его дом и квартиру. Молодая белокурая женщина, его жена, говорит мне, что Саши тут больше нет.
— Как же так? А где он?
— На Урале, где и был. В военную авиацию его не вернули, и он уехал. Может быть, там устроится в гражданскую авиацию. — Женщина выглядит Чуточку подавленной.
— И давно уехал?
— Две недели назад. Пожил месяц и уехал.
— Постойте. Разве в Москву он вернулся не в феврале прошлого года?
— В ноябре. Двадцать второго ноября. В феврале, как он мне рассказывал, его вызвали в Соликамск и оставили работать при управлении, до особого распоряжения. Не знаю, может быть, он неправду сказал, может, нашел себе там другую и теперь поехал к ней…
— Нет, я вашего мужа знаю. Он очень порядочный.
— Послушайте, — говорит она, и я чувствую, что у нее очень тяжело на сердце, — послушайте, напишите Саше, пусть он возвратится, повлияйте как-нибудь на него. У нас же сын!.. Я четыре года не имела вестей от Саши, я ждала его, и вот снова. За что? Неужели авиация ему дороже семьи? Мне не надо больших денег, пусть идет на любую работу, хоть слесарем или шофёром, все равно. Но он должен жить с семьей. Воздействуйте как-нибудь, вы же его товарищ, я буду вам так благодарна!
— Я напишу Саше, — обещаю я, смущенный и озадаченный.
— На Урале его тоже не возьмут в авиацию, даже в гражданскую, я-то знаю это, но он не верит мне. Раз был в плену, в авиацию не вернут, но он упрям… или нашел себе другую. Но ведь у нас сын…
Она борется с собой, пытаясь сдержать слезы, и, закусив губу, отворачивается к окну.
— Его не восстановили в военном звании? Разжаловали? — спрашиваю я.
— Ну и что? — говорит она, не оборачиваясь, глухим голосом.
— Я обязательно напишу. Дайте мне его адрес, и я напишу. Он возвратится, я уверен.
— Я буду так — благодарна вам! Пожалуйста! — Слезы все-таки пробиваются у нее, и она промакивает их скомканным платочком.
Я прячу, в карман бумажку с адресом Саши и торопливо прощаюсь…
Сестра не знает, что я собираюсь ночевать на вокзале: я сказал ей, что буду ночевать у Володьки. Но она чувствует неладное — я вижу по ней.
— Поезжай ты лучше к маме. Купи себе какие надо учебники, программы и поезжай. А летом вернешься.
Сестра желает мне добра, я понимаю. И, наверно, поступить так, как она советует, — самое благоразумное. Но теперь, после разговора с племянницей Алексея Ивановича и с женой Ампилогина, я не хочу самого благоразумного, не хочу отступать. Принципиально!
— Я пойду в Верховный Совет.
— Зачем?
— Хочу убедиться сам. Хочу точно знать, имею я право жить и учиться в Москве или не имею, а если не имею, то почему. И вообще: кто мы такие, бывшие пленные, — демобилизованные воины или это все вранье?
— Ты ничего не узнаешь. Поезжай к маме.
— Узнаю. Уже многое узнал.
Сестра приносит с кухни горячий чайник, достает из буфета сахарницу и ломтик хлеба — половину того, что она получает на свою иждивенческую карточку.
— Ты очень переменился за последние годы. Иногда я вижу в тебе мальчика, каким ты был до войны, а иногда…
— Что же тут удивительного?
— Я не удивляюсь: ты должен был ожесточиться, но ведь если бы одно ожесточение. Ты же еще и наивен, как школьник.
— Это я уже слышал. Сахар в чай не клади, и хлеба не надо. Я поужинал у знакомых.
— Где ты будешь ночевать?
— У Володьки, я говорил тебе.
— А если и туда явится участковый?
— К такой важной персоне, как Володькин дядька, участковый не явится… Ты не волнуйся. Я буду тебя навещать днем. А дня через четыре уеду, вот только дождусь писем и побываю в Верховном Совете.
— Все-таки поезжай лучше к маме.
— Может быть, потом и к маме, — говорю я, чтобы успокоить сестру.
Я целую ее, накидываю на плечо рюкзак и ухожу в холодную январскую темь.
Лишь на минуту сжимается сердце: куда ухожу? Не лучше ли, правда, поехать к маме? Но к горлу внезапно подкатывает злой ком, и, наклонив голову, я прибавляю шаг.
В метро, в теплом, ярком вагоне, я ловлю себя на том, что будто завидую людям, которые едут вместе со мной в этом вагоне. Я пытаюсь представить себе, кто они и куда едут, и я вижу, что они не такие, как я: у них есть жилье, работа, у них спокойно на душе; возвратившись домой, они могут прилечь на диван на почитать, или послушать радио, или даже пойти в кино. И к ним не нагрянет участковый, потому что они прописаны. И им не надо, как мне, на вокзал.
Я делаю вид, что я такой же, как они, и у меня тоже спокойно на душе. Вместе со всеми я бегу по эскалатору, я так же спешу, хотя спешить мне абсолютно некуда. Даже лучше бы совсем не спешить, а покататься в метро часов до одиннадцати. Но я не могу не спешить, иначе я буду не такой Я доезжаю до станции «Комсомольская», поднимаюсь по широкой лестнице и в потоке, людей выхожу из метро. И снова стужа и темь.
Впрочем, возле выхода из метро нет стужи: изнутри дует теплый воздух. И темь относительная: метро, вокзалы, площадь — всё в электрических огнях… А между огнями действительно темь, косяки теми, но они небольшие и подвижные. Пройдет трамвай и разорвет полосой желтого света косяк. А там, где огни, там блестки мелкого порхающего снега.
Я стараюсь изобразить из себя человека, который ждет кого-то. Люди часто ждут друг друга у метро. Вот и я жду. Я стою и вижу других людей, ожидающих кого-то. Я вижу темную фигуру милиционера, смотрящего на площадь, а через некоторое время еще вижу каких-то женщин, которые хотя кого-то и ждут, но никуда не спешат. Они прохаживаются, стоят и опять прохаживаются. Какие-то болтающиеся, словно косяки теми. Одна из них проходит мимо меня — очень медленно и близко — и заглядывает мне в лицо косыми глазами. Лицо у нее красное, а глаза косые. Потом еще одна такая же женщина проходит близко и тоже заглядывает мне в лицо, и я с удивлением вижу, что и она косая. Что за пропасть! Минут через десять близко проходит такая же третья — косая!
А может, у меня с глазами что-то случилось: все кажутся косыми. Или, возможно, это кружит одна, а мерещится много? Мне делается вдруг страшно.
Я бегу к кассам Ярославского вокзала, беру перронный билет, потом покупаю в киоске свежую газету.
4
Утром, побрившись в вокзальной уборной (у меня чудная безопасная бритва, французская) и там же, на вокзале, позавтракав, я сдаю рюкзак в камеру хранения и направляюсь в Верховный Совет.
Я доезжаю на метро до Библиотеки Ленина, оттуда — пешком. Приемная Президиума Верховного Совета расположена в красивом зеленом доме с большими зеркальными окнами. Меня немного удивляет, что я совершенно беспрепятственно вхожу через застекленную дверь в такое высокое учреждение, в сущности, самое высокое у нас в стране; никто меня не останавливает и не требует документов.
Правда, невдалеке от двери прохаживается милиционер. Но это такой подтянутый, вежливый человек: он только отвечает на вопросы и разъясняет, причем вполголоса, а не командует, как энергичный ефрейтор в приемной на Петровке.
Здесь светло, нарядно и вместе с тем спокойно. Я занимаю очередь и начинаю постепенно продвигаться к полукруглому барьеру, за которым стоят несколько человек — вероятно, консультанты. И опять удивляюсь: никто не следит за нашей очередью, никто ни о чем не предупреждает. Это настолько удивительно, что невольно закрадывается сомнение: скажут ли мне здесь что-нибудь хорошее, помогут ли? Уж слишком просто все: пришли люди со своими жалобами, и, пожалуйста, — вот вам и помощь. Так не бывает.
И поэтому я не очень волнуюсь. Я не верю, что смогу попасть к самому Председателю Президиума Верховного Совета, я уверен, что в последний момент меня и не допустят до него.
И все же, подходя к барьеру, я чувствую, что начинаю легонько дрожать. Ведь это последняя моя надежда! Где же тогда еще искать справедливости? Уж если тут откажут, значит, все кончено…
— Вы по какому вопросу? — спрашивает меня молодой человек за столом, на котором разложены форменные карточки.
— По вопросу прописки в Москве и по вопросу прав бывших военнопленных.
Человек за столом на минуту задумывается, потом мягко говорит:
— Мне кажется, что сразу к руководству вам не имеет смысла. Правда? Разрешите, я взгляну на ваши бумаги.
Он читает заявление Петра Николаевича, розовую карточку с Петровки откладывает, не читая, заглядывает в паспорт и военный билет, а я стою и думаю: сейчас посоветует ехать туда, откуда приехал.
— Вот, пожалуйста, — говорит человек, возвращая документы, потом пишет что-то на своей карточке и вручает ее мне. — Пройдите направо и наверх, к нашему заведующему приемной.
«Заведующий приемной» — это, по-моему, уже хорошо. Я поднимаюсь по лестнице, устланной ковром, и открываю тяжелую светлую дверь.
Я ожидаю увидеть еще одного человека за столом, на котором разложены форменные карточки, однако я вижу не просто стол и не один стол, а большой кабинет, с большим книжным шкафом и портрет Ленина на стене. Стол, тоже большой, у окна, а перед столом два мягких кожаных кресла. И за столом никто не сидит. Заведующий приемной, спиной ко мне, достает что-то из шкафа. Когда я вхожу и здороваюсь, он, обернувшись, кивает мне и, показав на кресло, продолжает искать что-то в шкафу. Он одет, как многие партийные работники: в темной, подпоясанной ремнем гимнастерке; брюки заправлены в сапоги. Вообще большой книжный шкаф и сапоги как-то не очень вяжутся в моем представлении, я думаю об этом и прохожу к кожаному креслу.
Я сажусь и думаю, кто он, этот заведующий приемной. К какому военному званию или к какой армейской должности можно приравнять пост заведующего приемной Президиума Верховного Совета? Я решаю, что он должен быть не меньше генерал-майора.
Заведующий приемной подходит к столу, кладет какую-то папку и протягивает мне руку. Я думаю, что он хочет еще раз поздороваться со мной, и, встав, подаю ему свою руку. Он внимательно смотрит на меня — у него под носом квадратик седых усов, и я вижу, как его губы под усами, дрогнув, раздвигаются в улыбку.
— Бумаги. Жалоба, — объясняет он.
— Сейчас, — говорю я. — Извините…
Пока торопясь — пальцы мои как назло попадают в прореху оторвавшейся подкладки, — я извлекаю из кармана документы, он все смотрит на меня, затем, обогнув угол стола, усаживается в кресло напротив.
— Ну, что стряслось? Какое такое горе? — спрашивает он чуть насмешливо, и, странно, этот его чуть насмешливый тон вдруг снимает у меня все волнение.
Как-то очень по-человечески это: седоусый, пожилой человек, наверно, старый коммунист, садится напротив меня и чуть насмешливо спрашивает, что со мной стряслось. Так мог бы спросить хороший учитель своего ученика или даже отец — сына.
— Вы знаете, — говорю я, — могу я рассказать вам все, всю правду?
— Разумеется. Только правду, и обязательно всю, — с улыбкой отвечает он.
И я рассказываю. Сперва я еще думаю, как бы покороче, чтобы не занять много времени, а потом уже не думаю об этом и только рассказываю. Я рассказываю ему об отце и матери, о том, где учился, как попал на фронт, как пробивался с товарищами из окружения и как, очутившись в плену, пытался бежать; я радуюсь, что могу — наверно, первый — сообщить в верховный орган нашей власти о геройском поведении в плену депутата Моссовета, бывшего прокурора Москвы Алексея Ивановича Муругова, говорю, что надо обязательно помочь его родственнице, у которой теперь хотят отобрать квартиру, где она жила вместе с Алексеем Ивановичем, я радуюсь, что заведующий приемной тут же помечает что-то в своем блокноте. Я рассказываю о нашей подпольной интернациональной организации в Маутхаузене, называю фамилии видных немецких и австрийских коммунистов, членов ЦК, которые руководили нами, и он опять записывает в блокнот. Я говорю о том, что было со мной после Маутхаузена, вплоть до сегодняшнего дня, не скрываю даже того, что эту ночь провел на Ярославском вокзале.
Я рассказываю и вижу, что лицо заведующего приемной становится все более строгим и хмурым.
— Дайте документы, — говорит он, когда я умолкаю.
Он очень внимательно читает особые отметки в моем военном билете, придирчиво разглядывает ту запись в паспорте, где сказано, на основании каких документов выдан паспорт, затем столь же внимательно читает заявление Петра Николаевича и даже розовую карточку с Петровки, берет со стола какую-то книгу и, полистав ее, говорит:
— Ничего противозаконного я не нахожу, чтобы прописать вас в Москве. Вы приехали, чтобы учиться в институте, и вам, как бывшему фронтовику, необходимо поступить на подготовительные курсы. Так? Жилплощадь родные вам предоставляют, и даже с санитарной нормой в порядке. Тоже так? Ну, и что мы будем канитель тянуть? — И я снова вижу, как раздвигаются в улыбке губы под квадратиком седых усов.
Заведующий приемной встает из кресла, пересаживается на свое место и, поглядывая сбоку на мои документы, что-то мелко и быстро пишет на листке бумаги.
— А из-за того, что был в плену, не имеют права отказать? — Я гляжу на склоненную седую голов почти с любовью. Я думаю: вот это человек! Я чувствую себя почти счастливым.
— Прописывайтесь и живите. Вы советский гражданин, демобилизованный воин. Закон на вашей стороне. А мы за этим делом проследим, порекомендуем товарищам не тянуть с пропиской и помочь вам в трудоустройстве. — Он отдает документы и на прощание крепко пожимает мне руку.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
1
Я сижу в трамвае и смотрю на Москву-реку. Трамвай медленно ползет по мосту. На улице оттепель: хмарь и слякоть. У гранитной набережной темнеет вмерзшая в лед баржа. Чернеет вода в полыньях.
«Любопытно, что зимой никто не топится, — думаю я. — Холодно. То ли дело револьвер: бац — и готово!»
— Что «бац и готово»? — неожиданно спрашивает меня сидящий напротив парень в армейском бушлате, но без погон, вероятно, недавно демобилизованный.
— Я не знаю. Что «бац и готово»? — говорю я.
— Да ты бредишь или пьяный? Ты же сам с собой разговариваешь!
— Я думаю, а не разговариваю. А тебе-то что?
— Да мне ничего. Думай или разговаривай. Хреново ты только думаешь: «Бац — и готово!» — Парень, усмехается.
У него здоровое, гладкое лицо, острые глаза.
— Что тебе, лихо?
— Ну, допустим. А что?
— Ты где сходишь? А то мне сейчас. Пошли?
— Пошли. — Мне, собственно, безразлично, где сходить.
Трамвай, миновав мост, пробегает еще метров сто, поворачивает направо и останавливается против пивной палатки на улице Разина.
— Давай по кружке, — предлагает парень. — Я угощаю.
Он расплачивается с продавщицей, протягивает одну кружку мне, и мы отходим на край прилавка.
— Какая же у тебя беда?
— Ты фронтовик? — спрашиваю я.
— фронтовик! — Парень вновь усмехается. — Война-то скоро уже два года как кончилась. Все и будем фронтовиками?
— Для кого кончилась, а для кого нет. Для маня, например, еще не кончилась, — говорю я. — Ты как считаешь, законы у нас должны соблюдаться?
— Понятно, должны. А ты что, бывший пленный?
— Угадал. И по закону я тоже демобилизованный. Я специально ходил в Верховный Совет, больше часа беседовал там с заведующим приемной, и он рекомендовал прописать меня, и думаешь, прописали? Черта с два! Для нас, говорят, рекомендация не приказ. И продолжают тянуть. А один проговорился, что, если бы я не был пленным, все давно было бы в порядке: им для прописки таких, как я, нужна виза органов, а органы, как я понял из его намека, не совсем согласны. Я подумал, подумал и пошел — знаешь, куда?
(«Неужели я о себе рассказываю?!»)
— Куда? — Парень, отпив полкружки, с интересом глядит на меня.
— В управление Госбезопасности — вот куда я пошел. У них на Кузнецком приемная. Это вчера было. Пришел и говорю: заберите, раз не даете жить. И думаешь, что?
— Что? — спрашивает парень.
— Майор, который принимал меня, записал мою фамилию, имя, отчество, год рождения и попросил подождать. Через полчаса вызывает и говорит: у нас к вам лично никаких претензий нет, это у партии претензии к вам, бывшим пленным. Представляешь?
— Ну?
— Представляешь? Во-первых, из его слов выходит, что органы сами по себе, а партия сама по себе, а во-вторых, какие же претензии к нам у партии? Врет он!
— Ясно, врет, — говорит парень. — Я сам коммунист с сорок третьего, как-нибудь разбираюсь… И чем кончился ваш разговор?
— Я спросил его, что делать, где искать концы. Я говорю, может, мне какую-нибудь витрину в магазине разбить, чтобы если пострадать, так хоть знать, за что. А он отвечает: разобьете — посадят за хулиганство, а нам вы не нужны. Не нужен!.. Ладно, спасибо за пиво.
— Погоди, — говорит парень. — Это все ж таки хорошо, что у органов к тебе ничего нет; тебя, видимо, просто перестраховщики мытарят… Ты нигде сейчас не работаешь?
— И не работаю и не учусь, все планы рушатся, и все из-за прописки.
— Грузчиком пойдешь?.. — Парень быстро допивает пиво, вытирает ладонью рот. — И прописка будет, и сыт будешь Я тебе сурьезно говорю.
— Пойду, конечно. Только из этого ничего не выйдет.
— Посмотришь. Айда!
И парень ведет меня через дорогу под какую-то арку, потом наверх по крутой каменной лестнице. Я, разумеется, не верю, что меня возьмут даже в грузчики, — это было бы слишком большое счастье, — но попытка, как говорится, не пытка. Вообще я собрался продавать сапоги, чтобы сколотить деньги на билет и уехать к маме — что же мне остается? Ну, еще одна попытка, пусть…
Мы идем по полутемному каменному коридору, напоминающему тоннель. В конце его — электрическая лампочка. Парень подводит меня к фанерной будке с освещенным окошечком.
— Здорово, начальник!
— Здоров, Ванюша! — отвечает из окошечка человек в расстегнутой телогрейке. — Кого опять волокешь?
— Кадры волоку. Оформи его в нашу бригаду. Это моя личная просьба. Понял?
— Паспорт есть? — спрашивает меня человек в телогрейке, вероятно, начальник кадров.
— Есть. Пожалуйста.
— Так оформи его, Коля. Я тороплюсь. — И, потрепав меня по плечу, парень исчезает в полутьме тоннеля.
— Ладно, возьмем, — заглянув в паспорт, говорит начальник кадров Коля. — Прописка треба?
— В том-то и дело, — говорю я довольно равнодушно, потому что я еще не верю в успех.
— Ладно. Пропишем в общежитии за городом, там это легче. Коменданту поставишь пол-литра. Нынешним вечером сможешь выйти на работу?
— Смогу.
— Тогда минуту. Сейчас я дам тебе направленно. А грузчиком работал?
— Работал. — «Камни-то таскал в Маутхаузене», — думаю я.
— Образование какое?
— А какое надо?
— Никакого не надо. Ладно.
Он пишет химическим карандашом через копирку, а я стою у окошечка и удивляюсь. Я все еще не верю в свое счастье, но уже опять удивляюсь. Ведь есть же люди: подобрали на улице человека и устраивают его жизнь!
— Готово, — объявляет Коля, начальник кадров. — Вот направление, будешь работать на хорошем объекте, на хлебозаводе. А это пока вместо паспорта. — Он протягивает мне бумажку, похожую на квитанцию. — Давай четыре рубля на прописку.
Я отдаю ему четыре рубля — у меня остается последняя трешка — и благодарю его.
— Ванюшке скажи спасибо, — отвечает Коля и захлопывает окошечко.
Я выхожу на улицу уже не таким, каким вошел сюда: я и счастливый и равнодушный, верящий и еще больше не верящий, удивленный и уже ничему не удивляющийся.
Таким, чувствую, я никогда не был.
2
Что-то внезапно ломается во мне — я сам еще хорошенько не пойму, что, не умею себе объяснить. Словно вдруг отмирает какой-то важный жизненный нерв, дававший прежде и силу и радость. Я не знаю, что это и почему это так и именно сейчас, когда жизнь, казалось бы, поворачивается к лучшему. Может, я просто очень устал?
…В проходной хлебозавода я предъявляю направление, и мне объясняют, как пройти в раздевалку грузчиков. В раздевалке — она в подвальном помещении, рядом с душевой, — я вручаю направление бригадиру, пожилому сутулому человеку. Он молча показывает мне на узкий шкафчик, в котором висит потрепанная спецовка.
Ванюшки пока не видно. Грузчики, переодевшись, уходят наверх. Я отправляюсь с одним из них, рыжим, веснушчатым парнем. Мы заходим в небольшую комнату со столом и низким, очень широким шкафом. Грузчики сидят на скамейках — человек двенадцать. Все в спецовках, выпачканных мукой и засохшим тестом. Я сажусь рядом с рыжим. Он закуривает папиросу.
— Новичок?
— Да.
Появляется бригадир и молча усаживается к столу. Почти зсе курят. Бригадир тоже закуривает: сворачивает толстенную «козью ножку». Мы сидим так минут двадцать. Ванюшки все нет. Бригадир, растерев окурок подошвой, дремлет, упершись локтями в колени.
— Где ты до этого работал? На железе? — спрашивает меня рыжий.
— Почему на железе?
— Да тощий ты больно. Хлеба хошь?
Он вынимает из кармана спецовки теплую, залепленную мукой краюху, и я вмиг съедаю ее.
— Братва, у кого есть хлеб? — обращается рыжий к своим товарищам.
— Вон в шкафу, пусть возьмет, — говорит грузчик с бесцветными глазами. — Стой, я достану.
Он приносит полбуханки хлеба, еще горячего и тоже залепленного мукой, и подсаживается ко мне.
— Где ты так оголодал?
— На каком объекте работал? — подняв голову, строго спрашивает бригадир.
— В Москве еще нигде не работал, — говорю я.
— Тоже присылают! — отворачиваясь, бурчит бригадир.
— Воды нет? — вполголоса спрашиваю я у грузчика с бесцветными глазами. Я вижу, что он сочувственно следит за тем, как я ем.
— Пойдем покажу.
Он ведет меня в большое прохладное помещение, набитое мешками, затем по лестнице вниз. Внизу такое же складское помещение, только потеплее, и в нем, кроме мешков, еще какие-то механизмы с приводными ремнями; полуобнаженные люди ссыпают муку в деревянные люки.
Я пью из маленькой колонки, снабженной железным блюдцем — над ним бьет прозрачный фонтанчик.
— Меня зовут Алексей, — сообщает грузчик. — А тебя?
Я говорю ему, как меня зовут.
— Грузчиком совсем не работал?
— Специально нет. Но грузить во время войны приходилось, камни в основном.
— В плену, наверно?.. Я тоже был, поэтому и спрашиваю. Я нашего брата, пленягу, сразу вижу. — У Алексея на носу рябинки, глаза будто выгорели на солнце. — Ты учти: бригадир не любит новичков, особенно которых присылает отдел кадров. Если бригадир не захочет взять и отстранит — все, никто его не заставит.
— Эй! — кричат нам с лестницы. — Машины пришли!
Алексей подхватывается, как солдат по тревоге. Я спешу за ним.
— Присматривайся, как работают другие. — Больше ничего он не успевает или не хочет сказать мне.
Наверху распахнуты ворота, напротив них стоят машины с мешками. Четверо грузчиков открывают борта, остальные выстроились цепочкой, по пять человек в каждой. Я встаю в хвост одной цепочки, Алексей идет к другой. Бригадир, заложив руки за спину и сильно сутулясь, наблюдает.
Рыжий — он передний в моей цепочке — подходит к кузову. Двое, те, что открывали борта на нашей машине, берут мешок за углы, махом подбрасывают его, рыжий подскакивает, и мешок плотно ложится ему на плечо и затылок. Рыжий, чуть придерживая мешок одной рукой и помахивая второй, свободной, легко и быстро идет мимо цепочки в глубь склада. Потом я слышу, как мягко шлепается мешок о каменный пол.
— Сашка, ровнее опускай, — говорит рыжему бригадир.
Рыжий Сашка встает за мной. Мимо нас проходит второй грузчик — так же быстро и легко, — и опять шлепается мешок о пол. Проходит, точно проплывает, третий, потом четвертый.
— Набегай! — кричат мне те, что на кузове. Холодный, шершавый мешок ударяет меня, я вцепляюсь в него обеими руками, но он съезжает на спину, я сгибаюсь и тащу его в глубь склада.
Сваливаю рядом с другими мешками и снова становлюсь в хвост.
Сашка опять за мной.
— Ты не боись мешка, — говорит он мне. — Иди на него! Чтобы ты управлял им, а не он тобой.
Бригадир, не меняя позы, искоса поглядывает на меня.
А мешок вновь ударяет. И вновь, согнувшись, тащу его на спине и сваливаю на пол.
— На шею бери! — учит Сашка.
Третий мешок чуть не ломает мне шею. Но я тащу. А бригадир только поглядывает. Четвертый снова съезжает на спину. Я тащу.
— Набегай! — кричат мне с кузова.
Я набегаю. Холодная тяжесть бьет по плечу. Тащу на плече. Уже прошибает пот.
— Иди на него. Смелей! — подталкивает меня сзади Сашка.
Я иду. Мешок, кажется, вдавливает мне голову в плечи. Голова слегка гудит. Я сваливаю…
Я стою в очереди. Как приятно постоять с полминуты! На восьмом мешке (я считаю) начинают заплетаться ноги. А бригадир, нахохлившись, все поглядывает;, как надсмотрщик, и молчит. Десятый мешок. Опять на голову. Что-то хрупает. Черт с ней!
— Ты что, в цирке работал? — смеется Сашка. Мешки плывут мимо меня. Один, второй, третий —
белый пунктир.
— Налетай же! — смеясь, кричат с кузова.
Я налетаю. Моему плечу, должно быть, капут. Но мешок удерживаю. Ноги мои подкашиваются. Сваливаю все-таки.
Плывет белый пунктир…
— Хватя, — произносит рядом придушенный голос бригадира. Красная рука трогает меия за ноющее плечо.
— Что — хватя?
— Давай! — кричат с кузова.
— Хватя! — властно повторяет бригадир и, отстранив меня, сам принимает мешок.
Он берет его, как подушку, и стоит.
— Клади! — приказывает он.
Ему набрасывают второй мешок, и он широким, упругим шагом удаляется.
Уже Сашка, опередив меня, берег мешок. Разбирают последние мешки. И два самых последних опять относит бригадир.
Машины отъезжают. Грузчики уходят в курилку. Я стою на дощатом помосте, вдыхаю морозный воздух и смотрю на звездное небо. И тут неудача. Отстранен… Какое же звездное небо сегодня!
— Эй, новичок! — кричат мне. — К бригадиру! Надсмотрщик, говорю я себе. Надсмотрщик, а не бригадир.
В курилке, как и до прихода машин, сидят на скамьях и курят. Сашка и Алексей рядом. «Вот и кончилось наше знакомство», — думаю я.
— Ты вот чего… — сдавленно произносит бригадир, не поворачивая ко мне головы, — возьми это, поужинай, и на шкаф. Сашка, сваргань мурцовку, я тоже что-то захотел.
И тогда, следуя какому-то неизвестному мне церемониалу, грузчики по одному подходят и здороваются со мной. Алексей — первый.
Оказывается, я выдержал испытание и принят в грузчики. По установленному обычаю, я должен съесть с кем-нибудь из своих новых товарищей миску мурцовки (хлеб с подсолнечным маслом и водой), потом влезть на шкаф и отдыхать там до утра.
3
Теперь все помогают мне. Меня учат работать и рыжий Сашка, и Ванюшка — он заместитель бригадира, — и особенно Алексей: он мой главный наставник. Алексей показывает, как надо принимать мешок, как «выставлять» (подбрасывать) его, как нести и сваливать; объясняет, как расслаблять мышцы и давать отдых попеременно рукам и спине, — словом, вводит меня во все тонкости грузчицкого ремесла.
В свою первую получку я приглашаю Алексея вместе пообедать. Я предлагаю пойти за мост, в ресторан «Балчуг», но Алексей тянет меня в противоположную сторону, к центру. На Алексее добротное ратиновое пальто, шляпа; он вообще, я заметил, любит прифрантиться, и даже сегодня, в пургу, он в шляпе и начищенных полуботинках.
Он по-приятельски здоровается со швейцаром, мы раздеваемся и по ковровой дорожке идем в белый зал. Тут почти пусто, лишь в одном углу сидит какой-то военный. Потолки очень высокие, стены холодные, и все холодное, сверкающее — неуютно.
— Я всегда сюда хожу, — похоже, хвалится Алексей.
Мы садимся в центре зала. Официант, в черном фраке, холодный и чопорный, кладет перед нами карточку с золотым тиснением: «Гранд-отель». Алексей заказывает графин водки, салат, два бифштекса и бутылку «Цинандали».
— Все пока, — холодно бросает он официанту.
— Водички? — спрашивает тот.
— Само собой. «Боржоми». — Алексей распоряжается уверенно. Володька и то так уверенно не распоряжался.
Водка здесь ледяная и кристально прозрачная. Выпив по рюмке, мы принимаемся за салат, и я вижу, как свободно обращается с ножом и вилкой Алексей, словно он всю жизнь держал в руках только такие, украшенные вензелями, нож и вилку и не хлебал со мной еще вчера мурцовку.
Выпиваем по второй рюмке.
— Ты это правильно, что ни о чем не расспрашиваешь, — говорит Алексей, — чувствую школу. Между прочим, осенью сорок четвертого к вам в Маутхаузен отправили двух моих дружков, оба были москвичи. Не вернулись.
— Осенью сорок четвертого многих новичков расстреливали, — говорю я. — Одного моего сослуживца, москвича, тоже расстреляли. Самойлова.
— Василия?
— Нет, Павла. Старшего лейтенанта Павла Самойлова.
Алексей снова берегся за графин.
— Я знал одного Василия Самойлова, капитана-танкиста. Когда немцы обнаружили у нас саботаж, мне удалось бежать, а его и тех двух моих дружков прихватили… Ты тоже был членом «Братского сотрудничества военнопленных»?
— Нет, я был членом только подпольной организации в Маутхаузене…
Алексей толкает меня под столом. К нам приближается чопорный официант.
— Горячее подавать?
— Да, давайте, — небрежно кивает Алексей. Когда тот уходит, Алексей с усмешкой шепчет:
— Интересуется, видно, нами товарищ. Ну, да чихать на него! Ты на госпроверке говорил, что был подпольщиком?
— Когда опрашивали, говорил. Вообще-то об этом не очень спрашивали.
— Тебе повезло. — Алексей смотрит на меня своими будто выгоревшими глазами. — У меня есть знакомый парень из Дахау, которого чуть не посадили, когда он сказал, что был членом подпольной организации. Пристал к нему следователь: какая организация, кто ее направлял — американцы или англичане? Не верят, что мы сами себя направляли, как сердце велело. Ну, парень прикинулся дурачком: помогали, мол, выжить друг другу, и все.
Официант приносит на горячих овальных подносиках бифштексы и ставит на стол темную бутылку.
— «Цинандали» нет. Только «Мукузани».
— Хорошо. Пусть «Мукузани». Алексей разливает вино по бокалам.
— Откуда ты знаешь всю эту гастрономию? — спрашиваю я. — В ресторане работал?
— Нет. Довоенная еще практика. — Он провожает взглядом спину официанта, обтянутую черным фраком. — А потом я, видишь ли, бывал на приемах… Я в сорок четвертом, когда бежал, пробрался в Бельгию. Я был там командиром партизанской роты. А на приемах бывал уже в сорок пятом, перед репатриацией; раз был даже в королевском дворце, но ты об этом никому не говори. У меня много друзей среди бельгийских коммунистов. Они первое время входили в парламент и даже, по-моему, в правительство…
— Как нелепо все получается, Алексей!
— Еще как! Не верит нам Берия или притворяется, что не верит, черт его душу разберет, какая у него цель. — Алексей залпом осушает бокал. — А раз не верят, будем пить! Будем гулять, пока живы… Гляди, официант-то за колонной притаился. Очень мы его интересуем.
— Может, расплатимся и пойдем? — говорю я. — Зачем зря дразнить?
— Наоборот. Тут самое спокойное место: малолюдно. Тут не подслушаешь, и потом, признаться, мне доставляет особое удовольствие, мне, презренному пленяге, биндюжнику, сидеть в этом храме.
Алексей острием ножа брякает по бутылке. Официант тут как тут.
— Два кофе по-турецки и сто коньяку.
— Слушаюсь!
— Видишь ли, — продолжает Алексей, снова провожая взглядом черную спину, — я в прошлом кадровый старший лейтенант, помначштаба полка по разведке. Женился на певице, сам немного пел, мечтал учиться в академии… А теперь? Ни жены, ни звания, ни службы — ничего! Спасибо, грузчиком взяли. Другой же гражданской специальности у меня нет, я кадровый военный… И вот уже около года грузчик и около года с получки назло всем хожу только сюда или в «Метрополь». Назло!
Он начинает хмелеть. Зрачки его укрупняются, и в них блестят две острые металлические точки.
— Будем прожигать ее, жизню, раз нам не верят. Ты солидарен со мной?
Мы допиваем «Мукузани» и беремся за коньяк.
— Салю, камрада! — говорю я.
— Вива! — отвечает Алексей. — Вива интернасиональ коммунист!.. А теперь к бабам.
— Только не на вокзал.
— Нет, нет. Я познакомлю тебя с Кларой. Тоже трагическая фигура. Эй, официант, счет!
Человек в черном — перед нами.
— Вот… за усердную службу. — И Алексей кладет рядом с моей сотенной свою и добавляет еще десятку.
— Будем жить! — восклицает он, когда, поддерживая друг друга и пошатываясь, мы выходим на серую, в россыпи огней, ветреную улицу.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
1
Так неужели все это было напрасно: голод, камни, мученический конец Муругова, подвиг Карбышева?
Тысячи советских военнопленных, казненных за свою преданность Родине в застенках гестапо?
Сотни тысяч задушенных и сожженных в крематориях концлагерей?..
Нет, не хочу верить. Не могу верить!
А Пауль? А комендант-психолог? А громадный золотистой масти дог Бахмайера, откусивший напрочь кисть руки у заключенного советского майора?
А героический побег узников двадцатого блока?
А кропотливая, смертельно опасная работа наших подпольщиков в Маутхаузене, работа, благодаря которой стал возможен успех освободительного восстания в лагере?
Неужели все это было напрасно?..
Я продолжаю работать грузчиком, я живу теперь, как все — не хуже и не лучше, — но после разговора с Алексеем в ресторане меня не оставляют эти вопросы.
Порой мне является почти сумасшедшая мысль, что в руководство нашим государством пробрался враг («у него такие же, как у Гиммлера, тонкие гадючьи губы и поблескивающее пенсне»), и он умышленно старается скрыть от народа то, что происходило в гитлеровских лагерях, и с этой целью всячески притесняет бывших пленных. А порой, когда я очень устаю, я уж и так начинаю думать: может, вообще ничего того и не было — Пауля, комендантского дога и всего Маутхаузена, — что это только плод моего больного воображения? По ночам меня снова преследуют кошмары: мне опять снится колючая проволока, побег и часовые, догоняющие меня; я опять нередко пробуждаюсь в холодном поту, когда они меня убивают…
Не знаю, что сталось бы со мной, если бы один мой дальний родственник, старый большевик, соратник Землячки и Литвинова по дореволюционному подполью, не посоветовал мне найти работу полегче и писать воспоминания. Писать, не думая пока о том, что получится. Просто описывать день за днем то, что довелось увидеть и пережить в плену.
Я и сам всегда хотел об этом писать, я еще в Вильнюсской тюрьме дал себе слово, что, если останусь жив, то обязательно буду рассказывать людям о фашистах-изуверах, и в Маутхаузене я не раз давал себе такое слово. Правда, правда! Этим делом я и займусь теперь — вопреки всему! — тем более что из-за волынки с пропиской на подготовительные курсы я опоздал, и мне, по всей вероятности, придется отложить с поступлением в институт до следующего года.
И вот я ищу работу полегче. Я ищу ее уже второй месяц. Меня чуть было не взяли культорганизатором в подмосковный дом отдыха, потом я чуть было не стал стрелком военизированной охраны («Принятые на работу обеспечиваются: а) общежитием для холостяков, б) обмундированием, в) котловым довольствием…» — то-то была бы прелесть!); потом я чуть не сделался библиотекарем, потом — воспитателем в рабочем общежитии, потом… еще около десятка «легких» должностей, занять которые я смог бы, если бы… если бы не моя проклятая анкета, вернее, один пунктик, незаметный такой затерявшийся среди других вопросов, короткий пунктик: «Был ли в плену?»
Нет, меня никто не укоряет, что я был в плену, и, в конце концов отказывая в приеме на работу, мне никто не говорит, что отказывают из-за этого пунктика. Просто у кадровиков, когда они видят рядом с этим вопросиком слово «был», что-то меняется в лице. Почти неуловимо. Лицо становится еще спокойнее, доброжелательнее, но какая-то жилочка или желвачок на лице выдает. Капельку дрогнет или сожмется и выдает. И хоть бы кто из кадровиков задержался взглядом на этом пунктике. Нет! Ровненько так скользнут выпуклостью глаз и дальше читают, еще более доброжелательные и спокойные. Если бы пунктик как-то зацепил их, было бы естественно. И я поверил бы в то, что они мне говорят: «Понимаете, нам только что из райкома порекомендовали товарища», или — «Мы решили оставить старого товарища», или — «Мы посоветуемся, позвоните через недельку». И ответы одни и те же, одни и те же слова, как сговорились. А поначалу, еще до заполнения анкеты, когда беседуешь, так ведь все хорошо: и вакансия есть, и возьмут обязательно, и какая зарплата скажут…
Сейчас я с улицы Кропоткина. Там в зеленом особняке мне отказали в должности рабочего кухни. Старшая повариха уже накормила меня и приказала явиться завтра в шесть утра растоплять печь. И вот, пожалуйста, отдел кадров не пропустил: «Решили оставить старого». А какая работка! Напилить электропилой дров, наколоть, натаскать, а утром разжечь плиту. И сыт был бы, и полдня свободен — мог бы писать воспоминания. И внезапно решили оставить старого. Побоялись, вероятно, что подброшу в котел отравы…
Я брожу перед зданием театра-студии киноактера. Театру требуется рабочий сцены. Сейчас в отделе кадров обеденный перерыв, и я брожу по улице Воровского. Уж рабочим-то сцены меня возьмут, думаю я. Уж здесь-то я никого не отравлю, и не застрелю, и не подсуну кому-нибудь книгу старого издания… Я хожу, думаю и глубоко дышу.
Начало марта. Пахнет сырым снегом. Солнышко. Люблю я март! Я останавливаюсь у скверика, тут же наискосок от шатра, и какой-то человек в потертом пальто тоже останавливается невдалеке и смотрит на меня в упор.
И я смотрю на него в упор. Голубые глаза, нос лапотком, около рта поперечные складки… Передо мной Жора Архаров.
— Здорово, — говорит он, подходя.
— Здорово, — отвечаю я.
Мы, кажется, ничуть не удивлены и не обрадованы. Если бы мертвецы могли являться с того света, — они здесь, на земле, встречались бы именно так, без удивления. И все-таки чуточку странно: передо мной Жора Архаров, мой близкий товарищ по той жизни, бывший разведчик генерального штаба… Он в худом пальто, в помятой шляпе, небритый и бледный.
— Ты что тут делаешь? — спрашивает он.
— Нанимаюсь на работу. А ты?
— Я в аптеку.
Точно в полусне. Точно мы еще не совсем воскресли — лунатики какие-то.
— Ты разве москвич? — говорю я.
— Всегда был москвичом, тридцать шесть лет. Опять странно! Я ведь знал, что он москвич, но он был для меня москвичом тогда, здесь же, в Москве, мне почему-то ни разу не пришло на ум поискать его или других живых маутхаузенцев-москвичей.
— А ты как очутился здесь? Ты же ленинградец, по-моему. Или из Вологды.
— Теперь я тоже москвич… Слушай, какую по счету жизнь мы живем?
— О чем ты? Не понимаю.
— Тебе иногда не кажется, что ничего того — войны, плена, Маутхаузена — не было? Или, вернее, что все т о было в какой-то другой жизни?
— Это верно, — говорит Жора, небритый, немного подавленный, вовсе и не Жора, по-видимому. — Верно, — повторяет он. — До войны — это одна жизнь, фронт — вторая, плен — третья, Маутхаузен — четвертая, госпроверка — пятая, а теперь — шестая. Выпить бы надо, да денег нет.
И у меня теперь нет денег.
— Пойдем посидим в скверике, — предлагаю я. Мы садимся на скамью, окруженную тающими сугробами.
— Ты работаешь? — спрашиваю я. — Где?
Жора, оказывается, четыре месяца был без работы: не принимали. Потом устроился в артель фотографов. Неплохо зарабатывал. Теперь будет служить в транспортной конторе: он знает планирование автохозяйства. А вообще все неважно: у него двое детей, молодая жена, ютятся вместе с больной матерью в одной комнатке здесь, на улице Воровского, в доме, где почта…
И он проходил проверку на Урале, только в другом месте. О Валерии, Иване Михеевиче и Порогове он ничего не слышал — затерялись люди. В Москве живут еще несколько маутхаузенцев, правда, они очень редко встречаются: и заботы одолели, и главное, кое-где косо смотрят на такие встречи.
— Костюшина ты помнишь? — говорит Жора. — Так поезжай к нему прямо на фабрику. Он и накормит и посоветует что-нибудь насчет работы. Я сам бы поехал с тобой, но заболела дочка. А на театр ты плюнь. Театр — ответственный участок, таких, как мы, сюда не принимают, хоть и рабочим сцены. Это точно.
Жора встает.
— Спасибо, Жора, — говорю я. — Устроюсь на работу — встретимся. И тогда выпьем за встречу.
— Художник Логвинов, друг Саши Григоревского, тоже в Москве. Но сильно удручен и пьет, собака. Он вряд ли сможет быть тебе полезен.
И, пожав мне руку, Жора уходит — Жора — сорвиголова, Жора — отважный подпольщик-антифашист, Жора — усталый, задавленный бедностью человек.
2
Прославленная кондитерская фабрика «Моссельпром» с улицы выглядит как обычный средний московский домик, спрятанный за забором. Василий Костюшин, мой товарищ почти с первых дней плена, работал на «Моссельпроме» до войны и работает здесь сейчас. В проходной мне говорят, что Василия Ивановича можно найти в бухгалтерии. Его называют по имени-отчеству, а меня, пожелавшего видеть его, тотчас пропускают внутрь, и я думаю: вот, не мешает же человеку то, что он был в плену, пользоваться таким уважением.
На втором этаже кирпичного здания мне указывают на покрашенную белой краской дверь — Василий Иванович там. Я стучусь и сразу вхожу. В узкой комнатке сидит полный, с черной шевелюрой мужчина и щелкает ручкой арифмометра.
— Пожалуйста, — говорит он приветливо.
Встреться я с ним на улице — и не узнал бы. Это не тот Костюшин, не черный печальный скелет. Передо мной вполне нормальный человек, с хорошей прической, в хорошем костюме, в галстуке… Я чувствую себя пришельцем с того света.
Минута — и я в дружеских объятиях Костюшина. Откровенно, не ожидал, откровенно, думал, будет попрохладнее: кто же радуется таким пришельцам?
Ведь кое-где косо смотрят на встречи таких, как мы — «Зачем встречаетесь? С какой целью?», — а Костюшин не испугался, он рад мне, я это вижу.
— Подожди, — говорит он и тихонько спускает защелку на двери. — Теперь садись и рассказывай… Подожди. Есть хочешь? — Он выдвигает из стола ящик и достает свежие желтенькие ириски, потом опускает руку за стол в угол и вытягивает за горлышко бутылку без этикетки. — Спиртик, — шепчет он. — Айн момент… А, может, хочешь, я сперва покажу тебе фабрику, пройдемся по цехам? У меня есть белый халат, я представлю тебя как студента-практиканта…
— Нет, лучше посидим. С фабрикой после как-нибудь. Да я еще хорошо помню твою лекцию о производстве шоколадных конфет; ты сам-то помнишь, как рассказывал об этом в плену? — говорю я и вижу, как быстро и, должно быть, непроизвольно морщится Костюшин. Всего с секунду морщит лоб, а в глазах его пробегает беспокойство.
— О плене не говори громко, — шепчет он. — Здесь почти никто не знает, что я был… Руководство и отдел кадров, разумеется, знают, а остальные — нет. И не надо им этого знать. Зачем?
И Костюшин снова улыбается и наливает в стаканы граммов по пятьдесят «спиртику».
— Только вначале съешь что-нибудь. Ириски или вот хлеб с маслом. Обязательно вначале съешь. Вот вода, вот сахарный песок.
Мы выпиваем за встречу, ко мне уже не хочется ни вспоминать, ни рассказывать о своих злоключениях после Маутхаузена.
— Как ты живешь? — спрашиваю я. — Тебя, кажется, очень уважают здесь?
— Ну, я ведь один из старейших работников «Моссельпрома», — говорит Костюшин. — А потом я тут внес некоторые рационализаторские предложения, так что в успехах фабрики есть, как говорится, и моя скромная доля… Ничего живу. Как ты?
— Тоже ничего. В партии тебя не восстановили?
— Пока еще нет.
— Ас военным званием?
— Понимаешь, я ведь был старшим политруком. Теперь такого звания вообще не существует.
— А семья?
— Жена побаливает, плохо. Зато дочка… — Костюшин весь расцветает. — У меня, знаешь, дочка. Ты приезжай ко мне домой на Самотеку. Посмотришь, как я живу. Ты еще холостой?
— Я без работы сижу, Вася, — говорю я, чувствуя, что глупо играть с ним в прятки. Уж если такому старому товарищу не рассказать всего, кому же еще тогда рассказывать? — Туго мне сейчас, нигде не могу устроиться.
Я говорю об этом и вдруг думаю: напрасно, пожалуй, говорю. Закрепился человек в жизни, и хорошо. И незачем его дергать. Помочь мне он все равно не сможет: бывший пленный не должен помогать бывшему пленному; отдел кадров моментально заподозрит что-нибудь дурное.
— Но ты не беспокойся, — добавляю я. — Мне обещали место в театре-студии киноактера.
На лице Костюшина больше нет улыбки. Глаза серьезны.
— Я могу порекомендовать тебя на нашу фабрику, — говорит он. — Но ведь у тебя нет специальности… Только учеником или разнорабочим.
— Нет, спасибо. Когда в вашем отделе кадров узнают, где я был, тебе будет неприятность.
Костюшин молчит. Не настаивает. И, по-моему, борется с собой. И я вижу, что он выглядит совсем уж не столь благополучным, как показалось вначале: полнота его рыхловата — наверно, больное сердце; цвет лица нездорово-желтый.
— Нет, — наконец говорит он, — я тебя так не оставлю. Пиши заявление, я сам пойду к нашим кадровикам… Или, знаешь что? — Он обрадованно моргает. — Еще лучше. Придумал! Павла Лелякина помнишь? Он работает в городском лекционном бюро, у него большие связи с клубами и Домами культуры — это тебе ближе. Так я позвоню ему, и он тебе поможет с работой, поможет, у него большие связи. А ты, пока не получишь зарплату, будешь приходить ко мне и питаться. Идет? Приходи сюда в любое время. Если же в крайнем случае у Лелякина не получится, — поступишь учеником на нашу фабрику. Это я тебе гарантирую.
И он вновь улыбается, старый-старый, из той жизни товарищ, Вася Костюшин, черный, печальный скелет.
Он кладет что-то в мой карман и сам выписывает пропуск. Потом на другой бумажке пишет адрес Московского городского лекционного бюро.
3
В Маутхаузене я немного знал о Лелякине. Я знал, что его вместе с майором Белозериным привезли из венской тюрьмы, что до войны Лелякин работал в советском посольстве в Берлине, а на фронте был помощником начальника разведотделения штадива, — об этом мне говорил Валерий. Знал, что Лелякин быстро вошел в нашу организацию, и приписывал это, по своей привычке домысливать, тому обстоятельству, что он уже связан с антифашистским подпольем; мне даже чудилось — так хотелось думать, — будто Лелякин — уполномоченный какого-то нелегального коммунистического центра, расположенного на воле. В дни восстания я видел Лелякина за пулеметом на центральной башне, а когда явились американцы, видел его с двумя нашими офицерами, которым Порогов приказал тайно покинуть лагерь и добраться до передовых постов советских войск, чтобы доложить нашему командованию о положении в Маутхаузене. Больше я ничего не знал о Лелякине, я даже ни разу толком не разговаривал с ним, как и он со мной.
Тем удивительнее кажутся сейчас его добрые слова, с которыми он представляет меня своему коллеге, тоже инструктору лекционного бюро. И вот что еще удивительно: Лелякин говорит о Маутхаузене, о нашей борьбе в открытую и как-то весело; ему, по-моему, даже доставляет удовольствие говорить об этом. Кроме того, насколько мне известно, он бывший пленный, но он работает в лекционном бюро, а это ведь тоже, как и театр, — «ответственный участок», куда бывшие пленные не допускаются. Может быть, в Маутхаузене Лелякин, и правда, был уполномоченным какого-то нелегального коммунистического центра, офицером советской разведки? Но тогда почему он здесь, в лекционном бюро, а не в Министерстве вооруженных сил?
Он поднимается из-за стола и, высокий, с русыми кудряшками на голове, начинает прохаживаться по комнате. Рабочий день окончен, но Лелякин еще не освободился: ему должны звонить по поводу лекций на предстоящий сезон из парка культуры и отдыха. Коллега Лелякина, плешивый старичок, тоже ждет телефонного звонка.
— Это было замечательно, — говорит Лелякин, обращаясь к старичку. — То, чего с таким трудом добились во Франции в тридцать пятом году, когда был создан народный фронт, у нас, в Маутхаузене, стало само собой разумеющимся. Вокруг коммунистов объединились и католики, и социал-демократы, и социалисты, и беспартийные. А иначе эсэсовцы перебили бы всех…
Светлые глаза Лелякина оживлены, зубы блестят, кудряшки на голове трясутся. Он прохаживается по комнате, и его кудряшки трясутся. Он уверенный, крепкий, и рядом с ним чувствуешь себя спокойно.
Старичок, поговорив по телефону, надевает галоши и откланивается. Почти тут же раздается новый звонок.
— Да, это я, — отвечает Лелякин в трубку. — Приветствую, приветствую. Ну, если ваш план уже готов, подъеду я. Завтра нет. Послезавтра — пожалуйста. Как? — Лелякин собирает морщинки у глаз и рассылается коротким задорным смешком. — Есть! Договорились. Теперь вот какая просьба. Я хочу порекомендовать вам одного своего товарища. Да, молодой, культурный, интересный — плохого я не стал бы рекомендовать. Что? — И снова короткий мальчишеский смешок. — Вполне подойдет. Подкован, и морально устойчив, и все такое прочее. Я лично ручаюсь за него. Это уже много? Да, надо будет только нажать в отделе кадров. Ну, словом, человек одной со мной судьбы. Обязательно. Уповаю на ваш авторитет и пробойную силу… и обаяние, конечно. А? Ха-ха! Договорились? Всего. — И Лелякин, храня улыбку в морщинках у глаз, опускает трубку на рычаг.
— Вот и все, — говорит он мне. — Завтра утром подъезжай в управление парка, найдешь там заведующую культотделом, скажешь, от меня.
Он берет с вешалки, здесь же, в комнате, шапку и пальто.
— Ты вечером чем занят? Едем ко мне. А то мы с тобой еще ни о чем не поговорили…
У Лелякина две небольшие комнаты. Живут втроем: он, жена и дочка лет девяти. Жена — кандидат исторических наук. Он тоже историк по образованию, они вместе учились в университете. Я сижу за столом у окна и вижу заснеженную, спокойную, тихую улочку — это Малая Якиманка. И в квартире тихо и спокойно. И жена Лелякина, миловидная женщина с крупными серыми глазами, вся какая-то тихая и спокойная: негромкий голос, размеренные движения, доброта во взгляде.
На столе дымящийся рассыпчатый картофель. Селедочка. Лелякии откупоривает поллитровку.
— Она, — кивает он на жену, — пока я был на госпроверке, принимала тут всех моих маутхаузечских друзей. Кто проезжал через Москву, все побывали у меня.
— Ты разве тоже был на проверке?
— А чем я лучше других? Такой же замарашка-пленяга. — И Лелякин смеется по-своему: заливчатым смешком.
— Ты член партии?
— Был и, надеюсь, буду, а пока нет. Хлопочу. Накапливаю материал. Я могу показать тебе целое дело, собрал, понимаешь, все, что было в газетах о Маутхаузене, в том числе материал о Карбышезе… Ну, за встречу!
Мы чокаемся и пьем.
Жена Лелякина приносит квашеную капусту с яблоками, огурчики, грибы. Все собственного засола, и все очень аппетитно и вкусно.
— Как же тебе удается так жить? — спрашиваю я.
— Как так? — улыбается Лелякин.
— Ну, спокойно, хорошо. Вот ты, например, работаешь в лекционном бюро, принимаешь лагерных друзей и не боишься.
— А чего бояться? — Лелякин протягивает руку к полке и снимает картонную папку-скоросшиватель. Вероятно, это и есть «дело». — Вот смотри… — И, раскрыв папку, он показывает газетную вырезку со знакомым разъяснением Верховного суда СССР относительно прав бывших военнопленных.
Эта статеечка сверху. Она аккуратно подколота к другим газетным листкам. Все пронумеровано, датировано, есть даже опись документов.
— Неужели ты не знаешь, что творится? — говорю я. — Ведь это разъяснение — это же…
— Да, знаю! — перебивает меня Лелякин. — Все знаю. Знаю, что и из лекционного бюро меня скоро попрут, как не знать. Но я и другое знаю, все-таки я историк… Не может это долго продолжаться. Есть социалистическая, революционная законность, и попирать ее никому не дозволено. А кто попирает — ответит. Рано или поздно. — Он смотрит на жену и, встретясь с ее взглядом, ласково усмехается. — Она у меня коммунист, и хотя я сейчас без партбилета, мы, как и были, единомышленники… Так что придет время, и все это понадобится: материалы о Маутхаузене, разъяснение Верховного суда, факты нарушения наших прав как демобилизованных воинов. Я лично глубоко в это верю. Партия не потерпит долго такого, понимаешь, безобразия… Ну, давай по второй.
…Нет, ему, к сожалению, ничего не известно ни о Порогове, ни о Валерии. Живут где-то. Он уверен, что живут. Приумолкли, конечно, попритихли. Что до него, то он, Лелякин, не желает особенно молчать. Да, он будет стучаться во все двери — вплоть до политбюро. Его должны восстановить в партии. И всех честных ребят-коммунистов, бывших пленных, должны восстановить. И орденами должны наградить таких, как Порогов, Валерий, Иван Михеевич. А как же иначе? Нет, он не изверился, все-таки он историк-марксист. Сейчас на нашу жизнь наползла какая-то темная полоса, но она пройдет. Тут важно не изменить принципам. Коммунистом, а значит, и человеком остаться важно…
— Еще по одной?
— Нет, мне хватит, — говорю я. — Спасибо за поддержку. Я этого тебе никогда не забуду.
— Ладно, будешь жениться — пригласишь на свадьбу. А? — И опять по-мальчишески смеется Лелякин, встряхивая кудряшками и любезно поглядывая на жену.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
1
У меня такое ощущение, что я наконец проснулся. И теперь по-настоящему. Все прежнее, начиная с окружения, несомненно, было сном, дурным, страшным сном. И даже освобождение из Маутхаузене, даже выход из нашего лагеря, даже встреча с мамой, когда казалось, что вот я и пробудился, на самом деле тоже было сном, продолжением прежних снов, переходом в какую-то их иную сферу — лишь иллюзией пробуждения.
Я наконец просыпаюсь, но просыпаюсь не тем, что я был. Я снова чувствую себя полноправным гражданином и человеком, я работаю — у меня теперь интересная работа, — я обдумываю свои будущие записки о плене и самостоятельно готовлюсь в институт, и, однако, какой-то горький осадок лежит на дне души, точно выпавшая ядовитая роса от того уже рассеявшегося тумана снов…
— Почему у тебя разные глаза? — как-то спрашивает меня знакомая девушка Даша, смеясь и разглядывая поочередно то один, то другой мой глаз.
Она первая замечает, что у меня стали разные по выражению глаза, — даже мама этого не замечала, а может быть, полгода назад, когда я приезжал к ней, у меня были еще обычные глаза, во всяком случае, не разные, как у многих старых лагерников и фронтовиков, перенесших контузию.
— У тебя галлюцинация зрения, — очень серьезно говорю я Даше, хотя хорошо знаю, что она права. Я сам обратил внимание на то, что у меня на последней фотокарточке вышли разные глаза, и понял: прежнее прорезалось на моем лице. — Тебе кажется, Дашенька, — мягче прибавляю я.
Она сконфужена. Более доверчивого и непосредственного существа я еще не встречал.
Сейчас майский вечер. Мы идем по парку. Даша работает в управлении парка и в хорошую погоду обычно возвращается домой пешком — она живет где-то в конце Большой Калужской. Мы идем, приостанавливаемся, разговаривая, и опять идем.
В парке заканчиваются последние приготовления к летнему сезону: спешно докрашиваются скамейки и раковины эстрад, посыпаются толченым кирпичом дорожки, укрепляются стрелки-указатели. Скоро здесь будет много музыки, пестрой толкотни, веселой неразберихи. И различных лекций и встреч — наших мероприятий. Я, например, буду проводить литературные вечера: я инструктор по литературно-массовой работе…
— А получится у тебя это? — останавливаясь, спрашивает Даша.
— Думаю, что да. — Я догадываюсь, что она спрашивает насчет работы.
— Тебе все-таки страшновато. Правда?
— Правда.
— Но ты переборешь себя. Ты так думаешь. Правда?
— Правда. Откуда тебе известно, что я думаю? Она этого не знает. Она сама удивлена: я вижу удивление в ее темно-карих, позолоченных солнцем глазах. И вдруг удивление исчезает. В глазах испуг.
— Опять показались разными…
— Какими же?
— Один будто злой, а второй печальный, вернее, добрый и печальный. — Она открывает сумочку и торопливо сует мне зеркальце. — Погляди сам.
Я гляжусь в зеркальце. Глаза как глаза.
— Да, — говорю я, — что-то есть.
На лице Даши вспыхивает радость: значит, никакая у нее не галлюцинация. И в глазах радость и на губах — просто солнышко ясное. И вдруг солнышко меркнет. Как это у нее все быстро!
— Я потом тебе расскажу, почему они разные, — опережая вопрос, говорю я. — Как-нибудь расскажу.
И вот уже интерес, а потом сразу нетерпение и уже легкая досада — я стою и смотрю, как сменяют друг друга отражения разных чувств на ее круглышке-лице.
И странно, когда я смотрю на нее — вот и сейчас, в эту минуту, — мне кажется, что никакого горького осадка в моей душе нет…
И опять радость на ее лице. Опять проясняется солнышко.
— Подобрел тот, злой, — смеется она. — Идем! У нее каштановые волосы, стройные, сильные ноги, а талия такая тонкая, что я, наверно, мог бы обхватить ее пальцами: приставить впритык друг к другу большие пальцы, а остальными обвить талию кольцом. У меня иногда является желание это сделать. А вообще я не люблю разглядывать ее: я знаю, что она красива, — но что-то внутренне мешает мне разглядывать ее всю.
Мы проходим так называемую основную территорию и сворачиваем к набережной. Впереди нежно светится зелень Нескучного сада, справа огненной чешуей переливается гладь Москвы-реки.
— Ты, Даша, где была во время войны?
— В Москве, потом в эвакуации, а потом опять в Москве. Я работала водителем троллейбуса…
— Трудно было тебе?
— Конечно. Двери в машине не закрывались, штанги летели. Ужас! Один раз чуть не сгорела. Хорошо, не было пассажиров, и троллейбус влетел в сугроб. Я на «четверке» работала, такой длинный был маршрут: от Киевского вокзала, через Ленинские горы до Сокольников…
Ей тоже было трудно. И я ловлю себя, что мне не хочется, чтобы Даше когда-нибудь было трудно. Я хочу, чтобы ей всегда было хорошо, чтобы всегда было солнышко в ее глазах, и я хочу смотреть на это солнышко и любоваться им всегда.
Теперь смущение на ее лице.
— Ты опять догадалась, о чем я думаю?
— Да.
— Я знаю, что ты об этом догадалась. Скажи…
— Сам скажи. Или лучше не говори, если не хочешь. .
Не скажу, думаю я. Пока ни за что не скажу.
Мы познакомились с месяц назад, и с той минуты, как я увидел ее, я почувствовал, что не смогу вести себя с ней так, как я вел себя до сих пор с другими девушками, и это было почему-то очень радостно.
Может быть, я и проснулся потому, что увидел ее? А может, это новый сон? И если это сон, я больше не хочу пробуждаться.
— Ты ведь еще так мало знаешь меня, Даша.
— Да, — отвечает она печально, — почти совсем не знаю.
— Но ты все узнаешь, все.
— Узнаю, — говорит она.
2
И это тоже — желание рассказать Даше о себе, и все возрастающая, почти физическая потребность выложить на бумагу то, что еще давит душу, и особенно, наверное, наивная и твердая уверенность Лелякина, что собираемые им документы и свидетельства помогут восстановить справедливость, — все это шаг за шагом подводит меня к тому, что одним ранним июньским утром я кладу перед собой толстую тетрадь и остро отточенным карандашом пишу на первой странице крупный заголовок: «Записки из неволи».
Да, я проснулся и больше не хочу закрывать глаза на то, что было и что есть; я буду рассказывать о пережитом: ведь то, что пережил я, пережили многие сотни тысяч; пусть все узнают, что советские люди не переставали быть советскими людьми и за глухими стенами фашистских концлагерей. Помочь народу узнать правду — вот моя цель. Так я буду отстаивать человеческие и гражданские права своих товарищей и даже, может быть, окажусь полезен партии, которая не должна — не должна! — терпеть нарушения законности в нашей стране.
Гордые мысли и нескромные, наверное. Пусть. Когда я уходил на войну, у меня были тоже гордые мысли: помочь народу разгромить фашизм, отстоять свое великое право называться свободным гражданином свободной страны…
И я пишу. Каждое утро — с восьми до одиннадцати. Я снимаю угол у глухонемой старушки на улице Горького, здесь мне очень удобно, тихо, и соседи тихие люди; они принимают меня за студента.
С двенадцати и до девяти вечера я в парке, потом встречаюсь с Дашей, а в восемь часов утра я снова сажусь за свою тетрадь.
Как-то в выходной день я с Дашей еду на Большую Почтовую. Там живет художник Логвинов — единственный из знакомых маутхаузенцев-москвичей, которого я еще не навестил. Мы не застаем его дома, и я оставляю записку со своим адресом.
На следующее утро Логсинов сам приезжает ко мне. Я вижу цветущего мужчину и совершенно не узнаю в нем того, прежнего Логвинова, доходягу, которого доктор Саша Григоревский «похитил» из газового автобуса-душегубки, когда эсэсовцы проводили в лагерном лазарете очередную «селекцию».
У Логвинова чисто выбритое загорелое лицо. Он одет в спортивного покроя пиджак, шелковую тенниску, сандалеты. Он слегка навеселе… Откуда Жора взял, что Логвинов удручен? Наоборот!
— Я не помешал тебе? — Он кивает на мою тетрадь. — Это и есть твои «Записки»? Мне давеча Лелякин рассказывал, что ты пишешь. Ну что ж, дело хорошее — пиши. Однако имей в виду, о плене не напечатают ни слога. Табу.
— А я пока не думаю о напечатании.
— Не думаешь — это уже хорошо. Я немного знаком с Всеволодом Вишневским, можно было бы показать ему… А черт его знает, может, и напечатают кое-что! Важно найти приемлемый ракурс — угол зрения. Впрочем, не слушай меня, плюнь на все ракурсы и катай, как душа просит…
Всеволод Эмильевич Мейерхольд, покойник, уж какой великий был мастер, какие ракурсы, какое своеобразное прочтение — и ведь погорел старик. Я немного знал его — энциклопедист и огненный темперамент. Крайне редкое сочетание в одном художнике. Лед и пламень, как сказал поэт…
Доходяга, думаю я. Худущий, злой начальник штаба обороны лагерного лазарета… Я помню, как 5 мая 1945 года он приходил к Порогозу в бывший кабинет Цирайса. Злой, запыленный, с автоматом через плечо.
— И не в повороте темы, а в самой сути, в самой постановке вопроса… Хорошо, что это не твой хлеб. И семьи у тебя пока нет — тоже хорошо. А то не напечатали — и нечем детишек кормить. И я хотел бы так, для души. Например, как людей гонят в крематорий или — узник рвет колючую проволоку. И, однако, малюю плакаты по заказу пожарников, стенды там всякие. А то, что в партии не восстанавливают, разве кому-нибудь есть до этого дело?
И тут я вижу боль в глазах Логвинова.
— Но ты не трусь, — продолжает он. — Пиши. Хочешь, я тебе помогу?.. Впрочем, нет. Ты и не хочешь, и не надо тебе этого. Потому что, кроме внешней правды, ты должен показать еще правду внутреннюю, психологическую, так сказать, и тебе придется постоянно заглядывать в себя: посторонний глаз тут будет только помехой. Так что катай и не оглядывайся ни на кого. А не напечатают — не тужи. Я посоветовал бы каждому из наших ребят писать воспоминания, хотя их и не напечатают. Знаешь, почему писать? Есть такой термин — катарзис, что означает — очищение. Пиши — и очистишься от кошмаров. Они выйдут наружу вместе с чернилами на конце пера… Я помешал тебе, ты извини. Я сейчас на работу в свой комбинат. А насчет Всеволода Вишневского ты все-таки подумай.
Логвинов смотрит на часы и поднимается. Что мне сказать ему? Табу, ракурс, Мейерхольд — ничего этого я не знаю. Я знаю теперь лишь то, что Жора сказал правду: Логвинов сильно удручен. А он бывший мой товарищ по Маутхаузену. Значит, работая над своими «Записками», я буду трудиться и для него.
— Спасибо, Витя, — говорю я. — Очищение — это я понял.
— Ну вот, — радуется он. — Старик Аристотель тоже был на дурак.
3
Парк потускнел и грустный какой-то кажется: видимо, потому, что на дворе август, последний месяц сезона — последний месяц моей работы здесь; потом мне предстоят новые поиски работы и, вероятно, новые мытарства. Еще крутятся карусели, крутится колесо обозрения, гримасничают и хохочут перед кривыми зеркалами в комнате смеха, но это уже похоже на балаган и невесело. Усталые массовички, наверное, в тысячный раз предлагают взяться за руки и встать в круг: «И раз, два, три…» На центральной эстраде сутулятся фигуры музыкантов, на скамейках — три старушки.
И только в зеленом лектории сегодня, как и в начале лета, многолюдно. Студенты, рабочая молодежь, пенсионеры, две девушки в очках долго аплодируют профессору Семенову, критику, специалисту по советской литературе. Он, правда, выступает здорово: у него свои, часто неожиданные и не совпадающие с газетными рецензиями оценки книг, и говорит он смело и без всяких шпаргалок.
Я, по обычаю, благодарю профессора от имени слушателей, объявляю об окончании лекции и иду вместе с ним в комнатку за сценой, чтобы отметить путевку. Лекторы, как правило, очень спешат, но профессор Семенов не спешит. Взяв путевку, он дружелюбно поглядывает на меня и вдруг спрашивает:
— Вы ничего не пишете? Я удивлен.
— Откуда вы знаете?
— А у меня наметанный глаз, я с молодежью работаю. Пишете, — уже утвердительно говорит он.
— Пишу, — сознаюсь я.
— Приходите почитать… Завтра, часов в десять утра. Удобно зам?
— Очень удобно. Обязательно, — бормочу я, чувствуя, как переворачивается мое сердце.
Он называет свой адрес и, невысокий, улыбающийся, выходит из комнатки лектория.
Утром в половине десятого, прихватив с собой толстую тетрадь, я отправляюсь на Тверской бульвар. Я сразу нахожу дом № 25, но в этом доме Литературный институт. Как же так? Другого дома № 25 на Тверском бульваре нет, и, поколебавшись, я вхожу в зеленый дворик. Я решаю на всякий случай справиться о профессоре Семенове у вахтера. К моему удивлению, вахтер посылает меня вверх по лестнице. Еще раз справляюсь в коридоре у уборщицы. Она показывает мне на обитую кожей дверь.
Профессор, любовно улыбаясь, протягивает мне руку и просит садиться. Я сажусь в небольшое черное кресло и мельком оглядываю комнату. Она тоже небольшая, и письменный стол небольшой — что-то не похоже на служебный кабинет. И все-таки кабинет; на столе телефон и стаканчик с разноцветными карандашами. Кто же он по должности, профессор Семенов?
— Читайте, — говорит он.
— Прямо так и читать?
— Прямо, — улыбается он.
У него интересное лицо, теперь я лучше вижу его. Кажется, что он все время улыбается. Я встречал такие лица: улыбка на них — в мелких морщинах, в приподнятых уголках рта. — словно какой-то оборонительный щит. Что только не делает жизнь с людьми! Человек часто улыбался — вежливо, любезно, — и вот образовались такие морщинки, и кажется, будто он все время улыбается: он серьезен или печален, а на лице улыбка; он сердит, ему совсем не весело, а лицо улыбается.
Я читаю минут десять, потом взглядываю на профессора: не скучно ли ему? Глаза его строги, а уголки рта приподнять: — улыбается.
— Читайте, читайте.
Еще минут пятнадцать читаю и опять взглядываю. Глаза еще более строги, а морщинки лучатся в улыбке.
— Читайте, читайте.
Тогда я набираюсь духа и читаю, наверное, с полчаса кряду. И еще раз взглядываю на профессора и дочитываю до последней страницы.
— Все, — говорю я. Он молчит.
А мне не терпится знать, выходит ли у меня что-нибудь; за тем я и пришел к профессору, и оттого-то у меня вчера дрогнуло сердце — удается ли мне все передать так, чтобы и другой увидел и почувствовал то же, что и я.
И улыбки, кажется, больше нет на лице профессора: плохо, наверное.
— Хотите учиться в нашем институте? — помолчав еще немного, спрашивает он.
— В Литературном?
— Да, в нашем Литературном институте.
— Но… я слышал, у вас учатся начинающие поэты и писатели, они однажды выступали в парке, я знаю.
— Хотите ли?
— Очень хочу!
— Так вот, — говорит профессор и встает, и снова я вижу его улыбку, но настоящую улыбку, — я рад, что не ошибся и не ошиблись те, кто рекомендовал мне вас. Вы можете считать себя студентом нашего института.
— Но я пленный… — тихо говорю я.
— Понимаю, все понимаю. А где это, между прочим, записано, что бывший пленный не должен учиться в Литературном институте?.. Я рад за вас. То, что вы прочитали, просто здорово. Поздравляю!
И я уже ощущаю в своей руке небольшую, мягкую, но крепко пожимающую мои пальцы руку. И уже откатываются куда-то вглубь мои тревоги и мои сомнения… может быть, всего на минуту? На день? Или на час? Не знаю.
А пока торжество.
ЭПИЛОГ
И было еще многое. Летело, а иногда ползло время, радости сменялись разочарованиями, небольшие победы — провалами. Были еще и косые взгляды и незаслуженные оскорбления, и была Даша — огромное, почти неправдоподобное счастье, и омрачившая его вскоре горечь нужды, скитание по чужим углам, унижения и надежды — было все. Но при этом теперь еще постоянно был труд, без роздыха, без остановки, горячий, истовый, сладкий труд. Он скрашивал многое. Я никому не верил, что он напрасен. Я учился, работал, жил своей задачей, словом, данным себе и своим товарищем.
И вот через года пришло это…
Сперва было так. Было серенькое, будничное мартовское утро. В соседней комнате вдруг громко заговорило радио, и мы с Дашей услышали слово «умер». Рядом с другим произнесенным словом, «С т а л и н», это «у м е р» казалось чем-то противоестественным, кощунственным, хотя вот уже несколько дней люди жили в предчувствии того, что случилось теперь. Я быстро оделся и вышел на улицу. Первый человек, кого я увидел, была дворничиха тетя Груша — она несла свой широкий жестяной совок с мусором и плакала, она плакала по-вдовьи, с плотно сомкнутыми губами, вокруг которых скорбно легли тонкие прорези морщинок. Затем я увидел тучного полковника на протезе, полковник торопился, хромал, у него были набрякшие от слез, порозовевшие веки. И еще один, судя по спецовке, рабочий, шел с потрепанной хозяйственной сумкой по направлению к булочной и то и дело дотрагивался согнутым темным пальцем до своих щек. И не знаю, почему, я вдруг почувствовал гордость за этих людей; у меня было тяжело на душе, было тяжело еще до того, как громко заговорило радио, и вдруг гордость, а затем отчетливое ощущение — какие же мы все, по сути, родные, какие в час испытаний единые, и вот в чем, наверно, наша самая большая сила!..
Нужно было время, чтобы разобраться в том, отчего так много разных, в том числе обиженных, даже обездоленных Сталиным людей плакало тогда. Может быть, остро тревожились за судьбу дела, к которому вопреки всему приросли душой и которое он, Сталин, по своему положению в партии и государстве должен был возглавлять? Или прощались с прошлым, со своей молодостью, где было столько труда, терпения, подвига и так Мало сбывшихся к сроку надежд? Тогда я не мог ответить на эти вопросы, да, по совести, они в ту пору и не очень занимали меня.
Я не находил себе места в тот день. Мне было как-то особенно тяжело, я сам удивлялся, почему мне особенно тяжело, именно мне. Я еще не знал, что в тот же день, 5 марта 1953 года, скончалась мама. Она скончалась тихо, без мук, она прилегла после обеда отдохнуть, и сестра, обряжавшаяся на кухне, услышала только ее глубокий вздох и услышала, как мягко стукнулась о пол книга, выскользнувшая из натруженных маминых рук…
Потом был декабрь, гудящее потоком автомашин Садовое кольцо и развернутый газетный лист на заборе. Я попридержал отклеившийся от доски, загибавшийся сверху уголок, когда взгляд мой упал на последнюю строку официального сообщения: «Приговор приведен в исполнение». Как всегда, резануло от этих слов. А через минуту я представил себе на председательском месте за столом военного трибунала одного из самых уважаемых народом полководцев и того, матерого, с гадючьими губами и леденисто поблескивающим пенсне — за барьером, на скамье подсудимых… Я после ходил пьяный от радости. У меня была еще одна причина пьянеть от радости: издательство согласилось подписать со мной договор, и я уже видел у себя в руках ту первую, пересеченную по обложке колючей проволокой книгу — записки о фашистском концлагере.
Но и тогда я еще не совсем понимал связь между сумрачным утром 5 марта, этим гудящим декабрьским полднем и своей, как мне казалось, внезапной литературной удачей…
И, наконец, был сверкающий снег на Тверском бульваре. Было солнце, ослепительное, идущее с неба и с земли солнце. Было ощущение близкой, всегда возвращающейся весны — этот влажный, чуть пресноватый запах тронутого первым теплом снега. Мой друг из института, коммунист, чрезвычайно взволнованный, рассказывал мне о заключительном заседании XX съезда. Голос моего друга вздрагивал, он хмурился, он пытался быть мужественным. Я тоже был взволнован, но не так, как он: я злился на себя за то, что мне хотелось встать посреди сверкающих сугробов и тихо рассмеяться, — это было несуразное, непонятное и, наверно, дикое желание. А может, и не такое уж несуразное? Вероятно, то же бывает с верующим человеком, когда в одно прекрасное утро его озарит, что бога нет и не было, — и как он, человек, прежде этого не понимал? И он, наверно, злится на себя за свое желание тихо, с облегчением рассмеяться — желание, впрочем, недолгое, уступающее место иным чувствам и новым, серьезным раздумьям…
Мы тогда разошлись во мнениях с моим другом. Тот опасался всевозможных осложнений, непредвиденных трудностей. Я же, к моему счастью, не столько уразумел, сколько сразу почуял сердцем, что вот она и вернулась долгожданная правд а, бессмертная ленинская правда, источник еще более значительных и радостных перемен в нашей общей, а значит, и моей личной судьбе.
Сейчас поздний вечер, в доме тишина. Я люблю, разогнув спину после работы, постоять перед фотографией, висящей над моим столом.
Тут они в обнимку все: Валерий Захаров, Иван Михеевич, Порогов, Жора Архаров, Покатило, Костюшин, Лелякин… У них прибавилось морщин, ребята постарели, но улыбаются, счастливы. Еще бы! Под фотографией надпись: «Москва, 1957» — это место и время нашего второго рождения.
Все сбылось! Награждены боевыми орденами смелые, восстановлены в партии коммунисты, офицерам возвращены военные звания, реабилитированы невинно осужденные…
Чистый, крепкий ветер проносится над нашей землей. Он развеивает тяжкий дух недоверия, дух несправедливости. Он сметает всяческий хлам и всякие темные завалы с нашей дороги, проясняя горизонт и делая четко зримым тот мир, имя которому Коммунизм.
И чудится мне: я слышу, как поскрипывает, качаясь на ветру, обрывок колючей проволоки там, где когда-то была командировка «Почтовая». И чудится: я вижу, как прячутся, цепляясь за пеньки, те, кому не люб этот ветер. И чудится: я вижу, как встает новый день, новый мир, без разбойничьих войн и концентрационных лагерей.
Теперь мне порой кажется, что я живу какую-то седьмую жизнь. Мне кажется, что эта жизнь не кончится никогда. Она и правда не кончится: за стеной в другой комнате спокойно спят мои дети, здесь на полке в шкафу стоят мои книги; на улице за окном отдыхает в ночи большая и милая моему сердцу земля — моя Родина.

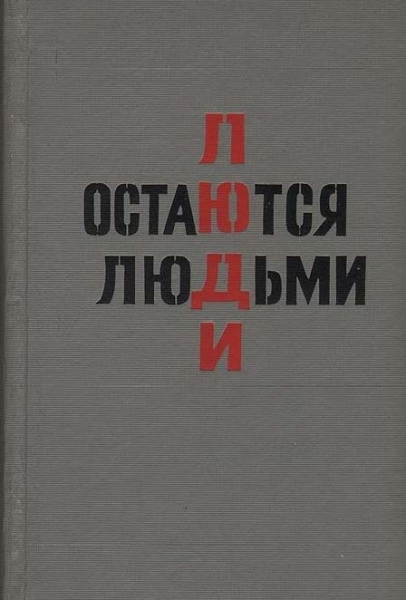
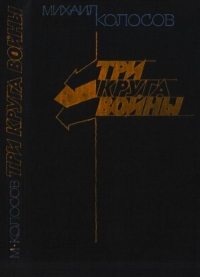
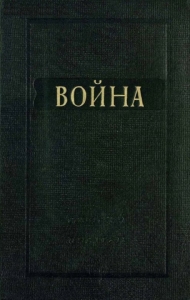




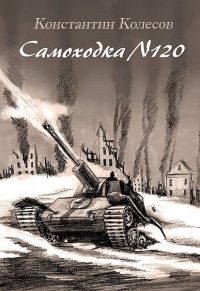

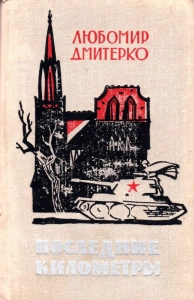
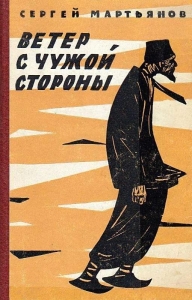

Комментарии к книге «Люди остаются людьми», Юрий Евгеньевич Пиляр
Всего 0 комментариев