Андрей Кокотюха Найти и уничтожить
Огонь настиг их как раз в тот момент, когда Тернер нырнул под перевернутый грузовик. По лежавшим на асфальте людям пронеслась тень штурмовика. Тернер втянулся глубже в пустую нишу между шасси и передним колесом. В ожидании следующего самолета он свернулся, как эмбрион, закрыл голову руками, плотно зажмурился и думал только об одном – выжить…
Иэн Макьюэн. Искупление© Кокотюха А., 2013
© DepositPhotos.com / Xalanx, Юрий Артамонов, Alexandra Karamysheva, Anton Matuschak, обложка, 2013
© Shutterstock.com / Hasloo Group Production Studio, обложка, 2013
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2013
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2013
Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Предисловие
Размеренная повседневность никогда не поставит вопрос ребром: «Жить или умереть?» Необходимость выбора дамокловым мечом нависает над головами, если начинается война. В романе Андрея Кокотюхи военные действия ведутся на всех направлениях: на фронте и в тылу. Здесь присутствует авторский вымысел, но нет места писательской выдумке. Все по-настоящему, жестко, на грани жизни и смерти.
Ремарка после ошеломляющей развязки вызывает некоторое сожаление: неужели события и персонажи вымышленные? Эх! А мы-то поверили, господин автор! Поверили, что были отважный боец Роман Дробот, жестокий предатель-особист Дерябин, партизанский командир Родимцев, он же Строгов. Даже в немецкого барона Отто Дитриха, разведчика из Абвера, поверили!
Золотая монетка в копилку писателя – за то, что бойцы Красной Армии Дроботы, офицеры НКВД Дерябины, партизаны Шалыгины и полицаи Шлыковы стали для нас неотъемлемой частью исторического события, которое принято называть «Великая Отечественная война».
При создании исторического фона в романе автор опирался на архивные документы. К примеру, приказ №8000/1942 «Положение об использовании местных вспомогательных сил на Востоке» от 17 августа 1942 года, подписанный Начальником Генерального штаба генерал-полковником сухопутных войск Ф. Гальдером, регламентировал порядок подбора и использования добровольцев из местного населения и русских военнопленных там, где ими можно было заменить немецких солдат. Герр Гальдер действовал не по своему почину: ему приказал разработать «Положение» другой влиятельный господин – Адольф Гитлер. При вторжении в СССР фюрер не планировал привлекать к сотрудничеству коллаборационистов. Однако гигантские потери сухопутных войск, которые к августу 1942 года, с учетом убитых, раненых, пропавших без вести, составили 1 млн 472 тыс. человек, вынудили Гитлера пойти на этот шаг.
В книге упоминаются тыловые хиви, служившие при военных комендатурах вермахта. Для большинства военнопленных влиться в ряды хиви (или «гиви», как их назвали в показанном на украинском телевидении документальном фильме «1941. Запрещенная правда») – единственный способ избежать смерти в концлагере. Это был реальный шанс спасти свое тело, потеряв при этом душу.
«На что я готов, чтобы выжить?» – вопрос, который не раз задают себе герои романа «Найти и уничтожить». Кто-то предпочитает смерть предательству своих товарищей. Кто-то после жестокости советской власти и пережитых при ней унижений не считает, что изменяет Родине, ища в немцах спасителей от коммунистов. Кто-то понимает: между режимами разницы нет – и начинает сражаться только за себя. Кто-то пополняет ряды тех, кого сами фашисты считали человеческим отребьем.
Хотелось бы, чтобы от читателей не ускользнула именно эта глубокая составляющая авторского замысла. Из привычных ингредиентов военно-приключенческого романа приготовлена взрывоопасная смесь: перестрелки, схватки, погони, интеллектуальные поединки, постепенно закручивающаяся пружина интриги… За всем этим – основная мысль: на войне каждый хочет выжить любой ценой. Но всегда ли стоит платить любую цену?
Часть первая Лагерь
1 Сумская область, район Ахтырки, март 1943 года
До войны здесь держали колхозный скот.
Хлев чудом уцелел во время бомбежек. Сколоченный из грубых, кое-как пригнанных друг к другу досок и продуваемый всеми ветрами, он все-таки сохранил запахи, которые обычно сопровождают скотину, – прелой соломы и навоза. Что подтверждало одну простую истину: дерьмо неистребимо во всех его проявлениях.
Роман Дробот родился и вырос в Киеве, причем в центральной части города, о сельской жизни имел очень смутное представление и прелестей крестьянства на себе не испытал. Но запахи запомнил с детства: его отец, профессор биологии Михаил Иванович Дробот, имел привычку брать внаем на летние месяцы дачу за городом. Под словом «дача» ученый-естественник понимал уютную сельскую хату, желательно – на окраине, ближе к лесу и речке. Человек должен сближаться с природой, говорил папа, снимая в таких случаях очки в тонкой оправе, и когда Рома видел этот жест, вздыхал: значит, предстоит выслушать длинный монолог, пересыпанный трудными для понимания словами из учебников и других научных книг. А суть понятна: человек – часть природы, ее порождение, высшая форма, потому чуждаться исконного не должен.
Дроботу-младшему на сельских «дачах» было неимоверно скучно, чего не скажешь о младшей сестренке: Люська довольно быстро находила общий язык с местными девчатами, те глядели на ее городские наряды, как на одеяния неземного существа, и сестра с материнского разрешения отдавала новым подружкам то из своего гардероба профессорской дочки и киевской барышни, что ей самой надоело, не нравилось или уже не подходило.
У Романа с сельскими хлопцами не ладилось. Хотя бы потому, что те были сильнее, смелее и ловчее. Навыки, полученные в спортивных кружках Осоавиахима, куда Дробот-младший записывался, следуя духу времени, не шли ни в какое сравнение с умением деревенских ездить на конях без седел, легко ориентироваться в окрестных лесах, плавать, как рыбы, ныряя с бережка обычно голяком, и главное – драться. Здесь не боялись пускать кровь похлеще, чем в киевских подворотнях и каменных дворах-колодцах: тамошние обитатели любили погонять профессорских сынков и других тюфяков, позоривших двор и улицу. Но городские дворы имели целый свод неписаных правил, которые соблюдались неукоснительно. Потому, когда Ромка однажды все-таки дал серьезный отпор, вложив в кулак все свои знания, полученные на секции французской борьбы, его тогда хоть и избили крепче обычного, но с тех пор трогать и задирать перестали. Сельские же парни являли собой стихию, дикую и неуправляемую, не признающую правил и ограничений. Для них городской оставался чужим, пока не станет таким, как они. Чего Рома Дробот себе позволить не мог.
И все-таки однажды поддался на провокацию. Его взяли на слабо, завязали глаза, завели в лес и бросили там, чтобы поглядеть, как городскому удастся выбраться. Рома плутал до темноты.
Мать с вернувшимся из Киева отцом подняли тревогу, мальчишек родители успели примерно наказать, а Люська даже расплакалась – думала, что навсегда потеряла старшего брата и его растерзали волки. Но ни волков, ни других зверей, кроме разве что белок, Роман во время своих блужданий не встретил. Вышел из лесу сам. Правда, с другой стороны, не с той, откуда его ожидали, и появился в селе как раз в тот момент, когда местные дядьки, организованные профессором Дроботом в поисковый отряд, готовились прочесывать лесной массив.
Ромке тогда тоже влетело. Его не били, у них в доме было не принято бить детей. Но пусть бы ударили: все лучше, чем выслушивать длиннющие поучительные отцовские речи. Однако именно тот случай открыл Роману Дроботу неожиданное увлечение: он загорелся научиться ориентированию в лесах, даже уломал папу купить ему компас. Свои экспедиции и вылазки совершал в одиночку, только однажды взяв с собой Люську, за что снова получил серьезный выговор от отца.
Папа, мама и сестра погибли осенью сорок первого.
Роман ушел добровольцем на фронт со второго курса Киевского университета, собирался стать юристом. Профессор Дробот попытался подключить свои связи, чтобы обеспечить сыну бронь, ведь учиться можно и в эвакуации. Но Роман решительно отказался. Между отцом и сыном состоялся непростой разговор, оба говорили на повышенных тонах. Когда профессор схватился за сердце, мама бросилась к нему, Роман же не принял это всерьез – наоборот, схватил заранее собранные вещи и ушел, хлопнув дверью. Позже, когда немцы вошли в Киев и он с длительной оказией получил плохие вести о судьбе родных, корил себя за тот поступок, понимая, что у него уже не будет возможности попросить прощения.
А семью Дроботов накрыло авиабомбой. Немецкие самолеты утюжили колонны гражданских, уходящих в тыл. Добирались кто пешком, кто на подводах, поезда не ходили. Профессору Дроботу чудом удалось раздобыть гужевой транспорт в одном из сел, куда они добрались на случайно подвернувшейся попутной полуторке. Там их семья чаще всего снимала дачу, и колхозный председатель выделил подводу. Вернее, пристроил Дроботов к семье своей свояченицы, те тоже решили уйти подальше от быстро приближающейся линии фронта. Когда над беженцами повисли самолеты и сверху посыпались безжалостные бомбы, – как написали Роману в коротком письме, которое прилагалось к сухому канцелярскому ответу на его запрос, – мать успела столкнуть Люсю с подводы, и пятнадцатилетняя девочка бросилась сломя голову к лесу, за спасительные деревья. Она слышала разрывы за спиной, но не видела, как вдруг взметнулась земля, осыпалась вперемешку с кровавыми клочьями и на месте, где стояла их подвода, образовалась глубокая страшная воронка. Может, это и хорошо, что гибель родителей произошла не на глазах сестры, подумал тогда Дробот. Может, и ладно, что сама в следующую секунду умерла мгновенно, прошитая пулеметной очередью, – разбегающихся людей расстреливали на бреющем полете, опуская самолеты настолько низко, насколько позволяли летные правила.
Сестра, прибитая пулями к земле.
Именно этот кошмар преследовал Романа в те редкие минуты покоя, которые выпадали за полтора военных года.
Именно эта, не виденная, лишь представленная в трагических подробностях картина, всплывала перед глазами рядового мотострелкового батальона Дробота теперь, когда изо дня в день он видел перед собой периметр колючей проволоки, вышки с часовыми и лагерных охранников, среди которых русская и украинская речь слышалась чаще, чем немецкая.
Едва их с Дерябиным и еще десятью пленными привезли сюда, в лагерь, устроенный на месте бывшей колхозной фермы, Роман удивился – откуда столько наших. Хотя тут же жирно перечеркнул это слово. Это – не наши, это предатели, изменники Родины, которые послушно охраняют пленных красноармейцев. Вскоре от лагерных старожилов он узнал – здешних охранников называют хиви[1], формируются они из добровольцев, которых достаточно не только среди местного населения, но и среди пленных. Те, кто не выдерживал ужасов лагеря и стремился выжить, записывались в хиви, без принуждения, даже проявляли инициативу. Дроботу показали тех охранников, которые всего месяц назад еще сидели в хлеву вместе со всеми.
Самым злобным оказался один из них – он требовал называть себя господином Лысянским или господином ландшуцманом[2]. В первый же день, когда Романа вместе с Дерябиным и другими пленными доставили в лагерь, тот выстроил пополнение в ряд, критически осмотрел и велел раздеться всем тем, у кого приметил целую шинель, гимнастерку, галифе и сапоги. Услышав приказ, Дробот покосился на Дерябина, и тот словно ощутил этот взгляд – повернул голову в его сторону, тут же отвернулся. Он оказался чуть ли не единственным, кого приказ Лысянского не касался: рукав солдатской шинели, снятой не так давно с убитого, был наполовину оторван, добытая тем же способом гимнастерка – прострелена, только с офицерскими сапогами, предметом своей гордости, старший лейтенант тогда, на опушке, не расстался. Не собирался снимать их и здесь, но когда охранник вскинул карабин и навел ствол на его голову, Николай, стиснув зубы, разулся.
Так пленные стояли в одних портянках в мокрой холодной грязи, пока полицейские собирали трофеи. Еще до наступления темноты Дробот увидел, как их одежду свалили в кучу на разложенный широкий брезент прямо у караулки, и Лысянский лично менял ее на продукты и самогон, который несли из ближайшего села люди. Крепкая одежда в тылу ценилась, ее перешивали или везли на базар, где меняли на сахар, спички, керосин, спирт.
Это рассказал Вася Боровой, в недавнем прошлом – сотрудник одной из местных комендатур, брошенный в лагерь как пособник партизан. Связи с ними тот не отрицал, даже радовался, что не расстреляли на месте, как часто бывало за подобные преступления. У Васи не было двух пальцев на правой руке, до войны он работал на пилораме. Когда пришли немцы, завербовали сразу же, но в Германию на работы не погнали, тоже благодаря инвалидности. Со слов самого Борового, он просто хотел выжить, стараясь не особо рвать пуп на немцев. Но вскоре на него вышло подполье. В записке от партизан говорилось: не станешь помогать – расстреляем как пособника. Так, оказавшись меж двух огней, Боровой все-таки выбрал сотрудничество со своими.
За что, по его словам, и поплатился.
– Знаешь, чего я тут? – сказал он Дроботу и тут же ответил на свой вопрос: – Меня по доносу взяли. Немцы, чтоб ты понимал, доносам не всегда верят. Сначала верили, конечно. После поняли: у нас тут сосед на соседа напишет кляузу только за то, что когда-то сосед с его девкой обжимался. Я на этом выехал.
– Выехал?
– Ага. Так бы шлепнули на месте. А так поволокли в Ахтырку. Там комендант… ну… начальник полиции – наш, Петро Шлыков, до войны в милиции работал. Понимает тутошнюю публику, как дела в своей хате. Если б кто посторонний донес, хана мое дело. Свой же, сосед. Говорю: господин начальник, у него сына повесили, хлопец моего возраста, он и злится. Ладно, говорит, до выяснения посиди в лагере. Тут, значит.
– И скоро выяснят?
– А хрен его знает, – признался Боровой. – Бывает, выпускают. По-другому никак, только заложить кого из своих. Или вон в охрану записаться.
Ни один из вариантов, как рассудил Дробот, для Васьки не подходил. Пока же его новый лагерный знакомый трудился в похоронной команде.
Одежду, точнее – тряпье, снятое с мертвых, должны были выбрать себе лагерные новички из общей кучи, сваленной прямо за хлевом.
Дерябин обулся в рваные ботинки. Дроботу достались штаны, из которых частично вылезла вата, и ноги в них выглядели шишковатыми; покрытая засохшей кровью, но целая телогрейка, обрезанные под чуни резиновые сапоги. Стриженую голову прикрыл неизвестно откуда взявшимся в груде обносков старым танкистским шлемом. Уютнее от этого не стало, но когда Роман натянул шлем, поймал себя на странной и совершенно неуместной мысли: теперь уши не продует и шея закрыта.
Защите именно этих частей тела членов своей семьи мама всегда уделяла особое, даже болезненное внимание. Отца с ранней осени до поздней весны не выпускала из дому, пока тот не укутается собственноручно ею связанным шарфом. Такие же «профилактические» шарфы получили и дети. Ромка, становясь старше, все чаще с какой-то бунтарской одержимостью сдирал его, прячась в глубине двора, а когда возвращался домой, там же снова наматывал. А как-то раз забыл, оставил шарф в портфеле, и мама в тот вечер сильно расстроилась, сподвигнув отца на очередную воспитательную лекцию.
Оказавшись на грубо сколоченных нарах, в продуваемом всеми ветрами хлеву, за колючей проволокой, не понимая, доживет ли он здесь до завтра, Дробот, тем не менее, невольно улыбнулся своему вынесенному из детства воспоминанию. И желанию не простудиться, чтобы не огорчить маму.
Старший лейтенант Николай Дерябин устроился рядом. Не потому, что решил держаться вместе с рядовым Дроботом, хотя они служили в одном батальоне. Просто когда двенадцать пленных вошли в хлев, превращенный в угрюмый лагерный барак, особо выбирать было не из чего. Нары тянулись вдоль стен сплошным рядом, оставляя между собой только узкий, не больше полутора метров в ширину, проход. В разных местах зияли пустотой свободные участки нар. Когда Роман машинально полез на ближайшие, попросив тех, кто сидел там, подвинуться, Дерябин двинулся следом – не захотел идти вглубь хлева. Но Дробота не отпускала мысль: особист и здесь продолжает его конвоировать, не желая отдавать себе отчет, что оба они теперь в равном положении.
И на одинаковом расстоянии от смерти.
…Рядового Дробота должны были судить и расстрелять.
Такой приговор пророчил ему начальник особого отдела батальона майор Никодимов. Хотя мог быть и другой вариант: штрафная рота, где сержант должен смыть вину кровью. Или, скорее всего, погибнуть в бою – Роман знал, что штрафников бросали на опасные участки фронта первыми, зачастую не выдавая оружия. Те отчаянно шли врукопашную, рвали немцев руками и зубами, получая больше шансов выжить, чем оставшись в траншее, – в спины штрафников смотрели безжалостные пулеметы, и этого тоже никто не скрывал. Потому остаться в живых Роману Дроботу в обозримом будущем не светило. Ругая себя последними словами за неподходящие мысли, он все-таки вынужденно признавал закон вывихнутой логики военного времени: плен на какое-то время нарушил планы военного трибунала и продлил ему жизнь.
В особом отделе батальона Дробот оказался по доносу. Кто из товарищей проявил бдительность, Роман не знал и теперь уж точно никогда не узнает. Точно так же, как потом не мог объяснить даже самому себе, зачем с его языка сорвалось: «Опять драпаем, вашу мать!» Конечно, с учетом резко изменившейся в конце февраля ситуации на фронте трудно пояснять майору НКВД, что не ругал он матерно командование Красной Армии, членов Военного Совета, партию и лично товарища Сталина, как значилось в доносе, который ему вслух зачитали.
Повидав с осени сорок первого более чем достаточно для того, чтобы научиться сдерживаться и контролировать себя, здесь Роман не выдержал. Чуть ли не впервые за долгое время в нем проявился профессорский сынок, который, будучи битым, старался сохранить достоинство и требовать хотя бы элементарной справедливости. Если бы тогда перед ним сидел не майор в новенькой форме, с недавно введенными погонами с одной звездой на плечах вместо эмалевого ромба на вороте, а тот же старший лейтенант Дерябин, «Ворошиловский стрелок» из Ворошиловграда, Дробот и не подумал бы пререкаться. Но майорское звание почему-то убедило: начальник особого отдела – грамотный, толковый, понимающий человек, способный разобрать, что сказано сознательно, а что вырвалось по глупости, на эмоциях, просто от усталости. Ведь и впрямь вскоре после Сталинграда немцы вновь теснят, Красная Армия отступает, оставляя только-только отбитые у врага города и села. Как же так, бойцы же еще слишком хорошо помнят, как отступали летом сорок второго под презрительными взглядами стоявших вдоль дорог женщин и стариков.
Майор выслушал внимательно. Дал рядовому выговориться. После чего подвел жирную черту: подобные настроения – пораженческие, товарищ, вернее, уже гражданин Дробот демонстрирует их сознательно, подтверждение тому – незаконченное высшее образование. Ладно бы рабочий или крестьянин сомневался в мощи Красной Армии и мудрости руководящей и направляющей роли партии, с теми проще, у них не всегда хватает знаний для верной оценки ситуации. Чего не скажешь о нем, Дроботе: прекрасно знает, о чем говорит, разлагает личный состав, а по законам военного времени это есть тяжкое преступление. Короче говоря, пускай с рядовым Дроботом разбираются в Особом отделе фронта. Соответствующие сопроводительные документы майор подготовит быстро, пока же Романа посадили под арест.
Уже к середине следующего дня его отправили по инстанции. Старший лейтенант НКВД Николай Дерябин получил приказ конвоировать преступника, лично доставить по назначению, передать бумаги и не задерживаться, на передовой, как видно, работы для особиста тоже хватает. Похоже, случаи разложения среди личного состава будут и в дальнейшем иметь место.
Их разместили в кузове полуторки. Руки Дроботу решили не связывать, отобрали только ремень, велели взять документы и личные вещи. Предварительно Дерябин лично обыскал его «сидор», и распоряжение о личных вещах вселило в Романа некую слабую надежду: может, не сразу к стенке. Вдруг обойдется штрафным батальоном, а там уж он, научившийся выживать в городских дворах киевский парнишка, постарается поймать шальную пулю – это считалось искуплением вины.
Арестованный и его конвоир ехали в кузове вместе с бойцами, два взвода мотострелков поступали в чье-то распоряжение по чьему-то приказу, в детали Дробот не вникал.
Через час после того, как две полуторки покинули расположение батальона и, уверенно меся грязь размытой дороги на средней скорости, двигались в указанном направлении, их атаковал немецкий истребитель.
Внезапно появившись из-за верхушек деревьев, он тут же увидел цель, спикировал, плюясь огнем, – и головную машину занесло в кювет: пули прошили лобовое стекло, поразив водителя и сидящего рядом с ним в кабине лейтенанта. Второй автомобиль, в кузове которого среди прочих тряслись Дробот с Дерябиным, вильнул вправо, уходя из-под огня, и шоферу чудом удалось это сделать. Пока «фокке-вульф» заходил на новый смертельный вираж, полуторка прибавила скорости и помчалась по пересеченной местности под прикрытие леса, поставив перед истребителем сложную, практически невыполнимую задачу – охотиться сразу за двумя мишенями. Потому их машина выиграла время, пока «фоккер» снова зашел над головной машиной и методично добил разбегающихся во все стороны солдат.
Однако самолет в небе все равно двигался быстрее автомобиля на земле: уже с третьего захода истребитель снова догнал полуторку. Именно в тот момент Роман сделал то, чего от себя никогда не ожидал и что подсказывал ему неистребимый инстинкт самосохранения. Приподнявшись со дна кузова, куда упал вместе с остальными, как только «фоккер» атаковал, он ухватился за борт, перемахнул через него, выбрасывая тело в грязь. Падая, пришел на плечо, сгруппировавшись за секунды и спасая голову. Влажная почва смягчила удар, сержант перекатился, вскочил на четвереньки, затем – на ноги и побежал, не разбирая дороги, подальше от опасного места, но тоже стремясь добраться до лесной опушки.
Сквозь стрекотание пулемета и рев мотора Дробот услышал позади себя:
– Стой! Стоять, сволочь! – И уж совсем лишнее в создавшемся положении: – Стрелять буду!
Оглянувшись на бегу, Роман увидел Дерябина. Старший лейтенант сделал то же самое, увидев, как пытается убежать его подопечный, не отдавая себе тогда отчета: последовав примеру беглеца, он тем самым спас свою собственную жизнь. В следующее мгновение истребитель завис над машиной, поливая свинцом всех, кто лежал в кузове.
Рвануло – пули прошили бензобак.
Все-таки это дало небольшую фору арестованному и его конвоиру. Пользуясь моментом, Роман из последних сил рванул под защиту леса. Дерябин припустил за ним, и когда оба оказались за деревьями, «фоккер» уже довершил расправу и скрылся из виду так же быстро, как и появился.
– Сбежать хотел, сука? – гаркнул особист, еще не до конца отдышавшись.
– Куда? – спросил Дробот и, не обращая внимания на пистолет в руке Дерябина, прислонился к стволу сосны спиной, затем медленно опустился на землю и так, сидя, взглянул на старшего лейтенанта снизу вверх, повторив: – Куда? И от кого?
– Я тебя на месте шлепну. Без приговора, – пригрозил Дерябин.
– Валяй, – устало кивнул Дробот. – Фрицы начали – ты закончишь.
Посмотрев зачем-то на пистолет, Николай, немного подумав, спрятал его назад в кобуру. Затем обернулся, посмотрел, как полыхает на открытой местности их полуторка, и перевел взгляд на головную машину.
– Надо проверить, может, есть кто живой, – проговорил он. – Только смотри мне, если что…
– А что? – уточнил Роман, даже не пытаясь подняться.
С этим старшим лейтенантом он никогда раньше не пересекался. У них в батальоне тот появился совсем недавно, щеголяя новенькой формой. Если Дерябин и был старше Дробота, то ненамного, года на три. Впрочем, годы войны старили даже вчерашних школьников, и на первый взгляд нельзя было наверняка определить возраст человека. Хотя, судя по всему, Николаю не больше двадцати пяти. Откуда его перевели в особый отдел их батальона, где он служил раньше – всего этого рядовой Дробот не знал и при других обстоятельствах предпочел бы вообще не пересекаться с особистом как в мирной жизни, так и на войне. Теперь же складывалось, что выбираться из создавшегося положения им предстояло вместе.
Подобной компании Дробот не особо радовался. Подозревал – Дерябин чувствует то же самое по отношению к нему. Но другой компании у каждого из них не было.
Из двух взводов после атаки истребителя уцелело только четверо бойцов, ехавших в кузове головной машины. Остальным «фокке-вульф» не дал ни единого шанса: очереди били сверху, пули попадали в головы, рассекали грудные клетки, а четверым удалось уцелеть только потому, что в общей свалке их прикрыли собой мертвые. Если кто-то из попутчиков Дробота с Дерябиным также укрылся за телами убитых, дело довершил взрыв.
– Надо, наверное, вытащить, – сказал Роман, кивнув на объятую огнем полуторку.
– Вот ты и полезешь, – кивнул Дерябин, вытирая с лица пот и грязь.
Ясно, что никто не собирался тащить трупы из огня. Уцелевшая полуторка тоже ни на что не годилась – правое колесо оказалось пробитым. Поняв, что среди уцелевших он единственный офицер, Дерябин принял командование. Когда Дробот потянулся за винтовкой одного из убитых, особист пресек попытку вооружиться резким:
– Не трогать!
Обернувшись на крик, Роман снова увидел в руке Николая пистолет, перевел взгляд на ничего не понимающих солдат, пожал плечами, сделал шаг назад.
– А если бой принять придется, товарищ старший лейтенант?
– Гражданин, – жестко уточнил Дерябин. – И тебе не придется, боец.
– Это почему?
– Противник далеко. Если нарвемся на кого – тебя сначала расстреляю. Ты военный преступник и потенциальный дезертир.
– А что, трибунал уже был? – Роман сделал наивное лицо.
– Сейчас я твой трибунал. Пока к своим не выйдем.
Дробот решил больше вопросов не задавать.
Перед тем как двинуться, Дерябин что-то долго высматривал в кузове. Наконец, видимо найдя нужное, забрался туда и прямо на глазах остальных принялся снимать с мертвого бойца сначала шинель, потом – гимнастерку. Прямо там, не вылезая из кузова, особист сбросил свою гимнастерку с погонами, которые выдавали его принадлежность к командному составу НКВД, быстро переоделся. Закончив перевоплощение, порылся в карманах своего брошенного обмундирования, достал документы, только после этого спрыгнул на землю. Понимая, что должен элементарно объясниться, сказал отрывисто:
– Еще неизвестно, куда выйдем. Мне лишний раз формой светить ни к чему. Она не меняет сути, товарищи бойцы. Я остаюсь старшим по званию, и на время следования вы все обязаны мне подчиняться.
– Ты – мародер, – вырвалось у Дробота.
Солдаты, привыкшие робеть перед любым офицером НКВД, дружно посмотрели на него.
– Что ты сказал? – тихо, даже зловеще переспросил Дерябин, хотя все прекрасно слышал.
– Трус и мародер, – теперь Роман говорил смелее, голос звучал звонче. – Если выйдем к нашим, я первым доложу начальству о твоем поведении. А вот ребята меня поддержат. Меня пускай судят, хрен с ним. Только и ты почешешься.
– Отставить, – Николай не кричал, говорил ровно, но именно этот тон не предвещал ничего хорошего.
– Я все сказал.
– Ну, тогда данной мне властью, именем…
Не договорив, от чьего имени собирается действовать, Дерябин в который раз выхватил пистолет, теперь уже из кармана рваной солдатской шинели. Выстрелить не успел: двое бойцов, не сговариваясь, кинулись на него с разных сторон. Один вывернул руку, заставляя пальцы разжаться. Другой обхватил Николая за талию. Особист оказался здоровым и крепким не только с виду, ему даже в таком положении удалось освободиться, но остальные свидетели вышли из ступора, навалились разом, прижали старшего лейтенанта к борту машины.
– Вы ответите! Вы все ответите! – орал Дерябин.
– Больно-то не пугай, – проговорил черноусый солдат лет тридцати. – Тут война кругом да чисто поле, товарищ командир. Вона, сколько людей до своих уже никогда не доберутся. Одним больше, война спишет. Понял?
– Отпустите, – проговорил особист уже более спокойно.
– Так-то лучше.
Его перестали держать. Дерябин одернул гимнастерку, машинально отряхнул шинель, протянул руку. Пистолет вернули, Николай опустил его в карман, исподлобья оглядел стоявших напротив людей, чуть дольше задержал взгляд на Дроботе. Затем распрямил спину, голос снова обрел командные нотки.
– Значит так. Повторяю для тех, у кого есть вопросы. Рядовой Дробот направляется в Особый отдел фронта для проведения следствия. Он совершил проступок, который в военное время определяется как преступление. У меня приказ доставить его, и я приказ выполню. Вы мне в этом поможете. А я даю слово офицера, что забуду о том, как ты, – для убедительности он показал пальцем на черноусого, – угрожал убийством офицеру НКВД, – выдержав короткую паузу, продолжил: – Учитывая особые обстоятельства, боец Дробот может взять оружие. Но по прибытию на место назначения или же – в ближайшую воинскую часть ты, Дробот, обязан будешь его сдать. Понятно?
– Так точно, – ответил Роман скорее по армейской привычке, чем в самом деле собираясь вытягиваться перед этим старшим лейтенантом.
Он подобрал винтовку. После чего их маленький отряд двинулся на восток, надеясь уже к вечеру, в худшем случае – к ночи выйти к своим. Карту Дерябин нашел в планшете убитого в кабине офицера.
Темнело рано. Быстро опустившаяся сырая ночь не стала для них главным препятствием. Когда услышали впереди раскаты канонады, пошли на звук, а через несколько часов наткнулись в лесу на группу солдат, которую вел сержант-взводный, и поняли несколько неприятных для себя вещей.
Первое: они все-таки сбились с пути, хоть и ненамного.
Второе: утром истребитель появился не зря – на одном из участков фронта внезапно прорвались немцы, стремительный маневр обеспечивался поддержкой с воздуха, и этот неполный взвод – все, что осталось от пехотного батальона, принявшего на себя основной удар.
Наконец, третье и самое неприятное: сейчас все они, сами того не подозревая, оказались во вражеском тылу. Нужно было выбираться и вести себя осторожнее.
Когда под утро их небольшой отряд нарвался-таки на немцев, Дробот подумал не о том, что вот сейчас им всем крышка, а о Николае Дерябине – это ведь он взял под свое командование всю вновь образовавшуюся группу, он вел ее и под его руководством они окончательно сбились с пути. Хотя много позже, когда всех, кто уцелел в коротком и отчаянном бою, везли в тыл врага, в лагерь, он честно признался себе: особист тут все же ни при чем. Просто ему хотелось, чтобы Дерябин оказался виноватым, а на самом деле, если не считать случая в грузовике, старший лейтенант в целом действовал грамотно.
То, что произошло с ними, не было чем-то из ряда вон выходящим на войне. Особенно когда в условиях контрнаступления противника положение на фронтах меняется даже не с каждым днем, а с каждым часом.
В чутье Дерябину тоже не откажешь, решил Дробот. Немцы не поняли, что взяли в плен офицера, тем более – особиста: документы тот выкинул сразу же, как только группа столкнулась с врагом.
Это было первое, что сделал Дерябин перед тем, как дать команду «к бою»…
Их первое хмурое лагерное утро началось с построения.
Главной фигурой был немецкий офицер в черном кожаном плаще, который стоял перед строем, поставив ноги на ширине плеч. Он что-то негромко сказал Лысянскому. Полицейский прокашлялся и гаркнул:
– На кого покажу – два шага вперед!
Затем он пошел вдоль рядов пленных, внимательно всматриваясь в лица. Когда прозвучало первое: «Ты!», до Романа тут же дошло – Лысянский узнает и выкликает новоприбывших. Значит, память хорошая, подумал Дробот почему-то. И приготовился делать два шага из строя. Следом за ним вышел Дерябин, он по-прежнему держался рядом. Когда вышли все двенадцать, офицер удовлетворенно кивнул и заговорил по-немецки. Лысянский переводил, как мог, хотя получалось у него скверно. Роман, в профессорской семье которого немецкий учили с детства, не ограничиваясь школьной программой, понимал офицера хорошо. Попутно сделал вывод: полицай в немецком языке не смыслит ни бельмеса, просто выучил отдельные слова и фразы, а сейчас даже не переводит – просто, видимо, повторяет то, что офицер уже говорил не раз и не два, не меняя сути.
– Господин оберцугфюрер спрашивает, есть ли среди вас коммунисты и комиссары?
Ответом, как и следовало ожидать, было молчание.
Офицер что-то коротко бросил полицаю, и, прежде чем Дробот успел понять его фразу, Лысянский выступил вперед, подошел к Дерябину, ткнул в него пальцем, выкрикнул:
– Ты! С тебя вчера сняли офицерские сапоги!
В холодном мартовском воздухе повисла тяжелая пауза. Николай нашелся быстро, в секунды, пусть эти секунды и отбились в голове Дробота метрономом.
– Мы из окружения. С офицера снял, подходящие. Свои сапоги потерял.
– Так лихо драпал?
– Как пришлось.
– Ну, смотри у меня…
Лысянский как смог объяснил немцу услышанное. И хотя его немецкий представлял из себя набор отдельных слов, офицер, похоже, в общих чертах все понял. Ухмыльнулся, показал Дерябину большой палец. Затем заговорил снова, стараясь произносить фразы неспешно, придавая своим словам значимость. Дробот решил не вникать, просто слушал скороговорку Лысянского.
– Господин оберцугфюрер сообщает, что победоносная армия великой Германии вновь перешла в наступление. Успехи большевиков на фронте были временными. Сейчас нужно понять, что немецких солдат уже никто и ничто не остановит. Потому господин оберцугфюрер спрашивает, кто из вас хочет служить великому рейху.
Ответом было молчание.
– Господин оберцугфюрер не спешит. Он готов подождать, пока вы не примете правильное решение. Пока же он объясняет правила, которые следует соблюдать в нашем лагере. Эти правила вам знакомы, потому что их придумали именно большевики, ваши прежние хозяева.
Видимо, этот спектакль исполнялся довольно часто. Все слова и жесты были отработаны. Закончив последнюю фразу, Лысянский замолк, а офицер проговорил на ломаном русском языке:
– Кто нье работайт, то нье кушайт.
– Теперь я вам поясню, земляки, – полицай заложил руки за спину, прошелся вдоль ряда пленных походкой школьного учителя: – У нас тут кормят только тех, кто работает. На работу выходим добровольно, никого не заставляют, здесь коммунизм, считайте, – полицай хохотнул. – Можно послужить Германии. Добровольцы зачисляются в полицейское подразделение, получают баню, чистую одежду, харчи и оклад. Кто воротит нос, может оставаться здесь. Работы тоже хватает. Хоть могилы рыть, тоже дело, – он снова хохотнул. – Остальные могут ждать своей очереди на отправку в рейх. Там вас работать заставят. Но кормить таких здесь никто не собирается. Разве что люди добрые.
Снова смешок, и на этот раз он Дроботу совсем не понравился – явственно почувствовал в нем какой-то особенно садистский тайный смысл.
– Так что, есть желающие послужить великой Германии? Всех касается. Может, передумал кто. А вы станьте в строй.
Новички подчинились. Ряды измученных пленных сомкнулись. Опять замедлилось время. Офицер закурил, Лысянский с полупоклоном угостился из его портсигара, поблагодарил: «Данке шон, герр оберцугфюрер!», зажигалку ему поднес один из топтавшихся рядом хиви. Он успел докурить, когда из строя прозвучало:
– Я!
Протолкнувшись из второго ряда, на плац строевым шагом вышел мужчина лет сорока в грязной шинели и пилотке, натянутой на уши.
– Фамилия? – спросил Лысянский.
– Шевелев. Старший сержант Шевелев.
– Молодец, Шевелев. Слушай мою команду – кру-гом!
Старший сержант послушно повернулся через левое плечо, и со своего места Роман увидел худое остроносое лицо. Шевелев смотрел на пленных одним глазом. Веко второго было опущено до половины.
– Кто хочет взять пример с Шевелева?
С разных концов строя боязливо, не слишком уверенно, видно не до конца понимая, что делают и на что решились, вышли еще четверо оборвышей. Среди них оказался один из солдат, пехотинец, рядовой Ваня Синельников, попавший в лагерь вместе с Дроботом. Все четверо поравнялись с одноглазым Шевелевым и, не ожидая команды, повернулись лицом к остальным.
– Вот так! – Лысянский несколько раз хлопнул в ладоши. – Остальным думать. Большевикам хоть как хана, – это прозвучало уже совсем по-простецки.
По его команде новобранцы повернулись и, ступая не в ногу, скорее волоча ноги, двинулись к лагерным воротам, за колючую проволоку. Офицер довольно кивнул и пошел в ту же сторону. Видимо, свою сегодняшнюю миссию он считал выполненной. Его место рядом с Лысянским заняли пятеро хиви, вооруженных немецкими автоматами и карабинами. На одном из них Дробот увидел добротное кожаное пальто, перетянутое офицерской портупеей, другой выделялся трофейной офицерской шинелью с каракулевым воротником. Все взяли оружие наперевес.
– Ну, значит так, лодыри, – Лысянский заложил руки за спину. – Кто пойдет сегодня работать в лес? Пайку вам прямо туда доставят. Или мне назначать?
Дробот забыл, когда ел в последний раз. Кажется, два дня назад сгрыз несколько сухарей и запил водой из фляги. Упоминание о еде вызвало спазм в желудке, и он подался вперед, собираясь шагнуть из строя. В конце концов, это не служить немцам, просто работать, и пускай труд рабский. Это поможет не сойти с ума, подсказывал внутренний голос. В конце концов, даже баланда способна поддержать силы.
Но внезапно, когда его тело уже обозначило движение, сзади кто-то цепко схватил за локоть, сильно сжал пальцы. В затылок прошипели:
– Стой на месте… Хочешь жить – замри…
Дробот замер. Следуя странной необъяснимой привычке наблюдать за Дерябиным, он заметил боковым зрением – «Ворошиловский стрелок» даже не дернулся, глядел прямо перед собой и вообще держался так, будто ни плен, ни лагерь, ни слова немцев, ни приказы полицаев его никоим образом не касались.
Между тем из строя никто так и не вышел. Лысянский осклабился.
– Ладно, товарищи, будем делать, как всегда. Первый ряд, два шага вперед! На первый-десятый – рассчитайсь!
Подчинившись, пленные начали расчет. Хиви рассредоточились вдоль колонны, внимательно следя за происходящим.
Дерябин оказался восьмым.
Дробот – девятым.
Парня рядом с ним «каракуль» грубо выволок из строя, точно так же остальные поступили с каждым десятым. Роман успел заметить выражение его лица: не испуганное, а покорное и обреченное.
Ту же процедуру прошли пленные из второго ряда. Стоя к ним спиной, Дробот ничего не видел – только услышал, как вспыхнула короткая отчаянная возня. «Каракуль», вскинув карабин, пальнул поверх голов, и почти весь первый ряд инстинктивно дернулся вниз, преклонив колени. Дерябин оказался среди тех, кто даже не вздрогнул, и Дроботу, который, по примеру большинства, машинально пригнулся, показалось на мгновение – тонкие губы особиста изогнулись в презрительной усмешке. Или он впрямь не боялся, или – Роман так и не смог в такое поверить, – просто любовался самим собой даже в такой ситуации.
Между тем хиви уже волокли из строя двух пленных. Один, низенький дядька с широкими скулами, матерно орал на молодого паренька с ежиком рыжих волос. Дробот не сразу, но понял – скуластый попытался занять место рыжего прямо в строю, а хлопцу это, конечно же, не понравилось. Судя по реакции Лысянского и остальных полицаев, такие случаи уже не раз имели место. И наказание последовало наверняка стандартное: на работу в лес послали обоих.
Что давало Дроботу серьезную пищу для размышлений. Хотя вывод напрашивался самый простой: работа в лесу гарантирует какую-то кормежку, но в то же время означает нечто, близкое к смертному приговору.
– С этим ясно, – проговорил между тем Лысянский. – Желающие могилы копать сегодня будут?
Не дожидаясь специального приказа, из строя шагнул Васька Боровой, его примеру последовало сразу полтора десятка пленных. Дробот прикинул: вместе с теми, кому выпало отправляться в лес, и горсткой добровольцев получилась треть всех узников лагеря. Какая участь уготована остальным, он не имел представления. Но, вероятно, не самая завидная.
Здесь все приговорены, понял Роман. Кто к быстрой смерти. Кто – к медленной. И любая смерть страшна.
Когда пленным велели разойтись, могильщики, как назвал их про себя Дробот, сразу же сбились в отдельную кучку. Двадцать человек, отобранных для работы в лесу, построили в ряд и под конвоем вывели за ворота. Рыжий парнишка обернулся на ходу, бросая, как показалось Роману, прощальный взгляд на лагерный барак, но получил от полицая в кожаном пальто прикладом по спине, согнулся и покорно поплелся с остальными.
Пленные, оставшиеся не у дел, медленно разбрелись по лагерю. Дерябин, держа руки в карманах, подошел ближе чуть развалистой походкой, подражая городской шпане, с которой Роман всю сознательную жизнь сталкивался постоянно.
– Чего не вышел?
– Куда? – не понял Дробот.
– Добровольцем. Ванька вон, Синельников, не постеснялся. Наблюдал я тут его, пока мы плутали.
– И что высмотрел? – спросил Роман без особого любопытства, просто поняв – так или иначе избегать общения с Николаем здесь, в лагере, ему никак не удастся.
– Не высмотрел – послушал. Властью недоволен, в армию, говорит, его чуть не силой призвали. Бронь, вишь, была, потом сняли. В целом подозрительный элемент. Жаль, не успели выйти к нашим. Сдал бы врага… с тобой до пары.
Дробот глянул по сторонам. На них никто не обращал внимания.
– Слушай, старшой, – процедил он сквозь зубы, подойдя к Николаю вплотную. – Хотел бы я тебя, как говорили пацаны с нашей улицы, вломить, давно вломил бы. Может, накормили бы, кабы сдал чекиста и коммуниста. Ты партийный, кажись?
– Кандидат, – в тон ему ответил Дерябин.
– Ну, им, – Дробот кивнул в сторону караулки у лагерных ворот, – и особиста за глаза хватит. Если ты еще не понял… Тут нет уже ни старшего лейтенанта Дерябина, ни сержанта Дробота. Мы с тобой на одних нарах, в одном бараке, за одной колючкой. И охраняют нас одинаково. Жрать хотим тоже одинаково. Хочешь – будем вместе, пока живые. Не хочешь – отвянь, будешь сам по себе. Только не зли меня.
– А если разозлю? Вломишь? – Теперь на караулку кивнул Дерябин.
– Станем кусаться – их порадуем, – ответил Роман и, не желая продолжать пустой разговор, отошел в сторону, неспешно двинувшись к стене хлева. Там, под выступающим краем кровли, была узкая полоска сухой земли. Месить весеннюю грязь ему надоело, хотя Дробот и понимал: эта грязь, возможно, последнее, что ему предстоит видеть в жизни.
На полпути рядом с ним кто-то пристроился, легонько толкнул. Повернув голову, Роман увидел высокого худого пленного в такой же, как у него, телогрейке, галифе и войлочных ботах, к пяткам которых были крепко привязаны деревянные планки.
– Отойдем, – проговорил высокий, и Роман узнал голос – это он удержал от выхода из строя.
Подойдя к серой дощатой стене, высокий присел на корточки, опершись о нее боком. Дробот последовал его примеру, увидел протянутую руку, пожал ее.
– Кондаков. Семен.
– Рома… Дробот Роман.
– Я так гляжу, вы с тем вон ухарем чего-то делите…
– Мы просто из одного батальона. Он у меня консервы воровал.
– Вот шакал… Смешно, – Кондаков сплюнул под ноги, прокашлялся. – Слушай сюда. Я тут третью неделю гужуюсь. Летчик я, сбитый, возвращался с задания, дальше ясно? – Роман кивнул. – Кое-что в здешних раскладах скумекал. Хотя больше неясного, тут странно как-то все… Ты главное запомни, Рома: кто в лес на работу не пошел – дольше на день-два прожил. А в лагере, как ты понял, и это – за счастье.
– Что там такое?
– Черт его знает. Когда меня только сюда определили, люди туда вызывались по незнанию разве. Вообще-то оттуда не возвращаются. Только на подводах.
– На подводах?
– Думаешь, барахло, что на нас с тобой – оно с кого? А могилы мы здесь кому роем? Туда, в лес, нашего брата примерно раз в десять дней волокут. Могут без всякой переклички, только, похоже, нравится такая игра фрицам. Да и хиви не против, развлекаются… Там как в страшной сказке, Рома: сидит какой-то страшный зверь, жертв требует.
– Что-то я не пойму, Семен.
– Я сам не до всего еще дошел. Но мыслю так: в лесу немцы чего-то строят. Когда одна партия рабов выдыхается, их там же, на месте, шлепают. А делается это, по всему, для того, чтобы никто из них не вернулся сюда и не начал ничего ляпать.
– Куда это уйдет? Проще всех сразу в расход…
– Это ты так запросто себя приговорил. У фрицев, как я мыслю, на сей счет другие планы. И на весь этот лагерь – другие виды, свои какие-то. Но в лесу они строят что-то секретное, тут к бабке не ходи. Я разведчик, Рома, пускай и воздушный. Сколько раз такие вот всякие объекты высматривали с воздуха… Между прочим, такое у меня в этот раз было задание.
– В смысле?
– Проверить сведения, есть ли в указанном квадрате какое-то строительство.
– Проверил?
– Не успел. Сбили на подступах. Видать, охраняется.
Дробот задумчиво потер подбородок.
– Зачем ты мне это все рассказал?
– А Бог меня знает, Рома… Стоял за тобой, ты дернулся, я остановил. Теперь вот просвещаю.
– И многих ты так просветил?
– Я людей чувствую, Дробот.
– Ну, и чего почувствовал?
Кондаков оглянулся, снова сплюнул под ноги серую слюну.
– Когда ноги отсюда сделаем, будет что нашим рассказать. Я это место на карте с ходу найду и обозначу. Да и ты, похоже, не затушуешься.
Теперь огляделся Дробот, проговорил негромко:
– А что, отсюда можно бежать?
– Задумки есть кой-какие, – кивнул Кондаков. – И способ имеется. Только сработает один раз. И то для двоих. Самое большее – для троих. Потому и тихарюсь до поры, здесь не всякому доверять можно.
– Почему?
– Жить хотят. Мы с тобой тоже хотим, Рома. Но если кто сильнее нас захочет, за кусок хлеба с салом побег сдадут на раз.
– Мне ты почему поверил?
– А кто сказал, что я тебе до конца верю?
И на губах Кондакова заиграла хитрая жесткая улыбка.
2 Харьковская область, западнее Богодухова, март 1943 года
Ходом операции командир отряда Игорь Родимцев остался доволен.
Действуя четко по утвержденному плану, отряд блокировал село Зарядье, оставив на окраинах засады. Основные силы ударили по зданию полиции. Разведка донесла, что местные полицаи предпочитают держаться своего куста. Редко кто ночует по своим хатам, разве какой рискнет загулять с любовницей, оставшись у нее. Эти дома также были известны заранее, потому даже одиночные попытки сопротивления удалось подавить в зародыше.
Трупы полицаев лежали там, где их настигли пули. Многие успели одеться лишь наполовину. Кто-то запрыгнул в штаны, оставшись в нижней рубахе, кто-то наоборот – схватил верхнюю одежду и даже натянул сапоги, оставшись при этом в белеющих в темноте кальсонах.
Полицейских расстреливали на месте, со стороны это напоминало настоящую бойню, но такое сравнение Родимцеву даже нравилось: за то время, что его отряд действовал в здешних краях, о нем и его бойцах пошла слава, как о не знающих пощады. Полицаев, которые в панике пытались сдаться, капитан Родимцев приказывал отводить в сторону. И когда комиссар Иващенко вместе с двумя партизанами приволокли, наконец, старосту, буквально выцарапанного из подпола, где он до половины зарылся в конфискованную картошку, командир приказал повесить его на глазах у местных жителей и пленных полицейских.
Люди, одетые кто во что успел, полукольцом сгрудились на небольшой площади перед зданием сельсовета, в котором теперь сидел староста и располагался полицейский куст. Сюда сбежались почти все жители. А кто не собирался, надеясь пересидеть дома и этот ужас, тех партизаны по личному приказу Родимцева чуть не силой, в отдельных случаях угрожая оружием, вывели в ночь.
Казнь свершилась в тишине. Шум поднялся, лишь когда прозвучал приказ ставить к стенке уцелевших полицаев. Их осталось четверо, они кричали наперебой, каждый свое, и в криках смешались угрозы, мат, мольбы о пощаде, клятвы искупить вину, проклятия в адрес советской власти и партии. В ответ люди, также перекрикивая друг друга, припоминали предателям все обиды, нанесенные за последнее время. От такого человеческого гама у Родимцева на короткое время разболелась голова, и закончить все это можно и нужно было только одним способом.
Подозвав к себе начштаба Фомина, командир отдал короткий приказ, и уже через несколько минут рядом с ним стояла женщина, одетая, в отличие от большинства сельчан, не наспех, даже в такой момент выделяясь аккуратностью и какой-то крестьянской основательностью во всем, что делала и говорила. На вид ей было за тридцать, длинные светлые волосы падали на плечи, их прикрывал теплый шерстяной платок.
– Давай, узнавай, Татьяна, – Родимцев кивнул на четверку. – Мне их анкетные данные без надобности, дерьма-то…
Женщина подошла ближе, кто-то из партизан для удобства подсуетился с фонариком, желто-белый луч уперся в лицо первого слева. Татьяна не успела ничего сказать – где-то рядом вновь застрочил автоматный хор. Встрепенулись и люди, но Фомин сделал успокаивающий жест, объяснил командиру.
– Начальника полиции, похоже, нашли. Разведчики лично занимаются. Огрызается, сволочь.
– Долго искали, – Родимцев приблизил к глазам руку с часами на запястье. – Никак в землю зарылся, крот поганый?
– Ни в участке, ни дома его не было. Узнавали, где искать, – начальник штаба ограничился этим объяснением. – Сейчас возьмут, Савченко лично занимается.
Командир кивнул, то ли соглашаясь с Фоминым, то ли каким-то другим своим мыслям, и снова перевел взгляд на Татьяну:
– Так что тут у нас?
Женщина шагнула к полицаю, закрывавшемуся от света фонаря, схватила за кисть руки, резко рванула вниз.
– Убери! Страшно, гнида? Морду прячешь? – Она обернулась к командиру. – Завгородний, Иван Иванович. Счетоводом работал, проворовался. Теперь вот к немцам пошел как обиженный советской властью.
– Пиши, Фомин, – распорядился Родимцев.
– Не надо бумагу марать, – остановила его Татьяна, вытащила из кармана полупальто, перешитого из старой серой шинели, сложенный вдвое лист, протянула командиру. – Вот, тут все двенадцать, голубчики. Этот тоже есть, подчеркивайте нужное.
– Есть такой Завгородний, – сверился со списком Фомин.
– Сучка ты, – бросил полицай, стоявший следующим.
– Григорук Игнат Петрович, – вновь обернувшись, сказала женщина. – Дезертир, его местная, тетка Надежда, у себя в погребе прятала. Сын у нее в армии, вот и подумала, что и ему так же кто-то поможет. А этому надоело в погребе сидеть. Сам же, скотина, тетку Надежду расстрелял, доказывал новым хозяевам свою преданность.
– Расстрелял-то за что?
– Прятала красноармейца. Значит, может помогать партизанам.
Стихшие было выстрелы грянули вновь.
– Долго возятся, – поморщился Родимцев. – У него там что, крепость неприступная? Ладно, Зимина, кто тут у нас дальше…
– Авдеев Матвей Николаевич. Он нездешний, отец из раскулаченных.
– Кончай комедию, командир! – выкрикнул тот, кого назвали Авдеевым. – Руби под корень, краснопузый! Батю в Сибири сгноили, младшего брата – в тюрьме! Последний я из Авдеевых, так что валяй, не жалей! Сталин ваш тоже подохнет, на том свете с ним встретимся!
Командир промолчал. Казалось, сейчас его занимал бой, идущий неподалеку, на соседней улице. Пока же Татьяна Зимина опознала последнего из четверки.
– Дидковский, Петр Иванович. Тоже не наш, в Бахмаче на станции работал. Лично ходил с немцами по дворам, когда те брали девчат, чтобы гнать в Германию на работу. Одна мать дочку спрятала, так этот гад жынку избил сильно, три ребра сломал.
– Все понятно, – Родимцев кашлянул, взял у Фомина список. – Фиксируй, начштаба, потом приказом оформишь, – он снова прокашлялся, заговорил громче, стараясь перекричать пальбу. – Мною, командиром отдельного партизанского отряда «Смерть врагу!», капитаном Народного комиссариата внутренних дел Родимцевым Игорем Ильичом, установлено: граждане, – тут он на миг замялся, – бывшие граждане Завгородний Иван Иванович, Григорук Игнат Петрович, Авдеев Матвей Николаевич и Дидковский Петр Иванович перешли на сторону врага и поступили на службу в полицейский куст села Зарядье. Всецело став предателями своего народа, они участвовали в истязаниях и убийствах советских граждан, содействовали угону их на работы в фашистскую Германию, занимались грабежом населения. А также выдавали партизан и всех честных граждан, кто вставал на праведную борьбу с фашистским зверьем, – пока командир говорил, его плечи распрямились, грудь чуть выдалась вперед, натягивая ремни портупеи. – На основании сказанного выше данной мне властью приказываю: полицейских, немецких пособников и врагов народа Завгороднего, Григорука, Авдеева и Дидковского как предателей расстрелять. Приговор привести в исполнение немедленно. Последнего слова преступникам не предоставлять. Давайте.
Закончив, командир отступил чуть в сторону. Сразу же щелкнули затворы. Из всех четверых приговоренных только Авдеев успел выкрикнуть: «Смерть Сталину!» – остальные приняли приговор молча и рухнули на землю под градом очередей одновременно, словно по команде. Зимина быстро отвернулась, остальные же люди молча смотрели на казнь. Лишь когда прекратили стрелять, какой-то мужчина из толпы подал голос:
– Вы пошумели и ушли. А они вернутся.
– Верно, – поддержал его женский голос. – Немцы село пожгут!
– Вас мало жгли? – резко спросил командир.
И словно в ответ небо озарил сполох – загорелась хата, которую вот уже минут пятнадцать пытался взять штурмом взвод разведчиков, где засел начальник полиции.
Выстрелы уже стихли.
Но истошный надрывный крик не прекращался, звенел в ушах, отдавался в головах. И казалось – этот дикий вопль издает не женщина, даже не человек, а насмерть перепуганное животное, которое видит смерть, готово к ней, но умереть хочет быстро, не так жутко, как уготовила живому существу судьба.
Кричали в доме, объятом пламенем. Его сполохи терзали мартовскую ночь, превращая темноту в яркие алые клочья, и никто не надеялся, что мелкий дождик, который решили напоследок посеять небеса, сможет хоть как-то обуздать беспощадный всепоглощающий пожар. Отрядные разведчики, опустив оружие, завороженно смотрели на огненные языки, начинавшие лизать крышу. Сбив на затылок пилотку, командир взвода разведчиков Павел Шалыгин сказал подошедшему командиру, обращаясь совсем уж не по уставу, по-свойски, словно сообщал о мелкой житейской неприятности:
– Слышь, Ильич, это не мы. Они оттудова, изнутри, сами запалились.
– Чего она орет-то, раз сами?
– Так не хочет живьем гореть, не Жанна д’Арк. А выходить тоже боится.
– Сгорит, – проговорил подоспевший Фомин. – Так и будем стоять?
Родимцев пожал плечами. Затем обернулся, взглянув на подтянувшихся людей. Сюда пришли не все, большая часть сразу разбрелась по хатам, и командир понимал: кто-то уже сегодня соберет нехитрый скарб и потянется в лес, вполне резонно опасаясь прихода карателей. Правда, в сыром мартовском лесу беглецам долго не продержаться. Конечно, если не наткнутся на какой-нибудь другой отряд, перед бойцами которого не стоят такие задачи, которые руководство поставило ему, капитану Родимцеву. Отыскав среди подошедших Татьяну Зимину, окликнул ее. Та приблизилась, морщась от звуков несмолкающего пронзительного крика, спросила:
– Что, Ильич?
– Кто там надрывается?
– Яценко Катерина, ее хата. Вдова командира Красной Армии, мужа убили еще в сорок первом, под Минском. Успела даже похоронку получить.
– Вдова, значит…
Поколебавшись совсем недолго, командир скинул шапку, протянул ее Татьяне. Освободившись от портупеи, расстегнул шинель, ее подхватил Шалыгин. Оставшись в гимнастерке, офицерской, из добротной полушерстяной ткани, но без погон, капитан Родимцев, чуть подумав, сунул в карман галифе свой ТТ, затем набычил голову и, не давая себе возможности передумать, широкими прыжками кинулся через двор к горевшей хате.
Когда взбежал на низенькое крыльцо, его обдало жаром и Родимцев невольно попятился назад. Но тут же обругал себя вслух, навалился на дверь.
Заперто изнутри.
Чуть разбежавшись, Игорь хватил по двери ногой. Но запоры оказались крепкими. Между тем крики изнутри превратились в один протяжный вой медленно умирающей собаки, и Родимцев, недолго думая, бросился к ближайшему окну, рама которого щетинилась острыми зубами осколков разбитого стекла. Тут пригодился пистолет – капитан докрошил стекло его дулом, затем выставил локоть вперед, прикрывая лицо от жара и пепла, и так быстро, насколько позволяла ширина оконного проема, забрался внутрь.
Здесь рождался ад.
Едва уклонившись от падающей балки, скорее почувствовав это, чем увидев опасность, Родимцев отскочил к объятой пламенем стене, стараясь не прижиматься к ней. Дым разъедал глаза, проникал в ноздри, драл горло. Дышать было нечем, Игорь закашлялся от резкой боли в легких, куда ворвалась гарь, сложился пополам. И все-таки ему удалось убедиться – вопли доносятся из соседней комнаты.
Когда Родимцев, снова нагнув голову и пытаясь дышать часто, пошел на крик, его ноги натолкнулись на что-то большое и мягкое. Не удержав равновесие и опустившись на колени, командир скорее понял, чем увидел в дыму: он стоит на трупе. Тело лежало лицом вниз, вокруг бушевало пламя, языки уже лизали руки мертвеца, и все-таки командир сполз на пол, перевернул его лицом верх. Сквозь пелену дыма на него смотрело незнакомое лицо, и даже сейчас Родимцев отметил – оно было идеально круглым, а похожий на картошку нос делал его и вовсе комичным. Хотя, когда начальник полицейского куста села Зарядье был жив, никто не позволял себе смеяться над его внешностью.
Лично Родимцев никогда с этим человеком знаком не был. Описание передала Татьяна Зимина, их агент и связная. Как и другие детали, которые полагались для личного дела предателя и врага народа. Привычка запоминать детали выработалась в последние семь лет, с тех пор как пришел в органы. Игорь не изменял ей даже тогда, когда по приказу командования был заброшен в тыл и сформировал свой особый отряд.
Пусть сейчас вокруг бушевало пламя – Родимцев живо воссоздал довольно ясную картину случившегося. Круглолицый начальник зарядьевской полиции прятался здесь, думал – не отыщут, но он не знал, что благодаря Зиминой партизанам были хорошо известны связи не только начальника, но и рядовых полицейских. Когда увидел, что деваться некуда, – открыл огонь, а после поджег хату, пытаясь под прикрытием дыма вырваться и дать стрекача. Но пуля, скорее всего шальная, достала его в оконном проеме, он успел перебежать по инерции через всю комнату и упасть здесь, у входа в соседнюю.
Горели занавески.
Родимцев теперь точно знал, где искать. В дыму метнулась женская фигура, Игорь изловчился, ухватил ее за плечо, потом сразу же – за длинные, растрепанные, уже понемногу тлеющие волосы, и, невзирая на неразборчивые и громкие вопли, поволок из огня. Женщина махала руками, но не сопротивлялась, и Родимцев, снова уклонившись от падающей балки, таки пробился сквозь густую горячую пелену к спасительному оконному проему, подтолкнул к нему женщину, отпустив волосы, схватил за плечи, чуть не силой сунул головой в окно, помог сзади. И вот уже спасенная, в одной длинной ночной сорочке, босая, оказалась снаружи. К ней тут же бросились Шалыгин на пару с еще одним разведчиком, подхватили под руки, поволокли со двора. Командир выбрался наружу без посторонней помощи, на ходу погасил тлеющий край гимнастерки, прокашлялся и, не оборачиваясь, двинулся за остальными.
Партизаны окружили спасенную женщину. Она прятала черное от сажи лицо, без особого успеха стараясь, чтобы его не могли разглядеть в отблесках пламени. Уже не кричала, лишь слегка подвывала. Босая она стояла на холодной влажной земле, но ее, похоже, это не волновало. Так же, как и партизан, не говоря уже о сгрудившихся местных жителях.
– Она? – спросил Родимцев, вытирая слезящиеся от едкого дыма глаза.
– Она, Игорь Ильич, – подтвердила Зимина. – Яценко Катерина Петровна, сволочь, сожительница начальника полиции. Выдала нескольких наших, активно помогала отбирать девушек для отправки к Германию. Лично ездила с немецкими офицерами по селам. С ними тоже спала.
– Было такое? – Командир тряхнул неумолкающую женщину за плечо. Она в ответ только еще громче завыла.
– Что ж она, и с начальником, и с хозяевами? – уточнил Фомин.
– Он ругался. Даже побил ее один раз. Так эта сука побежала к немцам, пожаловалась. Так начальника чуть не разжаловали в простые полицейские.
– Было? – снова спросил Родимцев, тут же ответил: – Было, было. Сорока ты белобока, этому дала, этому дала. Отойдите от нее, быстро!
Партизаны расступились. Теперь Катерина Яценко стояла одна, освещенная яркими сполохами все сильнее разгорающейся хаты.
– Вдова красного командира! – Зубы Родимцева скрипнули. – Что скажешь? Или нечего, слов нету?
– Жить-то как? – тихо проговорила женщина, уже не воя, только всхлипывая и глотая слезы. – Как жить? Мужа убили, вы ушли… Видела я… Все мы видели, как наша… ваша армия… Герои…
– Молчать! – рявкнул Родимцев. – Молчать, сволочь! Все с тобой ясно! Фиксируй себе, начштаба. В ходе боевой операции по зачистке полицейского куста села Зарядье также установлено, что вдова командира Красной Армии, жительница указанного села Яценко Катерина Петровна, сознательно вступила в преступную связь с изменником Родины, начальником полиции… как там его… А, неважно, укажем потом. Значит, вступила в связь с предателем, также неоднократно и без принуждения вступала в сожительство с фашистскими оккупантами, выдавала врагу советских граждан, способствовала отправке советских девушек на каторжные работы в Германию. Учитывая совершенные Яценко Катериной преступления, приказываю: расстрелять на месте, без проведения дальнейшего следствия.
Этот приговор Родимцев исполнил собственноручно.
Сделав два шага назад, вытащил ТТ из кармана, взвел курок, навел на дрожащую женщину, медленно опустившуюся на колени.
Когда нажимал спуск раз, потом – еще дважды, не видел, как Татьяна Зимина снова отвернулась, закрыв при этом лицо руками. Ей очень не хотелось, чтобы командир и другие партизаны видели ее в минуты слабости. Потому, когда Родимцев закончил, быстро повернулась – она должна оставаться для всех железной связной, лишенной таких неуместных на войне сантиментов.
Наверное, это неправильно, когда у начальника тайной полевой полиции болит живот.
Впрочем, оберштурмфюрер Хайнеманн за год, что служил в рейхскомиссариате «Украина», привык – здесь все не по правилам. Подчиненные обязаны были обращаться к нему не так, как раньше: получив назначение и возглавив отдел тайной полиции, он превратился в криминалькомиссара, хотя по-прежнему оставался на службе в гестапо. Все происходило по законам немецкой бюрократии, в которой Хайнеманн, как настоящий немец и службист с большим опытом, даже не пытался искать наличия формальной логики.
Попав из мюнхенского гестапо в военную контрразведку, Хайнеманн, как и остальные, кто получил такое же назначение, оказался в подчинении Абвера. Лично ему, сотруднику тайной государственной полиции с десятилетним стажем, не слишком хотелось получать указания от заносчивых снобов, которыми он считал всех без исключения офицеров военной контрразведки. Те же, в свою очередь, старались по возможности держать дистанцию от «грязных палачей» из гестапо. Но птенцы из ведомства адмирала Канариса, как и следовало ожидать, оказались полнейшими профанами, когда дело дошло до организации работы в собственном тылу. Понимая это, люди из управления Абвер-заграница и офицеры гестапо, оказавшись в единой структуре тайной полевой полиции, терпели друг друга.
А вот острые колики выносить, сохраняя при этом лицо, Гюнтеру Хайнеманну было труднее. Они появились утром, после вчерашнего ужина в здешнем офицерском казино, и криминалькомиссар чем дальше, тем обоснованнее подозревал – его отравили. Либо же пытались отравить. Немецкому офицеру на оккупированной территории приходится если не бояться всего, что само по себе унизительно, то хотя бы сжиться с мыслью: не сегодня так завтра на партизанской кухне приготовят и подадут очередное покушение. Хотя… чего уж там, себе-то можно признаться. Да, он, Гюнтер Хайнеманн, действительно опасался за свою жизнь. И готов был на любое пари – почти каждый его коллега боялся не меньше. Просто он, как и прочие, старательно не показывал виду.
Тем не менее это проще, чем скрывать рези в желудке. Однако когда слушаешь неприятный доклад, гримасы боли всегда можно объяснить обычным недовольством. Вообще, вряд ли нужно что-то объяснять присутствующим.
– Я прочел ваш отчет, Венцель, – рука похлопала по тонкой кожаной папке, которую заместитель положил перед ним на стол. – Сейчас вы его просто повторяете. И если хотите получить хорошую оценку за то, что умеете заучивать собственные отчеты наизусть, считайте, что я вам уже ее поставил. Пока же мне хочется услышать, что вы делаете, чтобы ликвидировать так называемый отряд «Смерть врагу!».
– У них нет постоянной базы, герр оберштурмфюрер, – Венцелю привычнее было обращаться к начальнику по званию, присвоенному тому в СС. – По нашим сведениям, отряд, которым руководит указанный в отчете Родимцев, не совсем привычная нам вооруженная банда. Точнее, бандитами руководят специально подготовленные офицеры НКВД. Значит, нам приходится иметь дело с мобильной, не слишком большой группой, цель которой – террор в нашем тылу.
– Именно террор?
– В самом широком понимании этого слова, герр оберштурмфюрер. Прежде всего страдают бургомистры, жандармы, подразделения вспомогательной полиции, а также их семьи. Вообще, к смерти приговорены все, кто сотрудничает с немецкой администрацией. С учетом обстановки на фронте это имеет, как вы знаете, особый смысл.
Хайнеманн кивнул. Он хорошо знал, что имеет в виду Венцель. Еще полгода назад местные жители, завербованные на службу или поступившие добровольно, имели для рейха именно вспомогательное значение. Но сейчас фронт требовал большего внимания. Следовательно, в тылу для поддержания порядка оставалось все меньше немецких подразделений, не говоря уже о формированиях венгров и итальянцев. Потому, как ни прискорбно было Хайнеманну это признавать, значение местной полиции в тылу резко возросло. Особенно если район, пусть даже тыловой, более приближен к линии фронта, чем остальные. Из местных добровольцев в специальных школах формировались полноценные воинские подразделения. Полицейских обучали тактическим дисциплинам и вскоре бросали совместно с немецкими частями на активную борьбу с партизанскими бандами.
И все бы ничего, только вот местные добровольцы на поверку оказались самым настоящим сбродом. Толку от него было весьма мало. К тому же, отчасти запуганные такими вот группами, как отряд «Смерть врагу!», полицейские могли сложить оружие и влиться в ряды партизан, которые за это обещали амнистию и, по поступающим сведениям, в подавляющем большинстве случаев держали слово. Доходило до того, что оружие складывали целые полицейские кусты, когда действительно уходя в лес к партизанам, а когда – просто разбегаясь и прячась от всех.
Вот и получалось: своими активными и, следует признать, достаточно эффективными действиями, направленными не только против немецкой оккупационной администрации, но и против местной полиции, отряд, которым, как удалось выяснить, командует некий капитан Родимцев, наносит рейху существенный урон. Н-да, кто бы мог подумать, что придется так дорожить подразделениями расово неполноценных бойцов… К тому же вред, приносимый именно этим отрядом, с начала года и без того оказался существенным.
– Нашему отделу приказано покончить с ними в кратчайшие сроки, – проговорил Хайнеманн. – Вы это прекрасно знаете. Но кроме рапорта, где старательно перечислены все удачные операции отряда этого Родимцева, я ничего не вижу и не слышу.
Говоря «вы», криминалькомиссар имел в виду не только своего заместителя Венцеля. В кабинете был еще один человек, светловолосый, среднего роста, с выдающимся вперед подбородком и носом с аккуратной, словно вылепленной старательным художником горбинкой. На нем была форма капитана, и Хайнеманн знал: свой новый чин Отто Дитрих получил совсем недавно, за какие-то особые заслуги. И занимает достаточно видное положение в школе Абвера по подготовке террористов, вновь обустроенной в Харькове, после возвращения города. Официально Дитрих вербовал курсантов для школы из числа военнопленных. Но, будучи опытным полицейским, Хайнеманн понимал: есть у этого капитана какое-то свое, отдельное задание.
Перехватив взгляд криминалькомиссара, Дитрих, стоявший все время, пока докладывал Венцель, у окна и смотревший на противный мартовский дождик, выпрямился и одернул китель.
– Вы ждете ответа и от меня, герр Хайнеманн?
– Приказ касается всех, Дитрих. Вы не в моем прямом подчинении. Но, насколько я успел понять, работаем если не вместе, то в одном направлении.
– Именно так, герр оберштурмфюрер, – согласно кивнул Дитрих. – Как раз сегодня я собирался прояснить некоторые… ну, скажем так, обстоятельства.
Они оба, как и Венцель, отлично понимали, о каких обстоятельствах идет речь.
Венцель сообразил, что должен выйти. Разговор касался только Дитриха и Хайнеманна. Конечно, вскоре заместитель начальника полиции тоже все узнает. Он не обиделся, не разозлился – Венцелю с некоторых пор даже нравилось владеть минимумом информации. Излишняя осведомленность накладывала определенную ответственность. Чего заместителю криминалькомиссара уж точно не хотелось.
Когда за Венцелем закрылась дверь, Отто Дитрих расположился напротив хозяина кабинета, обезоруживающе улыбнулся.
– Держу пари, герр Хайнеманн, вас тоже беспокоит желудок. Я прав? – И, не дождавшись ответа, кивнул сам себе: – Я прав. Не удивляйтесь, мы с вами ужинали вчера в одном месте. Просто я сидел за столиком в углу, рядом с большим фикусом. Я знаю в Остланде места, где местные повара отлично умеют жарить говядину. Но, увы, оно не здесь, не в Богодухове…
3 Москва, март 1943 года
Линия фронта на участке от Харькова до Орла отдаленно напоминала перевернутую латинскую букву S.
Когда начальник штаба Воронежского фронта, докладывая о положении дел, водил по карте указкой, Тимофей Строкач не отметил этой особенности. Но сейчас, оставшись в кабинете один и обдумывая услышанное, цеплялся за любую причудливую и не имеющую совершенно никакого значения деталь. Находя необычное в таких привычных, казалось бы, картинах, как вот хоть карта боевых действий, начальник УШПД[3] стимулировал себя на поиск таких же, по возможности нестандартных решений. Этого как раз и требовало подавляющее большинство ситуаций.
Получив месяц назад звание генерал-полковника, а вскоре после этого отметив сорокалетие, Строкач пока еще не привык ни к генеральскому статусу, ни тем более – к возрасту, который в условиях военного времени вполне может сойти за стариковский. Хотя начальник разведотдела фронта, генерал-майор Корнеев, был всего лишь на два года старше, всякий раз при встрече переходил на категоричный начальственный тон, держал Строкача, как и остальных, на определенном расстоянии. В штабе поговаривали: Тарас Корнеев вообще считал, что УШПД не умеет работать и не в полной мере оправдывает оказанное доверие.
Вряд ли он, как и большинство офицеров его уровня, захотели и смогли бы понять: Тимофею Строкачу, как и всей руководимой им структуре, приходится не просто работать параллельно с партийными, армейскими органами, армейской разведкой и даже с НКВД. Зачастую свои решения и действия они между собой не согласовывали, за что не далее как месяц назад Строкача отчитал лично Берия. Зная, во что может вылиться недовольство всесильного Генерального комиссара госбезопасности, начальник УШПД предпочитал во время разноса больше помалкивать. Стравив пар, Лаврентий Павлович сменил гнев на милость, признав недостаточное внимание и со своей стороны. Вот и выглядело нынешнее совещание некоей попыткой начать, наконец, согласованные и эффективные действия, как это указано в специально созданной Берией директиве.
Правда, нет таких директив и приказов, которые заставили бы фронтовых генералов изменить отношение к тем, кто руководил партизанской войной во вражеском тылу. Тот же Корнеев не вполне представлял себе специфику этой войны. Особенно когда дело касалось четкого выполнения определенных приказов. Ведь не объяснишь, что выполнить задачу вовремя и успешно партизаны могут лишь в том случае, если налажено обеспечение, как в регулярных частях. Только регулярной радиоразведки, на важности которой так настаивал Тарас Федотович, здесь явно недостаточно.
Закурив, Строкач мысленно суммировал для себя основные моменты сегодняшнего совещания.
Итак, сначала все присутствующие были кратко проинформированы о положении на фронте. В течение месяца, начиная с середины февраля, немецкие войска группы армий «Юг» воспользовались ситуацией и перешли в контрнаступление, атаковав наиболее слабые участки Воронежского фронта. В результате его линия, как было видно на карте, причудливо изогнулась, и немцы стремительно прошли вперед, вернув себе только недавно отвоеванные территории, включая стратегически важный Харьков. Остановить продвижение армии Манштейна удалось всего несколько дней назад. Дальше, как отметил начальник штаба фронта, положение стабилизировалось – не в последнюю очередь благодаря погодным условиям. После жестоких морозов, с которых начался год, март выдался слякотным и грязным. Именно размытые дороги и дожди дали армиям неожиданную передышку. Которую каждая старалась использовать по-своему.
По имеющимся у Корнеева данным, немцы планируют перегруппировку войск. Еще в феврале к фронту потянулись свежие силы и техника, вступавшие в бой практически с железнодорожных платформ и вагонов. Германия наладила производство новых, более совершенных танков и самоходных орудий. Так что, судя по всему, грядущее лето обещает жаркие бои, где преимущество окажется за машинами. Приказ по всей линии фронта, в том числе – Воронежскому: закрепляться на рубежах, врастать в землю, укреплять линию обороны и в перспективе готовить контрнаступление. Никому из присутствующих на совещании не надо было лишний раз напоминать: информация совершенно секретна.
Докурив папиросу одной затяжкой, Строкач переместил взгляд по карте на запад от линии фронта, отыскал маленькую точку.
Ахтырка.
Одно из стратегических направлений грядущего контрнаступления. Отсюда прямая дорога в сторону Богодухова, лежащего на пересечении железнодорожных путей. Именно из района Ахтырки армейская разведка получила данные, которые заинтересовали не только разведотдел фронта, но и руководство «четверки»[4].
По данным разведки, недалеко от Ахтырки, у села Охримовка, немцы устроили лагерь. Пленных активно используют для каких-то строительных работ в лесу. Что там происходит, понять невозможно: как стало известно из проверенных источников, тех заключенных, которых выводят на работы, через определенное время просто расстреливают. От нехватки рабочих рук немцы не страдают: на место уничтоженной партии пленных тут же приводят другую. Стройка, имеющая такой уровень секретности, ведется с начала марта. Все присутствующие на совещании в УШПД согласились – воспользовавшись передышкой, немцы возводят на стратегическом для Красной Армии направлении некий объект, назначение которого необходимо срочно выяснить.
И по возможности – уничтожить, пока строительство не вступило в ту фазу, когда на ликвидацию объекта придется тратить более крупные силы. А то, что немцы придают стройке важное значение, сомнений не вызывает. В окрестностях лагеря не так давно появились зенитные установки и мощные прожектора, недалеко от самой Ахтырки оборудован аэродром истребителей, что косвенно подтверждает – немцы опасаются бомбовых атак с воздуха, собираясь защищать пространство над объектом от внезапных нападений.
Тимофей Строкач подтвердил: сейчас в район Богодухова, соседствующий с интересующей военную разведку местностью, переместился спецотряд «Смерть врагу!». Он разросся из небольшой группы, которой командовал капитан Родимцев, – одной из групп, созданных по личному распоряжению Судоплатова. Задача Родимцеву поставлена достаточно четкая и ясная – точечные удары по тылам, зачистки среди немецкой оккупационной администрации, диверсии на железных дорогах. И, что руководитель «четверки» считал даже более важным, – уничтожение или разложение всех работающих на врага структур, сформированных из предателей и коллаборационистов. В скором времени к Родимцеву стали присоединяться остатки партизанских отрядов, частично или же полностью ликвидированных немецкими карателями с помощью верных им полицаев.
Теперь отряд насчитывал до семидесяти бойцов, имел связи с подпольем и агентурой во многих районах, и главное – все это время оставался мобильным, не устраивая базу в одном месте подолгу. Это, конечно, создавало огромные бытовые трудности, особенно зимой и ранней весной. К тому же усложняло регулярную радиосвязь, на очередном рейде время выхода в эфир соблюдать сложно. Однако отряд, обладающий такой маневренностью, вычислить и загнать в ловушку немцам было сложнее.
Потому, после недолгих обсуждений, именно отряду Родимцева предстояло не только подробнее выяснить, что строят фашисты в лесу у лагеря силами пленных, но и найти возможность уничтожить объект, представляющий для врага особый интерес.
Взглянув на карту в последний раз и на глаз прикинув расстояние от Богодухова до Ахтырки, которое вскоре предстояло преодолеть отряду в сжатые сроки, Тимофей Строкач подошел к столу, положил руку на бакелитовую трубку телефона. Пора отдавать первые распоряжения, уточнив для начала, когда Родимцев должен выйти на связь.
Там, куда его бойцам предстояло отправиться, есть законсервированная для подобных случаев база сводного отряда «Родина». Некоторое время тому назад по приказу командования он снялся с места и отправился на соединение с отрядом Михаила Салая…
4 Сумская область, район Ахтырки, март 1943 года
Женщины из села приходили после утренней поверки, как обычно.
Дробот даже научился определять по ним время. Погрешность могла составить от тридцати до сорока пяти минут, и все-таки Роман был уверен, что не слишком ошибается. Они появлялись не раньше девяти, но вряд ли позже десяти утра. Зная, во сколько темнеет и светает в конце марта, Дробот, чтобы хоть чем-то отвлечься от постоянно преследующих мыслей о смерти, принялся со скрупулезностью математика вычислять время суток.
Сегодня все происходило как всегда. Пленные, которые упорно не вызывались на работы, бросались по грязи к проволочному ограждению. Их не кормили даже той дрянью, которая доставалась «труженикам», потому появление женщин с ведрами и корзинами означало еду – вареная картошка, буряк, даже хлеб: хоть из отрубей, но зато мягкий, еще теплый, недавно вынутый из печи. Кормить пленных местному населению немцы не запрещали. Но полицаи из лагерной охраны превратили эту процедуру в дикое развлечение.
Стоило грязным голодным оборванцам приблизиться к проволоке метра на три, тут же звучали выстрелы. Короткие пулеметные очереди с вышки отгоняли пленных, не подпуская их к ограждению, и как-то на глазах у всех один парень, невысокий солдатик-белорус, чью фамилию Дробот так и не запомнил, не остановился. Присел, закрыл голову руками, но стоило выстрелам стихнуть – рванул отчаянно, пытаясь преодолеть запретную зону одним прыжком. То ли ему надоело жить, то ли хотел поразить врага своей смелостью и заставить уважать себя – после того, как очередь срезала его влет, обо всем этом оставалось только гадать.
Паренек так и лежал лицом вниз, когда женщины, замахиваясь как можно сильнее, бросали скудную еду через проволоку. Собирать ее с земли не запрещалось, и охрана довольно наблюдала, как пленные хватают, что могут, прямо из грязи, при этом толкаясь, невольно сражаясь за каждую картофелину, отворачиваясь друг от друга с добычей и быстро запихивая ее вместе с грязью в рот. Иногда полицаи постреливали в воздух, но только для лишнего утверждения собственной власти. Давая Дроботу дополнительную пищу для размышлений по поводу того, что охранники – люди никчемные и слабые, раз получают удовольствие от унижений сотен себе подобных.
Впрочем, даже такие мысли мартовский ветер выдувал из головы, когда наступало его время работать. Послушав Семена Кондакова, он всякий раз вызывался в бригаду могильщиков, которые без лишней спешки получали три раза в день одинаковое подванивающее варево, которое приходилось пить, как есть, из котелков. Среди них иногда попадались дырявые. Дырку затыкали пальцем, руками же вылавливали из бурой жижи разваренные кусочки гнилой и мерзлой капусты – но это была еда.
Однажды в супе, как называли это варево, оказались кости с остатками мяса. Размышлять, откуда оно взялось, вечно голодным пленным было недосуг. Стыдясь самого себя и стараясь не смотреть на других, Дробот выхватил кость из котелка, сунув в рот почти до половины, зубы принялись сдирать волокна. Жевать некогда – заглатывал так, давясь и откашливаясь. Подвох стал ясен только тогда, когда Роман услышал громкое ржание – хохотали полицаи, вместе с немцами наблюдавшие за этой картиной. А потом, еще смеясь, один из охранников, русский, швырнул пленным что-то черное и круглое.
Окровавленная собачья голова. Зубы дворняги замерли в предсмертном оскале.
– Э, красные, вкусный бобик? – гаркнул полицай, и охранники снова взорвались дружным, издевательским и очень искренним хохотом.
Дробот тогда не выдержал первым. Профессорское воспитание не удалось вытравить из него даже фронту, и лагерь никак не довершал этого процесса. Согнувшись пополам, Роман бросился к бараку, и там его вырвало. При этом Дробот потерял равновесие, упал на колени, в глазах на миг потемнело. Когда пришел в себя и задышал свободнее, увидел в трех шагах Николая Дерябина. Даже сквозь белую пелену, еще застилавшую глаза, было видно выражение презрения и отвращение, написанное на лице старшего лейтенанта.
– Накормили немцы? Вкусно?
…Все это время Дерябин старался по возможности держаться особняком. В условиях лагеря, где все равны и сидят в одинаковом дерьме, подобная линия поведения была трудно осуществимой. Тем не менее Николаю удавалось воздерживаться от всех видов работ, которые предлагал комендант.
Дроботу показалась странной даже не манера Дерябина. В конце концов, Роман успел немного узнать невольного товарища по несчастью и понимал: старший лейтенант ставит себя точно так же, как делал бы это в других условиях, более благоприятных и привычных для офицера НКВД. Нет, Романа несколько удивляла сама организация их лагеря. Видимо, во всем этом имелся некий тайный, высший, утонченно садистский стиль и смысл – создавать пленным иллюзию свободы выбора за колючей проволокой. Можно идти работать в лес, вынашивая слабую надежду – со мной ничего не случится, меня будут кормить лучше, я протяну лишний день. Можно каждый день делать шаг вперед, вызываясь в могильщики или уборщики, – здесь это мало отличалось одно от другого. За это полагался вонючий суп. Но также можно не делать ничего, слоняясь с подъема до отбоя по территории лагеря: даже если шел дождь, днем вход в барак запрещался без особого распоряжения.
Выбрав свой собственный вариант, Дерябин первое время воздерживался от сражений за приносимую женщинами кормежку, и такое упрямое терпение невольно вызвало у Дробота уважение. Но все очень быстро переменилось: в один из дней оголодавший Николай, которого время от времени кто-то подкармливал сухарями, не выдержал и набросился на летчика Севу Трофимова, который изловчился и подхватил с земли сразу три картофелины. Причем одну каким-то чудом выхватил из-под ноги товарища, успевшего ее случайно раздавить. Когда тот, счастливый, направлялся к стене хлева, чтобы хоть как-то утолить вечно сопровождающий пленного голод, Дерябин, все это время наблюдавший именно за Севой, быстро отделился от стены, подошел к летчику, схватил за плечо, развернул, встряхнул. Трофимов от неожиданности выронил две картофелины из трех – и через мгновение они уже исчезли в карманах Николая.
– Ты… – только и смог выдавить из себя летчик.
– Я, – подтвердил Дерябин. – Такой же, как и ты, красноармеец. Советский гражданин и человек, между прочим. И не собираюсь выпрашивать подачки у врага или рыться в грязи.
– Это… мое… – пробормотал Трофимов, окончательно растерявшись, – никто в лагере еще никогда так не поступал ни с ним, ни с кем-либо еще.
– Здесь все общее, – заметил Дерябин. – Я не буду жрать с земли. И не буду унижаться перед немцами, тем более – перед предателями за возможность получить пайку.
– А сейчас ты что делаешь? – вырвалось у Севы.
К этому времени их уже обступила небольшая группа пленных. Не только Дробот увидел, что произошло. Он держался чуть в стороне: если и начнется расправа, пусть лучше без него.
– Я делаю то, что обычно делают в таких случаях, – спокойно ответил Дерябин, обводя взглядом остальных. – Чего уставились? Большинство из вас сдалось в плен добровольно. Вы подняли руки вверх в надежде сохранить себе жизнь. Вот и живите здесь – но только по тем законам, которым такая вот жизнь подчиняется.
– Ты про что? – спросил кто-то из собравшихся. Роман, слышавший вопрос, со своего места не разглядел того, кто вопрос задал.
– Все про то же, – Дерябину хоть с трудом, но удавалось сохранить спокойствие. – Каждый за себя, разве нет? Выживает сильнейший.
– Это пока тебя в лес не погнали, – проговорил тот же голос.
– А ты чего такой умный? – Теперь Дробот видел: в разговор включился танкист Яценко, тридцатилетний механик-водитель.
– У меня просто есть достоинство, – проговорил Дерябин. – Вы его потеряли.
– Так застрелись пойди, – посоветовал Яценко. – Или вон на проволоку кинься. Попытка побега, сдохнешь героем. Или страшно?
Что собрался ответить Дерябин – ни Роман, ни кто другой так и не узнали. Увидев толпу возле барака, охранник с вышки без предупреждения полоснул очередью, беря выше голов, и пленные сыпанули в разные стороны. На это Дерябин и рассчитывал, понял Дробот. Он уже успел изучить лагерные порядки – собираться даже в небольшие группы запрещено. И в воздух здесь стреляют только один раз.
При таких раскладах у Николая Дерябина не оставалось шансов продержаться долго. Не нынче ночью, так завтра оскорбленные товарищи по несчастью вполне могли его придушить. Положа руку на сердце, Дробот, около которого Дерябин по-прежнему спал, не собирался мешать таким намерениям, хотя участвовать вряд ли согласился бы. Но, видимо, Роман в самом деле плохо знал своего недавнего конвоира. Потому не смог в полной мере оценить его поистине нестандартный расчетливый ум. В тот же день, на традиционной вечерней поверке, вместе с неизменным Лысянским появился оберцугфюрер и, опустив предисловия, отрывисто заговорил. Полицай доводил мысль своего начальника в общих чертах, но Дробот понял немца буквально с первого до последнего слова:
– Внимание всем заключенным, – вещал немецкий офицер. – Уважительной причиной отсутствия на поверке является только смерть. Болезнь приравнивается к смерти. Больной во избежание распространения инфекции будет немедленно расстрелян. Если в вашем бараке будут иметь место факты неестественной смерти, расстреляны будут или виновные, или – каждый двадцатый. Выбирайте сами или следите друг за другом очень внимательно! Все ясно?
Пленные ответили нестройным хором, и Роман перехватил быстрый взгляд Лысянского, брошенный на Дерябина, стоявшего в первом ряду. Нет, между полицаем и пленным офицером, скрывающим свое звание, контактов не случалось. Дробот по устоявшейся привычке старался не спускать с Николая глаз, да и в условиях лагеря подобный контакт не останется без внимания. Тем не менее Лысянский явно действовал на опережение: теперь даже при всем желании пленные не смогут тронуть ни Дерябина, ни кого-либо другого – себе дороже.
Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять: среди пленных есть «наседка», иначе Лысянскому никак не узнать, что произошло между Николаем и летчиком Трофимовым, чтобы сделать простые выводы. Получается, ссоры внутри лагеря выгодны как его охране, так и немцам: пока царит атмосфера взаимной неприязни и подозрительности, пленные не смогут между собой сплотиться и сговориться. Кроме того, Лысянский страховал также и провокатора: невольное разоблачение после подобного приказа способно сохранить наседке жизнь. В том, что угроза будет выполнена и каждого двадцатого расстреляют, никто в лагере не сомневался.
Правда, на следующий день Дерябин либо кое-что понял, либо просто включил инстинкт самосохранения, присущий ему в той же мере, что и остальным. Больше не отнимая еду у товарищей, он продолжал презрительно поглядывать на Дробота и других, кто занимался уборкой в лагере. Однако, перешагнув через свое высокомерие, тоже начал вместе с другими голодными собирать с земли скромную провизию, отрываемую людьми от себя. То, что Николай стал как все, не изменило к нему общего отношения в лагере. Однако, как почувствовал Дробот, напряжение все-таки спало. В конце концов, обитателей лагеря занимали другие, более важные заботы, чем сведение счетов с одним заносчивым типом.
Все хотели прожить пусть на один день, но дольше.
Но именно благодаря выходке Дерябина и последствиям, которые она повлекла за собой, Дробот понял опасения своего нового друга Семена Кондакова. Его задумка сможет выгореть, только если о ней будут знать лишь двое.
Ладно, трое – без Васьки Борового ничего не получится, а ему Кондаков почему-то доверял. У Романа, в свою очередь, не было причин не верить Кондакову.
Первый серьезный разговор состоялся, когда они копали яму под нужник.
Для этих целей приказывали рыть траншею глубиной около метра, полметра в ширину и метров пять в длину. Видимо, это входило в специфическое представление лагерного начальства о специфике здешнего жизненного устройства. Пленные должны были оправляться на виду у всех, и, случалось, часовой с вышки мог шутки ради пальнуть над головой какого-нибудь оправляющегося. Всякий раз испуганный человек терял равновесие и обязательно попадал со спущенными штанами в яму, оказавшись в собственных и чужих нечистотах. Через несколько дней яму приказывали зарыть, а рядом – копать другую. Это входило в обязанности уборщиков, пока не нужно было хоронить трупы: тогда они превращались в могильщиков.
– Я тут прикинул кое-что, – тихо говорил Кондаков, старательно выковыривая лопатой комья мокрой земли и поглядывая при этом на равнодушно топтавшегося неподалеку охранника. – Значит, боец, такая выходит штука… В лесу расстреливают примерно раз в неделю, ну, или, там, дней в десять. Я вместе с командой уже ходил туда. Трупы обычно свалены за колючкой…
– Там колючка?
– Что-то важное строят. Внутрь, ясно, не пускают. Тех, кого пускают за ограду, обратно выводят только на расстрел. Нас же гонят туда ночью, чтоб ничего не смогли рассмотреть.
– Секретность.
– Не говори. Если вырвемся, Рома, нашим такие сведения должны пригодиться. Так что уйдем не с пустыми руками.
– Получится?
– Надо рискнуть. В конце концов, сержант, выбор невелик. Так хоть попробуем. Все больше шансов, чем на проволоку рвануть.
– Хорошо. А как?
Охранник, топчась на месте, повернулся к ним всем корпусом. Кондаков интенсивно начал копать, Дробот последовал его примеру, но полицаю, похоже, сейчас не было до двух грязных доходяг никакого дела. Когда он снова повернулся спиной, Семен продолжил, не поднимая головы:
– Могильщикам дают подводы. Вернее, обычно все мертвые умещаются на одну. Правит Васька Боровой, полицаи доверяют ему, он вроде как местный и такого вполне могут выпустить. Шансы есть, во всяком случае, так иногда бывает. Короче, пользуется чуть большим доверием, и все тут. Подводу вывозят за ограждение, там уже другая команда копает очередную яму. Трупы туда сваливают, засыпают известью, потом закапывают. Все происходит, повторяю, ночью, в полной темноте. Если по дороге мы спрячемся среди трупов и нас свалят в яму, которую потом никто не охраняет, из-под свежей земли выбраться будет просто. Тем более что обычно яму копают неглубокую, земля еще холодая, подумаешь – мертвые красноармейцы, чего их глубоко зарывать…
Дробот удивился сам себе – предложение принял очень спокойно, как должное, даже не усомнился в том, что план выполним. И не вздрогнул, представляя, как на него сверху наваливают трупы казненных.
– Допустим, – произнес он, тоже стараясь говорить негромко. – Только ведь незаметно уйти не получится.
– Не получится, – легко согласился Кондаков.
– Утром нас хватятся, за побег расстреляют наших же товарищей.
– А их, Рома, хоть как расстреляют, – это прозвучало цинично, даже грубо, но Дробот понимал: Семен абсолютно прав. – Не сейчас, так потом. Вызовут каждого десятого, погонят на работу в лес, все, амба, приговор. Оттуда не вырвешься. Повезет – подстрелят просто так, забавы ради. Наши с тобой жизни ничего здесь не стоят. Так что или рискуем, или…
– Допустим, – повторил Роман после короткой паузы. – Сами мы незаметно в темноте под трупы не заберемся.
– Верно. Боровой прикроет, с ним я обкашлял этот вопрос. Будут с нами другие хлопцы, двое-трое максимум. Кто – не знаю, только вряд ли сдадут. По большому счету, согласие на такой побег в команде дать готовы. Реально рискует тот же Васька, ну и те, кто будет с нами. Надо же отвлекать охрану, даже в темноте. Словом, Рома, там целый, как говорится, комплекс мероприятий выходит.
– И что, люди готовы рискнуть и нас прикрыть?
– Люди, сержант, уже на все готовы.
Некоторое время Дробот с подчеркнутой старательностью копался в земле. Наконец спросил, проясняя для себя последний важный вопрос:
– Почему ты меня с собой тащишь?
– У тебя, как и у меня, шансы на успех – пятьдесят на пятьдесят. Согласен?
– Может быть.
– Вот. А те, с кем я уже осторожно говорил, в это не слишком верят. Ты первый согласился, не думая долго.
– Выходит, про твои планы в лагере знают?
– Всего несколько верных людей. За каждого я ручаюсь. Считай, нас с тобой благословляют, сержант. И доверие мы должны оправдать. Ну, а не получится – шлепнут только нас, других пока не тронут. Так что, решил или еще помозгуешь?
Вопрос, явно означавший согласие, вырвался у Дробота помимо его воли.
– Когда?
– Дня через два, – тут же ответил Кондаков. – По моим прикидкам, очередную партию расстреляют как раз в это время. Только начнут рассчитывать на первый – десятый, все: это нам сигнал будет.
Два дня.
Никогда еще Роман Дробот так четко не представлял себе, сколько ему отмерено жить. И если неудача, эти два дня в его жизни станут последними. Но если повезет…
В то утро впервые за многие дни запахло настоящей весной.
Еще вчера обутые во что ни попадя ноги пленных месили мрачную мартовскую грязь, и вот уже теплые лучи рассвета слепили глаза, словно сама природа радовалась теплу, за которым, что и говорить, истосковалась. Утренний ветерок, обласкавший измученные серые лица, казался теплым и на удивление свежим. Он доносил запах пробуждающегося от затянувшейся спячки леса, сырой земли, прошлогодней травы, уютной и прелой. Смесь ароматов показалась такой вкусной, что не только Дробот, но и большинство заключенных, не сговариваясь, глубоко вдохнули, немного задержав воздух в измученных легких, словно смакуя диковинное блюдо.
Они никогда не строились по росту. Этого здесь никто не требовал. Также плечом к плечу становились лишь те, кто держался друг за друга все это время – так получалось само собой. Хоть Дерябин и по-прежнему спал рядом с Дроботом, за пределами барака Роман предпочитал держаться от него в стороне. Как, впрочем, и подавляющее большинство пленных – ни с кем из них Николай по понятным причинам не сблизился. Однако Дробот, больше по привычке, старался не спускать с него глаз и однажды заметил: Дерябин чем дальше, тем больше уходит в себя. Даже перестал задирать его необъяснимыми упреками в работе на немцев, рабстве и холуйстве. Хотя в первые дни по этому поводу Николай произносил безадресные монологи, что само по себе делало его подозрительным и отталкивало товарищей по несчастью.
Иногда Дроботу казалось: Дерябин понемногу теряет рассудок, понимает это и старается изо всех сил показывать, что с ним все в порядке. О том, что такое случается, Роман читал в какой-то из многочисленных отцовских научно-популярных книжек. Это касается не только и даже не столько плена или тюремного заключения. Реакция каждого человека на экстремальную ситуацию индивидуальна, особенно если жизнь этого человека изменилась мгновенно и неожиданно для него.
Тут Дробот даже готов был понять Дерябина. Совсем недавно он был сотрудником всесильного НКВД и мог себе позволить приструнить даже офицера-фронтовика. В один момент он превратился в человеческие отбросы, уравнявшись в правах с простыми смертными. Был вынужден скрыть свою принадлежность к карательным органам, чем он, как давно успел сделать вывод Роман, очень гордился.
В строю Дробот и Дерябин очень редко оказывались рядом. Сейчас между ними стоял сорокалетний сержант Булыга, контуженный на передовой и пришедший в себя, когда бой уже завершился. Булыга лежал на нейтральной полосе, присыпанный землей. Мог добраться до своих, но просто перепутал направление из-за шума в голове, и так получилось, что сам свалился в немецкий окоп. Кондаков старался держаться за спиной Дробота, сейчас дышал ему в затылок.
Перед строем появился оберцугфюрер, по привычке поставил ноги в начищенных сапогах на ширину плеч, заложил руки за спину и заговорил ровным голосом. Лысянский еще не начал озвучивать слова офицера, а Роман уже все понял – вздрогнул, хотя ожидал этого со дня на день, и напрягся.
– Сегодня нужны добровольцы для работы в лес. Господин немецкий офицер спрашивает: кто из вас хочет жрать? Два шага вперед шагом… марш!
Как и следовало ожидать, никто из пленных не двинулся с места. С лица немца не сходило скучающее выражение.
– Так, значит? Голодных нету? – осклабился Лысянский. – Ну, тогда слушай команду, доходяги. На первый – десятый… рассчитайсь! Десятые номера – два шага вперед!
Дробот сжал зубы. Ему вдруг отчетливо представилось, что десятым сейчас может оказаться он сам. Видимо, сегодня что-то пошло не так: обычно сначала выкликали команду уборщиков, и он уже готовился делать шаг вперед. Скорее всего, происходившее сейчас не было нарушением системы – ведь системы здесь, в лагере, до сих пор и не было никакой, кроме систематических плановых убийств.
Тем временем шестеро обреченных, по трое из каждого ряда, шагнули из строя, держа плечи прямо, глядя перед собой, подставив лица теплым лучам, и будто прощались с весной, солнцем, жизнью. Следующий выкрик: «Десятый!» Роман услышал рядом с собой, в первое мгновение выдохнул, даже не устыдившись трусости, – не я, не я, пронесло… Но в следующую секунду до него дошло: прозвучал очень знакомый голос. Чуть наклонив голову, чтобы взглянуть в левую сторону, Дробот увидел именно то, о чем подумал, – очередным десятым оказался Николай Дерябин.
– Первый! – произнес стоявший между ним и Дроботом сержант Булыга.
– Второй! – автоматически сказал Роман, услышав, как то же самое проговорил позади него Кондаков.
Только Дерябин за это время так и не двинулся с места. Машинально посторонившись, чтобы пропустить обреченного из второго ряда, сам он замер, словно не веря ни своим ушам, ни своим глазам, ни обычной математике.
– Отставить! – рявкнул Лысянский, шагнул ближе, оглянувшись при этом на немецкого офицера. Со своего места Дробот заметил: на лице того обозначился интерес. – Ходить разучился, сука? Особое приглашение нужно? Два шага из строя… шагом… марш!
Дерябин даже не пошевелился. Над лагерем враз повисла жуткая тишина.
– Ты к земле прирос? Отодрать тебя? Или ноги не ходят? Пошел из строя, кому сказано!
Лысянский подошел еще ближе. Теперь он и Николай смотрели друг на друга почти в упор. Со своего места Дробот не видел, кто первым не выдержал взгляда. Но, скорее всего, терпеть не собирался начальник охраны – замахнулся, чтобы ударить Дерябина, или просто поднял руку, пытаясь схватить непокорного и выволочь силой. Только ничего не случилось: рука замерла в воздухе.
Дерябин перехватил ее своей, на взлете, сжал из последних сил, и Роману, как и другим пленным, осталось только удивляться – как ему удалось сохранить в себе эти остатки. Видимо, их придало отчаяние.
Полицая сопротивление изумило и разозлило одновременно. Привыкнув за то время, что служил немецким властям, к абсолютной покорности, чувствуя себя как минимум в пределах лагеря и близлежащего села царем и Богом одновременно, Лысянский оказался не готов даже к слабой попытке перечить. Тем более – при оберцугфюрере, наблюдающем за неожиданным инцидентом со все возрастающим вниманием. Положение срочно надо было исправлять, полицай шагнул назад, лапнул кобуру.
– Отставить! – гаркнул Дерябин во всю силу легких.
Рука Лысянского замерла, будто примерзнув к кожаной поверхности кобуры. Дробот, как и остальные пленные, перестал что-либо понимать. Немецкий офицер уже не держал руки за спиной. Правая тоже погладила кобуру.
А Николай Дерябин, не давая себе возможности остановиться, продолжая действовать на кураже, не вышел – выбежал из строя, толкнув на ходу Лысянского, двинулся прямо на оберцугфюрера, размахивая руками.
– Господин офицер! Я хочу служить великой Германии! Мне надоело с ними, господин офицер! Здесь грязь, я есть хочу! Москва капут, господин офицер!
Подтверждая свои намерения, Дерябин высоко поднял вверх вытянутые руки, медленно опустился на колени в нескольких шагах от немца. Тот, видимо, понял все без перевода, жестом остановил Лысянского, бросил коротко:
– Warten Sie! Es scheint, er will Reich zu dienen[5].
Дробот не знал, понял ли Лысянский свое начальство дословно. Зато начальнику охраны наверняка стало ясно, почему этот пленный решил предложить себя врагу именно таким способом, рискуя получить пулю на месте прежде, чем успеет открыть рот. Он уже заинтересовал собой немца. Потому Лысянскому не оставалось ничего другого, кроме как жестом подозвать охрану.
Подталкиваемый дулами карабинов хиви, Дерябин пошел к воротам. На ходу он так и не обернулся, шагал прямо, расправив плечи и чуть выкатив вперед грудь. Роман поймал себя на очередной мысли: а ведь он не удивляется.
– Чего заглохли? – Лысянский обращался к пленным. – Может, кто-то хочет взять с этого гражданина правильный пример? Молчим? – Полицай вытащил, наконец, пистолет из кобуры, дуло уставилось на стоявшего рядом с Дроботом сержанта Булыгу:
– Ты! Два шага из строя!
– За что? – вырвалось у пленного, и Роман физически ощутил охвативший того страх и совершенно не хотел осуждать сержанта.
– Этот… стоял рядом с тобой. Он выбыл. Десятый ты. Может, еще раз рассчитаетесь? Или вам лично посчитать, падлюки?
Ствол пистолета заходил перед лицом Булыги.
Зажмурившись, он покорно вышел из строя.
– Дальше продолжаем! – Полицай переместил взгляд на Дробота, и тот послушно проговорил:
– Первый!
– Вот, так-то лучше!
До конца расчета Лысянский не убирал пистолет обратно в кобуру.
Войдя в здание охримовской комендатуры, Отто Дитрих поморщился. Хотя и ожидал увидеть ту же картину, которую видел в подобных учреждениях здесь, в Остланде, всегда. Местная полиция везде превращала место своей работы в нечто, похожее на ночлежку и свинарник одновременно. Неудивительно, ведь полицаи в большинстве своем – плохо организованный сброд, который и при коммунистах был не особо-то востребованным человеческим материалом.
Исключение представлял разве что Петр Шлыков, начальник полиции в Ахтырке. Как успел выяснить Дитрих, до войны тот служил в милиции, потому выполнял фактически свою, знакомую работу. Он даже сумел добиться надлежащей дисциплины. По устойчивому кислому перегарному запаху, стоявшему в этом помещении, Отто понял, с кем придется иметь дело на этот раз.
Потому совершенно не удивился истории, рассказанной оберцугфюрером Гройсом.
Его поразило другое: как тот человек, ради которого он несколько часов ехал сюда из Богодухова по разбитой дороге, вообще остался в живых.
– Он явно испугался смерти, господин капитан. И я отдаю себе в этом отчет: возможно, его порыв не стоит расценивать как искренний. Я бы, во всяком случае, не спешил с выводами. Хотя, с другой стороны, даже единичные подобные случаи стоит приветствовать. Кто знает, с кем сведет нас время.
– Я всегда руководствуюсь тем же, – вставил Дитрих.
– Да, но он повел себя нестандартно не только в лагере! Таким поведением, господин капитан, свою жизнь не спасают. А этим пленным двигало нечто иное, помимо желания уцелеть! Однако уже когда его привели сюда, в комендатуру, он стал сыпать оскорблениями. Называл хива-маннов сволочами, продажными шкурами, идиотами, матерился… Как мне потом доложили, все это напоминало истерику. Только на его так называемое душевное состояние внимания никто не обратил. Не забывайте – он поднял руку на старшего полицейского, а этот тип очень злобный и мстительный. Я назвал его для себя хорьком, если вам это интересно.
– Любопытно, – кивнул Дитрих, хотя для него ни один из здешних хиви ровным счетом ничего не значил, все были на одно лицо.
– Короче говоря, пока я занимался своими делами, связывался с вами, как вы просили, и все такое разное, хива-манны так избили этого пленного, что его спасла разве потеря сознания. Честно говоря, сперва мне доложили – тот человек умер, забили насмерть. Я взбесился, ведь он вызвался сотрудничать и, значит, в некотором роде считается собственностью рейха, – Гройс ухмыльнулся. – Признаться, я даже не знал, спасет ли ситуацию приказ примерно наказать виновных, вплоть до повешения. Но пленный остался жить, пролежал без сознания до темноты. Видимо, лупили в основном по голове.
– Искалечен?
– Наш врач осмотрел его. Представьте – только ушибы, кровоподтеки, ничего не сломано, ни единого ребра. Возможно, легкое сотрясение.
– Пройдет. У славян крепкие черепа. Я прав? Я прав…
…Когда привели пленного, он уже успел смыть кровь с лица. Но лагерные лохмотья были вымазаны кровью вперемешку с грязью. К тому же от него несло прелью, дерьмом, псиной и еще какой-то дикой смесью запахов, которые Отто Дитрих не раз обонял, работая с военнопленными, представлявшими интерес в качестве потенциальных агентов-диверсантов.
Жестом велев оставить их одних, капитан кивнул заключенному на табурет, сам остался стоять – глядя на собеседника сверху вниз, Дитриху было удобнее работать.
– Николай Дерябин? – спросил он по-русски.
– Да, – пленный сплюнул кровавую слюну прямо на пол. – А вы…
– Сразу скажу – не надо удивляться. У многих брови лезут на лоб от моей русской речи. Мой дед, барон фон Дитрих, умудрился в середине прошлого века жениться на русской княжне. Это был его второй брак, так что во мне нет славянской крови. Кстати, бабушка была русской только наполовину. Среди русских дворян со времен царя Петра таких имелось много.
– Историю знаете, – Дерябин снова сплюнул.
– Я разведчик. В нашей профессии важно знать не только свою историю. Так вот, бабушка, пока не умерла, учила меня вашему языку все время, что я гостил у них в поместье. После сам изучал язык врага. Разве вы не учили в ваших школах немецкий?
– Я плохо учился.
– Зато у вас, как вижу, большие способности к выживанию. И, похоже, высокий болевой порог. Мне рассказали о маленьком спектакле, устроенном вами сегодня утром в лагере. Вот, захотелось с вами познакомиться.
– Познакомились.
– Ладно, – Дитрих щелкнул пальцами. – Чтобы я не тратил на вас свое время, докажите искренность ваших намерений служить рейху и фюреру. Иначе я пойму – вы просто испугались, приняли скоропалительное решение, уже жалеете о нем, думаете, как бы дальше выкручиваться. В таком случае вы перестанете меня интересовать. И в лучшем случае вам придется записаться в ряды хива-маннов, пополнить собой местную полицию, охранять своих же товарищей, с которыми еще утром проснулись в одном бараке. Готовы?
– Что надо делать? Кого-то расстрелять?
– Ну, это всегда успеете. Итак, почему я, капитан военной разведки, должен вам верить?
– Можете не верить, – Дерябин опять сплюнул, повел плечами.
– Плохой разговор, Николай. Я человек занятой, могу встать и уйти. Вы останетесь здесь, и вашу дальнейшую судьбу я вам примерно обрисовал. Хотите служить в одном подразделении с теми, кто сегодня избивал вас до потери сознания?
Дерябин вздохнул.
– Я… Я могу быть полезен именно вам…
– Мне?
– Разведке.
– Чудесно. Чем именно?
Николай снова вздохнул. Дитрих не торопил, понимая: пленный на пороге важного для себя решения.
– Я – офицер… Служу… служил в НКВД… При Особом отделе батальона…
– Уже интересно, – довольно кивнул Дитрих. – Вот и ответ на вопрос о вашей смелости, нестандартности поведения. К тому же, судя по всему, вам удалось скрыть это в лагере. Так что браво вашему мужественному признанию. Однако вы сказали не совсем то, что я хотел бы услышать.
– То есть?
– Мне нужна информация не о вас, Николай Дерябин. Вы спросили, надо ли кого-то расстрелять… Крещение огнем практикуется, но не в Абвере. И уж точно не мной. Вы отрезаете себе путь назад. А тот ваш соотечественник, которого вы согласились бы убить, и без вас был бы расстрелян. Не раньше, так позже. Либо же умер как-то иначе. У военнопленных масса возможностей умереть. Я прав, скажите? – И привычно ответил самому себе. – Я прав.
– Тогда чего нужно?
– Информация, Дерябин. То, чем я лично мог бы воспользоваться и что способно изменить чьи-то планы. Возможно, вы каким-то образом узнали нечто, и эти сведения помогут нам здесь накрыть подпольную сеть. Или – радиоточку. Или – выйти на партизан. Мы, Абвер, партизанами не занимаемся, но если такая информация появится, я готов передать ее в гестапо или другую, не менее компетентную структуру.
А лучше – воспользоваться самому, утерев нос гестапо или кому-то еще, подумалось при этом.
– Особый отдел мотострелкового батальона, – повторил Дерябин. – У нас другая, как это… специфика… – И вдруг осекся, встрепенулся и выровнялся на табурете: – Я знаю! Я могу, господин капитан! Только вам надо успеть!
– Куда?
– Или проверить… – В голосе звучало уже чуть меньше уверенности. – В общем, есть в лагере парень один… Нас вместе захватили, длинная история… Так получилось, что я по привычке пас его…
– Пасли?
– Ну, мы не то чтобы общались… Сволочь он, между нами говоря… Но я присматривался, прислушивался… Зовут его Роман Дробот, вы сможете быстро выяснить, кто такой, я опишу.
– Что с ним такое, с этим Дроботом?
Теперь Дерябин судорожно сглотнул не пойми откуда появившийся в горле ком.
– Мне кажется, они там бежать собираются. Из лагеря бежать.
Никогда еще за свою не такую уж и долгую жизнь Роман Дробот не оказывался под мертвыми человеческими телами.
Он готовил себя к этому целый день. Уповая на то, что после всего пережитого за лагерные дни это испытание, открывающее очень узкую тропинку к свободе, выдержит без особых усилий над собой. Ведь до того момента все шло гладко, даже слишком гладко. Видимо, Семен Кондаков впрямь смог просчитать развитие событий до мельчайших деталей. Но хоть и так: без помощи ребят, согласившихся прикрывать побег, у них и близко ничего не сладилось бы.
Конвоировавшие «похоронную команду» полицаи к сумеркам по привычке, которую даже не нужно специально предусматривать, успели набраться. Когда оказывались рядом, пленных обдавало густым сивушным духом, и самое главное – хиви вели себя очень беспечно. Никто из них даже не допускал мысли, что двое заключенных способны рискнуть просто у них под носом.
На это Кондаков, по молчаливому обоюдному согласию – мозг предстоящей операции, делал первую и, по сути, главную ставку. Крепко выпившие полицаи невольно выводят Ваську Борового и остальных пленных из-под удара. Правда, так называемое алиби весьма и весьма условно: всех, кто был этим вечером в команде могильщиков, могут расстрелять, обнаружив побег, или – даже если попытка сорвется, прямо на месте, не задавая лишних вопросов и не пытаясь выяснить степень причастности каждого. Однако даже логика таких, как Лысянский, вполне допускала: будь полицаи трезвыми и, следовательно, менее беспечными, о попытке побега никто бы и не помышлял.
Была еще одна, тоже весьма шаткая возможность уцелеть: в лагере каждый сам за себя. Это прекрасно знали как немцы, так и хиви. Значит, при желании вполне возможно объяснить, почему все остальные дружно не обратили внимания на внезапное исчезновение в темноте двух товарищей. На допросах, которые обязательно будут и пойдут непременно с пристрастием, есть шанс давить именно на это. От показательного расстрела вряд ли спасет. Но побороться можно.
И все-таки главное – запутать саму историю.
Трупы расстрелянных за периметром колючки в лесу собирали и грузили на подводы шестеро пленных. Еще двое, в том числе – Васька Боровой, вели под уздцы коней. Тем временем за территорией лагеря шестеро других старательно рыли большую общую могилу. Все происходило под конвоем четверки пьяных хиви. Когда и кто прозевал беглецов, выяснить будет действительно непросто. А никто из группы тех, кто рыл могилу, вообще не был посвящен в планы беглецов. Они-то, следуя знакомому принципу каждый за себя, не смогут точно сказать, кого видели в темноте, а кого – нет.
Все должно свестись к потере напившимися полицаями бдительности. Чем черт не шутит: вдруг обойдется…
Еще раньше Дробот прояснил у Кондакова еще один важный для себя момент: те, кто помогал им бежать, включая Борового, приняли такое рискованное решение сознательно и отдавали себе отчет о непростых последствиях. Однако в план побега посвятили не всех. Кроме Васьки, об этом знали двое, и здесь Семен тоже видел залог успеха: чем больше людей в курсе заговора, тем больше возможностей предательства. Есть огромный соблазн обменять такую информацию на еду или даже собственную жизнь. Потому в темноте трое пленных должны прикрывать беглецов, что в принципе не представляло особой сложности: ведь из полицаев, уверенных в абсолюте собственной власти, на поверку оказались неважные и не слишком внимательные конвоиры. А Дробот с Кондаковым должны укладываться на телегу рядом с мертвецами не сразу, а по очереди, с интервалом. Отвлекать конвой вызвался Боровой.
Ему удалось. Первый раз зафыркал и рванул вперед конь, и полицаи какое-то время разбирались, что происходит. Ваське хоть и перепало по ребрам, но зато пока оба конвоира толклись в голове подводы, Кондаков присел на край, быстро улегся, Роман с товарищем мгновенно, словно отрабатывали движение годами, надвинули на него мертвое тело, и вот уже маленькая процессия двинулась дальше.
Очередь Романа пришла, когда они уже подходили к братской могиле. Боровой снова не слишком ловко обошелся с лошадью. Полицаи заорали: «Куда прешь, сука!», возникло небольшое замешательство – и тогда Дробот, прикрываемый спинами товарищей, присел, затем распластался на земле, юрким ужом скользнул под телегу и замер. Когда же послышались звуки падения первых тел, зажмурился, хоть вокруг стояла непроглядная темень, скатился в яму.
Ему в один момент стало безумно страшно. Настолько, что захотелось закричать, попросить о помощи, пусть вытащат отсюда, пускай расстреляют за попытку побега – только бы не лежать живым в могиле. Понадобилось невероятное усилие воли, чтобы выдержать, сдержать крик ужаса, когда сверху свалился холодный мертвец. Сразу исчезли все звуки вокруг, Дробот даже перестал чувствовать свое тело, вертелась лишь мысль о похороненном заживо, как в рассказе Эдгара По, который впечатлительный мальчик прочел, откопав сборник в отцовской библиотеке.
Но вдруг звуки вернулись.
Они ворвались в мрачную темную тишину лагерного погоста откуда-то сверху и тут же сковали Романа сильнее, чем ужасные ощущения, испытанные им несколько минут назад.
Кричали немцы.
– Аvast! Аvast! Stoppen![6]
Крики приближались.
Еще не совсем понимая, что происходит, Дробот пошевелился, пытаясь выбраться из-под мертвого тела. Вдруг совсем рядом тоже кто-то зашевелился, и от этого слипшиеся от грязи волосы встали дыбом: Роману показалось, что ожил кто-то из казненных. Но в следующую секунду на него навалилось чье-то тело и выдохнуло в лицо голосом Кондакова:
– Спалились! Быстро, за мной! Подсади!
С этой минуты Дробот уже перестал что-либо понимать, просто действовал машинально, подталкиваемый вперед страхом, отчаянием и желанием во что бы то ни стало спасти свою жизнь – пусть даже это будет последняя попытка. После того короткого времени, что он провел в яме с мертвецами, Роман не боялся умереть.
Над головами загудели голоса, темнота взорвалась пьяным матом, но Дробот не вслушивался – на его привыкших к темноте глазах Семен подпрыгнул, ухватился за край ямы, пальцы зацарапали землю. Роман мигом оказался рядом. Откуда только силы взялись – без особого труда подбросил товарища, тот отчаянно выцарапался на поверхность, протянул сверху руку:
– Быстро!
Теперь силы вдруг появились у него – пятерня сжала крепко, и Дробот, не понимая как, выбрался из могилы. Кондаков уже отползал по-пластунски, Роман последовал его примеру. Но когда немцы снова заорали и грянули выстрелы, он не выдержал – вскочил на несколько секунд раньше Семена, нагнул голову, дунул в сторону леса.
Они неслись, не разбирая дороги. Позади – колючая проволока, впереди, на том краю открытого пространства, спасительные деревья. Смерть была вокруг, пули свистели над головами. Лишь благодаря темноте и нескольким выигранным секундам, которые дал им эффект неожиданности, преследователи не могли палить прицельно. Мыслей в голове не осталось совсем – вперед гнало отчаяние.
Когда рядом раздался крик боли, Дробот сперва не понял, что случилось. Но мгновенно осознал: Кондаков, бегущий чуть левее, почти голова к голове, вдруг плашмя рухнул на землю. Что-то враз побудило Романа остановиться, но тут же невидимая плеть больно стегнула – он наддал, мчался к лесу широкими прыжками, теперь уже стараясь петлять, словно так можно было уйти от шальной пули. Жила надежда – вот сейчас Семен вскочит и нагонит его, просто нога случайно попала в какую-то рытвину. Только она вылетела вместе с другими мыслями – Дробот понял, что остался один и сейчас использует свой последний шанс.
Когда налетел на ствол дерева и чуть не упал – ухватился за него, оглянулся. Сзади по-прежнему стреляли, двигались темные фигуры, доносились немецкие ругательства вперемешку с русским матом и украинской бранью. Сделав глубокий вдох и громко выдохнув, Дробот двумя руками оттолкнулся от ствола и помчался, петляя между деревьями.
Он припоминал навыки хождения по лесу, самостоятельно приобретенные в детстве и юности.
Вернулись также другие мысли: Роман отчетливо вспомнил, о чем ему говорил перед побегом Семен Кондаков.
Путь к спасению. Важная информация.
Темный и сырой весенний лес все глубже скрывал беглеца.
Часть вторая Отряд
1 Харьков, разведывательно-диверсионная школа Абвера, апрель 1943 года
Грязь и голод. Вот что острее всего запомнил из своего детства Николай Дерябин.
Родителей же своих не помнил совсем. Знал, что ехала их семья в поезде, в переполненных вагонах, спасаясь от голода, охватившего его родное Поволжье. Позже, когда уже освоился в детдоме, от старших ребят он узнал – его судьбу разделили многие. Отыскались там даже земляки, осиротевшие после того, как родители умерли в дороге.
Так Коля писал в анкетах и автобиографиях: его папка с мамкой ехали по ленинскому призыву на Донбасс – всем, кто завербуется добровольно на тамошние стройки, обещали крышу над головой и еду. Но кто-то не дотянул в дороге, а вот Колиных родителей ночью на какой-то станции, где вагоны с беженцами в очередной раз загнали за запасной путь, зарезали лихие люди. Кто и за что – мальчик не знал. Он не видел своих родных неживыми. Подобрала его, четырех с половиной лет от роду, сердобольная тетка, сказала со слезами на глазах: «Ой, пропал, сиротинушка, твоих-то подрезали, ироды!», и какое-то время возила за собой, видно искренне желая помочь мальчонке. А Коля так тогда и не понял, что остался сиротой.
Но вскоре голод догнал и Донбасс, казавшийся для поволжских беженцев спасением, и спасительница, имени которой парнишка тоже не запомнил, сделала самое разумное, что могла сделать: оставила его у дверей детского дома в Старобельске. В своем личном деле парень потом видел записку, несколько выведенных огрызком карандаша корявых слов: «Зовут Коля Дерябин. Сирота. Кормить нечем».
Пока он был чуть ли не самым младшим в детдоме, от ежедневной борьбы за кусок хлеба и вообще – за выживание его как-то ограждали. Но вскоре Коле довелось попробовать настоящей детдомовской жизни на вкус и запах. Старшие мальчишки, среди которых оказалось много вчерашних малолетних воров и даже грабителей, без зазрения совести отбирали хлеб у младших. Иногда устраивали себе забаву: семи-и восьмилетние шкеты должны были драться за право получить законную пайку. Так, по мнению старших, пацаны превращались в мужчин, учились добиваться своего, становились злее – ведь только злой может зубами удержаться за жизнь, пусть даже перегрызет горло тому, кто слабее.
Сперва Коле Дерябину такие игры пришлись не по душе. Но когда мальчик стал регулярно умываться кровью и реально голодать, злость стала чаще находить выход. Он постоянно ловил себя на мысли: так нельзя, все вокруг поступают плохо, он тоже делает нехорошо. Однако пожаловаться – еще хуже, за это искалечат без шансов на выживание, потому Коле приходилось ломать себя, терпеть, становиться злее. За что Коля, где-то глубоко в израненной душе добрый мальчишка, ненавидел себя даже больше, чем тех, по чьей воле превращался в звереныша.
Все это время приходилось спать на грязных матрацах, без простыней. Белье детдом получал, вот только старшие отнимали его у младших, сносили на базар, дирекция устала с этим бороться, и Колька забыл не только о чистых простынях, но и о бане – мыло, получаемое на детский дом, тоже таинственным образом исчезало.
Потому, когда однажды к ним в Старобельск приехал представитель детского дома из Луганска и спросил, кто из ребят хочет стать спартаковцем, девятилетний Коля Дерябин, даже не зная, что это такое, вызвался одним из первых. Парню просто хотелось убежать от грязи и голода подальше, но бежать, по сути, было некуда: остаться без крыши над головой – совсем худо.
Так мальчик, сам того не осознав, решил свою дальнейшую судьбу. Детский дом, в который его определили, на деле оказался чем-то вроде милицейской школы для беспризорных, куда собирали мальчиков по всей области. Многие добровольцы не проходили отбора, и тогда всесильный начальник окружной милиции по фамилии Добыш, которого воспитанники уважительно звали дядя Саша, заботился об отправке их в другие «нормальные» детдома. Коле повезло. Не в последнюю очередь из-за возраста: к мальчику еще не успела прилипнуть настоящая уличная уголовщина, которой не чурались старшие. Для Школы юных спартаковцев он и ему подобные представляли собой прежде всего подходящий человеческий материал, из которого умелыми руками можно было вылепить настоящих борцов за дело Ленина – Сталина: об этом ребятам говорили чуть ли не каждый день.
Но в милиции, как показало время, оставались далеко не все воспитанники. Многие выбирали гражданские профессии, даже становились артистами. К таким профессиям у Коли способностей не было. Как раз настали времена больших чисток, скрытых врагов находили даже в органах, и Дерябин по комсомольскому набору попал в НКВД. Как писали тогда газеты – на передовую классовой борьбы, чем Николай очень гордился.
Правда, новые товарищи старались держаться от Коли на определенном расстоянии и считали его странноватым. Одна из причин, если не главная – Дерябин это знал, – заключалась в его патологической любви к чистоте. Вряд ли все те, с кем Николай разделял тяготы службы в органах государственной безопасности, прошли хоть малую долю того, что выпало ему. Ничего удивительного, пускай сколько угодно обсуждают, как он каждый день старательно скребет себя намыленной мочалкой и даже платит специально приходящей женщине – та ежедневно стирала ему белье, гладила, чистила форму и гражданскую одежду. Получив комнату в коммуналке, Дерябин своими руками драил в ней пол, а соседей, допускавших, по его словам, антисанитарию, грозился посадить. С ним не спорили: ничего другого от сотрудника органов ожидать не приходилось.
…Потому-то старший лейтенант НКВД Николай Дерябин оказался не готов не просто к плену. Резкое погружение в грязную и голодную лагерную жизнь вмиг пробудило в памяти все то, что он изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год своей не такой уж долгой жизни старался по мере сил и возможностей подавить, забыть, выкинуть, вычеркнуть.
Внутри него все это время отчаянно боролись двое. Первый – тот, кто искренне считал плен предательством, а возможность работы на врага – изменой Родине. В своем, отдельно взятом случае, Николай готов был объяснить и даже оправдать пленение. Допускал: есть среди обитателей барака те, кого взяли по тому же нелепому стечению роковых обстоятельств, что и его самого. Только вот это не оправдывало согласия служить немцам и подчиняться предателям-полицаям за черпак вонючей баланды. Второй хотел есть и жить – именно в такой последовательности.
Первый держался отчаянно, даже мужественно, из последних сил и до последнего вздоха. Но с огромным перевесом победил Второй, не давая сопернику ни единого шанса сохранить жизнь, лицо и убеждения одновременно. Сперва противовесом выступал Дробот – вот кто бесхребетный трус, военный преступник, согласившийся хоронить своих товарищей и возиться в лагерном дерьме, получая взамен несъедобный суп. Даже смирившись с необходимостью униженно поднимать из грязи сладкую промерзшую картошку, Дерябин все равно мерил себя выше Романа: вот такие они, интеллигенция вшивая, сыночки ученых папочек. Папаша, небось, из бывших, жаль не успел проверить и, видимо, не успеет, уж тогда бы расписал дело сержанта Дробота по полной программе…
Когда же Николай оказался одним из десятых номеров на перекличке, определяющей смертный жребий, из строя его вытолкнуло желание жить. О последствиях Дерябин не думал – просто оказалось, что он готов терпеливо ждать конца, ежедневно борясь за жизнь, но совершенно не способен принять смерть сегодня, сейчас, или же – точно узнать, что приговорен и через несколько дней, темной сырой ночью, именно Роман Дробот погрузит его растерзанное пулями тело на телегу, рядом с другими, так же бесславно погибшими бойцами.
Осознание того, что хоронить его наверняка станет Дробот и такие, как Дробот, и заставило его вызваться служить врагу. Может быть, именно так Дерябин позже пытался объяснить себе собственный поступок.
Впрочем, уже к вечеру того рокового и переломного для Николая дня врагами для него остались только предатели-полицаи. Свободно говоривший по-русски капитан Абвера Отто Дитрих обращался к нему на «вы», распорядился покормить, обеспечить горячую воду и чистую одежду – все то, чего Дерябину в лагерной грязи так не хватало.
А потом его, переодетого в новенькую полевую форму офицера Красной Армии, доставили сюда, под Харьков.
Новая жизнь началась неожиданно. Николай даже не заметил, как наступил апрель.
– Будете курить? – Капитан Абвера Отто Дитрих выложил на стол початую пачку «Казбека», перехватил не столько удивленный, сколько любопытный взгляд собеседника, кивнул: – Да, здесь, в школе, все курсанты и инструкторы носят советскую военную форму, курят советские папиросы, общаются между собой только по-русски. Ну, или если знают язык той местности, куда их планируют забросить, – говорят на нем. Это как раз больше касается курсантов. Вы ведь владеете украинским? Может, – губы обозначили улыбку, – грузинским?
– У нас даже на Кавказе и в Средней Азии никого не удивить русским языком, – Дерябин потянулся через стол, пододвинул к себе коробку, взял папиросу, кивнув в знак благодарности за спички, закурил. – Да, никто не удивляется. При советской власти русский стал интернациональным.
– Как при царе?
– У нас не принято сравнивать. То – монархия, эксплуататоры. Сейчас республика рабочих и крестьян.
– Ладно, оставим эту тему, – махнул рукой Дитрих. – Освоились?
– Пока меня держат отдельно.
– Правильно. Карантин. Таков порядок.
– Есть душевая, чистая постель, кормят три раза в день. Чай горячий.
– Немного придите в себя после лагеря. И потом, Дерябин, в действительности я пока не решил, что с вами делать.
Николай поперхнулся дымом, закашлялся.
– То есть?
– Не поверите – вы первый из моих подопечных, кто пришел из советских карательных органов. Тем более из НКВД. Представляете, даже милиционеров не было.
– Это плохо? – осторожно спросил Дерябин.
– Не знаю пока. Хочу разобраться.
– В чем?
– Мотивы, Николай. Ваши мотивы для меня очень важны. Вы захотели служить нам, то есть, по сути, предали Родину. Вас ведь станут судить за предательство, если схватят. Пощады не ждите. Но меня интересует, что подтолкнуло вас к этому. Страх за свою жизнь? Тогда вам легче вернуться в то село или хоть здесь, в Харькове, записаться во вспомогательную полицию.
– Почему?
– А вы отдаете себе отчет, что находитесь в школе, которая готовит диверсантов и террористов? Что вам дадут задание убивать красных офицеров, может быть, даже сотрудников НКВД, а не просто прикажут взорвать мост или склад боеприпасов? И если ваша рука дрогнет, ваши же напарники получат приказ ликвидировать вас? Честное слово, пока вы этого не поняли, Николай, – проще пойти в полицию, рядовым полицейским.
– Там разве не надо убивать?
– Не всегда. Видите ли, – Дитрих откинулся на спинку стула, – у меня была и остается возможность наблюдать ваших соотечественников, которые служат в подразделениях хива-маннов. Большинство – народ безыдейный. Им все равно, кому служить, на какую власть, как говорят у вас, горбатиться. Я прав? – Пауза. – Я прав. Если служба поможет сохранить жизнь да еще даст маленькую власть, такие люди найдут себя при любом режиме. Что, как я понимаю, имело место быть.
– Таких называют приспособленцами, – вставил Дерябин.
– Мне все равно, как их называют. Главное – для разведшкол этот материал не годится. В случае захвата он немедленно сдаст все и всех, спасая собственную шкуру. Или же, стоит перемениться ветру, легко дезертирует из полицейского подразделения. Никто из них, по сути, ничего собой не представляет как личность. Исключения, наверное, есть и среди них, но у меня нет времени и желания их искать. Однако, служа в полиции, вы, как прочие, можете не напрягаться. Если станете вести себя грамотно и правильно, удастся избежать участия в карательных акциях. Что оградит вас от партизанского гнева: охотники за предателями в первую очередь показательно уничтожат участников расправы над местным населением, замеченных в грабежах и карательных операциях. В целом, Николай, полиция поможет вам более-менее успешно приспособиться. Здесь, в разведшколе, такой возможности у вас не будет.
– Я ее и не ищу, – Николай потянулся за второй папиросой.
– Получается, вы готовы направить оружие против своих?
– Давайте так, – Дерябин устроился поудобнее, положил ногу на ногу. – Я детдомовский, господин капитан. Знаете, что такое детский дом?
– В Германии тоже есть приюты.
– Но вы ведь не в приюте росли, правда?
– Верно.
– И не знаете на своей шкуре, как это – когда с детства ты сам за себя.
– Подозреваю. Мне кажется, спартанские условия закаляют характер.
– Не буду спорить, у меня других условий не было. Как и защитников. Советская власть меня не защитит, господин капитан. Сами судите: наш детский дом создал по своей инициативе крупный милицейский начальник, по фамилии Добыш. Она вам ничего не скажет, но можете мне поверить: этот человек был безмерно предан власти. В год, когда я написал заявление с просьбой зачислить меня на службу в Народный комиссариат внутренних дел, товарища Добыша арестовали как врага народа, судили и расстреляли за измену Родине.
– Вас это удивило?
– Тогда – нет. Я воспитывался с мыслью, что старые партийные и советские кадры оказались не готовы принять вызов, который бросают новые времена. Так говорили на собраниях, так писали газеты. Мол, мыслят такие граждане по старинке, даже спекулируют именем товарища Ленина. Забывая о том, что товарищ Сталин – вот кто продолжатель ленинского дела сегодня. Даже пытаются сомневаться в его решениях, а от этого недалеко и до измены Родине.
– Получается, вы изменили мнение?
Дерябин помолчал, подбирая подходящие слова.
– Знаете, господин Дитрих… Меня, тогда еще совсем зеленого, не удивляло, что вокруг одни враги да шпионы. Кое о чем задумался, когда попал на фронт. Сам разбирал дела предателей, а все их предательство – попали в плен и сбежали. Или же пробыли несколько суток в окружении, вышли невредимыми. Вы, разведчик, слышали что-нибудь о приказе товарища Сталина, называется «Ни шагу назад!»?
– Да. Красноармейцам запрещено сдаваться в плен. Это расценивается как трусость и предательство. Карается по всей строгости закона, за измену Родине.
– Так точно, – по уставной привычке ответил Николай. – Мне пришлось даже арестовывать семьи командиров, о которых стало известно, что они в плену.
– Сын самого Сталина в плену[7], – напомнил Дитрих. – Я прав ведь? Прав!
– Наверное, поэтому в армии к пленным было особое отношение. Я бы сказал даже – особый счет. Не знаю, тогда не думал. Мысли появились теперь, в лагере.
– Какие именно?
– Я же в плен попал, господин капитан, – Дерябин не удержался, хлопнул в ладоши. – Раз – и в дамки! Допустим, наши думают, что старший лейтенант такой-то погиб. Или пропал без вести. Тут случается чудо, мне удается не попасть в плен, перейти линию фронта. Меня даже в штрафной батальон не отправят: расстреляют за измену Родине. К офицерам государственной безопасности счет отдельный, тем более – по законам военного времени. Или представьте – трибунал-таки отправляет меня к штрафникам. Имеете представление, что это такое?
– Некоторое. Здесь, в школе, есть несколько перебежчиков из этих ваших штрафных рот. Вчерашние уголовники в основном, вы с ними еще познакомитесь… Кое с кем вам будет даже интересно встретиться, – при этих словах Дитрих странно ухмыльнулся. – Так что там дальше могло с вами случиться?
– Разжалованный офицер НКВД проживет среди штрафников до первого боя. Пуля в спину гарантирована. Нас не любят, особенно – штрафники. Это ведь Особый отдел их туда определяет.
– Да, – признал Отто. – Вы, видимо, серьезно думали. Плен – ловушка для красноармейца. Не важно, солдата или офицера.
– Это приговор, господин капитан. Я ведь не изменял Родине, так сложились обстоятельства. Застрелиться не успел и не захотел, если так уже брать… Вы бы застрелились в моей ситуации?
– Речь не обо мне.
– Правильно. Вы сейчас банкуете, как говорили у нас в детдоме. А мне при любых раскладах обратной дороги нет. Я уже предатель, враг советской власти. Но в полицаи не пойду, вы верно подметили. Там сброд один. Нагляделся я такого сброда в детдоме – о! – Николай легонько чиркнул себя ребром ладони по горлу. – Нет, раз уж для наших я враг, они меня приговорили еще приказом товарища Сталина за номером двести семьдесят, еще в сорок первом. Потому знаете, что я подумал?
– Для того я и трачу на вас время, Дерябин. Очень хочется узнать.
Николай снова замолчал, обдумывая то, что собирался сказать.
– В общем… Закон такой есть, неписаный… Если кто-то хочет уничтожить тебя, это дает тебе право ответить ему тем же.
– Для воспитанника детдома вы слишком заковыристо выражаетесь, Дерябин.
– Я хорошо учился в школе жизни, господин капитан. Извините за красивые слова, но иначе не выразить… Короче говоря, мне очень хорошо известно отношение советской власти, Красной Армии и органов НКВД к попавшим в плен. Меня даже скорее расстреляют, если я на допросе начну прославлять товарища Сталина, – мол, не марай дорогого для всей страны имени, вражина. Получается, мне не просто нет пути назад. Как только я поднял руки вверх, я стал изменником Родины и врагом народа. Разбираться в обстоятельствах никто не станет. Сам бы не делал этого, господин капитан, на своем месте. Получается, другого выхода, кроме как воевать против тех, кто меня предал, с оружием в руках, у меня нет.
– Почему?
– Родная власть не оставила мне иного выбора, господин капитан. Я вас убедил?
Отто Дитрих задумчиво потер подбородок. Затянувшуюся паузу Николай Дерябин заполнил, взяв очередную папиросу.
– Хотите, я проще объясню то, что вы сейчас мне здесь наплели? – спросил вдруг абверовец, подавшись вперед.
– То есть… Вы мне не…
– Успокойтесь, ваши доводы вполне логичны. Даже разумны. Только все проще гораздо, Дерябин. Дело в том, что сейчас вы не со мной разговаривали.
Николай невольно повертел головой, даже поднял голову – вдруг за ними наблюдает кто-то сверху, от них еще не такого можно ожидать. Ничего подозрительного и необычного не увидев, вопросительно взглянул на Дитриха.
– Все вы поняли прекрасно, Дерябин. Сейчас вы не меня убеждали в том, что готовы повернуть оружие против своих же. Перед собой оправдывались, разве нет? Вы вслух убеждали самого себя, что вам не оставили иного выхода, что вас предали свои же. И раз так, вам не остается ничего другого, кроме как предать самому. Око за око, разве нет?
Дерябин промолчал, сильно прикусив нижнюю губу. Все его естество противилось подобному признанию. Однако немец, этот хитрый капитан, горбоносый светловолосый немец, старше его с виду лет на пять-семь, а уже профессионал, хороший психолог, проницательный разведчик. Не дождавшись ответа, Дитрих продолжил:
– Поверьте, Николай: работаю с людьми, подобными вам, уже больше двух лет. Начинал в Польше, сам попросился на Восточный фронт. Таких, как вы, пытающихся найти себе оправдание, – меньшинство. Подавляющее большинство просто рвутся вредить советской власти. Имеют к ней массу претензий и давненько наточили на коммунистов зубы. Ваш случай тоже не уникален. Вы просто в силу обстоятельств и, как говорится, следуя законам формальной логики, просто сменили службу и хозяев. У вас ведь не было близких друзей среди товарищей по работе, соседей, обычных людей, ведь верно?
Дерябин кивнул – вынужденно признал абсолютную правоту выводов Дитриха.
– По правде говоря, Николай, вы еще до конца не поняли: попали именно туда, куда хотели, разве нет? Не скажу, что здесь вы уже среди друзей. Только вот здесь вы найдете их скорее, чем за все то время, что жили с большевиками. Верите мне?
Дерябин снова кивнул.
А Отто мысленно аплодировал себе: орешек оказался не таким уж крепким, но все равно приятно, когда хорошо отыгрываешь свою партитуру.
Тем более что это не последняя такая удачная партитура за столь короткое время…
– Хотите выйти из карантина завтра или готовы уже сегодня? – Он постарался, чтобы вопрос прозвучал как бы между прочим.
– Хватит. Так уже скучно.
– Отлично. Мне кажется, мы с вами поладим. И вас ждут великие дела. Что-то еще?
– Да, – Николаю вдруг почему-то стало неуютно оттого, что Дитрих не только видит его насквозь, но и читает все вопросы на его лице: – Мы так и не… То есть, вы так и не сказали, что там, в лагере, с тем побегом, о котором я…
– Который вы раскусили и сдали мне? – жестко уточнил Дитрих. – Все в порядке, мы отреагировали как раз вовремя. Еще что?
– Тот пленный… Парень, который должен был…
– Ваш товарищ, спавший рядом с вами на нарах? Видите, я кое-что выяснил. Скажите, вас действительно интересует его судьба?
– Нет, – соврал Дерябин, надеясь, что ему поверят.
А, пусть не верят – в конце концов, какая разница, почему он так хочет услышать, что Романа Дробота убили. Вообще, нужно постараться выкинуть его из головы, слишком глубоко засела там эта совершенно никчемная личность, чуть не лизавшая сапоги немцам и полицаям. Сам он – другое дело, а этот… Даже если бы побег удался… На что надеялся профессорский сынок? Ведь расстреляют как предателя… Старший лейтенант лично отдал бы такой приказ.
2 Сумская область, район Ахтырки, апрель 1943 года
Его привели разведчики.
До оставленной партизанской базы отряд Родимцева добрался, произведя марш-бросок по тылам. Шли в указанный квадрат даже по ночам, останавливаясь только часа на четыре, для короткой передышки. Такие темпы себя оправдали: выйдя к нужному месту, обнаружили, как и предполагалось, блиндажи и землянки, командир тут же приказал выставить охранение, а остальным – отдыхать, дав на все про все полные сутки. За это время восстановить силы могли даже те, кого назначили в охранение. Игорь Ильич знал, когда нужно выжимать из людей соки, а когда – давать время на отдых настолько полноценный, насколько он может стать таковым в условиях постоянной смены позиции.
Сам же капитан Родимцев работал, словно двужильный. Четыре приказа отдал одновременно. Первый – связаться с Москвой, подтвердить прибытие на место и получить новые вводные. Второй – командиру взвода разведки Павлу Шалыгину – отправить людей в Охримовку, наладить контакт со связным, о котором сообщил УШПД через начальника Особого отдела отряда «Родина», стоявшего здесь до него. Третий – начальнику штаба Фомину – позаботиться о продовольствии, послать группу снабженцев в село Дубровники, – там, по сведениям, партизанам помогали. Оставленного предшественниками запаса сухарей, муки и круп по самым приблизительным прикидкам хватит ненадолго. Четвертый – Татьяне Зиминой – идти в Ахтырку, войти в контакт с нужным человеком и проверить поступившую информацию со своей стороны.
Исходя из имеющегося опыта, ни одна из групп не вернется скорее чем через сутки. Зиминой, за которой в раскладах по предстоящей операции оставалось последнее слово, командир вообще дал лишний день в запас. Хотя, хорошо зная свою разведчицу, понимал: Татьяна тянуть время не станет.
Но кое в каких расчетах Родимцев ошибся. Группа разведчиков по главе с Павлом Шалыгиным вернулась быстрее, чем он рассчитывал. Тот, кого они привели с собой, заставил Игоря всерьез поломать голову. Командир отряда, имеющий определенный опыт и разучившийся за это время удивляться, вынужденно признался сам себе: парень, назвавшийся Романом Дроботом, сбежавшим из немецкого лагеря бойцом Красной Армии, заставил его крепко задуматься.
Ведь если верить его сбивчивому рассказу, который постарался спокойно и взвешенно передать Шалыгин, задание командования можно считать фактически выполненным. Все бы ничего, да только Игоря настораживала легкость и случайность всех совпадений. Хотя, с другой стороны, именно цепь несвязанных между собой событий и счастливых случайностей определяла успехи на войне часто даже в большей степени, чем реализация хорошо продуманных и выверенных на различных уровнях стратегических планов.
Повторно допросить Дробота командир решил вместе с начштаба. Родимцев признался себе: ему нужен не просто посторонний наблюдатель, но и даже в большей степени – арбитр. Сторонняя оценка Фоминым всего произошедшего и, главное, сделанные на основании всего этого выводы должны, по замыслу командира, стать своего рода страховкой для того решения, которое так или иначе придется принимать ему самому.
– Давайте сначала, – проговорил он, взглянув сверху вниз на человека, устроившегося на вкопанном в землю чурбачке с прибитой гвоздем поперечиной. – Фамилия, имя, отчество, звание.
– Конечно, понимаю, – кивнул тот. – Можете мне не верить, имеете полное право, только…
– Вопрос задан, – командир чуть повысил голос, пересекшись при этом взглядом с комиссаром и уловив даже при тусклом свете каганца легкий упрек.
– Дробот Роман Михайлович, год рождения одна тысяча девятьсот двадцать первый, боец Красной Армии, звание – рядовой, Воронежский фронт, мотострелковый батальон…
– Это лишнее, гражданин… – замявшись на секунду, Родимцев решил оставить обращение по имени, – Дробот. Конечно, данные будут проверяться. Но именно сейчас они нас не интересуют.
– Почему «гражданин», товарищ капитан?
– Как попали в плен? – Вопрос Игорь проигнорировал.
– Двадцать первого марта, когда пробирался вместе с группой окруженцев через линию фронта. Немцы, видать, прорвались, колечко, знаете, как бывает…
– Знаем, что не все бойцы и командиры сдаются в плен живыми, – отрезал Родимцев. – Но и это сейчас лишнее. Меня… нас вот с товарищем комиссаром пока больше интересуют подробности вашего побега.
– Рассказывал уже…
– А вы снова, – вступил Фомин. – Вам еще не раз придется повторять историю, в том числе – письменно.
– К сказанному ничего добавить не могу, – буркнул Роман, не скрывая обиды. – Представился случай – рискнул. Точнее, рискнули вместе с товарищем, Кондаков Семен. Придумал все он, погиб при побеге. Слышал, как немцы кричали, требовали от полицаев прекратить работу и хватать беглецов.
– Знаете немецкий? – быстро спросил Фомин.
– Так точно… В смысле, – Дробот, похоже, слегка смутился своей армейской привычки рапортовать, – понимаю лучше, чем говорю. Изучал в школе, дома тоже по учебникам. У нас в семье принято было знать иностранные языки. Отец два знал, хотел освоить японский…
– Зачем?
– Что? – не понял Роман.
– Японский – зачем?
Не зная, что ответить, Дробот перевел взгляд с комиссара на командира.
– Правильно все, – кивнул Родимцев, применив свою, одному ему понятную логику. – Язык вероятного противника, Дмитрий Максимыч.
Они были примерно одного возраста, немногим за тридцать. Однако даже без свидетелей предпочитали обращаться друг к другу хоть и на «ты», но – по имени-отчеству. Никто из них не знал, как и почему это повелось, точнее – ни один не задумывался над подобными мелочами.
– Как я понял, вы считаете, Дробот, – попытку побега разгадали? – уточнил командир.
– Кто его знает… Могли вычислить, но скорее всего предал кто-то. Ведь шум подняли не полицаи, а немцы. А те держались от пленных на расстоянии.
– Хорошо. Вам удалось бежать, затеряться в лесу, верно?
– Так и было, товарищ командир.
– Вас не искали?
– Почему? Искали, я слышал крики и выстрелы. Только ночь выдалась темная, я затерялся. Ближе к рассвету выбрался к селу, Охримовке. Отыскал нужную хату…
– Стоп! – Родимцев выставил перед собой ладонь, будто ограждаясь от собеседника и потока информации. – Вы раньше бывали в этих местах?
– Нет.
– Как же вам удалось выбраться ночью из лесу, да еще в нужном направлении?
– Насобачился по лесу ходить, товарищ капитан. С детства у меня.
– Интересно, Максимыч, а? – Игорь повернулся к начштаба всем корпусом. – Гляди, немецкий у него с детства. Ориентирование в лесу – оттуда же. Как все сразу пригодилось, а?
– Ничего не вижу странного, – пожал плечами Роман.
– Ну, пока я тоже ничего такого особенного не вижу… – Дроботу показалось, что Родимцев его сейчас слегка успокаивает. – Так, много совпадений, разве нет? Еще совпадение: постучали вы именно в ту хату, где живет партизанская связная. Связные, коли уж совсем быть точным, – Кузьма Опрышко, инвалид, с женой Катериной.
Однорукий дядя Кузя, как звали его односельчане, при немцах остался работать пастухом, как и при советской власти. Ногу, точнее – стопу потерял не на гражданской, хотя успел в свое время повоевать. Несчастный случай на лесопилке, чего греха таить – по пьяному делу. Опрышко новая власть не заподозрила в связях с партизанами лишь потому, что перед самой войной дядя Кузя скандалил в сельсовете по поводу трудодней, обещал дойти до райкома, если надо – то и до обкома. Помнится, обругал власть в целом, что по большому счету было грехом посильнее брани в чей-либо персональный адрес. Конфликт не разрешился, началась война. Как коротко сообщили Родимцеву в УШПД, уже после прихода немцев, по поручению подпольного обкома, пастуха, а заодно и супругу его тетю Катю завербовали.
Как человек, достаточно опытный в подобных делах, Родимцев знал: агенты, подобные семейству Опрышко, по оперативной классификации относились к так называемой третьей категории. Их определяли как «исполнителей»: передавали нужную информацию в отряд не прямо через связных и разведчиков, а через промежуточные звенья – партизанских связных, проводников, подполье. Свежий предвоенный конфликт неожиданно помог – дядю Кузю немцы с подачи начальника кустовой полиции считали чуть ли не главным врагом коммунистов во всей Охримовке.
– Это наш план такой был, – пояснил Роман.
– Наш – это…
– Мой и Кондакова. Вернее, Кондакова и мой. Семен находился в лагере дольше меня, успел наладить кое-какие контакты. Близко сошелся с Василием Боровым, того склонили к сотрудничеству партизаны. Сам он в лагере оказался случайно…
– Опять случайно, – вставил Родимцев.
– Послушайте, товарищи командиры! – вспылил Дробот, которому осточертело сдерживаться и соблюдать субординацию. – Если вы мне не верите, если каждое слово ставите тут под сомнение, правда – лучше сразу в расход! Я в могиле лежал, с покойниками, меня уже ничем не испугаешь!
– Вас, товарищ Дробот, никто пугать не собирается, – успокоил Фомин. – Здесь не маленькие дети собрались. Мы не в игрушки играем, не в казаки-разбойники, должны понимать.
– Понимаю.
– Не вижу!
– Чего?
– Понимания не вижу! Именно потому, что здесь не игры, вам и задают такие подробные вопросы. Может, вас они задевают, обижают, вы через многое прошли. Только наша цель, вот с товарищем Родимцевым, – снять все, даже самые простые, нелепые, как вам кажется, вопросы в отношении вас.
Дробот промолчал, инициативу вновь перехватил командир.
– Итак, то, что некий Василий Боровой служил в полиции, поддерживая при этом контакты с партизанами, подпольем, сейчас не так важно. Если я верно понял из вашего предыдущего рассказа, он попал в лагерь из-за истории, не имевшей прямого отношения к его связи с отрядом, так? – Роман кивнул. – Этот Боровой, если я правильно все уловил, дал Кондакову, организатору побега, контакт в Охримовке. Пастуха Кузьму Опрышко, так?
– Я и говорю… – снова завелся было Дробот, но Родимцев остановил его знакомым жестом.
– Погодите, без спешки. Данный контакт вы, в свою очередь, получили от Кондакова. Когда его убили при побеге, вы воспользовались контактом, отыскав хату однорукого пастуха. Там вас укрыли, накормили, даже вымыли и кое-как приодели. Пока я правильно говорю?
– Так все и было, – подтвердил Дробот.
– Теперь следите за ходом моих мыслей и поймете, что меня волнует. Не только меня, вот товарища Фомина тоже, – командир слегка прокашлялся. – Если бы наши разведчики не появились у Опрышко, как вы собирались действовать? Сидеть в погребе, ждать конца войны, конца света, чего-то еще?
– Нет, – теперь Роман говорил более уверенно. – Нужно было, конечно, отлежаться, прийти в себя. Только оставаться у пастуха рискованно. Дядя Кузя пояснил: отряд, с которым он был на связи, не так давно снялся с места. Но я все равно собирался или искать партизан, или двигать к линии фронта, или же – думать, как можно связаться с нашими.
– С кем именно?
– Понятия не имею. С кем-нибудь. С нашими. У меня важная информация, передать нужно срочно, через кого – не важно. Если совсем честно, товарищи командиры… В общем, сам не представлял себе, как и до кого можно добраться. Мой спаситель, Кузьма, других связей, кроме как с ушедшим отрядом, просто не имел.
– Правильно, такой порядок агентурной работы, – подтвердил Родимцев. – Звенья, подобные пастуху Опрышко, обычно знают немного.
– И потом, – Роман вздохнул, – понимаете, я в тот момент, когда готовился бежать, во всем полагался на Кондакова. Он-то как раз хорошо подготовился, ему просто напарник был нужен. Вот для таких случаев, как я понял.
– Для каких? До меня не совсем дошло.
– Один погибнет, зато другой дойдет, сведения донесет.
– Если оба погибнут?
Дробот снова решил промолчать.
– Хорошо, – командир достал из кармана галифе кисет, полоски газеты, ловко свернул самокрутку, закурил. – Ладно. Допустим пока, что все это правда.
– Послушайте, а у вас что, есть другое предположение? – вновь не сдержался Дробот. – Вот кто я, по-вашему?
Теперь не спешил с ответом Родимцев. Не только потому, что не знал его, прикрывая сложность в оценке не до конца понятной ситуации напускной строгостью и играя при этом злого следователя: роль, к которой привык, проводя допросы еще до войны. Игорю очень хотелось, чтобы парень с наголо обритой головой – жена дяди Кузи сама потрудилась ржавой тупой бритвой, справедливо опасаясь вшей, – в штопаных галифе, старых резиновых сапогах с высокими голенищами и телогрейке, надетой прямо на застиранную исподнюю рубаху, убедил его: все, что случилось с ним, было именно так, а не иначе. Он сам должен постараться и аргументированно опровергнуть все, пусть и самые невероятные сомнения командира. Пускай они в свете законов военного времени абсолютно логичны и объяснимы.
Ведь если этот парень действительно тот, кем себя называет, и если то, что он пытался сбивчиво поведать, – правда, в таком случае отряд «Смерть врагу!» выполнит задание командования раньше определенного Москвой срока.
Пока Родимцев медлил с ответом, Фомин снова решил включиться в допрос. Примерив на себя роль доброго следователя.
– Мы разбираемся, товарищ Дробот. Поймите: пока что вы – человек без документов, рассказывающий историю, в которую поверить можно, но сложно. Эти трудности Игорь Ильич как раз пытается для себя преодолеть.
– Ладно, – хлопнул себя по коленям Роман. – Думаете – думайте, ваше право. Только в таком случае вам надо решить, верить или не верить в то, что под Охримовкой, недалеко от лагеря военнопленных, фрицы строят секретный объект. Он как-то связан с обороной. Больше ничего не могу сказать, выводы не мне делать, – он уже не боялся собственной дерзости, видимо отбоявшись свое до конца жизни еще в лагере. – Как считаете, нужно передавать эту информацию, может она оказаться важной для нашего командования? Если вы не верите мне или, пускай так, верите не до конца, придется задержать с отправкой сведений. И кто знает, к чему такая задержка приведет.
Родимцев и Фомин вновь переглянулись.
– Любая информация будет проверяться, – проговорил командир. – Именно потому, что имеет для командования фронтом, судя по всему, стратегическое значение. Так что пока, Дробот, мы в силу ряда причин склонны верить вашим словам и хотим верить. Дело за малым. Почему вы решили, что немцы в лесу недалеко от лагеря, из которого вы так удачно бежали, возводят именно секретный объект? И почему, по-вашему, он связан непременно с подготовкой к обороне данного рубежа?
На Романа внимательно смотрели две пары глаз.
– Я ведь объяснял уже…
– А мне кажется, вы сами не все поняли из того, что пытались нам тут сказать. В любом случае повторите еще раз. Только теперь уже с чувством, с толком, с расстановкой, как говорится.
– Грибоедов, – вырвалось у Дробота.
– Это кто? – не понял Родимцев.
– Писатель и политический деятель прошлого века, – отчеканил Роман. – Написал комедию «Горе от ума». Она растаскана на цитаты, сейчас вы сказали одну из них.
– Умный? – Командир склонил голову набок, вздохнул: – Знаешь, повидал я таких умных на своем веку, пускай недолгом пока. Не умничай, ладушки? Отвечай, когда спрашивают.
Родимцеву надоело топтаться на месте. Он начинал злиться на Дробота. Парень напоминал ему, пускай отдаленно, тех крикунов, которые сперва пытались со всей серьезностью объяснить, почему именно его арестовали по ошибке, а вскоре – кто-то даже очень быстро, – искренне, насколько позволяли выбитые зубы и сломанные ребра, признавали правоту советских органов государственной безопасности и каялись во множестве грехов. Раскрываясь даже для самих себя с новой, неожиданной стороны.
– Отвечу, – просто проговорил Дробот. – Хотя вообще-то ответы не я нашел. Кондаков их увидел, в карманах расстрелянных. И додумался, еще раньше, чем я в лагерь попал.
3 Сумская область, Ахтырка, апрель 1943 года
Аусвайс у Татьяны имелся настоящий. Такой, что даже самый бдительный патруль ничего не заподозрит.
Зная, в какой район выдвигается отряд, тамошнее подполье прямо из главного, московского штаба получило задание раздобыть из ахтырской комендатуры нужные бланки. Дальше, как было условлено, связной ждал Зимину в заранее оговоренном месте. Татьяна знала: это полицай из районного управления, завербованный подпольщиками по заданию партизанского штаба еще осенью. Служба позволяла ему свободно передвигаться по территории района. Поэтому, получив нужный приказ, агент устроил себе командировку на несколько дней в Горпиновку, одно из окрестных сел. Туда Зимина добралась в компании двух отрядных разведчиков, они же должны были ждать ее обратно двое суток, не больше.
Как Родимцев и предполагал, Зимина собиралась управиться раньше.
Служивший в ахтырской полиции Федор Любченко относился к той категории агентов, которых называли «посредственниками». Они получали задание по большей части от разных людей, часто – даже не видя лиц, просто читая оставленные в заранее оговоренных местах записки или снимая другие условные сигналы. Точно так же агенты, подобные Любченко, не знали, откуда пришел связной и какова его цель. Для других целей работников немецких учреждений старались не использовать: немецкие власти после первых месяцев оккупации разучились полностью доверять кому бы то ни было из местных, а сами коллаборационисты, ко всему прочему, не доверяли друг другу. Атмосфера полного недоверия требовала страховки, которая выражалась в слабом информировании «посредственников». Если они становились-таки на путь предательства, и такие случаи, увы, редкостью не были, сдать могли только того, с кем вступают в прямой контакт. Тогда подполье и партизаны моментально отрезали все связи с задержанным.
Да, провал делал такого человека обреченным. Его бросали на произвол судьбы. Глубоко в душе Татьяна с таким положением вещей не соглашалась, ведь в любой момент ее саму могла постигнуть та же участь. И все-таки Зимина подавляла в себе все подобные сомнения и несогласия. Идет война, она давно написала свои законы, которые неправильны, бесчеловечны – как все происходящее с людьми на войне. Это так же чудовищно, как и гибель мужа Татьяны под Минском в первые дни фашистского вторжения – позже она узнала: муж застрелился, не желая сдаваться в плен. Зимина отдавала себе отчет, что готова сделать то же самое, как только понадобится.
Впрочем, Зимина и без того уже убила в себе многое из того, за что ее давно, лет сто назад, еще до войны, любили мужчины. И даже перестала обижаться на Родимцева, называвшего ее иногда в шутку, но чаще – всерьез железной теткой. В эту броню, которую нельзя увидеть, зато можно почувствовать, она заковала себя добровольно.
Полицай Любченко наверняка с первых фраз понял, с кем имеет дело. Потому, передав Татьяне специально выправленный аусвайс, всю дорогу до города больше помалкивал. А когда при въезде в черту города прошли обязательный контроль шуцполиции, Федор вздохнул с облегчением: на этом его миссия заканчивалась, в городе Зимина должна была сориентироваться сама. Потому, довезя ее на подводе ближе к центральной части, где раскинулся базар, Любченко ссадил разведчицу и отправился по своим делам. Обратно она выберется уже другим способом, рядовой полицай не мог постоянно курсировать из города и обратно, не вызывая при этом подозрений.
Татьяна никогда раньше не бывала в этом старинном городе, но в полной мере ощутила его атмосферу и настроение – люди еще не успели опомниться как от недавнего освобождения Ахтырки, так и от еще более стремительного возвращения немцев. Случилось это меньше месяца назад, но прежняя, оккупационная жизнь снова наладилась. Зимина, хоть и не поддерживая с сопровождавшим ее полицаем активный разговор, задала несколько вопросов, которые ее интересовали прежде всего, и получила исчерпывающий ответ. А именно: на свои полученные при оккупантах посты вернулись почти все, кому удалось отступить во время панического бегства немцев из города еще не так давно, в феврале. Потому зверствами отличались даже не немцы, для которых возвращение себе Ахтырки было лишь частью удачного контрнаступления вермахта. Полицаи, вернувшиеся обратно сразу же после своих новых хозяев, срывали на местном населении свою злость за проявленную при бегстве трусость. Именно потому оккупационные власти чувствовали себя здесь более уверенно, чем где бы то ни было, – здешняя полиция во многих случаях действовала даже жестче немецких властей, так что город и район фактически были отданы на откуп бургомистра и районной полиции.
Человек, на встречу с которым шла Татьяна, по заданию штаба ушел вместе с полицией. И вернулся, продолжая выполнять задание, получая нужную информацию из первых уст, непосредственно от полицейского начальника, бывшего сотрудника ахтырской милиции Петра Шлыкова.
Пройдя мимо полуразрушенной стены старой, еще с казацких времен, городской крепости, Зимина оказалась на городском базаре. Недалеко расположилась церковь, и Татьяна увидела на ее ступеньках сухонького старика, пристроившего рядом свои деревянные костыли, – от колена левой ноги шел самодельный деревянный протез. Возле старика на земле стоял сколоченный из фанеры ящичек, в нем стояли граммофонные пластинки в белых конвертах.
Не веря до конца своим глазам, Татьяна подошла, наклонилась, быстро перебрала руками конверты. Довоенная жизнь незримо ворвалась вместе с ласкающими взгляд довоенными названиями: «Рио-Рита», «Нинон», Штраус, даже Вертинский… Знакомые мелодии тут же отдались в голове, женщина аж зажмурилась на мгновение, вспоминая офицерский клуб в Минске, танцевальный вечер, своего будущего – о чем Танечка тогда еще не подозревала, – мужа в новенькой, хрустящей форме с командирскими кубиками на вороте…
Тряхнув головой, чтобы отогнать неуместные теперь мысли, Зимина выпрямилась.
– Интересуетесь, дама? – встрепенулся старик. – Двести рублей, как буханка хлеба. Или столько же марками. Могу даже поменять на хлеб.
– Кому такое нужно сегодня? – не сдержалась Зимина.
– Таким, как вы, барышня.
Почувствовав, что спрашивает что-то не то, Татьяна легонько прикусила язык, сделала полшага назад.
– Я вообще-то просто спросила. У меня и патефона-то нету.
– Что, господа немецкие офицеры тоже без музыки? Танцульки под что устраивают?
Оделась для сегодняшнего выхода Зимина довольно-таки консервативно. Во всяком случае, ни внешне, ни по манере одеваться не походила на девиц, которые поддерживали связь с солдатами и офицерами вермахта. Возможно, подошла бы по возрасту, Татьяне не так давно исполнилось двадцать восемь. Она знала, что выглядит старше, под глазами собрались нехарактерные для ее возраста морщины, в светлых волосах серебрилась ранняя седина. Когда нужно, она вообще могла показаться сорокалетней сельской бабой. И уж точно не чувствовала себя на свои настоящие годы. Тем не менее старик с пластинками, сам того не понимая, сделал ей своеобразный комплимент, намекнув на успех у немецких мужчин.
– Я вдова, – сухо ответила она, хотя не понимала, для чего вообще поддерживает разговор.
– Так оно и понятно, – кивнул старик. – Сейчас много вдов. Что ж, мерзнуть вам, что ли? Весна-то нынче холодная… Ну, берете что? Нет, тогда товар не заслоняйте.
Солдат с девушкой под руку появились очень вовремя. Татьяна отступила в сторону. А девица, выхватив первую попавшуюся пластинку затянутой в блестящую перчатку рукой, защебетала на ломаном немецком с щедрой примесью украинских слов. В чем она так живо пыталась убедить немца, Зимина не вслушалась. Резко повернувшись, двинулась по направлению к базарным рядам. Если ей не показалось, если одноногий старик впрямь как-то странно посмотрел ей вслед, – что же, пускай смотрит, это его право.
Торговали на рынке всем, что можно было оценить в деньгах.
Зимина, поправив на плече довоенную штучную сумочку, сунула руки в карманы пальто и неспешно пошла вдоль рядов, время от времени прицениваясь, но по большей части просто рассматривая товар. Хотя здесь пытались продать иглы для примусов и патефонов, керосиновые лампы и стекла к ним, даже книги, картины, фарфоровые статуэтки и подсвечники, горожан, как и везде, интересовали в первую очередь еда и одежда. Только сало, хлеб, картошку, молоко и яйца возможно было обменять на брюки, рубашки, пиджаки, но особенно ценились ботинки и сапоги. Всякий раз, когда Татьяна останавливалась и спрашивала цену, владельцы товара, в основном – женщины, закутанные в платки, смотрели на нее с надеждой, готовы были торговаться. Но она отходила прочь, слыша в спину тихие проклятия. Когда – брошенные по привычке, но чаще – враждебные, злобные, подобно змеиному шипению.
Рядом с одной из женщин Зимина задержалась чуть дольше. Та, одетая в несвежий серый фартук поверх новой с виду телогрейки, держалась на некотором отдалении от основной массы базарных завсегдатаев. Пока Татьяна прохаживалась между рядами, успела отметить: она была одной из немногих, если не единственной, на кого ни разу не обратил внимания полицейский патруль. Торговки керосином вроде как не существовало. Несмотря на то что женщина время от времени громко и звонко зазывала покупателей, распевая только одной ей знакомый мотивчик:
– Ке-ро-син, кер-ро-син, вот ко-му ке-ро-син!
Темно-желтая мутная жидкость стояла рядом, на деревянном прилавке. Возле бутыли лежала большая металлическая воронка. Внизу, под прилавком, высились еще две емкости: такая же бутыль и зеленая армейская канистра. Видимо, у торговки имелся доступ к этому товару, причем единоличный, – больше на базаре керосин никто не предлагал.
Остановившись напротив, Татьяна зачем-то повертела воронку, словно собираясь справиться о цене на нее, а не на содержимое початой бутыли. Женщина машинально поправила фартук, проговорила, не меняя тона:
– Керосин покупаем, гражданочка. Сколько надо?
– Керосинка нужна к такому-то керосину, – вздохнула Зимина.
– Керосинками не торгуем.
На мгновение взгляды женщин встретились, после чего Татьяна пожала плечами, повернулась и неспешно отошла. Убедившись, что за это время обошла практически всю базарную территорию, она такой же прогулочной походкой пересекла площадь, свернула на близлежащую улицу и остановилась у старой афишной тумбы, неожиданно для себя увлекшись чтением расклеенных на ней объявлений.
– Что пишут? – услышала сзади.
Обернулась. Давешняя торговка, уже без фартука, стояла рядом, по привычке бросая настороженные взгляды по сторонам, хотя улица была почти пустынной.
– От Строгова? – спросила негромко.
Татьяна кивнула. Под кодовым именем «Строгов» во всех донесениях и сообщениях проходил Игорь Родимцев. По большей части те, с кем приходилось общаться Зиминой, знали настоящую фамилию и даже название отряда. Однако, по неписаным правилам, конспирация соблюдалась.
– Да. Вы Людмила Грищенко?
– Все верно. Вас…
– Называйте Таней, этого хватит. Керосин свой на кого оставили?
– Оставишь тут, – хмыкнула Людмила, снова оглянувшись. – Полицаев шумнула, стоят, стерегут, пока я в уборную.
Деревянная уборная, которой пользовались базарные обитатели, располагалась недалеко отсюда, в небольшой нише между домами. Зимина знала и это: другой возможности поговорить с агентом, не подвергая ее при этом ненужным рискам и подозрениям, просто не было. Статус сожительницы начальника районной полиции позволял Людмиле Грищенко отдавать полицаям мелкие распоряжения, а те невольно обязаны были подчиняться.
Если по-хорошему, то Людмила, по имевшейся у Зиминой информации, не сожительствовала с Петром Шлыковым в том смысле, который чаще всего вкладывается в эти слова. Она не стала его любовницей только потому, что того требовала подпольная агентурная работа. Хотя связь с комендантом полиции – это часть полученного женщиной задания, но имелась одна особенность. А именно: до войны Грищенко уже состояла со Шлыковым в самой что ни на есть законной связи – они были женаты. Детей пара так и не нажила, совместная жизнь милиционера и учительницы математики тоже не сложилась. Вот Людмила благополучно, спокойно, без скандала, по обоюдному согласию и разошлась с Петром – тоже официально, как того требует закон.
Когда пришли немцы, Шлыков, дезертировавший из армии и вернувшийся в Ахтырку, подался добровольцем во вспомогательную полицию. Которую практически сразу же возглавил благодаря опыту милицейской работы. В городе его многие знали, и никого не удивило, что бывшая жена в какой-то момент снова сблизилась с Петром. Людей заботило только собственное выживание, и желание учительницы Грищенко вновь сойтись с человеком, обладающим в городе некоторой властью, выглядело не таким уж преступлением. Да чего там, вообще не стоило внимания. Тогда как Людмиле возвращение к оставленному некогда супругу, пусть даже на правах гражданской жены, давало большие возможности. При сложившихся естественным образом жизненных обстоятельствах заподозрить женщину в выполнении задания подполья было практически невозможно.
К тому же связь с бывшим мужем Людмилу в действительности не слишком обременяла. Они по-прежнему жили отдельно. Петр время от времени наведывался к ней, ночевать оставался редко. Не потому, что как женщина она его уже не волновала или же он вообще не испытывал потребности в женщинах: просто у начальника районной полиции было достаточно дел. На Люду он просто не мог толком выкроить время. Хотя регулярно приносил продукты, что позволяло женщине кормить мать, а однажды даже предложил подработать.
Благодаря не пойми каким связям Шлыков получил доступ к керосину, часть которого без особого риска можно было продавать на базаре. За это предложение вчерашняя учительница математики ухватилась охотно – связываться с подпольем и партизанами так стало намного проще, и подозрений у окружающих она по-прежнему не вызывала. Партизаны же, учитывая, какой важный источник информации представляет собой начальник полиции, воздерживались от карательных акций по отношению к нему лично.
Когда немцев зимой потеснили, Петру Шлыкову повезло: он уцелел во время отступления, и новые хозяева его не бросили. Такой удачей могли похвастаться очень немногие полицаи. Выполняя задание штаба, бывшая жена ушла вместе с ним. Вернулись обратно они тоже вместе. И вскоре после этого Людмила вновь появилась на рынке с керосином – жизнь продолжалась. Женщина, как и раньше, жила отдельно, в своем доме, по-прежнему ухаживая за больной матерью. Шлыкова, как и раньше, такой расклад вполне устраивал, разве что бывать у Людмилы начальник полиции стал чаще.
И, как отметила женщина, пить стал больше.
Сейчас она собиралась передать партизанской связной именно то, что начальник полиции рассказал, будучи в подпитии.
– Не хватятся? – Татьяна кивнула в сторону базара. – Если тебя долго не будет, ничего?
– Они ж мужики, – хмыкнула Людмила. – Знают, поди, сколько времени надо бабе, чтобы по нужде управиться.
– Верно. У нашей сестры это занимает больше времени, чем у них, – с невольной улыбкой подтвердила Зимина. – И все-таки рисковать не стоит.
– А рисковать-то нечем, – развела руками Люда. – Уложусь в минуту, подробно я тут для Строгова написала, – выудив из кармана бумажный квадратик размером с ладошку, протянула Татьяне, та быстро утопила его на дне сумочки. – Но там ничего, никаких особых подробностей. Суть такая, – она смешно, совсем не соответствуя серьезности момента, шмыгнула носом. – Передайте Строгову, начальник районной полиции недавно получил приказ: отправить в Охримовку дополнительно полсотни человек. Для охраны.
– Для охраны чего?
– Этого Шлыков или сам не знает, или даже в пьяном виде не говорит. Думаю, скорее первое. Обычно из него информация прет, если надо пожаловаться. Он мне только и плачется в жилетку.
– Плачется?
– Ну, не так чтобы буквально, слезами, – уточнила Людмила. – Шлыков вообще мужик достаточно жесткий, крепкий такой. Скорее так: злится, а излить злость некуда. Полицаев своих гоняет под это дело, только те не понимают часто, какая муха начальство укусила. Мне, можно сказать, исповедуется.
– Это все?
– Смотрите сами, думайте. Три дня назад это было. Пришел Петро ко мне поздно, с бутылкой самогона, уже где-то разговелся, так сказать. Выпил еще и говорит: где я, мол, херу криминалькомиссару полсотни рыл найду, рожу, что ли? Так я, мол, не баба. «Херу» – это он так на свой манер говорит «герр»…
– Поняла. Дальше.
– Дальше в том же духе. Полицаев приходится поднимать в ружье в пожарном порядке не только по городу, но и по району. Считай, говорит, один работать остаюсь. А требуют, как от полноценной укомплектованной управы. В некоторых селах, говорит, чуть не по одному полицаю остается. Пронюхают партизаны, налетят, и с кого потом спросят? Со Шлыкова спросят. Такого рода исповеди, понимаете?
– Ясно, ясно. Все-таки, кого или что они будут там охранять? Хотя бы намека не было?
– Усиливать, – уточнила Людмила. – Там охраны вроде достаточно, нужно усилить.
– Рядом с Охримовкой лагерь, пленные. Этот объект?
– Да! – встрепенулась Люда. – Он говорил – объект. Что-то рядом с лагерем немцы завертели. Больше ничего не сказал. Думаю, больше он и не знает.
– Хорошо. Вас там заждались, – Татьяна вновь кивнула в направлении базара.
Она чувствовала – Люда Грищенко хочет еще что-то спросить. Прекрасно понимала, как тяжело вчерашней учительнице уже почитай больше года благодарить неведомо какие высшие силы за еще один прожитый день. Зимина отдавала себе отчет: эта женщина рискует больше, чем она сама. Ведь у Татьяны есть возможность маневрировать и нет никого, кто бы от нее зависел. Людмиле же стоит брякнуть одно неосторожное слово – и бывший муж наверняка потащит ее в гестапо. А это значит: больная мама останется без помощи.
Если вообще останется жить.
Но на встрече агента со связным нет места для сантиментов, потому Зимина, коротко кивнув Людмиле, повернулась и пошла прочь, стараясь идти не слишком быстро, не оборачиваться, никоим образом не привлекая к себе лишнего, пусть даже случайного внимания.
Из города нужно выбраться до темноты. Если не получится, на такой случай Татьяна знает явочную квартиру, где ее приютят до утра.
Так уж сложилось, что мало к кому из своих подчиненных комендант ахтырской вспомогательной полиции испытывал хоть что-нибудь, похожее на симпатию или уважение.
Еще в бытность свою сотрудником милиции Петр Шлыков многое успел узнать о людях, с которыми теперь вынужден был работать. Потому отдавал себе отчет: этим нельзя доверять ни при какой власти. Сам Шлыков умудрился остаться беспартийным, от участковых партбилетов не особо требовали. Зато Петр прекрасно видел, кто вступает в партию, исповедуя единственное убеждение: личный интерес, карьерный рост и прочее, прочее, прочее. Именно новоиспеченные коммунисты строчили донос за доносом, и он, участковый уполномоченный Шлыков, был обычно первой, низшей инстанцией. Если вовремя не реагировал, следующий донос те же партийцы могли написать уже и на него самого – именно за то, что сотрудник органов без должного внимания отнесся к сигналу по поводу очередного врага.
Теперь же все эти граждане, правдами и неправдами получив бронь или уклонившись от фронта другими способами, жгли партбилеты, искренне убеждали немецкие власти – их заставили, а коммунистов они ненавидели всю жизнь, громче всех орали: «Хайль Гитлер!» – точно так же, как совсем еще недавно на парадах выкрикивали наперегонки: «Да здравствует товарищ Сталин!» Тем не менее именно такие люди устраивались служить в оккупационную администрацию, в том числе – во вспомогательную полицию. А значит, становились теперь его подчиненными.
Таким нельзя было доверять. Но другого контингента, за редким исключением, не появлялось. Потому приходилось терпеть, срывая на всех вместе и каждом в отдельности свой справедливый гнев.
Однако полицай Павло Клещов по кличке Клещ находился у Шлыкова на особом счету.
Как милиционер, пускай и бывший, начальник полиции не считал допустимым для себя контактировать с уголовниками не иначе, кроме как по работе. Когда он, Шлыков, для вора-рецидивиста только «гражданин начальник». Клещ был именно вором, и до войны Петр то проводил с ним воспитательные беседы, когда тот появлялся в родном городе после очередной отсидки, то присутствовал вместе с операми из угрозыска при его аресте.
Теперь же Паша Клещ всплыл в Ахтырке буквально из небытия. Для Шлыкова до сих пор оставалось загадкой, где пропадал ушлый вор, осужденный в последний раз за два года до войны. А еще – как удалось ему оказаться на свободе, вернуться домой и втереться в доверие к немцам. Впрочем, эта загадка была не меньшей, чем последующее чудесное спасение от партизанского приговора. Когда в феврале немцы организованно, хоть и поспешно, отступали, полицаи разбегались кто куда. Значительная часть личного состава попалась, и кого не расстреляли на месте, предстали перед показательным судом. Однако с возвращением немцев в Ахтырку Паша Клещ вынырнул так же виртуозно, как перед их отходом залег на дно, и явился в комендатуру. Его рот щербился знакомой ухмылочкой, словно не прятался черт знает где все это время, а проводил законно заработанный отпуск. Он был принят на службу из-за катастрофической нехватки людей. Как и полицай по фамилии Секира, который прибился к комендатуре пару недель назад. Судя по документам, раньше служил в Зерновом, но после недавней перетасовки на фронтах каким-то образом был переведен на новое место службы.
Сейчас перед Шлыковым стояли Клещ с привычной глуповато-наглой улыбочкой и Секира. Этот не улыбался, смотрел прямо перед собой, пялясь на облупленную штукатурку стены над головой начальника.
Шлыков большим и указательным пальцами помассировал глазные яблоки, перевел взгляд с Секиры на Клеща и спросил:
– Так что все-таки случилось в Юхновке, а, Клещов?
– Рапорт же написали, гражданин… господин комендант, – Шлыков ни на секунду не сомневался, что полицай оговорился нарочно.
– Ты писать-то не научился толком, Клещ, – вздохнул он. – Вот сколько я тебя знаю, лет десять, больше? Один хрен, как тогда каракули выводил, так и сейчас не стал грамотнее. Из твоего рапорта, который ты мне, кстати, сутки писал, я не понял ни на копейку.
– Так это… переписать или как?
– Своими словами расскажи, Клещов. У тебя байки травить всегда хорошо получалось.
– Разве он не похвастался? – Щербатый кивнул на молчавшего Секиру.
– Этот даже не все буквы знает. Ему шифровки писать, а не рапорта, – сейчас Шлыков и не думал шутить. – Излагает тоже не густо. Послушал я его блеяние, теперь вот твое мычание хочу услышать. И Секире полезно послушать. Может, новое чего узнает о ваших с ним подвигах.
– Что-то я не пойму… – завел было Клещ в своей привычной блатной манере, но Шлыков резко выкрикнул, хватив кулаком по столу:
– Отставить разговоры!
– Я не понял, говорить или отставить? – негромко переспросил полицай-уголовник, не убирая усмешки, хоть и сбавив блатные обороты.
– Говори по делу. Про то, про что я тебя спрашиваю. Хочу твой треп сверить с байкой, которую вот он уже рассказал, – Шлыков кивнул на Секиру, который даже не пытался взглянуть в сторону Клещова.
– Все у вас треп да байки, господин комендант. Вот поймай мы тогда пару красноперок, спрос был бы другой.
– Вот тут ты прав, Клещ. Спрос был бы другой. Давай сначала, не тяни резину.
– Чего тянуть? – Полицай пожал плечами. – Приехали мы в эту Юхновку проверять сигнал. Служит там у меня дружок, Ванька Бойченко. Он дал знать: там в одну местную хату наведываются лесные черти. Краснопузые, значит. Вам не сообщили, потому что вас тогда на месте не было. И потом, если не подтвердится, с нас же три шкуры за дезу, непроверенную информацию. Сколько раз так уже было, господин комендант…
– И еще будет, – кивнул Шлыков. – Пока гладко все, сходится. Верно ведь, Секира, ты так мне говорил?
– Верно, – буркнул тот, по-прежнему не глядя на Клещова.
– Дальше что было? Вот приехали вы…
– Ага, приехали, – охотно подтвердил полицай. – Перетрещали там на месте с Бойченком, сошлись на засаде. Сядем, значит, в засаду, чтоб никого не спугнуть раньше времени. Замерзли, как цуцыки, даже для сугреву того мало-мало, – Клещ щелкнул себя по кадыку. – А как врезали, так, считайте, поперло – краснопузые нарисовались. Тут виноваты, господин комендант, это как есть, казните: не вмазали бы, так не пришел бы кураж их сразу ловить. Грамотнее б работали. Конечно, те ответили, поднялся шухер до небес, партизаны в лес убежали. Тех, сообщников, мы, конечно, потрусили…
Натолкнувшись на тяжелый взгляд Шлыкова, полицай осекся, аж сглотнул, словно заглатывая несказанные слова и фразы. При этом Секира вытянулся, будто проглотил жердь, показавшись на голову выше, чем обычно.
– Все? – спросил начальник полиции и, не дожидаясь ответа, вернее – не желая слушать, уже зная, что ему скажет Клещ, продолжил: – Умеешь ты звонить с любой колокольни, это за тобой водится. Дружок вот твой – так звиздит, будто кабана рожает. Медленно, тяжело, с непривычки… сукин сын. Не умеет. Рад бы, да не насобачился брехать. А теперь вы оба меня послушайте. Писать не можете, читаете по складам, так хоть ушами… Если до вас, конечно, через уши дойдет и не надо будет вбивать через другое место.
Шлыков ожидал, что Паша Клещ из вредности вступит в пререкания. Но тот молчал, даже убрал ненужную теперь улыбочку с лица. Вместо нее обозначилось выражение напряженного ожидания. Не желая больше тянуть время, собираясь поскорее покончить с этим, комендант вынул из ящика стола картонную папку с мятыми уголками, раскрыл. В ней лежало всего два листа серой бумаги с отпечатанным на машинке текстом. Прокашлявшись, Шлыков начал читать:
– Мы, нижеподписавшиеся, староста Юхновской управы Билык К. О., заместитель старосты Воропай О. И., секретарь… Ладно, там семнадцать подписей, – он для наглядности продемонстрировал лист с закарлюками, затем продолжил: – Значит, мы, в смысле – они, все эти граждане, составили акт в том, что такого-то числа апреля месяца одна тысяча девятьсот сорок третьего года из управления районной полиции в село Юхновку прибыло двое полицейских. Вместе со своим знакомым, полицейским из сельской кустовой полиции Бойченко В. М., эти двое распивали спиртные напитки под видом важного совещания. После чего, пользуясь тем, что начальник местной полиции Савчук С. П. находился в отъезде, трое указанных полицейских в пьяном виде принялись вымогать у граждан самогон и продукты. Когда же граждане отказались выдать им требуемое, полицейский Клещов П. И. принялся избивать людей хлыстом и нецензурно ругаться. Когда работники управы попытались призвать их к порядку, полицейские Бойченко и Секира стали избивать их тоже. При этом угрожали, что могут на месте расстрелять каждого за связь с партизанами и им ничего не будет. Потом эти трое подняли стрельбу в селе, назвав свои действия облавой на партизан и их пособников. После чего отобрали у гражданина села Ермоленко В. В. телегу, на которой тот вез свою больную жену в Ахтырку, сбросили женщину на землю, полицейский Клещов заявил, что телега и лошадь конфискуются, и все трое поехали на ней к хате Бойченко, где продолжили пьянствовать. Вечером трое полицейских гоняли на телеге по селу и стреляли в разные стороны, кричали и матерились, – Шлыков с подчеркнутой аккуратностью положил акт в папку, закрыл ее. – Знаете, что тут еще написано? Или куда больше, а, Клещ?
– Страх потеряли, – буркнул тот в ответ.
– Ты о ком? Вы, Клещ, так точно его потеряли. Хотите поискать? Я даже знаю, где найдете, – охримовский лагерь, слыхали про такой, нет? И ладно бы это составили на мое имя. Семнадцать человек не на вас жалуются. Точнее, не только на вас – на меня тоже. Написано на имя криминалькомиссара господина Хайнеманна, мать вашу в раскорячку, сволочи! – Шлыков выкрикнул так неожиданно, что оба полицая синхронно вздрогнули. – Там указано, что начальник районной полиции, то есть – я, никак не реагирует на подобный произвол! Даже покрывает своих подчиненных! А еще те, кто подписал эту бумагу, считают: незаконные бандитские действия полицейских против граждан дискредитируют полицию! А значит – всю немецкую администрацию! Понятно? Я, – Петр ткнул себя пальцем в грудь, – как бывший советский милиционер, хочу опорочить немецкие власти в глазах граждан! И тем самым склонить их к помощи партизанам! Вот чего я тайно добиваюсь, твари вы этакие! Знали, нет? Или, может, забыли, что немцы сейчас могут запросто в такое поверить? И в лагере не вы окажетесь, а я, матерь вашу! Какого хрена я должен волочь за вас, раздолбаев, этот хомут?
Теперь даже бодрящийся Клещов стоял, втянув голову в плечи. Гонор слетел, и Шлыкову очень не хотелось выполнять именно то распоряжение, которое получил от немецкого руководства. Его так и подмывало выпороть Секиру на базарной площади, а Клеща – расстрелять там же, причем лично, что доставило бы ему персональное удовольствие. Вместо этого начальник полиции проговорил чуть более спокойным голосом:
– Значит так. Ваше счастье, что у немцев сейчас другие заботы. Им нужна лояльность населения, они не хотят ударов в спину. Положение неустойчивое, вы без меня это должны чувствовать. Но, повторюсь, именно теперь немцы не станут забивать себе головы такими петухами щипанными, как вы. Потому ты, Секира, пойдешь под арест на десять суток. С вычетом зарплаты. На хлеб и воду. А ты, Клещов, собирайся в Охримовку, на штрафные работы. Командировка на две недели без сохранения зарплаты за весь апрель месяц. Что надо сказать?
– Слушаюсь, – пробормотал Секира.
– Низкий поклон, благодетель, – ответил Клещ. – Жрать я чего буду?
– Что перепадет. И вообще, там, в Охримовке, тебе не жрать, Клещ, – тебе бы живым остаться. Хотя пропадешь – не жалко. Вот тут я тебе честно говорю, – Шлыков даже приложил ладонь к той стороне, где сердце.
– С чего бы там пропадать? – осторожно спросил полицай, догадываясь, – смутные подозрения о каких-то странных делах возле охримовского лагеря, возникшие из неопределенных слухов, начинают подтверждаться.
– Сам узнаешь. Уже недолго.
Теперь очередь ухмыляться перешла к начальнику ахтырской районной полиции.
4 Харьков, разведывательно-диверсионная школа Абвера, апрель 1943 года
Курсанты – по прикидкам Дерябина, общим числом около полусотни, – выстроились на плацу перед одноэтажным казарменным помещением.
Расположились в одну шеренгу, буквой «П», как приказал Дитрих. Сам он, так же, как и все, одетый в красноармейскую форму, полевую гимнастерку с капитанскими погонами, расположился по центру. Заложив руки за спину и перекатываясь с пятки на носок, он говорил, обращаясь ко всем сразу, кроме разве самого Дерябина, получившего в школе фамилию Пастухов, и старшего инструктора, которого тут все знали как Мельника: эта пара расположилась позади немца.
– Вчера ночью в школе произошел недопустимый случай, – Дитрих говорил по-русски, чеканя слова, акцент странным образом придавал сказанному некую особую значимость: – Вас здесь собрали и держат не для того, чтобы вы рвали друг другу глотки. Если мы будем допускать драки между собой и даже убийства друг друга, смысл существования школы отпадет сам собой. И в лучшем случае всех вас отправят в концентрационный лагерь до особого распоряжения. Которого, исходя из моего опыта, может и не поступить.
Что случится в худшем случае, никто из курсантов, разумеется, не рискнул спросить. Однако, как мог судить Николай по выражению лиц большинства своих новых товарищей, особого раскаяния за ночное происшествие те не испытывали.
А ведь его могли убить. Инструктор Мельник вполне серьезно собирался сделать это.
…Два первых дня в школе диверсантов прошли нормально и ничем особым не выделялись. Здесь не привыкли задавать вопросов новичкам, прошлое каждого не интересовало остальных. Всех привели сюда сходные обстоятельства, о которых не хотелось особо распространяться и, как знал Дерябин из собственного опыта, нет особого желания напоминать даже себе. Курсантам вполне достаточно, что новичка представили как Пастухова. С ним никто не пытался пойти на сближение, и, как успел отметить Николай, здесь вообще многие держались сами по себе.
Только на вторую ночь он проснулся от того, что сверху навалилось что-то тяжелое, сильная ладонь зажала рот, колено надавило на солнечное сплетение, кто-то с двух сторон ухватил за руки, а прямо в лицо прошипели:
– Лежи тихо, сука чекистская. Первым у меня будешь, краснопузый.
Еще не успев до конца понять, что происходит, лишь осознав отчетливо, что сейчас умрет, так и не узнав причины и даже не увидев своего ангела смерти, Дерябин отчаянным резким движением вырвал правую руку, изо всех сил хватил раскрытой ладонью по тому месту, где должна быть голова противника, точнее – его ухо. И попал: вскрикнув от неожиданной резкой боли, сидевший сверху ослабил давление коленом. Действуя дальше только на кураже, Николай выгнулся дугой, взмахнув при этом правой ногой и даже зацепив пяткой голову врага, которую тот в движении откинул. Каким-то невероятным усилием Дерябину удалось сбросить с себя нападавшего, при этом вырвав из плена левую руку.
Свет не включали, отбиваться приходилось в темноте, наугад, но Дерябин мгновенно оживил в памяти не тренировочный зал, куда в обязательном порядке ходили сотрудники управления НКВД, а детдом и ночные «темные», когда Коля учился отмахиваться от стаи навалившихся злобных зверьков. Разница лишь в том, что сейчас жизнь его повисла на волоске.
Если бы кто-то вовремя не включил свет и дежурный не заорал: «Отставить!», кто знает, как надолго хватило бы Дерябина. Он тут же увидел, от кого защищался: точно напротив стоял инструктор Мельник, тяжело дыша, а в рукопашной Николай уже успел его повидать и оценить подготовку – этот умел убивать голыми руками. Позднее, уже через полчаса, когда среди ночи подняли Дитриха и участники ночного инцидента давали объяснения у него в кабинете, Мельник проговорил без малейшего зазрения совести: узнав, что новичок совсем недавно служил в НКВД, тут же решил наказать его. Отыгравшись на Дерябине за все плохое, что, по его словам, принесла ему лично эта организация. Он ненавидел «красных» люто, считая, что они не имеют права ходить по одной земле с ним, и о причинах подобной ненависти можно было даже не спрашивать. Уж кто-кто, а Николай Дерябин прекрасно понимал: подобное отношение к карательной организации, в которой он состоял, испытывает не только инструктор Мельник.
Впрочем, ситуация довольно быстро прояснилась. Как оказалось, тот, кого называли Мельником, – бандит, отбывавший свой срок на Колыме и вызвавшийся служить в штрафном батальоне, где можно искупить вину кровью и скостить судимость. Только, видать, бандиту Мельнику и с непогашенной судимостью было неплохо: оказавшись на передовой, он рванул через линию фронта к немцам в первом же бою. Так он попал в разведшколу и сейчас собирался спросить с Дерябина за всех энкавэдэшников, залегших за пулеметы и стрелявших штрафникам в спины, если те отказывались идти на прорыв фактически с голыми руками – оружие получали не все, только тесаки да саперные лопатки, автоматы уцелевшие бойцы должны добыть в сражении.
Николай же не считал себя настолько глупым, потому легко пришел к заключению: о том, что он офицер НКВД, пусть бывший, вряд ли знал кто-то, кроме Отто Дитриха. Это означало только одно: именно с подачи Дитриха инструктор Мельник получил нужную информацию. Другого варианта просто не было. Так же, как Николай не сомневался в том, что инструктор готовился удавить его, и поступил приказ не допустить этого, вмешаться в нужный момент.
Суть затеянной Дитрихом игры Дерябин пока не мог понять.
Но, похоже, все сейчас прояснится.
– Я не могу, не хочу и не имею права рисковать заданием, – говорил между тем Отто, продолжая переваливаться с пятки на носок. – У меня нет ни желания, ни возможности проверять каждого на психологическую совместимость друг с другом. Мне все равно, кто как к кому относится. Но меня совершенно не устраивает, если, оказавшись за линией фронта, Мельник воткнет нож в спину Пастухова – или Пастухов при первой же возможности сведет счеты с Мельником, списав это на боевые потери.
Дитрих прошелся вдоль строя, продолжая чеканить фразы:
– Подтверждаю – курсант Пастухов раньше действительно служил в советских органах НКВД. Но каждый из вас тоже являлся советским гражданином. У кого-то даже были партийные билеты, вы выступали на собраниях, клеймили и обвиняли, хлопали врагов народа, при этом восхваляли гений Сталина. Теперь все вы сделали свой выбор. Сделал его и Пастухов. Я провел с ним немало времени. Как, впрочем, однажды беседовал лично с каждым из вас. Но готов согласиться, – капитан остановился, повернулся к виновникам, картинно щелкнул пальцами. – Да, готов согласиться и признать право каждого из вас, бывших советских граждан, ненавидеть карательные органы большевиков. И допускаю – всю злость рано или поздно кто-то вновь захочет выместить на курсанте Пастухове. Который, повторяю, один из вас, так или иначе. Что вы можете сказать, Пастухов?
– Разве я должен что-то говорить? – вырвалось у Николая.
– Вы можете отказаться работать в школе. Тогда вас ждет концлагерь, пока я не придумаю, как с вами быть. И пока мое руководство не примет решения в отношении вас с учетом обстоятельств. Хотя, честно говоря, – пальцы снова щелкнули, – я не думаю, что вокруг вашей персоны, Пастухов, особенно с учетом обстоятельств, возникнут такие уж серьезные споры. Вам предложат стать надзирателем, и вы согласитесь.
– А если не соглашусь?
– Во-первых, здесь вас никто не спрашивает, – проговорил Дитрих. – И, во-вторых, мне не нужны проблемные курсанты. То, что я упомянул о вашем праве отказаться… Так, обычная формальность, либеральная шелуха, ведь либерал во мне умирает медленно. Но есть выход. Инструктор Мельник должен пообещать при всех, что с этой минуты ни он, ни кто-либо другой не станет посягать на вас. Мельник, вы готовы к заявлению?
– Извините, господин капитан. Либо вы эту красную суку отсюда уберете, либо придется отправить в лагерь половину школы. Это в лучшем случае. Я готов, мне не привыкать. Он, – инструктор кивнул на Николая, – все равно раньше меня сдохнет.
– Ага, – сказал скорее самому себе, чем кому-то конкретно Дитрих. – Как я понимаю, даже ради общего дела примирение невозможно?
– Не с ним. Вот Бубнов – он красный, командир танка, но мы с ним лучшие кореша. Потому что Бубнов не чекист, не комсячья морда. И с ним я куда хошь пойду. Правда, господин капитан! Не дразнили бы вы этим подонком наших гусей, а?!
Пока Мельник говорил, Дерябин физически ощутил исходящие от него волны ненависти.
– Ладно, – как-то очень легко согласился Отто. – Тогда другое предложение. Так сказать, третий путь, который часто ищут в подобных ситуациях и редко находят. Я пока не знаю, насколько курсант Пастухов ценен для школы и для меня лично. У него любопытная биография, да. Только это не главное в той работе, которую вы готовитесь выполнять. Мельник и Пастухов, вы будете решать все сами.
– Это как? – вырвалось у Николая.
– Я сейчас дам инструктору возможность закончить начатое, – просто объяснил Дитрих. – И вы получите возможность убить Мельника. Раз не уживетесь друг с другом, проблему лучше решить так. Habe ich Recht?[8]
Не сговариваясь, противники переглянулись.
Инструктор прочел на лице Николая недоумение, Дерябин на лице врага – неприкрытое злорадство. На плацу стола тишина.
– Если удача улыбнется Пастухову, значит, он не безнадежен. Я сочту его ценным кадром, а вы все должны будете с ним смириться и забыть о его прошлом. Если случится так, как того хочет Мельник… Значит, потеря невелика, я зря делал на него ставку, жалеть не о ком.
Похоже, поступить именно так Отто Дитрих придумал изначально. Дерябин даже не попытался понять ход его мыслей, и вообще – для чего нужен весь этот дешевый спектакль. Впрочем, нет, не дешевый, даже слишком дорогой: он мог стоить Николаю жизни.
Тем временем двое курсантов уже протягивали противникам финские ножи. Лишний раз убедив Дерябина: своим подопечным Дитрих решил преподнести зрелище, и оно не стало для них такой уж неожиданностью. Свою финку бандит взял уверенно, театральным жестом подкинул на ладони, дав ножу перевернуться в воздухе вокруг своей оси и ловко поймав его за рукоятку. Подобным умением Николай похвастаться не мог, потому просто оглядел присутствующих, задержал взгляд на ничего не выражавшем лице Дитриха, шагнул назад, принял боевую стойку и выставил руку с ножом перед собой.
Ряд курсантов уже перестал быть стройным. Не дожидаясь специальной команды, зрители рассредоточились, образовали широкий круг с неровными краями, капитан устроился среди курсантов, уже не выделяясь особо из толпы. Перед предстоящим зрелищем все оказались равны, словно патриции и плебеи в Древнем Риме, стянувшись посмотреть на очередной гладиаторский бой.
Читал Дерябин мало. Но книга о Спартаке была среди читанных в юности, даже не один раз. Тогда Николай нет-нет да и представлял себя на арене, конечно же, в роли отважного бесстрашного предводителя восставших рабов. Сейчас ему уже так не казалось.
Мельник напал первым, без предупреждения. Даже если кто-то собирался подать сигнал, его не было, или же тот просто не дождался отмашки.
Он прыгнул, подавшись вперед всем телом, далеко выбросив руку с финкой перед собой, и, не подтолкни Дерябина инстинкт шагнуть в сторону, вчерашний бандит насадил бы его на нож. Отступая, Николай сделал по инерции еще несколько шагов и потерял равновесие. Устоять на ногах не удалось, он упал, чудом не выронив при этом нож, и сразу же бросил тело в сторону – Мельник уже летел на врага, решив воспользоваться моментом в полной мере.
Дерябин откатился, в движении развернувшись ногами к нападавшему, и ловко, вспомнив, чему учили на занятиях, подцепил носком сапога голень противника. Следующим должен стать удар другой ногой пониже колена либо в идеале – по коленной чашечке, однако Николай попал в пустоту: Мельник вывернулся, попытался в прыжке достать лежащего, и тому снова пришлось перекатываться по плацу. Он слышал над собой крики, так и не поняв, за него ли болеют зрители, подбадривают ли инструктора, или просто орут. Адреналин плескался через край, вокруг уже ничего и никого не существовало.
Дерябин понял, что подняться Мельник ему не даст. Терять такое явное преимущество он не собирался. Потому оставалось сделать еще одну попытку сбить его с ног тем же приемом, только теперь подпустить максимально близко и стараться действовать наверняка. Когда Николаю это удалось, он невольно удивился сам себе – вот противник навис, собираясь, наконец, ударить ножом, и вот он уже падает на спину, нелепо взмахнув руками. Вскочили они одновременно, Мельник не собирался давать врагу ни секунды передышки, только и Николай уже обрел хладнокровие. Вновь подпустив инструктора к себе, решил больше не прыгать от него по кругу – ушел влево, нырнул под правую руку, плавным движением левой перехватил ее, рванул, не столько беря на прием, сколько пытаясь огорошить противника.
Удалось. Под воздействием полученного эффекта рычага инструктор невольно развернулся к Дерябину спиной. Он мог выйти из предполагаемого клинча, что и сделал – только для этого нужно было занести свою правую руку вверх, чтобы освободить ее из захвата. Не помня, где и когда наблюдал именно такой прием, Николай тут же переместил тело за спину Мельнику, левая рука змеей устремилась к шее противника – и вот уже локоть сильным движением принял ее в захват.
Природа наделила Мельника короткой шеей, которую не всякому удобно обхватить, тем более – в такой ситуации, когда противники не стоят на месте. Ему достаточно было двинуть плечом, ослабляя хватку, у Дерябина оставалась всего секунда, чтобы усилить захват, и Николай воспользовался ею в полной мере: помогла всецело охватившая злость за все, что происходило с ним в последнее время. Кто-то должен ответить, и этим человеком оказался инструктор Мельник.
Крепко сдавив руку в локте, Дерябин подался назад, повалил противника чуть на себя, согнув при этом ноги в коленях, и, в один миг очистив голову от мыслей, ударил финкой неуклюже, сверху вниз. Бил не в какое-то одно место – важно сделать противнику больно. Получилось – Мельник заорал, маша руками и пытаясь освободиться, ему почти удалось, видно, боль только придала силы. Но все же рана сделала свое дело: Дерябин ударил снова, теперь метя в грудь, а когда выдернул нож – уже совсем не сдерживался: позволив Мельнику рухнуть на колени, с силой резанул по горлу, сразу же отскочив в сторону.
Пачкаться в крови не хотелось.
Тело тут же охватила странная слабость. Рука продолжала сжимать нож. Дерябин устоял на ногах, но с этой минуты словно не он, а кто-то другой его глазами смотрел, как двое курсантов волокут окровавленного Мельника с плаца, как остальные галдят, обступив его, и сквозь непонятный звон в ушах до него донеслись слова Отто Дитриха:
– Поздравляю всех. В нашей школе новый инструктор. Незаменимых у нас не бывает. Habe ich Recht? Ja, ich habe Recht[9].
5 Сумская область, район Ахтырки, апрель 1943 года
Из шестерых бойцов, посланных в село Дубровники за продуктами, вернулось двое.
Людей повел армейский старшина Иван Ткаченко, в недавнем прошлом – взводный партизанского отряда. Его группа – единственные, кто уцелел после карательной операции СС, под которую попал отряд «Чапаев», действовавший в окрестностях Конотопа. Отряд «Смерть врагу!» натолкнулся на них во время одного из своих рейдов при обстоятельствах, которые показались бы странными всем незнакомым со спецификой тыловой войны. А именно: все шестеро прятались по дворам в одном из сел, которое Родимцев, выполняя очередное задание, зачистил от немцев и полицаев. Оказалось, вырвавшиеся из кольца партизаны три недели скрывались в сараях и погребах селян, подвергая своих спасителей огромному риску. Но дать своим от ворот поворот гражданские тоже не могли: в подобных случаях они тут же попадали под категорию врагов народа, фашистских пособников и предателей Родины – со всеми вытекающими последствиями. Конечно, подобное отношение выглядело запугиванием мирного населения, но военное время других методов и не предполагало.
Со слов Ткаченко, кто-то донес полицаям о приходе партизан в определенную хату. Полицаи устроили засаду, силы были не равны, командир приказал прорываться. К условленному месту сбора пришел он сам и еще только один боец, Виктор Стрельцов, тоже бывший «чапаевец». Для очистки совести остальных ждали несколько часов, до рассвета, но после поняли – все кончено, надо возвращаться.
Разумеется, с пустыми руками.
Вопрос продовольствия для отряда Родимцева критичным пока не был. Сохранился некоторый запас круп, тушенки, сухарей, муки и сахара. Пополнить закрома можно было позже, в другом месте. Только дело было не в продуктах, которых не принесли бойцы, и даже не в потерях, хотя Игорь дорожил людьми. Ситуация в Дубровниках косвенно подтвердила его предположения, составленные на основе полученной ранее радиограммы из Москвы, показаний Романа Дробота и сведений, добытых разведкой Шалыгина и принесенных из города Татьяной Зиминой.
Сейчас, сидя у себя в штабной землянке, Родимцев составлял радиограмму в штаб Строкачу, стараясь точно излагать мысли и четко, без лишних слов, выстраивать фразы.
По сути, главным подтверждением того, что недалеко от охримовского лагеря для военнопленных немцы строят некий важный и особо секретный стратегический объект, можно считать сказанное сбежавшим из лагеря Дроботом. Ему же, в свою очередь, это рассказал погибший при попытке побега Семен Кондаков. А именно: в карманах тех пленных, кого угоняли работать в лес и через определенное время расстреливали как свидетелей, он, трудясь в похоронной команде, находил мелкий щебень и бетонную крошку. Частички застывшего бетона были также на одежде. И еще. Как-то Кондаков увидел в руке охранника, стоявшего снаружи периметра запретной зоны, вместо привычного стека или дубинки огрызок арматурного прута. Этим обрубком немец довольно-таки ловко орудовал, огрев замешкавшегося Семена, так что сведения проверены им на собственной шкуре.
Из чего Кондаков, сложив части уравнения, сделал вывод, которым поделился с Романом Дроботом: там, в лесу, немцы начали сооружать что-то похожее на мощный укрепрайон. Точнее, объект должен был превратиться в некую мощную цитадель, способную стать серьезным и, главное, неожиданным препятствием для Красной Армии. Возведение такого укрепрайона стало возможным только благодаря временному спаду активности по всему участку фронта. Судя по всему, немцы просчитали, где планируется предстоящее наступление, – а в том, что оно грядет, сомневаться не приходилось. Как и его вероятное направление, тут даже не нужно быть великим стратегом. Родимцев даже рискнул высказать в донесении довольно смелое предположение: подобные объекты в данный момент возводятся одновременно на нескольких участках этого направления. Значит, предстоящие планы Ставки могут нарушиться – наступление захлебнется, натолкнувшись на мощные укрепления, которых здесь раньше не было.
Конечно, в подобную картину слабо вписывались расстрелы пленных, чьими силами строится укрепрайон. То есть, логики в их ликвидации как таковой Родимцев не искал – немцы могли казнить захваченных в плен врагов в любой момент, не ища своим действиям дополнительных оправданий. Как, впрочем, могли уничтожить – и уничтожали! – целые села вместе с жителями просто так, для профилактики и запугивания местного населения. Но с формальной точки зрения расстреливать тех пленных, которые трудятся на строительстве, затем заменять их новыми, чтобы тех тоже расстрелять через определенное время, не имело особого смысла. Ведь даже если людей уводить на работы и приводить их вечером обратно в лагерь, информация о строительстве вряд ли выйдет за пределы лагеря.
Сделав поправку на режим особой секретности, Игорь решил для себя – объяснение есть. Пленные для немцев – материал скоропортящийся. Чтобы рабы хорошо трудились, их нужно хорошо кормить. Но есть ли смысл, когда можно за несколько дней выжать из пленных последние соки, после чего добить и заменить их новой партией смертников… К тому же немцы, очевидно, решили не допустить даже минимальной возможности утечки информации: вот почему те, кто увидел строящийся объект, уже ни при каких обстоятельствах не должны были возвращаться в лагерь, где их непременно спросят, чем они занимались в лесу. Не под страхом же смерти велеть пленным держать рты на замке!
На версию работала также информация разведчиков о двух зенитных батареях, не так давно появившихся в районе Охримовки. До этого зенитчиков там не видели. Усиление противовоздушной обороны около места, где строится что-то секретное, говорит само за себя.
Наконец, переброска в Охримовку и окрестности дополнительных сил, состоявших преимущественно из подразделений вспомогательной полиции. Зиминой удалось разузнать некоторые подробности – из них формировали сборные отряды, вооружали и отправляли не только поближе к лагерю, но и в окрестные села. Дубровники входили в их число, это Родимцев уже прикинул по карте. С этим связано усиление мер безопасности, и под эту раздачу, вероятнее всего, и попала давеча группа Ивана Ткаченко. Конечно, немецкие части также подтягивались, однако, по сведениям, полученным не только усилиями Татьяны, но и ранее переданным из Москвы за подписью самого Строкача, сил вермахта и СС не хватало, чтобы закрыть все дыры в тылу. Потрепанная под Сталинградом армия находилась в процессе переформирования. Потому силам вспомогательной полиции сейчас стали поручать намного больше задач, чем это было еще каких-то шесть месяцев назад.
Прокрутив еще раз все соображения в голове, Игорь Родимцев теперь уже уверенно, отбросив последние сомнения, написал химическим карандашом на листе бумаги текст радиограммы. Сеанс через полтора часа, время еще есть, однако радистка Полина еще должна подготовиться.
Родимцев дописывал последнее предложение, когда в дверь блиндажа громко – как-то уж слишком громко – постучали, и, не дождавшись ответа, внутрь вошел, пригнувшись, командир разведчиков.
– Ильич…
– В чем дело? Забыл, как положено обращаться?
– Не до устава сейчас, Ильич.
По тону Шалыгина командир понял: случилось происшествие из разряда чрезвычайных. Рука сама потянулась к лежащему на самодельном столе пистолету. Вторая рука, так же машинально, сложила лист с текстом радиограммы, и он исчез за отворотом куртки, во внутреннем кармане гимнастерки.
– Что?
– Стрельцов… Ну, который… В общем, нехорошее там, командир.
Нельзя сказать, что Дробот уж очень не любил стихов.
Скорее, он искал поэзии практическое применение. В подавляющем большинстве случаев Роман мог ввернуть несколько расхожих рифмованных цитат для красного словца и подтверждения некоей романтичности момента, когда общался с девушками, провожая их вечерами домой через весенние парки и скверы. С сельскими девчатами такие номера почему-то не проходили, они обычно по непонятной причине пугались еще больше, когда парень вдруг ни с того ни с сего вспоминал Пушкина, Есенина, Блока или же лирику кого-то из малоизвестных широкому кругу украинских советских поэтов. Мол, навешает сейчас лапши на уши этот паныч городской – так до беды недалеко, всем им одного нужно, городским-то… А вот киевлянки, наоборот, считали цитирование стихов, особенно – на украинском языке, – неким примером особого шика, интеллигентности и утонченности.
Только вот как читатель Рома Дробот поэзию не слишком воспринимал, ограничившись школьными уроками и периодически выискивая подходящие цитаты в сборниках стихов. Потому особенно раздражали Романа строки, которые он считал совершенно бесполезными как для себя, так и для литературы в целом. Речь о попытках описать в стихах окружающую природу да воспеть погоду, хоть ясную, хоть пасмурную. Особенно же бесили его вирши о лесах и полях. Часто в юности бывая в лесу, он никогда не ощущал ничего из того, о чем пытались писать поэты… либо же считающие себя таковыми.
И лишь сейчас, стоя вместе со своими новыми товарищами по отряду на небольшой полукруглой поляне, бывшей неким центром партизанской базы, Дробот невольно вспомнил об этом и сменил мнение. Оказывается, когда поэт-романтик напишет в стихе фразу вроде «лес молчал» – именно она почему-то всплыла в памяти, – это может означать: автор впрямь знает и чувствует некоторые вещи больше и тоньше, чем остальные. Ведь сейчас лес вокруг именно молчал.
Обычно лесные звуки не всегда понятного и объяснимого происхождения ненавязчиво входили в уши, стоило человеку войти в царство природы. Но теперь лес замер, вместе с людьми на поляне ожидая чего-то страшного. А в том, что капитан Родимцев готов такое действо совершить, никто из присутствующих, похоже, не сомневался. Включая Романа, знавшего командира отряда всего-то несколько дней.
Игорь Ильич стоял чуть впереди на левом краю. Обращаясь к бойцу Стрельцову, сутулому мужчине лет тридцати в трофейной немецкой шинели со срезанными знаками различия и с не прикрытыми пилоткой соломенного цвета волосами, Родимцев говорил нарочито негромко. Однако же в полной тяжелой тишине даже шепот, как показалось Роману, прозвучал бы громом небесным.
– Дальше, – проговорил командир.
– Потом самогонка закончилась. Мы выпили всю. И Ткаченко… товарищ Ткаченко велел хозяину нести еще, – Стрельцов совсем по-детски шмыгнул носом, косясь на старшину Ивана Ткаченко, стоявшего чуть поодаль.
Странно, отметил Роман, догадываясь о сути происходившего: старшину не разоружили, трофейный «шмайсер» свободно болтался на плече бойца, который за то время, что партизаны слушали его товарища, уже превратился в подсудимого.
– Дальше.
– Хозяин хаты отказался. Он сказал, что в той хате, где есть самогонка, могут донести в полицию. Там знают, что у нашего хозяина есть своя самогонка. А раз он пришел и просит, значит, у него партизаны. Или он поддерживает с ними… с нами связь.
– Логика железная. Дальше.
– Товарищ Ткаченко начал ругать хозяина и угрожать расстрелом, как предателя. Потом немножко отпустило его, и он сказал – сам сходит и принесет. Заодно разберется, что там за пособники немцев проживают… ну, в той хате, где самогон еще есть… Спросил, кто хочет с ним. Я вызвался.
– Почему?
– Выпивший был… Кураж…
– Дальше.
Чтобы удобнее встать, Иван Ткаченко согнул правую ногу в колене. Левую руку опустил вдоль туловища, правая спокойно сжимала ремень автомата.
Рядом с Дроботом кто-то тяжело вздохнул – радистка отряда Полина Белозуб. Роман как раз беседовал с девушкой, когда прозвучала команда на построение. Она оказалась землячкой, хоть и отчасти: вместе с родителями переехала из Киева в Подмосковье еще до войны, отцу предложили там хорошую работу на одном из заводов, выделили отдельное жилье – в Киеве семья долго ютилась в коммуналке.
– Ну, мы вышли из хаты, вещи оставили там… В сарае… Надо было идти на другой конец Дубровников, хозяин растолковал, как… Поздно уже было, темно, не светилось нигде… Когда мы отошли… ну… далеко, значит… далековато… – теперь признание давалось Стрельцову еще тяжелее, – стрелять начали, там, откуда мы ушли. Потом мы обсудили…
– Вы обсудили, – повторил командир. – В спокойной обстановке обсудили, как положено.
– Я… Товарищ капитан…
– Дальше. Товарищей у тебя здесь много, им всем интересно послушать о «подвигах».
– Игорь Ильич…
– ДАЛЬШЕ!
Стрельцов вздрогнул, как от удара. Ткаченко переместил центр тяжести на другую ногу, зачем-то поправил ремень на плече.
– Это… поняли мы потом… Полицаи с другой стороны зашли, с другого конца села. С той стороны, где у них управа в бывшей конторе… Хозяин предупреждал, что могут явиться… За самогонкой тоже… А могут и не прийти…
– То есть, хозяин хаты, куда вы пришли за приготовленными продуктами, предупреждал, чтобы вы долго не засиживались? – уточнил Родимцев.
– Предупреждал. Только товарищ Ткаченко сказал, что нам надо отдышаться, пожрать… поесть… Отогреться… Чтобы хозяин, стало быть, не боялся. Ежели что, говорит, красные партизаны его защитят.
Дополнительные пояснения не нужны были никому. Все бойцы, включая Романа, понимали: произошла обычная на войне вещь. В данном случае полицаи, как и предупреждал хозяин хаты, поздно ночью заявились к нему за самогоном. Там нарвались на четверых партизан, тоже нетрезвых, которые, возможно, могли затихариться, переждать, пока те уйдут, – но вместо этого вступили в бой. Неизвестно, сколько полицаев схлестнулось с партизанами. Этого ни Ткаченко, ни Стрельцов в темноте не разглядели. Но бой закончился очень быстро: хату просто забросали снаружи гранатами, подожгли, и тех, кто уцелел, добивали почти в упор, когда те выбегали на двор.
– Где вы находились все это время?
– За забором… В соседнем дворе…
– Почему не попытались помочь своим товарищам?
– Товарищ Ткаченко, как командир группы, сказал, что им уже ничем не поможешь, самим надо отходить. Потом, за селом, предупредил: за такие дела по головке не погладят, лучше сразу застрелиться. Велел говорить так, как мы сказали раньше… Это ж правда, Игорь Ильич, мы ведь хоть как на засаду…
– Чего ж не застрелился сразу, если так лучше? – резко прервал его Родимцев и, когда ответом было молчание, задал еще один вопрос: – Почему решил признаться?
Вот чего никто, никогда и никому объяснить не сможет. Дробот полностью отдавал себе в этом отчет. Что происходило все это время в душе Стрельцова, вряд ли понимал и он сам. Ясно только одно: сейчас оба подписали себе приговор, а безмолвными судьями были полсотни бойцов отряда, собравшихся на лесной поляне.
Не услышав ответа и теперь, Родимцев с подчеркнутой неспешностью вытащил из кобуры свой командирский ТТ. Зачем-то взглянув на пистолет, он взвел курок. Щелчок в полной тишине прозвучал подобно выстрелу, Стрельцов снова вздрогнул, но Игорь всем корпусом повернулся к Ткаченко.
– Мы все готовы тебя послушать.
– Нечего говорить, – пожал плечами тот, невольно распрямляя оба колена и принимая стойку «смирно».
– Тогда сдай оружие.
Ткаченко двинул плечом. Ремень скользнул вниз, автомат упал на вялую апрельскую лесную траву.
– Трибунала у нас нет, Ткаченко. Заседать никто не будет. Даже если нужно: ради таких, как ты, не стоит тратить драгоценное время. Приговора тоже не будет, – командир развернулся лицом к отряду. – Кто-нибудь против? Начальник штаба?
Фомин промолчал. Со своего места Дробот мог прочитать на его лице целую партитуру из сомнений и возражений, однако ситуация требовала промолчать и согласиться с решением командира.
– Повторяю вопрос – кто хочет высказать свое мнение? Если я ошибаюсь, пусть Тка… этого подонка судит другой суд, к которому ни у кого из вас не будет вопросов. Молчите? – Родимцев снова повернулся к Ткаченко. – Значит, лучше застрелиться, говоришь… Почему не застрелился? Какого черта приперся в отряд? Как собирался вести себя в бою? А бой ведь скоро, все это знают. Отвечать!
– Бес попутал, товарищ командир, – буркнул Ткаченко.
– Бес, значит?
Выстрел грянул неожиданно.
Роману показалось, что руку командир опустил в последний момент, пуля ушла под ноги приговоренному, тот неуклюже, по козлиному подпрыгнул, отскочил подальше. Вторая пуля прошла над его головой, и теперь Родимцев стрелял сознательно, выпустив поверх фуражки Ткаченко еще две пули подряд. Теперь колени старшины подкосились, он рухнул, тут же стал на четвереньки. Очередная пуля легла возле правой руки, Ткаченко отдернул ее, потерял равновесие и теперь распластался на земле, уже не сдерживая отчаянного:
– НЕ СТРЕЛЯЙТЕ! НЕ СТРЕЛЯЙТЕ! БЕС ПОПУТАЛ, НЕ ХОЧУ, НЕ ХОЧУ!
Отделившись от остальных, к Родимцеву подошел Фомин, опустил руку ему на плечо. Невзирая, что на них сейчас смотрит весь личный состав, более того – даже сознательно учитывая это, начштаба проговорил, стараясь, чтобы его услышали все:
– Ильич, хватит. Он уже получил свое, я так вижу. Когда война кончится – не знаю. Если доживет Ткаченко до ее конца – тогда и ответит.
– А не доживет?
– Смоет кровью. Под арест до особого распоряжения, на хлеб и воду. Разжаловать нашей властью, – и, не дождавшись ответа от командира, теперь уже Фомин обратился к партизанам: – Раз на то пошло, есть кто против? Или кто-то хочет лично его расстрелять, прямо тут? Мы возражать не будем, запретить не имеем права, учитывая… Все это учитывая, в общем. Так как?
Ответом, как и следовало ожидать, и в этот раз стало общее дружное молчание.
– Мог расстрелять на месте. Вполне.
Это были первые слова, сказанные Полиной после того, как бойцы разошлись, а радистка отошла подальше, за деревья. Роман, сам не зная зачем, двинулся за ней – видимо, потому, что случившееся прервало их мирный разговор, да и все это время девушка стояла рядом с ним. Наблюдая за тем, как провинившегося Ткаченко ведут в отдельный блиндаж, где тому предстояло сидеть под арестом все время до начала боевой операции, Полина, не глядя на Дробота, снова проговорила, обращаясь, казалось, сама к себе:
– Так ведь уже было один раз. После он ругал себя за несдержанность. Даже рапорт составил в штаб, я сама его отстукивала по рации.
– Вы о чем?
– Господи, Рома, мы же договорились, без этих штучек интеллигентских! Ни к чему они в отряде.
– Ладно, ты о чем? Или о ком? – Хотя второй вопрос Дробот задал, прекрасно зная ответ – просто хотел услышать его от девушки.
– О командире нашем, Рома. Не знаю, имеет ли право человек на войне оставаться добрым. Только он добрый, с такой стороны Игоря… – короткая пауза, – Ильича мало кто знает. Какое мало – вообще никто не знает в отряде!
– Ты знаешь?
– Знаю. Чувствую. Женщины тоньше чувствуют, Рома.
– Особенно когда война.
– Особенно когда война, – подтвердила Полина. – Насчет «о чем»….
Она неспешно пошла между сосен. Роман последовал за девушкой, держась чуть сзади, – он вдруг подумал, что со стороны это может выглядеть прогулкой двух влюбленных, а они-то и познакомились хоть как-то всего чуть больше часа назад.
– Так вот, о чем… Я окончила курсы радистов, ускоренные, трехмесячные. Сама попросилась. Могла уехать с родителями в эвакуацию, не захотела… Ладно, это отдельная история. До войны набрала тридцать прыжков с парашютом, потому не боялась заброски сюда, в отряд. В конце декабря это было, наши уже крепко вцепились в Сталинград… Опять не то…
– Если что-то личное, неудобно рассказывать – не стоит.
– Ну уж нет, сама ведь завела разговор, никто не тянул за язык. Вообще я хочу, чтобы ты кое-что понял про командира, как человек новый. Слыхала, под смертью ходил каждый день…
– Все мы тут под ней ходим.
– У всех есть выбор. Всегда можно либо ввязаться в драку, либо отступить. Там, в лагере, у тебя выбора не было, так ведь?
– Ну, я мог застрелиться и не сдаться в плен. Вообще застрелиться – всегда выход, вот как командир ваш… наш сегодня предложил.
– Он в сложной ситуации сейчас, – отрезала Полина. – Все мы в таком положении. Но ему сложнее, он решения принимает, ответственность на нем вся. Вот и тогда сам решил…
– Когда – «тогда»? Поль, о чем говорим хоть?
– Обо мне, – вздохнула девушка, словно принимая очень важное для себя решение. – Когда меня забросили в отряд, я оказалась здесь единственной женщиной. Есть еще Зимина, Таня, ты ее видел уже. Но она не всегда бывает в отряде, у нее другие задания, другие задачи… Потом, она старше, опытнее, вдова командира… Я же постоянно здесь, тем более мне положено отдельное помещение… Ребята все молодые, даже если не очень молодые – женщина рядом, я раньше не совсем понимала, что это значит для мужиков. Теперь вот понимаю… Их тоже поняла, даже простила… И все равно неприятно, когда начинают лезть по ночам без спросу.
– Если бы спросили?
Брякнув, Дробот тут же пожалел об этом. Однако Полина отнеслась спокойно, только оглянулась на него. На лице мелькнуло выражение, будто жалеют ребенка.
– Сам ты как думаешь? Когда трое возбужденных бойцов начинают ломиться к тебе в землянку среди ночи, я должна поставить им условие: попросите вежливо, товарищи, и становитесь в очередь?
– Грубо.
– Грубо, – охотно согласилась Полина. – И вульгарно. Только и я давно уже не благородная девица. Так что можешь не выбирать выражений, рядом со мной никто не выбирает, я привыкла. Ну, так что мне было делать, как себя вести? Подумать об этом раньше, отсиживаться с отцом в эвакуации, работать на заводе, ковать победу в тылу?
– Мы и сейчас в тылу, – снова ляпнул Роман.
– Правильно, только мне и хотелось именно во вражеский тыл, если нельзя на фронт! Защищаться же пришлось от троих пьяных партизан! От своих же, наших бойцов. Которые вот недавно вернулись с задания, чудом выскочили из кольца облавы, потеряли товарища в бою… Я не знаю, командир сам услышал мои крики или ему доложили, разбираться тогда не очень хотелось. Когда он прибежал и велел прекратить, один из них… из тех… послал его матом. Сгоряча, конечно. Может, он пожалел об этом тут же. Но даже если пожалел, это было последнее, что он подумал перед тем, как Родимцев застрелил его на месте.
– Застрелил?
– В упор. На глазах у остальных. Расстрелял в него всю обойму секунд за восемь-десять. Даже когда тот партизан упал, я не поняла до конца, что произошло.
– И командир доложил об этом в штаб? – переспросил Дробот. – О том, что застрелил бойца своего отряда за попытку… – Последнюю фразу он в последний момент проглотил, однако Полина легко подхватила ее и закончила:
– Именно так, за попытку изнасилования. А я передала эту радиограмму. Больше подобных попыток никто не повторял, хотя взгляды, сам понимаешь какие, ловлю на себе постоянно. Даже если не вижу, то чувствую вот здесь, – девушка дотронулась пальцем до какой-то точки на затылке. – Никто в отряде ничего тогда не сказал. Командир даже не собирал всех, как сегодня. Ничего не требовалось прояснять, Рома. Все всё уразумели без лишних слов. Так что, – подвела Полина своеобразный итог их короткого разговора, – я ожидала сейчас от командира такого же поступка.
– Это правильно или неправильно?
– Вот не знаю, Рома. Каждый решает сам. На войне вообще, если ты до сих пор не понял, каждый за себя. Хоть все вместе – за Родину, за Сталина…
– А по большому счету каждый за свою Родину, – зачем-то добавил Дробот.
– Тоже верно, – Полина взглянула на большие мужские механические часы на своей правой руке. – Ладно, поболтаем еще. Кстати, давно ни с кем вот так запросто не трепалась. У меня сеанс через двадцать минут.
Кивнув, девушка одернула гимнастерку под серой телогрейкой, машинально поправила пилотку на коротко стриженных волосах и поспешила к своей землянке. Опершись плечом о ствол ближайшей сосны, Роман проводил удаляющуюся фигурку долгим взглядом, хлопнул себя по карманам, но скорее по вновь обретенной после лагеря привычке искать курево, чем впрямь надеясь его найти.
За спиной обозначилось движение.
Дробот резко обернулся, встретился взглядом с широко улыбающимся Павлом Шалыгиным.
– Поля наша понравилась? – Командир разведчиков протянул Роману кисет с табаком, тот взял, кивнул с благодарностью. – Ничего дивчина, ладная. Ты бы осторожнее возле нее.
– Что так? – Дробот решил сделать вид, что ничего не знает о случившемся с радисткой.
– Да то так, боец… Роман ведь, правильно?
– Верно.
– Аккуратнее с романами, Рома. Ничего такого, просто ты новенький, не знаешь ничего.
– А что надо знать?
– Поля ведь с командиром. С Ильичом, значит…
Часть третья Лес
1 Харьков, разведывательно-диверсионная школа Абвера, апрель 1943 года
Отец Отто Дитриха не был кадровым разведчиком. И своего единственного сына в этой профессии не видел. Однако именно благодаря связям, сохранившимся у барона Дитриха еще со времен Первой мировой войны, Отто оказался в структуре Абвера. Сделав за короткое время стремительную карьеру, он считался одним из наиболее перспективных молодых офицеров.
Дитрих-старший, как владелец нескольких крупных предприятий, занимался коммерческой деятельностью. Что позволяло барону-коммерсанту встречаться с представителями деловых кругов Англии и Америки, не вызывая при этом особых подозрений. Ему пришлось временно отойти от дел, когда в американской прессе его имя всплыло на волне скандала: под видом коммерции барон Дитрих оказывал услуги германской секретной службе, оказавшись среди тех, кто всеми способами пытался если не остановить, то существенно ограничить переправку через океан американского вооружения – Соединенные Штаты снабжали армии Антанты. Поскольку об этом написала газета, имевшая репутацию, прежде всего, бульварного издания, скандал удалось замять, апеллируя именно к поискам авторов сенсаций на ровном месте. Тем не менее, барона Дитриха вывели из большой игры. Предполагалось, что временно. Оказалось – надолго: в 1917 году германская разведка прекратила свое существование.
Однако барон фон Дитрих, как всякий дальновидный коммерсант, понимал, что та огромная информация, которая накоплена за время работы, рано или поздно понадобится, как и люди, умеющие с ней работать. Потому не удивился, когда через десять лет о нем вспомнили старые знакомые, служившие на то время в войсковом управлении рейхсвера[10]. Правда, в тот период Абвер фактически дублировал функции гестапо, что Дитриху-старшему категорически не нравилось. Потому, оказав возрожденной разведке ряд консультационных услуг, барон со временем предпочел держаться от Абвера подальше. И даже после того, как Конрада Патцига, к которому у Дитриха возникала масса неприятных вопросов, сменил на посту руководителя Абвера Вильгельм Канарис, человек, который иногда открыто конфликтовал с гестапо, однако по большей части неприязнь носила внутренний характер и была взаимной, Дитрих продолжал соблюдать дистанцию.
Именно Абверу времен Патцига сопутствовали громкие провалы разведки. Вот почему барон возражал против того, чтобы его сын Отто посвятил себя службе в военной разведке. Родине можно принести пользу на любом поприще, при этом не обязательно становиться военным. Только вот сам Дитрих-младший решил иначе.
Отто считал: отец, как и большинство немецких аристократов его поколения, до сих пор не может простить себе и только себе поражения Германии в Первой мировой войне, за которым последовало унижение нации подписанием договора в Версале. Всему виной пресловутые белые перчатки, которые потомственные аристократы никак не хотели снимать во времена, когда немцы были готовы строить новое общество, поднимать нацию с колен – возрождать из пепла и активно бороться с влиянием на их великую страну коммунистов и евреев, что, впрочем, часто не исключало одно другого. Когда идет борьба за будущее нации, белые перчатки должны снять все, и не в последнюю очередь это касается разведки.
Отто Дитрих не собирался сотрудничать с гестапо. Он вполне справедливо разделял убеждения Дитриха-старшего, что в тайную полицию массово пошли полуграмотные костоломы, в лучшем случае получившие лишь начальное образование. Работать плетьми и кулаками для них привычное дело. Но, запугивая нацию, гестапо отупляет ее, как отупляет страх вообще. Но, рассуждал Отто Дитрих, если методы гестапо лишены тонкости и потому не могут, с точки зрения культурного человека, считаться приемлемыми по отношению к населению Германии, кое-что из гестаповского арсенала вполне можно использовать в работе военной разведки. Разумеется, не буквально, а основательно их трансформировав согласно требованиям к работе разведчика.
Но суть, считал Дитрих, должна сохраниться: у врагов не должно быть ощущения безопасности даже в собственном тылу. Даже в первую очередь – в тылу.
Значит, ставку нужно делать на террор и диверсии. Это запугивает гражданское население, лишает армейские структуры стабильности, вынуждает военных стратегов делать поправки на возможность диверсии в том или ином направлении, на той или иной территории. Именно потому, после того как с помощью связей отца удалось попасть в структуру военной разведки, Отто в конце концов нашел себя в отделе, именуемом для краткости Абвер-2, и вплотную занялся разведшколами, силами которых готовились и проводились диверсии и теракты во вражеском тылу. Здесь Дитрих-младший обрел идеальную возможность применить свой аналитический ум для руководства грубой физической силой. Поставить логику и интеллект на службу управлению деятельностью диверсионных групп.
Обычно руководство Абвера-2 требовало увеличить количество забрасываемых групп и частоту отправок. Почему-то считалось: если парашютисты станут сыпаться во вражеский тыл, словно майские ливни с грозами, это принесет больший эффект. О том, что подавляющее большинство наспех подготовленных групп либо отлавливается органами советской госбезопасности, либо диверсанты идут каяться в НКВД и результат работы равняется в лучшем случае нулю, в худшем – минус единице, говорить было не принято.
Дитрих сделал довольно быструю карьеру не в последнюю очередь благодаря настойчивости в вопросах, касающихся организации диверсий в тылу врага. Дитрих же предпочитал непопулярный принцип: «Лучше меньше, да лучше», и со временем его подход стал давать более значительные результаты. Отсюда – карьерный рост, хотя за чинами потомок рода баронов фон Дитрихов как раз особо не гнался. Для Отто всегда важнее были полномочия, и чем шире – тем лучше.
Именно здесь, в харьковской школе, он получил желаемое.
Ситуация на фронте требовала от всех отделов разведки согласованных действий. Более того, Абвер в отдельных случаях мог контактировать с полевой полицией и гестапо, если вопрос касался борьбы с партизанами и подпольем в собственном тылу.
Ведь мало накрыть очередную банду, намного важнее повернуть операцию так, чтобы по возможности использовать источники подполья и партизан в интересах вермахта. Здесь требовались более тонкие стратеги, чем те, что работали в аппарате гестапо. Капитан Дитрих оказался одним из них.
И вот сейчас готовилась завершающая фаза одной из таких операций, в которой Абвер-2 в его лице сыграл первую скрипку. Отто не мог отказать себе в удовольствии обсудить свой замысел с тем человеком, который был способен по достоинству оценить красоту игры. По иронии судьбы, он возник в сценарии совершенно случайно. А теперь ему было уготовано сыграть одну из главных ролей, но уже – в другой постановке Отто Дитриха.
Для этого Дитрих и вызвал к себе Николая Дерябина.
– Вы давно ищете возможность со мной поговорить.
– Откуда вы знаете?
– Разве нет? – Брови капитана прыгнули вверх. – Или вы, Николай, считаете все произошедшее с вами в последнее время чем-то обычным? Разве вы готовились к такому повороту событий?
– Честно? – спросил Дерябин, поудобнее устраиваясь на предложенном стуле.
– Правду, только правду и ничего, кроме правды, старший инструктор Пастухов.
– Это ведь вы слили меня этим бандитам. Сознательно слили. Так?
– Не буду скрывать – расчет имел место.
– На что вы рассчитывали? Что меня убьют?
– И да, и нет, – проговорил Дитрих после короткой паузы. – Видите ли, Николай, я до последнего момента не знал, что мне с вами делать. Именно с вами: вы первый офицер НКВД в моей практике, согласившийся не просто работать на вражескую разведку, но и стать диверсантом. То есть, фактически убивать своих.
– Я объяснил свои мотивы.
– Верно. Только те объяснения меня все равно мало в чем убедили, Дерябин. Вы должны были доказать даже не мне, а в первую очередь самому себе собственную состоятельность как будущего агента-диверсанта. Хотя… почему будущего? Это теперь ваше настоящее, стоило вам переступить порог карантинного блока нашей школы. Мне стало интересно, сможете ли вы за себя постоять.
– Я детдомовский, говорил же.
– Именно потому я решил проверить вас таким вот не слишком приятным для вас методом. Детдом – борьба за выживание, ежедневное доказательство собственной значимости, силы, стойкости, разве нет?
– Скажем, да… И что?
– Раз вы стали старшим инструктором, это значит, вы с честью выдержали испытание.
– Я горжусь собой, господин капитан. Но вот если бы тот… который Мельник… Если бы он покончил со мной раньше, если бы его не остановили тогда, в казарме?
– Как вы, наверное, поняли, этого не должно было случиться.
– Не скажите, господин капитан, ох не скажите! Те, кто вокруг, мои так называемые новые товарищи…
Дитрих прервал Дерябина, щелкнув тонкими пальцами.
– Момент, Дерябин! Один момент! Хочу сразу же настроить вас вот на что. Люди, которые сейчас окружают вас и с которыми вы делите все тяготы здешней службы – не так называемые. Они самые настоящие товарищи, не в большевистском смысле этого слова. Коммунисты вообще испортили много хороших слов, дав им новый, не всегда адекватный смысл. Тот же «товарищ»… Еще вчера так можно было обратиться к любому, кого считаешь своим коллегой, добрым приятелем, единомышленником. Сегодня же мир, с легкой руки коммунистов, поделен на товарищей и господ. И если кто-то считает себя господином, то он непременно классовый враг товарищу. Скажите, я ведь прав? Я прав! – Он перевел дыхание. – Мне кажется, такое положение вещей продлится, к сожалению, еще очень долго. Однако я отвлекся, Николай, – пальцы снова щелкнули. – Курсанты, с которыми вам приходится иметь дело уже как старшему инструктору, именно что ваши товарищи. Которым вы должны либо доверять, либо принять решение добровольно покинуть школу. Последствия вам известны.
– Снова пугаете должностью рядового полицая?
– Почему пугаю? Просто объясняю и предупреждаю: меньше снобизма и высокомерия. У вас, кстати, нет для такого отношения к людям особых оснований, учитывая вашу биографию…
– Вот, теперь вы уже попрекаете голодным детством и детским домом.
– Ничем я вас не попрекаю, Николай. Просто напоминаю: с этими людьми вам очень скоро идти за линию фронта.
– Что, со всеми?
– С некоторыми, – Дитрих сделал вид, что не заметил иронии. – Только с теми, кого вы как старший инструктор сами порекомендуете. И выполнить задание, причем – не одно. Вы доказали, что способны сопротивляться и можете за себя постоять. Не знаю, появилось ли к вам уважение за несколько этих дней. Но вас побаиваются, это заметно.
– Я еще плохо знаю контингент. Недели нет, как я здесь, сразу такой скачок в местной иерархии… Для чего вы мне его обеспечили?
– Я дал возможность, Николай. Должность вы обеспечили себе сами. По моему глубокому убеждению, офицер никогда не должен оставаться бывшим. К тому же воспитанник такой серьезной и влиятельной службы, как, гм, ваша…
– Бывшая, – поспешил уточнить Дерябин.
– Верно, – кивнул Дитрих. – По всем характеристикам вы не годились в простые курсанты. С моей стороны, с точки зрения профессионала, оставить вас на общих правах, да еще заставить подчиняться уголовнику, этому Мельнику… Плохо выглядело бы, Николай, очень плохо. Вы сами не желали проявлять должного рвения, это тоже в некотором роде приговор.
– Получается, господин Дитрих, вы столкнули меня лбом со всей школой. Дали возможность убить человека, пусть даже такого, как Мельник, которого я и при других обстоятельствах не пощадил бы. И все – мне во благо, так?
– Хорошо, что вы поняли мой замысел, Дерябин, – пальцы щелкнули опять. – Вам остается только закрепить свое положение в школе. Мне почему-то кажется, что вы никому не дадите себя уничтожить. Ни тем, кого считали своими, ни тем более – чужим. Значит, вы как никто другой подходите мне для выполнения задания, о котором я уже не раз здесь упоминал. Спросите почему?
– Спрошу.
– Вы, Дерябин, способны уйти и вернуться. Это – качества, которыми обладает не каждый агент-диверсант. Как только вы вернетесь, положение ваше здесь, в школе, упрочится автоматически, без дополнительных усилий не только с вашей, но и с моей стороны. Так что занятия, которые вы сейчас пытаетесь проводить без специальной подготовки, буквально с нуля, после возвращения оттуда, – Дитрих кивнул в сторону окна, – перестанут быть для вас чем-то новым. Вы сделаете открытие, Николай: оказывается, всю свою сознательную жизнь хотели заниматься только вот этим. Поверьте моему опыту, сам прошел через тернии подобных сомнений. Что-то не так?
Дерябин пожал плечами.
– Пока не знаю. Вы уже не первый раз ведете со мной такие вот душещипательные разговоры. Для чего?
– Вот верно вы заметили – я с вами беседую, Николай. Долго и по возможности обстоятельно. Мне кажется, мы с вами близки по духу и давно должны были встретиться, разве нет?
– Пока не знаю.
– Скоро, уже очень скоро мы оба поймем, прав я был, строя на вас расчет, или ошибался.
Отто поднялся, взял со старинной деревянной этажерки два пузатых стеклянных бокала, поставил на стол. Из тумбочки извлек початую бутылку коньяка, плеснул в каждый бокал на два пальца, кивнул Дерябину, приглашая угощаться. Тот ответил благодарственным кивком, взял бокал, и тут уже что-то изнутри подтолкнуло не дожидаться дополнительного приглашения от капитана: одним резким движением опрокинул содержимое, прищурил глаза на миг, когда крепкая терпкая жидкость прошла по пищеводу. Дитрих не спешил, сделав маленький глоток, поставил бокал на стол, и Николай, чуть устыдившись своей поспешности, пристроил свой на правом колене, придерживая рукой за короткую ножку.
– Итак, Дерябин, – заговорил капитан, – вы прошли простую, но довольно эффективную индивидуальную проверку, этапы которой я разработал специально для вас. Результатом я пока доволен. Вы находитесь, извините за красивые слова и возможный пафос, на старте новой для вас жизни. Ваш предстоящий выход за линию фронта – это и есть тот старт, который я вам предлагаю и от успеха которого зависит ваше ближайшее будущее. Теперь подробнее. Хотя, конечно же, к подробностям мы вернемся еще не один раз.
Дерябин невольно выпрямил спину, сдвинул колени, положил левую ладонь на левое колено и теперь напоминал со стороны прилежного ученика, слушающего урок. Даже пустой коньячный бокал удивительным образом вписывался в такую школьную картину. Тем временем Дитрих, словно самый настоящий школьный учитель, взял длинную деревянную указку и расположился возле карты, вывешенной на стене его кабинета.
– Обстановка на фронте выглядит сегодня следующим образом. Вот здесь, на этом участке, – острый конец указки очертил на карте полукруг, – войска противника, – тут повисла короткая пауза, Отто проверял реакцию Дерябина, но ее не было совсем, и он продолжил: – …войска противника заняли крепкую оборонительную позицию. Белгородско-харьковская группировка армии вермахта готовит массированный удар вот здесь, в обход Курска с юго-востока. Операция займет несколько этапов, и конечная цель – ударить в обход Москвы, вот здесь, в направлении Рязани. Первый удар будет нанесен силами имеющихся танковых дивизий. Танки поддержит авиация, в процессе подтянутся дивизии, которые сейчас формируются в резерве. Вынужден предупредить: если вы, Дерябин, вдруг решите дать деру и сдаться, свою жизнь на эту информацию вы не обменяете. А за жизнь вы цепляетесь до последнего, как я успел убедиться.
– Зачем такие предупреждения?
– Я выполняю свой долг, Дерябин. У вас не должно возникнуть ни малейшего желания сообщить услышанные секреты тем, кто уже перестал быть для вас «своими».
– У меня его и нет.
– Надеюсь. Кстати, чтобы подстраховать от необдуманных поступков вас и заодно для собственного спокойствия, принято решение: я иду с вами, в составе группы.
– Кто так решил, интересно? – вырвалось у Николая.
– Вы не рады, что вас будут контролировать? Ну, таков мой метод, я уже ходил за линию фронта и здесь, и в бывшей Польше. Несколько раз в составе похожих групп бывал даже на территории Англии… Хочу до конца убедиться в том, что я в вас не ошибся. Хоть такие нюансы, Дерябин, вас касаться не должны, поясню – мое решение согласовано на всех необходимых уровнях, как и состав вашей… нашей группы. Ее поведу я, хотя по легенде командовать придется вам, Николай.
– Легенде? Господин Дитрих, вам не кажется, что я слишком многого не знаю?
– Для того мы и беседуем. Вы пойдете моим заместителем, я готов к такому риску. И мне хочется, чтобы моя правая рука знала примерно столько же, сколько я сам. Не удивляйтесь, у меня в любом случае свои методы, – Отто снова глотнул коньяку. – В общих чертах задача нашей группы – устроить ряд диверсий вот по этой линии, – он провел кончиком указки линию, похожую на верхнюю часть полукруга. – Как видите, это не совсем то направление, которое выбрано для наступления. Смысл в том, чтобы множественными диверсиями отвлечь внимание противника, – капитан вновь выдержал короткую паузу, – и создать впечатление, что стремятся ослабить тыл именно здесь. Причем сил и средств для этого не жалеют. Значит, силы нужно сосредоточить именно в данном направлении. А поскольку, по нашим данным, Красная Армия находится после зимней кампании примерно в одинаковом положении с армией вермахта, обоим нужна перегруппировка. Однако в данной ситуации невозможно переместить войска по линии фронта так, чтобы, усилив один участок, не ослабить при этом другой. По плану, действия нашей группы должны привести к некоторому снижению военной мощи противника именно юго-восточнее города Курска. Действовать нужно стремительно, интервал между диверсиями соблюдаем такой короткий, какой позволит ситуация в каждом отдельном случае. Времени на подготовку мало. Потому уже с завтрашнего дня вы как старший инструктор займетесь только с теми, кто уже отобран для выполнения задания. Заодно и познакомитесь поближе. Нас будет двенадцать человек. Пока все. Или вам что-то неясно, Дерябин?
– Вопросов нет, – кивнул Николай.
– Они появятся по ходу дела. Чем больше их будет сейчас, тем проще нам станет работать, когда придет время. Но, – Дитрих в который раз щелкнул пальцами, – кое-что я хочу прояснить сейчас, – он взглянул на часы и нажал кнопку под столом. – Вы должны познакомиться еще с двумя членами нашей команды. Подозреваю – вы очень удивитесь, увидев их. И надеюсь на это.
– Надеетесь?
– Дерябин, ваше удивление потешит мое профессиональное самолюбие.
Дитриха несло, и он даже не старался скрыть это от Николая. Наоборот, ему неимоверно нравилось озвучивать свои мысли этому вчерашнему офицеру НКВД. Это должно, в конце концов, доказать парню превосходство немецкой расчетливости и логики профессионала над непредсказуемостью русских, которые не способны принимать стратегические решения, а лишь могут худо-бедно разобраться с ближайшей проблемой.
За годы работы со славянами Отто понял – они очень редко видят дальше собственного носа. И мало думают о последствиях. Взять, например, дикие пьянки: этим охота залить себя сегодня, и о завтрашнем разбитом состоянии они практически никогда не думают. Так во всем, убедился Дитрих. Ну, или убедил себя в этом, какая разница.
Дверь тем временем открылась. Обернувшись, не думая при этом подниматься со стула, Николай Дерябин не сразу понял, кто явился в кабинет по вызову капитана.
А когда разглядел их лица – сразу перестал контролировать себя.
Неожиданность встречи подтолкнула вверх, Дерябин вскочил, неуклюже задев при этом стул, пальцы правой руки разжались, перестав сжимать бокал, и тот звонко разбился об пол. Взглянув на осколки потерянным взглядом, Николай, неизвестно зачем, наступил на осколки подошвой сапога, придавил до хруста, не оставляя шансов даже мельчайшим кусочкам стекла, снова поднял глаза на вошедших.
– Мне кажется, вы встречались, – произнес Дитрих, довольный произведенным эффектом.
– Как… – Дерябин обернулся к нему всем корпусом, вдруг увидел себя со стороны, огорошенного, растерянного, неуверенного, быстро собрался, командирским жестом одернул гимнастерку, поправил ремень, кашлянул, спросил уже строже, обращаясь теперь к вошедшим и даже представляя себе ответ: – Что это значит?
– Привет, – сказал первый из вошедших.
– Хорошо выглядишь, – проговорил в тон ему второй.
2 Сумская область, район Ахтырки, апрель 1943 года
Заранее зная, о чем нужно рассказать, Роман много раз мысленно прогнал свой доклад. Потому он получился четким, конкретным, не отягощенным лишними фразами и собственными предположениями. Командиру отряда даже не пришлось задавать вопросов – ответы уже содержались в объяснениях Дробота. Когда тот закончил, Родимцев взглянул на него с уважением, и Роман был уверен: это ему не показалось в плохо освещенном командирском блиндаже.
– Ты точно в этих местах никогда не бывал раньше?
– У меня зрительная память хорошая. И потом, в лесах я с детства, считайте, умею ориентироваться. Когда бежишь из такого места, возвращаться, ясно, не хочется. Попадаться при этом тоже, вот и двигаешься осторожно. Пусть кругами, зато мимо постов. И маршрут фиксируется вот здесь, – Дробот коснулся пальцем виска. – Не специально так происходит, Игорь Ильич.
– Нам в самый раз подошло, – командир не скрывал, что очень доволен. – Получается, у нас есть проводник прямо туда, в самое пекло, к охримовскому лагерю и объекту, который приказано уничтожить.
Радиограмму из штаба Родимцев получил еще вчера вечером. Дробот, выставленный накануне в караул, наблюдал, как Полина быстрой тенью вышла из землянки, которую делила с отрядной разведчицей Таней Зиминой, пересекла поляну и скрылась в командирской.
…Если бы девушка задержалась подольше или вообще осталась, Роман уже не удивился бы – да и Родимцев не старался скрывать своих отношений с отрядной радисткой. Наоборот, Дробот чувствовал себя кем-то вроде верного мужа, последним узнавшего о том, что рогат. Хотя у него не было и не могло быть оснований на то, чтобы ревновать Полину к командиру: он и в отряде-то без году неделя, и с радисткой знаком очень коротко, и общего у них всего-то – город, где оба родились. И поговорить-то толком не успели. Тем не менее Роман сам удивился своему отношению к фактически легальному сожительству Родимцева со своей подчиненной.
Пора бы привыкнуть: на фронте подобное происходило сплошь и рядом, никого не удивляли походно-полевые жены, которыми обзаводились офицеры из числа медсестер, связисток, радисток и других женщин, оказавшихся на переднем крае войны. Дробот даже нашел такой практике философское объяснение: женщинам нужна защита не всей армии, не сотен бойцов и командиров, а одного, пусть неверного, пусть у него семья в тылу – зато он здесь, он надежный, за него можно держаться, на него можно опереться. У них в батальоне, например, даже заключались быстрые фронтовые браки, хотя новобрачные по-прежнему обитали в разных помещениях, война никому не предоставляла отдельных углов, хотя бы отгороженных цветастыми занавесками.
Понимал Роман и Полю, особенно после ее рассказа. Собственно, чем дольше он думал, тем яснее уверялся: девушка специально поведала ту печальную историю. Командир сперва заступился, спасая от вполне объяснимой нравами военного времени мужской агрессии, после же воспользовался правом сильнейшего, правом победителя. Дробота как раз и смущало это сочетание слов: право сильного. Оно вполне применимо по отношению к врагу. Роман, имея определенный опыт, скрепя сердце допускал, что это право можно применять и к своим, которые нарушили законы военного времени. Хотя и отдавал себе отчет: так можно объяснить и оправдать методы того же старлея Дерябина до того момента, пока тот на его глазах не предал Родину. Только вот когда дело касалось столь деликатной сферы, как отношения между мужчиной и женщиной, пресловутое «право сильного» должно иметь другой смысл.
Сильный не принуждает. Сильный оставляет слабому право выбора. Может, Родимцев и не принуждал, вот только у Поли Белозуб выбора особо-то и не было.
Впрочем, стоило Роману поймать себя на подобных мыслях, он понимал – слишком глубоко погружается в них, слишком сильно его занимает подобное. А ведь всего-то немногим больше двух недель назад его голову занимали другие, более подходящие моменту думы – как прожить день в лагере от рассвета до заката. Потому, признав, что ни фронт, ни тем более кошмар плена так и не выдавили из него до конца того, что Дерябин часто называл интеллигентской гнильцой, Роман решил по возможности не морочить себе голову бессмысленным анализом природы чужих отношений. И сосредоточился как на новой, партизанской службе, так и на своей роли в предстоящей операции.
Масштабы которой, как и детальная продуманность вкупе с простотой замысла, поразили его поистине армейским размахом.
– Еще раз повторяю приказ, – Родимцев прокашлялся, оглядел собравшихся в штабной землянке взводных. – Необходимо одним марш-броском выдвинуться вот сюда, в район села Охримовка, освободить пленных из лагеря и, главное, уничтожить объект, строящийся в лесу силами тех же заключенных. Начало операции – не ранее двадцати ноль-ноль. Потому основная группа под моим командованием выходит вот в этот квадрат, – карандаш коснулся нужного места на поверхности разложенной на самодельном столе карты, – сегодня к девятнадцати часам. В то же время взвод Прохорчука, – названный взводный кивнул, – выдвигается чуть левее, к зенитной батарее. Разведка уточнила данные, фрицевские зенитчики расположились вот здесь, – карандаш передвинулся в нужном направлении. – Шалыгин!
– Я! – откликнулся командир разведчиков.
– Твой взвод выдвигается в Охримовку. Ваша цель – полицейская управа. Кроме того, трое ушли ночью в Ахтырку с Татьяной. Там она выходит на подполье, боевая группа ждет сигнала. Что мы имеем при таком раскладе?
Вопрос прозвучал риторически. Капитан взглянул на часы, подытожил.
– Имеем мы вот что. В двадцать ноль-ноль, погрешность во времени – до пяти минут, в этот квадрат вылетит наш бомбардировщик. Мы уже лупим одновременно по зенитчикам, лагерной охране и охране строительства, а также – по охримовской полиции. Объект закидывают бомбами с воздуха. Паника дикая, и это нам на руку. Пленные, которых мы освобождаем, идут нам в помощь. Зенитчики не смогут открыть огонь по самолету и помешать атаке с воздуха. Тем временем группа в самой Ахтырке забросает гранатами районную полицейскую управу, поставлена задача убить начальника полиции. Сразу после завершения операции отряд, пополнившись освобожденными пленными, снимается и уходит вот сюда, в направлении Харькова. Там будет получено новое задание. Потому здесь, на базе, никто не остается. Вопросы?
– А Зимина с остальными? – тут же поинтересовался Шалыгин.
– Она с группой уходит в лес. Дальнейшие инструкции получит уже по каналам подполья. Понимаешь, Паша, ждать их мы не можем и не имеем права. Твой взвод и взвод Прохорчука соединяются с основными силами отряда вот тут, в двух километрах от Охримовки. Еще вопросы?
Рука Дробота поползла вверх, как показалось ему, помимо воли.
– Что?
– Объект в лесу будут бомбить. Там же свои… Пленные, которых гонят на работы.
– И на верную смерть, как мы тут уже знаем, – подхватил Родимцев. – У нас нет и не может быть гарантий тому, что, стоит охране услышать выстрелы за периметром, она не начнет расстреливать пленных в первую голову. Будем надеяться на удачу, товарищ Дробот. Хотя ты человек бывалый, обстрелянный. Должен знать, что даже в окопе от шальной пули никто не застрахован. Процент потерь допустим всегда, это не обсуждается.
Неожиданно Роману стало неловко, даже где-то стыдно за очередное проявление своей неуправляемой сущности, привитой довоенным профессорским воспитанием. Щеки запылали, он даже коснулся одной из них ладонью, украдкой оглядывая собравшихся, – ну как кто увидит его недостойное, студенческое смущение. Однако на Дробота никто особо не обращал внимания, партизаны сгрудились у карты, собираясь обсуждать детали, и Роман понял: ни у кого из них не появилось и доли тех сомнений, которые обуревали его.
Что же, может, это и правильно по законам военного времени.
На указанную позицию отряд вышел точно в положенный срок.
Как и было условлено, взвод Шалыгина выдвинулся к Охримовке, отделившись от основных сил после двух третей пройденного пути. Через короткое время свою часть задания отправился выполнять и взвод Ивана Прохорчука, с которым, как, впрочем, и с большинством партизан отряда «Смерть врагу!», Дробот не успел толком познакомиться, хотя по имени-фамилии знал, почитай, всех. Остальные же, в том числе – Полина, оставшись после ухода Зиминой единственной женщиной в отряде, шли за ним, как за проводником: Роман выводил бойцов к лагерю и, соответственно, объекту, их главной цели, с тыльной стороны.
Двигались молча. Когда опустились апрельские сумерки и перетекли в ночь, особенно остро пахнувшую приближением весны в лесу, среди медленно просыпающейся природы, темп не сбавляли. Дробот уже не удивлялся самому себе, как это ему удается практически без ошибок ориентироваться на незнакомой раньше местности и уверенно вести отряд за собой. Видимо, тренировки, которые он в детстве и ранней юности считал глупостями, при этом не находя мужества отказаться от лесных прогулок, сейчас приносили неожиданные и полезные плоды.
Удивляло Романа другое – выдержка Полины. Девушка ни в чем не уступала взрослым сильным мужчинам. Разве только отдала рацию крепкому партизану, шедшему почему-то без вещмешка, налегке. Но ремень своего ППШ она перекинула поперек груди, упругость которой гимнастерка и застегнутая на все пуговицы телогрейка только лишний раз подчеркивали, и шла в середине строя, широко шагая, чуть опустив при этом голову, словно глядя под ноги, боясь оступиться. Возникло глупое мальчишеское желание попросить, нет – потребовать у девушки автомат, но Роман нашел в себе силы сдержаться, мысленно договорившись сам с собой: Полина не первый месяц в отряде, опыт таких вот бросков есть, даже чуть поболе, чем у него. Потому, оставив за девушкой право чувствовать себя амазонкой среди мужчин, Дробот сосредоточился на своей задаче.
Когда до лагеря осталось, по его расчетам, совсем немного, Роман дал знать командиру. Тот сразу же приказал рассредоточиться и двигаться осторожнее. Времени хватало, часы Родимцева показывали без четверти семь вечера. Предчувствуя, что скоро начнется нечто очень важное, Роман зачем-то скинул с плеча ремень выданного ему трофейного шмайсера, сжал в правой руке, чуть опустил плечи, пригибаясь. Движения стали вдруг более плавными, словно у вышедшего на ночную охоту лесного хищника.
У опушки, откуда открывался мрачный вид на укутанный ночью лагерь, партизаны заняли позицию, растянувшись полукругом. Родимцеву не нужно было ни о чем спрашивать Дробота, он сам указал направление, в котором находился нужный объект. Лагерь не освещался, хотя, как рассказал Роман, в случае малейшей тревоги территорию пересекал крест-накрест свет четырех мощных прожекторов, расположенных по периметру колючей проволоки. Сейчас вышки маячили в темноте, с такого расстояния ни командир, ни кто-либо другой не могли рассмотреть даже в бинокль, где находятся часовые, сколько людей у караулки, как размещаются посты вокруг колючки.
– Девятнадцать двадцать, – пробормотал Родимцев скорее для себя, чем сообщая кому-то, сколько у них осталось времени до начала. – Фомин, где ты там?
– Тут я, Ильич, – так же вполголоса отозвался начштаба и в следующую секунду возник из темноты.
– Делаем так. Берешь людей, взвод Савина, принимаешь командование. Дробот, идешь с ними. Своих же товарищей освобождать, так что постарайся, чтоб не убили. Я с остальными – к лесу, в ту сторону, – командир махнул по направлению к объекту, скрытому за деревьями. – Местность открытая с этой стороны, двигайтесь осторожно, не обнаруживайте себя по возможности.
– Это понятно, Ильич.
– Раз понятно – выполняйте. Сигнал для вас – красная ракета. Ну, не только для вас, для всех. Полина где?
– Здесь, – отозвалась из-за деревьев девушка.
– Ко мне иди.
Радистка послушно подошла. Родимцев вытащил из кармана ракетницу с длинным и более широким, чем у боевого оружия, дулом, передал ей.
– Держи. Остаешься в тылу. Без разговоров. Дашь ракету по моему приказу. Когда начнется – пали снова, держи вверх. Это маяк для летчика, чтоб наверняка, есть на этот счет распоряжение. Поняла?
Полина кивнула.
– Не слышу.
– Так точно!
– И не ори, – в голосе командира на миг мелькнула теплота. – Остаешься в тылу, никуда не лезешь. Это так, на всякий случай. Ни тебя, ни рацию потерять не хочется.
– Кого жальче? – вырвалось у Полины.
– Поговори у меня, – теперь голос Родимцева дрожал от плохо сдерживаемого азарта. – Приказ поняла?
– Так точно.
– Хорошо. У самолета своя задача, у нас – своя. Под бомбы не лезем, берем территорию в полукольцо. Никто из охраны не должен уйти, палить только наверняка. Они сами рванут, как бабочки на огонь. Поглядывайте, там могут быть свои. Какое могут – наверняка будут… Фомин, вас тоже касается.
– Ясное дело, Ильич.
– Ну, я хоть и неверующий, но, как говорится, с Богом.
Все время, пока Родимцев отдавал последние распоряжения, Полина стояла совсем рядом с Дроботом, руку протяни – дотронешься. Ей уже отдали рюкзак с передатчиком, просто поставили на землю перед ней, и Роман не сдержался, подхватил его за шлейки. Полина, приняв это как должное, повернулась спиной, давая Дроботу возможность помочь ей надеть рюкзак на плечи. Но в последний момент почему-то передумала, взяла передатчик в руку. Роману захотелось сказать девушке что-нибудь, только понятия не имел, надо ли искать какие-то слова за несколько минут до начала боя или лучше обойтись без лишних сантиментов. Все равно Полина ничего от него не ждет. Пока думал, девушка пригнулась и, сжимая рюкзак за обе шлейки, исчезла в темноте.
– Девятнадцать сорок две, – проговорил Фомин. – Сверим часы, Ильич?
– Правильно все, – ответил Родимцев. – Давайте, все по местам.
По примеру бойцов из своей группы, Дробот опустился на землю и ползком медленно двинулся вперед. Правая рука по-прежнему сжимала автомат. Сердце бешено колотилось, так же, как не так уж давно, в ту незабываемую ночь, когда им с Кондаковым предстояло бежать или умереть. Стук отдавался резкими толчками в висках, зубы прикусили нижнюю губу чуть не до крови.
Медленно, очень медленно тянулось время.
Когда отдаленный гул самолета, наконец, послышался, создалось впечатление – он ворвался в тяжелую ночную тишину. Дробот по примеру остальных, также передвигающихся справа и слева, замер, глубоко вдохнул, затем подтянул автомат к груди, осторожно перевернулся на левый бок, глядя в направлении леса, куда увел свою группу Родимцев.
Гул быстро приближался.
Над темными верхушками лесных деревьев взлетела красная ракета, изогнулась на пике, с шипением устремилась вниз.
Дробот, подброшенный вверх какой-то непонятной силой, вскочил на ноги. Одновременно, не дожидаясь специальной команды от находившегося где-то в авангарде Фомина, с земли поднялись другие бойцы.
Самолет был уже, судя по гулу, совсем рядом. Взлетела еще одна ракета, Полина четко выполняла приказ.
Но чего-то не хватало. Роман никак не мог понять, что происходит, точнее – почему ничего не происходит: не вспыхивают разом прожектора, не ревет сирена, не слышно криков, не звучат первые выстрелы. Вместе с остальными он, как и было велено, мчался с автоматом наперевес к лагерю, и партизаны, на удивление, не наткнулись даже на малейшую попытку сопротивления.
Ответ нашелся через мгновение.
Воевать было не с кем. Сопротивляться было некому.
Лагерь был пуст.
Ни охранников на вышках, ни конвоя, ни пленных. Оплетенные колючей проволокой ворота стояли нараспашку, словно приглашая атакующих войти в…
Да.
В мышеловку.
Со стороны леса враз загрохотали выстрелы, автоматы пели дружно, выпуская короткие очереди. Взметнулась еще одна, четвертая ракета, и над объектом из ночной темноты возник силуэт самолета.
Зенитки на батарее молчали. И все-таки что-то шло не по плану.
Точнее – не по тому плану, который так старательно просчитывал, выверял и согласовывал Игорь Родимцев.
Опустевший лагерь. Выстрелы в лесу – но не звуки боя.
Бомбардировщик сделал круг над уже не секретным объектом. Секунда – и он сбросит свою бомбу.
– Нет, – проговорил Роман Дробот, до которого вдруг ясно дошел весь скрытый и ужасный смысл происходящего на его глазах, с ним, с Полиной, с Родимцевым, со всем отрядом, и тут же повторил в крике, срывая голос и от бессилия что-либо изменить паля в воздух. – НЕТ! НЕТ! СТОЙТЕ! НЕТ!
Его крик слился со звуком первой разорвавшейся бомбы.
3 Сумская область, Ахтырка, апрель 1943 года
До города по плану Татьяны небольшая группа добиралась раздельно.
Местное подполье получило указания заранее, и переодетых полицаями, снабженных соответствующими документами партизан Костю Крюкова и Бориса Залевского ждала в оговоренном месте, в одном из дворов Горпиновки, запряженная подвода. Ряженых «полицаев» для верности сопровождал полицай Любченко. Зимина в этот раз решила в село не наведываться. Добиралась до Ахтырки по шоссе и рассчитала точно: прилично по здешним меркам одетую женщину охотно подобрал грузовик, в кабине которого сидел пузатый немецкий интендант.
Знаний языка Зиминой с лихвой хватило, чтобы флиртовать с немцем до самого города, пообещав встретиться с ним в офицерском казино если не нынче вечером, то завтра уж наверняка. Сегодня она должна управиться с важными делами, потому и не обещает. Назвав невзначай фамилии нескольких офицеров из местной администрации, еще раньше полученных по каналам подполья, Татьяна окончательно расположила к себе интенданта наличием общих добрых знакомых.
Скорее по привычке путать след, чем действительно собираясь сбить с толку именно этого своего нового знакомого, Зимина попросила высадить ее ближе к центру, недалеко от комендатуры. И сразу же, чтобы не мелькать лишний раз, свернула на ближайшую улицу, немного поплутала, затем вышла ближе к уже опустевшему базару и направилась к восточной городской окраине, куда в указанное место должны были вскоре подойти ее товарищи. Долго ждать не пришлось, группа снова воссоединилась, Татьяна даже удивилась, как гладко, без сучка и задоринки, все проходит.
– Я вам тут с утра сказать собирался, Татьяна Павловна, – сразу же завел разговор Крюков, спрыгнув с подводы. – Знаете, какой сегодня день?
Не только Зимина – почти все в отряде, иногда включая Родимцева, периодически становились жертвами крюковской эрудиции. До войны он трудился метранпажем в типографии, где набирали популярные журналы и брошюры, потому за десять лет работы его голова разбухла от обильной и совершенно бесполезной, по мнению окружающих, информации. Которую Крюков, тем не менее, то ли назло тем, кого это заметно раздражало, а вероятнее всего – просто для того, чтобы не дать мозгам заржаветь, периодически выдавал наружу. Выдавливая новости, словно воду из отжатой губки.
– Когда тебе надоест уже? – без нотки раздражения, скорее по привычке, попыталась отмахнуться от него Татьяна.
– Никогда, – буркнул вместо него Залевский, в недавнем прошлом – механик МТС, получивший всего-то неполное среднее образование и, как успела заметить Зимина, не слишком тяготившийся этим. Наоборот: те, кто знал больше него, заметно раздражали партизана, и Крюков, вне всяких сомнений, этот список возглавлял. На что Константин никак не реагировал – он давно привык, что его беспричинные короткие ликбезы мало кому приходились по сердцу. Однажды Родимцев в сердцах даже отправил Крюкова в наряд вне очереди: неисправимый говорун просто попался командиру в неподходящий момент.
– А что такого? Когда-то давно, очень давно, именно в этот день от звука священных труб разрушились иерихонские стены. И древний неприступный город пал!
– Это откуда?
– Библейская легенда.
– Вот не думала, что ты у нас верующий.
– Та я ж беспартийный, Татьяна Павловна! – широко улыбнулся Крюков. – Мне можно! И потом, про иерихонские трубы не обязательно в религиозных книгах… Мы как-то набирали такую, знаете, с картинками книжечку, для детей…
– Ой, отстань со своими трубами! Чего ты вообще про них вспомнил?
– Вспомнилось вот.
Странное объяснение Зимину, как ни странно, вполне удовлетворило. В конце концов, бывшему метранпажу Крюкову не обязательно нужен был какой-то повод, чтобы вспомнить нечто, прочитанное однажды. Достаточно знать день календаря.
Бывают же чудаки, все им нипочем, даже война…
– Дослушаем твои байки позже, – жестко отрезала она, хотя на Крюкова невозможно было сердиться. – Времени у нас не так чтобы много. Люди готовы, Федор?
– А то как же! Ждут, все на месте.
– Тогда пошли.
…Их ожидали на конспиративной квартире. Татьяна переночевала в этом доме в свой прошлый приход. Ожидавших было трое: молодой парень Гена Зубов, служивший переводчиком в управе, Миша Живченко, раненый красноармеец, по воле случая не успевший отступить и теперь находившийся на нелегальном положении, и Женя Сивкович – она-то и спрятала раненого у себя в доме.
Зиминой еще в прошлый раз показалось, что между молодыми людьми что-то есть и объединяет их уже не только общее дело борьбы с оккупантами и их прислужниками. Женщина старалась не отягощать себя поисками ответов на ненужные пока вопросы. Все равно если она права, то ничего изменить не сможет, поздно уже. Татьяна искренне считала, что со всякими чувствами, в первую очередь – с любовью, нужно подождать, пока идет война: они только мешают, привязываться нельзя ни к кому, если любишь – делаешь глупости. Однако сейчас Зимина не собиралась никого воспитывать: ни болтуна Крюкова, ни молодых влюбленных подпольщиков. Впрочем, так или иначе наставлять их придется: согласно письменному приказу Родимцева, эта маленькая группа, включая Федора Любченко, поступала в полное распоряжение Татьяны.
Это она довела до собравшихся в первую очередь, пустив бумагу по кругу. После чего Залевский, прочитавший последним, выудил из кармана пальто зажигалку и поджег приказ. Догорела бумага на полу, партизан растер пепел подошвой сапога.
– Всем все понятно? – уточнила Зимина на всякий случай.
– Делать что, говори, – вместо ответа сказал Любченко.
– Который час?
У Зубова оказались часы – «луковица», без цепочки, с тусклой крышкой.
– Начало седьмого.
– Точнее?
– Восемнадцать десять.
– Время есть, – кивнула Татьяна. – План очень простой. Ровно в восемь вечера, уже меньше чем через два часа, ваша группа, Живченко, ударит по зданию полицейской управы. Федь, ты говорил, обычно в это время начальник полиции сидит там?
– Шлыков последние дни вообще там, почитай, ночует, – ответил Любченко.
– Окна его кабинета…
– Покажу, – перебил ее Федор.
– Значит, ответственный за операцию ты. Зубов, Живченко, бросаете гранату в окно. Сигнала не ждете, только восемь на часах – сразу швыряйте.
– Если Шлыкова там не будет?
– Он обязательно выбежит на крыльцо, когда паника начнется. Но, в конце концов, наша задача – не столько казнить Шлыкова, хотя он давно ходит под приговором, сколько посеять панику. Это часть общего плана, ясно?
Какого именно, Татьяна решила не уточнять. Остальные предпочли не спрашивать.
– Ну, ясно, значит. Женя, ты никуда не лезешь, твоя задача – ждать с подводой на соседней улице. Федор, прикрываешь отход, отвлекаешь полицаев, шуми погромче. Сам уходи при первой возможности, после всего тебе в городе оставаться нельзя. Мы с вами, – Зимина посмотрела на своих спутников, – сейчас идем к Грищенко, Людмиле, нашему агенту. Ее тоже надо вывезти, мы прикрываем отход. Дальше по обстоятельствам. Рация в лесу, Женя?
– Как велено, вывезли в надежное место.
– Хорошо. Главное – не делать ничего лишнего. Повторяю: мы – не главные силы, выполняем всего лишь часть общего замысла. Готовы?
Ответом было молчание.
– Ну, раз так… Еще есть время выпить чаю. Ставь чайник, хозяйка. Сахарок у нас с собой.
Маму Людмила вывезла из города несколько дней назад.
Долгое хождение по лезвию бритвы научило ее верить предчувствиям. Все это время Людмила держалась не в последнюю очередь из-за необходимости присматривать за больной матерью. То положение, которое Грищенко заняла в Ахтырке как бывшая жена и нынешняя сожительница начальника районной полиции, позволяло ей обеспечивать маму нормальным питанием и даже доставать нужные лекарства. Иногда, лежа в темноте и стараясь заснуть, она пыталась ответить себе на один очень важный для нее вопрос: если бы не задание партизанского штаба и подполья, смогла бы сама выкручиваться все это время? Смогла бы решиться на подобный шаг, не для собственного, весьма условного благополучия, а для того, чтобы обеспечить необходимый уход за мамой?.. Ведь здоровье матери было той главной причиной, почему учительница Грищенко не ушла с другими беженцами из родного города, хотя такая возможность у нее была: мама не вынесла бы переезда, тем более – такого неопределенного, как уход с колонной беглецов, имевших слабое представление о будущем.
И вот теперь, когда на связь вышла та женщина, из лесу, из отряда Строгова, время для Людмилы будто ускорило свой бег. Она что-то почувствовала, и не только по настрою той связной: Шлыков тоже сделался в последнее время каким-то слишком уж нервным, притом что и раньше особой сдержанностью не отличался. Слушая его пьяные сетования на непонятный кипеж, поднятый немцами, частые упоминания при этом обычного вроде села Охримовка с матерными прилагательными, а также видя заметный интерес подполья и людей из лесу именно к этим сведениям, Люда не на шутку встревожилась. Она почувствовала: очень скоро могут начаться некие события, которые поставят под реальную угрозу ее положение и даже – жизнь. К такому повороту женщина готовилась с определенной долей фатализма. Но как бы все ни повернулось для нее, рисковать матерью Люда Грищенко не имела права.
Потому пустила в ход все свои связи, чтобы раздобыть транспорт и эвакуировать маму к дальним родственникам в село недалеко от Гадяча. Свою маленькую операцию провела успешно и даже радовалась, что в последние дни Шлыкову было не до нее. Конечно, спросит, куда отправила мать, но Людмила надеялась – этот факт Петра порадует. Даже не факт отсутствия мамы, а решение этого вопроса без его, Шлыкова, участия.
Она даже не подозревала, как это обстоятельство обрадует явившихся под вечер партизан. Людмила не ждала таких гостей, но, увидев на пороге давешнюю связную, почему-то сразу все поняла. Сразу вырвалось:
– Собираться?
– Добрый вечер, – мягко сказала Зимина.
– Извините, – чуть смутившись, Люда отмахнулась от чего-то невидимого. – На нервах вся. Проходите.
– Понимаю. Мы с вами не познакомились толком в прошлую встречу. Вернее, я знаю, что вы Людмила. Меня Татьяной зовут.
– Настоящее имя? – зачем-то уточнила Грищенко.
– Нам теперь других не понадобится. Вы верно угадали, собирайтесь. Только вот мама…
– Ее нет. Вывезла, давно хотела.
– Очень хорошо, – Зимина облегченно вздохнула и при этом не смутилась собственной несдержанности. – Значит, можете уходить спокойно.
– Вряд ли мама в полной безопасности, – сказала Людмила. – Но время такое, каждый день жить опасно.
– У нас еще будет время и познакомиться ближе, и поговорить, – Татьяна поискала глазами и нашла на стене старые ходики с гирьками. – Точно идут часы?
– Я ведь школьный учитель. Нам нельзя без правильного времени.
– Тогда у нас его, времени, осталось очень мало. Берите только самое необходимое, на улице нас ждут…
Зимина не закончила – снаружи легонько стукнули в стекло. Никакого сигнала предусмотрено не было, Зимина вообще не собиралась здесь долго задерживаться, потому сразу поняла: ситуация нештатная, случилось что-то непредвиденное. Почувствовала это и Людмила, бросила на Татьяну тревожный взгляд. В руке Зиминой уже был пистолет, но она не успела ничего сказать, даже подумать – в дверь громко постучали.
– Кто? – быстро спросила Татьяна.
– Никого не жду. Кто угодно, – Людмила сбилась на шепот.
Стук повторился, на этот раз колотили громче. Зимина подумала лишь мгновение.
– Вас может не быть дома?
– Да. Только не в такое время. Комендантский час, никто не рискует, даже мне Шлыков не советовал.
После третьей серии ударов в дверь снаружи донеслось громкое:
– Люда, какого черта! Открывай давай!
Молодая женщина в испуге прикрыла ладонью рот.
– Шлыков!
Теперь забеспокоилась Зимина: по ее расчетам начальник полиции должен быть сейчас в управе, и если все уже пошло наперекосяк, то…
– Можем уйти через окно? – И тут же, мотнув головой, возразила сама себе: – Нет, лучше не стоит. Он может сразу поднять тревогу, время не выиграть. Может, он сам уйдет…
– Нет. Петр наверняка знает, что я дома.
– Что там? – Татьяна кивнула на прикрытый занавеской дверной проем.
– Мамина комната… была…
– Открывайте. Если получится выпроводить – хорошо. Нет – действуем по ситуации, со мной на улице двое бойцов. Постараемся вырваться, выхода другого просто нет.
Зимина ничего не объяснила. Людмиле этого и не требовалось: сама понимала, что события пошли не так. И теперь не важно, каким был план подполья и Строгова.
Сняв пистолет с предохранителя, Татьяна шагнула в соседнюю комнату, отметив: края занавески не касаются пола и ее сапожки можно увидеть снизу. Потому шагнула в сторону, отходя от дверного проема, прижалась спиной к стене, сбросила цветастый платок – он не упал на плечи, а сполз на пол, Татьяна машинально оттолкнула его носком ноги вглубь комнаты, толчок вышел неожиданно сильным, платок скользнул по полу и скрылся под кроватью. Откинув волосы со лба, Зимина прижалась затылком к стене, согнула правую руку в локте, выставила ствол перед собой. На миг прикрыла глаза, подняла веки, лишь услышав, как вошел, громко топая, мужчина.
– Что-то случилось, Петя? – Голос Люды не дрогнул, она держалась спокойно и уверенно.
– Спала или как? – Шлыков тоже говорил ровно, слышался обычный праздный интерес.
– Прилегла. Нездоровится.
– Что такое?
– Голова болит. Сиплю. Простыла, видать, погода вон…
– Погода как погода, – судя по звукам, Шлыков взял стул, уселся на него – скрипнуло под тяжестью рассохшееся от времени дерево. – Ну, про погоду дальше поговорим или про другое?
– Не поняла. Ты вроде как без настроения…
– Откуда ему взяться, Люд? Война, поди… Грамотная ведь баба, детей в школе учила… Умная. А забыла: о погоде болтают когда больше не о чем. Нам разве с тобой не о чем поговорить?
– Петро, извини, конечно… Я тебя не ждала… То есть, так рано… Обычно ты позже приходишь… Я бы отдохнула, приготовила бы чего-нибудь…
– Ты мне все уже приготовила, Люда, – тон Шлыкова перестал нравиться Татьяне. – Ну, обсудим тут или со мной пойдешь? Хотя хоть как надо тебя с собой забирать. За тобой ведь я. Или не поняла?
– Пока нет, – а вот ее голос дрогнул, и Татьяна окончательно убедилась: происходит что-то очень нехорошее, из ряда вон.
– Еле уломал хера криминалькомиссара, чтоб разрешил лично тебя забрать. Не чужие люди вроде, а, Люд?
Снова прикрыв глаза, Татьяна крепче стиснула пистолет и затаила дыхание.
– Все равно не понимаю…
– Не понимаешь? – Шлыков говорил, не меняя тона, и все-таки в его голосе слышались слабые нотки сожаления и разочарования. – Ты, видать, забыла, что я какой ни есть, а легавый. Не мусор, как блатные называют, именно легавый, охотничий пес. Чего вылупилась, дура?
– Только что была умной, теперь дура… Вроде не пьяный…
– Оттого и дура ты, Людка, что сильно умной себя поставила. Для вас, баб, любой мужик пьяный, если от него водкой несет. А я уже скоро месяц, как держусь. Разве так, для запаха. Чтоб ты, такая умная, и дальше считала – квасит Петро Шлыков от тяжелой работы по-черному. Никого умнее себя вокруг не видела, да? – Татьяна услышала резкий звук отодвигаемого стула – полицай резко поднялся. – Надо не всегда умной быть, Людка. Когда-то полезно и трошки дурой прикинуться. Я в милиции работал, память отшибло у тебя? Забыла, сучка, что я опер? Ты ведь не бывшая училка, ты ей до конца жизни останешься, хоть весь керосин на базаре продай! И я легавым останусь, сколько жить буду! – Шлыков перешел на крик.
Зимина изо всех сил сдерживалась, чтобы не выйти сейчас и не выстрелить в него, хотя точно знала: этого уже вряд ли избежишь.
– Не ори, – Людмила все еще пыталась сохранить остатки спокойствия.
– Ага, мамку твою разбужу? Так нету мамки, Людка, нету! Подсуетилась, вывезла, я тебе не мешал! И теперь, дорогая, это наш с тобой секрет, тайна наша военная! Дошло? Ладно, раз до сих пор не дотумкала, прямо скажу: расколол я тебя, Люда Грищенко, еще тогда, когда ты за мной увязалась. Могла ведь остаться в городе, с мамкой, ан нет – правдами и неправдами потащилась за немцами! Я вот жалею, что раньше к тебе не пригляделся! Тоже, знаешь, квалификацию теряю, засланные под носом, в койке одной! Хотела опера обдурить, грымза ты школьная?
– Шлыков!
– Знаю, что Шлыков! А ты вот не знаешь, каково мне, Петьке Шлыкову, все про тебя, гадину такую, понять? Думал, ошибаюсь, никому ни-ни, сам к тебе решил присмотреться. Ты и рада, играешь тут в войну! Ты жива до сих пор только потому, что я господину Хайнеманну про тебя вовремя доложил! Молчишь? – Послышался звук удара, вскрик боли, Татьяна сделала полшага вперед, но решила дослушать до конца, чтоб наверняка. – Ладно, молчи. Вовремя – это потому, что немцы как раз искали способ, как покормить бандитов в лесу дезой. Знаешь, что такое деза?
Иерихонские стены, ни с того ни с сего всплыло в мозгу Татьяны услышанное совсем недавно.
От звука труб разрушились крепкие стены неприступной крепости.
Деза.
Дезинформация.
Все это время отряд Родимцева получал ложные сведения. Она сама их добывала, сама передавала, подполье по заданию штаба перепроверяло и тоже поставляло информацию, совпадающую с той, которую удавалось собрать Люде Грищенко из первых рук.
А Люда уже месяц как провалена.
Иерихон разрушен. Звук труб уже стоял в ушах.
– Дальше будем молчать? – Теперь голос Шлыкова доносился, будто сквозь вату, слабо справляясь с перекрикиванием трубных звуков. – Глупая, Федька Любченко на крючке давно. Не надо тебе было с ним тогда, помнишь, встречаться?
Зимина чуть расставила ноги – пол качнулся. Изначально личные контакты между Людмилой и агентом в полицейской управе не предполагались, она работала отдельно от подполья, таковы правила конспирации. Источники информации дублировали друг друга, но люди не должны были пересекаться. Это по ее, Татьяны Зиминой, личной инициативе Федор Любченко один, только один раз передал Людмиле приказ из отряда Родимцева – «Строгова» лично, другой возможности просто не представилось, время же не хотело терпеть.
Иерихон разрушен. Звуки труб стали невыносимы.
Она, Татьяна Зимина, невольно сдала полиции городскую подпольную сеть.
– Ну, так поговорим здесь? – Шлыков продолжал допрос. – Молчим все-таки? Ладно, я тебе даю полный расклад, Людка, совсем полный. Федьку и еще двоих с ним вот только срисовали возле управы и свинтили, ясно тебе? Без шума и пыли! Тех, кого Любченко, падаль красноперая, провел в город, возьмут еще до полуночи. Блокировано все, усиленные посты, полицаи трезвые и злые, жандармерия подтянута. Не выскочат живыми твои дружки, Людка, ох не получится у них, я ведь облавы делать умею… Кто-то из тех троих до утра точно расколется. А с тобой решим вот как… Чего пялишься? – Cнова хлесткий звук пощечины. – Сюда смотри! Где твоя мамаша, моя бывшая любимая теща, я знаю. Они – пока нет. И если ты мне расскажешь прямо здесь все, что знаешь, я тебя сдаю криминалькомиссару. Лично. С пояснениями: ты, агентка красных бандитов, согласна работать на немецкие власти. И ты будешь работать, Людка, до тех пор, пока я знаю, куда ты отвезла свою больную мамку! Не пожалеешь себя, захочешь умереть геройски, за Родину, за Сталина? А мать твоя – она за что умирать должна?
– Сволочь!
Крик. Опять звук пощечины.
Хватит.
Трубные звуки куда-то пропали. Пол перестал качаться. Татьяна Зимина, не думая уже ни о чем, шагнула к дверному проему, рывком откинула занавеску, замерла, выставив руку с пистолетом перед собой. Увидела Люду, растрепанную, зажатую между стеной и старым одежным шкафом. Очень ясно разглядела кровь на разбитой губе. Петр Шлыков обернулся на звук. Проговорил, совсем не удивившись, просто признавая очевидное и, кажется, не обращая внимания на направленное оружие:
– О! Здрасьте! Мы вас всем городом ищем, а вы, получается…
В следующую секунду начальник полиции схватил Людмилу за локоть, рванул на себя, ставя жену между собой и пистолетным дулом. Но та, будто выйдя из транса, закричала и сильно ударила его в лицо, скрючив пальцы и метя ногтями по глазам. Не ожидая сопротивления, Шлыков несколько растерялся, ослабив хватку и позволив Люде вырваться. Тем временем Зимина шагнула вперед и, стараясь не думать о том, что до этого момента ей никогда еще не приходилось стрелять в человека с такого близкого расстояния, когда наверняка можно попасть, нажала спуск.
Она не поняла, попала или нет.
Шлыков стоял, наполовину вытащив из кобуры парабеллум, и глядел на вооруженную женщину полными искреннего удивления глазами. Поведя стволом вправо, Татьяна снова выстрелила и отступила, чтобы ее не зацепило падающее лицом вниз тело. Удивляясь своему спокойствию, Зимина повернулась к замершей в ступоре Люде Грищенко.
– Уходим. Скорее.
– Он не один… Вряд ли один… – пробормотала Людмила.
– Знаю.
– Ты слышала…
– Слышала. Надо прорваться.
Ответом на ее слова прозвучал громкий крик снаружи:
– Таня, засада! – B то же мгновение рявкнул автомат, сразу же – второй.
Кричал Боря Залевский, и этот же крик через секунду наполнился предсмертной болью. Звякнуло оконное стекло, сразу же еще одно – дом обстреливали со всех сторон. Винтовочные выстрелы слились с автоматными очередями, Люда отскочила к стене, осела на пол, посмотрела на Татьяну снизу вверх.
– Уходим, – повторила Зимина, как будто вокруг дома не сжималось кольцо и пути к отступлению не были отрезаны.
– Куда? – негромко спросила Людмила, спрятала лицо в руки, плечи затряслись.
От резкого удара распахнулась входная дверь. В комнату неверными шагами вошел Костя Крюков, автомат в правой руке висел дулом вниз. Сделав еще несколько шагов, партизан, знающий все о гибели Иерихона, в движении развернулся и неловко завалился на бок.
Удивляясь собственному ничем не объяснимому спокойствию, Татьяна Зимина подошла к лежащему, наклонилась, потащила оружие из начинающей холодеть руки.
В дверях возник полицай с карабином наперевес, и она, пребывая в странной уверенности, что все вокруг происходит не с ней, вскинула пистолет, палец надавил на курок. Полицай неловко, как-то очень уж карикатурно отпрыгнул назад, это внезапно рассмешило Татьяну – и она зашлась неестественным, нервным хохотом. Он слился с Людиным криком, полным ужаса и отчаяния. Когда на пороге возник теперь уже немец с автоматом, он в первую секунду оторопел, увидев растрепанную смеющуюся женщину. Но пистолет в ее руке заставил немца вскинуть автомат.
– А-А-А-А-А-А-А-А! – закричала Людмила.
Резкий звук заставил немца направить автомат на его источник. Очередь рассекла кричащую женщину наискось, одна из пуль изуродовала лицо. Теперь стало тихо.
Немец приказал что-то, однако у Татьяны не осталось сил и желания напрягать мозги, чтобы перевести его слова. Комната быстро стала наполняться вооруженными людьми, немецкими солдатами в форме СС вперемешку с одетыми кто во что горазд полицаями.
Стены рухнули от трубных звуков.
Выставив руки перед собой, но не выпуская при этом пистолет, Татьяна Зимина медленно выпрямилась. Руки чуть приподнялись: все должны понять – она сдается.
Ни одного из лиц не различала. Вместо них перед ней как никогда ясно и четко возникло лицо мужа, не сдавшегося в плен в бою под Минском. На глаза навернулись непрошеные, совсем уж неуместные слезы. Татьяна не знала, по ком плакала, кого оплакивала здесь, перед врагами. И не оставила себе времени, чтобы ответить на этот вопрос.
Она вообще не собиралась давать себе больше ни секунды. Ведь каждая лишняя секунда – это секунда колебания.
Сквозь слезы Таня улыбнулась.
Вытерла влагу свободной рукой.
Сделала еще шаг назад, демонстративно поднимая руки выше и показывая всем свою готовность сдаться. Она не бросила оружие, просто держала пистолет так, чтобы видно было – огрызаться не станет, не опасна.
А потом выпрямила спину, закрыла глаза, стремительно, будто боясь – опередят, сунула дуло в рот и сделала свой последний в жизни выстрел.
4 Харьков, разведывательно-диверсионная школа Абвера, апрель 1943 года
– Шнапс – дерьмо, коньяку не достать, а водки нету. Вывод – лакаем шнапс!
Уже давно стемнело, троица собралась в столовой, по праву старшего инструктора Дерябин мог позволить такие посиделки себе и новым, точнее – старым знакомым. Молчаливый повар, до войны тоже служивший поваром в одной из здешних воинских частей, выложил начальству в отдельную миску несколько костистых кусков отварной говядины, явно выловленной из обеденного супа, поставил остатки перловой каши с маслом, бросил сверху на эту горку три кубика маргарина. Взглянув на приготовленную еду, Николай хмыкнул, прибавил к натюрморту плитку немецкого шоколаду…
…Еще утром, когда Дитрих, очень довольный собой, явно предвкушая эффект, пригласил парочку агентов в свой кабинет, Дерябин действительно поразился. И, признаться, поражался до сих пор – но не тому, что увидел тех, с кем точно не надеялся встретиться.
Нет.
Поражало Николая как раз то, что его ничуть не удивляет появление Васьки Борового, лагерного могильщика, и, главное, живого и здорового Степана Кондакова. Это его перешептывание с гаденышем Дроботом он как-то зацепил вниманием в лагере. Оба старались соблюдать конспирацию, но Дерябин сразу расколол – эти двое что-то замышляют. Другие пленные либо подыгрывали, либо, что более вероятно, не обращали на парочку внимания, полностью погрузившись в себя. Не засек бы их контактов и Николай, не держи он тогда все время Дробота в поле своего зрения. И то, что замышляется попытка побега, стало ясно ему очень скоро.
Спросив при виде их: «Что это значит?», Дерябин тут же, не дав им насладиться маленьким сюрпризом, уточнил и пояснил: его интересует, почему для своих оперативных комбинаций Кондаков, наверняка – не без благословения Отто Дитриха, выбрал из всех пленных-смертников именно Романа Дробота. Ведь тот факт, что они здесь, а Дробота нет, подтверждает его предположение – рядового в лагере взяли в оборот немецкие агенты. То есть, побег, раскрытый Николаем, на самом деле готовился изначально. Это, как он знал, называется оперативной комбинацией. Так почему же в свою комбинацию они, агенты, ввели именно никчемного Дробота? Не предложив бежать, например, Николаю Дерябину.
И вообще – какая роль отводилась лично ему?
Явно не ожидав именно такой реакции, больше напоминающей претензии, Кондаков с Боровым переглянулись. Но на первый план снова выступил капитан Дитрих.
– Николай, вы меня разочаровали сейчас, – проговорил он без тени иронии. Действительно, немец казался несколько озадаченным.
– Чем, интересно?
– Слишком большое значение придаете собственной персоне. Честолюбие – это неплохое качество для мужчины и офицера. Однако, если только вы сейчас не играете в непонятную мне свою маленькую игру, с подобной завышенной самооценкой надо бы заканчивать.
– Да не играю я ни в какие игры! И теперь я вас точно не понимаю, господин капитан!
– На полтона тише… если можно. Вы мне нравитесь, но все равно ваше положение требует большей сдержанности. Хорошо, объясню более точно, – Дитрих бросил быстрый взгляд на своих агентов. – Вы в моей комбинации случайный человек, Дерябин. Такой же, как тот ваш товарищ, который думает, что ему удалось бежать, узнав заодно важную тайну, и что ему повезло. Ему, возможно, крупно повезет, если до полуночи он еще останется жить. Хотя кто знает, глядишь – ему и остальным покажется лучшим выходом умереть в бою. Мне кажется, вам сейчас повезло больше. Вы ведь случайно оказались тогда в строю именно десятым, так?
– Теперь не знаю.
– Бросьте, Дерябин, бросьте! Окажись вы на перекличке другим номером, остались бы в лагере! И кто знает, может, сегодняшний день стал бы последним в вашей жизни, вот тут уже наверняка! Вы правда испугались верной смерти, Дерябин! Я – прав? Я прав! Потому шагнули из строя! Никакого расчета! Ноль!
Соединив большой и указательный пальцы правой руки в колечко, Дитрих показал получившуюся фигуру сперва Николаю, потом – своим агентам, уже понявшим: сюрпризы отменяются.
– Зачем же тогда вы со мной возитесь, раз не строили на мне расчет? – тихо спросил Дерябин.
Отто поднес фигуру из пальцев к правому глазу, прищурил левый, теперь глядел на Николая будто через лорнет.
– Вы сами захотели быть мне полезным, разве нет? Вы сдали побег, о котором слишком удачно для себя догадались, за что эти двое уже получили надлежащую порцию тумаков. В фигуральном смысле, разумеется… Плоховато сработали, раз их раскусил посторонний. Хотя, конечно, никто не знал, что вы служите… служили в НКВД. Но ведь в основном все шло по плану, побег сорвался запланированно, Кондаков изобразил убитого шальной пулей, как и замышлялось… Послушайте, неужели вы всерьез решили тогда, что сбежать из лагеря, даже таким необычным и неожиданным способом, вот так просто?
Дерябин промолчал. Опустив руку, Дитрих зачем-то одернул мундир, прошелся по кабинету, встал так, чтобы видеть всех, продолжил:
– Вообще-то эти двое меня разочаровали даже больше, чем вы думаете. Особенно Кондаков. Кстати, в лагерь обоих поместили под теми фамилиями, под которыми они проходят здесь, в школе. Так что можете продолжать называть их Кондаковым и Боровым, не ошибетесь. Для них вы – старший инструктор Пастухов, и они теперь обязаны вам подчиняться. Такое вот наказание за то, что не расшифровали в лагере среди пленных чекиста.
– Господин капитан… – завел Кондаков, и по тону Дерябин понял: подобный разговор ведется не впервые, ведь Дитрих резко оборвал, не дав продолжить:
– Хватит! Офицер государственной безопасности так слился с общей массой, что вы, лучшие курсанты этой школы, которых я лично рекомендовал для операции «Объект», его не просчитали! Если у вас есть другие оправдания, кроме тех, которые я уже слышал, – прошу. Нет – лучше стойте молча! У вас еще будет возможность пообщаться друг с другом. Теперь о вас, Дерябин… или Пастухов… Ладно, сейчас не важно, все равно о вас, как ни назови… Вы лично не представляли ни для моей комбинации в лагере, ни для меня лично никакого интереса. Вы были одним из многих. Почему Кондаков предложил бежать не вам, а тому, другому, как его…
– Дробот, – напомнил Степан.
– А, тоже не имеет значения теперь… В общем, у меня нет ответа. Оба выполняли каждый свою задачу. Обжиться в лагере, притереться, присмотреться, выбрать наиболее, на их взгляд, подходящую кандидатуру и выйти на побег. Отправлять к бандитам в лес двоих, согласитесь, опасно. Во-первых, слишком подозрительно, когда оба в такой ситуации уцелеют. А во-вторых, был риск, что Кондакова узнают. Вероятность мала, но все-таки, это ведь не первое его задание такого рода. Можно сказать, он профессиональный агент-провокатор. Я в хорошем смысле, кадр ценный. Боровому раньше удалось выйти на партизанских связных, к ним беглеца и направили. А еще раньше организовали еще несколько утечек информации о некоем секретном объекте, на строительстве которого используются пленные из охримовского лагеря. Знаете, что бы увидели там вы, если бы не вышли тогда из строя, а покорно пошли на работы? Барак и ямы в разных местах.
– Ямы? Верно?
– Обычные ямы. Канавы, траншеи… Их рыли, затем зарывали обратно, копали новые. Наполненный смыслом труд, верно? Затем одну партию землекопов уничтожали как обладателей некоей тайны, на их место приходили другие землекопы. Правда, тех, кто трудился на так называемом объекте, по моему личному приказу чуть лучше кормили. Перед смертью, так сказать, – теперь Дитрих вернул самодовольную улыбку. – Информация о секретном строительстве, таком важном, что для сохранения секретов уничтожают пленных, трудящихся на стройке, просочилась туда, куда нужно. Что-то слышали в ахтырских подпольных группах… Кстати, гестапо с некоторых пор держит их под контролем, но никак не могло начать полезную и правильную игру, то отдельная история… Ладно, к делу: еще приложили активность местной полиции, демонстративное усиление гарнизона, все – в атмосфере секретности, такое прочее. У вас ведь тоже старательно готовят дезинформацию для противника, верно?
– Смысл? – спросил Дерябин. – Или мне знать не положено?
– Почему же… Вы ведь каким-то образом все-таки оказались в этой истории…
Слушая абверовца, Николай в мыслях окончательно признался себе: да, ему самому с лихвой хватает жизненного опыта, чтобы в буквальном смысле отвоевывать для себя каждый новый день, однако он имеет слишком мало опыта профессионального. До недавнего времени молодой чекист Дерябин по большей части верил, что очередной задержанный, которого он, по примеру и с одобрения товарищей и руководства, избивает сутками в кабинете, – это шпион, враг народа, глубоко затаившийся враг. Военное время значительно упростило его, Коли Дерябина, личное отношение к окружающим – врагом однозначно считал того, кто не нравился и вызывал смутные подозрения. Основанием для того, чтобы назвать кого-то преступником, Николай считал свою личную антипатию – так, мол, подсказывает внутренний голос, которому он, перспективный сотрудник карательных органов, привык доверять. Только вот в ближнем бою немецкий офицер Отто Дитрих переигрывал по всем статьям – даже сделав его старшим инструктором, фактически одним из первых лиц разведшколы всего за каких-то несколько дней, абверовец все равно манипулировал вчерашним чекистом.
Другой бы принял происходящее как стремительный карьерный рост. Но Дерябин отдавал себе отчет – Дитрих играет с ним. И суть игры – в самой игре. В ее красоте, которую кадровый разведчик буквально требует оценить. Николая не пытались дрессировать даже в детдоме – и вот сейчас он чувствует себя кем-то вроде собачки из цирка Дурова.
– А все предельно просто, – продолжал между тем Отто Дитрих. – Настолько просто, что вводить вас в курс самой комбинации интереснее, чем объяснять конечную цель. Вы вряд ли знаете о негласной борьбе между ведомствами за лидерство. Так вот, в данном случае чистую победу в свой актив запишет именно Абвер, военная разведка и контрразведка. Ни гестапо, ни тем более – жандармерия не смогли справиться с диверсантами из лесу, которыми руководит некто Строгов, он же – капитан НКВД Родимцев, отчасти ваш коллега, разве нет?
Дерябин опять счел нужным промолчать. Кондаков с Боровым тоже помалкивали, и Николай кожей ощущал: этим двоим очень нравятся тон и манера, с которыми офицер Абвера ведет разговор с чекистом, пускай даже бывшим, пленным, перевербованным.
– Эти товарищи в последние месяцы доставили всем нам немало хлопот. А вот выманить их из лесу в нужное время и нужном месте удалось только благодаря простенькой, в общем-то, оперативной комбинации, предложенной Абвером. В моем лице, разумеется, – Дитрих изобразил шутливый театральный поклон. – Отряд отправится уничтожать секретный объект под Охримовкой, где бандитов уже поджидают неприятные сюрпризы. Все, хватит об этом, дело сделано, успехи нужно закреплять.
Дитрих хлопнул в ладоши, в хлопке потер руки, вернулся за стол.
– Нет худа без добра, как гласит русская поговорка. Верно, Кондаков?
– Есть такая, господин капитан, – кивнул тот.
– Ну вот, в ходе операции вы все познакомились. Таких совпадений не бывает. Не знаю, Дерябин, о чем вы сейчас думаете, только поверьте: я искренне рад такому ценному приобретению нашей школы, как вы. А ведь могли оказаться в другом месте. Чего там, вас уже могло и не быть…
…И вот теперь, под вечер, когда Николай Дерябин с молчаливого одобрения Дитриха собрал в столовой небольшую компанию, он лишний раз убедился в убийственной правоте слов немца.
Разлив принесенный шнапс по кружкам, Кондаков призывно поднял свою.
– Давай, старшой.
– Не серчай, – поддержал товарища Василий Боровой. – Служба такая.
– Почто ему серчать, когда мы теперь у него в подчинении? – искренне удивился Степан. – Про другое не забывай.
– Ты про что?
– Про то самое, Вася. У тебя ведь день рождения сегодня, старшой. Или как там тебя называть, чтобы правильно.
– Коля, – сдержанно ответил Дерябин. – Хватит этого.
– И то верно, – легко согласился Кондаков, по всему – более разговорчивый, чем его товарищ. – Так сечешь, Коля, об чем толкую? Живой ты остался, понял, нет?
– Именно сегодня?
– А то! Вот не выкликали бы тебя тогда из строя, дожил бы ты, парень, ровно до сегодняшней ночи. Поясни, Вася.
– Лагерь-то наш весь знаешь, куда согнали нынче? – Ухмылка Борового показалась Николаю злобной и торжествующей одновременно. – В лес, туда, к бараку. Там и ямы готовы, там их всех накроют. С землицей смешают рыбок красноперых…
5 Сумская область, район Ахтырки, апрель 1943 года
Немцы шли цепью.
Они двигались со стороны Охримовки, растянувшись в ширину, образовав по обе стороны шеренги полукруг и действуя, как загонщики во время облавной охоты. Это и была облава: в темноте маячили только темные продолговатые силуэты, и ночь с их стороны плевалась огнем – автоматы били скупыми короткими очередями. Пальба велась не прицельно. Нет смысла, когда и так ясно: никуда из мышеловки не выскочишь.
Партизан с неумолимой неспешностью гнали туда, где сброшенные с неба бомбы продолжали вздыбливать лес.
Их загоняли под бомбы.
Под свои же бомбы.
С той стороны, где, как знал Дробот, находился тот самый секретный объект, доносились не только взрывы. Там тоже шел ожесточенный бой, и чем ближе к тому месту теснила облава, тем яснее слышались крики и выстрелы, смешанные с периодическими разрывами. Казалось, криками боли наполнилось и пропиталось все вокруг. Роман, отстреливаясь на бегу и видя, как слева и справа падают, сраженные пулями автоматчиков, его товарищи, именно сейчас, в неподходящий для таких мыслей момент, отчетливо понял – там, в лесу, гибнут пленные из опустевшего лагеря. Их наверняка перевели туда заранее, и это значит: немцы знали о возможном бомбовом ударе. Не просто знали – ждали его сегодня, сейчас, потому зенитки молчат, не мешая бомбардировщику противника делать свое дело.
Знают ли пленные, что их смешивают с землей свои же, да еще по приказу командования?..
Какое теперь это имеет значение!
Снова рвануло, теперь уже совсем рядом. Повинуясь какому-то необъяснимому инстинкту, Дробот низко пригнулся, упал, сверху чуть прикидало комочками песчаного грунта. Кто-то из бежавших рядом последовал его примеру, и это спасло их жизни – немцы уже значительно сократили расстояние между облавой и жертвами, потому даже в темноте стали стрелять прицельнее.
А затем летчик, заходя на последний вираж и шля прощальный привет, скинув напоследок бомбу ближе к лесной опушке, сам того не зная, вновь помог партизанам. Бомба вздыбила фонтан земли буквально в нескольких метрах от солдатской цепи. Облава в панике рассыпалась, и Дробот, который к тому времени успел подняться с земли на колени и оглянуться на преследователей, первым заметил смятение в их рядах.
– Направо! – заорал он в надежде, что будет услышанным, и, не дожидаясь, стремглав кинулся к той части леса, которая открылась для возможного прорыва сжимающегося кольца карателей.
Занятые организацией круговой обороны, оставшиеся в живых партизаны из группы, вместе с которой выдвигался к лагерю Роман, не сразу поняли, кто кричит и что вообще происходит. Но в следующее мгновение Дробот услышал, как голос, похожий на Фомина, скомандовал:
– За мной! Отходим! Прикройте – отходим!
Над головой роились пули. Одна зацепила плечо, не сильно, ужалила пчелой сквозь телогрейку, и Роман снова пригнулся, затем присел, для чего-то прикрыв голову руками, словно так можно уберечься от смертоносного свинца. Но тут же вновь рванул с места, крепко сжимая в руке автомат и не думая тратить драгоценные секунды, чтобы огрызнуться огнем. Расстояние между ним и лесом стремительно сокращалось. Слева по-прежнему доносились звуки боя, с правой стороны немцы, уже опомнившись, поспешно перестраивались, чтобы закрыть образовавшуюся брешь в кольце. Однако Дробот все-таки добежал до опушки, мгновенно оказался под прикрытием широкого ствола дуба, передернул затвор и дал в сторону темных фигур отчаянную очередь.
Стрелял веером. Палил не прицельно, всего лишь показывая зубы и пытаясь хоть как-то убедить охотников, что загнанная дичь еще опасна. Опустошив таким образом магазин шмайсера, Роман сменил его на второй, последний, сбил на затылок чудом державшийся на голове картуз, перевел дыхание. Каратели слаженно стреляли в ответ, но кто-то из партизан уже также прорвался в образовавшуюся брешь под прикрытие леса, слева и справа тоже ударили короткие, экономные автоматные очереди и одиночные винтовочные выстрелы.
Пот градом катился по лицу. Утерев его рукавом, Дробот прыжком сменил позицию, укрывшись за соседним стволом. Похоже, Фомин, или кто там сейчас принял командование, тоже увидели реальную возможность для прорыва облавы. Кольцо карателей так и не сомкнулось. Значит, быстро прикинул Роман, с левого фланга, там, со стороны разбомбленного объекта, где до сих пор гремит бой, есть шанс отойти, пусть неорганизованно, с огромными потерями. Интересно, понял ли это Родимцев… да и жив ли он…
Стараясь не думать сейчас об этом, Дробот поискал взглядом кого-нибудь из тех, кому удалось прорваться. До этого момента партизаны бежали в панике, отстреливаясь по большей части хаотично и никак не контактируя между собой. То есть, совсем не координируя свои действия. Ничуть не считая себя командиром, Роман все-таки решил – именно сейчас остатки отряда спасет хладнокровное решение. Заключающееся в том, чтобы пытаться, собрав в единый кулак всех уцелевших, двигаться на соединение с группой, которая ушла с Родимцевым и до настоящего момента считалась основной. Если отчаянный маневр удастся, те, кто уцелел, образуют пусть небольшую, но все-таки действенную ударную силу.
Кто знает – может, это единственный шанс вырваться из кольца.
Цепь карателей приближалась. Теперь с той стороны более отчетливо слышались крики, и Роман смог различить среди коротких отрывистых приказов по-немецки ругань на русском и украинском языках. Ясно, в облаве участвуют полицаи, все-таки не зря, как сообщила отрядная разведка, их стягивали под Охримовку чуть не со всего района. Вот только не для усиленной охраны лагеря и секретного объекта в лесу, а совсем для других целей.
Сволочи.
– Сволочи! Гады! – не сдержался Роман, дал очередь по голосам, затем снова сменил позицию. Слева от него, метрах в двадцати, его примеру последовал кто-то еще, кого Дробот не смог разглядеть. Не важно, это ведь свой. Прикинув более точное расстояние между собой и неузнанным пока товарищем, Роман собрался уже окликнуть его, даже набрал в легкие воздуха.
Но в этот момент сзади, у него за спиной, обозначилось движение. Хрустнула сломанная ветка, зашуршали кусты. Кто-то подкрадывался сзади… но как-то уж слишком громко, не скрываясь. А может, и не нужно прятаться, кольцо-то сомкнулось, и прямо сейчас…
– Стой! – рявкнул Дробот, развернувшись на шорох, вжав спину в ствол и выставив перед собой дуло автомата. – Стоять! Убью сразу!
– Не стреляй! – донеслось откуда-то из темноты, и этот голос Роман узнал сразу.
Даже не научившись как следует различать голоса людей, когда вокруг идет бой, Дробот был точно уверен: кричит женщина. А другой женщины, кроме Полины, здесь оказаться просто не могло.
Командир ведь велел отрядной радистке оставаться в тылу.
Потому девушка до сих пор и жива.
– Поля! – выкрикнул Дробот, опустив автомат. – Поля, свои! Спокойно!
– Куда спокойно, дурак! Какое спокойно, не видишь!
– Стой где стоишь, я сказал!
Обернувшись налево, Роман уже не увидел бойца. Тот или скрылся в лесу, или его достала пуля. Взглянул назад. Каратели надвигались уверенно, и, если помешкать еще немного, они с Полиной станут для них прекрасной мишенью даже в темноте. Их просто расстреляют в упор – пленных, видимо, здесь приказано не брать, отряд старательно зачищали.
– Тихо! – велел он и тут же повторил, уже приглушив голос: – Отходи назад, я за тобой.
– А наши…
– Вперед, сказал тебе! Это приказ!
Теперь двигаться предстояло по возможности тихо и незаметно, никак и ничем не привлекая к себе внимания. Дробот даже не думал, как могут расценить принятое им в тот момент решение. Он спасал свою жизнь, спасал Полину, и больше ничего не мог сделать во всей этой ночной бойне.
Пули свистели уже совсем близко. Команды окружать и не оставлять живых слышались четко и звучали рядом. Еще несколько минут, и останется лишь выйти врукопашную против не меньше десятка карателей. О таких подвигах былинных богатырей Роман Дробот часто читал в сказках, очень давно, в другой жизни, когда был ребенком и ни о чем плохом не думал, надеясь жить долго и счастливо в самой лучшей стране на планете.
Полина уже стояла рядом. Не удержалась – прижалась к нему дрожащим телом. Левая рука держала что-то на весу.
– Какого черта…
– Рация… Связь же…
– Сдурела совсем! Бросай, уходим! Брось, я сказал!
Плотный мешок с квадратным увесистым приемником внутри Дроботу пришлось вытаскивать у девушки из цепких пальцев силком. Кинул подальше, слишком поздно поняв – шуму ведь наделает. Обошлось, вокруг еще стрекотали выстрелы, никто не слушал тишину.
А затем, крепко схватив Полину за руку, а другой намертво сжав автомат, Роман быстро увлек ее за собой вглубь ночного леса, под спасительную сень деревьев.
Куда идти, Дробот пока не знал.
Для него важнее было увести девушку подальше от опасного места. Некоторое время они передвигались быстро, не оборачиваясь. На бегу Роман отпустил ее руку, такая связка сковывала движения. Полина старалась не отставать, держать темп, и, к чести радистки, это ей поначалу удавалось. Но вскоре стала задыхаться, отставать, и Дробот перешел на шаг, давая девушке возможность передохнуть.
Сколько они прошли и как далеко отошли, он пока не представлял. В чем был уверен – так это в том, что лес их не закружил, как это часто бывает. Детское увлечение лесными прогулками в который раз выручало: Роман уверенно направлялся в сторону Охримовки, так же, как и в тот темный и сырой мартовский вечер, когда бежал подальше от лагеря. А ведь тогда он даже не видел карты местности, Кондаков просто на словах объяснил ему направление, даже попытался нарисовать что-то похожее на план палкой на земле. Однако Дроботу хватило указаний двигаться на северо-восток от лагеря. К тому же, хоть сельские хаты не маячили за лагерным периметром, Роман все-таки отметил, откуда, с какой стороны к бывшей ферме приходили сердобольные бабы. Ему просто нужно было сделать достаточно большой и глубокий крюк лесом, чтобы обогнуть село и выйти к противоположной околице.
Сейчас Дробот держал курс в том же направлении. Только в саму Охримовку пробираться не собирался. Если отряд попал в засаду, сейчас село кишит немцами и полицаями. Для Романа это просто был ориентир: если взять западнее от сельской окраины, а затем держаться строго на восток, можно вернуться туда, откуда отряд выдвинулся еще этим утром: к базе. Конечно, он допускал – партизанская стоянка тоже может быть известна, и там их также могут поджидать. Но, поразмыслив немного, откинул эту мысль, хотя и сделал поправку на такую возможность.
Возвращение на базу имело больше плюсов, чем таило в себе опасностей. При любом раскладе, прикинул Роман, идти придется всю ночь, более того – нужно будет выбрать место, остановиться и хоть немного отдохнуть. Значит, к оставленному лагерю они доберутся при дневном свете, и он всегда сможет разведать, есть ли там засада. Так что теперь в ловушку они с Полиной не попадутся. К тому же, допустил Дробот, из четырех ударных групп, на которые перед Охримовкой разделился отряд, кому-то еще наверняка удастся прорвать кольцо карателей. И, очень возможно, уцелевшие партизаны также не найдут для себя другого пути, кроме как вернуться на базу. Стало быть, пробираться нужно именно туда.
Даже если это не так, даже если расчет ошибочный – они все делают правильно, мысленно подытожил Дробот. После всего случившегося у них должна быть цель, определенность в планах и действиях. Бежать в панике куда глаза глядят – намного хуже, это подавляет, деморализует, лишает ориентиров, выбивает почву из-под ног. Такой слабости Роман допустить сейчас не мог. И не только потому, что в свое время отец-профессор приучил его строить планы и соблюдать им же придуманные правила.
Рядом шла Полина. Теперь Дробот отвечал и за жизнь девушки. Нельзя выглядеть в ее глазах паникером, не знающим, что делать и как быть.
Конечно, Роман не собирался обсуждать с нею план ближайших действий. Поля, похоже, также не желала разговаривать, хотя бы сейчас, доверившись Дроботу полностью и послушно следуя за ним. Так, молча, они шли еще какое-то время, пока вокруг полностью не воцарилась ночная тишина. Только тогда Дробот остановился, предусмотрительно сделав девушке рукой знак, и она замерла. Не видя, но каким-то непостижимым образом чувствуя ее полный вопросов взгляд, Роман жестом позволил ей присесть. Полина подчинилась, села, прижавшись спиной к ближайшему дереву. А Дробот, чуть прищурившись, сосредоточился.
Когда он прятался в погребе у однорукого дяди Кузи, тот на досуге обмолвился – удачно, мол, добрался беглец, мог бы с непривычки в болото забрести, тогда уж точно каюк. Так Роман узнал, что в лесу тенится болотная гряда, которую знающие люди предпочитают обходить. Позже, показывая командиру отряда на карте место расположения лагеря и загадочного объекта в лесу, он заодно убедился: упомянутое дядей Кузей болото действительно обозначено. Сейчас, постаравшись восстановить карту хотя бы мысленно, надеясь лишь на собственную зрительную память, Дробот, допустив, конечно же, некую погрешность, определил, где они с Полиной находятся теперь по отношению к селу. Даже подвигал в воздухе руками, будто объясняя самому себе, куда идти нужно, а куда – не стоит.
По его прикидкам, даже самым приблизительным, болотная гряда сейчас расположена слева от того места, куда они добрались. Соответственно, Охримовка находится с правой стороны, и, если держаться заданного направления, им удастся обойти село так, как Роман и замыслил. Для этого нужно взять немного правее, отдалившись от болота. Решив так, Дробот, жалея Полину, однако же не считая возможным дать ей время на отдых именно сейчас, проговорил негромко:
– Дальше двинем, Поля.
– Куда? – выдавила она из себя вопрос, которого Роман ожидал и немного побаивался.
– Пока дальше в лес. Там поглядим.
– А наши?
– Видно будет, – повторил Дробот, хотя с языка чуть не сорвалось другое, резкое, пугающее и безнадежное.
Вряд ли Полину успокоили такие скупые и неопределенные ответы, но девушка покорно поднялась, одернула специально, для удобного хождения по лесу, укороченную шинель, послушно двинулась за Романом, решив больше не мучить его вопросами.
Спереди послышались голоса, когда они шли уже полчаса.
Мужчины говорили по-русски, и Дробот в первое мгновение решил – кто-то из своих таки вырвался и теперь пробирается в том же направлении, что и они. Даже похвалил себя за точный расчет, правильную оценку ситуации и верное решение. Но уже в следующую секунду понял: навстречу им движутся полицаи – услышал, как неожиданно громко и раздраженно выматерился один из мужчин, ругая какого-то своего товарища:
– Ну, вот потянули тебя, сука, за язык! Броди теперь ночью!
Вскинув автомат, Роман попятился, стараясь не шуметь. Полина тоже успела оценить ситуацию без его указаний. Глаза давно привыкли к темноте, и Дробот увидел в руке девушки вальтер. Приложив палец к губам, Роман кивком велел девушке возвращаться назад. Сам, продолжая пятиться, последовал за ней. Вопреки ожиданиям, голоса полицейских не отдалялись, из чего Дробот сделал очевидный вывод: те идут за ними, сами того не подозревая.
Значит, облава продолжается. Окрестный лес прочесывают, по вполне объяснимым причинам не дожидаясь утра.
Спереди мигнул огонек, затем еще один, еще. Судя по всему, полицаи освещали себе путь карманными фонариками.
Обнаруживать себя и принимать бой Дробот не собирался. Полицаи только этого и ждут, потому ввязываться в драку – верная гибель. Однако теперь складывалось так, что облава невольно теснила беглецов к болоту. В том, что удастся перележать где-нибудь до утра или же пропустить облаву мимо себя, найдя чудесный способ зарыться в землю либо же забраться на дерево, Роман очень сильно сомневался.
Так и не найдя решения, он по-прежнему продолжал отступать, прикрывая Полину: если кто-то вдруг себя проявит, у девушки будет время уйти.
– А ты чего орешь, Гриня? – отозвался между тем из темноты тот, кого обругали. – Слышно тебя за километр. Звери разбегутся, не то что эти…
– Никого тут нет, и забредет сюда разве корова твоя! – огрызнулся Гриня. – Сидели б уже, водку жрали. Нет, понесло тебя, умника… Немецкий крест на пузо захотел? Не дадут, Сивый, выкуси! Сука такая…
– Э, хорэ сучиться, Гришка! – пробасил третий голос. – Не сидели б мы щас нигде, бегали б, как хорты, искали, кого добить. На пулю так нарваться легко, бандиты кусючие.
– А так не нарвемся?
– Так – не нарвемся! Старших надо слушать, которые службу знают. Сивый все грамотно сделал. Не дошло еще, убогий?
Похоже, полицаи остановились для выяснения пока непонятных Дроботу отношений. Встала и Полина, но Роман жестом велел ей отходить вглубь леса, а сам затаился в кустах: планы полицаев его сейчас очень интересовали.
– Не, братва, – отрезал Гриня. – Вот убейте, никак не вдыблю, за каким счастьем мы сюда вот поперлись? Кому оно надо, ваш пост возле болот?
– Дурак, – последовал беззлобный ответ. – Сивый дело тому немецкому начальнику задвинул. Мол, если кто вырвался, могут рвануть к болотам и там пересидеть. Вот бы, значит, выставить возле болот грамотный усиленный пост. Где б ты был сейчас, если б тебя сюда не ввели, красавец? Сюда ж верняк никто не сунется, пересидим спокойно до утра. После доложим: никаких происшествий.
– Ну-ну, посидим… В лесу, с зайцами.
– Да хоть с волками, Гриня! Хата твоя и баба мягкая как были, так и будут. Хочешь, чтобы тебя гоняли до утра, или лучше тут, на свежем воздухе, тихонько пересидеть?
– Вот стратеги, мать вашу!
– Старые воины, Гриня, – вмешался Сивый. – Мы вот с Данилычем в армии-то свою лямку потянули. Ты лес валил в Сибири за ворованные кошельки, а мы вот, считай, в одном полку, получилось так.
– Ты меня зоной сейчас попрекаешь? – взбрыкнул Гриня. – Ты чем лучше, петух паленый? Вы оба – чем лучше?
Похоже, эта компания полицейских впрямь не рассматривала свое задание всерьез. И точно сбежали под шумок от беспокойной службы да шальной пули пусть подальше в лес, зато – туда, где наверняка спокойно. Несмотря на крайнюю серьезность ситуации, Дробот мысленно восхитился находчивостью этих шаромыжников, которая стала прямым следствием их трусости и лени.
Конечно, теперь сложности возникли у беглецов. Как бы там ни было, при первой же попытке прорваться мимо полицаев они неожиданно даже для себя смогут стать героями. Даже при том, что противников, похоже, только трое, силы все равно были явно неравными.
– Ничем мы не лучше, – успокоил Сивый. – Просто мы старше, Гриня, и умнее. От начальства, особенно когда такая суета, как тут у нас завертелась, треба держаться подальше. Мы тут все выполняем особо важное задание: охраняем тыл, на всякий случай. И ежели, Гриня, никаких на нашем участке чепэ не случится, нас даже вон похвалят. Креста не поцепят…
Ноги Дробота слегка затекли.
– Да замурыжил уже своим крестом! – вмешался Данилыч. – Железяки кусок, ни на что не годится. Я вот вам расскажу, как год назад в Сумах стреляли мы жидву…
– Слыхали уже сто раз!
Сидеть дальше в таком неудобном положении становилось невозможным.
– А ты, Гриня, еще послушай и подумай, где надо золото шукать и вообще…
Осторожно, будто перенося на вытянутых руках хрустальную вазу, Роман шевельнулся, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, и при этом чуть-чуть сместился в сторону, меняя позицию.
Под сапогом хрустнула ветка.
Дроботу показалось – огромный медный колокол внезапно оповестил врага о месте его нахождения. Эффект для него тут же стал сравним с тем, как будто гусеницы танка прошлись по деревянному забору. Моментально запаниковав и тут же покрывшись холодным потом, Роман попытался отползти от опасного места подальше – и теперь уже захрустело сразу несколько веток.
– Э, чуешь? – враз посерьезнел Данилыч.
– Что? – встрепенулся Гриня и тут же выплюнул: – Кто?
Палец Дробота лег на автоматный спуск.
Неспешно, плавно надавил.
– А ну, стоять! Кто там?
Спусковой крючок дошел до половины. Только бы Полина успела…
– Какого лешего полошитесь? – пробасила темнота.
Теперь сухие сучья под ногами хрустели громко и уверенно. Палец замер, затем так же плавно отпустил спуск. Старясь казаться невесомым и даже невидимым, Роман выдохнул, вытер тыльной стороной ладони обильно вспотевший лоб.
– Матвей, ты, что ли? – окликнул Сивый.
– Папа Римский! – огрызнулись из темноты. – Чего разорались? В засаду вас послали или песни петь? Спляшите еще!
– Не поет тут никто!
– Гриня, тебя, блядь, больше всех слышно! Обрадовались, место спокойное нашли? Так и сидите спокойно, вашу мать!
– А ты чего материшься! – не унимался Гриня.
– Слышь, постовые, у вас тут, как при советах, граница на замке! Воины…
– Сам, можно подумать, не такой!
Слушать дальнейшие препирательства полицаев у Дробота не было желания и не оставалось времени. Пользуясь моментом, что компания занята перепалкой, Роман отошел еще дальше вглубь леса, очень скоро натолкнувшись на Полину. Девушка, хоть и ожидая увидеть именно его, все-таки не сдержала вскрик. Однако вышел он настолько слабым, что полицейские, находившиеся теперь на приличном удалении, вряд ли могли его услышать.
– Кислые дела, – пробормотал Роман.
– Совсем? – одними губами спросила Поля.
– Пост они тут выставили. Обойти можно, только вряд ли он такой один, – пояснил Дробот. – Надо, как ни верти, утра ждать.
– Здесь прямо?
– Тоже не годится. Мало ли что в ихние бошки взбредет. Скучно станет на одном месте, попрутся вперед, напоремся… А вот… – Тут он замолчал, сам еще не веря в то, что собирается сказать.
– Что? – поторопила Полина.
– В болото вот не сунутся. Дальше болота не пойдут при любом раскладе, смекаешь?
– А мы?
– Не знаю… Другого пути все равно нет.
– Ночью через болото… Рома, места незнакомые.
– Знаю все, – согласился Дробот. – Никто не предлагает прямо вот так форсировать. Когда светло, еще имеет смысл. Так… Только стоять на месте все равно опасно, Поль.
Девушка промолчала. Дробот понятия не имел, что творилось сейчас у нее в голове. Так ничего не объяснив, Полина легко отстранила его рукой, пошла вперед, стараясь ступать осторожно.
Не видя, как еще можно поступить, Роман пошел за ней.
Болотом потянуло очень скоро.
Так пахнет озерцо с давно застоявшейся водой, затянутое ряской на радость окрестным гусям и уткам. Запах был тяжелым, влажным, густым, даже чуть сладковатым – а может, как раз это Дроботу и показалось. Здесь он вышел вперед и, когда почва под ногами стала мягкой, а левый сапог утопился по щиколотку в жижу, бросил, не оборачиваясь:
– На месте стой, Поля…
Девушка послушалась, даже шагнула назад, где земля оставалась прочной. Вытащив ногу из грязи, Дробот нащупал место, где не проваливалось, легонько попробовал – ничего, выдержит. Он сейчас полностью отдавал себе отчет: можно, не заходя в болото и не рискуя стать его добычей, пройти вдоль гряды, придерживаясь нужного направления.
План казался элементарным, но при всей простоте имел как минимум два серьезных изъяна. Первый – линия самого болота, которую Роман отметил еще утром на карте. Она изогнута, и, если следовать ей, можно легко сбиться с нужного направления. Второй – полицаи. Если сейчас, на этом участке, Дробот с Полиной нарвались на раздолбаев, и то лишь потому, что они таковыми оказались, то нельзя быть уверенным в том, что через несколько километров на их пути не встретится более подготовленный пост. Это косвенно подтверждало подозрения Романа: облава не прекратилась, и, стало быть, какому-то количеству бойцов удалось вырваться из кольца. Иначе неизвестное Дроботу «начальство» не согласилось бы отрядить полицаев прочесывать лес ночью в окрестностях болота.
Оставаться у самой трясины тоже рискованно. Только лезть сейчас, среди ночи, в топь – дурость не меньшая. С какой стороны ни зайди, везде положение Романа и Полины казалось невыгодным. И все-таки болото по-прежнему оставалось самым надежным вариантом переждать облаву.
Балансируя на зыбучей илистой поверхности, Дробот выхватывал взглядом из темноты деревья, маячившие впереди посреди болота. Приняв решение, он вернулся к Полине, отдал ей автомат, спросив на всякий случай:
– Управишься, если что?
– Если что? – тут же парировала девушка, но оружие взяла уверенно, и Роман на время успокоился.
– Будь здесь. Я скоро.
– Ты куда?
– Идея одна нарисовалась.
– Рома… – проговорила девушка тихо.
– Да? Что?
– Осторожно.
– Как-нибудь.
– Поклянись.
– Честное пионерское.
Дальнейший разговор не имел смысла. Оглядевшись, Дробот нашел подходящую по прочности ветку и, пользуясь ею, как шестом, неспешно двинулся обратно к болоту. По колено провалился, не успев отойти далеко от берега. В густую грязь ушли сразу обе ноги. Пока Роман вытаскивал с чвяканием правую, левая утопла еще глубже.
Болото сжало бедро.
Стараясь не паниковать, Дробот попытался убедить себя в том, что в здешних местах не может быть слишком уж непроходимых топей, а значит, этой тоже опасаться не следует, затем осторожно погрузил в грязь правую ногу, держа курс на ближайшее к нему дерево. Здесь снова погрузился по колено, потянул левую ногу на свободу, почувствовал – сползает сапог, и дальше стал дергать конечностями не так резко.
Сапоги удалось удержать на ногах. Пробуя мягкий грунт перед собой шестом, Дробот двинулся вперед, вышагивая, словно цапля. Ступая на вдох, делал следующий шаг на выдохе и при этом не переставал слушать, что происходит сзади, там, где он оставил Полину. Ничего пока не тревожило, и Роман вновь сосредоточился на своем переходе.
Добравшись до места, откуда торчало дерево, Дробот не сразу поверил в удачу. Хоть здесь под ногами еще было болото, от этого ствола до следующего было не больше десяти шагов, и вот там почва была твердой, образовывая небольшой, неправильной формы, но зато заросший густыми болотными растениями островок. Если сидеть рядом, даже останется немного места. И главное – с берега тех, кто прячется, не заметить даже при свете дня.
До конца не веря, что план склеивается, Роман с той же осторожностью одолел обратный путь. Уже по привычке не вдаваясь в объяснения, просто взял у Полины автомат, повесил его на шею, коротко велел:
– Вальтер дай.
Если девушка и колебалась, то недолго. Ее оружие Дробот засунул глубоко в карман своих штанов, похлопал сквозь ткань, проверяя, не выпадет ли случайно, сказал:
– Идем. За мной держись, след в след. И старайся не кричать, если провалишься.
Полина шла послушно, ступала, как было велено, этот переход также прошел без особых происшествий. Оказавшись на маленьком болотном островке, девушка уже не нашла в себе сил сдерживаться: опустилась на твердую землю, выдохнула:
– Как хочешь – не могу больше. Не пойду никуда, пускай будет, что будет.
– А дальше и не надо, – ответил Дробот. – Продержимся до утра, там поглядим. Можешь поспать, если выйдет.
Вышло.
Он расположился так, чтобы девушка смогла устроиться на его вытянутых ногах, свернувшись калачиком, будто котенок. Замерла почти сразу, нервное напряжение последних часов дало о себе знать. Дробот, положив автомат возле себя, тоже прикрыл глаза. Но спать не мог себе позволить. Сидел, вслушиваясь в звуки ночного леса, пытаясь определить, какой несет им угрозу, и в какой-то момент не заметил, как тоже отключился.
…Когда рассвет пробился сквозь сырой болотный туман, Дробот нашел себя и Полину все на том же болотном островке. Мокрые, грязные, живые. Ночь пережили, начинался новый день.
Растолкал девушку. Только она открыла глаза, Роман прикрыл ладонью ее губы, проговорил:
– Лежи… Разведаю, как там…
– А…
– Тс-с-с…
Оставив Полину, он уже совсем уверенно перешел заболоченный участок. Какое-то время сидел, чутко слушая тишину. Наконец решил: будь что будет, не жить же им здесь, в трясине, превращаясь в болотных кикимор. Вернулся за Полиной, помог перебраться ей и, когда оба снова оказались на твердой земле, сказал:
– Идти надо. Готова?
Ответом были молчаливый кивок – и негромкая, но твердая просьба:
– Пистолет мой отдай.
Они встретились днем.
Дробот не имел представления о том, сколько он и Полина шли по лесу. По солнцу не ориентировался, просто фиксировал для себя его положение и старался определить по нему направление пути, но никак не время суток. Иногда Роману казалось – они начинают кружить, списывал это на дикую усталость, тогда останавливался и пытался разобраться, не слишком ли отклонился от цели.
В конце концов он решил: куда бы ни зашли, отошли уже достаточно далеко от вероятной облавы. Да и саму облаву наверняка уже свернули. Потому позволил себе сделать привал и на свой страх и риск попросил Полю покараулить, пока он немного поспит. Риск состоял в том, что девушка измоталась если не больше, то уж точно не меньше его, и часовой из нее может оказаться неважный. Видимое спокойствие и ощущение относительной безопасности непременно убаюкают и ее. Впрочем, опасений Роман вслух не высказал, надеясь на свой фронтовой опыт – спать ровно столько, сколько позволяют обстоятельства, и за это время максимально отдыхать, восстанавливая силы.
Ошибся Дробот дважды. Первый раз – когда подумал, что сможет погрузиться в сон не больше чем на час. Вторично – побаиваясь, что Полина поддастся соблазну и также уснет. Девушка держалась хорошо, и, если бы не ее настороженность, крепкий сон Романа никакие звуки не потревожили бы.
Он очнулся не сразу. Полине пришлось трижды, всякий раз сильнее, трясти Дробота за плечо. Когда тот открыл глаза, увидел напряженное лицо девушки и палец, приложенный к губам. Она сразу же кивнула куда-то в сторону, и в следующий момент, окончательно проснувшись, Роман услышал за деревьями русскую речь. Пока не мог разобрать слов, но мужчины шли, не кроясь, и говорили, не понижая голосов. Значит, бояться им нечего, идут свободно.
Полицаи.
Они с Полиной таки сбились с пути, закружили, снова вышли в окрестности Охримовки и вот снова нарвались на облаву. Голоса приближались, и теперь стычки просто не избежать, отступать некогда и некуда. Потому, не особо заботясь о том, чтобы не обнаруживать себя, Дробот взял лежащий рядом автомат, поднялся, и уже в движении услышал сначала громкое:
– Кто идет?! – И сразу же вскрик Полины:
– ИГОРЬ!
Из-за деревьев, в это время весны – еще голых, неожиданно выступил сперва капитан Родимцев с автоматом наперевес, затем, держась по разные стороны от него неким полукольцом, показалось еще несколько партизан. Ошарашенный Роман все еще держал ствол перед собой, но Полина, оттолкнув его рукой, стремительно кинулась через кусты к командиру. Тот еле успел опустить оружие – девушка повисла у него на шее, уже не сдерживая рыданий. Не могла произнести ничего, повторяла только:
– Игорь, Игорь, Игорь…
Теперь и Дробот убрал оружие. Вздохнул облегченно: значит, его расчет оказался верным и оправдал себя. Пока не ясно, откуда здесь взялись Родимцев и остальные, но понятно – те, кому удалось уцелеть, пробирались туда же, куда он пытался вывести Полину. И, видимо, они, как часто случается на войне, просто обречены встретиться в лесу.
Однако ни рассмотреть выживших, ни задать хоть какой-то вопрос Дробот не успел.
Внезапно и довольно грубо оттолкнув от себя Полину, командир снова вскинул автомат. Теперь дуло смотрело прямо в грудь Роману, и тот, ничего не понимая, попятился.
– Живой, выходит, – процедил Родимцев, для которого, как показалось Роману, вдруг перестало существовать все вокруг, даже апрельский лес замер.
– Вы… ты что, Ильич… – пробормотал он.
– Я – что? Ты меня спрашиваешь? Сука, падаль вонючая, провокатор! Я тебя на месте сейчас… Именем Союза Советских Социалистических… Ах ты…
Выстрелит, вдруг отчетливо осознал Роман. Сейчас командир отряда выстрелит в него, и наконец закончится то, что никак не могло завершиться с того самого момента, как он, рядовой Дробот, сел в кабину полуторки под конвоем особиста Дерябина. Смерть с тех пор могла поймать его минимум четырежды: под бомбами, в лагере, при побеге и вчера ночью. Теперь, выходит, догнала.
– Убивайте, – проговорил Роман, удивляясь своей покорности.
– Сказать ничего не хочешь?
– Нет. Вы сами все знаете, товарищ командир.
Когда автомат, с которого Дробот не спускал глаз, чуть дернулся в руках Родимцева, он вдруг понял – остановили капитана именно эти его слова вкупе с обреченной покорностью. Не опуская оружие, Игорь выплюнул вопрос:
– Что я знаю? Говори, сволочь, – что я знаю.
– Знаете, за что собрались меня расстрелять. Вы офицер, умный, опытный. Вам виднее.
– Издеваешься, значит. Наглости хватает, да…
Он вступил в разговор, не пойми зачем, отметил Дробот. Стало быть, расстрел отменяется или как минимум откладывается. И Родимцев, выходит, не до конца уверен в своей правоте. Хотя это «не до конца» слишком уж, похоже, крошечное.
– Игорь Ильич, мы с Полиной вышли из окружения так же, как и вы. Я не знаю, правда не знаю, что вы сейчас собираетесь мне предъявить. Если я не имею права на последнее слово, то ребята, – кивок за спину Родимцева, – хотя бы обязаны услышать приговор.
– Нет, Дробот, умный у нас здесь – это как раз ты, – отчеканил командир. – Ребят вспомнил… Моих ребят… Вот, гляди, девять человек со мной. Девять, Дробот! Все, что осталось от отряда «Смерть врагу!», понимаешь ты или нет! Везде нас ждали засады! Везде! Из взвода Вани Прохорчука только один человек выжил, говорит – не было там, куда они вышли, никакой зенитной батареи! Зато фрицев, что тараканов! И объекта нету никакого, нас сразу зажали в колечко! Кто под свои бомбы не попал, тех расстреляли! В упор смолили, понимаешь ты, сука? Это не бой – бойня была! Фомин убит, я сам видел, как падал! И ничего, ничего не мог сделать!
– Теперь сделаете, – согласился Роман. – Расстреляете меня. За что?
– Он еще огрызается! – с искренним изумлением выкрикнул Родимцев, полуобернувшись к остальным. – Нет, товарищи, вы слышали? Он еще огрызается! Да я тебя, гад, без трибунала!
Снова обернувшись, командир шире расставил ноги, передернул затвор.
Все, понял Дробот. Вот теперь – все.
– Игорь, не смей!
Роман не успел понять, как и когда Полина Белозуб, все это время стоявшая чуть в стороне и наблюдавшая за происходящим, оказалась враз между ним и дулом командирского автомата.
– Не надо! – повторила она, голос звучал чисто и звонко.
– Полина, вон! В сторону! – заорал Родимцев.
– Нет! – заявила девушка твердо.
– Дура! Убрать! – рявкнул командир, приказывая не кому-то конкретно, а всем сразу – или же тому, кто первым проявит расторопность.
От небольшой группы отделился Павел Шалыгин – голова перевязана грязным бинтом из индивидуального пакета, с левой стороны коричневое смешалось с красным, но в целом он выглядел все тем же командиром отрядных разведчиков.
– Погоди, Ильич.
– Что ты сказал? – выдохнул изумленно Родимцев.
– Подожди, говорю. Охолони. Все мы тут… Короче, командир, разобраться бы. Если этот, – кивок в сторону Дробота, – гад, я с тобой рядом стану, вместе его кончим. Только пока я лично причин не вижу.
– Ты не видишь, Паша? Ты? Это не тебя с людьми в Охримовке ждала засада?
– Мы все попались, как дурные рыбки, – ответил Шалыгин. – Чего ж ты решил именно вот с него спросить? За всех фрицев, выходит так.
Полина не сходила с места. Переведя взгляд с Шалыгина на нее и обратно, Родимцев медленно опустил автомат.
– Интересно тебе? Другим тоже интересно?
Молчание остальных партизан прозвучало для командира лучше любого ответа.
– Хорошо, раз никто еще не понял ничего. Кто рассказал про секретный объект в лесу, рядом с лагерем? С чьих слов я донесение в Москву составил, которое ты, Полина, передала? Кто поведал о бетонной крошке в карманах убитых? Кто, получается, дезу нам задвинул, а мы – нет, я сначала это все сам проглотил, а потом и штабу скормил? Надо еще разобраться, как это рядовой Дробот так вот, по чистой случайности, выбрался из лагеря таким вот волшебным способом.
– Если ты сейчас его расстреляешь, Ильич, этого мы точно никогда не узнаем, – заметил Шалыгин.
– Заступник?
– Просто с кондачка не хочу решать, командир.
– Ты и так ничего не решаешь, – отрезал Родимцев. – Вся ответственность на мне. И отвечу сам, когда спросят и если спросят.
– Не годится, – Шалыгин сделал несколько шагов и встал чуть правее Полины, не перекрывая Дробота от дула вместе с ней, но все равно показывая готовность возразить командиру и, если нужно, защитить приговоренного.
– Ты на адвоката разве учился, Паша?
– Я, командир, на заводе работал, у меня рабфак только, и ты про это знаешь, – ответил Шалыгин. – У тебя образование вроде как, а все равно неважно складываешь уравнения. Забыл разве: сведения о том, что где-то под Охримовкой немцы что-то такое секретное строят, имелись там, в Москве, еще раньше, чем у нас в отряде появился Дробот. Сам же читал радиограмму. Ту самую, с приказом выдвинуться в указанный район и подтвердить. Вот парень и подтвердил.
– Чересчур вовремя.
– Есть такое дело, – согласился Шалыгин. – Только, ведь получается, деза, на которую не только отряд купился, но и Большая земля, все неглупые головы, – деза эта, Ильич, не от Ромы-то Дробота ушла. Раз на то пошло – меня тоже стреляй, я ведь раньше проводил разведку в Охримовке, никакой ловушкой не пахло. Из Ахтырки тоже наши подозрения косвенно подтверждались. И все, так сказать, оперативные и разведывательные мероприятия проводились, товарищ капитан, по вашему личному приказу. Так что, мне тоже застрелиться или всем нам дружно?
– Не забывай, с кем разговариваешь, Шалыгин.
– Я не забываю, Игорь Ильич. Меня, как и тебя и вот их всех, еще каких-то полсуток назад убить могли. Выходит, все мы тут равны пока. Дробота, кстати, тоже могли, как я погляжу. Если он провокатор и крыса, чего ж не остался там, у своих, чего не выбежал с поднятыми руками? К тому же вот Поля с ним вышла, поговори, поспрашивай.
– Разобраться надо, – проговорил после тяжелой паузы Родимцев. – Ты правильно рассуждаешь, Павел, но только в целом. Есть частный момент: именно слова Дробота, считай, окончательно все подтвердили. Без его сведений я бы не спешил вчера начинать операцию. Результат мы все видим – отряда нет.
– Надо – разбирайся, – согласился Шалыгин. – А пока не разберемся, Ильич, хоть ты и командир, но самосуд в нашем положении ох как не нужен. Людей ведь деморализуешь, товарищ капитан.
– Слова выучил, как из листовки, – буркнул Игорь, и плавная смена интонаций тут же подсказала Роману: смерть снова прошла мимо, еще поживу.
– Решаю вот что. Рации нет, связи, соответственно, тоже. Идем на базу, все, кто есть. Там сутки на отдых. Затем выдвигаемся к линии фронта, другого решения у меня нет, мы уже не серьезная боевая единица. Перейдем фронт, свяжемся с Москвой. Не перейдем – такая судьба. Идти на любое соединение в условиях, когда нет связи, считаю ошибкой. До того времени ты, Роман Дробот, считаешься арестованным. Любая попытка отделиться от отряда считается побегом, карается расстрелом. Стрелять в тебя любой может без приказа при малейшем подозрении или провокации с твоей стороны. Выберемся все вместе, там и продолжим разбор. Пока сдай оружие, Дробот.
Роман бросил автомат себе под ноги.
Часть четвертая Поселок
1 Харьков, разведывательно-диверсионная школа Абвера, апрель 1943 года
Документы были настоящими.
Когда Дерябин, получив небольшую прямоугольную офицерскую книжечку, на какое-то время остался один, он повертел ее в руке, затем воровато оглянулся и, даже не пытаясь объяснить себе, для чего так сделал, понюхал. То ли полученный документ и правда отдавал чужим потом, то ли Николай навеял себе эти ощущения. Он не сомневался, как добыли этот и другие подлинные документы бойцов и командиров Красной Армии, которые получили остальные члены диверсионной группы. Старался не думать о том, что случилось с их реальными обладателями. Хоть вот с этим Пивоваровым Дмитрием Ивановичем, старшим лейтенантом, сапером, чью книжку выдали Дерябину и кем ему предстояло стать на время проведения операции.
Пастухов. Теперь вот Пивоваров.
Два раза за неполный месяц Николай сменил фамилию и даже имя. Дитрих, когда они оставались наедине, по-прежнему называл его так, как назвала однажды мать. Но все остальные обращались к нему сперва как к старшему инструктору Пастухову. А после, только операция, громко, не без пафоса, совершенно в стиле Дитриха названная им «Фейерверк», вступила в фазу активной подготовки, все участники получили приказ называть друг друга так, как значилось в полученных документах. То есть, старший инструктор Пастухов превратился в старшего лейтенанта Пивоварова, а Николай Дерябин, бывший старший лейтенант НКВД, с тоской понимал – от смены фамилий голова идет кругом и есть риск запутаться. Его ведь никогда не учили менять личину, наоборот, сотрудник государственной безопасности ценен как раз тем, что открыто называет фамилию и звание, приводя окружающих в трепет.
Конечно, народ вроде тех же Кондакова с Боровым, как успел узнать Николай, – людей с уголовным прошлым, необходимостью всякий раз называться другим именем, с толку не собьешь, их такой практике жизнь научила. А вот сам Дерябин держался напряженно, привыкая к очередной фамилии – и все равно недопустимо затормаживая, когда к нему обращались как к «товарищу Пивоварову».
Отто Дитрих на время операции «Фейерверк» превратился в лейтенанта Яниса Шкеле, что лишний раз убедило Дерябина, насколько немцы тщательно и основательно подходят ко всем деталям. Дитрих решил принять участие в разработанной и спланированной им операции лично, однако его внешность и легкий акцент, сохранившийся даже при его почти безупречном владении русским языком, обязательно насторожит и вызовет массу вопросов. Особенно – в прифронтовой зоне. Потому ему предстояло стать уроженцем Прибалтики, лучше всего латышом: при случае можно вскользь назвать себя сыном одного из латышских стрелков. Так, во всяком случае, объяснил Дитрих, и самое главное – подлинные документы офицера-латыша, служившего в Красной Армии, ему таки раздобыли. А ведь, как знал Дерябин, получить офицерскую книжку человека по имени Янис Шкеле намного сложнее, чем документы на имя Дмитрия Пивоварова. Тем не менее эта задача была выполнена.
Вообще, если действовать совсем уж правильно, в плане Дитриха именно лейтенант Шкеле мог оказаться лишним. По его замыслу, диверсанты десантируются в прифронтовую зону и под видом взвода инженерно-саперного батальона обеспечивают подготовку рокад вдоль фронта и полковой фронтальной дороги на заданном участке. А кроме того, проверяют и определяют места возможных переправ. Обычное для прифронтовой зоны дело, особенно когда войска планируют стратегические наступательные операции. Дерябин сам бы не обратил внимание на взвод саперов, передвигающийся по тылам на полуторке. Но было одно весьма сомнительное обстоятельство, на которое слишком бдительный службист даже при формальной проверке может обратить внимание.
По плану, роль командира взвода получает он, Николай Дерябин. А вот его заместителем становится Отто Дитрих, фактический руководитель операции. И при желании может возникнуть вопрос: почему замкомвзвода – лейтенант, ведь обычно «замков» назначают из сержантского состава. Когда Николай озвучил это несоответствие Дитриху, тот сперва не ответил ничего, хотя к его замечаниям в последнее время старался прислушиваться: ведь он, Дерябин, не так давно с фронта, знает на порядок больше, чем любой инструктор, не говоря уже про обычных курсантов. Но затем успокоил не столько Николая, сколько себя: в прифронтовой зоне, как и на фронте в целом, важно отдать приказ и добиться его выполнения. А кто это сделает, значения в конечном итоге не имеет. Потому фронт и тыл имеют много больше проблем и нерешенных вопросов, чем беспокоиться, почему заместитель командира саперного взвода – именно лейтенант.
Отчасти Дерябин согласился с Дитрихом. Но не исключил: как только операция «Фейерверк» начнется и вступит в активную фазу, в зоне действия их группы появятся контрразведчики, да и патрули станут бдительнее, цепляясь за любую мелочь, приглядываясь к любому несоответствию. Недооценивать контрразведку нельзя, Николай несколько раз сталкивался с ее сотрудниками. Делая ставку на стремительность передвижения и рассчитывая, что интервалы между диверсиями не дадут противнику перевести дух, а силам контрразведки – соответственно, сосредоточиться, Дитрих имел все шансы просчитаться.
Впрочем, если бы абверовец и захотел отреагировать на замечание Николая, у него, как рассудил Дерябин, не было для этого реальной возможности. Найти подлинные документы сержанта-латыша сложно. Хорошо еще, что раздобыли не книжку старшего офицера, иначе Дитриху пришлось бы корректировать либо свой план, либо – свое участие в операции. Так что ему оставалось использовать только те документы, которые есть.
Этой, на первый взгляд, мелочи Дерябин попытался уделить отдельное внимание по той простой причине, что не хотел засы́паться на ерунде. Сделав выбор и теперь готовясь подтвердить его и Дитриху, и немецкой военной разведке, и самому себе, в конце-то концов, Николай собирался пройти что-то вроде боевого крещения. Хотя… почему «вроде»: его ожидало самое настоящее боевое крещение, где, возможно, придется стрелять в солдат и офицеров Красной Армии, тех, кто совсем недавно были для него нашими, своими. И это не амбал Мельник, которого Дерябин считал бы своим личным врагом при любых обстоятельствах.
На самом деле, коли все сложится благополучно и план Дитриха пойдет так, как он и задуман, огневого контакта вполне возможно избежать, рассуждал Николай.
С того памятного вечера, когда он в компании Кондакова и Борового натрескался шнапсу на кухне, скорее вынуждая себя пить с ними, чем получая удовольствие от спиртного и компании, прошло десять дней, и на все это время Дитрих своей властью объявил «сухой закон». Более того: все члены группы переселились в отдельное крыло, назначенный каждый день новый дежурный приносил им туда порции с кухни, а сам Отто жил и даже спал с группой в одних стенах. Так, по его мнению, команда привыкнет друг к другу и станет единой, что очень важно там, за линией фронта, во вражеском тылу.
Все называли друг друга по именам, фамилиям и званиям, указанным в документах. Часть дня команда проводила на плацу или на стрельбище, часть – в том же помещении, изучая карту местности, названия населенных пунктов, предполагаемый маршрут своей группы. А также – расположение воинских частей по ходу следования, имена офицеров «своей» дивизии и «своего» саперного батальона. Кажется, никого, кроме Дерябина, не удивляло то обилие подробных сведений, которым располагала группа. А Николай в который раз убедился: немецкая агентурная сеть раскинута в тылу густо, сбор нужной информации поставлен на поток. И это, как ни странно, лишний раз убедило его в собственной правоте, да и в правомерности действий Особых отделов НКВД как по всему фронту, так и в тылу.
Взять того же болтуна Дробота, с которого жизнь Дерябина круто изменилась. Ведь только кажется, размышлял Николай, что недовольство как его, так и ему подобных – всего лишь обычная реакция бойца на фронтовые невзгоды. Всякое недовольство – тлеющий костер, в который опытный враг всегда может подкинуть дровишек, и вот уже боец, сам того не понимая, дает нужные противнику сведения. Пусть у него вырвется всего одна фраза, пригодившаяся неприятелю: даже такого может оказаться более чем достаточно для составления некоей картины, важной для решения его, врага, тактических и стратегических задач. Дерябин решил, что нужно запретить всем даже думать о том, что может оказаться полезным для противника. Как такое возможно – вопрос не к нему.
Вывод касался не только советских граждан. По убеждению Николая, немцы как его новые хозяева также должны обеспокоиться усилением собственной безопасности, особенно в военное время. Он даже как-то перед сном озадачился составлением некоего плана, который можно было бы со временем предложить через Дитриха куда-то выше и тем самым заявить о себе. Правда, заснув с этой мыслью, поутру он понял, что в принципе забивает себе голову ерундой. Хотя в перспективе тут есть над чем подумать.
Как бы там ни было, Дерябин поставил перед собой цель провести свою первую диверсионную операцию против тех, на чьей стороне воевал совсем недавно, и вернуться обратно в школу. Он всерьез намерился продвинуться вперед и вверх по своей новой служебной лестнице. И вынашивал замысел убедить сперва Дитриха, а если не получится – попробовать выйти на руководителей более высокого уровня: он больше пригодится в тылу. Как специалист по Советскому Союзу… давайте назовем это так. Николай чувствовал в себе намного больше возможностей, чем Абвер требовал от диверсанта.
Но возвращение возможно только при одном условии: если никакая мелочь не привлечет к себе внимание и если группа не засыплется.
Дерябину, избежавшему смерти за короткое время несколько раз, больше не хотелось, чтобы его судьба зависела от чьих-то не до конца продуманных и самоуверенных решений.
2 Район Курска, апрель 1943 года
Тяжелая, обитая железом дверь закрылась за его спиной.
С непривычки, как это случается со всеми, кто попадает с дневного света в тускло освещенное помещение, в глазах зарябило и потемнело. Но Дробот быстро освоился, обвыкся и огляделся. Первое, что увидел, – другой, помимо грязной лампочки, источник света и единственный источник воздуха: прямоугольное отверстие под потолком, окошко, забранное толстыми прутьями решетки. Оно находилось метрах в двух от пола, выходило на улицу. Прищурившись и приглядевшись, Роман увидел по краям небольшие острые остатки стекла. Зимний холод, от которого не уберегало разбитое стекло, вряд ли казался обитателям камеры обузой. Наоборот, только так в душное помещение мог проникнуть свежий воздух.
Все равно не перебивавший запах стоявшей в углу параши – оцинкованого ведра, накрытого ржавым обрезком железного листа.
Когда Дробота вели под арест, он успел разглядеть здание, в подвале которого оборудовали тюрьму. Это была старая помещичья усадьба, не иначе, в которой последних лет двадцать наверняка не жили, реквизировав хоромы у эксплуататора трудового народа и, как водится, обустроив в его стенах какое-то казенное помещение. Вряд ли помещик, кем бы он ни был, использовал подвал своего дома как узилище. Вероятнее всего, решетки на подвальном окне появились при новой власти. При какой, советской или немецкой, – тот еще вопрос. Однако Роман решил не сушить себе голову подобными глупостями: ему без того было о чем подумать.
…Через фронт остатки отряда «Смерть врагу!» перебрались накануне ночью. Пробирались на восток лесами, стараясь переходить шоссе в темное время суток, добывали продукты в селах по ходу следования, а в день проходили не меньше двадцати километров. Держались все, включая Полину. Девушка не роптала, шла наравне с мужчинами, но, как заметил Дробот, по возможности старалась держать дистанцию между собой и командиром. Если Родимцев и обратил на это внимание, то не подал виду. Хотя вряд ли Игорь Ильич фиксировал подобные пустяки. Перед ним стояла другая задача – добраться до своих и выйти на связь с Москвой.
Жила слабая надежда, что по пути они наткнутся на партизан, у которых окажется радиопередатчик. Этого не случилось, и Родимцев окончательно похоронил такую возможность после того, как Павел Шалыгин выяснил при случае у местных жителей: каратели за последние дни провели массовую зачистку по лесам, фактически выкурив, вытеснив лесные отряды с территорий, прилегающих к линии фронта. Странно, однако, как понял Дробот из разговоров, это обстоятельство неожиданно успокоило командира. Ведь выходит, он и его отряд попали, что ни говори, под масштабную вражескую операцию. И в ловушку загнали не их одних. Почему такое понимание принесло Родимцеву некоторое облегчение, Роман так и не уяснил. Тем более на отношении командира к нему лично это никак не сказалось.
Дробот по-прежнему шел без оружия. Сперва командир распорядился не выставлять его ночью в караул, как и Полину: дескать, из бойца, подозреваемого в предательстве и пособничестве врагу, плохой получится часовой. Только тут взбунтовались остальные. Когда радистка пыталась отстоять право находится в карауле наравне с остальными, ее слушали мало, и, скорее всего, возможность нормально высыпаться помогла девушке каждый день держать равный с мужиками темп. Но факт, что здоровый мужчина может спать, в то время как остальные, измученные маршем не меньше, должны к тому же дежурить по очереди, отряд с командиром не примирил. В результате Родимцев сдался, однако жизнь этим партизанам не облегчил. Теперь всякий раз во время очереди Дробота заступать на пост вместе с ним обязан был стоять кто-то из бойцов. Который должен еще и приглядывать за Романом.
Попытки отговорить командира от излишних мер предосторожности ни к чему не привели. И это дало неожиданный результат: почти все партизаны стали относиться к Дроботу если не с сочувствием, то хотя бы с пониманием: вот ведь, дескать, влип парень. Конечно же, Роман и не думал пытаться бежать, вполне отчетливо представляя свое будущее, если им таки удастся перейти фронт и оказаться у своих. Другие партизаны также не обольщались насчет его будущего, однако законы военного времени никто не отменял. А ведь именно они велели разобраться с Романом Дроботом, и как можно тщательнее. Если отряд особого назначения так просто попадает в ловушку и если часть ложных сведений, которые помогли уничтожить отряд, пришли к командиру через случайного человека, здесь нужна серьезная основательная проверка. Ничего, уверенно сказал как-то Шалыгин, разберутся, подержат да отпустят. Коли повезет, медаль дадут или благодарность объявят.
Вообще на марше партизаны разговаривали мало. Только тот же Шалыгин, оставаясь командиром разведчиков, время от времени расспрашивал о подробностях одиссеи Дробота, видимо пытаясь понять случившееся для себя и решить, имеет ли то, что случилось с Романом, хоть какое-то отношение к разгрому отряда. Дробот, уже дававший подробные показания, вновь рассказывал о своем пленении, расстрелах в лесу, плане Кондакова, предательстве Дерябина. Однако и тогда, когда его допрашивали в отряде, и тем более – сейчас Роман сознательно умолчал о том, при каких обстоятельствах познакомился с офицером НКВД, предателем. Обмолвился, что тот попал в окружение вместе с ним и другими, уцелевшими после налета, а как и почему сам оказался на той трассе, вообще опустил. Не имеет значения, какой приказ отправил бойца на фронте из пункта А в пункт Б…
Несколько раз Дробот замечал, как Шалыгин пытался переговорить с командиром, при этом недвусмысленно кивая в его сторону. Однако Родимцев, судя по всему, уже принял в отношении Романа решение, от которого с завидным упорством не собирался отступать. Именно поэтому первое, что сделал командир, оказавшись в тылу, – посадил Дробота под арест.
До особого распоряжения.
Кто должен отдать такое распоряжение, Роман представлял смутно. А Родимцев, по понятным причинам, ему не докладывал. Все вообще происходило слишком уж быстро, чтобы Дробот успевал следить за событиями.
Вот они пробираются в прифронтовую зону, здесь пока тихо, затишье по всему фронту. Вот где-то неподалеку, с нашей стороны, вдруг начинают бить зенитки, и командир, мгновенно реагируя на ситуацию, приказывает переходить фронт – кто-то отвлекает внимание, знатно подгадали, как знали. Вот они ползут, вжимаясь в землю, вот по очереди скатываются в первую же траншею. Дальше – неразбериха: бойцы в блиндаже под охраной, Родимцев где-то кому-то что-то докладывает. Наконец, под утро охрану снимают, гвардейцы кормят всех, и новый приказ: капитан Родимцев и его люди отправляются подальше от переднего края, в какой-то поселок Хомутовка. Где их поставят на довольствие и где, как понял Дробот, вчерашним партизанам нужно ждать дальнейших указаний…
– Проходи, мил человек, гостем будешь.
Окликнули из дальнего, самого темного угла. Параша стояла в противоположном, ближе к окну.
Как успел заметить Роман, он в этой камере был четвертым. Двое остальных, которые на появление нового человека не отреагировали никак, держались отдельно, расположились у стены ближе к свету, стараясь при этом держаться подальше от вонючего ведра. Но, видимо, им проще было терпеть запах нечистот, чем своего сокамерника.
Из чего Дробот сразу сделал первый вывод: арестанты и тут, в замкнутом пространстве, разделились на две условные группы. К которой из них примкнуть, Дробот пока не знал. Скорее всего, тоже придется держаться отдельно. Роман подозревал: причины ареста каждого из них кардинально отличаются от той, по которой он сам оказался за решеткой.
– Здравствуйте, – ответил сдержанно и, немного подумав, обосновался на полу у стены, противоположной окну. Так он мог наблюдать за всеми тремя.
Напротив него расположился высокий небритый мужчина с копной каштановых волос и в серой шинели без пуговиц. Рядом, хотя и не вплотную, устроился коротко стриженный востроносый парень, брюки заправлены в сапоги, свитер и ватник, брошенный под зад вместо тюфяка. Того, кто засел в углу, Дробот по-прежнему не мог разглядеть толком, лишь по густому голосу сделал вывод: тип с таким баритоном должен оказаться благообразным и упитанным.
– Какими судьбами? – снова спросили из угла.
– А вы там не прокурор часом? – поинтересовался Роман. – Слишком много вопросов.
– Почему много? Я только вот первый раз спросил. Должны же мы познакомиться, раз уже вот тут все вместе…
– Ничего я никому не должен, – отрезал Дробот.
– Зря, – подал голос небритый, усаживаясь поудобнее.
– Что зря?
– Мы тут, уважаемый, все в одной упряжке. Судить нас будут одинаково. Только меня наверняка расстреляют. Вот его, – кивок в угол, – могут, пожалуй, выпустить. Отшлепают, попугают – и отпустят. Хотя по законам военного времени спекуляция – преступление серьезное.
– Не слушай ты его, – тут же ответил тот, кого назвали спекулянтом, и Роман понял: спор этот тянется здесь давно и конца ему, вероятно, не будет. – Я здесь сидел еще при немцах! Меня, слава тебе господи, забыли выпустить. Представляешь, товарищ, – забыли! Так драпали, сволочуги! Я даже не в гестапо сидел, меня в полицию забрали и там держали! Тех-то, кто сидел в гестапо, расстреляли обязательно. А меня вон в погребе законопатили, при управе! Наши быстро наступили, как говорится, быстрота и натиск!
– Чего ж тебя, жертву, сюда посадили снова?
– Не разобрались! Меня ж выпустили, а потом через неделю опять… Донес кто-то в комендатуру, что я сотрудничал… ну, сам понимаешь…
– Спекулянт он, – вновь откликнулся небритый. – Взяли его, потому как делиться не хотел с полицией. Для острастки прихватили и для рапорта, конечно.
– Я семью красного командира от голода спас! – огрызнулся спекулянт. – Не будь меня, загнулись бы уже!
– Ага, подкормил гражданку и склонил при этом к сожительству! – парировал небритый. – Не слушай его, парень, баба сама же на него в комендатуру и заявила!
– Да, непросто у вас тут все, – согласился Дробот. – Ты-то откуда знаешь?
– Так он же, шкура продажная, в полиции служил! – как-то слишком уж радостно пояснил спекулянт. – У меня бронь была, понимаешь? А до войны я, значит, по снабжению. Это дело ведь что при советах нужно налаживать, что при немцах, так же, вот скажи, так?
– Не знаю, – честно признался Роман.
– Так вот меня слушай! Крутился-вертелся, что колобок…
– Сорока ты, Уваров, а не колобок! – вставил полицай. – Сорока-белобока! Этому дала, этому дала, этому дала…
– А этому – не дала! – Из своего угла спекулянт Уваров ткнул в сторону полицая вытянутым указательным пальцем. – Вот вы, сволочи продажные, прихвостни немецкие, на меня дело-то и состряпали! Ничего, вот только дай срок: уж я про тебя, Чумаков, ро́ман напишу! Такой, что каждое предложение – подрасстрельная статья!
– Так меня, мандавошка ты поганая, только один раз расстрелять можно! – Дроботу показалось, что полицай Чумаков даже немного гордится этим: – Сколько ни пиши, сучонок, больше раза не убьют. Только ты ж знаешь, радости такой тебе я не дам, – теперь он говорил, обращаясь к Роману: – Ничего у него не выйдет. Я ведь сам сдался, товарищ… тьфу… в общем, как там тебя…
– Дробот, – машинально ответил тот, зачем-то добавил: – рядовой, – и уж совсем не в тему прибавил: – Рома.
– Значит, знакомы будем, – кивнул полицай. – Так вот, Рома, я ведь сперва с остальными рванул. Никто ж не думал, что советы… ну… наши… а, ладно! Никто ж не знал, что вернутся. После Сталинграда, конечно, продвинулись вперед, немец замандражил, и все равно, не прикинули мы здесь, что так быстро все. Курск вон в феврале взяли, а сюда, в Хомутовку, недели две как вошли. Прорвались, я так понимаю, тактический маневр, что-то в этом роде…
– Военный?
– Воевал, – ухмыльнулся Чумаков. – Не сейчас, в финскую. У меня ведь, у нас… ну, у бати, значит, в деревне, тут недалеко, хозяйство было. Сперва единоличником, потом с колхозом стал тянуть. Раскулачили, в Сибирь. Сестра в город с уполномоченным сбежала, брат куда-то завербовался, туда же, в Сибирь, только города им строить… Я в армию, как срок пришел. Кое-что про войну знаю. Демобилизовался, считай, сразу после финской, живу себе тут тихонько. Когда опять война, твою мать…
– И что? – История Чумакова начала живо интересовать Романа.
– Ниче! – огрызнулся тот. – Поначалу броня, от МТС. После сняли, солдат не хватает. Не ждал, пока забреют, собрался да и мотнул в лес. Думал, отсижусь, потом подамся в деревню, к родне, там спрячут. Немцы пришли, вернулся… Так вот…
– Значит, сдался сам? – переспросил Дробот не столько потому, что ему действительно была интересна история своего сокамерника, сколько для поддержания разговора: сидеть в полумраке и молчать, терзая себя глупыми мыслями, считал в сложившейся ситуации не слишком нормальным для себя.
– Ага. Надоело по лесам сидеть. Долго бы просидел, как думаешь?
– Не знаю…
– О, вот и я так же… Надоело все до чертей собачьих! Пускай судят. Власть надолго поменялась, как я полагаю. Сколько кору грызть, год, два, десять? Нет, брат, шалишь: шлепнут – так шлепнут. Нет – отсижу сколько надо и выйду. Крови на мне не больше, чем на других. Не вешал, не расстреливал, а вот рядышком – да, стоял. На облавы ходил, на обыски, конвоировал арестованных. Отвечу, скорей бы только, утомился…
Видно, Чумаков говорил об этом не раз и не два. Роману показалось, что новый сосед и, соответственно, новый слушатель – только повод очередной раз высказать такие вот мысли вслух. Он понимал: вчерашнему полицаю молчать было даже тягостнее, чем ему, то ли дезертиру, то ли провокатору, то ли недавнему партизану.
– Давно тут?
– Пятые сутки. Мы, считай, друг за дружкой сюда попали. И все знакомцы.
– Во-во, про дружка своего еще расскажи, человек не знает! – снова вмешался из своего угла спекулянт Уваров.
– Слышь, олень сохатый, глохнул бы, в натуре! – подал, наконец, голос третий сокамерник. – В дерьме утоплю, сука! Давно нарываешься!
И в голосе прозвучала неприкрытая угроза: так шипит ядовитая змея, когда хочет атаковать. Вообще-то Дробот никогда не видел ядовитых змей, разве гадюк в лесу, и то очень редко, к тому же они всегда уползали, не желая встречаться с человеком. Но в детстве читал сказки Киплинга. И, будучи парнишкой с развитым воображением, очень хорошо представлял, как готовятся к нападению злобные кобры Наг и Нагайна, лютые враги отважного мангуста Рикки-Тикки-Тави. Востроносый, не участвовавший в беседе все это время, чем-то напомнил Роману смертельно опасную рептилию.
– Из блатных? – спросил он.
– Т’е какая печаль? – Цыкнув щербатым зубом, парень сплюнул тонкую цевку слюны рядом с собой на земляной пол.
– Вместе вроде сидим…
– Вот вроде и сиди, – в тон ему ответил востроносый. – А ты, чушка, станешь без дела гундосить – точно утоплю, и ничего мне не будет, по’эл?
– Кончай, Ворон, – устало проговорил Чумаков. – Вишь, он тихо сидел. Затюкал ты барыгу-то совсем, пока вот человек новый не появился. Осмелел, думает, товарища надыбал.
– Я сам по себе, – быстро пояснил Роман. – Как вы тут сидите, чего с кем делите, мне печали нет.
– И все равно расскажи, за че попал, – назидательно проговорил тот, кого назвали Вороном. – Люди тебе тут, как попу на исповеди.
– До выяснения, – уклончиво ответил Дробот.
Странно. Похоже, такой ответ Ворона удовлетворил.
– Солдатик, я так посмотрю. Накосячил чего в войсках?
– Вроде того, – согласился с его выводом Роман.
– Ясно. Чтобы ты понимал, солдатик: мы вот тут, – востроносый обвел рукой помещение, – чалимся все вместе вообще случайно. Таких не положено вместе держать. Только других мест нет, крытую разбомбили, прямой наводкой. Сидел бы там вот этот олень – амба, – он кивнул в сторону Уварова.
– Точно, – подтвердил Чумаков. – Советский артиллерист удружил. Была в поселке тюрьма. До войны милиция пользовала, потом ее под гестаповскую приспособили. Старое здание, не сейчас строили, до революции еще арестный дом был. Так что товарищам негде содержать арестованных в поселке, кроме как здесь.
– И что, за это время с вами так ничего не решили?
– Некому решать толком, – охотно пояснил знающий Ворон. – Говорю, недели две как советские в Хомутовке. Власти толком нету, комендант уже два раза поменялся. До нас просто руки не дошли. Так, дергают когда в комендатуру, чего-то спросят, абы спросить, и назад. Кормят, и то ладушки.
– Интересно, – Дробот устроился поудобнее. – Вот вы все время «советский, советский». Сами-то вы какие будете?
– С Чумой ясно все, – хохотнул Ворон. – Насчет барыги суд пускай решает, если он уже есть где-то, этот суд. А касаемо меня, так я сам по себе. Ни советский, ни немецкий. Русский, курский, если так говорить.
– Из Курска сам?
– Вообще из Орла. А в Курске долго чалился, вот как в последний раз вышел перед войной. Вор я, так тебе понятно? Ни под кем не бегал бобиком, ни под коммунистами, ни под немцами.
– Как так?
– А так. Уметь надо. Станешь прокурором – расскажу. Пока извиняй, – Ворон развел руками.
Спина с непривычки немного затекла. Выпрямившись, Дробот прошелся по превращенному в тюремную камеру подвалу, приблизился к стене с зарешеченным окном, привстал на цыпочки. Н-да, метра два до него, не больше. Похоже, выходит не во двор здания, а на поселковую улицу: снаружи отчетливо доносились голоса, то и дело сновали туда-сюда машины, кто-то периодически отдавал приказы и крыл кого-то беззлобным матом.
– Чего, на волю потянуло? – хохотнул Ворон. – Вылезти захотелось?
– Да нет… Так просто…
Дроботу самому трудно было объяснить, почему человек, оказавшись в мрачном полуподвале, без надежды скоро выйти отсюда, все равно тянется к единственному источнику солнечного света. Вместо ответа прошелся по кругу, сделал на ходу несколько гимнастических упражнений и снова вернулся на свое место.
Спекулянт. Полицай. Вор.
И он, боец Красной Армии, сбежавший пленный, военный преступник.
Да, среди всей этой компании он, окажись на месте представителя компетентных органов, сам не знал бы, что делать с неким Дроботом Романом.
Зато ответ на один вопрос у него точно имелся. Что ему делать в ожидании, пока мудрые головы разберутся, – спать, пользуясь моментом, что же еще. Судя по всему, как минимум до следующего утра вспоминать ни о нем, ни о его сокамерниках будет просто некому.
– Давай за победу, капитан!
Чокнувшись алюминиевыми кружками, офицеры выпили спирт. Родимцев тут же торопливо запил обжигающую жидкость, от которой успел отвыкнуть в лесу, двумя большими глотками воды из примятого с одного боку котелка. Капитан-гвардеец с красивой фамилией Оболенский закусил огромным, собственноручно состроенным бутербродом – чуть не половина банки тушенки на толстом куске хлеба. Крепкие белые зубы этого великана вкусно впились в хлеб, охватив если не половину, то добрую четверть.
Капитан Оболенский, у которого Игорь, выполняя приказ руководства, оперативно принял дела, долго мял его в своих медвежьих объятиях, узнав о том, что может, наконец, сняться с поселка и двинуться с ротой в сторону передовой. Родимцеву даже показалось, что этот сибирский богатырь, будто впрямь сошедший с тщательно прорисованных агитационных плакатов, на которых могучий советский воин насаживает на острие огромного штыка немцев, похожих на мелких серых тараканов, готов расцеловать его. Но в последний момент будто удержался, зато помял еще немного и с шумом помчался отдавать приказы по своей гвардейской мотострелковой роте. Отметить приказ Оболенский решил вечером и выполнил задуманное: не вошел, не ввалился – ворвался в комендатуру, где Родимцев уже понемногу обживался, и тот всерьез побаивался, что огромный, пышущий неудержимой энергией сибирский мужик развалит ему здание. А ведь оно оказалось одним из немногих, уцелевших после недавнего стремительного наступления.
Вообще-то, как пояснил ему Оболенский, сколько-нибудь стратегического значения поселок Хомутовка не имел. Расположился чуть в стороне от главного направления движения основных частей, и немцы не слишком в него вцепились. Отбить Хомутовку, по словам капитана, было важно хотя бы для того, чтобы еще немного отодвинуть линию фронта и тем самым дать понять – именно здесь, на этом участке, вскоре ожидаются важные подвижки. Возможно, предположил гвардеец, немцы потому и отдали поселок без особых усилий – подпустили поближе, дали возможность противнику начать, как они полагали, предсказуемые действия.
Конечно же, всех стратегических замыслов Ставки гвардеец не знал, да и не задумывался особо. Ему важнее было постоянно находиться при деле, на самом передке, потому исполнение обязанностей коменданта какого-то населенного пункта Хомутовка капитана Оболенского заметно тяготило. Тем более что сам он всего неделю как принял поселок у такого же, как он говорил, бедолаги. Предшественника перебросили на другой участок, рота же Оболенского, по его кудрявому выражению, увязла в провинции.
…Только сейчас, когда они пили спирт и капитан потчевал нового товарища фронтовыми байками, партизанский командир, наконец, в полной мере осознал правоту слов гвардейца. Еще днем, получив из штаба неожиданный для себя приказ оставаться со своими людьми в Хомутовке до особого распоряжения, исполняя обязанности коменданта, Игорь отнесся к этому спокойно. Теперь же, когда Оболенский обрисовал ему ситуацию вокруг поселка, стало окончательно ясно – это лишь начало его, капитана Родимцева, конца.
Когда отряд, точнее – его остатки прибыли в Хомутовку и командир, верный собственному приказу, отправил Романа Дробота под арест, он получил доступ к рации и связался с УШПД в Москве, давая о себе знать. Полученный ответ не удивил Родимцева: в штабе вполне обоснованно считали, что отряд «Смерть врагу!» полностью уничтожен еще четырнадцатого апреля и выход на связь воспринялся буквально как воскрешение из мертвых. Подготовив Полине короткий отчет и указав в нем на необходимость расследования всего, что произошло, Игорь упомянул о бойце Дроботе, которого считает целесообразным допросить в связи с провалом отряда.
Ответ пришел незамедлительно. Из него Родимцев узнал о провале подпольной сети в Ахтырке, в том числе – о гибели Татьяны Зиминой и всех, кто ушел с ней на задание. Время совпало со временем разгрома отряда «Строгова», что давало все основания сделать вывод: все это время партизаны и подполье, а через них УШПД и главное – четвертое управление НКВД получали дезинформацию. Не вполне пока понимая, почему товарищ Строгов настаивает на вине некоего бойца Дробота, штаб запросил его данные для проверки.
На этот раз ответа пришлось ожидать дольше. Но когда Полина приняла радиограмму, Родимцев увидел, как мгновенно изменилось ее лицо – оно враз стало серым, будто девушка узнала о гибели всех своих близких и поняла, что осталась в этом мире совсем одна. Да и то – ненадолго. У самого же Игоря Ильича полученная новость вызвала неожиданное удовлетворение, даже в какой-то мере – злорадство. Выходит, его смутные, ничем не подкрепленные подозрения насчет Дробота все же имели под собою основания.
Согласно полученным данным, гвардии рядовой Дробот Роман Михайлович пропал без вести в конце марта, без какой-то мелочи месяц назад. Обстоятельства его исчезновения теперь, когда он вновь появился, более чем подозрительные: Дробота направили в Особый отдел Воронежского фронта по распоряжению начальника особого отдела батальона, его обвиняли в антисоветской агитации и пропаганде, преступлении, особенно по законам военного времени, достаточно серьезном. Сопровождал преступника старший лейтенант НКВД Николай Дерябин, тот самый, которого сбежавший – теперь, похоже, якобы сбежавший из плена, – рядовой Дробот не раз называл изменником Родины. О нем нет никаких известий, Дерябина тоже записали в пропавшие без вести.
Однако, признавая целесообразность таки доставить Дробота в особый отдел фронта, а оттуда – в Москву, где с ним продолжит работу «четверка», руководство не отдало на этот счет никаких специальных распоряжений. Из чего Родимцев сделал вывод: отправить Дробота в Особый отдел фронта – его забота и его головная боль. Игорь также надеялся, что его захочет видеть Строкач, даже засобирался, но вместо этого поступил совершенно неожиданный приказ. И принял его не партизанский командир, а исполняющий обязанности коменданта поселка капитан Оболенский: передать дела капитану Родимцеву.
Так Игорь принял Хомутовку.
Поселок, хоть и расположенный чуть меньше чем в ста километрах от линии фронта, с учетом изгиба этой линии находящийся, по сути, в глубоком тылу. Где ничего не происходило и, судя по всему, вряд ли что-то произойдет в ближайшее время.
Если меня оставили здесь, решил капитан Родимцев, значит, оглушительный провал отряда вместе со всей подпольной сетью штабом не забыт. И он как командир, будучи не в силах реабилитироваться как в своих глазах, так и перед руководством, уже оказался не у дел.
Исполняющий обязанности коменданта до особого распоряжения.
…Конечно же, своими мыслями Родимцев не поделился с громогласным и жизнерадостным гвардии капитаном Оболенским, рвавшимся на передовую и считавшим свое нахождение здесь, в Хомутовке, досадным недоразумением. До него здесь командовал какой-то майор, чья рота вошла в поселок. При нем успели быстро отловить и расстрелять вражеских пособников, кого – без суда и следствия, по законам военного времени, а кого – отправив в особый отдел для дальнейшего разбирательства. Когда же Оболенскому пришлось принимать какие-то решения как по поводу полицая, явившегося с повинной, так и по поводу жуликов, на которых люди принесли заявления, гвардеец честно не знал, что делать.
Расстрелять вроде не за что. Но и так оставить, держа под замком, заботясь об охране и хотя бы двухразовой кормежке, было выше его понимания. Теперь же, как радостно сообщил капитан, арестованные в подвале бывшей барской усадьбы, ни на что большее пока не пригодной, – его, Родимцева, головная боль. Тем более что Игорь туда еще одного, своего типа законопатил.
– Да, слыхал, ночью вчера диверсантов сняли? – спросил Оболенский, наливая по новой, теперь уже щедрее.
– Нет. Далеко отсюда?
– Отсюда – далече, – кивнул гвардеец. – Как раз там, где ты со своими фронт переходил, только чуть в стороне.
– А, была какая-то заваруха, – вспомнил Игорь. – Я даже тогда не знал, кому спасибо сказать. На себя отвлекли, немцы влупили в ответ, мы и перебрались. Так диверсанты, говоришь?
– Ну. Подробностей сам не знаю, сводка пришла. Чтобы поглядывали, хотя куда тут поглядывать… Чего ловить в Хомутовке диверсантам? Железка – вон, шестьдесят километров отсюда. Склады горючего разве, так запасы тут не стратегические. Взвод для охраны тебе оставляю, кстати, но склады ты ж видел, где, – гвардеец махнул огромной рукой куда-то себе за спину. – Сам все осмотришь, короче говоря, хозяйство теперь твое. Будем, за победу!
Они снова выпили, и Родимцеву уже не хотелось погасить колодезной водой обожженное спиртом горло. Ударило в голову, немного повело, и, понимая, что нельзя давать себе расслабиться, Игорь при этом отдавал себе отчет: даже если он это и допустит, все равно вокруг него в ближайшее время ничего больше не произойдет. Что говорить, когда освобождение Хомутовки имело характер не столько важной военной операции, сколько случилось в результате боя местного значения.
– Так что диверсанты?
– Какие? Ага! – Прожевав свой хлеб с тушенкой, Оболенский отер губы тыльной стороной ладони, принялся свертывать самокрутку. – Там не пойми как было, говорят. Их то ли ветром отнесло, то ли фрицы с местом высадки не угадали, а скорее всего – все вместе взятое плюс бардак. У фрицев, капитан, бардак сейчас. Или нет?
– Не сказал бы, – коротко ответил Родимцев, в который раз припомнив случившееся с его отрядом: когда неразбериха, такие ловушки не ставят.
– Тебе видней, партизан, – пожал мощными плечами Оболенский. – Не знаю, как там и что, а только человек десять парашютистов упали с неба в лесок аккурат рядом с передним краем. Еще парашюты свои не сняли, а их уже прищучили, – закончив с папиросой, капитан закурил и закашлялся, сделав чересчур поспешную затяжку. – Там не с кем было воевать. Кого не положили на месте, те сразу хенде хох. Наши оказались.
– Почему наши?
– Ну, русские… Советские, словом… Не наши уже, ясно дело. Которые сдались, понял… Чего я объясняю…
– Понял, – кивнул Родимцев, снова не к месту вспомнив о Дроботе.
– Сейчас, говорят, этих диверсантов фрицы будут слать в наш тыл пачками.
– Прямо пачками…
– Я так, к слову, – согласился капитан. – Им, говорят, теперь главное – количество. Знаешь, как вшей запустить: ты их видишь, знаешь, где бегают, ловишь и душишь, а все одно чешешься, покоя нету. С диверсантами тоже так. Нет-нет да проскочит кто. Потому велено поглядывать даже тут.
– Поглядим, – вновь кивнул Игорь, тоже принялся сворачивать себе папиросу, а Оболенский, скурив свою до основания в три затяжки, опять взял флягу, встряхнул, определяя на слух оставшееся содержимое, довольно ухмыльнулся и налил по третьей.
Разговор с Полиной не получился.
Когда гвардеец ушел, Родимцев, понимая, что достаточно пьян, все равно отправился к дому, где расквартировали связистов. Там, среди девушек, устроилась и Полина и с того времени вела себя так, будто их с командиром, точнее – новым комендантом, ничего не связывало. И если во время перехода по вражеским тылам, в лесу девушка не могла избегать командира, то здесь, в своем тылу, Полине как-то слишком быстро это удалось.
Когда он постучал в окно и слишком громко окликнул ее с улицы, Поля вышла на крыльцо, уже в нижней юбке, хотя еще в теплой кофте, которую носила вместо гимнастерки. Босые ноги сунула в сапоги. Стояла вот так, переминаясь с ноги на ногу, всем своим видом показывая, как неуютно и неудобно. Хоть уже опустилась ночь, Игорь, давно привыкший к темноте, заметил, как поморщилась девушка, уловив исходящий от него тяжелый перегарный дух. Раньше ведь ничего, не кривилась, подумал Родимцев, сам не понимая, злит его это, раздражает или, наоборот, радует, что Полина остается женщиной и на войне, когда вокруг грязь, боль, кровь и вонь гноящихся ран.
– Что? – спросила она.
– Поговорить надо, – выдохнул Игорь.
Полина снова скривилась, помахала перед собой кистью правой руки, разгоняя спиртовые выхлопы.
– Если ничего срочного, можно завтра, Игорь Ильич? Мне нужно отдохнуть, девочкам тоже. Они снимаются завтра.
– Так официально… Игорь Ильич… По званию еще обратись…
– Можно мне отдохнуть, товарищ капитан?
– Что с тобой? – Родимцев подошел совсем близко, попытался притянуть девушку к себе, но та быстро выставила перед собой руки, слегка оттолкнув его.
– Не надо, товарищ капитан.
– Чего не надо? Почему не надо? Что происходит, Поля?
– С кем?
– С тобой, черт побери!
Теперь Родимцев легко сломил ее сопротивление, крепко сжал руками плечи, встряхнул.
– Это из-за него, да?
– Из-за кого?
– Полина, не делай из меня идиота. Я еще тогда, в лесу, заметил…
– Вы пьяный, товарищ капитан.
– Да, я пьяный. Зато ты трезвая, мыслишь, значит, трезво. Давно все обдумала. Так поговорим?
– Уже разговариваем. Вы… Ты пьяный, Игорь… Ильич…
– Что с того? Завтра я просплюсь, а что с тобой? Все останется, как раньше?
– А как раньше, Игорь? – Девушка перешла на громкий шепот. – Как было раньше?
– Хорошо, – Родимцев отпустил ее, чуть отступил назад, чтобы не глядеть сверху вниз. – Ладно. Ты такая из-за Дробота.
– Какая – такая?
– Прекрасно знаешь, о чем мы сейчас говорим, Поля. Очень хорошо понимаешь. Даже после того, как прочитала сегодня радиограмму, отдаешь себе в этом отчет. Думаешь, он тебя вроде как спас, и ты должна…
– Ничего я ему не должна, – отчеканила Полина. – Я никому ничего не должна. Случилось то, что случилось. Погибли люди, много, их убивали на глазах у тебя, у меня. И у него… У Дробота… Если бы он оказался тем, кем его считаешь ты и кем его видят в штабе или где там еще, он бы не шел со мной ночью через лес. Не прятался бы в болоте. Я много чего не понимаю, кроме того, чему опыт научил.
– Опыт?
– Я в отряде не два дня была с вами. Кое-что слышу, что-то знаю, даже могу разобраться в каких-то простых вещах.
– И в чем разобралась?
– Роман… Дробот не надеялся встретить больше никого из отряда. Я чувствовала это. Держался бодро, уверенно, собирался вывести меня к базе. Дальше – ничего. У него не было никого плана. Может, мы тоже двинули бы к фронту. Может, спрятались где-то в селе, так многие делают. Ждали бы… неизвестно чего…
– К чему ты это сказала сейчас?
– Не понимаешь, – вздохнула девушка. – Будь он провокатором, привел бы меня к немцам, сдал бы первому патрулю. Хоть полицаям, мы чуть не нарвались на них в лесу, ты знаешь.
– Я готов был рассуждать как ты, – проговорил Родимцев. – Готов бы, да. Только проверить подозрения нужно. Когда ликвидируют отряд вроде нашего, когда мы сами гоним в центр дезу, когда дезу приносит, среди прочих, такой вот Роман Дробот… Дело серьезное, Полина. Разбираться надо. Тем более что открылись обстоятельства… Знаешь сама какие.
– Совпадения, случайностей ты не допускаешь?
– Всяко бывает, Поля. И я не следователь. Твой Дробот…
– Он не мой!
– …Этот Дробот обвиняет в измене офицера государственной безопасности. За такие слова нужно отвечать, и это должна понимать не только ты, человек военный. В нашей стране за подобные обвинения обязан ответить каждый. Вот почему Дробота со всем его букетом вопросов надо отправить… Куда положено в таких случаях, в общем… Я понятно объяснил?
Полина молча кивнула.
– Вот и ладно. А теперь…
– Теперь – спокойной ночи, товарищ капитан! – отрезала она, легонько хлопнув его по протянутой руке. – Я тоже понятно объяснила?
Постояв немного перед захлопнувшейся перед носом дверью и взглянув на прохаживающегося неподалеку часового, Родимцев закусил губу, повернулся и отправился к себе в комендатуру.
Разместилась она в бывшем здании поселкового совета, которое немцы использовали также под комендатуру, хотя и полицейскую. Добротное кирпичное сооружение, чудом не пострадавшее за два военных года, стояло в сотне метров от барской усадьбы, стену которой разворотило с одной стороны каким-то взрывом, а оконные проемы зияли чернотой. По приказу прошлого коменданта люди уже приводили разгромленную усадьбу в порядок, и приспособить уцелевший барский подвал под тюрьму пришло в голову именно Оболенскому. Сейчас там тоже маячил караульный, и Родимцеву вдруг захотелось своей властью прямо сейчас, немедленно, приказать вывести из подвала всех его обитателей, зачитать приговор, как он часто это делал, приговаривая немецких пособников, и отдать соответствующий приказ.
Вот так Роман Дробот если не получит сполна то, что, скорее всего, заслужил, так уж наверняка уйдет из его жизни.
А война все спишет.
Не такое списывали, уж в этом Игорь Родимцев успел убедиться лично и не раз.
Он сам не знал, почему остановился. Еще крепче стиснув зубы, повернулся, чуть не строевым шагом вошел в комендатуру, устроился на топчане в углу кабинета, накрылся шинелью и, к своему удивлению, быстро заснул – груз напряженных недель наконец-то удалось сбросить…
Разбудил его громкий пронзительный звук за окном.
Еще не до конца понимая, что происходит, Родимцев машинально подхватил с пола автомат, рванулся к окну, и тут же до него дошло: уже утро, он на удивление выспался, в голове шум, но это пройдет. И только из-за того, что под черепной коробкой все еще дают о себе знать вчерашние демоны, его раздражает рев мотоцикла – обычное дело.
Надев портупею, одернув гимнастерку и выпив нагревшейся в оцинкованном ведре воды, Игорь вышел наружу. Увиденная картина поразила давно забытым ощущением воскресного мира – а ведь нынче же как раз воскресенье, вспомнил он. По широкой площадке перед комендатурой нарезал круги немецкий мотоцикл, за рулем которого сидел Павел Шалыгин с видом тореадора, укротившего строптивого быка. За ним бегали местные мальчишки, требуя покатать.
Заметив командира, Шалыгин сделал еще круг, затормозив у входа, с нарочитой сердитостью отогнав пацанов. Которые, как и следовало ожидать, не сильно-то напугались, отойдя в сторону, но не разбегаясь совсем. Перекинув ногу через седло, Павел с довольным видом похлопал мотоцикл по темному корпусу.
– О, трофей! Глянь, Ильич, забегал!
– Ты ночью, что ли, с ним валандался? – Родимцев не сдержал зевок.
– Кто рано встает, Ильич! Там всего-то работы было…
Мотоцикл бросили немцы при отступлении, и бойцов хватило разве на то, чтобы откатить не желающего заводиться «коня» за ближайший сарай, чтобы не торчал на дороге. Как на грех, именно в том сарае расквартировалось несколько партизан под началом Шалыгина. Обнаружив мотоцикл, Паша загорелся, как ребенок в предчувствии новой игрушки, и заявил: заведется – заберет трофей себе. Никто особо не возражал, а Родимцеву, которого завертели более важные дела, вообще не было до мотоцикла никакого дела.
– Я гляжу, рота ушла. Времени сколько?
– Они чуть свет собрались, Ильич.
– Так точно. Капитан говорил.
– Мы, выходит, на хозяйстве, а, Ильич?
– Поглядим. Может, скоро другие приказы придут.
Сказав так, Родимцев признался мысленно сам себе – он не очень-то в это верит.
– Меня чего не разбудили?
– Так без тебя порядок, Ильич. Оболенский не велел.
– А ты послушал?
– И чего?
– Кто твой командир?
– Так ты, Ильич! – Разведчик расплылся в широкой улыбке. – Я сунулся было, а ты как храпишь… Когда еще тебе выпадет поспать.
– Да и то так. Ладно, пускай себе… У капитана того шило в жопе.
– Понять можно.
– Ну, понимай, понимай… А это у тебя чего?
Из мотоциклетной коляски торчал винтовочный приклад. Шалыгин ухмыльнулся.
– Тоже трофей, Ильич. Винтарь фрицевский, маузер. Снайперка, боевая. Капитан оставил.
– Оболенский? Кому, зачем?
– Вам, товарищ комендант. На память. Хочу, говорит, подарить партизану пленного немчуру.
Спустившись, Родимцев взял винтовку, щелкнул затвором, проверяя патрон в патроннике. Он успел пообщаться с гвардейцем меньше суток, но этого оказалось достаточно для того, чтобы понять: такие поступки и слова абсолютно в его духе.
– Пускай будет. Патронов к ней надо.
– А вот, коробка целая! – Шалыгин взял со дна коляски комплект «родных» патронов. – Все как положено, гвардия веников не вяжет.
Родимцев посмотрел перед собой, снова наткнулся взглядом на старую усадьбу и часового рядом. Всплыли со дна памяти вчерашние мысли. Игорь тряхнул головой.
– С тобой все в порядке, Ильич?
– Все путем, – успокоил его Родимцев. – Будем обживаться. Чайник есть, ты, как разведка, на зуб чего разведай. Я здесь буду, примем хозяйство, как положено. Ты заместитель коменданта, забыл разве?
– Есть, товарищ капитан!
– И это… Полину найди… Там надо сообщение готовить…
– Понял, Ильич. Сделаем. Чего ее искать, там же, где связисты сидели.
– Так сходи!
– Я скатаю!
Резким ударом ноги по педали заведя мотор, Павел оседлал мотоцикл и, пыля вокруг себя, погнал по поселку, преследуемый мальчишками.
Родимцев вернулся к себе, примостил винтовку в угол, рядом, на скамейку, положил патроны, пока еще толком не зная, как и когда пригодится ему этот гвардейский подарок. В рукомойнике оставалась вода, он умылся, рука коснулась давно не знавшего бритвы лица. Вот с чего надо начать – нагреть воду, привести себя в надлежащий вид, как устав требует. И сухой закон ввести, хотя бы на первое время.
Уже когда взял чайник, собираясь выйти по воду, услышал с улицы звук приближающейся машины. Вышел на крыльцо снова, как был, с чайником в руке, но вовремя увидел себя со стороны, выругался, поставил его на подоконник. Только затем направился наперерез полуторке, выехавшей на главную улицу поселка.
Та затормозила у комендатуры без приказа. Бойцы остались в кузове, из кабины выпрыгнул, поправляя на ходу пилотку, моложавый сапер. Погоны старшего лейтенанта Игорь рассмотрел со своего места, поправил фуражку и, вспомнив, что знаков отличия нет, бросил руку к козырьку. Громко сообщив при этом:
– Комендант поселка Хомутовка капитан Родимцев.
Старлей коротко представился, четко доложил, откуда и куда следуют. Родимцев снова бросил взгляд на часового возле усадьбы. Решение пришло мгновенно, он даже удивился и обрадовался такому стечению обстоятельств: вот словно кто читает его мысли.
– Я, конечно, коммунист и в Бога не верю, – проговорил он. – Только тебя мне точно сам Бог послал, старший лейтенант Пивоваров!
3 Поселок. Весна 1943 года. Дерябин
Ему все объяснил Отто Дитрих, когда группа уже оказалась на той стороне. Тон при этом оставался таким же самодовольным.
Ни Дерябин, ни другие курсанты даже не подозревали, что в одно время с ними по приказу Дитриха к заброске в советский тыл готовилась еще одна группа, численностью немного меньшая, чем их команда. Их мгновенный провал был запланирован. Фактически диверсантов послали на верную смерть, сигнал к выброске парашютисты получили, как только самолет пересек в указанном месте линию фронта и летчик, следуя указаниям, дал себя обнаружить. Для группы все происходящее должно было выглядеть так, словно самолет мастерски ушел от преследования и диверсанты десантировались в безопасном месте. В действительности они оказались рядом с передним краем противника, и, конечно же, были быстро обнаружены.
Тем самым оттянув внимание от группы, которую вел Дерябин. Они пересекли линию фронта в тот момент, когда парашютисты вступили в короткий и яростный бой с красноармейцами.
Видимо, участок для перехода выбирался долго, тщательно, с привлечением агентуры в тылу. Двенадцать человек перетекли на другую сторону быстрым весенним ручейком и сразу же углубились в лесополосу. После стремительного марш-броска сквозь ночь сделали короткий привал для того, чтобы снять и закопать маскхалаты. Дальше группа продолжила движение и к рассвету выбралась в нужный квадрат, где их должен был ждать заранее спрятанный грузовик.
И тут что-то не сработало. Грузовика в заранее обозначенном месте не оказалось.
Диверсанты прочесали лес старательно, и Дитрих даже допустил, что машину могли оставить не здесь, а где-нибудь неподалеку. Однако Дерябин возразил, и абверовцу пришлось согласиться с ним: скорее всего, с грузовиком не вышло. Либо поймали тех, кто должен был обеспечить транспорт, либо задание просто не удалось выполнить. Николай склонялся ко второму варианту ответа: если бы группу накрыли и взяли живьем хотя бы одного агента, его уже выпотрошили бы, методы работы советских органов госбезопасности он знал очень хорошо. В таком случае грузовик стоял бы в указанном квадрате, и диверсанты пришли бы в хорошо подготовленную засаду. Раз этого, к счастью, не произошло, стало быть, что-то помешало агентам в тылу выполнить задание.
Это задержало группу. Без грузовика операция «Фейерверк» просто не имела шансов для успешного завершения. Но просто так выйти на трассу, остановить первую попавшуюся машину и захватить ее тоже не значило решить проблему. Наоборот, это засветило бы диверсантов раньше времени, и посты на дорогах просто останавливали бы все грузовые машины подряд для проверки. С этими аргументами Отто Дитрих также вынужден был согласиться, и начало операции пришлось отодвинуть ровно настолько, сколько понадобится для решения, как выразился абверовец, транспортной проблемы.
К концу дня группе удалось завладеть полуторкой. Как на трассе оказался грузовик, в кабине которого сидели только водитель и какой-то полный майор, а в кузове вообще никого не оказалось, Дерябина в тот момент не интересовало. Захват произошел быстро, даже без его участия, обоих с явной охотой убил Кондаков. То, что это произошло ближе к вечеру, было на руку диверсантам: пропажи хватятся лишь к следующему утру, что давало им несколько часов форы. Пришлось сделать крюк: отклониться от основного маршрута, чтобы поиски машины не пошли в нежелательном для группы направлении. Трупы выбросили из кузова, отъехав километров на тридцать от места нападения. Запутав следы, уже под покровом темноты, передвигаясь большей частью по проселочным дорогам, полуторка вернулась на исходную.
Остаток ночи люди отдыхали, а поутру полуторка выбралась на основную трассу. Некоторое время шла, пристроившись к мотоколонне, двигавшейся параллельно линии фронта, затем Боровой, сидевший за рулем, сверился с картой, свернул с дороги и взял курс на обозначенный в форме своеобразного отростка поселок Хомутовку.
Ни Дерябину, сидевшему в кабине рядом с водителем, ни Дитриху, занявшему место в кузове рядом с остальными бойцами, об этом населенном пункте не было известно ничего. Что означало: со стратегической точки зрения он ничего собой не представлял, важных объектов там нет, войска вермахта оставили его без особого сожаления, а советские позиции Хомутовка тоже не укрепляла. Однако именно оттуда шел прямой путь к основным дорогам и другим стратегически важным тыловым объектам: шоссе, переправам, мостам. Значит, по иронии судьбы, операция «Фейерверк» стартует из этого малозначительного поселка.
Трясясь рядом с Боровым, сосредоточенно всматривающимся в дорогу, Николай невзначай сделал вывод, который напрашивался давно и с которым при первой же возможности решил ознакомить Дитриха. Ведь, получается, никакая хваленая немецкая расчетливость не способна уложиться в непредсказуемую логику реальной жизни. Ведь сработай план, как было задумано, окажись полуторка в нужное время в заранее указанном месте, им не пришлось бы корректировать план. Совсем не предусматривавший заезд в населенный пункт с типичным для здешних мест и оттого безликим названием – Хомутовка. Но сложилось иначе: по другому, не проезжая поселок, делая специальный крюк, диверсанты не смогли бы запутать свои следы.
Они въехали с юго-западной окраины, Боровой сразу же вырулил на основную, ведущую через центральную часть дорогу – другой здесь просто не было. Дерябин с удовлетворением отметил – военных здесь немного, только местная ребятня гоняет вдоль дороги да женщины копаются в своих огородах, налаживая хоть какую-то мирную жизнь – такой она и казалась здесь, в тылу. Николай рассчитывал проехать поселок насквозь, из конца в конец, не останавливаясь. Но когда въехали на центральную площадь, из какого-то здания, судя по всему, приспособленного под комендатуру, вышел офицер, жестом приказывая притормозить. Боровой вопросительно взглянул на Дерябина, и тот, угадав его мысли, покачал головой.
Надо остановиться. Документы у них в порядке, и их вряд ли задержат надолго.
– Комендант поселка Хомутовка капитан Родимцев.
Это услышал и сидящий в кузове Отто Дитрих.
– Слушай, старлей, выручай. Тебе, я так понял, по пути.
– Куда по пути? – не понял Дерябин, уловив наконец исходящий от коменданта запах перегара и поняв, что при любых обстоятельствах с мужиком в таком состоянии спорить бесполезно.
– Вы ж в сторону Конышевки, к железке, – сказал Родимцев, и в голосе его Николай уловил легкий упрек. – Там Особый отдел, доставишь туда арестованного. Я с ними свяжусь, нужные бумаги тебе напишу, человека дам в сопровождение, своего заместителя. Ты ни за что не отвечаешь, старлей. Тут ехать пару часов, твои в кузове как-то уж потеснятся.
– Так дело не в тесноте, товарищ капитан. У нас задание, сами знаете какое. По пути следования будем останавливаться, проверки там…
– Не свисти, Пивоваров, – глаза коменданта блеснули. – Говорю тебе, арестованный не сбежит. При попытке к бегству стреляйте на поражение. Но, говорю тебе, за все отвечает мой подчиненный. И я, выходит, вместе с ним. А дело важное, не терпит отлагательств. Если надо, я вот сейчас при тебе свяжусь с особистами, и ты получишь нужный приказ.
– Виноват, товарищ капитан, – Дерябин старался держаться как можно спокойнее, уже прекрасно поняв, во что они влипли. Он старался отвертеться, чтобы не связаться себе на беду с Особым отделом. – В таком случае Особому отделу придется связаться с нашим непосредственным начальством. Я могу выполнить приказ только моего командования. Прикажут – подчинюсь. Прошу понять меня верно.
Теперь Родимцев глянул на него с уважением.
– Молодца, Пивоваров. Правильно мыслишь. Только тебе хоть как придется обождать, пока я эту твою ситуацию не проясню.
– Вы что, задерживаете машину? Вы отдаете себе…
– Спокойно, старлей, – Николай отметил, что комендант с трудом сдерживается, чтобы снисходительно не потрепать его по плечу. – Я здесь комендантом меньше суток. Но у меня полномочий хватит, чтобы задержать вашу машину во вверенном мне поселке. К тому же, Пивоваров, я старше по званию, так что не напрягайся. В случае чего вали все на меня. Любой рапорт пиши, кому угодно. Как думаешь, тебя, сапера, похвалят за то, что отказался содействовать органам государственной безопасности?
Не удержавшись, Дерябин оглянулся на все еще сидящих в кузове бойцов. Зная, что их разговор слышен, в том числе Дитриху, он надеялся хотя бы на миг перехватить его взгляд, получить какой-то незаметный постороннему взгляду сигнал. Но они стояли так, что со своего места увидеть Отто не удалось, потому Николай решил сбавить обороты – так на его месте поступил бы любой, не только старший лейтенант инженерно-саперного батальона, когда дело касалось содействию органам НКВД.
– Зачем так сразу, товарищ капитан… Можно ведь договориться. У нас свое задание…
– Вот и выполняйте! – резко прервал Родимцев. – А заодно доставите арестованного по назначению. Глядишь, в приказе отметят, тут я уже попробую посодействовать, если очень надо.
Позади послышался рев мотора, и к комендатуре лихо подкатил мотоцикл. В коляске сидела коротко стриженная девушка в легком полупальто, накинутом поверх гимнастерки. Сидевший за рулем соскочил на землю, вытащил на ходу из-за ремня пилотку, представился:
– Старший лейтенант Шалыгин! – И тут же протянул Дерябину пятерню. – Паша!
– Дмитрий! – машинально ответил Дерябин, пожимая руку и вытащив из памяти имя Пивоварова, которое, к своему ужасу, он на мгновение забыл – или показалось, что запамятовал.
– Что тут, товарищ капитан? – Шалыгин повернулся к Родимцеву.
– Да вот решаем по нашему арестанту, – комендант кивнул в сторону старой усадьбы. – Собирайся, Паша, повезешь его в Особый отдел, в Конышевку. Саперам по пути, забросят вас. Доставишь?
– В лучшем виде, Ильич.
Поняв, что комендант считает вопрос фактически решенным, Дерябин принял единственное разумное при сложившейся ситуации решение: не обострять. Повернувшись к машине всем корпусом, он коротко приказал:
– Всем разойтись! Можно покурить и оправиться.
Бойцы, словно только этого и дожидаясь, дружно и слаженно попрыгали через борта. Боковым зрением Дерябин зафиксировал приближение Дитриха. Абверовец козырнул офицерам, но представляться не спешил, молча и с явным интересом наблюдая за неожиданным развитием событий. Затем перехватил взгляд, брошенный комендантом на девушку в мотоциклетной коляске, отметил, как она демонстративно глядит мимо, на вновь прибывших, и понял: тут наверняка кипят явно не военные страсти.
Тем временем Родимцев и Шалыгин поспешно удалились в помещение комендатуры, из чего Николай сделал вывод – форсировать события коменданту выгодно, наверняка это его личное дело, личный интерес. А это значит: никакие аргументы не подействуют, сейчас он таки свяжется с Особым отделом, и если до нужного места не доехать… Да, ситуация принимала нежелательный оборот.
Девушка выбралась из коляски, равнодушно кивнула на приветствие Дитриха, не сдержалась – потянулась, разминаясь, затем прошлась по двору, покосилась в сторону старой усадьбы. Дерябин стоял так, что со своего места мог замечать всякие жесты, ловить взгляды и трактовать увиденное. Научившись с детства понимать настроение людей по малейшим движениям, даже – по движениям глаз, от чего могла зависеть, в конечном счете, и его, Кольки, собственная судьба, сейчас он безошибочно определил: там, под арестом, кто-то, явно небезразличный худенькой девице. Прибавив сюда настойчивость коменданта, а также – взгляд, который она старательно игнорировала, Дерябин решил задачку.
Там, под замком, соперник коменданта. Пользуясь своим положением, Родимцев хочет поскорее избавиться от него. Даже если вина бедолаги не слишком значительна по военным меркам, в Особом отделе так не сочтут. Здесь Николай знал расклады очень хорошо: даже сейчас, выполняя первое задание как немецкий агент-диверсант, он готов был признать – каждый солдат и каждый офицер вполне заслуживает штрафного батальона. Фронтовая вольница, в которую окунулся в свое время старший лейтенант НКВД Дерябин, ему категорически не нравилась.
Ведь любая вольница есть угроза государственной безопасности, на страже которой он тогда стоял. Стало быть, в штрафбат нужно отправлять хотя бы для профилактики. Так что арестант, о котором так печется комендант, попав в Особый отдел, уже не имеет шансов возникнуть на его пути.
Правда, эти выводы не умаляли угрозы срыва операции «Фейерверк» из-за упертого, подозрительного, какого-то одержимого поселкового коменданта.
Его размышления прервал Дитрих. Подойдя вплотную, он незаметно для остальных тронул Дерябина за плечо, предлагая отойти чуть дальше, достал из кармана початую пачку «Казбека», взял одну папиросу сам, предложил Николаю и, поднося ему зажигалку, негромко сказал:
– Вы расслышали его фамилию?
– Чью?
– Коменданта. Родимцев.
– И что? – До Дерябина пока не доходило.
– Таких совпадений не бывает, – Отто говорил коротко, резко, отрывисто, как человек, уже принявший решение. – Вы прекрасно видите, это не армейский офицер. И девчонка, и тот, на мотоцикле… Я еще нескольких заметил. Словно из лесу вышли недавно, я прав? – И тут же отмахнулся: – Я прав.
– В чем? – Николай все равно не улавливал сути дела.
– Капитан Родимцев. Он же Строгов. Отряд Строгова, «Смерть врагу!». Тот, который я, – палец Дитриха уткнулся ему в грудь, – я, понимаете? Я уничтожил этих бандитов.
– Не надо кричать.
– Я спокойно говорю. Хотя… какое там спокойствие… Так не бывает, но Строгов, этот самый Родимцев, – он жив.
Бойцы рассредоточились вокруг комендатуры, и Дерябин отметил: сейчас они выполняют незаметную для посторонних команду Степана Кондакова, расположившись так, чтобы в случае чего полностью контролировать центр поселка. Внимание на их передвижения никто не обращал.
– Допустим, вы правы…
– Я прав, Николай!
– Тихо… Допустим, вы правы. Что это меняет?
– Для меня – многое. Мы не должны были встретиться ни при каких обстоятельствах. Я даже не знаю, как выглядел этот человек. А поселок… Сюда мы вообще не предполагали заезжать, к железной дороге есть более прямой путь. Но вчера все пошло не по плану, чтобы мы оказались здесь и я встретился с Родимцевым. Это знак, Дерябин. Вы верите в знаки?
– Нет.
– А я верю.
Дерябин покосился на вход в комендатуру.
– Хорошо. Знак. Только мы не можем связываться с комендантом. Он уже связывается с Особым отделом в Конышевке. О нас там будут знать. Отказаться выполнить приказ коменданта поселка, офицера, старшего по званию, к тому же дело связано с органами госбезопасности… Может, вы не поняли… Мы крепко влипли.
– Нет.
– Что – «нет»?
– Никуда мы не влипли.
Внезапно Дерябин яснее, чем когда бы то ни было, осознал одержимость Дитриха. Понимание пришло, стоило Николаю увидеть Родимцева и просчитать одержимость этого человека, только уже другой, собственной идеей. Когда представилась неожиданная возможность сравнить этих двух, он поневоле признал правоту абверовца: а ведь и впрямь знак. Ведь верно – судьба.
Случается же такое – они не смогли разминуться на войне.
– Объясните. Только быстро, часы тикают.
– Я ничего не объясняю. Это приказ, – жестко сказал Дитрих. – Все складывается в нашу пользу. Здесь арестованные. Сколько их, я не знаю, но зато очевидно, что и полноценного гарнизона в поселке пока нет. Гражданские и, как я понял, не больше двух десятков военных. Кто знает, сколько арестованных пособников? Кто вообще понимает, что тут происходит? Пока разберутся…
– В чем?
– Кто атаковал поселок, убил коменданта, взорвал склад. Здесь ведь есть склад боеприпасов или горючего? Горючего – наверняка… Диверсия в этом поселке отвлечет внимание, наверняка отвлечет. Я прав? Я прав!
Сейчас Отто Дитрих не был готов слушать возражения. Говорил уверенно, и Николаю оставалось только смириться с желанием абверовца завершить свои давние дела с Родимцевым. О которых тот наверняка не имел представления.
– О саперном взводе уже докладывают…
– Война. Он как появился, так и исчез. До саперов ли, когда тут такое. Я всерьез изучал советскую партизанскую тактику, если вы помните. Причем на практических примерах. Именно потому мне удалось поймать отряд Строгова в ловушку. Сейчас мы будем бить врага его же оружием. Это не обсуждается.
Несмотря на очевидное нежелание Дитриха слушать хоть какие-то аргументы против, Дерябин все-таки собирался возразить. Даже продумал, что скажет, – но не успел. Из комендатуры уже выходили Родимцев с Шалыгиным, оба деловые и сосредоточенные. Они быстро приблизились.
– Ух ты, кучеряво живете! – Павел кивнул на папиросы в руке «сапера». – Угощай, старлей, махорка что-то глотку разодрала.
– Давно? – поинтересовался комендант.
– Да вот как только «Казбек» надыбал!
– Кури.
Дитрих открыл коробку, и Шалыгин тут же сгреб в щепоть сразу несколько папирос, одну сразу сунул в рот, другую зачем-то примостил за ухом, третью протянул Родимцеву. Капитан взял, повертел в пальцах.
– Особисты ждут. Вот товарищ Шалыгин будет сопровождать арестованного, он за него головой отвечает. Паша, давай его сюда, не будем задерживать саперов.
– Раз такое дело, может, пока хлопцы тут поглядят? По вашей линии дело, старлей, – Шалыгин кивнул куда-то за спину, после чего прикурил от зажигалки Дитриха.
– Что там еще?
– Пацаны местные вчера еще говорили, вроде в той стороне фрицы чего-то там минировали. Двое местных подорвалось, баба и мальчишка. Женщину насмерть, парень без ноги.
– Разве сразу саперов не вызвали?
– Были саперы, я выяснял, – подтвердил Павел. – Только Оболенский, друг наш сердечный, предупредил – там пока все равно лучше не ходить.
– Ну и не надо, – Родимцев не скрывал раздражения.
– Так ведь школа там, Ильич. А дальше, за школьным двором, – поле. Весна, фрицев сюда уже никто не пустит. Люди говорят, пахать надо. А как снова рванет?
– Правильно, – вмешался наконец Дитрих. – Это наша работа, мы обязаны проверить территорию. И если надо, почистим.
– Откуда будешь, лейтенант? – поинтересовался Шалыгин. – Немец?
– Почти, – тот подарил всем открытую улыбку. – Моя фамилия Шкеле, зовут Янис.
– Прибалтика? – Павел крепко сжал протянутую руку. – Балтийское море?
– Рига. Не бывали?
– Побываем, – серьезно пообещал Шалыгин. – Мы теперь, Янка, везде побываем. Ничего, что Янка, или…
– Сколько угодно. Меня вот товарищ Пивоваров даже Ванькой зовет.
– Ванька тут причем?
– Янис. Ян. Иван. Похожее звучание, я прав? Я прав.
– Ну, тогда так, – Дерябин наконец решил выйти на первый план, как и предполагала выбранная роль. – Горбачев!
– Я! – моментально откликнулся Степан Кондаков, на котором была форма с погонами сержанта.
– Значит, берешь людей, выдвигаетесь в сторону школы.
– Понял, товарищ старший лейтенант!
– Ярославцев!
– Я! – откликнулся рыжеусый крепыш – в группу его включили, как одного из лучших курсантов-ликвидаторов.
– С остальными пройдись по поселку. Там, как я понимаю, склад?
– Склад, – подтвердил Родимцев. – Бензин, соляра, мазут. Охраняется.
– Тем более. Для очистки совести прощупаем окрестности. Знаешь, Паша, какие сюрпризы немцы оставляют?
– Я не такое знаю, старлей!
– Ярославцев, приказ повторить?
– Никак нет, товарищ старший лейтенант!
– Действуй!
Дерябин не сомневался – курсанты уже поняли, что первоначальный план опять подкорректирован. И верно истолковали приказ: часть группы рассредоточивается по центру, часть – берет на себя бойцов у склада. Тем не менее Николай громко и в то же время – как бы невзначай, словно озвучивал сами собой разумеющиеся вещи, сказал:
– Сбор по сигналу.
– Так точно! – в унисон ответили Кондаков с Ярославцевым.
Подтвердив – будут ждать сигнала, начнут действовать и сделают все быстро.
– Ну, значит, так и действуем, – согласился Родимцев.
Огляделся.
Дерябин понял – он ищет девушку. За всеми этими распоряжениями о ней, по-прежнему стоявшей чуть в стороне, как-то позабыли.
– Полина…
– Я могу идти, товарищ капитан? – мгновенно прервала его попытку заговорить девушка, очевидно навязывая коменданту свое решение.
– Куда? – с явной неохотой спросил Родимцев.
– Девушки, связистки… те, вчерашние…
– Что с ними такое?
– Уехали. Свернулись и уехали. Капитан Оболенский оставил… ну… подарок вроде…
– Ага, трофей! – встрял Шалыгин. – «Телефункен»[11], фрицевский. Новейший. Еще он Полинке «парабеллум» трофейный подарил. Как говорится, пишите письма.
– Себя не застрели, – буркнул Родимцев, очевидно не зная, что говорить и нужны ли слова для подобных случаев.
– Уж постараюсь, – с подчеркнутой вежливостью ответила девушка. – Так я свободна? Станцию наладить нужно, это кусок работы, я с такими моделями еще не сталкивалась. Видела, но осваивать не приходилось.
– Я помогу! – вызвался Дитрих и, поймав удивленный взгляд Родимцева, тут же пояснил: – У отца в Риге до войны был свой радиомагазин, своя мастерская. Я вообще-то техник по образованию.
– И с «Телефункенами» знакомы? – уточнил комендант.
– Фирма старейшая. Как не знать. Разрешите, товарищ старший лейтенант?
– Действуй, – кивнул Дерябин.
Узел связи.
А ведь в правильном направлении действует.
– Ну, занимай… тесь, – выдавил из себя Родимцев.
Бойцы тем временем неспешно растягивались по поселку. Саперные инструменты разобрали аккуратно, только от пристального взгляда Дерябина не ускользнуло: автоматы все уже держали наготове, начать бой миноискатели абсолютно не помешают.
Боровой откинул капот грузовика, старательно делая вид, что роется в моторе, пока есть время для передышки. Свой автомат как бы невзначай пристроил рядом.
Вчерашние партизаны – в том, что это так, Дерябин уже не сомневался, – потеряли к саперам всяческий интерес, также разойдясь по своим делам. У комендатуры, кроме Николая и Борового, занявшего позицию возле машины, остался только Родимцев – провожал не совсем соответствующим моменту, полным странной задумчивости взглядом Павла Шалыгина, который, поправляя на ходу пистолет в кобуре, уже шел к старой усадьбе за арестованным, из-за которого заварилась каша.
Взгляд, подобный комендантскому, Николаю также был очень хорошо знаком – так смотрят на мир похмельные мужики.
Минуты потянулись невыносимо медленно.
По негласному решению, сигнал к началу акции должен подать именно он. Когда это сделать – вопрос открытый. Также оставалось неясным, почему Дитрих, столь остро желавший довести до конца недавнюю операцию и таки ликвидировать командира Родимцева, вдруг удалился со сцены, вызвавшись сопровождать девушку-радистку. Однако и тут Николай решил, что знает ответ: если моложавый лейтенант-латыш, внешне даже в форме не похожий на солдафона, разбирается в немецких радиопередатчиках, это ни у кого не вызовет ни сомнений, ни подозрений. А радиоузел контролировать просто необходимо, и отпускать радистку одну неразумно. Плюс ко всему, абверовец вновь применил свой излюбленный прием – оставил Дерябина один на один с необходимостью принимать радикальные решения, которые касаются бывших «своих». Сам же подключится, когда акция начнется, – не на девчонку же время тратить…
Резкий хлопок заставил вздрогнуть.
Обернулся на звук – Боровой резко закрыл автомобильный капот.
– Нервы, старлей, – криво усмехнулся Родимцев. – Я думал, у саперов крепкие.
– Так на звук же реагируем, товарищ капитан.
– Тоже верно. У всех у нас ни к черту… С твоей работой спирту не предлагаю…
– В другой раз не отказался бы. Сейчас – не могу, права не имею.
– Ладно, не оправдывайся.
Черт, как же время тянется…
От усадьбы в сторону комендатуры возвращался Шалыгин, ступая сзади и чуть сбоку арестованного. Заросшего типа в ватнике и картузе, надвинутом на самые глаза.
Пусть подойдут, решил Дерябин.
Даже повернулся к ним боком, убедившись, что Дитрих с Полиной скрылись из виду.
Подойдут. Это и станет для него точкой отсчета.
Основную группу вел Степан Кондаков.
По ходу он уже успел прикинуть: им предстоит иметь дело не только со взводом охраны, оставленным у склада до прибытия следующей воинской части, но и с оставшимися от большого отряда партизанами, невесть как занесенными в поселок. Приобретя за последнее время серьезный опыт агентурной работы, он оценил ситуацию сам, ему не нужно было ни с кем советоваться. Все это время Кондакову удавалось выжить только за счет своего умения смотреть, слушать и делать собственные выводы. Потому захват Хомутовки своими силами он не считал слишком уж нереальным заданием.
Конечно, он не во всем сейчас соглашался с Дитрихом – а сомнений в том, что решение устроить первую диверсию именно здесь, в поселке, принял именно он, у Кондакова не было.
Этот Пивоваров, или как его там, явно перекрашенный энкавэдэшник, самостоятельной фигурой не был. И Степан надеялся, что не будет. Хотя Дитрих по непонятной причине решил приблизить именно его. Впрочем, Кондаков и здесь не давал перекрашенному шансов: Дитриху этот тип интересен только потому, что служил в советских карательных органах, и немец получал очевидное удовольствие, играя с ним, даже делая вид иногда, что подыгрывает.
Однако приказ получен.
И каким бы он ни был сомнительным в переложении на данный момент, оспаривать его Кондаков не собирался.
Некоторое время Полина и ее спутник шли рядом и молчали. Девушке просто не хотелось разговаривать ни с кем, включая этого латыша, видно поздно попавшего в войска. С виду лет тридцать, похоже, на фронте недавно, выглядит слишком уж сыто в отличие от остальных саперов. Да к тому же лейтенант, не успел дослужиться… Хотя какое ей-то дело, все равно беседовать желания нет. И не о чем. Не о радиолампах же…
Однако он все же попытался начать разговор.
– Меня зовут Янис.
– Слышала… Полина.
– Очень приятно. Вы ведь не хотели там оставаться, где ваш комендант. Я прав? – И, не давая возможности ответить, сказал уверенно: – Я прав.
У него был заметный и, признаться, приятный акцент, делавший речь как-то даже более мягкой.
– Я должна вам отвечать?
– Нет, зачем. Я же прав.
– В таком случае к чему вопросы?
– А вы – лед, Полина. Или огонь, как посмотреть.
– Смотрите как хотите, – девушка пожала плечами.
Видимо, ей удалось убедить латыша больше не пытаться общаться и тем более – флиртовать: он замолчал и так дошел с ней до «радиорубки», которую она, не пойми почему, назвала для себя «дом», где еще нынче утром располагались девушки-связистки.
Вспомнив, что там не убрано, Полина было подумала оставить лейтенанта за дверью под предлогом необходимости немного прибраться. Но потом решила – ну его, голова занята совсем не наведением порядка, и что нового для себя может увидеть латыш?
Ничего.
Они вошли.
Радиостанция стояла на столе, придвинутом к окну. Стол приволокли сюда, вероятнее всего, из школы или другого учреждения: он был с тумбой и массивным выдвижным ящиком. Чуть поодаль, у стены, расположилась Полина.
Хоть было не жарко, девушка сразу скинула полупальто, бросив его на деревянный топчан и прикрыв набитую соломой подушку, машинально одернула гимнастерку, повернулась к латышу.
Только сейчас, стоя от него шагах в четырех, вдруг обратила внимание – он смотрел на нее как-то странно.
Один на один с мужчиной. Загородил собой входную дверь. Не встал так, а именно загородил, блокируя единственный выход. Или ей кажется от усталости, нервов и прочего… Полина вздохнула, снова зачем-то одернула края гимнастерки.
– Ну… Вот… Вы, Янис, с такой штукой разберетесь?
Даже если он и собирался ответить, то не успел.
Снаружи, с той стороны, откуда они только что пришли, ахнул выстрел.
Затем сразу же – второй.
Коротко ударил автомат.
– Что…
Полина рванулась вперед.
Замерла в движении, нелепо раскинув руки.
Латыш направил на нее ствол пистолета.
Рот улыбается, а глаза злые.
4 Поселок. Весна 1943 года. Дробот
Его разбудила ленивая ругань соседей.
Вероятно, это стало некоей местной традицией – огрызаться друг на друга по поводу того, чего ни один из арестованных изменить не мог: питания. Спекулянт Уваров талдычил, что их обязаны кормить трижды в день, раз содержат в заключении, причем советская власть – это не проклятые фашисты, гуманность проявлять обязана. Уголовник по кличке Ворон беззлобно, скорее из простого нежелания соглашаться с тем, кого считал идейным противником, возражал: если кому и положена тюремная пайка, так это ему. Он честный вор и одинаково крал при любой власти. Потому имеет больше прав на снисхождение, чем барыга, служивший оккупационному режиму.
Словесная перепалка по сути своей была глупой, смысла не имела и на выходе ничем завершиться не могла. Вспомнив немецкий лагерь, Роман отметил: есть там тоже хотелось постоянно, только о своих правах на питание никто из пленных даже не заикался. О еде вообще не принято было говорить ни с кем, и сейчас Дробот четко осознал – боялся о ней даже думать. Здесь же его сокамерники парились уже несколько дней, ожидая, по сути, когда же на них найдется хоть какая-то управа и любой, даже не совсем правильный закон. Они устали сидеть, томились бездельем да неопределенностью и не нашли другого развлечения, кроме как придумывать дурацкие поводы для вялотекущей ссоры.
Похоже, полицаю Чумакову это было привычно и утомительно. Однако до поры не встревал, только однажды бросил: мол, принесут сейчас сухари, вот рты у вас наконец и заткнутся. Как в воду глядел: вскоре после этого открылась дверь и часовой действительно выдал обитателям подвала немецкие галеты, четыре ржавых соленых рыбины, велел вынести парашу и прихватить пустое ведро – для воды. Ссора вспыхнула с новой силой: Ворон потребовал, чтобы дерьмо выносил Уваров, тот попытался кивнуть на Дробота как на новенького, но услышал в ответ категоричное: человек воевал. После чего, вздохнув, выбрался из своего угла и покорно отправился выливать отходы. Чем подтвердил очевидный вывод Романа: уголовник, привыкший в тюрьме жить по воровским понятиям, нашел для себя только одну подходящую жертву – спекулянта. Третируя Уварова, который был явно старше его, по полной блатной программе.
За Дроботом пришли, когда он уписывал третью галету, заедая ею соленую рыбу. Соли оказалось так много, что она буквально липла к губам, присыхала тонкой противной корочкой, и Роман понимал: воды не обопьешься. Но Чумаков предупредил – им приносят ведро в день на всех, и в этом на самом деле имелся смысл: меньше пьешь – меньше пользуешься ведром для параши. Стало быть, делаешь воздух в подвале хоть немного чище.
Услыхав свою фамилию и тут же увидев в дверном проеме Шалыгина, он встал, машинально сунув недогрызенную галету в карман галифе.
– Здесь!
– Здесь, здесь, куда тебе деться, – ответил Павел. – Собирайся, пошли.
– Куда? – вырвалось у Дробота.
– К стенке! – беззлобно хохотнул Ворон, и Роман, хотя и понимал, что это у вора такие шутки, все равно невольно вздрогнул. От Родимцева всего можно ожидать, в этом Дробот за последнее время уже успел убедиться.
– Хайло закрой! – строго прикрикнул Шалыгин. – Не стой, Дробот, не маячь, шевелись, время пошло.
Роман вздохнул, как-то слишком уж неуклюже развел руками.
– Ну… На всякий случай прощайте, мужчины.
– Ни пуха! – Теперь в голосе Ворона не слышалось ничего, кроме равнодушия. – Заходи, если что…
Надев картуз и натянув козырек на самый лоб, Дробот демонстративно заложил руки за спину и вышел наружу.
Солнечный свет сразу ослепил глаза, но это быстро прошло. Оглядевшись, Роман увидел прямо перед собой, у здания комендатуры, грузовик, бойца, возившегося у машины, судя по всему – шофера, чуть поодаль стояли Родимцев и какой-то офицер, расположившийся к старой усадьбе боком.
– Пошли, Рома, – сказал Шалыгин и тут же перешел на бодрую скороговорку. – Значит, штука такая. Ильич пошустрил. Тут саперы подвернулись, едут в сторону железки. Взялись доставить тебя к особистам, я сопровождающий. Должен сдать тебя и вернуться. Только я с тобой пойду.
– Куда? – не понял Роман, полуобернувшись на ходу.
– Ты иди, на меня не гляди. Слушай дальше. У Ильича, сам знаешь, свои заскоки. Его понять можно, видал, как у нас все обернулось. Я с ним с прошлого лета воюю, скажу так – у него это первый провал. Плюс он про тебя какие-то данные запросил и получил… В общем, ничего не поменяешь, Полинка еще…
– А Полина тут причем?
Теперь Дробот говорил, не оборачиваясь. Он прошли уже половину расстояния, отделявшего их от грузовика и двух офицеров.
– При том. Я тебя предупреждал, нет? В лесу тогда, забыл разве?
– Глупости, Павел. Еще ревность тут приплети…
– Ничего не глупости, Рома, для Ильича все до кучи срослось. Я потому с тобой в Особый отдел, Дробот, и пойду. Я не Ильич, хотя с ним многое прошел. Потому вижу все и соображаю кое-чего. Скажу там, в Особом отделе, пару нужных и правильных слов кому надо. А говорить я, Рома, ох как хорошо умею! Ты не думай, меня товарищ Строкач лично знает.
– Ну, если сам товарищ Строкач… Спасибо, конечно, Паша. Не поможет, раз Родимцев так мною проникся, но все равно – спасибо.
– На здоровье. Пригодится тебе здоровье еще, Дробот. Прорвемся, не дрейфь, не везде дуроломы сидят. Разберутся.
Возражать не хотелось. Роман все-таки до последнего пытался убедить себя в непременной победе логики над эмоциями. Хотя и понимал: гибель отряда особого назначения нужно на кого-то списать и как-то объяснить немецкими происками перед начальством.
Они подошли к Родимцеву. Тот смерил арестованного взглядом, полным какого-то нескрываемого торжества.
– Я говорил тебе, что так будет, боец.
Шалыгин положенным жестом бросил руку к пилотке.
– Товарищ комендант, арестованный Дробот по вашему приказанию…
Когда капитан заговорил с Дроботом, офицер, стоявший рядом с Родимцевым, стал поворачиваться лицом к подошедшим. В тот момент, когда прозвучала фамилия арестованного, человек в форме старшего лейтенанта встретился с Романом взглядом.
– Дерябин, – спокойно, словно так и должно случиться, проговорил Дробот.
Шалыгин не закончил фразу.
– Дерябин, – повторил Роман уже увереннее и, не находя других слов, показал на него рукой, сорвавшись вдруг на крик: – ДЕРЯБИН! – А затем выкрикнул совсем уж необъяснимое: – Стой! СТОЯТЬ!
Николай Дерябин шагнул назад и тут же – в сторону, заученным жестом выхватывая пистолет из кобуры.
Ему даже в голову не пришло заявить, что боец обознался, попытавшись хоть как-то выторговать себе время.
Он четко среагировал на свою настоящую фамилию. И только потом узнал в этом грязном, небритом и давно не мывшемся парне того, кого ему вечность – всего-то месяц! – назад приказали доставить в особый отдел фронта. Вот примерно как сейчас.
Эффект внезапности был достигнут. Дерябину удалось выиграть у остальных несколько секунд, чем он в полной мере воспользовался – навел ствол пистолета на грудь Дробота и, словно в этот момент глядя на себя со стороны, нажал на спуск.
Шалыгин пришел в движение одновременно с ним. Еще ничего толком не понимая, он просто увидел человека, готового стрелять в стоявшего рядом Романа; командир разведчиков сделал единственное, что смог в такой ситуации, – шагнул между Дерябиным и Дроботом, одновременно толкая Романа плечом и хватаясь за свою незастегнутую кобуру.
Он принял пулю, на мгновение замер, удивленно посмотрев перед собой, проговорил:
– Эй!
А потом осел на землю, прямо под ноги спасенного им Дробота.
Стоявший у грузовика Боровой тут же вскинул автомат.
Но тут уже опомнился Родимцев, до которого, наконец, дошла суть происходящего.
Сейчас он представлял отличную мишень как для Дерябина, так и для автоматчика. Однако просто так дать себя убить капитан не собирался. Вокруг не было никакого укрытия, да только прятаться сейчас Родимцев не хотел – резким движением сместившись с линии огня, он кинулся в атаку, сократив расстояние между собой и Дерябиным в одном стремительном прыжке. Потому, когда Николай выстрелил снова, он не успел прицелиться – Дробот с Родимцевым фактически разбежались в разные стороны.
А в следующую секунду комендант уже зашел справа, стараясь перехватить его руку.
Пытаясь повернуться, Дерябин невольно оказался между Родимцевым и вот-вот собравшимся выстрелить Боровым. Тот вовремя сдержался. И, в свою очередь, также сместился, меняя позицию и стараясь достать очередью если не капитана, то хотя бы своего старого, невесть откуда возникшего и разом все испортившего знакомого – Дробота.
Но в этот момент на выручку бросился стоявший возле усадьбы часовой.
Ему со своего места понадобилось чуть больше времени на оценку случившегося. Забыв о запертых в подвале пособниках, он вскинул автомат и дал длинную очередь на бегу, целясь в единственную открытую мишень – водителя. Сомнений в том, на чьей тот стороне, у часового не возникло.
Первая очередь Борового не свалила. Тот понял, что открыт. И хотя вернее было упасть, нырнуть под грузовик, он пригнулся и бросился в сторону, собираясь оббежать полуторку, укрыться за ней. Однако вторая очередь срезала его влет, и Боровой свалился, будто собирался красиво, с разбегу сигануть в реку с бережка, но внезапно поскользнулся.
Дерябину тем временем удалось-таки уклониться от рукопашной. Уходя в сторону, Николай с трудом удержал равновесие, затем тренированным ударом сбил Родимцева с ног – тот неуклюже упал на спину, взбрыкнув при этом, – затем быстро оценил положение. Не принимая в расчет безоружного Дробота, он выстрелил по приближающемуся часовому – не прицельно, просто огрызнулся. А затем рванул к единственному укрытию, находившемуся от него на кратчайшем расстоянии.
Под свист пуль Николай Дерябин в несколько скачков добрался до крыльца комендатуры, протаранил дверь и оказался внутри.
Судя по враз ожившей тишине поселка, стрелять начали уже в другой стороне.
– Sie alles verstanden?[12] – отрывисто спросил Дитрих.
Не удержавшись и повернув голову к окну, на звуки выстрелов, Полина кивнула, выдавила из себя:
– Да, я все поняла.
– Знаете немецкий?
– Учила… Учили…
– А, конечно, вы же работаете в тылу врага! – Дитрих кивнул на стоявшую на столе за спиной девушки рацию. – Почему для вас, большевиков, иностранный язык – это язык врага? Вы ведь учите языки только для того, чтобы допрашивать пленных, не общаться. Я прав? Я прав.
Выстрелы снаружи зазвучали чаще. Полина молчала. Ей просто нечего было сказать.
– Я знаю русский только потому, что на нем разговаривал один близкий мне с детства человек, – продолжал Дитрих. – Еще я владею французским, хотел читать Рембо в оригинале. Вы комсомолка или коммунистка? – Девушка покачала головой. – Нет? Что – нет? Отвечать!
– Беспартийная, – тихо проговорила Полина.
– Но у вас все в комсомоле. Вы, комсомолка, знаете, кто такой Артюр Рембо? Почему ваша нация так некультурна? Я даже немного знаю английский, учил просто так, для себя. Вы учили немецкий язык для своего удовольствия? Для личного развития?
Полина медленно попятилась, прижалась к столу, оперлась о его края. Тумбочка была рядом, точно под правой рукой.
– Дикари, – бросил Дитрих, прислушиваясь к стрекотанию автоматных очередей. Где-то рвануло, снова, еще раз.
– Гранаты, – сказал он спокойно, тут же сменил тему: – На самом деле, фройляйн, мне от вас уже ничего не нужно. Ответьте мне, только, пожалуйста, честно. Это даже не допрос, просто лично для меня очень важно… Тот человек, комендант… Который к вам так неравнодушен… Это Строгов?
– Родимцев, – машинально ответила Полина, действительно не видя в его вопросе ничего особенного, только потом поняв: немец знает то, чего, казалось бы, знать не должен, и все равно повторила, убеждая уже саму себя: – Родимцев.
– Вы врете. Строгов и Родимцев – одно лицо. Для вас уже не имеет значения ничего, потому повторяю вопрос. Этого человека называли Строговым?
Полина снова решила промолчать. Пусть даже немец прав и ничего вокруг уже не имеет значения.
– Хорошо. Я умею читать по лицам. У вас очень открытое лицо. На нем написано все, без помарок. Значит, это тот самый капитан Родимцев, он же – партизанский командир Строгов, которого по моему плану должны были уничтожить еще две недели назад. А говорят, в том, чтобы не строить планов, есть высочайшая мудрость. Как видите, планы иногда меняются. Но всегда выполняются. Я прав?
Полина молча смотрела на Дитриха. Правая рука уже нащупала край выдвижного ящика.
– Глупости какие!
Решительно шагнув к девушке, Дитрих взял ее за плечо, оттолкнул. Движение получилось даже слишком резким – Полина покачнулась и, чтобы не упасть на пол, оперлась о топчан.
Рванув на себя ящик, Дитрих сунул туда руку, вытащил пистолет и подкинул на ладони. Переложил свой в левую руку, обнаруженный сжал в правой.
– «Парабеллум». Я же слышал, что вам тут оставили уйму трофеев. Попытку я оценил, только почему вы решили, что у вас получится?
Где-то за окном, со стороны комендатуры, послышался новый звук – взревел мотоциклетный мотор.
Полина уселась на топчане, примостившись прямо на свое полупальто. Дитрих смерил ее удовлетворенным взглядом, затем переключился на рацию.
– Тоже трофей. Как вы собирались использовать это? Или вас учили не только языку? Ах да, вы же просили меня помочь…
Подойдя вплотную к столу, Отто Дитрих ловким движением подкинул «парабеллум», перехватывая его за ствол. Затем, орудуя рукояткой, как молотком, резко замахнулся, хватил по прямоугольному передатчику. Раз, еще раз, затем опрокинул «телефункен» на стол. От удара рукояткой рассыпались обнаженные лампы.
Сейчас, увлеченный как собой, так и своим занятием, он уже не обращал внимания на Полину.
Рука девушки, прикрытая полупальто, нырнула под соломенную подушку.
Все-таки совсем из виду свою пленницу Дитрих выпускать не собирался. Он слишком поздно отреагировал на резкое движение справа от себя и, не давая себе времени подумать, вскинул левую руку, выстрелил.
Однако Полина, предвидев это, успела сместиться с линии огня и, когда выстрел грянул, – откинулась на спину, опираясь о стену, вытянула руку с «вальтером», еще с ночи лежавшим под подушкой и позабытым там, когда появился Шалыгин.
Не переставая жать на курок, подбадривая себя отчаянным громким криком, Полина Белозуб уже знала: сколько бы ей ни осталось прожить, все это время она часто, даже слишком часто будет видеть перед собой полный искреннего удивления и даже где-то осуждения взгляд расстрелянного ею в упор немецкого офицера в форме советского лейтенанта.
И лишь потом ощутила боль в левом боку.
Тронула рукой больное место, ладонь нащупала мокрое.
Звон разбитого стекла – и пуля взрыла землю в полуметре от лица распластавшегося Дробота.
Он перекатился, не давая засевшему в доме Дерябину прицелиться. Затем встал на четвереньки и, двигаясь по-собачьи, быстро переместился под прикрытие грузовика, свалившись рядом с лежавшим лицом вверх телом водителя. Тот был еще жив, истекал кровью – автоматные пули прошили верхнюю часть груди наискось, до самой шеи. Роман сразу узнал Ваську Борового, своего лагерного товарища по несчастью, помогавшего с побегом, тут же связал свое узнавание с невесть откуда возникшим Дерябиным и совсем не удивился второй за эти стремительные минуты неожиданной встрече.
Узнал ли его Боровой, Дробота не волновало. Так же Роману и в голову не пришло помогать тяжело раненному. Сейчас его больше занимал автомат Васьки, которой тот, даже будучи полуживым, не хотел выпускать из рук. Но взять у него оружие оказалось несложно, пальцы цеплялись на ППШ скорее инстинктивно, чем действительно надеясь удержать.
Снова хлопнул выстрел.
Дробот, взяв автомат наперевес, осторожно высунулся из-за капота полуторки. И тут же отпрянул – прямо на него летел Родимцев, который тоже не нашел другого укрытия – небольшая центральная поселковая площадь, по обе стороны которой располагались комендатура и старая усадьба, представляла собой открытую местность. Засевший в здании Дерябин мог из окна, выходящего в эту сторону, контролировать территорию даже с одним пистолетом, какое-то время, пусть даже недолгое, сдерживая атаку.
– Не смей! – рявкнул Родимцев, и Дробот уже отказывался признать даже алогизм происходящего – капитан держал ствол пистолета в нескольких сантиметрах от его головы. – Брось оружие! Брось, сука!
– Я… – Других слов у Романа сейчас просто не было.
– Ты арестованный! Брось автомат!
Оба тяжело дышали.
Выстрелы зазвучали чаще и теперь доносились с той стороны поселка, куда Дерябин отправил своих «саперов». Часовой подбежал к грузовику, обогнув линию огня, выкрикнул:
– Чего тут у вас?
– Может, хватит? – нашелся, наконец, Дробот. – Хватит, а, командир? Не видно разве?
Вдалеке раздалась длинная автоматная очередь, к звукам выстрелов прибавились разрозненные крики людей. Улицу с противоположной стороны площади быстро перебежали две женщины, скрылись за ближайшим к ним забором. Родимцев опустил пистолет, вытер вспотевший лоб, бросил, глядя мимо Романа, на часового:
– Ладно. Потом. Как фамилия, боец?
– Рядовой Смирнов! – отчеканил тот.
– Значит так, рядовой Смирнов. Похоже, на нас тут с неба упали ряженые. Разберемся после. Сперва надо вон того, кажись, ихнего главного, выкурить из комендатуры. Там телефон, связь…
Внезапно Игорь запнулся. При слове «связь» четко всплыла картинка: латыш – хотя какой, к чертям собачьим, латыш! – идет вместе с Полиной к дому, где меньше суток назад располагались радистки. Понимая, что именно сейчас ничего не может сделать, даже не пытаясь представить происходящее в этот момент с девушкой, Родимцев лишь сильнее, до боли в костяшках пальцев, стиснул пистолетную рукоять, сжал зубы, процедил, по-прежнему глядя мимо Дробота.
– Связь там… Если он, конечно, ничего с ней не успеет сделать… В любом случае диверсанта надо блокировать.
– Диверсанта все-таки, – вставил Роман.
– Хватит! – отрезал капитан, даже в такой момент не желая показывать Дроботу, что вынужденно признает правоту того, кого сам арестовал, как вероятного провокатора. – Смирнов, прикрываете меня. Держите окна, не давайте ему высунуться. Когда доберусь до здания, выдвигайтесь вперед, прикрывайте друг друга. Клещами зажимайте. Справитесь?
– Так точно, товарищ капитан! – отрапортовал Смирнов.
– Тогда пошли, времени нет!
Набрав полную грудь воздуха и тут же – громко выдохнув, Родимцев, пригнувшись, выбежал из-за грузовика и широкими скачками помчался через площадь, собираясь добежать до угла здания. Дерябин изнутри тут же отреагировал на движение двумя выстрелами, но Смирнов, опершись о капот, выпустил по окну короткую прицельную очередь, не давая засевшему внутри врагу высунуться и лучше прицелиться. Тем временем Дробот, обойдя полуторку вокруг, занял позицию и тоже открыл огонь, взяв на прицел соседнее окно, не давая Дерябину возможности даже приблизиться к нему. Под их прикрытием Родимцеву удалось достичь здания, он припал спиной к стене, жестом приказывая автоматчикам выдвигаться вперед.
– Прикрой! – заорал Смирнов и, пригнувшись, перебежками двинулся в атаку.
Сопротивления изнутри он не встретил, хотя Дробот чуть замешкался, открыв огонь не сразу. Затем, не дожидаясь приказа, кинулся вперед, обходя комендатуру со стороны, противоположной той, куда уже добрался Родимцев. К осажденному ими зданию все трое приблизились почти одновременно. Смирнов, охваченный азартом и не встречая сопротивления, налетел на дверь, вышибая ее ногой.
Дверь оказалась незапертой, и часовой, двигаясь вперед по инерции, не устоял на ногах и свалился на пол. Родимцев, бегущий следом, чуть не споткнулся о него, удержавшись в последний момент. Сзади на капитана налетел Дробот, и в дверном проеме на какое-то время образовался затор из человеческих тел. Находившийся внутри противник мог в полной мере воспользоваться нелепой ситуацией, расстреляв всех троих с близкого расстояния. Однако этого не случилось.
Быстро рассредоточившись, все трое вскинули оружие, по молчаливому согласию пропуская вперед Родимцева. Капитан рванул на себя дверь, ведущую из небольшого прямоугольного коридора в комнату, где засел Дерябин, укрылся за ней, прижавшись к стене, а Дробот со Смирновым обстреляли дверной проем. В ответ никто не выстрелил, и капитан отрывисто выкрикнул:
– Пошли!
Прикрывая друг друга, Роман и часовой ворвались в комнату.
Здесь никого не было.
Только широко распахнутая дверь, ведущая в кабинет коменданта, тот самый, где Родимцев вчера переночевал. И где меньше часа назад оставил подаренную щедрым гвардейцем-сибиряком немецкую винтовку. С патронами к ней.
Позади, с улицы, к отдаленным звукам перестрелки и разрывам гранат прибавился вдруг еще один – резкий, громкий, разбудивший коменданта нынче утром.
Взревел мотор мотоцикла.
5 Поселок. Весна 1943 года. Дерябин, Дробот
Выбежав из комендатуры, они увидели, как Дерябин, оседлав мотоцикл, уже успел развернуться, пыля на площади, и, пригнувшись к рулю, словно всадник к конской гриве, мчался на полной скорости туда, откуда совсем недавно появились нежданные гости. Он прорывался в сторону, противоположную той, откуда все еще доносились выстрелы.
– Стой! – заорал Родимцев, пальнул вслед беглецу, а затем, отрывисто приказав часовому: – Будь тут! Свяжись с Особым отделом! Потом на пост вернись! – побежал к полуторке.
Легко забросив себя в кабину, Игорь завел мотор, и когда грузовик двинулся с места, с другой стороны рядом с ним оказался Дробот, запрыгнув на ходу. Покосившись сначала на него, потом – на автомат в его левой руке, Родимцев промолчал, сосредоточившись на погоне за диверсантом.
Они замешкались, полуторку не удалось развернуть так же лихо, как Дерябин укротил мотоцикл. К тому же, выбравшись через окно на противоположную сторону, обогнув здание и оказавшись у врагов в тылу, Николаю удалось выиграть еще несколько выгодных для себя секунд. Так что когда грузовик выровнялся и помчался за мотоциклистом, тот почти скрылся из виду, свернув на повороте влево.
– Уйдет! – выкрикнул Дробот.
– Дороги другой нет! – огрызнулся Родимцев и зачем-то прибавил: – Молчать!
Нога капитана намертво срослась с педалью газа.
Свернув на том же повороте, они вновь увидели перед собой стремительно удаляющийся мотоцикл, наполовину растворенный в клубах дорожной пыли. Грузовик подкидывало на разбитой дороге, и Дробот с трудом удерживался, чтобы не свалиться на ведущего машину Родимцева. Автомат от такой балансировки свалился под ноги, и, наклонившись за ним, Дробот хватил головой о переднюю панель, разбив лоб до крови и сразу почувствовав, как на месте удара набухает шишка.
– Держись, – бросил Игорь и, помолчав немного, добавил, не спуская глаз с мотоцикла: – Тот самый Дерябин?
– Узнал он меня. Сам же видел, Ильич, – ответил Дробот, окончательно позабыв о субординации. Другой, который возле машины… Со мной в лагере был, так что…
– Прокурору расскажешь! – отрезал Родимцев.
– Зачем прокурору? – опешил Роман.
– Тут не допрос, я не следователь! После договорим, понял?
– А разве еще ничего не ясно?
– Все мне ясно! Ты закроешь рот, твою мать?
Дробот кивнул, крепче сжав автомат. Но потом все-таки не сдержался:
– Остальные как?
– Какие остальные?
– Я понял, Дерябин на этой машине не один приехал.
Глаза Родимцева сузились – он снова вспомнил Полину и «латыша».
– Слыхал – воюют в поселке. Наши очухались, не иначе. Этого бы гада не упустить.
– Согласен.
– Кто тебя спрашивает!
Теперь Дробот замолк надолго, продолжая следить через лобовое стекло за мотоциклистом. Как раз в тот момент беглец вырвался из поселка. Еще немного – и полуторка тоже оставила Хомутовку позади. Расстояние между ним и полуторкой медленно, но уверенно сокращалось.
– Куда ж ты прешь, – процедил Родимцев, явно говоря сам с собой. – Там же тракт один, по дороге транспорт ходит, на что надеешься… Не выскочишь, сука…
Словно услышав эти мысли вслух, Дерябин неожиданно резко свернул влево, уходя с основной дороги на проселочную, а затем и вовсе выскочил на поле. Мотоцикл подскакивал на кочках, передвигаясь по пересеченной местности быстро и неуклюже, держа курс на лесополосу.
– Ну, и куда? – процедил Родимцев.
Хотя и он, и Дробот прекрасно понимали – рвануть под прикрытие леса для Дерябина единственный выход. Видно, он хорошо знал местные транспортные развязки, потому также отдавал себе отчет: ничего хорошего на основном шоссе его не ждет.
Когда полуторка выехала на поле, трясти стало еще сильнее. Роману в какой-то момент показалось, что капитан не удержит руль, если не сбавит скорость, но Родимцев по-прежнему уверенно жал на газ, и у них даже появились шансы догнать диверсанта, прежде чем тот окажется под лесным прикрытием – мотоциклисту на колдобистом грунте приходилось еще тяжелее.
Внезапно ситуация резко изменилась. Дробот даже не сдержал какого-то слишком уж детского восторженного крика. Мотоцикл вдруг взбрыкнул, словно скакун задними ногами, – видимо, переднее колесо на полной скорости въехало в глубокую канаву, и теперь уже Дерябину не удалось удержать его. На секунду замерев в воздухе, он перевернулся, выбрасывая мотоциклиста из седла через рогатый руль. Однако если бы это произошло на ровной дороге, грузовик догнал бы потерпевшего аварию в считанные секунды. Здесь же, мчась через поле, Родимцев поневоле вынужден был ехать не по прямой, потому и в этой, невыгодной для себя ситуации Дерябин получил незначительную, однако в его положении – очень важную и нужную фору.
Сидящие в кабине грузовика поняли это, когда прогремели первые выстрелы.
Сначала пуля разбила лобовое стекло, и по нему разбежались паутинки трещины. Дробот отшатнулся, Родимцев пригнулся, но второй пули ему избежать не удалось: она чиркнула по правому виску, процарапав глубокую борозду, кровь хлынула по лицу, заливая глаза. Игорь схватился правой рукой за рану, левой пытаясь все-таки удержать руль, но безуспешно: он только развернул полуторку правым боком к мотоциклу, до которого оставалось не больше тридцати метров. Нога соскользнула с педали газа, и грузовик замер. Следующая пуля пробила правый передний баллон, машина дернулась и слегка просела.
Дерябин, заняв позицию за мотоциклом, перезарядил винтовку, по-прежнему удивляясь собственному спокойствию.
Впрочем, он при этом понимал: спокоен как всякий, кому нечего терять и кто цепляется за жизнь только потому, что любое живое существо готово цепляться за нее до последней секунды. Даже не собираясь отвечать самому себе на вопрос, откуда в этом поселке вдруг взялся Роман Дробот, его, без преувеличения, злой гений, которого он лично несколько раз обрекал на верную смерть, Николай вместо этого признал: операция «Фейерверк» не задалась с самого начала, и, выходит, такова его судьба. Не возникни Дробот, случилось бы что-то другое.
Тогда, засев в комендатуре, он мыслил в другом направлении. Голова работала четко, решения принимались даже вроде как сами собой. Он приметил у комендатуры мотоцикл, явно бывший на ходу. В комнате с телефонным аппаратом на столе, где, похоже, заседал комендант, увидел винтовку и даже патроны к ней. Окно этого помещения вело во двор. И, по примеру Отто Дитриха, он решил поверить в знаки.
Когда мотоцикл не удалось удержать, Дерябин словно почувствовал это за мгновение до аварии. Потому, перелетая через руль, успел сгруппироваться: тело само припомнило не только навыки, полученные на изнуряющих тренировках в диверсионной школе, но и занятия в спортивных лагерях Осоавиахима. Сгруппировавшись, пришел на плечо, тут же сделал кувырок, встал сначала на все четыре, потом сразу – на колени. Мир вокруг еще кружился каруселью, но Дерябин, быстро опомнившись, поискал глазами и нашел выпавшую при падении мотоцикла из коляски винтовку.
Полуторка приближалась.
Подхватить оружие и быстро зарядить не составило труда для человека, сдавшего все положенные нормы на значок «Ворошиловского стрелка». Наоборот, Николаю казалось – руки делают все сами, прежде чем голова успеет подумать, а он – принять нужное решение. Первый выстрел Дерябин сделал пристрелочным, даже не надеясь остановить погоню. Хотя с такого расстояния вряд ли промахнулся бы любой, мало-мальски умеющий обращаться с оружием. Вторым выстрелом он остался доволен – полуторка враз вильнула, словно большой раненый зверь, и остановилась.
– Все хорошо, прекрасная маркиза, – проговорил Дерябин, медленно водя стволом из стороны в сторону и нашаривая цель. – Все хорошо, все хо-ро-шо…
Выстрел.
Пробитое правое колесо заставило грузовик просесть. Дерябин обернулся, прикидывая расстояние между собой и лесом. А затем повернулся к полуторке, устроился поудобнее, снова прицелился.
Сколько их там? Двое? Максимум. Даже если один, даже если ранен – все равно не стоит поворачиваться к машине спиной.
Шевеление со стороны кузова.
Не задумываясь, Дерябин плавно переместил в ту сторону ствол винтовки, мягко нажал на спуск. Пуля отбила щепку от кузова как раз на уровне головы того, кто прятался с той стороны.
– Куда лезешь, – процедил Дерябин, посылая в патронник новый патрон. – Куда ты прешь, сволочь… В войну играешь? Ну, давай, давай, вылазь.
Снова движение, теперь уже с другой стороны, у капота.
Выстрел.
Дерябин вдруг вспомнил – а ведь у машины есть бензобак. Для этого достаточно попасть в карбюратор, и связанный с ним топливный резервуар рванет, вместе с ним – вся машина. Сколько бы людей за ней ни пряталось, один или двое, придется выбегать на открытое пространство.
Николай устроился поудобнее, чуть сменив позицию. Даже потрепал винтовку по ложу.
Теперь все решится даже быстрее, чем он полагал.
И тут же услыхал, как его называют по фамилии.
– Дерябин! Слышь, Дерябин?
Дробот.
Какого черта ему надо!
Сдаваться хочет? Вот смеху-то будет…
Когда машина встала, а окровавленный Родимцев сполз по сидению вниз, Дробот слегка опешил.
Но, быстро оценив ситуацию, распластался на сидении, накрыв собой раненого капитана, затем дотянулся до ручки, открыл дверцу, выбросил наружу автомат. После, проворчав: «Извини, Ильич!», перебрался через него к выходу, выбрался из кабины, подхватив обмякшее тело Родимцева, выволок его наружу.
Устроив капитана у заднего колеса, прислонив спиной к баллону, Роман, взяв автомат, осторожно попытался выглянуть из-за кузова. Прицельно выпущенная пуля заставила его отпрянуть, и совершенно не к месту вспомнилось – а ведь эта сволочь до войны была «Ворошиловским стрелком», Дробот как-то слыхал об этом краем уха. Ничего особенного, многие сдавали этот стрелковый норматив. Но сейчас Роман отчетливо понял: значки давали заслуженно. А он в свое время не слишком этому верил, особо не стремясь получить навыки меткой стрельбы.
Переступив через лежащего Родимцева, он попробовал высунуться с другой стороны. Пуля Дерябина отогнала его и оттуда. Прижавшись спиной к кабине и держа автомат в опущенной вдоль тела руке, Дробот лихорадочно думал, как долго это может продолжаться и чем, в конце концов, закончиться. Всю жизнь Дерябин не сможет вот так прятаться за перевернутым мотоциклом, не давая ему высунуться. Но и он сам не хотел стоять тут чуть не до Страшного суда, боясь показаться противнику, который, надеясь, что напугал Рому, немного обождет, да и двинет рысью к лесу.
Родимцев застонал.
Взглянув на него, Дробот увидел – капитан открыл глаза и смотрит прямо перед собой.
Потом веки вновь опустились.
– Дерябин! – повторился крик. – Слышишь меня?
Голос доносился со стороны капота, и Николай переместил ствол в том направлении.
– Слышу! – выкрикнул в ответ. – Страшно стало?
– Поговорим?
– О чем?
– Ты узнал меня, правда?
– Ты мне сниться будешь, Дробот!
– Так поговорим?
– Я тебя слушаю!
– Так и будем орать?
– Выходи! Давно не виделись!
– Ну да, нашел дурака!
– Страшно?
– Стреляешь метко!
– Заметил? То-то! Валяй, только покороче!
Со стороны капота вновь обозначилось движение, и Дерябин пальнул туда, словно показывая, кто здесь все еще главный.
– Не стреляй! – донеслось из-за машины.
– А ты не лезь, куда не надо! Говори так, чего хотел! Времени мало!
Повисла короткая пауза.
– Тут ты прав, времени нет совсем! – откликнулся Дробот. – Мы одни сейчас. Родимцев готов. Ты его достал, старлей! Или ты уже не старлей?
– Какое твое собачье дело? – Теперь паузу выдержал Николай. – Так что, командир твой спекся, говоришь?
– Совсем. Он меня расстрелять хотел.
– За что?
– А ты – за что?
Дерябин не сдержал короткого смешка.
– Слышь, Дробот, у тебя судьба такая! Тебя все кругом хотят расстрелять!
– Ты сам видел, я под арестом сидел.
– Ну, видел. Что с того? Не тяни резину, чего надо?
– Мы хоть как повязаны теперь, Дерябин! Мне обратно нельзя, при любом раскладе. Тебе – тем более, для тебя даже раскладов при таких делах не придумали! Скажешь, не так?
Он прав. Дерябин, лежа в укрытии за мотоциклом, вынужден был это признать.
– Не молчи, старлей! Прав я или нет?
– Ты как герр Дитрих прямо…
– Как кто?
– А, тебе не надо… Все сказал?
– Кончай воевать, Дерябин! Мы в одном корыте с тобой, сам же понял. Я выйду, уйдем вместе.
– Куда?
– Хоть в лес. Ты ведь куда-то собирался?
Странно – до этого момента Николай Дерябин понятия не имел, что с ним будет дальше и куда податься.
– Говори! – выкрикнул он, так и не придумав ответа.
– Можем через фронт. Обратно к немцам. Вместе придем, ты за меня поручишься.
– За меня бы кто слово замолвил, – буркнул Дерябин.
– Чего молчишь? – торопил голос из-за грузовика.
– Можем через фронт, – проговорил, наконец, Николай. – А как еще можем?
– Поблукаем и сдадимся нашим. Если я один приду, меня шлепнут. Ты офицер НКВД, тебе скорее поверят. А ты опять за меня подпишешься. Кто о тебе знает? Только я, а мне нет смысла тебя сдавать! Меня ведь самого… Ну, ты же сам знаешь!
В его словах читался здравый смысл. К немцам Дерябину возвращаться не хотелось. Только обратно к тем, кого Дробот называл своими, ему хотелось еще меньше. Это таило в себе намного больше рисков, чем вероятное возвращение в школу диверсантов.
Но сам разговор с Дроботом подсказал Николаю простой и очевидный выход.
– Слышь, боец!
– Да!
– А ведь это мысль! Выходи, потолкуем! Отсюда сперва надо убраться! Будем далеко – обсудим! Ты как, не бздишь?
– Я выйду. Стрелять не будешь?
– Зачем! Мы же решили! Только слышь, Дробот!
– Да!
– Оружие выбрось сначала. Чтобы я видел! И руки вгору потом! Годится?
Опять короткая пауза.
– Сойдет. Гляди!
Из-за автомобильного капота вылетел и упал на землю ППШ.
– Все, что ли? Больше нету ничего?
– Откуда?
– Лады. Теперь пошел ко мне. Медленно. – А ведь дурак, признал Дерябин. Сам под пулю идет. – Руки держи над головой, чтобы я видел.
Оставлять его в живых Николай не собирался при любых раскладах. Как бы он ни решил действовать дальше, куда бы ни придумал податься, Дробота проще застрелить сейчас.
– Не стреляй! – в который раз выкрикнул Роман.
– Давай, выходи, боец! Не боись!
Дробот медленно показался из-за грузовика.
Руки подняты вверх. Для убедительности он скинул ватник, чтобы показать – оружия у него нет.
Двигался он как-то странно: не прямо на Дерябина, а забирая влево. Заставляя Николая при этом менять позицию – из занятого им положения целиться вдруг стало неудобно.
– Куда пошел?
– Сам же сказал – выходи. Я выхожу.
Дробот шагал уверенно. Дерябин даже на долю секунды пожалел о своем решении убить его – слишком легко тот попался в ловушку, дверцы которой сам же старательно открыл.
– Ты где там?
Как же надоел, будто всю жизнь тебя знаю…
– Тут я, боец!
Дерябин поднялся, встал во весь рост. Винтовку не опустил. Крепче прижал приклад к плечу.
Дуло смотрело прямо на Дробота, стоявшего, как хорошая грудная мишень, с поднятыми руками.
– Здесь я! – повторил Дерябин.
Палец плавно надавил на спуск.
Выстрел.
События в поселке развернулись стремительно – и так же быстро завершились.
Начав движение двумя разными группами, диверсанты по ходу развернули строй, охватив центральную часть Хомутовки полукольцом. Девять тренированных бойцов могли при умелой расстановке сил и главное – используя эффект неожиданности, контролировать территорию, стремительно локализовав любую попытку сопротивления и уравняв силы.
Когда позади, со стороны комендатуры, прозвучал первый выстрел, Степан Кондаков решил – это обещанный сигнал. Правда, они еще не добрались до складов, но раз началось – стало быть, так надо, тянуть больше нельзя. Отрезая самому себе возможность потянуть время и поразмыслить еще немного, Кондаков выстрелил первым, останавливая автоматной очередью первого же увиденного им партизана, выскочившего на звуки пальбы из ближайшей калитки. Следуя его примеру, остальные диверсанты тоже открыли огонь, и эффект внезапности сработал в полной мере: вооруженные мужчины, появившиеся на улице, не сразу сообразили, почему в них стреляют другие мужчины в форме красноармейцев.
Так удалось выиграть несколько минут, но бойцы, находившиеся в поселке, опомнились и верно оценили происходящее, быстрее, чем предполагал Кондаков и остальные. А оценив, пустили в ход гранаты.
Важную роль сыграло то обстоятельство, что двум бойцам из отряда «Смерть врагу!» удалось подобраться к диверсантам с тыла. Когда началась перестрелка и появились первые жертвы, эти двое сидели в одной из хат чуть поодаль главной улицы, на которой разгорелось главное сражение. Их просто расквартировали в этой хате, и мужики помогали по хозяйству. Прежде чем они что-то поняли, диверсанты стремительно продвинулись вперед, и партизаны, появившись на поле боя, увидели, как бойцы в красноармейской форме стреляют в их товарищей. Партизанский опыт всплыл тут же: за время войны во вражеском тылу обоим приходилось видеть ряженых и даже иметь с ними дело.
Когда сзади, из-за забора, полетели гранаты, Кондаков и остальные, не ожидая такой контратаки, мгновенно заняли круговую оборону. Однако осколки уже вывели из строя двоих, часть диверсантов, шедшая с Ярославцевым, поскорее рассыпалась по улицам, ответвленным от главной. Люди, по-прежнему не понимавшие, что происходит и почему вдруг в глубоком тылу снова началась война, привычно попрятались, кто куда, закрывая двери плотнее. У простых хомутовцев просто не было времени и желания разбираться, почему советские воины вдруг начали стрелять друг в друга.
Этим они, сами того не зная, облегчили задачу по ликвидации вражеского десанта. Испуганные люди, привыкшие выживать на войне, просто не мешались под ногами.
Бой, принятый уцелевшими партизанами, оказался неравным – четверо диверсантов мигом взяли в клещи двух бойцов. Но тут подтянулось подкрепление: те из вчерашних партизан, кто уцелел после стремительного и вероломного нападения десантников, разобрались, что к чему, ударили по нападающим с удвоенной силой. Правда, у диверсантов и при таком раскладе оставался неплохой шанс вырваться. Кондаков, оценивший положение своей группы в пылу схватки, решил, что самое разумное – отойти обратно к центру, туда, где их ждала машина. И где ситуацию наверняка контролирует Отто Дитрих – ладно, пускай не Дитрих, а этот Пивоваров… или как его там. Только пока они грызлись с партизанами, увязнув в уличном бою, подоспели солдаты из взвода охраны.
Гвардейцы, наступавшие от Сталинграда, заметно притомились, охраняя не представлявший стратегического значения склад горючего в таком же по значительности российском поселке. Потому происходящее резко оживило их, и взводному осталось только скомандовать: остальное гвардейцы сделали сами. Диверсантов за считанные секунды взяли в кольцо, и пленных решили не брать – ни Ярославцев, попытавшийся выйти с поднятыми руками, ни раненный в живот Кондаков не могли надеяться на пощаду.
После, подсчитывая потери и составляя рапорт, было отмечено: от первого выстрела, с которого началось нападение на поселковую комендатуру, до того момента, как была обнаружена серьезно раненная Полина и захвачен единственный, кто на то время остался в живых, также тяжело раненный, переодетый в форму советского лейтенанта немецкий офицер, прошло восемнадцать минут.
Бой местного значения.
На войне это и много – и мало.
Кровь нельзя было остановить.
Она текла со лба вниз по лицу, заливала глаза. Наверное, оттого впервые за много дней Игорь Родимцев чего-то боялся – боялся, что не сможет как следует прицелиться и достать пулей Дерябина, поднявшегося из своего укрытия во весь рост.
У них с Дроботом не было никакого плана. Просто когда Родимцев взглянул на него, почувствовав внезапно, что не находит сил спросить о происходящем, тот, так же молча, без лишних объяснений, показал рукой в сторону кузова. А потом, когда капитан прикрыл глаза, пытаясь совладать с очередным резким приступом рывками наступающей боли, Роман громко заговорил с Дерябиным.
Даже сквозь боль Родимцев понял простой замысел Дробота – а в подобном положении всегда срабатывают именно простые, без затей, планы. Роман хотел выманить стрелка из укрытия, вызывая огонь на себя, играя роль живца, того самого живого козленка, которого привязывают охотники в джунглях, выманивая тигра. Игорь, сдерживая стон, стараясь не привлечь к себе внимания движением под грузовиком, которое с позиции Дерябина наверняка будет заметно, перевернулся на живот.
И медленно пополз.
Он не вслушивался в слова, которые выкрикивал Дробот. Не пытался услышать ответы Дерябина. Ничто из этого не имело ровным счетом никакого значения. Важным оставалось одно: сможет ли он, Родимцев, выполнить свою часть задачи. Ведь даже пульсирующая боль не мешала ему понять очевидное, даже если это не в полной мере дошло до Дробота: оставлять своего врага в живых Дерябин не собирается, каким бы соловьем он здесь ни разливался и на какие бы переговоры ни соглашался.
Когда капитан подобрался к противоположному краю полуторки и осторожно высунулся из-за колеса, то увидел сквозь розовую пелену, как Николай Дерябин неспешно поднялся во весь рост из-за перевернутого мотоцикла. Их сейчас разделяло, по прикидкам Родимцева, немногим больше двадцати метров. Если бы стрелок поднялся с той же позиции, в которой лежал, он непременно засек бы движение за грузовиком. Но Дерябин вел себя несколько странно – встал, одновременно развернувшись к задней части полуторки сперва боком, а затем и вовсе спиной.
Он поворачивается за мишенью, понял Родимцев.
Дробот вышел не прямо перед ним. Он, судя по всему, специально забирает чуть в сторону, понимая, что стрелок станет разворачиваться за ним, по ходу его передвижения. Оценить этот несложный тактический ход у Игоря также не осталось времени. Приподнявшись, он вытянул руку с пистолетом, перехватил ее для верности второй, оперся плечом о борт, крепко упер подошвы в землю. Цевье пистолета прыгало, ходило ходуном, но Родимцев нашел в себе силы справиться и с этим.
Чуть раньше он в очередной раз утер кровь с лица. Теперь струйка стекла снова, и капитан не хотел отпускать руку, сбивая прицел и нарушая принятую позицию.
– ЗДЕСЬ Я! – выкрикнул Дерябин, и Родимцев понял – все, времени нет ни у него, ни у стрелка, ни у Дробота.
Стиснув зубы, на миг окаменев, он плавно, словно подсекал рыбу, резко дернувшую поплавок, нажал на спуск.
Внезапно поняв, что на второй выстрел уже нету сил, Родимцев согнул ноги в коленях и осел наземь. Успел заметить боковым зрением, как при звуке выстрела кинулся на землю в отчаянном прыжке Дробот, спасаясь от пули. Если бы Дерябин сейчас получил второй шанс, никакие маневры не помогли бы Роману – следующий выстрел непременно решал дело.
Только другого шанса у Николая Дерябина не было.
Он замер, словно решив прицелиться получше. Затем повернулся на звук, словно интересуясь, кто это стреляет без его позволения. А потом, качнувшись, рухнул прямо на перевернутый мотоцикл, лишь теперь надавив на курок. Винтовка выстрелила куда-то ему под ноги, из рук оружие Дерябин не выпустил.
Теперь Родимцев смог вытереть кровь с лица. И даже вновь прикрыть глаза – так вроде чуть меньше болело.
А Роман Дробот уже вскочил, бросился к мотоциклу, благоразумно зайдя упавшему Дерябину со спины, взял за плечо, перевернул.
– В яблочко, командир! – выкрикнул радостно. – Прямо в башку! Куска черепа нет!
Оставив труп, он легко перепрыгнул через мотоцикл, хотя можно было запросто обойти, поспешил к раненому, присел, потормошил за плечо. Капитан снова открыл глаза.
– Слышь, Ильич! Ты его положил!
– Значит, хотел, – ответил Родимцев, сам удивляясь слабеющему голосу. – Если тебе верить, я убил офицера НКВД. Рапорт придется сочинять…
– И что?
– Не отпишешься…
– Он же предал! Сам же видел!
– Один хрен… Тем более не отпишешься…
Задрав линялую грязную гимнастерку, Дробот резким движением оторвал длинную полосу от такой же несвежей нижней рубахи, краем отер кровь с лица Родимцева, перевязал рану.
– Ну, пока так. Вернемся – получишь помощь. Наши там справились?
– Делов-то, – Игорь вновь подумал о Полине, но вспоминать о ней при Дроботе даже теперь не хотел, проговорил вместо этого: – Я тут слушал ваши переговоры… Еще раньше ты пробовал о нем рассказать… Похоже, этот Дерябин тебя с самого начала невзлюбил. С чего бы?
– А ты – с чего, Игорь Ильич?
Родимцев не ответил, спросил про другое:
– Крепко меня?
– Чуть правее – и амба.
– Успокоил…
– Машину трясло. Он «ворошиловец»… был. Гордился этим, я сам слыхал…
– Разберемся. Нам бы обратно…
– Машина на приколе. Мотоцикл я тоже не освою. Полежишь тут, пока я помощь приведу?
Игорь вместо ответа снова прикрыл глаза.
Выпрямившись, Дробот поискал глазами и нашел свой ватник.
Подхватил, не пойми зачем отряхнул. Надел. В кармане что-то было. Сунул руку, нащупал галету, вспомнил утренний арестантский паек.
Галеты раскрошились. Одна уцелела. Разломив пополам, Дробот захрустел своей половинкой, другую протянул Родимцеву. Тот не увидел, Роман потормошил капитана за плечо. Игорь поднял веки, машинально протянул руку, взял галету и тоже сунул в рот.
– Хлеб преломили, – вырвалось у Дробота.
– Чего?
– Хлеб мы с тобой, Ильич, преломили, говорю.
– И что?
Дробот хотел объяснить. Но тут же решил – не стоит. Лишнее.
Выпрямившись, широко расправил плечи. Разгрыз остатки галеты.
Только здесь и сейчас почувствовал, наконец, – воздух пахнул как-то по-особому. И ветерок тормошил лицо. Раньше он каждый год замечал такие перемены.
Вокруг была весна.
Декабрь 2012 – январь 2013 гг.
Киев
От автора
Книга, только что прочитанная вами, уважаемые читатели, – художественное произведение, выдержанное в популярном жанре военно-приключенческого романа. Надеюсь, вы не скучали, переживали за судьбы героев и с нетерпением ждали, как же сложатся они в конце истории. Считаю своим долгом напомнить: имена главных героев и перипетии, пережитые ими в ходе сюжета, – плод авторского воображения. Конечно же, все совпадения случайны и к реально жившим либо живущим людям никакого отношения не имеют.
Однако события, на фоне которых разворачивается сюжет романа, к сожалению, имели место в нашей реальной жизни. Война 1941—1945 годов, полыхавшая на территории многих стран, отошла не в такое уж далекое прошлое. Еще живы люди, которые помнят и войну, и годы оккупации. Потому мне очень хотелось максимально приблизить вымышленные события к реальной исторической правде. И заодно попытаться по возможности избежать тех спекуляций, в том числе политических, которые возникали и еще долго будут возникать вокруг всего, что касается тех страшных военных лет. А также не дать повода для появления новых спекуляций.
Когда я только начал работать над сюжетом этого романа, еще не до конца представлял себе ни его героев, ни конкретного исторического фона, на котором будут происходить события. Изначально преследовал цель написать о том, как люди выживали на войне. Ведь для каждого, будь то старший офицер, рядовой боец и особенно – мирный житель, оказавшийся меж двух огней враждующих сторон, важнее не исход конкретного сражения, а то, сможет ли лично он выжить. А способы выживания каждый выбирал для себя свои.
Одни старались убежать подальше от фронта. Другие стряпали справки о болезни. Третьи, наоборот, отчаянно и безоглядно шли в атаку, надеясь – вот сегодня удача снова не изменит, ведь смелого пуля боится. Желание выжить заставляло предавать и сотрудничать с врагом в годы войны, желание выжить определяет поведение каждого человека, его личный выбор и в наши дни. Может, это еще одна травма времен войны, которую трудно залечить даже через четыре поколения…
Собираясь писать о противостоянии мужества и предательства, я в поисках неизвестных раньше документальных материалов неожиданно наткнулся на сборник под названием «Родня. Полиция и партизаны на примере Украины. 1941—1944», изданный в 2011 году «Украинским Издательским Союзом» при содействии Центрального Государственного Архива, общественных объединений Украины и Ведомственного Государственного Архива Службы безопасности Украины. Книга вышла ограниченным тиражом и представляет собой объемный, более 500 страниц, сборник оригинальных документов, которые знакомят заинтересованных читателей с особенностями деятельности как партизанских отрядов, так и формирований вспомогательной полиции на украинских территориях, граничащих с Российской Федерацией и Белоруссией. Составители изучили биографии людей, пытаясь понять, какое влияние оказала на их мировоззрение политика репрессий, проводимая как коммунистическим режимом в период с 1917 по 1941 год, так и оккупационным режимом фашистов в период с 1941 по 1944 годы.
Опираясь на результат многолетней работы с архивными документами, многие из которых ранее имели гриф «секретно», исследователи пришли к нескольким базовым выводам, ставшим для меня ключевыми и во многом определившим сюжет и характеры большинства персонажей.
Во-первых, как указывается в упомянутой книге, ни партизаны, ни полицаи не появлялись сами по себе, их формирования не являлись народной инициативой. Вспомогательная полиция призвана была стать частью гигантского репрессивно-карательного аппарата Третьего рейха. А советские партизаны не были участниками Сопротивления и народными повстанцами: ведь, как свидетельствуют документы, отряды начали формироваться сразу после начала войны с СССР, но еще до того, как немцы заняли определенные территории. Потому партизаны были чем-то вроде отрядов спецназа, цель которых – диверсии, террор и разведка, а также пропаганда и агитация в тылу врага.
Во-вторых, интересы местного населения, тех самых простых людей, оказавшихся на оккупированных территориях, ни партизаны, ни тем более – полицаи в своей деятельности не учитывали. Либо же считались с ними очень слабо.
В-третьих, именно в период, описанный в романе, немецкое командование стало активно применять советскую практику организации массовых диверсий и террористических акций во вражеском тылу. О чем свидетельствуют приводимые в книге оригинальные документы.
Наконец, исследователями доказано: в годы войны советские граждане переходили на вражескую сторону не по идеологическим принципам и политическим убеждениям, а «движимые стремлением сохранить собственную жизнь или улучшить свое материальное положение в данной конкретной ситуации». При этом чаще всего предавали «слуги советской власти», так называемый партактив, в первую очередь – коммунисты и комсомольцы, а также силовики, чиновники и номенклатурщики»[13].
Знание этих и других фактов ни в коей мере не оправдывает преступления полицаев против мирного населения. И тем более – не умаляет значения героической борьбы в тылу врага и не ставит под сомнения подвиг каждого партизана и подпольщика.
Документы, которые я прочел на одном дыхании, словно увлекательный детектив, помогли лучше понять, о чем и как нужно писать военные романы сегодня, чтобы они звучали по-новому, актуально и призывали более объективно, с меньшей предубежденностью и меньшим пафосом, взглянуть на события тех страшных лет.
Если мы знаем правду, нас намного сложнее обмануть и нами уже невозможно манипулировать.
Именно реальные материалы подтолкнули меня описать партизанские будни и организацию работы полиции не совсем так, как это было принято раньше, в советской литературе. Пусть многие сцены и эпизоды, даже смягченные при художественной обработке, могли показаться вам, уважаемые читатели, слишком жесткими, но такова, увы, правда жизни.
Я очень надеюсь, что вы будете ждать новых историй о последней войне, которые будут лишены идеологической шелухи, а также дадут возможность в увлекательной форме остросюжетного романа рассказать о том периоде более объективно.
Андрей Кокотюха
Примечания
1
Хиви (нем. Hilfswilliger, желающий помочь; Ost-Hilfswilligen, восточные добровольные помощники) – добровольные помощники вермахта. (Здесь и далее примеч. авт.)
(обратно)2
Ландшуц – ополчение из граждан рейха, непригодных к фронтовой службе. На оккупированной территории батальоны ландшуцманов несли преимущественно тыловую службу. Добровольцы-хиви входили в состав ландшуц-батальонов, подчиняясь немецкому командованию. Такие батальоны пополнялись, в том числе, за счет вахкоманд и взводов вспомогательной полиции (полицаев). В некоторых случаях командиры коллаборационистов – хиви получали те же полномочия, что и шуцполиция – гражданская оккупационная полиция рейхскомиссариата «Украина», административно-территориальной единицы, образованной в августе 1941 года немецкой администрацией на территории оккупированной Украины и введенной в состав Третьего рейха.
(обратно)3
УШПД – Украинский штаб партизанского движения, создан в июле 1942 года для руководства партизанским движением на территории оккупированной Украины. Подчинялся ЦК КП(б)У и Центральному штабу партизанского движения. До октября 1942 года находился в Саратове, после был переведен в Москву.
(обратно)4
4-е управление НКВД СССР. Создано в январе 1942 года, курировало террористические и диверсионные операции в тылу врага. Со времени создания до мая 1943 года управлением руководил Павел Судоплатов, известен как самый успешный ликвидатор в истории ОГПУ – НКВД – НКГБ. Среди прочего – организатор убийств лидера ОУН Евгения Коновальца и главного политического оппонента Сталина – Льва Троцкого.
(обратно)5
Подожди! Кажется, он хочет служить рейху (нем.).
(обратно)6
Отставить! Стоп! (нем.)
(обратно)7
Яков Джугашвили, старший лейтенант РККА, на фронте – командир батареи. Попал в плен в самом начале войны, в июле 1941 года. После поражения немцев под Сталинградом, в феврале 1943-го, был переведен из центральной тюрьмы гестапо в концлагерь Заксенхаузен. Считается, что Яков Джугашвили погиб при попытке к бегству в конце 1943 года. Согласно легенде, Сталин отказался менять сына на плененного фельдмаршала Паулюса. По альтернативной версии, Яков погиб в бою, а в лагере все это время находился двойник, которым немцы пытались давить на Сталина.
(обратно)8
Я прав? (нем.)
(обратно)9
Я прав? Да, я прав (нем.).
(обратно)10
Рейхсвер – вооруженные силы Германии, ограниченные по составу и численности условиями Версальского договора. Основаны в 1919 году. В 1935 году переформированы в вермахт, новые вооруженные силы, на которые не распространялись наложенные на рейхсвер ограничения.
(обратно)11
Немецкая коротковолновая радиостанция «Torn.Fu.g» новейшего на тот период образца (1942 года выпуска) мощностью 1,5 Вт производства «Телефункен» – ведущей в то время немецкой компании, производящей радиоприемники, передатчики, устройства для воспроизведения звука и детали к ним.
(обратно)12
Вы все поняли? (нем.)
(обратно)13
Родня. Полиция и партизаны на примере Украины. 1941—1944. Украинский Издательский Союз, 2011. С. 8—9.
(обратно)

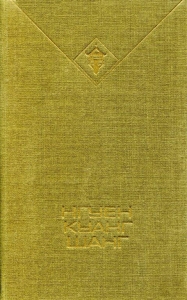





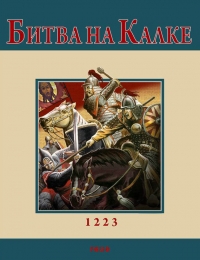




Комментарии к книге «Найти и уничтожить», Андрей Анатольевич Кокотюха
Всего 0 комментариев