Рисунки Р. Гершаник
В сопках
Самолеты появились внезапно.
Узкие улицы маленького города, разбросанного на берегу реки, наполнялись людьми. Мужчины на бегу затягивали кушаки, женщины с мертвенно бледными лицами испуганно выглядывали из-за заборов.
Стояло раннее сентябрьское утро. Начиналась золотая манчжурская осень. От реки шел глухой и грозный шум стремительного половодья; старики предсказывали большое наводнение. Над отливавшими желтизной сопками курился прозрачный, едва уловимый светлый дымок.
…Японские бомбардировщики кружили над городом. Один самолет быстро снижался. Подняв головы, тысячи людей — старики, женщины и дети — безмолвно следили за каждым движением самолета. Совсем низко над базарной площадью бомбардировщик замер на мгновение, недвижно распластавшись в воздухе. Отчетливо щелкнули механизмы. От самолета отделились два больших предмета, похожих на свертки…
Бомбы взорвались почти одновременно. Толпа замолкла, словно захлебнулась в клубах черного дыма и горячего воздуха. Затем неистовый вой разорвал безмолвие площади. Десятки людей корчились на земле. Обезумевшие матери метались по площади, разыскивая своих детей. Толпа, хлынувшая в узкие улицы, устремилась к сопкам.
Сделав несколько кругов, бомбардировщики опять пошли на снижение. Теперь бомбы падали беспрерывно, одна за другой. Город запылал сразу в нескольких местах. Сухой треск разрывов наполнял воздух. Бреющим полетом проносились самолеты. Летчики расстреливали женщин и детей из пулеметов. Стреляли почти в упор — в спины, головы, шеи.
Головной бомбардировщик опять делал круги над базарной площадью. Оставляя в пыли кровавые следы, люди ползли к подворотням домов, под защиту хрупких глиняных заборов. Молодая женщина, с лицом, искаженным от ужаса и боли, передвигалась на четвереньках. Останавливаясь, она прижимала руки к животу, становилась на колени и падала, дико вопя. Наконец, прижавшись к большому камню на площади, женщина затихла.
Снизившись, самолет сбросил на площадь последнюю бомбу. Пыль, поднятая разрывом, оседая, покрывала трупы серым саваном. Самолет уходил к сопкам.
* * *
Чжао Шан-чжи лежал на гребне сопки и следил за полетом японских бомбардировщиков. Они приближались. Из горящего города к холмам тянулся густой черный дым. Возле Чжао Шан-чжи стоял новенький пулемет. Чжао сам, своими руками, захватил его у японского отряда в бою под Суйбинем. В заботливых руках Чжао этот вражеский пулемет стал послушным и точным.
У Чжао обезображенное, но мягкое и приветливое лицо. Глубокие шрамы бороздят щеки, лоб, подбородок. Чжао смотрит только одним маленьким умным смеющимся глазом. Другой глаз он потерял в бою. Чжао спокоен. Разведчик, вползший на гребень сопки, быстро рассказывает ему: город почти весь сожжен, сотни женщин, детей и стариков убиты японскими захватчиками. У молодого разведчика по щекам текут слезы.
— Боишься? — спрашивает его Чжао Шан-чжи.
— Нет, не боюсь. Моя мать, мой отец, сестренка, братишка— вся семья моя погибла. Там, где стоял наш дом, теперь черная земля. В золе лежат обугленные тела. Нельзя никого узнать.
Чжао крепко пожимает руку разведчику.
— Крепись, — тихо говорит он ему. — Народ никогда не забудет их кровавых преступлений. Народ отомстит За твою семью, за твоих товарищей, за всех нас. Японцы разрушают наши города, истребляют население, чтобы легче было покорить нашу страну, запугать наш народ, превратить нас в своих рабов.
Чжао помолчал немного и тихо сказал:
— Нужно бороться до последнего вздоха. Если уничтожат наш отряд, на смену нам встанет второй, и третий, и четвертый, — будет драться вся страна. Весь народ поднялся на борьбу. Никто не щадит своей жизни, никто не хочет быть рабом.
Разведчик, сжав губы, внимательно слушает Чжао Шан-чжи, своего командира. Он крепко держит рукой винтовку и яростно хмурит тонкие брови.
— Чжао, я не боюсь ничего, ты ведь знаешь меня не первый день. Приказывай, и я выполню все, что надо.
Самолеты близко, они, как громадные птицы, кружат над сопками. И только головной бомбардировщик, как бы недвижно застыв в небе, парит высоко над сопкой. На гребне ее, закрывшись зелеными ветками кустарника, лежит со своим пулеметом Чжао Шан-чжи. Он лежит на спине, стиснув зубы, и с трудом устанавливает пулемет у себя на груди и животе. Чжао Шан-чжи сгибает ноги и укладывает на тесно сжатые колени дуло пулемета. Ему очень неудобно и трудно управиться с пулеметом, который прижимает его ноги к земле. Чжао поворачивает голову и кричит в кустарник:
— Ли!
На гребень сопки выползает зеленый куст. Чжао сам обучал своих бойцов маскировке. Ли, скорчившись, опускается коленями и руками на землю. Ноги Чжао ложатся на спину Ли. Он помогает своему командиру держать пулемет на весу, дулом в небо. Самолет, снижаясь, делает круг, как хищная птица высматривая добычу.
Чжао на глаз определяет расстояние.
— Ближе, ближе! Хорошо! — бормочет он едва слышно.
Дуло пулемета упорно следует за японским самолетом.
Чжао открывает огонь. Пули бьют по крыльям. Бомбардировщик дернулся и начал быстро набирать высоту, уходя в сторону. Чжао, не отрывая глаз от самолета, ведет непрерывный огонь. Он улыбается. Самолет качнулся раз, другой, вошел в пике и тяжело рухнул на землю.
Тишина. Ли ничего не видит. Он спрашивает Чжао:
— Почему не стреляешь?
Ли не слышит ответа Чжао: страшный взрыв потрясает воздух и землю. Далеко по сопкам разлетелись части японского бомбардировщика. К месту взрыва устремились другие японские самолеты. Партизаны попрежнему лежат неподвижно, скрытые зелеными ветками кустарника. Японские самолеты снижаются, обследуют место падения своего вожака, долго кружат.
Один летчик заметил что-то подозрительное возле сопки, на которой лежат Чжао и Ли. Самолет проносится низко-низко над ними. Грохот мотора заглушил треск пулемета. Самолет задрал нос кверху, качнулся, задел хвостом кустарник, упал на гребень сопки. Медленно разламываясь, он сползает вниз.
Обессиленный, Чжао осторожно стянул со своего живота пулемет. Ли лег рядом с командиром и взглянул в небо. Три самолета летели к сопкам. Над сопками они перешли в бреющий полет, обстреливая партизан из пулеметов. Неподвижный кустарник внезапно ожил: сотни партизан появились в сопках. Самолеты, встреченные огнем, повернули к реке и исчезли в клубившемся дыму пожарища.
* * *
Сумерки медленно наплывали на сопки. Партизанский отряд шел по едва уловимым тропкам, покидая свое убежище. Вместе с ним уходили и жители сожженного города. Отряд Чжао Шан-чжи увеличился вдвое. Люди двигались молча, низко опустив головы. Сотни бойцов потеряли сегодня своих отцов, матерей, жен и детей. Отряд провожали старики и старухи.
Партизаны шли не оглядываясь, крепко сжимая винтовки.
Партизаны уходили в большой поход.
* * *
Крестьянин упорно отказывался отвечать на вопросы остановивших его партизан. Он твердил одно:
— Я хочу видеть партизанского командира Чжао Шан-чжи.
Измученный бессонными ночами, командир отряда спал. Партизанам не хотелось будить его. Крестьянин настаивал:
— Он знает меня. Чжао сам просил предупредить его…
Чжао Шан-чжи внимательно выслушал взволнованную речь крестьянина.
— Хорошо, мы придем, — сказал он. — Но смотри, чтобы никто об этом не узнал.
Поздней ночью вышел из сопок небольшой отряд — человек тридцать.
Впереди, прислушиваясь к шорохам, идут Чжао и Ли. Все партизаны одеты в японскую военную форму. Чжао натянул на себя мундир недавно захваченного японского подполковника.
Недалеко деревня. В ней заночевал японский отряд, сопровождавший грузовики с оружием и боеприпасами для японских резервистов, поселившихся на лучших землях, отнятых у манчжурских крестьян. Вместе с оружием к резервистам направляется группа офицеров.
Возле деревни партизан окликнул японский часовой:
— Стой! Кто идет?
Чжао не остановился. Часовой вскинул винтовку к плечу. Из-за сопок выплыла сияющая луна. У самого дула часовой увидел японского офицера. Бормоча извинения, солдат вытянулся в струнку и козырнул. Потом он грузно опустился на корточки, выронив из рук винтовку…
Палатки японского отряда стояли на деревенской площади, в центре поставленных четырехугольником грузовиков.
Вторым ударом Ли предупредил окрик другого часового. Путь был открыт. Спящих солдат и офицеров, обезоружив, быстро связали.
…Уже занималась заря. Чжао Шан-чжи осмотрел содержимое ящиков и тюков, находившихся на грузовиках. Улыбка радости не сходила с его губ. Оружия оказалось достаточно, для того чтобы создать новый партизанский отряд.
Ли переругивался с одним из японских офицеров. Офицер говорил по-китайски и грозил изжарить партизан живьем, если они не отпустят офицеров.
— На что вы мне нужны! — посмеиваясь, отвечал ему Ли. — Вот если Чжао Шан-чжи прикажет, я отпущу всех.
— Чжао Шан-чжи? — лицо офицера стало мертвенно бледным.
Он уже слышал об этом партизанском вожаке, знал о грозной славе и удаче, которые сопутствовали Чжао в его бесстрашных походах.
Разговор оборвался.
Резкие звуки автомобильных сирен сзывали на площадь деревенских жителей. Одновременно в деревню вступал весь партизанский отряд. На площади Чжао Шан-чжи назначил всенародный суд над хищными чужеземными захватчиками — японскими самураями.
* * *
В декабре начались жестокие манчжурские морозы. Третья антияпонская народная партизанская армия Чжао Шан-чжи отступала под натиском двух японских дивизий. Генералы Иватосу и Накамура вели широкое комбинированное наступление против партизан на участке в несколько десятков километров. Японцы охватывали партизан слева и справа одновременно. В этом наступлении участвовали танки, самолеты и броневики.
Преследуемые японцами, полураздетые, полуголодные партизаны неустанно двигались вперед днем и ночью. Многие, обессилев, падали на землю и навсегда оставались в сопках. Стаи волков и одичавших собак рыскали по следам партизанской армии.
Чжао Шан-чжи упорно вел за собой партизан. Он отчетливо понимал цель наступления японских дивизий: загнать партизанскую армию в мешок и истребить ее. Этому плану Чжао противопоставил свой, разработанный им вместе с командирами партизанских отрядов. Отступая, он завлекал японцев в глубь сопок, стремясь оторвать их от баз снабжения и заставить японские дивизии разбиться на части.
Японцы гнали партизан в сопки, действуя пока сообразно с планами Чжао — заходя в далекие от японских баз районы. Но наступление они вели попрежнему — крупными частями войск. Партизанскую армию загоняли в ловушку — в кольцо японских дивизий.
— Братья командиры! — начал Чжао...
Измученный и истощенный, Чжао лежал возле весело потрескивающего костра. Ли, придвинувшись к нему, тихо рассказывал:
— Чжао, до меня дошел слух, что Байлун задумал перейти к японцам.
Чжао стиснул зубы.
— Не верю! — резко ответил он.
— Хорошо, если бы я с товарищами ошибался! — промолвил Ли. — Сегодня ночью Байлун хочет уйти от нас со своим отрядом.
Чжао Шан-чжи вскочил на ноги.
— Ли, — решительно бросил он своему помощнику, — созывай всех командиров ко мне!
Байлун, командир двухтысячного партизанского отряда, бывший полковник генеральских войск, вышел из хунхузов. Байлун всегда был не в ладах с дисциплиной. Продолжительное наступление японских войск надломило Байлуна, и когда в его отряде появился японский лазутчик, он не расстрелял его, а втайне от своих бойцов-партизан принял условия капитуляции. Байлун предавал свой народ, свою страну.
Командиры собрались быстро. Байлун пришел последним.
— Братья командиры! — начал Чжао свою стремительную, горячую речь. — Хотите ли вы сделаться вечными рабами Японии, или будете с оружием в руках добиваться свободы для своего народа и для своей страны как боевые национальные герои? Братья! На наших глазах враг терзает нашу землю, наш народ. Наша родина гибнет по воле японских грабителей. Мы ведем с ними неустанную борьбу не на жизнь, а на смерть. Старая пословица, братья командиры, гласит: за процветание или гибель государства отвечают все и каждый в отдельности. И тем более бойцы и командиры антияпонской народной армии.
— Верно, верно! — в один голос подтвердили командиры.
И только один Байлун сидел молча, закусив губы.
— Братья командиры! — продолжал Чжао Шан-чжи. — Среди нас сидит предатель, капитулировавший перед врагами нашего народа. Этот предатель должен сегодня ночью…
Байлун вскочил на ноги и выстрелил в Чжао. Но он промахнулся. Раздался второй выстрел — предатель упал на снег. Ли держал в руке маузер. Байлун был еще жив. К костру устремились партизаны.
Весть о предательстве мгновенно облетела весь партизанский лагерь. И никто не пожалел Байлуна. Он умирал возле костра, покинутый всеми и презираемый. Это был конец, достойный человека, предавшего свою родину. Партизаны теснее сплотились вокруг своего испытанного в суровых боях вожака — Чжао Шан-чжи.
* * *
Японцы продолжали стремительно наступать. У партизан вышло все продовольствие. Последние два дня партизаны по пути охотились на волков и диких собак, но учуявшие беду животные держались теперь на значительном расстоянии от изголодавшейся армии.
Всю ночь Чжао совещался с командирами отрядов. Разведчики донесли, что в лоб партизанам движется обходная вражеская колонна. Партизанская армия попала в мешок. Выхода не было. Чжао приказал остановить армию. Голодные и утомленные бойцы опустились на корточки. Спина к спине и плечо к плечу, согревая друг друга дыханием, сидели в сопках бойцы легендарной партизанской армии Чжао Шан-чжи — мужественного героя китайского народа.
…Со стороны реки появились японские танки. Как хищные звери, цеплялись они за ледяной покров сопок, соскальзывали и вновь поднимались. За танками шла пехота. Танки стремились захватить высоты на сопках. Саперы, облегчая танкам восхождение, подрубали ледяную корку, оставляя за собой корявые ямки — ступени. Пехота открыла огонь. Партизаны не отвечали, сберегая патроны. Постепенно вступала в действие легкая танковая артиллерия. Партизаны переменили позиции и смело продвинулись вперед.
Танки потеряли свое позиционное преимущество и начали штурмовать другую цепь сопок. Японская пехота залегла возле танков, стреляла вяло. Тридцатиградусный мороз приковал ее к земле, лишил боеспособности. Солдаты плакали от пронизывающего, ледяного ветра. Ватные штаны, теплые наколенники, собачьи тулупы — ничто не согревало их. Они неохотно меняли позиции, с трудом переползая с места на место.
Чжао Шан-чжи понял неизмеримое преимущество, которым обладает его армия: партизаны выросли в этих краях и свыклись с жестокими ветрами и морозами.
Приказ Чжао всколыхнул партизан: по сигналу — взрыв бомбы — ринуться вперед на танки, на японскую пехоту, перескочить реку.
Вслед за разрывом бомбы тысячи партизан рванулись в атаку.
Японская пехота быстро откатывалась. Танки открыли по партизанам ураганный огонь. Люди падали перед танками, сеявшими смерть. Но остановить отчаявшихся, обезумевших людей было невозможно. Они подходили вплотную, стреляли в щели танков, забрасывали их гранатами. Один танк, скатившись с сопки, обрушился на другой, опрокинул его и придавил.
Вскоре партизаны нагнали японскую пехоту и смяли ее. Пролитая кровь замерзала. Лед покрылся кровавой коркой. Партизаны кололи офицеров штыками, теснили японскую пехоту к сопкам другого берега.
Чжао Шан-чжи шел впереди. Первые партизанские ряды уже выходили на другой берег, когда навстречу им Застрекотали пулеметы японского заслона. Чжао Шан-чжи упал, сраженный пулей в плечо. Он вскочил и, разъяренный, прокричал:
— Братья, вперед!
Партизаны, собрав последние силы, обрушились на японцев. Они дрались за свободу своей страны, своего народа, они могли погибнуть, но должны были победить!
Прорвав кольцо японских войск, они ушли в сопки победителями.
Ко льду реки примерзали тела сраженных японцев…
* * *
Весна. Вскрылись реки. Далеко в сопках, у большого костра, сидит Чжао Шан-чжи с командирами партизанских отрядов. Зажили раны. Партизанский главком вновь со своими бойцами. Третья антияпонская народная армия Манчжурии собирается в новый поход.
Партизаны
День угасал. Солнце уходило за сопки, и косые тени падали на землю. От реки и леса, окаймлявшего левый берег, тянуло мягкой прохладой. Отряд полковника Сонобэ преследовал отступавших партизан. Рассыпавшись цепью, солдаты шли коротким, быстрым шагом. За ними катились станковые пулеметы. Пулеметчики тащили их на длинных кожаных ремнях. Люди шли с опущенными головами, равнодушные, словно их не волновала близость неуловимого противника. Тонкие жесткие ленты ремней жгли плечи. Пулеметчики время от времени останавливались, глубоко и порывисто дыша. Цепь продолжала двигаться вперед.
Начальник пулеметной команды хрипло говорил:
— Вперед! Скорее вперед!
И пулеметчики, повинуясь, бежали за цепью, прыгая с кочки на кочку. Вскоре цепь остановилась. Недалеко, в нескольких сотнях шагов, залег противник. Тихая команда:
— Ложись!
Капитан Ягуци внимательно осматривал местность, пытаясь определить численность противника. Он передал свой бинокль поручику Накамура. Ягуци поднял руку к близоруким глазам, посмотрел на часы и сказал:
— Надо торопиться, иначе стемнеет, и они уйдут в сопки. Поручик, нужно отрезать им путь. Идите на левый фланг и гоните их в мою сторону. Я заставлю их отступить к лесу, а там они встретятся с отрядом полковника.
Поручик поправил пенсне и растерянно взглянул в лицо капитану. Он хотел что-то сказать, но промолчал. Тишину изредка нарушали выстрелы. Меткий огонь партизан заставил и капитана Ягуци опуститься на корточки.
Поручик Накамура слыл в полку доблестным офицером. Появляясь в городе, он выпячивал щуплую, узкую грудь, небрежно, двумя пальцами, придерживая эфес волочащейся по земле сабли. Полный величественного презрения, он всегда смотрел поверх голов прохожих. Солдаты в полку посмеивались за его спиной и дали ему обидное прозвище: «Худосочная цапля».
Слушая приказ командира, Накамура ругал себя за то, что не придумал во-время предлога для отлучки. А теперь нужно торчать здесь, под дулами партизанских ружей! Поручику стало жарко, потом холодно и опять жарко. «Идите на левый фланг и гоните их в мою сторону…» доносились до него, будто издалека, последние слова командира.
— Господин поручик, поторопитесь выполнить мой приказ! — громко произнес капитан Ягуци.
Накамура, сидя на корточках, козырнул командиру, повторил приказание и пошел на левый фланг. Чувствуя на себе взгляды начальника и солдат, он шел прямо, напряженно, расправив узкие, худые плечи. Сабля, глухо звякая, отскакивала от земли и била его по ногам. Солдаты в цепи провожали поручика насмешливыми взглядами и вполголоса обменивались замечаниями по его адресу.
Тоскливо прозвучал одинокий выстрел. Пуля просвистела недалеко от поручика. Накамура упал на колени, боязливо оглянулся, потрогал голову, грудь и, убедившись, что жив и невредим, присел на корточки. Дрожащими руками поправив пенсне, он пополз дальше на четвереньках, ни разу не взглянув на солдат. А те, следя за ним, давились смехом, забывая об опасности.
На краю фланга Накамура встретил лейтенант Оцуки.
— Господин поручик, вы ранены? — взволнованно спросил он. — Не двигайтесь, я прикажу сейчас же перевязать вам рану.
Накамура поблагодарил и присел на корточки.
— Я не ранен. Лейтенант, поручаю вам вывести солдат вперед и отрезать этих бандитов от сопок. Быстрее гоните их на капитана Ягуци. Надо кончать до темноты. Э… э… пришлите сюда моего ординарца. Ну, идите.
Левый фланг отряда рванулся вперед и без единого выстрела занял новые позиции, отрезав партизан от сопок.
* * *
Партизаны редким огнем задерживали перебежки японских солдат. Не хватало патронов: на каждое ружье их было только пять-шесть штук. И на восемьдесят бойцов приходилось пятьдесят старых разнокалиберных ружей. Люди лежали безмолвно, следя за каждым движением японского отряда. Путь в сопки был отрезан. Но если бы этот путь даже был свободным, он привел бы к неминуемой гибели: открытое поле отделяло партизан от сопок. Японские пулеметы стерегли выжженную солнцем равнину.
Командир отряда, крестьянский парень Сун, укрылся за холмом и пристально, не мигая, смотрел на движение японской цепи. Кольцо сужалось.
Командир Сун и его бойцы уже второй день ничего не ели; за два дня им ни на секунду не удалось сомкнуть глаз. Ненависть к захватчикам сделала вчерашних крестьян бесстрашными и неутомимыми бойцами. Они не боялись смерти. Задерживая дыхание, они тщательно целились в головы японцев. Они стреляли только по верной мишени, экономя патроны.
Лицо Суна стало серым от усталости и напряжения. Он прекрасно понимал, что происходит. Японцы не оставили партизанам никаких лазеек. Открыта только одна дорога — через гладкое поле, в лес, к реке. Но и там японцы. Сун напряженно думал, у него быстро возникали планы. Но, трезво оценив обстановку, он убедился в их несбыточности. Сун вспомнил своего друга Чжао Шан-чжи, вожака народной армии. «Чжао нашел бы выход из положения!» подумал он.
— Нет, не нашел бы, — сам себе ответил Сун. — Единственный выход — смерть. Смерть, которая втридорога обойдется врагу. Уничтожить, истребить как можно больше врагов и с честью погибнуть! Умереть так, чтобы наша гибель подняла новые массы на борьбу с кровавыми поработителями!..
До партизан донеслась непонятная команда японского офицера. Японцы выкатили пулеметы и установили их перед своей цепью. Партизаны оживились. Так же экономно, так же тщательно, как и раньше, они начали обстреливать пулеметную прислугу.
Сун сполз с холма и приказал прекратить стрельбу. Партизаны замолкли.
— Братья! — заговорил он. — Враг окружил нас. И нам уже нет спасенья. У нас нет пулеметов и патронов. Смерть поймала и стережет нас. Братья! Мы окружены врагами, они не дадут нам пощады. Вся наша страна, вся Манчжурия, весь народ изнывает от японского гнета. Братья, сейчас мы погибнем. Бейтесь до последнего вздоха. Пусть погибнем, но им дорого обойдутся наши жизни. Братья! Я, ваш командир Сун, поведу вас в последнюю атаку.
Взгляд Суна загорелся непреклонной решимостью. Он замолк на мгновение и оглядел партизан. Они попрежнему лежали неподвижно и смотрели на Суна. Они слушали последний приказ своего боевого командира. На их лицах не было страха.
— Братья! — продолжал Сун. — И среди нас могут быть слабые, которые, быть может, думают, что японцы их пощадят. Позволим этим людям уйти. Мы не трусливы — партизаны не могут быть трусами. Но и среди смелых бывают люди, которые цепляются за жизнь. Японцы никого не щадят. Одни будут уничтожены раньше, другие позже. Народ никогда не забудет нас. Братья, слабые духом, оставьте нас до последней атаки!
Над холмом, за которым укрылись партизаны, засвистели пули. Партизаны лежали молча, не поднимая голов. Японцы выпустили еще одну пулеметную очередь. Седой партизан подполз к Суну и громко сказал:
— Среди нас нет предателей и трусов. Никто не уйдет отсюда. Братья, пусть командир ведет нас в последнюю атаку! Враги нас не пощадят, но и мы их не помилуем. Разве они пощадили моих сыновей, дочерей, старуху? Они сожгли деревню вместе о людьми…
Голос сорвался, старик закашлялся, посинел. Он схватил комок земли, положил его в рот и начал жевать, словно это была не жесткая, опаленная солнцем земля, а кусочек нежного мяса. Лицо его посветлело. Он стал на колени. Партизаны смотрели на старика, как зачарованные. Его ярость наполняла их сердца, зажигала кровь. Глаза старика были полны слез. Они катились по его худым серым щекам крупными прозрачными зернами. Он улыбался, широко раскрывая большой рот; на губах и языке темнела земля. Он плакал и смеялся, этот отчаянный боец, навеки потерявший свою семью, и товарищи по борьбе не сводили с него глаз. Старик вытянул худые длинные руки с огромными черными кулаками крестьянина. Он судорожно сжимал и разжимал пальцы, точно душил кого-то.
Партизаны заговорили сразу. Среди восьмидесяти не нашлось ни одного труса, ни одного предателя. Четырнадцатилетний мальчик Цин, смелый разведчик, сказал:
— Я не уйду ни за что!
Сун взглянул на Цина и вспомнил, как однажды отряд подобрал этого мальчика — оборванного, голодного — в деревне, сожженной японцами. Цин случайно спасся от расправы. Сун вспомнил и подвиг маленького Цина: он завел японский отряд к партизанам, в лагерь Чжао Шан-чжи.
* * *
Это было поздней весной. Японский карательный отряд, преследуя партизан, заблудился в сопках. Японцы нигде не находили выхода. На третий день бесплодных поисков они встретили грязного, исхудалого китайского мальчугана.
Офицер на ломаном китайском языке приказал ему вывести их на правильную дорогу, обещал ему много денег, одежду, пищу. И офицер обещал застрелить его, если он обманет японцев. Мальчик молча кивнул головой и повел карательный отряд за собой.
Он шел уверенно и спокойно, ел рисовые лепешки, которые ему дал офицер, и вел отряд по едва заметным тропкам. Сопки раскрывались перед ним, как перед волшебником. Наевшись, мальчик тихо запел. Он пел грустную китайскую песенку. Он пел все громче и громче. Офицеру послышался шелест в кустах, что-то молниеносно мелькнуло. Он запретил мальчику петь и настороженно оглядел холмы, уплывавшие в вечерние сумерки.
— Скоро ли ты выведешь нас на дорогу, маленький негодяй? — нетерпеливо спросил он мальчика.
— О! Скоро, очень скоро, большой начальник, — улыбаясь, ответил мальчик и повел отряд дальше в сопки.
Все совершилось внезапно…
Цин повел карательный отряд...
Партизаны обрушились на японцев, как стремительный горный поток. Японцы не успели даже сообразить, что произошло.
…Через час партизаны с песнями покидали место жаркой схватки. Тяжело нагруженные новым оружием и дорогими трофеями, возбужденные успехом, они уходили в глубь сопок, в свою родную стихию, знакомую им, как жизнь, как труд. Рядом с вожаком партизан, с неуловимым и бесстрашным Чжао Шан-чжи, шел мальчик Цин. Они шли обнявшись, словно отец с любимым сыном. Мальчик что-то оживленно рассказывал и смеялся…
Сун ласково посмотрел на мальчика, поманил его к сере и громко, чтобы слышал весь отряд, сказал:
— Ты один должен вырваться отсюда. Ты должен пробраться к Чжао Шан-чжи, рассказать ему все и привести его сюда. Пусть наша смерть будет отомщена. Когда мы бросимся на японцев, ползи в сопки. Во время боя они не заметят тебя.
Цин отрицательно покачал головой.
— Я хочу быть с вами до конца.
— Ты должен уйти! — закричал старик.
Все партизаны одобрили решение Суна. Мальчик нехотя подчинился и отполз на край холма.
Вновь застрекотали японские пулеметы, совсем близко, и, словно перекликаясь, застрочили другие, тоже японские. Сун вытащил маузер из деревянной кобуры. Седой партизан отбросил ненужное теперь ружье и вытащил из-за пояса самодельный крестьянский нож, длинный, широкий. Сун встал во весь рост, и за ним встали все партизаны. Пулеметы на мгновение смолкли. Японцы были уже не далее двадцати шагов. Сун скатился с холма, за ним рванулись партизаны. Пулеметы вновь застрекотали…
* * *
Поручик Накамура, укрывшись за маленьким холмиком, наблюдал за своим отрядом. Редкие выстрелы партизан не могли угрожать ему. Рядом лежал ординарец с большим полевым биноклем. Накамура изредка что-то бормотал.
— Как ты думаешь, мы ничем но рискуем? — спросил он вдруг.
— Самое удобное и безопасное место, господин поручик, — ответил ординарец.
Пулеметы замолкли. Перестали стрелять и партизаны.
Японские солдаты, два дня преследовавшие партизан, измученные, лежали на земле. В передовой цепочке было двенадцать солдат. Они залегли у самого холма, где были партизаны.
— Хорошо сейчас дома, в деревне! — тихо сказал один.
Правофланговый так же тихо ответил:
— Надоело здесь. Говорили, что будем иметь дело с армией, а ведь это всё простые крестьяне. Они ненавидят нас.
— Видал, где залег поручик? — спросил первый. — Там его и снарядами не достанешь. А нас подсунули к самой волчьей пасти.
— Кикуци, скажи-ка, если нас убьют здесь, родители получат пособие? — спросил один солдат другого.
— Дурак! Получат на поминки. Если бы ты был поручик, твоя семья получила бы неплохую пенсию, старики твои жили бы да поживали, да водку попивали. А родителям солдата дадут только на поминки, не больше.
Правофланговый чихнул и больше не поднимал головы. Кикуци злобно засмеялся и добавил:
— Полковник сказал как-то, что если всем солдатским семьям постоянно давать пособие, наша империя скоро станет нищей. Он еще сказал, что солдат сражается и умирает не за пособие для семьи, а за императора и за честь империи. Понимаешь? И не чихай, пожалуйста, лейтенант ползет.
Солдаты, уткнувшись в землю, замолкли.
— Почему не стреляете? — обратился лейтенант к правофланговому.
Тот закашлялся, покраснел и сказал:
— Не в кого стрелять, господин лейтенант. Они даже носа не показывают.
— Все равно, их надо запугать, чтобы сдались. Мы сейчас пойдем в атаку. Будьте настоящими солдатами императора, не позорьте наш полк. Вы меня знаете — застрелю, если отступите.
Лейтенант отправился обратно. Не успел оп проползти несколько шагов, как с холма, словно град камней, обрушились партизаны. В воздухе носились дикие вопли, стоны раненых, сухой треск пулеметов. Сун прыгнул на лейтенанта Оцуки, придавил его к земле и выстрелил ему в затылок. Оцуки вздрогнул и вытянулся, худой и длинный. Седой партизан упал на землю со вспоротым животом. В своих объятиях он держал унтера Ясима. Старик задушил его своими железными руками.
Партизаны не отступали. Даже раненные, они подползали к японцам, хватали их за ноги, валили на землю, Пушили, рвали одежду.
Японцы дрогнули под этим неистовым натиском и отступили, но сейчас же к ним подоспела помощь. В тыл партизанам ударил отряд капитана Ягуци. Рукопашный бой продолжался еще долго. Партизаны дрались исступленно, до последнего вздоха. У холма трупы японцев и китайцев валялись вместе.
Победа японцев была куплена дорого: у них погибло больше пятидесяти человек.
Поручик Накамура из-за своего прикрытия видел все. Ужас сковал его. Он вцепился в плечо ординарца и не выпускал его до конца схватки. Только увидев капитана Ягуци, суетившегося с револьвером в руке возле холма, Накамура выполз из своего убежища, незаметно приблизился и упал на тела убитых. Так он пролежал несколько минут, затем застонал, приподнялся и сел. Он застонал громче, ощупывая свою голову. Увидев поручика, Ягуци направился к нему.
Накамура встал и, пошатываясь, пошел навстречу капитану.
— И на этот раз невредим! — болезненно улыбаясь, сказал он.
— Поручик, вы были в самой гуще сражения, а ведь они дрались, как звери. Вас бережет само небо, если вы действительно невредимы.
— Я думаю, они оглушили меня прикладом. Но я успел прикончить двух бандитов.
— Ваш подвиг, несомненно, будет отмечен. Вы повели солдат в бой и держали себя, как подобает самураю.
Накамура расцвел. Отряхнув, мундир, он оправил пояс и саблю, будто жестокое сражение было для него самым обычным делом, потом равнодушно взглянул на трупы.
Сигнальный рожок известил о приближении отряда полковника Сонобэ. Маленький грузный полковник катился на коротких толстых ногах, словно бочонок. За ним семенили штабные офицеры, а чуть дальше свободным шагом двигался отряд. Ягуци и Накамура заторопились навстречу полковнику. Рапортовал Ягуци. И пока он говорил, Накамура стоял рядом, прямой, с выпяченной грудью.
— Семьдесят девять бандитов убито в ожесточенном рукопашном бою, ни один не ушел. Вверенный мне отряд понес тяжелые потери, на поле брани осталось пятьдесят доблестных воинов императора. Они погибли, храня честь и завоевывая новую славу для императорской армии… Должен отметить геройское поведение всего отряда, особенно поручика Накамура, бесстрашно сражавшегося в самой гуще бандитов.
— Поздравляю с отличной победой. Представлю отряд к награде, в том числе вас, капитан Ягуци, и вас, поручик Накамура.
Полковник пожал им руки.
— Надо составить донесение в штаб дивизии и отправить с каким-нибудь офицером.
— Разрешите мне, господин полковник! — попросил Накамура.
— Ну что ж, поручик, поезжайте утром пораньше. Между прочим, господа, командование дивизии не склонно верить бумажным донесениям. Оно требует, так сказать, вещественных доказательств. Никак не придумаю, что им послать.
— Разрешите предложить, господин полковник!
Сонобэ кивнул головой.
— Можно собрать все оружие бандитов и отправить в штаб вместе с донесением, — сказал капитан Ягуци.
— Оружие — не доказательство. В каждой деревне его можно собрать.
— Позвольте мне, господин полковник, предложить выход, — сказал Накамура. — Я предлагаю отрубить всем бандитам головы и представить их в штаб как самое убедительное доказательство.
— Блестящая идея, поручик! — вскричал полковник. — Вы не только воин, но и человек оригинальных идей. Капитан, прикажите солдатам исполнить предложение поручика.
Накамура чувствовал себя великолепно. Он представлен к награде. Его посылают в штаб с донесением. Он приедет туда как герой сражения и привезет боевые трофеи — головы бандитов. В газетах будет описан его подвиг…
Солдаты неохотно выполняли приказ капитана. Усталые, измученные двухдневным походом и жестоким сражением, озлобленные, они не торопились. Офицерам пришлось показать пример… Головы сваливали в огромные мешки. Только поздней ночью солдатам удалось прилечь. В дальнем углу лагеря слышался тихий шопот:
— Кикуци, Кикуци! Спишь?
— Нет, — ответил Кикуци.
— Я думаю, небо отомстит нам за надругательство над мертвыми. Нельзя было этого делать, — прошептал Ногуци. — Это принесет нам несчастье. Вот увидишь. Иноскэ убит, Накара убит, весельчак Кици убит. В нашем взводе убито шестеро. За что они погибли? Кикуци! Скажи, за что мы погибнем?
Ногуци замолчал. Он перевернулся, лег на живот, приподнял голову, вглядываясь в черную бездну ночи. Потом проговорил:
— Я тебе еще вот что скажу: я не хочу больше воевать.
Солдат умолк. Он лежал неподвижно, словно уснул тяжелым, мертвым сном. Кикуци долго ворочался, потом придвинулся к Ногуци вплотную и зашептал ему на ухо…
* * *
Ранним утром из лагеря двинулся небольшой отряд во главе с поручиком Накамура. Две подводы везли мешки с трофеями. Накамура быстро шел впереди отряда, смешной и напыщенный, преисполненный сознанием важности поручения. Отряд двигался к ближайшей станции. Район был беспокойный, и потому солдаты шли с винтовками наперевес. К полудню впереди показалось небольшое здание станции. Накамура заторопился, вызвал начальника станции, приказал подать паровоз и платформу. На платформу взвалили мешки. Накамура показалось, что никто не понимает значения его экспедиции, и он велел высыпать головы из мешков. Головы покатились по платформе, как арбузы. «Это полезно, — подумал Накамура, — для острастки населения. Пусть все видят, как мы поступаем с бандитами».
Накамура представил себе прибытие в Харбин, атаку репортеров, щелканье фотоаппаратов, рукоплескания японских резидентов. Он позаботился о встрече, послав друзьям подробную телеграмму.
Встреча, как и ожидал Накамура, была пышной. Сотни японцев, выстроившись на перроне, приветственно помахивали флажками. Целый рой репортеров и фотографов осаждал поручика и платформу Друзья пожимали Накамура руки, похлопывали его по плечу, называли героем, вестником победы. Всю дорогу к штабу они кричали: «Банзай! Банзай!»[1].
Отряд Накамура разместился на двух грузовиках. На одном — солдаты и поручик, на другом — головы. Перед штабом солдаты и поручик спрыгнули с грузовика. На улицу вышел командир дивизии. Накамура подхватил саблю и заторопился ему навстречу. Солдаты, выстроившись у грузовиков, взяли на-караул. Накамура, вытянувшись, рапортовал генералу. Генерал равнодушно слушал, но когда Накамура визгливо доложил, что военные трофеи в виде отрезанных партизанских голов доставлены с поля сражения в количестве семидесяти девяти штук как вещественное доказательство, генерал оживился. Он удивленно повел бровью и направился к автомобилям. Поручик забежал вперед, изгибаясь и оглядываясь, подскочил к грузовику и угодливо откинул заднюю стенку.
На генерала, на толпу, на солдат смотрели мертвые головы партизан. Серые лица, открытые закатившиеся глаза, измазанные в крови щеки, лбы, носы, высунутые опухшие языки.
Генерал засмеялся и, обращаясь к поручику, просипел:
— Э… Сонобэ все такой же шутник!
Накамура нашел момент наиболее благоприятным и позволил себе, подобострастно улыбаясь, заметить:
— Это мое предложение. Идея отрезать головы возникла у меня.
— Э-. великолепно, поручик, великолепно!.. Истребление непокорных — долг японских офицеров.
Вечером полупьяный Накамура лежал на толстых цыновках в чайном домике. Его окружали собутыльники и гейши[2]. Он без умолку рассказывал им о последнем сражении:
— Никакого выхода у нас не было. Мы должны были победить или умереть. Я повел солдат в атаку. Завязался горячий бой. Вокруг меня громоздились горы трупов. Я и мои солдаты дрались, не щадя себя. Я бросался в самые опасные места, рубил, стрелял…
* * *
Цин вполз в лагерь Чжао Шан-чжи на животе. Израненные, опухшие ноги уже не могли нести его тело. Он долго бродил в сопках, выискивая лагерь. Он шел быстро, временами бежал. Всю ночь он не останавливался на отдых — только бы скорее найти Чжао и рассказать ему все.
Слушая Цина, Чжао все ниже опускал голову. Цин рассказывал торопливо и подробно.
Лагерь снялся в несколько минут. Три тысячи партизан были разбиты на три колонны. Получив приказ, они быстро скрывались в сопках, торопясь на выручку к друзьям. В пути Чжао Шан-чжи узнал страшную новость. Путевой сторож, видевший платформу, на которой лежали отрубленные головы, прибежал рассказать об этом партизанам. Чжао застонал и присел на корточки. Партизаны засыпали сторожа вопросами, и он поведал им о страшной судьбе отряда Суна. Войны сжимали оружие, потрясали им в воздухе и посылали японцам проклятия. Ярость душила людей… Мужественные бойцы плакали, не стыдясь своих слез.
К полудню колонны Чжао окружили район, в котором находился отряд полковника Сонобэ. Чжао готовился нанести японцам удар поздно ночью, чтобы застать противника врасплох и не позволить ему пустить в ход военную технику. Он удерживал своих бойцов, рвавшихся в бой.
— Братья, они не уйдут! Они навсегда останутся здесь. Ночью мы возьмем их в кольцо и задушим.
И партизаны ждали. Они нетерпеливо выползали на гребни сопок и смотрели вдаль, туда, где в наступавшей темноте редкими огоньками обозначался японский лагерь.
* * *
В большой палатке штаба полка собрались офицеры. Пришел и полковник Сонобэ. Потирая руки, он устроился на самом удобном месте, которое уступил ему капитан Ягуци. Беседа, прерванная появлением полковника, возобновилась.
— Я думаю, если позволит господин полковник, — продолжал замолчавший было Ягуци, — что наши операции в этом районе закончены. Вчера мы, несомненно, истребили шайку Чжао Шан-чжи. Я всегда считал, что у него имеется всего несколько десятков человек.
— Вы убеждены, что это был Чжао Шан-чжи? — спросил полковник.
— Только эти головорезы могут так драться. И заметьте, господин полковник: главарь был худой и высокий. Нам так и описывали Чжао Шан-чжи. Здесь больше делать нечего. Хорошо бы вернуться в Харбин, отдохнуть. Да и солдаты устали. Ведь уже третий месяц мы в походе…
— Завтра утром я жду поручика Накамура из Харбина, — прервал его Сонобэ, — Он, очевидно, привезет новые приказы из штаба. Быть может, нам действительно дадут небольшой отдых. Но сегодня я хотел бы поговорить с вами о других делах, господа. Мне известно, что у некоторых солдат появились нехорошие настроения, в частности, в вашей роте, капитан Ягуци. Есть сведения о том, что солдаты не желают воевать. Правда, таких очень мало — два-три. Я обращаю на это внимание офицеров. Час назад, — вам это еще неизвестно, капитан, — рядовой вашей роты Кикуци повесился в лесу. Он оставил солдатам записку. Вот она. Я прочту.
Полковник помолчал и посмотрел на офицеров маленькими злобными глазами, заплывшими жирком.
— Он пишет: «Я не хочу больше воевать. Солдаты, вы убиваете неповинных! Мы ведем в Манчжурии войну против беззащитного населения. Солдаты, вы все знаете меня: я — Кикуци из деревни Оно, уезда Кива, префектуры Нарасино, рядовой второго взвода третьей роты. Я протестую против этой хищническом воины, которой не кочет наш народ. Товарищи солдаты, бросайте оружие, требуйте отправки домой, на родину! Своим поступком я хочу обратить ваше внимание на недостойную войну, которую наша армия ведет против беззащитного народа».
Сонобэ кончил читать. В палатке воцарилась глубокая тишина. Ягуци побледнел.
— Господа офицеры, — продолжал полковник, — эту записку нашли у рядового Ногуци. Он читал ее солдатам третьей роты. И когда его схватили, он заявил, что вполне разделяет взгляды Кикуци. Я приказал расстрелять рядового Ногуци. Предупреждаю офицеров, что за малейшее ослабление дисциплины буду предавать их военному суду. Каждого солдата с такими опасными мыслями надо расстреливать на глазах у остальных.
Офицеры расходились из штабной палатки молча и суетливо…
* * *
С трех сторон массами надвигались партизаны на японский лагерь. Бесшумно, на животах и на коленях, двигались бойцы в густой темноте. Они ранили руки, ноги и лица о кустарник и острые камни. Впереди отряды разведчиков снимали японских часовых.
И сразу, словно бурная река прорвала плотину, партизаны ворвались в японский лагерь. Неистовый рев и разрывы гранат наполнили воздух. Партизанские гранатометчики рвались к центру лагеря. Застигнутые врасплох японцы отчаянно защищались. Пулеметная рота открыла бешеный огонь. Но партизаны все прибывали и прибывали. Они вырастали из темноты ночи, страшные и яростные; Они были всюду, окружая и уничтожая японцев. Зазывая об опасности, они бросались под пулеметные струи. Раненные, они подползали к пулеметчикам, хватали их за горло, валили на землю и душили.
Сражение закончилось только к утру. Весь лагерь был в руках партизан. Не ушел ни один враг.
Чжао Шан-чжи, боевой вожак партизанских колонн, лежал на носилках, принесенных из лагерного лазарета. Он был ранен. Превозмогая боль, он отдавал приказы, улыбался бойцам. Партизаны подсчитывали боевые трофеи — орудия, пулеметы, винтовки, гранаты. Чжао Шан-чжн довольно улыбался. Рана заживет, и он опять пойдет во главе своей бесстрашной армии навстречу суровым боям.
Расталкивая бойцов, к носилкам подошел командир разведывательного отряда с залитым кровью узелком б руке. Переведя дыхание, он доложил командиру:
— Мы обнаружили японский взвод, который обстрелял нас. Он возвращался со станции. Это, очевидно, и есть тот отряд, который отвез головы партизан в Харбин. Я должен был принять бой, и мы уничтожили отряд. Долго искали офицера, наконец нашли. Он целовал мне ноги, хватал за руки, давал деньги, просил пощады Я отрубил ему голову. Вот она!
И разведчик, развернув узелок, высоко поднял отрубленную голову. Застывшие губы скривились в жалкой гримасе. Открытые глаза еще горели диким страхом. Это был единственный раз, когда самурай Накамура видел манчжурских партизан так близко…
Отряд О Лан
Могучий весенний дождь напоил землю. По дороге струились ручейки. Они бежали к обрыву, где, пенясь, шумела река. Земля цвела, наполняя воздух густым запахом весны. Ветер разгонял тучи. Солнце заходило.
По дороге бегали взапуски полуголые ребятишки. Их радостные крики неслись вперегонки с ручейками к реке. Из глиняной фанзы вышла женщина. Домотканый халат плотно охватывал ее крепкое тело; черные, загорелые ноги были оголены почти до колен. Она вышла на середину дороги и, обернувшись к реке, остановилась. Далеко, у обрыва, мелькали детские фигурки. О Лан приложила ко рту руки, сложенные трубочкой.
— Ио, ио! — заметался в воздухе ее крик.
«Ио, ио, Лю…» разносил ветер.
Глухо застучали двери фанз. На дорогу выходили женщины. Старики рассаживались на порогах. Покряхтывая, они молча поднимали головы к небу, неподвижно смотрели вдаль. Женщины подходили к О Лан, истошно крича. «Ио, ио, ио…» катился по дороге призыв, убегая с весенним потоком. Дети, возбужденные, забрызганные водой и грязью, вприпрыжку бежали обратно к деревне.
Женщины сбились в кучу, они говорили все сразу, перекрикивая друг друга.
— В соседней деревне появились японцы, — сказала вдруг Ла Лин. — Завтра они уж наверняка будут здесь.
Женщины замолкли и тесно окружили Ла Лип, ожидая, что она еще скажет. Но Ла Лин молчала и, казалось, не собиралась больше говорить. Женщины придвинулись к ней вплотную. Старуха, толкнув Ла Лин плечом, хрипло спросила:
— Откуда ты знаешь, что японцы пришли в соседнюю деревню? Почему женщина может знать об этом? Удивительно, как ты все узнаешь! Словно тебе письмо прислали!
Ла Лин упорно молчала. Тогда спокойно и уверенно заговорила О Лан. Она слыла в деревне разумной и работящей женой, заботливой матерью. С ней советовались женщины, поверяя свои горестные думы. Мужчины с опаской поглядывали на красивую и сильную О Лан. Они побаивались ее прямоты и смелости. Даже вечно недовольные старики уважали ее за твердый характер и упорство в работе.
— Утром приходил Ван, — заговорила она. — Он сам видел, как японцы пришли в соседнюю деревню. Он слышал там выстрелы и крики. Он был здесь утром и ушел дальше, торопясь сообщить об этом в отряд Чжао Шан-чжи. Ла Лин сказала правду, и нечего пялить на нее глаза.
Старуха Чжу Чан крикнула:
— А скажи нам, О Лан, что еще говорил твой муженек Ван? Разве он не сказал, как мы должны поступить? Разве мужчины не придут защитить нас? Они ушли в сопки и рады безделью. Им наплевать на то, что здесь остались одни только женщины и дети, да еще вот эти, — и старуха кивнула на стариков, сидевших возле фанз.
— Я не думаю, чтобы мужчины бездельничали в сопках, — ответила О Лан. — У них там достаточно всякого дела. Ван ничего не сказал мне, как мы должны поступить. Время сейчас такое, что женщины тоже должны подумать о своей судьбе, о своих детях. И не надо так голосить, толку от этого не будет никакого.
В толпу протиснулись вернувшиеся с реки ребятишки. Отыскивая своих матерей, они хватали их за халаты, жались к ним. О Лан гладила по головке маленького крепыша. Он смотрел на нее и смеялся.
— Я думаю, — сказала Ла Лин, — что мы должны забрать детей и уйти в сопки к мужьям. Надо уходить скорее, пока японцы не пришли сюда. Вот, пускай О Лан тоже скажет, как мы должны поступить. Надо ли забрать с собой и детей и стариков? Японцы сожгут деревню и людей сожгут — я так думаю.
— Надо забрать детей и уходить отсюда, — громко сказала О Лан. — Только незачем нам с детьми и стариками итти[3] к мужьям. Пусть старухи забирают детей и уходят с ними в дальние деревни, пусть и старики с ними пойдут. Женщины, имеющие достаточно сил, должны вооружиться, как могут, и итти в сопки. Разве мы слабее мужчин, разве это не наша земля? Или нам нет никакого дела до того, что весь народ бьется с врагами?
О Лан подняла руки.
— Если все со мной согласны, то сегодня ночью отправим детей и стариков. А потом женщины соберутся у моей фанзы, пойдем в сопки.
Поймав руку своего сына, О Лан прижала ее к бедру и пошла к фанзе. Женщины не расходились, горячо обсуждая слова О Лан.
— А ведь мой старик не пойдет с нами, — сказала, сокрушенно качая головой, старуха Чжу Чан.
— Почему он не пойдет? — спросила Ла Лин.
— Он с ума спятил. Говорит, помрет на той земле, которая его породила.
Женщины расходились медленно. Они не могли решиться на что-либо сразу. Все решалось мужьями, родителями, волю которых они безропотно выполняли. Женщина никогда не была другом мужа: она была рабыней раба…
* * *
Застонала земля под тяжестью танков, ударов снарядов и бомб, загорелась и опалила народ ненавистью.
Враг, вторгшийся в страну, сжигал города и села, вытаптывая любовно обработанные поля, истребляя все живое. Народ восстал против чужеземных поработителей. На фронт пошли молодые и старые. Они бились насмерть. Фронт разрастался. И опять шли отовсюду молодые и старые, даже дети. Но фронт народной войны звал снова… И тогда пошли женщины. Они встали рядом, плечо к плечу с отцами и мужьями, братьями и сыновьями. Женщины пошли в бой!
* * *
В бледном предрассветном тумане тянулись вереницы людей. Жители уходили из деревни, сгибаясь под тяжестью узлов. Сонные дети плакали, зябко ежась от холода и цепляясь за халаты матерей. Взрослые шли молча, изредка поворачивая головы к деревне, подолгу печально оглядывая ее. Старуха Чжу Чан суетилась вокруг колонны, то и дело покрикивая на отстающих.
— Перестаньте плакать! — кричала она детям. — Вот услышат японцы, догонят нас.
Дети замолкали, пугливо озираясь, размазывая по лицу слезы грязными кулачками. Некоторое время они молча и торопливо семенили ножками, но потом опять начинали хныкать, и Чжу Чан свирепела.
— Всех прогоню обратно, — визгливо кричала она, — японцам отдам!
В самом конце колонны, опираясь на крепкую суковатую палку, плелся муж Чжу Чан, глубокий старик.
— Моя земля, земля моя!.. — горестно бормотал он.
Несколько позже деревню покинул другой отряд, который О Лан повела в сопки. Женщины шли рядом, плечо к плечу. За поясами их виднелись рукоятки больших самодельных ножей. Время от времени О Лан пропускала отряд вперед, внимательно оглядывая ряды. Строгое, суровое лицо ее озарялось улыбкой. Семьдесят женщин решительно шагали по дороге.
О Лан позвала Ла Лин и тихо заговорила с пей:
— Ван сказал, что нам дадут оружие и обучат стрельбе. Они будут ждать нас возле Черных холмов.
— А сумеем ли мы обучиться такому делу?
— Если человек решился воевать, он все может сделать. И если мужчины могут стрелять, то почему мы не можем? Мы должны научиться как можно быстрее.
— О Лан, мы останемся в отряде мужчин?
— Нет. Ван сказал, что нас обучат военному делу, дадут несколько мужчин в помощь, на первое время… Мы должны будем сами действовать.
Наступило утро. Накрапывал дождик. Деревня осталась далеко позади, утонула в ложбине у реки. Вскоре исчезла и река.
— О Лан, ты когда-нибудь видела живых японцев? — спросила Ла Лин.
— Видела один раз в прошлом году. Я тогда вместе с Ваном возила бобы в город. Там и видела их.
— А я ни разу еще не видела. Какие они?
— Такие же, как и мы, только меньше нас. Они любят ходить со стеклами на глазах[4]. И совсем не страшные. Только у них есть машины, которые убивают и сжигают.
— О Лан, а ты можешь стрелять из ружья?
— Ван показал мне, как надо стрелять. Он очень метко стреляет.
От отряда отделилась пожилая женщина и пошла в ногу с О Лан. Ей очень хотелось спросить своего командира о чем-то, но она стеснялась Ла Лин, искоса поглядывая на нее. Наконец не утерпела и спросила:
— Верно ли, что японцы сжигают пленных живьем?
— Может быть, — ответила О Лан.
— А что они будут делать с женщинами, которых возьмут в плен? Тоже сожгут?
— Не знаю. А ты не попадай в плен, и ничего не будет. Нехорошо, когда человек заранее думает о плене, — он плохо воевать будет.
— Нет, О Лан. Я совсем не боюсь японцев, даже если они меня два раза будут жечь. Я спрашиваю тебя потому, что все бабы толкуют об этом, и каждая говорит по-своему. Я думаю, что тебе нужно поговорить с отрядом, чтобы не было такой болтовни. Раз мы пошли на войну, значит каждый должен знать, с кем будет драться. Японские войска сжигают живых людей. Мы им тоже не дадим пощады!
* * *
Человек скатился с холма и, смеясь, крикнул:
— Идет целый отряд женщин!
Люди, сидевшие на корточках возле догоравшего костра, поднялись на ноги и взобрались на холм.
— Верно, идут! — сказал Ван. — Однако их много собралось!
— Ни к чему все это, — недовольно заговорил старик Лун. — Возни теперь будет с ними много. Бойцов из них никогда не сделаешь. Только обуза для нас. И с японцами драться, и их охранять. Не дело затеяли, Ван, — смотри, пока еще не поздно.
— Неправда, Лун, — тихо сказал Ван. — Эти женщины решились на большое дело.
Лун сердито промолчал. К холму подошли женщины.
Отряд расположился в ложбинке, разложил костры. Ван, улыбаясь, приветствовал О Лан.
— Командующий Чжао Шан-чжи, — говорил ей Ван, — приказал выдать вашему отряду двадцать пять винтовок и по пятьдесят патронов к каждой. Кроме того, достали для вас четыре револьвера. Сегодня же начнем обучение стрельбе. Жаль только — патронов мало. Сами потом раздобудете. А разбогатеете, так не забывайте и нас.
— Не забудем, Ван. Вы только помогите нам организоваться, — ответила О Лан.
Лун, похаживая среди женщин, не разговаривал и только огорченно покачивал головой. Женщины осмелели и дерзко и насмешливо поглядывали на него. Лун рассердился и вернулся к своему костру.
— Жаль! — пробормотал он. — Очень жаль! Пропадут винтовки. Какие из них бойцы! Петуха испугаются, а тоже, против японцев идут!
— Перестань, старик, — сказал молодой партизан Сун, гревшийся у костра. — Какого чорта скулишь! Ты сам-то скоро рассыпешься. Этих женщин научить надо. Если уж женщина решилась на такое дело, то ей не страшны и японцы. А ты скулишь! — примиряюще закончил Сун и поднял голову от костра.
У холма он заметил Ла Лин. Сун, весело подмигнув ей, кивнул головой на старика. Лун, наблюдавший эту сценку, опять недовольно покачал головой, схватил хворостину и стал яростно ворошить потухавший костер.
* * *
Дни учебы проходили медленно и тяжело. Берегли патроны. Ван и его товарищи терпеливо обучали женщин. Науку эту женщины постигали с трудом. О Лан в несколько дней научилась стрелять из ружья и метать гранаты.
…Учеба пришла к концу, и наступила пора расставания. В последний день Ван передал О Лан большой кусок исчерченной бумаги.
— Это карта нашего района.
Жители уходили из деревни...
Он долго и подробно рассказывал о расположении партизанских отрядов и частей противника. О Лан внимательно следила за пальцем Вана, скользящим по бумаге, запоминала дороги и тропки. Прощаясь, Ван тихо говорил:
— Смотри, никогда не нападай на большие японские части. Старайся захватывать обозы. И не действуй без разведки. Узнавай всегда точно силы врага, не рискуй Зря, береги бойцов. Суп останется с вами на первое время для связи. Он хороший пулеметчик. Добудь ему пулемет.
— Хорошо, Ван. Все буду делать, как ты говоришь. Не забывай только о нас, нам трудно будет сначала. Не забудь навестить Лю. Я его отправила вместе со всеми ребятами в деревню возле Горячего ручья…
Женщины стояли на холме, провожая Вана и его товарищей. О Лан долго смотрела вслед исчезавшим в вечерних сумерках партизанам.
* * *
Грузовик не дошел и до середины моста, как мост вдруг затрещал и опустился в соду. По берегу реки забегали люди. Они истошно вопили, показывая на реку. Грузовик уходил под воду. На крышу кабины шофера вылезли два человека. Они звали на помощь. На берегу метались люди, кричали, ио в воду никто не лез. Вода поглотила людей вместе с автомобилем.
На берегу остались еще четыре грузовика. Лейтенант Сирано в бешенстве кусал ногти. Он думал о погибшем военном грузе. Солдаты молча стояли возле машин, смотрели на реку и горестно покачивали головами: они жалели людей. Лейтенант Сирано выходил из себя.
— Какого чорта лупите глаза на воду? — заорал он. — Поднимите мост!
Автомеханик Никисима повел солдат в воду. Но мост невозможно было поднять: река в этом месте была глубока. Никисима доложил об этом лейтенанту.
— Придется заночевать здесь, — сказал Никисима. — С утра еще раз попробуем что-нибудь сделать.
Багровый от злости, Сирано приказал поставить автомобили четырехугольником, выслать охрану и установить пулеметы. Внутри четырехугольника разбили палатку для лейтенанта.
В отряде Сирано было не больше тридцати человек. Лейтенант запретил разводить огонь. Люди остались без горячей пищи. Ужинали стоя, прислонившись к бортам грузовиков. Жадно проглатывали сухие, жесткие комки холодного риса, смешанного с кислой редькой. Сирано забрался в палатку, за ним вползли унтер Накатани и Никисима. Лейтенант зло выругался.
— Послушайте, Накатани, нельзя ли выпить чего-нибудь?
— Пожалуйста, господин лейтенант, есть немного саке[5].
Накатани протянул флягу лейтенанту. Отпив несколько глотков, Сирано передал флягу Никисима. Саке было немного, а лейтенант был все еще взбешен. Унтер выполз из палатки и вернулся с двумя полными флягами.
— Вот, — пьянея, бормотал Сирано, — влетит нам за потерю груза да за опоздание! Завтра полковник хотел начать операцию по очистке всего этого района. А еще неизвестно, прибудем ли мы завтра. Это вы виноваты, Никисима. Надо было сперва осмотреть мост.
— Что его смотреть, — вяло ответил механик. — Мост, как мост. Здесь везде такие мосты. Чуть ступишь, а он уже под воду…
* * *
Партизаны из-за кустов напряженно следили за японским отрядом. Темнота наступала медленно. Весна стремилась к лету, дни стояли длинные. На берегу было еще светло. Часовые размеренно шагали вокруг грузовиков. О Лан запретила бойцам разговаривать и шевелиться. Надо было терпеливо ждать поздней ночи.
Из лагеря доносился голос Накатани. Он пел, выдерживая после каждой фразы большую паузу:
Тихий свет струит безмолвная луна. На щитах уснули воины, не на тюфяках. Что ждет завтра — неизвестно изголовью трав. Сны, куда вы приведете, по ночи блуждая? Битва в полдень так свирепа в этот день была, Но с успехом убивали самураи своего врага…В японском лагере кто-то выругался, песня оборвалась. Наступила тишина. Медленно всплывала луна. Тихо шумела река. Солдаты спали.
Из кустов поползли партизаны. Бесшумно и стремительно пробрались они к лагерю и замерли. Двое часовых охраняли лагерь. Они ходили вокруг, каждый раз встречаясь. О Лан присела возле куста на корточки, подождала, пока подойдет часовой, и молниеносно прыгнула на него, зажав ему рот своими сильными руками. Часовой уронил винтовку, и они оба покатились по земле. О Лан задушила часового, не дав ему даже крикнуть. В это время Сун и Ла Лин покончили с другим часовым. Лагерь спал. Партизанки проникли в палатку лейтенанта Сирано. Сонные враги почти не оказывали сопротивления. Они вскакивали на ноги и, сраженные, падали на Землю.
Отряд О Лан захватил богатую добычу: автомобили были нагружены патронами, пулеметными лентами, гранатами. Сун восхищенно гладил и обнимал два новеньких пулемета. Партизанки опустошили грузовики, и О Лап приказала сжечь машины, ибо автомобили эти не могли пригодиться им в бездорожных сопках. Длинные языки пламени рванулись к небу. Лагерь запылал большим костром. Река заиграла огненными искрами.
* * *
Японцы наступали. Огнем танков и авиации они теснили партизан. Китайцы отходили, неся большие потери. Самолеты проносились над партизанами бреющим полетом, ожесточенно разливая пулеметный огонь. Ползли японские танки, и ничто не могло их остановить. Они двигались по трупам бойцов, вдавливая их в землю. Иногда японцы задерживали наступление, поджидая отстающую от танков пехоту. Этими минутами партизаны пользовались для того, чтобы вновь собраться с силами и рвануться в контрнаступление. Но пехота подтягивалась к танкам, и танки опять шли вперед…
Чжао Шан-чжи и Ван стоят на коленях. Над ними проносится самолет, и они яростно обливают его пулеметным огнем. Истребитель качнулся в воздухе и тяжело грохнулся на каменистую почву. В следующее мгновение гулкий взрыв разметал по полю куски крыльев, колеса. Остатки самолета вспыхнули, и мягкое голубое пламя плеснуло в небо.
Полковник Нагата захрипел и закусил верхнюю губу, когда истребитель упал на землю. С холма полковник следит в бинокль за ходом боя. Он видит, как японский отряд теснит партизан; у японцев осталось три танка и один самолет. Но вот самолет поднялся высоко в небо и пошел на юг. У него кончились боеприпасы. Пехота идет за танками. Солдаты приканчивают раненых партизан. Один танк остановился, заглох мотор. Два других пошли дальше…
Ван лежит на земле. В каждой руке у него связка гранат. Танк наползает на него все ближе. Еще несколько секунд — и гусеница раздавит его. Ван вскакивает на ноги… Связка гранат рвет гусеничную передачу, другая падает в открытый люк танка. Танк дыбится на ходу, словно конь. Из открытого люка несутся стоны…
Через все поле быстро движется другой танк. Он останавливается возле первого, у которого заглох мотор. Партизаны вновь группируются для контрудара. Японская пехота получает приказ вернуться к танкам, укрыть их от партизан. Полковник Нагата нервничает. Он чрезмерно бледен. Нагата приказывает ввести в бой резервы.
Чжао Шан-чжи скорбным взглядом окидывает поле. Партизаны понесли большие потери. Несколько сот человек скошено огнем. Продолжать бой — значит потерять еще больше. И Чжао отдает приказ об отступлении в сопки.
Тогда с правого фланга начали наступать тщательно укрытые до этого японские резервные части. В лоб отряду ударила японская пехота. И вновь загрохотали танки, посылая в партизан жаркие рои пуль. Нагата вместе с офицерами штаба покинул холм и следовал в тылу у пехоты. Все японские наличные силы были пущены в ход. Полковник твердо решил покончить еще до темноты с отрядом Чжао Шан-чжи.
Осенний день был на исходе. По узкой дороге, мокрой от недавнего дождя, быстро шел вооруженный отряд. Бойцы шли торопливо, не останавливаясь на отдых. Два пулемета катились по мягкой земле. Рядом с О Лан шел Цин, юный партизанский разведчик. Размахивая руками, он взволнованно рассказывал ей о сражении с японцами и о потерях партизан.
О Лан смотрела вперед, плотно сжав губы. Изредка она оборачивалась и резким голосом поторапливала бойцов.
Ее отряд стал неузнаваем. Люди, познавшие порох и кровь, смотрели прямо, не опуская головы. Вместо халатов все бойцы носили короткие, стянутые в талии ватные куртки; такие же шаровары, подвязанные у щиколоток, облегали ноги. За плечами у всех висели ружья, у многих на поясах болтались гранаты. Да и сам отряд увеличился в несколько раз. Весть о бесстрашной партизанке О Лан прокатилась волной по всем манчжурским деревням. И в отряд О Лан шли девушки и старухи, шли люди, ненавидевшие японских хищников. В отряде были и мужчины, присоединившиеся к партизанкам во время боевых походов. Бойцы уверенно шли за О Лан. Большой ум и смелость сочетались в ней с беспощадностью к врагу и упорством в борьбе.
Цин выпрашивал у О Лан гранату.
— Мне очень нужно. Дай! — говорил он.
— Ты ведь не знаешь, что с ней делать. Она еще разорвется у тебя в руках.
— О Лан, я умею с ней обращаться. Она мне очень нужна. Дай!
О Лан уступила, приказав Ла Лин выдать Цину гранату. Мальчик с восторгом прикрепил ее к поясу и сказал:
— Я ее брошу в самую гущу японцев. Мы еще мало отомстили за Суна, помнишь — того самого, которому японцы отрубили голову.
Уже начало темнеть, когда до отряда О Лан донеслись разрывы гранат и трескотня пулеметов. Цин пошел вперед — разведать обстановку. Бойцы в нетерпении ждали его возвращения. Цин быстро вернулся.
— Скорее, скорее! — закричал он. — Японцы со всех сторон окружили Чжао Шан-чжи.
Переведя наконец дух, Цин рассказал О Лан, что происходит в районе боя. Она разделила свой отряд на две части. Спокойно и точно объяснив командирам задание, О Лан пропустила вперед обе части своего отряда. С ней остались только гранатометчицы и Цин.
Сумерки уже спускались на холмы. Надо было действовать немедленно и решительно. С каждой минутой таял отряд Чжао Шан-чжи. Загнанный в широкую ложбину, он был окружен со всех сторон и отчаянно отражал натиск японцев. Пулеметы партизан бездействовали: кончились патроны. У одного из пулеметов лежал Ван, помощник командующего Третьей народной партизанской армией. Он умирал: пуля пробила ему грудь.
Внезапно воздух задрожал от разрывов гранат. С двух сторон ударили пулеметы. Японцы повернули обратно. Они взбегали на гребни холмов и вновь скатывались вниз. С холмов их заливали огнем партизанки. Гранатометчицы О Лан неистовствовали. Они поспевали всюду, метко разбрасывая разрушительные ядра. Часть японцев прорвалась из ложбины и стремительно отступала, бросая на ходу пулеметы, автоматические винтовки. Добежав до танков, японцы отступали под их прикрытием. Но большинство осталось навсегда в ложбине. Несколько офицеров несли на руках раненого полковника. Они быстро шли, торопясь укрыться за танками. За ними, как дикий звереныш, метнулся Цин. Он нагнал их, на секунду замер, взмахнул рукой и швырнул гранату…
Ночь опустилась на ложбину и холмы, усеянные мертвыми и ранеными. Запылали костры партизан. Бойцы бродили по холмам, разыскивая раненых, собирая брошенное оружие. Лагерь бодрствовал всю ночь. Далеко в сопки отправляли раненых партизан.
У большого яркого костра молча стояли десятки, людей. О Лан сидела на земле. На коленях у нее лежала голова Вана. Из его простреленной груди вырывались хрипы; он силился что-то сказать, смотрел в лицо О Лан, потом медленно переводил взгляд на Чжао Шан-чжи, склонившегося над своим боевым другом и верным помощником. О Лан молчала. Она гладила волосы Вана, не отводя взгляда от его лица.
…Ван был мертв, когда Чжао коснулся рукой плеча О Лан.
— Его надо похоронить в братской могиле, — сказал он. — Они все погибли в одном бою, отдав жизнь за дело народа. Пусть они и в могиле лежат вместе. Бойцы его очень любили.
О Лан осторожно опустила голову Вана на землю и встала. Яркое пламя костра озарило ее бледное лицо.
В братскую могилу со всех сторон несли тела погибших. Потом положили Вана. У могилы собрались партизаны и партизанки. Чжао Шан-чжи взобрался на сложенные вместе патронные ящики.
— Братья! В этой могиле лежат наши боевые товарищи, любимые наши друзья. Мы оставляем их здесь в земле, которую они геройски отстояли от врага. Мы всегда будем чтить их память. И никогда наш народ не забудет этих бесстрашных борцов…
Мы прощаемся с мертвыми и обращаемся со словами горячего привета к нашим сестрам и женам, которые вместе с нами ведут борьбу не на жизнь, а на смерть против японских поработителей. Мы потеряли сегодня смелого Вана и многих других бойцов и нашли храбрых партизанок, которых привела к нам мужественная О Лан. Сегодняшний подвиг О Лан и ее партизанок никогда не забудется нами. Десять тысяч лет жизни бесстрашной О Лан и ее бойцам!..
После Чжао Шан-чжи на ящики взобралась О Лан. Тысячи глаз восхищенно смотрели на нее. Многие бойцы впервые видели командира женского партизанского отряда. О Лан протянула руку и твердо сказала:
— Там лежит Ван, ваш боевой товарищ и мой муж. Там лежат смелые бойцы народной партизанской армии, наши братья и отцы. Мы пришли заменить их в боевых рядах…
Голос О Лан дрогнул, она опустила голову и сошла с возвышения. Она наклонилась, взяла горсть земли и бросила ее в могилу. Партизаны по очереди вслед за ней бросали в могилу горсти земли. Земля тяжелым пластом накрывала тела.
Костры гасли. На востоке занимался рассвет. Партизаны и партизанки уходили в сопки.
Смерть рядового Гумпэя
Унтер Камики медленно разгуливал по двору. Он равнодушно оглядывал людей, заполнивших всю площадь двора. Крестьянские парни с узелками в руках, молодые рабочие в обтрепанных халатах, студенты в черных роговых очках бросали на Камики взгляды, полные почтительности и страха. Сегодня судьба этой еще зеленой молодежи проводит черту, делит жизнь на две части: прошедшую, сотканную из невзгод и случайных, жалких радостей, и будущую — неведомую, наплывающую, как туман.
За высокими бревенчатыми воротами призывного пункта остались бережно обработанные поля, жадно прочитанные книги, осталась жизнь, не раскрывшая своего смысла. Этих людей согнали сюда из окрестных деревень, из рабочих кварталов города, со школьных скамей. Сегодня призыв.
Люди стоят молча, наклонив головы, словно глубоко погруженные в думы. Но это не размышления. Это — тупое равнодушие. Лишенные привычного, они томятся бездельем, изнурительным ожиданием. Здесь много односельчан, людей, связанных дружбой сызмальства. И все же сейчас это не сближает их.
Армия, доселе чужая, незнакомая, внезапно возникла перед ними, сковав их мысли, их движения. Армия, еще незримая, но уже реальная, словно гигантский удав, парализующий кролика, медленно наплывает на этих посеревших и притихших людей, заполнивших двор призывного пункта. И будущее мелькает перед глазами бесформенными клочьями, и двор призывного пункта качается, плывет в белесом тумане.
И только унтер Камики — воплощение реальности. Он двигается, хмурит брови, смачно плюет на землю, — живет. Камики бесцеремонно выворачивает скромные узелки 40 парней и, находя соленую сливу, лениво отправляет ее в рот. Он прячет в бездонные карманы своих штанов пачки дешевеньких сигарет, найденные им в широких рукавах халатов деревенских парней. Они молча и бездумно смиряются с этим откровенным грабежом, ибо унтер олицетворяет армию, ее порядок, власть. Унтер Камики — большое начальство.
Камики, понимающе ухмыляясь, совершает долгий обход двора. Призывники поспешно и даже охотно уступают ему дорогу. Некоторые парни, обтесавшиеся в городе и уже знающие, что такое унтер, заискивают перед Камики, низко кланяясь ему и бессмысленно улыбаясь. Он, унтер, — это реальность и кусочек того неведомого будущего, которое скрыто за дверьми канцелярии призывного пункта.
Время от времени в дверях канцелярии появляется маленький рябой писарь. Он сиплым, простуженным голосом выкрикивает фамилии призывников. Писарь вызывает в канцелярию по пять человек сразу. Призывники идут вяло, неуверенно. Унтер Камики слегка подталкивает их в спины.
— Идите, идите, солдаты! — приговаривает он.
Писарь подолгу опрашивает вызванных, заполняет большие анкетные формуляры четким бисером иероглифов. Это только проформа. Призывников знают так хорошо, как не знают они сами себя. За этими людьми следили все два десятка лет их жизни. Деревенский староста, учитель, помещик, полицейский, даже монах — все присматривали за малышом, школьником, юным крестьянином или рабочим.
На столе начальника призывного пункта лежат толстые тетради, и в них жизнь каждого призывника аккуратно разложена по страницам. В этих тетрадях — грубые, но верные слепки поступков, настроений, способностей, всего того, что рисует характер, показывает человека. Это старая система присмотра, выработанная веками, когда феодал-князь насаждал среди своих рабов шпионов и доносчиков. Феодалы ушли. Система осталась.
Писарь по очереди вводит призывников в кабинет начальника. Майор внимательно оглядывает молодого парня.
— Ты еще не солдат, — мягко, чуть ли не отечески говорит он. — Можешь стоять вольно. Ты новобранец.
Это должна быть самая счастливая пора твоей жизни. Кап приятно чувствовать себя молодым и стоять на желанной дороге! Я вспоминаю свою молодость. Эх, теперь ее не вернуть! Скажи-ка, Гумпэй, — голос майора делается строгим и немного пискливым, — нет ли среди твоих друзей коммунистов, а?
— Нет, — отвечает придушенным голосом покрасневший Гумпэй.
— Ты будешь хорошим солдатом, Гумпэй. Солдат — это слуга императора. Армия — это руки и ноги императора. Понял? Служить императору — высшая честь для японца. Понял? Никогда не забывай моих слов. Ступай!
Гумпэй, который от смущения перед высоким начальником ничего не понял, быстро покидает кабинет майора. Но он уже не попадает обратно во двор, где ждут своей очереди другие новобранцы. Гумпэй выходит на площадку на другой стороне двора. Здесь уже давно стоит очередь в цейхгауз за обмундированием. Получивших обмундирование новобранцев унтеры уводят в казарму. Гумпэй торопливо сбрасывает свой широкий бумажный деревенский халат и надевает новые солдатские штаны, куртку. Тем временем унтер Камики брезгливо просматривает вещи Гумпэя. Он долго разглядывает кусок газетной бумаги, выпавший из халата новобранца, и бурчит себе под нос, не глядя на Гумпэя:
— Где взял это дерьмо?
— Нашел на улице, — тихо отвечает Гумпэй. — Мне нужна была бумага — завернуть в нее две иены[6].
— Солдат не должен читать газет, кроме специальной солдатской газеты. Запомни это навсегда.
Унтер опускает деньги, которые были завернуты в бумажку, к себе в карман, разрывает листок газеты в клочья и бросает их в урну.
Кровь ударяет Гумпэю в лицо. Отец с трудом достал эти две иены, выпросил их у деревенского старосты для сына-новобранца. «На бедовый случай», сказал старик. И вот этот случай…
Гумпэй бросается к унтеру и срывающимся голосом кричит:
— Это отец дал на бедовый случай!..
— Смирно! Молчать! — командует унтер. — В армии не бывает бедовых случаев. На площадку кругом марш!
Гумпэй робеет под взглядом тупых и злых глаз унтера. Он точно выполняет команду.
На площадке новобранцев построили повзводно Из штаба вышли офицеры и медленно пошли вдоль строя, зорко всматриваясь в лица молодых солдат. Иногда кто-либо из офицеров останавливался, одергивая куртку или поправляя солдату фуражку. Вскоре появился полковник. Строй замер. Полковник торопливо прошел вдоль строя и вернулся на середину. Вскинув голову, он внезапно и быстро заговорил. Глаза его были устремлены куда-то ввысь, поверх солдатских голов.
— Молодые солдаты, поздравляю вас с высокой честью быть призванными в ряды защитников трона! Империя переживает великие затруднения, на армию возлагает надежды император. Будьте верными и бесстрашными солдатами.
В минуты тягостных испытаний, когда трупы громоздятся на трупы, когда выступит сотня и падет сотня, выступит тысяча и падет тысяча, японский солдат не должен страшиться итти на смерть, не должен томиться тревогой. Наоборот, он должен испытывать радость… В этот момент мысль о смерти уже не должна приходить ему в голову. По самой природе вещей смерть — это факт, которого человеку в своей жизни избежать невозможно. Да во время сражения она вовсе не вызывает особенного ужаса. Самое постыдное и самое ужасное для солдата — это не быть в состоянии пасть за императора…
Полковник вдруг перестал говорить, так же неожиданно, как и начал, и только глаза его пытливо обегали лица солдат. Солдаты стояли, как истуканы, немые и неподвижные. Полковник не сказал нм ничего нового: эту философию жертвенности во имя императора им внушали в школе, на пунктах допризывной подготовки.
Гумпэй стоял на правом фланге четвертого ряда. Уголком глаза он видел только одну жестикулирующую руку полковника и внимательно слушал. Ему на голову падали тяжелые и высокопарные фразы: «надежда императора», «смерть — это радость». Он слышал это уже много раз. Все командиры говорили разными голосами, но всегда одно и то же: смысл никогда не менялся, менялись только слова. Он, Гумпэй, умирая, должен испытывать радость!..
— Верная служба — это закон солдата, — вновь заговорил полковник. — Верноподданность является основой, а потому не должно быть неверности или вероломства по отношению к монарху. Невзирая ни на что, исполнять приказы начальника, не противоречить, не проявлять слабоволия, — таким должен быть японский солдат…
* * *
Проходили дни и недели. Гумпэй, как и другие новобранцы, постепенно привыкал к казарме, к военной жизни. Писем из дому не было. Быть может, и были, но Гумпэй их не читал. Читать письма родных солдату необязательно. Для этого существуют унтеры, которые заменяют отца и мать солдату.
Казарма жила своей особой, точно размеренной жизнью. Солдаты сближались друг с другом, хотя это и доставляло новые хлопоты унтерам. Иногда вечером в казарму заглядывал капитан. Он торопливо обходил помещения и сейчас же исчезал. Иногда оставался на полчаса в казарме. Он приходил вместе с лейтенантом, и лейтенант читал солдатам специальные газеты. В этих газетах речь шла всегда о красной России, заокеанской Америке, коварном и неискреннем Китае, норовящем на каждом шагу обмануть Японию. Из Манчжурии всегда приходили отрадные известия: эта некогда несправедливо захваченная китайскими варварами страна наконец освобождена японцами. Манчжурия медленно, но верно превращается в рай. Так писали эти специальные солдатские газеты.
Лейтенант всегда читал без души, не любил отвечать на вопросы, и солдаты, зная это, не спрашивали его ни о чем. Так, медленно, тоскливо и однообразно, проходили дни и недели в казарме.
Однажды сосед Гумпэя по строю, Сугимура, нашел в уборной густо исписанный листок. Он прочел его вместе с Гумпэем.
«Молодые солдаты, — написано было в этой листовке, — требуйте от офицеров, чтобы они сказали вам правду о Манчжурии. Знаете ли вы, что в этой китайской стране ежедневно погибает много японских солдат?
А вам говорят, что в Манчжурии уже существует рай. Молодые солдаты, не давайте себя обманывать, будьте всегда начеку».
Листовку подписал «Старый солдат».
Едва кончили читать, как в уборную влетел унтер Камики. И у солдат бывает свое маленькое счастье: листовку удалось незаметно выбросить. Разъяренный унтер, оглядываясь по сторонам, зашипел на солдат:
— Какого чорта прохлаждаетесь здесь? Марш в казарму!
Строевыми занятиями и стрельбами солдат доводили до изнеможения. Падая на койку, они мгновенно засыпали. Для жизни, для мыслей не оставалось времени. Унтер Камики иногда замещал лейтенанта, читая солдатам газету или военные наставления.
— «Верьте своим начальникам, которых выбрал ваш император, — гнусил унтер. — Не забудьте, что без этой веры немыслим успех в бою. Как бы ни казалось вам странным, быть может даже неисполнимым, приказание вашего начальства, вы должны лечь костьми для приведения его в исполнение. Будьте скромны в вашей частной жизни. Не забывайте никогда, что назначение солдата — война. Всякая роскошь, даже маленькая, изнеживает, расслабляет человека… Когда командир очутится в опасности, — солдат, не смотри на свое критическое положение и спасай его. Находясь в походе, если имеешь хорошее место для отдыха, уступи его командиру…».
— Господин унтер, верно, что в Манчжурии каждый день погибает много японских солдат? — прервав вдруг чтение, спросил Гумпэй.
Камики вскочил и вместо ответа рявкнул:
— Смирно!
Солдаты вытянулись и застыли. Унтер подошел к Гумпэю.
— Кто это тебе сказал?
— Я слышал об этом еще в деревне.
— Дурак! Такой вещи не может быть. В этой стране царит полный порядок. Народ доволен нашей властью. И все, что ты слышал в деревне, забудь. Императорский солдат не должен думать о делах, не имеющих отношения к его военному долгу, запомни это. — Унтер сунул к носу Гумпэя большой красный кулак.
Ночью к койке Гумпэя подкрался неизвестный солдат и подсунул ему под подушку клочок бумаги. Утром Гумпэй прочел:
«Будь осторожен, не горячись, а то упекут в штрафную роту, замучают».
Гумпэй показал эту записку своему другу Сугимура. Прочитав ее, Сугимура сказал:
— Ее написал хороший человек. Ты не должен так опрометчиво поступать. Унтер возьмет тебя теперь под подозрение и сообщит начальству.
* * *
На стрельбище ходили всей ротой. Унтеры суетились, отсчитывая патроны. Промахи солдат отмечались в особой тетради, которую ежедневно просматривал командир роты. И если солдат давал промах, озлобленные унтеры заваливали его самой грязной работой по казарме. Неудачников заставляли стирать офицерское белье, чистить уборные, мыть полы. Еще хуже приходилось тем солдатам, которых почему-либо невзлюбили унтеры или офицеры. Таких, помимо всего прочего, подвергали бесконечным дисциплинарным взысканиям.
На краю рва длинной лентой вытянулись мишени. Большие и маленькие, они были намалеваны яркими, броскими красками. Мишени изображали солдат и командиров тех армий, с которыми Япония либо вела войну, либо готовилась к ней. Иностранных солдат рисовали смешными и тщедушными, такими, чтобы они не вызывали страха у японского солдата.
Рота Гумпэя стреляла в мишени, изображавшие красноармейцев и китайских солдат. Стрельба велась с дистанции в сто метров. Гумпэй отчетливо видел назначенную ему мишень: русский красноармеец в длинной зеленой гимнастерке, с красным пятном на том месте, где находится сердце. Полковой художник хотел нарисовать «свирепого роскэ» [7]. Огромное, с красными пятнами лицо должно было изображать кровожадность.
— Таких людей не бывает, — шепнул Гумпэю сосед.
— И верно, не может быть такого человека, — согласился Гумпэй.
Чем дольше Гумпэй всматривался в мишень, тем в большее раздражение он приходил.
«Не буду стрелять», наконец решил он.
Солдаты стреляли по-очереди. Унтер Камики крикнул Гумпэю:
— Приготовиться!
Солдат поправил у плеча приклад, долго целился, наконец выстрелил. Мимо. Унтер крикнул:
— Повторить!
Гумпэй потрогал прицел двумя пальцами, словно поправлял его. Раздался выстрел. Мимо. Унтер, нещадно бранясь, лег возле Гумпэя.
— Повторить! — прошипел он.
Гумпэй выстрелил опять. Мимо. Камики вырвал винтовку из рук Гумпэя.
— Дурак! Смотри, как надо стрелять.
Раздался выстрел. Пуля попала в центральную точку, но мишень не шевельнулась. Унтер выстрелил подряд еще три раза. Никакого результата.
— Испорчен механизм! — удивленно сказал Камики, возвращая Гумпэю ружье.
Солдаты не удержались и засмеялись. Унтер вскочил на ноги с багровым от бешенства лицом. Но солдаты уже опять напряженно целились в мишени. Никого не предупредив, Камики побежал к мишени. Гумпэй быстро вскинул винтовку и выстрелил. Пуля просвистела над головой унтера. Камики присел на корточки, спиной к солдатам, обхватив голову руками.
— Берегись! — злобно прошептал Гумпэй, досылая в магазинку новый патрон.
Унтер не дошел до мишени, повернулся к солдатам и крикнул:
— Стрельба отменяется, механизм не действует!
По дороге в казарму Камики внимательно оглядывал лица солдат: кто стрелял? Солдаты возвращались усталые, молчаливые, равнодушные.
* * *
Время шло. Новобранцы стали солдатами. Однажды вечером в казарму пришел командир роты и целый час рассказывал о кознях красной России. Капитан говорил о том, что во Владивостоке будто бы существует лаборатория, которая изготовляет адские машины, вызывающие землетрясения на японских островах. Русские, говорил он, строят плотину в Татарском проливе и собираются отвести к себе теплое морское течение Куросиво. Из-за этого Япония покроется льдами и погибнет. Он говорил о беспримерном рыцарстве японской императорской армии, миссия которой заключается в освобождении всех народов Китая, Монголии, Сибири и объединении их под властью Японии.
— А в самой Японии, — с горечью говорил капитан, — появились силы, которые мешают императору управлять народом. Это коммунисты — их необходимо истребить без остатка. Солдаты! Внимание! — выкрикивал в исступлении капитан. — Уже давно бьет колокол набата. Надо очнуться от сна долгой ночи и уничтожить самую тень коммунистов в Японии…
Утром вышел приказ о переброске полка в Манчжурию. Засуетились, забегали унтеры. Погрузку в эшелоны назначили на ночь. Солдат из казарм не отпускали, но дали им на отдых два часа. После вечерней переклички каждому солдату разрешили написать родным открытку со стандартным текстом о том, что «наша часть временно, на маневры, отбывает на север Японии».
Перед самой отправкой на станцию нескольким солдатам выдали письма от родных. Получил письмо и Гумпэй. Отец писал коряво и неразборчиво. Иероглифы теснились в кучу, сливаясь с большими кляксами туши, аккуратно расставленными цензором.
«Сынок… все же здоровы… Тебе ничего не остается… Служи верно императору. Урожай снял малый, слишком много было дождей… Запасов не… до нового урожая. Решил отправить твоего брата Таники на заработки в город… Говорили, что солдатским семьям сложат недоимки по налогам… и старый Кагура требует арендной платы, грозится согнать с земли… Спроси начальника, почему с солдатских семей тянут…».
Цензор старательно вымарал письмо старика. Но Гумпэй, читая эти каракули, видел деревню, затопленные поля, набухшие от влаги зерна риса, всесильного хозяина деревни — помещика, злобного старика Кагура.
— Читаешь? — спросил появившийся неожиданно, словно из-под земли, унтер Камики.
— Верная служба — это закон солдата! — крикнул полковник.
Гумпэй смолчал.
— Дай-ка я посмотрю. — Камики вырвал из рук Гумпэя скомканное письмо.
— Такого закона не было, чтобы отменять налоги с солдатских семей, — равнодушно сказал унтер, прочитав письмо. — Кто же будет тогда платить за твою пищу и одежду, которую дает армия? Кто будет покрывать военные расходы? Для войны нужны деньги. Где их взять? Старик твой не знает этого.
Гумпэй, погруженный в свои горестные думы, не заметил, как отошел от него унтер, унося письмо. Он думал о том, что осталось за стенами казармы. Прошлое не ушло, оно стережет его и других Гумпэев. И туманная дымка будущего облекается в плоть. Сын Кагура остался дома. Гумпэя взяли в армию служить верой и правдой императору и Кагура. Отца сгонят с земли. Впереди — Манчжурия, дальше — неведомая красная Россия. Крестьянский сын, новобранец Гумпэй должен спасать империю. Молодой солдат Гумпэй вспоминает военные наставления: «Смейся, отправляясь в объятия смерти. В этом и заключается долг солдата, долг службы императору…».
Полк выстроили на плацу. Полковник вышел к строю. Сабля болталась у него сбоку, но он не трогал ее, как прошлый раз, когда поздравлял молодых солдат.
— Солдаты! Император отправляет наш полк в Манчжурию, на первую линию обороны империи… Солдаты! Вы не задумываясь должны выполнить свой долг… Мы добудем новые земли, новые страны. Империя станет великой и богатой.
«А недоимки не сняли! — чуть ли не вслух подумал Гумпэй. — Кагура станет, наверное, богаче после его, Гумпэя, смерти!»
— Солдаты! — сорвав голос, сипел полковник. — За Хинганским хребтом извечный враг — красная коммунистическая Россия и коварный Китай. Сокрушим их, солдаты!
Гумпэй не слушал его. На душе было тяжело, сердце щемило.
Полк посадили в вагоны под утро. Застучали, запели колеса. Солдаты молчали, будто погруженные в сон. Но никто не спал. Люди думали о будущем и о прошлом.
Прошлое было горьким, но близким. Будущее заглушала визгливая песня колес. Люди молчали. Скорбная тишина царила в вагоне. «За Хинганом таится враг» — так сказал полковник. И никто не знает его. И никто не ощутил и не помнит вреда, который причинил этот неведомый враг крестьянским и рабочим парням, новобранцам, отправляемым на первую линию обороны Японской империи.
Унтер Камики вышел на середину вагона.
— А ну, затянем песню о сказочной стране Урал! — ободряюще крикнул он.
Унтер запел, и молодые солдаты нехотя подтянули. Стук колес заглушал песню, тоскливые голоса солдат тонули в этом шуме, и только унтер, надрываясь, кричал:
…Из-за снежных бурь средь Уральских гор Если б умереть пришлось, встречая снежный шторм; Средь снегов ночных в сибирских лесах, Если б умереть пришлось, потонув в снегах, — Мы с улыбкой на устах стали б умирать…Гумпэй вдруг оглушительно захохотал. Песня оборвалась. Побагровевший унтер бросился к солдату. Солдат продолжал смеяться. Это был судорожный хохот сумасшедшего. Унтер Камики протянул руки к горлу солдата, но Гумпэй отшвырнул унтера и занял его место у выхода из вагона.
— Солдаты, смейтесь, отправляясь в объятия смерти! — крикнул он и захохотал вновь.
Ошеломленные солдаты жались в стороны от Гумпэя. Молодой солдат, повернувшись к выходу, нырнул под колеса вагона.
Небо упало на землю, и перед Гумпэем раскрылась вся его жизнь. Поезд уходил дальше, вперед, и колеса надрывно стучали: «Хин-ган, Хин-ган, Хин-ган!»
Великий поход
1. В Моугуне
В маленьких, кривых, узких уличках Моугуна царило необычайное оживление. Такого шума голосов, такой массы людей никогда еще не слышал и не видел этот крохотный, заброшенный городок, расположенный в западной части провинции Сычуань. Казалось, что дома дрожали и покачивались от быстрого говора, топота и нетерпеливых движений многих тысяч людей, заполнивших улицы города.
Никто толком не знал, сколько народу собралось в эти дни в городе. Моугунцы говорили: «Видимо-невидимо, попросту тьма». В представлении старожилов это означало не меньше миллиона человек. И нет в этом ничего удивительного. В Моугуне жителей едва-едва наберется тысяч пять. И вдруг в такой малюсенький городок прибыла чуть ли не вся Красная армия! Жители чувствовали себя героями или, по меньшей мере, участниками неслыханных событий, которыми не мог бы похвастаться даже такой громадный город, как Чэнду[8].
На самом же деле в город Моугун вступила всего лишь часть главных сил китайской Красной армии, завершивших первый этап грандиозного похода, именуемого Великим[9].
В конце концов, изумление жителей Моугуна имело основание: в городок вступило пятьдесят, а может быть, и сто тысяч вооруженных бойцов Красной армии. Немудрено, что такое множество людей заставило моугунцев употребить слова «видимо-невидимо».
Дни и ночи в городке стоял неумолчный шум. По улицам двигались вновь прибывшие части; некоторые отряды покидали город, получив новый приказ. Только небольшая часть главных сил Красной армии сумела разместиться в городе. Огромное количество войск расположилось лагерем вокруг Моугуна. Но не только обилие войск поражало моугунцев. Их безграничное удивление вызывало поведение бойцов такой огромной, могущественной армии. И жители Моугуна, встречаясь с соседями на порогах своих домов или на углах маленьких улиц, удивленно разводили руками:
— Они совсем не такие, эти красные, как нам сообщали об этом! Они такие же, как и мы, и, может быть, даже лучше нас. Все мы остались целы и невредимы, и имущество наше осталось у нас, и никто даже не оскорбил нас. Удивительно!
Соседи еще раз разводили руками, дружелюбно оглядывали проходивших мимо них красноармейцев и, продолжая беседу, любовались четким шагом, выправкой, ровным строем марширующих бойцов.
Не все жители Моугуна были едины в своих взглядах на поведение частей Красной армии, остановившихся в Моугуне. Были среди моугунцев и такие, которые недоверчиво, подозрительно косились по сторонам, а когда мимо них шагали красные бойцы, они опускали глаза, пытливо, как обновку, разглядывая свои башмаки. Например, лавочник с Голубой улицы, господин Чжан У. В день прихода красноармейских частей в город он наглухо закрыл свой магазин и, сокрушенно покачивая головой, бормотал:
— Теперь все пропало! Я-то ведь хорошо знаю их. Мне так много рассказывали о них.
Но господин Чжан У прежде всего был торговцем. Раньше он любил приговаривать в кругу своих друзей:
— Торговля — это мое дело. В нашем роду она в крови. Мы все торговцы.
И, очевидно, не забывая об этой исконной черте характера всех выходцев из рода У, он отпускал товары постоянным покупателям с черного хода, ведущего в магазин через небольшой дворик, обнесенный высокой глиняной стеной. К вечеру того дня, когда в город Моугун пришли красные, нервы Чжан У не выдержали столь долгого напряжения. У него дергалась верхняя губа, дрожали руки. И он, тяжело вздохнув, сказал:
— Надо ожидать, что ночью они возьмутся за свое дело. Плохие дела не любят света, — добавил он. — Я-то уж знаю все их привычки. Мне об этом довольно часто говорил господин Цай, наш уважаемый бывший начальник полиции. И я верю ему, хотя он и не заплатил мне долга, когда так поспешно бежал из города.
Слушатели горестно вздыхали, покачивали головами, и, когда торговец Чжан У замолкал, кто-нибудь из них вставлял свое замечание:
— Армия без этого не может. Все армии такие. Когда войска приходят в город, он перестает быть цветущим. Солдаты, они, как муравьи, все растаскивают. Все исчезает после их ухода.
Прошла первая ночь, прошла вторая, затем третья.
Чжан У, осунувшийся, сидел на пороге черного хода своего магазина, смотрел на небо, на крепкие ворота своего дома, на высокий глиняный забор. Никто не приходил к нему в дом, никто не врывался в его магазин. Всё проходило мимо. Даже грозный гул марширующих войск прокатывался мимо его магазина.
В городе ничего не случалось, ничего такого, что могло бы усилить горечь торговца Чжан У. Он уже начал было успокаиваться, укорять себя за легкомысленную доверчивость к господину Цаю, не заплатившему своих долгов за продукты, приобретенные в его магазине. Друзья тоже стали намекать ему, что он излишне страдает и что бывает, конечно, но не всегда город перестает быть цветущим, когда приходит армия. И действительно, город гудел день и ночь, как гигантский, чем-то взволнованный пчелиный улей. Повсюду кипела работа, повсюду слышна была музыка, пение, повсюду шли занятия бойцов.
И вдруг — это случилось вечером, на четвертый день ожидания, — в калитку дома господина Чжан У кто-то ударил прикладом винтовки. Чжан У замер, лицо его стало белым, и он прошептал сидевшим рядом с ним друзьям:
— Они пришли! Я говорил вам, а вы не хотели мне поверить. Вот она какая, Красная армия!
Служанка открыла калитку, и во двор вошли три человека: командир с двумя красноармейцами. Молодой подтянутый командир оставил бойцов у калитки и прошел вперед, прямо к господину Чжан У. Лавочник пытался разогнуть внезапно сведенные судорогой ноги и подняться, но командир жестом приказал ему не двигаться и сам опустился на цыновку, где сидел Чжан У. Командир обвел всех присутствующих взглядом своих спокойных глаз.
— Здравствуйте, господин Чжан У, — сказал он и наклонил голову так, что приветствие это в равной мере относилось ко всем сидящим на цыновках. — Я потревожил вашу беседу и приношу свои глубокие извинения. Я — представитель главного штаба Красной армии, курсант Военной академии Цин.
Чжан У удалось наконец разогнуть ноги, он привстал и поклонился; за ним поклонились и другие, хотя курсант Цин недовольно поморщился.
— Мы знаем, сколько беспокойства причиняют торговцам войска, прибывающие в город. Я прошу вас поэтому хорошо запомнить, что мы — китайская Красная армия. Мы пришли сюда из провинции Цзяньси и уйдем скоро дальше, в Северный Китай, для борьбы с японскими захватчиками. Наша армия не обижает честных торговцев и всех других мирных граждан. Мы просим вас, торговцев, помочь нам благополучно завершить наш поход на север. Армия у нас большая (все слушатели дружно закивали головами), и нам хотелось бы приобрести еще некоторое количество продуктов, прежде чем мы двинемся дальше. Нам предстоит тяжелый путь на север. Мы просим вас, уважаемые торговцы, снабдить нас вашими товарами. Мы уплатим вам наличными, можем даже уплатить серебром. Настоящие китайцы должны по-настоящему помочь нам. Мы идем драться с японцами, которые намерены всех нас, китайцев, сделать своими рабами. Главный штаб просит вас открыть ваши магазины и свободно торговать.
Господин Чжан У слушал курсанта Цина с удивлением и вместе с тем недоверчиво. Так всегда бывает с человеком, который ждал несчастья и не дождался его.
— Нам нужны рис, табак, водка, перец, ткани, гвозди. Нам нужны любые товары, которые, несомненно, найдутся у вас, такого опытного торговца. Я жду вашего разумного ответа. Мы оплатим товары по любой цене, назначенной вами, — закончил свою речь курсант Цин.
Все молчали. Цин встал с цыновки, прошелся по двору, подошел к ожидавшим его красноармейцам, вытащил из кармана пачку сигарет, закурил сам и дал закурить бойцам. Затянувшись, он тихо сказал им:
— Напуганы всякими рассказами о нас. Думают, что мы поступаем так же, как войска милитаристов. Пусть думают, не будем мешать им.
— Конечно, купцы — люди пуганные. Вот и кажется им, что все только и могут заниматься такими делами, словно других дел у нас нет, — сказал один из бойцов.
С цыновки поднялся Чжан У, а за ним и другой торговец, лавочник с Проточной улицы. Цин вернулся к ним, и все вместе опять опустились на цыновки. Чжан У говорил взволнованным голосом:
— Господин академик (Цин улыбнулся) сказал справедливую речь. Мы, конечно, главным образом торговцы, но прежде всего — китайцы.
Друзья Чжан У дружно наклонили головы в знак согласия.
— И мы, конечно, хотим остаться китайцами до конца дней наших. Господин академик сказал справедливо: многочисленной армии нужно много продуктов. И когда мы услышали это — сердца наши умерли. Мы, скромные торговцы, не имеем так много продуктов (Цин нахмурился), но все запасы, какие есть у нас, мы предоставляем в распоряжение армии, которая идет по столь важному и неотложному делу на север. Завтра, в шесть часов утра, ваши люди могут прибыть в наши магазины и закупить все, что может понадобиться Красной армии в таком трудном походе.
Чжан У сказал все, что мог. Он был взволнован. Господин академик произвел на него хорошее впечатление. И когда Цин сказал, для чего Красная армия идет на север, его, старого торговца, словно что-то кольнуло в грудь. Японцы! Нет, конечно, он, Чжан У, прежде всего китаец, а потом торговец. И он сразу почувствовал себя хорошо, ему стало легко. Даже сидеть теперь на жесткой цыновке было как-то удобнее.
Чжан У предложил Цину распить с ними чай, но Цин вежливо отказался, сославшись на неотложные дела:
— Мы очень спешим, и работы у нас много. Я должен немедленно сообщить о вашем ответе главному командованию.
2. Поход начинается…
В эту ночь в городе было так же светло, как и днем. Множество ярко пылающих факелов освещало улицы. Тысячи людей быстро пересекали переулки. Население Моугуна не спало. Эта ночь была похожа на редкое торжество. На улицах красиво сверкали переливчатые огни. Эта ночь волновала всех, она была для моугунцев великим праздником.
На рассвете город покидал большой, десятитысячный отряд Красной армии. Это была передовая, авангардная часть, она уходила далеко на север, для смертельной борьбы с заклятыми врагами китайского народа — японскими захватчиками, вторгшимися в страну. Этот поход начинал великую национальную освободительную войну. Моугунцы с гордостью вышли проводить славных бойцов в тяжелый путь. А путь был очень тяжелым. Он вел через горные хребты, покрытые вечным снегом, через дремучие леса, через пустыни и болота.
Едва забрезжил рассвет, как отряд уже построился громадным четырехугольником, в центре которого стояла маленькая, наспех сбитая трибуна. Все население города собралось здесь. Оно окружило войска плотной живой стеной. Призывно звучали горны, грохнула частая дробь барабанов. На землю упал первый солнечный луч и осветил огромное поле.
На трибуну поднялись несколько человек. Положив руки на перила, они молча оглядывали войска и народ. Один из них, высокий худой китаец в распахнутом сером френче, поднял руку, и сразу ряды всколыхнулись, словно по ним пробежал ток. Раздались громкие крики:
— Мао Цзе-дун! Ван-суй Мао Цзе-дун![10].
Человек на трибуне приветливо улыбнулся и еще раз поднял руку. Он хотел говорить. По рядам то замирали, то вновь с огромной силой вспыхивали слова приветствий:
— Ван-суй Мао Цзе-дун! Ван-суй Мао Цзе-дун!
Мао Цзе-дун посмотрел на часы, торопливо и решительно махнул рукой. Все вокруг замерло. Было радостное, тихое, солнечное утро.
— Дорогие братья бойцы! Дорогие товарищи политработники! Дорогие граждане моугунцы! Сегодня мы отправляем далеко на север передовой отряд Красной армии. Мы отправляем его для борьбы с извечными врагами китайского народа — японскими захватчиками. Этот отряд должен принести народам Шаньси, Шэньси, Чахара, Ганьсу и Хэбэя, Суйюани и Манчжурии долгожданную добрую весть о приближении всей китайской Красной армии, о начале всенародной освободительной войны с поработителями.
Дорогие братья бойцы, дорогие товарищи политработники! Появление вашего отряда на севере прогремит грозным сигналом — призывом к смертельной борьбе с хищными интервентами.
Нам предстоит невероятно тяжелый путь, неслыханные трудности. Но мы — армия великого народа, и мы преодолеем все препятствия на нашем пути. Мы зажжем огонь национально-освободительной войны нашего народа. Наша борьба будет сигналом к объединению всех сил великой китайской нации. Мы уже прошли огромный путь из Цзяньси сюда, в Сычуань, мы прошли его с жестокими боями, мы пересекли бурные реки и непроходимые горные хребты. Нам предстоит тяжелый путь. Смелее вперед!
Когда Мао Цзе-дун кончил говорить, над полем пронесся ураган рукоплесканий, гулкий рокот.
— Ван-суй! Вперед, бей японцев!
Поле дрожало от криков, от топота людей. Когда волнение наконец улеглось, к барьеру встал Чжу Дэ. И снова загудело, задрожало поле:
— Ван-суй командарм Чжу Дэ! Чжу Дэ — ван-суй!
Суровое и простое лицо Чжу Дэ озарилось улыбкой; он поднял правую руку к голове, снял шапку, махнул ею в воздухе и надел опять на голову.
— Товарищи бойцы и политработники! Граждане Моугуна! В истории нашего народа настал великий день. Китай хочет быть свободным и независимым. Мы готовы с оружием в руках отстаивать нашу великую родину. Мы зовем всех китайцев, настоящих патриотов, к священной войне с японским империализмом. Китайцы не могут быть и не будут рабами японских самураев.
Сегодня отсюда уходит в тяжелый поход на север отряд бойцов Красной армии во главе с нашим руководителем, товарищем Мао Цзе-дуном. Вслед за этим передовым отрядом пойдет вся наша армия. Мы поднимем весь китайский народ на священную войну против японских захватчиков. Наш лозунг: «Китайский народ, вперед на борьбу за спасение родины от японских поработителей!»
Войска приготовились к торжественному маршу перед трибунами. В это время позади рядов началось волнение, возник шум и споры. К трибуне направилось несколько граждан Моугуна. Это была делегация от населения города. Они пришли приветствовать Красную армию и пожелать доброго пути и побед передовому отряду Мао Цзе-дуна. Среди делегатов был и торговец с Голубой улицы, Чжан У.
Он шел, обремененный тяжелым мешком. Каждое движение его сопровождалось странным звоном, будто он рассыпал за собою монеты. Он выступил третьим, когда представители ремесленников города и окрестных деревень уже произнесли свои страстные, идущие от всего сердца слова. Чжан с трудом начал свою речь. От волнения он запинался, но молчание людей, внимательно слушавших его, успокоило Чжана. И тогда он, решительно распахнув халат, сказал:
— От имени торговцев Моугуна я приветствую и благодарю Великую Красную армию. Раньше мы вас боялись, как огня, боялись больше, чем армии генерала Лю Вень-хоя[11]. Мы знали, что с офицерами его армии можно договориться, — правда, за большие деньги, — а про вас говорили, что нельзя никак склонить Красную армию к доброте. Мы с ужасом узнали, что армия генерала Лю Вень-хоя разбита вами и что вы приближаетесь к Моугуну. Мы решили, что теперь наступил конец нашей торговле.
Но пришла Великая Красная армия, и никто из нас не может пожаловаться. Такого порядка и спокойствия, как при вас, у нас в Моугуне еще никогда не было, хотя в городе находится, по меньшей мере, миллион солдат. Мы закрыли наши магазины и попрятали товары, опасаясь произвола. Но прошло уже три недели, и никто из нас не может пожаловаться. Мы охотно продавали вам все наши товары по хорошей цене. У нас сейчас большая прибыль в деньгах, но большой убыток в сердце. Мы, правда, торговцы, это наше главное дело, но мы прежде всего китайцы. Мы знаем, что наша страна подвергается унижениям и оскорблениям от японцев. Мы так же, как и вы, ненавидим рабство.
Я пришел сюда, чтобы принести вам, настоящим китайцам, наши глубокие извинения за недоверие, которое было у нас к вам. Мы, сообща все торговцы, возвращаем всю прибыль, полученную нами от торговли с вами. И, кроме того, мы жертвуем для борьбы с японцами все те запасы товаров, которые были припрятаны нами в момент вашего прихода в город.
Мы не хотим быть недостойными китайцами в такой великий день, и я низко кланяюсь отважным войскам, которые сумели притти сюда, за двадцать тысяч ли[12] от Цзяньси, и идут дальше, в еще более тяжелый путь. Примите от нас наши подарки: деньги и товары. Деньги понадобятся в пути; быть может, вам придется иметь дело с несознательными торговцами в Ганьсу и Шэньси. Мы очень просим вас об этом, как китайцы китайцев.
Чжан с трудом приподнял высоко в воздух мешок с серебром, показал его войскам и народу и опустил на трибуну. После речей опять зазвучали горны. Войска торжественно прошли перед трибуной, на которой стояли вожди коммунистической партии, Красной армии, представители рабочих, крестьян и школьников всего Моугунского района. От трибун войска уходили по единственной дороге — прямо в холмы, в сторону области Сикан, к границам провинции Ганьсу, в Великий поход на север.
3. Записки курсанта Военной академии товарища Цина о походе на север
…Моугун остался далеко позади. Наш отряд хорошо отдохнул в этом маленьком городе. Теперь мы направляемся к Сунпаню. У всех отличное настроение, хотя мы знаем, что путь будет теперь очень трудным. Быть может, труднее, чем из Жуйцзиня[13] в Моугун.
Но мы все знаем, зачем идем, и поэтому итти легко.
Удивляет нас упорство генеральских армий, всячески мешающих нам продвигаться вперед. Говорят, генерал Ху Цзу-нань укрепился на границе Ганьсу и хочет дать нам бой. Торговцы из Моугуна оказались более китайцами, чем подобные генералы. Они снабдили нас припасами и чуть было не отказались от денег. Мы согласились принять от них только дополнительные запасы товаров, которые они сами пожертвовали в фонд борьбы с японскими интервентами. Если бы милитаристы были так же умны, как эти торговцы, Китай давно бы изгнал своих угнетателей…
На привале опять играли в городки. Эта игра стала теперь у нас главной. Бойцы прозвали ее: «Бей японцев!» Все с яростным увлечением играют в городки, бьют так, словно это не палки, а настоящие японцы.
Наш отряд проходит пустынные районы. Жителей почти не встречаем. Вокруг очень однообразно: степь, переходящая в сопки, сопки, переходящие в степь. Природа дикая. Здесь мало занимаются земледелием, большинство населения скотоводы.
Вражеские лазутчики обманывают этих крестьян, запугивая их нами. Они рассказывают о нас всякие небылицы. Редкие деревеньки, которые мы проходим, пусты: население, узнав о нашем приближении, бежит в горы, угоняя скот. Мао Цзе-дун приказал отправить вперед агитационные отряды. Это очень разумное дело. Положение сразу изменилось.
И здесь в пути, как и раньше, мы неукоснительно выполняем наши правила. Их назубок знает каждый боец. Вот они:
«1. Немедленное и точное выполнение приказов командования.
2. У крестьян-бедняков — никаких реквизиций.
3. Все конфискованные товары немедленно передаются в распоряжение высших органов власти для соответствующего распределения.
4. Покидая дом, все двери поставь на место[14]
5. Сверни и возврати хозяевам цыновку, на которой ты спал.
6. Будь вежлив и обходителен с людьми и но возможности оказывай им помощь.
7. Верни все, что ты занял.
8. Возмести стоимость всего испорченного.
9. Будь честен при всяких сношениях с крестьянами.
10. Плати немедленно за все, что покупаешь.
11. Соблюдай гигиену и приучай к ней других».
Эти правила составляют наш железный кодекс дисциплины и чести. Отступить от него — значит совершить преступление!
В одной деревне мы застали на месте все население, которое очень дружелюбно встретило нас. Мы сердечно отблагодарили крестьян за гостеприимство. Из этой деревни с нами пошли два проводника-крестьянина; они доведут нас самой короткой дорогой до Сунпаня. С каждым днем воздух становится холоднее…
* * *
Теперь остался позади и Сунпань. Мы подошли к нему неожиданно и поэтому легко вышибли местный гарнизон из города. Часть солдат вместе с оружием перешла на нашу сторону. Теперь наш путь лежит прямо к Ганьсу…
Перед нами величественные и непроходимые горы Цзяцзинь-Шань. Где-то здесь укрепился генерал Ху Цзу-нань и ждет нас. Наш отряд в составе двух тысяч бойцов идет далеко впереди всей колонны. На нас возложена важная и почетная задача — расчистить путь. До сих пор мы делали это великолепно.
Части Ху Цзу-наня, как сообщают, хорошо вооружены, знают местность и привыкли к боям в горах. Ничего не поделаешь, — если не пропустят, будем драться.
Сегодня вечером устроили концерт. Бойцы радовались, как дети. Цай Чан, жена старшего командира Ли Фу-чуня, пела нам хорошие песни.
Большое впечатление произвело на всех ее талантливое исполнение популярной женской песенки о красноармейцах. Все с восторгом слушали знакомые слова:
Ой, ты послушай, брат красноармеец, Приходи на берег поговорить. Выпьем чаю, покушаем орехов, — Мышцам усталым силы вернешь. Верно, ты без страха бьешь врагов, Брат красноармеец! К победе революции, скорей!В заключение она спела нам «Марсельезу» на французском языке, которым она хорошо владеет. Когда мы расходились после этого вечера по своим местам, многие из нас напевали «Песню идущих на фронт»:
Грохот орудий, клич борьбы… Утром будет решительный бой…Вечер был сравнительно теплый. Настроение у всех боевое. Скоро вступим в горы.
* * *
Идем с большим трудом. Нам еще не приходилось совершать такие переходы по болотам и трясинам. Жестокий холод измучил нас. Впереди горные перевалы и войска Ху Цзу-наня. Бойцы и командиры не спят вторые сутки. Уже два дня идем узкой тропинкой, заваленной кустарником, по болоту. Стоит оступиться — и тогда гибель: засасывает мгновенно. Мы идем крайне осторожно, ночью зажигаем факелы и все время перекликаемся. Перекличка бодрит и настораживает.
Вся питьевая вода у нас на исходе. Кончаются и запасы продовольствия.
Труднее всех приходится пулеметчикам. Иногда они несут на плечах и носилках свои пулеметы, потому что мулы измучены вконец. Но самое главное заключается в том, что никто не падает духом. Повсюду можно услышать ободряющий дружеский голос Мао Цзе-дуна. Он теперь идет вместе с нашим отрядом, так как впереди нас ожидают столкновения с частями Ху Цзу-наня.
Главная колонна где-то позади. Как она пройдет, не знаю: ведь у нее есть легкие орудия и тяжелые ящики со снарядами. Бойцы приговаривают: «Хорошие дела требуют громадных лишений». Это очень хорошо, что они сами, без наших уговоров, сознают все трудности и не унывают.
Разведчики донесли нам, что передовые отряды Ху Цзу-наня вышли нам навстречу из Банью. Тем хуже будет тем, кто посмеет помешать нам, кто встанет на нашем пути…
* * *
…Прославленные части Ху Цзу-наня отступили с большими потерями. Удивительно, почему они дали нам выбраться из болота и лишь после этого пошли в атаку. На болотной тропе мы двигались гуськом, и они могли легко перебить нас из пулемета.
Очевидно, они рассчитывали на нашу усталость, на наше бессилие. Выбравшись из болота, мы едва стояли на ногах. Но как только показались передовые части Ху Цзу-наня, мы налетели на них, как безумные. У нас тоже есть потери, но их никак нельзя сравнить с потерями противника, имевшего все преимущества и хорошо отдохнувшего. Теперь нам долго не будут мешать.
* * *
Мы уже на территории провинции Ганьсу, все ближе к цели. У нас много больных от недостатка пищи и нехорошей питьевой воды, есть и раненые.
Третий день идем в горах, на большой высоте. Вчера день и ночь шли через дремучий лес. Здесь растут такие высокие сосны, каких никогда не мог себе представить. Ночью нас сопровождали дикие звери — тигры и леопарды. Несмотря на осторожность, мы потеряли двух бойцов: их утащили в лес звери.
Продукты питания-поджаренные зерна пшеницы — опять на исходе. Это уже кончаются припасы, добытые нами у «доблестных войск» Ху Цзу-наня. Вышел весь чай, пьем одну горячую воду. Все мы ужасно оборвались. Выглядим, наверное, как разбойники…
Мы все чаще делаем привалы — дает себя знать усталость. По существу, уже год, как мы совершаем поход. Сейчас стоит холодная зима…
Многие из наших товарищей сильно поморозили себе ноги. Кожаной обуви уже давно нет. Сами делаем себе туфли из одеял, но они быстро изнашиваются и мало защищают от морозов.
Мао Цзе-дун совсем осунулся, стал бледным! Но он такой же бодрый, жизнерадостный, как всегда. Для всех у него находится доброе слово, шутка. Удивительный человек! Когда он присаживается погреться к нашему костру, для нас это небывалый отдых, лучший праздник. Несмотря на все лишения, он первый запевает хоровые песни. А когда мы очень пристанем, он читает нам стихи классиков танской эпохи…[15] читает по памяти! Ноги у него побиты и поморожены, но никто ни разу не слышал от него даже намека на жалобу. С таким человеком можно совершить любой поход!
* * *
Разведка наша доносит, что Ху Цзу-нань со своими главными силами поджидает нас опять у спуска в долину. Это очень некстати. Бойцы хотя и рвутся в бой, но все чрезвычайно ослабли. Нужен хороший отдых и хорошее питание. Потом пусть соберутся вместе хотя бы все Ху Цзу-нани, какие еще есть…
Радисты наши безуспешно уже который день ищут корпус Сюй Хай-дуна[16]. Он должен был встретить нас в Ганьсу. У него тоже был нелегкий поход — из провинции Аньхой через Хэнань и Шэньси в Ганьсу. Все время с боями идет его корпус. А теперь, когда он вошел в Ганьсу, прекратилась радиосвязь. Очень досадно. Сейчас уже, наверное, и главные силы Красной армии начали поход по нашему пути…
Опять попали в болотистую местность и испытываем адские страдания. Воды нет совсем. Болотная вода содержит яд, быстро ведущий к гибели. Многие уже поплатились жизнью за свою нетерпеливость. Ее нельзя пить, эту отравленную болотными ядами воду. Даже если эта вода попадает на рану, мучения невероятны…
Начали подъем в горы.
Бойцы собирают ягоды, коренья, варят их и едят. Я делаю то же самое. Нет соли, поэтому пища вдвойне несъедобна. Завтра или послезавтра подойдем к выходу в долину. Настроение у бойцов попрежнему стойкое, но все исхудали, изголодались…
* * *
Радисты наконец установили связь с корпусом Сюй Хай-дуна. Мы получаем теперь одно радостное сообщение за другим. Корпус Сюй Хай-дуна отвлек на себя почти все силы Ху Цзу-наня, и нам открыт свободный выход в долину.
Второе сообщение получили только что. Одна бригада Ху Цзу-наня вынудила «пионеров» Сюй Хай-дуна принять бой. Бригаду эту «пионеры» растрепали окончательно. Много солдат перешло к Сюй Хай-дуну со всем своим вооружением.
Бойцы наши забыли о голоде, холоде и своих страданиях. Мы идем теперь с песнями, счастливые. Утром мы будем в долине около Ченсяня.
* * *
Наконец мы получили возможность отдохнуть. Отряд расположился в Ченсяне. К нам прибыли в гости товарищи из Пионерского корпуса. Это была трогательная, сердечная встреча. О недавних невзгодах не осталось и помину. Мы опять готовы к дальнейшему походу.
Все эти дни мы чинили свою одежду, шили новую. Приближается весна. Но в горах все еще держатся холода. Нам осталось перевалить еще одну горную местность, и мы выйдем в район Тяньшуня, куда уже направился стороной Пионерский корпус, отвлекая от нас силы противника. По пути корпус Сюй Хай-дуна ведет агитацию среди населения, рассказывает о целях нашего похода.
Нашему отряду осталось проделать самую тяжелую часть пути — по районам, населенным дунганами[17]. Это очень замкнутые люди, постоянно враждующие с китайским населением. Эта вражда есть следствие провокационной политики местных милитаристов, которые сознательно натравливают китайцев на мусульман и наоборот. В результате страдают, конечно, только трудящиеся и у дунган и у китайцев.
* * *
Сегодня в Ченсяне состоялся прощальный митинг. Ночью мы отправляемся дальше на север. Проводить нас собралось несколько тысяч окрестных крестьян и все население города. Каждый из них принес нам свои подарки: сушеные фрукты, горох, баранину, вареный рис, лепешки, жареные зерна пшеницы. Многие принесли теплую одежду и местную обувь, выделанную из кожи. Теперь нам будет теплее. Радостные, мы отправились в поход.
Тысячи крестьян шли с нами всю ночь, факелами освещая дорогу. Такая дружба между нами и крестьянами наглядно показывает, как к нам относится народ. В уезде Ченсянь в ряды нашего отряда вступило около восьмисот человек. В пути мы получили дополнительное задание обучать военному делу молодых бойцов. Политработники тоже весьма активно вели свою работу среди добровольцев.
Я обратил внимание на такой факт: чем дальше мы продвигаемся на север, тем сильнее чувствуются антияпонские настроения населения. Здесь наши антияпонские лозунги производят исключительное впечатление. Нас радостно встречают, сытно кормят и с сожалением провожают. Почти в каждой деревне в наш отряд вступают новые бойцы…
* * *
Седьмые сутки идем по равнине. Весна потихоньку обгоняет нас. Днем уже достаточно тепло. Немного оттаивает снег. Но по ночам все еще очень холодно. Дороги с каждым днем все больше ухудшаются. Зима все еще сильна и не хочет уступить весне.
Вчера крестьяне из деревень Хошауцзы и Сулинцзы добровольно организовали отряд носильщиков и несли всю нашу поклажу примерно сто ли. Весть о нас идет далеко впереди нашего отряда. Очень часто нам навстречу выходят крестьянские делегации, зазывая в свои деревни на ночлег, предлагая пищу.
Одной крестьянской делегации мы вынуждены были отказать, так как их деревни находились далеко в стороне от избранной нами дороги. Крестьяне, несмотря на все наши объяснения, были глубоко обижены. Наконец договорились с ними; в их район послали наших представителей для организации Отряда крестьянской антияпонской обороны.
Нас задерживают частые остановки в деревнях. В шутку мы теперь говорим между собой так: вечером гостим в такой-то деревне, а завтра утром в другой. Мы все ближе подходим к последнему перевалу. Местные крестьяне дают нам советы и подробные указания, как лучше двигаться в горах.
Между прочим, в этих горах живут дунгане, весьма враждебно относящиеся к китайцам. Нам придется быть настороже. Повсюду ищем опытных проводников, но найти их нам еще не удалось. Оказывается, из-за вражды равнинные жители почти не бывают в горах и поэтому не знают тамошних дорог…
* * *
Вчера начали подъем в горы. Они здесь необычайной высоты, подъемы крутые, а спуски обрывистые. Вчера же в полдень к нам присоединился большой Отряд крестьянской антияпонской обороны, организованный нашими представителями по просьбе крестьян. В большинстве это молодые, здоровые ребята в возрасте от семнадцати до тридцати лет.
К счастью, в отряде оказался один охотник, часто бывавший в этих горах и знающий тропы. У него даже есть друзья среди дунган. Зовут этого крестьянина Тан Чжэн. Он всегда весел, организатор всевозможных игр, из которых ловко выходит победителем. Он быстро подружился с бойцами. На привалах, — а они в горах очень часты, — Тан Чжэна приглашают к каждому костру, так полюбился он всем.
* * *
Сегодня состоялось очередное партийное собрание коммунистов моей части. Комиссар сделал доклад о международном положении, сообщил последние политические новости, полученные по радио. Потом резко критиковали работу завхоза коммуниста Лу Чана. Он очень хороший боец, но весьма рассеянный завхоз: он оставил нас без чая. Товарищ Лу Чан признал свою ошибку, обещал исправить ее путем обмена излишних продуктов с другой частью. Он просил после перехода вернуть его обратно в строй, а хозяйственные дела поручить человеку, более подходящему для этого.
Нам предстоит долгий поход в горах; чай — хороший товарищ и утешитель в таком трудном пути. Вот почему мы так распекли Лу Чана.
Дорога пока хорошая, широкая: идем по четыре человека в ряд. Хорошо бы так дойти до конца нашего пути!
* * *
Вчера, рано утром, нас обстреляла группа неизвестных людей, которые мгновенно исчезли в горах. Убиты два товарища: командир третьей роты 119-го полка и боец этой же роты; ранено несколько человек. Послали вперед Тан Чжэна в качестве разведчика и парламентера. Вернулся он только сегодня. Вместе с ним пришли два старика дунгана. Все выяснилось. Реакционные элементы заявили дунганам: «Красные идут вас грабить. Не пропускайте их через горы, истребляйте, как бандитов».
Дунгане поверили им и встретили нас огнем. Тан, очень хорошо говорящий на их наречии, объяснил им с помощью политработников цель нашего похода. Дунгане обещали прекратить нападения. Старики сказали: «Быть свободными должны все. Мы не смеем мешать вам в таком великом деле».
* * *
В горах мы уже больше недели. Дунгане не нападали. За это время ни разу, а наоборот, охотно показывали удобные тропинки. Теперь мы двигаемся гуськом, один за другим, — настолько узки тропинки. С продовольствием у нас опять острый кризис. Бойцы получают в день не больше ста граммов диких овощей и ста граммов жареных зерен пшеницы. Зато в изобилии прекрасная питьевая вода.
Настроение, как всегда, бодрое. За все время похода от Моугуна никто не высказал недовольства, хотя нам приходится преодолевать невероятные трудности.
Тан Чжэн предупреждает всех, что самый опасный участок впереди — путь вдоль гигантских отвесных скал, нависших над пропастью.
Послали вперед разведку. Весь отряд расположился на отдых. Приказано было спать, чтобы люди набрались сил для последнего перехода. Не спят только командиры. Во время отдыха бойцов мы сами несем сторожевое охранение. Поздно ночью вернулся один из разведчиков и сообщил, что дорога свободна, можно итти вперед. Он подтвердил слова Тан Чжэна и сказал, что тропинка ведет через такие высокие скалы, что нельзя смотреть вниз — закружится голова.
* * *
Вот мы и у последнего этапа нашего перехода. Движение колонны началось уже часов семь назад. На тропинке помещается только один человек. Из-под ног все время осыпаются камни. Стука от их падения на дно пропасти не слышно. Мулам завязали глаза, каждого мула ведут два человека: один спереди за узду, другой сзади держит его за круп. Люди идут медленно, крайне осторожно… Как мы ни рассчитывали, а теперь уже видно, что ночь застанет нас на этом дьявольском пути.
Задерживаться нам нельзя. Мы должны, мы обязаны итти быстро вперед. Корпус Сюй Хай-дуна уже опять в Шэньси. Он ждет нас…
* * *
Теперь, когда мы миновали эти страшные скалы, у меня нет слов, чтобы описать наш путь. Это было ужасное испытание нашей смелости и, главное, наших нервов.
Мы шли с полудня до утра следующего дня по узкой тропинке, ширина которой не превышала трех локтей мужчины. Попадались места, где было не больше двух локтей ширины. У всех кружились головы, многих тошнило. Несмотря на строжайший приказ не смотреть в пропасть, она нас сама притягивала, и мы невольно смотрели вниз, хотя и не видели порой ее дна.
Мы двигались молча. Все были в страшном напряжении. Люди вздрагивали от кашля соседа. Оступиться — значило погибнуть. К вечеру пошел легкий дождь, итти уже нельзя было — ноги сами соскальзывали в пропасть. Часть пути пришлось ползти на коленях.
К счастью, дождь скоро прекратился. Но как только уходило от нас одно несчастье, приходило другое. Ночь наступила быстро. Темная, непроглядная ночь. Теперь мы едва передвигали ноги, боясь каждого неосторожного движения. Мы останавливались при звуке малейшего шороха, цеплялись руками за скалы и так ждали, пока сосед спереди не начинал двигаться дальше…
На рассвете мы вдруг услышали далеко впереди частые выстрелы винтовок, потом пулеметные очереди. Нами овладела ярость: враг нападал на нас, беззащитных и беспомощных. Однако вскоре до нас дошел приказ двигаться дальше: перестрелка шла уже внизу, куда спускались наши бойцы. Оказывается, их обстреляли засевшие в одном из заброшенных буддийских монастырей неприятельские части.
Когда мы достигли равнины, все вокруг было тихо. Яркое солнце согревало всех нас своими лучами. Весна была здесь в полном расцвете. От неприятеля не осталось никаких следов. Охваченные бешеной яростью, наши передовые части уничтожили их всех.
* * *
Итак, главную часть пути, самую трудную и опасную, мы прошли благополучно. Теперь мы находимся в провинции Шэньси. Еще немного терпения и упорства — и мы выйдем в те районы, куда направила нас наша партия, интересы нашей великой родины. Дальнейший путь мы совершим с Пионерским корпусом Сюй Хай-дуна, который мужественно отвлекал от нас неприятельские силы. Трудно даже представить себе, каким было бы наше положение, если бы корпус Сюй Хай-дуна не пришел к нам на помощь. Как ни был труден и опасен наш путь, я и друзья мои удивляемся, как мало жертв мы понесли. Память о погибших товарищах мы чтим, как память наших родных братьев.
В Тяньшуне, занятом уже частями Сюй Хай-дуна, нас ожидает прекрасный отдых. Нам нужно набраться сил. Много сил нам нужно. Впереди — жестокая борьба с чужеземными завоевателями, захватившими наш Северо-восток (Манчжурию), провинцию Жэхэ и приготовившимися захватить наш Северный Китай. Впереди нас ждет борьба.
Мы с честью закончили наш Великий поход, продолжавшийся почти восемнадцать месяцев…
4. Ранение
Было жаркое лето 1937 года. Командир полка Красной армии, бывший курсант Военной академии Цин выписался из госпиталя, в котором он провел более полугода.
Цин с удовольствием вдыхал прохладный воздух тенистого сада, окружавшего военный госпиталь в Фугу. Раны зажили, он опять здоров и бодр. Правда, он чувствует некоторую слабость в ногах. Но кто, однажды заболев, не чувствовал потом, после выздоровления, этой легкой дрожи в ногах и сладкого головокружения?
Не избежал этого и командир Цин. Шутка ли сказать: провести полгода на госпитальной койке! Цин сейчас с трудом вспоминает о том, как он попал в госпиталь. Еще бы, ведь это было так давно — шесть месяцев тому назад! Сейчас он, медленно, осторожно ступая, идет к выходу из парка; рядом с ним идет его помощник, наш старый знакомый Тан Чжэн. Он специально прибыл в Фугу, чтобы забрать своего командира обратно в полк.
Окрепнув там на свежем воздухе, Цин через неделю вновь примет командование полком. Тан Чжэн клялся, что так и будет. И сами бойцы неотступно требовали возвращения в полк выздоравливающего командира. Цин вспомнил наконец, как и где его ранили.
Это было последней зимой, на подступах к Баоаню. Противник потребовал присылки парламентеров для переговоров. Пошел Цин и с ним командир седьмой роты Фан Гу. Солдаты противника приветливо встретили красных командиров. Они открыто высказывали всяческие добрые пожелания парламентерам.
— Мы хотим мира между китайцами! — кричали они. — Мы не хотим, чтобы продолжалась война китайцев против китайцев!
Цин проходил мимо солдат, улыбаясь и кивая головой.
Офицеры противника встретили парламентеров недружелюбно. С самого начала переговоров они провоцировали Цина. Бросали ему прямо в лицо оскорбительные реплики:
— Вы собрали по всей стране сброд. У вас босяцкая армия. Мы требуем, чтобы вы немедленно сдали оружие.
Эти высокомерные люди выкрикивали одно гнусное оскорбление за другим. Цин и Фан Гу спокойно слушали их. Наконец Цин встал; он чувствовал, как закипает в нем ярость, и сказал:
— Нас пригласили сюда как парламентеров. И мы честно пришли, без оружия. Вместо переговоров вы оскорбляете нашу армию, которая есть плоть от плоти нашего народа. Нам нечего здесь делать…
Цин и Фан Гу вышли из штаба противника, прошли в ворота городской стены. С их пути убрали солдат. Когда за ними закрылись ворота и они уже вышли на дорогу к своему полку, сзади раздался треск пулемета. Фан Гу сразу повалился на землю. Цин, удивленный таким гнусным предательством офицеров, высоко вскинул белое полотнище — знак парламентера. Дальше он ничего не помнит, как ни силится восстановить это событие в памяти.
Только в госпитале он узнал о дальнейших событиях. Красные бойцы, услышав пулеметную стрельбу и увидев, как упали на землю их командиры, стремительно бросились вперед. Они закидали городские ворота гранатами и ворвались в город. Баоань был взят красными. Неприятельские солдаты сложили оружие и не оказали сопротивления. Они сами вылавливали своих офицеров-предателей.
Фан Гу был мертв, когда его подобрали, а Цин подавал еще признаки жизни. У него оказались две раны в голове, одна пуля попала в грудь, а другая прострелила кисть левой руки. Вот почему командир полка Цин почти полгода пролежал в военном госпитале в Фугу.
У калитки госпитального сада Цина ожидал маленький легковой автомобиль.
— Прислали из штаба корпуса. Специально за тобой, — улыбаясь, сказал Тан Чжэн.
Автомобиль мягко покатил по пыльной улице.
— Мы здесь недалеко: всего пятьдесят-шестьдесят ли, — начал рассказывать Тан Чжэн. — В полку все в полном порядке. Бойцы и командиры ждут тебя с нетерпением. Недавно получили четыре станковых и двенадцать ручных пулеметов. Теперь у нас около ста автоматических ружей. Как видишь, без тебя мы не дремали. Лу Чана теперь просто боятся в штабе. Если его послать за каким-нибудь снаряжением, можно не сомневаться — все добудет.
Цин вдруг вспомнил один вечер Великого похода, когда на партийном собрании распекали Лу Чана за рассеянность.
«Хороший командир, — подумал он. — Настоящий коммунист».
— Как обстановка? — вдруг перебил он Тан Чжэна.
— Уже пять месяцев, как мы не воюем. Ни одной стычки. Бойцы отдыхают. Сейчас идут важные переговоры между компартией и гоминданом. Наша партия потребовала объединения всей нации, вооружения всего народа для священной войны с японскими захватчиками.
Цин слушал Тан Чжэна с горящими глазами. Бледное лицо его покраснело от прилива крови.
— Ну, и как? — волнуясь, спросил он.
— Ты очень тороплив. Такие вещи не делаются сразу. Но говорят, что переговоры идут успешно.
Цин откинул голову на спинку сиденья, закрыл глаза. Лицо его опять стало бледным. Он молчал всю дорогу до лагеря полка. Автомобиль шел медленно, выбирая удобный путь. В полк прибыли только вечером.
5. За нашу Великую Родину
(Записки командира бригады Восьмой народно-революционной армии Китая товарища Цина)
С каждым днем я чувствую себя лучше, крепче. Хорошо отдыхаю. Меня окружили заботами, ухаживают за мной, словно я беспомощный ребенок. Как сильно изменились люди в полку! Многих я с трудом узнаю. Особенно меня поражает Тан Чжэн. Простой крестьянин-охотник за один только год превратился в отличного, грамотного командира. У него природные способности. В мое отсутствие он командовал полком не хуже меня. Дисциплина великолепная. Бойцы хорошо знают свое дело. В полку тесная, товарищеская дружба. Молодец Тан Чжэн! Надо будет уговорить его пойти учиться.
Радуют меня сердечные отношения между бойцами и населением окрестных деревень. Мы должны еще больше сближаться с народом. Очень беспокоят нас затянувшиеся переговоры между нашей партией и гоминданом о создании единого национального антияпонского фронта. Сейчас это самое главное! Только объединившись, мы сумеем разбить и выбросить с нашей территории наглых японских интервентов! Весь народ ждет результатов этих переговоров с величайшим напряжением.
Утром радио сообщило, что японцы передвигают свои войска из Манчжурии и Кореи в сторону Северного Китая. Больше нельзя ждать. Каждый день промедления только ослабляет наше сопротивление…
* * *
То, что мы, коммунистическая партия, предсказывали, произошло. Японцы, использовав очередную провокацию, неожиданно напали на китайский гарнизон около Люкоуцзяо[18]
Мои бойцы охвачены негодованием, они горят нетерпением начать освободительную войну. Повсюду проходят массовые народные митинги протеста; к нам приходят молодежь и старики и требуют зачисления в армию. Повсюду говорят только об одном: больше нельзя ждать! Армия вместе с народом должна выступить против японцев! Это стало уже лозунгом…
* * *
От волнения мне трудно писать. Великое свершилось. Заключено соглашение между компартией и гоминданом о едином национальном антияпонском фронте. Создается единое командование национальной армии. Наша Красная армия реорганизуется в Восьмую народно-революционную армию. Соглашение это — результат борьбы коммунистов за создание единого национального антияпонского фронта. Объединившись, великий китайский народ сумеет освободить свою родину от японских захватчиков.
Сегодня опубликован приказ о реорганизации нашей армии и о назначении товарища Чжу Дэ командующим Восьмой армией. Территории, занятые нами, преобразуются в особые демократические районы северо-западного Китая.
Сегодня вечером созывается специальная конференция командиров и комиссаров Красной армии. На повестке дня — большие доклады наших руководителей — Мао Цзе-дуна, Чжу Дэ и Чжоу Энь-лая. На время конференции полком будет командовать товарищ Тан Чжэн…
* * *
Конференция продолжалась три дня. Это важнейшая конференция в истории нашей партии и нашей армии. Не только намечены задачи, стоящие перед коммунистами и Красной армией, но и указаны методы их разрешения. Специально обсуждены тактика и стратегия войны с японцами. Нам подробно доложили о состоянии и вооружении японской армии, о ее тактике и стратегии.
Конференция приняла специальные решения о характере военных действий нашей армии против японцев. Главная наша задача — всемерно и повсюду развивать партизанское движение, обучать военному делу и вовлекать в борьбу широчайшие народные массы. Это действительно будет всенародная война с поработителями.
Пока работала конференция, в нашу армию вступили новые десятки тысяч антияпонских бойцов. Мой полк развертывается в бригаду. Теперь я каждый день жду приказа командования о выступлении.
Между прочим, на конференции с энтузиазмом принят текст присяги бойца Восьмой народно-революционной армии. Вся наша армия будет скоро присягать на верность родине и народу, поклянется словами этой присяги вести войну до последних сил, пока мы не победим и не прогоним из Китая наших врагов. Я привез текст присяги, и сейчас бойцы и командиры разучивают его. Присяга вдохнула в меня могучие силы. Я готов до конца вести борьбу с фашистскими самураями.
* * *
Не успеваю записывать даже главные события нашей жизни. Нет ни одной минуты свободного времени. Боюсь, что скоро наступит боевая пора и мне придется оставить эти записки. Я назначен командиром бригады, развернутой из моего полка, куда в последнее время прибыло около четырех тысяч добровольцев. Всего в моей бригаде уже более шести тысяч бойцов. Но с каждым днем она все больше увеличивается. Ежедневно прибывают со всех концов страны новые добровольцы — антияпонские бойцы: рабочие, крестьяне, студенты, учителя, торговцы, много женщин.
Завтра вместе со всем корпусом, которым командует товарищ Пэн Дэ-хуай, моя бригада произнесет слова великой клятвы — присяги. Все бойцы с волнением ожидают завтрашнего дня. Он действительно велик для нас: после присяги корпус уходит на фронт. Тан Чжэн, мой старый боевой друг, и Лу Чан назначены командирами полков в моей бригаде. Участники Великого похода составляют костяк реорганизованной армии. Это закаленные и проверенные люди, обладающие огромным военным, политическим и житейским опытом.
Я чувствую себя отлично. Раны зажили и лишь в дурную погоду дают о себе знать. Настроение в бригаде приподнятое, боевое, все горят энтузиазмом борьбы. Многие вслух повторяют слова присяги.
* * *
Войска построились на огромном ровном поле. Точно в восемь часов утра к войскам подъехали: товарищ Мао Цзе-дун, командарм Чжу Дэ, его заместитель, командир нашего корпуса товарищ Пэн Дэ-хуай и много других известных командиров и политработников.
Все время прибывали один за другим десятки автомобилей с представителями центрального правительства, главного военного совета и различных общественных организаций страны. На поле, кроме войск, было не меньше двадцати тысяч гражданского населения.
После небольшой речи Мао Цзе-дуна командарм Чжу Дэ в торжественной тишине медленно, слово за словом, громко читал слова присяги бойца Восьмой народно-революционной армии Китая. Дружно, хором повторяли за ним бойцы каждое слово присяги. Земля дрожала, когда бойцы подхватывали отдельные слова этой великой клятвы. Я привожу ее текст:
«Японский империализм — смертельный враг китайской нации. Империалисты стремятся поработить нашу страну и уничтожить нашу нацию, они убивают наших родных, близких, они насилуют наших матерей, жен и сестер, сжигают жилища, уничтожают наше хозяйство, инвентарь и скот. Во имя нашей нации, нашей страны, наших соотечественников, во имя наших детей и внуков мы клянемся сопротивляться до конца японским захватчикам.
Уже шесть лет боремся мы за спасение родины от японских захватчиков. Уже создан единый национальный фронт. Переименовав нашу армию в народно-революционную армию, мы отправляемся на передовые позиции для уничтожения врага.
Мы искренне поддерживаем национальное правительство и председателя военного совета Чан Кай-ши, возглавляющих оборону всей страны против японских захватчиков. Мы обязуемся подчиняться единому командованию военного совета, строго соблюдать дисциплину и не возвращаться домой до тех пор, пока из нашей страны не будут изгнаны японские захватчики, пока все предатели нации не будут стерты с лица нашей земли.
Мы, сыны рабочих и крестьян, клянемся не брать ни одной нитки у населения, клянемся всегда служить интересам народа, по-братски относиться к воинским частям, сражающимся плечо к плечу с нами против нашего общего врага, мы клянемся быть преданными революции. Мы готовы принимать критику товарищей, отвечать по всей строгости революционной дисциплины в случае нарушения нами интересов нации».
Когда присяга была вся повторена войсками, громовые раскаты приветствий прокатились по полю. И войска и народ единодушно кричали: «Ван-суй свободный великий Китай! Бей японцев! Ван-суй Мао Цзе-дун, Чжу Дэ! Ван-суй беспощадная борьба с японскими интервентами!»
Завтра моя бригада уходит в поход, навстречу японским войскам. Сегодня все бойцы отдыхают. В наших частях гостят сегодня рабочие и крестьянские делегации. Они привезли бойцам много хороших подарков. Вечером делегация шанхайских артистов устраивает большой концерт для бойцов и командиров бригады.
* * *
…Третий месяц воюем с японцами. Даже такой короткий срок позволил нам изучить врага. Он превосходит нас своей военной техникой. Зато мы нащупали его слабые места: медлителен, малоподвижен, в ближнем, рукопашном бою слаб, предпочитает позиционную войну.
За эти три месяца мы имели несколько столкновении с японцами. Первое сражение мы проиграли. Но это вполне естественно: противник развил бешеный орудийный огонь. Ему удалось, прикрываясь огневой завесой, сбить нас с позиции. В целях сохранения живой силы мы отступили.
Второе столкновение наше закончилось так же. Но эти временные отступления лишь укрепили нас, обогатили опытом боевых действий против империалистической армии, вооруженной до зубов.
О третьем столкновении в районе Лиши (провинция Шаньси) скажу кратко: мы начисто уничтожили полк противника. По одним только трофеям можно судить о значении этой первой нашей победы: семнадцать станковых пулеметов, двадцать два ручных, сто семнадцать автоматических ружей, четыре легких орудия, восемь грузовиков с патронами, снарядами, медикаментами и продовольствием, большой запас обуви, одежды и прочего снаряжения!
Стоило два раза отступить, чтобы в третий раз нанести врагу сокрушительный удар! Моя бригада сейчас вооружена в значительной степени оружием, захваченным у японцев…
В Лиши у меня произошла поразительная встреча. Там сейчас установлена основная база снабжения нашего корпуса. И среди наших интендантов я встретил… торговца Чжан У из Моугуна! Кто бы мог подумать об этом! Вот что значит, когда весь наш народ объединился в едином порыве борьбы с чужеземными поработителями!
Он очень похудел, этот Чжан У, против прежнего. Но в военной форме, несмотря на солидный возраст, он выглядит даже молодцевато. Увидев меня, он сказал:
— Сейчас надо защищать родину. Остальные дела потом. Я прежде всего сознательный китаец…
* * *
Моя бригада переходит в дивизию товарища Хо Луна. Наша новая задача — прорваться в японский тыл, в северную часть провинции Шаньси. Это большой, трудный и опасный поход. Но разве мы однажды уже не прошли более двадцати тысяч ли неслыханно тяжелого пути? Мои бойцы уверенно идут вперед. Огненные слова клятвы, которую мы дали нашему народу, приведут нас к победе над врагами родины. Мы помним эти слова:
«Мы обязуемся… не возвращаться домой до тех пор, пока из нашей страны не будут изгнаны японские захватчики, пока все предатели нации не будут стерты с лица нашей земли».
Эту клятву мы выполним, даже если нам придется сложить свои головы на полях сражения за нашу великую родину!
Синее озеро
Не успели закончить наводку понтонного моста, как японские пушки опять засыпали левый берег снарядами. Стреляли они откуда-то издали, из-за холмов, невидимые— это раздражало бойцов. Озлобленные, они быстро переползли голый, словно выбритый начисто берег реки и залегли в холмах. Но и здесь японская шрапнель настигала их. Она, звеня, рвала верхушки холмов, густо осыпая бойцов песком.
Японская батарея строго чередовала залпы: один раз шрапнель, другой — снаряды. Бойцы уже заранее перед шрапнелью прятали головы глубже в песчаную почву, прикрывая их куртками, чтобы песок не набивался в глаза и уши.
— Куда же провалилась наша батарея? — спросил молодой боец по имени Лян у командира, который стоял рядом с ним на коленях и выгребал из-за воротника полные горсти песку.
— Сейчас должна подойти, — коротко бросил командир, не вставая с колен. Он долго возился с биноклем и наконец уставился куда-то через реку, на правый берег, за холмы.
— Хоть бы посмотреть, где сидят эти черепахи, — ни к кому не обращаясь, сказал боец Лян.
Командир молчал, точно не слышал просьбы Ляна, продолжая внимательно осматривать правый берег. Лян присел за песчаным бугром на корточки и начал сморкаться. Он сморкался так громко и обильно, что бойцы вокруг начали посмеиваться над ним.
— Эй, ты, лягушонок, не дуй так сильно, ветер подымешь!
Не отвечая, Лян сморкался еще громче, отхаркивая песок, набившийся ему в горло. Пулеметчик Тан шутливо заметил:
— Никак, Лян, ты подаешь японцам сигналы своим носом, чтобы они знали, где мы залегли?
Бойцы тихо рассмеялись. Даже командир, который все еще смотрел в бинокль, и тот улыбнулся.
Японская батарея замолкла. Над рекой повисла непривычная, странная, удивительная тишина. Люди вставали, отряхивая с себя песок, ругались тихо, так, чтобы не мешать командиру наблюдать за врагом. У соседних холмов тоже зашевелились бойцы. Тишина удивляла всех своей загадочностью.
Японцы несколько часов подряд дырявили снарядами левый берег реки, не давая китайским войскам навести понтоны и переправиться на правый берег. И вдруг все стихло. Неподвижная тишина, наполнявшая знойный воздух, после неистового треска, рева и грохота казалась необычной, таящей в себе опасные неожиданности. Специальные команды ползком пробрались к понтонам. На берегу лихорадочно заработали саперы.
— Товарищ Лян, — громко сказал командир, — ты должен хорошо знать эти места.
— Очень хорошо знаю, товарищ командир. Всю свою жизнь до войны я прожил здесь неподалеку. — Лян почти вплотную подошел к командиру.
— Посмотри на тот берег и скажи, что там интересного. Тебе ведь хотелось узнать, где противник.
Командир протянул Ляну бинокль. Бойцы с уважением посматривали на Ляна, прижимавшего бинокль к своим глазам с такой силой, словно он хотел вдавить его.
— Ничего нет, товарищ командир, — доложил Лян, — если не считать, что за средним холмом выросли деревья. Еще полгода назад здесь, кроме кустарника, ничего не было.
Командир довольно улыбнулся, шлепнул Ляна по плечу и сказал:
— Вот в этом-то все и дело. В этой местности не должно быть леса, даже если он шестимесячный. Понял?
— Конечно, товарищ командир, здесь лес не может расти. Кругом песок. Ниже по реке — там есть и лес. Но это далеко отсюда. — Лян, довольный беседой с командиром, готов был рассказывать все, что он знал об этих местах.
— Вот что, — прервал его командир — проберись в ложбинку, возьми там коня и разыщи нашу батарею. Она должна быть где-то здесь, неподалеку. Передай эту записку командиру батареи да не забудь рассказать ему про этот молодой лесок. Понял?
Только теперь боец Лян, слушая приказ своего командира, понял, почему этот молодой лесок, так внезапно выросший в песчаных холмах, привлекал к себе столько внимания.
— Ах, ван-ба-дянь![19] — воскликнул он. — Вот оно что!
Лян скрылся из виду, когда японские орудия вновь загрохотали. Воздух наполнился ревом. Японцы хорошо пристрелялись, и их снаряды ложились все ближе и ближе к китайским позициям. Были уже убитые и раненые. Санитары быстро уносили стонущих людей далеко за линию обстрела. Грохот становился нестерпимым. Даже привыкшие к войне старые солдаты зажимали уши с болезненной гримасой на лице.
Воздух беспрерывно вздрагивал от разрывов. Его колебания делались все более ощутимыми и почти видимыми. Массы воздуха, накаленныё солнцем и взрывами, наплывали на бойцов тяжелыми горячими волнами. Солдаты лежали на осыпающейся, дрожащей земле молча, с сосредоточенными лицами. Для них опять наступил беспокойный и томительный отдых, краткая передышка в бою.
Ураганный огонь неприятельской артиллерии приковал их к земле. Бойцы лежали неподвижно, как мертвые. И лишь по команде они оживали, молниеносно перебегая с места на место, когда снаряды начинали ложиться уж очень близко.
Воздух свистел и звенел, словно невидимые маленькие склянки лопались высоко в небе. Земля дрожала. Огненные смерчи прокатывались над головами солдат, зарываясь в песок где-то позади. Люди изнемогали от жары, обливались потом. Никто не смотрел по сторонам. Только командир время от времени вставал на колени и осматривал в бинокль правый берег. К понтонам нельзя было подступиться. Японцы устроили у самого берега реки сплошную огневую завесу. Вода в реке пенилась и булькала, словно закипая. Взрывы выбрасывали далеко на берег огромные массы воды, медленно стекавшей обратно в реку.
— Эти черепахи пойдут скоро в атаку, — сказал пулеметчик Тан. — Я-то уже приметил их повадку. Сперва они целый день поливают, а потом идут собирать урожай.
— Ну что ж, пускай идут. Воды и песку здесь много, всем хватит, — заметил командир.
Разговоры в цепи замолкли. Напряженное ожидание и солнечный зной морили бойцов. Даже когда приползли повара с корзинами еще горячих, вкусно пахнущих пампушек[20], то и тогда солдаты не развеселились. Раздав пищу, повара устало привалились к насыпи. Солдаты ели неохотно, без аппетита. Таи открыл пакетик с сухим вареным рисом, заглянул в него, затем обернулся к маленькому худощавому повару и проворчал:
— А подливку ты по дороге съел, что ли?
— У нас подливка испортилась. Ты у японцев возьми ее, им из Токио привозят специально. У них подливка хорошая!
Шутка повара рассмешила солдат.
— Они уже нам подлили, — буркнул кто-то в цепи.
Тан отвернулся, нехотя проглотил комки сухого риса и опять улегся на насыпи. Чуть высунув голову, он смотрел вперед, через реку, на далекие холмы правого берега. Там, за холмами, прошла почти вся его жизнь. Он смотрел вперед, щуря глаза в сторону своей родной деревни. Но деревня была далеко-далеко, у Синего озера, и перед глазами его проплывала в туманной дымке кривая деревенская улица, тенистый берег озера, маленький домик его родителей, шумная толпа крестьян у дома деревенского старосты, громкие, задорные песни девушек и юношей. Это был день проводов молодых солдат в армию…
Тан протер глаза, и впереди опять потекли в знойном мареве холмы, холмы, песок, песок… Там, за холмами, остался его родной дом, семья. Теперь там засели японцы. Уцелел ли кто-нибудь?
Японская батарея неистовствовала попрежнему. Огненный диск солнца кренился к закату. Менаду холмами на правом берегу показались японские солдаты. Они двигались медленно, осторожно переползая от укрытия к укрытию.
Китайцы не стреляли. Не стреляли они по многим причинам: и потому, что неприятель был еще далеко, и потому, что японцев надо было бы ошпарить шрапнелью, а батарея где-то безнадежно застряла. И солдаты лежали в укрытиях бессильные, но одержимые яростью.
Эти люди не боялись врага, они ждали его нетерпеливо. И будь на то их собственная воля, они бросились бы через реку вплавь — лишь бы достать ненавистных, смертельных врагов, вгрызться в их глотки. Но бойцов сдерживала воля командира, железная дисциплина. И они лежали неподвижно, не спуская глаз с ползущих японских цепей. Эти люди прошли отличную военную школу, которой так славится Восьмая народно-революционная армия. Они хорошо понимали, что наступление пехоты должно быть поддержано артиллерией. Поддержано и подготовлено. А батарея, которой командует молодой Сун, где-то застряла…
Командир спокойно наблюдает в бинокль движение японских войск. Иногда он вытаскивает из своей маленькой полевой сумки серую потрепанную тетрадь, что-то торопливо записывает в нее и опять смотрит, как к правому берегу ползут японцы.
Тан подтягивает свой пулемет к гребню холма, устанавливает его, заботливо прикрывает отверстие дула курткой. Он поворачивает голову к командиру, встречает его взгляд, как бы оправдываясь, кричит:
— Чтобы не набивался песок! — и оправляет куртку на пулемете.
В грохоте разрывов командир не слышит его, но понимающе кивает головой. И когда Тан опять поворачивает голову и вопросительно смотрит на него, командир кричит ему:
— Они еще далеко!
И Тан отлично понимает слова командира, хотя и не слышит их.
* * *
Когда лошади окончательно выбились из сил, командир батареи Сун приказал рубить постромки. Ничего другого нельзя было предпринять. Лошадей загнали, и сейчас они, обессиленные, мокрые от пота, с мордами, покрытыми хлопьями снежной пены, слегка покачивались на дрожащих ногах. Сун в душе проклинал артиллерийский парк, интендантство и все остальное на свете. Ему, молодому командиру, точно нарочно подсунули маленьких, слабых лошадок, не пригодных для работы в батарее.
Его помощник, старый артиллерист Хон, вместе с бойцами молча рубил постромки тесаком и не оглядывался на командира. Это он, Хон, тщательно, со всей присущей ему аккуратностью, расписался в акте, составленном канцелярией артиллерийского парка, что он, «помощник командира четвертой батареи второго конно-артиллерийского дивизиона, Хон, принял лошадей в полном порядке, без каких-либо изъянов…».
Хон сам едва сдерживается от бешенства: позволить так надуть себя! Позор! И должно же это было случиться в самый момент отправки на фронт!
Но он молчит, ибо знает, что командир теперь вне себя. Молодой и горячий, командир Сун будет прав, если пристыдит его, старого Хона, сейчас перед всей командой. И нужно же было, чтобы эти драные кошки выбились из сил здесь, перед самым фронтом, когда до позиции оставалось, быть может, не больше одного километра!
Собственно говоря, во всей этой истории никто не был повинен. И меньше всего командиры Сун и Хон. И ровно столько же вины лежало на командовании артиллерийского парка. И, уж конечно, совсем ни при чем были эти маленькие, заезженные и замученные лошадки, валившиеся с йог от усталости и жажды.
Как это ни странно, но непосредственным виновником в этом случае, как и во многих других, были все те же заклятые враги — японские интервенты, внезапно напавшие на неподготовленный Китай. Для отпора японцам были мобилизованы все силы и средства. И вот однажды в адрес артиллерийского парка в Лояне прибыл эшелон маленьких австралийских лошадей. Артиллерийский парк ощущал большую нужду: формировались новые батареи, дивизионы, и не хватало тягачей-тракторов, грузовиков, настоящих артиллерийских лошадей-тяжеловозов.
Вот почему в акте, который аккуратно подписал Хон, было указано, что «батарея № 4» второго конно-артиллерийского дивизиона получила полный «комплект» австралийских лошадей, маленьких выносливых лошадок с лохматой гривой, закупленных в первые дни войны для кавалерийских частей, но попавших в артиллерийский парк в Лояне.
Грохот артиллерийской канонады подстегивал орудийную прислугу. Когда все постромки уже были обрублены, на ближнем холме показался всадник. На секунду он задержался на гребне холма, рассматривая сгрудившихся у орудий людей и лошадей. Затем он подскакал к Суну, ловко соскочил со взмыленного коня, отдал рапорт и передал записку своего командира.
Быстро пробежав глазами записку, Сун посмотрел на часы, вытащил из сумки карту, расстелил ее на земле и склонился над ней вместе с Хоном и Ляном. Они долго водили пальцами вдоль густой синей жилы, обозначавшей реку, пока не отыскали необходимый пункт. Сун встал на ноги, распрямляя затекшую спину. Не глядя на Хона, он коротко приказал ему подтянуть орудия к ближним холмам.
Суну не легко было отдавать такой приказ. Он знал, что значит протащить тяжелые орудия чуть не на руках более тысячи метров. Но сейчас идет война, необычная война, когда вся страна, весь народ в едином порыве поднялись на своих извечных угнетателей — японских захватчиков. От того, как быстро будут доставлены орудия к холмам, зависит судьба важного участка фронта, вдоль и поперек продырявленного японскими снарядами.
Все это не нужно было втолковывать Хону. Он отлично понимал, что происходит на его родной земле. Иначе он, старый артиллерист, десять лет жизни отдавший военным походам и устроившийся наконец кладовщиком большого металлургического завода в Ханькоу, быть может, и не бросил бы этой спокойной и сравнительно легкой работы, не променял бы ее на суровые тяготы войны. Но теперь происходит совсем особая война, и он, сын своей родины, Хон, как тысячи и тысячи других бойцов, кровно заинтересован в ее успешном исходе.
Сун и Лян ускакали вперед. Они долго всматривались в правый берег реки. Наконец Суну удалось найти молодой лесок, о котором ему сообщил в записке командир 86 полка и подробно рассказал боец Лян. Внимательно изучив район, Сун передал свой бинокль Ляну, а сам стал производить какие-то сложные вычисления на чистом листе бумаги, время от времени заглядывая в маленькую книжечку, страницы которой были испещрены цифрами. Сун закусил верхнюю губу, провел на листе бумаги жирную черту синим карандашом.
— Ничего, скоро начнем, — бросил он Ляну. — Мы подарим им кое-что. Они так обнаглели, что даже не маскируются больше. Вот что, товарищ: скачи обратно, доложи командиру, что мы скоро начнем.
Лян подкручивал у своего коня подпругу, когда к Суну прискакал Хон. Доложив командиру, что орудия подтягиваются, Хон так же долго осматривал район операции. Сун показал ему свои расчеты. Хон одобрительно кивнул головой. Вскоре подскочил ординарец, и Сун велел ему доставить на наблюдательный пункт стереотрубу[21]. Хону он приказал установить телефонную связь между пунктами. Набросав карандашом схему холмов, где они находились, Сун точками отметил позиции для своих четырех орудий. Хон удивленно поднял бровь, когда увидел, что на схеме орудия рассредоточены.
«Это, очевидно, что-то новое, — подумал он. — Раньше мы, наоборот, собирали орудия в кулак».
От Суна не ускользнуло недоумение Хона. Взяв лист бумаги, на который была нанесена схема, Сун коротко пояснил:
— После первого же залпа, максимум второго, японцы обнаружат нашу позицию. После этого им легко будет подавить нас. Разбросав орудия, мы заставим японцев иметь дело с четырьмя объектами. Их не так уж скоро можно будет обнаружить. Имея телефонную связь с пунктами, мы обеспечиваем руководство огнем. Понятно, товарищ Хон?
— Еще бы, — ответил Хон и побежал в холмы отдавать соответствующие распоряжения.
Все это было задумано очень просто и ясно. Но кое-что все же беспокоило молодого командира Суна. Прежде всего, он боялся просчета. В артиллерийском деле точный расчет решает все. Сун не мог похвастать большим опытом в этой области: три месяца на ускоренных курсах и всего четыре месяца боевой практики. Однако ясный ум и практическая сметка вели Суна по правильному пути. Он всей душой полюбил свою новую специальность артиллериста и постепенно забывал о том, что всего лишь полгода назад готовился к получению диплома инженера. И вот теперь технические знания необычайно помогли ему. Еще кое-что беспокоило его. Все четыре орудия его батареи были разных систем: от современной скорострельной пушки до гаубицы образца 1915 года! Это тоже было следствием неподготовленности страны к войне и внезапности вражеского нападения.
Командирский наблюдательный пункт был готов. Хорошо замаскировав, установили стереотрубу, протянули телефонные провода к орудийным позициям. Батарея приготовилась к бою.
Сун поудобнее расположился и приник к глазку стереотрубы. Молодой лесок далеко за холмами на правом берегу реки преображается в этой изумительной трубе в японскую батарею: возле орудий в землю были вкопаны молодые деревца. Сун насчитал шесть орудий. Оторвавшись от глазка трубы, он начал новый расчет. Главная задача — подавить батарею противника, вывести ее из строя. Сун точно вычислял расстояние, учитывая характер местности, скорость и кривую полета снаряда. Задача должна быть решена в максимально короткий срок. Первый же залп выдаст местонахождение четвертой батареи. Здесь надо было действовать наверняка, принимать решения немедленно и немедленно же производить перерасчет.
«Лишь бы противник не обнаружил нас до открытия огня», думал Сун. Как всегда перед боем, он думал только об одном — о противнике. Он сосредоточил на нем все свои мысли, все внимание.
— Так, значит, все время будем вести комбинированный огонь, — едва слышно шепчет Сун. — Очень хорошо! Пора начинать.
Он берет трубку полевого телефона и командует артиллеристам: «Приготовиться!». Сун спокойно два раза повторяет расчет прицела.
Командир приказал рубить постромки.
Между тем японские цепи, укрываемые огневой завесой своей батареи, выползли на правый берег. Японские саперы стремительно бросились к воде, к тому месту, где еще несколько часов назад был почти готов понтонный мост, наведенный китайцами. Сейчас его уже нет. Вернее, на воде покачиваются лишь жалкие остатки моста. Саперы быстро наводят понтоны. Левый берег молчит. Он готовится к японскому штурму, он готов к контратаке. Только бы избавиться от этого навесного истребительного огня японской батареи!
— В этом месте, — кричит пулеметчик Тан в ухо лежащему рядом с ним Ляну, — скоро будут добывать железо!
Лян недоумевает.
— Японцы засадили сюда столько железа и стали! — поясняет Тан.
— А?.. — кричит Лян, склоняясь к уху Тана. — Ничего, откопаем, если понадобится!
* * *
— Батарея, огонь! — командует Сун.
Сквозь огневую завесу, под грохот японской канонады, четвертая батарея второго конно-артиллерийского дивизиона посылает в молодой лесок на правом берегу первый залп. Сун жадно приник к глазку трубы. Все в порядке! Он мгновенно производит перерасчет: был недолет. Сун повторяет новый расчет и командует:
— Батарея, огонь!
И вновь сквозь японскую завесу летят китайские снаряды.
— Хорошо! — шепчет Сун. — Очень хорошо!
Быстрый перерасчет, и опять хриплый, напряженный голос Суна:
— Батарея, огонь!
Молодой лесок качнулся и исчез в тучах песку и черного дыма.
— Батарея, огонь! — командует Сун и снова смотрит в трубу.
Тучи дыма рассеиваются. Молодого леска уже нет, и Сун видит, как к одному из японских орудий подгоняют упирающуюся шестерку лошадей.
— Не дам! — вдруг озлобленно кричит Сун и опять командует в телефонную трубку: — Прицел тот же. Батарея, огонь!
Внезапно перед холмом, за которым укрылся Сун, вырастает столб пламени, стеной дыбится песок.
— Теперь уже поздно, — облегченно вздыхает Сун.
Его батарея ведет беспрерывный обстрел японской артиллерийской позиции, полностью уничтожая ее.
Над рекой возникает тишина. Огневая завеса, которой японцы весь день удерживали китайский полк на левом берегу, исчезла. Через минуту вдруг вспыхнули, залаяли японские пулеметы. В ответ застучал пулемет Тана, и за ним по цепям начали свою отчаянную трескотню остальные полковые пулеметы. Японская пехота ринулась к понтонам. В грохоте орудийной пальбы японские командиры не уловили молчания своей батареи. Китайский полк яростно пошел в контратаку к понтонному мосту.
Командир батареи Сун делает новый расчет, передает его по телефону:
— Батарея, огонь!
Град картечи хлещет по правому берегу, по японской пехоте. Он хлещет так, словно разверзлись небеса и льют и льют на головы японских солдат огненный, смертельный град!
Тан с трудом тянет за собой пулемет. Колеса его подскакивают на понтонах, глухо ударяются о деревянный настил и быстро катятся вперед. По мосту лавиной несутся бойцы.
Вот он, желанный, родной правый берег!
Полк рвется вперед. За мостом пулеметчик Тан посылает одну очередь за другой. Он посылает их вдогонку отступающим, бегущим врагам. После каждой очереди он вместе с Ляном бегом проносит пулемет еще дальше, вперед, и опять посылает очередь. Враг, злобно отстреливаясь, бежит. Он подавлен неожиданностью, страшной переменой военного счастья, стремительностью китайской контратаки. Полк идет за ним по пятам неустанно и неуклонно. А впереди, взметая горы песку, рвутся снаряды четвертой батареи, и в холмах вырастает непроходимая огневая завеса.
— Лян, мы ночуем сегодня дома! — неистово орет Тан и катит свой пулемет дальше, вперед, к холмам, за которыми находится деревушка, раскинувшаяся на берегу Синего озера.
Перебежчики
I
По команде «Смирно!» батальон замер. Солдаты стояли недвижно в полной походной форме. Офицеры пытливо оглядывали серые, запыленные солдатские лица. Иногда офицеры проходили сквозь строй, между взводами, все так же зорко всматриваясь в солдат.
Солдаты стояли в строю прямые, безмолвные, словно отесанные камни. Солдаты знали почти все подробности событий, разыгравшихся утром. Вернее, события эти начались еще вчера. Но именно утром они приняли трагический характер и получили полное свое завершение.
Офицеры продолжали прохаживаться вдоль строя, некоторые же шныряли по взводам, бесстыдно заглядывая в глаза солдатам. Но те все так же устало и равнодушно глядели прямо перед собой.
Майор Хорита ходил взад и вперед в некотором отдалении от батальона, позванивая длинной, волочащейся по земле саблей. Он читал какие-то документы и изредка, не оборачиваясь, бросал косой взгляд в сторону ровных солдатских рядов.
«Раньше ничего подобного не могло быть в императорской армии, — чуть не вслух думал майор Хорита. — Такой позор! Такой позор! И почему это должно было случиться в моем батальоне? Разве мало в императорской армии других батальонов? Теперь-то уж нечего думать о скором повышении. Этот заносчивый цыпленок Хори, мнящий себя подлинным самураем, будет торжествовать. Конечно, теперь он единственный кандидат в полковники. Старика забирают в штаб дивизии, и Хори получит полк. Как изменчива судьба! А ведь все шло так гладко! Кто бы мог подумать, что настоящие японцы так опозорят императорскую армию и меня, майора Хорита! Нет, теперь это дело уже не замнешь. То, что известно тысяче солдат, будет известно всей армии. Какая подлость!
Японцы против японцев! И почему в моем батальоне? Видит небо, что я не заслужил такого наказания. Могут и сменить за слабое командование, отсутствие дисциплины и подлинного японского духа в солдатах. Непринятие мер… Нет, меры-то были приняты, но уже потом…»
Майор Хорита тяжело вздохнул… «Как это было написано там?»
«Братья солдаты! Нас гонят на фронт, где мы погибаем тысячами в войне с народом, ничего плохого не сделавшим нашему народу. Мы приносим свои жизни в жертву во имя бешеных прибылей японских капиталистов… Братья солдаты! Мы не должны позволить, чтобы нас превратили в слепое орудие наших отечественных кровососов! Весь японский народ против этой войны. Солдаты, боритесь против этой грабительской войны, требуйте отправки войск обратно в Японию, братайтесь с китайскими солдатами…»
— Какая наглость! — негодующе буркнул вслух майор Хорита и смял листовку, которую только что читал. И они еще смеют называть себя японцами! Как это они называют себя? «Коммунистическая партия Японии»! Японии! Это чепуха, такой партии в Японии не может быть, это не в японском духе! Не может быть, — это глупая антияпонская выдумка…
Размышления майора Хорита прервал капитан Кидо.
— Изволите начинать, господин майор? Батальон, за исключением караульной команды и вычеркнутых из списков батальона трех рядовых солдат, построен и готов к исполнению ваших приказаний.
«Дурак! — подумал о капитане Кидо майор Хорита. — Ничего не понимающий дурак. Проворонить такое дело! А ведь, наверное, метит на мое место», озлобленно заключил Хорита.
— Да, я, пожалуй, начну, капитан. Сообщников этих негодяев вы не обнаружили, конечно?
— Есть некоторые данные, свидетельствующие о сочувствии солдат этим негодяям, господин майор.
Майор Хорита круто повернулся к капитану спиной и крупным шагом направился к строю.
— Солдаты! — начал он громким голосом. — Вся императорская Япония, вся наша великолепная нация смотрит на вас со скорбью и надеждой. Вы, солдаты, — опора, щит и меч нашей великой империи. И когда император послал нашу доблестную армию покарать этих трусливых и презренных китайцев, вся наша великолепная нация вздохнула с облегчением. Она кричала вслед доблестным самурайским войскам: «Банзай!» Вы с честью несли перед собой наше прекрасное императорское знамя. Мы шли с вами по пути побед, и если были у нас случайные неудачи, они искупались новыми блестящими победами. Наш японский дух быстро распространяется в Азии. Солдаты, вы послушные дети нашего отца — императора, вы его доблестные воины. Некие негодяи, пользуясь вашей добротой, пытались смутить вас, отклонить с этого пути, но мы, ваши отцы — командиры, неотступно оберегаем вас. Эти негодяи понесли заслуженное наказание…
Майор запнулся, замолк на секунду, глубоко вздохнул.
— Они осмелились называть себя японцами. Это ложь. Они обманывали вас. Таких недостойных японцев не бывает. Они называли себя коммунистической партией. Но вы знаете, в Японии такой партии не может быть. Она противоречит нашему самурайскому духу. Эти негодяи опозорили наш батальон, они бросили пятно позора на всю императорскую армию. Солдаты, мы должны с честью смыть с себя этот позор. Мы должны искупить его своей кровью во имя нашего отца — императора и нашей благородной нации, посвятившей себя великой исторической миссии — распространению японского духа в Азии. Банзай!
— Банзай! — неровно гаркнула тысяча глоток.
Гул голосов осекся и замер. В этом вскрике не было обычной стройности, не было той железной дружбы голосов, которую столь страстно пестуют унтеры. Но вместе с тем ни к чему нельзя было придраться. Батальон громко кричал: «Банзай!», это уже привычное для солдат, навязчивое слово. Но офицеры чувствовали, что солдаты кричат без воодушевления. Отлично понимали это и солдаты. Конечно, не все.
Многие отдавались этому крику с азартом, воодушевляясь. В их памяти еще свежа была свирепая казарменная муштра, злобные кулаки унтеров. Были среди солдат и такие, которые с истинным восторгом кричали: «Банзай!»
Разные люди составляли эти серые солдатские ряды. Но больше всего было простых, бесхитростных людей, оторванных от своих привычных занятий дома, в поле и угнанных на фронт. Им говорили:
— Во имя…
И они шли. Ибо не знали, что нужно сделать, чтобы не складывать свои головы «во имя». Они тяготились этой страшной и не нужной им войной так же, как тяготились у себя дома непомерным трудом и скудной пищей. Они чувствовали всю несправедливость происходящего и ждали, что эта жертва «во имя» искупит наконец их кровь, и пот, и слезы. И если опять им говорили: «Во имя…», они теперь начинали искать в себе новую силу, которая подымет их на справедливую борьбу во имя их собственных жизней, во имя их детей.
Таких людей было много. И они ждали. Они знали, что время их настанет, что час возмездия приближается — медленно, но грозно.
Майор Хорита приказал распустить батальон и дать солдатам один час на отдых. «Это даже полезно, — решил он, — подумать о происшедшем и сказанном мною».
Вестовой доложил майору о штабном автомобиле, мчащемся в расположение батальона. И снова в голове майора Хорита закопошились неприятные, обидные мысли: «Опозоренный батальон! Японцы против японцев!..».
* * *
События разыгрались внезапно. Они продолжались всего двадцать три часа, даже не полные сутки! Ровно в одиннадцать часов утра события начались арестом трех рядовых солдат второй роты и закончились в десять часов утра следующего дня расстрелом этих солдат невдалеке от лагеря.
Здесь не было проявлено особенной поспешности. Батальон находится на фронте, и не отправлять же этих солдат куда-то в тыл, для того чтобы там расследовали это дело: как оно возникло, почему и в каких условиях?
Все было выполнено в точном соответствии с воинским уставом и императорскими эдиктами[22]. Командование батальона убеждено, что все сделано точно по законам. По законам военного времени! Солдаты были убеждены в обратном и считали несправедливым столь поспешный жестокий приговор. Приговора-то и не было. Просто командир полка написал во всю длину рапорта майора Хорита о событиях одно слово: «Расстрелять!». Он действовал на основании законов военного времени. Арестованные подрывали престиж императорской армии и призывали солдат к бунту. Этого было достаточно, более чем достаточно.
«Лишь бы это не повторялось больше!» думал обеспокоенный майор Хорита.
II
Солдаты, облегченно вздохнув, потянулись во все стороны лагеря. У каждого было свое маленькое незаконченное дело, которое теперь можно было довершить: заштопать бумажные чулки, починить штаны, постирать исподнюю рубаху, написать домой письмо. Дел было много у солдат, а времени всегда в обрез. Не любит начальство, когда солдат слоняется без дела. И если он сам не находит себе какого-нибудь занятия, то унтер всегда придумает что-нибудь.
Но этот «час отдыха» был особый. Солдаты знали, что в это время их никто не побеспокоит. Даже унтеры стали приветливо скалить зубы, и, что было совершенно неслыханно, они предлагали солдатам свои сигаретки.
Этот неурочный час отдыха, доставшийся солдатам дорогой ценой, сулил блаженство. Можно было повалиться прямо на траву и лежать так, ни о чем не думая, открыв или закрыв глаза. Можно было лежать и не подниматься, если мимо пройдет офицер: надо было только во-время притвориться спящим. Можно было унтера, ластившегося в такой час к солдатам, принимавшего участие во всех их играх, сильно ткнуть сапогом в зад, как будто бы нечаянно, и вежливо улыбнуться, извиняясь. Правда, унтеры не забывали таких шуток и жестоко мстили потом. Но для многотерпеливого солдата и такой отдых был блаженством: не много таких часов отдыха выпадало на солдатскую жизнь.
Садао всем телом сразу повалился в высокую траву. Казалось, он утопает в ней. Он лежал на спине и с удовольствием потягивался. Затекшие ноги, плечи и грудь отдыхали. Только в голове были какие-то неясные горячие мысли, причинявшие боль.
«Нет уже больше этого маленького смешного Танаки, такого веселого, хорошего товарища. Нет и Кухара. Какой был здоровяк! Даже унтеры опасались его. Не стало и бывшего студента Ватару, славного человека, умного советника в солдатских делах. Значит, они были коммунистами! Иначе и не могло быть. Они всегда говорили справедливые слова. Не они ли советовали солдатам держаться всем вместе, рука за руку? «В этом сила», говаривал Ватару».
Садао глубоко вздохнул и лег на живот. Он взял в рот травинку и, задумавшись, стал пожевывать ее, сплевывая в сторону желтую слюну.
Если сказать по правде, так это просто случайность, что он, Садао, еще не коммунист. Этот старый дурак майор плел какую-то чушь о компартии, о том, что ее не может и быть в Японии. Какой дурак! Вот он, Садао, докажет ему обратное и при первом же случае вступит в эту партию народа. И почему это он так долго колебался?
— От глупости, конечно, рядовой Садао, — громко сказал сам себе солдат. — Вы не понимали еще, что значит политическая организация единомыслящих, готовых к тяжелой и упорной борьбе. Вы думали, что вашего сочувствия этим людям будет достаточно. А теперь вот, пожалуйста, посмотрите, что получилось! Три солдата, три прекрасных товарища, три коммуниста погибли за ваше собственное дело, ради вас и миллионов других, подобных вам…
Садао в ярости ударил кулаком по земле и встал на колени. Сидя невдалеке на корточках, на Садао посматривал его друг Тари.
— Ты чего пялишь глаза, как унтерская жаба? — зло крикнул ему Садао.
— А ты потише, зайчик, потише! Здесь столько охотников, и все норовят к обеду получить кусочек жареного мяса.
Садао опять повалился в траву ничком и застыл так, будто заснул. Тари был прав. Надо быть поосторожнее. Так и до беды недолго. И улыбка унтера, сладкая сейчас, окажется потом страшнее зубов дракона.
Тари прилег на бугорок рядом с Садао. Это был здоровый малый, спокойный и рассудительный. Он был приятным человеком, таким, какими бывают верные товарищи. В батальоне его прозвали «силачом-демократом» за то, что он был необычайно силен и всегда говорил солдатам, не то посмеиваясь, не то серьезно, что все люди одинаковы, родились без всяких различий и равны во всем.
— Что генералы, что солдаты — все сделаны из г…, — частенько приговаривал Тари.
Эту дурь выбивали из него однажды несколько унтеров сразу, предварительно скрутив его крепкими кожаными ремнями. Тари и после этого говорил то же самое, демонстративно не сдаваясь унтерам.
— Побои проходят, — сказал он как-то товарищам, — а мысли остаются. Надо отрубить голову. Ну, тогда, конечно, никаких мыслей, беспокоящих господ унтеров, больше не будет.
Он любил Садао неясно, как можно любить брата. Ему нравился ясный ум и острый язык этого маленького солдатика. К тому же они были и земляками. А в городе до войны некоторое время работали на одном заводе. Но подружились они только в армии. Это была удивительная дружба. Пулеметчик Садао и пулеметчик Тари всегда были неразлучны. Даже в бою они держались вместе, один неподалеку от другого. Это были настоящие товарищи.
— Тари, — прошептал Садао, — я решил вступить в коммунистическую партию. Что скажешь?
— Я давно уже хотел тебе сказать об этом, Садао, — помолчав немного, ответил Тари. — Мне, откровенно говоря, не нравилось, что ты так долго решал.
— Ну, так теперь уже решено.
— Это большое дело. Садао. Такие люди, как ты, нам очень нужны. И я рад тому, что у тебя не осталось больше сомнений. Я сообщу о твоем желании в комитет.
Тари соскользнул с бугорка и крепко пожал руку Садао.
— Теперь будет еще труднее. Только теперь начинается настоящая борьба, — тихо сказал он.
К беседующим друзьям подошел солдат Нару. Тари, заметив его, переменил тему разговора. Смачно сплюнув в траву, он произнес:
— А хорошо сейчас, должно быть, в Японии! Вечерком греться, сидя у хибати[23], или, еще лучше, зайти в чайный домик. Девушки играют на сямисэне[24], нежно поют, а ты лежишь на цыновке и мечтаешь.
— Для этого надо иметь много денег, — быстро сказал Садао. — В такой домик нашего брата и на порог не пустят. Нам — что попроще да подешевле. Так, чтобы и любовь, и музыка, и песни — всё за пятьдесят сен[25]. Не правда ли, Нару?
— Пулеметчик, видно, человек богатый, — ухмыляясь, ответил Нару. — Он ходил, наверное, до армии в чайные домики, где сразу расходуют не меньше пяти иен. Я знаю такие домики в Токио, в квартале Иосивары[26]: бывал там.
— Значит, и ты человек богатый, — подхватил Тари. — А я-то думал, что ты бедняк бедняком, нищий, как люди из касты эта[27].
Простоватый с виду солдат Нару был нелюбим в батальоне. Солдаты избегали его общества, презирали и в то же время боялись его. Он был злым духом, который поселяется обычно в казармах и живет там припеваючи. Среди солдат этот «дух» выполнял функции глаза и уха начальства, соглядатая, все подмечающего и обо всем доносящего. Нару отдавался этому делу целиком. О нем говорили, что он неудачник, сменивший десяток профессий, что жена, которую он будто бы по-своему безумно любил, повесилась в безысходной тоске… Но никто из солдат толком не знал его прошлой жизни. И один только Ватару, расстрелянный сегодня утром, предупредил как-то солдат, сказав о Нару, что он полицейский агент, переведенный в армию для слежки за солдатами.
Нару подлизывался к солдатам, пытаясь втереться в доверие к ним. Но, как и все нечестные, неискренние люди, он часто сам выдавал себя. Его неумеренное, нахальное любопытство вызывало настороженность. Его маленькие зеленые глазки и тонкие руки внушали отвращение. Молоденьким солдатам он всегда рассказывал гнуснейшие истории о женщинах, героем которых, конечно, был он сам. Иными словами — Нару обладал мерзкой полицейской душонкой, облаченной для маскировки в солдатский мундир.
— Вот вы презираете меня, ребята, верно? — с таинственным видом начал Нару. — Да, да, презираете, и не отнекивайтесь. Я ведь все это вижу, — и он сделал рукой широкий жест, как бы отклоняя протесты солдат. — А я вам такую новость хочу сообщить, что ахнете!
Нару потер свои тонкие руки и закатил глаза. Он опустился на корточки возле солдат и зашептал:
— Наш батальон пойдет на позиции. Мы там этих китайских лягушек вышибем в два счета. А потом, ребята, займем город Юлань. Вот где уж повеселимся! Знаете ли вы, что девушки из Юлани славятся на весь Китай? Даже у нас, в Токио, в одном чайном домике, как сказал капитан Кидо, есть юланская девушка. Вы только держитесь рядом со мной. А остальное я все вам устрою.
Садао, едва сдерживая ярость, пнул офицерского шпиона ногой в грудь.
Тари, не успевший удержать своего друга от столь рискованного поступка, навалился на Нару и прошептал ему на ухо:
— Убью, жаба, если пожалуешься унтеру! Запомни — убью!
Побелевший от страха Нару встал и попятился от солдат. Тари показал ему свой огромный кулак. Нару повернулся и торопливо ушел.
— Эх! Если он донесет, — вздохнул Садао, — провалится одно дело, которое я тебе хотел предложить.
— Не донесет. На этот раз побоится. В конце концов, драки между солдатами — это даже хорошо. Это отвлекает от политики. Офицеры любят это.
— Но он ведь не солдат, Тари. Это офицерский шпион, доносчик.
— Дальше штрафной роты нас не погонят. А это не так уж плохо. Там много хороших ребят. Говори, какое у тебя есть дело, Садао.
— Послушай-ка, Тари, не податься ли нам к китайцам? Это поймут все наши солдаты. И оценят достойно, поверь мне.
— Ты предупредил меня. Я пришел к тебе с нехорошими новостями. Один наш товарищ, который подслушал беседу офицеров, сообщил мне, что командование подозревает тебя и меня в коммунизме. Если это так, то нам нужно, не теряя времени, исчезнуть отсюда. Я думаю, если есть возможность предупредить повторение утренней истории, мы должны ее использовать. Мы еще понадобимся партии. Я уже советовался с товарищем из, комитета и встретил с его стороны полное сочувствие. Другого выхода у нас сейчас нет. Надо покинуть батальон и перейти к китайцам. Против нас действует часть Восьмой народно-революционной армии. Раньше так называлась китайская Красная армия.
— Жаль, что командование опередило меня, — прошептал Садао. — Они заподозрили во мне коммуниста еще до того, как я вступил в партию. Ну, ничего, тем быстрее нам надо покинуть этот осчастливленный императорскими заботами лагерь.
— Перед уходом мы должны что-нибудь оставить на память нашим доблестным самураям[28] — тихо засмеялся Тари. — Ночью я буду стоять в карауле неподалеку отсюда, у склада с горючим для танков и автомобилей. Я пойду туда с ручным пулеметом и треногой. Командование теперь во все караулы посылает пулеметчиков — боится китайских партизан. Эти смельчаки нападают так неожиданно, словно с неба падают. Проберись ко мне во что бы то ни стало. А там мы тронемся в путь. Еще вчера я рассмотрел эту местность.
— Эй, лежебоки, не угодно ли вам выпить по бутылочке саке? — раздался голос унтера Мадзаки.
Солдаты вскочили на ноги, оправились.
— Неплохо бы и выпить немного, господин унтер, — тупо оскалясь, сказал Садао.
— В карцере напьетесь. Я вас обязательно напою. Я-то давно уж примечаю вас обоих, лентяи! Когда надо получать наряды в караул, так вы хоронитесь, а языки чесать — первые. Вы мне дисциплину подрываете в роте!
И унтер сунул кулак в рот Садао.
— Молчать! — крикнул он на Садао, и без того молча прижимавшего руку ко рту.
Когда солдат отнял руку ото рта, она была в крови, и струйка крови быстро сбегала вниз по подбородку.
— Сегодня оба пойдете со мной в караул, к складам. Проверьте пулеметы!
Унтер Мадзаки круто повернулся и пошел в сторону. Садао, вытерев рукавом куртки рот и лицо, едва заметно улыбнулся. Помолчав, он сказал, как бы про себя:
— Значит, эта шпионская жаба не донесла, испугалась. Иначе бы он нас не взял в караул. Какое счастье, что Мадзаки будет с нами!
— Весь батальон будет нас благодарить, — так же тихо произнес Тари, шевельнув белыми от ярости губами. — У тебя есть карандаш, Садао? Захвати его и бумагу захвати — мы им там письмо напишем.
Солдаты виновато побрели к палаткам. Они пристально оглядывали встречавшихся солдат, мысленно прощаясь с ними. Это был последний день их пребывания в японской императорской армии.
Возле кухни поручик Сакатани громко вспоминал всех предков повара, человека тихого и незлобивого. Разъяренный поручик брызгал во все стороны слюной и продолжал ругаться даже тогда, когда солдаты, отдав ему честь, прошли мимо кухни.
Поручик Сакатани ведал в батальоне материальной частью и надзирал над «кухонным арсеналом», как, посмеиваясь, говорили офицеры.
Из всей обильной офицерской ругани солдаты отметили себе одно: завтра батальон выступает на позиции, в двадцати километрах от лагеря. Батальоном хотят законопатить дыру на фронте, образованную ударами китайских войск. Выступают в шесть часов утра, а повар только теперь начал заготовку продуктов. Повар, вытянувшись и опустив руки по швам, тихо оправдывался:
— Господин поручик, я только сейчас узнал об этом приказе. — Он неразборчиво лепетал что-то еще.
Солдаты прошли уже кухню, когда их остановил окрик поручика:
— Эй, вы, передайте своему унтеру, чтобы снарядил несколько команд в ближайшие деревни! Пусть раздобудут для офицерского стола живность. Китайцы любят разводить свиней — значит, есть поросята. Понятно?
Солдаты, вытянувшись в струнку, слушали расходившегося поручика. Они дали ему высказать все, что он хотел им приказать. В заключение поручик подморгнул Тари, с глуповатым видом вылупившему на него глаза, и снисходительно заметил:
— Можете и себе там перехватить кое-что, но не очень.
Поручик словно спохватился, сожалея о своей щедрости, и погрозил солдатам кулаком.
— Разрешите доложить, — старательно выговаривал слова Садао, — мы назначены в ночной караул. По уставу не имеем права уклониться от выполнения этой службы.
Офицер побагровел и бросил солдатам тихо сквозь зубы:
— Скоты! — и потом уже громко: — Шагом марш!
III
Полковник устало опустился на складной стул в палатке майора Хорита. Он покряхтел немного, вытер шелковым синим платком потное лицо и сказал, обращаясь к майору:
— Мы всегда были друзьями, Хорита, и я приехал не официально, а так, по дружбе. Я получил бригаду и теперь генерал-майор. — Он опять покряхтел и сказал: — Я был бы больше доволен назначением в штаб. Знаете ли, годы не те, да и вообще в штабе меньше всех этих мелких хлопот и неурядиц. Но воля высшего командования есть для военного человека закон, и я не могу уклониться от него.
Майор Хорита слушал генерала слегка изогнувшись, так, как и подобает держать себя майору перед высоким начальником.
«Как знать, быть может, он замнет все это дело с коммунистической пропагандой в батальоне?» мелькнула мысль в голове Хорита.
— Самурай не должен жаловаться — вот мой девиз! — продолжал говорить новоиспеченный генерал. — Нет, нет, не надо поздравлений! На фронте церемонии ни к чему. Я не сомневался в вашей искренности. Я хочу порадовать вас. Я забираю вас с собой на должность начальника штаба бригады, и — чин подполковника! А? — хрипло засмеялся генерал.
Майор Хорита задохнулся от счастья. Он бормотал что-то, заикаясь, и кланялся, кланялся низко, даже ниже, чем это принято в таком высоком обществе и к тому же между родственниками. А надо сказать еще, что майор Хорита был свояком генерала: он был женат на младшей сестре его жены. Мысли кружили голову майора Хорита:
«Лучше было бы получить полк. Но и начальник штаба с чином подполковника — это тоже не пустяк. Хотя за двадцать пять лет службы пора бы называться полковником! Но если он замнет это скандальное дело, то пока достаточно…»
Генерал продолжал болтать по-родственному, откровенно и обильно, не давая майору вставить и слова:
— Новые времена, майор, теперь. И армия оказалась затронутой всякими бредовыми идеями. Нам, самураям, выпала тяжелая задача: сохранить и уберечь императорскую армию в чистоте от всей иностранной глупости. Коммунизм определенно не подходит для Японии. Он противоречит духу самурайства и императорским эдиктам. В последнем приказе военного министра так прямо и говорится: разъяснить командному составу, что коммунистические теории не соответствуют духу японского государства, ведущего свою историю от древних императоров на протяжении уже более двух тысяч шестисот лет. Они крайне опасны, поскольку некоторые японцы отдаются им во власть. Их надлежит искоренить всеми средствами, не пренебрегая ничем. Это наш самурайский долг!
Генерал утомился, замолк, опять вытащил платок и начал отхаркиваться в него. Наконец майор Хорита получил возможность вставить несколько слов.
— Господин генерал-майор отлично понимает, — говорил он, — что обнаружение коммунистической пропаганды в батальоне есть несчастный случай, ликвидированный в корне. Офицерам указано на недопустимость повторения подобных случаев, тем более в условиях фронтовой обстановки.
— Э, майор, вот именно, в условиях фронтовой обстановки… К сожалению, в батальоне майора Хори обнаружена целая группа коммунистов. Удивительно, как нм не стыдно называться японцами!
Майор Хорита почувствовал такое огромное облегчение, точно с плеч его свалилась большая тяжесть.
— Я глубоко сочувствую майору Хори. В своем батальоне я искоренил всех негодяев.
— К сожалению, — отхаркался наконец генерал, — и в других дивизиях, как сообщают мне коллеги, обнаружены подобные люди. Это может привести к катастрофе. Мы должны быть беспощадны в таких случаях. И если в тылу такие вещи недопустимы, то на фронте они смертельно опасны.
Теперь майор Хорита совсем успокоился. При известии о том, что его батальон оказался не единственным, он далее обрадовался назначению в штаб бригады: там не придется иметь дело с этой неблагодарной солдатской массой, норовящей всегда сделать что-нибудь антияпонское.
— На вашем участке, майор, лежит город Юлань. В штаб бригады вы прибудете в момент вступления наших войск в этот город. Я надеюсь, что ваш батальон сумеет искупить известную вам тяжелую провинность перед императором. — Голос генерала стал сухим, официальным. — На вашем участке линию фронта прорвет танковый отряд, вслед за которым вы поведете батальон. Ночью, сегодня, танки прибудут к вам за горючим. Оказалось, что все запасы горючего сосредоточены у вас. Батальон должен выступить в два часа ночи и форсированным маршем занять исходные позиции к шести часам утра. Вам придется пройти двадцать километров. Юлань лежит в пяти километрах от китайских позиций.
Генерал расстелил на полу карту района и, не поднимаясь со стула, стэком водил по ней, разъясняя майору задание.
— Танки укроются за этими холмами. Двенадцать танков. Ровно в шесть утра вы снимаете батальон с позиции, уводите его к этой группе холмов, открывая дорогу танкам. Вслед за прорывной атакой танков вы стремительно бросаете свой батальон к китайским позициям и держите направление на северные ворота Юлани. Майор Хори находится со своим батальоном на вашем правом фланге. На левом — батальон Мицуи. Самое важное— соблюсти точность во времени.
Они встретили китайский разъезд.
Майор торопливо записывал приказ генерала. «Никогда удача не приходит одна, — с горечью отметил про себя Хорита, — теперь придется еще пройти испытания этой атаки! Кто знает, к чему она приведет?» Нет, положительно некий злой дух задался целью огорчать майора Хорита. Вот и теперь: получить чин подполковника и пост начальника штаба бригады и сложить все это на сухой глинистой почве, перед небольшим китайским городком Юлань!
— До счастливой встречи в Юлани! — попрощался бригадный генерал Терауци.
— До счастливой встречи в Юлани! — повторил, в меру изгибаясь и браво прищелкивая каблуками, майор Хорита.
IV
Солдаты молча брели за унтером. Из густой темноты ночи их поминутно окликали часовые. Унтер Мадзаки шопотом называл пароль, и солдаты шли за ним дальше. В конце лагеря они остановились. Десятка два металлических бочек, покрытых огромным брезентом, казались в темноте большим плоским холмом. Здесь хранились запасы горючего для танков.
Быстро, без шума сменились часовые. Их сразу поглотила ночь, и только мягкий шуршащий топот тяжелых ботинок в траве еще с минуту доносился до оставшихся солдат.
Унтер Мадзаки, гнусаво напевая себе под нос, кружил вокруг бочек. Солдаты недвижно стояли на своих местах. В ногах у них лежали на треногах ручные пулеметы. Ночная сырость одолевала солдат. Бумажные гимнастерки не могли согреть неподвижное тело. Они коченели. До Тари донесся заглушенный говор: Садао просил у унтера разрешения потоптаться на месте. Тари расслышал грубый окрик Мадзаки:
— В карауле стоять смирно!
И опять мертвая тишина ночи. Позади — спящий лагерь, впереди — большое заброшенное поле и дальше — лесок, а потом холмы. Это еще днем высмотрел Тари.
«Самое главное — добраться до холмов. Там не найдут», подумал Тари.
Из темноты выплыл Мадзаки.
— Не спать! — прошипел он. — Я научу вас стоять в карауле!
— Так точно, господин унтер, — пробормотал Тари, опустив руки по швам.
Мадзаки потоптался рядом и опять исчез в темноте. Тари подумал: «У нас есть только пулеметы и тесаки». Он вытащил тесак и зажал его в руке. Тари громко кашлянул, так, как было условлено с Садао. Через мгновение он услышал шорох в траве, и перед ним появился унтер Мадзаки.
— На посту нужно стоять, затаив дыха…
Он не успел досипеть, как Тари повалил его наземь ударом рукоятки тесака. Тари навалился на унтера. Они катались в траве, бесшумно борясь. И только заглушенные хрипы унтера уплывали в ночь. Тари встал, затем опять наклонился и вытер лезвие тесака о мундир унтера. Подошел Садао. Солдаты помолчали немного.
— Ну, теперь давай приниматься за работу, — сказал Тари и потянул на себя брезент.
Они работали с лихорадочней быстротой. Солдаты переползали от бочки к бочке, с трудом отвинчивая наглухо пригнанные металлические пробки. Но это было еще не все. Надо было каждую бочку повернуть отверстием к земле. Это было необычайно трудно для двух человек. Они продолжали работать, когда из многих бочек уже хлынул на землю бензин. Садао насчитал восемнадцать бочек.
— Все, — облегченно сказал он.
Они замочили ноги в бензине по щиколотки. Но эта тяжелая работа так расшевелила их, что они не чувствовали больше промозглой ночной сырости.
— Пиши, — прошептал Тари.
Садао вытащил из кармана большой лист бумаги и карандаш. Тари подошел к телу унтера, долго шарил в темноте руками, затем вернулся, и из его рук брызнул на Садао узенький луч электрического фонарика.
— Пиши, — повторил он.
Садао приткнулся к опрокинутой бочке и начал быстро выводить иероглифы: «Братья солдаты!
Мы, рядовые Садао Судзивара и Тари Капеко, решили оставить вам это письмо и известить вас о нашем поступке. Вы все знаете нас. Нас повели на эту несправедливую войну против Китая не по нашей воле. Эта война ведется в интересах капиталистов и генералов. Война эта ведется не только против китайцев, но и против нашего народа. Наш народ голодает потому, что все его силы выжимаются для этой войны. Мы погибаем здесь в огромном количестве. Наши генералы и капиталисты хотят превратить китайцев в своих рабов, а нас — в их сторожей, тогда как на родине народ наш изнывает под ярмом помещиков и капиталистов. Мы против этой войны, мы против победы наших паразитов — самураев. Мы стоим за победу китайского народа.
Солдаты! Верьте японской коммунистической партии, она единственная указывает правильный выход из нашего положения. Она борется за интересы нашего народа, она против этой грабительской войны.
Солдаты! Что нам плохого сделали китайцы? Ничего! Они не хотят быть рабами самураев, наших кровососов. А говорят, что еще будет война с русскими. Разве русские сделали нам что-нибудь плохое? Ничего. Нас во всем обманывают.
Солдаты! Подумайте и опомнитесь. Поверните свое оружие против самураев, братайтесь с китайцами, и тогда кончится эта проклятая война, и мы вышвырнем всех паразитов из Японии, как это сделали у себя русские. Мы переходим к китайцам и будем драться на их стороне. Мы зовем вас следовать нашему примеру.
До свидания, братья солдаты! Мы ждем вас!».
Садао писал быстро: он заранее тщательно обдумал каждое слово. Наконец он поставил свою подпись и передал карандаш Тари. Тари прочел письмо, улыбнулся, вывел свое имя и сказал:
— Очень хорошо!
Садао положил бумагу на видное место и придавил ее камнем. Они осторожно пошли вперед, унося с собой ручные пулеметы. Их окликнули только один раз. Садао грубым голосом назвал пароль, и они вышли из лагеря, погрузившись в темноту.
Шли быстро всё вперед и вперед. Вот и лес. Они остановились. Здесь их застал рассвет. Перед ними открылись холмы, уходящие в безвестную даль, в их будущее. Где-то далеко позади слышались неясные шумы, рокот танков, звуки сигнальных рожков. Теперь они были одни, свободные. Все осталось там, в лагере: и унтеры, и офицеры, и мордобой, и ненавистное, чужое дело. Впереди были редкие передовые группы охранения японских войск. Дальше шли китайские позиции, за ними город Юлань. Итти можно было только вперед. Путь назад был отрезан, с прошлым все покончено.
Солдаты пошли к холмам. Только теперь они почувствовали усталость, голод. Тари вытащил из необъятных карманов своих штанов несколько пакетиков с сухим вареным рисом и кислой редькой. Он был запасливым человеком. Ели они на ходу, не разговаривая.
Внезапно из-за холмов на них наскочил конный китайский разъезд. Верховые вскинули винтовки, направив их на солдат. Садао приветливо улыбнулся и стал торопливо рассказывать китайцам, кто они такие.
Верховые подъехали еще ближе, не опуская винтовок, суровые и настороженные. Садао вдруг засмеялся, сообразив, что китайцы не понимают его. Тогда перебежчики положили пулеметы на землю, показывая этим свои мирные намерения. Садао, волнуясь и путаясь, начал говорить на ломаном японском языке:
— Наша ходи ваша, война нет, коммунисты хорошо…
Между тем верховые окружили солдат, все так же держа винтовки на изготовку и не упуская из виду лежащих на земле пулеметов. И вдруг Садао, шлепнув себя по лбу, несколько раз подряд крикнул, тыча себя и Тари в грудь:
— Буэрсавэйк! Буэрсавэйк!
Это китайское слово было прочитано им однажды в какой-то газете и надолго осталось в памяти. Оно значило: большевик. Верховые, услышав это слово, оскалились в улыбках. Один из них спрыгнул с седла и подошел к солдатам. Он говорил им что-то. Но это было столь же загадочно и непонятно, как и недавняя попытка солдат объясниться с китайцами.
Наконец люди нашли общий красноречивый язык жестов. Солдаты пошли рядом с конными, их пулеметы лежали на седлах. Невдалеке, в ложбине, образованной холмами, они встретили другой китайский разъезд. Солдат посадили на коней, и они, сопровождаемые первым разъездом, помчались к китайским позициям.
Перебежчиков провели к командиру бригады. Сюда уже прибыл китайский солдат, бывший студент, знавший японский язык. Садао и Тари быстро рассказывали о себе. Студент едва успевал за ними переводить. И по мере перевода суровое лицо комбрига делалось все более мягким, глаза его дружелюбно блеснули. Солдаты рассказали, как они выпустили весь бензиновый запас танкового отряда и что танки поэтому не пойдут в атаку. Солдат расспрашивали долго, подробно и осторожно.
Китайское командование справедливо опасалось хитроумной ловушки коварного противника. Враг мог переодеть в солдатские гимнастерки опасных шпионов и перебросить их под видом перебежчиков к китайцам.
Комбриг напряженно думал, взвешивая каждое слово солдат. Он незаметно окидывал их проницательным взглядом. Честные, простые лица солдат, их бесхитростный рассказ располагали к ним. Но этого было еще недостаточно. Ему вверена была целая бригада, несколько тысяч человеческих жизней, и он обязан был тщательно продумать и взвесить каждое слово японских солдат. Перебежчиков увели. Комбриг приказал накормить их, окружить дружбой и вниманием. В палатке остались командир бригады и его помощник. Это были старые боевые товарищи, участники Великого похода, коммунисты.
— Солдаты производят впечатление честных людей. Их рассказ похож на правду, — сказал комбриг.
— Я так же думаю о них, — согласился его помощник.
В палатку вбежал начальник разведки. Он коротко и точно, по-военному, доложил комбригу:
— На японских позициях — заметное оживление. Японская часть, занявшая позиции в пять часов утра, отводится с участка фронта шириной в километр, остаются редкие цепи охранения.
Все стало ясно. Перебежчики сказали правду: японцы готовят танковую атаку. Решение было принято. Комбриг и его помощник поспешно вышли из палатки.
Ординарцы мчались во все стороны китайских позиций, развозя приказы комбрига. Ровно в шесть часов пятнадцать минут утра китайские войска рванулись в атаку.
За линией атакующих шли Садао и Тари. Они шли быстро и уверенно. Они шли вперед, счастливые и гордые. Их окружала живая, могучая стена дружбы и доверия. В этом боевом атакующем строю все были свободны и равны: и комбриг и боец. Это новое чувство вдохнуло в них новые силы.
Атакующие легко смяли передовое японское охранение и прошли вперед.
* * *
Капитан Кидо ежесекундно смотрел на часы. Шесть часов двадцать минут. Танков нет. Уже зачастили китайские пулеметы. Невдалеке показались передовые части противника. Капитан оглянулся назад. За ним лежал батальон. От холмов к батальону во весь опор мчался майор Хорита.
«Сейчас пойдут танки, — облегченно вздохнул капитан. — Опаздывают на двадцать минут. Надо будет пожаловаться в штаб. Почему унтер Мадзаки не присоединился в пути к батальону? Как падает дисциплина!..».
Капитан Кидо больше ни о чем не думал. Он упал на землю ничком, уткнувшись головой в траву, еще мокрую от росы.
Китайцы навалились на батальон. Японцы дрогнули и побежали. К смятым рядам подскакал Хорита. Он был бледен, и верхняя губа его подергивалась в нервном тике. За холмами, откуда он только что вернулся, было пусто. Танковый отряд не вышел к позициям, как было условлено. Батальон открыл фронт, дал дорогу не своим танкам, а китайским войскам. Сейчас уже ничего нельзя было поделать. Оставалось одно: вывести батальон из-под ударов противника, спасти его от разгрома.
Но Хорита опоздал. Батальон, не получив поддержки, панически отступал под ударами китайских войск. Остановить его было невозможно. Собственно говоря, батальон как таковой больше не существовал. Теснимый со всех сторон китайцами, он распался на отдельные группы безостановочно бегущих и падающих людей. Повсюду в траве лежали сраженные солдаты.
Майор Хорита с помощью нескольких офицеров и унтеров остановил вторую роту, вернее — ее остатки, человек сорок. Наскоро установив два пулемета, японцы открыли бешеный огонь по наступающему противнику. И когда уже казалось, что китайцы замедлили темп атаки, с правого фланга, где стоял батальон майора Хори, сквозь пулеметную трескотню донеслись громовые раскаты:
— Ван-суй! Ван-суй!
Солдат Нару выбежал из-за ближайшего холма. Он тянул за собой на поводу упирающуюся лошадь майора Хорита. Майор не стал ждать, когда Нару приведет ему коня. Он побежал к нему навстречу. Нару, придерживая повод, помог майору взобраться в седло.
Китайцы были уже не далее чем в ста метрах от японцев. Они на бегу, припадая на колено, залегая за кочки, поливали японцев из ручных пулеметов и винтовок. Майор дрожащей рукой потянул к себе повод. Нару как-то странно осел на землю. Конец повода он крепко зажал в кулак. Нару упал на спину, и рука, зажавшая повод, подвернулась под голову. Майор заскрежетал зубами:
— Пусти, дурак!
Нару не отвечал. Он лежал с открытыми глазами, стекленеющий взгляд которых преданно уставился на майора. Он был мертв.
С легкостью, необычайной для него, майор соскочил с коня, ударом ноги повернул тело солдата и выдернул из его руки повод. Вдруг обессилев, майор Хорита с трудом взобрался на коня. Не успел он подобрать повод, как лошадь понесла, обезумев от трескотни пулеметов и визга пуль. Хорита отчаянно цеплялся за гриву коня. Наконец Хорита удалось подхватить повод, и он выпрямился в седле.
Садао, заметив майора Хорита, остановился. Мимо него пробегали китайцы с винтовками наперевес. Вдруг возле Садао беззвучно упал боец, выронив из рук винтовку. Садао подхватил ее и, припав на колено, вскинул винтовку к плечу и выстрелил.
Майор Хорита не слышал ни звука выстрела, ни визга пули. Судорожно сжав коленями бока лошади, он сперва поник головой на грудь, а затем как-то сразу размяк, отвалился через седло назад. Ноги, проскочившие в стремена, крепко держали его тело.
Лошадь несла его вперед, за холмы, в сторону японских расположений.
Издали человек, запрокинувшийся спиной на круп бешено мчащейся лошади, был похож на циркового наездника. И когда тяжелая, свинцовая туча скрыла солнце и на землю упали причудливо рваные тени, конь со своей мертвой ношей, взлетающий на гребни дочерна выжженных холмов, казался мрачным вестником разгрома.
Лань Чжи — мать партизан
I
Нам только бы добраться до этих гор! — сказал командир партизанского отряда Сюй.
Он вытянул перед собой руку, в которой легко держал винтовку, и показал дулом на группу высоких холмов, мягко и неуловимо переходящих в большую, покрытую лесом цепь гор.
— Дальше они не пойдут, не осмелятся, — добавил он.
— У них есть верховые, товарищ Сюй, им ничего не стоит перерезать нам путь в горы. Ты не подумал об этом? — спросил человек, истрепанная одежда которого все еще сохраняла на себе следы городского покроя.
— Я не мог не подумать об этом, товарищ Тан. — Сюй помолчал секунду и уверенным голосом сказал громко, так, чтобы слышали все бойцы: — Мы доберемся до гор раньше, чем они успеют перерезать нам дорогу. Все зависит от нашей быстроты. Мы идем прямо по трясине, а это наполовину сокращает наш путь. Они идут по дороге. Здесь они не сумеют пройти, не зная тропок, тем более на конях. Будь я у них командиром, я прекратил бы уже давно погоню. Они замучают своих солдат — и только.
Сюй и Тан разговаривали на ходу. Сюй шел впереди уверенным, крупным шагом. Весь отряд поневоле, несмотря на усталость, приноравливался к его шагу, не отставая. Шли по узкой зыбкой тропке, издавна проложенной в этих низких камышовых зарослях через всю болотистую местность, до самых гор. Итти надо было осторожно, чтобы не оступиться. Каждый боец точно повторял движения переднего. Трясина всасывала все, что попадало в нее, как губка воду.
Небольшой отряд Сюя возвращался из штаба дивизии Восьмой народно-революционной армии, куда ходил для восстановления прерванной противником связи партизанских отрядов с регулярными частями и за новыми инструкциями. В штабе дивизии к отряду Стоя присоединился инструктор политотдела товарищ Тан.
На обратном пути отряд Слоя обнаружил лагерь японской части, очевидно, отведенной с фронта для кратковременной передышки. Обойдя лагерь стороной, партизаны наткнулись на большой караван японских грузовиков с продовольствием. Здесь уже Сюй ничего не мог поделать с собой. Все его бойцы, — а их было человек тридцать, — имели с собой по пять-шесть гранат собственного, партизанского, изготовления. Это были грубые, корявые гранаты, обладавшие страшной разрушительной силой. Командир отряда точно указал каждому бойцу грузовик, который надо было подорвать. Осторожно прокравшись к самой дороге, партизаны некоторое время еще ползли в кустах, рядышком с грузовиками, медленно переваливавшими через выбоины и ямы поврежденной дороги.
Партизаны сразу, по едва слышной команде Сюя, вскочили на ноги и метнули свои гранаты. Сухой, неприятный треск разрывов гранат и крики раненых наполнили воздух. Грузовики падали набок с развороченными моторами, с вырванными щитами управления; задние машины, не успев затормозить, всей своей тяжестью налетали на передние. Густые облака пыли повисли над дорогой, укутывая все в серый саван.
Партизаны скользнули в кустарник и заторопились в сторону, своей дорогой. Казалось, что все прошло удачно, как вдруг где-то сзади послышался глухой дробный цокот копыт. По дороге рысью шла японская конница, на глаз не больше пятидесяти верховых. Сюй хотел уже было окопаться, залечь где-нибудь в кустарнике, как за конницей, правда еще очень далеко, показалась целая рота японской пехоты.
Взбешенные налетом партизан, японцы решили истребить их и выслали вдогонку все свое охранение. Сюй подсчитал бойцов своего отряда, хотя он точно знал, сколько их, и благоразумно решил уклониться от боя.
— Тридцать партизан против кавалерии в пятьдесят сабель и роты в двести штыков… Нет, я не могу, у меня спешные дела, — бросил он Тану и увел отряд с холмов по одному ему известной тропке в трясине.
Японцы быстро шли по дороге; иногда, сокращая свой путь, они переваливали через холмы, торопясь к горам, с тем чтобы отрезать партизанам выход к ним.
Выбравшись из трясины, партизаны прошли холмы и уходили в молодой лесок, покрывавший склоны гор, когда на гребне холмов появились японские всадники. Партизаны смеялись, громко кричали, махали руками японцам, жестами приглашая их итти за собой в горы: они были у себя дома. Японцы послали им вдогонку десятка три пуль, оборвавших кое-где на деревьях кору.
— Товарищ Тан, — обернулся Сюй, — ты еще не привык к нашим гранатам. Я смотрел, как ты их бросаешь. Они сделаны не так, как настоящие. Поэтому, пожалуйста, не задерживай гранату в руке, иначе вместо японцев ты и себя и нас покалечишь.
— Як ним скоро привыкну, — улыбаясь, ответил Тан. — Как ты думаешь, твоя мать все еще на базе, никуда не ушла?
— Куда ей итти! — засмеялся Сюй. — Она никуда не уйдет оттуда. Она слишком стара. И потом ведь она у нас самый большой командир. А командир не может уйти от своих войск. Подожди, сам скоро увидишь ее.
Вечерело, когда отряд, поминутно называя невидимым часовым свой пароль, приближался к партизанской базе, скрытой в недоступных горах.
Это был район Утай, на северо-западе провинции Шаньси, где так много больших, тесно сдвинутых гор, вершины которых покрыты вечным снегом, а склоны — дремучими лесами. В этих горах шаньсийские партизаны создали свою главную базу. Они отдыхали здесь, залечивали раны, учились военному делу. Отсюда они совершали свои опустошительные рейды по японским тылам.
База расположилась высоко, в большой ложбине, где сохранилось много древних каменных пещер. На базу вели редкие тропинки, внезапно исчезавшие в лесу, обрывавшиеся у ручейков. Только опытный проводник мог разобраться в этом сложном горном лабиринте. Но партизаны, выполняя чей-то мудрый совет, проложили десятки новых ложных троп, которые чужих людей должны были обмануть, запутать, завести в густой лес. Такие тропы, уходя от подножия горы, долго петляли и выводили в болото, к пропасти, а иной раз возвращали путников к тому самому месту, с которого они начинали свой подъем. Густая сеть таких тропок покрывала весь этот горный район.
Японцы не раз делали попытки выследить, уничтожить партизанскую базу и каждый раз с большими потерями возвращались назад. Однажды, рассвирепев, они целый день стреляли по горам из тяжелых орудий и сбрасывали на них бомбы с самолетов. Но база попрежнему жила своей напряженной, боевой жизнью, оставаясь неприступной и неуязвимой для вражеских войск, снарядов и бомб.
У самого входа в ложбину, где расположилась база, отряд встретили несколько человек и среди них маленькая, сухонькая старая женщина. Длинные широкие ватные штаны ее, выстеганные ромбами, были крепко перехвачены у самых щиколоток тесемками. Такая же куртка обхватывала ее сутулую спину. Этот наряд делал ее суровой, похожей на мужчину. Она держала в руках крепкую суковатую палку. Завидев Сюя, шедшего впереди отряда, она подняла палку вверх, улыбнулась, и сотни больших и маленьких морщин разгладились, поплыли по ее лицу, утопая в ласковой улыбке. Черные, еще сохранившие блеск глаза ее засверкали приветливо и радостно.
— Ты долго ходил в этот раз, не правда ли, сын мой? — встретила она Сюя.
Это была его мать — Лань Чага.
— Я торопился домой, мать, и по дороге встретил японцев. Я должен был задержаться. Жалко было расставаться с ними.
— Даже несмотря на то, что они загнали тебя в трясину?
— Я очень доволен, что они не оставили нас у себя гостить. Ты ведь поругала бы меня за это, не так ли?
Старуха увидела Тана, зорко оглядела его и вопросительно посмотрела на Сюя.
— Это товарищ Тан, инструктор политотдела. Командование перебросило его к нам.
Сюй подробно рассказал о Тане все, что он знал о нем. Незнакомые еще Тану люди подходили к нему, дружески пожимали руку, и каждый говорил ему два-три слова, простых, но хороших, идущих от сердца.
Тан радостно отвечал на приветствия, благодарно улыбался и во все глаза смотрел на старуху Лань Чжи, мать Слоя. Он представлял ее себе более дряхлой. Ему казалось, что она должна быть обессилевшей, беспомощной старухой, прикованной к постели неизлечимым недугом. Тан признался себе в том, что о всех старухах он думал одинаково. Тем более ему приятно было видеть эту старую, семидесятилетнюю женщину все еще бодрой, подвижной.
Всем своим несколько суровым и строгим видом она как бы подтверждала рассказы о ней, где правда давно уже переплелась с добрым вымыслом. Но так уж всегда бывает с рассказами о людях, прославившихся своими делами и жизнью. Одно можно без колебаний сказать: она вполне заслужила прозвище, которое ей дал сам народ: «Мать партизан».
Она была не просто любящая, заботливая мать для всех шаньсийских партизан. Сказать так — значило ничего не сказать об этой поистине замечательной женщине, достойной дочери своего народа. Лань Чжи — это боевая мать партизан, боец, друг и советник.
— Сын мой, — сказала она Тану, — если тебе нужна мать (а она нужна всякому бойцу), ты будешь для меня не менее дорог, чем собственные сыновья мои и внуки.
Она положила свою легкую маленькую руку на плечо Тана и, чуть приподнявшись на носках, посмотрела ему пристально в глаза. Бойцы, стоявшие вокруг, с почтением слушали Лань Чжи. Вдруг старуха, словно опомнившись, вскинула левую руку к голове, поправила выпавшую прядку седых волос и сказала:
— Вот это дело! Люди вернулись из похода, а я их разговорами угощаю. Стара я стала, забываю свои обязанности.
И, повернувшись, она повела за собой всех к пещерам. Тан шел рядом с Сюем. Не утерпев, он спросил:
— Откуда она знает, что у нас была стычка с японцами и что они преследовали нас?
— Здесь все знают, — с гордостью ответил Сюй. — Сотни разведчиков и дозорных бродят по всей округе. Они, как эстафету, передают сюда все, что видят и слышат. У нас всюду тысячи глаз и ушей. Если бы с нами случилась беда, отсюда пришли бы к нам на выручку.
Сказав это, Сюй прибавил шагу, догнал свою мать и спросил ее:
— Что слышно о Ли, когда он вернется домой?
— Внучек скоро будет, очень скоро, — может, сегодня ночью, может быть, завтра утром. Не тревожься, Сюй. Иметь такого сына — одна радость. Он не только горяч сердцем, но и осторожен умом. От него есть хорошие вести. Целый месяц он был в районе Тайюани, а теперь торопится с отрядом сюда.
II
День на базе начинался рано. Люди были на ногах еще до восхода солнца. Здесь всегда кипела работа. В одной из пещер, самой большой, помещались кузница и механическая мастерская. Здесь ковались и отделывались прекрасные боевые мечи, кустарные ружья, отливались пули. Рядом, в длинной и узкой, похожей на бесконечный коридор пещере изготовлялся порох, знаменитые партизанские гранаты, патроны. Эти две пещеры партизаны с гордостью именовали «Центральным антияпонским арсеналом».
И на самом деле, это было серьезное предприятие, большое подспорье в партизанской борьбе. Начальником арсенала был инженер Чэн, работавший ранее в арсенале в Мукдене, до захвата его японцами. Теперь под руководством Чэна в «Центральном антияпонском арсенале» работали сотни две кузнецов, механиков, токарей, монтеров, подрывников. Арсенал работал круглые сутки, в две смены, по двенадцати часов. И когда однажды коммунисты — организаторы и командиры партизанских отрядов — предложили работать в три смены, по восемь часов каждая, чтобы не изнурять арсенальцев, работники арсенала организовали настоящую забастовку протеста.
Они вышли из своих пещер со знаменем и демонстрировали по всей ложбине. На знамени своем они написали:
«Мы работаем для нашей родины всего двенадцать часов в день, а наши братья жертвуют своей жизнью в борьбе с японцами. Позвольте нам работать всего двенадцать часов в день!»
Демонстранты направились к пещере Лань Чжи. Старуха вышла к ним, и они долго беседовали, как она потом рассказывала, «о текущем моменте». В конце концов «забастовщики», поддержанные Лань Чжи, одержали решительную победу. Им сделали эту уступку, ибо поняли, что ярость, сжигающая людей, находит себе выход в упорной работе.
На базе всегда царит большое оживление. Каждый день сюда приходят и отсюда уходят партизанские отряды, разведчики, рабочие, крестьяне, добираются из больших городов студенты. Они объединяются здесь в отряды, обучаются военному делу и уходят обратно, на фронт или в тылы японских дивизий. Неграмотных обучают здесь грамоте в обязательном порядке. На этом особенно настаивала старуха Лань Чжи. И хотя ей доказывали, что время для обучения еще не наступило, она продолжала настаивать на своем:
— Надо людей учить. У нас здесь много студентов. Мы их учим военному делу, пусть они учат нас грамоте. Люди будут еще лучше воевать, когда узнают грамоту.
После долгих пререканий Лань Чжи настояла на своем. Сюй уступил и приказал студентам организовать курсы ликвидации неграмотности. Правда, люди не успевали овладеть первоначальной грамотой: едва осилив десятка два иероглифов, они уходили с отрядами на фронты. Но бойцы, уяснив жизненную необходимость учения, уносили с собой неистребимую жажду знаний.
В большую фанзу, прилепившуюся к скале, где находились командующий базой Сюй и его штаб, ежечасно являлись разведчики. В полдень на базу прибежал подросток и взволнованным голосом сообщил Сюю:
— Командир Ли требует немедленно прислать триста-четыреста носильщиков на дорогу перед трясиной. Просит прислать скорее.
Сюй приказывал и думал одновременно: «Дорога перед трясиной… Это как раз там, где мой отряд подрывал японский обоз. Значит, Ли управился с охраной и Забирает добычу. Молодец! Хозяйственный командир!..».
С базы быстро уходили люди. Они шли налегке, без оружия. Обратно они придут с тяжелым грузом продовольствия, боеприпасов и медикаментов, находившихся на грузовиках и предназначавшихся японским войскам.
Вечером недалеко от штаба несколько командиров, отряды которых отдыхали на базе, развели большой костер. Решили не спать — ждать возвращения Ли.
По вечерам в горах даже летом прохладно. У костра было хорошо, приятно, светло. К костру, как бабочки к огоньку, тянулись люди. Круг все расширялся и расширялся: собралось человек пятьдесят бойцов и командиров. На огонек подошли Тан и Сюй. Люди подвинулись, освободив им немного места. Такие вечера были самым лучшим отдыхом на базе. Обязательно кто-нибудь из командиров рассказывал о боевых эпизодах или о своей жизни, богатой интересными событиями. Для молодых командиров и бойцов это была увлекательная школа: здесь испытанные партизаны делились своим боевым опытом.
Из тьмы к костру вышла Лань Чжи. Она шла медленно, слегка опираясь на палку. Ее приветствовали сердечно, любовно. Лучшее место у костра было очищено для нее. Старуха, покряхтывая, опустилась на удобную подстилку.
— Эх, жаль, жизнь уходит! А теперь бы только начинать жизнь снова.
Она еще долго устраивалась, потом, глубоко вздохнув, высоко подняла голову и громко, чтобы все слышали, сказала:
— Ну что же, подождем внука?
Все согласились. Они для этого и собрались у костра, чтобы подождать возвращения отряда. Но все знали слабость старухи, души не чаявшей в своем внуке Ли.
— Хорошо бы материй всяких заполучить у японцев, — закашлявшись, проговорила она, раскуривая длинную, вылепленную из глины трубку с деревянным мундштуком. Лань Чжи любила курить и курила с малых лет, Как помнит себя. — Одежда у бойцов оборвалась. Вчера ушел отряд, одеть не во что было. Что скажет командующий? — строго посмотрела она на своего сына Сюя.
— Я скажу, что у японцев есть хорошие текстильные фабрики в Осаке[29]. Хорошо бы оттуда выписать для твоей мастерской товары.
Лань Чжи начала рассказывать.
У костра сдержанно фыркнули.
— До Осаки далеко, — сказала старуха, — а японцы здесь, близко. Вся их армия теперь у нас. Своих солдат они ведь одевают. Почему мы наших партизан не можем одеть за их счет?
У костра зашумели:
— Правильно говорит мать, очень правильно!
И потом пошли у костра всякие разговоры, долгие, любопытные. Тан пересел поближе к старухе и в чем-то страстно убеждал ее.
— Да что ты, с ума сошел! Разве это интересно? — хитро посмеиваясь, отвечала Лань Чжи.
Таи не отставал:
— Нет, это очень важно знать. Молодые люди даже обязаны знать это.
Лань Чжи вопросительно посмотрела на сына. Сюй кивнул головой и развел руками: ничего, мол, не поделаешь, раз просят — значит, надо.
В костер подбросили сухих веток, он чуть заглох и потом с треском разгорелся ярко, далеко отбрасывая искры. Старуха опять стала усаживаться поудобнее. Молодой командир, сидевший слева от нее, заботливо приготовил ей трубку. Лань Чжи начала рассказывать. Теснее сомкнулся круг.
* * *
— Мы испокон веков жили на Формозе[30], весь наш род произошел оттуда. Сколько этому лет, я не знаю. Знаю только, что отец мой, и дед, и прадед — все родились на Формозе. Тогда много китайцев жило на Формозе. Остров этот был наш, земли там было много, жили мы хорошо, свободно… Отец мой имел много земли, наверное двадцать му[31], не меньше. Не было там в земле недостатка, и притеснений никаких не было. Просто каждый человек, которому нужна была земля, ставил несколько камней или кольев по ее краям. Это значило, что земля уже занята, и никто не захватывал ее. Никто ни разу не нарушил этот наш народный закон.
Все в нашем роду земледельцы: был у нас и рис и табак (я и курить поэтому стала, все у нас в роду курили— и мужчины и женщины), был и сахарный тростник и чай. Раз или два в году приезжали к нам большие купцы, даже из Кантона приезжали, и закупали плоды наших трудов.
Жили мы мирно. Никого не трогали, и нас никто не трогал. И вдруг, — я уже была почти взрослой девушкой, — случилось большое несчастье. На Формозу напали японские войска[32], пришел к нам их большой флот. А остров этот был испокон веков наш, китайский. Начали японцы истреблять нас, отнимать сперва урожай, а потом и землю. Трудно нам стало так жить, ушли мы в горы. Мужчины партизанили против японцев, а мы, женщины, готовили им пищу. Семья наша понесла большие потери в этой войне. Два моих старших брата были пойманы японцами и казнены. Но отец с отрядом еще лет пять после этого партизанил. Так мы и остались в горах. Расчистили себе кусок земли и опять занялись сельским хозяйством. Японцы тогда еще боялись итти далеко в горы, и жили мы поэтому спокойно.
Так прошло пятнадцать, а может быть, и двадцать лет, точно не скажу. Как вдруг опять японцы пошли в горы. Началась, как мы потом узнали, новая японо-китайская война. Опять нам стало плохо. Всей деревней снялись мы и ушли еще дальше в горы. Отец мой был уже старик, а все-таки не выдержал: взял моего младшего братишку, его дядю (Лань Чжи кивнула в сторону внимательно слушавшего Сюя), еще многих родственников наших позвал с собой и опять пошел партизанить.
Вся наша семья стала ненавистна японцам. Они объявили награду за голову моего отца. Но все-таки долго не могли его поймать. Год прошел, наверное, после объявления награды, когда они наконец поймали моего отца. Отрубили они ему голову и повесили ее на городских воротах для устрашения населения…
Старуха говорила ровным, спокойным голосом. Она медленно посасывала трубку, морщила лоб, словно силясь припомнить все прошлое точно, в подробностях. И движения ее были медленны и спокойны, как голос. При вспышках костра было видно, как маленькие черные глаза, затаившиеся в морщинах, горели ненавистью.
— …Остались мы без отца. Человек он был трудолюбивый, упорный и молчаливый. Он умел все делать по крестьянству. Голова у него была умная: для всех он был всегда вожаком, советником. Убили его, и стало нам совсем трудно жить на Формозе. У меня было трое детей и муж, спокойный и незлобивый труженик. Он был сиротой, и отец мой взял его к нам в семью еще мальчиком. Когда убили моего отца, Сюй был тогда еще грудным…
Старуха закашлялась, и все посмотрели на партизанского командира Сюя, которому ранняя седина уже серебрила виски.
— …Тогда муж мой и младший мой брат решили забрать всю нашу семью и бежать в Китай, потому что японцы ловили нас и превращали в своих рабов, а непокорных истребляли.
Надо было нам из гор пробиться к берегу моря, найти лодку и бежать. Так мы и поступили. Но только злой дух кружил над нами: уже у самого берега нас выследили японцы. Я успела с грудным младенцем на руках добежать до гор и спрятаться там. Убежал и брат мой. А мужа моего с двумя детьми поймали японцы. Я это хорошо запомнила. Это были японские морские солдаты; было их человек двадцать, все с ружьями, а на ногах у них были такие белые высокие чулки поверх штанов.
Мы все видели из-за кустов, как они связали мужу руки, вывернув их за спину, и ударами прикладов заставили его сесть на корточки. Потом двое из них выстрелили ему из винтовок прямо в голову. Он так и упал на землю спиной, весь скрюченный. У меня потемнело в глазах от ужаса.
Солдаты пошли дальше, по берегу. Лодку они нашу не тронули, а возле лодки сидели мои дети: мальчик восьми лет и девочка шести лет. Солдаты ушли далеко, и мы с братом уже хотели выбраться к берегу, как вдруг они повернули обратно. Мы опять спрятались за скалой. Они вернулись назад, к лодке. Девочка, я помню, все кричала, а мальчик подполз к отцу и лег возле него. Один солдат подошел к девочке и что есть силы ударил ее прикладом винтовки по голове. Я уже не помню, что было дальше.
Когда я очнулась, рот мой был забит травой, и брат крепко держал на нем руку, чтобы я не кричала.
Солдат на берегу уже не было. Там в разных местах лежали мои дети и муж. Мы подождали до темноты и, когда она наступила, подошли к лодке.
Муж был мертв, и девочка, и мальчик. Они их всех убили…
Голос старухи дрогнул, она глубоко вздохнула и замолкла. Она пошарила рукой возле себя, нашла свою палку с металлическим наконечником и ткнула его в костер. Над людьми повисло горестное безмолвие. Лань Чжи низко опустила голову и подалась туловищем вперед, к костру. Никто не видел ее лица, и никто не знал, плачет ли она беззвучно и бесслезно, или напряженно разглядывает в причудливом сверкании пламени картины далекого прошлого.
Старуха вдруг быстро задвигала палкой в костре, и туча искр вспорхнула в воздух. Лань Чжи откинулась назад. У нее были сухие, с глубокой думой глаза. Отблески пламени играли на ее морщинистом лине, рассекая его светло-коричневыми узкими полосками. И казалось, что это большая жизнь отложила следы свои на ее лице.
— …Лодку японцы не тронули — почему, не знаю. И отплыли мы втроем: я, брат мой и сын мой Сюй. Мы потеряли счет дням и неделям, столько времени носило нас по бурному морю, пока нам не помогла китайская джонка. Это была джонка пиратов, а они были неплохими людьми, и после того, как мы рассказали про наше горе, они доставили нас к глухому берегу провинции Фуцзянь, снабдили деньгами, продуктами и пожелали доброго счастья.
Мы прошли всю страну пешком и добрались до пустынных ничьих земель в Шаньси, недалеко отсюда. Сюй женился, когда ему исполнилось семнадцать лет. Нам в семье нужны были дети; мы хотели, чтобы род наш возместил все свои потери.
Теперь у меня целых три внука: Шан, Ли и Сян. Прожили мы спокойно в этих землях лет тридцать, а может быть, и больше. И опять японцы напали на нашу страну, захватили наш Северо-восток[33]. Но кругом люди не беспокоились и говорили так: «Северо-восток далеко, до нас не дойдут никогда. Не смогут японцы притти к нам в Шаньси».
Я не согласилась с такими людьми. Я-то ведь знаю, как японцы приходили на Формозу! Но со мной мало считались, ведь я женщина… А потом и действительно год или два было тихо. Попробовали японцы взять Шанхай, не сумели и ушли.
Вот тогда-то и пропал мой старший внук Шан. Наши генералы тогда дрались между собой за власть; каждый хотел быть властелином, а о защите родины, о сопротивлении врагам они не думали. Проходили мимо нас войска какого-то генерала и увели с собой моего внука Ша-на. Только через пять лет, нынешней весной, узнали мы о нем. Он теперь ученый человек, большой военный начальник в Восьмой народной армии.
Узнали мы, что бежал он от генерала и перешел к красным народным войскам в провинции Цзяньси, куда его послали воевать с ними. Учился он в главной школе красных командиров. Теперь он командует целым полком в Восьмой армии, на юге Шаньси. Скоро и здесь будет. Если они сумели пройти через все горы, леса и реки от Цзяньси до Шаньси, то они и сюда дойдут, до наших гор.
Другого внука, Ли, вы все знаете. Он командует партизанским отрядом, бывает у нас часто на базе. А самый младший внук, Сян, учится сейчас в военной школе в Восьмой армии в Шэньси, будет командиром!
Вот и все о моей жизни. Больше нечего рассказывать…
Где-то далеко прозвучал сигнальный рожок.
— Это, наверное, идет отряд Ли, — сказала, оживившись, старуха.
— Мать, — спросил ее Тан, — а где твой младший брат?
— Сун? Он погиб зимой прошлого года, когда нашу деревню забросали бомбами японские самолеты. Вот после этого-то и началось пробуждение народа в нашей округе. Все увидели, что если не сопротивляться, то японцы истребят нас или превратят в рабов. И народ наш поднялся. Приходили к нам люди из красной партии и помогли нам организоваться. Вот и Сюй теперь стал красным. Он организовал эту базу, а я ему помогаю здесь по хозяйственной части. Я женщина старая, и мне уже трудно итти в поход. Но я не могла спокойно оставаться в деревне. Я видела уже две войны с японцами, а теперь вижу третью и хочу, чтобы она была последней и чтобы я дожила до полной победы нашего народа. Это даст мне покой. Наш род всю жизнь дрался с японцами — и на Формозе и здесь. В этой борьбе я потеряла отца, и детей своих, и братьев, и сестер. Но у меня есть еще внуки и много других детей — весь наш народ сейчас бьется с врагами. Мне нужно дожить до победы нашего народа над врагами…
Лань Чжи замолчала.
— Ты доживешь, мать, обязательно доживешь! — горячо встрепенулся Тан. — Не зря ты носишь такое бессмертное имя[34].
— Мы победим, мать! Мы не можем не победить теперь, когда весь наш народ поднялся на войну. Это будет тяжелая война за свободу нашей страны. И ты доживешь, мать, до этой великой победы, — сказал долго молчавший сын ее Сюй.
Звуки сигнального рожка быстро приближались. Они доносились то слева, то справа, то пропадали опять где-то вдали. В костер подбросили большую охапку веток, и тонкие язычки пламени, лизнув их, стали пробиваться наружу, к воздуху. Внезапно из темноты донеслись голоса быстро идущих людей. К костру подошло несколько человек. Все встали. Молодой командир сбросил с головы серую матерчатую кепку, подошел к Лань Чжи, нежно обнял ее и осторожно усадил обратно на подстилку. Затем он подошел к Сюю и, широко улыбаясь, крепко пожал отцовскую руку. Поздоровавшись со всеми, он опустился на землю и вздохнул:
— Ну и устали! Спать буду два дня, не меньше. Бабушка, хорошо бы горячих пельменей поесть, а?
— Будут тебе утром пельмени, если заслужил, — с добродушной строгостью ответила Лань Чжи.
— Посуди сама, заслужили мы или нет: радиостанцию целую принесли, оружия не счесть, и продовольствия сколько' хочешь. Продовольствие мы здесь уже, на обратной дороге, подхватили с грузовиков. Кто-то перед нами подорвал большой японский обоз.
— Как люди? — строго спросил у него Сюй.
Ли опустил голову и тихо прошептал:
— За весь месяц потеряли двадцать семь бойцов.
— Двадцать семь…
— А разве война бывает без жертв? — мягко сказала старуха.
— Отец, — поднял голову Ли, — мы не считали сраженных врагов. Мы оставляли их повсюду за собой на дорогах, в сопках. Они не щадили нас, и мы не давали им пощады!
Костер угасал. Люди поднялись на ноги, простые, суровые, мужественные.
Дневник самурая
Первыми в Юаньпин ворвались партизаны.
Это было поздней ночью. Ливень неистово стегал землю. Жидкая, липкая грязь хватала людей за щиколотки. Партизаны промокли насквозь, и холодный ветер студил их тела. Люди были одеты по-разному, но почти все в бумажных солдатских рубахах. Они мерзли, хотя уже шел май, и если бы не этот холодный ливень, то ночь была бы теплая, с мягкой испариной. Ливень шел уже третий день все так же сильно, не ослабевая, и не было видно ему конца.
Бойцы-крестьяне тихо переговаривались между собой. Пожилой крестьянин, у которого в феврале осколок гранаты начисто срезал одно ухо, в сердцах заметил:
— Сейчас самое время ему перестать. Влаги уже достаточно, в июне созреет рис.
Люди помолчали. Из темноты кто-то молодым голосом бросил:
— Это хорошо, что ливень так зарядил. Японцы взмокнут, как жабы. Тут и надо начинать бой.
Крестьянин засопел, вздохнул и, скорее для себя, чем для товарищей, сказал:
— Первое дело, конечно, — прогнать японцев, и такой ливень только на руку. И урожай жалко: зерно наливается сейчас, от большой воды погнить может, а без риса никто не проживет.
Молодой голос из темноты озорно ответил:
— Тебе, старик, как видно, риса жалко! Ты и шел бы к себе в деревню. А с японцами мы сами управимся.
Крестьянин строго отрезал:
— Ты непочтителен к старшим, как лягушка, и неразумен, как монах.
Партизаны ворвались в город.
Кругом сдержанно засмеялись. Смеялся и молодой: «Хо-хо-хо!» Затем молодой весело сказал:
— Э, старик, а монахи-то ведь хитрые!
— Я думаю, они просто насекомые на нашем теле, и больше ничего, — поддержал старика кто-то из темноты.
— Это очень правильно. Хорошо сказано, — тихо зашептали бойцы.
— Они, как японцы, коварны, трусливы и вороваты, — продолжал молодой. — Перед храмом величественны и скромны, как боги, а за оградой — жадны и развратны.
Как тихо ни беседовали бойцы, а командир отряда все-таки услыхал их. И по цепочке, от одного к другому, пришел командирский приказ:
— Молчать!
Отряд подобрался, пользуясь темнотой и ливнем, к самому городу. И было бы обидно, если бы японские часовые успели поднять тревогу. Небо извергало потоки воды, и над землей стоял глухой рокот. Было самое время для атаки.
Партизаны ворвались в город, как страшный вихрь, грозно и неожиданно. На улицах, заглушая шум ливня, однотонно затрещали пулеметы. Внезапные взрывы бомб багровым пламенем озаряли улицы, дома, небо. Бой шел вдоль улиц, в домах. Люди дрались под дождем, не чувствуя, не замечая его. К утру город перешел в руки китайцев. Японский гарнизон был уничтожен; только немногим удалось спастись.
Днем в штаб полка партизанский командир доставил целую корзину документов из японского штаба: здесь были приказы, сводки, донесения, списки личного состава, карты, фотографические открытки, изображавшие миловидных, кукольных гейш, — офицерские сувениры.
Среди документов найдено было много писем и большая, обтянутая в черную клеенку тетрадь, страницы которой были аккуратно испещрены иероглифами. Это был дневник лейтенанта Хякутаке. На первой странице тетради красиво было выведено: «Военный дневник».
На самом деле это был не только военный дневник. Там были и другие записи, касавшиеся личных переживаний лейтенанта Хякутаке, записи совершенно частного порядка, удивительные и поучительные.
Судя по всему, лейтенанта Хякутаке больше не существует, иначе, убегая из захваченного партизанами китайского города Юаньпина, он не оставил бы свой дневник, свое тайное тайных. Записи в дневнике велись регулярно, изо дня в день. Первая запись помечена сентябрем 1937 года без указания дня, последняя —13 мая 1938 года, когда японский гарнизон еще владычествовал в городе Юаньпине.
* * *
Сентябрь 1937 года. Токио.
Сегодня удивительный день. Не понимаю, что происходит. Полковник дал сегодня обед всем офицерам полка. Это тоже удивительно. Такой скупой человек — и такой роскошный обед предложил нам. Были и гейши. Не из своих денег, конечно, он потратился на угощение. Такой обед стоит тысячи две иен, не меньше.
Старик говорил торжественно, как всегда. Пили за императора, за военного министра, за успехи действующей армии и, конечно, за него, полковника. После обеда он собрал вокруг себя молодых офицеров, но нового ничего не сказал.
«Офицер — солдат императора, защитник империи!» — все это я слышал уже много лет. Я спросил его, по какому поводу нас угощают. Он мне ничего не ответил, а громко, на все собрание сказал:
— Среди цветов — вишня, среди людей — самурай. Вот какими должны быть японские офицеры!
Мне стало неловко, потому что все сразу оглянулись на меня. Разошлись поздно ночью, изрядно выпив, повеселившись, но так и не зная, чему мы обязаны этим неожиданным торжеством. Старик-то наверняка знает, но молчит.
Долго не мог заснуть, все думал о разных делах. В три часа утра встал, оделся и поехал в Иосивару. Был у Ханимы. Какая очаровательная девушка! Еще недавно она была майко[35]. Будь у меня богатый дядюшка, я выкупил бы ее обязательно.
Но у меня дядюшка всего-навсего компаньон моего отца по магазину на Гиндзе[36]. Получить деньги у отца или у дядюшки в теперешние времена — все равно, что выиграть в лотерею; кризис, разорение — вот что они мне всегда твердят. Надоело! И ко всему этому еще личные огорчения. Некоторые офицеры кичатся своим происхождением. А у меня отец, правда, из дворян, но торговец. Тоже надоело…
Хорошо бы в действующую армию! Вот Муракамн прислал письмо с фронта: он уже произведен в капитаны. Герой! Боевая служба! Настоящий самурай! Вернется майором! А ведь он старше меня на три года. А я всего лишь лейтенант. Отец не понимает этого и скупится. Старый дурак!
1 октября 1937 года. Токио.
Не знаю, радоваться или грустить. Полк отправляется на фронт. Вот почему был такой торжественный обед у полковника! Но к чему было скрывать от офицеров такое важное событие? Все офицеры получили трехдневный отпуск и деньги, — последнее, конечно, по чинам. Я получил всего двести иен. Долги платить не буду, все равно не хватит. Я, быть может, не вернусь живым — пусть простятся мне эти долги. Теперь у нас будет беспробудное пьянство. Три дня! Капитан Ватанабэ угощает нас в первый день. Во второй — все вместе, вскладчину. В третий — кто как хочет.
Жизнь только теперь начинается! Клянусь, что я вернусь в Токио, по меньшей мере, капитаном.
Ватанабэ — молодец. Это настоящий самурай. Его рота — лучшая в полку. А какие связи у него! Везет людям! Но я искренне уважаю его. Он участвовал в манчжурской кампании[37]. Начал лейтенантом, а теперь капитан. Полковник ставит его всегда в пример другим: смелый, даже отчаянный. Он говорит, что все у него в роду были военными, самураями. Дед его был в свите императора Мейдзи[38]. Это много значит. А какие манеры у него! Сразу видно, что аристократ, и богат к тому же.
Сиракава сказал мне загадочно: «В Китае можно разбогатеть». Я спросил его: как? Он таинственно зашептал, что знает, но скажет, когда прибудем в Китай.
Я буду держаться ближе к Сиракава и Ватанабэ- Это лучшие офицеры нашего полка.
В пять часов вечера собрались у полковника. Приехал представитель военного министерства, генерал-майор Мае-да. Опять речи. Генерал говорил, что императорская армия победно шествует по варварскому Китаю. Наша армия легко побеждает китайцев, у которых нет ничего — ни оружия, ни умения воевать, ни смелости. Нас отправляют всего лишь на один месяц, не больше. Генерал, смеясь, сказал:
— Не успеете соскучиться по Японии — и опять уже дома.
Это действительно забавно: четырехнедельная война! Правда, генерал сказал еще, что эта война только начало, а потом уже пойдут великие войны за освобождение Азии и объединение ее под властью нашего императора. Мне понравились его последние слова, обращенные к нам (я стоял очень близко к нему):
— Офицеры! Император, вся нация смотрят на вас с надеждой и упованием. Так выполните же свой долг, как подлинные самураи!
Он смотрел прямо. Чувство гордости охватило меня. Я хочу умереть, как самурай, за императора и империю!
После речей я опять беседовал с Сиракава. К нам подошел Ватанабэ. Я, кажется, начинаю понимать, как можно вернуться с этой войны с деньгами. Они принимают меня в свою компанию. Нас будет только трое. Остальные пусть сами позаботятся о себе.
Я всегда считал, что война для военного человека — счастье, богом данный случай, как говорит наш знаменитый генерал Араки[39]. Удивительная вещь, между прочим: такой великий генерал — и не у дел. Непонятно. Я спросил об этом у моих друзей. Ватанабэ грубо сказал о нем: «Старый болтун». Сиракава, наоборот, восхищен генералом и недоволен, что его не пускают к власти. Он сказал еще, что офицерство поможет генералу Араки в нужную минуту.
Итак, через три дня на фронт. Банзай! Лейтенант Хякутаке клянется вернуться из Китая капитаном. И, чего уж говорить, никто не осмелится тогда усомниться в моем подлинном самурайском духе. Держись, варварский Китай!..
2 ноября 1937 года. Пекин.
Мы уже десять дней находимся в Пекине. Паршивый город. Есть чайные домики, но куда им до Иосивары! Вообще, здесь далеко не гостеприимно. Население смотрит на нас, как на зверей, с ненавистью. Ну, да ничего, мы достаточно усмиряем их.
Если бы отец знал, какой суммой я обладаю сейчас, он лопнул бы от зависти. Я напишу ему, пускай этот скряга знает! Ему станет стыдно за то, что он меня, императорского самурая, держал в нищете.
Сиракава бесподобен. Мы разделили девяносто тысяч иен. Каждому по тридцать тысяч. Я намеренно перевел деньги в Токио, в банк, на мое имя. Пускай накапливаются. А дело до смешного простое. Сиракава проследил огромную партию опиума, которую китайские купцы вывезли из Тяньцэина в Пекин. Я с командой солдат арестовал этот груз и китайских купцов. Ватанабэ сейчас же продал опиум нашим японцам, живущим в Пекине, за наличные деньги. Все здорово заработали. Особенно наши японцы. Ватанабэ получил с них девяносто тысяч, а опиума там, по меньшей мере, на триста тысяч. Кстати, я отпустил китайцев и взял с них «штраф» — пять тысяч местных долларов. Если так будет продолжаться, мне не понадобится богатый дядюшка.
Город противный, пыльный. Очень неспокойно на улицах ночью. Но я весьма осторожен. Теперь было бы совсем глупо погибнуть здесь. Население ночью подстреливает наших людей на улице. Поймать этих бандитов почти невозможно.
Наш консул любезно пригласил офицеров на экскурсию, осмотреть древние памятники. Я не поехал, неинтересно. Лучше нашего озера Бива или нашей горы Фудзияма ничего нет. Пускай идиоты смотрят.
Хорошо бы выкупить Ханиму и доставить ее сюда. Жаль, что я не знаю, как долго мы здесь пробудем.
Сиракава говорит, что сейчас труднее стало предпринимать что-либо. До нас в этом городе перебывало столько воинских частей, что он почти обнищал. Жалко…
21 ноября 1937 года. Пекин.
…Очень не хочется покидать этот город. Я к нему так привык. Все жалеют, никому не хочется уезжать. Полк отправляется на позиции, словно императорская армия не может обойтись без нашей помощи. Мне кажется, командир тоже не хочет уезжать. Он здесь недурно устроился, ему немало перепало от некоторых операций. Между прочим, я впервые попадаю на позиции.
Офицер императорской армии должен испытать все: надо быть самураем. Генерал Ноги[40] даже в частной жизни был самураем. Когда умер император Мейдзи, он мужественно последовал за ним: он сделал себе сэппуку[41]. Ну, что ж, я бы так же поступил на его месте. Нет ничего краше в жизни, как умереть мужественно и достойно, как самурай.
Ватанабэ посмеивается надо мною. Он говорит, что фронт можно сравнить только с адом: нет ничего горше. Очень странно слышать такие слова от доблестного офицера-самурая.
Сиракава молчит. Последние дни он вообще молчит. В нашей группе только у меня у одного хорошее настроение. Правда, и меня беспокоит будущее. С фронта приходят самые разноречивые сведения: официально сообщают об успехах, а на родину ежедневно отправляют огромные транспорты раненых и убитых. Сиракава говорит, что это в порядке вещей. Может быть, конечно…
Вчера у нас в полку был капитан Окада. Он прибыл с фронта, из-под Нанькоу (это горный проход недалеко от Пекина). Имеет два ранения. Говорит мало и непонятно. Когда я просил его рассказать о фронтовой жизни, он, усмехнувшись, сказал: «Приедете на. фронт, узнаете! Не торопитесь!»
Сегодня вечером будет известно, куда именно нас отправляют. Как видно, под Нанькоу было жаркое дело. Рассказывают, что в деле под Нанькоу участвовало две наших дивизии. Целый месяц, изо дня в день, велись упорные, кровопролитные бои. Когда же наконец наши части заняли весь проход Нанькоу, то выяснилось, что его защищал всего лишь… один китайский полк. Это какой-то дурной сон! Оттуда прибыло уже два эшелона раненых. Раненые офицеры, получив отпуск, возвращаются в Японию как герои. О них пишут все газеты, печатают фотоснимки. Очень трогательно…
4 декабря 1937 года. Баодин.
Ну вот, я и прошел боевое испытание. Друзья поздравляют меня. Я вместе с Ватанабэ и со всей ротой преследовал так называемых китайских партизан; они отбили у нас обоз. Но это, конечно, не партизаны, а форменные бандиты. Они замучили нас. Только к вечеру нам удалось настигнуть их. Завязался упорный бой. Они залегли в ложбинку. Мы покрыли их пулеметным огнем.
В общем, мы уничтожили отряд бандитов начисто. Ни один не ушел. В ложбинке осталось двадцать трупов. Было два тяжело раненных. Ватанабэ приказал пристрелить их. Это просто сумасшедшие люди. У них не было ни одного пулемета, только старые ружья. Они сумасшедшие, упорные и безжалостные. Ватанабэ говорит, что они весьма коварны.
Война, оказывается, не столь ужасна, как об этом твердят некоторые люди. Они, очевидно, попросту трусы. Правда, наши потери значительны: в роте десять человек убитых и четырнадцать раненых. Зато больше эти китайские варвары нас не побеспокоят. На обратном пути Ватанабэ приказал сжечь деревню. Это совершенно справедливо: население должно уважать императорскую армию и не поддерживать антияпонские элементы.
Я очень доволен. Боевое крещение дано. Я на самурайском пути. Банзай! Сегодня вечером полковник угощает офицеров ужином. Говорят, будет сюрприз.
13 декабря 1937 года. В походе.
Мы оставили Баодин по стратегическим соображениям. Ну, просто потому, что тыл у нас оказался отрезанным китайскими войсками. Днем мы встретимся с бригадой генерала Мацуоки и повернем обратно к Баодину. Вот уж зададим жару этим коварным варварам!..
В Баодине пришлось оставить некоторые вещи — всякие новые приобретения. Очень жалко. Китайцы, наверное, разворуют все. Этот старый дурак, полковник, приказал ничего не брать с собой. Мы оставили город очень быстро и очень неожиданно: китайцы были уже в окрестностях. Ватанабэ тоже жалеет о вещах: у него было много дорогих шелков, серебряные статуэтки.
Поход весьма утомителен. Я считаю, что офицерам должны дать автомобили. В конце концов, мы основа, суть армии. Следовало бы не выматывать наши силы и энергию. Командование, конечно, не думает об этом. Дали полковнику машину, а о нас забыли. Совершенно несправедливо.
3 января 1938 года. Баодин.
Я заметил у себя новую черту характера: я стал быстро привыкать к китайским городам. Даже этот грязный, запущенный Баодин мне начинает нравиться. Наш полк сейчас в резерве. Всего на два дня. Все очень измотались…
Надо все же признаться, что эти бандиты изрядно потрепали нас. О таких потерях я еще и представления не имел. К счастью, ни я, ни мои друзья — Ватанабэ и Сиракава — не пострадали. Это было тяжелое сражение. Интересный факт: вещи наши сохранились в полном порядке. Удивительно! Они ведь все такие бандиты…
У нас новый замысел — собственно, у Сиракава. Ватанабэ, посмеиваясь, говорит, что это самурайская месть. Мы решили втайне от других офицеров захватить десяток именитых купцов Баодина и потребовать от них пожертвований на военные нужды. Но это надо проделать крайне осторожно, без шума. Ибо если узнают другие офицеры, то все займутся тем же. Кто же тогда будет воевать?
4 января 1938 года. Баодин.
Весь день был занят допросом пленных китайских солдат. Я пришел к выводу, что они неисправимы. Они не хотят и, наверное, не могут уже исправиться. К сожалению, мне не удалось заставить их говорить подробно. Они фанатичны, упорны. Никто из них ничего не сказал. Они оставили у меня впечатление диких, бесчувственных людей. Унтеры наши старались во-всю, они применяли все известные способы, развязывающие людям языки. Даже это не дало никаких результатов.
Я измучился с этими допросами до потери сознания. Всех пленных пришлось расстрелять.
10 января 1938 года. Баодин.
У нас у всех отличное настроение. Замысел Сиракава осуществлен. Получили шестьдесят тысяч местных долларов. Правда, одного купца пришлось пристрелить. Очень шумел. Остальные, кажется, будут благодарны нам.
Интересно, о чем полковник так долго беседовал с Ватанабэ? Жду его с нетерпением.
Сегодня получил письмо от отца. Дома все хорошо. Дела фирмы процветают благодаря военным поставкам. Магазин закрыли, чтобы не мешал. Это к лучшему. Магазин мог скомпрометировать меня как самурая…
Отец просит передать ему мои деньги, для того чтобы вложить их в дело: гарантирует двадцать пять процентов прибылей с капитала. Это тоже приятно.
11 января 1938 года. Баодин.
Полковник, оказывается, пронюхал каким-то путем о наших делах. Он прямо сказал Ватанабэ обо всем этом и потребовал доли…
20 января 1938 года. Баодин.
Ничего нового. Вокруг города орудуют полчища антияпонских бандитов. Откуда они только появляются!
Начинаем скучать. Плохо спал. Во сне видел генерала Маеда, что из военного министерства. Вспомнил его слова: «Не успеете соскучиться — и уже дома». Скоро уже четыре месяца, как идет война!.. Самурай не должен хныкать.
Отцу послал письмо; разрешил взять деньги и вложить их в дело. Еще… просил выкупить Ханиму из чайного домика. Теперь время такое, что у многих офицеров есть деньги. Кто-нибудь вдруг выкупит. Жалко. Она сейчас расцветает, как цветок вишни… Хочется в Токио. Хоть бы на неделю.
14 февраля 1938 года. В походе.
Доберусь ли я живым до Тайюани? Что с нами происходит?.. Тяжелые, ужасные бон на каждом шагу. Осталось всего тридцать километров. Но когда доберемся? Антияпонские партизаны стали более организованными. У них есть пулеметы и даже орудия. К сожалению, это наше собственное оружие. Они убивают нас нашим же оружием!
Тяжел путь самурая, очень тяжел… Хорошо бы сейчас быть в Токио, лежать на циновке. Рядом Ханима перебирает струны сямисэна, тихо поет…
Добраться до Тайюани — больше ничего не хочу сейчас. Там уже находится наша седьмая дивизия. Теперь я понимаю, что такое война… Я думаю: самурай не обязательно должен быть военным… Сиракава ранен в руку. Таким мрачным я его не видел еще ни разу. Веселых среди нас теперь нет никого. Даже я стал молчаливым. Не о чем говорить.
В походе мы теперь не идем колонной. Какое счастье, что нам дали грузовики! Правда, с ними возни много. Эти варвары портят дороги и если не нападают, то обстреливают нас из-за всех кустов, из-за камней. Это не война, а страшная ловушка. Враг повсюду, вокруг нас, но он неуловим. Нам остается уничтожать их гнезда, все встречные деревни… Мы уничтожаем их тысячами, а конца им нет.
Вчера в моем взводе застрелился рядовой Тани. Оставил записку, в которой написал, что устал от войны, несогласен с ней, протестует. Удивительно, как он осмелился! Небывалый случай, чтобы рядовой смел так рассуждать. Полковник распекал меня при всех офицерах. Со злобой сказал, что я плохо воспитываю солдат и не слежу за их настроениями. Идиот! Он думает, что это так легко — узнать, о чем думает солдат…
Приказано тушить фонари, чтобы свет не привлек этих дьявольских партизан.
18 февраля 1938 года. Тайюань.
Наконец-то мы прибыли в Тайюань! Последние четыре дня прошли, как кошмар. Тридцать километров, оставшихся до города, мы проделали на грузовиках за четыре дня! Никто этому не поверит. В Токио штабным писакам легко устанавливать нормы пробега. Пусть они сами попробуют проехать за сутки сто километров.
Мы двигались словно сквозь строй врагов. Только за эти четыре дня наши потери составили: раненых — 72 человека (из них 8 офицеров), убитых — 53 человека (из них 5 офицеров). С легкими ранениями в лазарет не принимают, он переполнен.
Сиракава, у которого прострелена рука, вернулся обратно в полк. В лазарете ему сделали лишь перевязку, но оставить не захотели. Он весьма огорчен этим.
У меня такое впечатление, что в Тайюаня, кроме нас, японцев, никого больше нет. На улицах только наши военные, ни одного китайца. Куда они подевались все? В штабе седьмой дивизии разговорился с одним офицером. Он говорит, что под Тайюанью наших погибло около двух тысяч солдат и офицеров и пропало без вести больше тысячи солдат. Дорого стоит взятие Тайюани императорской армии!
26 февраля 1938 года. Тайюань.
Мы бездействуем в Тайюани. Из города невозможно выйти. Повсюду китайцы. Каждый день погибают караульные, подстреленные неизвестно кем и неизвестно откуда. По железной дороге сообщения нет уже больше месяца: она в бесчисленном множестве мест разрушена партизанами. Саперы восстанавливают — они разрушают.
Я подумал: что было бы с нами, если бы мы явились сюда без танков, без авиации! Страшно подумать. Нервы у меня совсем испортились…
1 марта 1938 года. Тайюань.
Сидим здесь попрежнему, без движения. По ночам китайские отряды врываются в город, обстреливают из пулеметов наши военные учреждения, бросают бомбы. Паника невероятная. В ночные караулы люди идут крайне неохотно. Я по себе замечаю. Когда доходит очередь до меня, я чувствую себя больным и глупым. И так все. Даже Ватанабэ. А он-то ведь настоящий самурай.
Говорят, что против нас действует бывшая китайская Красная армия. Сейчас она именуется Восьмой народно-революционной. Наша дивизия еще не имела с ней столкновений. Но она движется к нам из провинции Шаньси. Тем хуже для нее. Императорская армия уничтожит ее. Нашу бригаду бросают ей навстречу. Мы первые войдем с ней в соприкосновение…
Поразительный случай: у нашей второй бригады партизанские отряды отбили весь автотранспорт. Какая нелепость! Не верится…
11 марта 1938 года. В походе.
Как ни плохо было в Тайюани, сейчас хуже. Уже неделю мы без горячей пищи. Перед нами мелькает дивизия красного генерала Хо Луна. Она отступает, избегая столкновения. За нами движется наша вторая бригада, чуть правее.
Эхо хороший признак, что китайцы убегают: они боятся нас. Но вместе с тем они не позволяют нам задерживаться. Как только мы располагаемся на отдых, вокруг появляются китайские отряды. Нам приходится вновь гнать их дальше. При таком марше мы в месяц пройдем весь Китай. Солдаты, да и мы, офицеры, совершенно замучились, с трудом двигаемся. Нас поддерживает только чувство близкой победы. После разгрома Хо Луна отдохнем по-настоящему.
Пленные китайцы говорят, что в этой дивизии не хватает оружия и боеприпасов, поэтому она отходит, не принимая боя. Кстати о пленных: нам приходится освобождаться от них…
14 марта 1938 года. В походе, у реки.
Наконец загнали Хо Луна к реке. Ему некуда больше деваться. Наши обе бригады навесным артиллерийским огнем закрыли реку, он не может переправиться. У него даже не дивизия, а только бригада. А рассказывали о нем всякие небылицы. На огонь китайцы отвечают слабо. Их сковывает чувство обреченности и отсутствие боеприпасов.
15 марта 1938 года. В походе.
Мне стыдно писать эти строки. Мне стыдно за всю нашу императорскую армию, за всех самураев… Мы поспешно отходим. Наша бригада понесла неслыханные потери: она потеряла почти половину своего личного состава. Вторая бригада уничтожена чуть ли не полностью. Убит капитан Ватанабэ. Это тяжелая утрата. Он был самураем, примером для нас. Я огорчен и потрясен.
Красный генерал бесстыдно обманул нас. Когда мы пошли в атаку, к реке, на нас напали с тыла… Наш полк потерял шестьсот человек…
Чудовищный удар! Они напали на нас, как страшные духи. Я благодарю небо, даровавшее мне жизнь в этом бою.
16 марта 1938 года. В походе.
Сегодня сожгли трупы павших в бою солдат и офицеров. Конечно, не всех, а только те трупы, которые нам удалось унести. Сто двадцать человек солдат и офицеров. Сжигали долго, с церемониями. Была выстроена вся бригада; только остатки 23-го полка несли караульную службу.
Генерал Окура слабым голосом произнес речь. Говорил не больше трех минут. Ни одного слова о сражении… После сожжения прах разложили по урнам.
Почти все убитые — из нашего полка, поэтому урны передали нам. Отправить их домой или в глубокий тыл невозможно, нет никакой связи; придется таскать их с собой в походе. Неприятно итти рядом с мертвецами: их духи будут нас повсюду сопровождать.
27 марта 1938 года. Тайюань.
Поистине у нашей бригады горькая судьба: взбунтовались солдаты 23-го полка. После сражения 15 марта их осталось не так много. Они потребовали отправки на родину. Уговоры не повлияли на решение солдат. Многих из них пришлось расстрелять…
Они сопротивлялись. Неприятно было расстреливать своих же японцев… Но какой-то умный японский генерал сказал как-то (я читал об этом в одном патриотическом романе): «На войне, как на войне!» Мы должны были их расстрелять для поддержания духа императорской армии и дисциплины.
Настроение среди офицеров подавленное. До сих пор никто не может забыть день 15 марта. Мне, как самураю, особенно горестно вспоминать об этом.
Из дому тоже неприятные вести. Ханиму выкупил из чайного домика какой-то офицер генерального штаба.
У нас в стране осталось еще много подлецов. Они окопались в штабах… Мы — единственные, кто героически защищает Японскую империю… А они столь неблагодарны. Я хотел бы увидеть эту штабную крысу здесь, на фронте: посмотрел бы я на него 15 марта! Настоящий самурай так не поступил бы… Живут они в тылу припеваючи.
Наш полк (уже дополненный) должен будет выступить вместо 23-го полка. Почему именно наш полк должен выступить? После такого сражения мы имеем право на продолжительный отдых. Чорт знает, что делается наверху! Никто не думает о нас. Эта сволочь Маеда говорил, что война будет продолжаться всего один месяц, а мы воюем уже полгода, и никто не знает, когда будет конец!
30 марта 1938 года. В походе.
Настроение солдат в нашем полку прямо преступное. Солдаты говорят неслыханные вещи. Сегодня я случайно подошел к солдатской палатке и невольно подслушал солдатские разговоры. Беседовали солдаты Киндэу, Ота, Рокудзо и Сиро. Вот весь этот разговор, записанный мною по памяти:
Рокудзо. Я слышал, что нас скоро домой на отдых отправят. Верно ли это?
Киндзу. Если это тебе сказал сам полковник, то, конечно, верно. Только ты плохо его расслышал. Он, наверно, сказал так: скоро наши останки отправят на отдых домой!
Ота. Наш прах скорее попадет на родину, чем мы.
Рокудзо. Я думаю все-таки, что нас должны вернуть домой. В нашем полку половина людей перебита. Нельзя так.
Сиро. Кто сказал, что нельзя так? Война идет уже девять месяцев, а умные люди говорят, что это только начало. Пока всю нашу кровь не выпьют, нас не оставят в покое.
Рокудзо. Но если солдаты не захотят, кто же будет тогда воевать?
Ота. Разве ты не слышал про двадцать третий полк? Там солдаты не захотели воевать. Ты знаешь, что с ними сделали?
Рокудзо. Знаю.
Ота. Нет, ты не знаешь, раз так говоришь! Их всех расстреляли наши же солдаты и офицеры. Спроси в седьмой роте, там тебе солдаты все скажут, они были в этом деле.
Рокудзо. Значит, мало того, что мы с китайцами воюем, мы еще и между собой деремся? За что же мы умираем?
Сиро. За императора! Мало тебе об этом говорили? Спроси у унтера, он тебе еще раз скажет.
Киндзу. За что умираем, не знаю, но умираем. А умирать никому не хочется. На кой чорт мне нужен Китай! Я не хочу умирать здесь. Скорее бы заключили мир. В Токио думают, что мы совершаем по Китаю прогулку, а не знают они, что мы совершаем поход с траурными урнами в руках!
В это время в палатку вошел унтер Симидзу. Солдаты сразу замолчали.
— Чем заняты? — спросил унтер у солдат.
— Скоро ли будет мир, и когда нас домой отправят, господин унтер? — спросил солдат Сиро.
— Не могу знать. Сегодня идете в ночной дозор по городу все четверо.
Сказав это, унтер повернулся и ушел.
Ота. Вот сволочь, душегуб! Когда же это кончится? Я не хочу умирать!
Сиро. Кончится, когда мы сами возьмемся за дело, — вот когда. Подумайте, подумайте хорошенько. Рокудзо правильно сказал: если солдаты не захотят воевать, война кончится. Но все солдаты должны сразу отказаться от войны, только тогда мы выиграем. Я так думаю…
Больше солдаты ни о чем не говорили. Вот какие у них настроения! Я написал полковнику подробный рапорт. Надо принять экстренные меры. Это бунт.
2 апреля 1938 года. В походе.
Мы следуем длинной автомобильной колонной, сто шесть грузовиков. Движемся медленно, все время исправляя дорогу. Держим направление на Юаньпин. Это маленький городок на западе провинции Шаньси. Высшее командование приказало взять его во что бы то ни стало. Нашему полку приказано остаться там гарнизоном.
Сиракава попрежнему молчалив. Вчера ночью он сказал мне, что мечтает о Токио, видит его во сне. Рана на руке у него зажила. Он рассказал мне, что в восьмой дивизии коммунисты распропагандировали целый батальон. Но, к счастью, их выловили и расстреляли…
3 апреля 1938 года. В походе.
Ночью партизаны оторвали хвост нашей колонны. Уничтожили тринадцать грузовиков с солдатами. Они забрасывают нас гранатами. Они внезапно налетают и мгновенно рассеиваются. Интересно, где сейчас генерал Маеда (из военного министерства), воюет ли он тоже?
Из-за нападения партизан мы задерживаемся на весь день: надо сжечь трупы павших. Опять мы маршируем вместе с мертвецами, несем их урны в руках…
5 апреля 1938 года. В походе.
Мы медленно движемся вперед. День сегодня прошел спокойно. Рядом с нами урны с прахом павших… Это очень нервирует солдат. Да и мы, офицеры, не можем не думать все время о тех, кто уже убит, прах которых находится с нами. Прямо какой-то дьявольский марш мертвецов! Где-то я читал об этом. Да, вспомнил, — это в поэме Ногуци Нейсай:
«Мертвецы маршем возвращаются на родину…».
9 апреля 1938 года. Под Юаньпином.
Стоим уже сутки недалеко от города, ждем подкреплений. Китайцы устраивают вылазки. У нас уже значительные потери. Завтра должны подойти танки.
11 апреля 1938 года. Около Юаньпина.
Идет жестокий бой. В дело брошены свежие подкрепления вместе с танками. Подошли к самому городу. Вновь прибывшие части получили по две чашки саке для укрепления духа. Помнится, еще генерал Ноги перед штурмом Порт-Артура выдал своим солдатам из отряда «Белых Тасуки»[42] изрядное количество саке. Это совершенно правильно: подвыпивший солдат меньше думает о себе и больше злобится на противника.
Сейчас передышка. Мой взвод, как пострадавший, отведен в тыл для отдыха.
Надо признаться, китайцы научились драться. И все-таки у них с вооружением очень плохо, — как видно, не-хватает. Мы отбили у них одно орудие. Оно оказалось нашим. Значит, еще до этого они отбили его у какой-нибудь нашей части. Безобразие!
14 апреля 1938 года. Юаньпин.
Из-за этого паршивого города наши войска ожесточенно дрались пять дней. Только сегодня нам удалось взять его. Теперь отдохнем.
Интересно, о чем думает Сиракава, какое у него настроение?
15 апреля 1938 года. Юаньпин.
Все спокойно. В городе истребляем всех подозрительных. Сиракава доволен. Он взял на себя дела с торговцами. Я хожу за ним по пятам со взводом солдат. Шумящих мы здесь же на улице или в доме приканчиваем.
На войне, как на войне! Мне очень нравятся эти слова.
18 апреля 1938 года. Юаньпин.
Даже хорошие дела, оказывается, могут огорчать. У меня накопилось всяких пожертвований на армию, даже после дележа с полковником, около тридцати тысяч долларов, и все это серебром. Это очень тяжелый мешок. Таскать его с собой невозможно, не под силу.
Хорошо бы теперь вернуться в Токио. Я действительно стал богатым человеком. У полковника я видел изящную статуэтку Будды, всю из золота. Чорт возьми, где он ее сумел раздобыть? Она стоит не менее двадцати тысяч иен. Как это мы с Сиракава прозевали? Надо будет лучше искать.
21 апреля 1938 года. Юаньпин.
Но ночам участились случаи убийства наших людей на улице, из-за угла. Взяли триста человек горожан заложниками; среди них более ста женщин и девушек. Мы с Сиракава уже ходили к этим женщинам. Ходят все офицеры, даже некоторые солдаты…
26 апреля 1938 года. Юаньпин.
По сообщениям нашей разведки, к городу подходят китайские части и с ними партизаны. Значит, опять бои. Когда же будет передышка?
Я сужу по моим солдатам: они озлоблены, устали, хотят домой. Может быть, они правы. Некоторые жаловались унтеру, что, мол, командование обещало через месяц покорить весь Китай, а прошло уже полгода — и ничего не покорили. Такие разговоры надо пресекать. Я не допущу их больше. Я сам поговорю с солдатами. Наверное! завелся среди них какой-нибудь коммунист…
27 апреля 1938 года. Юаньпин.
Вчера ночью в штаб была брошена бомба неизвестным китайцем. Его застрелили на месте. Бомбой убит наш полковник, ранен майор Каруно. Настроение у всех офицеров тяжелое.
Сегодня расстреляли всех заложников на городской площади. Расстреливали, для быстроты, из пулеметов. Согнали смотреть все население. Я считаю, что за одного самурая это еще очень мало…
29 апреля 1938 года. Юаньпин.
В городе тихо. Зато за городом плохо. Вокруг партизаны. Теперь известно, что сюда приближается часть войск красного генерала Хо Луна. Это очень плохо. Мы уже знаем, как они дерутся. Мы запросили по радио подкрепления. Из Тайюани вышел 92-й полк. Но когда он подойдет?..
Между прочим, статуэтка Будды теперь у меня. Я дал за нее адъютанту полковника пятнадцать тысяч серебряных долларов. Какой же он все-таки дурак, этот адъютант! Будет таскаться с тяжелым мешком. Это в походе-то! Сиракава завидует мне.
1 мая 1938 года. Юаньпин.
Все входы и выходы из города забаррикадированы нами. Начался невероятный ливень. Впечатление такое, что опрокинулось небо. Усилили повсюду караулы: всех, кто появляется ночью на улице, приказано расстреливать на месте…
2 мая 1938 года. Юаньпин.
Ливень неистовый, ураган. К городу приближаются части Хо Луна… Вокруг города попрежнему кольцо партизан. О 92-м полку, вышедшем к нам на помощь из Тайюани, нет никаких вестей. Положение наше катастрофическое. Солдаты повинуются нехотя, они озлоблены и откровенно смотрят на нас ненавидящими глазами…
3 мая 1938 года. Юаньпин.
Ливень не перестает. Все такой же сильный. Быть может, это остановит китайцев. Сиракава командует батальоном, я — ротой! Сейчас я уже не испытываю от этого никакого восторга… Меня смущает ожидаемое нападение китайцев. Мы глупейшим образом попали в эту дьявольскую ловушку. Тогда, 15 марта, было ужасно. Но на этот раз мы, правда, в лучшем положении. Мы сильно укрепились в городе и с часу на час ждем подхода 92-го полка. По времени он должен был быть у нас еще вчера.
Больших трудов стоило нам привести наши части в полную боевую готовность. Крайними мерами мы заставили солдат повиноваться…
Сейчас глубокая ночь, страшно тоскливо. Собственно говоря, я уже все решил. После того как мы вырвемся из Юаньпина, я приму все меры к тому, чтобы вернуться в Токио. Но эту последнюю осаду я должен выдержать во что бы то ни стало. Если только 92-й полк подойдет во-время, мы разобьем этих варваров. Самураи никогда не отступят перед…
* * *
Самурай Хякутаке не успел дописать эту фразу. Японские войска были выбиты из Юаньпина и уничтожены.
Чжан, сын Ван Шина
I
Японская колонна двигалась на запад.
Далеко впереди нее катилось десятка два грузовиков, уставленных пулеметами и легкими орудиями. Дорога была размыта недавними дождями, и машины глубоко ныряли в частые ямы. Время от времени все машины останавливались, замирали на дороге. Мгновенно во все стороны разбегалась караульная команда, уже на бегу настороженно осматривая местность. Пулеметная и орудийная прислуга высыпала на землю, разминая затекшие ноги.
Иногда такие остановки затягивались на час и больше. Пехотный отряд отставал, и как бы тихо ни двигались грузовики вперед, они намного обгоняли пехоту.
Это был большой, хорошо снаряженный отряд, внезапно выброшенный японским командованием в сторону западной границы провинции Шаньси. Отряд получил задание захватить маленький, но весьма важный в стратегическом отношении китайский городок Чаньдин. Захват Чаньдина открывал японским войскам удобную дорогу к переправам через Хуан-Хэ[43], что означало прорыв в провинцию Шэньси и великолепный фланговый охват китайских войск, сосредоточенных на юге на стыке этих двух почти однозвучных провинций. Главное в этой операции заключалось, по мнению японского командования, в неожиданности появления японских войск у Чаньдина и стремительности атаки. Если еще добавить к этому, что в Чаньдине находился маленький китайский гарнизон, то эффект этой операции станет ясным даже неопытному в военных делах человеку.
Часть дороги проходила в горах, которыми так богата провинция Шаньси. Дорога петляла среди скал, на изгибах гор, не надолго выравниваясь в долинах. В некоторых местах дорога, изогнувшись, стремительно уносилась ввысь, чтобы, перевалив через гору, столь же круто опуститься в долину. Японский отряд двигался медленно: его задерживали неровные спуски и крутые подъемы; пехота все больше отставала, несмотря на грозные офицерские окрики: «Прибавить шаг!»
Вокруг тишина. В горах гремит гулкое эхо, когда прокатываются грузовики, но после опять все затихает. Во встречных деревнях пусто, словно кто-то тщательно выскреб из них все живое.
Так казалось японцам. В действительности вокруг них были люди, много людей. Тысячи ненавидящих глаз следили из-за скал и кустов за каждым движением японского отряда. Это были крестьяне, еще недавно обитавшие в окрестных деревнях, которых война подняла с насиженных мест и бросила в тяжелые скитания по всей огромной стране. Многие объединились в отряды, ушли партизанить; эти отряды носились по японскому тылу, обрушиваясь на врага внезапно и жестоко.
Вот и теперь они молча и неотступно следовали за японским отрядом. Партизаны пробирались глухими, лишь им одним известными горными тропами. Дорога вела только к Чаньдину, и они понимали участь, уготованную этому городу японцами.
Партизаны были плохо вооружены и не решались атаковать японцев, чтобы не спугнуть этот так хорошо вооруженный отряд. Они слали одного гонца за другим в расположение частей Хо Луна с подробными донесениями о численности японской колонны, ее вооружении и месте нахождения. А пока они продолжали двигаться вместе с японским отрядом вперед, к Чаньдину.
Иногда, свесившись с какой-нибудь высокой скалы над дорогой, партизаны старательно подсчитывали, сколько орудий в отряде, сколько пулеметов станковых и ручных. Они с трудом удерживались от искушения сбросить на японцев связку гранат. Они заставляли себя недвижно следить за продвижением японцев, но зато давали волю своей ярости, когда разрушали за ними дорогу, заваливая ее камнями, подрывая мостки в горных ущельях.
— Чтобы ни один не ушел, — приговаривали они.
Так двигались на запад, в сторону Чаньдина, два отряда: один ощетинившийся оружием интервентов, другой почти безоружный и невидимый, но живой и могучий, как жизнь.
Кроме того, к Чаньдину двигался еще один отряд, третий. Он шел далеко стороной, самым трудным путем. Он шел быстро, так быстро, как могут итти мужественные люди, охваченные ненавистью к своим смертельным врагам.
II
Хо Лун едва успел задремать, как его разбудили шумные споры у палатки. Кто-то страстно и убежденно доказывал адъютанту настоятельную необходимость разбудить командира корпуса. Адъютант усталым голосом твердил одно и то же:
— Сейчас нельзя. Разбужу через два часа. Он должен спать.
И опять чей-то просящий и вместе с тем требовательный голос:
— Разбудите сейчас же!
И опять адъютант тем же усталым голосом повторял:
— Товарищ, вас проводят к начальнику штаба, ему вы все расскажете. Вы должны понимать: командир дивизии не спал двое суток. Он должен спать хотя бы два часа.
Адъютант перешел на зловещий шопот:
— Идите к начальнику штаба, или я вас отправлю туда, товарищ!
Хо Лун, слушая горячий спор за пологом палатки, улыбнулся, потянулся всем телом так, что хрустнули кости, и встал. Он действительно не спал уже несколько дней, и тело его ныло от усталости. Он распахнул полог палатки и вышел наружу. Люди перед палаткой замолкли и вытянулись.
— Вольно, товарищи, — тихо сказал комдив. — Воды, холодной воды, — попросил он. — С тех пор, как сюда пришли японцы, я еще ни разу не высыпался. Но им я тоже не даю спать.
— Это и видно, товарищ командующий, — извиняющимся голосом проговорил человек в полукрестьянской одежде.
Хо Лун по голосу признал в нем человека, спорившего с адъютантом. Он оглядел его и, видимо, оставшись доволен осмотром, крепко пожал ему руку. Он похлопал рукой по деревянной кобуре маузера, болтавшегося у его собеседника на поясе.
— Хорошая штука, а? Люблю такие вещи. Где достал?
— Изготовлен по особому заказу, товарищ командующий, в японском арсенале, в Токио. Получил в собственные руки во время операции в районе Датуна.
— Кто ты? — спросил Хо Лун, обливаясь холодной водой и довольно пофыркивая.
— Командир Юаньпинского партизанского отряда Ван Шин.
— А… — протянул Хо Лун, — дружище, наконец-то встретились! — Хо Лун обнял партизана. — Давно уже решил вызвать тебя. Да все такие дела, — и он махнул рукой, — спать некогда! Помойся, а то ты на чорта похож. Вода холодная, хорошая, — от удовольствия Хо Лун передернул плечами.
Тут в беседу вмешался до сих пор молча стоявший в сторонке адъютант:
— Уж раз вы встали, товарищ комдив, разрешите доложить: начальник штаба имеет важное донесение. Вызвать?
— Давайте его сюда.
К палатке Хо Луна принесли большую кружку воды. Он сам полил на руки и голову Ван Шина и дал ему свое полотенце. Они прошли в палатку, где Ван Шин, не присаживаясь, сразу стал докладывать:
— На дороге к Чаньдину партизаны выследили японский отряд: двадцать два грузовика, два легких орудия, пятнадцать станковых пулеметов, пехоты, не считая пулеметной и орудийной прислуги, не менее тысячи человек, много ручных пулеметов. Дорога сильно повреждена, поэтому раньше чем завтра в полдень к Чаньдину они не подойдут. В Чаньдине, как вам известно, наберется едва четыреста бойцов, плохо вооруженных, одна старая пушка…
— Вот тебе и самураи! — усмехнулся Хо Лун. — Не дураки, а? Ты понимаешь, что значит взять Чаньдин? — Он подвел Ван Шина к карте, приколотой к столу, и повел пальцем от Чаньдина к переправам на Хуан-Хэ и дальше вниз, вдоль берега реки к югу. — Вот куда хотят ударить. Понял, товарищ Ван?
— Если бы мы этого не понимали, разве я пришел бы сюда?
В палатку вошел начальник штаба. Он покосился в сторону Ван Шина, молча сел на складной стул. Хо Лун познакомил их.
— Очень кстати пришел, товарищ Ван, — сказал начальник штаба. — То, что я доложу командующему, касается вашего района. — И он стал докладывать, повторяя сведения, сообщенные уже Ван Шином — Из Тайюани вышел японский отряд…
— Совершенно точно, — прервал его Хо Лун, — Я всегда говорил, что партизаны — лучшие разведчики, каких я когда-либо знал.
Ван Шин улыбнулся.
— Разведка — это, конечно, наше дело, — сказал он, — но разве воевать мы не умеем?
Хо Лун помолчал немного, задумавшись.
— Я могу дать пятьсот бойцов, не больше. Мы держим Здесь две самурайские бригады. Не даем им передохнуть, все время гоняем из стороны в сторону. Больше не могу дать. Сколько у тебя в отряде бойцов? — спросил он Ван Шина.
— Тысяча триста партизан, товарищ командующий.
— Что скажете, товарищ Сун? — повернулся Хо Лун к начальнику штаба.
— Больше нельзя дать ни одного бойца. Пусть товарищ Ван даст хорошего проводника, чтобы провести наш отряд самым коротким путем к Чаньдину.
— Это дело, — сказал Хо Лун и громко хлопнул в ладоши.
В палатку вошел адъютант.
— Немедленно вызвать сюда товарища Тао. Не возражаете? — спросил Хо Лун начальника штаба Суна.
— Весьма подходящий человек. Немного горячий…
— Это и нужно. Сердце должно гореть, а голова должна быть холодной. Такие командиры, как Тао, нам нужны.
Порог палатки перешагнул крепко сбитый молодой человек среднего роста. Коротко остриженные черные волосы делали его лицо острым и суровым. Только живые, блестящие глаза говорили о молодости, горячности и веселом характере командира полка, товарища Тао.
Партизаны пробирались глухими тропами.
Склонившись над развернутой на столе картой, они тихо переговаривались. Вдруг Ван Шин сказал, с трудом разгибая спину:
— Я сам поведу отряд, товарищ Тао. Это будет вернее.
— Нет, нельзя так. Ты вернешься немедленно к своему отряду и завтра в полдень завяжешь бой с японцами. Свяжись с Чаньдином, чтобы они поддержали тебя. В это время Тао подойдет со своими бойцами и ударит с флангов или тыла.
Хо Лун замолчал, глубоко вздохнул и добавил:
— Главное — берегите своих людей. Ни одного японца нельзя упустить. Подобрать все оружие, все патроны до одного.
— Слушаюсь, товарищ командующий, приказание будет точно исполнено, — четко отрапортовал Тао.
Адъютант доложил о приходе проводника. В палатку вошел человек маленького роста, в большой крестьянской широкополой шляпе. Он молча остановился у порога.
— Подойди сюда, — сказал ему Ван Шин.
Человек так же молча подошел к столу.
— Это мой сын Чжан, — улыбнулся Ван Шин.
Человек снял шляпу, и все увидели юношу не старше пятнадцати-шестнадцати лет. Мальчик покраснел, смущенный проницательными взглядами взрослых, среди которых был знаменитый командир, чье имя с уважением произносит вся страна. Мальчик с любопытством смотрел на Хо Луна. До этой великой народной войны с чужеземными поработителями он в своей далекой, глухой деревушке мечтал хоть одним глазом увидеть людей, о которых рассказывают в народе легенды. Он мечтал стать таким же, как Чжу Дэ, как Хо Лун, и вот перед ним сидит на маленьком складном стуле большой и сильный человек с лицом простого крестьянина, открытым и добрым. Это был бесстрашный народный герой Хо Лун. Чжан не спускал с него восхищенных глаз.
— Товарищ Хо Лун, — сказал отец Чжана, — ты не смотри, что оп молод. Он вместе со мной участвует во всех боях с самого начала войны. Он настоящий китаец, не трус. Знает здесь все тропки и проведет отряд товарища Тао самым коротким путем. Он сделает это не хуже меня.
Хо Лун привлек к себе мальчика и, улыбаясь, спросил:
— Не боишься?
— Нет, товарищ командующий. Я с отцом и со всем народом отстаиваю нашу страну от чужеземных захватчиков, — взволнованно ответил Чжан.
— Молодец! На отца похож, — сказал Хо Лун. — Покажи-ка нам на карте, как. ты поведешь отряд.
Мальчик покраснел, опустил голову и тихо произнес:
— Я не могу этого сделать: я не понимаю этой разрисованной бумаги.
— Жаль, — тихо пробормотал комдив и, обернувшись к Ван Шину и Суну, строго сказал: — Надо будет отправить его в военную школу. Хочешь учиться? — спросил он Чжана.
Мальчик утвердительно кивнул головой:
— Очень.
Через несколько минут из палатки вышли командиры и мальчик-проводник Чжан.
III
Впереди шли Тао и Чжан. За ними, растянувшись длинной цепочкой по-двое в ряд, двигались бойцы. Нестерпимо жгло солнце. Тяжелее всего было пулеметчикам, особенно тем, у которых были большие станковые пулеметы. Бережно обернув стволы пулеметов в брезент, бойцы катили их за собой. Иногда тропка становилась такой узкой, что пулемет приходилось взваливать одному бойцу на плечи, а другой шел сзади, придерживая его руками. Шли торопливо, не делая привала. Бойцы тихо переговаривались.
— Знает ли мальчишка дорогу? Заведет еще чорт знает куда! — сказал пулеметчик по имени Хань Фу.
— Идет хорошо, уверенно — значит, знает, — ответил ему боец Фын.
— Говорят, что это сын командира партизанского отряда из Юаньпина. Ван Шин, что ли, зовут его?
— Ты иди и меньше говори, а то полетишь в реку, — дружески посоветовал ему шедший сбоку Фын.
Он нес туго стянутые в круги пулеметные ленты. Тропинка вилась высоко по берегу реки. Иногда она спускалась к самой воде. Тогда бойцы на ходу нагибались, набирали полные пригоршни теплой воды и обмывали себе лица. Выше по холмам стлался редкий и низкий кустарник, не дававший никакой тени.
— Хорошо бы леском пройти — прохладно и приятно пахнет, — облизав губы, сказал пулеметчик Хань Фу.
— Еще лучше спать на берегу пруда, под ивой. Не пробовал, а? — засмеялся Фын.
— Война кончится, попробую и под ивой спать. А сейчас хорошо бы леском пройти.
— Вот привязался к лесу! Где ты его видишь здесь?
— Должен быть. Там, где река, должен быть и лес. Это-то я уж хорошо знаю.
— В книжке, наверное, прочитал. Ты и леса-то никогда не видал.
Пулеметчик не сердился. Он задумался о чем-то и шел, не глядя под ноги. Было жарко, говорить не хотелось. Впереди был большой и трудный путь, а солнце совершило только половину положенного ему пути.
— Надо бы с вечера выйти. Ночью очень хорошо итти, — опять начал беседу Хань Фу.
— Хорошо бы, если б японцы были здесь, рядышком! Тогда бы и не далеко ходить за ними, — ехидно заметил Фын.
— А неплохо, конечно, чтобы они спали на берегу твоего пруда под ивами, а мы — тут как тут. А? — довольно засмеялся Хань Фу.
— А что ты думаешь, им-то ведь еще жарче, чем нам. У них в Японии влаги больше. Такой жары, как у нас, не бывает, наверное.
— Вот и оставались бы у себя дома. Какого чорта полезли к нам! Вот поддадим еще жару… — вдруг озлобился Хань Фу.
Отряд спустился в ложбинку у самой реки.
— Привал! Привал! — передавался по цепочке от бойца к бойцу приказ командира.
— На полчаса привал — это очень хорошо, — дружески сказал пулеметчик своему товарищу.
Люди бросились к воде. Тао и Чжан прошли дальше вперед, взобрались на холмы, оглядывая в бинокль всю округу. Чжан впервые в жизни держал в руках командирский бинокль. С торжественным лицом он смотрел сквозь стекла по сторонам, и, когда дальние пространства приближались к нему почти вплотную, легкая улыбка удовлетворения шевелила его губы. За один этот день он сдружился с Тао так, словно командир отряда был его старший добрый брат, никогда не расстававшийся с ним.
— К полудню завтра придем, не ошибаешься? — спросил Тао.
— Придем даже утром. Я уже много раз ходил этой дорогой, — ответил Чжан.
Тао присел на корточки, вытащил из сумки большой пакет вареного риса с горохом, поделил его на две равные части и одну предложил Чжану. Чжан поблагодарил и, отделив палочкой от своей порции небольшую часть, присоединил ее обратно к порции Тао.
— Ты большой, тебе надо много есть.
Тао засмеялся и сказал:
— Это неправда. Человек должен кушать ровно столько, сколько позволяют обстоятельства. На войне — это закон.
— Хо! — усмехнулся Чжан. — Мы с отцом не ели, бывало, по два-три дня подряд. Зато потом наедались досыта. Один раз мы отбили японский грузовик и нашли там такое круглое печенье (Чжан очертил в воздухе пальцем кружок), твердое, как камень, и не соленое. Вот уж я ел его, даже заболел.
Тао посмотрел на часы, встал, перекинул сумку через плечо и дал сигнал строиться. Бойцы уже перекусили, помылись и легко поднялись с земли. Чжан и Тао, как и раньше, шли впереди.
К вечеру, когда солнце село, отряд опять расположился на привал. Но воздух попрежнему был горячий, удушливый.
— Будет сильная гроза, — сказал Чжан.
Тао посмотрел на небо и согласился с Чжаном. По небу ползли тяжелые, огромные тучи. Сразу стало темнее.
— Отсюда можно итти двумя дорогами, — сказал Чжан. — Одна идет по берегу Хуан-Хэ, другая — через холмы к речке Луань, и по ней можно дойти до самого Чаньдина. Эта дорога короче.
— Ну что ж, идем более короткой. Если раньше придем, бойцы отдохнут перед боем.
Отряд уже тронулся, когда грозовой ливень с шумом упал на землю. Укрыться было негде. Бойцы торопливо двигались вперед вслед за командиром и проводником. Широкие крестьянские соломенные шляпы, словно зонты, защищали головы бойцов от дождя. Солдаты, укрыв от воды винтовки, прижавшись друг к другу, шли по двое в ряд, как и раньше, молча. Чжан и Тао свернули от реки в сторону холмов, за ними потянулся весь отряд. Тяжелые станковые пулеметы несли теперь на носилках, сделанных из винтовок, обтянутых брезентом.
Где-то впереди грохотал гром, сверкала молния, озаряя яркими вспышками сиротливые гребни холмов с кустарником, прибитым ливнем почти к самой земле. Чжан покачал головой и крикнул в самое ухо Тао:
— Надо торопиться, иначе Луань наберет много воды, и мы не пройдем!
Тао остановился, подождал, когда к нему подтянулась голова отряда, и приказал двигаться быстрее. Ливень бушевал попрежнему, когда отряд в полночь подошел к речке. Теперь она, вобрав в себя тысячи ручейков, разлилась в стороны, стала большой и шумной.
Чжан долго искал брода. В темноте ему трудно было различить спуски к реке. Вскоре он понял, что это безнадежное дело. Тогда мальчик смело вошел в воду. Он помнил: в самом глубоком месте реки вода доходила ему до шеи. А теперь он ступил, казалось бы, у самого берега и сразу погрузился в воду по грудь.
Вода с бешеной силой отрывала ноги Чжана от дна, подмывала его, угрожая унести. Чжан дошел до середины реки, и вода коснулась подбородка, плеснула в лицо, залив рот и нос Он закашлялся, его подмыло, оторвало ноги от дна. Чжан забарахтался, поставил одну ногу на дно, затем другую. Вода сразу спала ему до груди. Здесь было мельче. Чжан пошел дальше. Так он дошел до другого берега. Весь мокрый, дрожащий от холода и волнения, он сложил руки рупором и крикнул, что есть силы, на другую сторону, в темноту, где стоял отряд:
— Здесь, здесь!
Он кричал долго, надрывно, сорвал голос. Наконец его услышали на другом берегу, сквозь шум реки и ливня. Тао, а за ним бойцы гуськом спустились в воду. Им итти было легче: это были взрослые, сильные люди. В самом глубоком месте, где вода оторвала ноги Чжана от дна, бойцам заливало лишь грудь. Винтовки и пулеметы пронесли через реку на высоко поднятых руках. Переправа прошла благополучно. Бойцов пересчитали и пошли дальше.
Дорога теперь шла берегом реки, между водой и крутой горой. Выбраться наверх было невозможно. Это заняло бы много времени и замучило бы бойцов. Решили итти гуськом по тропке возле самой воды. Справа от ветра, да отчасти и от ливня, отряд был защищен высокой стеной горы. Слева шумела, бурлила полноводная Луань. Часа через два Тао дал бойцам получасовой отдых; разрешил курить в кулак, с прикуркой от одной спички. Люди промокли насквозь, и курево могло немного оживить их. Итти вперед становилось все труднее, тропка делалась все уже и уже, вода хлюпала под ногами бойцов, поднимаясь иногда до щиколоток. Надо было хоть немного передохнуть, чтобы пройти еще километра два к тому месту, где гора опускается к самой воде, где открывается выход в долину, к Чаньдину.
Ночь клонилась к рассвету, но вокруг была непроглядная темнота, полная шумов реки и ливня. Тао поднял отряд, и люди опять пошли вперед гуськом, один за другим, заливаемые водой сверху и снизу.
Тропка, по которой шел Чжан, уже вся была покрыта водой, и он прижимался к стене, чтобы его не смыло со скользкой тропы в глубокую воду. Чем дальше шел отряд, тем выше на тропке поднималась вода. Она доходила Чжану уже до колен. Но он упорно- шел вперед, стиснув зубы от холода и усталости. Тао протянул ему руку, но Чжан отвел ее в сторону и крикнул:
— Еще не надо. Я сам пройду!
Но вода прибывала с большой силой. Тропка уже давно выскользнула из-под ног отряда, двигавшегося теперь прямо по дну реки. Они погружались в холодную, колючую воду по пояс. Тела людей коченели, движения затруднялись прилипавшей одеждой. Бойцы продолжали упорно итти вперед, борясь с быстрым течением реки, относившим их назад. У носилок с пулеметами люди менялись каждые три минуты.
— Я ведь говорил, что мальчишка не знает дороги! — крикнул промерзший до костей пулеметчик Хань Фу своему другу Фыну. — Мне кажется, что у меня от холода отнялись ноги.
— Меньше кричи, больше сбережешь сил. Ты ведь хотел в прохладный лесок!
Шум реки заглушал слова. Бойцы замолкли, с трудом переставляя ноги по дну реки. Вода уже дошла Чжану до груди, когда сильные руки Тао подхватили его сзади за локти и понесли вперед.
— Уже скоро! — откинув голову назад, крикнул Чжан.
И действительно, через несколько минут береговая стена исчезла, будто окунувшись в темноту, и открыла широкую дорогу в долину.
Отряд быстро выбирался из реки. Ливень стал затихать и скоро совсем прекратился.
Люди, вконец промерзшие, топтались на месте, утопая в жидкой грязи. Тао приказал снять и выжать штаны и гимнастерки. На востоке прорезалась сквозь черную пелену заря.
— Вон там, за холмами, Чаньдин, — показал рукой Чжан. — А там вон видна дорога, по которой идут японцы. До Чаньдина отсюда итти не меньше трех-четырех часов.
Отдохнув немного, вернее, придя в себя, отряд продолжал свой поход. Вырвавшись из цепких объятий реки, бойцы уже не думали о ней. Они приближались к цели, к которой так яростно пробивались сквозь изнуряющий зной, потоки ливня и бушевавшую реку. Чжан от усталости еле передвигал ноги.
— Надо скорее пройти к холмам. Отец приказал мне проводить вас туда. Там можно очень хорошо спрятаться. Когда японцы пройдут мимо холмов, у них будет отрезана единственная дорога назад.
Тао привлек к себе Чжана и ласково провел ладонью по его щеке:
— Из тебя выйдет настоящий командир, Чжан. Ты смелый и выносливый юноша. Доведи нас до холмов, а там и отдохнешь.
Уже при свете начинавшегося дня отряд Тао добрался до холмов. Позднее к холмам прискакал Ван Шин с ординарцем. Чжан коротко рассказал ему, как он провел отряд. Ван Шин нахмурился, когда Чжан сказал про путь по реке: — Это очень опасно. Люди могли погибнуть, если бы обвалился берег. А его, наверное, подмыло.
— Я слышал шум обвала, но мы уже прошли то место, — успокоил его Чжан.
Ван Шин положил свою большую руку на голову Чжана и сказал, обращаясь к Тао:
— Видишь, товарищ командир, какого помощника вырастил!
— Мы заберем его с собой, отправим в военную школу.
Пока командиры разговаривали между собой, Чжан опустился на еще мокрую после дождя траву и, как только голова его коснулась земли, сразу уснул.
Отряд выставил охранение. Бойцам разрешили отдохнуть. Ван Шин сказал Тао, что японцы подойдут не раньше, чем часа через три. Пулеметчик Хань Фу повалился на траву, подвернул руку под голову и только хотел окунуться в сон, как товарищ его, Фын, толкнул его в бок:
— Ну, а теперь как ты думаешь, мальчишка знает дорогу?
— Еще бы не знать, такой паренек! — уже засыпая, ответил Хань Фу.
* * *
Чжан вскочил на ноги, когда солнце стояло уже высоко. Со стороны Чаньдина несся грохот разрывов и ураганный треск пулеметов. Возле Чжана на корточках сидел партизан. Чжан понял, что происходит, и обиженно сказал:
— Почему не разбудил, когда японцы пришли?
— Приказано было стеречь тебя, а не будить, — Дружелюбно ответил партизан. — На вот, командир Тао оставил тебе подарок.
Партизан протянул Чжану маленький маузер и кожаную сумочку с патронами. Чжан схватил подарок Тао обеими руками.
— Пошли, — сказал он.
И они побежали к холмам, в сторону Чаньдина.
Японский отряд прошел мимо холмов в боевом порядке: впереди грузовики с пулеметами, в середине пехота, позади грузовики с легкими орудиями. Партизаны укрылись в холмах, пропустили японцев вперед, к городу. Японская пехота, развернувшись, ринулась к Чаньдину. С грузовиков скатили орудия и открыли частый огонь по удобной, близкой и большой мишени — улицам, домам. Из города слабо отвечала одна пушка.
Орудия смолкли, и воздух наполнился дробным треском пулеметов. Японцы достигли уже города, когда внезапно на них обрушились с правого фланга партизаны. Японцы смешались было, но потом, быстро перестроившись, повели атаку сразу по двум направлениям: на город и на партизан. Хитрым маневром японцы вдруг оторвались от партизан, открыв их своим орудиям. Град картечи остановил, отогнал партизан. Они отступили обратно к холмам. Японцы, укрепив правый фланг завесой картечи, рванулись к городу с оглушительным воем:
— Банзай! Банзай! Банзай!
Они уже ворвались в город, когда неожиданно с тыла, со стороны дороги, по которой они пришли, на них навалился, уничтожив охранения, отряд Тао. Японские грузовики с легкой артиллерией сразу перешли в руки китайцев. И японская картечь, которая только что ошпарила партизан, хлестнула неистовым шквалом самих японцев.
Над долиной, взвизгнув, метнулась ракета: это был сигнал. Из города пошли в контратаку части гарнизона. Партизаны выскочили из-за холмов и шли широкой плотной стеной, добиваясь боя на правом фланге. Отряд Тао, отрезав пути к отступлению, гнал японцев на старые стены города и на партизан. Потеряв артиллерию, японцы попали в кольцо. Оно сужалось все больше и больше. Когда противники видели уже друг друга в лицо, китайцы бросились вперед. И повсюду на огромном поле — от холмов до стен города — завязался рукопашный бой.
Когда Чжан прибежал к месту боя, все уже было кончено. Оставшиеся в живых японцы убегали маленькими группами, преследуемые по пятам партизанами. Ван Шин подошел к Тао, зажимая тряпкой ладонь левой руки.
— Теперь можно и отдохнуть, — сказал он.
Тао, не отвечая, приказал своему адъютанту вызвать лекаря и промыть рану Ван Шина. Отдав это приказание, он ответил партизанскому командиру:
— Отдохнем после, надо собрать все оружие! Японцы теперь не скоро сюда сунутся. Урок хороший. Пленных, товарищ Ван Шин, отправьте своими силами в штаб дивизии. Я останусь здесь с отрядом дня на два на отдых. Бойцы его заслужили.
К беседующим подошел Чжан.
— У вас весьма достойный сын, товарищ Ван Шин, — сказал Тао.
— Я горжусь им, товарищ Тао, настолько, что скажу об этом словами наших мудрых стариков: «Для того чтобы сын был достоин своего отца, надо, чтобы отец был достоин своего сына».
Чжан слушал разговор командиров о себе и смущенно улыбался. Лично он не видел в своем поступке ничего особо выдающегося. Он сделал то, что на его месте сделал бы любой другой юноша, так же любящий свою родину, как и он, так же ненавидящий ее врагов, как ненавидит их он. Он скромно выполнил свой долг. И вместе с тем ему было приятно, что такой смелый и умный командир, как Тао, так хорошо отзывается о нем в беседе с его отцом, человеком строгим и решительным, командиром партизанского отряда, которого уважает все население провинции Шаньси. И еще ему было приятно, что отцу не пришлось краснеть за него перед Тао. Он не проявил слабости, выполняя важное поручение командующего.
В полдень, когда поле было очищено от трупов, когда грузовики, доверху нагруженные японским оружием, готовились въехать в Чаньдин, командир Тао приказал всем войскам построиться перед городскими стенами. Войска окружала огромная живая стена народа: люди пришли со всей округи. Командир Тао произнес горячую речь. Народ кричал в ответ на его слова:
— Ван-суй! Ван-суй!
Ликование народа по случаю победы над самураями было столь велико, что восторженные крики мешали командиру Тао продолжать свою речь. И когда, наконец, командир добился тишины, он сказал:
— В смертельной борьбе с японскими поработителями участвует весь наш народ: мужчины и женщины, старики и дети. Лучший пример тому — Чжан Шин, который сумел сквозь зной, мглу и бурю провести наш отряд на помощь населению города Чаньдина. Он исполнил свой долг, как мужественный и храбрый сын нашего народа… Товарищ Чжан Шин! — крикнул Тао.
Из рядов к командиру подошел красный от смущения Чжан. Сбоку на поясе у него висел маленький маузер в опрятной кобуре — подарок командира Тао.
— Товарищ Чжан Шин, по поручению командующего, выражаю вам благодарность за точное и образцовое выполнение ответственного поручения, данного вам командующим.
Народ подался вперед, чтобы лучше рассмотреть Чжана. Энтузиазм народа был так велик, что толпа чуть было не прорвала линию войск. Но войска, едва заметно подавшись вперед, вновь замерли на месте. Командир Тао подошел к Чжану и крепко пожал ему руку. Войска и народ дружно и радостно закричали:
— Ван-суй!
Чжан четко, по-военному повернулся и пошел на свое место к партизанскому отряду, где он стал рядом с отцом, Ван Шином.
Эпизоды
Лучше умереть в бою с врагом, чем быть его рабом.
Мальчик Цай
Это было в городе Нанкине.
По обеим сторонам Западной улицы, на протяжении двух кварталов, прижатые к стенам домов, стояли люди. Сюда согнали несколько тысяч человек. Узкий тротуар был отделен от мостовой высоким барьером — колючая проволока придерживалась кольями, глубоко вбитыми в землю.
Солнце село, но все кругом еще дышало зноем: накаленная земля отдавала свое тепло. Молчаливая толпа стояла неподвижно, тесно, изнывая от духоты. Никто не знал, зачем их согнали сюда.
Вдоль барьера с колючей проволокой ходили японские солдаты. Они угрожающе держали винтовки наперевес.
На перекрестке Западной и Торговой улиц несколько китайцев под охраной японских солдат строили широкий деревянный помост высотой в рост человека. Около помоста стояли японские офицеры. Они обмахивались широкими костяными веерами с длинными шелковыми тесемками. Солдаты подавали им холодную воду, и они пили ее, покрякивая от удовольствия.
Цая привязали к широкой доске.
Плотники закончили свою работу, помост был готов, когда в конце Западной улицы показался большой запыленный штабной автомобиль.
Он остановился перед кварталами, где за колючей проволокой тесно стояла толпа. Дверцы автомобиля с шумом распахнулись. На мостовую упал человек, вытолкнутый из автомобиля. Вслед за ним выпрыгнули солдаты, держа в руках винтовки с короткими и широкими штыками. Один из солдат кольнул штыком в спину лежащего на мостовой человека. Тот, передернувшись от боли, быстро поднялся — сперва на колени, потом на ноги. Он был в белых бумажных штанах и в такой же куртке с оторванным воротом. Встав на ноги, он мотнул головой назад, чтобы отбросить упавшие на глаза длинные черные гладкие волосы.
Это был худенький мальчик-подросток пятнадцати-шестнадцати лет. Подбородок у него был разбит в кровь, и грязные капли запекшейся крови густо покрывали его куртку и штаны. Солдаты стянули ему руки назад, за спину, крепко скрутив их веревкой. Мальчик побледнел от боли, стиснул зубы, на глазах его выступили слезы. Солдаты повели мальчика по мостовой, подталкивая в спину штыками.
Толпа в ужасе смотрела на эту процессию. Мальчика два раза провели мимо толпы, по одному разу с каждой стороны улицы. От ненависти к своим мучителям у него ярко блестели глаза, от страданий подкашивались ноги. Наконец его подвели к помосту, грубо подкинули кверху, но тело, скользнув по краю доски, не удержалось и упало обратно на землю.
Мальчик так стиснул зубы, что казалось, будто скулы его сведены судорогой. Офицеры прикрикнули на солдат. Мальчика подняли с земли и, высоко подняв в воздух его легкое тело, опять бросили на помост. Там уже стояли три солдата и один офицер. Они наклонились к мальчику, поставили его на ноги и привязали к широкой доске, вертикально прибитой к помосту.
Толпа, затаив дыхание, наблюдала за всеми этими приготовлениями. Она только немного подалась вперед, ближе к колючей проволоке. Офицер, стоявший на помосте, приложил к губам рупор и крикнул на ломаном китайском языке:
— Эй, китаецы, наша штаба пригласила гнать всех вас сюда, чтобы показать, как мы будем расстрелять маленьки антияпонски негодяй, котори утром кидайт на наша казарма антияпонски прокламаци для солдатов, а ночем бросайт бомба в окон наша главный штаба для генералов. Эй, китаецы, посмотрите, как мы его будем казним, и если вы не напугаетесь и будет так делайт, как этот антияпонски бандит, мы всех вас будем казним! Вот наша штаба просила объявлять вама это, для сведения.
Толпа беспокойно задвигалась, тихо зашумела.
Солдаты вскинули винтовки, направив их на толпу. Люди вздрогнули, отпрянув к стенам домов, и затихли. Мальчик смотрел с помоста на толпу спокойными глазами. Он высоко поднял голову, поворачивая ее то влево, то вправо.
В глубине толпы, почти у самой стены дома, какой-то старик вдруг испуганно зашептал:
— Да это же Цай, сын сапожника Чэна, что на Курином базаре живет. Какой тихий был паренек, а!
— Тише, тише ты, разошелся! — заворчали на него со всех сторон.
Старик умолк, обхватил свою голову обеими руками и, глухо застонав, прижался к стене.
На помосте прозвучала команда японского офицера; солдаты прицелились в голову мальчика. На бледном лице Цая скользнула улыбка, он подался грудью вперед, на веревки, и крикнул детским пронзительным голосом, озорным и смелым:
— Китайцы, не бойтесь — убивайте японцев!..
Офицер на помосте яростно взмахнул рукой. Треск выстрелов оборвал крик мальчика; голова его упала на грудь, колени согнулись, и он безжизненно повис на веревках, которыми был привязан к доске помоста…
Солдаты и офицеры разгоняли толпу, усердно рассыпая по спинам людей удары прикладами винтовок. Они очищали Западную и Торговую улицы Нанкина от китайцев…
Зловещая песня
В городе было тихо. Даже на базарной площади не слышно было обычного шума и сутолоки. Только нищие в рубищах, голодные и бесприютные, бродили по опустевшему базару в напрасных поисках пропитания. Некоторые из них, в изнеможении опустившись на землю, оставались лежать на ней неподвижно, словно мертвые.
В этом городке, полусожженном и полуразрушенном неприятельскими войсками, почти не осталось жителей. Они поспешно бежали отсюда, напуганные зверствами чужеземных войск, вторгшихся в страну.
Но все не могли бежать. Многим трудно было сразу пуститься с детьми и скарбом в неведомые скитания. Оставшиеся в городе не очень-то верили ужасным рассказам, намного опережавшим наступление вражеских войск. Война только еще начиналась, и им казалось, что она минует их город, как счастливо миновали его бедствия многих войн между местными милитаристами, возникавших часто, как весенние дожди.
Городок утопал в зелени на берегу реки, и жалко было покидать насиженные, привычные места, землю, возделанную упорным трудом многих поколений.
Уже через час после вступления японских войск большая часть города пылала ярким удушливым костром. Солдаты и офицеры шныряли из дома в дом, выволакивая на улицы молодых и старых, женщин и детей. Они хищно растаскивали добро, накопленное людьми за долгие годы тяжкого труда. Вопли и стоны наполняли улицы.
Повсюду на улицах лежали трупы безоружных, мирных и несколько наивных тружеников. И когда наконец, через два дня, опьяненных кровавыми оргиями самураев увели за реку, в бараки, сколоченные на скорую руку, в городе осталось всего лишь несколько десятков обессиленных голодом нищих и случайно уцелевших горожан. Улицы затихли, замерли.
Далеко из-за реки, с другого берега, в этот полусожженный, разграбленный, залитый кровью город иногда долетают воинственные песни. Они несутся из японского лагеря, из бараков. Их поют доблестные самураи:
Все преграды рушим мы стальным мечом. По дороге побед все живое сожжем. Миллионы варваров нам нипочем: Самураи храбро рубятся с коварным врагом…Эта зловещая песня долетает в тишину испепеленных пожаром руин еще недавно цветущего, полного трудовых шумов маленького китайского городка Пинло на берегу великой Янцзы. Она долетает сюда и гаснет в еще тлеющих остовах домишек.
В деревне
Японцы появились внезапно. Они окружили деревню со всех сторон.
Жители попрятались в своих фанзах ни живы ни мертвы. Они уже знали, что это значит, когда японская «императорская армия» захватывает китайские деревни. Они сидели в своих фанзах тихо, боясь шевельнуться, разговаривали едва слышным шопотом, затыкали кулаками рты плачущим детям.
Крестьяне думали, что чем меньше признаков жизни они будут подавать, тем скорее японцы уйдут дальше, не тронув их. Так думали эти простые люди, извечные труженики.
В деревне оставалась всего лишь половина ее жителей. Молодежь уже давно ушла в горы, откуда бесстрашно и неистово нападала на японских интервентов. В деревне остались старики, старухи, дети, женщины.
Сначала японцы вели себя мирно. Они расставляли повсюду караулы; возле самой околицы японский батальон разбил свой палаточный лагерь.
На деревенских улицах было пустынно и тихо, и только свиньи и поросята, изнывая от жары, с трудом, не поднимаясь с земли, переползали вдоль заборов вслед за уходящей прохладной тенью.
Вдруг по главной улице, поднимая тучи удушливой пыли, промчался, громыхая всеми своими частями, автомобиль. Он остановился на площади перед домом деревенского старосты, старика Ли Яна. Староста, как и все другие жители, спрятался в своей большой фанзе, в дальнем углу, на канах[44].
Из автомобиля вышли японские офицеры. Маленький худенький человечек, на носу которого крепко сидело пенсне с цепочкой, заложенной за ухо, распоряжался спокойно и уверенно. По тону его голоса и повелительным движениям рук в нем сразу можно было признать командира японского батальона. Это был майор Сано.
К площади вскоре подошли два взвода солдат. Они быстро поставили две огромные палатки для командира и офицеров и несколько маленьких для рядовых. Майор Сано сказал что-то офицеру, следовавшему за ним по пятам.
Офицер подозвал унтера и с ухмылкой бросил ему:
— Надо быстро приготовить хороший обед для господина майора и офицеров. Разживитесь дичью, да быстрее.
Унтер взял с собой десяток солдат и ушел. Через несколько минут после его ухода на улицах и дворах зашумели, закудахтали куры, завизжали поросята. Куры взлетали высоко на заборы, но ничто не могло их спасти от неутомимых и ловких преследователей.
В фанзах было попрежнему тихо. Люди слышали шумную погоню солдат за живностью, им было жаль свое добро, но они молчали.
— Ну, что же, господа, до обеда можно заняться делом. Прежде всего для спокойствия и устрашения населения надо отобрать с десяток стариков — заложников, — повернулся майор Сано к офицерам, сидевшим в его палатке. — Взять их и предупредить остальных, чтобы выдали партизан. Если не выдадут — заложников расстрелять.
Деревня сразу словно пробудилась от глубокого сна, наполнилась криком и плачем. Солдаты ходили от фанзы к фанзе, легко вышибали двери и выволакивали на улицу стариков. Когда их набралось с десяток, заложников отвели за околицу, в японский лагерь.
Теперь уже повсюду стояли люди, фанзы не могли их больше защитить. И толпа деревенских жителей — старики, старухи, молодые женщины, дети — волновалась и становилась все шумнее.
— Они убьют наших!
— Надо что-то сделать.
— Надо послать делегацию к их главному начальнику, просить его, пусть помилует стариков.
Толпа охотно согласилась с этим предложением. Скоро у командирской палатки на площади появилась делегация крестьян. К ним вышел адъютант майора и на ломаном китайском языке спросил:
— Чего ваша хадити тут?
Делегаты низко поклонились ему. Они смотрели друг на друга, не решаясь заговорить. Наконец один из стариков промолвил:
— Мы просим главного начальника отпустить заложников: они мирные люди, очень старые.
Адъютант громко засмеялся, выругался по-японски, повернулся к солдатам и велел прогнать делегацию.
— Господа офицеры будут сейчас обедать у командира, а эти собаки мешают, — сказал он унтеру.
Толпа хмуро следила издали за всем, что происходило около палатки, и видела, как прогнали делегацию. Тогда староста Ли Ян упавшим голосом сказал:
— Надо пойти всем народом и просить за стариков.
— Да, надо пойти всем народом, — сказал один из стариков, глубоко вздохнув.
Все согласились.
И толпа двинулась к палаткам на площади. Люди шли, опустив низко головы, покрытые широкополыми соломенными крестьянскими шляпами. Эти шляпы были широки, как зонты, и защищали от солнца и дождя. Позади толпы тихо плелись напуганные дети.
У палатки командира все остановились. Было уже часа два дня, и солнце нещадно жгло все живое. В палатке шумно обедали офицеры. Полог палатки был открыт. К толпе вышел адъютант.
— Ваша опяйт приходить здесь! Чего нада? — крикнул он недовольно.
Тогда вперед вышел староста Ли Ян и сказал:
— Народ просит большого начальника помиловать заложников, отпустить стариков домой.
— Наша командира занята, обедайт. Стоить и ожидайт. Вот! — крикнул адъютант и полез обратно в палатку. Вдруг он решительно повернулся и визгливо закричал: — Все шляпка снимайт и ожидайт!
Крестьяне молча переглянулись и обнажили головы, подставляя их огненным лучам солнца. Мимо толпы в палатку проносили вкусно пахнущие кушанья. Палимая зноем, толпа тоскливо переминалась с ноги на ногу. Дети отползали в тень фанз и редких деревьев.
— Ведь они наше жрут! — облизывая почерневшие губы, сказал один из стариков.
— Пусть жрут, может добрее станут, — ответил ему другой.
— А если не станут добрее, так, может, подавятся нашим добром, — зло заметила старуха.
Время шло… Люди стояли с непокрытыми головами… В палатке все больше нарастал шум, визгливый хохот. Наконец выскочил адъютант и заорал на толпу:
— На колен, на колен! Наша командира приходит посмотрить. На колен!
Толпа замялась. Люди переглядывались, словно спрашивая друг друга, как поступить. Но никто не опускался на колени. Адъютант крикнул солдатам, и они придвинулись к толпе. Тогда староста Ли Ян, тяжело вздохнув, стал на колени.
— За хороших людей можно и постоять, — горестно шепнул он соседям.
Люди медленно, неохотно становились на колени, в пыль.
Когда из палатки вышел командир батальона майор Сано, вся толпа уже стояла на коленях с непокрытыми головами. Солнце жгло людей нестерпимо. По лицам стекали частые крупные капли пота. Над толпой повисла мутной серой пеленой пыль.
Майор остановился возле палатки, передвинул саблю вперед и оперся обеими руками на ее эфес. Он посмотрел на толпу, усмехнулся, поправил пенсне и поманил к себе пальцем адъютанта. Выслушав командира, адъютант отдал приказание стоявшим поодаль унтерам и повернулся к толпе.
— Наша командира сказала: пошел вона! Аитияпонски заложники будет расстрелять. Скорее пошел вона!
И он махнул унтерам рукой. Толпа, с трудом поняв слова адъютанта, изумленно ахнула и быстро поднялась с колен. Солдаты и унтеры навалились на крестьян, избивая всех прикладами винтовок, нанося удары штыками. От боли и гнева, от ужаса и обиды люди завыли. Они повернули назад и побежали.
Вслед за ними бежали озверевшие солдаты и упорно и бездумно калечили людей, падавших в дорожную пыль, в канавы. Дети истошно кричали, убегая к околице, путаясь под ногами взрослых.
Никто из крестьян не вернулся в свою фанзу. Недобитых людей выгнали за околицу, прогнали мимо японского лагеря в поле, послав вдогонку несколько ружейных залпов.
Возле палатки на деревенской площади все в той же позе стоял японский майор, самурай Сано. Опершись, как и прежде, на эфес сабли, он смотрел на это кровавое избиение спокойно и равнодушно. Его застывшее, как маска, лицо ничего не выражало. И только сытые глаза жадно сузились и блестели.
Огонь
На улицах Илани было темно, пустынно и тихо. Только со стороны Сунгари шел глухой шум растущего полноводья: дожди были частыми и обильными, и река грозилась выйти из берегов. У пристани стояла японская канонерка, дула ее орудий были направлены прямо на главную улицу города. После недавних событий, когда японские войска вторглись в город, многие жители его бежали в сопки. Японский гарнизон разместился в длинных деревянных бараках в центре города.
Была полночь. Небо, затянутое черным покровом облаков, было похоже на огромную бездонную пропасть, перевернутую над Иланыо. Японские часовые на окраинах города часто перекликались, зорко всматривались в тьму сопок и чутко прислушивались. Вокруг все безмолвствовало.
Изредка где-то далеко в сопках вдруг возникал тоскливый вой голодных собак, который то приближался к городу, то отдалялся, то пропадал совсем. Часовые судорожно сжимали в руках винтовки, напряженно прислушиваясь к вою: он страшил их и заставлял с еще большим напряжением ждать его снова. Часовые завидовали солдатам, спящим в бараках, за тремя рядами колючей проволоки.
Огни появились в сопках внезапно. Они засверкали сразу в нескольких местах, потом исчезли и вновь, точно раздуваемые гигантскими кузнечными мехами, ярко озарили сопки. Они были еще далеко, ио обеспокоенные часовые свистели, поднимая тревогу. Солдаты плохо знали покоряемую ими страну, не понимали, откуда и зачем появились огни, но уже отлично знали: то, что в сопках кажется далеким, через мгновенье может оказаться слишком близким.
И действительно, пока они поднимали тревогу, широкий огненный поток, колеблемый ветром и извивающийся, как змея, надвигался на город. Несколько часовых собрались вместе и дружным залпом стегнули по огню.
Поток все так же неуклонно приближался, быть может, даже быстрее, чем раньше. В окружающей темноте он казался солдатам чудовищем. И правда: до солдат доносилось зловещее шипение и сухой треск. Солдаты, не сговариваясь, покинули свои посты. Они, как одержимые, побежали к казармам, неистово крича по дороге.
Огненный поток вливался в город тремя ручьями: по Главной и двум прилегающим к ней улицам. С канонерки тяжело ухнуло сначала одно, потом другое орудие. Из казарм выбегали еще сонные люди, ложились у проволочной изгороди и беспорядочно стреляли из винтовок и пулеметов в огонь. Но он шел неуклонно, то слегка рассеиваясь, то снова сливаясь в грозно и быстро катящуюся лавину огня.
Японцы кинулись к пристани, в ужасе бросая оружие, скидывая амуницию, которую только что в спешке напялили на себя. На пристани в давке солдаты, забыв об уставе и дисциплине, отбрасывали и били офицеров, стремясь добраться до трапа канонерки. Огонь настигал их. Казалось, вот-вот он лизнет спины мечущихся по пристани людей.
Ничто не могло удержать солдат, успокоить их, побороть охвативший их страх. Огонь залил всю Главную улицу, от сопок до пристани.
В панике никто на канонерке не догадался отдать или обрубить металлические тросы, приковавшие ее к пристани. Канонерка вздрагивала и билась о сван; механики запускали машину все сильней и сильней. И когда на канонерке увидели, что потоки огня состоят из многих тысяч живых людей с пылающими смоляными факелами в руках, было уже поздно.
Люди бросали свои факелы вместе с гранатами через борт, на палубу, в сгрудившихся солдат; как муравьи, они упорно взбирались по трапу, рвались к своим заклятым врагам. Они стреляли в японцев в упор — Здесь не могло быть промаха.
С командирского мостика вдруг злобно застучали два пулемета. Они косили толпу, а с ней вместе своих и чужих. Но скоро замолкли и они. И долго после этой ночи, еще много месяцев, город Илань был в руках манчжурских партизан, и еще долго японцы боялись подступиться к нему.
Это был незабываемый урок, преподанный простым народом японским варварам.
Шанхайские апельсины
Девушка остановилась на углу оживленного перекрестка. С глубоким вздохом облегчения она опустила на тротуар большую корзину, в каких обычно окрестные крестьяне привозят в город фрукты или овощи. Корзина была громоздкой и непомерно тяжелой для этой хрупкой, худенькой девушки, еще подростка, не старше пятнадцати лет.
Цзи Лин, — так звали эту девушку, — оглянулась по сторонам.
С угла на угол перекрестка, по соседним улицам сновали прохожие. По мостовым катились, автомобили, автобусы, взапуски неслись рикши. На перекрестке было шумно: гудели автомобильные сирены, свистели и кричали полицейские. Прохожие шли быстро и настороженно. Они молчали. Еще недавно этот город принадлежал китайцам, теперь в нем обосновались японцы: повсюду были видны их войска, полиция, шпионы. Власть в городе принадлежала им, по в городе жили миллионы китайцев, и поэтому, куда бы Цзи Лин ни посмотрела, она видела японские военные патрули и японских джентльменов в зеленоватых шляпах и с наглыми глазами шпионов.
Кровь ударила в лицо Цзи Лин, когда она увидела, что один из подобных типов приближается к ней. Она быстро наклонилась над корзиной, отдернула тряпичное покрывало. Человек в зеленой шляпе поравнялся с Цзи Лин, подозрительно покосился на корзину и прошел мимо.
Цзи Лин подровняла сбившиеся в горку маленькие бледные шанхайские апельсины и опять набросила на них покрывало. Ей оставалось сделать всего несколько шагов, чтобы дойти до громадного, многоэтажного универмага «Вингон», куда она направлялась.
Цзи Лин благополучно вошла в универмаг, подошла к лифту. Кабина умчалась наверх, и она, опустив корзину на пол, стала ждать ее возвращения. Девушка с любопытством оглядывала первый этаж магазина, нескольких англичан и американцев, которые, скучая, рассматривали полки с товарами. И здесь было много японцев; они важно разгуливали вдоль стоек, презрительно, по-хозяйски покрикивая на китайцев-приказчиков.
Кабина лифта опустилась вниз, дверцы распахнулись, и мальчик-лифтер вышел наружу. Увидев Цзи Лин, он жестом пригласил ее в кабину и ловко подхватил корзину.
Дверцы лифта захлопнулись перед самым носом японца в военной форме. Кабина медленно поползла вверх.
— В ресторане на крыше много японцев. Но ты не бойся, проходи прямо к балюстраде и опрокинь ее вниз. — Бой кивнул головой на корзину. — И сейчас же беги к лифту, я буду ждать тебя.
— Спасибо, Чэн. Я так и сделаю. Мне будет только трудно поднять ее на балюстраду.
— Знаешь что, давай я сделаю это! Хорошо?
— Нет, Чэн, не надо. Я сама вызвалась и сама сделаю все, что надо. Ты понадобишься для другого дела.
— Ну, как хочешь, — сочувственно сказал Чэн. — Сейчас самое время. Все спешат с работы, и на улицах будет уйма народу. В ресторане кутят японские офицеры — они сидят там с утра.
Кабина остановилась. Цзи Лин крепко пожала руку Чэну, взяла корзину и вышла на просторную крышу универмага, обнесенную пышной белой балюстрадой. Здесь расположены ресторан и кинематограф универмага «Вингон». Еще недавно сюда стекались по вечерам шанхайцы, веселились и отдыхали здесь, любуясь великолепным видом города, широко открывавшимся отсюда. Вдали голубела река, красивым поясом охватившая Шанхай. Теперь здесь, на крыше универмага, бывали только японцы, военные и штатские.
Цзи Лин смело пошла вперед. В ресторане играл оркестр. Густо лились бравурные мелодии модернизованного марша «Во имя тенно[45] мы покоряем мир…». Пьяные офицеры осипшими голосами подтягивали оркестру, шумно развлекаясь. Вокруг, за столиками, уставленными бутылками, было полным-полно японцев.
Цзи Лин шла вперед мимо столиков. Корзина рвала ей руку, так она была тяжела. Вслед девушке неслись пьяные выкрики японских офицеров:
— Эй, китайска девчонка, ходи сюда!
Цзи Лин шла вперед, не оборачиваясь. Вот и балюстрада, наконец-то! Она опустила корзину, выпрямила свою тонкую, согнутую тяжестью корзины фигурку. Она отдыхала минуту, быть может две. Затем нагнулась, взяла корзину обеими руками и, подняв ее высоко над головой, поставила на балюстраду. Далеко внизу шумели улицы.
Кто-то больно ударил Цзи Лин в спину; она упала на колени, в глазах сразу стало темно, и потом все вдруг поплыло большими кругами. Через несколько секунд она пришла в себя, с трудом поднялась на ноги.
Перед Цзи Лин стоял японский шпион, следивший за ней на улице.
— Твоя есть бомба, не апельсина! — злобно крикнул он и отдернул покрывало.
В корзине лежали апельсины. Японец сунул руку в горку апельсинов, рука уходила все глубже и глубже в корзину. Цзи Лин собралась в комок, напрягла все свои силы, оттолкнула японца от балюстрады и сбросила корзину вниз, на улицу.
В воздухе маленькими раскаленными ядрами мелькнули апельсины — и за ними, точно крупные хлопья снега, тысячи листовок. Они мягко опускались вниз, легко покачиваясь в воздухе.
Девушка остановилась на углу оживленного перекрестка.
Цзи Лин побежала к лифту. Шпик, опомнившись, закричал что-то офицерам, которые, словно по команде, все сразу бросились к ней, отрезая дорогу к лифту.
Листовки, поднятые ветерком высоко в небо, падали теперь и на крышу «Вингона», в ресторан. Цзи Лин на бегу машинально схватила одну листовку и судорожно сжала ее в руке.
Девушка, как пойманный зверь, заметалась между столиками, опрокидывая стулья. За ней гналась орава пьяных офицеров.
Цзи Лин казалось, что она уже спасена; она побежала в узкий коридор служебного выхода, где в изумлении столпились официанты-китайцы. «Эти не станут меня ловить», мелькнула у нее мысль.
В это время она упала на пол, зацепившись за стул, брошенный ей под ноги шпиком. Ей опять удалось вскочить на ноги и ускользнуть от своих преследователей. Но теперь она могла бежать только назад, к балюстраде: отовсюду на нее надвигались японцы. И она побежала.
Задыхаясь, Цзи Лин повернулась лицом к японцам. Навстречу ей бежал, растопырив руки, краснорожий офицер. Он был пьян, глаза его горели хищной злобой.
Цзи Лин вскарабкалась на балюстраду, перевела дух, успокоилась, глубоко вздохнула, подумала: «Лучше умереть, чем попасть к ним в руки! Все равно убьют!» — и крикнула громким, прерывистым от волнения голосом:
— Китайцы, бейте японцев! Смерть японцам!
Они уже доставали ее руками, когда она прыгнула вниз, на улицу.
В воздухе все еще летали, плавно покачиваясь, большие белоснежные антияпонские листовки. Тысячные толпы прохожих поднимали их и поспешно уходили дальше. К «Вингону» бежали японские патрули.
Перед универмагом, на мостовой, ближе к перекрестку, по-детски раскинувшись, точно разметавшись в тревожном сне, лежала Цзи Лин. Маленький кулачок ее сжимал угол листовки, в которой было написано:
«…Китайцы! Сопротивляйтесь кровавым японским захватчикам! Объединяйтесь для защиты своей родины!
Шанхайская ассоциация молодых патриотов Китая».
«Ошибка» Лао Гана
Наконец отступила и пятая рота, остававшаяся на позициях для того, чтобы задержать наступление японцев и прикрыть отход своего полка. Главные силы полка, по расчетам командира роты, должны были быть уже далеко. Теперь можно было выводить и пятую роту, измученную японским огнем. Бойцы отступали вперебежку, небольшими группами, так, чтобы японцы не сразу заметили отступление.
Командир роты Лао Ган лежит на пригорке и, не отрываясь, оглядывает в бинокль японские позиции. Он лежит скорчившись; длинные ноги мешают ему, и поэтому он беспрестанно то вытягивает их, то поджимает под себя. Оторвавшись от бинокля, Лао Ган поворачивает голову назад и негромко кричит:
— Дай им несколько очередей, Ван, на прощанье!..
Пулеметчик Ван вдруг завозился, выругался и сплюнул смачно на землю. Прошла минута. Лао Ган нетерпеливо повернул голову к пулеметчику и удивленно посмотрел на него:
— Ты что же, спал раньше, что ли? — спросил он дрожащим от усталости и нетерпения голосом.
Ван ничего не ответил, но его длинные цепкие пальцы еще яростнее забегали у пулеметного замка. Лао Ган переполз с пригорка к пулеметчику. Над головами, словно напуганные птички, жалобно пищали японские пули: дзинь, дэинь, дэинь…
— Готово! — радостно вздохнул Ван.
— Ну, начинай! А потом откатывай его, да побыстрее.
Сказав это, Лао Ган пристально посмотрел на тяжелый станковый пулемет и затем перевел взгляд на маленького худого пулеметчика Вана.
Пулемет застрекотал, потом все чаще и чаще, и стук его перешел наконец в какой-то неясный, глухой беспрерывный звон колокольчиков. Так чудилось Лао Гану, отползшему обратно к пригорку и оттуда наблюдавшему за японцами и перебежками своих бойцов. В ушах стоял неумолчный шум. болел затылок, будто в него вдавливалась острая металлическая пластинка. Из красных, воспаленных глаз сползали слезы, Лао Ган утирал их большими пальцами. Пулемет заливался глухим звоном, откуда-то издалека доносилась ровная дробь: тук-тук-тук-тук…
Возле пригорка осталась пулеметная прислуга, два бойца и командир роты. Лао Ган присел на корточки, посмотрел на удаляющихся бойцов и облегченно вздохнул: рота была уже далеко. Пулемет вдруг на мгновение замолк и потом опять часто застучал.
— Кати! — крикнул Лао Ган.
Пулеметчики, пригибаясь к земле, покатили пулемет. Командир и два бойца задержались на пригорке еще минуты три-четыре, потом поползли и они. Японские пули попрежнему летали над их головами. Уже далеко за холмами бойцы и Лао Ган, болезненно морщась, разогнули Затекшие спины. Когда они прошли еще немного вперед, с правого фланга их обстреляли.
Лао Ган опустился на землю так, будто ему подрубили обе ноги. Сначала он постоял на коленях, потом осторожно склонился к земле и вытянулся на ней, длинный, худой. Бойцы залегли рядом за кочку и оттуда меткими выстрелами уничтожили японского снайпера, неожиданно подобравшегося к ним с ручным пулеметом.
Лао Ган почувствовал острую боль чуть пониже колен, сразу в обеих ногах; потом она затихла, притупилась. Он попытался подняться на ноги и со стоном повалился на Землю: японские пули перебили ему ноги. Он еще раз попробовал встать и опять упал. Нестерпимая боль обожгла все его существо.
«Лучше лежать, — подумал он. — Тогда не болит».
Бойцы нагнулись над своим командиром, потом переглянулись между собой.
— Ну, давай, — сказал один из них и осторожно приподнял Лао Гана за плечи.
Другой боец помог ему взвалить тело на спину, и они пошли. Потом один из солдат побежал вперед, вдогонку роте, за санитарами.
Лао Ган молчал, крепко стиснув зубы; мертвенная бледность разливалась по его лицу. Только теперь он почувствовал усталость от многодневных беспрерывных боев. Усталость заглушала боль в ногах. Хотелось спать.
— Послушай, Лян, положи меня здесь у дороги и иди вперед. За мной придут.
Едва Лао Ган сказал это, как удар о землю оглушил его… Острая боль в ногах оживила Лао Гана. Он приподнялся на локтях и посмотрел на бойца. Лян неподвижно лежал, уткнув лицо в низкую, пожженную солнцем траву. Лао Ган подполз к нему, приподнял его голову и почувствовал на ладонях теплоту: за ухом бойца бежала струйка черной крови.
Лао Ган пополз дальше один. Сначала он выбрасывал далеко перед собой руки, потом подтягивал туловище; одеревеневшие ноги тяжело волочились вслед за ним. Он полз долго, отдыхал, в изнеможении падая на траву. Выстрелы позади затихали, он едва улавливал их звуки. И впереди было пустынно и тихо. Лао Ган выполз на дорогу.
Силы оставляли Лао Гана. Ему казалось, что ног у него уже нет, что он потерял их на дороге. Лао Ган повернул голову и посмотрел назад. В пыли он увидел пятна крови, тяжело опустил голову на дорогу и затих. Голова легла как-то боком, ухом к земле.
Лао Ган уловил мерный стук. «Это стучит сердце, — подумал он. — Нет, это наши верховые за мной».
Но на дороге никого не было. Шум приближался с другой стороны, и Лао Ган понял: «Японская разведка!»
Напрягая все силы, он пополз к краю дороги, с трудом перевалил через обочину, упал в канавку и от боли впал в забытье. Японская разведка заметила человека, переползшего дорогу, пришпорила коней и поскакала к нему.
Когда Лао Ган пришел в себя, японцы были уже совсем близко. Из-за поворота дороги они выезжали по одному. Он насчитал пять человек.
— Вот этого сперва, — прошептал раненый, с трудом вытащив из кобуры большой автоматический пистолет и прицеливаясь в переднего всадника.
Глаза его застилались пылью, слезились, веки горели, точно обжигаемые огнем. Японцы остановились не далее полутора десятков шагов от него.
Лао Ган выстрелил и увидел, как офицер съехал с седла. Солдаты повернули коней и поскакали обратно, к повороту дороги. Лао Ган видел, как они дружно вскинули винтовки и целились в него. И он тоже стрелял и считал выстрелы вслух:
— Два, три, четыре, семь, десять, двенадцать, тринадцать…
Лао Ган заметил, как еще одни японец, схватившись за грудь, упал с коня. Последний, четырнадцатый патрон он оставил себе. Вдруг острая сверлящая боль прошла сквозь его правое плечо. Рука с пистолетом упала. Из-за поворота дороги выехала еще одна конная группа. Японцы на минуту задержались на повороте и поскакали прямо к нему. Лао Ган смотрел на них снизу вверх, с Земли. Левой рукой он поднес пистолет ко рту.
— Сволочи самураи! — воскликнул он и нажал спуск.
Прошло мгновение. Лао Ган удивленно скосил глаза на дуло, просунул его глубже в рот, закрыл глаза и изо всех сил опять нажал спуск. От огромного напряжении простреленные ноги Лао Гана шевельнулись, и по всему телу прошла дикая, нестерпимая боль. Перед глазами мелькнули круги, голова безжизненно ударилась о землю, и где-то совсем рядом так знакомо простучала ровная дробь: тук-тук-тук-тук…
Японцы, внезапно повернув коней, помчались назад. С холма по дороге хлестнула пулеметная очередь, потом еще и еще. Всадники неуклюже выпрямлялись в седлах и падали на землю.
Возле Лао Гана остановились бойцы его роты. Один из них нагнулся и посмотрел в лицо командиру. Он лежал в канавке, запрокинув голову. Боец взял из его рук пустой пистолет и сокрушенно мотнул головой:
— Застрелился!.. Не дождался нас…
Лао Ган открыл глаза, взглянул на бойцов, не узнал их и тихо вскрикнул:
— Самураи, сволочи!..
— Жив! — радостно закричали бойцы и бережно подхватили его на руки.
Лао Ган удивленно сморщил брови, пристально посмотрел на них, узнал и прошептал:
— Пить… холодной воды… пить…
Его осторожно понесли через холмы к лесу. Пулеметчик Ван шел рядом. В руках он держал пустой пистолет командира. Лао Ган заметил Вана и кивнул ему головой; Ван склонился над ним.
— Считал и ошибся. Хотел последнюю пулю себе… а отправил ее в японцев…
«Таран победы»
За Северными воротами Мукдена, возле казарм японской дивизии, на широком расчищенном поле заканчивались строевые ученья новобранцев «армии Манчжу-Го»[46]. Этих молодых загорелых крестьянских парней согнали со всех концов Манчжурии. Вначале им не давали оружия: японцы боялись молчаливых и равнодушных людей, старательно выполнявших приказы начальников.
Но теперь заканчивались строевые ученья, и вот уже месяц, как новобранцы упражняются с винтовками; к пулеметам были допущены лишь немногие, внушавшие особое доверие японским офицерам. Каждым взводом командовал японский унтер, ротой — японский лейтенант. Но и эти меры казались японцам недостаточными, и они прикомандировали к каждому взводу, в помощь унтеру, по одному японскому солдату первого разряда.
Не было в истории другой такой армии, командиры которой так смертельно боялись бы своих солдат. Но война против китайского народа требовала от японских генералов все больше людских резервов. Зияющие прорывы на фронтах требовали еще и еще пушечного мяса. И тогда генералы решили формировать полки из жителей Манчжурии. В японских штабах офицеры в восхищении потирали руки:
— Прекрасная идея! Завоевать Китай руками китайцев!
И на учебных плацах Мукдена, Чаньчуня, Чэндэ взад и вперед маршировали захваченные в деревнях молодые крестьянские парни.
В «час просвещения» японские офицеры через переводчиков проводили с новобранцами «уроки назидания»:
— Императорская армия пришла к вам, чтобы спасти вас от неминуемой гибели. Мы создали в Манчжу-Го земной рай, а вы будете жителями его. Япония есть отец, породивший своего сына — Манчжу-Го, и вы должны повиноваться нам не раздумывая, как достойный сын любимому отцу. У нас с вами сейчас один общий враг — застенные китайцы[47]. Мы защитим вас от их хищных и коварных происков.
Новобранцы, не моргая, смотрели прямо в рот офицеру, когда он говорил, а потом и переводчику. Им трудно было уловить смысл этих речей, упрятанный в высокопарные фразы. Они ломали себе головы, думая о том, почему эастенные китайцы, точно такие же люди, как и они, — враги? Почему Япония — отец Манчжу-Го? Как это одна страна может родить другую? Что это за «земной рай»? Почему они его строят у нас в Манчжурии, а не у себя в Японии? Сволочи! Захватили наши земли и издеваются!..
Новобранцы смотрели на офицера и думали о нем: «У этого дурака в башке столько же воды, сколько в жабе». Было смешно, когда он, выпячивая грудь, произносил свои нелепые слова, но они не смеялись.
«Уроки назидания» занимали не только весь «час просвещения», но и много других часов. Офицеры сменяли друг друга, неустанно произнося утомительные речи. Новобранцы, отупевшие и измученные, молча злобствовали. Их не оставляли одних: всегда и повсюду они чувствовали за собой зоркие глаза своих, «старших братьев» — японских солдат первого разряда. Даже ночью в бараках «старшие братья» следили за сном новобранцев.
В день, когда военное обучение было закончено и новобранцы стали солдатами, а полк их был назван «Тараном победы», произошло неожиданное событие: в полку были обнаружены антияпонские листовки, призывавшие молодых солдат к восстанию, к защите родины с оружием в руках.
Полк построили на учебном плацу, и японец полковник обратился к солдатам с речью. Он просил их выдать «врагов Японии и Манчжу-Го». Полк молчал. Полковниц грозил расстрелять каждого десятого. Полк молчал.
Люди смотрели прямо перед собой пустыми, ничего невидящими глазами. До слуха их доносились крики полковника и испуганный голос китайца переводчика. Они действительно не знали, кто подбросил в бараки листовки; их обнаружили утром, и грамотные солдаты с удовольствием читали их неграмотным. Но если бы солдаты и знали этих людей, они молчали бы так же.
К полковнику подошли офицеры. Они быстро переговорили о чем-то между собой, потом пошли по рядам, всматриваясь в равнодушные солдатские лица. Из рядов вызывали «подозрительных» солдат. Скоро их набралось человек тридцать. Окруженные японцами, они были отведены в сторону, к высокой кирпичной стене старого буддийского храма. Полковник резким голосом прокричал переводчику несколько фраз. Тот перевел их полку:
— Сейчас мы расстреляем этих антияпонских собак и поступим так и с вами, если вы осмелитесь сделать что-нибудь антияпонское…
Солдаты в бешенстве сжимали винтовки и молчали. Они ничего не могли сделать: винтовки у них были без патронов и штыков…
Вскоре полк перебросили в прифронтовую полосу, в провинцию Шаньси. Он разместился в центре большого японского военного лагеря: вокруг были японские войска. В полк приходили японцы и смотрели на солдат, как на дикарей, бесстыдно тыча им в лица свои грязные руки. Солдат из лагеря не выпускали. Дни и ночи они проводили в душных бараках.
На третий день в лагерь прибыл санитарный отряд. Переводчик сообщил солдатам, что застенные китайцы подбросили в лагерь бактерии чумы, чтобы истребить весь полк «Таран победы». Полк по-ротно двинулся к санитарному бараку для античумной прививки. Японцы встречали солдат насмешливо. Кругом стояли японские патрули с пулеметами. Солдатам было приказано оставить оружие в бараках.
К врачам пропускали по одному. Они осматривали у солдата сперва глаза, уши, затем открывали рот, быстро вставляли в него бамбуковую палочку и вытаскивали язык. Давившихся солдат крепко держали за руки санитары. Врач ловко отрезал под языком кусок мяса, фельдшер щедро пихал в рот вату, залив ее иодом. Оперированного уводили, входил другой солдат.
Так поступили со всем полком. Молодые, здоровые крестьянские парни превратились в немых…
Через две недели после этого полк, именуемый «Тараном победы», перебросили вместе с японским полком на фронт. «Таран победы» двигался впереди, за ним шли японцы. Китайцы упорно обороняли свои позиции, отбивая японские атаки. Тогда японцы выдали полку «Таран победы» гранаты и бросили его на прорыв китайских линий, а сами следовали за ним по пятам с пулеметами.
«Таран победы» быстро шел вперед, все больше отрываясь от японского полка.
На китайских позициях было тихо: здесь ждали, когда противник подойдет ближе, вплотную, чтобы встретить его сокрушительным огнем. «Таран победы» был уже возле китайских линий, когда он внезапно круто повернул назад и бросился с гранатами на японцев. Японцы от неожиданности опешили. «Таран победы» со страшным мычаньем навалился на них, осыпая гранатами. Вслед за ним ринулись в атаку и китайские войска… Весь японский полк был уничтожен.
Вот маленький рассказ о том, как японские генералы хотели завоевать Китай руками китайцев и что из этого вышло.
Я плачу…
О смерти Чжоу Дя-ю в деревне Синьхэ узнали случайно.
В город Таянь привезли раненых бойцов. Повсюду шла кровопролитная война с японскими интервентами, и в таянском госпитале не хватало мест для выздоравливающих бойцов. Когда жители окрестных деревень узнали об этом, они приготовили удобные и легкие носилки из бамбука и послали свои депутации в таянский госпиталь. Выздоравливающие бойцы охотно согласились переехать в крестьянские фанзы и жить там, покуда не затянутся их раны.
В Синьхэ с нетерпением ждали раненых. Крестьяне заботливо украшали свои жилища, где должны были поселиться дорогие гости, защитники родины. В деревню ждали не менее двадцати бойцов. После долгих споров, кому из крестьян выпадет честь принять раненых в своих фанзах, решили тянуть жребий. Конечно, даже после этой разумной меры, предложенной старостой Ли Пином, осталось много недовольных. Всем хотелось приютить и приласкать раненого бойца у себя дома. Тогда опять начали спорить и наконец решили: продовольствие и одежду для раненых предоставляет вся деревня сообща, и, кроме того, возле раненых устанавливается постоянное дежурство деревенских жителей.
Далеко за околицей бродили дозорные ребятишки: они должны были оповестить деревню, когда завидят кортеж раненых. Ждали их уже второй день, и нетерпение жителей достигло высшего предела. Старики тоже выходили За околицу, взбирались на бугорки и оттуда подолгу оглядывали все пространство до горизонта.
Раненые прибыли на рассвете, когда в деревне еще спят. Дозорные мальчишки, приткнувшись друг к другу спинами, дремали. Чувствуя себя провинившимися, они, как одержимые, сорвались с места и побежали по деревенской улице, оглашая ее неистовыми криками:
— Везут! Везут! Раненых везут!..
Улица быстро заполнилась народом, устремившимся к околице. Там и встретили дорогих гостей. Староста Ли Пин взволнованным голосом приветствовал бойцов:
— Мы ждали вас, как детей наших, потому что дети наши тоже на фронте бьются с врагами. Примите нашу любовь к вам и живите у нас, если скромное наше жилище понравится вам…
Ли Пин хотел говорить еще и еще. Но он не умел произносить складные речи и к тому же волновался. Поэтому он замолк и сделал рукой широкий жест, столь красноречивый, как самое горячее, сердечное приветствие. Крестьяне быстро сменили людей, несших носилки с ранеными бойцами, и кортеж направился в деревню.
По дороге едва не разразился новый скандал: вместо двадцати бойцов в Синьхэ было доставлено всего двенадцать! Ходоки сконфуженно пожимали плечами и говорили:
— Как мы ни просили, ничего не вышло. Желающих взять к себе раненых много, очень много, а раненых очень мало. Для всех деревень не хватает…
Староста Ли Пин стал громко по именам выкликать из толпы счастливцев:
— Су Чжэн! Этот дорогой гость будет жить у тебя.
Му Тан! Проводи эти носилки с раненым бойцом в свою фанзу.
Каждое слово Ли Пина ловили жадно и послушно. Те, кого он называл, с достоинством провожали бойцов к своим жилищам. И никто больше не спорил, чтобы не нарушать шумом голосов покой гостей.
Когда распределили всех выздоравливающих бойцов, Ли Пин заметил в толпе старуху Чжоу Тун. В лицо ему ударила кровь, и он смутился. Уж если к кому надо было определить раненого бойца, так это, конечно, к ней, к старой Чжоу Туи. Все пять сыновей ее бьются с заклятыми врагами на фронте. Муж ее умер давно, и ей тоскливо жить в старости одиноко. Ли Пин горестно вздохнул и подошел к ней.
— Ты не убивайся. Мы с тобой самое главное будем делать: мы будем ходить из фанзы в фанзу и присматривать, чтобы у раненых все было в порядке и в достаточном количестве. Это наша с тобой обязанность.
Старуха молча кивнула головой. Потом она с сожалением посмотрела вслед последним носилкам, уносимым к крайней фанзе.
— Конечно, это наша обязанность — ходить за ранеными бойцами, — сказала она.
По вечерам фанзы, где находились раненые, наполнялись людьми. Все внимательно слушали рассказы бойцов или, если они молчали, развлекали их, как могли. Но чаще всего бойцы рассказывали о войне, о фронтовой жизни.
Когда Ли Пин и Чжоу Тун вошли в крайнюю фанзу, в ней было столько людей, что им пришлось прислониться к стене и стоя смотреть и слушать. На широких канах сидел молодой боец. С кан свешивалась одна нога, другая едва достигала края кан. Вернее сказать, у него почти не было другой ноги: в госпитале отрезали ее по колено. Левая рука и плечо были у него в бинтах. Сидел он веселый, все время смеялся и скалил белые крупные зубы. Ему нравились грубоватые, но добродушные крестьянские шутки, и он хохотал по-детски, от души, так громко, точно сидел у себя дома, в кругу своей семьи.
— Рассказал бы ты нам и о своей жизни, что ли! — почтительно подал кто-то голос.
— A y меня и жизни-то еще не было. Я не установился[48] еще, молод.
— Теперь время такое, — вставил Ли Пин: — кто с оружием в руках идет на врага, тот установился уже и в двадцать лет.
— Верно сказано, — поддержали Ли Пина сидящие и стоящие в фанзе люди.
Боец потрогал рукой повязку на плече, обвел всех долгим, внимательным взглядом вдруг запечалившихся глаз и сказал:
— Ладно, расскажу вам, как меня изуродовали японцы.
— Говори, говори! — зашумели и задвигались вокруг него крестьяне.
— Я простой солдат, — начал он, — а раньше работал в городе Цзинани[49]. Этот город, пожалуй, не меньше Шанхая будет. Так вот, работал я там на фабрике. Как началась война, мы, все рабочие, пошли в армию. Много народу с нами пошло. Вот так я и стал солдатом. Раньше старики так говорили: из хорошего железа не делают гвоздей, и хороший человек не пойдет в солдаты.
— Сейчас война наша, народная! — крикнула старуха Чжоу Тун.
— Сейчас, конечно, так никто уже не скажет, — продолжал боец. — Теперь все хотят попасть в солдаты и драться с японцами. Так вот, обучили нас, как надо воевать, и отправили на фронт, недалеко от Сюйчжоу. Здесь мы обороняли от японской армии участок от Тайэрчжуана до Тэнсяна. Долго мы удерживали наши позиции, и ничего японцы не могли сделать с нами — все их атаки мы отбивали. Тогда они начали день и ночь обстреливать пас из пушек, а потом и с самолетов. Многие из нас совсем оглохли от шума, но мы не отступили. Вот в этом бою я и был ранен.
Боец замолчал, достал пачку сигареток, ловко открыл се одной рукой и протянул сидящим поблизости. Люди вежливо отказывались. Боец сунул сигаретку в рот и закурил от поднесенного ему огонька.
— Шанго![50] — воскликнул он, показывая на пачку сигарет. — Шанго! — повторил он и показал большой палец правой руки. — Подарок от населения. Нам много подарков присылает население. Нас не забывают.
— Шанго, шанго! — зашептали слушатели. — Так, так. Говори, однако, дальше.
— Говори только подробно, — опять вставил Ли Пин.
— Ну, так вот, когда пошли их танки, стало нам очень страшно. Пушек у нас тогда против этих танков еще не было. И они шли на нас, не останавливаясь. Они были уже совсем близко, когда мой товарищ, тоже молодой боец, вдруг пополз навстречу танкам с двумя связками гранат.
Я думал, что он с ума сошел, и хотел его удержать. Но он даже не оглянулся на меня. А танков было штук пять. Впереди шли два, совсем рядышком, и оттуда нас обстреливали из пулеметов. Вдруг этот мой товарищ, — а он уже был близко к передним танкам, — вскочил на ноги и — раз! — швырнул под один танк связку гранат. Еще не раздался взрыв, а он уже бросил вторую связку под другой танк.
Когда гранаты взорвались, танки подскочили вверх, а потом перевернулись и упали на землю, изуродованные. Когда наши бойцы увидели это, все бросились в атаку. Пошел с ними и я. Но сгоряча я забежал далеко вперед, и вот там японцы меня ранили в плечо и в руку. А когда я упал, то один из японских танков, торопясь обратно, переехал мне ногу до колена, раздавил ее.
Но самое главное было, конечно, с моим товарищем — героем. Уничтожив два вражеских танка, он погиб под японским огнем. Вся армия наша восхитилась его поступком, и теперь многие делают так же, как и он: смело идут против японских танков. Молодой он был парень, но храбрый. Знал, что идет на смерть, и пошел.
— Почему не скажешь ты нам его имя? — спросил Ли Пин.
— Разве я не сказал? — забеспокоился боец. — Он крестьянин, из Таянского уезда, из вашего, а имя его — Чжоу Дя-ю. Теперь он известен всему народу — национальный герой!
Боец замолк. В фанзе было тихо. Все склонили головы и потом сразу, будто сговорившись, повернулись к стене, где стояла старуха Чжоу Тун. Это была мать героя. Из глаз ее лились слезы, и казалось, что она всем телом своим вдавилась в стену, так тесно прижалась она к ней спиной.
— Сын мой, — прошептала старуха, — я плачу…
Люди задвигались, освободили ей место на канах. Старуха села рядом с бойцом. Лицо ее почернело и еще больше сморщилось Она тесно сжала губы и не рыдала, но слезы все еще бежали из глаз ее.
— Сын мой!.. — едва слышно шевельнула она губами.
— Он был настоящим героем, бойцом за нашу родину, — с гордостью произнес раненый.
— Вот и некому будет позаботиться о душах наших предков. Ведь он был у меня самый младший. Я плачу…
Голос старухи дрогнул. Окруженная односельчанами, она сидела на канах, прямая и крепкая.
— Он был очень добрым и смелым, — точно вспоминая что-то, сказала старуха.
— Он был настоящим сыном народа, вот что! — воскликнул старик Ли Пин и положил свою большую руку на плечо Чжоу Тун.
— Страна еще не спасена, а одного сына уже нет. — Старуха резким движением отбросила со лба коему седых волос. — Значит, ты был в том бою? — повернулась она лицом к раненому.
— Да, мать, я был там с твоим сыном, и я горжусь этим.
— Для того чтобы победить врага, нужно отдать много крови, — сочувственно произнес Ли Пин.
— У меня осталось еще четыре сына, — вдруг поднялась Чжоу Тун. — Они отдадут свою кровь, чтобы спасти наш народ от японского рабства!
Старуха прижала голову раненого бойца к своей груди.
— Сын мой, — прошептала она, — я плачу…
Но теперь ее глаза были сухими, лицо заострилось и отвердело. В фанзе было тихо. Крестьяне почтительно молчали, уважая горе старухи Чжоу Тун, матери героя Чжоу Дя-ю…
Марш мертвецов
Трупы павших в бою солдат и офицеров сжигали на большом поле. Вокруг ровными рядами, четырехугольником построилась вся бригада; даже легко раненные притащились из полевого лазарета, чтобы присутствовать при этой торжественной церемонии. Сжигали долго.
В центре четырехугольника суетились священники, офицеры. Прямо на землю ставили маленькие фанерные ящички, обтянутые кусочками белой марли[51]. Это были урны с прахом павших в бою. Число их все увеличивалось. Наконец, когда все трупы были сожжены, священники пошли вместе с командованием бригады вдоль урн. Священники негромко приговаривали, офицеры шли молча. Командир бригады вышел в центр поля и обратился к солдатам с речью. Где-то в задних рядах зашумели.
— Солдаты! Мы выполняем великую миссию, возложенную историей на Японскую империю. Мы завоевываем Азию для того, чтобы покорить весь мир. Никакие жертвы не должны беспокоить вас…
Протолкавшись сквозь ряды, на поле выбежал офицер разведки. Подойдя к генералу, он прервал его речь и тихо доложил ему:
— Шестая бригада требует немедленной помощи. Китайцы угрожают ей полным разгромом. Она несет огромные потери.
Генерал, не окончив своей речи, махнул рукой, подозвал к себе офицеров и приказал выступать. Батальоны строились в походные колонны здесь же, на поле, и поспешно уходили в сторону шоссейной дороги Шанхай — Нанкин. Солдаты проходили мимо командира бригады и стоявших возле него офицеров. Генерал задержал две роты последнего батальона и приказал им сопровождать урны с прахом японских солдат и офицеров[52].
— Возьмем Нанкин, оттуда отправим их в Японию, — бросил он командирам рот.
Генералу и офицерам, сопровождавшим его, подали легковую машину, и они поехали тоже в сторону шоссе.
Солдаты расположились на поле, возле урн. Был полдень, солнце сильно припекало, солдаты потели. Вызванные грузовики прибыли лишь часа через три. Их нагрузили урнами доверху, и они медленно покатили через поле в сторону шоссе. Командиры рот забрались в кабины шоферов, а солдаты с унтерами и лейтенантами форсированным маршем двинулись за ними. На разбитом снарядами шоссе грузовики высоко подпрыгивали, поднимая тучи густой, едкой пыли. Урны от тряски падали на землю, и процессия задерживалась. Солдаты заново увязывали белые ящички.
Вскоре нагнали обоз бригады. Начальник обоза, размахивая руками, рассказывал офицерам:
— Китайцы отступили. Оказывается, кроме нашей бригады, на помощь шестой пришла вся восьмая и тринадцатая дивизии. Китайцы этого не ожидали. Теперь сражение идет уже на окраинах Нанкина. Теперь надо ехать прямым путем в город…
Возле переднего грузовика с урнами стоял на-часах молодой солдат Кендзи Мицухара. Он безучастно слушал торопливую болтовню начальника обоза, переминаясь с ноги на ногу.
«Теперь прямо в Нанкин, — думал он. — Очень хорошо. Значит, правду говорили, что войне этой скоро будет конец. Взять только Нанкин! Правда, сперва говорили так же, когда Шанхай брали. Нанкин в Китае — все равно, что в Японии Токио. Это, конечно, верно: если взять Нанкин, тогда войне будет конец. И тогда домой. Очень хорошо это — домой!»
Взгляд Кендзи упал на урны, обвязанные белой марлей. Они горой высились на грузовике.
«Интересно, где урна Ито Мосабуро, — на этом грузовике или на другом? Все-таки мы очень дружили, да и из одной деревни. Дома спрашивать будут, а что я им скажу? Убит во славу императора, и все».
— Однако китайцы не такие уж трусливые, как наши офицеры говорят. Вот сколько положили наших! — Кендзи с грустью посмотрел на грузовики с урнами.
Последние слова Кендзи произнес вслух и поэтому испуганно взглянул на разговаривавших офицеров. «Не слышали! — облегченно вздохнул Кендзи. — Лучше и не думать об этом», решил он.
Внезапно сверху зашумели моторы самолетов.
— Это наши! — радостно закричал начальник обоза. — Они возвращаются из Нанкина: отбомбили.
Все подняли головы к небу. С востока приближались самолеты. Их было девять, они летели низко, тесной стайкой. Лучи закатного солнца обесцветили плоскости машин, глазам было больно смотреть на них. Самолеты снизились еще больше. И вдруг сразу в нескольких местах упали бомбы. Взрывы, следовавшие один за другим, вырывали огромные ямы, высоко подбрасывали в воздух грузовики.
Одна бомба взорвалась очень близко, и испуганный Кендзи залез под грузовик и пролежал там все время бомбежки, ни о чем не думая, уткнув лицо в землю, вздрагивавшую от взрывов. Когда самолеты улетели, Кендзи вылез из-под грузовика, оглянулся по сторонам, Зажмурился и опустился на корточки. Вокруг валялись изуродованные грузовики, обозные повозки, люди. Отовсюду неслись стоны и вопли раненых.
«А говорили, что они воевать не умеют и что у них нет самолетов!» обозлился Кендзи.
Грузовик, возле которого стоял Кендзи, уцелел. Урны от сотрясения воздуха переместились к одному борту. Там, где стояли офицеры и начальник обоза, бомба вырыла глубокую яму. Рядом с ней лежал начальник обоза. Кендзи подошел к нему и увидел, что он мертв.
Все автомашины были исковерканы. Поэтому с уцелевшего грузовика торопливо сбросили урны прямо на землю и приказали солдатам взять по одной и нести до Нанкина. В грузовик уложили «боеприпасы» — огромные чемоданы и узлы, принадлежащие офицерам. Солдаты были недовольны этим, но никто не осмелился сказать что-нибудь вслух.
Кендзи взял одну урну, раздобыл кусок марли и подвязал ею коробку себе за шею. Урна была легкой, но неудобной. Когда остатки рот построились и пошли дальше вдогонку бригаде, Кендзи заметил на урне надпись. Он медленно разбирал ее на ходу:
«Тридцать третья дивизия действующей японской императорской армии в Китае. Пятая бригада, второй полк, третья рота первого батальона. Рядовой второго разряда Ито Мосабуро. Префектура Ибараки, уезд Циба, деревня Кояма, Япония…».
От неожиданности у Кендзи даже подкосились ноги. Он побледнел, ему стало не по себе.
«Значит, я буду наступать на Нанкин вместе с мертвым Ито! Так захотело небо. Он был моим другом и земляком».
Кендзи не мог отвести взгляда от надписи на урне. Он бездумно перечитывал ее раз за разом. И урна казалась ему все тяжелее и тяжелее. Словно не невесомый прах лежал в ней, а большое и тяжелое тело его земляка Ито Мосабуро.
К вечеру остатки рот подтянулись к тылу действующей бригады. Впереди шли упорные, тяжелые бои на самых подступах к городу.
Несмотря на превосходство японских сил, китайцы упорно оборонялись. Неумолчно грохотала артиллерия, обстреливая улицы города; где-то в стороне рвалась и рассыпалась со звоном шрапнель. В тыл, к полевым лазаретам, без конца проносили раненых. Их мучительные стоны наполняли вечерние сумерки. Внезапно к остаткам рот подскакал на взмыленной маленькой лошадке командир батальона и приказал прорываться в город, объятый огнем.
Нанкин горел, подожженный японцами. Ветер играл огнем, взмывая к небу величественные столбы искр и пламени. Китайцы медленно отступали, защищая каждую пядь своей земли. Солдаты бросились вперед, откинув за спины белые урны.
Чем ближе к Нанкину, тем страшнее грохотала, полыхала война. Огненные языки пламени метались в темноте, зловеще озаряя окрестности города. Рвались снаряды и бомбы, высоко в небе перемешивались люди, кони, земля.
Кендзи полз на коленях, напряженно пригибаясь к земле. В темноте он и другие солдаты наползали на мертвые тела, но когда они натыкались на раненых, те истошно кричали и плакали в беспамятстве. Это были свои, японцы. Кендзи узнавал их по крикам. «Сколько же здесь полегло?» мелькнуло у него в голове.
— Вперед! — яростно крикнул взводный.
И Кендзи, опять привалившись к земле, пополз вперед. Теперь уже было светло. Пылающий город освещал путь наступавшим. Впереди Кендзи, с боков, позади ползли по земле, через трупы солдаты его батальона с урнами на спинах.
— Марш мертвецов! — исступленно крикнул Кендзи.
В грохоте пулеметной пальбы и треска китайских гранат этот крик никто не услышал.
— Домо-о-ой! — опять завопил Кендзи, припадая к земле и продираясь вперед.
Подскакивая, урна била его по спине.
— Банзай! — вдруг над самым ухом Кендзи закричал взводный. — Банзай!
Солдаты вскочили на ноги и бросились вперед, вытянув перед собой короткие ружья с широкими штыками. Навстречу им прямо из огня выскочили из города люди. Они бежали молча. И когда уже казалось, что японские штыки проткнут этих смельчаков, они швырнули в лица японцам гранаты.
Кендзи высоко подбросило взрывом, и, падая на землю, он вспомнил о друге и земляке Ито Мосабуро, чей прах лежит у него за спиной в урне: «Что сказать в деревне о нем?»
Но в это время кровь подступила к горлу, и Кендзи, захлебываясь, прошептал:
— До-мо-ой!..
Скорчившись, он замер на земле, освещенной заревом нанкинского пожара.
Три девушки
Китайские войска защищали Путун уже больше недели. Их было немного: всего лишь один батальон отбивался от целой японской бригады, окружившей Путун со всех сторон. Японские снаряды и бомбы разрушали улицы и дома; толпы жителей метались по городу, окраины которого пылали, подожженные японскими снарядами.
Китайские солдаты не отступали. Батальон свой они назвали «отрядом смерти» и отказались оставить позиции даже тогда, когда главнокомандующий приказал отступить. Бойцы, измученные ожесточенными боями, но полные решимости сопротивляться захватчикам, яростно оборонялись. Они отстаивали каждую пядь своей земли, обильно поливая ее кровью.
В батальон все время прибывали новые силы — юноши, девушки, старики. Они брали винтовки из рук сраженных бойцов и стреляли во врага, еще не умея поражать. Они постигали искусство борьбы с врагами здесь же, в пороховом дыму, в грохоте разрывов.
В полдень восьмого дня японские части ворвались в город.
От всего батальона защитников города уцелела маленькая горсточка храбрецов. Прячась за выступами домов, залегая в канавы, они продолжали обороняться, встречая японцев пулеметным огнем и гранатами. Вскоре в городе наступила тишина. Не слышно было больше орудийной пальбы и взрывов. Путун был взят японцами.
В подвал разрушенного снарядами дома вползли три девушки — гранатометчицы героического батальона. Все три девушки еще восемь дней назад были работницами путунской шелкомотальной фабрики. Они лежали в подвале неподвижно и молча — говорить не хотелось. С улицы доносились выстрелы и душераздирающие крики жителей.
Там, наверху, на улицах, части «императорской армии» расправлялись с китайским населением. Они сгоняли всех мужчин — стариков и юношей — на площадь перед высокой стеной путунского чугунолитейного завода и расстреливали их из пулеметов. Женщин, подгоняя штыками, вели по улицам к огромному пустырю на берегу реки Ванпу[53], где расположились лагерем японские войска.
Девушки лежали в подвале и напряженно прислушивались к крикам, доносившимся с улицы.
— Лучше умереть, чем попасть к ним в руки! — сказала маленькая Чжи.
— Они волокут женщин к себе в лагерь для солдат и офицеров! — вскрикнула У Ма.
Шум на улице затихал. Крики становились все тише.
— Мы не должны оставаться здесь: они и до нас доберутся, — вдруг сказала все время молчавшая Ху Лань.
— Не хочешь ли ты, чтобы мы сами к ним пошли? — спросила ее маленькая Чжи.
— Да, мы должны сами к ним пойти, — спокойно ответила Ху Лань.
Маленькая Чжи и У Ма переглянулись между собой и вопросительно уставились на Ху Лань.
— Нам не выбраться отсюда живыми, — промолвила Ху Лань. — И если нам суждена позорная смерть от японских насильников, то мы можем дорого продать свои жизни. У нас остались еще гранаты, целых восемь штук! Этого достаточно, чтобы они заплатили нам дорого. — Ху Лань замолчала.
— Ху Лань… — Голос маленькой Чжи дрогнул. — Я не боюсь умереть. Говори, что надо сделать, и я пойду с тобой.
— Я тоже пойду, — громко сказала У Ма. — Лучше умереть сегодня как человек, чем завтра как раб.
— У нас восемь гранат. Я беру три, ты, У Ма, берешь три, а ты, Чжи, две. Их легко спрятать под халатом. Вот так! — Ху Лань уложила под халат гранаты и стянула его ремнем. — Потом мы идем прямо в японский лагерь. Когда они подойдут к нам…
Ху Лань зашептала едва слышно. Маленькая Чжи и У Ма, склонившись к ней, внимательно слушали.
Девушки выползли из подвала на улицу, отряхнули с себя грязь и пошли в сторону Ванпу. На улице никого не было. Они уже подходили к японскому лагерю, когда их заметили часовые. Солдаты кричали друг другу, смеялись. Девушки спокойно приближались к воротам лагеря. Здесь уже толпились сотни две солдат. Из ближней палатки вышли два офицера и тоже направились к солдатам. Девушки остановились у входа.
— Сами пришли — это очень хорошо! — осклабившись, сказал рябой унтер.
Он уже повернулся, чтобы итти, когда увидел, как сквозь расступившуюся толпу идут офицеры. Девушки стояли у входа, бледные, неподвижные. Офицеры подошли к ним вплотную. За ними двинулась вся толпа солдат. Офицеры переговаривались между собой и смеялись. Один из них, высокий и худой, с золотым пенсне на носу, подошел к маленькой Чжи и взял ее рукой за подбородок. Девушка бросила вопросительный взгляд на Ху Лань, уловила ее кивок и неожиданно оттолкнула от себя офицера.
В японцев полетели одна за другой гранаты. Ошеломленная толпа солдат завыла и рванулась в стороны. Но гранаты настигали солдат. Вокруг лежали тела убитых. Раненые отползали к изгороди из колючей проволоки. Метнув последнюю гранату, Ху Лань обняла подруг. Они спокойно смотрели прямо в лица подбегающим солдатам. Подруги стояли обнявшись, когда их тел коснулись холодные лезвия штыков…
Примечания
1
Банзай — по-японски — ура.
(обратно)2
Гейши — профессиональные певицы и танцовщицы в чайных домиках Японии.
(обратно)3
Сохранена оригинальная орфография — Прим. верст. fb2.
(обратно)4
Большинство японцев носит очки.
(обратно)5
Саке — рисовая водка.
(обратно)6
Иена — японская монета; равняется 1 р. 46 к.
(обратно)7
Роскэ — русский.
(обратно)8
Чэнду — главный город самой большой провинции Китая, Сычуани.
(обратно)9
Великий поход китайской Красной армии из Центрального Китая, из провинции Цзяньси, на северо-запад страны, в провинцию Шэньси. Китайская Красная армия совершила этот небывалый в истории, труднейший и длиннейший переход в десять тысяч километров. преодолевая в пути пустыни, болота, горные хребты, бурные реки. Весь этот неслыханно тяжелый поход она совершила в условиях беспрерывных боев с многочисленными армиями противника. В этом рассказе описывается только последний этап похода Красной армии — из провинции Сычуань в провинцию Шэньси.
(обратно)10
Да здравствует Мао Цзе-дун!
(обратно)11
Лю Вень-хой — известный сычуанский милитарист, притеснявший население.
(обратно)12
Ли — примерно около ¾ километра.
(обратно)13
Жуйцзинь — бывшая столица Советского Китая, в провинции Цзяньси.
(обратно)14
В доме китайского крестьянина много дверей. На ночь они снимаются и используются в качестве кроватей.
(обратно)15
Танская эпоха — эпоха династии танских императоров в Китае (618–907 годы). В тайскую эпоху большое развитие получили китайская литература, искусство и философия.
(обратно)16
Сюй Хай-дун — командир так называемого Пионерского корпуса китайской Красной армии.
(обратно)17
Дунгане — народ, живущий в Западном Китае. Дунгане говорят на китайском языке (на северном наречии), исповедуют ислам. Быт, одежда, дом и утварь у дунган точно такие же, как и у китайцев.
(обратно)18
Люкоуцзяо — пункт в районе Бэпина (провинция Хэбэй, Северный Китай). 7 июля 1937 года японские войска, неожиданно спровоцировав китайцев, начали военные действия возле Люкоуцзяо.
(обратно)19
«Ван-ба-дянь» («черепашье яйцо») — ругательство по-китайски.
(обратно)20
Пампушка — хлебец.
(обратно)21
Стереотруба — стереоскопическая труба — современный оптический прибор, представляющий собой как бы комбинацию бинокля и перископа. Стереотруба дает возможность видеть по ломаной линии и удаленные предметы.
(обратно)22
Эдикт — повеление императора.
(обратно)23
Хибати — печка в виде ведра, наполненного углем.
(обратно)24
Сямисэн — японский трехструнный музыкальный инструмент вроде домры.
(обратно)25
Сена — мелкая японская монетка.
(обратно)26
Иосивара — район Токио, где сосредоточены так называемые чайные домики.
(обратно)27
Эта — так называемая бесправная, унижаемая и угнетаемая в Японии каста, насчитывающая до трех миллионов человек.
(обратно)28
Самураи — привилегированная военная дворянская каста в Японии.
(обратно)29
Осака — крупный промышленный центр Японии.
(обратно)30
Формоза — остров на Тихом океане, принадлежавший ранее Китаю и захваченный Японией после японско-китайской войны 1894–1895 годов.
(обратно)31
Му — около 1/16 гектара.
(обратно)32
Речь идет о первой попытке японцев (в 1874 году) захватить Формозу.
(обратно)33
Северо-восток — Манчжурия.
(обратно)34
Лань Чжи — древнее китайское имя; означает: «Орхидея бессмертных».
(обратно)35
Майко — гейша-ученица, выступающая как танцовщица.
(обратно)36
Гиндза — главная улица Токио, деловой центр.
(обратно)37
Манчжурская кампания — захват японскими войсками Манчжурии в сентябре 1931 года.
(обратно)38
Японский император Мейдзи Мутцухито умер в 1912 году.
(обратно)39
Генерал Араки — лидер военно-фашистского лагеря Японии. В 1938 году получил пост министра просвещения.
(обратно)40
Известный японский генерал Hoги — участник японо-китайской войны 1894 года и русско-японской войны 1905 года. После смерти императора Мейдзи в 1912 году Ноги покончил самоубийством в знак преданности императору. Ныне Ноги прославляется японскими фашистами как образец самурая.
(обратно)41
Сэппуку, или харакири, — самоубийство путем вспарывания живота.
(обратно)42
Отряд «Белых Тасуки» составлялся из отборных солдат разных дивизий.
(обратно)43
Хуан-Хэ — Желтая река, одна из крупнейших рек Китая.
(обратно)44
Каны — широкая лежанка, сложенная из кирпича, отапливаемая снизу таким образом, что жар проходит вдоль всей лежанки, занимающей иногда большую пасть фанзы.
(обратно)45
Тенно — так японцы называют своего императора. Слово «микадо» почти не употребляется в Японии.
(обратно)46
После захвата Манчжурии в сентябре 1931 года японские империалисты превратили ее в «государство Манчжу» (Манчжу-Го). Императором Манчжу-Го они объявили марионетку Пу И, создали правительство из своих агентов, организовали армию под командой японских офицеров.
(обратно)47
Манчжурия отделена от остального Китая Великой стеной. Застенные китайцы — жители Северного, Южного, Западного и Центрального Китая.
(обратно)48
«Не установился» — широко распространенное в Китае выражение: означает, что человеку еще не исполнилось тридцати лет; что он еще очень молод.
(обратно)49
Цзинань — главный город провинции Шаньдунь.
(обратно)50
Шанго — хорошо. В Китае есть сигареты марки «Шанго» (на коробке изображен большой палец правой руки).
(обратно)51
Белый цвет является в Японии цветом траура.
(обратно)52
Согласно традиции, тела погибших за пределами Японии японцев сжигаются и урны с прахом отправляются в Японию. Особенно сильна эта традиция в армии и во флоте.
(обратно)53
Река Ванпу — приток реки Янцзы; на реке Ванпу расположен город Шанхай.
(обратно)






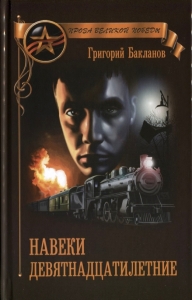


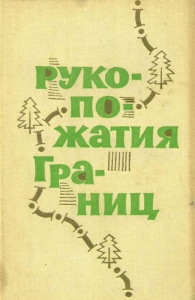
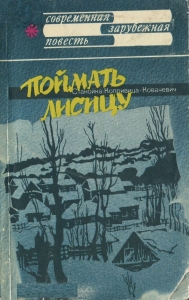
Комментарии к книге «Гнев (илл. Р. Гершаник)», Александр Моисеевич Хамадан
Всего 0 комментариев