КЛЮЧИ ОТ ДВОРЦА Роман
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Казалось непостижимым, что, вопреки беде, которая сжимала сердца людей, они все-таки продолжали цепко примечать издавна милую смену времен года — пленительный переход от летнего зноя, сделавшего ломкой листву тополей и акаций, к прохладе и прозрачности августовских зорь, к шелковисто-светлой пряже, замерцавшей над тротуарами, наконец, к первому инею, выбелившему крыши домов и кусты сирени, что упрямо устояла перед заморозками. А возможно, такой переход в пору всеобщей беды даже еще сильней, с пронзающей болью западал в душу оттого, что люди надолго, а кто и навсегда, прощались с привычным, мирным чередованием дней. Отныне этим дням суждено было понестись стремительно, лихорадочно, встревоженно. И уже в окнах отведенной под госпиталь школы-десятилетки забелели халаты медсестер. Уже лопаты, те самые лопаты, что недавно вскапывали огороды, теперь поспешно углубляли во дворах щели-укрытия. Уже реже стали появляться почтальоны, а их сумки наполовину опустели без киевских и московских газет. И косяки журавлей, пролетающие на юг и привыкшие видеть на своем пути этот край густо расшитым соцветиями огней, беспокойно курлыкали, удивляясь, что тянется и тянется под крыльями загадочная, непроницаемая темень…
Осташко возвращался с шахты далеко за полночь. Он обогнул сонно шумевшие градирни и зашагал вдоль железнодорожного полотна к мосту, который соединял старую часть города с новой. Сколько раз проходил он этой дорогой, знакомой до каждого камушка под ногами, а никогда еще не было так тяжело, как сейчас. Он даже пожалел, что сам вызвался выполнить горькое, тягостное поручение горкома, да еще вдобавок уступил нахлынувшему влечению и спустился в шахту. Обрек себя еще на одну бессонную ночь, а взамен — что на душе? Лишь в какую-то минуту, когда он вышел из клети под бетонные своды ярко освещенного квершлага, услышал властно нагнетаемый разгаром рабочей смены ровный гул вагонеток и обыденные сигналы рукоятчика, увидел сваленный у ствола свежего распила лес, возникло обманчивое ощущение, будто то, что осталось там, наверху, просто дурной сон, а здесь все по-прежнему незыблемо. Но тут же из ниши, где стоял телефон — Осташко как раз проходил мимо нее, — раздался девичий голос:
— Павлинка, Павлинка! Механика нужно… Полчаса звоню… Механика вызови, слышь? Да что молчишь? Уже разбомбили вас там наверху, что ли?
И хотя голос был не таким уж обеспокоенным, а даже задорным и хорошо знакомым, — Осташко узнал мотористку, которая много лет занималась в хоровом кружке Дворца, — все равно мысли возвращались к тому, что осталось там, наверху, — тревожному, страшному…
Он свернул в штрек седьмого участка, единственного участка, который еще продолжал работать. Луч аккумуляторки метался и высвечивал подпиравшие кровлю пары, скользил по накатанным до лунного блеска рельсам. Гул колес то затихал, словно относимый ветром, то снова нарастал, а Осташко уже не мог пересилить зловещего предчувствия, что видит он все это и слышит в последний раз.
В забое рубил уголь Шапочка, старый забойщик, школу которого прошел едва ли не каждый второй из молодых шахтеров рудника, да и сам Осташко в свое время перед памятным, повернувшим его судьбу отъездом в Ленинград лесогонил в бригаде Семена Ивановича. Шапочка сейчас не мог не заметить присевшего неподалеку Осташко, но работу не прервал. Обнаженный по пояс, он рассекал «куток» и упрямо ворочался в теснине пласта, словно раздвигал его не отбойным молотком, а всей своей прерывисто вздымавшейся грудью, локтями по-стариковски узловатых, но еще крепких, мускулистых рук. Лишь закончив рассечку, опустил молоток и, отирая, вернее, размазывая ладонью на удлиненном морщинистом лице пот и угольную пыль, повернулся к Осташко.
— Ну что, Алешка, там, наверху? Будем в этом году солить огурцы или нет?
Он все еще шутил!.. Если не в голосе, то во взгляде, которым встретил сочувственный взгляд Алексея, сохранилась, да, все еще сохранилась и выдала себя блеском глаз притаенная надежда на какую-либо бодрящую весть.
— Плохо, Семен Иванович, очень плохо, — признался Осташко, понимая, что в любом случае обязан сказать всю тяжкую правду, не подкрашивая ее никакими словами утешения.
— Небось жмут и по эту сторону Днепра?
— Да… Считай, что уже здесь, в Донбассе…
— Тогда, выходит, напрасно и стараемся тут? Есть насчет нашего брата-забойщика какая команда?
— Только что был в шахтоуправлении. Передал решение горкома — сворачивать работу…
— Что ж так, товарищи командиры? — подавленно спросил Шапочка.
Алексей отвечать не стал. Молчали.
— Эх, хлопцы, хлопцы! — тоскливо вздохнул забойщик, и этот укоризненный его возглас больно задел Алексея. Упрекает? До того ли сейчас?
— Ты тоже таким хлопцем был… разве чуть постарше, когда Донбасс деникинцам оставлял…
— Э, сравнил! Что тогда оставляли? Обушки? Горемычные землянки?
— В землянках люди жили… Пацаном был, а помню, как стоял у террикона и ревел, когда красные отходили.
— То другое время, Алеша, было. Тогда против нас четырнадцать держав шло, а мы одни…
— Мы и сейчас пока одни. А он, Гитлер, тоже не меньше держав в Европе обобрал, прежде чем на нас двинуться.
— Зато ж Врангелю рудников не отдали, шиш показали. Сказал Ленин во что бы то ни стало удержать Донбасс — и удержали. А черный барон тоже с танками пёр…
— То комашки перед нынешними… Да что я тебе объясняю? Сам не хуже меня знаешь.
— Сам… Да уж, конечно, и сам вижу… — повторил Шапочка. И вдруг странно замигал глазами, невпопад зашарил рукой по холодному сланцу, нащупывая молоток, нашел его и, будто мгновенно позабыв об Алексее, придвинулся к пласту. Молоток взъярился, застучал, над забоем взметнулось, нависло, становясь плотней и плотней, облако угольной пыли. Шапочка с ожесточенной силой вгонял пику в пласт, ломал его, откалывал крупные глыбы угля, не глядя по сторонам, без единой минуты передышки. Исступленно бился, содрогался отбойный молоток, содрогались вцепившиеся в него руки, содрогались, тряслись плечи, круто выгнутая спина… И Алексей понял, что старый забойщик сейчас переживает то же, думает о том, о чем и он сам, — прощается с шахтой… Да, все это в последний раз… С этой мыслью и поднялся Осташко час спустя на-гора…
— Стой! Кто идет? Пропуск! — внезапно всполошился и окликнул его уже на той стороне моста по-мальчишески ломкий, настуженный голос.
Осташко вынул из верхнего кармана и протянул картонный квадратик, забеспокоившись не столько за себя, сколько за этого парнишку из истребительного батальона — как он сможет во тьме что-либо прочесть? Но подошел еще один боец, вероятно старший, и они, заслоняя свет, пустили в ход карманный фонарик, спустя минуту вернули пропуск.
— Что же вы, товарищ Осташко, пошли по боковой дорожке?
— А что такое? Нельзя? Пешеходная ведь.
— Была пешеходная, да только еще неделю назад перила сняли… Мастерским полуторадюймовое железо понадобилось. Там же при входе приколотили перекладину. Разве не заметили?
— Кажется, что-то действительно было… — Алексей вспомнил, что споткнулся о какую-то доску и ногой отбросил ее прочь.
— Вот видите, — пожурил патрульный, — а вы напрямик. В рубашке, видать, родились… Иначе бы… полшага в сторону — и все… Мост-то высокий.
— Фу ты черт, действительно глупо получилось. — Алексей оторопело оглянулся на оставшийся позади мост. В самом деле, стоило ему сделать роковые полшага в сторону или же на ходу протянуть руку туда, где она раньше всегда находила отполированные множеством ладоней прутья перил, и полетел бы вниз головой на рельсы… Но он чудом счастливо миновал эти сто зловещих метров просто потому, что шагал прямо, ни на минуту не усомнившись, что рядом есть незримая в этот поздний час, но оберегающая прохожих, надежная опора… И хотя, побывав вот так нежданно рядом со смертью, очутившись бок о бок с ее ледяным плечом, Осташко долго не мог отогнать от сердца жутковатый холодок, в то же время резко и отчетливо прояснились, очистились от смятения все мысли… Главное — ни на шаг не свернуть в сторону! Не усомниться! Не поддаться растерянности. Тогда можно пройти по кромке любого обрыва, какая бы бездна ни чернела внизу под ногами. И он теперь с душевным облегчением распространял этот свой вывод не только на свою везучую судьбу, но и на судьбу Шапочки и всех его хлопцев, на судьбу всей своей страны, своего народа. Идти прямо! Не колеблясь! Не поддаваться малодушию. Лишь это спасет.
Дворец культуры выступил из темноты молчаливой, сиротски заброшенной громадой. Прежде круглую ночь не гасла на его фронтоне шахтерская лампочка, освещая цементные страницы раскрытой книги и барельеф Ильича. И даже за полночь всегда горело какое-либо окно. Чаще всего в комнате драматического кружка или в изостудии. Сейчас — ни зги. Однако что это — неужели почудилось? В угловом окне второго этажа, там, где помещалась библиотека, вроде бы внезапно прорезалась и так же внезапно исчезла узкая темно-золотистая полоска. Осташко невольным жестом нащупал в кармане ключи. Хотя уже второй месяц работал в горкоме партии, а все-таки не расставался с ними, как не расставался и с печатью правления — некому передавать. Позавчера сам же оттиснул ее на эвакуационном удостоверении библиотекарши, и где-то, наверное, уже далеко — за Доном или за Волгой, — уходящий на восток эшелон. «Конечно, почудилось». Но тут же снова по мертвенно-тусклому стеклу окна полыхнул неяркий отблеск, и Осташко поднялся на крыльцо, отпер дверь. Знал, что свет Дворцу давно не дают, но все-таки нащупал выключатель, впустую щелкнул им и, еще более недоумевая, пошел темными коридорами в глубь здания.
За стеклянной дверью читального зала горели свечи. Лавр Семенович стоял на стуле и снимал со стены картину. Ему помогал Лембик. И художник и завхоз не слышали шагов Осташко, и он, остановившись у порога, несколько минут молчаливо наблюдал за ними. Картина, которую они сейчас держали в руках, была особой достопримечательностью Дворца. Дар ныне известного всей стране живописца, чьи полотна были выставлены и в Третьяковке. В пору своей молодости, вскоре после революции, он приезжал из Москвы сюда, на шахту, рисовать и тогда же оставил городу эту едва ли не первую свою значительную работу. Незамысловатое название — «Кружок ликбеза». В те годы еще не было этого Дворца культуры с его театральным, лекционным и спортивным залами, с вертящейся сценой, с многочисленными кружками и студиями; рабочий клуб тогда теснился в трехоконном деревянном домике около рудничных ворот; здесь проходили занятия ликбеза… Картина была написана маслом в строгих темных тонах, но на лицах бородатых учеников отражалась такая неуемная жажда познания и прямо-таки детская изумленность перед своими первыми открытиями, что казалось, в низкой комнатушке помимо чадящей керосиновой лампы есть и еще какой-то, куда более сильный источник света. Центральную фигуру картины, шахтера, придерживающего одной рукой обношенную, сползающую с плеч шинель, а другой раскрывшего букварь, художник рисовал с Семена Ивановича Шапочки. В чернявом, запальчивого вида подростке-культармейце, который сидел рядом с Шапочкой, Алексей легко узнавал самого себя. Первое поручение комсомольской ячейки!.. Полотно обрамлялось багетом из мореного дуба и было на месте здесь, в просторном читальном зале, напоминая о не таком уж далеком прошлом.
В руке Лавра Семеновича что-то сверкнуло. Бритва?! Ее лезвие словно полоснуло Осташко по сердцу, и он, вскрикнув, шагнул вперед. Федоров вздрогнул, вскинул голову. В глазах — страдание, безумная отрешенность человека, только что, вопреки своему побуждению, учинившего святотатство. А Лембик глянул на Осташко грустно, сочувственно.
— Прости, Алеша, что без тебя распорядились… Что поделаешь? Думали, думали, и ничего другого на ум не пришло… Не оставлять же… В рамах, сам понимаешь, не увезти, а так иное дело… На самый худой конец легче и прятать. Верно ведь?
— А почему вы еще здесь, почему не уехали с заводским эшелоном? — не отвечая Лембику и этим косвенно подтверждая свое согласие с ним, напустился Осташко на Федорова. — Кировцы уехали три дня назад… Вы ждете, что вам подадут отдельный вагон?
Это было сказано, конечно, грубо, но Алексей по-настоящему рассердился. После того как Дворец закрылся, он работал в горкоме и отвечал за эвакуацию школ, техникума, детдома, больниц, а вот, оказывается, здесь, во Дворце, где и подавно должны бы с ним считаться, самовольничают. И кто? Старый, больной Федоров, которому в случае непредвиденной задержки с эшелонами так просто из города не уйти. А Федоров стоял все так же отрешенно, страдальчески глядя на свернувшийся в его руках холст. Лишь минуту спустя повернул к Алексею бледное, совсем осунувшееся в эти дни лицо и поднял глаза, в которых наконец-то проглянула осмысленность.
— Я был на станции, Алексей Игнатьевич. Отправил жену… И сам сел в вагон… Но потом вернулся… Потом понял, что одного себя спасти невозможно… Да, невозможно…
— Кажется, вы уезжаете не одни…
— Вы меня не так поняли, — твердо поправил Федоров и повел взглядом по стенам зала, где в тяжелых рамах висели другие собранные им картины. — Я много пожил… И ведь это тоже я!.. И там тоже я!.. — Он кивнул на дверь, что вела в Большую гостиную.
— Ну что ты пристал к человеку? — вмешался Лембик. — Не беспокойся, уедет. Фашистам его не оставим. Это уж моя забота…
— Ишь, облегчил. Спасибо! Только все же горком спросит не с тебя, а с меня. Кстати, и тебе самому пора в дорогу. Не нужен ты больше здесь. Обойдемся.
— А вот это, Алексей, извини, ты уж сунул нос не в свое дело… Обойдутся без Лембика или не обойдутся — судить не тебе… Давай помолчим об этом, — решительно оборвал завхоз разговор о себе. Он сразу будто замкнулся. И Осташко понял, что коснулся недозволенного даже ему, работнику горкома, коснулся того, о чем в эти дни идет речь разве лишь там, за плотно обитой дверью кабинета первого секретаря.
Но Лембику, наверное, показалось, что Алексей обиделся, а обижать его сейчас никак не хотелось, и он уже иным, примирительным, дружеским тоном спросил:
— Ты ведь политруком, кажется, аттестован?
— Политруком…
— Видишь, а я рядовой красноармеец, да и то бывший… Пятьдесят шестой год. Ни под первую, ни под вторую очередь мобилизации не подхожу. Не знаю, дойдет ли дело до третьей. А того обстоятельства, что в гражданскую партизанил, военкомат во внимание не принимает. Списали… Тут ты прав… Однако распоряжаюсь собой сам.
— И собой распорядиться надо умеючи.
— Есть распорядиться умеючи, товарищ политрук!
Осташко не мог не почувствовать, что его завхоз, дотошливо считавший во Дворце каждую копейку, каждый лист бумаги и, казалось, ничем другим не интересовавшийся, теперь словно бы приподнялся над ним, Алексеем, своим житейским опытом, бывалостью, знанием своего места в завтрашнем дне.
Федоров и Лембик снова взялись за дело — снимали одну за другой картины, освобождали полотна от рам. В помощи они не нуждались: никто в городе лучше Лавра Семеновича истинной ценности каждого холста не знал.
Алексея неудержимо потянуло к книжным стеллажам. Неужели и здесь он в последний раз? А ведь библиотека, лучшая не только в городе, но, пожалуй, и в области, создавалась и вырастала при нем. Он стал одним из первых ее читателей еще мальчишкой, в те времена, когда на ее полках лежали только первые советские кодексы, тощенькие брошюры о продналоге, о комбедах, о борьбе с разрухой, прижизненные издания Ленина; потом — тоже первые — послереволюционные издания Чернышевского, Толстого, Шевченко, Герцена, Коцюбинского, Короленко, Горького, на пошерхлых страницах которых перед ним, шахтарчуком, открывалась волнующая людская правда… Много позже, когда после учебы в Ленинграде он стал директором Дворца культуры, среди всех привязанностей, владевших сердцем, сильнее всего была привязанность к библиотеке. Может быть, потому, что здесь не приходилось мириться со второсортностью, а получать все из первых рук лучшее? И как он хитрил со сметами, как он спорил в культотделах, в бибколлекторах, в шахткоме, выкраивая лишнюю сотню рублей на пополнение фондов!..
Корешки книг, потрепанные и новенькие, зачитанные и еще не успевшие побывать в руках шахтеров, нарядные и скромные, сейчас, при сумрачных отблесках свечей, сомкнулись на стеллажах в пасмурном безмолвном строю. Неужели и им суждено заполыхать одним из тех костров, каких уже немало подожгло на площадях Европы злорадно торжествующее насилие? Бидон керосину, спички — и вот уже корчатся в пламени, обращаются в пепел мудрые страницы…
Алексей стал было снимать с полок и откладывать книги, какие хотелось бы уберечь прежде всего, во что бы то ни стало… И те, к которым сохранил искреннюю горячую привязанность еще с юности, и те, глубокий след от которых был в душе еще совсем-совсем свежим… Но их прибавлялось и прибавлялось, стопа росла, рядом с одной появилась другая, третья. Нет, все это напрасно!.. Даже оскорбительны для глаз зазиявшие на стеллажах черные дыры. Это все равно, как если бы кто-либо пытался отыскать и вытащить из стен воздвигаемого веками здания те камни, которые придают ему наибольшую красоту, прочность и устойчивость. А в кладке они нужны все — уложенные мастерами и подмастерьями, и те, что легли в фундамент, и те, что завершают свод.
…Рассветало, когда все трое вышли из Дворца. Лица захолодил жесткий северный ветер. До этого октябрь нет-нет да и баловал солнцем, переменчивым теплом Приазовья, чистым лазоревым небом, а сегодня день с самого начала хмуро насупился, казалось, что сизые тучи надолго приникли к крышам домов и оголенным верхушкам деревьев, и уже не преждевременный ли снег таило и несло в себе отяжеленное чрево туч? Земля крепко промерзла, между нею и косматой грядой, нависшей с неба, глухо перекатывались громы далекой канонады. Вчера ее не слышали — придвинулась за ночь. По проспекту разрозненно тянулись войска. Большинство красноармейцев налегке — утомленные, грязные — предпочли зябнуть в гимнастерках, чем тащиться в задубевших и отсыревших шинелях. Проехало несколько артиллерийских запряжек, на стволы орудий были нанизаны скатки. С лязгом прошла небольшая колонна танков. Двигались, не выбирая дороги, наезжая гусеницами на цветочные куртины, что тянулись вдоль проспекта. Но если бы они направлялись туда, откуда доносились громы; нет, миновали Дворец, свернули влево, загромыхали по мосту — на Енакиево…
Осташко, Федоров и Лембик расстались у Дома Советов, Лавр Семенович зажал под мышкой сверток с холстами и торопливо зашагал к себе на Комсомольскую, дав слово через час быть на станции. Лембик сказал, что ему надо встретиться с зятем.
Алексей поднялся на второй этаж, в горком. Двери всех комнат были раскрыты настежь, в комнатах — безлюдье, на столах ни единой бумажки, только пепельницы с окурками… И хотя точно так же здесь было и вчера, ничего не изменилось и не прибавилось, все-таки веяло какой-то новой, сгустившейся тревогой. В приемной Зенина, где посетители горкома привыкли видеть и слышать подвижную, словоохотливую Марочку, сидел, явно борясь с дремотой, молоденький рыжеватый сержант. Он предостерегающе вскочил при появлении Осташко и чуть не собрался задержать его, но не успел — Алексей открыл дверь кабинета…
Зенин разговаривал по телефону; возле аппарата сидел и как бы тоже участвовал в разговоре незнакомый тучный майор. Его фуражка лежала на столе, и он устало отирал платком запыленное, посеревшее лицо.
— Выводите людей из шахты! — кричал Зенин. — Да всех же, всех, повторяю! И машинистов водоотлива тоже. Чтобы к вечеру ни одного человека там не было! А дальше — дальше сам узнаешь… Будь только на месте.
Алексей, собравшийся было доложить о выполненном поручении, понял, что теперь это ни к чему.
Секретарь опустил на рычажок трубку и, посмотрев на Осташко, произнес одеревенелым голосом:
— Вот так, Алексей!..
А потом поднял трубку майор и кинул в мембрану всего два слова:
— Воловик? Переключайся…
Он вынул из кармана галифе аккуратный красивый ножичек, обрезал телефонный шнур и встал:
— Ну, а теперь в штаб… на полевую связь.
2
И после этой ночи время помчалось, завертелось шальным, безудержным, слетевшим с оси колесом. Потом, много позже, Алексей так и не мог толком вспомнить, сколько же суток — трое? пять? семь? — прошло с той минуты, когда незнакомый военный обрезал провод горкома, до прощального свистка паровоза, увозившего из Нагоровки последний эшелон. Все эти несколько суток слились в одни — бессонные, изнуряющие, хотя еще работал городской радиоузел и динамики пока доносили из Москвы бой часов на Спасской башне и сводки Совинформбюро — утренние, вечерние. Но оттого, что вести накатывались одинаково безотрадные, тяжелые, сводки, казалось, сливались в одну — понурую, тягостную…
С рассветом Осташко уезжал в Железнянскую степь, где силами самих нагоровцев подготавливался полевой аэродром, но потом надобность в нем отпала.
Вышло еще несколько номеров городской газеты. За эти военные месяцы уже дважды уменьшался ее формат, и сейчас она была размером с листовку, которую выпускал оставшийся за редактора — того призвали в армию сразу же, 22 июня, — секретарь редакции Сорокин. Он прибегал в горком, негодуя то на почту, которая не забирает тираж, то на электростанцию, с перебоями подающую ток в типографию. А теперь, выпустив последний номер, Сорокин разыскал и перехватил Осташко при выходе из школы, где на казарменном положении разместились немногие оставшиеся горкомовцы. Волнуясь, он стал выкладывать свою, как считал, самую большую беду.
— Помоги, Осташко… Что делать с ротацией? Надо решать… Заводские станки погрузили, отправили, а она разве дешевле?
Длинновязый, исхудавший, с глазами, в которых лихорадочно металась неутраченная надежда. Но чем можно было ему помочь?
— Не сумел вывезти раньше — что же теперь о ней говорить?
— Раньше? — взъярился Сорокин. — Раньше ты же сам требовал в срок выпускать газету во что бы то ни стало… А сейчас, выходит, Геббельсу такую машину подарим?
Алексею пришлось однажды видеть в работе эту саженной высоты махину, из-под стальных барабанов которой вылетали газеты. Двадцать тысяч в час!.. Стало и впрямь жалко…
— А ты управишься ее разобрать?
— Если два-три хороших мастера — то за один день.
— А у тебя они есть?
— Ни одного… Надо вызвать из области…
— Так что же ты мне голову морочишь? — разозлился Осташко. — Области теперь только и всех хлопот, что твоя ротация? Ею теперь займется истребительный батальон. Немцам она не достанется…
— Истребительный? — в ужасе снизил голос до шепота Сорокин. — Рыбинской ротацией? Двухрольной? Ты спятил?
— А как ты думал? При вынужденном отходе… — Осташко хотел было напомнить Сорокину июльское выступление Сталина, но не договорил, оборвал: — Сам же все печатал… Растолковывать тебе? Ступай к черту… Хотя постой… Ты пишущие машинки отдал тому человеку, что я посылал?
Сорокин, поднимаясь на крыльцо, очевидно, для того, чтобы обратиться еще и к Зенину, неопределенно махнул рукой. Жест отчаяния? Что, мол, спрашиваешь о пишущих машинках, когда гибнет ротация? Но той Нагоровке, которая смотрела на них распахнутыми окнами опустевшего Дома Советов и дымилась штабелями невывезенного угля и кострами сжигаемых, дотлевавших архивов, как раз незамысловатая пишущая машинка становилась теперь дороже, чем ротация, обрекаемая на слом. Правда, Алексей не знал даже фамилии посланного им к Сорокину человека… Позвонили, приказали встретить, распорядиться.
— Так отдал, я спрашиваю?
— Да отдал, отдал обе… Что, я из них стрелять по гитлеровцам буду?
Алексей спешил в Покровское. Там, в излюбленном месте летнего отдыха нагоровцев — у лесного озера, вечерний шахтерский профилакторий, детдом… Профилакторий закрыли еще в июне, детишек эвакуировали неделю назад. Но стало известно, что из-за поломки автомашины какая-то группа вернулась. Зенин послал Алексея выяснить, помочь. Раньше в Покровское ездили трамваем. Сходили у поселка восьмой шахты, а потом полчаса по степи — приятная прогулка. Но трамваи остановили еще три дня назад. Алексей стоял на перекрестке около террикона, надеясь на какую-нибудь попутную гражданскую машину. Однако проезжали только военные — с грузами, с ранеными… Остановить их не решался. Он уже собрался идти пешком, когда одна из военных полуторок с прицепленной к ней зениткой подкатила к нему сама. Высунувшись из кабины, лейтенант спрашивал дорогу на Покровское. Эта машина подвезла его, правда, после того, как он показал свои документы, объяснил срочность и неотложность поездки.
На опушке покровского леса стояла зенитная батарея. Лейтенант, выпрыгнув из кабины, сразу забыл о попутчике. Алексей направился в глубь осеннего, уже сбросившего листву леса, к озеру.
Часом позже, выводя притихших, ошеломленных детишек на большак, по которому продолжали двигаться войска, Алексей услышал частые, опережающие друг друга выстрелы орудий. Однако небо осталось чистым, никто из проходивших красноармейцев даже не поднял головы.
Детишки скучились у шоссе.
— Куда ты их собрала? — притормаживая большую, крытую брезентом машину, крикнул воспитательнице стариковатый, с мучнистыми бровями и ресницами водитель. Она — молоденькая, растерянная — вопрошающе посмотрела на Осташко.
— В Ворошиловград бы их подвезти, — подскочил к машине Алексей. — Отбились, отстали от своих, выручи, товарищ…
— Открывай борт, грузи, — подумал и приказал, словно пересилив минутное колебание, шофер.
Алексей вернулся в штаб вечером. Прошел к буфету. Дверь распахнута, продавщицы давно нет. На столиках буханки зачерствелого хлеба, пачка соли, в углу корзины с помидорами. Выбрал один, съел и, не в силах совладать с дремотой, опустил голову на руки. «Четверть часа, — разрешил он сам себе, — всего четверть часа». Но когда спохватился и посмотрел на часы, то оказалось, что спал всего пять минут…
И еще, еще одну ночь не желало лечь плашмя, замереть сорвавшееся с оси колесо. Над железнодорожным узлом беззвучно искрились, пропадали и снова блестели, переливались разрывы зениток. У коновязи за Домом Советов, где иной раз до полуночи поджидали, когда кончится бюро горкома, пролетки заведующих шахтами, сейчас беспокойно ржали лошади какой-то кавалерийской части. Вскоре их копыта процокали по огибавшей школу брусчатой мостовой, и наступила полная тишина, та гнетущая, скрытая тишина, что так сдавливает сердце и томит в канун грозы. А потом с запада, Железнянской степью, накатилось эхо взрывов, и вдоль невидимого горизонта надолго протянулся багряный лампас зарева. Это соседи нагоровцев начали подрывать надшахтные здания, стволы, копры. Когда послышались перекаты этих взрывов, Осташко, поднимавшийся на крыльцо штаба, едва не выпустил из рук аварийный радиоприемник, который он взял в уже замолкнувшем радиоузле. Неужели теперь подошла очередь Нагоровки? После третьего июля он, работник горкома, множество раз повторял, напоминал и другим и самому себе услышанную тогда тяжкую, суровую правду…
— Дело идет о жизни и смерти нашего государства, о жизни и смерти…
И все же, как струпья, приходилось отдирать от себя нет-нет да и пробуждавшиеся обольщающие утешения, туманные успокоительные надежды… А вдруг да вскоре, этой же, осенью, все повернется иначе? Не повернулось! И вот на глухой замок закрываются лежавшие в глубинах земли пласты…
У крыльца мигнула синими фарами эмка, вылез Зенин, ездивший на склад госрезервов.
— Это ты, Алексей? — сипло, свистящим голосом спросил он. — Что это у тебя? А, приемник… Ну, отнеси, поставь, хотя он, пожалуй, уже и ни к чему…
— Ты думаешь, что…
— Не думаю, а точно тебе говорю… Немцы уже на окраине Сталино. Прямая угроза и нам… Да, скажи, отец не вернулся?
— По-моему, нет… Вернулся бы — пришел сюда…
— Эх, нам бы еще один паровоз… Ну вот что, уезжай и ты. В семь тридцать будь на станции, отходит эшелон. Наверное, последний…
— А ты? А остальные?
— Машиной, если не подведет. Лишнего места нет. Так что на нее не надейся… Давай, давай побыстрей на станцию. Война велика, встретимся, если будем живы…
В семь тридцать… А сейчас было шесть. Он успеет забежать домой, вдруг и в самом деле вернулся отец. Больше ничем не звала к себе, не тревожила их давно опустевшая, так и не топленная в эту осень квартира. Легкий чемоданчик с самыми необходимыми вещами находился, как и у всех, здесь же, в штабе. А остальное… Остальное в доме даже порой тяготило, вызывало невеселые воспоминаний. Здесь два года назад умерла мать. Здесь начался и закончился разводом долгий и мучительный разлад с Анной. Длительный, наивно и стыдливо скрываемый от отца даже после этой истории с дневником Анны… «Люблю, мысленно целую другого…» Давно ли догадывался отец об этом разладе? Очевидно, давно. Однажды не выдержал и, оставшись наедине с Алексеем, сказал: «Разделывайся ты с ней, сынаха… Все равно у тебя с Анной жизни не будет… Станем холостяковать вместе…» И они остались одни… Правда, одно время в доме хозяйничала Танюшка, жена Василия, но весной уехала к нему в авиаполк, в Эмильчино, вернулась в августе и, побыв несколько дней, направилась с ребенком к матери. Где она сейчас, где Василий — неизвестно.
Выходило, что с этим одноэтажным, крытым белым рубероидом, опустевшим домом Алексею сейчас расстаться, проститься было во много раз легче, чем с шахтой, с Дворцом, с парком, со всей Нагоровкой…
…И все-таки, когда отпирал дверь, Алексею представилась дикой, невообразимой уже сама мысль, что вскоре в этот дом войдет не кто-то просто чужой, а ненавистный, подлый, войдет враг. И теперь, при взгляде на все такое знакомое в этих двух обжитых сердцем комнатах, Алексей, вопреки всему, что думал раньше, вспоминал только милое, хорошее — хорошие дни, хорошие часы… Ведь были же и они когда-то… Были, были!.. Еще сколько!
Он стоял в своей комнате, уже сожалея, что поддался порыву души и зашел сюда, что унесет в памяти заброшенность дома… Запыленный стол, высохшие чернила в чернильнице, пожелтевшие листья лилии на окне, холод… Написать и оставить отцу записку? Какой смысл? Не может, никак не может отец вернуться со своим паровозом из Тихорецкой после того, как сданы Таганрог, Иловайск… Все же он положил на стол в кухне свечу, коробку спичек…
Рассветало. Алексей торопливо вышел. И тут — он вначале даже не поверил, подумал, что обознался, — увидел на крыльце соседнего дома Серебрянского.
— Федор, а ты каким образом здесь?
Серебрянский несколько лет назад работал у отца помощником машиниста, а потом надолго ушел в кочевье по разным стройкам, призвали его в армию по первой же мобилизации. Месяц назад Серебрянская показывала Алексею полученное ею от мужа письмо. Очень уж непонятными были Нюське строки, которыми оно заканчивалось: «Если останусь жив, то очень скоро увидимся». Непонятными они остались и для Алексея, как непонятным было сейчас и появление в Нагоровке, дома, самого Федора.
— Здравствуй, Алеша… Видишь, пофартило заскочить домой… Через Нагоровку отступаем. Командир отпустил проститься… А ты что, уже с чемоданом?
Спросил вроде бы сочувственно, без подковырки. Сам в замызганной красноармейской робе, небритый, исхудавший, и все же пробегали по лицу то ли смущение, то ли досада. Алексей молча и недоверчиво смотрел на него.
— Что уставился? Дивно?
Алексей пожал плечами.
— По правде сказать, не ждал.
— Думаешь, что дезертир? — усмехнувшись, напрямик рубанул Федор. — Если подумал так, то напрасно. Мне с трибуналом связываться нет интереса, сиротить семью не собираюсь… Лучше уж от немецкой пули упасть, чем от своей… Это и командиру сказал, когда отпрашивался. Так что давай, Алеша, простимся — ты, я вижу, торопишься, и меня время поджимает.
Он шагнул к забору, разделявшему их дворы, протянул руку.
— А что ж семья остается? Еще не поздно. Есть еще один эшелон… Жена красноармейца… Не откажут.
— Э-э, разве ж всем уехать? Да и куда с мальцом?.. Авось остановим гада… Как ты считаешь?
— Я на авось не считаю, говорю тебе про дело… Наверное, «авось» и в армии не в чести.
— Ну, вот ты уже и рассердиться готов. Береги нервы, Алеша, они еще пригодятся… Дай лучше закурить.
Алексей вынул из кармана папиросы.
— Ишь какие куришь!.. «Казбек»!.. А я еще не раздобыл… Ну, так что, пожмем руки, может, напоследок?
Алексей протянул руку. И все же, отходя от дома, уносил странное, неприятное чувство после этой встречи. Шевельнулись сомнения в искренности Федора, и он попытался подавить их. Сам-то он, в своем штатском пиджачишке и плаще, направляется на станцию с чемоданчиком в руке, а Федор, может быть, уже не раз глядел смерти в глаза, отшагал, наверное, с боями не одну сотню километров… И все-таки неприятное чувство не развеивалось…
С моста он в последний раз посмотрел на белеющие изморозью крыши города, на поднимающиеся из холодного туманного рассвета стены Дома Советов, горпромуча, Дворца и свернул к станции.
3
…Этого уже не мог знать Осташко. Темно-серые стены Дворца едва ли не первыми встали, пусть и на короткий срок, преградой перед чужаками. Было это ранним утром.
Гитлеровцы входили в город с юга, со стороны Сталино. Объезжая подорванные, разбитые бомбежкой грузовики и повозки, мотоциклисты неслись по шоссе. Свежими, недавно насыпанными холмиками могил бугрилось перед въездом в город кладбище. Горело здание новой, принимавшей ток с Днепра подстанции — выломанными суставами свисали почерневшие от копоти чашки гигантских изоляторов, провода. Окраина глянула на пришельцев угрюмыми глазницами выбитых окон. Мотоциклы перескочили через переезд и затряслись по выбоинам Изотовской улицы, в конце которой высился Дворец. Белые домики за палисадниками притаились, молчали, казалось, ни единой живой души нет и там, впереди… Офицер обернулся, взмахом руки отдал команду, и три мотоциклиста отделились от хвоста колонны, помчались назад — сообщить, что город оставлен. Продолжая путь, остальные въехали на безлюдный бульвар, что просторно тянулся влево, к синевшим в низинке терриконам, и вправо, к железнодорожной насыпи. Почти в самом начале бульвара безмолвно стоял Дворец. Офицер окинул его довольным взглядом. Хорошо! Здесь может разместиться на постой целый полк. Или на это здание наложит руку кто-либо другой? Штаб? Фельдкомендатура? Гестапо? Все слезли с мотоциклов и разминались, притопывая озябшими ногами.
И вдруг безмолвие проспекта нарушила короткая пулеметная очередь. Откуда стреляли — никто не понял. Но пули, рикошетируя о камни мостовой, противно взвыли рядом, в лица игольчато брызнуло каменное крошево. Солдаты заметались, вскочили на мотоциклы. Те из них, кто сумел сразу завести мотор, круто развернулись, чтобы укрыться за стенами ближайших домов. Но у нескольких то ли отказало зажигание, то ли просто от растерянности и страха они не могли сдвинуть машин — спрыгнули наземь, побежали… Новая очередь настигла двух из них у забора. А между тем в устье Изотовской уже показались легкие бронетранспортеры и грузовики с пехотой. Солдаты пели, и это помешало им расслышать выстрелы. Головная машина выехала на проспект, и тут снова зло и яростно отозвался невидимый пулемет. Одна из пуль попала в ветровое стекло: дыра с расходящимися от нее звездчатыми трещинами забелела наискосок от водителя, но сам он уцелел и, понимая, что назад не повернуть — мешали едущие следом, — рывком вывел машину на площадку перед подъездом Дворца. Солдаты посыпались из кузова, вбежали под портал.
А пулемет не умолкал.
Дворец, всего несколько минут назад вызывавший у гитлеровцев самодовольную ухмылку своей целостью и добротностью, теперь выглядел отчужденно, неприязненно, враждебной крепостью. Но окна на всех его этажах были плотно закрыты, показавшееся солнце отражалось в них слепым оловянным блеском, никого не было видно и на балконе, что тянулся вдоль центральной части фасада. Значит, стреляли не оттуда? Кто-то из немцев вскрикнул, указал рукой на крышу. Все увидели перебегавшего по ее скатам красноармейца. Он пригнулся, исчез за гребешком водосточной трубы и снова открыл огонь. Отсюда, с крыши Дворца, которая главенствовала над всем западным сектором города, пулемет, вероятно ручной, мог доставать своим огнем даже далекий железнодорожный переезд. Но стрелявший, наверное, экономил патроны и предпочитал выбирать более близкие цели. Грузовики, загромоздившие улицу, опустели, в кузовах остались только трупы. Те немцы, что успели скопиться у портала, были в непростреливаемом пространстве и пробовали выломать дверь центрального входа, но, массивная, дубовая, она не поддавалась ни дюжим плечам, ни прикладам. Тогда кто-то подтянулся к высокому окну первого этажа. Зазвенело разбитое стекло, затрещала фрамуга. Путь внутрь Дворца был открыт. По коридорам гулко загромыхали подкованные железными набойками сапоги. Где-то ведь должен находиться люк на чердак? Солдаты пробежали через читальный зал, потом по коврам Большой гостиной, потом поднялись на второй этаж, где тянулась анфилада комнат детской музыкальной студии. Мимо углисто мерцавших роялей, на откинутых крышках которых мутным неправдоподобным отражением возникли разъяренные лица пришельцев, мимо пюпитров, на которых заброшенно пылились оставленные ноты, мимо домр и бандур, откликнувшихся на топот сапог легким дребезжанием металлических струн… Дальше, дальше! Лучи вынутых из карманов фонарей воровато зашарили в театральном зале, в темной глубине сцены, где так и остались неубранными декорации последнего спектакля — холст с нарисованной на нем поймой большой реки, синие дали, за лугами рощи, селения, золотистые макушки церквей… Обрыв, с которого Катерина бросилась в Волгу…
Солдаты, путаясь в свисавших падугах, опрокидывая мешавшую им мебель реквизита, разыскивали дорогу наверх. Но, опережая тех, кто проник внутрь Дворца, уже ловко лез по узкой пожарной лестнице, приделанной к зданию со стороны заднего двора, какой-то блондинистый разбитной ефрейтор. Снизу, с земли, за ним следили сотни глаз, слышались подбадривающие возгласы… Он подлез к карнизу и, одной рукой держась за верхнюю перекладину лестницы, уже снимал болтавшийся на шее автомат… Но в эту минуту сухо прозвучал одиночный выстрел, и ефрейтор, судорожно взмахнув руками и вскрикнув, полетел вниз.
После этого надолго наступила тишина. Пулемет замолчал. Возможно, что у стрелявшего кончились патроны. Правда, никто больше не решался подняться на крышу по пожарной лестнице, понимая, что, с патронами или без патронов, красноармеец теперь следит за ней. А позже сверху послышались глухие удары. Те, кто проник внутрь здания, подобрались к чердачному люку и вот-вот могли его взломать. Солдаты, укрывшиеся под стенами Дворца, стали один за другим выходить на асфальт перед подъездом — ведь красноармейцу теперь было не до них, — и они задрали головы, надеясь увидеть приближавшуюся развязку.
— Рус… Плен… Плен!
— Есть жизнь!
И вдруг, будто отзываясь на эти возгласы, на узенький бетонный козырек, нависавший над крыльцом, вышел он. Солдаты вначале испуганным стадом шарахнулись под надежную защиту стен, но, в какой-то миг рассмотрев, что их противник на этот раз безоружен, снова вернулись и столпились перед крыльцом.
Красноармеец стоял, чуть пошатываясь, с забинтованным лбом, с заложенными назад руками. Пожалуй, только давно не бритое лицо старило его, а так — юношеская худоба плеч, неокрепшая тонкая шея подростка в расстегнутом воротнике гимнастерки. Ветер пошевелил и разбросал пряди волос над грязной окровавленной повязкой, и он откинул их назад резким движением головы, не вынимая рук из-за спины, всматриваясь в толпившихся внизу солдат с презрительной, словно бы вопрошающей усмешкой…
Город так и не узнал, кто он был, этот парнишка. Может быть, случайно отстал от своего полка или же добровольно вызвался в этот смертный заслон? Может быть, забегал на соседний рудник, чтобы проститься с матерью, и не успел уйти? Может быть, если не в этом, так в другом шахтерском Дворце встречался с товарищами, с подругой? Брал в библиотеке книги? Играл на мандолине или на гармошке? После работы стучал костяшками домино или полководил на шахматной доске? Крутил «солнце» на турнике спортивного зала или с волнением стоял за кулисами, ожидая знака режиссера, сигнала к выходу? Выбрал ли он это здание лишь потому, что оно было выше всех других, или, пристраивая к карнизу пулемет, вспомнил когда-то полнившиеся смехом, музыкой и светом коридоры, тишину читальни, размеренный шелест страниц?
За его спиной все громче гремели удары прикладов, слышался треск ломаемого дерева… Он помедлил, выждал еще несколько минут и вдруг широко, порывисто, будто крыльями перед полетом в бессмертие, взмахнул руками, в которых все стоявшие у крыльца увидели черневшие гранаты, и кинулся вниз…
4
Уже три недели Игнат Кузьмич находился в Тихорецкой и с каждым днем становился все угрюмей, злей, а то и совсем падал духом. Его некогда светло-серый, а теперь измаранный, мятый пиджачишко то и дело мелькал в цеховых конторах паровозоремонтного завода. А паровоз, тот самый старенький, рудничный маневровый паровоз, над которым давно посмеивались все стрелочники и сцепщики станции, но преданность которому непоколебимо и упрямо хранил Игнат Кузьмич, продолжал стоять в депо, по-сиротски заброшенный, бездыханный. Его доставили сюда за месяц до войны, и по заключенному тогда же договору завод обязался закончить ремонт к пятнадцатому июля. Началась война, и в Тихорецкую полетели телеграммы с просьбой (да что там с просьбой — с настоятельным требованием!) ускорить ремонт. Станционных паровозов, которые прежде выручали рудник, теперь заполучить стало невозможно, а у Игната Кузьмича, начальника тяги шахтоуправления, кроме этого пышно звучащего титула, не было ничего схожего с тягловой силой, если не считать совсем обшарпанной «кукушки». А под эстакадами росли и росли штабеля, пирамиды невывезенного угля.
Тихорецкая долго не откликалась. Потом наконец ответили, что по обстоятельствам военного времени сроки ремонта переносятся.
И Игнат Кузьмич вместе со своим помощником Санькой рванулся в Тихорецкую.
Ехал с твердым и яростным намерением учинить полный разгром на заводе, но на всякий случай прихватил из последних запасов деповской кладовой и литр спирта — для другого, мягкого разговора.
Но еще в дороге, увидев на запасных путях станций недвижно замершие, захолонувшие «ФД» и «СУ» с котлами и тендерами, в которых зловеще зияли рваные раны, он понял, что его беда — только горькая капля в море беды народной.
Пришлось сразу начинать с того доверительно-мягкого разговора, хотя и он ничего обнадеживающего не сулил.
— Выпить я с тобой, Игнат Кузьмич, охотно выпью, — говорил хорошо знакомый ему Кондюшин, — сейчас сколько ни пей, все равно не опьянеешь. Как оглянешься, что вокруг делается, любой хмель слетает. Поэтому наливай себе и мне смело, не стесняйся. По старой памяти… А вот дела у нас с тобой никакого не получится. Нет у нас с тобой и не может быть общего языка…
Дверь в конторку кузнечного цеха была изнутри заперта. На столе завлекающе лоснился и истекал жиром рыбец, выменянный Осташко в Марцино на зажигалку собственного изготовления. Игнат Кузьмич с отчаянной мольбой вперял в сухие неподкупные глаза начальника кузнечного цеха свой, кажется, просверливающий всю душу взгляд.
— Да ты вникни, вникни, Кондюшин, ведь ремонтно-комплектовочный уже потрудился, свою долю вложил, подлатал, починил, теперь вся закавыка в кузнечном… Много ли возни ползунок отковать?
— Э, что ты меня ремонтно-комплектовочным укоряешь… Они когда латали? Весной? До войны? А сейчас и они с тобой разговаривать не стали бы… Тут «ФД» в очереди стоят…
— А уголь, уголь твоим «ФД» нужен, или они водичкой живут? Уголь с шахты вывозить надо?
— Дорогой ты мой, тут «Ростсельмаш» на колеса поднимаем, а ты про уголь… Уголь и в Кузбассе есть…
— Ну, коль так… коль до этого дошло, то, что ж ты думаешь, нам свое рудничное хозяйство и вывозить незачем? Подъемную, компрессоры, насосы?.. Снова же дело упрется в паровоз, — проговорил Игнат Кузьмич, холодея от мысли: неужто и впрямь такое может случиться и придется рушить шахту?
— Ну, твоей старушке такой груз не по плечу… Ее саму на буксире надо тащить…
Начальник тяги, оскорбленный, встал.
— Ладно, на буксире или не на буксире, об этом сейчас толковать не станем. Я только об одном дружески тебя прошу. Ты мне в своем цеху преград не чини…
Теперь Осташко обходил стороной конторки начальников, поняв, что все равно ничего там не добиться. Но его можно было увидеть то в одном, то в другом цеху — лазил, копался среди разного заводского хлама и старья, присматривался к снятым с паровозов частям, отыскивал единственно ему нужную. Благо, что никто с заводской территории не гнал: как-никак старый заказчик. На второй день поисков облюбовал где-то аж на седьмом, заросшем лебедой пути искалеченный бомбежкой паровозик своей же серии… Он стоял без тендера, с разбитым котлом, но часть, позарез нужная старому машинисту, к счастью, уцелела… Игнат Кузьмич раздобыл тали, тележку, снял и перетащил к своей «овечке» недостающую деталь. Вот тут и помог лишь початый тогда в конторке Кондюшина и прибереженный литр… Ночью двое слесарей подсобили поставить недостающую часть на место. Еще несколько дней ушло на то, чтобы привести в порядок остальное — наладить тормоза, проверить жаровые трубы, почистить и смазать все узлы.
Одним октябрьским утром он пришел к Кондюшину.
— Заряжай паровоз.
Кондюшин не удивился, знал, что не напрасно толчется на заводе приятель, однако посмотрел на него жалостливо, сочувственно.
— Куда ж ты теперь, Игнат Кузьмич, поедешь? Слышал сегодня сводку? Бои под Мариуполем…
— Ты панику не распускай и не спеши петь Донбассу заупокойную. Лучше скомандуй насчет зарядки… Чтобы не терять лишнего дня.
На заводе зарядка паровозов горячей водой и паром производилась сразу, с последующим разведением огня, и Игнат Кузьмич, действительно сэкономив время, пустился в свой нелегкий, отчаянный путь.
Бумаги в его потертом, многоскладчатом, как гармошка, портмоне лежали надежные, одну из них подписал даже Никита Изотов, строивший оборонительный рубеж по левому берегу Днепра, чтобы попытаться прикрыть Донбасс. В эти бумаги, пусть и хмуро, и раздраженно, но, все-таки не отказывая в некотором уважении, заглядывали даже уполномоченные управления военных сообщений. Да ведь и поезда шли в основном по одной колее, той, что тянулась на юг, а на север — на север все меньше и реже. И хотя зеленой улицы не получалось, не могло бы в эти дни получиться, Игнат Кузьмич после изрядных мытарств, перебранок, просьб все же проскочил Ростов, затем Таганрог. И вскоре на одном из перегонов, ожидая, когда перед полустанком поднимется семафор, Игнат Кузьмич впервые услышал доносившиеся откуда-то издалека протяжные орудийные раскаты. Справа на откосе насыпи лежал перевернутый вверх колесами четырехосный пульман, и всю широкую выемку вблизи него заполнили выкатившиеся из пульмана крупные полосатые арбузы. На траве со скибками в руках сидели два подростка-ремесленника и лузгали семечки. Игнат Кузьмич спустился с паровоза и подошел к ним.
— Где это гремит, ребята?
— А кто его знает… Мы нездешние. С утра будто тихо было, а сейчас началось… Слышите?
— А вы что здесь делаете? Стережете?
— Не-э, — засмеялся один из сидевших, — мы тикаем. От кого же стеречь? От немцев разве? Так от них не устережешь. Вот и присели подзаправиться. Да и вы, дядь, берите. Все равно пропадет…
— Откуда ж тикаете?
— Из Мелитополя.
Дальше парнишек расспрашивать было бесполезно, да и в дороге они находились пятый день и теперь сами питались слухами. Игнат Кузьмич, разостлав на тендере брезент, поставил Саньку и ремесленников цепочкой, они, передавая арбузы из рук в руки, грузили их на паровоз, пока не вздернулось вверх крыло семафора. Открыт был и выходной. Игнат Кузьмич, чуть замедлив ход паровоза, проехал мимо безлюдного перрона, только удивился, что не показалась, не выглянула даже красная фуражка дежурного. Неужели так и ехать без разрешения на занятие перегона? Но ведь семафор-то поднят?!
Заходило солнце; предвечерняя степь лежала тихой и умиротворенной, придорожные рощицы манили уютными, по-осеннему золотистыми лужайками, в небе стаились перед скорым отлетом грачи. Осташко высунулся из окошка паровозной будки и, прислушиваясь к ровному дыханию машины, ощущая боком жаркую топку, у которой орудовал Санька, невольно перенесся мыслью в далекое минувшее. Тогда, двенадцать лет назад, еще никто не посмел бы назвать железной клячей его «ОВ-285». Шахтеры добыли к Первомаю сверхплановый эшелон и доставить его в Москву поручили Игнату Кузьмичу. Паровоз был украшен так, словно и сам приглашался присутствовать на праздничном параде. В пути, на одной из узловых станций, машинисту передали газету, где были напечатаны стихи известного поэта.
…Где теперь ты мчишься по горам, по склонам, На какой далекой, сказочной версте? Сорокавагонный, красный эшелон мой, Звонкими гудками пробуждаешь степь.Добрая приветственная улыбка поэта, посланная вдогонку! Да и потом, после этого памятного маршрута, сколько бы сотен других эшелонов набралось, если бы составить все вагоны, что были вывезены маневровым паровозом из ворот рудника!
Сейчас «ОВ» вышел на закруглявшуюся высокую насыпь, посередине которой синели фермы двухпролетного моста. Он тоже был хорошо знаком Игнату Кузьмичу, как были памятны и эта обранная сохлыми камышами речушка, и кочковатый пойменный луг. Обычно, вскоре после того как он переезжал этот мост, потихоньку начинал укладывать в сундучок все свои пожитки, явственно ощущая близость дома, А сейчас тревожно замерло сердце — на рельсах перед мостом чернела шпала, за ней стоял и махал рукой, показывая, что путь закрыт, красноармеец.
Осташко затормозил. К паровозу подбежал лейтенант с черными петлицами.
— Ты куда прешь? — закричал он и заматерился, но, рассмотрев машиниста, который годился бы ему в деды, уже другим тоном спросил: — Кто вас выпустил? Взбеленились?
Игнат Кузьмич стал объяснять, что выходной семафор был открыт.
— Ну и что из этого? Да там ни одной живой души нет… И связи нет, понимаете? Связи нет, ни влево, ни вправо. — Лейтенант все же решил не посчитаться с сединой машиниста и резко приказал: — А ну, документы!
Игнат Кузьмич вынул свое портмоне, первой протянул ту бумагу, которая до сих пор действовала почти наверняка.
— Движение здесь остановлено, папаша. В Нагоровку вам не доехать, — прочитал и вернул бумагу лейтенант, но все же прозвучали в его голосе некоторая неуверенность, колебание, и Осташко это почуял.
— А вдруг да проскочу, товарищ лейтенант?.. Я ведь налегке, без груза… Да и сам лезть фашисту в пасть не собираюсь, — взмолился он, — мне бы хоть до Иловайска.
Лейтенант, ничего не ответив, отошел к вырытому неподалеку от моста окопчику, где, вероятно, стоял телефон. Дозвонился он или не дозвонился — осталось неизвестным, но лейтенант вскоре снова подошел к паровозу.
— Ну вот что, папаша… На твою ответственность… Езжай. Колодуб, убери шпалу.
Ох, если бы предчувствовал в эту минуту машинист, какую ответственность примет он на свои стариковские плечи спустя несколько часов!
Они выехали на другую сторону закругления, и Игнат Кузьмич задумчиво проводил взглядом оставшийся позади мост. В перистых, собравшихся у горизонта облаках кумачево пылала вечерняя заря, и на темно-вишневом небе резко и отчетливо прочерчивались красивые решетчатые фермы. Навстречу шел состав, и это ободрило бы, если бы не синий свет, отбрасываемый прожектором локомотива… Осташко мгновенно вспомнил о своем: все предусмотрел, готовя паровоз в дорогу, а вот закрасить фары позабыл. Машинист локомотива, высунувшись из будки, что-то прокричал, взмахнул рукой, и Игнат Кузьмич подумал, что и он напоминает об этом, о фарах… Месяц назад, по дороге на Тихорецкую, Игнат Кузьмич выскакивал на этой станции и покупал на небольшом базарчике малосольные огурцы, да и вся она была ему хорошо знакома — со своим пыльным садиком, с Доской почета на перроне, с колоколом, праздничное медное напутствие которого, казалось, и теперь зазвучало в ушах. В сгустившихся сумерках Игнат Кузьмич сперва не мог рассмотреть, что именно изменилось на станции, однако почувствовал, что все неотвратимо и отчужденно изменилось. Из безлюдной темноты и тишины несло гарью, и, хотя огня видно не было, что-то дотлевало, дымилось.
— Эй, есть кто? — кричал в распахнутые темные окна вокзала Игнат Кузьмич. Безмолвие. Только хрустело под ногами битое стекло да путались, позванивая, провода. Станцию, очевидно, еще днем разбомбили.
Если бы и рискнул ехать дальше, то все равно невозможно: первый путь загромождали сорванные с перрона глыбы камней, второй, по которому недавно прошел встречный, оставался свободным, по крайней мере в расположении станции, и Игнат Кузьмич, рассудив, что, может быть, по нему появится оттуда еще какой-либо состав, решил ждать…
Он приказал Саньке лечь спать, и тот примостился на уголь, натянул на голову дерюжку, но когда Осташко открывал топку и лязгал кочергой, то Санька просыпался, ворочался, и машинист чувствовал на своей спине испуганный взгляд. Не раз в течение этой томительной ночи Игнату Кузьмичу слышались отдаленные крики в степи, скрип колес, приглушенные гудки и шум машин. Тянуло пойти на степной большак, расспросить, разведать, но оставить паровоз опасался. Нет, уж лучше подождать рассвета.
А перед рассветом плотный пласт ночи встряхнуло взрывом. Он прогремел далеко, но был такой силы, что гул его пронесся по рельсам, отозвался во всем железном туловище паровоза. Санька вскочил:
— Где это, Игнат Кузьмич?
Машинист высунулся из окошка и посмотрел назад, в сторону долины, которую они проехали днем. В небе дрожало и затухало малиновое зарево.
— Это же… это же… мост взорвали!.. — пристукнув зубами, выкрикнул Санька ту догадку, которая в эти минуты больно сжала сердце и Игнату Кузьмичу. В памяти встало лицо лейтенанта с черными петлицами, его мрачные прощальные слова.
Рассветало.. Прояснились очертания обрушенной водокачки, зданий вокзала, на которых вздыбились сорванные крыши, покинутые всеми домики станционных служащих, на огородах обгорелый фюзеляж самолета со скорченной свастикой. На подъездных путях и в степи — ни души.
Игнат Кузьмич повернул реверс, дал паровозу задний ход, остановил его перед стрелкой, от которой отходил вверх по насыпи старый тупиковый путь.
— Ну, Сань, считай, что мы приехали, — сдавленным голосом сказал он кочегару. — Нагоняй пар, а я немного пройдусь.
Санька лихорадочно стал журавить в топке, изредка поглядывая в окошко. Игнат Кузьмич шагал в самый тупик, где в землю были вкопаны и скреплены железными скобами шпалы. Тупиком не пользовались, шпалы подгнили, отрухлявели, но это как раз и устраивало машиниста, как устраивало и то, что сразу за шпалами насыпь круто обрывалась.
Он вернулся, поднялся в будку.
— Так, Сань, забирай манатки и сматывайся отсюда, — распорядился он, кинул взгляд на манометр.
— А вы как? — трясущимися губами спросил Санька.
— Не бойся, одного тебя не оставлю… Мне еще надо с сынами встретиться…
— Так, может… может, еще подождем?.. Может, все обойдется?.. Выберемся?..
— Да слазь же, я тебе говорю! — свирепо закричал Осташко. — Не трави душу!.. «Подождем»! Этак можно, сам знаешь, кого дождаться…
Санька спустился с сундучком на землю. Игнат Кузьмич протянул ему и свой, потом выкатил из тендера и передал Саньке два арбуза.
…Паровоз, разнося по степи вопль гудка, плавно набирал скорость. До тупика оставалось полсотни метров.
Осташко еще минуту стоял на приступках, держась за поручни, потом спрыгнул, круто повернулся и зашагал к Саньке, боясь оглянуться туда, где вслед за сильным, потрясшим всю насыпь ударом затрещало дерево, заскрежетало железо, послышался грохот взорвавшегося котла.
5
Игнат Кузьмич и Санька добрались домой лишь на третьи сутки после того, как пустили под откос паровоз. К этому времени немцы заняли и Сталино, и Макеевку, и Нагоровку. По ночам полыхало зарево где-то за Снежнянской, над Енакиевом и Дебальцевом. Впервые увидели немцев в пути, вблизи Ханжонкова. Игнат Кузьмич и Санька шли вдоль железнодорожной станции, а немцы проехали мимо на ручной дрезине, напевая что-то незнакомое. В сторону Осташко и Саньки они оглянулись мельком, как хозяева, уверенные в себе, в своей власти и в своей значительности перед этими устало бредущими степью путниками. Но в этот же день другие немцы их все-таки остановили. Очевидно, это был патруль. С автоматами на боку они неожиданно вышли из будки блокпоста как раз тогда, когда Игнат Кузьмич и Санька поднимались на переезд. Игнат Кузьмич давно не брился, выглядел глубоким старцем, и к нему цепляться не стали. Но Саньке, на котором была красноармейская гимнастерка и который тоже изрядно зарос, опасно было выглядеть старше своих семнадцати лет. Однако его выручили кургузые, покалеченные пальцы… Показал их, как пропуск, и подействовало — отпустили. И все ж после этой встречи Игнат Кузьмич решил, что днем лучше переспать в поле, в скирдах, подождать сумерек, благо что они теперь наступали по-осеннему рано. Так перед полуночью они и подошли к знакомой окраине Нагоровки. Санька около подстанции простился с машинистом и свернул к себе, на разбросанную по балкам Алексеевку, а Игнат Кузьмич ложбинкой, меж главной ростовской магистралью и веткой на Очеретино, зашагал к своей Первомайской. Остерегаясь патрулей, пробирался задворками и теми узенькими проулками, по которым обычно доставляли к жилью уголь, дрова, вывозили мусор. Но и отсюда, с задворков, все же замечал зловещее, пугающее… Впереди почудилось знакомое электрическое мерцание окон поликлиники, однако подошел ближе и увидел, что это сквозь высокое здание, вернее, сквозь провал в нем просвечивает выкатившаяся из-за облаков луна. Наискосок обрубило и верхний этаж школы — неестественно резко белели над улицей стены одного из классов.
Осташко пересек сквер. Вот и Первомайская… Вся в темноте. Миновал крыльцо Серебрянского и, хотя в избытке было своего горя на сердце, все же, глянув на окно соседей, мысленно посочувствовал Нюське, с первого года замужества познавшей лихую долю солдатки. И вдруг, нащупав взглядом свое окно, вздрогнул: завешенное то ли рядном, то ли одеялом, оно чуть заметно светилось. «Танюшка, наверняка Танюшка! Все-таки приехала. Эх, нашла же время… Лучше бы сидела у матери», — стал про себя журить невестку Игнат Кузьмич, одновременно растроганный и обрадованный тем, что не окажется в доме одиноким. Об Алексее и не подумал. Твердо знал, что его быть не могло.
У порога он споткнулся и развалил какой-то непонятный, загадочный штабелек. Когда уезжал, ничего похожего здесь не стояло. Чиркнул спичками, осторожно ладонями направил свет вниз. Книги. С этажерки Алексея. Чуть поодаль в бурьяне тоже белели раскрытые ветром страницы. Если это сделали немцы, если в доме они, то надо уходить. Но женский голос, который в это время донесся из окна, показался знакомым: не Танюшкиным, но знакомым. Послышался и мужской, опять-таки не чужой. Да это же Серебрянские!..
Игнат Кузьмич постучал в дверь.
— Кто там? — с заминкой, настороженно спросил мужчина.
Он, Федор.
— Открывай… Я! Осташко! Вхож я в свою хату или не вхож? — Он нашел в себе силы даже пошутить и принудил себя отодвинуть подступавшие тревогу и беспокойство. «Разберусь! Главное, что теперь дома».
Федор защелкал какими-то незнакомыми задвижками и запорами, которых раньше опять-таки не было.
— Игнат Кузьмич! Дорогой! Откуда? — негромко, но с неподдельным волнением воскликнул Федор, открыв наконец-то дверь. — Ну, заходи же, заходи. Кто бы мог подумать, а? Бог ты мой? Да встретил бы тебя и не узнал. Раздевайся, садись. Нюська, ослобони табуретку. Что пялишь глаза?
Нюська тоже бессвязно восклицала, всплескивала руками. Схватила с табуретки объемистый узел, сунула его в угол.
Вроде бы в свой дом вошел Игнат Кузьмич и не в свой. В своем-то смешно было присаживаться у порога, на кухне. И он не присел, осматривался. Старый кухонный стол заменен низеньким шкафчиком. На полках не их, не принадлежащая Осташко посуда. Занавеска отделила ту часть кухни, где была лестница в погреб. В углу стояли друг на друге несколько ящиков в нетронутой складской упаковке. Через открытую дверь увидел, что и в столовой перемены. Там появился новый, обитый плюшем диван, правее — детская кроватка.
— Никак не поймешь, в чем дело, соседушка? — рассмеялся Федор. Улыбающийся, довольный собой и тем делом, которым только что занимался, — переставлял мебель и ящики, был он в одних трусах и майке, благо что плита даже раскалилась от полыхавшего на колосниках жара. Лицо раскраснелось, выглядело подобревшим, только странно передергивались щека и веко над ней, и казалось, что он все время подмигивает.
— Будто бы начинаю понимать, — медленно произнес Игнат Кузьмич совсем не то, что хотелось спросить и что смятенно теснилось в голове. С чьего согласия затеяно это новоселье? Может быть, к нему причастен Алексей? Однако кто же тогда выбросил книги? Где все другие их пожитки? Почему Федор не в армии, а дома? А если по какой-то причине оказался здесь, в Нагоровке, то как же у него хватает совести вот так улыбаться, когда кругом беда? Но но стал ничего спрашивать, ждал, что тот расскажет сам. Снял пиджак, сел, чувствуя, как гнетущей усталостью и отрешенностью все больше наливается тело.
— Перебрался, перебрался, Игнат Кузьмич, — подтверждая его мысли, заговорил Федор. — Извини уж, что похозяйничали без тебя. Алексея на прошлой неделе я видел, когда наши отходили… Правда, насчет хаты ничего с ним не говорил. И ему не до этого было, да и мне… Вот так и получилось. Думал, думал да и решился — жить-то надо. И сколько ж можно в одной комнатенке тесниться? И солнечней у вас… Квартир ослобонилось сейчас в городе сколько хошь, выбирай любую… Да решил: зачем искать, когда рядом нежилая! Кто же знал, что ты вернешься?
— В общем, пропел ты мне отходную — да и на новоселье? — уже не удивляясь улыбающемуся, раскрасневшемуся лицу Федора, заметил Осташко.
— Говорила же я тебе, что лучше подождать! — вдруг подала голос, обернувшись от плиты, Нюська.
— Да чего же другого, хорошего теперь ждать?! — глянул на жену и с сердцем, будто продолжая недавний спор, воскликнул Федор. Из столовой вышла старая Серебрянчиха:
— Прости нас, Кузьмич… Повременить, повременить надо было бы. И я про то ему, сыну, толковала.
— А ты иди, иди отсюда, старая, не лезь, тоже мне советчица нашлась, — с прорвавшимся озлоблением выругался Серебрянский и заелозил ладонью по бугристой груди, будто утихомиривая расходившееся в волнении сердце. — Коль ты и в самом деле всерьез обиделся, сосед, то напрасно, ей-богу, напрасно. Это я тебя откровенно предупреждаю…
— Предупреждаешь?
— Да неужели сам не сообразил до сих пор? Их ведь взяла!.. Их верх!.. Надо ж признаться… Не знаю точно, где ты это время был и что видел, а я уже, поверь, насмотрелся. Накипело по самое горло. И под Новоград-Волынском, и под Борисполем… И до контузии и после контузии. Нюське давно полагалось бы вдовой стать, да, видно, фартовой родилась… В общем, сам не пойму, каким чудом ноги уволок. Да и на что, спрашивается, надеяться таким, как мы, если даже их генералы из клещей не смогли вырваться?
— Чьи же это… их?
— Да наши ж, советские… Про Кирпоноса разве не слышал? — спохватился Федор и, поправляя свою обмолвку, заговорил еще горячей и доверительней: — Эх, Игнат Кузьмич, милый ты мой старина, не думай, что я какая-то последняя сволочь, только, мол, исподтишка и ждал всего этого… беды нашей… Я ведь тоже, вспомни, жилы тянул, старался ради лучшей житухи. И ударник, и штурмы разные по стройкам, и всякое прочее… Не стоял в стороне, не прятался… Премии, грамоты… А что получилось? Мне, думаешь, не больно? Ту же нашу Нагоровку почти без боя сдали… Какой-то чудак с дворцовской крыши стрелял, а толку? Эх, что про это говорить!.. Давай-ка лучше на это свое общее горе плеснем по чарке. Я ведь сейчас, как волк. Не с кем и чокнуться. Да и тебе в охотку пойдет с дороги. Подтянуло тебя всего. Аж черный… Нюська, а ну, живо!..
— За что же будем пить, Федор? — спросил Игнат Кузьмич, поднимая стопку, когда Нюська накрыла на стол. Он оказался на диво богатый — на тарелке желтел брус масла, раскрыта банка тушенки, нарезана копченая колбаса.
— Я так считаю, — поднял и прищурился на стопку Федор, — за то, чтоб жили мы… За того пацаненка, что вон сейчас в той комнате спит и тоже хочет жить… И у тебя такой подрастает, Игнат Кузьмич… Сыны сынами, а и внучка есть… О ней забывать нельзя…
— Ну, за внучку я пока пить не стану, я сейчас за сынов выпью, — нахмурившись, твердо сказал Игнат Кузьмич. Водка вернула озябшему телу желанное тепло и заново яростно пробудила голод, с которым он уже было свыкся в эти дни, почти не замечая его. А Федор был доволен, что он за этим поздним ужином собутыльничает не один, что Осташко хоть и ершится порой, а все-таки перед угощением не устоял, не отказался.
— Понятно, Алешке никак нельзя было здесь оставаться, — говорил Серебрянский, нанизывая на вилку кружки колбасы, — тем более в последнее время в горкоме работал. Тут уж дело ясное…
— Повесили бы, — не то вопрошающе, не то утвердительно буркнул Игнат Кузьмич.
— Факт. Это у них здорово поставлено. Гестапо и прочее… На восьмом номере в первый же день Заярного схватили… Помнишь, приезжал к нам на шахту с делегацией? Этакий черноусый буденновец. Взяли — и как в воду… Говорят, в Покровскую балку их увозят. Не возвращаются…
— И всех, значит, так коммунистов?..
— Ну, может, и не всех, брехать не стану… Может, и не трогают тех, которые… — Федор запнулся и долго откашливался.
Налили еще. Молчал, не договорив свое, Серебрянский, молчал и Осташко. Федор потянулся к нему стопкой чокнуться, но гость, словно и не заметив этого, держал свою у бородки.
— Да, Федор, мало-мало чего хорошего загадываешь ты своему пацаненку…
— А на что большее сейчас рассчитывать? Пусть хоть подрастает.
— Подрастает и щенок, пока хозяин на цепь не посадит.
Игнат Кузьмич пить больше не стал. Не понуждал его к этому и Серебрянский. Недавнее благодушие его и упоенная вера в свою удачливость меркли. Хотелось откровенно распахнуть душу, и распахнул было, да уж очень на скользком месте затоптался весь разговор. Выпил сам. Потом Федор перехватил взгляд Осташко, которым он, понурившись, вновь тоскливо повел по этим, так внезапно ставшими для него чужими, стенам:
— Отдохнуть потянуло, Игнат Кузьмич? Правильно. Понимаю… Где хочешь? Можешь и здесь, постелем на диване. А то иди в нашу… Там, конечно, раскардаш, но кровать одну оставили… Одеяло, подушка тоже там.
Какой ни омерзительной представлялась уже сама мысль о том, что вынужден заночевать в недавней квартира Серебрянских, однако остаться постылым гостем в своей? Это оскорбляло еще больше. Третьего же выхода не было.
— Ладно, пойду.
Федор накинул пиджак, чтобы проводить.
Вышли на крыльцо. В глухоте октябрьской ночи завязывался, креп заморозок. Казалось, заледенело все живое, если оно еще осталось здесь, в городе. Повсюду подвальная тишина. Ни единого паровозного гудка. Безмолвствовала и шахта. В черноте палисадника Игнат Кузьмич снова увидел зарябившую на земле реденькую белизну.
— Книги… — вслух подумал он.
— Книги, — охотно подтвердил Федор. — Алешка-то твой книгочей был, да толк от этого вишь какой получился. Оставить в хате никак не мог, Кузьмич. И тебе не советую. Если уж хочешь какую приберечь, то лучше снеси на чердак или в сарай.
Осташко шел не отвечая, придерживаясь руками за забор, будто боялся упасть.
Федор тоже хотел войти в дом, но Игнат Кузьмич взял у него ключ, отпер дверь и тут же захлопнул ее за собой. Чиркнул спичками, увидел в углу пустой комнаты кровать и, не раздеваясь, ничком повалился на нее.
6
Весь день, что последовал за этой анафемской, неладной, прошедшей в бредовом забытьи ночью, он провел в сокрушенных раздумьях, не показываясь на улицу. Шагал и шагал из угла в угол, а то смотрел на ту жизнь — незнакомую, чужую, враждебную, которая краешком приоткрывалась на шоссейке. В сторону парка проехал военный обоз. Лошади одна в одну — упитанные, каштанового глянца, круп у каждой шириной чуть ли не с полуторку, И хотя вслед за обозом загромыхали танки, а часом позже орудия, с глаз все еще не сгинули эти, с мохнатыми ступицами, кони — чугунной стати, выхоленные в прусских или бельгийских конюшнях и сейчас, словно после неутомительной пробежки, оказавшиеся на донецкой земле. Почтительно сторонясь лязгающего железом и клубившегося пылью шоссе, протрусил по обочине на велосипеде Федор. У этого своя забота. На багажнике привязана бельевой веревкой швейная машинка. Через полчаса снова куда-то помчался.
В середине дня бабка Серебрянчиха принесла чугунок отваренной картошки, банку с недоеденной вчера тушенкой, полбуханки черствого, давней выпечки хлеба. Поставила на стол, всхлипнула:
— Ох, Кузьмич, уходить тебе отсюда надо, уходить побыстрей.
— Это ж как понимать? Твой Федор скомандовал? И здесь я ему помеха?
— Да неужто без Федора не понять? Сам подумай… Или охота голову под петлю подставить? На виду вы ж тут были, и ты, и Алексей.
— Были! Выходит, и ты заживо хоронишь.
— Хоть ты меня не обижай, Кузьмич, такими словами. Меня теперь всякому обидеть запросто. При советском законе еще мало-мало остерегались, а теперь…
— Ладно, старая, — примирительно проговорил Осташко. — За совет спасибо. Засиживаться здесь не буду. Ты вот что скажи, Танюшка за мою отлучку сюда не приходила?
— С месяц назад была, проведывала Алексея. Знамо дело, и про тебя расспрашивала… Ну, а теперь, понятно, боязно ей… Где она? У матери, кажись, где-то. Сейчас к соседу через улицу перейти — и то сперва трижды перекрестишься.
— Положим, твой Федор и без креста обходится. Гоняет велосипед без передыху…
— Мужику легче… — Серебрянчиха помолчала и тихо добавила: — А такому, что совесть потерял, и подавно…
Но Танюшка все-таки пришла, пришла в этот же день, будто почуяла, как нужно Игнату Кузьмичу чье-либо душевное участие.
Выждав сумерек, он уже совсем было собрался уходить, как вдруг раздался осторожный, вопрошающий стук в окно. Белевшее за стеклом, обрамленное шерстяным платком лицо показалось вначале незнакомым.
— Папа, да это ж я… Откройте! — услышал он голос невестки.
Таня вошла в комнату и обессиленно уткнулась ему в грудь.
— А я уж не думала вас и живым видеть… Чего ж вы… Чего ж вы один тут сидите?! — и обрадованно и горестно восклицала она.
— Ты вот чего, командирская женка, вздумала сюда заявиться? — тоже и растроганно и рассерженно упрекнул Игнат Кузьмич. — Светланка где? Как она?
— А что Светланка? В Моспино у бабки на руках… Вас зовет… Приведи, говорит, деда… Будто это легко…
— А Василий… когда писал?
— В августе два получила… Как догадываюсь, под Киевом был. А жив ли сейчас, нет — кто знает… Все наказывал, чтобы вас берегли.
Таня опустилась на стул, стала рассказывать. В Моспино немцев пока нет, заскочили только мотоциклисты, но не остановились, проехали на Ханжонково. А вот люди, пришедшие из Макеевки, из Харцызска, говорят, что там сразу расклеили объявления о регистрации коммунистов и уже начали хватать, загонять в лагеря, вывозить. Она же дала слово и Василию и Алексею, что его, отца, одного не оставит, хотела прийти еще вчера, да приболела, не смогла.
— А кто ж тебя размалевал?
Игнат Кузьмич давно хотел спросить об этом. На лице Танюшки виднелись полосы сажи или угольной пыли, в оно выглядело состарившимся, увядшим, некрасивым.
— Сама… Как все, так и я. Иначе сейчас не пройти.
Игнат Кузьмич размышлял. Моспино, конечно, тоже не было каким-то желанным спасительным убежищем, да и разве о нем он думал, когда торопил в Тихорецкой слесарей и спешил сюда со своим паровозом?! Но не получилось, не успел… И выходит, что сейчас не остается ничего другого, кроме как укрыться до поры до времени в Моспино. Там осмотрится, решит, что делать дальше…
— Надо идти, папа… Одевайтесь… Будем уходить… — встревоженно повторила Таня, а сама, изнеможенная дорогой, сонно клонилась на стуле. — Я вот только согреюсь.
— С тебя сейчас ходок, — с жалостью глядя на нее, покачал головой Игнат Кузьмич. — Лучше ложись и спи. Выйдем перед рассветом. Слышишь? А сейчас ну-ка в постель.
Не в силах противиться этому соблазну и распорядительному голосу свекра, Таня поплелась к кровати.
— Погоди, нитка с иголкой у тебя есть?
Не спрашивая, для чего они понадобились, Таня отвязала от кофточки и протянула накрученную на иголку нитку и не раздеваясь упала на матрац.
Игнат Кузьмич поплотней закрыл ставни и заново разжуравил потухшую было печку. Уголь в ящике был хороший, сухой, наверное, из тех штабелей, что насыпались в фонд обороны, да так и остались невывезенными. Огонь занялся хватко, сразу потеплело и стало светлей. Он снял пиджак, распорол на левом рукаве у плеча шов и начал приделывать потайной карман. До этого, пробираясь в Нагоровку, прятал партбилет за подкладкой своей обношенной, замасленной кепки, но сам понимал, что это ненадежно, по-мальчишески, и при встречном ветре придерживал рукой кепку. А он должен храниться так, чтобы всегда чувствовать его близко у сердца — самое вещественное и сокровенное, что напрочно связывало с множеством незабытых дорог, с сыновьями, с товарищами, с жизнью прожитой и жизнью будущей.
Тонкая иголка не держалась в загрубевших пальцах, то и дело выскальзывала, но он все же приноровился: густо и старательно клал стежок за стежком, распрямлял их, чтобы новый шов получился крепким.
А Таня спала беспокойно, изредка что-то сдавленно бормотала. И, вероятно, потому, что и во сне видела нечто такое же страшное, как и наяву, по пути сюда, она сквозь сон почти одновременно со свекром услышала визг тормозов, голоса во дворе, затем тягучее поскрипывание ступенек крыльца.
— Немцы! — вскочила и растерянно заметалась по комнате. — Пришли…
Таня увидела лежавший на коленях Игната Кузьмича партийный билет, еще испуганней вскрикнула:
— Ой, а это ж вы зачем? — И не успел он опомниться, остановить, удержать ее руку, как она схватила билет и кинула в огонь.
— Да… да ты что, рехнулась? — забывая о том, что его могут услышать там, на крыльце, гневно гаркнул Игнат Кузьмич и сунул руку в раскаленный пламенем зев печки, нащупал, успел вытащить едва не утраченное.
В дверь стучали. Сильней и сильней. Игнат Кузьмич пошел открывать. На крыльце стояли двое. Нерешительно переминались у входа в темный коридор. «Ждут приглашения, что ли? Не похоже на них!» Наконец один, повыше и поплечистей, первым шагнул в комнату. Заслонка печи оставалась распахнутой, по стенам перебегали красноватые отсветы. У вошедших — обтрепанные серо-сизые шинели, такие же серо-сизые пилотки, плотно натянутые на уши, на руках огромные кожаные перчатки с раструбами. «Шоферы», — догадался Игнат Кузьмич, чувствуя, как забрезжило в сердце еще не ясное самому себе облегчение.
Солдаты разочарованными взглядами окинули почти пустое, неустроенное жилье — одинокий табурет, кровать с протертым матрацем, чугунок и остатки еды на подоконнике, заменявшем стол. Лишь увидев оторопело прислонившуюся к стене Таню, чуть приоживились, в черных, как маслины, глазах блеснуло бесцеремонное веселое озорство.
— О, синьорина!..
— Донб-а-асс мадонна! Катюш?
Но, видимо, в этом неудачно выбранном придорожном доме и Таня со своим размалеванным сажей лицом и нарочито неухоженными, растрепанными волосами не заслуживала ничего иного, кроме этих снисходительных восклицаний. Подсели к печке. О чем-то лениво разговаривая, несколько минут грели озябшие за баранкой руки, а затем поднялись и, ни слова не сказав, будто оставляли давно обезлюдевшую комнату, вывалились на улицу.
Таня и Игнат Кузьмич оцепенело молчали, пока за окном не послышался шум моторов. Только тогда нервное напряжение спало.
— Слава богу, что итальянцы, — вздохнула Таня.
— Слава богу? — озлился Игнат Кузьмич. — Ишь что сказала! Обрадовалась!
Он запер дверь и, вернувшись в комнату, вытащил таза отворота рубахи партбилет, встревоженно стал его рассматривать. На обложке осталась подпалина, но все листки целы, цела и фотокарточка.
— Ты мне скажи, дура, — начал отчитывать невестку, — и как это тебе пришло в голову на такое злодейство решиться? Называется распорядилась… Хвать, да и в печку… Быстро у тебя получилось. Да разве ты мне его давала?
— Простите, папа, виновата, — заплакала Таня. — Сама не в себе была…
— Нет тебе моего оправдания. Это ж подумать только!.. Вот Василий и Алексей про это узнали бы, с какой душой воевать бы им? Отец от партии отрекся… Билет сжег на старости лет… Вот это и в самом деле жутко… Хуже и но придумаешь… Свой-то, комсомольский, куда девала?
— Мой еще в Эмильчино остался… Разбомбили… Из дому в одной рубашке выскочила. Все сгорело.
— Ну, это другое дело… А чтоб своею собственной рукой, то лучше и не жить…
Игнат Кузьмич еще долго пробирал невестку самыми гневными словами…
Часа в четыре утра, сам за ночь так и не сомкнув глаз, он разбудил Таню. Оделись, вышли. В небе над восточной окраиной города, а может, еще дальше, над Никитовкой, бело вспыхивали и гасли гигантские римские цифры прожекторных лучей. Врубались в небо, перемещались, и от их сверкания чернота вокруг уплотнилась, упрятала все. Пробирались к переезду задворками. Под ногами то хрустко позванивал схваченный на лужицах первый ледок, то сухо шелестела наметанная холодным ветром листва. Перешли железную дорогу и направились глубже в степь, подальше от шоссе. Путь на Моспино лежал через знакомые балки и буераки, осенняя глушь которых становилась сейчас благодетельной. Игнат Кузьмич неторопливо шагал впереди, нет-нет да и пошевеливал левым плечом, как бы нащупывая знакомую, неизменную и такую нужную сейчас опору.
7
— Мы на вокзалах политсостав для армии не набираем, товарищ… До этого не дошло… Следуйте дальше…
В который уже раз слышит Алексей в военкоматах эти жесткие, не оставляющие никакого просвета в его судьбе слова, и в который раз он опять ни с чем возвращается к эшелону. Новые и новые станции, многочасовые стоянки на отдаленных запасных путях, многочасовое ожидание замешкавшегося паровоза, прохватывающие до костей сквозные ветры тормозных площадок… Но все же они легче и терпимей, чем уныние и удрученность женских вздохов в вагоне, старческий кашель, плач и хныкание лишенной домашнего покоя детворы, и среди всего этого томящая, мучительная тоска от своей бездеятельности… И еще нестерпимей провожать завистливыми глазами ускоренные военные маршруты — красноармейцев, гомонящих в дверях теплушек, зачехленные платформы с молчаливыми часовыми. Каждый из них на месте, у дела в эти суровые дни.
На колесах и ноябрьские праздники. Праздники?.. Какие же праздники? Алексей стоял на перроне перед черневшим в снежной замети репродуктором и слушал повторяемую диктором речь Сталина на Красной площади… Напутствие тем, кто уходил на фронт, в бой, навстречу приближавшемуся к Москве врагу…
Радио уже замолкло, а люди не расходились, не уходил и Алексей, все смотрел на лица собравшихся, пытаясь угадать, кто из них местный.
— Папаша, что это за город? — наконец спросил он у какого-то старичка в потертой форме железнодорожника.
— Ершов… Читай! Неграмотный, что ли? — недружелюбно проворчал старик, кивнув на фасад станции.
— Райцентр?
— Да уж не хутор… — еще недружелюбней отозвался спрошенный.
Ладно, обижаться нечего. Надо туда, в военкомат. Не уйдет, пока не добьется своего.
И снова уже много раз слышанное:
— С поезда? Не на учете? Ничем не могу помочь, товарищ…
Военком, заглянув в эвакуационное удостоверение Осташко и в его военный билет, словно потерял всякий интерес к нему и вернулся к своему прежнему занятию — старательно стал обтирать мягкой замшевой тряпочкой части разобранного револьвера. Револьвер был новенький, покрытый, наверное, еще заводской смазкой, таких Алексею видеть не приходилось.
— Но вы по крайней мере посоветуйте, как же мне быть!
— А что я могу советовать! У меня на плечах район… Тут говорильню разводить не приходится. Не советы раздаю, а приказы, предписания… Сами должны бы понимать…
Но, очевидно, военком все же усовестился, почувствовал, что с сидящим перед ним человеком, которого привели сюда не какие-то легковесные побуждения, можно бы разговаривать и помягче. Он осторожно взял пальцами небольшую круглую детальку из револьвера и поднес ее к лицу Осташко.
— Ну вот скажи, пожалуйста, что это такое, как по-твоему?
Алексей растерянно молчал.
— Сборы проходил?
— Не успел…
— Плохо ваш военком работал… Значит, не знаешь? Что же получается, товарищ политрук? Ты солдат должен учить воевать или им придется тебя? Кем работал?
— Директором Дворца культуры, — почти угнетенно проговорил Осташко.
— Видишь! А стрелять не умеешь! Забыл, в какое время живешь? Учился-то где, образование?
— В Ленинграде… Высшая школа профдвижения…
— Теперь ясно! Лекции, художественная самодеятельность, всякие там капеллы, кружки… В общем, профсоюзы — школа коммунизма…
— Положим, над этим вы не смейтесь, — разозлился Алексей. — Сами знаете, кто это сказал…
— Правильно, Ильич! Так он же и другое говорил: надо уметь защищать Отечество!.. Быть всегда начеку… Так что, товарищ политрук, поезжай дальше… Куда тебя по эвакуации направили?
— В Шураб… Туда эвакуировалась шахта…
— Далековато… Но военкомат и там есть… Подучат…
Однако до Шураба Алексей не доехал. Вскоре после Ершова эшелон остановился в Уральске, и там неожиданно повезло. Военкомом здесь был пожилой казах с темно-желтыми, прищуренными и казавшимися надменными глазами, да и за столом он располагался так сановно и важно, что Алексей, войдя в кабинет, загодя решил, что ничего хорошего ему здесь не услышать. Но именно этот стариковатый, степного загара человек, с рубиново рдевшими шпалами на петлицах и давнего образца орденом боевого Красного Знамени, распорядился его судьбой.
— Ай-я-яй, какой балшой человек! — то ли в самом деле почтительно, то ли, скорей всего, насмешливо поцокал языком и покачал головой военком, читая документы Осташко. — И что ты хочешь от Раджабова, товарищ директор?
Алексей сказал.
— Я так и подумал, когда ты вошел. Все хотят на фронт. Если Раджабов отпустит туда всех, кто к нему приходит, то потом он должен сам водить в степи отары, убирать хлопок, становиться к станку, учить азбуке детишек и давать Уральску электричество.
— В том-то и штука, что я сейчас не делаю ни того, ни другого… Со мной и решать проще.
— А в третьей части ты был?
— Нет… Я ведь не состою здесь на учете и считал, что надо обратиться прямо к вам. Что только вы можете и вправе пойти мне навстречу… — польстил Алексей.
— Да, да, все так и говорят, — снова не то грустно, не то шутливо подтвердил комиссар. — Все считают, что седой Раджабов никому не откажет… Потому что, когда он был молодым, знаменитый русский начальник из Пишпека тоже не отказал ему в сабле и повел на басмачей, на баев… Ты знаешь, кто он был, этот красный батыр?
Темно-желтые глаза теперь смотрели на Осташко таким прощупывающим умным взглядом, что он понял: его в какой-то мере проверяют и от ответа зависит многое, если не все. Но, черт побери, недаром же еще комсомольцем, где-то в конце двадцатых годов, после фурмановского «Чапаева» с увлечением читал и его «Мятеж».
— Как же не знать? Фрунзе Михаил Васильевич! — не скрывая радости и уже проникаясь уверенностью, что все будет с ним улажено, воскликнул Алексей.
— Верно сказал… Командарм Фрунзе. — Военком с минуту молчал, размышлял, потом, будто встряхнувшись, приказал: — А теперь пойди позови ко мне начальника третьей части.
Алексей стремглав выскочил из кабинета и через несколько минут вернулся с тучным, прихрамывающим капитаном.
— Как у нас седьмая команда, укомплектована? — спросил военком.
— Так точно, товарищ майор… Кроме одного. Повестку вернули. Якобы в больнице лежит… Буду сейчас звонить, выяснять.
— А говоришь «так точно»… Тогда вот что, возьми на учет и оформляй этого товарища. И зачисляй его в команду. Вот теперь будет собрана. Когда им выезжать?
— Полагается завтра утром. Чтобы через пять дней быть на месте, но знаете ж, как сейчас с поездами…
— Завтра пусть и выезжают. Аттестаты выписаны?
— За этим остановки не будет.
Военком посмотрел на Осташко.
— Направляешься, товарищ политрук, в Ташкент. В Военно-политическое училище. К землякам… Подожди, подожди, не волнуйся… Долго там не засидишься… Курс ускоренный…
— Спасибо.
— Ладно, ладно, в армии говорят не «спасибо», а «служу Советскому Союзу»… Иди! Служи!
8
Никогда еще ни одна обновка не была такой желанной, такой неотложно необходимой для Алексея, как эта, протянутая ему из окна каптерки.
— Следующий! — закричал старшина.
Осташко взял ворох одежды и отошел в сторону. Правда, несколькими минутами позже он разглядел, что слово «обновка» мало подходило к этой многократно стиранной, выцветшей гимнастерке, к таким же выцветшим, застиранным хлопчатобумажным штанам, которые к тому же были наскоро залатаны на коленках. Сколько уже раз побывали в полевых и станционных дезкамерах, в котлах армейских и госпитальных прачечных, а ранее, может быть, наспех прополаскивались в речках, в прудах, у деревенских колодцев. При этих мелькнувших догадках Алексей еще уважительней стал перебирать и рассматривать выданное ему обмундирование, озабоченный лишь одним — подойдет ли, не окажется ли тесным. Да, а где же фуражка? Вернулся к каптерке.
— Товарищ старшина, дайте, пожалуйста, фуражку… Позабыл… Извините…
Стоявшие у окна рассмеялись, улыбнулся и старшина.
Алексей понял, почему все повеселели, и смутился. Можно было и впрямь напомнить о фуражке иначе, попроще… Он ведь не в гардеробной Дворца культуры.
— Какой тебе размер?..
— Пятьдесят девятый…
— Вот же попались мне эти башковитые. Беда с вами… А ну-ка попробуй эту! — Старшина кинул на прилавок перед окном тоже изрядно поношенную фуражку с линялым малиновым околышем.
Осташко примерил.
— Вы знаете, кажется, она для меня несколько тесновата.
В очереди снова засмеялись. Но старшина на этот раз посуровел.
— Да что у меня здесь — индпошив, товарищ курсант?
Часа через два, побывав в бане и переодевшись, Алексей стоял в шеренге, построенной на просторном училищном плацу. Ждали начальника училища, а пока стояли «вольно». На построение вышли без шинелей. Было необычным а странным видеть сейчас, зимой, сухой, раскаленный песок плаца, распахнутые окна и двери казарм, неукротимое пылкое солнце в светло-фиолетовом небе, ощущать лицом мягкий теплый ветерок, повевавший с предгорий, где еще не сбросили свою листву виноградники. Казалось, что время резко сместилось, как порой смещается в земных недрах на иную глубину угольный пласт — геологи называют это «сбросом». И вот теперь для Алексея там, за этим сбросом, в другом измерении пространства и времени, остались падающие с железным скрежетом копры, затемненные вокзалы, забитые снегом тормозные площадки…
Стоя в строю, переминался с ноги на ногу в тяжеловесных, растоптанных кем-то другим ботинках, поводил плечами, грудью, старался поскорей свыкнуться с незнакомой одеждой, почувствовать ее своей. Украдкой посматривал по сторонам — хотелось увидеть: а как она изменила других? Секретарей и инструкторов райкомов, директоров школ и учителей, заводских пропагандистов, профработников, политотдельцев МТС — всех, кого война позвала отныне стать политруками рот.
Правофланговым стоял Цуриков, эвакуированный из Минска доцент университета, который, как и Алексей, приехал сюда из Уральска в составе той же седьмой команды. Его худоба прежде скрадывалась просторным, с набитыми ватой плечами, шикарным полупальто и брюками, ширина которых была никак не меньше тридцати сантиметров — такие брюки шили в нагоровском ателье только первому секретарю горкома и управляющему угольным трестом. Сейчас же все на виду — стянутые обмотками костлявые ноги, запавшая, тощая грудь. Руки, привыкшие к манжетам, неловко топырились из-под коротких обшлагов гимнастерки. Смущенный своим заглавным местом в строю, он даже и не пытался выпрямиться — смиренно сутулился. Влево от себя — через третьего — Алексей заметил Мамраимова. Присоединился к их команде в Кзыл-Орде. В дороге угощал всех копчеными сазанами, лепешками, урюком и то ли шутил, то ли всерьез убеждал, что перед тем, как стал заведовать Домом партпросвещения, долго работал в «Кзылнарпите». Но в шеренге Мамраимов, надо признаться, выглядел молодцом. Этакий разбитной, плотный крепыш. Из-под козырька курсантской фуражки, сменившей тюбетейку, его черные глаза смотрели живо и плутовато. Рядом с Мамраимовым — Соловьев, учитель истории из Сухиничей. Этому здесь только дай вспомнить, чему когда-то научился в погранотряде на южной границе. Сохранилась вся пограничная щеголеватая выправка. Алексею захотелось стоять так же браво, подтянуто, без всякого заметного со стороны усилия, и, когда раздалась команда: «Смирно! Равнение направо!» — он вскинул голову, встрепенулся, даже лихо щелкнул каблуками.
Вдоль строя шел полковой комиссар, начальник училища, и двое каких-то других штабных командиров. Осташко уже знал, почему военком в Уральске сказал, что он направляется к землякам. Училище переехало сюда с Украины, из Харькова. И хотя не было никаких оснований ждать встречи с кем-либо из знакомых, все же пахнуло на сердце чем-то близким…
Человек, который не торопясь подходил все ближе и ближе к Осташко, был пожилых лет, с округлым, казалось, лишенным подбородка лицом, успевшим уже загореть под ташкентским солнцем. Сросшиеся густые брови, высокий свод лба, нависавший над твердыми светло-ореховыми глазами. Чувствовалось, что доверенной ему властью над этой шеренгой он распорядится спокойно, привычно. Сейчас его интересовал внешний вид новичков.
Где-то между Цуриковым и Мамраимовым стоял Фикслер. Внушительный живот недавнего управляющего одной из одесских контор был заметен даже отсюда, с левого фланга. Полковой комиссар оттянул слишком уж свободный брезентовый пояс Фикслера, покачал головой. Тут же подскочил старшина, затянул ремень потуже, прихлопнул ладонью.
Комиссар подошел к Осташко. С лица еще не сошла снисходительная усмешка.
«Остановится или не остановится?» — гадал Осташко.
Остановился. Загорелая рука протянулась к фуражке Алексея, попробовала надвинуть ее плотней. Напрасно. Старшина тут как тут.
— Товарищ полковой комиссар, не из чего было выбирать.
— Ну-ну, не прибедняйтесь. Знаю я вашего брата… Принесите все, что есть, подберем.
— Слушаюсь! — Старшина, явно оторопелый, метнулся в казарму.
— Откуда сами? — спросил комиссар у Алексея.
— Из Донбасса, товарищ полковой комиссар… Из Нагоровки.
— Из Украины, одним словом. Нагоровку знаю, проезжал… Красивый городок был… Что там делали?
То, что обыденная, много раз слышанная похвала Нагоровке теперь прозвучала в прошедшем времени — «был», отозвалось в сердце болью, и Алексей ответил сбивчиво, волнуясь — стоит ли вспоминать, коль это кануло в такую далекость?
— А вы? — комиссар посмотрел на курсанта, стоявшего слева от Осташко.
— Курсант Оршаков, товарищ полковой комиссар. Из Брянска… Редактор заводской многотиражки, — отрапортовал сосед Алексея, примерно его же лет, с густым, прямо-таки девичьим румянцем на щеках.
— О, значит, боевые листки у нас будут… А как же вы из Брянска да сюда?
— Вывозил и монтировал заводское оборудование, товарищ полковой комиссар. Слесарь-наладчик по основной специальности.
Вернулся старшина с целой охапкой фуражек в руках. Осташко примерял их одну за другой, замечая, как все довольней и довольней расплывается в торжествующей улыбке лицо старшины. Однако что поделаешь? Действительно тесны. Когда осталась последняя фуражка, комиссар сам взял ее, не присматриваясь, решительно надел на голову Алексея: «Вот эту и носите» — и, поощрительно потрепав его по плечу, зашагал дальше.
9
— Двадцатое января, на пле-ечо!
Этот громовой возглас Оршакова раздавался в казарме почти одновременно с медным запевом горна, и все вскакивали, с верхних коек сыпались вниз, едва ли не на головы тех, кто вылезал и поднимался с первого яруса, шаркали ботинками, табуретами. По плитам коридора топали и зычно перекликались дневальные, обрадованные, что наконец-то встряхнулось, кончилось дремотное ночное безмолвие.
— Сводку слышали? Наши заняли Медынь, подходят к Можайску…
— Во как мы с тобой храпака давали… Немцы сразу наутек пустились…
— А я всерьез говорю, что ж на нашу долю останется, если так дело пойдет?
— Останется… Думаешь, от Ташкента до Медыни намного дальше, чем от Медыни до Берлина?
— Р-разговорчики!..
Безостановочно и хлестко начинал раскручиваться день — занятия на плацу, занятия в классах, построения, пробежки, караулы — дальше, дальше, без передышки, нарастая; день, подстегиваемый секундными стрелками командирских часов, беспокойный, натруженный, пока в одиннадцать не раздавался снова голос Оршакова:
— Двадцатое, к но-оге!..
Дни и впрямь вскидывались задолго до рассвета, как вскидывает солдат винтовку, и обрывались, едва голова касалась подушки, таким же мгновенным цепенящим сном, как мгновенен стук опущенного на землю приклада. Лишь изредка кто-либо невнятно, бессвязно бредил, но прислушиваться к тому, что он говорил, было некому, и разве что сам бредивший просыпался от слетевших с его губ восклицаний, открывал глаза и с минуту лежал молчаливо, чутко пытаясь уловить отзвуки дорогих сердцу, сокровенно хранимых слов. Иногда среди ночи просыпался и Алексей. Но если перед глазами вставало что-либо из той довоенной поры, он принуждал себя не думать о ней, не возвращаться туда мыслями, не растравлять душу… И почему-то прежде всего вспоминался Дом Советов, комнаты горкома накануне эвакуации и незнакомый майор, который перочинным ножиком обрезал телефонный провод, многие годы соединявший горком с тем довоенным привычным миром… Отныне на полевую связь!
Курс партийно-политической работы в армии вел сам начальник училища — полковой комиссар Костров. На первом занятии он, поздоровавшись с курсантами, молча, с заново пробудившимся любопытством всматривался в их лица.
— Так вот, оказывается, с чьей кожи Гитлер собирается кроить ремни?!
— Что он сказал, Алексей, что он сказал? — не расслышал и под веселый, прокатившийся в классе шумок переспросил Мамраимов.
— Он сказал, что из твоей комиссарской кожи Гитлер хочет кроить ремни.
— Только из моей? Почему? Потому что темная?
— Не завидуй, из моей белой тоже…
В газетах уже не раз писалось, что фашисты с особой жестокостью расправляются с попавшими в их руки политработниками. Кто-то из курсантов пустил слух, что и у Кострова на груди вырезана звезда. Позже стало точно известно, что это так, но шрам давний — еще с гражданской войны, оставлен колчаковской контрразведкой.
Когда Костров проводил занятия, в классе надолго и прочно устанавливалась полная тишина. Может, оттого, что голос комиссара был негромким и надо было вслушиваться старательно, а может, и потому, что каждый при взгляде на его лицо, на широкую, крепкую грудь невольно вспоминал о том шраме…
Полдня в классах, полдня на плацу. Правда, как и многие курсанты, Алексей с трудом расставался с теми упрощенными представлениями о войне, а главное, о своем месте в ней, с какими он ехал недавно сюда, в училище. Ему тогда казалось, что прежде всего его станут учить без промашки стрелять, метать гранаты, разряжать хитроумные мины, безошибочно разгадывать коварнейшие планы и повадки врага. И, заглядывая в будущее, он видел себя в нем до яви отчетливо. Вот командир роты и он, политрук, склонились над картой-двухверсткой и вместе обдумывают предстоящую боевую операцию, разрабатывают неожиданный для гитлеровцев тактический маневр. Вот допрашивают стоящего перед ними пленного. Возможно, это будет на Южном фронте. На сапогах пленного лежит донецкая пыль, и не извернуться, не уклониться матерому эсэсовцу от суровых, неотступно прямых вопросов…
А пока… пока пусть бы скорей, скорей пролетали, мчались эти месяцы, отделяющие его, Алексея, от настоящего дела.
Но на размельченном сотнями ног красноватом песке плаца все эти картины будущего, такие зримые в первоначальные дни, казалось, бесследно развеивались.
— Курсант Осташко, ко мне! — приказывал командир взвода Мараховец.
Уже третий день Алексей выходил из строя, издалека старательно нащупывал взглядом то место на плацу, где надо остановиться, приставить ногу, одновременно приложить руку к фуражке, — и все получалось неладно. Разгонисто шагнув на примеченное место, на эту проклятую точку, он пошатывался на ней, словно на скользящих роликах, или же, миновав ее, не задержавшись, оказывался лицом к лицу с Мараховцем и, понимая, что опять переусердствовал, оглушительно выпаливал:
— Товарищ лейтенант, курсант Осташко по вашему приказанию прибыл!
Мараховец со снисходительной усмешкой смотрел на нерасторопного курсанта. Ждал замечания, смотря на лейтенанта, Алексей.
Он бы нравился Алексею, этот кареглазый полтавский паренек со смуглым, чуть одутловатым лицом и ровной чеканки и белизны зубами, если бы не та въедливая дотошность, с какой командир взвода следил за каждым жестом, за каждым движением Осташко и его товарищей.
— Становитесь в строй, — врастяжку, с ленцой произносил наконец он. Плотненький, аккуратный, пройдясь перед строем, останавливался уже в другом месте, и снова раздавалось:
— Курсант Осташко…
И все-таки пройти через выучку и муштровку Мараховца, очевидно, было куда лучше, чем оказаться во взводе Евсепяна, хотя тот и выглядел покладистей. Но это многословие, эти рассчитанные на то, чтобы вышибить растроганную слезу, укоры!.. Первый и второй взводы обычно занимались по соседству, и голос Евсепяна был хорошо слышен всем.
— Неужели вам не стыдно? — нет-нет да и начинал срамить он свой взвод. — Я удивляюсь, что никто даже не покраснел. Вы же все люди с высшим и средним образованием… Ну-ка шаг вперед все, кто с дипломами! Вот видите, сколько! А кто вам их дал? Забыли? А еще ответственные работники… Заместители наркомов…
Единственным заместителем наркома был каракалпак Нурымбетов, который действительно у себя в Нукусе работал в этой должности, да и в курсантской старательности не отставал, но Евсепян не упускал случая обобщить.
— Где же ваша совесть, товарищи начальники?
В такие минуты Мараховец замолкал, прислушивался и, чуть осклабясь, смотрел на свой взвод: ну как, мол, нравятся вам эти нотации? Может, предпочтете их?
На фронте еще не были ни он, ни Евсепян, ни другие командиры взводов, недавние выпускники пехотных училищ. Из всей роты на передовой успел побывать лишь курсант Герасименко, после лечения в госпитале направленный в училище и командовавший во взводе Мараховца отделением. Задумчивый, словно еще не воспрянувший духом после госпитальной жизни, он выделялся из числа всех неоспоримым старшинством, хотя по своему возрасту годился тому же Цурикову в сыновья.
— Чуток побыстрей, слышь, чуток побыстрей — и получится, — тихо ронял он Алексею, когда тот в первые дни не справлялся с оружейными приемами. И от этого спокойного, доверительного голоса сразу прибавлялось уверенности и все действительно получалось.
О своем участии в боях Герасименко вспоминал редко, не распространялся. Во взводе знали, что он встретил войну почти на самой границе — там, в белорусском местечке, стоял его полк; знали, что был он пулеметчиком, что в кандидаты партии его приняли на фронте, но заставить его разговориться было нелегко.
Однажды, когда Совинформбюро сообщило об освобождении города Дорохова под Москвой, Герасименко прислушался к гремящему над плацем голосу Левитана и, конфузливо улыбнувшись, заметил:
— Отдавал его и я… А вот брали без меня…
А чего конфузиться? Ведь сверкала в первой шеренге взвода одна-одинешенькая медаль «За отвагу», и висела она не у кого-либо другого, а на гимнастерке Герасименко.
— Да это так, по случаю пришлось, — пояснил на одном из перекуров Герасименко. — Как-то на КП драчка разгорелась…
— Драчка? — не выдержал и насмешливо переспросил Мараховец. — Кто же там и с кем у вас передрался?
— Да, известное дело, на передовой всякое бывает… Немец через лесок прорвался, пришлось отгонять…
— Ох, Герасименко, Герасименко, зажимаешь ты фронтовой опыт, — шутливо пожурил Мараховец. — А он курсантам, что называется, до зарезу нужен.
— Так я же, товарищ лейтенант, войну встретил, даже полковой школы не закончивши, — начинал оправдываться Герасименко. — А у нас тут, смотрите, какое богатое училище… Чуток подучимся — и дело пойдет. Политруки будут на славу…
А в один из дней и Герасименко заговорил о себе подробней.
На партийном собрании батальона обсуждалось его заявление о приеме в члены партии. Герасименко вышел к столу, на этот раз словно бы лишившись обычной выдержки и спокойствия. Частыми, мелкими движениями рук одергивал гимнастерку, волновался. Медалька льдисто поблескивала в полусумраке классной комнаты, освещенной двадцатьюпятьюсвечовой лампочкой.
— Значит, так… Родился я в девятьсот восемнадцатом году в станице Нижнечирской… Отец — казак, был в начале гражданской войны у белых, в мамонтовской коннице, потом перешел к красным. В тридцать втором году вступил в колхоз. В первые годы после школы работал в колхозе и я, а потом приняли матросом в волжское пароходство, был старшим матросом на «Красном сибиряке», отсюда пошел в Красную Армию… В кандидаты партии приняли летом сорок первого…
Снова руки Герасименко заходили, одергивая гимнастерку. «Вот я и весь перед вами», — как бы говорил этот жест.
Начались вопросы. Первый задал Оршаков.
— Кто вас рекомендовал, когда принимали в кандидаты?
— Политрук Савельев и командир взвода Западинский. Земляк с Нижнечирской… Их на второй же день бомбой на Кобринской переправе накрыло…
Послышался голос Евсепяна:
— В каком году, вы сказали, отец вступил в колхоз?
— В тридцать втором…
— Что же, у вас до тридцать второго сплошной коллективизации не было?
— По-моему, была…
— А как же он? Тугодум, что ли? И Советскую власть признал только после того, как по зубам дали?
Но тут по рядам курсантов зыбью прошел от дверей к столу президиума неодобрительный шум. Председательствующий на собрании Цуриков встал, сказал, что задавать такие вопросы ни к чему.
Алексей считал голоса. Посмотрел на Евсепяна. Поднял руку и тот. Значит, все — за…
До отбоя еще оставалось полчаса, и курсанты вышли во двор перекурить. Радио передавало последние известия… Выступление Эттли в палате общин… «Немцы никогда не предполагали, что германские армии будут проводить зиму в России под открытым небом…» Да, там, под Москвой, морозы, пурга, заледеневшие реки, снежные сугробы на дорогах… А здесь ночь стояла оттепельная, сырая, и казалось, что даже табак в карманах отсырел — цигарки потрескивали, как потрескивает на огне свежесрубленный лозняк, тянулись плохо. Далеко в городе лязгали последние, направлявшиеся в депо трамваи, на станции полусонно отзывались и затихали паровозные гудки. Еще несколько минут — и, пожалуй, одновременно с сигналом отбоя и гаснущими в бочке огоньками цигарок все вокруг погрузится в безмолвие. Только напротив училища ярко светятся и будут светиться всю ночь окна трехэтажного госпиталя, точнее, та их часть, за которой, наверное, размещались операционные…
Цуриков вспомнил о том, как принимали в партию его.
— На рабфаке был. Заспорили — рабочий я или служащий?.. Как по инструкции? Я не выдержал и руки показываю… Смотрите — это инструкция или нет? Ну, тут, правда, и райкомщик разъяснил… Приняли как рабочего.
— А я тогда чабаном батраковал у бая, — заговорил Мамраимов. — О, какой важный бай был! На всю нашу Хайнюрскую степь один… Я заявление написать не мог, неграмотный… Приехал на ишаке в город, в ячейку, а там не знают, что со мной делать… Даже газету ни разу в руках не держал. Но один русский сказал: хоп! Если чабан наедине со степью и ночным небом думал, думал и решил, что ему надо стать коммунистом, то будем гордиться такой партией и скажем Мамраимову: добро пожаловать…
— А чем же тебя после этого бай пожаловал?
— А он за границу ушел, к англичанам. Нам с ним в степи тесно стало…
Алексей жадно курил цигарку, слушал, вспоминал свое. Из всего, что осталось там, в Нагоровке, память о таком же дне, когда его принимали в партию, была, пожалуй, самой необходимой и сейчас, и завтра…
…Рекомендовали его Шапочка и Лембик, который тогда работал путевым мастером на их участке, на капризной и пыльной «Мазурке». Третью рекомендацию дал комсомол. Шахта со своими утлыми деревянными эстакадами, с обушковыми забоями и цокотом лошадиных копыт в штреках изнемогала тогда под тяжестью непосильных планов, которые надо было выполнять во что бы то ни стало. Иначе — прорыв, тревожное, как набат, слово, за которым виделось зияние черной, ничем не восполнимой бреши… Партийное собрание проходило в дневную пересменку в конторке рудничной нарядной. Когда оно кончилось, долго бродил по улицам города, желая разобраться, понять, как ему следует жить теперь, начиная с этого дня. Порывистый майский ветер, казалось, собрался разметать весь террикон и волочил по улицам сухую пыль, чернил ею только что распустившуюся клейкую листву. На стройплощадке, где сооружали подстанцию, гремела и визжала бетономешалка, плешивые, длинношерстные лошаденки грабарей подвозили щебенку. Здесь деревья были уже не черными, а бурыми от цементной пыли. Весна обнажила грязь и убогость поселка.
Но уже и тогда среди неустроенности и необжитости высились стены Дворца, знакомые даже малышам, прибегавшим сюда на свои утренники.
Помнится, Алексей зашел тогда в библиотеку, взял «Двенадцать» Блока и «Россию, кровью умытую» Артема Веселого — таких несхожих писателей, а, по существу, рассказавших в этих книгах об одном и том же… Читал далеко за полночь, позабыв о том, что в пять часов вставать и бежать на шахту. Перед глазами маячили лихие матросские бескозырки, дыбились пролеты разводных мостов Питера, шумели заседания ревкомов, мчались по стрежню остроносые речные канонерки… О, какие завидные судьбы, какую сгоревшую на кострах битв жизнь обязался, клялся он продолжить в тот день своей жизнью!
— Кончай дымить, поверка! — закричал выскочивший на крыльцо Оршаков. Бесцеремонно, с нетерпением до смерти истомившегося человека выхватил изо рта Алексея закрутку, сделал глубокий затяжной вдох, ахнул от наслаждения и снова нырнул в казарму.
Выстраивались в полутемном коридоре повзводно; зычно и разноголосо откликались на свои фамилии — «Я! Я!» — и, враз смешавшись, дорожа лишней минутой сна, разбегались по своим койкам.
— Четырнадцатое, к ноге!
Шел февраль сорок второго года…
10
Никогда, никогда к этому не привыкнуть, чтобы вот так, крадучись, остерегаясь встречных, стараясь быть незаметным, тайком идти по своей земле. Можно свыкнуться с постоянным соседством близкой опасности, и он, Лембик, загодя зная, что она будет, не уклонился, дал свое согласие в горкоме и теперь почти свыкся с ней. Но примириться с тем, что ты не хозяин в собственной хате, немыслимо, не под силу.
Весь день небо над Нагоровкой было обложено снеговыми тучами, и потому завечерело рано. Серый сумеречный свет неприветливо падал сверху, однако комендантский час, о котором оповещали объявления на телефонных столбах и заборах, еще не наступил. Захар Иванович, возвращаясь с заводской колонии, даже придерживал шаг, чтобы оказаться в нужном ему месте, когда уже потемнеет. Из головы все не выходил тот разговор, который он только что вел в одном из домиков, затерявшемся в разбросанном по склонам Вянковской балки поселке. Сперва он слушал заводских ребят, неодобрительно хмурясь. Горячатся. Надо выждать. Но доводы, которые они наперебой выставляли, выглядели веско. Чего ждать? Каждый лишний день их выжидания на руку только немцам, а людям, оставшимся в Нагоровке, надо поднять дух. И так все повесили головы. Тяжело и в глаза друг другу смотреть, хоть на улицу не выходи. Осторожность осторожностью, а подполье не для того оставлено, чтобы в нем закиснуть. Пора и шугануть. И Лембик, пропуская мимо ушей такие запальчивые, несдержанные восклицания, все же пообещал подумать над предложенным…
Тянувшиеся вдоль дороги палисадники заводской колонии кончились, за ними открылся небольшой пустырь. В конце его виднелось старое кладбище. Это на левой стороне шоссейки, а справа вплотную подступали к ней заводские корпуса, вернее, то, что теперь осталось от них: полуобваленные, ощетиненные пиками разорванной арматуры каменные остовы. Только стена построенного шесть лет назад врубового цеха, хотя и чернела от недавнего пожара, все же устояла и нависала прямо над дорогой. Лембик свернул влево к кладбищу и сразу увидел те давние могилы, о которых все нагоровцы одно время забыли и готовы были бы не вспоминать. Но о них напомнили в тридцать девятом году из самого Берлина, когда подписали пакт о ненападении. Сперва велась дипломатическая переписка, потом приехал германский консул, могилы были приведены в порядок, хотя, спрашивается, ради какой милости должна для них, незваных чужеземцев, стать мягким пухом эта украинская земля? Еще чего не хватало! В восемнадцатом против них партизанил, едва на виселицу не попал, а теперь уж не отдавать ли им почести? Даже думать об этом нестерпимо. Но все же на вырубленных из дикого серого камня крестах расправил тогда крылья одноглавый орел, а сейчас немцы, видать, готовились и еще к какой-то погребальной церемонии. Вероятно, собирались перехоронить в общую могилу тех, кого двадцать лет назад подстерегла партизанская пуля. Зияла большая свежая яма… «Побольше, побольше копали бы, чтобы в нее и нынешних!» — мысленно воскликнул Лембик. Неподалеку от ямы лежал наготове саженный крест из отполированного гранита, желтели кучи песка, чтобы посыпать дорожки, и звенья новой ограды… Лембик снова, уже издали, окинул пристальным взглядом поднимавшуюся над шоссейкой стену врубового цеха и, чему-то усмехнувшись, зашагал дальше, миновал перекресток, пошел Ленинградской улицей. Она упиралась в станционные пути, и эта дорога — через железнодорожную насыпь — была бы короче всего, но выбрать ее Лембик не решился: на станции могли встретиться патрули. Он пробрался проулком к отвалам старого террикона и стал подниматься по пересекавшей его тропинке. Издали увидел, что кто-то шел навстречу, и плотней надвинул шапку, опустил голову. Когда расходились по тропинке, успел заметить только добротные начищенные сапоги, и они уже остались позади, но не тут-то было.
— Захар Иванович, неужто ты? — окликнул его прохожий.
Лембик не остановился.
— Иваныч, да это ж я… Серебрянский… Федор… Что ж ты так?
— Обознался, парень, — буркнул Лембик, не поворачивая головы. Спиной он почувствовал удивленный взгляд, но продолжал идти и облегченно вздохнул лишь тогда, когда услышал отдалявшиеся шаги.
Лембик серчал на себя. Прежде всего расстроил его тот факт, что он легко оказался узнанным. Не помогла отпущенная борода, не помогли ни рваный капелюх, ни замусоленная, из чертовой кожи куртка, в которой раньше он постеснялся бы выйти не то что на улицу, но даже к сараю колоть дрова. Голос Серебрянского он тоже узнал, хотя близко знакомы они не были. Просто когда заходил к Осташко, то не раз видел копавшегося во дворе соседа. Ничего ни хорошего, ни плохого сказать о нем не мог. Но уже одно то, что Серебрянский — молодой, здоровый верзила — остался в Нагоровке и безбоязненно шалается по ее улицам, настораживало. И хотя не стал бы Захар Иванович пренебрегать ни единой живой душой, которая могла бы оказаться полезной для его дела, однако вот так стремглав, с ходу встретиться и заговорить не имел права. Не к нему должны были присматриваться и опознавать, а он обязан был все видеть, слышать, находить нужных ему, сто́ящих людей.
Спустившись с отвала, он только тут, вдалеке от станции, перешел железнодорожную насыпь и свернул к домикам под красной черепицей, где жили станционные служащие. Миновал сарайчики с прикладками сена для коз и кроликов, задворками пробрался в парк и глухими темными дорожками зимнего бесприютного парка направился к новому месту своего обитания — поселку Резервуар. Этот заброшенный медвежий угол как нельзя лучше подходил сейчас Лембику. Режущее слух, нелепое и странное название разбросанного по оврагам и балкам небольшого поселка сохранялось за ним еще с первой пятилетки. Как-то в осеннюю распутицу везли лошадьми на новый, строившийся тогда химзавод импортный резервуар… Лошади не смогли вытащить на взгорье погруженную на двое дрог железную махину, и она скатилась в гиблые хляби. Здесь и оставили ее до весны. А чтоб ценное оборудование сохранилось в целости, приставили к нему сторожа, построив человеку халабуду. Халабуда осталась и после того, как резервуар увезли, а рядом с ней вскоре выросла еще такая же; в балке, на дне которой протекал веселый ручеек, начали строиться и другие нагоровцы. Незадолго до войны в местной газете стали появляться заметки, говорили и на сессиях горсовета, что к поселку надо проложить дорогу, подвести электричество, но не успели, как не успели и переименовать его. Резервуар, и все… Во Дворец отсюда редко кто ходил, ближе был клуб соседней шахты. Захара Ивановича здесь мало кто знал, и это его устраивало.
Он постучал в окошко хаты.
— Ты, Захар?
— Я, Варвара.
В комнате, что служила и кухней, тлела пунцовая горошина стоявшей на столе шахтерской лампы. Варвара припустила фитиль — чуть посветлело. Захар Иванович, оставив в коридоре заляпанные грязью сапоги, присел у стола.
Варвара нагнулась к духовке, вытащила чугунок с картошкой.
— Захолодала, тебя дожидаючи.
— Не бойся, книгу жалоб не потребую. Сама-то ела?
— Хозяек о таком не спрашивают.
Варвара ждала, что ее новый постоялец сам расскажет о том главном, чего страшилась и хотела знать она, по болезни не ходившая дальше колодца. Но Захар Иванович, изголодавшись, жадно припал к чугунку, и Варвара выждала, пока он хоть немного подзакусит, потом скорбно спросила:
— Ну и как там наша Нагоровка под немцем?
Лембик еще рьяней и свирепей заработал челюстями. Лишь когда ложка заскребла по донышку, огладил, очесал бороду, к которой все еще не мог привыкнуть, заговорил:
— Да уж заразбойничали… Комендантский час, патрули… Пока войска не останавливаются, проезжают на Енакиево, Дебальцево, но уже появились и такие, что начинают шнырять и на шахтах и на заводе, взламывают двери, где заперты, приставляют часовых к тому, что не вывезено.
— А как же тот парнишка, что стрелял с Дворца, хоть дали похоронить?
Захар Иванович почернел лицом.
— Увезли. Боятся, видно, чтоб народ знал его святую могилу. — Помолчал, затем добавил: — А в самом Дворце, мабуть, хотят разместиться… Тоже поставили часового. Флаг повесили свой, со свастикой. Издали глянешь — вроде наш, красный, а ближе подойдешь — посередке паук-тарантул. В общем, Варвара, не скоро тебе придется свои песни завести…
— Ох, да разве ж теперь об этом забота? О чем вспомнил?! Я и в зеркале себя не узнаю… Да и ты посмотрел бы на себя…
— Еще чего скажи! Стал бы собой сейчас любоваться, — горько усмехнулся Захар Иванович.
Нет, видать, он еще не так оброс, если его легко узнают, как вот только что. Поспешил, поспешил выйти, надо было повременить. Но тут же взглянул на табель-календарь, вырезанный Варварой из журнала и прибитый к стенке, и не стал больше в том упрекать себя. Не мог, не мог сидеть в канун этих дней сложа руки. В черном будничном столбике улыбчиво выделялись два красных числа — 7 и 8 ноября, — и в памяти возникало все, что было с ними привычно связано. Задолго до этих дней семья переставала видеть Захара Ивановича. С рассвета до полуночи завхоз пропадал во Дворце. Торжественное заседание… Семейный вечер забойщиков… Концерты… Праздничный бал молодежи… И хотя Захар Иванович по своей должности делил все эти хлопоты с Алексеем, однако той части, которая выпадала на его завхозовскую долю, с избытком хватило, чтобы к концу дня еле волочить ноги. Выкроить из сметы и купить, а чаще достать, выклянчить, выколотить… Лампочки для иллюминации. Самовары в Большую гостиную, краски художникам… Подарки на детские утренники… Реквизит для концертов… Костюмы, цветы, ноты, посуда, кумач… Измотавшись, он сидел потом в углу Большой гостиной и под нестихающий веселый говор шахтеров блаженно дремал над чашкой остывшего чая… Сейчас все это вспоминалось и впрямь как оборванный сон.
Единственно, чем был отмечен праздник в домике Варвары, так это затирухой, которую она сварила из остатков муки, да поставленной на стол бутылью прошлогодней смородиновой наливки.
После праздников землю притрусило первым легким снежком, и поселок даже покрасивел. Но красота эта не могла радовать в такие времена.
Захар Иванович встал задолго до рассвета и куда-то ушел. Через поселок долго тянулся какой-то немецкий обоз. Тяжело груженные, глухо постукивающие на кочках фуры. Обмерзшие солдаты с поднятыми воротниками. «Словно паршивые цуцики», — подумала Варвара, глядя на них из окна. Боялась, что кто-нибудь заскочит и начнет шебуршить в доме. Но не задержались, очевидно, спешили на станцию к погрузке.
А часов в семь заявился Захар Иванович, настуженный, посиневший, но так зашумел и затопал уже в сенях, как шумят и топают, только хватив лишнего, навеселе.
— Что это ты будто с масленой? — удивилась Варвара, присматриваясь. — Неужели и в самом деле выпивший?
— А вот и ты сейчас захмелеешь, — самоуверенно пообещал Лембик. Он присел у печки, потер озябшие руки. — Парад на Красной площади позавчера был. Соображаешь, что это и к чему?
Варвара посмотрела на Захара Ивановича как на рехнувшегося.
— Кто это над тобой вздумал подшутить? До этого ли сейчас Москве? Какой такой парад может быть?
— А вот такой, как всегда… И раньше он нашим врагам поперек горла, а теперешний и подавно. И Сталин, как всегда, с Мавзолея выступил… Как всегда! Так что пусть насчет Москвы не трубят… Пусть о своей шкуре подумают… В восемнадцатом мы ее дырявили и сейчас не промахнемся. Чуешь, Варвара? Не промахнемся и здесь, в Нагоровке!
Весь смысл этих дважды повторенных слов дошел до Варвары лишь спустя день, когда вся Нагоровка, от Алексеевки до Резервуара, заговорила о том, что произошло на старом заводском кладбище. А там случилось вот что. Немцы и впрямь задумали торжественно почествовать своих предшественников — кайзеровских солдат, нашедших возмездие на донецкой земле. Был и оркестр, и рота СД, и чернели в строю мундиры эсэсовцев и разного начальства. Но когда оркестр грянул марш и все торжественно вытянулись, вскинули руки в фашистском приветствии, вдруг раздался мощный глухой взрыв, и многосаженная, тысячетонная стена врубового цеха дрогнула, качнулась и плотной могильной плитой накрыла всех, кто выстроился на шоссе.
11
…Алексея разбудил обвальный грохот, гул. Оторопело вскочил с койки. В окнах еще совершенно темно, на тумбочке мигала лампа дневального, а все с лихорадочной поспешностью одеваются. Еще не зная, в чем дело, схватил и он с табурета штаны, гимнастерку. Быстрей, быстрей!
— Тревога! — наконец врезается в гул кем-то выкрикнутое слово.
В дверях стоял Мараховец и что-то держал в руке. А, часы! Учебная тревога или настоящая? Может быть, действительно случилось что-то неожиданное, смертельно опасное и они понадобились неотложно, сейчас? Может, где-то, на одном из участков обнажившегося фронта, уже не столько нужны политруки рот, сколько, пусть еще и не обученные, роты бойцов? И их на станцию, в вагоны срочного эшелона? Чтобы бросить в прорыв, закрыть образовавшуюся брешь?
Но все эти мысли нахлынули чуть позже, на ходу, а сейчас не медлить, сосредоточиться на одном — быстрей одеться. Черт с ними, с пуговицами! Быстрей зашнуровать ботинки и справиться, хоть как-нибудь справиться с этими треклятыми, путающимися в руках обмотками.
Алексей затянул ремень, выхватил из пирамиды винтовку, побежал к дверям, миновал поглядывающего на часы Мараховца. Пусть не первый, но и не последний: ишь сколько еще позади него топают ботинками, перегоняют друг друга…
Только когда встал в равнявшийся на плацу строи, подумал о том, что, если бы и впрямь направлялись на станцию, взяли бы вещевые мешки… Однако кто знает, — возможно, старшины просто погрузят их вместе со всем содержимым своих каптерок и подвезут к эшелону?
Рядом зябко вздрагивал Мамраимов.
— И скажи, какой глупый человек, даже в Ташкенте трясется…
— Ты кого ругаешь, Рустам?
— Самого себя.
Но и Алексея била дрожь от волнения, от холода, резко и внезапно сменившего ночное тепло согретой постели.
Вышли за ворота. Впервые за эти два месяца Алексей шагал по городской улице. Но плотный предрассветный туман мешал видеть что-либо по сторонам, только слева по молочно-розовым просветам угадывались окна госпиталя — там не спали и сейчас. А затем роты втянулись в ущелья неотличимых друг от друга дувалов, и глазу вовсе не на чем было остановиться в этой наполненной темно-серой мглой теснине. Хлюпала под ногами реденькая жижица размытой дороги, сбоку слышались негромкие команды взводных — подтянись, не отставай, не сбивайся, — отдалялись, истончались паровозные гудки. Нет, идут не на станцию.
Колонна в своем быстром, но мерном движении слегка раскачивалась: влево — вправо, влево — вправо. Алексей шел в середине колонны и, чувствуя это волнообразное, прибойное раскачивание сотен людей, про себя заметил, что поддаваться ему приятно, он мысленно даже посочувствовал Мараховцу, который хотя и шагал в ногу со всеми, но один, по обочине, как и другие командиры. А вот так, в колонне, куда легче — не устаешь.
— Прибавить шаг! Веселей взмах руки!
Шум, топот сильнее — га-ах, га-ах! А через несколько минут новая команда:
— Еще прибавить!
Теперь уже не до того, чтобы четко отбивать шаг, надо просто поспеть за впереди идущими, и напряжение растет, учащается дыхание. Мамраимов сбивается с ноги, но пристроиться к остальным уже невозможно, они и сами идут, а вернее — бегут, вразнобой, и гулко колотится сердце, начинаешь сомневаться в себе, в своей способности выдержать такой темп.
Они уже за городом. Куда девалась бросавшая в дрожь предутренняя знобкая сырость! Все разгорячились, жарко лицам, рты жадно хватают свежий воздух, но он словно рвется на клочки, и все они мимо губ, мимо губ. Проснувшийся на просторах степи ветер всклубил туман, покатил его в далекие долины предгорья. Рассветало. Широкое шоссе наполнилось жизнью. Пронеслись военные, затянутые хлопающим брезентом грузовики, проскрипели арбы с исполинскими, как шкивы на копрах, колесами. По асфальту постукивали копытцами ишачки, на которых старики-дехкане спешили в город. У одного из переметной сумы торчали ярко-оранжевые горловины кувшинов с молоком, другой придерживал перед собой домотканый полосатый мешок с тыквами, а кто просто вез вязанки арчи, без которой не обойтись в эти холодные военные дни рабочему Ташкенту. Встречные почтительно сворачивали с дороги, останавливались, долго смотрели вслед торопливо шагавшей колонне.
Впереди на шоссе зачернела съехавшая в кювет старая эмка. Около нее стоял Костров. Батальон остановился. Полковой комиссар подозвал командиров. О чем разговаривали — не слышно, но по лицам видно, что довольны. В голове колонны раздалась команда разойтись.
И лишь когда строй распался, Алексей, будто внезапно лишенный опоры, почувствовал, как неимоверно он устал. Горели подошвы ног, отяжелевшая шинель тянула к земле. Поставил винтовку в козлы, выбрал сухой пригорок и вначале, как и все, присел, потом, не выдержав, откинулся на спину. К этому времени чуть ли не на полнеба выметнулось солнце; ранее упрятанное за синевшие на горизонте горы, оно теперь пригревало совсем не по-зимнему.
Курсанты второго взвода сидели неподалеку, на бровке кювета, и оттуда доносился голос Евсепяна:
— Ну что, узнали марш-бросок? Ничего, ничего, полезно. А как приходится на фронте? Если с марша да прямо в бой? И такое ведь бывает… А здесь-то что, быстро-быстро назад в казарму да за кашу с маслом…
— Ох, товарищ лейтенант, каша кашей, а если бы еще и бешбармак из молодого барашка…
— Видите, о чем вы, Мамраимов, размечтались? А про пайку окопных сухарей слышали, товарищ курсант? Где ваша совесть? И вы еще в такое время смеетесь? Стыдно!..
Алексей расстегнул воротник шинели, закрыл глаза, блаженно подставляя солнцу лицо, шею. Усталость не прошла, но она не угнетала, а даже веселила. Пусть и крохотное испытание, но все же он его выдержал ради того главного, большого, что где-то впереди.
— Товарищ Осташко, а вот так не надо, — вдруг послышался над ним мягко укоряющий голос, — сейчас полежать хорошо, а потом чирьев не оберетесь… Земля-то весенняя. Лучше чуток поразмяться, походить…
Герасименко!.. Алексей благодарно улыбнулся, встал.
Эмка развернулась, помчалась в город. Курсанты разбирали поставленные в козлы винтовки, подтягивались к шоссе.
После этого ночного броска, которому Оршаков посвятил развернувшийся едва ли не на весь коридор номер стенгазеты, выходы за город последовали один за другим. Занимались в степи на солончаковых такырах, плотно сбитая земля которых не поддавалась саперной лопате, и кровянились ладони, пока выроешь хотя бы неглубокую ячейку для стрельбы лежа.
— Глубже, глубже! Вы думаете, что в Крыму на Сапун-горе земля мягче?
Ох, лучше бы Евсепян не напоминал о Крыме. Там продолжал держаться, не сдавался Севастополь, и они согласны вырыть на такыре целый котлован, если бы это помогло севастопольцам.
Занимались и на старом мусульманском кладбище, по-пластунски переползали между невысокими могильными холмами, отрабатывали перебежки, прыжки через изгороди. Часто выходили на Дикое поле, пустырь, протянувшийся за текстильной фабрикой, густо пересеченный арыками, заросший джантаком — верблюжьей колючкой, и акджусаном — белой древовидной полынью, терпкий запах которой волнующе напоминал Алексею о донецкой степи. Здесь упились ходить но азимуту, вести разведывательный поиск, преодолевать водные преграды.
— Прыгать! — разгоряченно, азартно кричал Мараховец, когда курсанты, поднявшись с рубежа атаки, подбегали к глубокому арыку и останавливались на его обрывистом берегу. Каждый быстрым взглядом прикидывал ширину канала… Метра два с лишним… Нет, не под силу…
— Приказываю прыгать, — взъяренно повторял Мараховец.
Первыми прыгнули Цуриков и Алексей, оба длинноногие. Но и они только скользнули подошвами ботинок по травянистому склону противоположного берега, уцепились за кусты, с трудом вылезли на ту сторону.
— Мамраимов! Оршаков! Фикслер! — подгонял взводный курсантов, топтавшихся перед арыком.
Фикслер нерешительно остановился и что-то забормотал.
— Курсант Фикслер, что вы там сочиняете себе под нос? Повторите!..
— Это Петрарка, товарищ лейтенант… Канцоны о радости мщения.
— Что за Петрарка?
— Прекрасный поэт Италии… Эпоха Возрождения…
— Прекрасный! Вот встретитесь!.. Полюбуетесь!
— Думаю, что для меня такая встреча не за горами…
— Хватит болтать… Прыгайте!..
Фикслер тяжело плюхнулся в воду, зашлепал вброд.
— Рассыпаться цепью… Вперед, вперед! Ориентир — одиночное дерево справа, — не замолкал голос Мараховца. Сам он перелетел арык удивительно легко, этаким мячиком, без всякого разгона. Живой укор всему взводу…
Одиночное дерево — карагач — стояло на песчаном холме. Там предстояло окопаться, с ходу занять круговую оборону. Алексей бежал рядом с Фикслером. По ногам хлестал джантак, в ботинках хлюпало, мокрая одежда облепила заледеневшее тело — арык питался таявшими снегами гор, — и только бег, движение могли вернуть тепло…
Тяжелей всего приходилось Фикслеру. Тучный, неповоротливый, он, когда бежал, учащенно, прерывисто дышал, чернявое лицо его покрывалось росинками пота. Но оказалось, что он предугадал свою судьбу… На одном из полевых занятий прибежал посыльный и передал приказ: Фикслеру немедленно явиться к начальнику училища.
Когда спустя несколько часов рота вернулась в свое расположение, Фикслер уже ходил в новеньком офицерском обмундировании — его досрочно отзывали в распоряжение Главупра. Фронту нужны были знающие итальянский язык.
— О великий Петрарка, я и здесь почувствовал твою мудрую, великодушную руку… Но как прикажешь ты мне разговаривать с твоими неразумными потомками, что обрекли себя на участь сателлитов? «Ужель вы не проучены уроком баварских злых предательств, что дразнят смерть, топыря пальцы вражьи? С утра до третьей стражи подумайте о жребии своем!..»
— В самом деле на фронт? — спросил Алексей.
— Даже знаю на какой. На Южный… Можешь позавидовать — твои края… Представляешь допрос? Назовите, какие части дислоцированы в Нагоровке, кто ими командует? Кто размещается в доме, где ранее проживал Алексей Осташко? Могу тебе прислать точные сведения…
— Не бахвалься… Думаешь, что мы будем дожидаться сложа руки до самой зимы?..
— Не желаю вам этой участи, но все возможно…
Фикслер был в приподнятом настроении, всеми своими мыслями он уже находился там, на фронте. Да, ему можно было позавидовать. Для него переход от Петрарки к будням войны оказался простым, естественным…
Не раз после занятий Алексей и себе приказывал: проще, проще! Надо огрубеть. Да, вот то, чего надо поскорей достигнуть: огрубеть! Именно этого от него добивалась, требовала война. Отрешиться, как от никчемной обузы, от всего лишнего, безжалостно выжечь из души любые поблажки себе, снисходительность, уступчивость. Сейчас с неприязнью вспоминалось, что всего за месяц до войны, когда в оранжерее парка высаживали цветочную рассаду, он вложил столько сил и души, чтобы достать семена гладиолусов, канн, пионов, и сам увлеченно подбирал их сорта, заботясь о красивых и разных оттенках. Цветы нужны были парку, школам, новобрачным; цветами встречали у рудничного ствола шахтеров, перевыполнявших план… А ведь оранжереей по-стариковски мог заняться и Лембик, а он, Алексей, уже тогда должен был готовить себя к другому… Во всяком случае, чаще заглядывать в ту комнатушку — ее выделили в подвале, — где хозяйничали осоавиахимовцы… Теперь надо нагонять упущенное… И по утрам, бреясь в умывалке и поглядывая в зеркальце, Алексей был доволен, замечая, как он изменился. Лицо стало худощавей, энергичней, собранней. Порыжевшие на солнце брови и ресницы. Крепкий, темнивший кожу загар.
12
Изменился не только он, изменились все. И, вероятно, со стороны это было еще заметнее.
Как-то в воскресенье к Цурикову приехала из Самарканда находившаяся там в эвакуации жена. Осташко в этот день дежурил на проходной. Он чаще других попадал в наряд именно по воскресеньям. Ведь ему не приходилось ждать увольнительную и дорожить ею так, как дорожили те, чьи семьи находились тут же, в Ташкенте, или где-либо поблизости. Об увольнении и не заикался. Оно ему было без надобности. Даже выручал товарищей, не раз дневалил за них в казарме, в столовке, на проходной, как сегодня. Отправив посыльного разыскать Цурикова, он с любопытством поглядывал на сидевшую у ворот шатеночку. В полосатом, местной, узбекской, выделки платьице, вся какая-то уютно-домашняя, среднего, если даже не ниже среднего роста, она казалась совсем не парой нескладному, рослому доценту, их неизменному правофланговому.
Цуриков вышел из ворот, и надо же было видеть в эту минуту оторопелое лицо жены.
— Боже мой, Гриша, какой же ты стал! — не решаясь кинуться ему на шею, всплеснула она руками.
— Какой? Хм… — прервавшимся от волнения голосом шутливо переспросил Цуриков. — Покрасивел?
Он приподнял ее за локотки и стал целовать.
— Не знаю… Не знаю… Но ты не такой, — плача и смеясь от счастья, повторяла Цурикова. — Не такой, как был, совершенно другой.
Только теперь и Алексей, вспомнив, как выглядел Цуриков в Уральске и потом, в первые училищные дни, заметил с удивлением, что он и впрямь изменился. Не стало прежней сутулости, и гимнастерка заправлена была в старательную оборочку, и весь он выглядел молодцевато, подтянуто, сравнявшись своей солдатской выправкой с остальными.
Из будки КПП в эти воскресные дни можно было и насмотреться и наслушаться всего. Навестить курсантов приезжали родственники отовсюду — из Голодной степи, Чирчика, даже из Ленинабада и Бухары. А семья Мамраимова — отец, жена, ребятишки — в один из дней заявилась из своего горного кишлака на трех ишаках. Алексей сам побежал разыскивать друга.
— Рустам, быстро на выход! Там к тебе целый кавалерийский эскадрон прибыл.
Мамраимов брился, смахнув со щек мыльную пену, вскочил.
— О аллах, спасибо, что не оставляешь своею милостью и политсостав. Теперь, Алеша, и мы покурим. — На ходу натягивая гимнастерку, он устремился к двери.
Смотреть на эти короткие воскресные встречи было занятно, и ничего схожего с завистью Алексей не испытывал. Слишком тягостный осадок, нет, даже не осадок, а мрачные пласты отягощали душу, лишь стоило вспомнить ту, которую он когда-то любил. Сейчас все это хотелось забыть, навсегда забыть, не упоминать даже мысленно ее имя. Все, пожалуй, мог бы простить, но лицемерие в любви, ложь?.. Это не прощается… И хорошо, что разрыв их произошел до войны, что его не ждет удар в спину… А Цурикова, видно, и до сих пор влюблена в своего доцента… Как засияли глаза! И жена Мамраимова тоже защебетала нечто такое, соловьиное, нежное, что понятно даже тому, кто ни бельмеса не понимает по-узбекски… Стоп, Алексей, вот, кажется, ты уже позавидовал!.. Он отвернулся, стал смотреть в другую сторону…
В неприятную обязанность дежурного входило не допускать у КПП толкучки, следить за тем, чтобы не собирались зеваки или же бабки, подторговывающие разным незамысловатым товаром — семечками, орехами, урюком. Но сейчас здесь не было никого, кроме какой-то одинокой женщины, которая стояла поодаль от проходной, явно робея, не решаясь подойти поближе. Зябнущая на холодном мартовском ветру в своем легоньком, нездешнего покрой пальтишке, она, однако, была с пустыми руками. Ждала? Кого? Вот она остановила одного курсанта, что-то спросила, тот отрицательно качнул головой; остановила другого — и тоже, видимо, напрасно. Алексей не выдержал и, поправив красную повязку на рукаве, шагнул с крыльца, направился к ней.
— Вы что здесь стоите? — окликнул он и тут же устыдился своего строгого голоса. На него глянули снизу вверх такие милые, мирные, просветленные задушевностью и спокойствием глаза, что смутить их — а они смутились, растерялись — бесцеремонным солдафонским возгласом самому показалось непростительной грубостью.
— Вы это мне? — спросила она, напрягаясь всем лицом так, как это делают глуховатые люди.
— Да, вы кого-либо ждете?
— Нет, я просто так, — торопливо проговорила она. — Я спрашивала, может быть, кому-нибудь надо постирать или погладить… Если нельзя, если запрещаете, извините… я уйду.
— Нет, почему же, спрашивайте… Только вряд ли… Вы что, не местная разве? — поинтересовался Алексей, про себя определив ее неискушенность и неопытность. Местные обращались с предложением таких услуг не к курсантам — что курсанту стирать, для него есть прачечная, — а к начальствующему составу, к преподавателям.
— Нет, нездешняя, из России. Я тут с мамой неподалеку живу… Я могла бы к утру все сделать, быстро и хорошо. Честное слово!
— Ну, меня бы вам уговаривать не пришлось, — шутливо заверил он. — Жаль, однако, что ничего нет. Что ж, подождите других.
Дальше расспрашивать ее он не стал. Она и без того посматривала на его нарукавную повязку боязливо, только вот разве на миг вспыхнула, стеснительно улыбнулась его шутке, но ведь и эта шутка не обнадеживала, не утешала.
Алексей возвратился к караульной будке, чувствуя, как отчего-то по-особому близко к сердцу принял заботы и огорчение этой незнакомой молодой женщины. За эти месяцы он как-то позабыл о том, что рядом, за стенами, живет, трудится, тоже изо всех сил напрягается в беспокойных нелегких заботах большой шумный город, позабылась, как давний тяжелый сон, даже привокзальная площадь с многотысячной мокнувшей под дождем голодной толпой, которую об увидел после приезда в Ташкент. Наверное, в этой толпе, дожидаясь своей очереди к уполномоченному горсовета, стояла и она? Пожалуй, до отчаяния тяжело приходится ей, если вот так вышла прямо к училищной проходной искать работенку. Мать, наверное, старенькая, пайка не хватает, да всего, всего сейчас не хватает… Так, мысленно посочувствовав приезжей, он вдруг, признался сам себе, что ему снова хочется увидеть ее глаза, услышать ее голос.
Он оглянулся. Она смотрела ему вслед, и в ее понурой фигурке еще взволнованней проступила растерянность и незащищенность.
Алексей, будто вспомнив что-то, вернулся.
— А вязать вы умеете?
— А что вам нужно? Варежки? — обрадовалась она.
— Нет, свитер.
— О, это сложней.
— Не пугайтесь, свитер есть. Надо только подштопать, починить.
— Тогда несите, — весело сказала она.
Алексей побежал в казарму. Был бы только на месте старшина. Повезло. Еще издали увидел дверь каптерки открытой. Торопливо разыскал и отпер свой чемодан. Свитер под мышку — и назад.
Она деловито и по-хозяйски расправила маленькими ладошками принесенное. Сразу заметила дырки на груди, прожженные махоркой, и дыры на локтях, насмешливо хмыкнула.
— Свитер вам не короткий?
— Нет, как раз по мне.
— Тогда все хорошо. Мы распустим вот эти обшлага, они лишние, и этими нитками наложим штопку. Только, конечно, за один день я не справлюсь…
— Пока и не к спеху. Это все впрок. Где потом вас разыщу?
— А я неподалеку живу. На Луначарской. Третья кибитка с левой стороны. Вы всегда мимо нас проходите, когда вас в поле ведут.
— «Ведут», — шутливо передразнил Алексей. — Из детских яслей, что ли?
— Извините, не хотела обидеть… В общем, спросите там Валю эвакуированную…
— Есть спросить эвакуированную Валю, — повторил Алексей, чувствуя, как необычно, впервые за долгие месяцы, затеплилось на губах девичье имя. — Тогда уж позвольте узнать, откуда эвакуированная?
— Из Москвы… Я, собственно, эвакуировалась из-за мамы… А так бы… — Она не договорила. — Вас, кажется, зовут.
С крыльца будки ему сигналил рукой посыльный.
— Да, это меня. До свиданья. Если понадоблюсь… Алексей Осташко… Из первой роты…
Утром другого дня, шагая в колонне по знакомой улице, Алексей скосил глаза влево. За воротами дувала голубела празднично расписанная кибитка с пристроенным к ней айваном — небольшой крытой верандой — и выведенной в окно жестяной трубой. Во дворе стояла чинара, неподалеку от нее конусообразный тадыр — плита для выпечки лепешек.
Он и потом, в последующие дни, не раз вот так, на ходу, тянулся ищущим взглядом к этому домику, чувствуя удовлетворение, что появилась и у него в этом городе какая-то небезразличная ему, Алексею, живая душа. А потом раздражался, мрачнел. Что тебе в ней? Мало одного урока? Хочешь получить еще один? Он готов был перенести и на эту незнакомую ему эвакуированную Валю все то оскорбительное, обидное, что пережил в свое время и не мог забыть. И все-таки трудно было удержаться, чтобы пройти по Луначарской, не посмотрев на третий от переулка домик… Однажды заметил во дворе женщину, рубившую арчу. Ветер скинул с ее головы платок, обнажил по-узбекски гладкий зачес черных волос. Нет, не она; наверное, хозяйка… В конце концов, если завтра или послезавтра не увидит ее, то попросится выйти из строя. На минуту. Подбежит, спросит о свитере — и назад…
Но вскоре начались боевые стрельбы, и курсанты теперь ходили за город в ущелье, где располагалось стрельбище. Алексея поджидали неприятности, неудачи, и он на какое-то время перестал и вспоминать о голубой кибитке… Старенькая и казавшаяся такой незамысловатой винтовка вдруг, попав к нему в руки, проявила свой норов. Он мазал и мазал…
Мараховец с насмешливой ленцой щурил красивые карие глаза.
— Курсант Осташко, винтовка образца какого года?
— Тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого, товарищ лейтенант.
— Значит, сколько лет она служит армии?
— Пятьдесят, товарищ лейтенант.
— Понимаете, что это означает?
Еще бы не понимать?!
Все более чем ясно. Полвека прошло. Палили из этой фузеи еще под Мукденом, потом в девятьсот четырнадцатом — под Перемышлем и Сувалками, потом в гражданскую войну — под Псковом и Перекопом, а вот теперь в руках будущего военного комиссара.
— Я вас аттестую политруком банно-прачечного отряда, — теперь уже гремел голос Мараховца. — Будете сидеть на берегу пруда и приглядываться к икрам полоскальщиц.
Как бы в последний раз предоставляя Алексею возможность исправиться и тем самым избежать упомянутой грозившей опасности, он отрывисто скомандовал:
— На огневой рубеж — шагом марш!
С трудом Алексей дотянул до удовлетворительной оценки. Он было уже упал духом.
И когда настало время стрелять из ручного пулемета, то подошел и лег перед ним вовсе без всяких надежд, загодя переживая свое невезение: чему быть — того не миновать.
И тут случилось чудо… Может, все дело в том, что на этот раз рядом с Алексеем оказался Герасименко со своим негромким приятельским говорком?
— Спокойненько, спокойненько. Что ты натянулся, как пружина? Расслабься. Только сошки поправь… И будет хорошо…
Все три пули выпущенной короткой очереди Алексей точно положил в цель. Сразу приободрился. Мараховец явно был удивлен — карие глаза округлились, стали еще выпуклей, поначалу не выставил и оценки. У остальных во взводе результаты стрельбы были хуже. В конце занятий Алексей стрелял опять. И снова три попадания. Он торжествовал и всю обратную дорогу с неким чувством благодарности нес пулемет, хоть был он вдвое тяжелей винтовки… Выручил, окрылил!
Как раз в этот день — а была суббота — дежуривший на контрольно-пропускном пункте Оршаков сказал Алексею, что его спрашивала какая-то женщина.
— Приметная — русявенькая, светлоглазая… Оказывается, ты уже здесь успел присмотреться? Эх, перевелись на Руси схимники…
Впервые Алексей попросил на воскресенье увольнительную. Нашелся для того и повод — день рождения. Старшина так изумился просьбе, что расчувствовался и даже пошел и достал в каптерке соседней роты другую, бо́льшую, фуражку. Все остальное обмундирование подновлять или чистить бесполезно — за эти месяцы оно обносилось так, что вся надежда возлагалась на свежий подворотничок и бравую выправку.
Майское солнце припекало по-июльски. В Донбассе в такую пору нередко случались и заморозки, а здесь все изнывало от зноя, плавилось, и над дувалами, над плоскими крышами жилищ зыбился раскаленный камнями улиц воздух.
Окна кибитки были распахнуты, наружу выбились чистенькие белые занавески.
Алексей постучал.
— Входите, — послышалось из комнаты. Голос женский. Ее? Он взялся за висевшее на двери — там, где привык видеть щеколду, — тяжелое железное кольцо. В недоумении повертел, потянул его — ничего не получалось. Изнутри поспешили на помощь. Открыла она сама. Узнав Алексея, обрадованно рассмеялась.
— А, забывчивый заказчик! Я вас три дня ищу.
Сейчас, когда он увидел ее не в пальто и в платке, а в ситцевом домашнем сарафанчике, обнажавшем до плеч еще не успевшие загореть руки и нежную шею, она ему показалась более рослой, чем прежде. Вероятно потому, что тогда встретил ее на площади и она озябла, жалась, а теперь под низким потолком кибитки чувствовала себя непринужденно, свободно. И к тому же не уложенные, а распущенные по-домашнему волосы. «А ведь она и в самом деле русявенькая», — вспомнил Алексей сказанное вчера Оршаковым.
— Занятия, нельзя было вырваться… — невнятно стал извиняться он. — Отпустили в порядке исключения…
— И чем вы его заслужили?
— Заслужила мама, она меня родила в этот день…
— Ах, вы сегодня именинник?! Поздравляю. Полагается дарить в этот день подарки, а я только возвращаю ваше.
Свитер лежал на подоконнике, она взяла его, протянула.
— Принимайте работу. Можете и выругать, если не угодила.
Он мял в руках свой нелепый толстый свитер, представляя себе, что́ она, вязавшая в такую несусветную жару, могла о нем подумать. Неженка? Маменькин сынок?
— Спасибо, эвакуированная Валя. Сколько я вам должен?
— Вы торопитесь? Прежде посмотрите, что я вам намудрила. Не хватило шерсти сделать воротник повыше, а все-таки чуть его подняла.
— Я вижу. Лучше не могла бы связать и моя бабушка.
— А я и училась у своей.
— И ваша прилежность налицо.
Не дождавшись, пока Валя назовет цену, Алексей отсчитал из вынутого портмоне деньги, положил на стол.
— Пожалуй, что-то слишком много… Право же, много, — неуверенно произнесла Валя.
— Ну, по нынешнему военному времени и расценки… Мы ведь не договаривались, — успокоил ее Алексей. Сам он все эти месяцы тратился только на курево. Но наслышался немало о баснословных ценах на ташкентских черных рынках.
Она все еще колебалась, как девчурка, которая видит заманчивое, но недоступное ей лакомство, и вдруг решилась:
— А вы знаете, хотя это и не совсем справедливо, но я их возьму… У меня больная мама. Лежит в больнице.
— Ну вот, тем более они кстати.
— Только тогда… тогда я угощу вас зеленым чаем. Не откажетесь? — Ее саму рассмешила эта попытка уравнять сделку. — Садитесь вот сюда. Правда, придется немного подождать, вскипячу чайник.
У окна стояла крохотная жестяная печурка, но жа́ру от нее не шло, в комнате, несмотря на знойный день, было прохладно. Валя пошевелила кочережкой, из-под светло-пушистого пепла пробилось синеватое, как на спиртовке, пламя.
— Чем это вы топите? — с пробудившейся профессиональной заинтересованностью спросил Алексей.
— Как чем? Углем, конечно.
— Странный какой-то… Бурый, наверное? Наш донецкий горит иначе.
— А вы из Донбасса? Откуда именно?
Алексей сказал.
— Это далеко от Красноармейска?
— Не очень… Полтора-два часа езды. А почему вы о нем спросили? Кто там у вас?
— Никого. Просто как раз прошлым летом наш институт собирался меня туда послать, ну, понятно, не одну, с бригадой… проектировать город для шахтеров. Двадцать третьего июня должны были выехать…
— Значит, вы архитектор?..
— Очень маленький… Будущий…
Она разлила в пиалы чай, поставила блюдечко с изюмом, заменявшим сахар.
Да, она закончила архитектурный институт, но по специальности работать пока не пришлось. Несколько недель не в счет. Ученичество. Их «Гипрогор» с началом войны наполовину опустел. Мужчины ушли строить оборонительные рубежи под Москвой. Ее оставили в отряде противовоздушной обороны — дежурила на крышах, тушила «зажигалки», но от них-то отделалась ожогами, а вот от одной, фугасной, досталась контузия, и теперь плохо слышит. В октябре мастерские «Гипрогора», вернее, то, что от них осталось, эвакуировали сюда, в Ташкент. Но здесь работы пока нет. Хотела устроиться воспитательницей в детдом — их требуется много, — но помешала глухота; только сейчас стало чуть лучше.
Когда Валя похвалилась, что ей стало чуть лучше, Алексей подумал, что она просто старалась, и не безуспешно, приноровиться к своей глухоте. Уже не просила говорить громче, а при разговоре смотрела на его губы и как бы видела, угадывала произносимые им слова. И он поймал себя на том, что тоже, без всякой к тому нужды, стал смотреть на ее губы, на эти по-девичьи полные, темно-розовые дольки, мягко очерченные и… добрые.
— А вы ничего не рассказали о себе, — упрекнула она.
— Зато вот уже который месяц каждое утро бужу вас песнями…
— Мы в шесть часов уже не спим, слушаем утреннюю сводку. Нет, в самом деле, почему о себе ничего не говорите?
— Мне это труднее, чем вам, Валя…
— Почему?
— Потому что все осталось, — а может быть, и ничего не осталось — по ту сторону… Шахта, на которой вырос… Дворец культуры, где работал…
— И семья?
— Отец… Вы о своем тоже ничего не сказали…
— Моего уже нет… Он как раз остался там… на той стороне… Погиб под Смоленском…
— Тогда простите меня, Валя…
— За что?
— Я ведь сказал, что мне труднее. Человеку всегда кажется, что его беда больше, чем у других…
— Я не жалуюсь… только, конечно, было бы куда легче, если бы взяли в армию. Но не гожусь. Да и маму не имею права бросить. Я у нее осталась одна. Хворает она у меня, старенькая… И здесь ей тяжело.
— Ну, будем надеяться, что теперь это уже недолго…
— Вы так считаете?
Алексею хотелось, очень хотелось обнадежить Валю какими-то неопровержимыми, весомыми доводами. Но радио слушала и она. А что он мог добавить еще? Сказать ей, осиротевшей в войну, как он, Осташко, вчера отличился на стрельбище? В Ташкенте? За тысячи верст от фронта?
— Да ведь в Москву хоть сейчас можно возвращаться, — уклончиво ответил он. — Что же вашему «Гипрогору» здесь делать? Уверен, что скоро он там понадобится.
Он ушел далеко за полдень. В окно увидел, что тень чинары переместилась в другую сторону, стала опять удлиняться. Дальше оставаться, пожалуй, неудобно, боялся выглядеть навязчивым. Пиалы давно отодвинуты, блюдечко с изюмом опорожнено. Но, прежде чем уйти, захотелось знать, что он будет здесь еще, будет вот так сидеть, смотреть на ее губы. Мысленно он подыскивал предлог для этого и теперь рассеянно слушал ее рассказ о выпускном курсе, о судьбе товарищей, подруг. Она эту рассеянность заметила.
— Вам уже скучно со мной, Алеша? Спешите?
— Куда бы?
— У вас в Ташкенте нет никого?
— А кто я здесь? Военный транзит… С увольнительной, полученной, наверное, в первый и последний раз… — поднялся Алексей, так и не найдя желанного предлога.
— Почему в последний? Разве уезжаете?
— Пока нет. Но, знаете, у нас принято уступать право на увольнительную более счастливым товарищам…
— В каком смысле счастливым?
— В самом обыденном. Допустим, кто не один…
— Интересно, и есть этому судьи? Старшины?
— О, они судят безошибочно.
— А сколько весит на их весах чашка дружеского зеленого чая? Помните, на нее вы можете здесь рассчитывать в любое время…
— Спасибо, Валя.
«Все-таки напросился», — беззастенчиво торжествовал Алексей, возвращаясь в училище.
13
Но подошли дни, когда и заикаться об увольнении стало совестно. Близился выпуск. Начались зачетные стрельбы, ротные и батальонные учения. Уходили из расположения на целую неделю далеко в предгорья, а там и ночью, в степи, поднимал с земли неумолимый сигнал горниста. Ночной бой… Действия в головной заставе… Разведывательный поиск… Перед рассветом, когда над головами крупней и лучистей становились зеленоватые звезды, курсанты изнуренно падали на траву и, засыпая, видели такую же горячую полынную степь, размахнувшуюся там, между Доном и Волгой… Вести оттуда приходили все тревожней и тревожней. И желанной была лишь одна мысль: остались считанные дни, скоро выпуск. Дожидались приказа наркома об аттестации…
Однажды в перерыве между занятиями стало известно, что вечером в гости к курсантам приедет Алексей Толстой. В отличие от других, Осташко встретил это сообщение довольно равнодушно. Нагоровку в свое время навещало немало именитых московских и киевских писателей. Алексей тогда искренне гордился каждой такой встречей, радушно встречал гостей. Но сейчас? Ему казалось, что это не ко времени, что все это только разбередит сердце, вернет его к воспоминаниям, которые в конце концов ничего не дают, только отвлекают от главного, на чем сейчас сосредоточивались все силы души.
Он зашел в библиотеку, чтобы взять наставление по ручному пулемету. И прежде тоже заглядывал сюда только вот так, за пособиями. Да ничего другого в училищной библиотеке и не было, а если бы и оказалось, то все равно не нашлось бы для этого лишнего времени. И сейчас, отыскивая то, что ему понадобилось, он медленно повел взглядом по полкам. Книги теснились на них плотно, не разнясь друг от друга корешками, как не разнятся патроны в обойме. Одинаковые, броневого цвета обложки, унифицированный формат, удобный для того, чтобы сунуть любую из них в карман шинели. Уставы, уставы… Временный полевой… Внутренней службы, караульной, строевой, даже каким-то образом затесавшийся сюда корабельный, наставления по стрелковому делу, по миномету… История войн, учебники по тактике, хрестоматии по истории партии тоже в броневых обложках…
Библиотекарша поторапливала.
— Товарищ курсант, я закрываю. Идите в зал. Только что звонили, сказали, что выехал.
Алексей сидел недалеко от накрытого кумачом стола рядом с Мамраимовым. Ждали.
— Ты скажи, правда, что он граф? — любопытствовал Мамраимов.
— Да, потомственный… Из старинного рода…
— Вот это здорово. Русского городового видел, эмира бухарского видел, на своих беков и басмачей насмотрелся, а графа еще встречать не приходилось.
— Чудило, с кем же ты сравниваешь? Ну, был графом, а сейчас депутат Верховного Совета. Не за графство ж его выбрали…
Мамраимов заерзал на стуле еще нетерпеливей.
Из боковой двери на помост вышел полный пожилой человек с отечным желтым лицом — благообразно расчесанные на виски волосы открывали купол лба; взгляд насупленный, строгий. Сопровождал гостя Костров.
Зааплодировали. Толстой насупился еще больше, и шум оборвался. Алексей, тоже собиравшийся было аплодировать, опустил руки — кажущаяся неприветливость писателя не обидела никого. Он ею словно напомнил, что собрались не на концерт.
— Я прочту недавно написанный мною рассказ о войне.
Голос Толстого звучал глуховато, как голос человека, сдерживающего себя, заставляющего говорить только немногую часть из того, что хотел и мог бы сказать. Но и этой немногой части хватило, чтобы всем передалось волнение писателя. Они увидели стоявший над полупустынным смоленским селом месяц в морозных радугах-разводах и бледно синевший санный след, которым шел будущий партизан Андрюша Юденков, они услышали, как по-стеклянному кололось березовое полено под топором и потаенно скрипели в ночи калитки…
— «Пушкина любишь? — спрашивал старый учитель у Юденкова. — Звезда эта горит в твоем сердце? Культуру нашу местную, мудрую несешь в себе? Все мы виноваты, что мало холили ее, мало берегли…»
Тишина в зале была полной, строгой, как по-прежнему строгими были и лицо Толстого, и его глуховатый голос. Опустив голову, слушал Костров. Переполняясь этой вызывавшей суровые раздумья тишиной, Алексей неожиданно услышал, как нарушил ее раздавшийся позади какой-то странный звук. Невольно оглянулся. Позади него сидел Герасименко. По щеке помкомвзвода, сосредоточенно наклонившегося вперед и не замечавшего ничего по сторонам, медленно скатывалась слеза. Он наверняка не замечал и ее, может быть увидев в эту минуту такое же, запавшее в память село, заснеженный окоп на окраине, закоченевшее тело дружка у своих ног… Алексею стало страшно этой одинокой слезы, и он быстро отвернулся. Продолжал слушать, а перед глазами все еще маячило лицо Герасименко, и он впервые усомнился в том, к чему себя принуждал все эти месяцы. Огрубеть? Очерстветь? Это ли нужно? А может, наоборот? Может быть, как раз заново, со всей силой вернувшегося прежнего чувства надо вспомнить все то, чем когда-то радовала и так мила была жизнь? Все самое дорогое, сокровенное, самое близкое сердцу, без чего не мыслились ни дни, набегавшие вплотную, ни отдаленное будущее. Может быть, как раз из нежности и рождаются ненависть и ожесточение, которые ведут человека в войну и делают его грозным, неумолимым для врага?
Аплодисменты и сейчас, когда Толстой закончил чтение, показались ненужными, лишними. Костров поблагодарил гостя. Встали, зашаркали сотнями ног к выходу.
— А ты прав, Алеша, — проговорил Мамраимов, проталкиваясь вместе с Осташко к дверям.
— В чем?
— Умница он… Что там граф?! Народный депутат! Вот главное! Я словно и сам в том смоленском селе побывал…
— Взяло за сердце?
— Взяло. Надо бы и раньше такое нам, политрукам. Не одними уставами жив человек. А то вспомнили перед самым отъездом.
До отбоя еще было далеко, но никаких занятий не предвиделось — впервые за последние дни выпали свободные часы. Многие потянулись к воротам — вдруг накануне выпуска приехал кто-либо навестить? Вышел за проходную и Алексей, втайне надеясь встретить там Валю. Но ему не хотелось бы увидеть ее такой, как тогда, три недели назад, — останавливающей и предлагающей свои услуги другим. Но чего бы иначе она подошла к воротам? Разыскивать его? А хотя бы и так. Знает ведь, что не сегодня-завтра он уезжает. Недаром же в это воскресенье она так быстро наловчилась по его губам угадывать все, что он говорил, не переспрашивала, и он тоже смотрел на ее губы, и она не смущалась, а, заметив это, даже повеселела и звала его приходить в любое время… Может, и ей, оказавшейся со своими невзгодами и печалями в этом чужом городе, нравилось быть с ним и он не безразличен ей, чем-то выделен ею из той колонны, что по утрам маршировала мимо дома?
Но на площади не было никого, кроме старухи-узбечки, сидевшей перед щербатой эмалированной миской с рассыпчатым темно-зеленым ворохом самосада. Заходило солнце, к исходу клонился день, один из немногих оставшихся перед тем долгожданным днем выпуска.
На крыльце проходной стоял и покуривал Герасименко. С его лица еще не сошла взволнованность. Затягивался цигаркою жадно, глубоко, как затягиваются, когда успокаивают себя.
Алексей решился.
— Товарищ помкомвзвода, разрешите отлучиться на полчаса.
— Без увольнительной?
— Да это рядом… Луначарская…
— Ладно, идите. На мою ответственность… Только попроворней, не подведите.
Алексей зашагал быстро, будто боясь передумать. Сам еще не знал, как он объяснит свое неожиданное и позднее появление, что скажет… Просто по ее глазам, по ее губам догадается и поймет — желанный он или нежеланный… Ее глаза не солгут.
А ведь как беспомощно отгонял прочь от сердца все, в чем по сложившемуся за эти месяцы убеждению подозревал помеху, обузу душе, но вот знакомый дувал, знакомая чинара во дворе, и сердце забилось горячей, нетерпеливей…
Темнела открытая дверь. Остановился на пороге, позвал:
— Валя!..
— Кто там?
— Это я… Алексей…
Она вышла на свет, и по ее вспыхнувшему, зардевшемуся лицу он понял, что его здесь ждали.
14
Пышет жаром локомотив, кропит на бегу брызгами горячего смолистого пота серую щебенку железнодорожного полотна, разгонисто увлекает за собой многосуставчатый, кренящийся на изгибах пути воинский номерной эшелон. Остались позади Яны-Курган, Кзыл-Орда, Аральск, Челкар, Актюбинск — сверкающие высокими окнами белостенные осанистые вокзалы с говорливым прибоем их перронов, остались позади и десятки маленьких сонных станций, сотни саманных полустанков, казалось чудом устоявших перед вихревым громыханием набегающих колес. Необозримые волнистые пески, где взору и зацепиться не за что, — разве что мелькнут на шафранном склоне бархана реденькие кустики саксаула. Эти пески сменились такими же пустынными, скупо, посеребренными полынью солончаками. Одиноко парит в дымчатой сухости неба беркут — долго, ох долго ему искать здесь какую-либо поживу, что неосторожно покинула свою упрятанную под запекшейся коркой такыра прохладную нору.
Но вот еще день-другой пути — и в эту извечную, омертвелую желтизну сочно стали вкрапляться заросшие густым щавелем луговины на берегах мелких речушек и озер, перелески в далеких ложбинах, череда ветел на пыльном тракте, овечьи толоки и кошары и обранные тенистыми садками усадьбы степных совхозов.
И полагалось бы повеселеть лицам тех, кто, облокотившись на закладки дверных проемов, смотрел на исподволь начинавшую оживать и буйствовать щедрым июльским разнотравьем землю. Но очень уж безрадостными, гнетущими были вести, с которыми дежурные и дневальные, выбегавшие на остановках, возвращались в вагоны.
— Только что при мне передавали… Сам слышал… Оставили Новочеркасск, Ростов… Бои под Воронежем, в Цимлянской…
— Эваколетучка прошла… Разговаривал с ребятами… Оттуда все, с юга… Рвется немчура к Волге…
— Танкистам отправление дали… Пропустили впереди нас.
— А ты думал, что тебя пропустят первым?..
— Да ведь и мы не к теще в гости едем.
— Ну, нас пока рассортируют, то да се, а ребятам, может, придется с ходу на передовую… Им приказ прямо в вагонах прочли…
— Двести двадцать седьмой?
— А какой сейчас другой может быть? Крепче, брат, все равно не скажешь… Куда уж дальше!..
И снова размахнулась, простелилась далеко к горизонту степь; теперь все чаще вклинивались в нее поля — и недавно убранные, с маячившими на стерне обмолоченными скирдами, и еще не скошенные — под ветром волнилось отяжелевшее золотистое руно, нетерпеливо ждало людских рук… А не сходили с глаз, неотступно стояли перед ними и другие поля — разметанные, исполосованные вражеским железом, вдавленные в землю колосья, вражеские танки, пылящие на проселках и дорогах к Волге…
Двухосные теплушки, в которых разместили выпускников военно-политического училища, были подцеплены и долго следовали вместе с цистернами горючего, но в Бузулуке теплушки поставили впереди длинного ряда запломбированных вагонов — на каждом из них белела надпись «Для Ленинграда», — и эшелон, получив другой номер, двинулся еще быстрей.
Безостановочный стук колес в иное время бы нагонял дремоту, а сейчас стоило Алексею смежить веки, как накатывались раздумья, снова и снова вспоминались во всем своем суровом, пасмурном облике последние училищные дни. Начало каждого из них неизменно предварялось тревожным и мрачным вступлением — сводкой Информбюро о тяжелых оборонительных боях в междуречье Дона и Волги, о станицах и городах, которые пришлось там оставить, сдать врагу…
Однажды во второй половине дня отменили занятия по расписанию, раздалась команда построиться. Строились раздельно, по ротам, в противоположных сторонах плаца. К первой роте подошел сам начальник училища. Он раскрыл темную кожаную папку, и ветер шевельнул страницы каких-то вложенных в нее документов.
— Оглашаю приказ Верховного Главнокомандующего… Номер двести двадцать семь…
Голос Кострова звучал глухо и хмуро. На четверть часа — полное и тягостное безмолвие. Приказом вводились жесткие меры борьбы с паникерами и нарушителями дисциплины, гневно и решительно осуждались упадочнические настроения, и каждое слово строгим укором обжигало сердце… Со всей неотступной прямотой и властностью Верховный требовал от каждого воина железной стойкости и решимости: «Победа или смерть! Ни шагу назад!»
А на них уже было новенькое обмундирование — не курсантское, а полевое, складки которого угловато топорщились под портупеей, даже не успели разгладиться после армейских цейхгаузов. Накануне они старательно прикололи звездочки к пилоткам и по три кубика на петлицы гимнастерок… И напрасно было мысленно утешать себя тем, что этот укор народа их, только-только одевших воинскую форму, не касается. Да, они, сто двадцать выпускников-политруков, лично не сделали ничего такого, что могло бы умалить, опозорить честь и великий смысл этих рдевших темно-рубиновым огнем знаков, но пока… пока, надо же признаться, и не прибавили к их прежней, давней славе ничего своего… Пока ничего! Это где-то впереди, в будущем, на неразличимых отсюда, неведомых рубежах, где по велению Родины надо встать и стоять насмерть!
На другой день снова построение. Читали приказ о выпуске, а в ушах по-прежнему звучал еще тот, вчерашний, двести двадцать седьмой…
Накануне отъезда заскочил в каптерку. Там стоял на полке продранный, обтертый чемодан, который пропутешествовал из Нагоровки сюда. Еще в первые дни пребывания в училище отдал Рустаму, а тот — приезжавшему к нему отцу брюки, пару верхних рубах, туфли с галошами. Все это было ненужным, лишним. Сейчас переложил в вещмешок из чемодана то немногое, что там осталось. Носки, перчатки, чиненный Валей свитер, ею же сшитые подворотнички.
— Ну вот и все, — встряхнул Алексей опустевший чемодан. Что-то, однако, внутри звякнуло. Раскрыл снова. Из-под газеты вывалилась и лежала на дне цепочка с ключами. Взял их, растерянно соображая, как поступить, привычно ощупал пальцами плоские разнокалиберные зубчики ключей. Один от главного входа Дворца, другой открывал комнату правления и дверь в театральную часть…
— От дома, что ли, товарищ политрук? — полюбопытствовал старшина, впервые именуя его по званию.
— Да нет, служебные, — коротко обронил Алексей и, смутившись оттого, что этот ответ мог удивить еще более, показаться вовсе нелепым и странным, торопливо сунул ключи в вещмешок и вышел.
И все это — казармы, училище, плац, мусульманское кладбище, арыки, каптерка с ее крутым хозяином — теперь так же далеко, нет, по существу, еще даже гораздо дальше, чем Нагоровка. И так же далеко Валя… Но были, остались, не забудутся те великодушно подаренные ему помкомвзводом полчаса, которые, вопреки отсчитывающим новые и новые километры железнодорожным указателям, сделали для него Валю отчетливо памятной, близкой… В тот вечер, увидев ее и пытаясь объяснить свое столь внезапное позднее появление, он вначале понес что-то несуразное, невнятное… Стал было рассказывать о приезде к ним Алексея Толстого, потом без всякой связи заговорил о понадобившихся подворотничках, о скором отъезде. Намеренно говорил негромко, и она, как и тогда, при их первых встречах, внимательно смотрела на его губы, и это как бы давало ему право смотреть, ласкать своим взглядом ее чуть растерянное и обрадованное лицо.
Она захлопотала, хотела готовить чай, но он взял ее за руку, отвел от печурки — слишком мало времени, вынужден считать минуты — и, чувствуя, как они катастрофически убавляются и убавляются, вдруг привлек ее к себе и поцеловал…
Она оторопела, да и он тоже оторопел от своей дерзости.
— Я… я так… просто… не могу, Алеша… — Закрыла лицо руками и неожиданно заплакала. Его это испугало, прямо-таки по-настоящему испугало, что Валя не поверила в искренность такого порыва, приняла его за самоуверенность прожженного сердцееда, за лихую солдатскую бесцеремонность. Он отнял от ее лица руки и стал бережно, нежно целовать их — пальцы, запястья, на которых еще темнели следы ожогов.
— А так можно?
— Все равно… Все равно… Ты же мне ничего не сказал…
— Недосказал. Всего лишь недосказал, — повторил Алексей. Он и в самом деле не произнес те три слова, которые, по его убеждению, должны читаться взглядом во взгляде другого. Но были еще полчаса на другой вечер, когда он эти слова все-таки произнес…
А через три дня — вокзал. Алексей стоял у вагона и ждал. Станционная округа полнилась свистками паровозов, доносившимися из котельной ударами молотов, песней радиорупора, разноязыкими голосами толпившихся на перроне людей. Часто слышалась польская речь. В эти дни отправлялась в Иран армия Андерса. К эшелону, которым уезжали выпускники, уже подцепили паровоз, когда Осташко увидел бегущую по подъездным путям Валю. Снова считанные минуты… Но он, Алексей, все же увез в собой ее прощальный поцелуй и ставший таким дорогим для него адрес: Луначарская, семь, — а ей остался от него неведомый адрес войны…
Эшелон остановился в Куйбышеве. Железнодорожный узел со всей неисчислимостью своих главных и маневровых линий на многие километры был забит воинскими поездами. Теплушки перемежались платформами, с которых ищуще и колко смотрели в небо расчехленные зенитные орудия, спаренные и счетверенные пулеметы. Подстерегающие жала зениток уставились в синеющие меж облаками просветы и с крыш многих станционных зданий. Выпускников предупредили: от эшелона не отходить. С минуты на минуту могут дать отправление. Но стояли уже второй час. Проходили к мостам через Волгу составы, на пульманах которых, словно сама спеленатая смерть, лежали авиабомбы; грузно прогибали рельсы платформы с танками; остро пахнув навозом, проехали один за другим эшелоны кавалерийской дивизии; потянулись старательно прикрытые от любопытствующего глаза брезентом силуэты каких-то загадочных махин. Плыло, нескончаемо плыло на колесах шанцевое имущество, обозное, фураж, понтоны, объемистые свежеструганные ящики с боеприпасами… Все сложное, многотрудное хозяйство войны, ее ударная взъяренная сила, тысячи и тысячи тонн стали, взрывчатки, горючего, которые должны были качнуть чаши заколебавшихся весов, спасительно потянуть вниз ту, единственно нужную, на которой была судьба народа. Вот только поспело бы все это вовремя и к месту…
Алексей с безотчетной пристальностью смотрел на сновавшего между двумя составами, от вагона к вагону, смазчика. В измаранной мазутом косоворотке старичок, прихрамывая, тащил едва ли не пудовую масленку. И этой своей обшарпанной рубахой, и ухватистыми движениями рук, и всклокоченными волосами над вспотевшим морщинистым лбом он напомнил Алексею отца, каким тот был, когда не начальствовал, а работал машинистом. А ведь и от имени этого безымянного смазчика говорил недавний суровый приказ…
Смазчик поравнялся с теплушкой политруков.
— Ждете, сынки? Подзаправлю и вас… Всех своих коней напою… Как это поется — «на позицию дедушка провожает бойцов…» Укатите, не беспокойтесь. Тут в Самаре все равно делать нечего. Буфет закрыт. Лично с моей стороны никаких заминок. А если дадите закурить офицерского, то и тем более.
Простосердечное балагурство и благожелательность старика развеселили всех, Мамраимов первым протянул кисет.
Смазчик наскоро слепил цигарку, пыхнул и, уже отходя, жестом радушного хозяина потянул проволочное кольцо стоявшего неподалеку водоразборного крана.
— А пока освежитесь.
Из широкой трубы с гулом хлынул каскад воды.
— Вот спасибо, папаша, надоумил… — отозвались в ближайших вагонах.
Наземь посыпались красноармейцы. Сбросив гимнастерку, подбежал к крану и Осташко. Он с наслаждением подставлял голову напористо бьющей струе, захватывал и пригоршнями кидал ее на плечи, грудь, а сквозь всплески, сквозь смех прорывалось разноголосое:
— Ух и хороша волжская водица! Силища!..
А уж сквозь водопадный шум доносилось врастяжку зовущее:
— По ва-агон-а-ам!..
И снова по сторонам — поля, степи, березовые рощи, темно-зеленые поймы рек, околицы и дымки селений, разъезды, полустанки… Настежь отодвинуты скользящие на роликах двери вагонов. На каждой, согласно наставлению, внушительный брус, чтобы кто-либо не зазевался, глядя на эту нескончаемую ширь земли, не полетел кубарем под откос. Полетит — не нагонит.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Все в новинку, все незнакомо, и все будит острое любопытство на кружевных витках узенького лесного проселка, ведущего туда, к передовой. Да полно — к передовой ли? Очень уж мирны и дышат заповедной тишайшей благодатью укромно проглядывающие сквозь листву грибные поляны, орешники и рябинники окрест дороги — все целехонькие, ни одна ветка, ни одна окропленная червонным кисть не надломлена озорной ребячьей рукой. Под стать этой медвежьей глухомани и возница. Хоть на нем и побуревшая солдатская гимнастерка, и пилотка с новенькой военторговской звездочкой, а свою егерскую рыжую бороденку уберег, отстоял… Да и фамилия прямо-таки здешняя — Уремин…
— Вот и вторая рота теперь с комиссаром, — довольно проговорил он. За те несколько километров, которые они проехали, Уремин уже трижды перекладывал в повозке мешки с какими-то крупами, соскакивал к стожкам на обочине, чтобы прихватить сенца, натягивал поровней сползавший брезент. — Да вы устраивайтесь, товарищ комиссар, поудобней, дорога неблизкая.
— Политрук я, — поправил Алексей.
— Комиссар подходящей по-солдатски, — простодушно отверг эту поправку ездовой. — Я-то их помню еще с гражданской. Старик ведь. Потому и к лошадям приставили. Комбат говорит — теперь, мол, при нынешней военной технике тебе с лошадьми сподручней. А в этих гиблых местах, сами видите, вывозит не их техника, а моя… Но, Флейта!..
Уремин неторопливо прихлестнул низкорослую мохнатую лошаденку.
— А чего ж вы кличку такую странную лошади дали? — поинтересовался Алексей.
— Иначе нельзя, товарищ комиссар. Вот она разбежится, раструсится, вы и сами поймете… Это уж точно, Флейта! Есть у нас в хозвзводе еще буланая — Коммуникация. Но что-то заковыристо, не по-конюшенному.
За поворотом прибавился еще один проселок, и дорога раздалась, стала шире. Теперь ехали реденьким лесом. Лишь изредка светились в нем стволы березок, а то больше осина, ольха, высокие купы верболоза. После недавнего дождя все вокруг зеленело броско и резко, и все же чудилось что-то обманчивое, настораживающее в этом почти тропическом буйстве зелени. На густых, с избытком увлажненных травах лежал тот темноватый оттенок, какой свойствен заросшим мочажинам, отавам, топям. Все низинки. И на них мшистые кочки, погнившие пни, а если где-либо и приподнимался песчаный островок, то и его плотно окаймляли камыши, осока, остролист, и в их чащобе легко угадывались, чуялись подтачивающие подножие холма родники. Под стать этим мшарам стелилась и выложенная жердями, залитая грязью дорога. Вода в канавах стояла ядовито-коричневого цвета.
— Это у вас так до самой передовой? — спросил Алексей.
— Непривычно? — засмеялся Уремин. — Сами-то откуда, товарищ комиссар?
— Донбассовец.
— Э-эх, то сторона сухая, веселая. А я рязанский. В наших краях, правда, тоже болот до лешего, но такой прорвы, как тут, видеть не доводилось. Сказано — Северо-Западный фронт. Эта дорожка еще ничего, сносная, «гитарой» шоферы прозвали… Примечаете, как жерди уложены? Струной. Хоть и потряхивает, однако терпимо. А вот «ксилофон» — когда жерди поперек, тот пробирает аж до печенки. А есть еще и «балалайка». Ну, та и совсем не приведи бог. Бренчи, играй на своих кишках камаринскую. Только и утехи, когда подумаешь, что немцу то же самое достается. Осенью да весной мы по пояс в грязище вязнем, а они то же самое… А хочется ж и штыком до них дотянуться… Как, товарищ комиссар, насчет этого, что слышно? Может, чем порадуете?
— Что ж, кажется, соседи, на Калининском фронте, уже дотянулись, — после короткого раздумья, не утерпев, сказал Алексей. Он достал кисет, стал сворачивать цигарку. Повозку трясло, табак просыпался.
— Неужто правда?
— Да, наступают.
— Если так, то и на душе легче. Надо ж хоть чуточку Дону и Кубани помочь, — приоживился Уремин и, увидев, как Алексей завозился с цигаркой, остановил лошадь. — Тпру-у! Так на нашем асфальте не скрутите, товарищ комиссар.
Он тоже стал закуривать.
Новость, которой поделился Алексей с ездовым, была и для него самого единственной отрадой за все эти последние дни. Еще не подтвержденная сводкой Совинформбюро, она, однако, витала вполне правдоподобным слушком в верхах Северо-Западного — в армейских и дивизионных штабах, во фронтовом резерве. Без нее Осташко и вовсе бы помрачнел. Из всего взвода в Москве повезло только Цурикову, Герасименко и Оршакову — по разверстке Главупра направили на юг. На долю остальных достался Калининский, Северо-Западный, а двум даже Заполярье. Позавчера в Починках, где размещался фронтовой резерв, расстался с Мамраимовым. Того направили в какую-то саперную часть. Но оба к тому времени уже питались надеждами на начавшееся наступление калининцев.
— Вот видишь, Алеша, а ты унывал, — ободрял друга Рустам. — Да, может, как раз здесь баню немцам и устроят. Бездействующих фронтов в такую войну нет.
Эх, если б было так!
Лошадь снова тронула, повозка миновала покрытый зеленоватой плесенью огромный валун, втянулись в осинник. И тут внезапно произошло то, в чем поначалу Алексей и не разобрался. Сперва ему показалось, что это сильней, громче застучали на жердях колеса. Но, еще не подняв к небу лица, он увидел, вернее, почувствовал молниеподобно скользнувшую вверху, в воздухе, мышасто-серую тень. Лишь тогда закинул голову. Воровато вынырнув из-за осинника, над дорогой несся остроуглый, с черно-желтой свастикой на крыльях самолет. «Мессершмитт-107», — определил Алексей, мгновенно сопоставляя его очертания о тем по-осиному удлиненным силуэтом, который был изображен на учебных таблицах. Однако, и опознав самолет, он посчитал, что непосредственно им опасность не угрожает. Уремин по-прежнему спокойно сутулился, благодушно поигрывал батожком и совсем незло прикрикнул на лошадь, которая нервно запрядала ушами под этим пронесшимся смерчем:
— Эй, чего дрожишь, пугаешься; чай не волка увидела?!
Но когда «мессершмитт» развернулся где-то за лесом и пошел на второй заход, а затем снова над головой затрещал пулемет, Алексей понял, что летчик охотится именно за ними, за этой одиночной повозкой, которая в редколесье так хорошо видна и которой некуда деваться, негде укрыться среди этих мшистых топей. И не могла не вспомниться степь под Ташкентом, и как они, курсанты, по команде Мараховца «Воздух!» разбегались, рассредоточивались, камнем падали в кюветы.
А кнутик в руке Уремина лениво поигрывал, поплясывал, словно отгонял овода. Алексей принудил себя остаться в повозке. И как же он потом — и в тот день, и в последующие — был благодарен этому ездовому, невозмутимо помахивающему кнутиком. Вот стал бы он, Осташко, хорош, когда бы, памятуя преподанное в приташкентских степях, плюхнулся в грязь. Если бы человек волен был выбирать себе смерть на войне, то, конечно, никто не выбрал бы себе смерть такую глупую — погибнуть, не доезжая до передовой, в первый же день, в первые часы своего комиссарства. Но даже глупую, бессмысленную лучше встретить вот так, как Уремин, — с достоинством и презрением…
Рядом с повозкой, будто под ударом невидимого топора, от жерди отскочила щепа, забелел свежий срез. Но это была уже последняя очередь.
— Хулиганит, дурак, — заметил Уремин, провожая взглядом отдалявшийся за лес самолет. — Им бы хотелось и здесь, как на Дону, навалиться. Только врете, не получится. Сгорите синим огнем.
На изгибе дороги ездовой придержал лошадь. Справа, на увенчанном одинокой сосной пригорке, темнели кресты небольшого деревенского кладбища, но среди них, из-за своей древности кренившихся к земле, желтел и свежий, недавно насыпанный могильный холм.
— Эвон где наш Сергей Михайлович лежит, посматривает с горки, проверяет.
— Сослуживец, земляк?
— Не, из Белоруссии он, кажись, мозырский… Да, однако, всем был как земляк. Так и говорил: для меня, мол, на передке все откуда кто ни есть, а сябры. Правда, и требовать требовал с каждого. Это ж вы на его место и едете.
Осташко соскочил с подводы, прошел к погосту. На сколоченной из шалевок пирамидке — жестяная звездочка, пониже ее табличка с надписью:
Политрук Киселев С. М.
1912—1942
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЮ.
«Почти одногодок», — подумал Алексей. В тонкой черточке между датами уложилась вся беспокойная человеческая жизнь, а ведь большой и красивой была она, коль осталась о ней такая уважительная память.
— И долго он во второй роте был?
— Говорят, с первого дня войны, считайте, с самой границы. Все свою Припять расхваливал, и не довелось больше увидеть, остался тут на Ловати, в Старом Подгурье.
— Это ж совсем недавно? — Осташко приподнял с земли блестевшие патронные гильзы от последнего, прощального салюта.
— Две недели назад. Как раз сушь стояла, и попробовали немцы танки пустить. Все норовят клин сбить, вторая рота для них бельмом на глазу. И ничего у них не вышло. Пустились наутек. А одну машину на нейтралке так и оставили. Сам комиссар ее и подбил. Лезла прямо на командный пункт. Он потом и в контратаку людей поднял, тут его наповал и сразило.
Я вам откровенно скажу, товарищ комиссар, с такими, как Сергей Михайлович, и нынешнего приказа не нужно было бы, — добавил Уремин, когда они уже отъезжали от кладбища.
— Какого приказа?
— Да этого ж самого — двести двадцать седьмого.
— А у вас его тоже читали?
— Как же… По всем взводам…
— Ну и что?
— Правильно заявлено. Иначе сейчас никак нельзя. Надо, надо стеной встать… Или жизнь, или смерть. Или вольным быть, или навек под немецкий сапог, в хомут. Тут уже третьей дорожки нет…
Вдалеке пополз, цепляясь за кустарник, синий дымок. Показались землянки.
2
Оттого, что Осташко мысленно уже много раз еще там, в Ташкенте, встречался со своей ротой, знакомился с ее командиром и выполнял обязанности политрука, все на самом деле оказалось вовсе не так, как он этого ожидал и как этого хотелось.
Прежде всего при первом же взгляде не мог не изумить Борисов, на диво молоденький капитан. Хотя рота и не полк и Осташко, понятно, не ожидал увидеть во главе ее какого-либо маститого рубаку, но очень уж по-юношески миловидным, румяным было лицо Борисова и очень уж шало круглились его светлой, чистой синевы глаза, тщетно пытавшиеся придать себе серьезность, деловитость. Только губы, тоже недавно, наверное, по-юношески припухлые и красивые, сейчас были перечеркнуты сургучного оттенка шрамом, очевидно от осколочного ранения, — и, пожалуй, только это делало облик капитана мужественным и порой, когда он прикусывал губы, даже свирепо воинственным.
«Вот уж действительно уравняли», — вспомнил Алексей слова, сказанные ему в политчасти полка Костенецким, про себя прикидывая, что Борисов наверняка лет на пять-шесть моложе его, но зато званием, а главное — участием в боях, куда выше. Смысл другой обмолвки Костенецкого — о том, что они друг другу подойдут, — он тоже понял в этот же день, но позже.
— Мне звонили о вас, — говорил Борисов, распрямляясь над сколоченным посередине землянки крохотным столиком и налаживая на себе ремни портупеи. — Полагалось бы сразу ввести вас в обстановку, рассказать о людях, но придется отложить… На десять ноль-ноль срочно вызывают в штаб батальона. Вы сами туда не заезжали?
— Нет, комиссара батальона встретил в полку, и он посоветовал ехать прямо в роту. Кстати, сюда шла подвода.
— Ну и правильно. В общем, отдыхайте пока…
Алексей намерился было тут же попросить командира роты обходиться впредь без «вы» — вместе ведь теперь, вместе и надолго, но в углу землянки ссутулился у телефонной коробки кто-то третий, и Алексей решил с этой своей просьбой повременить. Успеется.
— Что ж мне отдыхать… после чего? — пожал он плечами, чуть досадуя, что все получается не так, как представлялось. — Может быть, тогда для начала потолкую с парторгом или со старшиной?
— Это мы сейчас, — даже обрадовался Борисов, что Алексей сам подсказал, вывел его из неловкости. — Правда, парторг сейчас в отлучке, а старшина… Да вот и он, Браточкин, легок на помине.
Откинув навешенную на притолоку плащ-палатку, в дверь медведем ввалился русоволосый плечистый здоровяк с взволнованным, оторопелым лицом.
…Да, видно, так и суждено было, чтобы в этот первый день все шло у нас вразрез с задуманным, вразнобой, поперек.
— Товарищ капитан, разрешите доложить, — выкрикнул старшина. — У нас… у нас саморуб!..
— Что за саморуб? — опешил Борисов, опуская на стол так и ненадетый планшет.
— Петруня себе учинил… Только что, возле бани… Топором…
— Да ты понимаешь, что говоришь? Петруня? Комсомолец? — не выдержал и прокричал Борисов. Он прикусил губу, и извилистый шрам налился кровью, побагровел.
— Так точно. Рубил дрова, и не знаю уж, как это у него получилось… понарошку или нет, а только отсек… Сидит сейчас и воет…
— Что отсек?
— Не рассмотрел… Палец кабыт-то… на своей левой…
— Что ж ты толком не рассмотрел, а прибежал, паникуешь.
— Подумал, что надо поскорей, на предмет следствия… Чтоб все было как есть, на месте.
Борисов растерянно глянул на часы.
— Ладно, капитан, иди, — неожиданно для самого себя произнес Алексей. — Я разберусь…
— Да ведь чепе! Докладывать надо по команде.
— Доложим. Ничего ж пока толком не знаем. Пойду разберусь.
Алексей старался быть спокойным, хотя это давалось ему нелегко. Начать службу в роте с такого случая?! Однако какое-то чувство свежего, только что попавшего сюда человека подсказывало: то, что он предлагал, самое верное. И Борисов, с минуту помолчав, согласился.
— Тогда попрошу заняться. — Потом, свирепо округлив глаза, закричал на старшину: — Банщики, чтоб вас черт побрал! Попарились? Разбаловались без политрука? Вот веди его теперь, порадуй нового человека.
— Есть отвести товарища политрука! — воскликнул Браточкин, глаза его засветились любопытством, повернулся к выходу; шагнул за ним и Алексей.
— Да веди осторожней, — полетело вдогонку. — Держись левей ручья. А то поразвелись лихачи…
Траншея, по которой Браточкин вел Осташко, была почти безлюдной, и это опять-таки расходилось с тем представлением о переднем крае, которое исподволь сложилось ранее. О том, что траншея обжита, не покинута, можно было судить по глубоким, прикрытым сверху пожелтевшими ветками нишам, в которых лежала примятая солома, а на колышках, вбитых в стенку, висели вещмешки, котелки, фляги. Нещедрый солдатский уют. Но в одном из выступов окопа на берме стоял и настороженно смотрел в степь ручной пулемет, около него скучающе напевал что-то пожилой красноармеец, по виду — татарин.
— Не засни, Гайнурин, — на ходу обронил ему Браточкин.
— Никак нет, товарищ старшина, — отозвался пулеметчик, прижимаясь к стенке и пропуская идущих.
— Петруня давно в роте? — спросил Осташко у своего проводника.
— С зимы, товарищ политрук. Мы тогда правей, под Демьянском, стояли. Пришел с маршевой ротой как раз тогда, когда мы в котел немцев загнали.
— Ну и как он тогда?
— В том-то и дело, что молодцом держался. «За боевые заслуги» получил. И первый запевала в роте. Пригнитесь тут, товарищ политрук.
Траншея помелела, под ногами сквозь устилавший дно валежник выступила и захлюпала вода, очевидно, из-за топи углубить окоп здесь было невозможно, и Браточкин, а по его примеру и Алексей, пригнувшись, перебежали опасное место.
— Так откуда же вы решили, что саморуб? — продолжал допытываться Алексей. — Может, случайно, нечаянно?
— Да ведь строго же сейчас, товарищ политрук… Случай случаем, а после приказа, сами понимаете, как такой случай может повернуться… Кто ж на свою душу ответ за него возьмет?
Браточкин обернул лицо к Осташко, скосил из-под чуба сконфуженно замигавший, вопрошающий взгляд: старшина словно ждал и хотел, чтобы вновь прибывшее начальство рассудило иначе…
У сруба, врезанного в скат лесистой высотки, собрались в круг красноармейцы, кто одетый, кто в одних подштанниках. Увидев офицера, расступились.
На поколотых березовых поленьях сидел, низко опустив голову, Петруня и словно бы укачивал покалеченную, окровавленную руку. Он не стонал, а ныл. Рядом на траве блестел топор, тут же лежала принесенная кем-то брезентовая сумка с красным крестом. И Алексей, торопливо размышляя, как ему поступить, невольно представил сейчас здесь Киселева. А что бы сделал он? «Требовать требовал с каждого…»
— Встать! — с неожиданной для самого себя повелительностью выкрикнул Алексей, сообразив, что после всех укоров, а может быть, и соболезнований, которые выслушал уже Петруня, пожалуй, только это слово, эта команда способна встряхнуть его и вернуть самообладание. И Петруня действительно вскинул коротко стриженную шишковатую голову и стал медленно подниматься, вперив в незнакомого ему офицера отрешенный, вконец отчаявшийся тусклый взгляд. Алексей легко понял и этот взгляд. Ну вот, мол, и началось. Особист или следователь военной прокуратуры уже тут как тут. Да, очевидно, это же подумали и другие красноармейцы — сразу примолкли, стали было один за другим незаметно, осторожненько оттесняться, расходиться.
— Я назначенный к вам в роту политрук, — проговорил Осташко, глядя в побледневшее лицо Петруни. — Что вы дрожите? Солдат вы или тряпка? Мне надо знать, что с вами произошло!
— Товарищ политрук… Ей-богу, клянусь — не хотел… Да ни за что на свете бы… Топорище скользнуло… Родной матерью клянусь.
— Да он и в баню идти не хотел, — сочувственно подтвердил один из красноармейцев.
— А чья сумка?
— Моя, товарищ политрук, санинструкторская, — выступил вперед пожилой сержант, единственный из всех собравшихся одетый по всей форме.
— Чего ж вы ждете? Почему не оказываете помощь?
— Да не дается он мне. Как маленький…
— Осмотрите и перевяжите.
Кто-то побежал в сруб за водой, сержант расстегнул сумку, достал и разорвал индивидуальный пакет с бинтом.
— Эх ты, — стал упрекать он Петруню, обмывая его руку, — на Курчавую высотку первый под пулями бежал, а тут на тебе — разрюмился. Товарищ политрук, да он всего-навсего полпальца отхватил, соседний только царапнуло, цел. Да и на левой же, а это нестрелялка. Вон у Рокина двух недосчитывается, и то мобилизовали.
— Не мобилизовали, а сам пошел, — ворчливо поправил санинструктора чернявый, обнаженный по пояс красноармеец. — Знай, что мелешь.
— Все одно служишь, Рокин. И я ведь, кажись, не из-под кнута.
Сержант наложил на кровоточащий обрубок пальца марлевые подушечки, стал быстро прибинтовывать их.
— Держи руку вверх, не опускай. А правой прижми артерию, вот здесь, у плеча. Эх, лесоруб с тебя!..
На лице Петруни робко и стеснительно проступило некоторое подобие улыбки. Он повеселел. Повеселели и красноармейцы.
Алексей на минуту усомнился — правильно ли он повел себя? Может, надо построже? Может, и в самом деле саморуб? Но крепло убеждение, что недавнее отчаяние красноармейца неподдельно и вызвала его не сама боль, не этот злосчастный промах топором, а то, что неизбежно связано с ним, — дотошное и суровое следствие, допросы, подозрение в умышленном членовредительстве, стыд перед товарищами, перед родными. А коль так, коль это волнение было искренним, то, значит, и само чрезвычайное происшествие, каким оно ни являлось тягостным в эти дни, расценивать все же следовало непредубежденно, без той поспешности и перестраховки, на какие оказался падким перепуганный Браточкин. И Алексей, снова вспомнив пригорок с одинокой сосной, где на старом деревенском погосте лежал Киселев, решил, что и он поступил бы сейчас так же.
— Идите с Петруней на санпункт, — приказал Алексей санинструктору.
— Товарищ политрук, — взмолился Петруня, — распорядитесь, чтобы дальше санпункта меня никуда…
— Хорошо, хорошо, там будет видно, идите.
Алексей все-таки не стал чего-либо обещать, но и этих его слов оказалось достаточно, чтобы Петруня оживился. Вскочил, торопливо зашагал вслед за санинструктором по лесной тропе.
Запоздало явился командир взвода, представился новому политруку.
— Младший лейтенант Запольский.
И хотя какой-либо вины за ним не было, он выглядел сконфуженным.
— Товарищ политрук, может, в баньку с дороги? — предложил Рокин.
— И чистая и натоплена хорошо.
— А холоднячка сейчас подбавим, — подхватили и другие красноармейцы.
— С дороги? — улыбнулся Алексей. — Я с дороги о другом думаю: сколько тысяч километров проехал, а будто снова в Ташкент попал.
Еще в самом начале он приметил, что почти половина взвода из Средней Азии. Черный блеск удлиненных, восточного разреза глаз, смуглые, скуластые лица. Даже у Рокина, но он скорее всего якут или бурят. Поплотней, плечистей.
— А вы сами оттуда, товарищ политрук?
— Только на прошлой неделе «Кызыл Узбекистан» читал. Не знаю, доходит ли он сюда.
— У нас своя фронтовая есть, товарищ политрук. На узбекском.
— Ну, тогда ташкентские новости и вам знакомы.
— Про ташкентские мы мало-мало, да знаем, а вот про другие что слышно, товарищ политрук?
И снова не стерпел Алексей и почти убежденно, будто так оно в самом деле и есть, начал рассказывать про начавшееся наступление на Ржев.
Борисов вернулся в роту в конце дня. За час до этого на правом фланге начали бухать и долго не утихали орудия, и Осташко считал, что Борисов, вернувшись, заговорит именно об этом, но командир роты, казалось, и не слышал перекатывающихся долиной реки выстрелов.
— Ну, что с Петруней? — первым делом встревоженно спросил он.
Алексей стал рассказывать, что произошло на поляне.
— Вы наверх доложили? — угрюмо поинтересовался Борисов.
— Нет.
— Почему?
— По-моему, квалифицировать все как умысел нет никаких оснований. О чем же докладывать? Об увечье? Но оно не такое большое. А была бы охота, его можно истолковать по-разному. Потом в политдонесении сообщу, но опять-таки без натяжек.
— Так-то оно так, — нерешительно произнес Борисов, но в главах, которыми он словно впервые всматривался в Осташко, затеплилось дружелюбное понимание, даже, пожалуй, благодарность.
— К тому же все говорят, что Петруня хороший, дисциплинированный красноармеец.
— Да ему сам командир дивизии под Демьянском медаль приколол.
— Тем более.
— А если скажут, что покрываем?
— Какое ж покрывательство? Солдат-то остался в строю…
Борисов все еще раздумывал, колебался.
— Ведь и верно, затаскали бы парня, — приближаясь к какому-то решению, сочувственно произнес он. — Я уж не говорю о нас… Тоже бы досталось. А где он сейчас?
— Пошел в санпункт. А оттуда направили в санроту. Вот разве что медики могут удружить, подвести.
— Так это я мигом, это мы уладим, — вдруг зарумянилось в каком-то оживлении лицо капитана. Сейчас я Ане позвоню.
Борисов стал вызывать санроту.
…Наступал вечер. Алексей стелил себе на нарах постель, раскладывал пожитки. Снова, как бы провожая заходившее за лесом солнце, послышалось несколько залпов, один из снарядов разорвался неподалеку, задребезжало оконце.
Браточкин принес котелки с ужином. Старшина чувствовал себя сегодня явно виноватым и с минуту молча смущенно топтался в дверях — заговорить или не заговорить?
— Ну, как там Петруня? — деловито осведомился Борисов.
— Два котелка уплел, — обрадованно встрепенулся Браточкин, будто разгоревшийся аппетит Петруни был самой верной мерой его самочувствия и боеспособности.
— Эх ты, паникер, — с напускным гневом, сдвинув брови на своем еще без единой морщинки лбу, попрекнул Борисов. — Саморуб! И надо ж было выдумать! Ладно уж, можешь идти. А после ужина мы с политруком будем во взводах.
— Ну что ж, давай теперь, дядя Алексей, знакомиться, — сказал Борисов, нащупывая позади себя и доставая в изголовье нар флягу.
— Давай, племянник, — улыбнулся Алексей оттого, что наконец-то их отношения складывались непринужденно и просто.
Чокнулись.
— Закусывай лучком, хоть и дикий, а хорош, — потчевал Борисов, вынимая из лежавшей на столике связки пахучую темно-зеленую стрелку. — А это маслюки, тоже не пренебрегай. Да что ты так робеючи ложкой, будто продаттестат потерял? Смелей!
То, что Алексей, заглянув в котелок, принял за гречневую кашу, оказалось на самом деле вкусными поджаренными грибами.
— Вы, что же, здесь на подножном корму?
— А разве хуже? Сейчас только витаминами и запасаться. Уж зимой по-всякому бывает, а летом раздолье. Погоди, мы еще и рябчиками тебя угостим. Киселев насчет всякого приварка был любитель, а парторг мастак в этом деле. Здешний сам, валдайский, твоя правая рука.
— И как она, эта рука?
— Вдовин? Мужик сметливый… В партию вступал, когда я только к таблице умножения подбирался. Ну, да не мне, кандидату, его хвалить, сам потолкуешь, узнаешь… Ты на Северо-Западном впервые?
И неловко было Алексею признаваться, что он и на фронте-то впервые, однако не выдумывать же лишнее. Рассказал все как есть — откуда сам, про Донбасс, про Ташкент.
— Что ж тебя так занизили, директор Дворца? Могли бы и в дивизионный клуб послать или в какой-нибудь армейский ансамбль.
Вопрос был задан с подковыркой, с проверочкой: дескать, не чувствует ли себя новый политрук роты обойденным, обиженным? Серьезно отвечать и не стоило.
— Танцевал только польку-бабочку, да и то рудничные девчата от меня шарахались — оттаптывал ноги, — пошутил Алексей. — Так что в ансамбль песни и пляски пока не подхожу, забраковали. Иди, говорят, сперва подучись в стрелковой роте.
— А что? Киселев и здесь концерты ухитрялся закатывать.
— Кое-чему и меня в Ташкенте натренировали. Там «Белоруссия родная, Украина золотая» распевал и утром, и вечером, а здесь не знаю, как получится, найдется ли кто подпевать?
Борисов рассмеялся.
— А вон — разве не слышишь? Шестиствольный…
Где-то там, в опустившихся сумерках, загрохотало, звук был почти знакомым; так грохочут, ударяясь железными бортами, порожние вагонетки на околоствольной площадке, и потребовалось усилие, чтобы вообразить действительное — рвущиеся неподалеку мины.
— А я, брат, замоскворецкий, коренной, — представился Борисов. — «Дети капитана Гранта» видел?
— Еще бы! — удивился Алексей столь неожиданному переходу. — Крутил на каждом утреннике.
— Так вот, если помнишь, там на корвете пацан карабкается по фор-стеньге, помогает вставить кливера… Ромка Борисов собственной персоной. Как это пишут: в эпизодах все другие… В общем, капитан, капитан, улыбнитесь… Первая моя роль и последняя. Между прочим, французский учил, чтоб читать Жюля Верна в подлиннике, вжиться в образ. А надо было за немецкий браться.
— В театральном был, что ли?
— Да, прямо после срочной туда поступил, а с третьего курса пошел в военкомат… Доучиваться уже не придется. Теперь на этом крест…
В других подобных случаях собеседнику полагается произнести какие-либо утешительные слова: вот, мол, после войны, если останемся живы, нагонит, наверстает и он, Ромка Борисов, упущенное. Но, как понимал Алексей, здесь такие утешения прозвучали бы неискренне, лицемерно, попросту лживо. Слишком уж зримо и горестно подтверждал правоту командира роты этот перечеркнувший его губы шрам.
— В общем, мы, выходит, с тобой действительно одного поля ягоды, товарищ кинодеятель, — произнес Алексей, убеждаясь теперь и во второй догадке — почему Костенецкий сказал, что они подойдут друг другу.
— Так что, пройдемся по взводам? — поднялся из-за стола Борисов.
…Они вернулись в землянку поздно, в полночь, хотя для Алексея, южанина, эта полночь — серебристая, с серебристым небом, с серебристым маревом над полями и рекой — все еще мнилась предвечерьем, и спать не хотелось. Но Борисов сразу завалился на нары. Постелил себе рядом с ним и Осташко, однако не лег, подсел к столику, вынул из сумки тетрадь. Хотел было в письме к Вале сообщить сперва лишь одно — наконец-то обретенный адрес полевой почты, — и сам не заметил, как исписал четыре страницы. В тишине землянки думалось легко и проясненно. И потом, когда уже и сам лег на нары к мерно дышавшему Борисову, долго лежал с открытыми глазами. И так же проясненно заново развернулся весь этот первый фронтовой день — с мышастой тенью «мессера» на лесной дороге, с погостом на пригорке, с каверзной банькой на поляне… А затем потянулись ночные окопы, огненные трассы над ними, немногие запомнившиеся в полутемноте лица и череда лиц, только примеченных, с которыми ему предстоит сродниться. И последним видением, а возможно, это было уже во сне, забелели паруса, к которым поднимался веселый юнга с перечеркнувшим губу шрамом.
3
А весть, которая дошла до Алексея в политуправлении фронта и которой он не утерпел порадовать своих теперешних сослуживцев, пока не подтверждалась никем и ничем. Хуже того, ожесточенные бои, о которых сообщало в эти дни Совинформбюро, перемещались все ближе к Волге. Отступали наши войска и на Северном Кавказе. Еще будучи в резерве, с тягостью на сердце встретил в газете упоминание об Армавире. Значит, когда-то раньше сдали и Тихорецкую, куда уехал и где, возможно, находился отец. Теперь же оставлен и Краснодар.
В Ташкенте он слушал такие пасмурные сводки из уст Мараховца, Герасименко, здесь же обязан сам первым узнавать их и читать другим. А это еще тяжелей — видеть перед собой лица, вопрошающе-сосредоточенные в давнем ожидании чего-то хорошего, что наконец-то ободрит, обнадежит, а вместо этого снова неутешительное. И кажется, что сам ты отступаешь, сам пылишь сапогами по дороге, пятишься, отходишь перед наседающим врагом, и слова, которыми ты хочешь пояснить происходящее там, на юге, остаются всего лишь словами… А дела? Где дела? Но, черт побери, вон зарылись в землю, боятся и нос высунуть такие же, как и те, что захватили Клетскую, Котельниково, а здесь им хода нет, и чернеет на нейтралке подбитый Киселевым танк с уродливо вывернутым вниз орудийным стволом и откинутым люком… И недаром опасливо выставлены хитросплетения проволочного частокола и колючих спиралей перед чуть приметной желтоватой кромкой немецких окопов…
Приостанавливая шаг, Осташко посматривал в амбразуры, запоминал начертание переднего края, ближние и дальние ориентиры.
— Товарищ политрук, разрешите доложить…
Алексей обернулся на раздавшийся за спиной голос.
— Сержант Вдовин прибыл для продолжения службы.
Вдовин? Парторг? «Правая рука» — как заочно представил его Борисов?! Дружелюбно-внимательные, не ведающие поспешной суетливости глаза, старческая полнота в теле; уже изрядно потускневшая, очевидно носимая с первых месяцев войны, медаль «За отвагу» на аккуратной гимнастерке. От хозяйского спокойствия его осанки и медлительного, чуть сиплого, как у всякого заядлого курца, голоса повеяло такой неожиданной здесь, в окопах, основательностью и домашностью, что и Алексею рядом с ним все вокруг показалось домашним, давно знакомым.
— Ждал, ждал вас, — проговорил он, поздоровавшись со Вдовиным.
— Задержали на семинаре, лектор из армии приезжал.
— О, значит, запаслись новостями?
— Подзарядился, только больше про международное… Ну и, конечно, инструктировали, парторги собрались из двух полков. Тоже выступали, что у кого, как…
— И вы тоже?
— Пришлось…
— Теперь и мне расскажите.
— Тогда, может, пройдемте в мой «кабинет», товарищ политрук?..
Кабинетом Вдовин шутливо назвал свою стрелковую ячейку. Она, как и у всех командиров отделений, пошире других, и, хотя выдвинута чуть вперед, в боковые амбразуры можно смотреть и по сторонам. Здесь домовитость Вдовина еще наглядней — полочки в стенках для боеприпасов и всяких обиходных мелочей, колышки, чтоб развесить скинутое с плеч снаряжение, чурбачки, чтобы присесть, солома под ногами, — и только четыре ступени, выдолбленные в передней стенке, напоминали о том, как просто и легко в любую минуту можно покинуть этот дом. Многое из того, что рассказывал Вдовин, Алексею уже было известно. Знал, что в роте шестеро коммунистов, что поданы новые заявления о приеме в партию, что с недавним пополнением прибавилось и комсомольцев.
— В общем, товарищ политрук, оно бы и немало актива, по-колхозному говоря…
— Почему только «по-колхозному»?
— А в армии это слово, по-моему, ни к чему. Это в колхозе — застучит бригадир палкой по забору, чтоб Дарья на работу выходила, и если она выскочит сразу, — значит, актив, а перевернулась досыпать на другой бок, то записывай ее в пассив… А здесь, на переднем крае, сам знай свой час и свою задачу. Только, понятно, обвыкать надо.
— Новичкам?
— И не только им. Я и о тех, что весной в роту пришли и в наших новгородских краях впервые. Сейчас, летом, вроде бы ничего, вольготно, а когда осенние дождички да потом морозы начнут проверять? А они ведь в военкоматы на верблюдах да ишаках приезжали, тяжеловато им будет здесь.
— Ну, уж не тяжелей, чем немцам.
— А это как глянуть, товарищ политрук… Не немцу нас отсюда сгонять, а нам его, а это трудней. Ну да не отсиживаться ж собрались. Держимся крепко. И харч сейчас хороший, ребята не жалуются. И добавлять есть что…
— Даже и рябчики?
Вдовин улыбнулся.
— Слыхали уже о нашем приварке?
— И много их здесь?
— Когда-то бабы коромыслом били. Не на моей, конечно, памяти, но отец рассказывал.
— Уж не охотником ли были, Вдовин?
— В подсобье занимался, пока бригадиром не поставили. Тогда стало не до этого…
— В колхозе?
— Да, у нас, в Верхнем Волгине… Слышали небось о таком селе? Да слышали, слышали, товарищ политрук… Волга ж там свое начало берет…
Неподалеку раздались два одиночных выстрела, через промежуток — третий. Роща вернула их отголосок, и снова безмолвие летней степи. Продолжая разговаривать, Осташко и Вдовин пошли на звук выстрелов. Как ни глубоки были отрытые в полный рост окопы, полуденное солнце не оставляло в них ни клочка тени, казалось, проникало даже в ниши для боеприпасов и в «лисьи норы», иссушая в труху набросанные там красноармейцами траву и ветки. И все же это было солнце северных широт. А о том, другом солнце, что не так давно обжигало, пекло, ослепляло, Алексей сразу вспомнил, увидев стрелявшего. Он приник к стенке окопа, а заслышав шаги, обернул округлое, рябоватое лицо, напомнившее Раджабова, военкома из Уральска, который благословил Алексея в армию.
— Чем занят, Джапанов? — спросил Вдовин.
— Смотрю дорогу, товарищ сержант.
— Надо отвечать не «смотрю», а веду наблюдение за дорогой… Это ты стрелял?
— Так точно.
— По какой же цели? Да надень пилотку как следует…
Пилотка у Джапанова была сдвинута углами в стороны и, открывая весь его широкий, морщинистый лоб, походила на тюбетейку. Он поправил ее.
— Бальшой пыль была, лошадь, подвода.
— И куда же попал? В пыль или в подводу? Не зря?
— Джапанов зря не стреляет… Пригнуться сейчас надо.
Он первый расслышал далекий свистящий полет мины, которую, как бы подтверждая его слова, послали в ответ на выстрелы немцы. Обозленные за какую-то свою потерю, они повели запоздалый огневой налет. Несколько минут за бруствером не утихал треск разрывов; на дно окопов, где все трое присели на корточки, осыпалась земля, стал сползать сернистый, прогорклый дымок. Джапанов смотрел на пришедших с невозмутимостью. Похоже, что кутерьма ему очень нравилась. Кажется, нравилась она и Вдовину. И уж подавно Осташко. Вот так бы беспокоить, тревожить, прощупывать врага изо дня в день, из часа в час.
Когда огневой налет кончился, Вдовин с деланной укоризной покачал головой:
— Что же ты, Эсимбас, таким концертом нашего нового политрука встретил?
— И к тому же почти земляка, — шутливо добавил Алексей, — только-только собрался передать привет из Ташкента и не успел…
Лицо красноармейца просияло. Переложив винтовку в другую руку, он правую церемонно — будто увидел политрука на пороге чайханы — прижал к сердцу в знак искренности приветствия, чуть склонил голову.
— Немец близко — Ташкент далеко. Когда немец будет далеко, Ташкент станет близко.
Эти спокойно произнесенные слова и то, что Алексей услышал от Джапанова потом, казалось, развеивали ту озабоченность, которой поделился с политруком Вдовин. Вот тебе и глухой кишлак. Гонял баранту на Памире, но перед этим служил в погранотряде. В партию приняли на фронте под Калугой. Сюда попал из госпиталя после ранения. Агитатор во взводе. Вот только газеты редко попадают в руки. Этот месяц, как не стало политрука, неизвестно куда и деваются. И сводки доходят с перебоями. «Наладим, все наладим», — пообещал Алексей.
— А со снайперской не пробовали? — спросил он у Джапанова.
— Нету снайперской…
— Хотели бы?
— Моя и так хороша…
— Э нет, Эсимбас, не говорите, снайперская при метком глазе незаменима.
Алексей подошел к амбразуре. Ничейная земля, расчищенная для лучшего обзора от всего, что затрудняло видимость, лежала за ней мертвенная, иссеченная осколками. Только кое-где торчали реденькие прутья, но и они, скорее всего, были не остатками кустарника, а подготовленными и сохраненными ориентирами. За линией немецких окопов, среди холмов, он попробовал нащупать взглядом дорогу, за которой наблюдал Джапанов. Но сколько ни всматривался, заметить ее так и не удалось, хотя никогда не жаловался на зрение. Наверное, надо было иметь для этого такие же зоркие, пристальные глаза, какие имел Джапанов, привыкший охватывать на нагорных пастбищах нескончаемо далекие просторы и расстояния.
— Немцы танк не пробовали утащить назад? — спросил Алексей.
— Хотели было на прошлой неделе, да мы вовремя заметили, отогнали. Там ночью наше боевое охранение. Да и минное поле…
— Наше?
— Наше, подновили после того боя… И сейчас саперы по ночам наведываются. Скажите, товарищ политрук, как насчет партийного собрания?.. Будем созывать?
— Когда оно было?
— Давненько, месяц назад, еще при товарище Киселеве.
— Значит, пора и собраться.
— А повестка?
— Позже скажу, посоветуюсь с капитаном.
Расставшись с Вдовиным, Алексей возвращался на КП роты и на половине пути едва не столкнулся с выскочившим из-за бокового ответвления окопа красноармейцем. Он бы не узнал Петруню, настолько иным — веселым, прямо-таки счастливым — было сейчас его лицо, которое тогда искажали страх и отчаяние. Но бинт, белевший на руке красноармейца, сразу напомнил недавнее происшествие у бани.
— Товарищ политрук… товарищ политрук… — растерялся от неожиданной встречи и, запыхавшись, дважды повторил Петруня. — Ходил на перевязку и перехватил у письмоносца сводку… Наконец-то… Наступаем, товарищ политрук!..
Он протянул Осташко свернутый в трубочку лист бумаги.
Алексей нетерпеливо развернул его. Почти мгновенно ликующим взором вобрал весь теснившийся длинный заголовок:
В последний час. Наши войска на Западном и Калининском фронтах перешли в наступление и прорвали оборону противника. Немецкие войска отброшены на 40—50 километров.
— Хорошие новости, Петруня! Придешь во взвод, расскажи…
Сам Алексей все остальное решил прочесть на ходу. Очень уж спешил порадовать долгожданной вестью Борисова. И уже шел, когда Петруня робко окликнул:
— Товарищ политрук, разрешите…
— Что еще у тебя? Говори.
— Спасибо вам за то, что поверили мне…
— Ладно, ладно, Петруня. Нам еще с тобой воевать да воевать!
4
Все томились в ожидании, что и здесь, перед Старым Подгурьем, среди тронутых первой сентябрьской позолотой лесов, вот-вот тоже поднимет в наступление уже исподволь заготовленный в штабных верхах и расписанный по срокам, по направлениям наносимых ударов приказ. Но пока никаких видимых признаков этого не замечалось. К тому взводу сорокапяток, что притаился в таволжнике позади окопов роты, не прибавился ни один орудийный ствол. А на какой же прорыв идти без огневой поддержки? Не было и никаких других перемен. Прежним оставался и недокомплект, не уплотнялась и полоса обороны. Правда, почистили дивизионные и полковые тылы. В роту на строевую службу прислали шесть человек из ПАХа[1] и разных мастерских, но такая передвижка проделывалась и раньше и тоже ничего особенного не предвещала.
Как старого знакомого встретил Алексей Уремина, ездового транспортной роты, теперь также поставленного под винтовку. Борисов хотел было определить его к себе связным, на место молоденького красноармейца Пичугина, давно просившегося в пулеметный расчет. Но Уремин с таким разочарованием и обидой на лице выслушал это решение, что Борисов только удивился:
— Что такое, папаша? Чем тебе это не служба?
— Если, знамо, ваш приказ, то лишнего разговора быть не должно, а все ж, товарищ капитан, хотелось бы во взвод… Вот товарищ политрук знает… Я ведь при лошадях обвык, что другое у меня и не получится…
— А во взводе получится?
— Да уж по старой памяти… Трехлинейка плеча не натрет.
— Ну ладно… Полагалось бы напомнить тебе, тоже по старой памяти, что командиру не прекословят. Да на первый раз пусть будет по-твоему, иди во взвод.
Такая вот перестановка людей в роте и была, по существу, единственным, чем занимались Борисов и Осташко в предвидении возможного наступления. Если, конечно, не считать обычного — проверки оружия и боеприпасов, изучения подступов к вражескому переднему краю.
Но как раз из-за этой перестановки людей Алексею и пришлось поспорить с Борисовым. Да, случалось, они спорили, упрямо спорили даже после того, как близко узнали и полюбили друг друга. Правда, в конце концов им начинало казаться, что в споре они просто заимствуют друг у друга что-то недостающее, поправляют себя, уточняют свое понимание людей и их долга на войне. Так обоюдно притираются в руках строителя два камня — сглаживаются в притирке неровности, отыскиваются наилучшие плоскости соприкосновения, — прежде чем эти камни будут уложены в стену.
Наверное, потому, что Алексей и сам в силу своего возраста, житейского опыта, навыков и склонности даже и сейчас, на фронте, наполовину оставался все еще тем, кем был до армии, он и на других мысленно видел не только нынешние гимнастерки, но и ту одежду, что они носили ранее, — представлял, кем они были тогда…
Ему стало легче разговаривать с немногословным бирюковатым Рокиным, когда узнал, что тот родом из Большеземельской тундры, работал там оленеводом, что в чуме у него сейчас хозяйничает вместе со своими сестренками младший сынишка, а старший тоже воюет где-то на Севере. Стал понятней и Фомин, разбитной краснодеревщик из Рыбинска, который снабдил едва ли не всю роту затейливо вырезанными из березы портсигарами и искусно заменил расколотый приклад противотанкового ружья. Разве война могла стереть в памяти этих немало поживших людей их прежние профессии?
Однажды, проходя окопом, Осташко услышал где-то впереди раздраженный голос Гайнурина.
— Ну что валандаешься, что валандаешься, горе ты мое? Да если мы все так будем воевать, нас Гитлер голыми руками возьмет… Сердце болит, как на тебя смотрю… Это ж пулемет, пойми, пулемет, а ты около него — как бабка около примуса…
За изгибом траншеи Алексей увидел Сафонова, мешковато склонившегося над плащ-палаткой, на которой лежал разобранный ручной пулемет. Гайнурин сидел на лотке из-под мин, нервно покуривал, пуская дым колечками, покрикивал.
— Чистка материальной части, товарищ политрук, — вскочил он.
— А я уж подумал, что вы Сафонова чистите…
— И это нелишне было бы, товарищ политрук, — охотно подхватил Гайнурин, приняв за одобрение шутку Осташко.
— А стоит ли?
— Да ведь не первый день над ним бьюсь, товарищ политрук, — поняв, что промахнулся, страдальчески выкрикнул Гайнурин. — С таким вторым номером в бою очень просто и дело завалить… А спросят-то не с него — с меня.
Сафонов, будто смирившись со своей нерасторопностью, только угрюмо посапывал и растерянно вертел в руках защелку, ту самую защелку, которая вначале не давалась и Осташко там, в Ташкенте.
— Что вы над ней мудрите? — засмеялся Алексей и перенял из рук красноармейца злосчастную детальку. — Она этого не заслуживает. С ней надо попросту, вот так. — Он ловко вставил защелку на место, затем снова вынул и протянул Сафонову. — Попробуйте теперь сами… Выйдет…
Пока пулеметчик возился со сборкой, Осташко его расспрашивал. Сафонов оказался марийцем, работал вблизи Зеленодольска старшим агрономом МТС, сюда, на Северо-Западный, попал из запасного полка.
— В запасном долго были?
— Две недели. Сразу после июльского приказа нас по тревоге подняли…
— То-то и оно, что июльский приказ… Дошел он до тебя или не дошел? — не выдержал снова Гайнурин.
Верткий, жилистый, худощавый, он годился бы в сыновья своему второму номеру. И трудно было представить, как в бою он, Сафонов, тоже не обделенный силой, но по-медвежьи грузный, поспевал бы за быстроногим сержантом. Сейчас Сафонов молчал, и, глядя, как он неумело возится со сборкой пулемета, Алексей подумал, что вот эти набрякшие, медлительные, с черными заусенцами от окопной грязи руки наверняка куда более искусно сновали при своем деле — любовно перебирали и охаживали колосья, пробовали твердость зерна.
О Сафонове как-то и заговорил Алексей с Борисовым, предложил подобрать к Гайнурину вторым номером кого-либо другого.
— Можно и другого, — поначалу согласился Борисов. Он чертил для штаба батальона схему расположения огневых средств. Алексей записывал в тетрадь сведения о коммунистах роты, как раз попалась фамилия Сафонова.
— А почему другого? — вдруг после минуты молчания поднял голову над столом Борисов.
Почуяв задиристые нотки в его голосе, Осташко ответил спокойно:
— Просто не пара, хотя бы и по годам. К тому же в этом взводе уже есть два коммуниста…
— Нет, ты не об этом думаешь, — отодвигая от себя чертеж, насупился и проговорил Борисов. — Ты думаешь о том, что Сафонов агроном, с высшим образованием, а Гайнурин прицепщиком на тракторе работал… Так вот что я тебе скажу: будь он, Сафонов, хоть председателем облисполкома, а не умеет воевать — пусть учится. А если какой-то, хоть бы из твоего Дворца, полотер сумел подбить танк, так давай мне этого полотера, я его к ордену представлю и старшим сделаю…
— Правильно, но не об этом речь…
— Нет, ты об этом, — не унимался Борисов. — А мне эти разговорчики осточертели, я их в госпитале наслушался… Со мной рядом один ополченец лежал… Так он рассказывал о своем студенческом батальоне и все ахал… Ах, мол, сколько, может быть, погибло Лобачевских, Ньютонов, Циолковских!.. А если погиб рабочий или дворник? Тогда ничего? Допустимо? Нет, уж извини, Отечественная так Отечественная для всех! Только так!
— А что ж ты тогда меня в ансамбль песни и пляски прочил? — поддел Борисова Осташко.
Борисов промолчал, будто устыдился своей вспышки. Да и Алексею затевать спор не хотелось. Не мог же Борисов не понимать, что политрук хлопотал не о каких-то льготах для агронома. Передний край есть передний край. Легкой жизни он не сулил никому. Но и Алексей понял запальчивость командира роты: очень уж о многом говорил взгляду этот еще сильней побагровевший шрам на лице…
Борисов надел пилотку.
— Я схожу в штаб батальона, туда приехали из финчасти оформлять аттестаты. И если ты не возражаешь…
— Иди.
Борисова это краткое безразличное «иди» смутило. Задержался в дверях.
— Что бурчишь? Обиделся? Чудак! Я ведь с тобой по-дружески. Дело не в Сафонове. Перевести — так перевести… А я просветил тебя насчет главного… Чтоб ты знал, на чем я стою.
— Ладно уж, просветитель, спасибо… А то бы я по своему невежеству и не додумался…
— Хватит язвить, кстати, ты сам собираешься аттестат оформить? Пользуйся случаем. Иначе в полк шагать придется.
— Схожу и я, когда вернешься.
Он сказал это машинально, тронутый участливостью Борисова, и лишь потом, когда он ушел, задумался над сказанным. Борисов посылал аттестат матери, которая с двумя его сестренками-школьницами эвакуировалась в Барнаул. А он, Алексей, кому собрался посылать? Однажды рассказал Борисову о Вале и, поощряемый его дружелюбным вниманием, сам не заметил, что заговорил о ней, как о жене. Не поспешил ли? Что было между ними, кроме нескольких встреч? Но он и на расстоянии представлял ее ожидающей, думающей о нем, потому что думал о ней сам, думал и любил… И сейчас он мысленно увидел ее такой, как тогда, при первом посещении кибитки, когда она, колеблясь, неуверенно смотрела на предложенные деньги и вдруг решилась: «А знаете, хотя это и не совсем справедливо, но я их возьму…»
И он представил себе, как Валя, вызванная в военкомат, так же покраснев и колеблясь, будет смотреть на пересланный им аттестат. И пусть только посмеет отказаться!..
5
Этот день начинался как обычно. С утра Осташко провел политзанятия с сержантским составом и направился на левый фланг участка, к стыку с первым батальоном. Неделю назад получили две снайперские винтовки и там, на левом фланге, во взводе Запольского, создали снайперскую группу. Одну из винтовок вручили Джапанову. Эсимбас неохотно расставался со своей трехлинейкой. Но после того как в первый же день, пользуясь оптическим прицелом, снял с сосны вражеского наблюдателя, не покидал стрелковой ячейки с рассвета до темноты. Правда, после первого успеха потянулась полоса неудач — немцы стали осторожней.
Алексей зашел в землянку Запольского. Как и другой командир взвода — Чеусов, Запольский прибыл в часть всего месяц назад из Саратовского пехотного училища — петлицы и кубики на гимнастерках еще огнились изначальной фабричной выделкой. И в землянке, где он жил вместе с Чеусовым, была спартанская строгость, чистота. При первой встрече Запольский рассказывал о себе стеснительно, запинаясь, а о том, как он летом прошлого года подавал заявление на спецкурсы при обкоме комсомола, но вместо них был направлен в годичное училище, обмолвился с неизжитой до сих пор обидой. Зато о людях своего взвода младший лейтенант говорил неожиданно красноречиво, будто хотел убедить, что командование допускает ошибку, продолжая держать его взвод в обороне.
И сейчас он встретил Осташко загоревшимся, вопрошающим взглядом и вскочил так порывисто, как вскакивают по команде в ружье…
Но Алексей не мог обнадежить его даже сводкой. Уже пятый день, как из сообщений Совинформбюро исчезло даже упоминание о Ржеве. «Ничего существенного…»
— Что невесел, Анатолий? — спросил Осташко, заметив, как с первых же минут, так и не услышав от политрука ободряющих вестей, поскучнел Запольский.
— Сами понимаете, товарищ политрук, засиделись мы…
— Ну уж мы-то с тобой засидеться здесь еще не успели.
— Это так, а все же, если не сейчас, то когда же? Осенью и подавно не высунуться из окопов…
Вошедший в землянку Чеусов, одногодок Запольского, словно услышал давно знакомое — не захотел или не успел притушить приятельски-усмешливого огонька в глазах.
— Что-то вспомнилось, Чеусов? — перехватив эту усмешку, полюбопытствовал Алексей.
— По правде, товарищ политрук? — напрашиваясь на откровенность, плутовато спросил Чеусов.
— Да уж если слушать, то ее.
— Вспомнилась моя бабушка. А она часто говаривала: который конь скоро бежит, тот дольше стоит. В общем, по ее понятию, на веку — как на долгой ниве… Я это и Анатолию цитирую, когда его нетерплячка колотит… Права старая или не права, но к нашему нынешнему положению вполне подходит.
— И на фронт она вас с такими присказками провожала?
— Сами судите, товарищ политрук, если три пары варежек на дорогу связала.
— По одной на каждую зиму или как?
— Не знаю, из какого именно расчета. Всяко может быть. Лишь бы самому довелось донашивать…
Запольский все это время только молча смотрел на Чеусова рассерженно-укоряющим и одновременно просительным взглядом, и когда Алексей опросил его об Эсимбасе Джапанове, то мгновенно откликнулся:
— Вам его позвать?
— А где он?
— На своей огневой.
— Так туда и пойдем.
Над передним краем — тишина осеннего, безветренного дня. Лес позади окопов посветлел, а на холмах уже кое-где просматривалось сквозь ветки небо — недавние заморозки сбили листву. Но и пойменные луга, и тянувшаяся за ними степь оставались такими же сочно-зелеными, может быть, по контрасту с темневшим подбитым танком, с черными воронками от снарядов, от мин на ничейной полосе и там, где проходили немецкие траншеи.
По удрученному лицу Джапанова Алексей сразу определил, что невезение продолжается.
— Неужели фрицы после завтрака уснули? Как ты считаешь, Эсимбас?
— Когда скорпион спит, все равно берегись его жала…
— Товарищ политрук, по-моему, они по утрам отходят во вторые траншеи, — высказал предположение Запольский, — а потом у них и ложные есть. Я приметил.
— Приметил? Каким образом?
— А посмотрите в бинокль. Там, где настоящие, они маскировку обновляют часто, а в ложных — ленятся… она пожелтей…
Алексей поднял бинокль. Действительно, перед опушкой усохшая листва маскировки заметно выделялась, тянулась, петляла желтеющим валом.
— А как бы это проверить?
— Проверяли, вчера ребята из секрета подбирались к ним, говорят, что никого, и звука не слышно… Пустые…
— Ну, это еще не факт… Ты скажи, у тебя патроны с зажигательными пулями есть?
— Можно принести с пункта боепитания.
— А ну-ка пошли за ними, — приказал Алексей, еще и сам не уверенный — оправдан ли его замысел.
Когда посланный Запольским красноармеец принес пачку патронов, Алексей зарядил ими диск. Хоть и на излете, а огонь автомата должен доставать высмотренную цель.
— Наденьте, товарищ политрук, — протянул ему Запольский свою каску, когда Осташко стал было подниматься на ступеньки.
Первая очередь, видимо, не достигла цели. А может, вся затея напрасна? Нет, надо попробовать еще. Алексей выбрал больший угол возвышения и нажал на спусковой крючок. Всмотрелся. Если бы впереди и поднялась пыль, все равно отсюда не разглядеть, а того, чего ожидал, тоже не появлялось… Дал еще одну очередь… Осташко уже убрал автомат с бруствера, когда Джапанов, следивший за немецкими окопами, вдруг обрадованно выкрикнул что-то по-узбекски. Над рыжим валом затемнел, закурчавился дымок, блеснул язычок пламени и, раздуваемый ветром-низовиком, пополз, как по пороховому шнуру, дальше. Вслед за тем произошло то, на что Алексей и вовсе не надеялся. Листва, вероятно прикрывавшая пулеметное гнездо, внезапно вспыхнула, и, позабыв о другой опасности, его расчет выскочил из окопа. Над ухом Алексея резко хлопнул выстрел. Это пустил в ход свою винтовку Джапанов. Один из немцев качнулся, взмахнул руками, упал. В диске автомата еще оставались патроны. Алексей повел огонь короткими очередями. Заметив переполох в окопах противника, открыли стрельбу и красноармейцы соседней роты… Куда и девалась недавняя тишина осеннего утра… В перепалке — немцы прикрыли попавшую впросак переднюю траншею пулеметным огнем из глубины — Алексей, раззадоренный доступностью и уязвимостью ранее невидимого врага, даже позабыл, с чего она началась. Убил ли кого именно он, понять было трудно, но скопившаяся жажда мести наконец-то вырвалась наружу…
Получасом позже, когда впереди все вновь затаилось, зацепенело, Алексей, обернувшись, увидел обескураженное, почти обиженное лицо Запольского и удовлетворенно подмигнул.
— А ты говорил — ложные… Начинка-то настоящая.
Подошел Борисов. Он наблюдал за вспыхнувшей перестрелкой из траншей второго взвода и сейчас, на ходу услышав слова Осташко, деловито заметил:
— Вот это мне что-то и не нравится…
— Почему?
— Вчера они еще были пустыми… Это точно…
Выходило, что немцы за минувшую ночь подтянули к первой линии укреплений какие-то новые подразделения. Для чего? С какой целью? Надо было доложить в штаб батальона.
— Вспугнули мы их, — размышлял вслух Борисов, вместе с Алексеем возвращаясь на ротный КП.
— Так это хорошо или плохо? — довольно-таки вызывающе спросил Осташко. — Может, пугать немцев сейчас не дозволено?
Но Борисов будто и не заметил этого задиристого тона политрука.
— Надо быть настороже. Хоть в прошлом месяце дали им но зубам, но могут и сейчас полезть. Не вовремя ты кино затеял, — недовольно заметил Борисов. — Не до комедий.
— Во-первых, кино затеял не я, а Костенецкий для всего батальона, а во-вторых, не комедия, а документальный фильм «Битва за Москву». Вся дивизия смотрела. Чем мы хуже?
Из разговора с Костенецким узнали, что и в штабе батальона имеются предположения о подтянутых немцами подразделениях, об этом доложено наверх, и сегодня ночью полковая разведка попытается прощупать вражеский передний край. Однако, когда Борисов усомнился, стоит ли сегодня вести бойцов на киносеанс, комиссар, подумав, буркнул:
— Посмотрим… Злее драться будем… В кои века-то кинопередвижку заполучили… Только не идите скопом. Половина на половину… Два сеанса крутить будут…
Дальше день потянулся по-обычному, ничем не подтверждая ни догадок, ни опасений, которые породил утренний случай. Как обычно, перед полднем из-за лесов выплыла в синее безбрежье неба «рама» и повисла высоко-высоко, едва различимая и чем-то схожая с пауком-бегунком, что рывками скользит по глади пруда. Как обычно, около часа дня немцы выпустили по ближним тылам батальона десятка два мин и, выполнив эту предобеденную норму, наверно, зашагали с котелками на походную кухню. И, как обычно, шла жизнь роты. Выделили наряд, чтобы подновить, подправить дороги, ведущие к переднему краю, и заготовить дрова в предвидении скорых заморозков. Тех, кто остался в окопах, командиры отделений по расписанию собрали для изучения материальной части. Из одного взвода в другой передавали наскоро выпущенный боевой листок, героем которого стал Эсимбас Джапанов. Письмоносец доставил почту. Пачка газет, которую он вручил Осташко, была тощенькой-претощенькой; хорошо еще, что недавно удалось выбить в политчасти полка два лишних экземпляра фронтовой газеты, иначе бы и вовсе худо. А ведь в Нагоровке Алексей был самым богатым клиентом городского почтамта — сотня газет для Дворца и красных уголков, все ежемесячные и еженедельные журналы. Щедрость, изобилие! А истинную ценность этих страниц познал только сейчас. Прочитал и, прежде чем передать агитаторам, пометил карандашом те заметки, какие им следовало прочитать в первую очередь…
Теперь начинало темнеть рано. Светильники в землянках горели круглые сутки. В семь часов уже скрадывались предвечерней дымкой леса, и даже закат, долгий и по-северному многоцветно пылающий, не отдалял сумерек — они наступали сразу же, едва только исчезал за горизонтом бураковый срез солнца. Алексей повел часть роты в Крутой Ключ, где установили кинопередвижку. Батальонным клубом служила накрытая брезентом расщелина, внутри которой вместо скамеек лежали неокоренные стволы деревьев. Пробившись сквозь табачный дым, неяркий матовый луч осветил экран.
Смотрели вначале молча. Не под Москвой, так в других местах все это было кое-кем уже пережито — и марши-броски по занесенным снегом дорогам, и перебежки под огнем, лыжные и танковые десанты, успешные и неуспешные, всякие… Но когда открылись подмосковные поля и на них зачернело несчитанное скопище разбитых и брошенных вражеских орудий, машин, бронетранспортеров и потянулись впритруску на ядреном декабрьском морозце колонны и толпы пленных, молчание оборвалось:
— Эхма, на Дону бы их так!
— Чужими руками? Ты сам здесь попробуй…
— Как черви ползут… Сколько же их еще на нашу голову?
— Слава богу, хоть эти уже не в счет…
Алексей сидел рядом со Вдовиным, и парторг тоже поддакивал возгласам соседей, то смеялся, то вздыхал… Потом, когда оборвалась лента и киномеханик что-то там поспешно мудрил, склеивал, Алексей увидел впереди Костенецкого. Тот подозвал его к себе.
— Это, оказывается, ты сегодня ералаш на переднем крае поднял?
— Случайно вышло, товарищ комиссар!
— Ах ты, поджигатель… Смотри только, чтоб и немец тебе красного петуха не подпустил… А то еще и позлей… Кто в роте из командиров остался?
— Борисов… Два взводных…
— Правильно! Ну, а как сам осваиваешься? Шапочные знакомства или душа в душу?
— Стараюсь без шапочных обойтись.
— Вдовин на месте? Помогает? Доволен им?
— Вполне, таких бы побольше.
— Ну-ну, не жадничай, у тебя и остальные не хуже.
Когда возвращались, вполнеба уже поднялась луна, по-осеннему холодная, стылая… Не доходя метров двести до переднего края, услышали в кустах приглушенные удары лопат, такие же приглушенные команды.
— Раз-два, накатывай!..
— Разверни стволом вправо.
— Никак артиллеристы? — сказал Вдовин. — Только не наши соседи. Наши по другую сторону дороги.
6
В первые секунды пробуждения, еще в полусне, Алексею почудилось, что это загрохотали под высокими сводами казармы сапоги курсантов и катки передвигаемых по каменным плитам станковых пулеметов; возможно, что и приснилось ему в остаток ночи училище, но открыл глаза и успел увидеть натягивающего на ходу гимнастерку Борисова и веснушчатого связиста в углу, немо раскрывшего рот, а что именно он кричал, не расслышать — раздался новый оглушительный взрыв где-то неподалеку, и волна воздуха сорвала плащ-палатку, которой завешивали двери. Алексей схватил автомат и выскочил наружу. Сверху падали комья земли, горло перехватило гарью, нарастающий из поднебесья свист бомбы заставил прижаться к стенке окопа. В просветах повисшего над бруствером дыма мелькнул выходивший из пике самолет, а другой, невидимый, заново нагнетал резкий, воющий зык. Близко зачастили, захлопали зенитки.
Пригибаясь, Алексей побежал по траншее на левое крыло роты, как они ранее условились с Борисовым… «В случае чего…» Там взвод Запольского, взвод Чеусова. На изгибе окопа первого встретил Фомина, командира отделения.
— Люди целы?
— Погремело, да пока не тронуло никого, товарищ политрук… Теперь будем ждать самих фрицев. Как тогда…
Алексей выглянул в амбразуру. Приподнимавшееся за спиной солнце кидало на безлюдное поле темно-палевый оттенок, никакого движения у немецких окопов еще не было. И это внезапное полное затишье, что сменило встряхнувшие леса и степь раскаты авиационного налета, нависло над округой, готовое вот-вот сорваться каменной глыбой. Вдалеке послышался орудийный залп. Первые снаряды прошелестели над головой и легли где-то позади. А тот, беззвучный, что притаенно нес в себе неотвратимую опасность, ударил почти в бруствер, затемнил небо, зазудел раскалывающимся на мириады частиц железом… Дым рассеялся, и прямо перед Алексеем проглянуло неестественно белое лицо Фомина, его неподвижные, замершие в муке глаза, и вдруг он словно переломился, осел под ноги.
— Фомин! Фомин!
Сержант упал на бок, на губах запузырилась и хлынула наземь кровь.
— Санитар!
Алексей наклонился, быстро ощупал грудь, плечи, живот Фомина, рукам стало горячо… Увидел, что обе они в крови и кровь эта лилась из разорванной ниже кармана гимнастерки, стекала по ней наземь. Санитар был уже ни к чему. И прежде чем подняться, какие-то короткие секунды оцепенело глядя, как кровь впитывается и навсегда уходит в рыхлую зернистую землю, Алексей понял, что все его прежние волнения и озабоченности были канувшей в прошлое малостью перед тем, что ему сейчас предстояло делать.
Нанеся по позициям батальона огневой удар, немцы поднялись в атаку. То, что издали в утренней мгле можно было принять за колодезные срубы, оставшиеся в разоренной деревне, или за прикладки торфа, вдруг сорвалось с места, двинулось вперед. Танки! По-утиному заваливаясь на попадавшихся воронках, они торопились быстрее проскочить пристрелянные квадраты ничейной земли. И снова нависло безмолвие, в котором только-только начинал просачиваться отдаленный рокот моторов.
— Кажется, легкие, Т-1, — сказал Алексей, всматриваясь в очертания приближающихся машин. Он подошел к Рокину, и тот, при всей своей неразговорчивости и медлительности, на этот раз откликнулся поспешно.
— Легкие, товарищ политрук, — подтвердил он, как бы и в ином, обнадеживающем смысле: легко, мол, и побьем.
— Ты прими отделение на себя, Рокин.
— А Фомин?
— Убит.
На потемневшем лице Рокина, казалось, еще резче выступили скулы, губы дрогнули, он хотел было что-то спросить, но не спросил, отвернулся, и лишь минутой спустя, когда Алексей уже отходил, послышался его голос:
— Аксюта, Сафонов, слышь? Теперь стрелять по моей команде.
Танки, не сбавляя скорости, скучились в два набегающих потока, очевидно придерживаясь заранее очищенных от мин проходов, и затем снова стали развертываться фронтально, широким веером — теперь можно было примерно определить, какие именно из них направлялись сюда, к окопам второй роты.
— Один, два, три, четыре… — повышая в нарастающем шуме голос, стал было считать Запольский.
— Это все наши, — выкрикнул Алексей, и Запольский понял его правильно: не кому-нибудь другому, а их роте выпало схватиться с ними.
— Да, прут прямо на нас… Только что ж сорокапятки молчат, поперебивало их?
— Там и кроме сорокапяток кое-что есть… — подбодрил и себя, и командира взвода Алексей, хотя Запольский, казалось, и не нуждался в таком подбадривании. Куда девался его анемичный вид! В нетерпении распрямился, изготовился, плотно уперся локтями в берму перед лежащим на ней автоматом, лицо по-мальчишески раскраснелось. И только по тому, как он, подобно Рокину, очень уж поспешно откликнулся на голос подошедшего Осташко, можно было догадаться, что появление политрука его обрадовало, ободрило.
А уже был слышен и лязг гусениц, затукали крупнокалиберные пулеметы танков. И хотя их очереди на подскоках машин были бесприцельными, именно они оборвали выжидающее безмолвие там, позади окопов роты. Почти одновременный залп сорокапяток и орудий артполка — тех, что накануне были подтянуты к передовой, — вздыбил стену разрывов, и, когда эта стена дрогнула, стала опадать, из просветов вырвались уже не шесть, а четыре машины. Две стальные по инерции еще с минуту двигались уже неуправляемо, наискосок поля, оставляя позади перебитые траки… Кто выстрелил в подставленный борт одной из них, Осташко не заметил, кажется, это был Вдовин, который с противотанковым ружьем находился в своей чуть выдвинутой вперед ячейке. Бронебойная пуля пробила бак с горючим, и вслед за показавшимся над кормой смолистым лоскутком вырвались, заклубились черные широкие полотнища.
Лихорадочно прикидывая оставшееся до танков расстояние и думая, дойдет ли дело до гранат, до горючки, или танки будут остановлены артиллеристами, Осташко стрелял по бегущим за танками немцам. Остановить, отсечь бы их… Вывороченные близким разрывом снаряда комья земли мешали обзору. Алексей передвинулся левей и оказался рядом с каким-то красноармейцем, который тоже стрелял из автомата, при каждой очереди что-то выкрикивая. Потом к этому красноармейцу подбежал Браточкин.
— Слышь ты, йодом мазанный, мигом патроны тащи, а тут я сам управлюсь.
Красноармеец повернулся — это был Петруня — и ходом сообщения побежал к пункту боепитания. Старшина, примащиваясь к амбразуре, довольно грубо потеснил Алексея, но потом узнал его, крикнул:
— Отобьем, товарищ политрук, ей-богу, сейчас отобьем сволочей… Вот только Чеусова убило… И двух ранило…
«Убит Чеусов… Нет Фомина и нет Чеусова… И раненые… А потери на правом фланге?.. Там, где Борисов?.. Как там?» — мысли разбежались, осознать происшедшее в эту минуту было невозможно. И все же он чувствовал, что какого-либо ощутимого перевеса немцы пока не добились, что оборона не поддалась. Горели уже три танка, эти были действительно Т-1, легко уязвимые и для полковых орудий, и для бутылок с горючей смесью… Но то ли Алексей с Рокиным ошиблись, приняв и остальные машины за Т-1, то ли немцы вызвали подмогу, но Алексей увидел эту не замеченную ранее махину лишь тогда, когда она была всего в десяти — пятнадцати шагах от окопа, увидел ее круто взнесенное на подскоке заляпанное грязью брюхо, увидел гусеницы, обволоченные глиной и запутавшимися стеблями… Все, что он прилежно учил в Ташкенте, читал в газете и разных солдатских памятках — бить по смотровым щелям и приборам наблюдения, целиться связкой гранат в ведущие колеса или в моторную часть, — все в эти секунды стало уже ни к чему: поздно… Все же он выхватил из углубления в стенке окопа бутылку с КС, но, если бы даже и успел размахнуться, все равно туда, куда следовало ее метнуть, не смог бы…
— Ложись! — завопил он Браточкину, для которого появление в такой близости танка тоже оказалось внезапным. И, падая на дно окопа, защищая телом от обрушившейся земли бутылку с самовоспламеняющейся жидкостью, он подумал о том, что надо мгновенно избавиться от этой адской, обугливающей все живое и неживое смеси… Он сжался, скорчился в той тесной, черной пустоте, что осталась ему, когда танк навалился на окоп, и уже задыхался, но тут в лицо благодетельно хлынул свет, воздух, Алексей сразу вскочил, судорожным взмахом руки бросил бутылку назад, туда, в смрадный чад, что потянулся за машиной.
Оглохший, с отяжелевшим телом и головой, разламывающейся от боли, Алексей прислонился к стене, приходя в себя.
— Драпанули, выродки, бегут, смотрите!.. — подергивая плечами, чтобы стряхнуть с себя землю, поднялся и закричал Браточкин. Он обернулся назад, где над сползшим по откосу и невидимым отсюда немецким танком курились витки дыма. — Это ж вы его, товарищ политрук…
— А черт его знает! — с неподдельным, странным для самого себя равнодушием вырвалось у Осташко: он ли в самом деле попал брошенной бутылкой и остановил танк, или, скорее всего, подбили его укрытые в кустарнике артиллеристы — какая разница. Главное, получилось здорово!.. Здорово получилось, что вот он, Алексей, может видеть, как бегут по степи в свои окопы немцы, может видеть темнеющие в траве трупы фашистов и горящие танки, здорово получилось, что врагу ничего в этот день не удалось, а им — Борисову, Рокину, Запольскому, Петруне, ему, Осташко, — удалось! Три дня назад, когда в роте проходило партийное собрание, почти все, кто выступал, говорили об одном: устоять! Ни шагу назад! Биться насмерть! А в это, начавшееся с бомбежки утро ни один из таких возгласов не прозвучал. Но были, пусть не произнесенные, но где-то внутри бережно хранимые, эти высокие, важные для каждого думы.
Алексей проверил автомат — не засорился ли.
Защелкал затвором и Браточкин.
— Ат, дьявол побери, кажись, мой-то забился, — вскинул старшина виноватые глаза на Осташко и испуганно задержал взгляд.
— Товарищ политрук, вы же в крови. И гимнастерка, и руки… Ранены?
Алексей осмотрелся — на гимнастерке темнело пятно, в засохшей сукровице руки, вспомнил:
— Это Фомин.
И, вспомнив о Фомине, вспомнил тут же о принесенной Браточкиным вести, что погиб Чеусов, что есть в его взводе и другие потери, спохватился, заспешил туда.
Предпринятая немцами еще одна попытка сбить выступ, который оборонял батальон и на острие которого находилась вторая рота, стала последней в эту предосеннюю пору. В этот же день к вечеру небо затянуло тучами, заморосил тягучий, нудный, предвещающий долгое ненастье дождь. Только недавнее напряжение боя и разгоряченность им, пожалуй, примиряли с этой мокрой пеленой, опустившейся на землю, — она сперва казалась даже успокоительной, желанной.
Похоронили убитых. Чеусова, Фомина и Салтиева, красноармейца из первого взвода, погибшего в рукопашной схватке, когда немцы на правом фланге все же проникли в окопы роты. Хоронили на том же старом деревенском погосте. Проводить товарищей в последний путь смогли немногие — после понесенных потерь каждый человек на передовой был на счету.
Осташко и Запольский подняли пистолеты, прогремели выстрелы прощального салюта.
Вернулись в роту, когда уже стемнело. Алексей сел писать политдонесение. Борисов, пристроившись на нарах, пил чай. С какой-то яростью, будто продолжая переживать ход боя, откусывал сахар, так же яростно прихлебывал из жестяной кружки кипяток и нет-нет да и подсказывал, кого из красноармейцев следует назвать как отличившегося.
— Гайнурина не забудь, он своим ручным прижал лягушатников так, что они головы не подняли. Две огневых позиции сменил, шустрый.
Борисов прислушался к голосам у входа в землянку, позвал:
— Уремин, это ты скрипишь? Зайди. Вот тебе и еще один герой, выручил меня… Немец уже было замахнулся гранатой, а старик упредил его, снял своей трехлинейкой.
В землянку вошел Уремин, остановился в своей мокрой, побуревшей шинели и грязных сапогах у входа.
— Звали, товарищ капитан?
— Спасибо тебе, папаша, за сегодняшнее… Хочешь согреться? Садись почаюй, — с чапаевским радушием предложил Борисов.
…Донесение получалось длинным, Алексею хотелось написать и о тех, с кем он сам стоял рядом в этом бою, и о тех, о ком рассказали Борисов, Вдовин, командиры взводов. Мешал сосредоточиться и быть кратким голос вошедшего во вкус командирского чаепития Уремина:
— А вот вы мне скажите, товарищ капитан, отчего так получается? Только люди попалят из пушек и разного прочего орудия — и сразу польет с неба… Я это еще и в гражданскую примечал…
— И правильно льет… По календарю… Октябрь месяц…
— Октябрь-то октябрем, а все-таки до сего дня сушь держалась, а постреляли — и на́ тебе, занепогодило…
— По здешним местам ничего удивительного… А под Сталинградом, наверное, и сейчас жарит вовсю, хоть и бои посильней нашего…
— А по-моему, не в том дело…
— В чем же тогда?
— Природа гневается… Не любит она сотрясения, пороха…
— А ты его любишь? Что-то не нравится мне, Уремин, твой разговор. Сражался ты геройски, а рассуждаешь по-блаженному… Люди палят! Выходит, одно и то же — что немцы, что мы?..
— Это вы напрасно, товарищ капитан… Вот мне и в транспортной роте тоже так второпях ответили, а я до истины докопаться хочу.
— Ладно, не обижайся, у нас не транспортная, здесь докопаешься побыстрей…
Когда Уремин ушел, Борисов завалился спать, а Осташко предстояла еще самая тяжкая работа: написать письма семьям погибших.
На прошлой неделе он видел в штабе полка отпечатанные официальные извещения. На них оставалось заполнить только фамилию, имя, отчество и вписать, кем именно является погибший для адресата — Ваш сын… Ваш брат… Вага муж… — да еще указать место захоронения. Все остальное сказано, и сказано значительными, возвышенными, но по-типографски безличными, одинаковыми словами. Штабной писарь предложил бланки и Осташко, но Алексей тогда торопливо и суеверно от них отмахнулся. А вот сейчас потянуло написать именно эти, единственно верные, точно взвешенные на весах великой правды слова: «Погиб смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость Родины…» Так он напишет и в Наманган семье Салтиева, и матери Чеусова, и жене Фомина… И добавит, что эта потеря тяжела и для них, сослуживцев, товарищей, что будут мстить за пролитую кровь…
На нарах заворочался Борисов, и Алексею послышалось, что он вздохнул.
— Ты что не спишь?
— А ты?
— Видишь же, занят.
— Вижу и знаю чем… Поэтому и скажу тебе откровенно — ложился бы тоже, а с этим успеется…
— Ты что в самом деле? Да это же наш последний святой долг перед ними… «Успеется»! — вспыльчиво повторил Алексей. — От кого угодно, а от тебя, командира роты, никак не ждал.
Борисов долго молчал, было в этом молчании нечто похожее на оскорбленность. И вдруг он заговорил уже иным, жестким, даже явно неприязненным голосом.
— Может, я так и сказал потому, что командую ротой уже не первый месяц и видел побольше твоего… В деревнях и так воем воют от похоронок, а ты торопишься. Если б чем хорошим обрадовать, тогда и впрямь торопись, спеши, хоть и телеграмму посылай, а то, что сейчас делаешь, может и подождать… Я бы, откровенно говоря, завел другой порядок: пропал без вести — и точка. А вот, когда выгоним немцев, когда добьем их, тогда само собой прояснится, кто остался жив, кто нет. Зато вот она, победа! А что из того, если ты, допустим, напишешь моим в тот же Барнаул, что, мол, так и так, остался ваш Ромка под тремя березками у высотки сто десять…
— Да перестань ты об этом, Роман, на ночь глядя, — примирительно произнес Алексей. — Пусть не доведется никому и ничего подобного в твой Барнаул посылать… ни сейчас, ни после победы.
— А это уж не нам с тобой знать, товарищ политрук, — коротко заключил разговор Борисов и натянул на голову шинель.
7
…Хотя бы у него оказалось время мысленно разобраться во всем, что предшествовало этому черному дню, проследить, доискаться, узнать, где и когда именно он ошибся. Пусть не сможет сообщить об этом товарищам, повиниться перед ними в своем невольном промахе, но все-таки легче было бы помирать, если этот промах не такой уж тяжелый, допущен им не по легкомыслию, не по мальчишеской беспечности. И перед Варварой он тогда бы не испытывал терзающих укоров совести. Она ведь сама знала, на какую опасность идет, уговаривать ее не пришлось, и не он, не он по какой-либо своей неосторожности или прямо ротозейству привел в конце концов эту опасность к порогу ее хаты.
Избитый сразу же при аресте, Лембик, кинутый в подвальную черноту камеры, с самоосуждением думал о происшедшем сегодня…
А ведь год, ровно год, начиная с того дня, как по осенней степи отошла в сторону Дебальцево прикрывавшая отступление своей части цепь красноармейцев и Нагоровка оказалась под немцами, ровно год он был для них недосягаемым, неведомым, хотя и насолил вдоволь. Понятно, не сам, не в одиночку, помогали верные люди. Та стена на машзаводе, что на прошлогодние ноябрьские праздники припечатала к земле едва ли не половину комендантской команды вместе с ее духовым оркестром, стала только зачином, первым грозным предвестием. Прибавлялись и прибавлялись на кладбище кресты с торчащими над ними буро-зелеными каскадами… Прибавились и после того, как на перегоне между Динасовым заводом и Матвеевским разъездом подорвали эшелон, направлявшийся в Миллерово. И после того, как от взрывчатки, подброшенной в уголь, которым топили печь, взлетела караулка на химзаводе. И после пожара на товарной рампе, где, перебазируясь, выгружался один из армейских складов. Но что известно немцам о причастности его, Лембика, ко всему тому, что их здесь так допекало? Что им известно о нем самом? За этот год он так свыкся с личиной того человека, под именем которого жил, — дальнего родственника Варвары, — что не узнавал в зеркале самого себя. А что уж говорить о других!.. Даже Игнат, старик Осташко, кому полагалось бы за версту по походке и всем повадкам опознать друга, даже он попал впросак.
Когда этой весной Лембик пришел в Моспино и увидел Осташко, вскапывающего грядку, то не мог удержаться от шутливой проделки. Прикинулся случайным прохожим, попросил воды и, пригубив вынесенную кружку, несколько секунд лукаво смотрел поверх нее на отчужденно хмурившегося под этим взглядом машиниста. Потом неторопливо протянул ему кружку.
— Спасибо, Игнат.
Ну и рассердился же тот поначалу! Надо бы обрадоваться, а он рассердился.
— Нашел время спектакли устраивать, комедию ломать! Неужели только этому и научился во Дворце?
— Кое-чему и другому научен, Игнат, издавна научен. Поэтому и пришел. Старая память и тебя не должна подвести.
Но, прежде чем повести разговор о том, ради чего он пришел в Моспино и разыскал приятеля, Лембик еще раз внимательно осмотрелся в этом новом местожительстве Игната Кузьмича, осмотрелся и остался доволен. Крытый толем старый приземистый домик стоял в ряду других, таких же ничем не примечательных, еще дореволюционной застройки шахтерских жилищ. Во дворе погреб, сараюшки, позади огород, обмежеванный низенькой каменной кладкой и колючим шиповником, за ними степь, глухие балки. Лучшей явочной квартиры на запас и не найти. Можно подойти к ней и улицей и задворками.
Расспросил он и о проживающих вместе с Осташко родичах. Игнат Кузьмич, понимая, что все эти расспросы с серьезной подоплекой, поведал все, как оно было. Сваха сейчас не здесь, ушла к другой, старшей дочери. Тут остался он с Танюшкой и внучкой. Не скрыл Осташко от друга и того, что произошло ночью на Первомайской, когда постучались итальянцы. Лембик насторожился.
— Неужто бросила в печку?
— Да, успел выхватить… Потом каялась, плакала…
— И как она сейчас?
— Худого ничего не скажу. Да и не болтливая, Василий ее насчет этого приучил, когда она с ним по аэродромам кочевала.
— Это главное. А за то, что случилось, может, простим, а? Паниковала тогда не она одна.
Договорившись и условившись обо всем, что было необходимо, затем сидели далеко за полночь.
Оба были из одного, не поддающегося никаким изломам кремня, того кремня, твердость и стойкость которого уже много раз всячески испытывались этим трудным и зоревым веком, и потому они искали в беседе друг с другом не облегчения от каких-то своих сомнений, а хотели услышать, что думает приятель о длине тех дорог, которыми придется идти народу к победе.
— Выстоять бы! Пока Урал да Сибирь поднимутся, — говорил Лембик, — чтоб против ихней стали — нашей побольше! Самолетов, танков!.. А до той поры круто будет, мало чего хорошего ждать… До той поры каждый кто чем, а помогай, тянись…
— А что же тогда на мою долю ты так скупо отмерил, вроде бы вахтером сделал, привратником?
— И это надо, Игнат.
— А сам?
— Я другое дело. После Халхин-Гола я один со старухой остался. А Осташки воюют — и Алексей, и Василий… Так что тебе на меня или мне на тебя не равняться.
— Ишь, сразу видать завхоза, расписал как по смете. Кому сколько положено, и ни на грош больше, — не удовлетворился этим объяснением Игнат Кузьмич. Провожая друга обратно в Нагоровку, задержал его руку в своей и с пасмурной озабоченностью напутствовал:
— А все ж, Захар, лихость свою поубавь, будь поосторожней…
И сейчас, вспоминая этот домик в Моспино и то, как надежно он эту весну и лето служил своему предназначению, Лембик приходил к выводу, что не оттуда пришла опасность, не из Моспино привела гитлеровцев в хату Варвары нить поисков. А откуда же в таком случае? Пожалуй, не надо было вчера идти на рынок. Но не из пустого же любопытства он туда направился. Все сложилось так, что иначе он поступить не мог. Не позволила бы совесть. Он видел, как на его глазах таяла Варвара и в последние дни совсем не поднималась с кровати. Ничего не просила, но он-то и сам знал, что картошка, которую он ей варил, не еда для больной. Решился пойти на рынок. Выбрал для этого как будто подходящее время — вторую половину дня, шапочный разбор, когда облавы можно было не бояться. Но, наверное, стоило подумать о другой опасности: чем меньше людей, тем приметнее каждый. Рынок, или, как теперь его называли, толчок, находился уже не в центре города, а за тупиковым трамвайным кольцом, в степи, и на каждом шагу напоминал о лихолетье. Кто обменивал на коробок спичек горсть проса, кто предлагал неведомо где раздобытый сахарин, кто расхваливал добела оскобленные говяжьи окостки. Много на руках было поношенной мужской одежды — ее продавали жены шахтеров. Лембик уже думал, что на принесенный им суконный, допотопного покроя казакин, который когда-то сберегался в реквизиторской Дворца для драмкружковцев, ставивших пьесу Квитки-Основьяненко «Шельменко-денщик», покупатель так и не найдется. Сам Лембик взял его прошлой осенью из кладовой в дальнем расчете, что он может в будущем пригодиться, но вот и на толчке нет на него охотников. И вдруг подвернулся какой-то крепкого склада краснолицый старичина и, повертев в руках казакин, неожиданно возликовал:
— Эхма, а ведь когда-то ж я такой носил!..
Расплатился довольно щедро. Лембик купил на вырученные деньги бутылку козьего молока, приторговался и купил требуху для супа и уже собирался уходить — и вот тут-то эта нежеланная, неприятная встреча… Хотя назвать это встречей и нельзя. Просто почувствовал на себе чей-то взгляд, обернулся и за головами толпившихся людей увидел нагловатое лицо, неприязненно сощуренные, как будто что-то припоминавшие глаза. Припомнил и сам… Отвал террикона, занесенную снегом тропинку, на которой они когда-то разминулись. Серебрянский!.. Стараясь не выдать себя какой-либо поспешностью, Лембик неторопливо пошел вдоль торгового ряда. Неужели его узнали? Не должно бы! Почти год минул после той встречи, а за это время отпустил усищи и бороду такие, что впору и детишек пугать, состарился не на год, а на десяток лет, не меньше. А уж по одежде и вовсе ничем не отличим от других, кто мыкался на толчке. «Разминулись, разминулись и сейчас», — успокаивал он себя, возвращаясь на Резервуар, и все же, проходя завечеревшим парком, изредка останавливался за деревьями, прислушивался, не зашуршат ли позади по опавшей листве чьи-либо шаги, не мелькнет ли чья-либо тень.
Разминулся ли?..
Этой же ночью его взяли. Перед тем как увезти, перетряхнули всю хату, заставили подняться с постели метавшуюся в горячке Варвару, но найти ничего не смогли. Лембика посадили меж двумя солдатами в кузове машины. Он знал, куда его везут… В такие знакомые ему стены, где теперь хозяйничало гестапо.
Его заперли в подвале, что примыкал к кочегарке. Крохотное, забранное решеткой оконце находилось невысоко от пола, и при желании можно было бы к нему подтянуться, выглянуть, но он знал, что все равно ничего там не увидит. Сразу же, как только гитлеровцы разместились в здании, они обнесли его высоким забором, протянули поверх него колючку. Лучше уж сберегай силы, перебирай в памяти день за днем, угадывай, где и в чем ты ошибся, допустил промах, и готовься, готовься к тому, чтобы не проговориться, стерпеть все, на что изощрится враг.
Вызвали на допрос вечером второго дня.
Подталкивая прикладами карабинов, солдаты провели Лембика по коридору первого этажа, затем по лестнице на второй, в то крыло здания, где раньше была Большая гостиная. Как ни болело избитое тело, однако, вопреки этой обессиливающей боли, ожило, шевельнулось в сознании нечто подобное любопытству. Как же она теперь выглядит, эта комната, которая ему, Лембику, стоила в свое время стольких хлопот?
Где-то в начале тридцатых годов, когда шахта преодолела угольный прорыв и стала из месяца в месяц выполнять план, приехавший в Нагоровку Орджоникидзе щедро премировал ее.
— Да только не вздумайте эти деньги пропить, — шутливо предупредил он. — Я вас, донбассцев, знаю, устроите дым коромыслом, а потом с похмелья опять влезете в прорыв? Нельзя. Даем деньги для Дворца культуры. Был я там. Бедновато еще внутри. Купите хорошую мебель. Княжескую! Шахтеры заслужили!
И Лембик метнулся в Москву. Несколько дней этаким разбогатевшим фертом обхаживал комиссионные магазины Арбата, Таганки, Сретенки, прицениваясь к выставленной мебели. Наконец он нашел то, что хотел. Правда, купленная мебель оказалась разностильной и некомплектной, но породы дерева были воистину княжескими — карельская береза, палисандр, пальма, самшит. Да и обивка, одна обивка чего стоила! Парча, атлас, плюш, бархат! И хотя все это давно, пожалуй, еще до Октября, пообтерлось, все равно шахтеры поначалу робели присаживаться на затейливые, вычурные кресла, шезлонги, кушетки. Но со временем освоились и какие семейные вечера, какие чаепития закатывали в гостиной!
Вот сюда, в эту комнату, куда Лембик привык входить гостеприимным, радушным хозяином, его сейчас и втолкнули прикладами. Заплывшие от кровоподтеков глаза не могли сразу рассмотреть, что изменилось в комнате, к тому же люстра в ней не горела, свет рассеивала только настольная зеленая лампа, перенесенная сюда, очевидно, из комнаты правления.
По ту сторону стола, отодвинувшись в полутемный угол — там сверкнуло пенсне, серебряный лацкан воротника, — сидел тот, с кем Лембику предстояло вступить в неравный поединок. У стены жался высокий старик — черный длиннополый пиджак, пальцы костлявых рук засунуты в кармашки жилета. «Переводчик», — догадался Лембик. Сухой и жесткий голос из угла лязгнул, как затвор винтовки. Старик, не поднимая глаз на приведенного, перевел:
— Обер-лейтенант предлагает… приказывает вам назвать себя… Ваша настоящая фамилия?
Надо было стоять на своем. До конца. Надо упрямо утверждать прежнее. Приехал из Воронежской области, чтоб забрать к себе в деревню приболевшую двоюродную сестру, и не успел уехать, застигнутый приблизившимся фронтом. А Варвара, если она еще жива, скажет то же самое, в ней был уверен, как в самом себе.
И снова из затененного угла залязгал затвор.
— Вас в последний раз предупреждают, что вы напрасно отпираетесь и пожалеете об этом. Нужна правда. Здесь могут заставить говорить даже табуретку.
Голос переводчика, в отличие от того, который раздавался из угла, был монотонным, равнодушным, лишенным какой-либо неприязни, и казалось, что старик, механически произнося эти слова, отстраняется от их зловещего смысла.
Лембик покачал головой.
— Как оно есть, так и есть. Что ж лишнее на себя брать? Выходит, и у вас здесь ошибаются! А я добавлять ничего не стану.
Из темноты на середину стола протянулась рука, что-то нажала. И тогда открылась дверь, и вошел Серебрянский, вошел, как входит тот, кто чувствует себя здесь своим, знает, для чего его позвали, и ждал этого вызова.
— Что ж ты, Захар Иванович, и сейчас будешь ваньку валять и маскарад устраивать?
Лембик молча смотрел в самодовольно ухмыляющееся отечное лицо Серебрянского. Значит, выследил именно он, и теперь крышка. Вот же как может изголиться, испоганиться человек. Ничего святого не оказалось, все пустил враспыл и еще ухмыляется, выставляет напоказ, тешится своей подлостью.
— Ну-ну, Захар Иванович, хватит нас разыгрывать. Я ведь тебя давненько приметил… Еще тогда на терриконе подумал, что не напрасно ты отвернулся от меня и заспешил. Мог ведь тоже прошлой осенью в бега податься, а остался. Выходит, не зря… Многое, многое, что здесь в Нагоровке творилось, твоих рук дело… Это уж факт… Давай признавайся, слышь, старая перечница? Ишь, оброс как! Все ж интересно, она у тебя настоящая?
Серебрянский подошел и рванул Лембика за бороду. И, чувствуя, что ему уже терять нечего, Захар Иванович с ненавистью плюнул в это отвратно белевшее перед ним лицо. Серебрянский отшатнулся.
— Вот это ты напрасно… Однако не гордые, утремся… Что твой плевок? Водичка…
— Дождешься, гадюка, и свинцового, — глухо кинул Лембик.
— Насчет меня — неизвестно, бабушка надвое сказала, а вот тебе она бы наворожила это наверняка.
Гестаповец вскочил, ударил ладонью по столу.
— Sprechen! Sofort! Alles sprechen!..[2]
Не прислушиваясь, пропуская мимо ушей голос переводчика, сам зная, что от него требовали, Лембик впервые за эти дни усмехнулся.
— Напрасно стараешься, фашистская харя… Пуганый я уже… Видел таких, как ты…
Без переводчика понял его и гестаповец, что-то закричал, обращаясь уже к тем, кто стоял позади Лембика.
Его поволокли. Под обрушившимися ударами он сцепил зубы, заранее изготавливаясь к тому страшному, что предстояло испытать в этот зыбкий, заколебавшийся, как пламя свечного огарка, остаток жизни.
О судьбе Лембика Игнат Кузьмич узнал лишь спустя две недели. Все это время он напрасно поджидал условленного стука в окошко. Прежде связные приходили часто — оставляли «почту», за ней приходили другие, знакомые и незнакомые. А теперь про этот окраинный домик словно совсем забыли. Но однажды вьюжной декабрьской ночью наконец-то Игнат Кузьмич расслышал сквозь дремоту долгожданный, осторожный стук по раме. Он вскочил.
— Кто там?
— Папаша, где дорога на шахту номер семь?
Игнат Кузьмич торопливо открыл дверь и увидел Саньку. Как ни обрадовался своему давнему помощнику, однако вначале подумал, что он сюда, в Моспино, попал случайно. О том, что и Санька причастен был к общему делу, Осташко не знал.
— Ты как, постреленок, меня нашел?
Санька устало опустился на табурет.
— Вам привет от Седого.
Он произнес эту вторую половину пароля, и Игнат Кузьмич уже было возликовал, когда вдруг увидел покатившиеся по лицу парнишки слезы.
— Ты что же это плачешь? — оторопел Осташко. — Такую славную весть принес и на тебе — разрюмился.
— Нету больше его… Захара Ивановича… Повесили…
Он стал рассказывать о том, что произошло в Нагоровке. Лембика казнили на третий день после ареста, видимо убедившись, что никакими пытками не вынудить его дать нужные им сведения. Не назвал никого, не оставил гестаповцам ни единой нитки, которая могла бы привести в разыскиваемое партизанское подполье…
— А его… Кто же его выдал, известно? — горестно спросил Осташко.
— Серебрянский Федька… Не жить ему, гаду…
Санька поднял внезапно сосредоточившиеся, посуровевшие глаза, спохватился.
— Игнат Кузьмич, я должен уходить. Вот, оставляю вам… Придут — передадите.
Он размотал длинный кушак, которым подпоясывался, вынул из его складок записку.
— Прощевайте.
Когда Санька тенью скользнул за угол дома, Игнат Кузьмич еще долго стоял во дворе, всматриваясь сквозь застуженную ночь вдаль, туда, где была Нагоровка…
8
Над Ловатью мело. То ли тучи волочились в несколько ярусов и каждый нес свою особую ношу, то ли ветер под ними менялся, становился теплей, но снег падал по-разному и разный. Вначале косо полетела игольчатая, прямо-таки бронебойной силы крупка, колко секанула лицо, шею, зашелестела о плащ-палатку. Если это надолго, то плохо придется в окопах. Никуда не укроешься от проклятущей стужи — найдет, обожжет в любой норе.
А вслед за крупкой повалил уже другой снег — хлопьями, мягкий, пахнувший оттепелью, и хотя его тоже вертело, кружило, метало и он залепливал глаза, таял на ресницах, на лбу, на губах, все же сердцу стало легче. Сейчас даже не верилось, что он, Алексей, когда-то любил вот такие бесноватые вьюги, такие белые вихрящиеся пучины, что перехватывали дыхание и заставляли пылать, будто иссеченную крапивой, кожу лица. Там, в Донбассе, на его голых, приподнятых кряжем плоскогорьях метели бывали, пожалуй, даже посвирепей, чем здесь, где ветру не дают разгуляться леса. Но все равно нравилось налегке, в одной куртке, лихачески пробежать от дома до рудничных ворот, нравилось поежиться, озорно покряхтеть под размашистыми ударами бурана, потопать ногами в ожидании клети на ледяном сквозняке, прохватывающем надшахтное здание, а спустя несколько минут с блаженством почувствовать тепло штреков. И покажется самому себе, что ты перехитрил какую-то пляшущую наверху, распустившую свои белые космы ведьму — пусть подвывает и злится, уже не добраться ей до тебя сквозь надежно греющую стометровую шубу земли. А потом так же любил с пурги, с крепнущего мороза, стряхивая с себя снег, вскочить в вестибюль хорошо натопленного Дворца…
А вот эту метель, что несется поймой Ловати, как по гигантской трубе, раскачивает стонущие сосны, заметает лежневки, наваливает сугробы перед окопами, не перехитришь, жди от нее любой беды. Давно перешли на зимнюю смазку оружия, но, очевидно, тыловая служба плохо обезводила смеси, было уже несколько случаев, когда отказали автоматы. В секрете прошлой ночью обморозился красноармеец Алимбаев. В первом взводе тоже неприятность: намерзлись за день, завалились спать, а дежурить у печки никого не оставили и едва не угорели. Из-за пурги перебои с хлебом — несколько дней жили на сухарях НЗ.
Алексей шел в обход по окопам. Остановился около стоявшего у бойницы Сафонова. Еще издали залюбовался им. Витязь! Добротный, поддетый под шинель ватник сделал плечи еще шире. Тронутая инеем пушистая ушанка. Валенки. Интендантская служба не подвела, одела людей вовремя.
— Как одежка, Сафонов, хорошо греет?
Красноармеец обернулся. Ресницы тоже в инее, но лицо румяное.
— Не жалуюсь, товарищ политрук. Да ведь у нас в Марийской случаются морозы и похлеще.
— Давно стоите?
— После обеда заступил.
— Что-то много получается! А кто подменяет?
— Алимбаев. Да я ему сказал, пусть обогреется. Меня пока не поджимает.
За оттянутым назад уступом окопа из обогревалки доносился говор. Алексей открыл дверь, лицо обдало всклубившимся паром, табачным дымом, теплом. Сняв шинели и сапоги, красноармейцы сидели у вырытого в земле углубления, в котором рдели уголья. Алексей от души гордился этой своей придумкой. В таких обогревалках — а они теперь в каждом взводе — можно было разводить огонь в любое время дня, не боясь, что немцы пристреляются по дымку и накроют землянку снарядом. Он подал такую идею, вспомнив сандал, который ему пришлось видеть однажды в чайхане на Луначарской, а осуществили ее Вдовин — нажег отличного березового уголья — и Джапанов, устроив все остальное. Правда, Костенецкий вначале встретил эту инициативу с сомнением.
— Комфорт?! Учтите, Осташко, что удобства блиндажа на войне дело относительное. С одной стороны, он сохраняет нам силы, поддерживает в норме наше физическое самочувствие, а с другой — он должен быть таким, чтобы мы его покидали без всякого сожаления.
— Если бы такую теорию кто-либо попробовал развить в сорок первом, когда отступали… — не выдержал и довольно ядовито заметил Алексей. Костенецкий нахмурился.
— Мне, к сожалению, тогда воевать не пришлось, да, кстати, и вам тоже. Так что давайте психологически приучаться к наступательным боям.
Но и Костенецкий после того, как дивизионная газета похвалила роту за обогревалки, стал ее ставить в пример другим, и они прижились во всем батальоне.
Красноармейцы потеснились, уступая Осташко место у жаровни.
— Порадуйте чем-нибудь хорошим, товарищ политрук, есть оно или нет?
— Ишь, какой ловкий на хорошее! Что ж, по-твоему, иначе и заходить к нам, на солдатские посиделки, не стоит? Пристраивайтесь сюда, поближе к огоньку, товарищ политрук.
Алексея все еще звали по-прежнему — политруком, хотя уже присвоили и новое должностное звание — замполит!
— Говорят, что вы ребятам во втором взводе «Землянку» пели? Вот бы и нам послушать.
— У вас же и у самих певцы, — кивнул Осташко на Петруню.
— Он сейчас голосистый только у котла, когда на добавку потянет. Да и слов не знает.
— Ну, а я сегодня вас порадую другим… Лучше всякой песни, — проговорил Алексей и намеренно сделал паузу, повел взглядом по лицам отдыхавших. Тут сидели, наслаждались благами обогревалки Уремин, Рокин, встал из угла и придвинулся поближе Алимбаев, вскинул на Осташко загоревшиеся глаза Петруня.
— Дали немцам по зубам под Владикавказом… Тринадцать дивизий — тю-тю — Гитлер недосчитается! — Алексей стал пересказывать переданное утром сообщение Совинформбюро о закончившихся многодневных боях у подножия Кавказского хребта.
— Вот это Берлину зимний подарок.
— Какая там зима на Кавказе?! Наверное, еще в трусиках драпали.
— Последний час! Побольше б таких, глядь бы — и последний день, одним словом, каюк подошел.
— Ну, до этого далеко…
— А что под Сталинградом, товарищ политрук?
— Там бои, бои… Ничего нового пока не сообщили… Держится, стоит Сталинград… — ответил Алексей и прислушался к раздававшемуся за дверью знакомому голосу:
— Где политрук, не видели?
— Вдовин, это ты? Здесь я, заходи.
Торопливо вошедший Вдовин был чем-то ошарашен.
— Товарищ политрук, их… ихтиозавра откопали… дракона… — с порога выпалил он, смеясь глазами.
— Что сказки выдумываешь, Вдовин? Какого дракона?
— Ей-право! Там, где приказано новый ходок копать, начали лопатить и наткнулись. Прямо-таки чудовище. Может, посмотрите? Очень уж занятно.
Алексей вышел из обогревалки, увидел промелькнувший впереди оранжевый полушубок Борисова; тому сообщил о находке старшина.
Новую траншею стали рыть по приказу из штаба полка недавно, располагалась она под прямым углом к общей линии окопов, тянулась в сторону немцев. Копали ее, соблюдая секретность, по ночам, но теперь, когда углубились, работали и днем. Два отделения попеременно долбили кирками и лопатами зачугуневшую землю. Сейчас красноармейцы сгрудились посередине траншеи и что-то разглядывали.
— Собрались? Забыли, что приказывал? Ждете, чтоб миной накрыло? — прикрикнул Борисов. — А ну, марш по местам.
Красноармейцы отступили, затеснились в нишах, но не уходили. Всем было интересно услышать, что скажут офицеры.
На дне ямы, ничем по виду не отличаясь от серой илистой глины, лежали странные, действительно диковинные кости. Решетка огромных, уменьшающихся к хвосту пластинчатых ребер. Располовиненный, плоский и удлиненный по форме череп с огромным провалом глазниц. Не дракон, конечно, и не ихтиозавр, и не ящер, но и не похоже на останки какой-либо знакомой живности.
— По-моему, рыба, — присел на корточки и высказал свое предположение Осташко.
— И я сразу сказал, что рыба, — подхватил Гайнурин. — А ребята на смех подняли, не бывает, мол, здесь таких.
— А вот когда-то бывали… тысячи лет назад…
— Эх, сейчас такая бы попалась, на всю роту ухи хватило бы.
— Пожалуй, не только роте.
Алексей с любопытством прикидывал на глаз исполинские размеры костей.
— Что будем делать с ней, товарищ капитан? — спросил Браточкин у командира роты.
— Что делать? Воевать надо, старшина. Копайте ходок. Чтоб к утру закончили. Да, как предупреждал, поосторожней и землю относите подальше, на обратный скат, чтоб здесь наверху никакого следа не было. Понятно?
Но, уходя, Борисов все же с заинтересованностью ткнул носком сапога костяную голову, распорядился:
— А эту башку принесите на КП, в блиндаж, пусть пока полежит.
На западе над вороньим крылом леса морозно багровел закат, был этот багрянец какого-то хмурого оттенка, вернее, множества оттенков — густо-свекольного отстоя понизу, повыше темно-палевый, а еще выше сливались с тучами павлиньи, зеленоватые и желтые, отсветы. Посматривая на эту разгоревшуюся вполнеба игру застуженных красок, невольно любуясь ею, Борисов и Алексей возвращались к себе в землянку.
— Торопят нас с этой траншеей, — сказал Борисов. — Приказали, чтоб быстрей закончить… В разведку с нашего участка пойдут.
— Не думаю, чтобы только ради разведки.
— Нет, конечно, да и соседи тоже копают.
— Видишь, значит, обмозговывают что-то посерьезней.
— Да для начала и высотку прихватить было бы неплохо. Своими силами тут не обойтись. По меньшей мере батальон, а то и два нужно. Так что прощайся со своими обогревалками.
— Это без всякой печали, там, у немцев, они не хуже, попользуемся…
— Рассчитываешь на центральное отопление?
— Можно погреться и без него. Так, как под Владикавказом.
— Это и я бы не прочь.
Вечером следующего дня и в самом деле на участок роты пришла группа ночного поиска из дивизионной разведки. Все в белых, еще без единого пятнышка маскхалатах, с заносчивыми, самоуверенными повадками. Только в ротном блиндаже командир группы — младший лейтенант — сбавил спесь. Знакомясь со схемой полосы обороны, вежливенько допытывался где что, попросил в случае нужды прикрыть их отход, условился о сигналах. Расспрашивал он дотошно, смышлено, видимо, первое офицерское звание получил на фронтовых курсах, перед этим побывав уже не в одном переплете. Волосы стрижены по-солдатски, а усики над широкогубым ртом уже отрастил и, хоть подкручивать пока было нечего, все тянулся к ним крепкими, короткими пальцами. Щелкнул ногтем по приспособленной под пепельницу рыбьей голове, колупнул окаменевший глаз, который загадочно и вопрошающе глянул на него из невообразимо далеких, занесенных илом и песками тысячелетий: «Кто вы такие?»
— Ишь, штучка!.. — но расспрашивать не стал, заспешил.
Шел третий час ночи. Разведчики вылезли из окопов, осторожно поползли на ту сторону. А там, за белевшим бруствером, была все та же тьма-тьмущая, словно выпавший снег припорошил только нашу оборону, а немецкую обминул, не тронул. И ветер тянул из этого мрака ледяной, разгонистый — начал свой разбег еще где-то в Прибалтике, воровски прошмыгнул оголенными лесами Псковщины, убыстрил его на скользких льдах Ловати. Но то, что он бил в лицо, это тоже хорошо было для поиска…
Несколько раз звонили из штаба полка, осведомлялись о разведчиках.
— И чего тормошат? Сами же услышат, когда до этого дойдет, — ворчал Борисов, опуская трубку.
Он и Алексей поочередно дежурили на левом фланге роты. Там приготовилось открыть огонь отделение Вдовина, бодрствовали и расчеты двух «дегтяревых». Чтобы взбодриться, не замерзнуть, потопывали валенками.
Первые гранаты разорвались глухо, будто под пуховой периной. Потом наперегонки зачастили пистолетные выстрелы, дробно рассыпались очереди автоматов, послышались крики. Взлетела ракета, но не там, где потревожило ночь схваткой, — там еще не пришли в себя, — а далеко в стороне, за недавним бродом. Наверное, и сейчас, когда река стала, гитлеровцы продолжали вести наблюдение за этим участком. Свет выхватил белую, застеленную сверкающей парчой поляну снега, и, стараясь не замечать этого слепящего сверкания, Алексей смотрел в другую сторону, правее, туда, откуда должна была возвращаться поисковая группа. Если удача, если все получилось так, как было расписано…
— Погоди, рано еще, — крикнул Алексей, услышав, как рядом в нетерпении щелкнул затворной рамой Гайнурин.
Бесприцельная стрельба вспышками перекидывалась от траншеи к траншее и теперь велась немцами вдоль всего берега. Алексей встревожился. Попробуй-ка услышать сигнал, о котором договаривались. А без него не помочь ничем. Без него, что б там ни случилось, пятерым не на кого положиться, кроме как на самих себя — на свою изворотливость, нахрапистость, бесстрашие. Широкогубый, поднимаясь из-за столика со схемой, так и сказал: «Ладно, возьмем нахальством». И вот донесся свист, хлесткий, заливистый.
— А теперь давайте-ка! Огонь! — скомандовал Алексей.
Цветистые трассы отсечного огня наискосок устремились в черноту, в неизвестность ночи — ровные, оберегающие своих строчки, только на далеком излете никнувшие к земле. Алексей скинул варежку и стрелял из автомата короткими очередями. Тоже, понятно, вслепую, не целясь — куда бы в этаком кромешном мраке? — лишь бы не выпустить гитлеровцев из траншей, чтоб не кинулись наперехват, вдогонку. Если опять-таки удачлив губастый и его ребята…
Блеклые, расплывчатые халаты отходивших обозначились лишь за три шага до окопов. Среди этих неясных силуэтов заметно выделялась, темнела взваленная на плечи одного из них ноша. Сбросили ее на дно окопа, тяжело скатились вниз сами.
Послышался голос Борисова:
— Все целы?
— Мы-то целы, а вот он — черт его знает… Гришин, выйми кляп, пусть встает. Не церемонься, пошевели прикладом… Извозчиков больше нет!
Немец оказался жиденьким, хлипким обер-лейтенантом, и такое звание, при его невзрачном писарском виде, вообще-то было странным.
И разведчики, присевшие на нары, и Осташко с Борисовым, и двое красноармейцев, стоявших у полуотворенной двери, рассматривали пленного, как в цыганском таборе рассматривают удачно или неудачно приторгованного на ярмарке коня.
А пленный, чуть отогревшись в жарко натопленной землянке, начал икать.
— Налейте ему стопку, товарищ капитан, — попросил разведчик, — мне ж его еще три километра вести, а видите, как его лихоманка бьет.
Борисов без особой охоты, но все же достал флягу, плеснул в кружку.
— Ну! — приказал разведчик. Немец испуганно смотрел на кружку, потом, будто отчаявшись, схватил ее, закинул голову, обнажив под воротником белый хрящеватый кадык, послушно выпил. Младший лейтенант поднялся, стал проверять его карманы. Вытащил и переложил к себе его документы, письма, раскрыл найденную пачку сигарет, угостил всех, не обнес и самого хозяина.
Полевой устав предписывал краткий допрос пленных производить немедленно после их захвата — мало ли что может случиться по пути в тыл. Но никто в роте не знал немецкого. Между тем водка и сигарета в руках, казалось, возвращали немца из этой страшной для него ночи к какому-то, пусть и необычному, но все-таки сносному существованию или видимости такого существования. И не желая нарушать ее, он потянулся рукой к стоявшей на столе пепельнице, привычным, домашним жестом сбросил с сигареты серый нагоревший столбик. И вдруг начавшие соловеть глаза изумленно расширились. Не отводя их от пепельницы, о чем-то быстро затараторил, вскочил, всплеснул руками.
— Что это за вожжа ему под хвост попала? — сонно поинтересовался Борисов.
— А попробуй-ка с ним по-французски, — вспомнив, что рассказывал Борисов о своих довоенных увлечениях, предложил Осташко.
— Ты думаешь, я и в самом деле силен? — усмехнулся Борисов, однако попробовал и с заминками заговорил с пленным.
Тот обрадованно закивал, залопотал еще быстрей, осторожно взял пепельницу в руки, рассматривал и продолжал что-то объяснять.
— Смотри какой речистый! О чем это он? — вопрошающе посмотрел младший лейтенант на командира роты.
— Говорит, что это редкая находка. Какая-то панцирная рыба, жившая в палеозойскую эру. Триста миллионов лет назад. Был тогда верхнедевонский период, в эти кости оттуда… В общем, восхищается. Такая, мол, голова украсила бы музей любой столицы мира. Нужна тебе эта лекция? Может, соберем роту да послушаем? А, политрук?
Хмурой шутке Борисова заулыбались все разведчики.
— Сейчас он насыплет три короба, а когда схватили, зубами, сволота, огрызался, руку чуть не прокусил.
— Все они токари-пекари, когда автомат на них наставишь.
— Там, в штабе, его другую лекцию заставят прочесть.
— А ну потише! — одернул разведчиков Осташко. Как-никак, а все же допрос мог получиться. — Он что же, выходит, ученый?
— Палеонтолог, якобы занимался ископаемыми… Если не врет..
— Может, и не врет. Только на палеонтолога его папа и мама выучили, а ты спроси, чем его Гитлер сделал. В какой части? Кем служит?
Немец на вопросы Борисова сокрушенно развел руками, отвечал сбивчиво.
— Он у Тодта, — перевел Борисов, — это их организация, что ведет на фронте инженерные работы. Приехал инспектировать оборонительные сооружения. Видишь, какой палеонтолог!.. Сейчас мы с ним потолкуем.
Он вырвал из тетради и пододвинул обер-лейтенанту лист бумаги, карандаш, стал уточнять расположение немецких позиций. Тот безотказно начал набрасывать чертеж.
Потом Борисов заговорил о чем-то другом.
Лицо его стало наливаться кровью, резче забагровел шрам. Он чуть ли не вплотную подступил к немцу, голод зазвучал зло, с несдерживаемой ненавистью. Пленный схватился руками за голову, страдальчески раскачивал ею, односложно повторяя уже по-немецки, про себя:
— Я! Я! Я!
— Ладно, ведите его, ребята, — помолчав с минуту, приказал Борисов. — Молодцы… Повезло вам. Фрукт попался как раз тот, что нужно.
После дерзкой вылазки поисковой группы гитлеровцы все еще не могли прийти в себя. Все еще буравили темень ракеты, матовые, с мохнатыми фестонами лу́ны таяли в промерзшем воздухе медленно, но, догорев, выключались резко, и тогда еще глубже становилась ночь над древней землей, древними, исхлестанными железом лесами. Алексей, проводив разведчиков, не спешил в землянку, спать уже не хотелось. Закурил и на какие-то минуты, в одиночестве стоя у бруствера, будто отстранился от этой бессонной, взбудораженной ночи. В такие предутренние часы, если приходилось бодрствовать, всегда думалось ясно. Вспоминалась Валя. И те три письма, которые он одно за другим получил от нее в эти последние дни. Вначале он даже предположил, что почта задержалась с доставкой и она писала с другими, куда большими промежутками, но внимательней сопоставил даты… Нет, вслед за первым второе, вдогонку третье… И все сумбурные, и она, эта сумбурность, была по-своему мила — так ведь и пишут, когда хочется сказать о многом, когда теснятся мысли и чувства и лист бумаги кажется бессильным, неспособным передать все, что чувствуешь. Но, может быть, эта сумбурность и бессвязность еще и оттого, что письма посылались перед отъездом? Валя возвращалась со своим «Гипрогором» в Москву. И Алексей подумал об этом тревожно, ревниво… А что, если там, в Москве, среди подруг, друзей и давних знакомых, отдалится, забудется то, что было в Ташкенте? А было ведь так немного… Скупые, короткие встречи, его поцелуй, на который она не ответила, прощание на вокзале, ее поцелуй. И уж подавно ни к чему ее не обязывает тот аттестат, что он выслал. Не в нем дело. И надо просто верить, верить этим сумбурным письмам, верить ее искренности, ее стремлению, понять, почему он стал для нее дорогим, верить ее признаниям.
Когда Алексей вернулся в землянку, Борисов чистил пистолет и, судя по всему, спать уже не собирался. Пичугин взял котелки и пошел на кухню за завтраком.
— Что там, успокоились господа ученые? — поинтересовался Борисов.
— Попритихли.
— А ты у меня, политрук, так и не спросил, что я этому палеонтологу напоследок сказал?
— Догадываюсь, что пронял его, а чем — не знаю…
— А сказал я ему, что вот так же, как эта рыбья голова, — Борисов постучал рукояткой пистолета по пепельнице, — точно так же и их кости бесславно лягут в нашу землю, в наши русские реки… Напластуются поверх них пески, глина… станут потомки натыкаться лопатами или другой техникой на их черепа, оловянные пуговицы да поясные пряжки и будут дивиться, каким черным ветром занесло сюда это прожорливое зверье…
Зазуммерил телефон, Борисов поднял трубку.
— Ты, Аня? Вот уж не ждал в такую рань… — И вдруг его, только что неуступчивое, воинственно-свирепое, лицо расцвело в улыбке.
9
Вероятно, именно этот пленный, захваченный в полосе роты, предрешил и ее близкую задачу и задачу всего батальона. В наступившие дни сюда, в окопы, зачастили и гости из штаба полка, и артиллерийские разведчики. Еще раз уточнялось очертание вражеских оборонительных линий, изучалась система огня. По времени это незаметное и тщательно скрываемое от противника оживление совпало с радостно ошеломившими всех вестями об успешном наступлении советских войск в районе Сталинграда. И в белых остервенелых вьюгах, а они по-прежнему не унимались здесь, на Ловати, чудились такие же вьюги, что бесновались где-то далеко за тысячи километров — у незнакомого Калача, у Вертячьего, у Кривомузгинской — и переметали дороги застигнутым врасплох немцам, схватывали ледяной судорогой моторы и колеса их машин, засыпали сугробами трупы в серо-зеленых шинелях. А вскоре добавился и новый удар — восточней Великих Лук и у Ржева. Это было уже совсем близко. Должно быть, вот-вот подойдет и их черед…
…Борисов вернулся из штаба батальона и созвал командиров взводов. Они вошли в землянку и, с порога увидев расстеленную на столике карту, а рядом с Борисовым чернявого артиллериста, что в эти дни уже примелькался в окопах всем, сразу догадались, что пробил и их час.
— Это что же, товарищ капитан, разведка боем? — спросил Запольский, когда Борисов коротко рассказал о поставленной задаче.
— Слушать надо внимательней, Запольский. Разведать разведали уже и без нас. Мы же выходим к Подгуровской высоте на перехват дороги, там и закрепляемся. Еще какие вопросы?
Все ожидающе смотрели на артиллериста. Что скажет он? Не напрасно ведь лазил по переднему краю…
— А на него особенно не заглядывайтесь, — понял, о чем подумали офицеры, и предупредил Борисов. — Он свой, дивизионный. У него за спиной никаких резервов Верховного командования нет. Сами не хуже меня знаете, где они сейчас. Да и были бы, их сюда не подтащить. Снаряды и те подвозят санями. Так что надейтесь на свои карманные… А он чем может, тем и поможет.
— Нет, почему же. — Артиллерист даже обиделся, что умаляют его роль. — Будем сопровождать боевые порядки, цели в основном выявлены. А дальше — по обстановке…
— Вот именно… А обстановку делать и музыку заказывать придется нам самим. Пусть и замполит об этом людям напомнит.
Осташко, с которым Борисов поделился новостями еще перед совещанием, теперь слушал его и про себя удивлялся разнице в нем тогда и теперь. Тогда он, раздумчиво потирая лоб, даже позволил себе откровенно обмолвиться, что и будущие действия вряд ли войдут в сводку Совинформбюро, что, мол, ждал, когда вызвали в штаб, услышать другое. Теперь нее он стал уточнять свои требования к командирам взводов с такой взыскательностью и строгостью, словно им предстояло участвовать в операции фронтового масштаба, за ходом которой будет следить вся Ставка, весь Генштаб. И Алексей почувствовал то, что, конечно, чувствовал и Борисов. Для тех, кто собрался здесь, в землянке, нет и не может быть боев местного, малосущественного значения, а любой из них — большой и решающий, коль в нем твоя личная судьба, твоя собственная жизнь или смерть, твоя доля победы… И Осташко уже не завидовал ни Цурикову, ни Фикслеру, воевавшим на юге, ни Рустаму, саперный батальон которого, судя по намекам в письме друга, фронтовые дороги повели куда-то дальше, возможно, под те же Великие Луки, где сейчас идут бои… Только со щемящей болью вспомнился Герасименко, о чьей смерти недавно, после долгих запросов, узнал из письма того политрука, что встал на его место. Вот и ему бы дожить до этих дней, когда сводки наконец-то светлят душу!..
…Тянется и тянется безлунная ночь, точнее, уже какой-то малый, прокаленный морозом остаток ее, и вскоре снега посереют, выступит из темноты блеклое, сизое небо. Осташко посмотрел на часы. Только стрелка, сойдясь с другой, минутной, и поднимет батальон из окопов. Никаких других сигналов. Внезапность. Главная ставка на нее. Осталось пять минут. Снял и сунул за туго подтянутый пояс варежки. Карманы полушубка заняты — там гранаты. Они угрелись в тепле, и это хорошо, иначе примерзнут пальцы к железным рубчатым рубашкам. Стоящие рядом Гайнурин и Петруня засунули за пояс полы шинелей и тоже не сводили глаз с фосфорически мерцавшего на руке Алексея циферблата.
— Пошли, — тихо произнес он.
Им надо было пройти, ничем не обнаруживая себя, двести метров, а тем, кто шел левее, второму взводу, путь был еще короче, но за подбитым танком не раз укрывалось передовое охранение немцев. И если удастся снять его бесшумно, то оба взвода нагрянут в первую траншею вместе. Вьюга притихла, но, пожалуй, так только казалось, потому что слух обострялся в поисках других, враждебных, звуков и исключал все, что не враждебно: вкрадчивый скрип снега под ногами, шуршание по насту сорванного порывом ветра перекати-поля, дыхание шагавших рядом товарищей, стук сердца… И глаза тоже напрягались впотьмах до боли, как они напрягаются у шахтера, уронившего в забое лампу. Будто высеченная ударами кремня, брызнула издали, со стороны немецких окопов, трасса пуль. После минутного промежутка еще одна. Но это был не тот огонь, которым встревоженно нащупывают противника, а выстрелы, какими стреляющий взбадривает самого себя. И после них снова тишина, прерываемая лишь заунывным шумом пурги.
Залегли перед проволокой. Там уже хозяйничал кто-то незнакомый и, пригибаясь, поспешил навстречу.
— Держись подальше от кольев, — предупредил его настуженный голос, — жестянки на них.
Проход был проделан. И как раз в тот миг, когда Алексей с группой красноармейцев изготовился к последнему броску, слева, там, где стоял танк, зло и вперебой застрочили, всполошились автоматы, ночь мгновенно пробудилась и наполнилась тревогой, криками. Теперь не медлить. Чувствуя себя в середине катившейся на окопы людской волны, Алексей бежал к брустверу, угадывал его по вспышкам выстрелов, по чужим голосам. На ходу выхватил из кармана и бросил туда гранату. Нажал спусковой крючок автомата и долго не снимал с него палец в уверенности, что, пока чувствует в руках пульсирующие толчки стреляющего оружия, ничего не может быть страшного, все идет как надо, как задумано. То, что они одолели тех, кто сидел в первой траншее, и заняли ее, он опять-таки понял только по голосам — ожесточенно и надсадно срывающимся, но своим, своим…
— Гайнурин, сюда!
— Что сбиваетесь? А ну в порядок…
— Лейтенант, где лейтенант?
— Не копайтесь. Дальше, дальше!..
Чуть ли не над головой оглушительно рванул орудийный выстрел. Значит, подоспели и сорокапятки. На глаза набегали струйки от тающего снега, пот, Алексей отер горевшее лицо рукавом, всмотрелся. Колеблющаяся граница между ночью и утром, в ощущении которой прошли и минуты ожидания атаки и сама атака, размывалась, исчезала в пасмурной серости занимавшегося рассвета. Впереди, там, где предполагалась вторая оборонительная линия немцев, сквозь хлопья летящего снега с силой пробивались пучки искр. Амбразура, откуда они вылетали, оставалась невидимой, как невидимой пока была и сама стоявшая там высота; две сорокапятки, что сопровождали роту, стреляли и старались погасить эти вспышки, и, когда оседали разрывы снарядов, на их месте, по белым скатам высоты, обнажались рваные черные пятна воронок. Гайнурина и Петруни рядом с Алексеем уже не было. Он только успел заметить, как чья-то шинель мелькнула и скрылась в ходе сообщения, что вел дальше, в глубь немецкой обороны. Алексей тоже пробежал по этому вилявшему, не расчищенному от выпавшей за ночь пороши ходку. Чуть не столкнулся с выскочившим из ответвления Вдовиным, рассмотрел за ним еще нескольких красноармейцев его отделения.
Обычная хозяйская основательность, даже медлительность оставалась в повадках Вдовина и сейчас, но взгляд его был таким быстро все схватывающим, словно валдаец очутился здесь, в чужих окопах, не впервые, облазил их еще раньше.
— Товарищ политрук, вы бы капитана придержали… Не дело ж так, — выкрикнул Вдовин.
— А где он?
— Вон, вон, прямо-таки под пули рвется…
Алексей увидел оранжевый полушубок Борисова, перебегавшего из воронки в воронку, за ним еле поспевал кто-то из красноармейцев, скорее всего Пичугин. Замысел Борисова стал понятен: пока немцы сосредоточили весь огонь против атаковавших с фронта первого и второго взводов, он решил с одним взводом обойти дот и ворваться на высоту слева. Туда уже бежала и цепь красноармейцев роты, с которой стыковалась полоса их наступления… В конце ответвления Алексей нагнал Гайнурина. Тот торопливо устанавливал на бровке пулемет, разворачивал его в сторону замелькавших на северном гребне высоты касок. Появившиеся там немцы тоже были угрозой для атакующих, и все же пока не главной, — главной по-прежнему оставалась искрящаяся амбразура… Несколько огневых точек артиллеристы уже заставили замолчать, а эта, укрытая железобетоном, огрызалась.
— Давай по бойнице, бей по бойнице, — скомандовал Алексей и нетерпеливо, сам, рывком довернул пулемет. Близкий разрыв снаряда кинул их обоих на дно окопа. Вскочили, и Гайнурин испуганно схватился за пулемет (цел ли?), а Алексей сквозь клубящийся дым все пытался разглядеть на снегу тот оранжевый полушубок… Ничего, однако, не увидел и, пользуясь тем, что дым разрыва все еще стелился и маскировал его, поднялся из окопа, побежал туда, где минутой раньше находился Борисов. Алексей упал в ту самую воронку, на дне которой лежал Роман. Пичугин наклонился над ним, с мольбой взывал:
— Товарищ капитан, товарищ капитан, очнитесь…
Вначале и Алексей подумал, что Борисов в беспамятстве, но увидел темную струйку, выступившую из-под ушанки и покатившуюся по скуле к губам…
— Что ж ты командира не уберег? — с захолонувшим сердцем выкрикнул он.
— Я виноват, да, я виноват?.. — слезливо отозвался Пичугин.
— Где Запольский?
— Убило… А вот теперь и капитана…
— Разыщи медсестру. Живо!
Осташко снял ушанку и замахал ею над воронкой — сигнал, зовущий на выручку. Но больше ничем он не мог помочь другу, и ни одной минутой больше не мог он задерживаться сейчас, когда не стало ни Борисова, ни Запольского… Не мог, не оставалось времени и для того, чтобы уяснить, ответить самому себе: безрассудно ли поступил Борисов, сам поведя взвод?.. Наступила та минута, когда это кажущееся отчаянное безрассудство могло обратиться в удачу, в единственно верный путь, предрешить исход боя… Шагах в ста от воронки, в колдобинах, оставленных гусеницами танков, и в других воронках залегли красноармейцы, только что бежавшие вместе с Борисовым. А огонь с Подгурьевской высоты не ослабевал, прижимал к земле… И все-таки именно их последний бросок мог стать спасительным и для соседней роты, что атаковала высоту со стороны старицы с ее дымящимися промоинами… Алексей выскочил из воронки.
— За мной!.. Вперед! С ходу возьмем, с ходу!
Подбегая к изрытому подножию высоты, он направил автомат на оголенно-черные, давно сбросившие иней кусты, за которыми метнулись немцы. Нажал спусковой крючок, и один из немцев стал заваливаться на спину. Алексей не снимал пальца со спуска. Когда упал и другой немец, не сразу понял, что этого убил уже не он, а бежавший рядом Вдовин, собственный же диск кончился, опустел…
Но теперь они, оскальзываясь, вгрузая в снег, поднимались на вершину. По обратному скату сбегали, падали, вжимались в укрытия те из оставшихся немцев, что занимали подкову окопов за дотом. Эти уже были не страшны. Замолк, добит артиллеристами и дот. Какой-то красноармеец пристраивал у валуна ручной пулемет, чтобы открыть по дороге огонь, и вдруг скорчился, выпустил из рук сошки. Алексей подскочил к нему и узнал Алимбаева.
— Все… кончал моя, политрук… Все… И второй номер кончался, и Алимбаев…
Бессвязно успокаивая тяжелораненого Алимбаева, Осташко оттащил его за валун и вернулся к пулемету. К нему, пригибаясь, подбежал Сафонов.
— Здесь я сам справлюсь, — выкрикнул Алексей, — а ты живей во второй взвод… Пусть выдвигаются к колодцу. К колодцу, повтори!
— К колодцу, товарищ политрук, — послушно повторил Сафонов и побежал вниз.
— И связь сюда поскорей!.. — приказал вдогонку Алексей.
Торопливо выбирая наиболее выгодную позицию, он установил пулемет. «Вот теперь задам, вот теперь задам!» — билась торжествующая, мстительная мысль. По двинувшейся в контратаку цепи гитлеровцев уже вели огонь и подоспевшие на высоту красноармейцы первой роты. Но пулемет Осташко здесь главенствовал, и после нескольких коротких очередей, убеждаясь, что каждая из них не напрасна, он уже посылал длинные очереди и счастливо, с жадностью смотрел, как в смятении изламывается цепь, оставляет на снегу убитых, замедляет свое движение…
Потянуло, нестерпимо потянуло посмотреть назад, туда, где остался Борисов. Белое текучее марево между темно-бурыми тучами и землей колыхалось, не рассеивалось, и отыскать торопившимся взглядом ту воронку, в которой лежал Роман, Осташко не смог, но заметил, как прыжками пересекал недавнюю «ничейную» полосу Браточкин, а вслед за ним бежал кто-то маленький, размахивающий санитарной сумкой… Аня?!
Алексей снова припал к пулемету. Цепь немцев откатывалась назад, ее словно сносило переменчивым хлестким ветром вместе с поземкой, распущенными седыми косами стелившейся по степи. Правее показались выдвигавшиеся к колодцу наперерез отступавшим стрелки второго взвода, куда Алексей послал Сафонова. Невидимая отсюда немецкая батарея повела по ним огонь. Но накрыть их, рассредоточившихся в мелкие группы, ей не удавалось. Снаряды падали с перелетом. Очереди пулемета, у которого лежал Осташко, еще могли достать торопившихся в укрытия немцев. Надо только заменить порожний диск. Есть ли он? Огляделся, увидел его в снегу, привстал и потянулся к нему рукой, но в это время словно многотонный молот сверкнул и обрушился сверху… Режущий удар по ногам… Боль хлынула выше, сжала сердце…
10
Он очнулся от какой-то подбрасывающей все тело тряски, очнулся и почувствовал прежде всего не ту боль, что прижала его к земле, нет, болели не ноги, а лицо — ветер обжигал и покалывал щеки; с силой летели навстречу, залепливали лицо хлопья и комья снега. И в ушах звенело тявканье, заливистый, нестихающий лай… Откуда взялось столько собак? Или все это мерещится? Попробовал поднять руку и не смог. Привязана. Ремни и на груди. Подбородком раздвинул воротник, приподнял голову и увидел перед собой упряжку мчавшихся по снегу лаек, понял, что его везут на санитарных нартах. Сани хорошо скользили по ровному насту, но на пути попадались рытвины, кочки, камни, тогда сани подбрасывало, и Алексей стал чуять и главную свою боль — в ноге, выше колена. Где же, однако, его возница? Что он так гонит? Впереди бегущих собак что-то темнело… Еще одни нарты, и на них человек… Алексей напрягся, закричал, но ветер отбрасывал его зов, не умолкал и собачий лай, и, осознав свою полную беспомощность, он откинулся назад, на спину.
Лишь спустя какое-то время почувствовал сквозь подступившую дрему, что тряска прекратилась, сменилась приятным спокойствием. Упряжка стояла. И не одна. Неподалеку скучились еще четверо или пятеро нарт, и между ними ходили и оглядывали свою поклажу погонщики. Осташко заворочался.
— Что, милый? — наклонилось над ним незнакомое, с заиндевевшими бровями и ресницами лицо. — Беспокойно? Потерпи, скоро уже будем на месте.
— Подвези меня туда, — кивнул Осташко в сторону скучившихся саней. Мелькнула мысль, что там кто-либо из его роты. Может быть, даже Борисов… Не убит тогда… ранен, подобран…
Погонщик подтолкнул руками нарты, и Алексей опознал на соседних санях Уремина.
— Егорыч? Куда тебя?
— В грудь садануло, товарищ политрук… Пулевое… — с трудом, натужно выговорил Уремин. — Уже на самой верхушке скосило… Я видел, как вы упали… Но высотка за нами осталась… Не напрасно, выходит…
— А Борисов? — с надеждой, что Уремин видел, как подобрали и командира роты, спросил Алексей.
— Капитана наповал… Остался там с Киселевым…
Алексей закрыл глаза, замолчал. Вот и приплыла к последнему причалу шхуна с веселым юнгой. И где? На Ловати.
— А Вдовин, другие?
— Вдовина не тронуло, цел мужичок. Он же взвод и повел, когда лейтенанта убило… Тогда же и Джапанова…
— И Джапанова?
— Его ранило. Он тоже с нами, вон, кажись, на тех нартах…
Алексей хотел повернуться, но тут же, с исказившимся от боли лицом, поник.
— Вам плохо, товарищ политрук? Этот клятый собачий батальон и здорового растрясет… Сюда-то я вас осторожненько доставил на своей Флейте, а обратно, видите, как получилось…
— И спеленали, как малят, — с горечью добавил Осташко, представляя, как круто повернется теперь вся жизнь. Надолго попал в руки санитаров, медсестер, врачей. А что потом? Что будет потом?
Уже начинало темнеть, когда въехали в боровой лес. Хотя дорога была здесь накатанной, нарты, влекомые почуявшими конец пути собаками, то и дело обивались на обочину, спрямляли углы, и тогда ветки подлеска хлестали лицо. Все слышнее становилось какое-то частое монотонное постукивание, будто множество дятлов долбило червонно-бронзовую кору сосен. «Движок», — догадался Алексей, разгадывая это постукивание и легкий запах бензина, что вплетался в морозный воздух. Между деревьями показались большие темно-зеленые палатки полевого госпиталя. К остановившимся нартам подошли вместе с возницей два санитара с носилками.
— Вот и добрались, товарищ политрук, — стал развязывать ремни погонщик. — Укачало небось? Перекатывайтесь-ка осторожненько сюда.
— Его сперва возьмите, — кивнул Алексей на нарты, где молчаливо лежал Уремин.
— Возьмем потом и его. Не беспокойтесь, порядок знаем…
— Не потом, а сейчас… Порядок! Это что, железнодорожные кассы? Несите его, говорю.
— Можно и так, — согласились санитары, подошли к Уремину. Переложили на носилки, понесли. Поравнявшись с нартами Алексея, Уремин приподнялся, и в его невнятном хрипе удалось расслышать только слово «вместе»…
— Вместе… Будем вместе… — подбодрил красноармейца Осташко.
…Теперь уже всамделишные дятлы по-утреннему звонко и неутомимо стучали над головой Алексея. Обложенный химическими грелками, наслаждаясь их успокоительным теплом, он лежал на розвальнях, которые должны были везти его дальше, в эвакопункт. Позади оставались изнурительная госпитальная ночь, жесткий операционный стол и такая же жесткая для изболевшегося, изрезанного тела койка. После снотворного, что ему дали на ночь, все еще не прошло обманчивое, задержавшееся на грани странной отрешенности от всего пережитого спокойствие. Небо с врезанными в него темно-зелеными кронами сосен яснело спокойно, задумчиво, кротко, совсем не то небо, что нехотя, в метели приподнималось над окопами вчера утром, когда началась атака… Бой, оранжевый полушубок на снегу, искрящаяся амбразура, пульсирующие, отдающие в руку толчки автомата, обледенелый валун и рядом с ним страдальчески искривленное лицо Алимбаева… Все это за ночь много раз вставало перед глазами, много раз заново передумывалось… А сейчас сильнее всего усталость, изнеможение. Мысли роились бессвязно, лишенные цепкости. Поляна, на которой располагался госпиталь, судя по тому, что они ехали лесной дорогой часа два, укрылась в самой глубине бора. Летом здесь, наверное, была нерушимая тишь, земляничное и грибное раздолье, хотя кто бы мог повадиться за этими дарами в такую глухую, далекую от селений пущу? И тем удивительнее было увидеть на краю поляны, там, где она клонилась к ложбине, к роднику, замшелую старинную часовенку. Срубленная из крепкого дерева, с трехшатровой крышей, ярко-зеленый мох которой присыпало на северном скате снегом, она, казалось, поднялась, выросла из земли и старилась вместе с окружавшими ее вековыми соснами, вместе с совами, что могли бы свить в, пожалуй, свили здесь свои гнезда. Кто породил здесь эту сказку? В чью древнюю славу? В чей добрый спомин? Залюбовавшимся взглядом Алексей ласкал часовенку, чувствуя, как мысли освобождаются от болезненной вялости и сквозь горькую память о вчерашнем бое обращаются к истокам этой неожиданно явленной здесь, в древнем бору, красоты.
…Мало, очень мало что в его детстве вот так вещественно, зримо воплощало в себе издревле творимое народом прекрасное или хотя бы горячую мечту о нем. Учебники, книги не могли заменить того, на чем бы мог надолго задержаться взор, перед чем бы невольно захотелось остановиться в задумчивом, радостном волнении. Что могло напомнить о старине, пробудить к ней живой интерес? Самым старым в округе был металлический завод, да и его учредил предприимчивый заезжий англичанин меньше чем сто лет назад. А в Нагоровке из всей поселковой старины решили сберечь на невеселую память потомкам лишь землянку Ивана Горбы, вырытую им здесь, в безлюдной степи, когда закладывали в середине прошлого столетия рудник. Над этой землянкой-развалюхой и поставили стеклянный павильон, прибили охранную табличку. Единственную в Нагоровке…
Что ж, наверное, именно потому, что так ничтожно мало светлого, хорошего, осязаемого оставило прошлое тем, кто кровянил руки под землей, они, шахтеры, самозабвенно и ухватисто трудились, добивались, чтобы это хорошее и светлое утвердилось на их земле сейчас, при них.
Дворец культуры закончили строить и открыли в двадцать седьмом году на Октябрьские праздники. Он первым в поселке поднял свои стены вровень с красно-бурыми, перегоревшими отвалами террикона, на которых словно бы запеклась кровь, пролитая боевыми дружинами в дни восстания шахтеров против царизма… Едва ли не первую на поселке брусчатку проложили к Дворцу… Передавали, что еще Ленин незадолго до смерти сказал, что страна, при всей своей тогдашней нищете и разрухе, должна шахтеров отблагодарить… За их рудничные Советы рабочих депутатов, сразу поддержавшие революционный почин Питера… За красногвардейские шахтерские отряды и динамит, на котором подрывались корниловские бронепоезда… За трудармию, добывшую для Республики из полузатопленных рудников горючий камень жизни… За всю их шахтерскую немытую, горькую и гордую судьбину… Так по ленинскому слову возникли эти Дворцы в Гришино, на «Юнкоме», на «Профинтерне», в Щербиновке, в Кадиевке, в Горловке, в Нагоровке…
Октябрьская новь!
Алексей вспомнил, как Петруня допытывался у него, почему в самые тяжелые дни, когда враг стоял под Москвой и 7 ноября участники военного парада прямо с Красной площади уходили на фронт, их напутствовали именами Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова?.. Он, Алексей, ответил тогда Петруне какими-то торопливыми, вычитанными из книг словами… Неужели нужно было испытать то, что он испытал в бою, чтобы вот так всезахватывающе нахлынуло на сердце чувство Отчизны и своей родственной причастности ко всему ее древнему и нынешнему бытию?! Вчера он впервые встал перед смертью и не думал ни о чем мелком, недостойном, а только о своем долге перед отчей землей. И сколько на этой земле еще и еще прибавилось такого, что тоже никогда не канет в забвение!.. Погост на бугре с одинокой старой сосной и под ней могилы Киселева, Фомина, Чеусова, Салтиева, а теперь рядом с ними — Борисова, Запольского, Алимбаева… Все так же навечно!..
Розвальни уже тронулись, а Алексей все еще тянулся взглядом к темневшему среди высоких елей трехтшатровому шелому…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
…И здесь снега, снега, стужи, грозово-хмурое небо. Иногда в какой-то особый переломный час короткого светового дня оно вдруг становилось зеленоватым — будто в низко свисающем подбое чугунных туч отражались древние боровые леса. И в бредовом ночном забытьи казалось, что по-прежнему неподалеку, рядом, обледенелые берега Ловати, окаймленные замерзшей кровью темные дымящиеся проруби, скрипуче стонущие мостики на дне окопов, звенящие на ветру спирали проволочных заграждений, сугробы, подернутые морозной сединой кочкарники. Но утром будил стук дров, сбрасываемых перед устьем остывшей печки, раздавались бесцеремонно крикливые голоса санитарок, звон посуды у кроватей, где лежали тяжелораненые. Начинался госпитальный день. И в нем, как в многожильном разветвленном дереве, сотни людских судеб переплетались всяко и вместе: вера и скорбь, надежды и утраты, терпеливость и отчаяние.
Второй месяц Алексей находился в Вологде. Долгое время лежал пласт пластом, с загипсованной, подвешенной на блоке ногой. Даже в ночной темноте она тревожно маячила перед глазами. На закаменевшем известково-сером лубке врач, наложивший повязку, написал химическим карандашом свою фамилию и дату, когда повязку надо снять. Самого врача уже в живых не было. Вскоре после этого он уехал с эвакопоездом на Северо-Западный фронт и погиб при бомбежке. Его подпись щетинилась колюче, занозисто, целиком соответствуя странной фамилии — Шершкович. Алексей видел его только один раз — запомнилось сосредоточенное, старчески-суховатое лицо с усталыми, напряженными глазами. Но от него, человека, который, по существу, остался незнакомым и теперь лежал где-то в братской могиле у Селигера, по-прежнему зависело все будущее Алексея. Что принесет назначенный старым хирургом день, когда повязку наконец-то рассекут? Вернется ли он, Алексей, на фронт, или пошлют его довоевывать куда-либо в тыл, в запасной полк, а то и вовсе спишут? То и дело перепархивало по палате пугающее слово «остеомиелит», и тем, кого подстерегало это осложнение, уже никогда не быть в строю. Возникнет ли и перед ним этот страшный барьер? С каждым днем ожидание становилось все тягостней, все мучительней. Подбадривал сосед по палате Кольчик, капитан из БАО[3], пожилой, тучный и вместе с тем даже при своей нелегкой ране — осколочном поражении плечевого сустава — сохранявший неистощимую веселость и подвижность.
— У тебя, Алеша, впереди красное число, не унывай… Старик Шершкович, пусть ему будет земля пухом, все предусмотрел. Так что не хмурься, пошевеливай пятками, чтобы кровь не застоялась, готовься на праздник в пляс пуститься.
— Какой там праздник? Что ты плетешь, Матвей?
— А вот так оно и есть. На твоем лубке недаром написано пятнадцатое февраля. А в этот день что? Сретенье. Политсоставу это тоже знать полагается. Зима с летом встретятся. Выходит, все твои болячки останутся позади, начнешь отогреваться.
— Все равно до пляса еще далеко. Тут хотя бы до костылей добраться, — недоверчиво вздыхал Алексей.
Во множестве бередящих душу раздумий все беспокойней становилось и еще одно…
Валя!
…Может быть, он поступил глупо и оскорбительно для нее, не написав сразу же о своем ранении? Но слишком туманной, неясной представлялась собственная судьба! А вдруг полная инвалидность?! Не решался, страшился подвергнуть испытанию сблизившее их чувство. Любовь? «Любовь», — отвечал он сам себе. Но если впереди зловещий исход, то пусть она, эта любовь, останется в памяти, в сердце такой, какой сложилась и сбереглась до этих дней… И это уже немало, да, немало в такую войну, когда тысячам и тысячам встреч, привязанностей, случайным и не случайным, суждено затеряться в набегавших днях, остаться забытыми, неумолимо и безвозвратно отодвинутыми в прошлое. А он все равно сохранит, молчаливо и сокровенно сохранит в сердце то, что было перед Ловатью, — кибитку на Луначарской, тепло маленьких участливых рук, знойный ташкентский перрон, ее порывистый поцелуй… И письма, письма!.. Теперь для него достаточно и этого… Есть ли право рассчитывать на большее?
Но в один из дней санитарка принесла почту, и он, увидев на конверте знакомый почерк, вспыхнул, словно его ожгли пощечиной… Читал, и все смешалось — радость и стыд перед ней, стыд за то, что поступил не только жестоко, а подло. Как он мог поколебаться, усомниться в ней?
Три письма Вали, посланные на полевую почту части, остались безответными, прежде чем Костенецкий, который к тому времени уже знал адрес Алексея, написал ей… И теперь она не упрекала, ни о чем не спрашивала, а просто просила, чтобы Алексей подтвердил получение этого письма и ждал ее приезда.
Но, как ему ни хотелось увидеть ее поскорей, он все-таки в тот же день поспешил написать, чтобы раньше чем через две недели она не собиралась из дома, ждала его вызова. Выдумал для этого и правдоподобную причину, — возможно, будет переведен в другой госпиталь. У самого же в мыслях и надеждах только один, уже близкий день — пятнадцатое февраля.
Когда наконец-то сняли гипс и позволили встать на ноги, он походил на человека, измотанного в кораблекрушении штормом и теперь вместе с утлым, полуразбитым плотом плашмя кинутого волной на берег. Найдутся ли силы, чтобы подняться, устоять, уверенно ступить на желанную земную твердь? Вначале почувствовал боль, но сделал шаг, другой — и понял, что это была не сама боль, а последнее воспоминание о ней, свалившей его тогда у валуна. Ясеневые, отшлифованные руками других раненых костыли не должны были подвести и его, но надеялся не столько на них, сколько на то, что найдет, ощутит опору в самом себе.
Алексей стал самым беспокойным, непоседливым среди всех выздоравливающих. Опережая санитарок, спешил на каждый зов своих лежачих сопалатников, вскакивал по ночам и долго шуровал печку, порывался разносить почту, газеты, табак, судки едва ли не всему госпиталю.
Вскоре разрешили выходить и на воздух. Сестра-кастелянша вместо полушубка выдала подержанную английскую шинель. Одежка была явно не по вологодским холодам, но в ней ковылять на костылях оказалось легче. До приезда Вали оставалась неделя. Дальше откладывать задуманное нельзя было.
Однажды после врачебного обхода Алексей торопливо оделся и направился в город. Осторожно переставляя костыли по заснеженному деревянному тротуару, он с любопытством посматривал по сторонам. Старинные двухэтажные и одноэтажные деревянные домишки с флигельками и башенками, с резными наличниками, ставнями и коньками на крышах. Внутри, за низко посаженными окнами, возвышались такие исполинские, увенчанные горой подушек кровати, что, представлялось, кроме них ничто другое в комнате уже поместиться не может. Во дворах — голубятни, колодцы, поленницы дров, штабеля торфа.
В один из таких дворов, увидев там на крыльце женщину, вытряхивающую половичок, и направился Алексей.
— Добрый день, мамаша! Вы здесь хозяйка?
— Я, служилый, а что такое? Заходи, если ко мне.
— Да у меня разговор короткий. Нельзя ли у вас снять комнату?
Пожилая, но еще статная, круглолицая женщина окинула сострадательным взглядом Алексея с его костылями, с валенком на больной забинтованной ноге — другая была в сапоге.
— Ой, милый, я бы тебя с радостью пустила, да у меня ленинградцы… эвакуированные. Четверо детишек с матерью. И своих трое. Покотом спим. А как же так, неужели на улицу выписали тебя такого?
— Не для себя я… Жена приезжает проведать. На недельку…
— Только и всего? И отказывать тебе совестно. Разве уж потесниться, пустить? — Но по огорченному лицу и молчанию офицера она поняла, что такое предложение его не устраивает, и спохватилась: — Тогда вот что… Подойди через три двора к Савельевым… Их двое — мать и дочка. Отец, может, вот так, как и ты, где-то мыкается. Скажешь, что я послала. Петровна к Петровне. Люди хорошие, приветливые.
Поблагодарив за совет, он пошел по указанному адресу, и здесь все уладилось легко, быстро, без всяких помех. Деревянный домик Савельевых, казалось, был сооружен без топора и рубанка — выпилен лобзиком. Резной карниз, подзор вдоль чешуйчатой крыши, замысловатые фигурные наличники на окнах, флюгер с петушком.
— Что ж, если не пренебрегаете нашим скворечником, то милости просим, хоть завтра пусть приезжает, — притворно прибедняя свое жилье, сказала вторая Петровна.
— Скворечник? Да такой дом не грешно и на любую выставку, на первую премию потянет! — восхитился Алексей, пылко представляя будущую счастливую неделю здесь, под этой крышей.
— Сам хозяин мастерил, — довольная похвалой, пояснила Петровна. — Искусный он на это, выдумщик. По плотницкой части и на фронте. А что уж там строит — не знаю. Мосты, наверное? Давно не пишет что-то. Да чего мы с тобой сидим на кухне, идем посмотришь светличку. Правда, мала, да ведь не для гульбищ строилась. Зато теплая.
…Теперь он ждал Валю. Чтобы дни пролетали быстрей, участил вылазки в город. Половина прохожих на улицах — военные. В городе стоял штаб какого-то крупного воинского соединения. В госпитале поговаривали, что это сформировалась новая резервная армия. Алексей на обледеневшие дощатые мостки и тротуары посматривал с опаской, предпочитая переставлять костыли по обочинам проезжей части. Вологда вызывала любопытство своим необычным видом и нелегко постигаемыми крайностями. Повсюду, даже в центре, жались, ища друг у друга защиту от северных стуж, такие же легенькие деревянные дома, как и на госпитальной улице, и вдруг их шеренгу раздвигал какой-либо каменный голиаф с крепостными стенами, с окнами, похожими на бойницы. Старинный купеческий лабаз? Монастырь? Построенный еще в екатерининские времена институт благородных девиц? Или в самом деле какое-либо давнее крепостное сооружение? Так или иначе, но это тоже была его, Алексея, Родина, вместе с запомнившейся полянкой, и глиняными дувалами узбекских кишлаков, и привольем оренбургских степей, которыми он любовался из красноармейской теплушки… Алексея потянуло разыскать какой-либо заводской клуб. Но какая жизнь может в такую пору теплиться под его крышей? Нет, уж лучше себя не дразнить. И все-таки, когда он увидел издали подъезд, по бокам которого стояли фанерные щиты с объявлениями, он встрепенулся и заспешил к нему.
Да, и здесь все было так, как должно было быть сейчас… Оповещал о времени своей работы пункт сбора зимней одежды для фронта… Красный Крест объявлял о наборе на курсы медсестер… Афиша о кинофильме «Мы из Кронштадта». Но одно из объявлений вызвало у Алексея невольную усмешку. Через полчаса начиналась лекция «Что такое страх?». Имя лектора — громкое, известное. Профессор, москвич. В двадцать девятом году Алексей ходил на занятия комсомольской политшколы с его учебниками по диалектическому материализму. Разве послушать?
Зал был небольшой, холодный, и Алексей, стараясь не стучать костылями, уселся в самом последнем ряду. Хотелось остаться незамеченным. Еще, чего доброго, смутит профессора. Оттуда, где он, Алексей, находился два месяца назад, возвращаются, уже ответив себе на вопрос, над каким приглашал поразмыслить лектор. Ответил на него и Алексей. Политруку, пожалуй, страшно вдвойне. Естественный страх человека, когда до смерти, как поется в песне, четыре шага, знаком и ему, но такой же естественной была и боязнь каким-либо движением, взглядом, возгласом обнаружить перед другими этот страх. Иначе… иначе и полушки не стоят все твои призывные слова… Так этот второй страх, а вернее, постоянное внутреннее напоминание помогало начисто забывать тот, первый, оттесняло его.
На сцену, потирая зябнущие руки, вышел в кофейном пуловере и в гамашах кругленький, с благодушно розовеющим личиком старичок. В полупустой зал обильно посыпались цитаты из Фрейда, Ломброзо, Челпанова, Бехтерева. Алексей понял, что попал впросак и ничего интересного здесь не услышит.
Единственное, чем мог себя утешить Алексей, это тем, что потерянного времени особо жалеть не приходилось. И все же решил впредь тратить его разумней. Все остальные свободные вечера проводил теперь в областной библиотеке. Здесь привлекало многое. Основные фонды библиотеки составились из книжных собраний национализированных дворянских усадеб. Прижизненные издания Пушкина, Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина. И, перечитывая знакомые строки, на этот раз с их старым правописанием — с ятями, фитами, твердыми знаками, Алексей вновь с волнением переживал прошлое Родины. «Записные книжки» Верещагина, изданные в конце прошлого столетия, оказались с неразрезанными страницами. На книге оттиснут экслибрис «Кабинет для чтения госпожи Семеновой». Алексей бережно разрезал перочинным ножиком эти втуне пролежавшие почти полвека, словно запечатанные забывчивостью современников и потомков, листы. Верещагин, умная художническая кисть которого поведала правду о войне. Страстные, язвительные строки, высмеивающие осененный державным скипетром академизм батальных живописцев. Старательно отутюженные ими складки на плащах легионеров, сверкание регалий, напомаженные волосы погибающих римлян… И тут же репродукции картин самого Верещагина… Его «Апофеоз войны». Пирамида черепов… Их пустые черные глазницы… Гневный, обличающий протест, пощечина человечеству, нет, не человечеству, а завоевателям, тем, кто попирает все человеческое…
Алексей возвращался в госпиталь поздно, иной раз не поспевал к ужину.
— Ты где бродишь, окаянный? Неужели приехала? Ты хоть покажи ее, — ворчал Кольчик, знавший о скором приезде Вали.
— Нет, жду на той неделе. А сейчас просто засиделся в библиотеке.
— И охота тебе? Да я, если уцелею, то десять лет книгу в руки брать не буду. Тысяча романов перед глазами прошла.
…Валя приехала в воскресенье. Алексей стоял на перроне и, не зная, в каком она вагоне, следил одновременно за несколькими. Все шинели, шинели, полушубки, ватники… Но вот вслед за ними в тамбуре крайнего вагона мелькнуло клетчатое пальтецо, белый пуховый платок. Хотел было рвануться навстречу, но будто покинули силы, мешковато обвис на костылях.
Сколько раз мысленно воображал эту минуту, а никогда не думал, что губы ее могут быть такими горячими, желанными.
— Ну чего, чего ты сюда пришел? Разве я тебя не нашла бы сама? — всхлипнула Валя.
— Так бы легко и сразу?
— Нашла бы, нашла… Всюду!.. — повторила она, как бы напоминая о всех своих посланных на полевую почту письмах. А он, первыми же нетерпеливыми взглядами обласкав ее лицо, теперь робел и смотреть на него — таким сказочно красивым оно казалось — и боялся задуматься над катившимися по ее щекам слезинками — над этим немым, нетаимым знаком сострадания. Однако, черт побери, не калека же он! Алексей даже потянулся рукой к той поклаже, какую она держала, — чемоданчику, узелкам. И Валя, шутливо увернувшись от его руки, засмеялась, как смеются нежданной мальчишеской выходке взрослого человека.
— Знаю, знаю, ты уже совсем богатырь.
— Не совсем, однако твоим носильщиком быть могу.
— Не хвастайся, лучше скажи, куда мы пойдем.
Дни, которые наступили вслед за этим морозным вокзальным днем, стали для них несказанно огромными, несказанно вместительными. Им вначале даже совестно было перед Петровной за переполнявшее их счастье.
Где ее плотник-то? Войдет ли в дом вот так, как вошли и встретились они? Петровна, до этого словоохотливо делившаяся с постояльцем не только своими заботами, но и заботами соседок, теперь, оставаясь такой же приветливой и гостеприимной, примолкла и словно всей тишиной, всем теплом и уютом своего скворечника охраняла их.
— Признайся откровенно, там, на фронте, ты верил, что мы когда-нибудь будем вот так, вместе? — спрашивала Валя. В залитой ранним солнцем горенке — знал же плотник, куда обратить окна! — ее светло-серые большие глаза казались совсем прозрачными, и только если близко всматриваться в них, замечался легенький, ликующе-веселый дымок поволоки.
— Там без веры нельзя, Валя. Ни одного дня. Она нужна с первого и до последнего. Я теперь точно знаю.
— А если б не Ташкент, одним словом, не я, во что бы ты верил тогда, для себя?
— Тогда… тогда, пожалуй, было бы худо. Хотя, наверное, поддерживала бы вера других… товарищей, всех тех, кто рядом… Ради этого тоже ведь стоит жить… Как бы тебе это объяснить?.. Понимаешь, красноармейская шинель делает человека в наше время каким-то особенным — душевно сильным, устойчивым, чутким. Не подумай, что это бахвальство фронтовика… В конце концов, в шинелях сейчас мы все…
— Ты мне не о всех, ты о себе…
А о себе можно было сказать куда проще, повторяя одно только не требующее никаких рассуждений и доказательств слово: люблю, люблю…
По утрам Петровна вносила в комнату самовар. На его самодовольно сияющей медной роже было оттиснуто множество медалей, полученных в бескровных схватках на всероссийских и международных ярмарках и выставках.
— Смотри-ка, награжден гран-при даже в Кенигсберге, — удивлялся Алексей. — Оказывается, немцы эту нашу технику издавна признавали. А я с ней, откровенно говоря, познакомился только в тридцать восьмом… До этого считал атрибутом мещанства… А в тридцать восьмом купил трехведерный для Дворца в комнату отдыха… А ну-ка, ну-ка покажи, как ты с ним управляешься…
Ему нравилось смотреть, как Валя неторопливо хозяйничает у затейливого фигурного краника, нравилось принимать из ее рук терпко дымящуюся чашку; вот только не понравилось в первый же день и непритворно рассердило его, что она вздумала привезти и угощать его домашней выпечки изделиями, наверняка выкроенными из скупых, полуголодных московских пайков.
— Я ведь тебе запретил что-либо привозить для меня. Писал я тебе об этом или не писал? Лучше б себе приберегла.
— В таком случае, если ты не будешь их есть, я… я откажусь от аттестата, — рассердилась в свою очередь Валя. — Это ж не карточки. Я муку покупала на рынке, стаканами…
— Не верю… Да можно было бы купить и здесь.
Алексей упрямился, спорил, но, по правде говоря, ему нравился и этот спор — в нем было что-то от мимолетных семейных раздоров, — значит, он и Валя уже семья…
Как-то вот так, по-семейному, они пошли на базар. В торговых рядах стояли и предлагали свой немудреный товар старушки с берестяными туесками, плетеными лукошками. Продавали клюкву, моченую бруснику, голубику, морошку, рябину, соленые грибы — все, чем богаты были вологодские леса… Валя и Алексей заглядывали в корзинки, где были ягоды и синеватого отлива, похожие на терн, и налитые морозным румянцем… Старушки насыпали их в свернутые из газет, кулечки, ненамного большие, чем козьи ножки солдатских цигарок. Алексей, собравшийся на рынок, чтобы тряхнуть мошной и потом устроить пир, пригласив на него Кольчика, понял, что из этой затеи ничего не получится.
Зато были полны очарования и новизны вечерние прогулки по городу. В сумерках скрадывалось, становилось незаметным многое из того, что днем так настойчиво на каждом шагу напоминало о военной поре. Вот разве только затемнение? Но здесь на улицах даже и затемненные окна старинных строений выглядели по-особому. Чудилось — вот-вот из-за угла лунно белевшего собора с гиканьем вымчат, погоняя коней, опричники Малюты Скуратова, или покажется пышный боярский выезд, или промелькнут тени, замерцают свечи монастырских послушниц…
Если они приходили домой позже «Последних известий», то Петровна уже на пороге спешила поведать им все сообщенные по радио новости.
— Берлин-то, слышь, опять бомбили!.. Триста самолетов!.. Ох, хоть бы один как следует прицелился да угодил в главного злодея… И у нас бои под Харьковом, на Кубани… А в наших-то северных краях — ничего, ничего…
О северных краях она упоминала явно успокаивающе: любитесь, мол, пока, милуйтесь. Словно бы и в самом деле никаких других дорог, кроме как туда же, в Старое Подгурье, у Алексея не было…
Однажды из госпиталя к ним в скворечник прибежала санитарка.
— Одевайтесь побыстрей, выздоравливающий. Начальник вас вызывает… Чтоб срочно явились… ругается.
— И напрасно. Сам же разрешил и знает, где я.
— Так ведь и на него тоже начальство есть. Еще повыше. Генерал приехал.
— Генерал? Что ж, именно я ему и нужен?
— Это уж не знаю… По всем палатам ходит с адъютантами своими. Видать, откуда-то издалека… С фронта, что ли…
Валя побледнела. А ведь знала, знала, когда ехала, что недолго им быть вместе, и все-таки тревога застигла врасплох. Оставалась еще неделя отпуска, и неужели жизнь окажется к ним такой скупой и несправедливой? Понимая ее волнение, да и взволновавшись сам, Алексей привлек ее к себе, поцеловал.
— Чего ты? Успокойся.
— Ты… ты вернешься?
— А как ты думаешь? В любом случае.
Он пришел домой через полтора часа. Вместе с Кольчиком. Не спеша, с загадочно улыбающимися глазами расстегивал шинель. А Валя смотрела на него вопрошающе и чуть ли не гневно: что томишь?
— Сейчас, сейчас, — проговорил он, стоя к ней спиной и неторопливо вешая шинель, пригладил волосы, повернулся и петушисто выпятил грудь, на которой сверкал новый орден. На плечах же — погоны капитана.
— Ну, как я тебе нравлюсь?
Она кинулась к нему на шею и, вот же чудачка, заплакала.
Получасом позже сидели за столом, отмечая награду и новое звание, к которому Осташко был представлен еще перед тем, последним боем. В этот праздник внес свой вклад и начальник госпиталя. Сам ли догадался, или распорядился генерал, заместитель командующего фронтом, но выдал четвертушку спирта.
Радость и гордость Вали была тем большей, что такого ордена она еще не видела ни у кого.
— Александр Невский, — разъяснял Кольчик. — Недаром тоже на Северо-Западном воевал. И против них же, крестоносцев, чтоб им ни дна ни покрышки. Я тоже его впервые вижу. У нас в авиации больше звездочки, Отечественные всех степеней, Красное Знамя. А Невский, выходит, пехоте? Так, Алексей? Что там пишется в статуте? Ты должен знать.
— От командира взвода и выше… — немногословно ответил Осташко.
— Эко неразговорчивый какой! Ну, со мной ладно уж, надоели друг другу и в палате, а перед женой? Рассказал бы…
Алексей пожал плечами, посмотрел на Валю взглядом, каким просят прощения. Ему и в самом деле трудно было рассказывать о Старом Подгурье здесь, в тепле этой комнаты, за этим застеленным чистой белой скатертью столом.
Не стал рассказывать и позже, когда они остались с Валей одни.
…Уже давно спала Валя. Алексей чувствовал на щеке ее чуть щекочущее дыхание, а сам, поначалу притворившись, что его тоже клонит ко сну, теперь лежал с открытыми глазами, раздумывал. То, что было пережито там, на Ловати, уже давно могло бы заслониться нудными госпитальными месяцами, госпитальными сомнениями, ожиданием, да и тем хорошим, что началось с первого, полученного здесь, в Вологде, Валиного письма… А вот же не заслонялось, не затуманивалось. Ни для него, ни для других… Когда генерал прикалывал ему к гимнастерке орден, хотелось спросить — а дальше, что было дальше в Подгурье? Но адъютант уже представлял генералу другого награждаемого… Да и, пожалуй, все равно бы не спросил… Мысленно повторяя услышанные слова реляции — «За проявленную инициативу во внезапном и стремительном нападении на противника…», — Алексей почувствовал, что сам-то произнести их никогда никому не сможет. Да и разве только он один был в таких случаях молчаливым? А его товарищи, его знакомые по палате? Лишь порой, в ночном кошмаре, в бреду, вырвется у кого-либо не контролируемый сознанием тревожный оклик, предостерегающий зов, слова исступленной команды. А утром сам же конфузливо улыбнется: «Ну, кажется, и повоевал я сегодня ночью». А скорее всего не скажет и этого, надолго замкнется в себе, вторично, на свежую голову разбираясь в том, что было сном, а что недавней явью. И тут Алексей снова вернулся к мыслям о красноармейской шинели. Те, кто носил ее, залегали под огнем, поднимались в атаку, ползли под проволокой, убивали и сами множество раз могли быть убитыми, но пока она не скинута, пока не достигнуто то, ради чего она надета, не тянет к громким исповедям и признаниям. Вот разве только в донесениях, в оперативных сводках, в штабных обзорах строчка за строчкой, страница за страницей копится и копится добытый кровью опыт всего содеянного и пережитого… И не крупинкой, не малозаметной частицей, а полновесной людской жизнью, дороже которой нет ничего на свете, войдет туда судьба каждого, кто носил эту делающую человека большим шинель… Борисова и Киселева, Фомина и Салтиева… Всех, всех…
Через неделю Алексей проводил Валю. Возвращаться с вокзала в приютивший их на две недели домик не стал — было бы тяжело, пришел прямо в госпиталь. Там, на вокзале, у ступенек вагона, в тамбуре которого стояла Валя, словно бы оставил радужную беспечность этих двух так быстро пролетевших недель. Был снова сосредоточен, угрюм. Не затянулось ли его пребывание здесь, под пропахшими камфорой и карболкой сводами? Чувствовал себя уже готовым к выписке, томился в ее ожидании. Давно поговаривал о выписке и Кольчик, но не столько от него самого, сколько от врачей Алексей знал, что у товарища дела хуже — появилось осложнение, какой-то воспалительный процесс в легких. Кольчик, однако, храбрился, доказывал, что здоров, спорил с врачами, неоднократно требовал переосвидетельствования. Он и Алексея встретил весь сияющий, возбужденный, чем-то очень обрадованный.
— Уехала Валя?
— Да. Только что.
— Ну, а что ты на станции видел?
— А что бы там могло быть?
— Эх ты, ничего, наверное, и не замечал, кроме своей зазнобушки?..
— Да что такое? — недоуменно спросил Алексей. Он и в самом деле, будучи на вокзале, не обращал внимания на то, что делается вокруг.
— Говорят, что резервная армия снялась, уехала.
— Куда?
— Об этом нам не докладывают. Но есть слушок, что туда, откуда мы с тобой прибыли…
— На Северо-Западный?
— Снова тебе повторяю, что об этом не говорят, но что-то похоже…
— Думаешь, что весной начнем оттуда?..
— Весной! Тоже мне сказал! Весной там только комаров бить, а не фрицев. А вот сейчас, пока еще снежок держится, можно что-либо и сообразить. Я вот над картой сидел, кумекал… Посмотри сам…
Кольчик достал из-под подушки затрепанную, вырезанную из газеты карту фронтов, точно такую же, с какой приехал в роту Алексей и оставил там, в землянке.
— Ну-ка, прикинь мыслишкой, кавалер ордена Александра Невского… Какого поворота событий ждать? На юге фронт пока стабилизировался. Там сейчас чего-либо нового не будет. А вот если тут, на Северо-Западном, шугануть по-настоящему, то, во-первых, подмога Ленинграду… А во-вторых, северным Сталинградом может для немцев запахнуть…
— Это ж каким образом?
— А вот таким! — Кольчик с генеральской размашистостью черканул карандашом по карте, направляя острие намеченной стрелы к Балтике.
…Когда через несколько дней Алексей пришел в военкомат, ему дали предписание ехать в Кащубу и предупредили, чтобы он не задерживался в городе, спешил…
2
О том, почему именно в военкомате приказали ему поторопиться, Осташко узнал на следующий день. А ночь он провел в дороге, вернее, на небольшом полустанке, на котором сошел с товарно-пассажирского поезда и дожидался рассвета, чтобы идти в Кащубу. В тесном, переполненном людьми зальце было совершенно темно. Спотыкаясь о чьи-то ноги и узлы, выслушивая раздраженные окрики, Алексей с трудом втиснулся на одну из скамеек и в свою очередь выбранил нерадивых станционных работников. Невидимая в темноте соседка разъяснила ему, что керосина не хватает и для станционных фонарей, и если ему так уж нужен свет, то в углу сидит старичок, у которого есть собственный керосин. Надо не пожалеть краюхи хлеба, и тогда старичок нальет лампу — этак-то живет он здесь третий день, охраняет отцепленный из-за перегоревшей буксы вагон с заводским грузом. Собственно, сейчас, когда Алексей нашел место, свет был ему уже ни к чему, но стало жалко женщину, у которой на руках хныкал ребенок, да и незадачливого охранника, и Алексей встал, зачиркал спичками, разыскал старика. Тот, по-бабьему закутанный в платок, с угрюмым достоинством произвел равноценную мену: взял отрезанную ему Алексеем полпайки хлеба, вынул из голенища валенка хранимую там бутылку, плеснул в жестяной резервуарчик лампы. Зажелтел свет. Женщина перепеленала ребенка. Старик высвободил из-под платка бороду, стал неторопливо жевать хлеб. Алексей задремал. Проснулся, когда подошел поезд и в зале стало еще тесней. Но уже рассветало.
Кащуба оказалась под стать этому наименованию, напоминавшему о чем-то дремучем, трущобном. Были и на Северо-Западном дебри, но все же не такие. Штаб части занимал избу на окраине лесной деревушки, а батальоны стояли в старом, не расчищенном от зимних буреломов бору, и, хотя уже шел одиннадцатый час, у подножия циклопически высоких сосен все еще длились предрассветные сумерки. Слышался звон пилы, но здесь, под богатырски взнесенными в небо зелеными папахами, он казался комариным писком. Дымки над видневшимися впереди засыпанными снегом землянками вились, как пар над медвежьей, укрытой в пуще берлогой. Кругом валялись исполинские, словно сложенные из кирпича, успевшие обрасти подлеском стволы поваленных когда-то деревьев, которые теперь не сдвинуть и тягачом. Холмы валежника. Надолбы навечно укоренившихся в мерзлоту клыкастых пней.
По непротоптанной после ночного снегопада дорожке навстречу Алексею поскрипывали валенками два офицера. В дубленых, чуть ли не броневой крепости, белокорых полушубках, подпоясанные широкими командирскими ремнями, они были под стать этой зримой внушительности древнего бора. И Алексей, в своей потрепанной, обношенной шинельке, с тощим рюкзаком за плечами, козырнул первым, хотя и не мог угадать их званий. Оказывается, не ошибся.
— Майор Фещук! — остановился и назвал себя один из офицеров, вопрошающе, с хозяйской требовательностью глядя на пришельца. Но эта требовательность могла и польстить. Ждали? Встречают? Ведь именно он, Фещук, командир первого батальона, час назад, по штабному повелению, стал для Алексея человеком, рядом и вместе с которым ему отныне быть. Осташко представился.
— Знаю, звонил Каретников, говорил о вас — Фещук вынул из варежки и протянул короткопалую, теплую руку. — А вот знакомьтесь со своим напарником. Секретарь партбюро.
— Капитан Замостин, — поздоровался парторг. В спокойно голубевших глазах никакого праздного любопытства — простое желание познакомиться.
Еще не зная друг друга, они, все трое, уже с первой встречи становились близкими, уже не нуждались в церемонных экивоках и вступали в те привычные отношения, какие останутся между ними невесть как долго. До нового командировочного предписания или до нового Подгурья…
— Так, так, вещмешок, я вижу, у замполита пустой, — проговорил Фещук с улыбкой, округлившей его и без того полное, хорошо выбритое лицо. — Вологда не накормила. В штабе дивизии об этом, понятно, не побеспокоились, а полк, догадываюсь, тоже ничего не предложил. С этого и начнем. Веди, Замостин, капитана. Пусть Чапля и Бахвалов придумают что-нибудь. А я скоро вернусь, поговорим.
Левее от дорожки лес редел, а за соснами проглядывалась поляна, откуда доносились то протяжные, то отрывистые возгласы команд. Туда и свернул Фещук.
— Пополнение вчера пришло, — пояснил Замостин, шагая по снежной целине обочины. Его валенки дружески уступали дорожку кирзовым сапогам Осташко.
— И как оно? — спросил Алексей.
— Всякое… Есть и обстрелянные, а больше новички, хоть годов и мест самых разных. Из Костромы, Перми, Вятки… Ну да ничего, подучим, было бы время. Горьковчан много, нашего комбата земляки.
— А он из Горького?
— Из Павлова. Это рядом. Слышал о таком? Когда-то половина России павловскими топорами избы ставила да павловскими ножами картошку чистила. Сюда, капитан, в эту землянку… Нагибайся — осела за зиму. Демидыч, ты тут? Мигом с котелком к Бахвалову, корми замполита.
— Рядовой Новожилов, — одергивая гимнастерку, вытянулся перед новым начальством худощавый, с морщинистым угреватым лицом ординарец. Загремел котелками.
Спустя четверть часа Алексей, не таясь, что действительно проголодался, жадно уплетал уже не надоевшую госпитальную болтушку, а обильно политую растопленным лярдом, щедро заправленную поджаренным луком кашу, ел и слушал Замостина. Сам не торопился с расспросами — пусть Замостин рассказывает то, что считает нужным, — про себя же думал, что здесь начинать, пожалуй, будет труднее, чем на Ловати. Там, в роте, хватило двух-трех дней, чтобы поименно знать каждого, а в батальоне? То, что здесь он только заместитель по политической части, не утешало и не убавляло ни одного из тех трехсот человек, судьба которых становилась отныне его судьбой. И там, в роте, они с Борисовым были на равных не только потому, что равно делили ответственность, но и потому, что обоих офицерами сделала война. А Фещук — кадровик, был кремлевским курсантом, позже, во время финской кампании, командовал ротой, на Волховском фронте получил батальон. Вот тебе ножи да топоры… Гляди, может и поприжать… Успокаивал себя тем, что политотдел-то, в конце концов, на всех один и партийная комиссия при любом единоначалии одна — и для Фещука, и для него, Осташко.
Но все это были не опасения — для них пока не было причин, — а просто размышления, свойственные в эти месяцы, как знал Алексей, не только ему, а множеству таких же, как он, — недавних политруков и комиссаров. И вот Замостин, видать, уже втянулся, привык и к новым порядкам. Для него все словно было так и раньше или, во всяком случае, должно было быть… Назначенные в роты и батальоны парторги… комсорги… партийное бюро, в котором секретарствует он, днепропетровский прокатчик, рабочий человек.
Вернулся Фещук.
— Ну, снял пробу, осмотрелся в нашей Кашубе? — спросил он с порога, дружелюбно перенимая, присваивая и себе то свойское «ты», которое уже перелетало меж Замостиным и Осташко; с секунду задержал взгляд на ордене Александра Невского на гимнастерке Алексея, снял полушубок — на груди две Красные Звезды. — Глубинка! Днем сами на линейке, ночью — волки да сохатые…
— Побольше бы таких глубинок.
— Оно так, а все ж недаром о нас и стихи сочиняют… Не забыл, Замостин? Как это он, лейтенант из армейской редакции, сказал?
Замостин усмехнулся, припоминая, потер лоб:
Кащуба!.. Избы… Бор угрюмый. Костры в снегах… Замерзший плёс… Когда бы раньше я подумал, Чтоб черт сюда меня занес?!Фещук захохотал.
— Слышал? Приехал человек в командировку, осмотрелся и с ходу припечатал нас.
— Кстати, он, по-моему, тоже из Донбасса, — заметил Замостин.
— Как фамилия? — заинтересовался Алексей.
— Да вот позабыл. Мы его Минометкиным звали. В газете он часто так подписывается: Макар Минометкин. Шуточные стихи… В общем, сатира и юмор. Солдатам нравится.
— Ну, такого, понятно, в Донбассе не знал.
— Если не знал, то и знать уже не придется. Вышли мы из подчинения шестьдесят третьей. Передислоцировалась она. С голубики на морошку уехала… Снялась.
— Я об этом слыхал. Еще там, в госпитале.
— Команде выздоравливающих все известно, — согласился Фещук, — может быть, и про нас какой-нибудь слушок там бродил? А?
— Может, и бродил, но до меня не дошел. Сказано было только, когда вручали предписание, чтоб торопился сам.
— Гм, — переглянулся Фещук с парторгом, — это уже что-то новенькое. До сих пор не торопились. Позавчера Каретников даже приказал баню новую ставить, покапитальней. Второй день сосны пилим. А кто будет париться?
— По мне бы — я и еще одну срубил да оставил не жалеючи, — проговорил Замостин. Участвуя в разговоре, он между тем складывал на разостланную красную скатерку свои вещи — несколько книг и брошюрок, тетради, бритвенный прибор, какую-то жестяную шкатулку, которая, видимо, служила ему секретарским сейфом.
— А ты куда собираешься? — удивился Фещук и тут же спохватился: — Фу ты, позабыл… Так, может, и здесь потеснимся? Как ты, замполит?
Алексей и сам смотрел на сборы Замостина с чувством некоторой неловкости. Сжились, свыклись люди, а вот появился он, и все у них теперь врозь. Вспомнились нары ротного блиндажа. Там все проще. Пусть и приходилось поначалу скрючиваться от холода, но в середине ночи приятно было почувствовать горячую спину Борисова. Сейчас, пока не замечал сборов секретаря комбат, Алексей притворялся, что не замечает их и он. Есть старший… И когда этот старший предложил потесниться, сразу стало легче на душе.
— Что за вопрос? В таких хоромах да не поместимся?
— Ну, смотрите, мне по-солдатски и в стороне от начальства неплохо, — пошутил Замостин и стал выкладывать обратно свои вещи. — Лишь бы над головой не текло.
— Ладно, ладно, и солдату прибедняться не положено, а тебе тем более. Новожилов, скажешь Чапле, пусть поставит к ночи еще один топчан. Вот хоть бы и туда, к окошку, рядом с начштаба. Как раз влезет.
Но ставить топчан так и не пришлось. Фещук повел было Алексея по расположению батальона. Час назад брюзжавший на Кащубу, он теперь был не прочь и похвалиться добротностью и теплотой землянок, красным уголком, батальонной кухней и тем, что котелки не тащат в роты, а обедают тут же, в бревенчатой пристройке. На кухне к ним присоединился Чапля, командир хозвзвода, — русый грузный старшина с интендантской одышкой. Втроем шли от землянки к землянке. Над головами шумели сосны, язычком пламени переметнулась с ветки на ветку прикормленная красноармейцами белка. Пожалуй, она тут не одна. На снегу то под одним деревом, то под другим — россыпь шелухи от шишек. Неужели ему, Алексею, и в самом деле надо было спешить в эту обойденную, позабытую всеми штабными управлениями Кащубу? Не перестраховались ли в военкомате? Землянки пустовали — кто на занятиях, кто на хозяйственных работах. Но от дневальных, сбрасывающих дремоту и неестественно бодро вскакивающих для доклада, от ротных канцелярий, от потемневших дощечек-указок, прибитых на развилках дорожек, на Алексея вдруг повеяло такой прочной, непоколебимо устойчивой гарнизонной скукой, что он затосковал.
Фещук остановился около одного из умывальников, наскоро пересчитал на желобе соски́, напустился на Чаплю.
— Таблицу умножения знаешь? Сколько полагается на роту? А здесь и половины нет…
— Товарищ майор, так это же самой роте видней… Разве хозвзводу соска́ми заниматься? Что же тогда их старшина будет делать?
— А ну, давай мне его… Где Трушин?
Но из землянки уже выскочил и на бегу натягивал ушанку сам старшина. На лице, однако, никакой оробелости, наоборот, казалось, тщетно старался перебороть какую-то подступившую веселость.
— Товарищ майор, второй раз из полка звонят. Срочно вас разыскивают. Подойдите к трубке…
— Вот я вам задам, — погрозил на ходу Фещук. — То-то роту всегда последней выводите… Просвети его, капитан.
Припоминая то, что ему было известно о соска́х, — кажется, один на пять человек, — Алексей стал вразумлять старшину, но с лица последнего по-прежнему не сходило веселое, довольное сияние.
— Товарищ капитан, извините, — не выдержал и перебил он, — кажется, теперь уже не до них… не до сосков… Как я понял из разговора с полком, поднимаемся мы… Одним словом, прощай, Кащуба!..
Из землянки торопливо вышел Фещук. Махнул рукой, подзывая Осташко — злосчастный умывальник был позабыт, — сообщнически шлепнул его по плечу.
— А вовремя ты приехал, капитан… Есть команда… Завтра на колеса!..
Фещук обернулся к Чапле:
— Где Трилисский? Разыскать! Быстро!
На полпути к командирской землянке их нагнал высокий, голубоглазый старший лейтенант, начштаба батальона; нагнал, на ходу выслушал Фещука, заспешил вперед — звонить в роты.
3
И все позади, все, к счастью, оказалось переменчивым, мимолетным и, наверное, скоро затеряется, сотрется в памяти. Угрюмый сумрак дневного бора, поваленные буреломом сосны, петардный треск валежника под ногами. Вот только когда в конце другого дня прощально присвистнул паровоз и Алексей в последний раз глянул из теплушки на графитно-темную гряду обезлюдевшего леса, с усмешкой вспомнились строки оторопевшего перед Кащубой неведомого Минометкина…
Куда их везут? Никто ничего не знал. Ехали пока на Данилов. Как и все, измотанный погрузкой, Алексей, однако, долго не мог заснуть. Что, если дивизию перебрасывают на Западный фронт? Тогда они наверняка будут проезжать через Москву. Может быть, удастся позвонить Вале? Прошлой ночью он успел написать ей, сообщить адрес своей новой полевой почты. Дня через три она его получит, а ему теперь дожидаться ее письма придется долго, очень долго. Надо напомнить о себе и в Подольске… Ведь должны бы, должны ответить, даже если Василий погиб…
Под потолком мигал закрепленный в незамысловатой арматуре каганец, выбеливал нательные рубахи тех, кто лежал на верхних нарах. Нижним свет давала печка. Ее разрумянившиеся бока и конфорки. Дежурный по вагону не жалел дров — березовых и сосновых поленьев запаслись вдосталь. Их сильный смолистый запах смешивался с запахом намокшей овчины. Литерный состав двигался безостановочно, прибавлял и прибавлял ход. И, уже смежив веки, Алексей вдруг увидел тот тревожный эшелон, который прошлым летом увозил их, сто двадцать новоиспеченных политруков из Ташкента. И будто услышал глуховатый, запинающийся от волнения голос Кострова, читавшего приказ… Двести двадцать семь…
Он вздрогнул. Неужели это было? И хотя не на камнях Сталинграда, о котором теперь знал весь мир, а у крохотного безвестного Подгурья пролита и его кровь, все равно ему захотелось, страстно захотелось навсегда позабыть, вычеркнуть из памяти разбередившие тогда душу слова сурового укора…
Данилов миновали ночью. А наутро в проеме откинутых дверей встали колокольни и заводы Ярославля. Объявили короткую стоянку. Алексей побежал в штабную теплушку за сводкой Совинформбюро.
Каретников брился. Молча кивнул на придавленный оселком листок бумаги: переписывай, мол. Алексей вынул тетрадь.
Три дня назад, когда замполит полка направлял его в батальон, Алексею подумалось, что Каретникову, пожалуй, не могло понравиться нынешнее его подчиненное положение, привык комиссарить. Темно-карие, с повелительным тяжелым взглядом глаза, седина в жестких волосах, крупная красивая голова придавали ему вид человека, которому неохота не только подчиняться, но и делить власть. Такое впечатление еще более окрепло после того, как увидел командира полка — хилый, неприметной наружности, с впалыми щеками и серой кожей лица. Савича легче было представать себе не у оперативной карты, а у какой-либо школьной, географической. Мельком заметил, как по-разному они, закуривая, зажигали спички: один — резким тычком от себя, другой — словно мягко оглаживал коробку. Мелочь, а в ней характеры. Но от Замостина слышал, что Каретников и Савич воюют вместе уже полтора года, а знают друг друга еще раньше, приятели чуть ли не с курсантской скамьи. И сейчас, посматривая, как мирно переходит у них из рук в руки намыленный помазок, Алексей даже позавидовал: эх, сложились бы вот так дела и у него с Фещуком!
Алексей изо всей силы надавливал карандашом. Увидев, как он перекладывает из страницы в страницу копирки, Каретников заинтересовался:
— У вас прямо-таки походная типография. Какую же канцелярию ухитрились обчистить?
— В госпитале запасся, товарищ майор. Удобно, сразу шесть экземпляров.
— Так вы еще там, в госпитале, на батальон метили? А если бы послали на строевую, в роту?
— Другим бы пригодилось.
— Дальний прицел! Только, видите, как получилось… И познакомиться с батальоном не успели… Сразу в теплушки.
— Получилось неплохо… Познакомлюсь на ходу. Чего ж лучше?!
— Слышь, подполковник, какие у нас политработники? Огонь!
Савич, натягивая под лезвием дряблую кожу, страдальчески поморщился.
— Пополнение… Ох, пополнение… — пробормотал он. И осталось непонятным, что же имел в виду комполка — самого Осташко или же других новичков, прибывших ранее с маршевой ротой и вызывавших сейчас, в пути, его озабоченность?
— Разрешите идти, товарищ подполковник?
Алексей соскочил со стремянки, заспешил к своим вагонам. Эшелон трогался. В дверях теплушки стоял Замостин. Алексей протянул ему сводку. Тот подхватил ее жестом машиниста, принимающего из своей паровозной будки жезл дежурного по станции.
— Садись… Не то отстанешь…
— Я во вторую, к Солодовникову.
Накануне они говорили о том, кто бы мог стать парторгом во второй роте. Замостин назвал Солодовникова. Алексей встретился с ним вчера на товарной рампе, но из-за жесткого графика погрузки побеседовать толком не пришлось. А на первый взгляд понравился. Ростом хоть и пониже, а напомнил Никиту Изотова, приезжавшего как-то в Нагоровку. Такие же доверчивые лазоревые глаза, такая же застенчивость, конфузливость и такая же недюжинная сила. Тюки спрессованного сена перелетали из его рук в вагон, как спичечные коробки. И других подзадоривал — работа шла споро, дружно.
— Давайте руку, товарищ капитан, — помог подняться в вагон дневальный. На нарах постукивали в домино.
— А ну, кого зовут Марусей?
— Я вот тебе Марусю покажу! Ставлю дубль-шесть.
Двадцать болельщиков заглядывали через плечи четырех игравших, выставлявших самодельные деревяшки с выжженными очками. Увидев замполита, прикрыли деревяшки ладонями.
— Эх, подсказала бы сводка маршрут…
— Если как вчерашняя, то вряд ли…
— Снимайте шинель, товарищ капитан, теперь до Ростова из вагона не выпустим.
— Про какой Ростов вспомнил?
— Да уж не про твой, а про ярославский…
— А может, и к моему направляемся, едем-то на юг…
Алексей прочел сводку. Но она была подобна мерному однообразному перестуку колес; поиски разведчиков, артиллерийские перестрелки — и еще неведомо где были те, главные стрелки, которые переведут эшелон войны на начатый в Сталинграде магистральный путь. Снова о доски нар застучало домино, а Осташко и Солодовников присели в другой половине вагона. Сейчас, когда сержант был без ушанки, его сходство с прославленным забойщиком стало еще разительней. Льняные волосы, вероятно, вились бы, как у Изотова, если бы их не подстригла нолевка ротного санинструктора. К тому же на переносице синели крапинки, не замеченные вчера в сумерках.
— Вы разве шахтер, Солодовников?
— Немного был, товарищ капитан, год по контрактации. Вы по василькам угадали? У нас в Долгушах они у многих. Орловщина! Чуть ли не в каждом втором дворе шахтер найдется.
— А что ж не остались на руднике? Не понравилось?
— Что вам по правде сказать? И дело шло, и заработок был хороший, а приехал в отпуск домой, женился, и женка как привязала… И здесь, мол, в колхозе, лишних рук нет. На шахте я уже помощником машиниста электровоза работал, а тут трактор начал осваивать.
— И в партию вступили в Долгушах?
— Нет, там не успел. На фронте уже, под Можайском, братьев пришлось догонять… Я-то в семье младший. — И тут губы Солодовникова растянула непонятная, лукавая улыбка, смысл которой дошел до Алексея минутами позже.
— И братья в армии?
— Да, Николай и Владимир еще перед белофинской остались служить… Я их после белофинской и не видел.
— И еще есть?
— Якова и Михаила весной сорок первого призвали… Александр, токарь, правда, вроде бы броню на «Электростали» имел, но потом тоже повестку получил — послали в оружейную мастерскую…
Солодовников умолк, посмотрел на Осташко, будто спрашивая, продолжать ли дальше, интересно ли ему слушать.
— Неужели не все?
— Так у нас же в избе, как мать рассказывает, меньше чем три люльки никогда не висело, товарищ капитан. Я уж про сестер не говорю… И двойнята на фронте… Иван, Федор…
— Позволь, позволь, сколько же это получается?
— Со мной девять…
— Целое отделение? И все коммунисты?
— Так уж вышло, товарищ капитан, — словно винясь, произнес сержант. — Отец у нас насчет этого строгий. С восемнадцатого года в большевиках. В Долгушах посмеивались над нами, что другие приучают ребятишек к грамоте с букваря, а Солодовников с газеты. Сельсовет столько не выписывал, сколько мы… Учительницу еще и в глаза не видели, а почтальона каждый день к плетню бежали встречать.
— А здесь почтальон вас не забывает? Пишут братья?
— Так я же тут недавно. Только неделей раньше вас приехал в Кащубу. Заново надо списываться после госпиталя. А солдатская почта, сами знаете, полевая — и этому полю конца-края нет. От Михаила в госпитале на пятнадцатый день письмо получил, догадываюсь, что в Заполярье… Да и на пятнадцатый хорошо, а вот от Владимира с первого дня войны никаких вестей. Он у нас старший… Батя еще против Колчака довоевывал, а Владимир уже в Долгушах комсомольскую избу-читальню ставил. Первую на всю волость… Из армии в сороковом году прислал фотографию — звезда на рукаве…
— Ну, Павел, выходит, тебе и на роду написано быть парторгом, — улыбнулся Алексей, мысленно одобряя выбор, сделанный Замостиным. — Раз уже взялся догонять братьев, то догоняй… Кто еще в роте коммунист?
— Стученко, потом лейтенант, командир первого взвода, и двое из новеньких.
— А ты пятый и берись за дело.
— Мне капитан Замостин уже говорил… Знамо, насчет того, чтобы догонять, я пошутил… Были бы живы… А за дело браться, конечно, кому-то надо, на войне не отказываются, понимаю.
В Ростове, маленьком, тихом городке, ничем не напоминавшем своего шумного южного тезку, Алексей перешел в другую теплушку, где разместились остальные бойцы роты Стученко. Отнюдь не в бездумном служебном рвении Алексей сказал Каретникову, что даже лучше познакомиться с батальоном на ходу. Он убеждался, что это действительно так. Времени у всех вдоволь. Толкуй, беседуй с людьми, не подгоняемый часами расписания — занятиями, быстро пролетавшими перекурами. Но и во второй теплушке, и в третьей, в которую он пересел в Александрове, вбирая в память новые лица, новые имена, все еще виделась та первая — лазоревые глаза Солодовникова, васильковые метки на его лице — и виделись те знакомые всем Долгушам, подвешенные к балкам потолка три люльки, из которых вышли в мир, в белый свет, учились, трудились и сейчас воюют за мот мир Павел и все его восьмеро братьев…
4
Уже трое суток мотало эшелон по коротким и длинным перегонам, по шумным пристанционным путям железнодорожных узлов и множеству зацепеневших в апрельской распутице степных и лесных полустанков. Ехали на юг, навстречу поднимавшейся оттуда, с Дона, с Украины, весне. За Ряжском прогрохотали по мосту и увидели набухшую в своем темно-буром ледяном кожухе и вот-вот готовую тронуться реку, у семафора перед Мичуринском выскочили из вагонов, чтобы сорвать на пригреве насыпи золотистую мать-и-мачеху; дальше, дальше и уже то там, то здесь, на долах и гонах, зазеленели клинья озимых, как стрелы генерального наступления, взламывающего затянувшуюся оборону зимы.
Всю четвертую ночь стояли. Паровоз передвинул состав на какой-то глухой, видимо запасный, путь. Алексей, проснувшись на рассвете, услышал за стенкой вагона чей-то разговор.
— Какая станция, папаша?
— «Лев Толстой».
— Что Лев Толстой? Я тебя о станции* спрашиваю.
— А я тебе и отвечаю — станция «Лев Толстой».
— Гляди, неужели есть в России и такая?!
— Эх ты, сыра-земля, небось с церковноприходским или четырехклассным?
— Угадал, папка с мамкой дальше не пустили, вместо чернильницы приставили к шпандырю.
— То-то и видно.
— Да ведь и ты, чай, не консерваторию прошел, коль с мазилкой ходишь?
— Все одно, хоть с мазилкой, хоть со шпандырем, а про такого человека знать полагается.
— А я что ж, думаешь, не наслышан? Хошь — и про Ясную Поляну скажу…
— В Ясной Поляне он здравствовал, а тут помирал.
— Вот так бы сразу и сказал, а то ишь чем корить вздумал — четырехклассным!..
Препирательство обоими велось беззлобно, скучающе, но Алексея разговор заинтересовал. В свое время читал, что болезнь и смерть застигли Толстого в дороге, смутно припоминалось и название станции до ее переименования — Астапово? Астахово? Но где именно она находится — не знал. Выходит, здесь, в этих краях, неподалеку от Липецка, который они проехали вчера вечером.
Когда Алексей отодвинул дверь вагона, железнодорожника уже не было. В лужице талой воды, блестевшей меж рельсами, мыл сапоги пулеметчик Панков. Заметив, что замполит всматривается в стоявшее поодаль приземистое здание вокзала, Панков словоохотливо доложил:
— Это, товарищ капитан, станция «Лев Толстой». В его память так прозвали. Он тут, оказывается, помер. Только что с одним местным старичком беседовал…
Проснулся и подошел к двери Фещук.
— И сейчас без паровоза? — спросил он у Алексея.
— Без… Всю ночь на запасном…
— Ну, значит, приехали…
— Думаешь, будем выгружаться?
— Точно… Да вон же видишь?
Со стороны головного вагона вдоль состава спешил Голиков, помощник начальника штаба, дежуривший по эшелону. Из вагонов, которые он один за другим оставлял позади себя, выскакивали и направлялись туда, к штабному, офицеры. На повеселевшем лице Голикова и в его пританцовывающей походке зримо было запечатлено долгожданное облегчение оттого, что его хлопотливые обязанности теперь подходят к концу.
— Фещук, в семь ноль-ноль быть у первого, — нараспев, довольным тенорком выкрикнул он. — Объявляйте подъем, никому из вагонов не отлучаться!
— А людей будем кормить? — осведомился Осташко.
— Разговорчики! — в последний раз напомнил о своей непререкаемой власти Голиков, потом все же добавил: — Там в штабе скажут, узнаете…
Фещук вернулся через полчаса. Скомандовал быстро позавтракать. И едва только поварской черпак опорожнил походную кухню, начали выгружаться. Небольшая станция, за которой проглядывались ухабистые улички, палисадники, колодезные журавли еще сонно дремавшего поселка, мгновенно оживилась, как разворошенный муравейник. Первый батальон вывели в пристанционный скверик, второй и третий разместились под навесом пакгауза. Кто чистил и расправлял измятые в дороге шинели, кто брился, кто — помоложе — просто разминался.
Алексей, которому комбат передал, что в комнате ожидания Каретников созывает политсостав, направился в вокзал.
Еще в дороге Алексей не раз думал с тайной надеждой: а что, если дивизии доведется вести бои на донецкой земле? Если их направляют туда? Но сейчас, мысленно прикинув расстояние, он понял, что эти надежды несбыточны. Будь иначе, разгружались бы много южней.
Каретников заговорил о предстоящем марше. Слушая привычные еще по училищу слова — «не растягиваться», «проверить обувь», «выслать вперед кухни», «созвать на привале коммунистов», — Алексей повел взглядом по залепленному плакатами залу. А ведь где-то рядом, может за стеной, та комната… Разве напомнить, намекнуть Каретникову? Упросить? Есть, мол, такое общее желание… Всего-то и дела четверть часа… Нет, не стоит. Заворчит. Поставлена задача на марш, а вы что, экскурсии затеваете?
Спустя полтора часа батальон шагал по обсаженному старыми ветлами тракту на Ефремов.
Привал объявили, когда скрылась за увалами степи станционная водокачка. Всех пленила опушка березовой рощи. Правда, из глубины ее, где только недавно сошел последний снег, тянуло холодом и сыростью, но здесь, на опушке, земля успела прогреться, а на гребнях рва уже пробились сквозь опалый прошлогодний лист краснолиловые цветочки хохлатки, а кое-где молодо зеленела трава. Красноармейцы, не сбрасывая вещмешков, присаживались где посуше.
— Веселись, душа, дотянулась еще до одной травки-муравки.
— Что рано в старики записываешься? Небось на такой муравке с девкой еще и не лежал?
— К тому и говорю.
— Братцы, гляньте, уже и какая-то мохнатая тварь закопошилась. Гусеница, что ли? Сказано — весна.
— По такой весне еще не раз зубами плясовую будешь отбивать.
— Зачем зубами? А ноги на что? Подметки казенные.
Алексей отыскал взглядом роту Пономарева, пошел туда. В последние дни пребывания в Кащубе она почти наполовину доукомплектовывалась молодыми солдатами. Война добралась уже и до них, родившихся в помеченном скорбной всенародной утратой двадцать четвертом году. Все они свыклись друг с другом в запасном полку, а потом в маршевом батальоне и до сих пор держались вместе; вот и сейчас собрались в раскатисто хохотавшую гурьбу, потешались над кем-то.
— Кто это вас так развеселил? — улыбнувшись, спросил Алексей, подумав про себя, что коль так благодушно смеются, то беспокоиться за ребят особо нечего.
— Да это, товарищ капитан, наш Янчонок отличился.
— Очень уж занятно у него с броней вышло.
— Сам с себя снял, — наперебой стали рассказывать новички, расступаясь перед Осташко так, что он оказался лицом к лицу с конфузливо переминающимся с ноги на ногу пареньком. Только при всей этой конфузливости больно уж высоко был вздернут плутоватый носик, и плутовато подрагивали зернинки в чистых серых глазах.
— Вас что, в самом деле не отпускали? — полюбопытствовал Алексей.
— Не слушайте их, товарищ капитан, они вам наговорят. Не во мне дело, всю нашу столярную мастерскую повестками обходили. Мы деревянную тару для фугасок делали, не успевали и вывозить.
— А все-таки насчет брони сомневаюсь.
— Да в мастерской ее и не было, в том-то и штука… А потом в Куйбышев иностранные посольства переехали, и нас на паркет перевели… Вот тут и совсем надолго придержали… Аж обидно стало, руки не поднимались. Написали письмо в Москву… Так, мол, и так, неужели Гитлер уже разбит, что мы паркетом занялись? А из Москвы вскоре телеграмма: паркетчиков на фронт! Ну, военкомат сразу нас всех и подмел… Товарищ капитан, разрешите спросить, что это у вас за орден? — Янчонок с хитрецой перевел разговор на другую тему.
— А присмотрись-ка сам.
Янчонок, а вместе с ним и его дружки подошли поближе.
— Вроде святой какой-то… Каска с шишаком… таких сейчас и не носят. Але… Александр…
— Эх ты, сам монашья скуфейка, — пристыдил Янчонка кто-то другой. — Не святой, а, можно сказать, первый маршал на Руси… Александр Невский.
— Верно, — подтвердил Алексей. — Мечом умел владеть хорошо…
— Честное комсомольское, первый раз вижу.
— Ну вот что, «честное комсомольское»… Кто из вас еще комсомолец?
— Да все, кто вот тут… Только один не успел билет получить. На собрании в ремесленном принять приняли, а тут повестка, до райкома не дошло.
— Мы здесь по-фронтовому, без райкома… Комсорг с вами беседовал, созывал?
— Да, переписал… Сказал, что, как придем на место, комсомольское собрание проведем.
— А зачем откладывать? Вот будет большой привал, можно и созвать…
Пополнение Алексею понравилось. В большинстве своем недавние ремесленники, и коль приучены мастерами к рабочему инструменту, то и к солдатскому станут относиться бережливо. И все-таки, мысленно перенеся всех этих горячих, хороших ребят на ту Подгуровскую высотку за Ловатью и представив себе их там, под тем огнем, с беспокойством подумал Алексей, что главная школа для них еще впереди. И хорошо, если первый искус нагрянет не по-глупому; хорошо, если рядом будет тот, кто начальные классы этой школы прошел… Иначе скольким из них суждено лечь в землю, в братские могилы, так и не познав хотя бы изначальный вкус солдатского торжества над битым врагом…
Алексей разыскал командира роты Пономарева, взял у него список личного состава, посмотрел разбивку по взводам.
— Я новеньких всех перемешал, товарищ капитан… вместе со старослужащими, — поняв, чем интересуется замполит, поспешил предупредить Пономарев. Грузный, даже пышнотелый, был он одногодком Алексея и, как он уже успел заметить, самолюбиво, с недовольством встречал замечания в свой адрес.
— Здесь, на бумаге, вы их перемешали, а посмотрите, что в поле получается! Стоят гуртом… Где же ваши старослужащие?
— А что ж мне их, с реверансами друг к другу подводить? В окопах и те и другие оботрутся.
— Нет уж, Пономарев, на окопы надеяться нечего.
Подошел Бреус, парторг роты.
— Товарищ капитан, разрешите сказать. О новичках не тревожьтесь. Все мы посматриваем за ними, отстающих не будет. Я с ними целую конференцию провел. Да и другие коммунисты все время вместе с ребятами… Это сейчас они в кучу сбились, а так у нас порядок, следим.
И снова зашагали. Шли вольным шагом врастяжку, чтобы не хлюпать на других вылетающей из-под сапог грязью. Полы шинели заправили под ремни, задумчиво смотрели на лоснящуюся на пригревах землю. Кто в эту весну сделает на ней, проснувшейся от зимней спячки, первую борозду? Лемехом или снарядом? Что вслед за собой поманит прилетевших грачей — плуг или срывающая дерн солдатская лопата?..
5
Уже по одному тому, что полк никто не торопил и двигался он вразвалочку, по-ополченски, со щедрыми дневками и привалами, с горячей сытной пищей, уже по одному этому чувствовалось, что задача, которую где-то и когда-то предстоит решать ему и дивизии в целом, маячит в таком отдалении, что разглядеть ее сейчас и не пытайся. Те, кто шагал в колонне, воспринимали эту неторопливую размеренность по-разному, в зависимости от пережитого в войну ранее. Фещука, например, она вполне устраивала. Он не мог позабыть отчаянные марш-броски сорок первого, да и сорок второго года, и они вспоминались ему теперь, как вспоминаются старшекласснику неудачи и промахи начальной поры. Свернув на обочину дороги коня, он пропускал полный состав батальона, вновь и вновь любовался его внушительной численностью, ласкающим взглядом окидывал то роту раскрасневшихся, в добротных полушубках стрелков, то взвод противотанковых ружей, то минометчиков, замыкавших строй. «Теперь-то научились, повоюем, господа гансы, по-настоящему, теперь нас на бога не взять. Дудки!» — мысленно приговаривал Фещук. А для Янчонка и многих других, таких, как он, сорок первый год, знакомый только по горестным сводкам, начисто заслонялся взошедшим в зенит солнцем Сталинградской битвы, победами на Дону, на Кубани, и потому медлительность похода и однообразие потянувшихся дней были им совсем не по душе. Пятые сутки в дороге, а фронтом и не пахнет. Снова стоянка. Вон и сеять люди начинают. Где же он, этот передний край?!
Алексей не пережил в войну всего того, что пережил Фещук, но и многим другим, кто шагал сейчас в строю, пока не довелось видеть и знать то, что успел увидеть и узнать Алексей. Все-таки за плечами Северо-Западный! И потому этот ритмичный, неспешный, расписанный в вышестоящих штабах темп марша не вызывал у него какого-либо нетерпеливого зуда. То, что их дивизию вот так, одним махом, перебросили через добрую тысячу километров сюда, в сердцевину России, уже само по себе внушительно о чем-то говорило. Вряд ли это просто очередная смена частей, перестановка их. Для этого, пожалуй, нашлись бы войска и где-либо поближе. Но тогда что же? Предпринимаемое исподволь, в предвидении летней кампании, подтягивание и сосредоточение? Трудно, да и не ему гадать. И однако брезжила пока еще безотчетная вера, что его, Алексея, доля пройдет не околицами войны… И ничто не уйдет, ничто не минует, не обнесет его война своей полной и увесистой чашей. Вместе со всеми осушит ее до дна. Эта вера сообщала телу, каждому движению, каждому шагу взбодренную, приятную легкость. И та физическая нагрузка, которую приходилось нести на марше по размытой весенней распутицей, чавкающей под ногами грейдерке, казалась ему недостаточной. Шел то в голове колонны, то переходил в задние ряды в снова по обочине дороги нагонял впереди идущих.
— Споем, пехота? — памятным голосом Мараховца пригласил Алексей шагавших, когда дорога пошла посуше, бугром. — Кто посмелей? Затягивай!
Как бывало часто и там, в Ташкенте, никто не отозвался.
— Отмалчиваетесь? Что ж, придется на почин самому.
…Ты лети с дороги, птица, Зверь, с дороги уходи! Видишь, облако клубится — Кони мчатся впереди.Голос был у него неважнецкий, нечто среднее между тенором и баритоном, хотя однажды на семейном вечере забойщиков, когда не приехали артисты областной филармонии, он исполнял даже «Черную шаль», само собой не обольщаясь выпавшим в тот вечер успехом. Если бы запел Лембик, хлопали бы, наверное, еще сильней. Но сейчас был польщен. Подхватили дружно, даже присвистнули:
Э-эх, тачанка-ростовчанка!..К Телешеву, небольшому селу с опрятными, веселыми хатками, раскинувшемуся на взгорье, дорога завиляла петлями по каменистой осыпи, на середине подъема раздваивалась, одна пошла в обход. Дали команду на перекур, чтобы подождать Фещука, вызванного к командиру полка.
— Ишь, выплясывает джигит! — проговорил Замостин, кивая на показавшегося вдали всадника.
Срезая дорогу, комбат направил коня выпасом, и на зеленевшей толоке молодцеватая, взгоряченная пробежка каурого скакуна выглядела действительно красивой. Фещук понимал это и сам; картинно описав перед поджидавшими его офицерами безупречную дугу, круто осадил коня.
— Пойдем левее, на Лебедянь. Там и ночевка. Здесь, в Телешеве, и без нас все овины забиты.
Когда взошли на взгорье, только черная точка мельтешила на дороге почти у обреза горизонта. Фещук спешил узнать, что это за Лебедянь, где предстояло разместиться батальону.
После Телешева рельеф местности резко изменился. Заветвились овраги, и дорога ныряла в ложбины, перебиралась по хлипким деревянным мостикам, взбиралась по крутым склонам балок. Все это напоминало хорошо знакомое — шоссейку от Нагоровки до Дебальцева. Но те, знакомые, балки донецкой степи, когда-то давным-давно взломанные напором тектонических жил, так и замерли навечно, нерушимо со своими каменными уступчатыми стенами; заросли́ терном, шиповником, бересклетом, и уже никакие ливневые потоки, бушевавшие на дне, не могли больше ничего поделать с твердостью вставших на их пути пород. А здешние овраги, легко расправившись с верхними рыхлыми слоями чернозема, набираясь от дождя к дождю, от весны к весне новой яростной силы, упорно гигантскими осьминогами углублялись дальше и дальше и, казалось, разрастались своими щупальцами на глазах. Где уж тут удержаться на их зыбких обрывистых склонах какому-либо кусту; разве только реденькая повилика робко попробует зацепиться за землю, прижаться к ней листочками, да и то ненадолго — до первого дождя, который хлестнет, смоет ее вниз. И все-таки чем-то она начинала привлекать сердце Алексея, эта ранее малознакомая срединная российская земля… Чем? Возможно, как раз этой своей черноземной сытой плотью, которая, даже будучи изранена оврагами, по-прежнему казалась неиссякаемо щедрой, готовой вновь и вновь в свой срок одарить людей хлебом, травами, ягодами, цветами…
— Кто из этих мест? Есть здешние? — пропустив вперед несколько рядов второй роты и подравниваясь к идущим, поинтересовался Осташко.
Переглянулись, но не отозвались.
— Неужели нет никого?
— Был бы кто-нибудь, вам не пришлось бы и спрашивать, товарищ капитан. Сам бы наверняка не стерпел, подошел и на побывку попросился бы, — шутливо заверил белолицый, разгоряченно сдвинувший на затылок ушанку красноармеец. — Как солдату пройти мимо своей хаты?
— Да уж ты, наверное, и чужой не миновал, если бы юбку во дворе приметил, а, Рында, признайся?
— Наговаривают на меня, товарищ капитан, ей-богу, наговаривают, — довольно поблескивая глазами, пожаловался белолицый, завертел головой, оглянулся: — А вот где Рябцев? Рябцев, ты чего ж молчишь? Давно ли хвастался, что почти дома. Показывай дом свой…
Приземистый молоденький красноармеец, на котором кожушок сидел как-то по-особому пригонисто и щеголевато, осклабился, одернул Рынду тычком приклада.
— Не загинай лишнего, я тамбовский.
— Все равно ЦЧО… Центральная Черноземная…
— Была когда-то… А почему вы о здешних спросили, товарищ капитан?
— Да вот гляжу — оврагов много. Дали им волю. Сколько чернозема вразброс пошло, — посетовал Алексей, пропуская еще один ряд и пристраиваясь к Рябцеву.
— А что против них сделаешь, товарищ капитан? Стихия! Что правда, то правда, их и у нас, на Тамбовщине, хватает. Они — как гитлеры: не то что пядь земли, а целые километры отхватывают…
— Леса надо садить, а не на стихию сваливать, — назидательно заметил Рында.
— И в лесах хлеб сеять?
— Я тебе по-серьезному говорю… Закрепление почвы называется… регулирование, по-научному… У нас на Волге, если бы не так, не по-хозяйски, то весь чернозем в Каспий уплыл бы…
— Зато воевать здесь сподручней. Хоть в засаду, хоть в поиск, хоть и самому укрыться. И лопатой не надо мозоли набивать. Все готово. Пересеченная местность… — авторитетным баском прогудел кто-то за спиной Осташко. Он обернулся, отступил еще на один ряд.
— А ну-ну, кто это такой бывалый стратег?
— Да это Талызин…
— Давай, Талызин, обоснуй… Вот, оказывается, куда немцев надо было сразу пригласить да здесь, в этой мышеловке, и расколошматить! А мы-то по недомыслию здесь не задерживаемся, дальше идем, теряем выгодные позиции… Все рассмеялись. Но сказавший это пожилой солдат остался невозмутимым.
— Об этом жалеть не приходится, товарищ капитан. Чего-чего, а такого добра, как овраги, и там полно…
— Где там?
— Ну, одним словом, впереди, куда направляемся… На Орловщине…
— А вы откуда знаете?
— Сам орловский…
— А что ж молчали?
— А про что говорить? Я свое родное село, можно сказать, сам немцу в сорок первом отдал… На моих глазах сгорело… Сравняли его с землей… Не о чем и говорить…
В Лебедянь пришли уже в сумерках. И в окраинных избах, и в городского типа домах, что стояли на площади, окна глядели на улицы темными, мрачными квадратами, были зашторены. До этого, проезжая эшелоном, впервые за долгие месяцы полюбовались кое-где приветливыми огнями далеких деревень, а здесь уже снова приметы войны, ее предполье…
Фещук поджидал колонну на площади. Был здесь уже и Трилисский. Подозвав командиров рот, засемафорил рукой, стал показывать, кому в каких порядках домов размещаться.
— Только пока не подъедет батальонная кухня, в хаты людей не заводите, — предупредил ротных Осташко.
— Что так? Скинули бы сапоги, обсушились в тепле.
— Когда сапоги скинуты, тогда уже не до ложек… Бултыхнутся на пол — и гвардейскими минометами не разбудишь.
— Вам дело говорят, выполняйте, — поддержал Фещук замполита, словно он высказал его собственную мысль.
Штаб занял домишко вблизи торговых рядов, в котором, судя по старым, развешанным на стенах плакатам санпросвета, издавна обитала или санитарная станция, или контора Лебедянского рынка. Новожилов отыскал на задворках хворост и сразу же стал взбадривать захолонувшую облупленную печку. Нашлась и солома, чтобы прикрыть каменные плитки пола. Как ни тянуло Алексея после ужина вслед за Фещуком опуститься на это духовитое, обещавшее добрый сон ложе, все-таки он пересилил себя, решил пройтись по расположению рот. Чистое звездное небо, только на горизонте обранное тучами, походило на бездонную, окаймленную потемневшим снегом прорубь. Размахнувшись от края и до края земли, в нее устремился серебристый луч прожектора и, не нащупав там никакой тверди, мгновенно исчез. Ночь углубилась, задышала спокойней.
Окликаемый вполголоса часовыми, Алексей шел от двора к двору. Повсюду в домах спали. Лишь в одном из плохо закрытых окон узеньким лезвием блестел свет.
— Кто там все еще возится? — спросил Алексей у похаживающего вокруг колодца часового. Присмотрелся, узнал Панкова.
— Давно улеглись, товарищ капитан. Храпят — аж сюда слышно. Хор Пятницкого!
— А что ж не потушили?
— Хозяева, наверное.
Алексей все же пошел проверить. Над оставленными на столе такими притягательными котелками склонились две ребячьи головенки. Мальцы опрометью кинулись на печь.
— Что, сдрейфили, мышата? — успокоил Алексей. — Действуйте, ешьте, раз уж поступили на солдатское довольствие, только окно получше прикройте. Где мамка?
— На окопах, — тоненько послышалось с печки.
Об отце спрашивать уж и не стал. Наверняка где-то если не в такой же придорожной хате, то в окопах…
Вернулся в штаб. Ночное прохладное небо, тишина, та льдистая предвесенняя свежесть, которая в эти поздние часы ощущается особенно остро, взбодрили. Снял полевую сумку, шинель и, приткнувшись к потрескивающей плошке, стал писать письмо Вале. Счастливая Вологда с ее сугробами, библиотекой, горенкой в скворечнике ушла теперь в ту же даль, что и Ташкент, и Старое Подгурье. И только этому вырванному из тетради листку бумаги можно было поверять свои непостижимые рассудком, питаемые родником сердца ожидания и надежды.
6
Дивизия, что выгрузилась на станции «Лев Толстой», остановилась лишь после того, когда далеко позади были оставлены Лебедянь, Ефремов и на сменившихся командирских картах следующим ближайшим райцентром обозначился Новосиль. Но до него километров двенадцать не дошли. Свернули чуть в сторону, к небольшим деревенькам, разбросанным по увалистым склонам долины. Когда-то она являлась, наверное, руслом реки, а сейчас здесь подавал голос, по-апрельски лепетал и тренькал только ручей; правда, разлился и подбирался талыми водами выше голенищ. В безлюдной, полуразваленной — тут уже начиналась прифронтовая полоса — деревеньке и обосновался батальон Фещука. Здесь же на третий день и узнали, в чье подчинение наконец-то попала дивизия. Узнали не от вышестоящих штабов — связь только налаживали, — а от кольцевой полевой почты. Девчата с промчавшейся полуторки сбросили дежурному по батальону пачку газет, и он принес их Осташко. Развернув сверток, Алексей сразу же обратил внимание на эту незнакомую ранее газету.
— Смотри, майор, что-то новенькое… Любопытно, — протянул он комбату газету — двухполоску с заголовком «За Отечество!»
— А, старые друзья! Узнаешь, Замостин? — неожиданно заулыбался Фещук. — Вот где, оказывается, встретились! Это же шестьдесят третья армия, наша резервная, вологодская, брусничная и грибная…
— Как, да ведь шестьдесят третья уехала на Северо-Западный, — удивился Алексей.
— А что ей сейчас там делать? Болота мерять и леших считать? Сюда, сюда ее, голубушку. Здесь, наверное, лето будет пожарче. Ну-ка почитаем, на что нас нацеливают? Так, так… «Умей маскироваться…», «В ночном поиске…», «Лопата — друг солдата…», «Боевая подготовка бойца…», «Ветераны делятся опытом…». Все правильно, как и полагается. Попал бы этот номерок в лапы какого-нибудь гитлеровского генерала, ни черта бы он не понял…
— А ты понял? — недоверчиво спросил Алексей.
— Я? Еще бы! Перелопачивай, Фещук, землицу, начинай весенне-полевые работы, переползай, маскируйся… А ты, Осташко, оборудуй вместе с Замостиным свою наглядную агитацию и пропаганду…
— Я думал, что ты и в самом деле что-нибудь между строк прочел, — даже несколько разочарованно протянул Алексей.
— А разве не прочел? Тебе этого мало? Говорю же, что можешь хоть заново строить здесь свой Дворец культуры.
— Насчет Дворца не знаю, а если бы баньку успеть соорудить, было бы неплохо.
— Успеешь, гарантирую.
Все эти овраги, балочки, криницы, стежки и долы, луговины и косогоры, которые отныне стали просто расположением батальона, разумеется же, издревле имели и продолжали иметь свои собственные, не схожие ни с какими другими имена. Но теперь они, словно заколдованные, укрылись за семью печатями. Те, чьи босые пятки вытоптали эти дорожки, кто в ночном раскладывал костры на толоке, кто пускал по ручьям хитроумно сооруженные из бересты баркасы и вскопал под грядки приткнувшуюся на склонах неудобь. А армейская домовитость поскупее — первое учебное поле, второе, сборный пункт, стрельбище, линейка, медпункт… Вот только разве луг на выходе из ложбины окрестили позатейливей — Бахваловским… Во славу батальонного повара! Здесь нашлись для его котла щавель, дикий лук, чеснок. Стены двухоконной избушки, где расположился штаб батальона, Трилисский в первые же дни густо обвешал расписаниями, планами-календарями боевой и политической подготовки, графиками дежурств и суточных нарядов.
Но порой совсем иная жизнь, некогда здесь обыденно и мирно утвержденная, вдруг да и напоминала о себе.
Как-то Алексей возвращался с политзанятий из второй роты, которая размещалась поодаль от остальных, в старых, оставшихся еще от сорок первого года блиндажах. Уже свернул было на дорожку, что вела к штабу, когда заметил поднявшегося из-за той стороны холма, где располагались хозяйственные службы, Чаплю. Увидел замполита и старшина и, срезая дорогу, заспешил навстречу. Чем-то явно взволнован, определил издали Осташко, но вроде бы ничего худого, улыбается.
— Товарищ капитан, омшаник нашли, — запыхавшись, выпалил он. На лице прямо-таки восторг. — Ребята из второй роты думали, что погреб заваленный, полезли посмотреть, а там омшаник… самый настоящий…
— Постой, постой… Толком скажи, что за омшаник?
— Ну, который для пчел… Зимовка ихняя. Семь ульев. Пасека, одним словом — мед!..
— А хозвзвод уже и облизывается? — недоверчиво произнес Алексей. — Там, наверное, после таких морозов не то что пчел, а единого трутня нет…
— Да, кажись, не вымерзли, сбереглись… Может, посмотрите, товарищ капитан, и распорядитесь? Все-таки ж добро. Хоть колхозное, хоть любительское…
Перед темным провалом, который вел в присыпанный почти на уровень с землей омшаник, сановито сидел на чурбаке Бахвалов. Сам он пролезть внутрь не порывался, благо, что и причина к этому есть уважительная — белый колпак, белая куртка… Но руководить руководил.
— Ты постукай их, постукай… отзовутся или нет? — покрикивал он, заглядывая в дыру. Оттуда, словно из угольного забоя, высунулась взъерошенная, с запутавшейся в волосах паутиной голова Рынды.
— Товарищ старшина… Виноват, товарищ капитан, — поправился он, увидев замполита. — Жужжат, ей-богу, жужжат.
— Интересно, что ж они тебе нажужжали?
— Просятся на волю, товарищ капитан, а все свое, накопленное, — в фонд обороны, нам, своим освободителям, защитникам Родины!.. — с разгорающимся вожделением воскликнул Рында.
— Ишь, скорый какой! Не думал, что во второй роте такие сладкоежки… Еще и политику подвел! А ты знаешь, что им и самим сейчас подкормка полагается?
Поддержал и Бахвалов.
— Это верно. Поначалу дай рацион, а тогда уже и с них требуй. Помню, дед держал дуплянки, так он весной пчелу обязательно сахарным сиропом подкреплял.
— Сахарным? Только и всего? — не унимался Рында. — Так я свою дневную пайку без всяких разговоров первый жертвую на это дело. И всю роту сагитирую… Это ж злодейство будет, если их здесь, в темнице, оставить…
— Может, и в самом деле выставим для подкормки, товарищ капитан? — выпрашивая согласие, произнес и Чапля. — На них и полпайки хватит. А то даже неудобно. Вернутся бабы, детвора и засомневаются: да русские люди тут стояли или же нет, что позволили пчеле погибнуть?!
— Хорошо, выставляйте, а потом посмотрим, что с ними делать, — распорядился Алексей. — Да поосторожней там копайтесь, а то и вас самих засыплет.
Когда он рассказал о находке Фещуку, тот недовольно засопел:
— А свиноферму заводить здесь не будем? Или крольчатник? У нас инспекторская поверка вот-вот, что называется, на носу… А мы, с благословения замполита, в пасечники?!
Алексей спокойно, и этим спокойствием как бы унимая раздраженность комбата, привел, на его взгляд, самый убедительный довод, какой высказал старшина. Ведь и впрямь вернутся, возможно, даже очень скоро вернутся сюда жители, погорельцы…
— Ладно, коль распорядился, так я твоего распоряжения не отменяю. Но и знать ничего не знаю… — Фещук опять посопел, помолчал, мысленно, наверное, осуждая свою уступчивость, потом командирски неумолимо махнул рукой. — Только подальше их, подальше… Чтоб в расположении я их не видел.
На другой день пять голубовато-бурой окраски ульев — две пчелиные семьи оказались погибшими — выстроились на опушке молоденького малинника, почти в километре от штаба. Можно было бы и позабыть о них. Но изредка то сдвоенным дозором, то разведчиками-одиночками, ведущими свой дерзкий поиск, они все-таки залетали и сюда, в штабной домик. Фещук оставался верным своему слову — «знать ничего не знаю», — старался их не замечать и ниже склонялся над столом. А Новожилов, присутствовавший при том разговоре комбата с замполитом, мгновенно спохватывался. Брал полотенце и тихо им помахивал. Желал услужить комбату и в то же время выдворить залетных гостей вежливо, деликатно, не обидеть их. Может быть, действительно уже предвидел тот день, когда на столе окажется котелок с пахучими сотами?
Слово «поверка» было у всех на устах, с ним заканчивали по самую завязку заполненный занятиями день, с ним поднимались поутру, чтобы снова шагать на учебные поля. Но, прежде чем прибыли поверяющие, в батальон явился еще один гость.
Однажды в обеденный перерыв, когда все штабные офицеры были в сборе — составляли очередной план-календарь, — Новожилов, неторопливо чинивший цыганской иглой оборвавшуюся полевую сумку комбата, вдруг весело обернулся:
— Товарищ майор, посмотрите, кто идет… Макар Минометкин!..
— А, пожаловал и к нам, бродяга?! — приподнял голову и, кинув взгляд в окно, довольно-таки равнодушно произнес Фещук. — Бери его сразу на себя, Осташко, мне сейчас возиться с ним нет времени.
Алексей увидел на тропинке устало тащившегося высокого, как жердь, и худого офицера. Через руку перекинута и волочится полой по земле шинель, совершенно излишняя при таком солнцепеке. Полевая сумка и пистолетная кобура неприкаянно болтаются у обвисшего пояса. И хотя эту фамилию, точнее, кличку Алексей услышал всего второй раз — первый раз в Кащубе, — а уж встречаться с ее владельцем и подавно не мог, все-таки почудились в лице подходившего гостя какие-то туманно знакомые черты.
Но вот отворилась дверь, Алексей всмотрелся и ошеломленно вскочил. На пороге стоял и щурился близорукими глазами секретарь редакции нагоровской городской газеты Степан Сорокин, и он же, оказывается, ныне титулованный армейской молвой Макар Минометкин.
— Необъятная наша Страна Советов, а все-таки для земляков и она тесна! — громогласно воскликнул он и шагнул навстречу Осташко, обнял его.
— Мне о тебе Каретников сказал, — немного погодя пояснил Сорокин. — Есть, мол, у нас новенький замполит, донбассовец… Соображаю — фамилия и имя сходятся… Ну, а когда узнал, что сей Алексей — видишь, как рифмы сыплются? — имел какое-то отношение к Дворцу культуры, сразу определил — не кто иной, как ты… И сюда!
— Ну, а мне бы никогда и в голову не стукнуло, кто укрылся под таким прозвищем.
— Ну, веди, веди земляка к себе, пусть отдохнет, — улыбаясь вместе со всеми, сказал Алексею Фещук.
В Нагоровке Алексей не так уже близко знал Сорокина, хотя одно время тот даже руководил литературным кружком во Дворце. Отношения их были полуслужебными-полуприятельскими. Секретарь редакции иногда разживался у директора Дворца контрамарками на спектакли для себя, для жены, а то и для друзей, для жен друзей. И Алексею не раз удавалось, вопреки бухгалтерским запретам, тиснуть бесплатно объявления в газете. Порой пробегала между ними и черная кошка. Это когда Сорокин, вот так проникнув по контрамарке в зрительный зал, отвечал затем вопиющей неблагодарностью. В хлесткой рецензии разносил какой-либо концерт или случайно заехавшего гастролера. Но сейчас даже этот, подчас явно несправедливый разнос вспоминался без зла. Тяжело было только возвращаться памятью к их последней встрече на крыльце школы перед опустевшим Домом Советов и к тому, как Сорокин ужаснулся, когда Алексей сказал, что ротацией теперь займется истребительный батальон…
— После того, как ты послал меня к черту, я оказался там же, где и ты, в Средней Азии… Только чуть подальше, в Ленинабаде, — рассказывал Сорокин. Сейчас наедине с Алексеем он словно снял с себя маску бывалого, тертого Макара Минометкина, глаза его стали задумчивыми, грустными. — Ну вот, там, в Ленинабаде, взяли меня библиотекарем в санитарный поезд… Видишь, как воюем, и такая должность есть, раньше я даже не знал… В общем, два рейса прошли удачно, а на третьем под Великими Луками разбомбили… Попал в резерв Главполитуправления… Донской проезд, пять… Оттуда в армейскую редакцию… Выходит, какое-то время находились в Вологде рядом. А ты где именно был на Северо-Западном? На Ловати? Александр Невский у тебя оттуда? «Мой предок Рача мышцой бранной святому Невскому служил…» Здорово сказал товарищ Пушкин. «Бранная мышца»! Она, я вижу, и у тебя окрепла. Ты и там, в батальоне, комиссарил?
Алексей стал было рассказывать, но когда увидел, что Сорокин этак деловито, буднично вынул блокнот и начал в нем что-то черкать, то сразу рассказ оборвал.
— Э, нет, дружище, так у нас разговор не получится.
— Почему? — в притворном изумлении округлил глаза Сорокин.
— Потому что не собираюсь стать героем твоего очерка. Может, когда-нибудь попозже, если еще встретимся, а сейчас рано. Избавь, пожалуйста.
— Да ты откуда взял, что я хочу сделать тебя героем? — в свой черед шутливо запротестовал Сорокин. — А если я собрался тебя хорошенько пропесочить? Ты забыл о моем основном армейском амплуа?
— Это уж другое дело… Но и тогда надо начинать не с меня. Отправляйся в роты.
— Ладно, не будем терять времени, еще ночью наговоримся. А сейчас и в самом деле похвались хорошим ротным парторгом… Есть в батальоне такие?
Алексей подумал о Солодовникове.
— А блокнот у тебя запасной имеется?
— Он что, такой разговорчивый?
— Ну, это уже как сумеешь к нему подойти, расшевелить.
— Пока удавалось. Позавчера получил интервью, а заодно с ним двадцать литров бензину даже у начальника тыла…
Солодовникова они нашли позади землянки, под яблоней. Что-то негромко читал. Трое бойцов плашмя лежали на траве, уперев локти, как пулеметные сошки, в землю, слушали. Осташко, еще подходя, жестом руки разрешил не подниматься.
— Что читаете, Солодовников?
— Иваном Куликовым заинтересовались, товарищ капитан.
— Нравится?
— Занятно, встречались и мне такие…
— Ты мне больше не нужен, — шепнул Алексею Сорокин, в голове которого, возможно, уже мелькали первые строчки будущей корреспонденции: «Я застал парторга роты, когда он знакомил своих товарищей по оружию с новым фронтовым рассказом Бориса Горбатова…»
Наведавшись к яблоне спустя полчаса, Алексей еще издали увидел, как одна за другой вспархивали под быстрым карандашом Степана страницы блокнота. Слышался голос Солодовникова:
— Ну, а пятый — Владимир. Этот связист. Уже четвертый год в армии. Воевал под Львовом, под Ленинградом.
Осташко понял, что появился рано, и не стал подходить. Впереди были еще Александр, Иван, Федор, сам Павел… Сорокин вернулся только перед ужином.
— Ну, Алеша, спасибо! В счастливый день я к тебе попал. Ошеломлю всю редакцию. Девять богатырей! Вот это Матрена Ефремовна постаралась! Послала на фронт два расчета… Эх, всех бы разыскать! Да не в очерк, а в плакат… И на все фронтовые перекрестки, на все станции… Смотрите, какая семья взялась за мечи!.. Большевики, хлеборобы, шахтеры, токари, трактористы… Такому парторгу есть что сказать солдатам. Отцовской крови! За таким пойдут!..
— Сами бы дошли только… Говорил он тебе, что от Владимира с первого дня войны нет писем? — спросил Осташко. — А он, видимо, политруком был… Красную звезду на рукаве носил…
— Что ты так сразу «был, был»… А может, партизанит? Война большая, Брянские и Калининские леса тоже не малые…
Новожилов принес и, почему-то виновато вздохнув, поставил на стол котелки с ужином. Сорокин пододвинул один, мельком заглянул в него, но, словно чего-то ожидая, не стал пока есть, продолжал говорить.
— Остывает, — перебил его Алексей, приглашающе кивнув на котелок. — Ложка с собой или, может, дать?
— Послушай, у тебя что, в самом деле ничего нет? — почти испуганными глазами глянул на земляка Сорокин.
Ах, вот в чем дело! Алексей рассмеялся.
— Второй эшелон, друг. Ничего не поделаешь. Не положено.
Степан величественно поднялся из-за стола.
— Где моя шинель?!
— Не дури, садись и ешь, — рассердился Алексей, подумав, что Сорокин собирается уйти.
— Я спрашиваю, где моя шинель?! — повышая голос, повторил Сорокин и, найдя ее, полез в карман, загадочно задержал там руку и вытащил флягу. — Сегодняшний день, быть может, подарил мне лучший очерк, а ты хочешь ужинать на сухую.
— Это что, тоже результат встречи с начальником тыла?
— А ты думал, что он богат только бензином?
Разлили.
Сорокин протянул руку к третьей, стоявшей на подоконнике кружке, глянул на Новожилова:
— Выпьем, старина?
— Я, товарищ капитан, вообще не пью. Категорически, — опасливо посмотрел Новожилов на замполита. — Но когда вот так предлагают, то считаю, что это от бога, и отказаться не смею…
— И часто тебе от него перепадает?
— Да пока не обижал.
— Ну, а это не от бога, а от Макара Минометкина.
Подняли кружки.
— За всех девятерых Солодовниковых! — торжественно провозгласил Сорокин. Немного погодя, уже закусив, тряхнул пустой флягой, точно сожалея, что не удастся выпить за каждого из братьев в отдельности.
Потом они лежали на топчанах, вспоминали Нагоровку, Донбасс.
— Хочешь, почитаю стихи? — предложил Сорокин.
— Свои?
— Отчего бы я стал читать чужие? Ты и сам грамотный. А эти на наборную кассу не рассчитаны. Просто так… Жене вместо писем… Не все же время быть Макаром. Порой нахлынет и иное…
Не меняя позы — он лежал на спине, закинув руки за голову, — Степан словно бы и стихами продолжал недавние раздумья. И Алексей слушал его, тоже отдавшись своим раздумьям. Не стал судить — хорошие ли это стихи или плохие… Только мимолетно всплыла в памяти та, к которой они были обращены. Когда-то в директорской ложе она, придвинувшись вплотную к барьеру, любила вертеть по сторонам своей хорошенькой чернокудрой головкой. Но перед глазами Алексея сейчас встала и другая, светленькая, незнакомая Степану.
А Степан между тем тихо, приглушенно продолжал:
…Где ты теперь, отцовская могила? Разрывами снарядов взметена. Его ты прах навряд ли сохранила, Но в памяти моей навек сохранена…И эти последние строки вызвали в памяти Алексея свое — август сорок первого года, когда отец уезжал в Тихорецкую. Не поцеловались даже на перроне, грубовато, по-мужски отогнали прочь тревогу друг за друга… А вот оно каким затянувшимся оказалось то, августовское, прощание…
Степан, припоминая выпавшие вдруг из памяти следующие строфы, что-то невнятно про себя залопотал, забубнил, но так и не припомнил, резко отвернулся лицом к стене:
— Ладно, хватит. И прошу тебя — ни слова! Никаких оваций. Будем спать.
7
Поверяющие — их было трое — приехали перед вечером, и, глядя, как они после дальней дороги не спеша приводили себя в порядок, чистили запыленную одежду, умывались, ужинали, не спеша просматривали разные инструкции и вопросники, можно было подумать, что этак не спеша, покладисто потянется завтра и все остальное. Когда Осташко усомнился, не помешает ли поверке ожидавшаяся в этот вечер кинопередвижка, поверяющие запротестовали: «Пусть приезжает… Что она везет? «Антон Иванович сердится»? Тоже посмотрим».
В сумерках в ложбине замолотил движок.
Гостей уложили спать в штабном домике. Фещук и Осташко постелили себе во дворе, под навесом, кинув туда охапку накошенной хозвзводом луговой травы. В предчувствии завтрашнего напряженного дня оба силились поскорее заснуть и уже дремали, но тут скрипнула дверь. На крыльце, освещенная луной, показалась дородная фигура старшего поверяющей группы — полковника из армейского отдела формирования. Фещук стал обеспокоенно вспоминать — сказал он приехавшим или не сказал, куда в случае чего идти. Но шаги и уверенно нацеленный мотыльково-белый луч фонарика приближались к ним, спавшим. А потом в ночную тишину, перебиваемую лишь отдаленным знойным стрекотанием сверчков, полнозвучно упало:
— Объявляю тревогу!..
Ракетница была у Фещука с собой. В небо поднялись рябиновые гроздья, и еще не померкли, еще трепетали их отблески на холмах, в стеклах штаба, на откинутой крышке часов, которые держал в своей руке полковник, как сапоги и гимнастерки были надеты. Фещук и Алексей, на ходу затягивая пояса, побежали к пункту сбора. И началось привычное, знакомое и, как всегда, пугающее какими-либо неожиданностями, мыслью о чем-либо непредусмотренном, упущенном, позабытом. Ведь не могло не волновать то, ради чего все это предпринималось и задумывалось. Бой!.. Завтра или послезавтра, на раннем ли рассвете или вот так же ночью, внезапно, но, позванные на бой, на смерть, они не будут медлить, вступят в него готовно. В любую минуту! По присяге!
Полковник подходил к двухшеренговому строю шагом, который был выверен так же, как его часы. Алексей посмотрел на свои. Собрались и построились за шесть минут. Почти как в училище. Пожалуй, неплохо. Никто не запоздал, никто виноватым голосом не просит разрешения стать в строй. Все на месте. Кажется, довольны и поверяющие. Разошлись для беглого осмотра по ротам.
Фещук и Алексей думали, что вслед за тревогой будет отдан приказ на какой-либо короткий марш-бросок. Но поверяющие ограничились общим сбором, проверкой наличия оружия, затем последовала команда разойтись. Несколько минут в темноте цигарки искрились кучно, затем огоньки поплыли, закачались порознь.
Два наступивших за этой ночью дня были насыщены большими и малыми заботами, удачами и неудачами так туго и плотно, как под самую завязку бывает набит вещмешок новобранца. Политическую подготовку проверял майор из политотдела корпуса, пожилой, с гладко зачесанными назад волосами и желтоватыми глазами. Алексей поеживался от его дотошных вопросов, и порой, словно бы в утешение, хотелось себе представить, как в свою очередь будет поеживаться он, когда корпус станут проверять инспектора из штаба фронта. Но никакого утешения от этого не возникало. Майор легко и умело нащупывал не какие-то неожиданные для Осташко, ранее не замечаемые им промахи, а те, о которых он знал, которые предугадывал и потому теперь испытывал за них как бы удвоенную вину.
Но к концу третьего дня, когда уже провели и беседы в ротах, и совещание парторгов, и сбор агитаторов, почувствовал Алексей, что его поверяющий стал вроде бы доверительней, мягче. Алексей уже знал, что до войны он работал в Наркомпросе, руководил там каким-то методическим кабинетом. И это появившееся в нем новое, сближавшее обоих настроение схоже было с тем, с каким преподаватель на большой перемене покидает учительскую, чтобы запросто со всеми потолкаться в школьном коридоре.
Вечером третьего дня они возвращались с комсомольского собрания.
— Немного завидую вам, капитан, — неожиданно произнес майор. — Да-да! Завидую вашим годам и, следовательно, вашей должности.
— Да на сколько же вы старше, товарищ майор? — схитрил было Алексей, имея в виду только возраст и уклоняясь от того, чтобы сопоставлять остальное.
— И десять лет на войне весомая разница. Да и не только на войне. Когда я окончил пединститут и стал преподавать, то был старше своих учеников всего на десять лет. А на фронте такие, как я, оседают в корпусе, в дивизии, встречаются изредка и в штабах полка, а уже ниже не найдете.
Алексей молчал. Они шли степью, трава уже подросла по щиколотки, из-под ног не раз взлетали какие-то пичуги, скорее всего жаворонки.
— Скажите, капитан, вы сами давали кому-нибудь рекомендацию в партию?
— Здесь пока не имею права. В этом батальоне всего два месяца.
— А уже вот сейчас, будь у вас это право, хотелось бы им воспользоваться?
— Разумеется.
— А ну-ка назовите своих будущих кандидатов. Есть такие? Расскажите о них…
Алексей с минуту молча перебирал в памяти знакомые лица.
— Готов дать не задумываясь Талызину… Он здешний, орловский, воюет с сорок первого. Считаю, что подготовлен и лейтенант Золотарев. Дал бы, пожалуй, и Рынде, помните, вы спросили его о знамени?
— А если бы попросил рекомендацию Янчонок?
Алексей подумал.
— Пожалуй, еще молод. Он и в комсомол вступил только перед отъездом на фронт. Разве что накануне боя…
— А я бы дал и сейчас. И уверен, что он меня не подвел бы. Вспомните, как горячо, пылко говорил он о воинской чести… Не заученно, а по-своему, как подсказывает сердце, хотя все испытания для него еще впереди и всей тяжести их он не знает… Кстати, вы с какого года член партии?
— С тридцать восьмого… Долго ходил в кандидатах, был закрыт прием.
— Вот видите, стали коммунистом уже в зрелом возрасте… Я примерно тоже… Кандидатом приняли на рабфаке, а членом партии стал в начале пятилетки на Магнитке, работал там в учкомбинате. А Янчонок имеет право стать им и в свои двадцать… И это право дала ему партия по самой высшей и единственной справедливости… Вы, кажется, кончали военно-политическое ускоренным порядком?
— Да, за шесть месяцев.
— А у таких, как Янчонок, войной все ускорено. Юность, возмужание, гражданская зрелость. Вот перед боем пишут заявления — хочу умереть коммунистом. Почему так пишут? Он молодой, знает, что, возможно, ему не суждено получить от жизни все то, что она приносит — большую любовь, радость отцовства, выросшие знания и опыт, гордость за свой труд, уважение товарищей по труду… Но, допуская вероятность лишиться всего этого, он все-таки стремится хотя бы в какой-то час взглянуть на мир с самой вершины истории. С той, с которой смотрели на мир Ленин, Дзержинский, Киров, Шаумян, Гастелло… Это — честь, но перед атакой это и выношенное в душе право. Подняться, быть на этой вершине, прожить жизнь сполна! Понимаете, стремление прожить жизнь, вопреки всему, сполна! И я, старый школьный работник, не отказал бы в этом праве никому из своих учеников…
Разговаривая, они совсем замедлили шаг, затем остановились, закурили. Лицо майора, освещенное неярким огнем спички, было торжественно-строгим, каким оно бывает, когда человек поверяет собеседнику свое самое сокровенное, выношенное давно, в долгих раздумьях.
— Как у вас сложились отношения с комбатом? — уже другим, деловым тоном спросил майор, снова продолжая путь. — Довольны им?
— В каком смысле?
— Чувствует ли он свою ответственность за то, чем раньше главным образом занимались мы, политруки? Вы его заместитель, помогаете ему, а как помогает вам он?
— Пожаловаться не на что.
— Он кадровый командир?
— Да, был кремлевским курсантом… Рассказывал однажды, как стоял часовым у Мавзолея Ленина.
— Гм… Нам об этом ни слова… Поскромничал, видимо… — Майор помолчал, о чем-то раздумывая, потом спросил: — Вы сами бывали в Москве, на Красной площади, в Мавзолее?
— Дважды.
— Я почему об этом спросил… Очевидно, вы и сами замечали, проходя мимо часовых в Мавзолей. Они все кажутся схожими и потому словно бы безымянными, каким-то символом народа, который охраняет своего вождя… А между тем, вдумаемся, у каждого из них своя неповторимая родословная, своя неотделимая от жизни Родины биография… Кто с Волги, кто с Днепра, из рязанских и полтавских сел, с той же моей Магнитки, с ваших донецких шахт… До призыва в армию это просто Петьки, Алешки, Никишки, а вот повзрослели, надели шинели и стоят на самом первом посту. Поднялись к той самой вершине, о которой мы с вами говорили… Так что пусть ваш Фещук не скромничает… И, кстати, ваша задача сделать так, чтобы солдаты знали своих командиров, они у нас замечательные и разнятся, отличаются друг от друга не только количеством звездочек на погонах…
Внимательно слушавшему Алексею то казалось, что майор утверждает его в собственных же мыслях, в тех, которыми он делился еще с Борисовым, то думалось, что все-таки он раскрывает эти мысли с бо́льшей глубиной, с бо́льшим жизненным опытом. Понял он из этого разговора по дороге и то, что поверяющим батальон понравился и они остались им довольны.
Поверка подходила к концу. И она бы стала совсем благополучной, если бы не один случайный казус, который впоследствии стали называть «пчелиным инцидентом».
В день отъезда поверяющих сели обедать. И все шло своим чередом, пока на столе не появились на третье котелки с компотом. Им Чапля хлебосольно потчевал в знак завершения поверки — расчетливо придерживал для этого сухофрукты из того подарка, который неделю назад прислали полку колхозники Алма-Атинской области. И тут произошло непредвиденное. Едва начали лакомиться, как над котелком вжикнуло… Вначале никто из поверяющих этого не заметил. Но вот уже не одна, а с десяток темно-золотистых, со слюдяным блеском крылышек занозистых певуний начали выделывать свои стремительные виражи, закружились в опасной близости от голов сидевших, стали пикировать вниз к густому, благоухающему навару. До этого залетавшие в штаб и землянки пчелы-одиночки, не обнаружив в солдатском довольствии ничего привлекательного для себя, быстро удалялись прочь. А тут вдруг застали целое пиршество. Можно ли его миновать?
У полковника округлились глаза.
— Откуда у вас здесь пчелы? Неужели так богато живете.
Фещук пониже наклонился над столом, искоса разъяренно взглянул на Осташко. А ну-ка, мол, выкручивайся теперь сам. О пасеке, хотя придирчиво проверялась и хозяйственная служба, все в батальоне умолчали. Сейчас же заговорить об этом было бы и совсем неловко, совестно.
— Новожилов, выгоните их и закройте окно, — вместо того чтобы ответить на вопрос, распорядился Осташко.
Новожилов осторожненько замахал над головами обедающих полотенцем.
— Кыш-кыш, — уговаривающе зашептал он. — Ну и жадные тварюги. И откуда же исхитрились пронюхать… За сколько верст!..
Полковник насторожился.
— Ты, товарищ ефрейтор, что-то лишнее загнул… Прифронтовая полоса двадцать пять километров… При такой дали не пронюхаешь.
— Так они же как воробьи, товарищ полковник. Разве станут с этим считаться? Что им полоса? Без пропуска обходятся.
— Все равно, дальше чем на три-четыре километра за взятком ее полетят. Да и нет сейчас в том нужды. Лето хорошее, медоносы повсюду.
В этом разговоре — один вел его вынужденно, смущенно, а другой с каким-то явным удовольствием и любопытством — Осташко и Фещук не участвовали. Мысленно проклинали рвение Бахвалова и Чапли, молчали. И молчание их становилось подозрительным.
— Ну вот что, стрелки, — обратился полковник уже к ним. — Вы мне перестаньте голову морочить. Где у вас пчелы?
Дальше отделываться молчанием стало невозможно.
— По правде говоря, товарищ полковник…
— По правде… А как же иначе?
— Так точно, виноваты… Хозвзвод случайно нашел несколько ульев. Оставило население в омшанике. Что с ними, бесхозными, было делать? Весна! Выставили наружу.
— Ох и ловок же ты выворачиваться, замполит. И мед уже гнали? — поинтересовался полковник, многозначительно отставляя компот.
— Гнать-то нечем. А так собирались солдат… сотами побаловать.
— Теперь картина ясная. — Полковник повернулся к Новожилову: — А ты, старый солдат, что же вздумал? Вместе со своим начальством поверяющим офицерам очки втирать, обманывать?
— Так это же дело не военное, товарищ полковник… к службе никакого касательства. Одним словом, пчела…
— То-то и оно, что пчела… А я ее уж как-нибудь знаю и от шмеля всегда отличу. В двадцать втором году на Дальнем Востоке на погранзаставе недаром пасеку держали. Не раз случалось вместо буденовки брыль надевать. И когда на погранзаставу гости приезжали, то их медком не обходили.
Фещук и Алексей готовы были хоть перекреститься. Грозу пронесло. Счастье их, что полковник оказался и сам пчеловодом. Может, и впрямь позвать Бахвалова, пусть мотнется на пасеку, вынет рамку потяжелей? Но этой мелькнувшей было мысли не успели дать ходу.
Полковник, а за ним и остальные поднялись из-за стола.
— А с пасекой поступим так — не трогать ее. Подтянутся сюда скоро медсанбаты, госпитали, вот тогда она и пригодится.
8
В день отъезда поверяющих всем запали в намять эти невзначай оброненные полковником слова о госпиталях, которые скоро должны подтянуться. Значит, передвинется вперед и батальон. Но потянулись дни, а никаких других признаков и обычных примет предстоящей передислокации не было. Правда, позвонили из полка, приказали направить на стажировку снайперов. Небольшую группу их — три человека — начали готовить еще в Кащубе. Вел обучение, был четвертым, старший сержант Морковин, сам, собственно, тоже новичок в этом деле, но все же на Центральном фронте в прошлом году открывший какой-то свой счет, продолжить который тогда из-за ранения не удалось. Теперь вместе с ним предписывалось послать кого-либо из командного состава батальона. Это уже что-то значило. Может, снайперы станут действовать в той полосе обороны, какую — рано ли, поздно ли — займет их батальон? Фещук предложил поехать Осташко. Тот связался со штабом полка, чтобы уточнить, когда и куда именно ехать.
— Направляйтесь завтра же в Новосиль, там вас встретят, — коротко кинул помощник начальника штаба Голиков. — Ясно?
— Не совсем, капитан. Куда в Новосиле являться? Все-таки большой или маленький, а город.
— Вы так думаете?..
— Передо мной карта… Обозначен районный центр.
— Вот теперь посмотрите на него вблизи. Будьте там в восемнадцать ноль-ноль, вас, повторяю, встретят. Все! — Голиков повесил трубку.
На другой день Алексей со своими снайперами вышел на дорогу, ведущую к Новосилю, чтобы сесть на попутную машину. Ждать не пришлось, она подвернулась сразу же. По когда уселись на ящики с боеприпасами, когда вынеслись на горку и взору открылась вся дорога на много километров вперед и назад, то удивились ее пустынности. А между тем разъезжена хорошо, двигайся, если сухо, хоть в четыре ряда; и трава по обеим сторонам припылена так, что даже поникла. Лишь репейники тянули вверх свои пунцовые соцветия и, надменно подбоченясь, кичились своим полновластием на невспаханных в эту весну широких гонах. По дороге, очевидно, ездили только ночью. Скоро на горизонте забелел и Новосиль. Они слезли на окраине города, машина юркнула влево от грейдерки, на неприметный издали проселок, верх ее кабины закачался над зарослями боярышника. Только теперь, шагая по улице, Алексей понял смысл иронического замечания Голикова о Новосиле. То, что Алексей издали принял за какие-то проглядывающие из-за густых садов белые колонны, белые порталы, оказалось стоявшими среди дворов печными трубами. Но сирень с обильными тяжелыми гроздьями изо всех сил старалась прикрыть обугленные руины, проросла в их кирпичных междурядьях, на фундаментах среди бутового камня, заполонила все давно не хоженные тропы. И как прошлым летом, там, в Старом Подгурье, ни одной надломленной мальчишеской или девичьей рукой ветки.
— Товарищ капитан!..
Из-под куста поднялся и, закидывая за спину автомат, шагнул на дорогу молоденький солдат. Их обещанный провожатый. Оттуда, с переднего края. Он и повел их, не оглядываясь, будто милостиво, из одолжения разрешал следовать за собой. Улица обрывалась у крутого, косо проложенного каменистого съезда к реке. И взгляду сразу стало просторно от наполненности светом. Внизу, уходя далеко-далеко вперед, так что в этих далях расплывались очертания холмов, высот и перелесков, стелилась неохватно широкая равнина. Но зелень ее, стоило только присмотреться, была не однотонной, а со множеством оттенков. То неестественно сочная, темно-изумрудная, как вспоенная обильной влагой августовская ботва, то буроватая, усохшая, перемежаемая, словно плащ-палатка разведчика, пятнами лягушачьей расцветки, то парниково-светлая, салатная, нанесенная вдоль какого-то невидимого русла осторожными короткими мазками. И Алексей после затянувшейся стоянки во втором эшелоне даже приободрился, угадывая в этих оттенках уже знакомый фронтовой камуфляж. Вот он снова, передний край, вернее, два схлестнувшихся, выжидающих каждый своего часа края — наш и вражеский. Спустились к латанной свежепиленными кругляками переправе и пошли дорожками, протоптанными в зарослях краснотала, по забурьяненным полям, по луговинам с черными когтистыми царапинами от разрывов мин. Изредка их провожатый отходил в сторону, подбирал белевшие в траве клочки бумаги…
— А тут давайте бегом, товарищ капитан, — единственный раз соизволил он обернуться к идущим позади.
Невдалеке затукал со знакомым тупым звуком крупнокалиберный пулемет. Но они уже перебежали прорытый меж скатами холмов-двойняшек ход сообщения и вскоре оказались на аккуратно подметенном пятачке перед врезанным почти в отвесный склон блиндажом.
За те двое суток, которые Алексей провел в этом батальоне — на командном пункте, в передовых и запасных окопах, на огневых позициях приданной батальону батареи, — снова и снова возникала мысль, что именно отсюда, от этого рубежа, продолжится фронтовой путь его и всех, кого он оставил в Верхних Хуторах.
Снайперы, поужинав, сразу завалились спать. Им вставать затемно. Алексея увел к себе в землянку замполит, родом из Краснодара, горбоносый, с тяжелой, как у лося, головой. По всему видать, он обрадовался, что, поднаторев здесь, на переднем крае, может теперь просветить и своего коллегу-новичка.
— Обстановку спрашиваешь? Я ее тебе сейчас представлю… — с астматической одышкой проговорил он и потянулся рукой к сложенной в изголовье нар стопке газет, брошюр, журналов. Точно такой же, какая была и у Алексея и в тысячах других блиндажей политработников от Мурманска до Новороссийска… «О Великой Отечественной войне Советского Союза», «Что принес фашизм народам Европы», «Спутник полкового агитатора», «Зверства гитлеровцев в оккупированных областях», «Наша Таня»… Вытащил из этой стопы карту фронтов.
— Послушай, Перекатный, с такой и я каждый день армиями командую, а другая, здешняя, покрупней, у тебя есть?
— Погоди, дойдет очередь и до другой. Я тебе, как коммунист коммунисту, откровенно признаюсь, что когда с Северного Кавказа их погнали, то у меня от сводок Информбюро даже головокружение началось. Считал, что к лету нам и делать здесь будет нечего. Откатятся от Ростова, от твоего Донбасса до самого Днепра, а потом, наученные Сталинградом, начнут и тут фронт выравнивать… Изгибы, видишь, здесь какие?! Но у меня пробуксовка получилась… Силен еще, гад. И вся его главная сила, все узлы и развязки теперь вот тут… А значит, тут оно и развернется, наше с тобой Бородино… Видишь, где мы стоим? У самого фашистского острия. Прямо на нас оно нацелилось, на Новосиль.
— Э, кубанский казак, гляди, чтоб у тебя снова пробуксовка не получилась. На Новосиль им сейчас нацеливаться не с руки. У самих справа Курский выступ навис.
— Я о чем тебе и толкую. Они нам тут тесак к груди приставили, а мы левее из-под Курска им…
— Может, наоборот?
— А вот погляди, что они против нас на Зуше поднакопили…
И он вынул из планшетки исчерканную, покоробленную, как чертеж, побывавший в руках множества цеховых мастеров, другую карту, полевую.
То, что с новосильских высот представлялось ровной, чуть приподнявшейся к северу низменностью, теперь, испещренное извилистыми линиями горизонталей, крупными и мелкими условными знаками, обретало вторую, подлинную действительность. Курганы, речушки, броды, кустарники, деревни и отдельные дворы, каменоломни, дубравы, гравийные и грунтовые дороги. Но была еще и третья действительность — самая главная, показанная на карте остро отточенными красным и синим карандашами.
— Видишь, нейтралка тут, напротив нас, триста пятьдесят метров. У левого соседа еще и побольше, но попробовали продвинуться, ничего не получилось. Бьет с фланга, и к тому же залив мешает. У них тут три, а может и четыре, линии окопов… Дзоты во второй и дальше, в глубине… А эта деревушка у пригорка тоже, считай, сплошной дзот. Под хатами пулеметные гнезда. Еще и сейчас по ночам цемент возят. Минометные батареи, как и наши, кочуют по овражкам.
— Но хоть щипаете вы его?
— А это уж взаимно. Как когда. Завтра утром посмотришь. Вот по этой деревушке недавно ночные бомбардировщики шуганули.
— А их авиация?
— Боевая что-то попритихла, а так летают, с агитацией… Тоже морока… Приказано подбирать и сжигать, а их — как сорняков на непрополотом клине.
— Это листовки, что ли?
— Да, всякие там пропуска… Ребята их зовут геббельсовскими продкарточками. Переходите, мол, будете пить кофе… А недавно и новые писульки появились… Власовские. Грозится гитлеровский прихвостень освободить Россию… РОА создает…
— А это что за зверь?
— Так себя назвали или собираются назвать. Дескать, Российская освободительная армия… Что ж это ваш политотдел моргает? Тебе полагалось бы знать и это…
— Да, может, и не все, как-никак второй эшелон, однако кое-что и мне известно.
О предательстве переметнувшегося к фашистам генерала Власова Алексей впервые узнал из политинформации еще в прошлом году, будучи в резерве Северо-Западного фронта. Побольше об этом мог бы рассказать Фещук, воевавший летом сорок второго года на Волховском фронте, но он, если разговор касался подробностей того, что произошло там, в Волховских лесах, сразу замыкался, темнел лицом. Здесь же, на переднем крае, в новосильской степи, это, оказывается, был уже не какой-то призрачный, неведомо где именно укрывшийся со своими подлыми намерениями враг, а вполне реальный, открыто злобный, и говорили о нем без обиняков и недомолвок.
— Сволочи, своею пакостью всю степь испоганили. Глянь, если хочешь.
Алексей взял протянутый ему Перекатным листок, прочел, мысленно прослеживая цепочку, которая по-гадючьи протянулась от измены в Волховских лесах до этого размноженного в немецких типографиях и удостоверенного печатью со свастикой каинового пропуска. Листок был точно такой же, какие подбирал на обочине дороги и сконфуженно прятал их провожатый. Он рассказал об этом Перекатному.
— То-то я у него спрашиваю — на курево? Нет, говорит, так, для нужды…
— Ну и правильно он тебе, гостю, ответил, — захохотал Перекатный. — Хотя не разрешаю пользоваться и по нужде. Была бы для герра Власова слишком большая честь. Мои ребята это понимают, принесут — и тут же сжигают.
Заговорились, спать пришлось мало. В четвертом часу ночи по ходам сообщения прошли в окопы переднего края. Снайперы уже были на месте, курили, дожидаясь, когда вернутся стрелки, выставленные на ночь в боевое охранение. По замыслу их, ячейки и приспосабливались под снайперские гнезда.
Несмотря на предутреннюю росистую пору, по-прежнему, как и днем, пресно пахло сухой, перекопанной землей. Только со стороны реки из камышей наносило влажный воздух. Оттого, что небо оставалось чистым, звездным, темень под ним казалась плотно спрессованной, непроницаемой. Первым вылез на бруствер Пучков.
— А ну, скок на крылечко — бряк во колечко!..
Еще слышно было, как шуршала и осыпалась под ним земля, а самого уже не видно. Потом также исчез в темноте Стефанович, узкоплечий, гибкий, лучший пластун роты. Собрался было подняться наверх со своим напарником Ремизовым и Морковин, однако в эту минуту над степью беззвучно взлетела ракета. Алексею вспомнились осенние ночи в Старом Подгурье и тамошние ракеты — свет их был кипучим, яростным, многократно отражался в сверкании снегов, а этот шар, ворсистый, матовый, лучился лениво, сонно. Зачернели впереди колья проволочных заграждений, оловянно блеснул куст полыни и, кроме них, ничего. Снова темнота. Привыкая к ней глазами, Морковин выждал и подтолкнул напарника:
— Пошли, Иван…
Вот уже нет их. В нагрудном кармане Алексея лежит рядом с его партбилетом и партбилет Морковина. Отдал его еще с вечера.
— Хоть и не перед разведкой, а все же порядка ради возьмите, товарищ капитан. Спокойнее будет. Тем более, сами знаете, сталинградский.
Морковин вступил в партию в Сталинграде, но не в том Сталинграде, который недавно глянул на них со страниц «Правды» брешами и проломами почерневших разваленных стен, а еще в довоенном, шумном, весело перекликающемся гудками заводов, на одном из которых Морковин слесарил. Он долго не мог списаться с семьей, посылал письма всем, кого мог вспомнить, соседям, знакомым. С приходом Осташко в батальон в первые же дни попросил:
— Товарищ капитан, напишите, пожалуйста, в горком. Неужели вся наша Садовая улица под корень уничтожена?
С помощью Алексея удалось найти в детском доме за Волгой только сестренку.
Там, куда уполз сейчас Морковин со своими ребятами, стрельчато протянулась седая прядка тумана, сузилась и вскоре испарилась совсем, легла росой. Рассветало. Перекатный подозвал Алексея к стереотрубе. Двадцатикратно придвинулась рыжая, выстланная пересохшим дерном насыпь перед чужими окопами, за ней дальше остатки каменных строений, наверное, та самая, укрывшая узел обороны деревенька, белокаменный фундамент снесенного снарядами ветряка, левее обранная камышом затока, посреди которой чернела старая автомобильная покрышка. Однако именно потому, что все стало одинаково крупным и отчетливым, различить там что-либо живое, двигающееся было трудно. Алексей попробовал поделить эту ничейную полосу, наметить на ней промежуточные рубежи для атаки, но ничего хорошего не получилось. Если в развалинах деревни действительно оборудованы дзоты, то они будут держать под прицельным огнем все триста метров, и тут уж никуда не денешься; мертвое пространство только там, по ту сторону первой лилии обороны, а до нее надо рывком…
В широком просвете меж полуобваленными стенами вдруг, пригибаясь, кто-то пробежал. Без шапки, с непокрытой головой, в расстегнутой, с болтающимися полами куртке. И тут, впереди окопа, почти слившись, хлопнули два выстрела. Бежавший на миг вскинулся, распрямился, взмахнул руками, как бы пытаясь хоть ими дотянуться до стены, и не дотянулся, ничком ткнулся в землю…
— По-моему, подстрелили одного, — проговорил Алексей, приникая к стереотрубе. Что же будет дальше?
Солнце поднималось за спиной и отчетливо высветливало даже бурые швы сохранившейся каменной кладки и каждый куст бурьяна, которым заросли развалины. Несколькими минутами позже полынь шевельнулась; ее подминало тело того, кто пополз к первому, упавшему. И опять раздался выстрел. Морковин и его дружки, выдвинувшись на ничейную полосу с ее воронками, ровиками, кочками, просматривали не только передние траншеи врага, но и его ближние тылы, ходы сообщения, укрытые бойницы дотов. И в исподволь развернувшемся поединке участвовали пока только они четверо: немцы молчали. Лишь на какую-то долю секунды над немецким бруствером полыхнул отраженный стеклом оптического прибора пучок солнечных лучей. По все это так мгновенно, что поймать его, взять на прицел снайперской винтовки было бы не под силу…
Гитлеровцы ответили лишь спустя четверть часа. Так и не обнаружив места, где залегли снайперы, они повели минометный огонь по всей площади ничейной земли. Разрывы мин уплотнялись и уплотнялись, и казалось, там уже нет ни одной пяди, не прощупанной и не прочесанной осколками. Полем двигалась, вихрилась зловещая черная поземка, гнала перед собой комки дерна, стебли вырванных трав, облако бурой пыли.
— Послушай, Перекатный, надо выручать ребят, — встревожился Осташко.
— Да, можно бы им и отходить, — согласился замполит.
— Куда же, к черту, отойдешь под таким огнем? Тут не то что голову поднять — вздохнуть не дадут.
— Сейчас что-нибудь придумаем.
Перекатный, сгорбившись и прижимаясь к стенке — осколки свистели и над бруствером, у которого они стояли, — скрылся за изгибом окопа.
Вернулся с дымовыми шашками. Вскоре чадные смоляные косы распустились в степи и, снова свиваясь, сплетаясь в одну большую, заклубившуюся, закрыли горизонт. Перекатный закашлялся и, уклоняясь от наползавшего на окопы смрадного дыма, присел на корточки. Алексея же подмывало вылезти наружу… Уцелели ребята или нет? Что они медлят? Черную завесу уже относило к затоке. Первыми вынырнули из стелившегося дыма Стефанович и Пучков. Сохраняя выдержку, не прыгнули в окоп испуганными зайцами, даже чуть задержались на берме, оглянулись…
— А Морковин? — спросил Осташко.
— Вроде бы и его не задело. Ишь расшвырялись! В отместку? Выходит, есть за что? Ни с того ни с сего не стали бы склад опорожнять, разбрасываться, а, товарищ капитан?
К брустверу подползли Морковин и Ремизов. Морковин, очутившись на дне окопа, стал стягивать с ноги сапог. Встряхнул портянку, и из нее выпал осколок. На излете он пробил задник сапога, но ноги не тронул. Сержант удивленно подкинул на ладони иззубренную, похожую на клык сталь. Дым сносило к реке. В окопе светлело. И только сейчас по взбудораженным, взмокшим, с несошедшей бледностью лицам снайперов стало видно, чего стоило им сегодняшнее утро.
9
— Навоевался?
— За два дня?
— Все же докладывай, докладывай.
Алексей стал рассказывать Фещуку о том, что видел там, на переднем крае. Комбат играл с Замостиным в шахматы, но слушал внимательно. Когда же Осташко упомянул о власовских листовках, то коротким раздраженным тычком руки отодвинул доску.
— А, знакомая стерва! Ишь, где вынырнул!..
— Да ты ведь, кажется, на Волховском где-то рядом был, — неосторожно обронил Замостин, восстанавливая положение на доске. Но Фещук, сам же вспомнивший о своем знакомстве, неожиданно освирепел.
— Рядом? С кем? Я был в рядах Советской Армии, дорогой товарищ секретарь. Я и видел-то этого выродка всего один раз, когда на марше он наш полк обгонял. А потом, когда из окружения выходил, и хотел бы увидеть, чтобы в болото вверх ногами ткнуть, да его к этому времени Гитлер уже пригрел. Понял?
— Ну, а теперь чего злишься?
— Сам знаешь чего… Не ты первый передо мной такой глупейший вопрос ставишь… Рядом! Надо же так сказать!
— Ладно, комбат, извини. Давай все-таки доиграем, можешь сквитаться со мной, коль уж так вознегодовал.
Но Фещук теперь переставлял фигуры рассеянно и снова напустился на Осташко и Замостила вместе.
— Между прочим, товарищи комиссары, что это за баптисты у вас под носом в третьей роте появились?
— Баптисты? — вопрошающе посмотрел Алексей на Замостина, подумав, что за время его отсутствия знакомая рота Литвинова пополнилась какими-то новыми людьми.
— Не слыхал и я о таких… — невозмутимо пожал плечами Замостин, продолжая наседать на белого короля. — Объявляю шах!
— Не слыхали? А вот сегодня при мне была в роте поверка на двадцатую форму, приказал сиять рубахи, смотрю — у Маковки на гайтане целый иконостас.
— Ну, если иконостас, значит, уже не баптист, а такой же, как ты, православный, — заметил Алексей.
— Ты шуточками не отделывайся… Мне легче было бы у Маковки насекомое в рубахе увидеть, чем такую отсталость. Присмотрись загодя, не лишнее.
— Что же присматриваться? Сам же видел, что носит. И снимать его мне права не дано. Кстати, не стал бы его и добиваться.
— Да? Интересно выходит. А ведь, кажется, я отвечаю и за политико-моральное состояние. В случае чего, первая стружка полетит с меня, единоначальника. Вот придет твой земляк, Суярко, порадуй его, расскажи.
Суярко, уполномоченный СМЕРШа в полку, работал до войны в Донбассе, в каком-то горотделе НКВД, и у Осташко сложились с ним довольно-таки дружелюбные отношения. Но совет, который сейчас давал Фещук, был явно лишним.
— По-моему, Суярко здесь ни при чем.
— Как ни при чем? Может, те листовки-пропуска, про которые ты только что говорил, как раз среди таких дремучих пентюхов, вроде Маковки, рыбку и ловят…
— Не думаю… Иуда Искариот пока по церквам в героях не ходит.
— Ты в Библию не забирайся. Ты поближе к новейшему времени…
— А хоть и к новейшему… Наполеона тоже не безбожники били.
— То басурман, супостат, а деникинцев малиновым звоном кто встречал?
— А кто после того в церковь ходил? — встал на сторону Алексея и Замостин. — Моя бабка на что уж богобоязненной славилась, а когда наш сельский поп с деникинцами связался, и дорогу к паперти забыла… Крест, правда, не сняла, а на проповедь или на исповедь не затянешь. А если уж о крестах говорить, то и я, правда, не у нас, а в транспортной роте, тоже у двоих видел. Ей-богу!
Тут уж при таком убеждающем восклицании секретаря партбюро все трое рассмеялись.
— Во против меня блок какой! — отходчиво удивился Фещук. — Ладно, отставить разговор. А все же посматривайте, чтоб батальон не прозвали архиерейским. А то раздобуду вам обоим по кадилу, и будете впереди стрелковой цепи непротивленческий фимиам воскуривать.
Но хотя этот разговор и свелся к шуткам и улыбкам, однако оставил у Осташко на сердце неприятный осадок.
Когда-то, в конце двадцатых годов, начиная работать на шахте, он видел это собственными глазами; поднимался на-гора, сдавал лампу и сразу побыстрее в баню отмыться от угольной пыли. Там, в пару, толчея замурзанных тел. Раздеваются, и у половины из них, большей частью сезонников, на цепочках или на шнурках — крестики. Латунные, серебряные, позолоченные. Если бы можно было проследить, кто и когда с ними расставался! После школы ликбеза? На территориальных сборах? В годы коллективизации? На курсах машинистов врубовых машин? После того как сын вступил в комсомол и уговорил отца, чтобы тот не вынуждал краснеть перед людьми? А вот, оказывается, Маковка дотянул с нательным крестом и до Великой Отечественной… Само собой, верующих еще хватает и в селах и в городах, только редко кто носит крест. А Маковка не снимает… Тут уже упрямство, что ли? Истовый фанатизм? Поди загляни ему в душу! Знает же, что он один такой в роте, что выделяется из всех, а не обращает внимания, может быть, даже и подкладку какую-либо активно подводит. Не про себя; про себя веруй, сколько хочешь, а вот если других начинает обивать?.. И Фещук по-своему прав, настораживаясь.
Алексея потянуло в третью роту. Но смог побывать там только на следующий день. После отлучки накопились дела — политдонесения, занятия с офицерами.
Парторгом в третьей роте был Зинько, списанный с Днепровской военной флотилии морячок. Из госпиталя в Сарапуле его выписали с заключением, что годен лишь к нестроевой службе. Где-то под черепом остался осколок, который врачи извлечь не решились — опасно. Но не примирившись со скитаниями по дивизионным тылам, Зинько поэтапно добрался до хозвзвода, и отсюда путь в стрелковую роту оказался уже совсем близким. На лбу у Зинько тянулась выше, к темени, глубокая, вызывавшая у каждого сострадание вмятина, и ему, единственному в батальоне, разрешили отпустить волосы.
У Зинько и спросил Алексей о Маковке.
— А почему он вас интересует, товарищ капитан? Наверное, после той двадцатой формы? Так я про крест давно знал, еще в Кащубе. А только плохого ничего про Маковку не скажу. Старательный, тихий…
— Тихий! Ты знаешь, что про тихих пословица говорит?
Зинько задумчиво покрутил чуб, потом привычно натянул его на шрам, пригладил.
— Нет, эта пословица не для него придумана. Отстрелялся хорошо, политинформацию слушает внимательно… Тютюн смалит, от чарки не отказывается.
— А откуда он сам родом?
— Из Молотовской области… Раньше Пермь… Это же не то что наша Украина, товарищ капитан… А там есть такие глухоманные места, что, наверное, и скиты еще стоят.
— Это он тебе говорил?
— Нет, батько… Батько там в ссылке был… Про Сорочинское восстание слышали?
— После царизма двадцать пять лет прошло, — заметил Алексей, понимая всю относительность той характеристики, которую давал Зинько.
— Это так, товарищ капитан, а все ж Днепрострой и Магнитка туда еще не дотянулись… Может, хотите — я его позову?
— А что сейчас делает рота?
— Чистка оружия.
— Идем посмотрим.
Взвод, в котором находился Маковка, чистку уже заканчивал. Винтовки ставились в пирамиду. Понимая, что было бы опрометчиво вот так с ходу заинтересоваться винтовкой Маковки, Алексей снимал с пирамиды и осматривал их все подряд, потом уже спрашивал, кому какая принадлежит. Бойцы наблюдали за ним с веселым любопытством. Поверка ведь не инспекторская. Своя. Так дошла очередь и до той винтовки, которой больше всех других интересовался Осташко.
— Это моя, товарищ капитан, — негромко откликнулся в заднем ряду спокойный голос, когда Алексей назвал номер.
И хотя взвод не расступился, Маковка безо всякого труда, направляя боком плечо, протиснулся к пирамиде. Роста отнюдь не богатырского, и гимнастерка выглядела на нем тесной не из-за роста, а из-за приподнятой груди, крепко посаженной шеи и свисавших чуть ли не до колен сильных рук. Чернявый, с черными бирюковатыми глазами, по каким угадывалась в далеких предках то ли монгольская, то ли угро-финская кровь. В скитах такие, пожалуй, не вырастали, однако если представить его себе с бородой, то проглянула бы в лице какая-то диковатая, кержацкая красота.
Алексей неторопливо рассматривал винтовку. Чистая, хорошо протерта. В Ташкенте, в самом начале учебы, Мараховец вот так, у пирамиды, осмотрев одну из винтовок, убежденно сказал, что ее хозяин левша. И подтвердилось. Цуриков оказался действительно левшой. Все тогда оторопели и после этого с удвоенным усердием чистили оружие, побаиваясь шерлок-холмсовской проницательности комвзвода. Но к винтовке Маковки наверняка не придрался бы и Мараховец. Алексей проверил курок на боевом взводе, задержку затвора, прицельную планку, хомутик на прицеле.
— Долго в запасном были, Маковка?
— Две недели, товарищ капитан.
— Маловато, но, видать, крепко требовали там с вас, на пользу пошло… Что улыбнулись, или не так?
— Да мне там винтовку и держать не пришлось. Одна на троих была. А тех, кому она не внове, сразу отобрали в маршевую роту…
— А вам она, значит, не внове?
— Раз в тайге живем, то, само собой, сызмальства приучался… Правда, не к такой… Берданка, малокалиберка… По белкам, соболю…
— Стало быть, и здесь, на фронте, без промаха?
— Хвастаться не стану, товарищ капитан. Тут само дело покажет…
Алексей уходил из роты с мыслью, что Маковка все-таки остался для него загадкой. Отличный стрелок? Любит и бережет свою трехлинейку? Это немало. Каким-либо толстовством, непротивленчеством тут и близко не пахнет. Но все-таки не только на самого себя, на свое оружие, а и на силу креста, раз его носит, надеется Маковка. И каково же, допустим, будет ему, бельчатнику, привыкшему к к лесной немоте и тишине таежных распадков, вдруг в открытой степи оказаться один на один с вражеским танком? Огнедышащий антихрист, железный, плюющий смертью сатана! Тут и те, кто без креста, паникуют. И разберись в этих неопределенных, ничего не обещающих словах: «Дело покажет…» Потемки! А когда прикажут пойти за огневым валом? Тогда что?
А все близилось к этому.
Однажды ночью по ту сторону бугра заурчали моторы танков. Утром Чапля принес в штаб батальона весть, что там, за бугром, в леске, расположилась какая-то танковая часть — бригада или полк. Такому соседству обрадовались. Из одного плана-календаря в другой переходила тема занятий «Обкатка танками», да не было их самих. Фещук, заполучив одобрение Савича, пошел к танковому командиру, и тот согласился присылать вечерами — днем возможна демаскировка, запрещено — по одной тридцатьчетверке. Прибывшая машина так бесцеремонно утюжила, вминала окопы, в которых засели стрелки, что и Фещук и Осташко испугались — не переусердствуют ли танкисты? Когда танк тяжело вгруз кормой в окоп, в котором находилось отделение Талызина, заворочался там, заскрежетал гусеницами, Алексей побледнел. Все ли встанут после этого оттуда, со дна окопа? Увидел сквозь выхлопы синеватого дымка поднявшиеся над разваленным бруствером присыпанные землей пилотки, сосчитал, облегченно вздохнул. Все же, когда машина собиралась разворачиваться на новый заход, не выдержал, подошел к ней.
— Лейтенант! — крикнул он затянутому в комбинезон командиру экипажа, что высунулся из башни. — Ты того, утюжь чуть помягче… поосторожней…
— И фрица будете об этом просить, товарищ капитан?
— Да нам же его и увидеть не придется, если ты так будешь стараться. Кто же в роте останется?
— Зато в тех, кто останется, можете не сомневаться, товарищ капитан. Они у меня еще здесь, во втором эшелоне, гвардией станут. Благодарить будете.
— Спасибо, дружище. Только все же обкатывай с оглядкой. Перемахни через окоп — и ладно. А то вижу, что во втором эшелоне и ты гвардеец, а как будет в первом, кто про то знает?
Уязвили, взаимно поддели друг друга. Танкист скрылся в машине. Теперь тридцатьчетверка разгонисто проносилась и перелетала над окопом, как скаковая лошадь через барьер, словно бы и не задевая подковами-гусеницами насыпи.
Обкатать, однако, успели только две роты. До третьей, где был Маковка, не дошло. На другую ночь снова железно заурчало за бугром, а наутро только впечатанный в траву широкий след траков напоминал о недавней стоянке танкистов, след, уходивший туда, к Новосилю…
Возобновили отработку ближнего боя. Коли! Бей прикладом! Отбив влево, отбив вправо! Бросок гранаты с места! Граната с ходу! Сначала метали болванки. Упражняться в дальности броска и меткости можно, и все-таки не то — игра в городки. Потом штаб дивизии разрешил взять боевые — расходовать экономно, дать по одной на брата только тем, кто не обучен. Начали с третьей роты. Ложбина наполнилась сухим, далеко разносившимся треском, будто валили мачтовый лес и грохались о землю тяжелые стволы, обламывались и трещали под их тяжестью ветки, взлетала над местом падения кора и хвоя. Алексей, прихватив с собой свежие газеты, пошел на учебное поле.
— Кого вам, товарищ капитан? — спросил один из бойцов, заметив, что замполит ищущим взглядом окидывает поле.
— Зинько где?
— Он вместе с комроты в укрытии… Газеткой можно у вас разжиться, товарищ капитан?
— Возьми дивизионку… А эти Зинько почитает вам на перекуре.
Алексей прыгнул в окопчик, в котором сидели лейтенант Литвинов и парторг. Литвинов поочередно вызывал бойцов. Они не соскакивали, а как-то мешковато, на спине съезжали в окоп, держа перед собой гранату. Но, ступив на дно окопа, казалось, сразу обретали уверенность — остальное было знакомо, механизм гранаты изучили раньше.
— Маковка, — позвал Литвинов.
Дело уже близилось к концу, и на лице Литвинова, которому уже надоело корчиться в жаркой тесноте укрытия, зримыми были и облегчение и довольство, что все идет хорошо и никто его не подводит. Казалось, что и на лице спустившегося в окоп Маковки тоже было облегчение, что часовое ожидание кончилось и он сейчас присоединится к своим сослуживцам, плескавшимся у колодца.
— Все понятно? — однотонным голосом спросил Литвинов.
— Объяснили…
— Действуй… Изготовиться!..
В огромных руках Маковки граната походила на разбухшую кедровую шишку. Расправляя пальцами рожки предохранительной чеки, он почему-то прижмурился, как это делают, выполняя неуклонную, но и мало приятную обязанность, потянул кольцо, а когда раскрыл глаза и увидел его у себя в руке отделенным от гранаты, будто оцепенел, застигнутый врасплох этой отсчитывающей секунды опасностью…
— Бросай! — крикнул Алексей, стоявший к красноармейцу ближе остальных, и, не надеясь на Маковку, подскочил, выхватил эту зловещую шишку, кинул ее за бруствер. Почти мгновенно, еще в полете, гранату рвануло…
Все четверо, пригнув головы, с минуту так и сидели…
— Что?.. Ну что с тобой сделать? — первым тоскливо выкрикнул Литвинов.
Маковка, с которого еще не сошло оцепенение, повел растерянными, испуганными глазами.
— Не по своей воле… Впервые ж…
— Впервые?! А хватило б на нас всех…
— Заминка вышла…
— От таких заминок недалеко и до поминок. Будешь сегодня до самого отбоя учебную разбирать. Ясно? — горячился Литвинов.
Но, вероятно, и он сам понимал, что это не выход, и не знал, как теперь поступить. Размышлял над этим и Алексей. Отправить Маковку назад? Случившееся вызовет неуверенность и у других малоопытных красноармейцев.
— Ну, а сейчас, Маковка, бросишь? Получится? — спросил он.
— Товарищ капитан, да у меня и с этой получилось бы, сам не понимаю, как я не рассчитал… Надо ж сразу было…
— Хорошо, покурим, и давай другую…
Закурили. Литвинов снова стал объяснять Маковке, как срабатывает капсюль-воспламенитель и разрывной заряд гранаты. Алексей, разговаривая с Зинько, старался не смотреть в их сторону. Уверенность, которую не внушишь никакой придирчивой инспекторской назидательностью, должна была прийти и к командиру роты.
Вторую гранату Маковка метнул сам. Повеселевший, он вылезал из укрытия, бормоча то ли всерьез, то ли притворно:
— Есть все-таки богородица… Уберегла…
— Она б тебя уберегла! — с сердцем, после всего пережитого, послал ему вдогонку Зинько. — Тут бы все и приякорились…
10
Долгожданный приказ поднял батальон с Верхних Хуторов в конце июня. Последовал он внезапно перед вечером, и выступить на передовую надо было немедля, этой же ночью. А она казалась самой безмолвной и умиротворенной из всех прожитых ночей. В небе ни гула самолетов, ни семимильных взмахов прожекторных лучей, словно уже отмеривших все нужные меридианы и широты войны. Днем прошел ровный теплый дождь, и после него еще глубже стала тишина напоенной, довольной степи. И отданный приказ будто оберегал эту тишину — двигаться скрытно, котелки, фляги и лопаты привьючить покрепче, не курить, команды — вполголоса. Конечный пункт маршрута Алексей предугадал — район Новосиля. Но путь был задан не тот — не шоссейкой, а параллельно идущими проселками, частью которых карта даже пренебрегла, не обозначила. Почему шли так, стало понятно, когда одна извилина проселка приблизила их к шоссейной насыпи. Нависли огромные движущиеся тени. Медленно и так же бесшумно, едва ли не впритык друг к другу, тянулись и тянулись артиллерийские части — орудия корпусной артиллерии, полки резерва Главного командования.
Марш был рассчитан по минутам, и когда во втором часу ночи перед каким-то невзрачным мостиком регулировщик остановил колонну — отдал предпочтение незнакомому обозу, — Фещук вскипел, взбешенно подскочил к нему.
— Ты что, друг, себе позволяешь? У меня время поджимает, понимаешь, время! — злым, свистящим шепотом произнес он, для наглядности выворачивая из-под обшлага кисть руки с часами. И оторопел… На плечах того, кого он принял за регулировщика, блеснули крупные звезды…
— Виноват, товарищ генерал…
Два года тому назад Фещуку не раз приходилось видеть на фронтовых переправах полковников и генералов. Бывало, что хватались и за пистолеты, а уж матерились почем зря. Но тогда отходили на восток, а сейчас шли на запад, и увидеть вот в такой роли генерала было дивно. Значит, затевалось что-то большое. И генерал, в отличие от тех, давних, не обиделся, не выругался.
— Если не укладываетесь в график, то не ждите. Перейдите пониже, бродом. Там не выше сапога.
Новосиль остался левее, его миновали, шли лугом. И здесь тоже, по бокам проселка и еще дальше, глубже, в краснотале, в купах верб и ракит, возникали и двигались тени, чувствовалось близкое присутствие какой-то неразличимой, дышащей, напрягающейся в поспешных усилиях массы людей. В темноте поверх кустов изредка проступал угловатый кузов высокого автофургона, потом вырисовывался длинный орудийный ствол с надульным тормозом, округлялись башни танков и броневичков. Слышались осторожные удары лопат, земля была мягкой, податливой. А в озерцах, в лужах, в старых, наполненных водой воронках неистово вопили, ярились лягушки, будто на лугах стояла кузница и там терпугом стачивали полосовое железо. Неожиданное ночное вторжение в жабье царство всполошило всех его обитателей.
Алексей, беспокоясь, чтобы никто не отстал, шел сзади. Рядом в темноте шуршала плащ-палатка Морковина.
— Товарищ капитан, по-моему, мы здесь тогда с вами и проходили, — тихо проговорил он, — вот и эту вербу-рассоху я приметил, а за ней сейчас будет кошара.
Вскоре действительно выступили из темноты остатки изгороди.
— И я узнаю, — подтвердил Осташко. — Что ж, это вам, снайперам, на руку! Места облюбованные, пристрелянные. И почин был. Написал, наверное, сестренке?
— Я-то написал…
— А чем же недоволен? Неужели не отвечает? Не доходят письма?
— Отвечает, да ведь ей только девятый годок, товарищ капитан. Царапает, видать, под диктовку. Смехота! Недавно даже про антифашистскую коалицию упомянула. Она же и слов таких не знает. Чувствую — воспитательница старается… А мне бы что про нее, Иринку, знать? Здорова ли, скучает ли, может, кто обижает?
— А ты так прямо и напиши воспитательнице. Пусть ответит просто, по-матерински. Наверняка же и у самой кто-то воюет. Неужели и сыну про коалицию? И попроси, чтобы сфотографировали. Новоузенск не деревня — город. Не так уж трудно это сделать. Тебе, фронтовику, не должны отказать.
— Это, пожалуй, правильно. Спасибо, что подсказали. Теперь уж разрешите и о другом деле, — еще тише произнес Морковин и деликатно тронул локоть замполита, точно прося его замедлить шаг, приотстать от впереди идущих.
— О Ремизове хотелось бы поговорить, товарищ капитан. Переживает человек. Прямо, признаюсь, жаль…
— А что такое?
— Мы ведь с ним сверстники, одноклассники.
— Разве он тоже сталинградец?
— На одной улице росли, на Большой Садовой. Ванюшкин отец долгое время директором завода был. До тридцать седьмого… За год до этого мы с Ванюшкой вместе и на завод поступили, я в механический цех, он — в инструментальный. Папаша его рабочей косточки, не пустил сразу в институт, начинай, сказал, так, как я… Он, то есть… Со станка. В общем, все время рядышком мы с Ванюшкой шли. А потом меня в партию приняли, а его даже из комсомола исключили.
— Из-за отца? — Алексей догадался, что Морковин вспомнил тридцать седьмой не случайно.
— Из-за него. Но Ванюшка рук не опустил. Я шестой разряд получил, и он… Правда, на другой завод перешел. Долго не виделись. Встретились уже в войну на призывном пункте и снова вместе. И в запасном, и под Старой Руссой, и здесь вот…
— Что ж, он все-таки переживает? Где отец? Там же?..
— Нет, разобрались, недавно выпустили. Работает начальником цеха в Челябинске. И вот теперь, товарищ капитан, такой подошел вопрос — может он, Ванюшка, заявление в партию подать или нет?
— Он, что, спрашивал тебя об этом?
— Пока нет, но чувствую, что переживает.
— Все ясно, Морковин, вижу я, что дружки вы давние, однако сейчас ведь не это главное, а война… Она проверяет человека. Как он под той же Старой Руссой держался да и позднее, сейчас?.. Вот ты ответь, Ремизова сам себе в напарники выбрал?
— Сам… он до этого в минометной служил… Это я его и назвал, что, мол, сгодится в снайперы… Когда на ничейной полоске лежишь, то хочется, чтобы неподалеку свой кореш был, в котором не сомневался б…
— Что ж, коль так, коль знаешь и не сомневаешься, то, по-моему, Ремизову в партию путь не заказан, не закрыт. Так при разговоре и дай ему понять. Знаешь сам, куда мы сейчас идем… Там, на передовой, и подавно ни перед партией, ни перед самим собой душой не кривят…
— Я и сам так считаю, — обрадовался Морковин, — а все же не решался, думаю, обнадежу человека, а вдруг напрасно… Еще больнее ему будет. Не хотелось бы… А вот и тот бугорок, что мы тогда, помните, перебегали.
Колонна вначале шла по четыре, после переправы — по двое, а сейчас поднималась на небольшой пологий холм по одному, и отсюда, если они не ошиблись, до КП знакомого батальона рукой подать. Сменят они его, или же он потеснится и останется на переднем крае?
Офицеры, поджидавшие их на пятачке у блиндажа, были все с автоматами, вещмешками, и Алексей понял, что они уходят, сменяются. Командиры рот — здешние и прибывшие — деловито разошлись по окопам: одни сдать участок, другие принять. Алексей увидел в блиндаже задержавшегося Перекатного. Перетряхивая содержимое полевой сумки, он рвал и сжигал ненужные бумаги.
— А, снайпер?! — узнал Перекатный Осташко. — Что ж, располагайся, хозяйничай, истребляй живую силу и технику.
— А ты, вижу, так пакуешься, будто уже прямо в Краснодар собрался?
— Прямо никак не получится. Пока на легкий перекур, в резерв.
Пожали друг другу руки, расстались.
Ночь была на исходе. Истомно перед рассветом стрекотали в степи кузнечики. Даже в эти предутренние часы степь казалась знойной, оттого что резче, душистее стал запах трав в меняющихся токах воздуха. В испарине белела пойма реки. На небе убавлялось и убавлялось звезд, и вскоре только одна, крупная, будто ограненная невидимой искусной рукой, льдисто, зеленоватыми переливами сверкала в вышине. Наконец погасла и она. Начинался первый фронтовой день. Но это был еще не тот день, о котором столько думали и которого так ждали. Тот перевалил через размеренную обыденность быстро устоявшейся окопной жизни, подошел неделей позже и сразу прояснил, придал смысл всему, что пришлось приметить на пути от Верхних Хуторов к переднему краю.
В этот день Алексей только хотел было послать связного в штаб полка за сводкой, когда Новожилов позвал его к телефону. Звонил Каретников.
— Вы слушаете Москву?
— Нет… Вы же знаете… — удивленно ответил Алексей. Принимать сводки батальонными рациями не разрешалось, экономили питание.
— Настройся быстрее. По такому случаю не грех… Началось левее нас…
Осташко кинулся к землянке связистов.
Из треска незатихавших радиопомех прорвался баритон Левитана. Уже одно то, что именно он читал сообщение Совинформбюро, придавало этому сообщению особую значительность. Но где и что произошло? Непонятно. Пропустили начало. Диктор перечислял, сколько уничтожено гитлеровцев, танков, самолетов, орудий. Ясно, что не какая-то частная операция, цифры по масштабам целого фронта, нескольких фронтов… Каретников сказал, что левее… На Центральном? На Воронежском? Или еще южнее?
Вошел Фещук. Алексей передал ему один наушник.
— Сейчас повторят.
Пауза — и затем послышалось:
— «С утра пятого июля наши войска на орловско-курском и белгородском направлениях вели упорные бои с перешедшими в наступление крупными силами пехоты и танков противника…»
Потом они сидели над картой, той старой, просвечивающейся на изгибах картой Осташко, искали названные населенные пункты, командовали армиями, корпусами, поднимали в воздух авиаполки, вводили в сражение стратегические резервы Верховного…
Алексей первым вернулся с этих полководческих вершин к своему батальону.
— Надо пойти по ротам. Тебе Савич не звонил сегодня?
— Звонил. Напомнил, что в силе остается прежний приказ. Обещал быть у нас.
Прежний приказ, доведенный три дня назад до командиров батальонов и рот, тогда показался повторением обычного. Держаться настороже… Проверить боекомплекты… Усилить наблюдение за противником… Да и в появлении двух артиллерийских офицеров, позавчера облазивших в полосе батальона весь передний край, тоже, казалось, ничего нового не было… Недаром же едят хлеб… Отрабатывают взаимодействие, только и всего. Но сейчас, после услышанного по радио, все это вступало в прямую или косвенную связь с тем, что происходило левее, под Курском… И потому после дня, заполненного ожиданием новых вестей и мыслями о тех, что уже становились как бы старыми, после прихода к вечеру запоздавших газет и заново перечитанного во взводах сообщения Совинформбюро, после всего этого выставили на ночь добавочные секреты, легли спать не раздевшись, только сняв пояса.
А ночь была душной, жаркой, июльская ночь, когда, кажется, и в безлунной темноте дозревают хлеба; но т а м было еще жарче…
На заре всех разбудил гул орудий. Был он не близок, доносился откуда-то с правого фланга, со стороны Вяжей или еще дальше, может быть, из полосы соседней третьей армии. Фещук, на ходу подпоясываясь, вышел из блиндажа. Трилисский обзванивал роты: «Из секретов вернулись? Ничего не слышали? А ты случайно не глухарей посылал? Ну, добре, добре».
Потом передал трубку Алексею. Снова звонил Каретников. В такой ранний час стал спрашивать, когда именно в ротах будут проводиться собрания коммунистов, оформлены ли поданные заявления о приеме в партию. И неужели ни слова о том, что началось у соседей? Нет, все-таки поинтересовался:
— А как сегодняшняя побудка? Понравилась? Слышите?
— Да, товарищ майор, что, и нам этого ждать?
— Ждать надо всегда… Для этого мы тут и поставлены. Однако думаю, что партсобрание провести успеете. Но не затягивайте, не затягивайте, а пока ждите у себя первого…
Через час пришел Савич. Еще не размявшийся после ночи, то и дело потирающий впалые, бледные щеки. Снял планшетку и расположился за столом, видимо, надолго.
С минуту молча прислушивался. Орудийный гул затихал, прерывался все большими паузами.
— Вот и кончилась их легкая музыка. Другую им сейчас здесь, пожалуй, не завести. А у нас своя работа…
Он вынул из планшетки и развернул карту…
11
Артиллерийская канонада, что донеслась до батальона утром седьмого июля, была отзвуком скоротечного боя, предпринятого немцами, вероятно, с целью показать, что, мол, и здесь, на орловском выступе, они активны, способны, может, и на больший, упреждающий коварный удар. Не пробуйте, мол, маневрировать резервами — оттягивать, перебрасывать их, они и здесь могут пригодиться. Все это было не настоящим, не истинно главным, как не настоящей, обманной была и наступившая вслед за этим на весь день тишина над забронзовевшей в знойном мареве степью. Настоящее же, истинное оставалось укрытым от чужого глаза, и напрасно почти в течение всего дня как бы свисал на паутинно-тонкой нити с облачка, плывущего к Мценску, «фокке-вульф». То, чем потаенно жили сейчас штабные блиндажи, ротные и взводные землянки, окопы, темно-зеленые тенистые глубины рощ, придорожные пыльные заросли с натянутыми поверх них маскировочными сетями, чащоба камышей и рогоза на берегу Зуши, укрылось, старалось не обнаружить себя ни для какого, самого пристального взгляда со стороны.
На переднем крае, изгибисто уходившем в неразличимую даль, батальон Фещука занимал четыреста пятьдесят метров. И на этой перепаханной осколками полосе, каждый метр которой поквадратно был взят на вражеский прицел, поджидающе начинен противопехотными и противотанковыми минами, дважды перехлестнут цепкой, готовой впиться в живую человеческую плоть проволокой, командиры рот, взводов, отделений с тщательностью и расчетливостью межевщиков отмеряли каждому из бойцов батальона его метры, а с ними — и его никому не ведомую долю. И те, кому эти метры были уже отмерены, теперь судачили о них то с раздумчивой деловитостью, то с отчаянной лихостью мастеровых, которым выпал трудный, нелегкий пай.
— Слышал, что ребята из хозвзвода рассказывают? И дальнобойную мы подтащили!
— Это ж какую, чтоб прямо по Орлу? Мне такая ни к чему. Там, в Орле, мне и гранаты бы хватило…
— А какую же тебе здесь нужно?
— А такую, чтобы я мог башку над окопом поднять.
— Башку над окопом? Только и всего? А по ничейной кто за тебя побежит? И дальше?
— А там за огневым валом… Знай прижимайся… Тебе ж втолковывал взводный насчет осколков, куда какие летят…
— И я его слушал… А вот этим самым осколкам кто втолкует, чтобы они своего не полоснули?
— Это уже не опрометью надо, умеючи.
— Эх, прижался бы с охоткой к своей Аграфене Михайловне…
Алексей, направлявшийся в роту к Солодовникову, услышал обрывки этого разговора, подошел к солдатам. Свою Аграфену Михайловну вспомнил ефрейтор Спасов, рыжеволосый низенький красноармеец из Пензы с двумя медалями «За отвагу». Алексей уже давно убедился, что в каждой роте, даже в каждом взводе и отделении, помимо возглавляющего их командира есть еще и другой возглавляющий — не облеченный никакой властью, подчас совсем со стороны неприметный, но приближающий к себе остальных то ли дружеской словоохотливостью, то ли душевной открытостью. У пулеметчиков таким был, пожалуй, Рында, в третьей роте — Солодовников, здесь — Спасов.
— А что, она у тебя тоже огневая? — на ходу подхватывая шутку, спросил у него Осташко.
— Ох и огневая, товарищ капитан, — бойко, с явным удовольствием откликнулся Спасов. — Из-за нее дважды чуть было под указ о прогулах не попал, проснуться утром никак не мог…
— Тебя, я вижу, папаша с мамашей в веселую минуту задумали, а?
— Угадали, товарищ капитан. Недаром меня и Адамом нарекли.
— А при чем здесь Адам?
— Ну как же, он-то был веселым парнем…
— Откуда знаешь?
— Да ведь если б не так, то, представляете, какое бы скучное человечество от него с Евой пошло?! И деваться некуда было бы… Одна зевота! А так вроде бы еще и ничего, неунывающее, а это ж тоже наш постоянно действующий фактор… Знамо, кроме фашистов, так их я за людей не считаю.
— Вот ты бы, Спасов, еще и Мусатова развеселил. А то вот заговорили об огневом, а он слушает вас и робеет.
С лица сидевшего на корточках Мусатова еще и сейчас не сошла растерянность, в разговоре он не участвовал, только переводил взгляд с одного говорившего на другого.
— Мусатов, вы поняли, чем выгоден пехотинцу огневой вал? Почему надо держаться к нему поближе? Да сидите, не вскакивайте.
— Так точно, товарищ капитан, понял.
— Ну а все же, что говорил взводный о разрывах снарядов? Запомнили?
— Говорил — будет хорошо… Все осколки летят на Гитлера, только один на меня.
Захохотали.
— Вот и не совсем так, Мусатов. И этот один до тебя не долетит, если будешь помнить о дистанции. Артиллеристы научились за два года, огонь ведут точный. Смотри, как это будет в бою…
Алексей начертил на дне окопа траекторию снаряда, обозначил его взрыв и разброс осколков, этот устремленный вперед смертоносный веер, показал и последующие переносы огня.
С любопытством смотрели на незамысловатый, заветвившийся на глине чертежик и остальные пятеро. А в глазах Спасова, за его приспущенными рыжими ресницами, как показалось Алексею, на этот раз проглянули не только веселое любопытство, но и какая-то взвесившая все, схожая со стариковской мудрость.
Во второй роте, куда шел Алексей, Замостин сегодня созвал партийное бюро батальона. Здесь была самая вместительная и удобная для этого землянка. Алексей заявился чуть ли не на полчаса раньше. Хотелось порадовать Солодовникова только что полученной газетой, в которой Сорокин опубликовал свой очерк о парторге и его братьях. Степан сдержал свое слово. Ему удалось через полевую почту разыскать еще одного из Солодовниковых — Александра, оказавшегося в армейских оружейных мастерских. Очерк с заголовком «Девять богатырей из села Долгуши» был разверстан на всю полосу…
Солодовников сидел у входа в землянку, натачивал обломком кирпича свою саперную лопатку. Алексей сразу заметил, что сержант чем-то расстроен, удручен. Поблагодарил за газету, спросил, можно ли послать вырезку домой, и остался таким же понурым. Словно тяготясь дальнейшим разговором, стал нервно сворачивать цигарку. Алексей, ожидавший, что очерк порадует сержанта уже одним тем, что в нем рассказывается словами очевидца об одном из братьев, удивился:
— Что с тобой, Солодовников? Приболел?
— Нет, товарищ капитан, болеть сейчас некогда, — помолчал и, видя, что его ответ не рассеял недоумения замполита, глухо добавил: — Только ведь восьмеро теперь нас… Не девять, а восемь…
— Что?.. Неужели Александр?..
Алексей, поняв, что случилось, подумал, что погиб именно Александр, с которым встречался Сорокин. Очерк запоздал, письмо пришло раньше.
— Нет, старший… Владимир… Помните, я вам рассказывал, что с первого дня войны никаких вестей? А сейчас переслали письмо из партизанского края… Он там комиссарил в отряде… Убит под Брянском…
Лазоревые глаза Солодовникова были сейчас сухими, немигающими, неподвижными, такими Алексей их еще не видел. И какие-либо утешающие, соболезнующие слова казались ни к чему, лишними — да и разучился он их произносить за время войны.
— Товарищ капитан, когда же душу смогу отвести?
— Теперь уже скоро, Павел… Сегодня ночью ждем саперов, — Алексей положил руку на плечо бронебойщика, с грубоватым мужским сочувствием обнял его. — Ну, а после саперов, сам понимаешь, и наш черед…
Пришли Фещук, Замостин и другие члены партбюро. Замостин вынул из полевой сумки кумачовую, величиной не намного больше пионерского галстука скатерку, накинул ее на штабель ящиков с гранатами, заменивший стол. С этой скатеркой, закрапленной чернилами и прожженной махоркой, Замостин никогда не расставался и в Верхних Хуторах расстилал даже на пеньке. Она придавала собранию торжественность, значительность и не только ему, Замостину, напоминала о той, что вот так же алела где-либо в пролете цеха, в рабочем общежитии, на полевом стане. А Алексею она словно приветно махнула из детства, из одного особо памятного дня. Тогда рабочие и партийные собрания зимой проводили под закоптелой крышей Центральных мастерских, а летом прямо в рудничном саду; выносили на травянистую поляну стол, и скатерть на нем малиново рдела под листвой акаций. На ветвистое, нависавшее почти над столом дерево и взбирались Алешка с Василием, чтобы услышать, о чем толкуют шахтеры, по-цыгански усевшиеся на траве тесным кругом. А к столу вышел отец. Никогда еще Алешка не видел, чтобы он так волновался. Даже начал вроде бы заикаться. Стал рассказывать про свою жизнь с самого малолетства… Про безземельную старобельщину, откуда приплелся в барачную по тому времени Нагоровку, про рудничное депо, где работал котлочистом, а позднее подучивался паровозному делу, про бронепоезд… Отцу задавали вопросы, спросили даже про Алешку и Василия, учатся ли. И кто-то засмеялся, выкрикнул: «Да вон, шалапуты, на дереве пригнездились, смотрите, не свалитесь отцу на голову…» Алешка и Василий отпрянули, торопливо прикрылись ветками, но успели увидеть обернувшееся вверх рассерженное лицо отца… Потом принимали в партию Лембика, работавшего тогда забойщиком…
…А те, кто сейчас с автоматами в руках сидели перед замостинской скатеркой, тогда, в горестном январе двадцать четвертого года, были еще моложе Алексея; или качались в люльках, или только-только брались за буквари… Вот и Золотарев, командир взвода, в ту пору, пожалуй, не знал другого оружия, кроме рогатки…
Замостин прочел его заявление, рекомендации. Лейтенант встал, начал рассказывать биографию. Родом из Читы, работал там на овчинно-шубном заводе слесарем; там же, на заводе, отец и мать. Призвали в армию в сороковом, служил в Забайкалье, оттуда по комсомольскому набору направили в пехотное училище в Свердловск. Закончил его и вот послан сюда… Голос Золотарева, густой, самоуверенный, с властным командирским тембром, оставался таким же и сейчас, здесь, на партийном бюро, и это, кажется, ну понравилось Замостину.
— А почему не вступил в партию в училище?
Золотарев словно ждал этого вопроса, не стал и задумываться:
— Очень уж далековато было, товарищ капитан.
— Далековато от чего? — сделал вид, что не понял, Замостин.
— От этого самого места. — Лейтенант, стоявший по стойке «смирно», поднял и опустил носок сапога, легонько притопнул им по утрамбованной земле блиндажа.
— Молодой командир, но старательный, находчивый, — сказал Литвинов, в роте которого служил Золотарев, — предлагаю принять.
Обсуждали заявление Ремизова.
Позавчера его заявление хотели было отложить, не хватало одной рекомендации. Но потом согласился дать ее Зинько, знавший Ремизова еще по Старой Руссе. И теперь Морковин молчаливо, глазами просил, чтобы Зинько выступил первым.
— Добрый хлопец, может, трошки горячий, так разве это плохо? — Зинько поправил нависавший на лоб чуб. — Он и как агитатор в роте работает…
И вопросы:
— Устав хорошо знаешь?
— Изучал.
— А к чему он обязывает коммуниста в бою?
— Вам как, своими словами? Короче?
— Давай хоть и своими.
— Если уж падать, так головой вперед…
Алексей рассказал о недавней вылазке снайперов здесь, под Новосилем, предложил принять Ремизова кандидатом в партию.
Своих людей стал представлять партийному бюро Солодовников. И, глядя на них, таких же молодых, в отстиранных к этому дню гимнастерках, с празднично белой прорезью подворотничков, облегавших их смуглые, крепкие шеи, Алексей вспомнил слова майора, поверявшего батальон в Верхних Хуторах. Перед завтрашним днем они хотели взглянуть на мир с самой вершины, и партия давала им это право как, может быть, свою последнюю, напутственную справедливость…
А в сумерки в батальон пришли саперы…
12
К тому времени, когда над степью стало рассветать, все уже знали обо всем. Знали час начала артиллерийской подготовки и час начала атаки, знали, где именно и какой ширины проделаны проходы в своих и чужих минных полях и чем эти проходы обозначены, знали, из обращения Военного совета, куда поведет их нынешнее утро. И оттого, что все наконец-то стало известным, время томительно растягивалось, и то хотелось поторопить медленно разгорающуюся зарю, то, наоборот, чуть попридержать ее, чтобы в лишние минуты окончательно утвердить свою душевную готовность к этому дню. Оглянуться на прожитое, на хорошее в нем и плохое, вспомнить близких, письма, полученные и посланные, сказанное и недосказанное в них… А недосказанного… ох, его всегда больше.
Никто не спал.
Только саперы, для которых первые поединки со смертью остались уже позади, в истаивающей душной ночи, теперь, вернувшись с ничейной полосы в окопы, прикорнули кто где в неодолимой дремоте. Один из них, пожилой, костлявый, разбросался прямо поперек траншеи… Алексей, проходя мимо, хотел было оттянуть его в сторону или разбудить, но пожалел. Очень уж многозначительно выглядела лежащая в нише, рядом с сапером, его выгоревшая пилотка, полная немецких капсюлей, в каждом из которых ранее таился чей-то зловещий, но отведенный умелой рукой жребий.
Небо бледнело все сильнее, стали заметны мраморные разводы реденьких облаков у горизонта, вскоре они зарозовели, огнисто затеплились. И едва над землей приподнялся расплющенный, малиновый краешек солнца, как вся степь дрогнула, сотряслась, будто пробудились, вырвались наружу из подземных глубин какие-то невиданно могучие силы, и, умножаясь близким и далеким эхом, шквально накатился первый, отсчитанный сотнями сверенных часов орудийный залп. Алексей посмотрел на свои наручные… Четыре ноль-ноль… Все точно, и секундная стрелка не успела обойти свой круг, как внезапно там, где ветвились вражеские окопы и ходы сообщения, зачернела, закурилась нескончаемая гряда огнедышащих, извергающих пепел и лаву вулканов. Дым, всклубившийся было над их невидимыми кратерами, ветер стал сметать в сторону, но вновь содрогнулась степь, и теперь разрывы снарядов встали плотной, зубчатой стеной, в основании которой змеились, исчезали, снова появлялись огненные разломы, просверки, вспышки, молниевые зигзаги.
— Вот это зорька! — выкрикнул кто-то над ухом Осташко.
Он оглянулся, увидел Сорокина. Степан снял и протирал очки, в глазах восторг. Он пришел в батальон еще с вечера, и Алексей посоветовал ему не отходить от командного пункта, держать связь с Трилисским. Какого же черта он здесь, в роте? Не хватало того, чтобы увязался за ним, за Алексеем, отвечай тогда за него. Да и не в этом дело, просто будет мешать. Со своим болтающимся на боку пистолетом, из которого, наверное, ни разу не пришлось стрелять. Со своей близорукостью и расспросами, какие уместны в любое другое время, но только не сейчас, не в эти горячие минуты.
— Ты почему ушел с капэ?
Алексей разозлился так, будто Сорокин самовольно покинул заранее предназначенное ему в боевых порядках батальона и обусловленное строгим приказом место. Во всяком случае, именно так показалось Сорокину.
— А что? — растерянно, с глупейшей улыбкой спросил он.
Объяснять ему что-либо или уговаривать было бы еще глупее.
— На КП, приказываю — немедленно на КП и будешь передвигаться вместе с ним.
Видя неуступчивое, разгневанное лицо земляка, Степан попятился, нехотя побрел ходом сообщения к штабному блиндажу.
Артиллерийское наступление, развернувшееся по всему фасу орловского выступа, нарастало, становилось все ожесточеннее, яростнее, и порой можно было подумать, что забушевавшие в степи смерчи вырвались из-под умного и расчетливого людского контроля и теперь уже неуправляемы. Но стоило внимательно прислушаться к разноголосому реву орудийных стволов, стоило пристальнее приглядеться к тому, что творилось там, впереди, и становились заметными продуманность и мудрая спланированность наносимого удара. В то время как полковая и дивизионная артиллерия обрабатывала передний край немцев — рвала, разметывала проволочные заграждения, сминала и засыпала окопы, взламывала бункера и другие убежища, дробила укрытые в стальных колпаках пулеметные гнезда, в это же время полки артпрорыва, гаубичные, дальнобойные, подтянутые, переброшенные сюда из резерва Верховного Главнокомандования, обрушили огонь на все живое, двигающееся, способное к последующему сопротивлению в глубинах вражеской обороны.
Для Алексея прежде вершиной артиллерийской мощи были огневые налеты и контрбатарейная борьба на Ловати, а сейчас они представились чуть ли не каким-то воробьиным чириканьем… Оказывается, что слова Сталина, назвавшего артиллерию «богом войны», слова, повторяемые ныне во множестве газетных заголовков, он до сих пор осознавал чисто умозрительно, а вот он; бог-то, всамделишный — грозный, суровый, всесильный, с разметавшимися дымчатыми космами, с неумолимо карающей огненной десницей.
Очевидно, так же в эти минуты воспринимали происходившее и все другие в батальоне, во всяком случае большинство. И Маковка, который в своей лесной глуши только слышал о Магнитке, а вот и увидел ее разгневанную силу, и Солодовников, для которого после полученной скорбной вести этот час был часом возмездия…
Солнце уже круглилось над Новосилем и било бы немцам прямо в глаза, если бы могло проникнуть сквозь плотную пелену стелящегося в их сторону дыма. Солдаты, смелея и смелея с каждой минутой продолжающейся, незатихающей канонады, приподнялись на штурмовые ступеньки, а Спасов выбрался наверх и полулежал на бруствере.
— Во дает моя «Аграфена»! Узнаю! Разошлась! — азартно выкрикнул он, оборачиваясь к стоявшему у стереотрубы Осташко. — Товарищ капитан, что видите? Может, там и писарей уже не осталось?
— Ох, больно ты скор.
— Так я же вполне серьезно. Гляньте, какая преисподняя заварилась. Все кувырком пошло. Неужели уцелеет какой-либо гад?
— Каблуком, каблуком надо придавить, Адам… Иначе дела не будет, — отходя от стереотрубы, Алексей хлопнул по свисавшему в окоп обтоптанному, с побуревшим голенищем сапогу Спасова.
— Считайте, что мое отделение уже там… Наши кирзовые назад хода не знают. Пусть только прояснится. Знамо, пехота — она все…
Пора было и себе выбрать те ступеньки, что поведут, поднимут в атаку. В полночь, после того как в ротах зачитали обращение Военсовета, Осташко и Замостин сразу поделили между собой предуготованные им в это утро места. И сейчас Замостин находился во второй роте, а Алексей направился на правый фланг — в роту Литвинова, к Зинько.
— Ну, ты поосмотрительнее будь, не зарывайся… Здесь, под Орлом, наша земля не кончается, еще шагать да шагать, — час назад на КП напутствовал своего замполита Фещук.
Все это были слова лишние, а не лишними, обязательными были только те, которые изо дня в день слышали от Алексея все, кто служил с ним в батальоне, и, значит, именно эти, его же собственные, слова были и для него самого единственно настоящим напутствием. Даже прежде, чем для других, для него первого…
Зинько тоже стоял на верхней ступеньке. Не отводил взгляда от черно-бурой тучи, нависшей над немецкими окопами, наверное, мысленно уже добегал до них. Оглянулся на Осташко и, позабыв, не поправляя своего чуба, разметанного ветром над изуродованным лбом, нетерпеливо спросил:
— Сколько на ваших, товарищ капитан?
— Сейчас…
Алексей не договорил… Вдруг, заглушив гул орудий, в небе пронеслись колесницы, заскрипели, завизжали ободьями, покатились дальше, дальше, закончили свой страшный полет разорванным на секундные промежутки перекатистым грохотом. Всех, кто сидел на бруствере, будто смахнуло ветром. Осташко и Зинько тоже в первые секунды невольно втянули голову в плечи. Они посмотрели друг на друга взывающими к снисходительности глазами.
— Ну и ведьмочка! Третий раз слушаю, а не могу привыкнуть, — укорил сам себя Зинько. — А ведь своя ж, в доску своя!.. Что ж, теперь вот-вот и сигнал…
Оба знали, что залпами «катюш» завершается более чем полуторачасовая артиллерийская подготовка. Там, где разорвались реактивные снаряды, дым стал жирней, смолистей. Все снова кинулись к брустверу. Алексей увидел в изгибе окопа свободные ступеньки, заторопился к ним.
Было пять часов сорок минут утра. Когда началась артподготовка, наверное, не одному Алексею почудилось, что приход этого июльского утра затянется, отодвинется в темно-серой пороховой тусклости, но, вопреки ей, рассвело стремительно, и, не запаздывая, явилась сотням, тысячам глаз вся огромность степи и огромность вставшего над ней, рассеявшего мглу солнца. Взлетела на тонком шероховатом стебле и беззвучно набухшей, вызревшей почкой лопнула и расцвела красная ракета… Такие же справа, слева, у соседей и еще дальше, дальше по всему переднему краю… В последний раз вбирая в себя широко открытыми глазами это быстро разгорающееся утро, отрешаясь, освобождаясь от всего постыдно-сковывающего, Алексей вновь ощутил на сердце ту легкость и проясненность, которые пережил как-то весной, на марше к Лебедяни. И это дивное своей нерастраченностью, молодостью и давностью чувство словно бы само взнесло его на бруствер:
— Дружно, товарищи, дружно… Вперед! За нашу Родину!..
Неподалеку кто-то отрывисто, призывно закричал, еще и еще… Литвинов? Золотарев? Зинько? Командиры отделений? После громыхания гвардейских минометов тишина степи казалась неестественной, обманчивой, и людские возгласы врезались в нее сбивчиво, вразброд… Но уже одно то, что они громко зазвучали здесь, где ранее недвижимо и безмолвно таились секреты, а этой ночью скрытно ползали саперы, уже в этом чуялась сила начатого дела… Взглядом, наспех брошенным по сторонам, Алексей увидел высыпавших на ничейную полосу стрелков, их изогнутую, неравномерную по густоте цепь, но различить лица так быстро не мог… Рядом глухой топот ног. Чье-то надсадное дыхание. Звяканье чьей-то лопаты… Три сотни метров надо было пробежать расчетливо, так, чтобы не выдохнуться, сохранить себя, свои силы не только для последнего броска, но и для боя в траншее… Если немцы еще там… Но они пока молчали. Над их окопами еще не развеялась и медленно оседала клочковатая темно-бурая завеса дыма. Оттуда вести прицельный огонь было невозможно. И первыми открыли его по пристрелянным площадям ничейной земли где-то еще устоявшие, выжившие в смерчах артподготовки минометные батареи… Шлепнулись мины. Но цепь стрелков уже подбегала к проходам в проволочных заграждениях. Здесь пришлось скучиться. Панков, пригнувшись, катил станковый пулемет и намеревался было проскользнуть, опередить…
— Стой, куда ты? — остановил его за плечо Осташко.
Пулеметчики должны были залечь перед проволокой и своим фланговым огнем прикрыть продвижение стрелков.
— Так молчат же, товарищ капитан, — вскинул блестевшее в испарине лицо Панков. — Вместе можно…
— Ложись в сторону… как приказано. Изготовьтесь!..
Панков поспешно откатил пулемет в сторону от прохода, развернул его, стал вставлять ленту, задергал затвором. Оказалось, как раз вовремя. Над яично-желтой насыпью, к которой приближалась рота, учащенно запульсировали вспышки выстрелов. Выручая своих, застучал пулемет Панкова. Насыпь вспылилась. Теперь немцы стреляли только из укрытых, почти незаметных бойниц, из-за врытых в землю щитов. Несколько таких стальных щитов разрывами снарядов выбросило из окопов, и чьи-то сапоги прогремели по ним гулко, как по кровельной жести… Здесь траншея прерывалась саженной воронкой. К ней в несколько прыжков подбежал Алексей, скатился на дно, перевернулся, выполз вверх к рыхлому, зернистому краю… Полузасыпанная траншея была пустой, но в ее ответвлениях мелькнули каски. Перекинув автомат в левую руку, Алексей вытащил из кармана и метнул туда гранату, ткнулся лицом в землю… Разрыв. И хотел было уже поднять голову, когда кто-то сзади снова прижал его лицо к земле, и раздался еще один взрыв… Повернулся, увидел покрытое грязным потом лицо Янчонка.
— Это я, товарищ капитан, и свою добавил…
Сколько времени прошло после красных ракет? Четверть часа? Час? Спросил бы кто-либо об этом у Алексея — он бы не смог ответить. А воронку уже обживали. Плюхнулся на ее дно и потянул за собой провод какой-то незнакомый, очевидно, артиллерийский связист. Санитар волоком втаскивал в нее раненого, а тот отгонял своего спасителя руганью.
— Сам, я сам… уйди… что ты меня… как бревно?.. Не цепляйся…
В тем ответвлении окопа, куда бросили свои гранаты Осташко и Янчонок, лежали сваленные осколками три немца; рука одного из них еще тянулась к кобуре пистолета, но пальцы сводило судорогой.
В воронку, неведомо откуда и взявшись, вдруг скатился Сорокин. Алексей взбешенно повернулся к нему:
— Послушай, ты отстанешь или нет? Сматывайся отсюда…
— К черту? Опять? Не имеешь права… Я буду жаловаться Каретникову… Мне через час надо быть на ПСД[4].
— Так и спеши туда, чего ж ты ко мне привязался?..
— Хорошо, уйду… Ты только скажи, кто первым ворвался в траншею?
Но Алексей зло махнул рукой, выскочил из воронки.
Из-за угла окопа выбежал Зинько. Разодранная штанина… Без пилотки… Глянул на Осташко, на Янчонка, на немцев…
— Там тоже никто не ушел… Теперь во вторую. Полундра! Во второй полегче.
А по второй, по третьей линиям траншей уже били и выкатившиеся в степь орудия прямой наводкой, и те, которым отдавал целеуказания артиллерист из воронки, и еще неисчислимое множество других, что не замолкали, продолжали сотрясать степь.
Очистительный огневой вал двигался на запад, к Орлу; шел туда, дробя, перемалывая и вскидывая вверх обшивку траншей, обломки бетона и железа; разную окопную утварь, комья и проволоку заграждений, все неживое и живое, что враждебно и злобно таило в себе смерть и теперь само подлежало смерти…
13
И двадцать — а их было всего двадцать — задыхающихся, распаленных минут атаки, о которых Алексей вначале думал как о самых вершинных испытаниях для батальона («Миновали бы они, а там за ними пойдут полегче»), вдруг плотно сомкнулись с другими, тоже гремящими, словно ввергаемыми в исполинскую камнедробилку, и к ним, перешагивая через слепящий степной полдень, стали прибавляться такие же еще и еще…
Из-за укрытий с облегчением, что наконец-то ожидание кончилось, вывернулись и, поторапливаемые командирскими рациями, лязгая и урча, понеслись вперед танки… Обгоняя пехотинцев, на ходу переняли с их плеч на окованные броней свои какую-то немерено тяжкую часть боя, его разгоравшегося ожесточения. Но только часть… Алексей пока не отставал от вращающихся перед ним гусениц. Ручьисто льющийся блеск металла… Душное, обвевающее лицо машинное тепло… Подсохшая в корку и сорванная траками измельченная в пыль земля… Гулко лопающиеся выстрелы башенного орудия, и при каждом из них тридцатьчетверка будто оседала для упора на днище… Все это какое-то время оберегало и Алексея, и бежавших вместе с ним пехотинцев. Но надо было видеть, что и как с остальными… Он чуть замедлил шаг… На холмистой степи, что час назад казалась столь загадочной, обманчиво безлюдной, теперь не оставалось ни единой пяди, которую бы не порушило шквалом наступления — колесами перемещающихся дивизионов, гусеницами самоходок, катками станковых пулеметов, тысячами сорвавших дерн саперных лопат. А позади, над переправами через Зушу, уже метали вниз свое черно-сорное, разбухающее на лету семя пикирующие бомбардировщики, запоздало пытались сдержать выхлестнувшуюся на западный берег высокую, взбурлившуюся волну. Над ними густо кружились, перехватывали, жалили, отгоняли их прочь, свергали вниз на приречные луга наши истребители. Но новые и новые десятки «юнкерсов» мелкой сыпью проступали на горизонте, а спустя несколько минут укрупнялись так, что можно было рассмотреть кресты на их крыльях, и плыли дальше, туда, откуда подтягивались вторые эшелоны войск…
Близкие разрывы мин — один и сразу же второй — заставили Алексея припасть к земле. Упали и два бежавших в нескольких шагах от него красноармейца.
— Гляди, иконостас какой в небе летит, — приподнял голову один из них. — Где ты, Маковка? Крестись!..
— Что пужаешь? Эти будто мимо…
— Все они мимо, пока на башку не свалятся.
— Не пужай, говорю…
— «Не пужай, не пужай!..» Тогда не залеживайся, пень таежный! Давай вперед!..
Однако и в самом деле, тех, кто наступал в первом эшелоне, немецкие бомбардировщики страшить не могли. Слишком изломанным, обоюдно вклиненным стал передвигавшийся, почти ежеминутно меняющий свои очертания передний край. Страшило другое. Уже несколько тридцатьчетверок пылало, и от них, начиненных неизрасходованными боекомплектами, разбегались красноармейцы. В полном безветрии жаркого полдня дым не расстилался, а вился над машинами черным штопором, плотной, только высоко вверху расплывающейся спиралью. В люке ближней загоревшейся машины показался танкист и уже вылез, собрался прыгнуть и вдруг обессиленно обмяк, сполз, скатился с брони… Из-за прикрытой усохшим кустом шиповника бойницы вел огонь пулемет. И другой танк, за которым бежало отделение Спасова, свернул туда, влево, на этот сотрясаемый исступленной дрожью выстрелов куст.
— Сюда, за мной! — выкрикнул Спасов.
Алексей тоже было вслед за танком метнулся влево, в спасительный заслон его брони, но увидел, что автоматчики, не сворачивая, продолжают бежать прямо, и понял, что сейчас это было вернее. Вал немецкой траншеи круглился всего в десяти — пятнадцати шагах. Нет, теперь уже не шагах, а в прыжках… Теперь только в прыжках… И этот рывок отделения Спасова решил все дело… В изгибах траншеи разорвались гранаты, ожесточились, перебивая друг друга, автоматные очереди. И Алексей, спрыгивая с бруствера вниз, тоже опередил вскинутый перед ним задрожавшей рукой пистолет, на секунду раньше нажал спусковую скобу. Отпрянув от упавшего под ноги тела, готов был стрелять еще, но там, в оплетенных хворостом ответвлениях, уже мелькали зеленовато-желтые гимнастерки с в о и х. Он не заметил, как перед этим танк наискосок, вгрузая правой гусеницей в обваленный окоп, подмял пулеметное гнездо; лишь чуть позже, когда и эта траншея была занята, увидел, что машина покачивается далеко впереди, а куст шиповника после пронесшейся над ним громадины пружинисто распрямлял ветки.
Облегченно распрямиться хотелось и самому. Но еще сильнее был другой, изнурявший все тело позыв — пить, пить!.. Без глотка воды, кажется, он не способен больше ни на один шаг, не сможет произнести ни одного слова. Горло и рот будто набило сухой, распирающей изнутри щепой.
На дне окопа сидел Зинько и, переложив автомат в левую руку, правую занес за спину, ощупывал себя. Алексей подбежал, хотел было спросить, что с ним, но пересохшая гортань выдавила только невнятный шепот. Так же невнятно прошептал что-то и Зинько, продолжая елозить рукой позади себя, и вдруг постаревшее, измученное лицо его разгладилось в улыбке — вытащил сбившуюся на спину флягу… Протянул ее Алексею, и он, благодарный, не стыдясь своей нетерпеливости, поспешно схватил ее. Металлическое горлышко было теплым, теплой была и вода, и, однако, какое блаженство — почувствовать на губах, во рту влагу… Разрешил себе два глотка. Сам же накануне напоминал всем, что с водой сегодня быть осмотрительней, не жадничать… Не больше позволил себе и Зинько. Подбежал Янчонок, пригубил и он.
— Прорвали, товарищ капитан… Гоним!..
Янчонок выговорил это слово так охотно и просто, что оно словно освободилось от всего митингового, многократно повторяющегося, засверкало с давно жданной новизной. Самое дорогое и важное слово — «гоним»! Не отдаленный зов в будущее — изгонять, гнать врага! — а то, чем они были заняты сейчас, здесь… Гонят!..
После той минуты, когда батальон поднялся в атаку, прошло уже четыре часа. Все это время Алексей только на отдалении чувствовал направляющую командную руку Фещука. Увидел его лишь после того, как дважды был сменен КП батальона.
Фещук сидел на камне за полуобваленной стеной избы, одной из тех, в фундаменте которых немцы устроили пулеметные гнезда, и разговаривал по телефону со Стученко. И хотя, как ожидал Осташко, ему, комбату, полагалось бы сейчас быть довольным — прорвали, отштурмовали и третью траншею, — лицо комбата оставалось злым, в багровых пятнах.
— Правей, правей разворачивайтесь, на высоту! Что фланг? Фланг сейчас не ваша забота, туда выходит новый сосед… Новый, понимаешь или нет? Уплотняйся… Выдюжишь?
Положив трубку, напустился и на Осташко.
— Ты, капитан, свои старые замашки забудь.
— Какие? Что ты, майор? — спросил Алексей, отлично зная, о чем идет речь.
— Какие? Это тебе не Северо-Западный… Что на рожон лезешь? Мне замполит нужен, а не политрук… Или, может, и Фещуку в отделение, в цепь, а батальоном пусть командует Новожилов?
— Ну, оставь, пожалуйста, про это… Все ведь хорошо. — Под этим Алексей подразумевал, что он жив, цел, а хотелось сказать и другое, что старые замашки не стали лишними и не так уж плохи… Но вовремя удержался, не сказал.
— Хорошо, по-твоему? А откуда ты знаешь: хорошо или нехорошо, если только ногами меряешь?
И на это не следовало обижаться. Лучше промолчать. В конце-то концов прав он, Фещук, который из-за этой полуобваленной стены видит все же весь батальон, отвечает за все, что в нем и с ним…
— А где Замостин? — спросил Алексей.
— Во второй, — чуть остывая, проговорил Фещук. — Им досталось, попали под шестиствольные… Добро, что все ж проскочили… Успели схлестнуться с немцами, отсиделись в их же окопах…
Связист, до этого, казалось, оцепенело дремавший, вдруг открыл глаза, подал Фещуку трубку телефона. Фещук слушал, и снова на щеках, на лбу разгорелись багровые пятна.
— Почему залегли? Там же, сам говорил, сотня метров осталась. Ну полторы, так что же? «Бьет, бьет!» А если залегли, так, думаешь, он вас целовать станет? Солохи! Постой, не отходи от трубки… Скажешь артиллеристу… Лейтенант, где ты там?
Из пролома в стене просунулась и взяла трубку чья-то рука. Пока артиллерист уточнял цель, которую ему сообщали из залегшей роты, Фещук развернул на коленях карту, ткнул пальцем в один из ее квадратов.
— Давай-ка быстренько вот сюда, Алексей, в третью.
И тут Осташко, вспоминая только что говоренное, не мог не усмехнуться.
— Со старыми замашками или с новыми?
— Что язвишь? Выполняй! Да кликни, возьми с собой связного.
14
Если бы те, кто этой знойной, исковырянной и гремящей степью рвались к Орлу, были заколдованы, заговорены от пуль и осколков, то все равно не нашлось бы среди них такого человека, который смог бы устоять, выдержать не ослабевавшего ни на один миг предельного напряжения этих трех недель. Его бы в конце концов свалила наземь, лишила самообладания уже одна близость витавшей повсюду смерти, ее не затихавший железный скрежет и визг, ее исступленные черные зрачки, подстерегавшие из-за амбразур, из-за придорожных ракит, из-за развалин изб. Но, ни на минуту не прекращаясь для вступивших в сражение армий, оно, это напряжение, на какое-то время все же благодетельно ослабевало, спадало для отдельных звеньев их. То армейский штаб выводил из боя измотанные, усталые дивизии, заменял их свежими, то штабы дивизий направляли и придерживали в своих резервах те или иные полки, то штабы полков переводили в свой второй эшелон отштурмовавшие важный рубеж и обескровленные батальоны. И тогда в бурунном круговращении, хоть оно по-прежнему и не останавливалось, не замедлялось, продолжало неумолимо перемещаться, катиться дальше и дальше, к Орлу, вдруг выискивались, выпадали какие-то часы, а то и день-два для такой желанной и необходимой передышки…
Для батальона Фещука такая передышка наступила на седьмой день битвы, после взятия Подмаслова. Немцы заранее подготовили его к обороне, в чем помогли им и выгодные естественные рубежи — высоты севернее и южнее этого когда-то большого, богатого села. По откосам этих высот проходили отрытые в полный профиль окопы, позади, в развалинах изб, притаились танки и самоходные пушки «фердинанд». Полк Савича наносил удар с северо-востока, чтобы лишить противника и возможности маневрировать, и путей отхода на запад. Одну из высот брал батальон Фещука, и взять ее удалось с малыми потерями, потому что артиллерийская поддержка была умелой и сильной; но вот потом, на обратных, пологих, протянутых в степь скатах, пришлось нелегко. Трижды бросались в атаку вслед за танками гитлеровцы, и какое-то время батальон оставался предоставленным самому себе, пока не подтянулись на выручку орудия прямой наводки… И были особо тяжкие минуты, когда три танка прорвались к перенесенному на высоту КП, и только стойкость оказавшегося поблизости взвода Золотарева — он отсек вражескую пехоту — да грянувшие наперекрест по танкам — слева и справа от высоты — пушечные выстрелы спасли положение… И поутру, когда стало известно, что противник отходит, Савич бросил в преследование подвижный, усиленный батареей семидесятимиллиметровых орудий отряд из второго батальона, а батальон Фещука в конце дня отвел в свой резерв.
Красноармейцы построились на окраине села и утомленной развалкой пошли к видневшемуся за огородами буераку на отдых. Алексей, поравнявшись с памятной по вчерашнему дню высотой, задержался у подбитых батальоном танков. У одного разворочен бронебойным снарядом бок, края пробоины вмяты внутрь. Перед другим масляно блестела в траве вытянувшаяся на сажень гусеница. Разорвана гранатой. Ее бросил Маковка… И по-прежнему с сердечной признательностью к уральскому бельчатнику Алексей вспоминал, что произошло вчера перед командным пунктом…
…Танк приближался к щели, в которой сидел Маковка, повернулся боком, блеснул выведенным на борту крестом, крупным, нанесенным белой краской крестом, какие были на всех немецких машинах. Казалось, что гитлеровцам удалось нащупать самое уязвимое место в обороне батальона. По крайней мере, так невольно, с тревожным отчаянием подумалось Алексею. И вдруг Маковка порывисто приподнялся и занес руку, в которой чернела граната… Не поспешит ли, хватит ли выдержки, да и попросту добросит или не добросит?.. Еще несколько секунд — и мелкий окоп, где находились Фещук и Алексей, смяло бы, расплющило лобовым натиском многотонной громадины… Граната разорвалась сбоку от борта, черный кипучий конус на миг закрыл машину, железно хрястнули звенья перебитой гусеницы. Танкистов, выскочивших из машины, уничтожили огнем автоматов. Сейчас они валялись на траве с вывороченными наружу карманами. Это уже поработали разведчики — искали документы. У танков остановилось несколько проходивших мимо саперов. Кто-то из них, находившийся по ту сторону машины, довольно воскликнул:
— А, шайтаны, напоролись? Получили по зубам?
Что за черт, знакомый же голос! Алексей обогнул танк и лицом к лицу столкнулся с прохаживающимся там Мамраимовым.
— Рустам!
Тот на секунду опешил, всмотрелся, просиял всем широкоскулым лицом.
— Алеша! Салам, дорогой мой!
Обнялись.
— Оказывается, тоже здесь, на Брянском, Алеша?! Рядом? Где же твое войско?
— Да вот наша работа, — кивнул Алексей на танки.
— Значит, в шестьдесят третьей? Так мы же вам на Зуше дорогу расчищали… Вспоминал ли ты меня? Ташкент? Северо-Западный?
— Да уж вспомнить есть о чем… И как мы не встретились раньше, в обороне?
— А сейчас чем плохо, под Орлом?
— Неплохо и так, на ходу…
— Так надо же что-то придумать и на ходу, Алеша, — искренне забеспокоился Мамраимов. — Как же иначе? Встретились и разошлись? Нехорошо. Не забывай, что я сын Востока… Кто знает, когда еще увидимся?.. Ты где и куда сейчас?
— И сам пока не знаю… Отведены во второй эшелон.
— И у нас передышка. Постой, ты обедал?
И без того исчерна-жгучие глаза Мамраимова воспламенились еще больше. Заговорило его хлебосольство, и, здесь, сейчас, оно не могло не вызвать у Алексея улыбку.
— Ох, дорогой мой, нашел о чем спросить… Пока еще кухни в боевых порядках не двигаются, хоть и полевые. Вот собираюсь ее разыскать.
— А нашу саперную и искать не надо, тут она. Оставайся, хоть накоротке посидим. Сам аллах велит.
— Только не сейчас, Рустам, не сейчас, люди ж у меня…
— А ты где с ними расположился?
— Вон там, за подбитой самоходкой… В буераке…
— Так я тебя найду… Вот только разберусь с делами и найду. Приглашаю ко мне! Договорились? Угощу, как эмир бухарский… Не прощу, если откажешься. Не вздумай обидеть.
Как ни порадовала Алексея эта встреча, однако спустя несколько минут он думал уже не о ней. Вместе с Фещуком выясняли понесенные в ротах потери — убитыми, ранеными. К счастью, они оказались невелики. Но о том, что в первой роте помимо трех тяжело раненных погиб при отражении танковой атаки Морковин, думать было тяжело; к личной горести как бы прибавлялась и горесть Ремизова о своем давнем дружке… Тяжело было думать и о том письме, какое он должен был написать в Новоузенский детдом сестренке Морковина… Наученный горьким опытом, Алексей теперь не спешил отправлять такие письма. Пусть хоть неделю-другую для родных и знакомых продлится обманчивая, зыбкая надежда.
— По-моему, Морковина надо посмертно представить к награде, — сказал Осташко Фещуку. — Обучил ребят стрельбе по смотровым щелям и сам героем держался… Как думаешь?
— Согласен… Представим… — хмуро склонил голову комбат. — В донесении опиши… И Маковку не забудь. Представим тоже. Молодец! Так что давай и о живых…
Да, надо было думать и о живых, о тех, кто остался в строю. Сейчас они покатом лежали на дне буерака у ручья, сваленные изнеможением. Никого не пробудила даже прибывшая кухня. Приехавший вместе с ней Чапля привез увесистую пачку газет. Все свежие. Не только армейская, но и московские за сегодняшнее число. Видимо, доставлены самолетом. В армейской газете корреспонденция Сорокина «За огневым валом»… Алексей подвинулся к Фещуку:
— Про нас… Читай.
Они только-только углубились в чтение, как раздался громкий, полный солдатского рвения возглас:
— Товарищ майор, разрешите обратиться к капитану!
Фещук поднял голову, удивленно уставился на незнакомого молоденького посыльного. Алексей, заметив черные лычки сапера, вспомнил о Мамраимове и засмеялся.
— Да это знакомый прислал. Час назад встретил. Вместе училище кончали. Замполит он в саперном. Тут рядом.
— Так точно! Приглашают на обед!
— Обед? Неужели как у эмира бухарского? — всплыли в памяти Алексея щедрые посулы друга.
— А это будет вам самим видно, товарищ капитан, — смышлено залукавились глаза посыльного.
— Не знаю, как и быть, обошелся бы сейчас и без него. — Алексею и хотелось поговорить с Рустамом, да больно уж не ко времени. — Лучше, пожалуй, в другой раз когда-нибудь…
Но Фещук, заметив колебания своего замполита, вмешался:
— Чего упрямишься? Обещал ведь, наверное? Иди, с саперами дружбу терять не стоит.
— Хорошо, передай, что сейчас буду.
— Приказано сопровождать. Мы теперь на новой резиденции…
— Ну, какой же ты, брат, настырный… Ладно уж, веди, — поднялся Осташко.
Сапер лихо повернулся, зашагал по дорожке, промятой по травянистому склону. Выбравшись наверх, они шли доспевающим полем. Нет-нет да и попадались еще не убранные, затерявшиеся среди хлебов трупы. Наших санитарам разыскивать было трудно — выцветшие гимнастерки солдат издали сливались с уже созревшими золотистыми колосьями. Немецкие, серо-зеленые, бросались в глаза заметнее. А в небе над полем и сейчас не умолкал гул моторов.
— Вот и пришли, товарищ капитан.
Хлеба кончились, и на округлой зеленеющей проплешине Алексей увидел внушительную группу блиндажей — в центре осанистый, большой, а вокруг него на орбите, подобно планетам вокруг главного светила, — меньшие. Но все, как один, добротные, в несколько накатов, с аккуратными козырьками, которыми маскировались поблескивающие на уровне земли оконца. Поверху и сбоку блиндажи были искусно обложены густо затравеневшим дерном, что сделало их совершенно неразличимыми для наблюдения с неба и спасло от бомбового удара нашей авиации, хотя наверняка здесь располагался полевой штаб вражеской дивизии, если не корпуса.
Мамраимов, вероятно, увидел Алексея в окошко еще издали и поспешил выйти, радушно встречал гостя у входа в главный блиндаж. Он прижал руку к сердцу, почтительно склонил голову.
— О, заходи же, заходи, мой желанный, прекрасный гость. Пусть легкими станут шаги утомленных ног твоих, пусть отдохновением наполнится душа твоя, и пусть трижды благословенными будут те тропы, что привели тебя к порогу этой кибитки…
— Послушай, Рустам, а она, эта твоя кибитка, случайно не заминирована? — нарушая ритуал шутливых приветствий, вовсе нешутливо поинтересовался Алексей.
— Неужели ты усомнился в своей безопасности здесь, среди богатырей, которые владеют миноискателями так же легко, как ты своей зажигалкой? Поверь, сиятельный, даже муха не осмелится омрачить тех бесценных часов, которыми ты осчастливишь мой кров.
— Двадцать минут, Рустам, всего двадцать минут, — счел нужным поправить хозяина Алексей.
— Воля твоя, великолепный. Но только умоляю тебя: не спеши считать время, прежде чем сядешь за поджидающий тебя скромный стол.
Введя Алексея в блиндаж, Мамраимов торжествующе следил за тем, какое впечатление произведет на гостя все приготовленное для пиршества. Вина с этикетками на разных языках. Трофейные сардины… Янтарная плитка то ли масла, то ли сыра… Колбасы… Дымившийся с каким-то варевом закопченный котелок выглядел неказистым, бедным родственником на этом парадном смотре.
— Вижу, вижу, как был наш Рустам чревоугодником, так и остался, — с усмешливой укоризной покачал Алексей головой.
— Но теперь не в ущерб нашим армейским запасам, Алеша, — поспешил заметить Мамраимов. — Произошла экспроприация экспроприаторов. Сам понимаешь, саперы в такие сооружения входят по боевому уставу первыми. Так рассказывай, Алеша, давно ты на Брянском?
— С апреля… Прямо из госпиталя…
— Довелось уже побывать? Тяжелое?
— Так, среднее, осколочное… В ногу… Кого еще встречал из наших?
— Представь себе, недавно встретил, когда стояли в Ефремове, Кострова! Помнишь, преподавал партийно-массовую?.. Сейчас начальником политотдела дивизии… Спросил у него про Мараховца… Уехал сразу же после нас на фронт, кажется в Карелию. Комиссарил в лыжном батальоне… Ну, а из нашего выпуска переписываюсь с Оршаковым, он в дивизионной парткомиссии где-то на Воронежском фронте; с Соловьевым, он, как и мы с тобой, замполит в батальоне… О Фикслере я тебе писал?
— А что с ним?
— Подорвался на мине… Весной лежал в Костроме. Но вот что-то молчит…
Рассказывая, Мамраимов откупоривал бутылки и, подняв одну из них, присмотрелся на свет.
— Признаюсь, Алеша, что все эти жидкости я не задумываясь променял бы на один бокал нашего уратюбинского… А это что ж? Вот, например, какой-то доппель, или, тьфу, ниппель… Военфельдшер пробовал, говорит, что полезен для страдающих недостатком кислотности. Нам это ни к чему. Давай лучше проверим коньячок. Кажется, французский. От такого и Евсепян не отказался бы… Помнишь его нотации: «Ах, как вам не совестно! А еще будущие политруки!» Кстати, знаешь, где он? Остался в Ташкенте, подготавливает третий выпуск…
— А Хаким… заместитель наркома из Кара-Калпакии?
— Садыков? Погиб на Кубани… И вот от Цурикова третий месяц ни строки…
— Да и мне он не писал. Может, перебросили в тыл, к партизанам? Сам он из Белоруссии.
— Это возможно. За что же мы все-таки с тобой выпьем, Алеша? Предлагаю за начало нашего пути, за Ташкент. Как он тебе, донбассцу, вспоминается? Тепло?
— Тепло… Проводил в дорогу по-братски…
— И за всех однокурсников!.. Сколько нас тогда ехало? Сто двадцать, и за тех, кто дожил, и в память тех, кто не дожил…
Они чокнулись, но донести кружки до губ не успели…
Громовой, направленный по вертикали удар встряхнул блиндаж, перехватил дыхание, выплеснул коньяк и, казалось, с урчанием ввинчиваясь в землю, замер где-то глубоко под ногами… Они еще не пришли в себя, не поняли, что произошло, как новый, еще большей силы разрыв осыпал с потолка землю, заново припечатал их, пытавшихся было вскочить, к табуретам. И тут снова — в третий раз, в четвертый… Наступившая после этого тишина казалась такой же громовой, оглушающей.
— Фу ты, басмач проклятый, — выругался Мамраимов, отирая с лица капли выплеснутого вина. — И пригубить, сволочь, не дал…
— Вот тебе и муха, — поддел приятеля Алексей, прислушиваясь к удалявшемуся шуму моторов.
В блиндаж вбежал солдат, тот самый, что сопровождал Алексея.
— Это, товарищ старший лейтенант, один какой-то залетный бродяга разгрузился. Другие стороной прошли. Наверное, все туда же, к переправе.
— Никого не задело? — осведомился Мамраимов.
— Помиловало. Ни царапинки. Полусотки он бросил.
— А тебе этого мало? Скажи, чтобы не толклись кучей у блиндажа. А то еще накличут.
Возвращаясь к роли гостеприимного хозяина, Мамраимов откупорил другую бутылку, наполнил кружки.
— Что ж поделаешь, Алеша, — извиняющимся тоном произнес он. — Не в чайхане сидим…
— Оно так, а все ж признайся откровенно, кто из вас умудрился здесь остановиться и выбрал это место — ты или комбат?
— Начштаба, а что?
— Передай тогда ему, что он того, — Алексей выразительно повертел пальцем у виска. — Эти ведь блиндажи у немцев на карте как вот на ладони. Они вправе считать, что раз здесь располагался их штаб, то, значит, и наш разместится. Может, потому и оставили целыми эти мышеловки…
— Так ведь непробиваемые…
— А это еще надо проверить…
Он как напророчествовал. По ступенькам скатился тот же солдат, встревоженно выкрикнул:
— Воздух, товарищ старший лейтенант… Опять заходят… Пятеро…
Осташко подмигнул Мамраимову — понял? — коротким тычком стукнул свою кружку о его, выпил… Потом началась, как он спустя час рассказывал Фещуку, закуска… Первые бомбы свалились поодаль от их блиндажа, но затем одна точно угодила в площадку у входа; взрывной волной вышибло дверь, бросило Алексея в угол. Ударившись о стойку, которой крепился потолок, он на какое-то время потерял сознание. Когда очнулся, все перед глазами спуталось, покачивалось — стены, опустевший стол, засыпанный осколками стекла пол… Кончили, отбомбились или же нет? Может, это не тишина, а просто он оглох? Но услышал, как позванивают, перекатываясь по настилу бутылки, котелок. Шевельнул отяжелевшими руками, ногами. Блиндаж полнился густой, медленно оседающей бурой пылью, и Алексей увидел в противоположном углу Мамраимова. Он тоже сидел на полу и недоверчиво себя ощупывал. В полусумраке ворочались белки очумелых глаз. Вопреки всему только что пережитому, вернее, как нервная разрядка после пережитого, Алексей затрясся от подступившего смеха.
— Эй, прекраснейший из прекрасных!
— А? Кто это? — невнятно откликнулся Мамраимов.
— Да кто же? Я, Алексей.
— Как ты там, Алеша?
— Ну, друг, угостил ты меня… Правда, эмир бухарский ни при чем… Сюда бы сейчас Ивана Андреевича Крылова. Почище демьяновой ухи получилось!..
Пошатываясь, все еще не придя в себя, они выбрались из блиндажа. Четверка «юнкерсов» уже уходила на запад. В километре от блиндажей над степью клубился дегтярно-черный факел. Очевидно, один из бомбардировщиков упал, подбитый зенитчиками. Шел седьмой день Орловской битвы.
15
Огневой вал, тот огневой вал, что с рассветом двенадцатого июля грозно встал и двинулся вперед по всей протянувшейся на сотни километров кромке орловского выступа, неотвратимо катился к Орлу, охватывая его с юго-востока и севера, укорачивая и сжимая вражеский, нацеленный в сердце страны плацдарм. Днем под серо-голубым, не терявшим своей высоты небом его обозначали густые, свивающиеся в геркулесовые столбы дымы, обозначала подвижная, то и дело меняющаяся граница мглы, в которой огнились хвостатые кометы «катюш» и чернильно, словно расплываясь на промокательной бумаге, возникали сгустки снарядных и бомбовых разрывов. Но и ночью не остывала, бурлила устремленная к пригородам Орла лава. И еще сильнее становилась духота ночей от развешиваемых ночными бомбардировщиками и долго золотившихся над нескошенными полями осветительных ракет, от схлестнувшихся трассирующих очередей, от множества рукотворных зарниц.
В одну из таких жарких, словно бы вобравших весь остаточный июльский зной, ночей вдруг благодетельно собралась и зашумела гроза. Батальон Фещука, к вечеру занявший Домнино, одно из сел, находившихся на ближних подступах к Орлу, тогда же в конце дня со скоротечными боями продвинулся дальше и, когда стемнело, остановился в поле, на промежуточном рубеже к Шамардино. Дождь ударил хлестко и крупно, сверкнули молнии. Ржаное неубранное поле было изрыто капонирами, ровиками, щелями, но укрываться в них, подтапливаемых ливнем, бессмысленно. Да они просто оказались милостивыми и желанными, эти освежающие струи, и в первые минуты, сняв пилотки, солдаты охотно подставляли им разгоряченные лица. Но Фещуку надо было развернуть карту, и Новожилов разыскал и принес жерди — то ли артиллерийские реперы, то ли вехи, оставленные саперами, — и навесил плащ-палатку. Сюда же подтянули связь. Фещук стал докладывать Савичу обстановку.
Алексей, сидя у входа, ожидающе смотрел на освещаемое папиросой глянцевитое от дождя лицо комбата.
— Выслал, не вернулись еще… Тогда сообщу… Да и без разведки картина ясна… Нажмем… Можно хоть сейчас поднимать людей… Соседа? Нет пока… Есть отложить…
Положив трубку, Фещук наклонился над картой, сильнее раскурил папиросу, чтобы лучше видеть.
— Осторожничает наш первый. Фланги поотстали. Приказывает дожидаться рассвета. Обещает поддержку слева. Крупный населенный пункт!.. А кем, спрашивается, населенный? Три печи да кирпичи… Видели мы их уже. Залазь, Алексей, сюда… Населяй!.. Смотри, как полыхает…
— Воробьиная ночь…
— Нет, это не воробьиная… Ту я знаю, она попозже, когда арбузы поспевают… Помню, когда пацаном был, всегда такой грозы дожидались. Подберемся к хозяйской бахче, затаимся, а как только сверкнет, арбузы все на виду, залоснятся. Вот тогда кидайся к ним, успевай хватать, чтоб сторож не заметил…
— Ну, у вас они и поспевают позже, а у нас на Украине и в августе было что хватать…
— Что ты ее так вспомянул, словно вся она в прошлом? Белгородское направление появилось, значит, и харьковское не за горами… А поиски разведчиков в твоем Донбассе тоже что-нибудь да значат…
Они разговаривали, замолкая при сильных ударах грома, и Алексей так все же и не воспользовался приглашением комбата, звавшего под плащ-палатку, оставил его с Замостиным и Трилисским, сам пошел в роты. Только перед рассветом на полчаса прикорнул в полегших хлебах рядом с Солодовниковым, уткнувшись лицом в эту мягкую подстилку и вдыхая мучнистый, мельничный запах колосьев. А едва над полями в проясненном ночной грозой небе стало светлеть, поднялись…
Савич с поддержкой не подвел. Село взяли внезапным, охватывающим с окраин ударом батальона Фещука и третьего батальона, которому был придан дивизион стодвадцатидвухмиллиметровых орудий.
Медленно стала откатываться дальше, в лощину, бурая, пронзаемая всплесками огня пелена — кромка вражеского сопротивления. Остановится ли она перед Орлом еще раз на каком-то шестом или седьмом рубеже подготовленной гитлеровцами обороны? Тогда снова замолотит наша артиллерия, снова с басистым гулом понесутся в небе «силы», снова батальону подниматься в атаку. А пока связисты сновали меж окопами, тянули свою пряжу на новый КП, к облюбованному Фещуком оспенно изрытому воронками курганчику. Его опоясывали неглубокие, вполроста, ходы сообщения, и Алексей увидел, как сейчас по ним из-за обратной стороны холма вышли, конвоируемые автоматчиком, кажется Ремизовым, полдесятка немцев. Перед этим одну группу пленных уже провели, но они шагали с поднятыми руками, а эти, если бы и захотели их поднять, не смогли бы — крепко связаны сзади, на спине. Алексей недоумевающе остановился. Кто и для чего их связал? Куда бы они могли сейчас убежать? Но что-то, с трудом улавливаемое взглядом и мыслью, отличало этих пленных от тех других верениц их, которые он уже видел в эти дни на дорогах наступления. Ранее не встречался этот круглый нарукавный знак с какими-то неразличимыми отсюда буквами. И не у всех немцев, взятых в плен, была такая угрюмая, разбойничья озлобленность. Иные принимали плен как спасение, жизнь… А у всех этих на лицах, в кидаемых исподлобья взглядах — ничего, кроме оголенной ненависти…
«Так это же не немцы, а власовцы!» — догадался Алексей, сразу вспомнив и то, что рассказывал Перекатный, и то, что позже пришлось слышать от Каретникова. Догадались, кого конвоируют, и все другие увидевшие их солдаты.
Рында, которому санитар накладывал жгут на перебитую осколком руку, приподнял побелевшее лицо и закричал:
— Куда ты их ведешь, Ремизов? Дай я этих гадов отведу… Я их быстро спроважу, хоть и однорукий…
Рында обернулся к Осташко, взмолился:
— Товарищ капитан, разрешите… Мне ж все равно в санроту идти…
Ремизов остановился и, понимая, что задумал Рында, растерянно и вопрошающе посмотрел на замполита. Остановились и власовцы. Как и Алексей, и Ремизов, и Рында, они поняли, что неотвратимо ожидавший их где-то впереди суровый суд народа, его возмездие в эти минуты внезапно и вплотную приблизились. И воспаленные, словно бы до дна выжженные злобой, опустошенные глаза, обращенные к Осташко, ни о чем не просили его, смотрели мрачно и почти безучастно… «Сейчас так сейчас». Только на лице одного чернявого, дюжего, стоявшего без фуражки, с кровоточащей ссадиной на щеке, словно пробудилось и замерло тупое, тяжелое недоумение.
— Веди, веди, Ремизов, — махнул рукой Осташко. — Сдашь в комендантский взвод. Где их захватили?
— Настигли артиллерийский обоз, а они, стервы, там… Засели и отбивались до последнего патрона… Видите, пришлось каждого вязать…
Алексей знал о приказе по дивизии — во что бы то ни стало, если попадутся, взять власовцев живыми. Надо было удостовериться: действительно ли гитлеровцы создают из этого предательского охвостья какие-либо регулярные подразделения. Пятеро пленных власовцев были первыми на пути из Новосиля.
Ремизов ткнул прикладом крайнего в цепочке, направляя власовцев дальше по траншее, но чернявый продолжал стоять и вдруг свистяще и хрипло выкрикнул:
— Алексей!.. Алеша!..
Первоначально мелькнула мысль, что он, Осташко, ослышался, настолько невообразимо было, чтобы его имя знал кто-то из этих в ненавистных серо-зеленых куртках. Или, возможно, он позвал кого-либо из своих?
Но чернявый тщетно дергал плечом, чтобы стереть со щеки стекающую на губы кровь, и боясь, что сейчас прикладом подгонят и его, торопливо выкрикивал:
— Алексей, погоди… Я тебе про отца скажу, про Нагоровку…
Осташко, чувствуя, как деревенеют и непослушными становятся ноги, принуждая себя, шагнул вперед и узнал Серебрянского. А узнав, будто задохнулся, и стиснутое удушьем горло не позволяло произнести ни одного слова. Да и ее нашлось бы этих слов. Он брезгливо и гневно смотрел на знакомое и одновременно такое чужое лицо Федора, на его подстриженные на немецкий манер волосы — машинка-нулевка прошлась только по затылку и вискам, — на разорванный, с непонятными, лоснившимися нашивками, воротник. А Серебрянский, обезумело глядя в расстреливающие глаза Алексея, сбиваясь и захлебываясь от волнения, а может быть, и от какой-то воспрянувшей надежды, восклицал:
— Жив… Жив Игнат Кузьмич… Слышь? Вернулся. Позапрошлую зиму видел, встречался. Пол-литра даже распили… И Танька жива… Собрались и уехали куда-то к ее родичам… Я тебе все по-честному говорю, как оно есть… Истинно!
Федор жадно следил, всматривался в Осташко — как он примет его слова? Но было святотатством, глумлением, что долгожданную весть сообщают ему, Алексею, эти оскверненные вероломством, изменой, ложью трясущиеся в страхе губы.
Над головами заревели штурмовики, они летели так низко, что, казалось, подхватывалась и гнулась вслед за ними полынь, травы… Гул затихал за курганом.
— По-честному? А она у тебя была, эта честь? — глухо спросил Осташко.
— Можешь и не верить. Дело твое… Только чего б я стал выдумывать? Мне это сейчас побоку…
— Ну, что еще скажешь, гад?
Федор снова судорожно задергал плечом. Кровь из ссадины сочилась вниз, по раскрыльям носа, на пошерхлые, запекшиеся, черные губы. Облизнул их, сплюнул.
— Гадом назвал? Только и всего? Весь разговор? А хочешь, Алешка, про Нагоровку услышать? Про твой Дворец? Эх, погулял я там, да мало…
— Уводи ты их, Ремизов, поскорей… от греха уводи, — не приказал, а скорее взмолился Алексей, чувствуя, как накатывается на сердце необуздываемое никакой человеческой волей ожесточение.
А позади бесновато рвалось:
— Что ж, ваша взяла!.. Ваша!.. Факт!.. Только знай, Алешка, я твоего старика пожалел, мог и выдать, мог запросто на виселицу отправить, да пожалел… Хотя, вижу, и не стоило… Напрасно… А вот Лембик, этот хрыч, должен был, когда его вздергивали, меня вспомнить… С ним мы квиты.
— Стой! — круто повернулся и закричал Алексей.
Поднимаясь из траншеи наверх, чтобы быстрее нагнать шедшего в цепочке Федора, он на ходу расстегивал кобуру. Словно откуда-то издалека пробился сквозь застучавшую в ушах кровь голос Рынды:
— Правильно, товарищ капитан… А что я вам говорил?! Собакам — собачья смерть!..
Лицо Федора с осатанелыми, выпученными глазами вскинулось над траншеей:
— Сам? Да? Неужто сам?..
Пистолетного выстрела, казалось, и не было слышно; канул, приглох в близких залпах орудий.
16
— …Послушай, капитан, дружески скажи, нельзя ли этот разговор отложить? — вполголоса, прикрывая ладонью трубку, спросил Алексей у вызвавшего его к телефону Суярко.
— А что такое?
— Да ведь подошли к Орлу… А я куда-то в тыл пятиться стану?
Проговорив это, он по сухо прозвучавшему ответу Суярко понял, что привел аргумент не тот и не так.
— Я не в тылу, Осташко, а на КП полка… Не думай, что ты один Орел берешь. Прошу прибыть сейчас же…
Алексей знал, зачем его вызывают, знал, что раз его делом занялся Суярко, то уклониться от встречи невозможно. А какое же, в сущности, дело? Свершил справедливый суд над предателем Родины… «Самосуд, самосуд», — противореча собственному утверждению, подумал тут же. И все-таки не пропадала надежда, даже уверенность, что Суярко его поймет. Ведь Федор сам вызвал его на это своей злорадной издевкой, своей бандитской кощунственной похвальбой… А ведь столкнулись не где-то в тыловой комендатуре, а на переднем крае, в еще неутихшем бою… В общем, все это надо, однако, объяснить…
Фещук по помрачневшему лицу своего замполита догадался, что он переживает, сочувственно хлопнул его по плечу.
— Не вешай носа… Особисты тоже не каменные души… Разберутся.
До этого он, узнав от самого Алексея о случившемся на кургане, не стал высказывать своего мнения. Одобрить поступок Алексея не мог по своему служебному положению. Осудить? Но точно так же, как у Алексея кровоточила память о Нагоровке, у Фещука незабываемо врезались в нее Волховские леса…
Батальон наскоро окапывался у железнодорожной насыпи. Впереди, на расстоянии выстрела автомата, кучились деревянные домики, а сам он, каменный Орел, застланный дымом пожаров, был тоже близок, и сквозь гарь и чад проглядывались почерневшие остовы зданий, купол какой-то церкви, левее — семафоры железнодорожного узла, нагромождения горящих, как спичечные коробки, вагонов.
Алексей вылез из полураскрытого неглубокого погреба, где разместился КП батальона, и перебежками — немцы вели по степи за насыпью частый минометный огонь — стал пробираться на КП полка.
Расщелину оврага, которую он пересек, заполнили укрывшиеся здесь женщины, дети… Приказ коменданта Орла генерала Гамана обязывал население покинуть город. Но многим удалось избегнуть угона, спрятаться, и сейчас те, кто посмелее, поднялись к заросшей кустарником кромке оврага и глазами, в которых страх сменялся надеждой, смотрели в сторону дымившихся кварталов.
Суярко поджидал на опушке небольшой рощицы, и Алексей мысленно поблагодарил его за это. Куда тяжелее было бы, если б дознание велось где-либо вблизи КП, на виду у Каретникова и Савича.
— Садись, рассказывай, — хмуро предложил Суярко, опускаясь на траву. И за такое приглашение тоже можно было его поблагодарить. Все-таки не перешел на официальное «вы», сохранял те относительно дружеские, земляческие отношения, которые между ними были.
— Что тебе рассказывать?
— Все, что позавчера произошло. А лучше с самого начала… Ты давно его знаешь… этого… Серебрянского… Федора?
По пути сюда, в рощицу, Алексей невольно размышлял, каким образом Суярко довольно быстро узнал о том, что произошло на кургане? Теперь же, когда капитан назвал но только фамилию, но и имя предателя, стало ясным, что такая осведомленность — результат первого допроса власовцев в штабе дивизии, а значит, то дознание, к какому приступил Суярко, предписано ему оттуда, сверху. И торопят оттуда… Лучше это для него, Алексея, или хуже? Так и не ответив себе на этот вопрос, он стал рассказывать… О тех днях, что предшествовали эвакуации Нагоровки… Об отъезде отца… О Лембике. О том, как в последний раз, забежав проститься с домом, увидел Федора… Наконец, о позавчерашнем…
Суярко сидел с бесстрастным лицом, покуривал, слушал.
— Вот, кажется, все, — заключил Алексей.
— Ты поступил непростительно…
— Сам знаю.
— А коль знаешь, то пиши объяснение.
— Кому?
— СМЕРШу… Мне… Вот так, как рассказал… Про этого Федора, про Лембика, про отца… Кстати, ты сказал, что он уехал в Тихорецкую и до эвакуации не возвратился… Каким же образом потом он оказался в Нагоровке?
— А спрашивается, каким образом Серебрянский из Нагоровки попал сюда, под Орел?
— Ну, это представить себе можно, раз он изменил присяге еще тогда. Звено цеплялось за звено, и потянулась цепочка. А вот с твоим стариком не ясно. Нагоровку сдали в октябре сорок первого, а Тихорецкую только летом сорок второго. Как же Серебрянский мог с ним встретиться в позапрошлом году?
— Откуда мне известно? Я ведь про отца знаю только то, что мне этот гад сказал… Жив, мол, пожалел его…
— Вот и про это напиши.
Суярко вскинул на Алексея странный, словно удивляющийся его наивности взгляд, добавил:
— Знаем мы, как они нашего брата, коммунистов, жалеют…
— Да ты что, целую историю хочешь из-за этой мрази раздуть? Не я, так его бы полевой трибунал шлепнул…
— Во-первых, прежде чем шлепнуть, его допросили бы… Власовцы попались живехонькими на нашем участке впервые…
— Так его же захватили в плен не одного, с ним еще четверо… Все они покажут то же самое, что и он…
— Я сказал во-первых, а во-вторых — важно знать связи и роль этого Серебрянского в Нагоровке… Ты что же думаешь, кончится война, и ни с кого ничего не спросится? Не воздать каждому…
— Вот я ему и воздал…
— Ты что себе позволяешь? — рассердился Суярко. — Если бы это сделал Рында, с него и спрос был бы другой. Прорвалось естественное.
— А у меня не естественное, да? Не естественное? — оскорбленно повысил голос и Алексей. Он уже готов был пожалеть, что не разрешил Рынде отконвоировать власовцев самому… Пожалуй, не было бы сейчас и этого разговора.
— Хватит, Осташко, не прикидывайся непонимающим. Кто-кто, а политработник должен быть во всем, повторяю — во всем, чистым, как стеклышко… Вот тебе бумага, пиши…
Возвращаясь к себе в батальон и на ходу перебирая в памяти весь этот разговор, Алексей вначале решил, что велся он для него терпимо, благожелательно. Суярко откровенно раскрыл ему все мотивы, по которым контрразведка заинтересовалась Серебрянским и начала дознание. Был бы он, Суярко, настроен иначе, строго служебно, не стал бы и отвечать на вопросы Алексея, не вступил бы и в спор с ним.
Но как Алексей себя ни успокаивал, а на сердце становилось тревожней и тревожней. Почему Суярко так удивился, что отец оказался не в Тихорецкой, а в Нагоровке? А это явно насмешливое замечание, что, мол, знаем, как о н и нашего брата жалеют? И последние, дважды повторенные слова о том, что политработник должен быть во всем чистым? Во всем? Да, не совладав с собой, поддавшись порыву, он совершил безрассудный проступок, но, возможно, это не все, в чем его обвиняют? Может быть, подозревают еще в чем-либо? Его или отца? А он, Алексей, просто убрал со своей дороги Федора, чтобы тот больше ничего лишнего не сказал? Могут подумать или допустить такое? И, как никогда, за все эти два года стала мучительной та полная неизвестность, непроницаемость, что огненной чертой фронта отдаляла его от родного города… Что только не могло за эти годы случиться? Но перед любым высоким судом и, главное, перед судом своей совести и всей своей жизни Алексей никогда, никогда бы не потерял и не потеряет своей веры в отца!.. Разве вернуться назад, к Суярко? Сказать ему об этом? Он остановился. Нет, горячиться не надо. Это уже мнительность! Надо взять себя в руки хоть сейчас! И он пошел степью к насыпи, уже не приникая к земле при свистящем шелесте мин и не перебегая, с сумрачным безразличием на душе.
Фещук покинул погреб и теперь лежал на самом верху насыпи, смотрел в бинокль на подбегавших к палисадникам стрелков. За раздерганными заборчиками и в узеньких переулках внезапно округлялись и так же внезапно исчезали дымки гранатных разрывов, из-за угла какого-то полуразрушенного строения вырвался лоскут огня. Там, очевидно, все еще стояло немецкое орудие, но, вопреки все еще не сломленному сопротивлению осажденных, дело-то все-таки шло к ближнему бою, к рукопашной, а после нее обратного пути нет, только туда, к центральным кварталам города…
— Зацепились за Орел, Алексей… Ну что, отпустили тебя на покаяние?
Не дожидаясь, что расскажет Осташко — не до этого, Фещук обернулся назад, где лежали связные.
— Кто из первой? Ты, Янчонок? Мигом к Пономареву. Пусть принимает левее, к станции, к станции.
— Я тоже с ним, — сказал, поднимаясь, Алексей.
— Хорошо. И передай, как только очистят тот порядок, что по-над дорогой, переношу НП туда, вон в ту хибару…
С насыпи по развевающимся султанам дыма, по далеким полыханиям пламени можно было определить, что бой разгорается все сильнее и на северной окраине, в полосе другой дивизии, что и там завязываются уличные схватки. Где-то в эпицентре этого с последовательным и нарастающим ожесточением сужавшегося кольца прогремели сильные взрывы, и сумеречное небо надолго забагровело… Подрывают мосты? Склады?
Алексей и Янчонок догнали роту Пономарева, когда она подходила к каким-то пристанционным зданиям. В окне одного из них, на третьем этаже, в наступающих сумерках явственно можно было разглядеть огненные клочковатые вспышки — стрелял оставленный немцами в заслоне станковый пулемет, и бойцы первой роты подбирались к зданию с опаской, укрывались за стенами некогда жилых домов, за сарайчиками, за кучами поросшего бурьяном битого кирпича. Прижался к стене и Алексей. Вовремя! Одна из очередей прямо у ног вспорола притоптанную землю двора. Кто-то оттолкнул его от этого зачерневшего шва дальше, за угол. Здесь жались к стене Замостин, Пономарев. Алексей передал Пономареву приказ комбата.
— Не пускает левее, товарищ капитан… сейчас мы его, сейчас… возьмем на прямую… — отрывистой скороговоркой кинул Пономарев.
За эти двадцать с лишним дней наступления тучный, грузный Пономарев, казалось, отощал, убавился наполовину. На почерневшем, исхудалом лице от прежнего остались только еще более набрякшие, отяжеленные бессонницей веки. Но глаза под ними были по-совиному цепкие. Он ожидающе оглянулся назад, на пустынный, замусоренный переулок. Откуда-то из глубины его, сломав хилый заборчик, во двор вкатилась и раскинула станины сорокапятка. Об орудийный щит звякнули, загудели в рикошете пули. Промелькнувшие было пилотки артиллеристов упрятались, и казалось, что теперь уже само орудие медленно нащупывает своим поднимающимся исподволь стволом тех, кто осмелился его затронуть. Первый снаряд разорвался выше чем надо, у карниза, и, не дожидаясь, когда рассеется и опадет известковое облако пыли и каменной крошки, грянул второй выстрел. Наводчик и его помощник теперь во весь рост поднялись из-под щита, устало отирали руками лица… Окно на третьем этаже, минутой раньше глядевшее вниз четко выписанным прямоугольником, в центре которого бился, вскипал огонь пулемета, теперь темнело безжизненно, с рваными, глубоко расширившими его краями, с перекошенной, свисавшей вниз фрамугой. И нынешняя, зримая для всех, желанная доступность этого здания сразу оживила все вокруг. Из пустынного переулка выскочила и, заворачивая в другой переулок, побежала по направлению к станции штурмовая группа, впереди которой бежал Бреус. Одна, за ней другая… Покатили станковый пулемет. Артиллеристы уперлись руками в щит орудия и вытолкнули его из двора.
— Влево, развертывайся влево, — кричал командирам взводов Пономарев, тоже выйдя из-за укрывавшей его стены.
— Знамя, знамя бы сейчас туда!.. Не догадались мы с тобой, — укорил и себя, и Осташко Замостин, кивнув на молчаливо темневшие окна здания.
— А ты жертвуй на такое дело свою скатерку… Ради Орла стоит!
— И в самом же деле… Спасибо, что напомнил! — обрадовался Замостин неожиданно осенившей Алексея мысли. Он торопливо расстегнул полевую сумку, вытащил знакомую всему батальону, прожженную махоркой скатерку.
— Давайте я, товарищ капитан… я одним мигом… — догадался, что задумали офицеры, и подскочил с разгоревшимися глазами Янчонок. — Это же здорово! Первыми будем, а?
— Здесь первыми, — не стал разочаровывать куйбышевского паркетчика Алексей.
И для него самого был первым праздничным этот победный кумач… Увидит весь батальон, а может, и соседи. Увидят и те, кто оттуда, из оврага, смотрит в сторону родного им города…
Янчонок взял скатерку и, на ходу подобрав какую-то валявшуюся во дворе жердь, побежал к зданию.
— Ты его в то окно… На третий этаж, — крикнул вдогонку Замостин.
— А я и повыше! — отозвался Янчонок, взмахнул кумачом, указывая на чердак.
За станционными зданиями в кривых улочках и переулках жались друг к другу одноэтажные домики железнодорожников. Миновали их, и взору открылся перегороженный каменными завалами широкий проспект. Перебегая простреливаемые перекрестки, Алексей мимолетно брошенным взглядом прочел на углу одного из домов деревянную табличку: «Герингштрассе».
— Да ведь это же Московская, товарищ капитан, честное слово, Московская! — выкрикнул бежавший рядом боец.
Алексей оглянулся, увидел Талызина. В голосе его прозвучали и радость, что он узнал улицу, на которой бывал много раз, и горечь, и гнев, что родной город испоганен немецкими надписями и вместо знакомых домов чернеют только их обглоданные пожарами остовы. Ударом приклада Талызин сбил табличку.
В конце проспекта, очевидно у переправы через Оку, продолжали рваться снаряды, но вдали, на том берегу, на колокольне уцелевшей церквушки тоже развевался красный флаг.
17
По освобождении Орла полк Савича, не задерживаясь в городе — для несения гарнизонной службы временно были оставлены части другой дивизии, — продолжал с боями идти дальше — на Краевку, Нарышкино… Благодарность Родины и впервые прогремевший в Москве торжественный салют в честь войск, освободивших Орел и Белгород, празднично настроили всех, кто был причастен к этой победе. Алексей на какие-то дни даже позабыл о неприятном и так насторожившем его разговоре с Суярко, позабыл угнетавшие тогда раздумья. Все это навсегда осталось где-то позади Орла. А ныне всеми мыслями и чувствами надолго завладела великая радость очищения своей советской земли от фашистской скверны. У него, у Замостина, у парторгов рот и взводных агитаторов, у всех, кто своим духоподъемным словом обращался к товарищам по оружию, теперь оказалось неисчислимое множество помощников. Они то гурьбой, целыми деревнями, а то и в одиночку появлялись из лепившихся по овражьим разлогам землянушек, из выкопанных в крутоярах темных, забросанных хворостом ям, из заросших цепкой жимолостью лощин, из погребов, что сохранились на открытых всем ветрам юрах-пепелищах. Старики, женщины, дети…
— Ой, счастье же какое, сыночки… Не думала, что дождусь вас…
— Дядя, а дядя, тамочка в лесу немцы пушки бросили… Целехонькие, хоть сейчас стреляй.
— Как же именовать вас теперь, родные? В погонах все… И ленточки какие-то на груди…
— Именуй, бабушка, как и раньше… Красной Армией… А ленточки это за наши раны…
— Табачку возьми, солдатик… Крепенький, духовитый, нашего погарского листа… Берегла своему служивому…
— Где же «катюши» ваши? Хоть бы глазком глянуть… И от фрицев о них наслышались…
— Наседайте, наседайте на них, оккупантов, гоните… за все наши материнские слезы, за все наши муки!
Алексей, всматриваясь в возвращавшихся к своим очагам жителей, слушая их, не раз с глубоким волнением думал о своих армейских предшественниках — политруках сорок первого года. А что довелось слышать на этих же перекрестках им?! Счастье тем, кто вновь вернулся на знакомые степные и лесные проселки, а сколько на обочинах полуобвалившихся, сохлых, заросших травой холмиков, которые ждут, чтобы по-матерински, скорбно и признательно обласкали их людские руки!.. И далеко на Ловати темнеет старый деревенский погост, где остались лежать Киселев, Борисов, многие другие, кто так и не дожил до этих дней, так и не ступил на эти дороги…
Теребилово…
Шатилово…
Навля…
И повсюду пыль, пыль… Не та пыль, которой и в Донбассе, особенно в первую пятилетку, хватало. Ту наносило со строительных площадок, с терриконов, с гудящих, изнемогающих под ударным грузом эстакад, а эта — буро-пепельная, остистая, сорванная и измельченная тягачами сохлая корка пажитей, потревоженных окопами и противотанковыми рвами полей, пыль, поднятая в воздух тротилом и порохом, перемешанная с золой пожарищ, степных и лесных палов; пыль разрушения, праха, тлена. Но нет-нет да и увидится с какого-то не обойденного фронтовой дорогой пригорка дивное, чудом сберегшееся: тронутая золотистой улыбкой осени хрестоматийной красоты березовая или кленовая роща, а за ней необозримые пашенные гоны… Стерня к горизонту стелилась не ровно, а была вся словно в пересекающихся сочленениях, легких плавных покатостях, многоверстных овалах, округлостях, и думалось, что именно тут родилось мягкое, ласковое слово «нива», тут много сотен лет назад человек впервые ласково и благодарно назвал землю кормилицей, матерью… Такой она была, такой она останется.
И если в такой час, на таком степном пригорке не поторапливают батальон боевые приказы, то тогда привал, а то и дневка…
На одной из таких кратковременных стоянок снова свели пути-перепутья Алексея и Сорокина. После двенадцатого июля, дня начала наступления, они больше не встречались. Сорокина командировали в другие дивизии шестьдесят третьей, о чем Осташко узнавал из армейской газеты, читая его корреспонденции. Очевидно, с другой дивизией входил он и в Орел.
Сейчас, пользуясь тем, что солдаты обедали — подъехала походная кухня — и у него появилось свободное время, Алексей отошел опушкой рощи в сторону, присел на пенек и стал писать письмо Вале. Последний раз послал ей открытку из Орла, три недели назад. Всего несколько строк. Теперь собрался размахнуться…
Задумавшись, поднял голову и увидел длинноногим журавлем похаживающего меж кучками красноармейцев сухопарого офицера — узнал Степана. Тот, очевидно, расспрашивал о нем, обернулся в его сторону, и Алексей махнул рукой — здесь я!
Сорокин подходил неторопливым, пожалуй даже каким-то торжественным, шагом и еще издали вместо приветствия с шутливой высокопарностью стал читать стихи:
Осенние несутся ветры, Узор цветов в степи погас, Еще три сотни километров За лето отдалили нас…— Тебя и меня? Неужели? — не вставая с пенька, улыбнулся Алексей. Сорокин не обратил никакого внимания на его реплику, продолжал:
Но есть предчувствия недаром В солдатской фронтовой судьбе, И нынче с каждым новым шагом Я ближе, милая, к тебе…Не поздоровавшись, сел рядом, будто они расстались всего несколько часов назад.
— А я-то, грешным делом, возомнил, что обращаешься ко мне. Оказывается, пластинка прежняя… Ленинабадская Лаура… — притворно огорчился Алексей.
— Да, дружище, бродят в башке этакие лирические, голубовато-розовые мыслишки. Кстати, вижу, что и тебе они не чужды!..
— У меня проза.
— Не говори, не говори… Какая же в такие дни может быть проза? Сейчас, что ни напиши, все равно звучит как поэма… Хоть просто перечисляй подряд все Кучеряевки, Починки, Гавриловки, через которые протопал, и разве не баллада?
Как бы вещественно подтверждая бравое победное настроение Сорокина, на его гимнастерке сверкнула Красная Звезда.
— Оказывается, тебя надо поздравить, земляк? Делаю это от всей души.
— Спасибо.
Сорокин в свою очередь глянул на гимнастерку Алексея и искренне изумился.
— Позволь, позволь, а у тебя ничего не прибавилось?
— Как видишь.
— Почему? Неужели не представили?
— Допустим, что не представили… В общем-то батальон не обижен. Подходил к солдатам и сам, наверное, заметил? Наградили орденом Отечественной войны I степени и твоего знакомого — Солодовникова.
— Ты мне о других сейчас не рассказывай… Я спрашиваю о тебе. Как это могло случиться? Меня это не может не волновать. Я ведь двенадцатого июля, в конце концов, бежал позади тебя.
— Чуть позади, но туда же…
— Мало ли что? А куда бы иначе?! Нет, нет, я не могу с этим примириться. Совесть не позволяет. Честное слово, буду говорить об этом с начпоармом. Замполит такого батальона — и вдруг обойден!.. Здесь какая-то ошибка.
— И не вздумай, пожалуйста, — уже начал сердиться Алексей. — Оставим этот разговор, прошу тебя… Мое от меня не уйдет…
Сам того не желая и не зная, Сорокин разбередил смутно тревожащее Алексея. Он догадывался, почему его не представили. Происшедшее под Орлом не забыто. Написанное им капитану Суярко объяснение где-то читают, перепроверяют… И дело, понятно, не столько в неполученной награде, хотя наградили и Фещука, и Замостина, — дело в том подозрении, которое прямо ему не предъявлено, но, вероятно, все-таки продолжало висеть…
Сорокин заметил, как помрачнел Осташко, и сам перевел разговор на другое.
— Ты уже написал письма в Нагоровку?
— Куда? В Нагоровку? Ты рехнулся?!
— Ах, ты дожидаешься, когда Левитан лично сообщит тебе, что она освобождена, и любезно пригласит вступить в переписку? Чудак! Надо это делать сейчас, не откладывая. На какой день ты получаешь письма из Москвы?
— На шестой-седьмой.
— То-то же. А Нагоровка в два раза дальше. Теперь соображай.
— Но вчера о Донбассе в сводке ни слова… Наверное, опять поиски разведчиков…
— Это было вчера… А сегодня… возьми свежую газету, читай… Заняты Лисичанск, Ворошиловск, Чистяково… Мои письма уже давно где-то там, на подступах, а ты чего тянешь?
— Кому же ты писал?
— Как кому? Редактору… Зенину… Не забывай, что в Орле в первый же день после освобождения заседало бюро горкома, а на второй день вышла «Орловская правда». Так что не тяни… У тебя же там, по-моему, кто-то из родных?
— Точно не знаю, кажется, отец…
— Ну, тем более, пиши немедленно… Могу письма забрать с собой, и сегодня же они будут на армейской пэпээс… Ладно, с тобой мы еще потолкуем, а сейчас разыщу Солодовникова, поздравлю. Кстати, о полных кавалерах Отечественной я еще не писал.
— Ты только с ним подушевнее…
— А что такое?
— Вчера он получил письмо из Долгушей. Еще одна похоронная семье пришла… Михаил погиб под Понырями.
— Да-а! — остановился задумавшись Сорокин; вероятно, это известие ломало какие-то его журналистские замыслы. — Нет, пойду… Все равно надо поговорить…
«А ведь он прав», — оставшись один, с признательностью подумал Алексей о совете земляка. Надо, не теряя времени, написать отцу и в горком… Хотя бы коротко, для первоначальной связи, чтобы знали, где он, чтобы могли ответить… И, закончив письмо Вале, он тут же принялся за два других, о которых полтора месяца назад, там, в Верхних Хуторах, не мог и помышлять.
После дневки, на которой Осташко встретился и расстался с Сорокиным, полк Савича вступил в Брянские леса, и второй батальон шел в направлении на Трубчевск, к Десне, туда же, куда устремилась и вся дивизия, но только глухими, окольными проселками. Прочесывали от немцев здешние дубравы и пущи. Не так давно гитлеровцы не смели сюда и носа совать, опасаясь партизан, а по бокам тех дорог, по которым все же приходилось ездить, далеко в сторону — на триста — четыреста метров — был вырублен даже кустарник. И на каждом перекрестке, на каждой придорожной поляне под задерневевшими насыпями — массивные срубы дзотов. Но не в них искали спасения разгромленные отступавшие немецкие гарнизоны. С севера угрожающе нависала канонада боев за Брянск, южнее наши войска подходили к Новгород-Северску, и разрозненные вражеские группы пытались лесами пробиться к деснянским мостам. Их преследовали, перехватывали. Несколько дней батальон действовал в отрыве от полка, поддерживал связь с ним только по рации. И по рации же — благо, что трофейных батарей хватало, — принимали сводки Совинформбюро. Алексей теперь нетерпеливо отсчитывал не только те километры, что лесными тропами вели на запад, но и другие, что пролегли по донецкой земле для неведомых ему товарищей по оружию. Уже были освобождены Ирмино, Кадиевка, Зугрэс. На другое утро Совинформбюро сообщило, что заняты Дебальцево, Енакиево… Значит, отбита у врага и Нагоровка… И где-то на пути к ней его письма! 9 сентября Москва передала, что наши войска полностью овладели Донбассом. Алексея поздравляли Фещук, Замостин…
— Эх, с ходу прихватили бы и мой Днепропетровск, — мечтательно вздохнул Замостин. — Неужели батько Славутич помехой станет? Не должно бы. Научились и форсировать, и плацдармы захватывать…
— А вот и мы порепетируем на Десне… Южнее ее уже форсировали… — заметил Фещук.
— Здесь немец пуганый. После Орла не успевает откатываться…
— А за Брянск держится… Слышишь?
Где-то на севере третий день словно бушевал в глубинах леса бурелом, раздавался басистый гул, а когда сосны становились реже, видно было пламенеющее в небе зарево.
Примкнули к полку, уже выйдя из лесов к Десне. Осташко с волнением ждал этого дня: есть ли ему письма? Пришло только от Вали. Она тоже поздравляла его с освобождением Донбасса, а оттуда-то, оттуда — ни слова. Рано? Или просто не до него сейчас в горкоме? У Зенина, если он вернулся и секретарствует, дел невпроворот. Однако мог бы, пусть не сам, так поручить кому-нибудь, чтобы ответили… Но, возможно, там тоже разбираются и ничего хорошего не следует ждать? Вот и отец молчит…
Алексей не стал задерживаться в штабе, удрученный, спустился к реке. Здесь, на берегу, пользуясь тем, что уже вечерело и над речкой стелился туман, скрытно подготавливали переправу саперы. В кустах слышалось осторожное постукивание топорами, приглушенный шум пилы. У проходившего с доской на плече сапера Алексей спросил, кто у них замполит. А вдруг да тот самый батальон, где Рустам? С улыбкой вспомнился их обед под Орлом… Но сапер назвал незнакомую фамилию… От укрытой туманом реки по-осеннему тянуло зябким холодом, противоположный берег не просматривался, был безмолвным. Чуть выше по течению стоял Трубчевск, и напротив него в этот час тоже, наверное, готовили переправу.
За спиной послышались шаги, кто-то шелестел листвой, спускался вниз.
— Товарищ капитан, вас разыскивают, — подошел Янчонок.
— Кто?
— Из штаба полка.
— Да я только что оттуда.
— Капитан Суярко вас спрашивает… Он сейчас у нас в батальоне.
— Началось! — Прежние сомнения, к тому же сегодня отягощенные молчанием Нагоровки, снова нахлынули на Алексея.
Суярко, с которым он, вероятно, разминулся на пути в штаб полка, теперь в ожидании прохаживался перед разбитой на поляне палаткой связистов.
— Ты куда поделся, брянский медведь? Выбрался на люди и снова исчез?
И это шутливое обращение и общительную, поощряющую к такой же шутке улыбку на лице Суярко Алексей встретил с недоумением. Чего угодно ждал, только не этого. И потому не нашелся даже что ответить.
— Гляди-ка — именинник, а такой понурый, — покачал головой Суярко.
— Мои именины где-то на пэпээс застряли, — невесело признался Алексей.
— А вот ошибаешься, земляк. Могу собственноручно передать тебе привет из Нагоровки.
Суярко взял ошеломленного Алексея за локоть и повел в сторону от палатки.
— В общем, так… Всем этим, понятно, делюсь по-дружески… Чтоб ты не терзался понапрасну. Думаешь, и я за тебя не переживал? Но все хорошо. Игнат Кузьмич твой жив и здоров… Закалка у твоего батьки правильная. Помогал все эти два года подполью. Выручил многих наших людей. Жди от него писем… Как видишь, моя почта работает безотказней… Теперь о Василии…
— И о нем знаешь? Жив?!
— Жив, воюет. Правда, на каком фронте и в какой части, сказать затрудняюсь, это, наверное, сообщит отец, а может, и сам Василий уже написал. Ну как, полегчало на душе? Что тебе еще добавить?
Алексей порывисто схватил и пожал руку Суярко.
— Спасибо… Спасибо ей, твоей почте!..
— Хотя добавить все-таки надо, — помолчав, произнес Суярко. — Так вот, об этой сволочи — Серебрянском. Он действительно выдал Лембика, похвалялся бандюга не зря. И выдал не только его одного. За свое предательство был приговорен подпольем к смерти… Потому и поспешил сбежать из Нагоровки. Паскудился по разным полицейским командам и «остлегионам», стал, как и прочая власовская шваль, эсэсовским псом. А пуля-то все равно разыскала… Да еще направленная рукой той же — шахтерской, донбасской.
В лесу стемнело. Алексей и Суярко еще долго бродили под соснами, разговаривали. Из палатки доносились выкрикиваемые связными позывные, шуршала под ногами листва, и ветер со стороны Десны изредка приносил вкрадчивое, еле слышное постукивание топоров…
А на рассвете батальон переправлялся на тот берег. И снова бои, и первые зеленя, которыми встречала своих освободителей земля Брянщины, а еще дальше — земля Белоруссии с ее многострадальными дорогами.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
Уже полтора месяца Алексей кочевал с медсанбатом. Три недели валялся на койке, вставал только с помощью санитаров, благо что в эти дни дивизия стояла в обороне. А к тому времени, когда поднялась, начала передислоцироваться, Алексея уже перевели в команду выздоравливающих. Наконец-то окончательно развеялись мучившие его опасения: эвакуация в тыл больше не грозит, он остался со своей дивизией, его ждут в полку, в батальоне. Ликуя и как бы испытывая свою крепнувшую силу, прибавляя и прибавляя себе нагрузку, он первым вызывался на любые работы. Копал капониры для машин, натягивал палатки, рубил дрова, таскал носилки.
— Капитан, ты что, незаменимым хочешь у нас стать? — шутил Метц, замполит медсанбата, видя, как рьяно ищет себе Алексей какое-либо дело. — Смотри, если так, можем поменяться местами. Я — в стрелковый, ты — сюда.
В палатку Метца Алексей заходил как в свою. Коллеги сдружились! Но представить себе Метца в стрелковом батальоне не мог бы. Был он старше на три года, а плечи будто у подростка, да и весь махонький, укороченный. Узенькое, с преждевременными морщинами лицо, за золотым пенсне — живые, иронические глаза.
— Не видел я еще тебя в полной выкладке, Ян Янович, с вещмешком и скаткой, — шутил Алексей. — Не знаю, потянешь ли стрелковый!..
— Ты уж назови меня прямо — клистирная трубка.
— Не могу, не способен на такую черную неблагодарность, всю жизнь буду уважать вашего брата, медработников. Второй раз меня выручаете.
Однажды по просьбе одного из раненых Алексей мастерил самодельные костыли. Медсанбатовские оказались одномерками, а требовались подлинней. Как раз остановились в лесу, и Алексей, выбрав и срубив две подходящие березки, стал орудовать ножовкой. Наслаждение! Ножовка напоминала ту, умело разведенную, наточенную, что когда-то брал с собой в шахту. И так же, как тогда в шахте, в годы запальчивой юности, ладно спорилось дело. Он даже скинул рубаху, а за нею и нательную, радуясь пригревшему апрельскому солнцу, радуясь, что наконец-то миновала квелость в мышцах рук.
Вдруг над головой раздалось строгое:
— Выздоравливающий, что это за штучки?
Алексей, не поднимая глаз, на любом расстоянии мог сразу сказать, кому принадлежит этот гортанный, почти мужской голос. А она, ведущий хирург медсанбата Султанова, неслышно подошла и стала рядом. На шафранном и кажущемся надменным лице никакой улыбки или ее подобия. Большие черные глаза, привыкшие повелевать у операционного стола, сохраняли властность и сейчас. Кажется, что на лице всего только и женственного, что губы с мягким изгибом. И все-таки ж красива, надо признаться!
— Эти штучки попросил изготовить дружок, товарищ майор… Они будут ему поудобнее, — вставая и распрямляясь, сказал Осташко.
— Я спросила не о них. Кто вам разрешил раздеться и вообще… плотничать здесь? Не хватало еще подцепить воспаление легких…
— Так ведь я выздоравливающий… И видите ж — полная весна! Прибавила силенки…
— Если вы намерены таким способом убедить меня, что уже можете вернуться в свою часть, то напрасно стараетесь. Немедленно оденьтесь!
Алексей нехотя стал натягивать рубаху:
— Что ж, подчинился апрельскому солнышку, подчинюсь и вам.
Ответ был не по уставу. Да ведь медсанбат! Здесь куда чаще заглядывают в рецептурный справочник, нежели в устав. И все-таки Алексей почувствовал, как под взглядом этих красивых черных глаз неловкими, негнущимися стали его пальцы, застегивающие пуговицы. Показалось или в самом доле была в этом взгляде не только начальственная пристальность? Даже запутался в петельках. А Султанова упрямо ждала, когда он наденет шинель, и лишь затем повернулась, ушла.
— Признайся, Ян Янович, из-за вверенного тебе личного состава дуэлей в дивизии еще не происходило? — не выдержал Алексей.
— А по-твоему, могли бы и произойти? — в свою очередь полюбопытствовал Метц тоном человека, которому подобные вопросы задают не впервые.
— Просто появились такие дерзкие предположения.
— И ты кого имеешь в виду?
— Хотя бы Султанову.
— Ну, за нее я спокоен.
— Вот как! А я-то как раз считал иначе…
— Красива? — даже с некоей хозяйской горделивостью осведомился Метц.
— Да уж что и говорить…
— Гм… И не один ты такого мнения, есть товарищи званием и должностью куда повыше. А только, знаешь, что она одному из таких сказала? Если, мол, придется, то буду выбирать я, а не меня… Понял?
— Ишь ты! Для житейского девиза неплохо… И какой же смысл она в него вкладывает?
— А вот и вникай… Сама она из Нагорного Карабаха. Там издревле невест умыкали или брали за калым. Феодально-родовые или даже первобытнообщинные пережитки… Вот теперь и пробудилось, заговорило в ней что-то вроде многовекового протеста за всех своих одноплеменниц… Тем более что в своем Карабахе она среди женщин едва ли не первой врачом стала. А в общем, Осташко, если тебя потянуло к разговору на такие темы, то, по-моему, действительно пора тебе отсюда и выписываться.
— Испугался? — захохотал Алексей.
— А черт тебя знает… До сих пор у меня в медсанбате насчет всего этого был полный порядок. А в такие тихие дни, без белых халатов, только гляди да гляди… И когда ваш брат выздоравливающий начинает примечать, что ему не положено, то значит — пора выписываться… Ишь, разъелся!..
— Ладно, ладно, сам знаю, что пора.
…А тылы дивизии вновь поднимались вдогонку за ее штабом, за ее полками, передвигавшимися в эти апрельские дни на юг, на левое крыло Первого Белорусского фронта. Передвигался и медсанбат. Алексей не хотел ехать в «студебеккере», предпочитал полуторку: в фургоне, с его затянутым брезентом кузовом, видно только то, что остается позади, а он уже тянулся нетерпеливым взором к тому, что набегало навстречу… Такие же, как и на Северо-Западном, но куда щедрей пригретые южным солнцем и оттого еще более живописные непролазные пущи и урочища украинского полесья, мшистые темно-зеленые топи, заливные луга, безмолвные редко разбросанные хутора, из которых, казалось, вот-вот выйдет колдунья. Из Овруча свернули на Олевск, а там легла прямая дорога к Сарнам. И все-таки с борта полуторки, всматриваясь в незнакомые места, Алексей не раз возвращался мыслью к знакомому, к пережитому в эту затяжную и довольно-таки невезучую для него зиму…
…После Орловской битвы и победных наступательных боев на Брянщине, что осенью вывели дивизию на землю Белоруссии, особенно томительной казалась наступившая вслед за этим пауза. «Оперативная пауза», — как говорил Фещук. Ее прервали начавшиеся в декабре бои за Гомель, Речицу… И затем снова в оборону, а позднее — в резерв фронта. Здесь-то, во время пребывания дивизии в резерве, его и подстерегла эта беда. Случайная, хотя если вдуматься, то какая на фронте не случайна? Даже выстрел в упор бывает мимо… Политотдел прикомандировал Осташко на некоторое время к местной комиссии по расследованию фашистских зверств в Озаричском районе. Несколько дней он провел в деревнях, превращенных гитлеровцами в концлагеря, куда сгонялись и где гибли от голода, от повально косившего сыпного тифа тысячи и тысячи мирных жителей — женщин, ребятишек, стариков. Опрашивал тех, кому удалось выжить, насмотрелся и наслушался такого, что, кажется, постарел сразу на много лет. Больнее и страшнее всего было разговаривать с ребятишками. Картофельно-землистые, в струпьях, лица, бьющий костлявые тельца коклюш… В глазах ничего детского… Загнанность, притерпелость ко всему… Спали на снегу рядом с теми, кто метался в горячечном тифозном бреду. И самим уже не хватало сил выбивать вшей. Ели корни трав, забытую на огородах мерзлую свеклу… Сколько ж теперь нужно людского труда и тепла, чтобы вернуть им веру в жизнь! Алексей спешил, возвращаясь в дивизию, представлял себе, как станет рассказывать в батальоне о кошмарах Озаричей… Ехал в попутной полуторке. Смеркалось. Разминаясь со встречной машиной, полуторка уклонилась от дороги на присыпанную снегом обочину, и вдруг со страшным грохотом разверзлась земля: наскочили на мину… Пришел в сознание через два дня в медсанбате. К счастью, отделался контузией, тяжелой, но только контузией. После того как вывели из шока, долго не мог говорить и слышать. Все тело казалось избитым, измолотым. Хорошо, что все это произошло уже в расположении дивизионных тылов и его подобрал свой медсанбат. Да и то потребовалось содействие Каретникова — спасибо ему — настоял, добился через политотдел, чтобы оставили на излечение здесь, на месте, среди своих. И сейчас ничто уже как будто не должно тревожить. Еще неделя, не больше, и он будет в батальоне. Пора, пора!
В середине дня, не останавливаясь, проехали Сарны. Судя по всему, город этой ночью бомбили. Казалось, что здесь взмахнули гигантской железной метлой, разворошили весь мусор да так и оставили его неубранным. В воздухе висела гарь, пыль. На улицах лежали поваленные взрывной волной заборы и телефонные столбы. Больше всего досталось железнодорожному узлу. Чернели воронки на путях, дыбились плиты вокзального перрона. Неподалеку от станции, в сквере, вповалку отсыпались на весенней траве зенитчики, изнуренные беспокойной ночью.
Фургоны с красными крестами, проделав за этот день почти двухсоткилометровый путь, остановились лишь тогда, когда за холмами скрылись и черепичные крыши Сарн, и пойма разлившейся Горыни. Соблазняла мысль остановиться около реки, но начальник переправы властвовал и над прибрежными лугами, отгонял все машины прочь. Выбрали для ночевки опушку леса, растянувшегося по косогорам долины. А часом позже до команды выздоравливающих дошел слушок, что, видимо, обоснуются здесь надолго. Та полоса переднего края — севернее Ковеля, — которую предназначалось занять дивизии, находилась недалеко отсюда.
Еще не стемнело. Алексей, разминая занемевшее после тряски в машине тело, бродил по лесу. Если бы в батальоне знали, что он так близко, наверняка прислали бы кого-либо с почтой. Поднакопились, должно быть, письма от Вали, из Нагоровки… Может быть, навестили бы Фещук или Замостин? Хотя если вышли к переднему краю, то им работы хватает… И ждут его… А он все еще прохлаждается, все еще в стороне от их забот…
На лесной прогалине из влажной земли показались высокие глянцевитые лопасти свернутых в трубочки листьев. Зеленые свитки… Извечные манускрипты весны… Похожи на ландыши, однако самих цветов пока не видно. Только их волнующее предвестие — тонкий, нежный запах почек и оттаявшей после недавних заморозков коры, редкой молодой листвы. Алексей поднял руки, сделал глубокий вдох. Замер, прислушиваясь к себе. Та глухая боль, что перехватывала грудь раньше, почти не ощущалась. Еще один глубокий вдох, еще. С наслаждением повторил движение. Вместе с чистым лесным воздухом в грудь вливалась, распирала ее животворная бодрость. Сзади хрустнул валежник. Чьи-то шаги. Оглянулся и увидел за кустом орешника Султанову. В легкой салатного цвета кофточке. Снятый китель перебросила через руку. Вместе с ним будто скинула и обычную строгость, официальность и еще более по-девичьи похорошела, улыбалась.
— О, вот это я одобряю, Осташко. Лучшего места для зарядки не найти.
Неожиданная встреча ее нисколько не смутила, растерялся Алексей. Прежде, как и всех, называла его просто «больной», потом «выздоравливающий», оказывается, помнит и фамилию.
— Да, очень уж хорошо здесь, товарищ майор. Апрель, а, видите, зелень уже совсем майская. Не хватает соловьев…
— Наслышались их под Орлом и теперь скучаете?
— Ну, там сейчас концерт за концертом… Пора бы какой-либо бригаде залететь на гастроли и сюда.
— О, узнаю директора Дворца культуры…
Она и это, оказывается, знала!
— По-моему, где-то неподалеку ручей, а?
Султанова стала пробираться через кусты, и Алексею не оставалось ничего другого, как пойти следом за ней; потом опередил ее, отводя в сторону и придерживая перед ней цепкие, хлесткие ветки. Когда оборачивался, видел ее оживившееся лицо, блестевшие в лесной сумеречности глаза.
— Вы любите лес? — спросила она.
— Да, но запоздалой любовью… полюбил в войну. В Донбассе его маловато. С одной опушки видна другая… А помните Брянские? Зеленые храмы. Как остаться к ним равнодушным? Но говорят, что запоздалая любовь еще сильней.
— А там, где росла я, лес в горах и, конечно, не такой, как здесь. Здесь он слишком обильный… Растет без всякого для себя труда. А в горах, на камне, борется за место каждое деревцо. Алыча, кизил, дикие яблони, мачмала, карагачи, чинара… Маленькой могла пропадать там целыми днями.
— Одна?
— А что же страшного? В детстве или боятся каждого куста или совсем не знают, что такое опасность. Я тогда не знала…
— Зато столкнулись вдоволь с нею здесь, — проговорил Осташко. Он подумал, что, в конце концов, ее, женщину глухих и диких гор, не может не пугать то, с чем приходится встречаться на фронте. Она все же не согласилась.
— Ну, здесь я имею дело с теми опасностями, которые подстерегают других… Вас, ваших товарищей. Не меня. Обо мне не стоит и говорить…
Они прошли в глубь леса уже немало, но ручья все не было. То, что они приняли за журчание, было, наверное, просто шумом, шелестом листвы. Не попадались и ландыши. Алексей увидел какие-то незнакомые цветки с крохотными, как росинки, голубыми венчиками, сорвал их, преподнес.
— Пожалуйста…
— Что это за цветы?
— По-моему, медуница, товарищ майор.
Она подняла на него странные, словно шутливо испытывающие глаза, поправила:
— Меня зовут Мирвари…
Низкий, грубоватый голос ее, однако, ничуть не смягчился. Эти разрешающие дружескую близость слова, то, как жестко и упрямо она их произнесла, — было необычным. Алексею вспомнился разговор с Метцем. Сейчас он начинал верить тому, что тот рассказал о Султановой. И чем-то она нравилась больше и больше, эта горянка с погонами майора и таким певучим именем, вернее, не столько она сама, сколько ее характер, проявляемый так открыто, с вызывающей прямотой.
Все же ручей существовал. Размытое сошедшими талыми водами глинистое русло, а на дне его вороненый, еле заметный перелив тихих струй. Осташко нерешительно остановился, но Султанова молча протянула ему руку. Она была крепкой, натренированной… Рука хирурга!.. Помогая Султановой перейти, Алексей повернулся так, что на какие-то секунды их лица сблизились. На щеке затеплилось ее дыхание. В сумерках глаза Султановой показались еще бо́льшими. И в них гордый, черный блеск и ожидание…
И снова, признавая очарование этой гордой, в эту секунду такой доступной и влекущей красоты, Алексей вдруг ощутил, как в нем заговорило упорство, мужское самолюбие. Ах, вот как, черноглазая?! Оказывается, ты выбрала? Но выбрал, давно выбрал и я.
Он выпустил ее руку:
— Нам надо возвращаться, Мирвари… Темнеет.
…Когда через три дня он выписался и, простившись с Метцем, зашел проститься в палатку к Султановой, она его встретила такая же начальственно-замкнутая, надменная, словно и не было той минуты в лесу…
Назвать ее Мирвари? Нет, не осмелился. Однако все так пело в душе, что хотелось и ей сказать что-либо приятное. Задержал ее руку в своей.
— Спасибо, доктор, за все. Что вам пожелать хорошего? Поскорей вернуться в горы Карабаха, и пусть эти пальцы опять срывают алычу…
Она улыбнулась, пожалуй, впервые мягко и добро. Прощала?..
Проселками Алексей шел на Повурск, западней которого держали оборону части его дивизии. На дорогах было безлюдно, словно солнечный, приветливый день созвал всех, кто жил в разбросанных поодаль друг от друга хуторах, на невидимые пашни или на какие-то весенние празднества. Не встречались и военные. Лишь изредка какой-либо воткнутый в землю шест с приколоченной к нему указкой, а то и запашной лиловый дымок напоминали о том, что где-то вот там, в заблиставшей первой листвой роще или в ложбине, обосновалась знакомая солдатская жизнь… Спрямляя путь, он направился лугом и, проходя мимо одиноко стоявшего на опушке леса хуторского двора, вдруг в невольном изумлении остановился: у колодца плескались солдаты. На кольях тына висели их гимнастерки с зелеными погонами и фуражки, новенькие фуражки с угольно-черным околышем и зеленым верхом… Все это оказалось таким неожиданным, что горло перехватил спазм… А ведь знал же, хорошо знал и много раз говорил другим, что дело идет к полному освобождению советской земли, знал и читал, что на юге почти месяц назад наши войска вышли к государственной границе, а вот сам воочию, в обыденной реальности, увидел пограничников и растрогался.
— Ребята, дайте попить.
— Пожалуйста, товарищ капитан… Нефедов, принеси кружку.
Алексей, нарочито медля, маленькими глотками пил воду, а сам, переполненный волнением, не сводил ликующего взгляда с этих висевших на тыну фуражек, новеньких, цвета молодой озими…
2
После незабываемого орловского и это, второе, лето так многозначительно обещало щедро вместить в себя все желанное сердцу, все недавно казавшиеся дерзкими упования, крепнувшую веру в близкую, теперь уже близкую и полную победу. Зрели в нем новые, очистительно-суровые и тем самым благодетельные грозы.
Алексея ждала в батальоне целая пачка писем. И тоже весенних, солнечных. Валя писала о том, что их «Гипрогор» сейчас завален работой. Разрабатываются проекты восстановления Смоленска, Вязьмы, Новгорода (ей приходится часто выезжать — на одной из открыток стоял почтовый штемпель Ржева), но есть уже заявки с Украины.
Были письма от Василия. Они нашли друг друга только после освобождения Нагоровки. Василий прошлое лето тоже участвовал в боях на Орловщине, а сейчас, как и Алексей, находился на Первом Белорусском, но на каком именно участке этого размахнувшегося чуть ли не на тысячу километров фронта? Возможно, здесь же, в полосе сорок седьмой армии, в состав которой теперь вошла дивизия… Догадаться трудно. Несколько строк, в которых брат, вероятно, назвал какие-то населенные пункты, решительно вычеркнул химический карандаш цензора. А фраза «машу тебе крылышками», которой заканчивалось послание, конечно же ничего не поясняла. Их много было сейчас, этих крыльев, пролетающих над передним краем днем, неугомонно напоминавших о себе и ночью. Наша авиация бомбила Седлец, Демблин, Влодаву. Но, судя по письму Василия, он недавно вернулся к прежней специальности, можно думать, что он в истребительной авиации, в которой застало его начало войны там, в Эмильчино.
Отец в письмах не утаивал горечи. Месяц назад Алексей просил его рассказать, как выглядит Нагоровка: удалось ли чему-нибудь сохраниться, уцелеть. Отец отвечал, что главный проспект, да и многие другие улицы лежат в развалинах, а расчищать их пока некому — надо прежде всего поднимать шахты…
«А Дворец твой, Алеха, тоже взорвали немцы, когда драпали… Груда камней… Каждый день прохожу мимо него на рудник, и как гляну, аж сердце закипает…»
Знал бы отец, что у Алексея и сейчас еще лежат на дне вещмешка ключи от Дворца. Не стал их выбрасывать, и прочтя это отцовское письмо. Все же носил с собой два с половиной года! С теми первоначальными мыслями, с какими, покидая Дворец, он опустил в карман эту позванивающую связку, расстаться не мог, они углубились, вызрели… Можно разрушить и сравнять с землей стены, но уничтожить, испепелить память о том, чем жили в них люди, не под силу никому. Да и сами эти стены не только продолжали незримо существовать, но и раздвинулись, ощутимо и огромно раздвинулись сейчас для него, Алексея. От предгорий Тянь-Шаня, где он взял винтовку, и до этих ковельских пущ с замелькавшими в них зелеными фуражками. А вдуматься — так и пошире: на весь мир, на всю израненную, измученную землю, на которой с победой правого дела предстоит строить и любить, строить и верить.
Алексей считал, что он первым принесет в батальон весть о подошедших погранвойсках, но, оказывается, об этом уже знали все. Знали в штабе батальона и в ротах — они занимали вторую линию окопов, которая тянулась вдоль разлившейся по лугам речонки, а отсюда до временного расположения пограничников было совсем недалеко.
— Хорошие ребята, навещал их, — сказал Фещук. — Правда, старослужащих мало, один-два — в обчелся. Но с начальником заставы кое-что вспомнили. От Домачева в сорок первом почти рядом отходили. Глаз у него теперь стеклянный, свой потерял тогда… Комиссовать приказано, да упросил оставить. Шутит: «Кутузову можно было, а мне нельзя? Пока, мол, пограничный столб на место не поставлю, погоны не сниму».
— Да, полсотни километров — и Польша!.. Подумать только! — воскликнул Замостин.
— Позвольте уточнить по карте, товарищи командиры, — Трилисский развернул на коленях только что принесенную из штаба полка пятикилометровку. — Как здесь обозначено, область государственных интересов Германии… Читайте!
— С такими грабежными государственными интересами пусть распрощаются навсегда, — посмотрел на подсунутую начштаба карту Алексей. — Это надо забыть. Польша, и все!..
— Есть забыть, товарищ замполит! — охотно согласился Трилисский. — Кстати, товарищ капитан, в преддверии границы я достал одну любопытную вещицу. Можете взять ее себе на вооружение…
— Да не докучай, пожалуйста, хоть сейчас этой своей вещицей, — раздраженно, как будто услышал нечто знакомое и надоевшее, махнул рукой Фещук. — Успеешь еще. Капитану не до нее. Человеку после медсанбата надо осмотреться, а ты со своей цидулкой…
— Почему вы о ней отзываетесь так неуважительно, товарищ майор? — обиделся Трилисский. — Между тем, поговаривают, что она негласно рекомендована самой Москвой.
— Поговаривают! А ты и веришь! Что, у Москвы других забот сейчас нет!
— Напрасно вы так, право же, напрасно, — не сдавался начальник штаба. — Заботиться надо обо всем.
После этого разговора Алексей пошел в роты. За полтора месяца его отсутствия батальон пополнился, в каждом подразделении примечал новых, незнакомых людей. Но парторги рот остались прежние, и радостно было вновь встретиться с Солодовниковым, Зинько, Бреусом… Только минометчики оказались без своего партийного вожака — парторга тяжело ранило при недавней бомбежке.
Вернулся Алексей в штабной блиндаж поздно вечером. Там сидел за столом и что-то писал Трилисский. Увидев, что тот все еще держится обиженно и молчаливо, Алексей вспомнил прерванный разговор и сам спросил у начштаба, что тот хотел ему показать. Трилисский оживился, вынул из полевой сумки и протянул Алексею какую-то отпечатанную на машинке, многостраничную и довольно-таки зачитанную рукопись.
— Памятка, товарищ капитан. С трудом выпросил один экземпляр у Голикова. Есть кое-что полезное. Во всяком случае, пренебрегать ею, как пренебрегает комбат, по-моему, не стоит. Да вы и сами убедитесь…
Алексей читал и вначале никак не мог сообразить, почему Трилисский так настойчиво предлагает другим эти страницы. В них обстоятельно расписывались правила поведения — как вести себя в гостях, на улице, за обеденным столом… Что за чертовщина?! Потом вспомнил, что начштаба предложил памятку после того, как разговор зашел о близости границы, о Польше… «Можете взять себе на вооружение…» Ах, вот в чем дело! Он невольно улыбнулся.
— И вы усмехаетесь? — вспылил Трилисский. — Вот уж от вас этого не ожидал. Что вы находите здесь смешного?
Глаза Трилисского зажглись искренним негодованием. Обижать его вторично не хотелось. Он своей горячностью, непосредственностью напоминал Запольского.
— Смешного не вижу, — как можно мягче сказал Алексей. — Однако удивиться удивился… Почему надо размножать эту шпаргалку именно сейчас?
— Странный вопрос… Неужели непонятно? До сих пор мы воевали дома, на своей земле, а теперь… впереди чужбина.
— Так что же? Мы приглашаемся туда на светский раут?
— При чем тут светский раут? Это нормы поведения, приняты повсюду. Напомнить о них нелишне. И кроме того, здесь есть просто интересный познавательный материал.
— Ну, если познавательный, другое дело…
— Да, познавательный! Вам известно, например, откуда ведется обычай, предписывающий мужчине идти слева от женщины?
Алексей, улыбаясь, пожал плечами.
— Ага, вот и не знаете!
— Допустим…
— А это заведено исстари. Ведь оружие — саблю, рапиру — носили на левом боку, и, значит, так можно было быстрей и удобней выхватить его, чтобы рыцарски защитить женщину.
— Дорогой мой, — теперь уже не сдерживаясь, смеялся Алексей. — Мы ведь с вами хорошо, очень хорошо знаем другое… Начиная с тридцать восьмого года и позже многие потомки этих самых рыцарей, не говорю, что все, но многие, нисколечко не спешили выхватить оружие и защитить тех, кому исстари положено идти справа от мужчины. Так оно, это оружие, на левом боку и осталось… А Фещук не вкладывает его в ножны уже ровно три года. Кто же кого должен учить нормам поведения? Не мудрено, что он посматривает на эти назидания госпожи Семеновой искоса.
— Что за госпожа Семенова?
— А это вспомнился один виденный в Вологде старый экслибрис. «Кабинет для чтения госпожи Семеновой». Вот и подумалось, что и памятка с ее книжных полок…
— Значит, по-вашему мнению, она ни к чему?
— Я так не сказал бы… Но только пойми, мы уже бо́льшему можем поучить!
В блиндаж вошли Фещук, Замостин, и, щадя самолюбие начштаба, Алексей не стал продолжать спор, да он, в сущности, был закончен, по крайней мере для него. Если в последующие дни и приходилось мысленно возвращаться к нему, то уже по другому поводу.
…Седьмого июня стало известно о высадке войск союзников на северном побережье Франции. То, чего так долго ждали, о чем не один год писалось в дипломатических посланиях и представлениях, о чем говорилось и за «круглым столом» Тегерана, и у солдатских костров, наконец-то свершилось. Алексей читал газеты, отдавая должное грандиозности начавшейся операции — ее замыслу, масштабам, выполнению. Одиннадцать тысяч самолетов первой линии, брошенных в бой… Четырехтысячная армада кораблей, пересекшая Ла-Манш… Сотни линкоров, крейсеров и эсминцев, открывших огонь по побережью… Здорово!
Взял газеты и направился в окопы.
Принесенная им новость обрадовала всех. Вот она, долгожданная подмога! Но перечисляемая столь подробно военная техника, двинутая на материк, вроде бы никого не удивила. Во второй роте поинтересовались другой цифрой.
— Товарищ капитан, разрешите вопрос. А на сколько ж продвинулись?
— В этой газете пока не пишется. Но сегодня связисты поймали передачу… Якобы прошли в глубь побережья на десять миль.
— А по-нашему?
— Если округлить — примерно шестнадцать километров.
— Ясно!..
Задавал вопросы Рябцев и, услышав ответ, остался сидеть на лотке из-под мин с бесстрастным лицом. Что ему ясно? Алексей ждал, что он что-то добавит, но Рябцев флегматично завозился с кисетом.
— Знаете, почему он замолчал, товарищ капитан? — перехватив ожидающиий взгляд Осташко, вмешался Спасов. — Он сейчас арифметикой занялся, подсчитывает, сколько на его личном спидометре за три года нащелкало… Как, Рябцев, угадал я?
— Ты, Адам, да не угадаешь?! — ухмыльнулся Рябцев.
— И какую ж цифру подбил? Накрутило, пожалуй, с лихвой, если с сорок первого начать… А на твоем разве меньше?
— Я свой в госпиталях и на побывке выключал, у меня километры чистые, фронтовые. Без малого шесть тысяч. Можно хоть и на карте проверить этим, извините… как его… курвиметром. Однако все равно, если прикинуть их к Франции, то уже трижды туда и обратно прошел…
Об этой солдатской мере, с точностью спидометра отсчитывающей пройденные дороги войны, Алексей упомянул и в политдонесении, которое написал вечером в тот же день. Каретникову солдатские комментарии по поводу вторжения союзников понравились; стал по телефону уточнять фамилии солдат: видимо, собирался доложить выше…
— Однако умалять тоже не надо, — посчитал все-таки нужным предупредить он. — Читал сегодня интервью товарища Сталина?
— Нет, мы газет еще не получили..
— Так вот, почитаешь… Товарищ Сталин называет вторжение блестящим успехом, достижением высшего порядка… Что ж, правильно. Объединенные нации!.. Нам еще с ними не только доколачивать фашизм, но и потом вместе отвечать за все, что будет на земле…
Замолчал, но трубку не опустил: в ней слышалось его дыхание; держал свою и Алексей, пока после паузы не донеслось доверительно и устало произнесенное:
— А в общем-то и Рябцев со Спасовым правы… Признаться, и на моем спидометре тысчонок десять навертело… Недаром растоптал ноги на два номера больше. До войны сорок второй носил, а сейчас и сорок четвертый еле-еле натянешь.
3
Паводок, надолго скрывший дороги, отрезавший одно селение от другого, спадал в этих полесских низинных краях медленно. Даже и тогда, когда высвободились из весеннего разлива чащи, поляны и луга, еще долго повсюду сверкали вплетенные в курчавый подлесок голубые ручейки, а там, где их не стало, все равно из-под ступившего на траву сапога по-болотному прыскало, сочилось. В это же лето, в самый его разгар, в самую жаркую пору, казалось, вновь поднялись высокие воды, так вдруг тесно стало им в берегах реки вблизи Грабува и Ольшанки. Западный Буг форсировали и вступили на польскую землю после трехдневных боев и прорыва немецких укреплений западнее Ковеля. Первыми на ту сторону вынеслись танки. Разметало берега Старого Буга. Там, где желтели отмели, появились глубокие омуты. Там, где нельзя было дна достать, легли песчаные косы. Словно буря хлынула и выплеснулась на тот берег.
Вражеские части еще не успели прийти в себя и обосноваться на новом оборонительном рубеже, как сразу были сбиты вторым натиском. Не дожидаясь, когда саперы наведут мосты, пехота двинулась через Буг на подручных средствах.
Батальон Фещука шел выставленной от дивизии головной походной заставой. Надо было поспевать за вырвавшимися вперед танкистами. В первые несколько дней это удавалось. Двигались на северо-запад к Лукову. Для немецких заслонов, стоявших на рокадных дорогах подчас фронтом к востоку, появление наших танков в их тылу оказывалось неожиданным, спутывало все боевые порядки… Уклоняясь, не принимая ближнего боя, страшась охвата с флангов, они рассеивались по лесам или же поспешно отходили на другие промежуточные рубежи, где повторялось то же самое — огонь из засад, ответный удар, скоротечная контрбатарейная борьба, и снова, снова распахивались пути в глубь польской земли. И в скольких уже вёсках, когда вслед за разведчиками к околицам подходил батальон, еще издали виднелись, распрямлялись ветром над крестьянскими хатами полотнища бело-красных флагов. В эти дни в Хелме, куда вместе с частями Советской Армии вошли и части 1-й польской армии, был создан и начал работать Польский Комитет Национального Освобождения, и его манифест к польскому народу, казалось, незримо опережал стремительно перемещавшуюся к Варшаве линию фронта…
Но после Лукова на подступах к Седлецу — крупному узлу железных и шоссейных дорог в девяноста километрах от Варшавы — эта стремительность наступающих частей стала наталкиваться на все более ожесточенное сопротивление врага. Возросли потери, и прежде всего у танкистов. Им первым пришлось принять на себя контратакующие удары подтягиваемых с лихорадочной торопливостью немецких дивизий. На асфальтовых дорогах и по сторонам от них, в хлебах, на забурьяненных пустошах, зачернели подбитые, обожженные тридцатьчетверки, встречая подходивших к месту схваток пехотинцев тяжелым духом горящей солярки, резины, расплавленной краски. И если жив оставался экипаж машины, танкисты, скучившись около нее, старались не смотреть на стрелков, будто винились в том, что уже ничем не могут им помочь.
К показавшемуся вдали Седлецу Алексей шел вместе с ротой Литвинова, нагнав ее в Вишнювке, небольшом, приткнувшемся у шоссейки местечке. После восьми изнурительных дней наступления он уже без первоначального резкого ощущения новизны входил вот в такие маленькие города и вёски. Все эти белевшие в густых садах Вульки, Студзянки, Пшевлоки на первый взгляд мало чем отличались от знакомых Ольшанок, Скворцовок и Лебедяней. Только когда подходил к середине деревни, где привык видеть прочно утвердившиеся сельсовет, правление колхоза, избу-читальню, обострялось чувство чужбины. Круто взнесенные к небу темные, с прозеленью древнего дикого камня стены костела, неподалеку, в глубине огороженного проволочной сеткой безлюдного парка, какой-либо господский особняк со своей уединенной, укрытой от прохожих жизнью.
Войска, что тянулись через Вишнювку, на выходе из деревни, подчиняясь заданному штабами плану, развертывались по проселкам, по полям. Рота Литвинова, крохотная частица продолжавшегося наступления, тоже вскоре развернулась в предбоевой порядок — углом вперед, нацелилась головным взводом Золотарева на двухэтажные здания у южной окраины Седлеца. Но спустя полчаса этот порядок смешался. Из-за плотной изгороди кустарников, зеленевших в промежутках между домами, били по наступавшим немецкие орудия. Самоходки, поддерживающие батальон Фещука, повели по ним разрозненный, нащупывающий огонь.
— Этак долго нам придется здесь чухаться, — выкрикнул Литвинов.
Он и Алексей лежали рядом на откосе яра, служившего, очевидно, городской свалкой. Кучи мусора были разбросаны на дне яра. Литвинов, переползая, разодрал о битое стекло на локтях гимнастерку и теперь засучил рукава, чтобы не мешали. Обернулся растерянно к Алексею.
— Надо подождать, сейчас все равно не подняться, — сказал Алексей.
В приблизившийся к стенам Седлеца бой втягивались новые и новые части. Алексей, как и все, кто находился сейчас в яру, нетерпеливо следил, чем закончится дуэль между самоходками и немецкой батареей.
Сгорбившись, подбежал Зинько:
— Товарищ лейтенант, у них на чердаке снайперы. Павлова убило… Да вот, убедитесь.
Зинько надел на дуло автомата пилотку, приподнял ее над откосом и, точно ожегшись, тут же опустил. На пилотке зарыжели края сквозной метки.
— Видите?
— А наши снайперы где? Ремизов? Стефанович? Скажи Золотареву…
— Он знает… Это я вам… чтоб береглись…
Рядом с Алексеем кто-то заворочался. Это был Маковка. Он молчаливо и осторожно пристраивал винтовку между кустами полыни, а потом надолго недвижно прильнул к ней заросшей, небритой щекой. Наконец выстрелил и, не спеша выбросив гильзу, снова будто оцепенел. Чуть дальше, где залег взвод Золотарева, жарко сыпанул пулемет. Окна чердаков, в стеклах которых плавилось полуденное солнце, вдруг зазияли темными звездчатыми брешами.
Между тем в яр спустилась из боковой разлоги и рота Пономарева. Здесь удобней всего было изготовиться к последнему броску. По дну яра, на ходу свертывая цигарку, шел Замостин. Увидев Алексея, стал подниматься к нему.
Со стороны Вишнювки накатился басовитый металлический рык. Низко над степью к Седлецу шли, чуть ли не крылом к крылу, несколько пар штурмовиков. Пройдут дальше к железнодорожному узлу или ударят здесь, по окраине? Если здесь, по этим домам, то после такого налета как раз время рвануться вперед… Очевидно, об этом же подумал и Замостин. Жадно затянувшись, он бросил недокуренную цигарку и обрадованно проводил взглядом мчавшиеся синие тени… И тут произошло то, чего не успел упредить ни Алексей, находившийся от Замостина шагах в десяти, да и никто другой… Взбираясь по откосу с поднятой головой, вероятно изготавливаясь к тому, чтобы через несколько минут ринуться из яра вперед, туда, к домам, Замостин высунулся над бровкой.
— Назад, назад! — встревоженно окликнул его Алексей.
Крикнул снизу кто-то еще, однако было уже поздно. Пораженный пулей снайпера, Замостин покачнулся и вначале медленно, цепляясь руками за землю, а потом быстрее и быстрее покатился на дно яра.
Оскальзывая, спотыкаясь, Алексей сбежал вниз:
— Павел! Павел!
Он наклонился над ним, надеясь, что самое ужасное не произошло, еще билась, отчаянно вопила в нем мысль о возможном спасении, но увидел закровянившуюся на виске Замостина круглую ранку, увидел его меркнувшие под опускавшимися веками глаза, и горький спазм перехватил горло…
Откосы яра содрогнулись от близких разрывов бомб. Гул штурмовиков, уходивших дальше, стал затихать, и в этом затишье послышались голоса идущих в атаку… Спустя несколько минут Алексей поднялся наверх и яростными прыжками нагонял роту, словно хотел убежать от того жестокого, что осталось на дне яра…
4
После взятия Седлеца батальон несколько дней нес гарнизонную службу в Минск-Мазовецке. Мало тронутый войной, чистый, в густой зелени садов город далеко протянулся вдоль магистрального шоссе, широкой лентой уходившего к Варшаве. Отсюда до нее было всего шестьдесят километров. В Минск-Мазовецке уже открылись аптеки, парикмахерские, многие магазины, хотя чем и когда они торговали, догадаться можно было лишь по давним вывескам — по́лки пустовали.
Над подъездом старинного красивого здания, стоявшего в центре, развевались бело-красные флаги. Здесь начала работать местная Рада Народова. Белые и красные цвета, казалось, заполонили все улицы, соперничая с пышной августовской зеленью бульваров. Бело-красные нарукавные повязки у милиционеров, у гимназистов и гимназисток, бело-красные розетки на отворотах пиджаков у взрослых, бело-красные ленты на кепи и шляпах, бело-красные вымпелы в окнах жилых домов. Вначале эта красочность даже покоробила, не понравилась Алексею. Продолжала бередить сердце скорбная память о Седлеце с его тяжелыми боями и потерями. Да и Варшава, что была впереди, неделю назад восставшая, сражавшаяся Варшава, все сильнее и сильнее тревожила своей неясной, горькой судьбиной. До праздника ли сейчас? Но стоило лишь представить те страшные пять лет гитлеровской оккупации, когда вот такая маленькая бело-красная розетка неминуемо грозила человеку смертью, обрекала на муки концлагеря, и становилось понятным нынешнее половодье бело-красных цветов. Это была радость вольности, долгожданное счастье не сдерживать себя, не опасаться, гордо напоминать всем и каждому ликующее, желанное — «еще Польска не сгинела!». И Алексею радостно было, проходя по городу, вбирать глазами эту его праздничность, чувствовать прямую причастность к ней себя и всех своих товарищей — живых и погибших…
Батальон разбил палатки в большом старинном саду, неподалеку от костела, каменные шпили которого высоко поднимались над городом и тенями отражались в пруду, доходившем почти до крыльца. Почти одновременно с солдатской побудкой-перекличкой, умыванием, завтраком по дорожкам сада чинно проходил к беломраморному порталу костела ксендз. Черная шелковая сутана, лаковые туфли, высокий, подпирающий подбородок, крахмальный воротничок. На сухощавом, холеном лице при встречах с красноармейцами появлялось выражение церемонной вежливости. И кто знает, что за ней? Вынужденное, неохотное примирение с теми, чьи иноязычные веселые голоса сейчас раздавались под кронами каштанов? Или почтительность, искренняя признательность им? Как он проходил этими дорожками раньше, под взглядами эсэсовцев? Кого собирали на его мессы тогда? А сейчас идут, идут старые и молодые, приглушенные, мягкие звуки органа льются из темного проема распахнутых дверей. Будут молиться за тех, кто по ту сторону Вислы — в Варшаве, в Познани, в Лодзи… А может быть, и за тех, кто полег в Лукове, в Седлеце?
На улицах Минск-Мазовецка все чаще можно было видеть жолнеров Войска Польского. Осташко, недавно предупрежденный Каретниковым, что вскоре их батальон сменят здесь солдаты армии Зигмунда Берлинга, созвал коммунистов и комсомольцев. Хотелось, чтобы они в свою очередь рассказали всем красноармейцам о предстоящих встречах. Ведь с ними быть плечом к плечу не только тут, в городе, но и, на переднем крае. Товарищи по оружию, уже прошедшие первые испытания и в боях под Ленином, в Белоруссии, да и на своей родной земле. С ними теперь бок о бок и дальше, к границам Германии, до самого Берлина. Выходит, надо друг к другу — честь по чести. Старший по званию? Приветствовать, как приветствуешь своего. В чем-либо выручить? Не отказывай, как не отказываешь своему.
— Все понятно, товарищи? — спросил Алексей, закончив беседу.
— Понятно, товарищ капитан, для нас это скошенный лужок… Манифест все читали. Понятно и остальное…
— А вот мне дозвольте все же вопрос, товарищ капитан, — неожиданно поднялся с травы Зинько. — Солодовникову хай это будет скошенный лужок, а мне кое-что еще треба разжевать, помиркувать… Бо я с этими жолнерами, когда патрулировал, уже встречался…
— И что же тебе не понятно?
Зинько оглянулся, не проходит ли вблизи кто-либо из посторонних, раздумчиво пригладил на лбу чуб:
— В манифесте все правильно сказано, по рабоче-крестьянскому, а вот кокарда их мне не нравится…
— Это орел, что ли?
— Вот эта самая птица… Мой батько против двуглавого царского всю жизнь боролся, а тут я снова его увидел… Понимаю, что не наша справа вмешиваться, а все же, раз мы столько крови здесь проливаем, то и дивно…
— Почему ж не наша справа? Наша, Зинько, коль вместе, то и наша. Нам совсем не все равно, какой станет в будущем Польша, наш сосед, народной или снова панской?.. Действительно независимой или на чьем-то поводу? Нет, не все равно. Только этого орла бояться нечего, он тоже против того, двуглавого, дрался. А своего орла они называют пястовским. Был у них когда-то много веков назад предводитель, вождь Пяст, который объединил все польские земли. Вот и сейчас польский народ этого добивается, надеется на нашу помощь. Против этого, пястовского, и твой батько ничего против не имел бы… Кстати, «Варшавянку» он пел?
— «Вихри враждебные»? Пел… Его любимая…
— Ну вот видишь, и у польских коммунистов она любимая. И мы за ту Польшу, что поет «Варшавянку»… И пусть бы она такая родилась и никогда не сгинела…
— Нех жие!.. — согласился и весело воскликнул кто-то из сидевших сзади.
Но Янчонок, привольно расположившийся на траве рядом с Зинько, видимо, тоже поделился с ним какой-то своей озабоченностью и сейчас захотел поддержать парторга.
— Разрешите, товарищ капитан. Орел… так орел… Понимаю… А вот только чего ж тогда генералы их больно не похожи на наших?.. Разрядились… вроде как на балу…
— А ты их видел?
— Довелось вчера… Идет, а на нем красный китель, золотые пуговицы, на груди какой-то медный рожок или свистулька… На голове тоже шляпа какая-то пышная, чудная… Я его, конечно, первым приветствовал… потому понимаю… звание! А он только усмехнулся и этак махнул рукой, будто отмахнулся. Это ж не по-нашему получается… Надо взаимно, хоть я и рядовой…
— Позволь, позволь, Янчонок, — веселея от возникшей догадки, посмотрел Алексей на обиженное лицо солдата, — говоришь, красный китель?
— Как огонь! И галуны, и воротник расшитый… Правда, стариковатый, может, на пенсии? Но, по-моему, раз в форме, так соблюдай ее. Хотя, конечно, такая форма в настоящем бою ни к чему… У нас и маршалы поскромнее…
— Так ты знаешь… ты знаешь, Янчонок, кого ты приветствовал? — с трудом сдерживая смех и окончательно утверждаясь в своей догадке, проговорил Осташко. — Пожарника… Самого обыкновенного городского пожарника…
Янчонок оторопел, залился краской. Рассмеялся и, словно отрекаясь от своих недавних сомнений, хлопнул его по плечу Зинько. Захохотали и все остальные.
— Скажи, Янчонок, а ты дворнику или трубочисту честь еще не отдавал? Они здесь тоже не в лохмотьях ходят.
— Вот это отколол! Принял медную каску за генеральскую папаху!..
— Ох, представляю, какой он строевой шаг по тротуару отбивал!
— Держи равнение налево, на пожарную кишку.
Янчонок разозлился:
— И напрасно подначиваете. Разве я чем солдатскую честь уронил? Да кто он такой? Рабочий человек!.. Верно, товарищ капитан? Как я теперь соображаю, он меня по-ротфронтовски приветствовал… Значит, все у нас правильно. Не субординация, так солидарность.
Штаб батальона расположился в небольшой, со вкусом отстроенной вилле, фигурная ограда которой примыкала к саду, а калитка выводила сразу на одну из его аллей. Хозяйка, дородная, статная, свободно владела русским. Проводив Фещука и Осташко в отведенную им комнату, она предупредила, что это кабинет сына (он инженер лесной промышленности), и она просит сохранять здесь все так, как есть. На стенах кабинета от пола до потолка искусно размещалась коллекция древесины — грибообразные наросты, поперечные распилы стволов самых разных пород, срезы сучков, изгибающиеся, как змеи, покрытые бесцветным лаком корни деревьев.
— А где же сын? — полюбопытствовал Алексей. Хозяйка поднесла к глазам батистовый платочек:
— Михась был в Иране… Сейчас переехал в Каир…
«Был и в Ташкенте», — догадываясь, какие запутанные, извилистые дороги привели хозяина к подножию египетских пирамид, хотел было добавить Алексей. Однако промолчал. Подумал только, что пани, пожалуй, рановато хвататься за батистовый платочек. Как ни далек Каир, но оттуда вернуться в этот кабинет живым все-таки много вероятнее и легче, чем из Белой Подляски или из того же Седлеца.
За стеклом книжных шкафов золотились корешки осанистых томов — избранные письма Пилсудского, Пшебышевский, Жеромский, энциклопедии, технические справочники. Над письменным столом висела большая фотография, с которой улыбалась молодая, какой-то пышной, вызывающей красоты женщина. Белокурые волосы спадали на оголенные плечи… Высокая полуобнаженная грудь…
— Моя невестка… Правда, она прелестна, пан майор? — перехватив скользнувший по портрету взгляд Фещука, поинтересовалась мнением гостя хозяйка.
— У нас так не принято снимать, пани, — довольно холодно ответил Фещук.
— Но ведь это интимный снимок, для кабинета… Если хотите, я его уберу. Кто знает, может быть, это все, что останется на память от Бигуси…
— Разве она не вместе с мужем?
— О, если бы! Нет, нет… Бигуся в Варшаве. Я не могла ее удержать. Она там вторую неделю.
Теперь хозяйка смотрела на офицеров тревожно, вопрошающе, даже забыла о скомканном в руке платочке. А Осташко и Фещуку все казалось в этом сумрачном, добротно отделанном кабинете противоречивым, усложненным, запутанным: неведомый Михась, которому в эту военную пору наверняка нашлось бы дело в так хорошо ему знакомых, судя по надписи на коллекции, Быдгощских и Закопанских лесах; и эта красавица Бигуся, возможно строящая сейчас баррикады где-либо у варшавского вокзала; и сама хозяйка с повадками штабс-капитанши и одесским выговором…
Все вроде бы стало проще, яснее на вилле и в саду, когда, чтобы сменить батальон, пришел полуэскадрон польских улан. Они держались здесь по-свойски, бесцеремонно. В коридоры втащили седла, сбрую, полевые телефоны, рации… То и дело слышались испуганные возгласы хозяйки:
— О, Езус-Мария, это же рододендрон, пан хорунжий… Его нельзя отставлять от окна…
— Пше прашам, пани, война!..
Янчонок толкался во дворе среди кавалеристов, рассматривал погоны, расспрашивал… Наверное, опасался попасть впросак вторично.
Вечером в столовой виллы командиры обоих подразделений устроили совместный прощальный ужин.
— Нех жие Войско Польске!
— Нех жие Червона Армия!
Постукивали кружками о кружки, пели «Терезу» и «Катюшу», обменивались зажигалками, портсигарами. Какой-то тучный улан, похожий на Варлаама из «Бориса Годунова», вписывал в полевую тетрадь Алексея названия знакомых ему вёсок, что могли встретиться на пути батальона, и, щекоча усами, кричал в ухо:
— Скажешь, что от поручика Стемпы… Встретят, как брата… Скажешь, что скоро буду… Поручик Стемпа… Янек. Там все знают… Запомнил?
Потом настроили рацию на Москву, слушали вечернюю сводку Совинформбюро. На сандомирском плацдарме шли тяжелые бои. Союзники высадились в Южной Франции и заняли Ниццу. Войска Второго Белорусского фронта взяли Осовец — крепость на подступах к Восточной Пруссии.
На рассвете батальон вышел на Варшавское шоссе. Зашагали цепочкой между кюветом и изгородью кустарников. По шоссе ехали только походная кухня, фуры хозвзвода и медпункта. Их обгоняла нескончаемая вереница «студебеккеров» и полуторок с боеприпасами, грохотали самоходки, ревели тягачи дальнобойной артиллерии. В небе барражировали истребители. После полученных от Василия писем, особенно после недавнего, у Алексея, когда он видел пролетающие «миги» и «илы», неизменно возникали волнующие раздумья. Из некоторых намеков все больше убеждался, что Василий — на одном с ним участке фронта… Километрах в десяти восточнее Минск-Мазовецка находился большой аэродром. Может быть, там его полк? Там, в городе, часто видел солдат и офицеров с голубыми петлицами, но понимал, насколько было бы бесполезным подойти и расспрашивать… Перед выходом из Минск-Мазовецка, посылая письмо Василию, прибегнул и сам к намекам. Не называя города, упомянул о том, что в нем запомнилось. Костел на берегу пруда… Трехэтажное здание Рады Народовой на главном проспекте… Кондитерская фабрика на окраине… Написал и о том, что хорошо чувствовать неподалеку свои крылышки… Поймет ли Василий? Теперь надо ждать ответа.
После тридцатикилометрового марша заночевали вблизи Дембе-Вельке. Опускались сумерки. И когда совсем стемнело, увидели на западе раскинувшееся на полнеба багровое далекое зарево. Это горела Варшава.
5
Если бы это пригасившее августовские звезды зарево поднялось и заполыхало пожаром справедливого возмездия над городом, откуда выполз и замахнулся когтистой свастикой на всю землю тысячеглавый упырь! Но горел не он, не Берлин, а Варшава. Напоминала о новых жертвах, о новых загубленных жизнях, о новых тяжких дорогах войны. Дыхание пожарищ там, за Вислой, казалось, доходило и сюда, опаляло ночную степь. Алексей, подложив под голову полевую сумку, лежал лицом вверх, прислушивался к работящему, ни на минуту не умолкаемому гулу ночного неба. В сторону Вислы летели и летели наши ночные бомбардировщики. В черных глубинах словно бы сбегали со стальных валов, пересекались, вились, постукивали, шумели трансмиссии и ременные приводы множества станков и весь этот подоблачный крылатый цех торопился завершить к рассвету срочный, ударный заказ.
Несмотря на утомительный форсированный марш, многие красноармейцы не спали. Кто-то оплескивался у придорожной криницы. Кто-то блуждал с охапкой травы — или искал товарища, или выбирал себе местечко поудобнее. Неподалеку от Алексея светляками вспыхивали цигарки, ломал дремоту беспокойный разговор.
— Ее бы с ходу надо было взять… Чтобы не дать ему очухаться… Ударить танками с ходу, и все!..
— А ты-то сам с ходу далеко ушел? После полдня в хвосте плелся и на батальонную кухню поглядывал: живот подтянуло. А танк, он тоже не воздухом живет и не булыжниками стреляет… Да и Вислу нелегко одолеть… Считай, как наша Волга…
— Ну, с Волгой ты ее не равняй. В Волге будь кто, а пузыри пустит. Река на всю Европу одна. А Висла, как я понимаю, вроде Дона или Сожа. За левый-то берег наши сразу зацепились.
— Мы за левый, а он и за правый еще держится… Не уходит на ту сторону. Варшаве коленкой горло придавил… Видишь, как достается ей…
— В том-то и дело. Оттого и сердце щемит, что небось рассчитывали варшавяне на нас…
— Кто рассчитывал, а кто и нет… Слышал, что замполит на привале объяснял? Есть и такие, что от тебя, самарского, шарахаются как черт от ладана…
— Чем же это мы, самарские, их прогневали?
— Тем, что твой батько помещику дал лаптем пониже спины в семнадцатом году… Понял? Вот оттого и Люблин им поперек глотки… Им подавай сейм другой — толстопузый, в цилиндрах, в белых перчатках. Потому этот самый Бур-Комаровский с Миколайчиком и заторопились с Варшавой… Чтоб и тебя, самарского, опередить, и тех, кто вчера нас сменил в Минск-Мазовецке…
— А люди-то, люди за что там гибнут? Смотри, какой ад! Все небо пламенится. А ведь там и детишки, и старики, и женщины…
— Вот это и горе, что они кровь льют.
Опознать говоривших на слух Алексей не мог. Самарским мог быть Янчонок, но голос, негодовавший, что так занапрасно гибнут люди, принадлежал человеку постарше. Наверное, кому-либо из прибывшей после боя за Седлец маршевой роты. Пополнение оказалось на этот раз небольшим. Не так-то легко было подтягивать его полуразрушенными дорогами из отставших фронтовых тылов и резервов. Батальону дали всего двенадцать новеньких. Кажется, среди них тоже был волжанин — Протопопов, посланный во вторую роту. А кто же его сейчас убеждал? Уж не Солодовников ли? Голос будто бы его. И эти вырвавшиеся приглушенно и скорбно слова о льющейся крови… Уже и третьего брата потерял Павел… Под Ленинградом… Да, это он!
Темнота сгущалась, а с ней сгущалось, сильнее кровавилось зарево.
В середине следующего дня подошли к вытянутой вдоль шоссе Милосной. Подобно тому как Прага была предместьем Варшавы, так и Милосна, и стоявший неподалеку от нее Окунев были пригородами Праги. И здесь особенно стало заметно ожесточение боев, которые вела на подступах к Висле вторая танковая армия. Во взломанном предполье немецкой обороны колючая проволока заграждений и провода обрушенных телефонных линий оплетали и наши танки, и десятки немецких, множество брошенных орудий, тягачей, минометов. Представлялось, что две сцепившиеся в железной мертвой хватке армады так гигантским клубком и волочились по земле, сравнивали, стирали блиндажи, окопы, капониры, пока не запутались в сетях этого проволочного хаоса, не замерли обессилевшие, бездыханные. И чудом казалось, что эта подминающая все под себя тысячетонная лавина прошла полями, пустырями, оставила почти целыми и в Милосной, и в Окуневе, куда, должно быть, любил выезжать служилый варшавский люд, многие кварталы дач. Кокетливо изогнутые чешуйчатые крыши, покрытые плющом стены, красивые балконы и мансарды, широкие итальянские окна… Сохранились нетронутыми площадки для тенниса и крокета, беседки и павильоны в хорошо ухоженных садах.
А вдалеке упирались в небо черные дымившиеся колонны. Порой течения воздушного океана пошатывали их вверху, изламывали, размывали, и тогда они сливались, затемняли весь горизонт. Внизу вспыхивали пожары, а над черно-бурой, стелющейся по земле тучей вырастали, покачивались новые столбы дыма. Казалось, что вот-вот рухнет подпираемый ими небосвод.
В шагавших повзводно колоннах — гнетущее молчание.
Из протянувшихся неподалеку от Милосной окопов, которые занял поутру батальон, была видна почти вся Прага. Она лежала в огромной чаше, примыкавшей пологой западной стороной к мостам Вислы. Тысячетрубное скопище сохранившихся, пока мало тронутых бомбежками и артобстрелом зданий, парков, площадей, костелов, стиснутые старинными особняками улочки и широкие просеки магистралей, уходивших к реке…
В той грозной подкове, что опоясала предместье к концу августа, полк Савича находился на левом фланге рядом с полком из польской дивизии имени Тадеуша Костюшко. Вплотную соседствовал с жолнерами батальон Фещука. Все перевалившие уже на сентябрь дни были заняты нащупыванием уязвимых мест во вражеской обороне, уточнением ее опорных узлов и огневых средств. А противник стянул их сюда немало. Выполняя приказ Гитлера — сравнять Варшаву с землей, уничтожая ее, немцы отнюдь не намеревались оставить, лишиться выдвинутого далеко вперед на восточный берег плацдарма. В каменных теснинах города затаились танковые дивизии СС, отборные гренадерские части. Хорошо укрытые артиллерийские, минометные батареи огрызались то редким, беспокоящим, то массированным огнем. И в окопах батальона теперь то и дело сновали артиллерийские разведчики, днем перетаскивали из одной ячейки в другую свои стереотрубы и рации, а ночью засекали и наносили на карты частые орудийные вспышки.
Однажды после орудийной перестрелки Осташко увидел двух незнакомых красноармейцев, торопливо переползавших к свежей, еще дымившейся воронке. С четверть часа покопавшись там, переползли затем к следующей. Потом спрыгнули в окоп. В вещмешках, которые тащили за собой, что-то зазвенело.
— Вы что там ворожите? Откуда сами? — окликнул их Осташко. Они повернули к нему свои сосредоточенные, чем-то довольные, даже счастливые, лица. С минуту молчали. Отвечать или не отвечать? У того, кто окликнул, праздное любопытство или хозяйская требовательность?
— Мы осколочники, товарищ капитан… В общем, собираем осколки, — наконец пояснил старший сержант с черными погонами, на которых блестела эмблема артиллеристов.
— Это что же, в утиль или для исторического музея? На память потомкам? — пошутил Алексей. О такой военной специальности услышал впервые.
— Нет, утиль и музеи это не по нашей части. Это мы для вас, для пехоты, стараемся. Немецких пушкарей будем ловить…
Сержант засунул руку в вещмешок, вытащил и чуть ли не любовным жестом мастерового подбросил на ладони несколько сверкающих на изломах голубоватой сталью осколков.
— Видите, тут для наметанного глаза и калибр, и маркировка… А воронки или борозда от рикошета тоже многое подсказывают… Умеючи, можно и азимут вывести… У вас закурить, товарищ капитан, не найдется? — Сержант шутливо намекнул, что за его словоохотливость надо бы заплатить.
Примерно в километре, за окраинными домами Праги, бухнул выстрел. Снаряд пролетел над окопом и разорвался вблизи. Над головами зачернели комья земли и, разламываясь, дробясь на лету, осыпались вниз. Осколочники поднялись на бруствер и поползли к воронке, будто туда упали с неба золотые слитки.
— Ух, гад, руку опек… Горячие еще…
— А я тебя как учил? Сперва плюнь… Если не шипит, тогда хватай.
Зинько, отряхиваясь от припорошившей его земли, обернулся к Алексею, кивнул в сторону артиллеристов, одобрительно воскликнул:
— Это ж целая академия, товарищ капитан! Научились же, а?
Он словно прочел и повторил мысли Алексея. «Научились, научились», — так же, как и Зинько, не раз думал он; думал и всеохватно, в масштабе всех фронтов, и в масштабах куда меньших, присматриваясь к своему батальону да и к самому себе… В училище в полном соответствии с уставом они многократно отрабатывали тему — бои за населенные пункты… «Главные силы войск, действующих внутри населенного пункта, наступают по огородам, садам и через дворы…» И, отрабатывая, перескакивали через дувалы, залегали меж картофельными грядами, подходили к какому-либо зачуханному домишку со стороны сарайчика, остерегаясь окна, глядевшего на улицу. Так учили и в запасных полках… И кто думал тогда о вот такой, широко раскинутой вдоль Вислы каменной громадине, смотревшей сейчас миллионами окон? Вот тебе и дворы да огороды! Где тут они? Но недаром исподволь, от боя к бою, постигали нужное для победы… И те, кто лег в братские могилы, оставляли для живых кровью оплаченные уроки. И если он, Алексей, погибнет, после него тоже останется такой же священный урок, что-то заповедное для тех, кто пойдет дальше…
…Битва за Прагу началась одиннадцатого сентября. Было нежаркое, безветренное утро, какие так хороши в эту пору ранней осени. Реденькие известково-белые паруса облаков замерли, надолго бросили невидимые якоря в густую прохладную синеву неба. Алексей смотрел в бинокль на окраину предместья, на массивные, увитые диким виноградом корпуса ветеринарного института, который лежал в полосе наступления батальона, и, на миг поддавшись очарованию этого утра, словно бы увидел гурьбу студентов, весело сбегающих с высокого многоступенчатого крыльца на лужайки парка.
Через полчаса после первых залпов наших батарей и скрытно подошедших ночью бронепоездов, после дымовых снарядов, выпущенных, чтобы облегчить пехоте сближение с противником, вся глубокая пражская котловина окуталась таким густым чадом, будто в ней варили асфальт для всех дорог мира. И в этот плотный, смрадный, но спасительный чад ринулись тридцатьчетверки, к броне которых приникли десантники. Они высадились почти у стен института. Сказался многодневный кропотливый труд огневиков — заранее точно определили расположение фашистских батарей, подавили их. Те орудия, что уцелели, стреляли наугад, по звуку моторов, по лязгу гусениц…
Командир машины, на которой с одной из штурмовых групп находился Алексей, дважды отчаянно высовывался из люка, тревожась, есть ли кто на броне, уцелел ли, сохранилась ли взаимодействующая с ним пехота.
— Ближе, ближе, давай еще! — крикнул ему Алексей, понимая, насколько дороги сейчас каждая минута и каждый лишний десяток метров.
Танк с разгона сломал и отбросил вверх, на себя, звено железной ограды, все спрыгнули наземь. Навскидку хлестнули автоматными очередями по окнам цокольного этажа, подбежали ближе и метнули гранаты. Вслед за Золотаревым, взвод которого штурмовал главный подъезд, Алексей вскочил в вестибюль. Налево и направо, как квершлаги, темнели высокие мрачные коридоры. Черт побери, вот бы где пригодился ручной фонарик! Но кто-то из красноармейцев еще раньше пролез в окно, высадил дверь — хлынул свет, стала видна в глубине лестничная клетка, ответвления коридора. По лестнице сыпались вниз немцы. Двое задержались и, прикрывая убегавших, разрядили в коридор свои «шмайсеры». Алексей и Золотарев едва успели отступить за саженной высоты гранитную чашу. Пули срикошетировали об ее отполированную округлость, пронзительно взвыли. Алексей и Золотарев ответили короткими очередями, гулко затопали по коридору.
В проломленную сбоку дверь связист втащил провод.
— Товарищ капитан, куда его?
— Поднимай на второй, — крикнул Алексей, взбегая по лестнице мимо перевалившегося через перила, только что убитого гитлеровца… Мимо золотившихся в сумраке канделябров, на одном из которых покачивалась продырявленная пулей алюминиевая фляга.
На втором этаже, где тянулись такие же нескончаемые коридоры, он мысленно прикинул внутреннее расположение комнат, дернул к себе первую с левой стороны дверь. Просторно, во все множество окон, брызнуло солнце. Лепной потолок, в глубине сцена, длинные ряды кресел. Актовый зал. Нет, для НП надо что-либо поукромнее… нашел комнату, выходившую окнами на север, осторожно выглянул на улицу. Танк, что их сюда доставил, а может другой, стоял впритык к завалу из кирпичных блоков и посылал снаряд за снарядом в дальний конец улицы, по бойницам, замеченным в приподнятых фундаментах зданий. Прижимаясь к стенам домов, туда бежали красноармейцы. Кажется, среди них был уже и Золотарев.
В комнату быстро вошел Фещук, взял протянутую ему связистом трубку.
— Первый, Первый! Я — Седьмой… Мне Первого… Как Ульян?! Когда?
Фещук с силой прижал трубку к уху, будто этим пытался приблизить далекий голос говорившего. Потом продолжал слушать, все так же плотно притиснув трубку и не отпуская ее от побелевшей ушной раковины.
«Ульян» — незамысловатое кодовое название смерти — было известно всем. Алексей оторопело смотрел на комбата.
— Убило Савича… Осиротели, — вполголоса проговорил он, опуская трубку и отводя в сторону глаза. — Полк принял на себя Каретников.
…Бой в городе похож на бой в лесу. Движение на тех же сокращенных дистанциях. Короткие рывки и перебежки. Действия мелкими группами… В лесу с любого тенистого дерева может встретить наступающего в лоб, в затылок пуля снайпера. Так и здесь смерть подстерегает из-за каждого угла, парапета, афишной тумбы, из чердачных люков и парадных подъездов, из-за обрушенной стены и множества других каменных ловушек. Но они же, эти камни, могут и защитить, выручить. Есть в уличных боях и свои облегчающие душу минуты. Наступающему порой кажется, что только он один вгрызается в ячеистую, начиненную тротилом плоть города, что только на него одного обрушен весь огонь врага, что и через сто, двести метров сопротивление будет такое же, а возможно, еще сильней. И вдруг где-то ночью или на рассвете почувствуешь впереди податливость, узнаешь, что никакой близкой опасности уже нет… И можешь поднять голову. Можешь не пригибаясь перейти улицу. Можешь не торопясь, не обжигаясь ложкой, сесть за котелок и вспомнить добрым словом товарищей — левого или правого соседа, которые не подвели тебя, сделали свой солдатский маневр. А он, твой сосед, наверняка переживал то же самое. И еще хорошо, если в такие минуты никто не упрекнет тебя, что упустил, потерял соприкосновение с противником, сочтут твои действия верными. И посыплются ли после этого на батальон ордена и медали, будет видно завтра, а пока закуривай!..
Овладев ветеринарным институтом и прилегающими к нему зданиями, батальон Фещука тем самым помог соседнему подразделению из дивизии Костюшко выйти на второй день на одну из главных магистралей города — Минский проспект. А продвигаясь по Минскому проспекту, который выводил к мосту имени Понятовского, жолнеры в свою очередь грозили отрезать те подразделения гитлеровцев, что противостояли полку, каким теперь командовал Каретников. Немцы отошли к восточному вокзалу. К утру следующего дня Фещук трижды переносил свой командный пункт, пока штурмовые группы не уперлись в заранее подготовленный к обороне квартал трехэтажных домов. И тут Каретников ввел в бой свежий, придерживаемый ранее в резерве батальон и приданный полку гаубичный дивизион. В конце дня батальон Фещука шел вторым эшелоном. Бои отдалялись к заводам. Прага, выглядевшая вчера безлюдной и покинутой всеми жителями, вдруг оказалась густонаселенной: люди выходили из подвалов с детьми на руках, с узлами.
Алексей, направляясь в тыл батальона, чтобы посмотреть, где и как развернулся медпункт, не доходя до него, увидел сидевшего на приступках крыльца Мусатова. Его ранили в ногу. Две молодые полячки делали перевязку. Бинт, наложенный в несколько витков, окрашивался кровью, а ефрейтор жмурился и так широко улыбался, будто ему было щекотно.
— Медпункт рядом, Мусатов… Ты что, не мог дойти? — спросил Алексей.
— Доковылял бы, товарищ капитан. Да вот прицепились по дороге, ничего не мог поделать.
Женщины не поднимали склонившихся над раненым лиц, и Алексею были видны только их припыленные, собранные шпильками волосы да какие-то ссадины, запекшаяся кровь на маленьких девичьих ушах.
— Паненки тоже ранены?
— Как я понял, серьги у них фриц выдернул, — пояснил Мусатов. — Видите, прямо с мочками оторвали…
Одна из полячек обернулась к Алексею, молча кивнула. Изгибом бровей, грустными большими глазами она напомнила фотографию, что висела на вилле в Минск-Мазовецке… Но Бигуся была в Варшаве…
В ночь на четырнадцатое сентября, после четырех дней непрекращавшейся схватки, в час, когда, казалось, начал затихать гул боя, в городе раздались взрывы. Один, другой, третий… Это не мог быть воздушный налет, небо оставалось молчаливым, не появились и ищущие лучи прожекторов, да и сама мощность взрывов говорила о зарядах большей силы. В расположенной над подъездом небольшой комнате привратника, где в это время находился КП батальона, воздушная волна распахнула дверь балкончика, сорвала шторы затемнения. Новожилов бросился их налаживать.
— Можешь, кажется, не спешить, — проворчал Фещук.
Он позвонил соседу в третий батальон, тот был поближе к Висле.
— Мосты? Ну, я так и догадался! Значит, убрались?.. Что ж ты упустил? Ну-ну, не обижайся, знаю, знаю…
На крыши еще не легли отблески зари, когда Фещук и Осташко прошли к Висле. Поднятый взрывчаткой в воздух красавец мост со своими обрушенными и вздыбленными пролетами теперь темнел над водой, как гигантская, остроуглая диаграмма. Если бы его удалось захватить целым, все равно прорваться на тот берег казалось немыслимым: всякий, кто появился бы на этом ровном, почти километровом каменном полотне, был бы сразу расстрелян. И все-таки жаль. Кто-то рядом вздохнул. Увидели за развалинами портовых сооружений конфедератку.
— Что, товарищ, варшавянин небось? — спросил Фещук.
Из-за развалин подошел к ним офицер.
— Горит, все горит! — восклицал он, глядя в сторону дымившейся Варшавы. — Они заплатят за все… О, как заплатят… И за Иерусалимскую аллею, и за Лазенки, и за Ста́ре Място… Все горит!.. Но они заплатят… Уже ради этого стоит жить!
А Висла текла — хмурая, холодная, обозначая рубеж, который еще предстояло перейти неведомо когда…
6
— Наш капитан сегодня светится… как молодой месяц…
— Еще бы, такой вагон писем получить! Я бы каблуки сбил, пляшучи…
— Письмо письму рознь. Другое получишь — и всю ночь мигаешь глазами, не спишь… А это, видать, веселые…
— И неужели все неслужебные, товарищ капитан?
Почтальон вручил Осташко письма на виду у всех, прямо на занятиях с сержантским составом, и возгласы красноармейцев звучали с незлобивой, легкой завистью.
У Алексея сегодня действительно был счастливый день. После Минск-Мазовецка казалось, что все его забыли, несколько недель ни от кого ни одной весточки, а вот здесь, в Яблонно-Легионово, куда передислоцировались после боев за Прагу, сразу такая пачка… Соблюдая расписание, не укоротил занятий ни на минуту, хотя хотелось, ой, как хотелось! Закончив беседу, пошел не в штаб, а выбрал укромное местечко на песчаном пригреве, под сосной, стал читать письма. Не все развеселили. Мамраимов писал из госпиталя. Лежал в Уфе. Письмо, вопреки обычным шутливым присказкам, грустное. Под Брестом попал под огневой налет, оторвало кисть правой руки, пробовал писать левой. «Что из этого получается, Алеша? Тренируюсь, чтобы расписываться в ведомостях собеса!» Вот кого надо было сейчас подбодрить. Валя сообщала, что теперь уже точно известно — в планы «Гипрогора» на будущий год включено восстановление городов Донбасса. «А вдруг мы приедем туда одновременно?» Отец, как всегда, коротко: «Жив, здоров, погоняю свою савраску». Так он называл маленький бестендерный паровозик, очевидно, единственный пока в рудничном депо.
Развернув треугольник Василия, Алексей на этот раз не увидел в нем ни одного вычерка, которыми прежде так пестрели письма брата. Словно вырванный из командирской тетради, листок бумаги передали оказией, минуя тех аккуратненько обмундированных, необщительных девиц, стайку которых он однажды встретил, будучи в армейских тылах. Алексей жадно зацепился взглядом за те подтверждающие строки, каких он ждал от брата: этот городишко ему знаком, даже купался как-то в пруду у костела… Полчаса езды до перекрестка, где стоит изваяние Мадонны…
Алексей ошалел от радости. Значит, они и в самом деле рядом. Могли увидеться еще месяц назад. За это время Минск-Мазовецк отдалился, однако не настолько уж далеко… Придется отпрашиваться у начальства повыше. Фещук своей властью отпустить не решится.
Но на другой день Алексей получил такое разрешение при самых неожиданных обстоятельствах.
Его вызвали в политотдел корпуса.
— Что-то мне это не нравится, Алексей, — нахмурился, провожая, Фещук. — Прежде отпускал тебя с легкой душой, а сейчас туда приехал новый начальник политотдела, а от нового начальства ждать можно всего.
— Возможно, знакомится с политсоставом?
— Мог бы познакомиться и на месте… Тут что-то другое…
Беспокойство комбата оказалось обоснованным.
Штаб корпуса, в состав которого они вошли перед началом летнего наступления, находился сейчас в Надме, недалеко от Воломина. На пересекавшей приречные дюны песчаной дороге попутчик всегда был желанной рабочей силой даже для броневичков, в каких разъезжали офицеры связи. С одним из них Алексей добрался до Надмы, где в полуразрушенных постройках кирпичного завода разместился штаб. Фамилия подполковника Тодорова, который его вызывал, не говорила Алексею ничего. Корпусного начальства он не знал. И естественным было его удивление и некое облегчение, когда Тодоровым оказался тот самый политотделец, который когда-то проверял батальон у Новосиля. За полтора года он словно пожелтел лицом еще больше, в гладко зачесанных волосах сильнее пробилась седина, ленточка «за ранение» и подполковничьи погоны — тогда он был майором — тоже свидетельствовали, что и для него время не стояло на месте.
— Мы, кажется, знакомы?
— Так точно, товарищ подполковник… если не забыли Верхних Хуторов…
— И то, как вы мед тогда хотели зажать?..
— Отдали медсанбату, товарищ подполковник, как было приказано.
— А в Яблонно-Легионово ничем не обзавелись?
— Польша, товарищ подполковник… не своя земля…
Знал, давно знал Алексей, что, чем мягче, покладистее ведет разговор вызвавшее начальство, тем бо́льших сюрпризов можно от него ждать. И вот он!
— Засиделись вы в батальоне, товарищ Осташко… Что ж так, а?
Алексей пожал плечами. Потом спохватился, что Тодоров может подумать, будто он, Алексей, с ним согласен и тоже этим огорчен.
— Для политработников это даже неплохо, товарищ подполковник. Знаешь людей, люди знают тебя…
Тодоров помолчал, отделяя паузой мягкое начало разговора от той его деловой части, где он вправе приказывать.
— Так вот, товарищ Осташко, намерены послать вас заместителем к Каретникову. Он остается командиром полка. Политотдел дивизии рекомендует замполитом вас. Да и нам кого-либо другого искать незачем… А Каретников сам из нашего теста. С таким командиром сработаетесь легко… Ну, как?
Тодоров ногтем распечатал пачку «Казбека», протянул Алексею.
Он, выгадывая лишние минуты для размышления, завозился с папиросой: разминал табак, крутил, изламывал поудобнее мундштук. Почувствовал сам, что нервные движения пальцев выдают волнение. Еще несколько секунд выгадал, прикуривая. Хотелось сразу и просто сказать «нет», если бы достаточно было такого односложного ответа. А что добавить к нему, как объяснить? После роты пришел в батальон с робостью, но ведь свыкся, потянул! Эх, не в этом, пожалуй, и загвоздка. Тогда из Старого Подгурья и Кащубы конца войны еще было не разглядеть. Только ее первые перевалы… Какую бы ношу ни взвалили на плечи — помалкивай, тащи, не перебирай, не перекладывай на другого. А сейчас? Хотя будет нелегко, а все же близка, близка победа! И дойти бы до нее, коль улыбнется судьба, с теми, с кем за полтора года сроднился на всю жизнь…
— Товарищ подполковник, очень прошу оставить меня в батальоне!..
Тодоров, видимо уже и раньше заметивший колебания Осташко, нахмурился.
— Как вас понять, товарищ капитан? Отказываетесь расти?
Он выделил, подчеркнул его звание, то, в котором Алексей ходил и под Новосилем, когда и для самого Тодорова брезжили где-то впереди ставшие теперь реальностью подполковничьи звездочки.
— Товарищ подполковник, я ведь политработник ускоренный, военного образца.
— А я, по вашему мнению, какого? А?
Алексею вспомнился разговор, что завел Тодоров в Верхних Хуторах, когда они вечером степью возвращались с комсомольского собрания, вспомнил и решился на хитрый ход:
— Да, вы мне говорили… И тогда же, прошлым летом, признались, что завидуете моей должности…
— Разве и до таких признаний дело дошло? И вы что же, в самом деле хотите ворваться в Берлин только с танковым десантом? Не иначе? А в штабе полка, по-вашему, только реляции пишут? Савич разве не на переднем крае погиб?
Тодоров стал пробирать, журить, но Алексей уже чувствовал, что ему, пожалуй, удастся уклониться от нового назначения.
— Ну и как, настаиваете на своей просьбе?
— Так точно, товарищ подполковник!
— Хорошо, можете идти. О решении узнаете…
Алексей облегченно поднялся, но не уходил.
— Что у вас еще?
— Разрешите обратиться с одной личной просьбой.
— Слушаю…
— Здесь неподалеку, за Минск-Мазовецком, мой брат… летчик… Не виделись пять лет… Позвольте отлучиться на два дня…
— Хорошо, скажете от моего имени Каретникову, чтобы отпустил.
7
Через два дня Алексей ехал знакомой дорогой на Минск-Мазовецк. У фабрики, на восточной окраине города, слез с полуторки и пошел пешком, посматривая по сторонам, чтобы не пройти подсказанного Василием перекрестка. Вслед за бензовозом, который у часовни с Мадонной съехал с шоссе и скрылся за придорожной рощицей, Алексей свернул влево. Миновал лес и сразу увидел, что не ошибся, попал туда, куда надо. В каких-либо двух километрах от шоссе, в выбитой первыми заморозками степи, сливаясь с ее побуревшей травой, стояли темно-бурые выруленные в один ряд самолеты, металась на жерди «колбаса», виднелись деревянные штабные домики. К одному из них, который выделялся среди остальных затянутой пыльным полотняным тентом верандой, он и направился. У крыльца стояли и разговаривали трое офицеров. Заметили Алексея с его общевойсковыми знаками различия и замолкли, вопрошающе посмотрели. Алексей обратился к старшему — майору, с радушным веснушчатым лицом, — сказал, что хочет видеть замполита. Посчитал, что лучше всего представиться я объяснить все своему коллеге…
— Я вас слушаю, — откликнулся майор.
Алексей протянул удостоверение личности.
— Осташко? Алексей? Слышал, слышал. Василий рассказывал о вас, ждет… Семенов, где он сейчас?
— На взлетной, товарищ майор.
— А подменить?
— Сейчас некем. Может быть, часа через два, когда вернется Пархоменко…
— Да не загорать же капитану два часа…
Майор смекалистым, настороженным взглядом окинул Алексея, казалось, ощупал этим взглядом его карманы и свисавшую набок полевую сумку. Осташко, догадавшись, чем вызвана эта настороженность, улыбнулся.
— Насчет этого не опасайтесь, товарищ майор… Хотя и следовало бы, но с собой ничего не захватил. Выпьем по такому случаю попозже…
Улыбнулся и замполит:
— С собой захватывать и не надо было. Мы, летчики, не нищие… Только всему свое время. Ладно, Семенов, отведи товарища к взлетной.
Василий узнал брата издалека, вскочил с травы и, не отходя от самолета, замахал руками, завопил на весь аэродром:
— Алешка!
Обнимались, хлопали друг друга по плечам, снова обнимались.
— Перехитрили-таки мудрецов?.. Согрешили?.. Сразу нашел?
— Помогла Мадонна…
— Вот бабка и оказалась полезной. А я все боялся: вдруг ты на Седлец пойдешь? Поэтому на этот перекресток и намекал… Думаю, лишь бы ты на это шоссе выбрался, а тут уже локтем подать…
— Да, нас, пехоту, найти потрудней…
— А мы на виду… Тут уж нас «хейнкели» два раза навещали. Разыскали, сукины сыны… А родной брат неужели, думаю, начнет петлять?
Не виделись пять лет — и каких! Война обкатала и словно бы сравняла братьев — старшего и младшего. У Василия, младшего, рано располневшего на материнских блинчиках и оладушках, увальня и лежебоки, она, казалось, отобрала все лишнее. И округлость щек, и полноту фигуры, грозившую перейти в преждевременную тучность, и свойственную ранее неспешность движений. Он стал поджарым, продубленным и, ладно обтянутый комбинезоном, явно довольный собой, влюбленно смотрел на Алексея, который к прежней худобе и костлявости за эти годы нарастил мышц, мускулов, без каких трудно пехотинцу… А глаза у обоих были материнские — это всегда признавал даже Игнат Кузьмич, — большие, сиявшие синевой с легкой поволокой.
— Куда же девалась твоя величавая медлительность? — улыбнулся Алексей, вспомнив давнее. Однажды в Нагоровке, слушая репортаж о воздушном параде на Тушинском аэродроме, Василий при словах диктора о проплывающих с величавой медлительностью бомбардировщиках самодовольно заявил, что ему суждено быть призванным в авиацию. Так оно и получилось… И сейчас, тоже вспомнив это, давнее, Василий захохотал:
— Порастерял, порастерял после Эмильчино… Какая, к черту, величавость, коль она медлительна?! Скорость, Алеша, скорость и огонь — вот главное. Эх, Нагоровка, Нагоровка, далеко ты осталась… А ведь я, Алеша, не один раз там бывал!
Алексей недоверчиво посмотрел на брата.
— Не веришь? Летал… бомбил… Это же я сейчас на истребителе, а тогда служил в полку дальнего действия… Правда, ночью увидеть многое не пришлось. Да и бомбил, конечно, не город, а станцию. Ну а мне там, сам понимаешь, дай для начала хоть какой-либо ориентир, а уж на цель выйду… Должен признаться, здорово вот тут, в сердце, щемило… А вдруг промахнусь… да по своим? Кинул однажды две сотки и на твой парк, там у них на стадионе зенитки стояли. Разлетелись все твои павильоны и беседки, вот вернемся домой, проверишь качество работы. Небось еще не успели засыпать…
Василий придвинулся к Алексею, положил руку на его плечо и, по-ребячески просительно заглядывая в его глаза, воскликнул:
— А скоро вернемся, Алеша, а? Как по-твоему?
— Тебе сверху видней…
— Ну, вверху-то мы сейчас хозяева… Крылышки правильные… Над Берлином я еще, понятно, не был, а до Одера долетал… Теперь не то, что на Дону, да и под Орлом еще прижимали нас… Два раза пришлось с парашютом выбрасываться… Счастье, что к своим… Так что сверху можно и ошибиться… Я тебя про общее наше положение спрашиваю…
— Скоро, раз мы здесь с тобой встретились…
— Да, встретились, ведь я два года, как и ты, ничего о своих не знал. Да хоть и сейчас… Светланку я так еще не видел…
Василий, не договорив, вскочил: в дальнем углу поля взлетела и плавно стала опадать малиновая ракета.
— Ты смотри мне, Алешка, не вздумай уйти, — выкрикнул Василий на бегу. — Жди тут… Я быстро…
Он пообещал это так, будто его вызывали в штаб или к телефону, а не на старт. Вцепился в край борта, подтянулся, прыгнул на сиденье. Торопливо надел шлемофон и погрозил Алексею кулаком: не подведи, мол, жди!..
Высоко в небе, направляясь в сторону Вислы, шли наши бомбардировщики. Поднявшиеся с аэродрома истребители прикрытия то появлялись, то исчезали в просветах меж облаками, то вываливались оттуда, оберегающе пристраивались справа и слева от бомбардировщиков — верткие, юркие, в прихотливых виражах подставляющие солнцу плоскости крыльев. В металлический низкий гул отяжеленных бомбовым грузом пикировщиков теперь вплелось дружелюбное удовлетворенное урчание. Алексей, вначале было следивший за самолетом Василия, уже не мог отличить его от других. В первые четверть часа он со всей внушенной ему братом уверенностью в скором его возвращении не допускал и в мыслях ничего, что могло затенить, омрачить этот день. Судьба не может, не должна быть настолько слепой, чтобы нанести сегодня какой-либо жестокий удар! Завтра, послезавтра может случиться все что угодно и с ним, и с Василием, но только не сегодня… Сегодня они встретятся. Однако в следующие четверть часа Алексей с нарастающей тревогой уже не отрывал глаз от горизонта и до режущей боли в них всматривался, ожидая, что вот-вот зарябят в небе черные крапинки. Напрасно. Встревожился еще больше, когда из-за домика штаба выехала и помчалась к шоссе крытая зеленая машина с красным крестом на борту. Но в это время издалека донесся и стал шириться в поднебесье знакомый и желанный гул. Самолеты возвращались совсем не с той стороны, откуда их ждал Алексей, не с Варшавы, а откуда-то с юга, видимо уже в воздухе изменив и уточнив объекты бомбежки.
Облегченные бомбардировщики качнули над аэродромом крыльями и полетели дальше, домой. Один за другим стали заходить на посадку истребители. Все или не все? Одна из машин, сверкая лопастями бешено вращавшегося пропеллера, приблизилась к Алексею, развернулась. За стеклом колпака — Василий…
— Дождался? — проговорил он, шаткой походкой подходя к Алексею и отирая рукавом лицо.
Василий не хотел, чтобы брат заметил его изнеможение, но выдавали покрасневшие от чрезмерного напряжения глаза, пятна на лице и губы — прикушенные, наверное, в секунды навалившейся на тело перегрузки. Он заставил себя улыбнуться:
— Огрызаются, сволочи! Ведомого чуть не потерял, тезку своего. Подбили. Но молодец, все-таки дотянул до своих… сел около Рембертува…
— Так вы что, на Варшаву летали?
— Нет, там сейчас нам делать нечего, одни камни… Чем могли, старались помочь… Ну да сам знаешь, что с Варшавой произошло… Сейчас бомбили западней… Эх, Алешка, вот теперь только и выпить нам… Дай чуток отдышусь… Ты, я думаю, не спешишь? Сам себе хозяин?
— Ну, положим, хозяев надо мной полно, — сказал Алексей, посмотрев на часы. — Да по такой причине и прогул позволителен.
Они расположились у одного из стожков, стоявших за чертой аэродрома. Авиационный замполит верно сказал, что летчики не нищие. Василий принес из землянки флягу спирта, шпиг, несколько луковиц, консервы; ни к чему была плитка шоколада, но он положил на разостланную под стожком плащ-палатку и ее как свидетельство житейского благополучия и изобилия.
— А что у тебя получилось с Зиной, Алешка? Я ведь так и не знаю… — спросил Василий, после того как они уже выпили и показалось, что можно коснуться этой щекотливой темы.
Алексей насупился:
— Ох, не хочется о ней и говорить…
— А ведь она была как будто неглупая… Голова неплохо работала.
— Что с того, коль не в ту сторону, — обронил Алексей и взмолился: — Давай, Вася, о другом.
— О другом или о другой?
— Да уж монахом оставаться не собираюсь…
Алексей рассказал брату о Вале.
— Что ж, думаю, что это настоящее… — заключил, выслушав, Василий. — Эх, и закатим свадьбу!.. Зашумит наша Первомайская… Кстати, Алеша, я так и не понял, почему батько оказался в другой хате, чем ему наша не понравилась?..
— Сейчас вернулся, а тогда выжили его оттуда, попросту выгнали…
— Кто посмел? При немцах, что ли?
— Нашлась сволочь из своих… Серебрянский, сосед… Ты его должен помнить…
— Федька?
— Да, полицаем служил, потом к власовцам ушел…
— Ну не жить ему на белом свете… такому гаду… На свой народ замахнуться!..
Лицо Василия потемнело, меж бровями взбугрились и сдвинулись жесткие складки. А перед глазами Алексея встала жаркая, перекопанная траншеями степь под Орлом, курган, Серебрянский… Вдвойне ненавистная на его плечах серо-зеленая куртка… Судорожно дергающееся плечо… Рассказать Василию или не рассказать? Сдержался. Человеческое сердце порой выносит такой приговор, при котором бледнеют, оказываются лишними слова…
Всего было вдоволь в этой встрече братьев. И радости, и горечи, и тоскливых дум… что вот они расстаются, а когда снова увидятся, да и увидятся ли?
Василий провожал Алексея до шоссе. В сторону Минск-Мазовецка к пылающему над его костелами заходившему солнцу прошли амфибии. За ними потянулись платформы со взваленными на них понтонами. Подходила к Висле какая-то инженерно-техническая бригада. Голосовать бесполезно. Надо подождать какой-либо одиночной полуторки. Та всегда подхватит.
Алексей раскрыл планшет с картой, стал показывать, как разыскать его часть.
— Вот смотри, лесом, лесом прямо на Яблонно-Легионово… Не доезжая, увидишь указку — хозяйство Фещука.
— Понятно. Дорога знакомая. Там у нас неподалеку запасной аэродром.
Хлопая на ветру брезентом, который прикрывал какую-то поклажу, ехала полуторка. Место рядом с водителем свободно. Алексей поднял руку.
8
Но батальон Фещука недолго стоял в Яблонно-Легионово. После того как дивизия была выведена в резерв командующего сорок седьмой армией, надолго переместились в тыл. Правда, и здесь, в десятке километров от переднего края, не забывалось, что он не так уж отдален. Немцы догадывались о сосредоточении и передвижении войск перед их предмостными укреплениями и изо дня в день вели по ним редкий, однако изрядно беспокоивший и чувствительный огонь. На маленькие городки междуречья — Радзымин, Воломин, Зеленка, Непорент, стоявшие у перекрестков железных и шоссейных дорог, внезапно словно низвергались с неба многотонные болванки, снаряды рвались с громовой, оглушающей силой. Что это — крепостные орудия, завислянских фронтов? Или, возможно, немцы подвезли на платформе какую-то сверхдальнобойную пушку? Говорили и то и другое. Высказывалось даже предположение, что гитлеровцы применили «Фау», вроде тех, что обстреливали Лондон.
Под такой внезапный огневой налет попал ночью медсанбат дивизии. Разрывом первого снаряда тяжело ранило врача и двух санитаров. Когда их положили на операционные столы, палатку накрыл второй снаряд. Погибли и хирург, и те, кто вначале был только ранен. Все это произошло в Черных Стругах, там же, где стоял батальон. Метц попросил Фещука выделить взвод красноармейцев, чтобы отдать погибшим воинские почести. Прибыл и дивизионный оркестр. В первый раз за годы войны Алексей видел во всей полноте торжественно-скорбный ритуал, каким полагается окружить смерть близких. А ведь сколько их похоронено на его глазах за эти годы?! Не хватило бы и оркестров, чтобы проводить всех в последний путь. Но в наступлении не задерживаются у могил…
Когда Алексей узнал о трагедии в медсанбате, он невольно подумал о Султановой… Неужели и она? Но Метц назвал фамилии, ему незнакомые. Оба врача — муж и жена — присланы уже после форсирования Западного Буга из армейской роты усиления. А на похоронах он увидел Султанову, шагавшую за одним из гробов с красной подушечкой, на которой лежал орден. Та же командирская осанка, только лицо постарело… Процессия растянулась едва ли не на все Черные Струги. Замыкали ее польки. Наверное, они, слушая похоронный марш Шопена, думали о своем горе, о своих утратах.
За время нахождения дивизии в резерве и неоднократных передислокаций Алексей еще пристальнее всмотрелся в живое лицо и душу народа, на землю которого довелось прийти с оружием в руках. Разные судьбы, разные заботы, разные пути. Пан Виктор, бухгалтер варшавского банка, на даче которого они одно время жили, с наступлением сумерек вынимал из оконных проемов рамы и на ночь уносил их в подвал, где спал с семьей.
— И вы, пан Виктор, всю войну так?
— О, пан капитан, во всей Европе уж давно нет ни одного стекла… Сквозняки от Варшавы до Парижа… Когда возвратятся жолнеры и начнутся свадьбы, эти рамы станут для моих невест лучшим приданым.
У хозяина были две дочки на выданье — Стефа и Виктория. Весь день они рукодельничали. Вышивали занавески, искусно мастерили и раскрашивали тряпичных кукол, изготовляли из каких-то отходов затейливые альбомы, шкатулки. Два раза в неделю пан Виктор отвозил эти изделия на рынки Минск-Мазовецка или Седлеца. Возвращался, щелкал конторскими счетами. Здесь все было понятно. Торгующая, кланяющаяся каждому лишнему злотому Польша.
А в Воломине штаб батальона разместился в окраинном домике пожилой работницы чулочной фабрики, которая только что проводила в дивизию Яна Домбровского двух сыновей и осталась с дочкой — хохотушкой Мартой, девушкой почти избыточного здоровья. Марта стала донором разместившейся здесь, в Воломине, армейской станции переливания крови. Узнав об этом, Фещук, Алексей, Трилисский отдавали Марте весь свой офицерский доппаек, подкармливали ее из батальонного котла.
— Берите, Марта, берите, ешьте на здоровье. Вы наша сберегательная касса, — приговаривал, передавая продукты, Алексей. — Как это по-польски? Ощадна? Ну и по-украински так… Мы вносим в вас свой вклад, и вы его хранительница до первого требования вкладчика…
— Езус-Мария, — с непритворной тревогой всплескивала руками Марта. — Се кров, кров… Пусть бы пану капитану не пришлось требовать назад такого вклада до самого Берлина… Никогда.
— Всякое может случиться. Тогда после Берлина придем за процентами, — шутил Фещук.
— О, проценты? Проценты могем отдать и зараз…
Марта, не стесняясь матери, а вернее, именно потому, что мать была здесь же, подскакивала к офицерам, поочередно целовала их. Доппаек она перемалывала своими крепкими, завидного белого налива зубами с таким усердием и сосредоточенностью, будто и в самом деле выполняла служебную обязанность. С донорского пункта возвращалась такая же неунывающая, смеющаяся, краснощекая. В ней Алексей словно видел молодую Польшу — яснолицую, добросердечную, приветливую.
Новый год еще встречали в Воломине, а на следующую ночь батальон погрузился в машины и выехал на знакомую дорогу — к Яблонной. Здесь вскоре и услышали весть о начавшихся наступательных боях, что повели наши войска с сандомирского, а затем с магнушевского и пулавского плацдармов. К этому времени на исходный рубеж для прорыва Привислянского укрепрайона выдвинулась и их дивизия. Окопы, в которых обосновался батальон Фещука, какое-то подразделение вырыло еще с осени в песчаном, сыпучем грунте. Они почти развалились, и хотя второй день шел снег, приводить их в порядок не хотелось: с часу на час ждали начала наступления. Боевые листки во взводах подводили итоги той подготовки к нему, что велась все эти недели.
И как раньше, на оставленных позади рубежах — под Новосилем, у Трубчевска, Западного Буга, — вновь созвали партийные собрания, партийное бюро.
Золотарев, назначенный после гибели Замостина парторгом батальона, словно восстанавливая никем не писанный, но свято завещанный ему обычай, так же расстелил на патронном ящике лоскут кумача. Это была не та, давняя замостинская скатерка, она осталась в Орле, на крыше пристанционного здания, а эту Золотарев раздобыл у знакомых девчат-регулировщиц, чьи указывающие флажки проводили их к этому рубежу…
Принимали в партию сержанта Костина, долговязого темно-русого парня с всегда рассеянно-беспечными, скучающими глазами. Одним из поручителей был Алексей. Помнится, под Жлобином, когда Костин с пополнением прибыл в батальон, именно эти, казалось не способные на чем-либо серьезно сосредоточиться, глаза вызвали у Осташко некоторые сомнения в парне.
— Куда же тебя направить? — раздумывая, спросил он у новичка.
— А я куда хошь могу, — довольно-таки равнодушно отозвался Костин.
— Ишь ты, — удивился Алексей, — так, может, тебя сразу первым номером к станковому пулемету?
— Хошь, могу и первым, — не моргнув глазом, согласился Костин.
— Смотри, лихой какой! Кстати, если ты такой уж ученый, то должен бы помнить, что у меня есть звание… Обращайся как положено! Ну а если тебя к сорокапятке наводчиком?
— Могу и к сорокапятке, товарищ капитан.
— И с минометом управишься?
— А что ж мудреного?
— Да где ж ты таким универсалом стал? Уж не высшее ли войсковое окончил? — подумав, что Костин просто бахвалится, шутит, спросил Алексей.
— Не пришлось в училище, — впервые за весь разговор смутился новичок, — у меня так, домашнее… В Брянских лесах…
И хотя кое-чему пришлось на ходу переучиваться партизану, воевал он мужественно, сметливо. Первую награду — медаль «За отвагу» — приколол на его гимнастерку Каретников после форсирования Западного Буга, вторую — орден Славы — получил за Прагу.
Проголосовали принять.
«Ах ты — чего хошь!..» Осташко и Костин встретились взглядами, и Алексею подумалось, что сержант тоже вспомнил об их первой беседе: он с напускной строгостью сдвинул брови, а глаза плутовски заискрились… Доволен, горд. Если доживет до той большой победы, то наверняка не раз где-то на своей Брянщине встанут перед глазами припорошенные снегом окопы, фронтовой блиндаж, где стал коммунистом.
А в дверях теснились и словно заглядывали в свой завтрашний день прибывшие месяц назад с маршевой ротой новички. Почти все из Молдавии. Для них здесь все новое… Хоть и вдоволь насмотрелись там, у себя в Тирасполе, в Кишиневе на серо-зеленые шинели и мундиры, вдоволь наслушались злобных окриков — «Хальт!», «Цурюк», «Вэк», «Верботтен», — а бить гитлеровцев доведется уже тут, на польской земле, под Варшавой…
Когда в этот вечер в батальон принесли обращение Военного совета, Алексей, раздав его командирам и парторгам рот, направился к Пономареву, у которого во всех трех взводах половину бойцов составляло недавнее пополнение.
Красноармейцы присели на корточках в окопах, зажав меж коленями автоматы и винтовки. Низко нависло над всем междуречьем январское небо — темно-серое, сеющее снег, как два года назад на Ловати… Ровно два года назад, когда надо было подниматься в первую атаку на высоту у Старого Подгурья… Сколько жизней прожито самим Алексеем за это время!
Он читал обращение:
— «Боевые друзья! Настал великий час! Пришло время нанести врагу последний сокрушительный удар… Славные и отважные воины нашего фронта! Для того чтобы успешно решить эту задачу, каждый из вас должен проявить на поле боя мужество, смелость, решительность, отвагу, героизм… Мы сильнее врага. Наши пушки, самолеты и танки лучше немецких, у нас их больше, чем у врага. Эту первоклассную технику дал нам наш народ, который своим героическим трудом обеспечивает наши победы.
Мы сильнее врага, так как бьемся за правое дело против рабства и угнетения. Нас воспитывает, организует и вдохновляет на подвиги наша партия. Наша цель ясна. Дни гитлеровской Германии сочтены. Ключи победы в наших руках.
В последний и решительный бой, славные богатыри! Ратными подвигами возвеличим славу наших боевых знамен, славу Красной Армии! Смерть немецким захватчикам! Да здравствует победа!»
9
На неохватываемой взором плоской равнине замерзшей Вислы зачернела многорядная, широко и неровно растянутая лавина красноармейцев. Для того, кто ступил на лед реки, мгновенно становилась запретной, гибельной даже сама мысль о какой-либо заминке, полуминутной остановке, передышке. Не выручат ни саперная лопата, ни какие-либо неровности, впадины, воронки, бугорки. Нет их. Залечь на льду — смерть. Все шестьсот метров только вперед, только на тот берег. Он и опасный, и спасительный…
Что на этом пути успел увидеть Алексей и потом, не в эти минуты, а позже, смог воскресить в своей памяти? Несколько раз с треском раскрывался и захлопывался веер бледно-зеленых брызг понизу, почти у самых ног. Высокие, пенящиеся столбы воды поднимались по сторонам, и один из них взмыл на том месте, где только что пробегал связист со своей катушкой… Когда столб опал, на льду чернела саженная прорубь, в которую свисал, натягиваясь тяжестью тела, трофейный оранжевый провод — все, что осталось от бежавшего красноармейца. И еще он видел — но это уже вдали — затмившие горизонт кустистые разрывы, огневой вал, перенесенный с правого берега на левый, после того как в многочасовом бою сбили немцев с плацдарма, отбросили на ту сторону. И туда сейчас бежал он, бежали справа от него Солодовников и примеченный накануне, у входа в землянку, горбоносый с ощеренным в крике ртом молдаванин… На ходу он подхватил доску-боковину из разбитой немецкой фуры. Алексей вначале не понял, зачем ему эта доска нужна. Но тут зачернела промоина. Осклизлые обкрошившиеся края. Упора для ног нет, перескочить ее невозможно. Молдаванин просунул доску на ту сторону промоины, перебежал через нее, вслед за ним — Алексей и Солодовников.
А позади — то, чего не видели наступающие цепи: съезжали на лед санитарные двуколки, волокуши и полуторки с распахнутыми на всякий случай дверцами кабин, пробовали крепость и устойчивость льда гусеницы орудийных тягачей и самоходок, спускались и след в след шли стрелки второго эшелона… К проруби, у которой продолжал натягиваться оранжевый провод уносимого подледным течением связиста, подбежал его товарищ, обрезал кусачками нитку, быстро подсоединил к своей и пустился нагонять роту…
Алексей, подскочив к берегу, пробовал вцепиться за каменный выступ, подтянуться наверх, к обрыву, однако только искровянил пальцы, они соскальзывали с обледенелого и облизанного волнами камня. Попробовал взобраться по оставшейся от причала какой-то железной балке — и тоже не удалось. Заметил шагах в двадцати от себя расщелину, кинулся к ней. Там лежал на спине Маковка — руки прижаты к вздымающейся груди.
— Ранен?
— Нет, отдышаться не могу.
У Алексея и у самого сердце, казалось, набухло, распирало, колотилось учащенно, в ушах шумело. В найденное укрытие с ходу втиснулось еще четверо — Янчонок, Рябцев и два незнакомых красноармейца. Как бывает часто при прорыве, уплотненные боевые порядки рот и батальонов смешались. Неподалеку от расщелины, оставаясь невидимым, бил крупнокалиберный пулемет. Алексей пополз вверх по сужавшейся в желобе промоине, но его опередил Рябцев.
— Постойте, товарищ капитан, я разведаю.
— Возьми гранаты.
— У меня есть.
Рябцев, подтягиваясь на руках, вьюном поднялся вверх, свернул куда-то в сторону. Были видны только подошвы его ног с поблескивающими, отшлифованными на льду подковками. Вскоре вернулся:
— Бронеколпак у них там… метров семьдесят… И поле чистое, не подобраться.
Алексей послал Янчонка доложить Фещуку обстановку. К этому времени в расщелину втиснулась вместе с командиром отделения еще группа красноармейцев.
— А где ваш взводный?
— За причалом. Пошли вперед.
— А вы чего ж сюда?
— Так и здесь же надо…
Откуда-то сбоку, пригибаясь, влезли в расщелину Фещук и связист.
— Что сбились, как тараканы? Ждете контратаки? А задачу выполнять теща будет?
Эта узкая, обледенелая щель уже была для Фещука его НП, и он словно видел или хотел видеть перед собой свои развертывающиеся в новом штурмовом рывке роты. Но, выслушав Осташко, ни слова не сказал, торопливо взял у связиста трубку:
— Пятый, Пятый… прошу огня… Нет, не подавили… Что? Ориентир железная балка… Чуть глубже бронеколпак… Да что они, сами не видят? Сбейте его, дьявола… Левей мои продвигаются.
А на середину реки еще раньше выкатилась и вступила в поединок пушчонка, казавшаяся отсюда совсем беззащитной. Рядом с ней недвижно распластались два тела. Третий из расчета, невидимый за щитом, стрелял. Помогая ему, после напоминания Фещука рявкнули на том берегу орудия крупного калибра… Снаряды перелетели через головы сидевших, разорвались, за воротники шинелей посыпались земля и снег.
— Разворотили, дымится, — выкрикнул сверху наблюдавший за бронеколпаком Янчонок и скрылся за кромкой нависавшего берега. Он, а за ним еще кто-то из соседей, так же выжидавший этой минуты, оборвали наступившее безмолвие криками «ура».
И этот крик, разноголосо ширясь, покатился вдоль всего берега.
К вечеру полк Каретникова и его соседи расширили плацдарм и закрепились на западном берегу Вислы. Хотелось, да и чувствовалось, что можно продвигаться и дальше, глубже, если бы не короткий зимний день и не густые минные поля. Уже подорвались двое красноармейцев из недавнего пополнения, из роты Литвинова. Очевидно, с этой же преградой встретились и другие батальоны. Каретников сам позвонил Фещуку, приказал закрепиться на том рубеже, к которому вышли, и накормить людей.
— Саперов бы сюда на ночь, товарищ Первый, — попросил Фещук. — Здесь им работы — как осенью на свекле… Есть встретить!
Алексей, стоявший рядом с комбатом, слышал распорядительный баритон Каретникова, слышал и то, как мембрана, прицокнув, донесла его похвалу:
— Молодцы!
В штабе батальона понимали, что вряд ли кто-либо мог потребовать от них большего, чем сделано на сегодня. Успешный бой в междуречье… Форсирование Вислы… Захваченный плацдарм для броска на Варшаву… Вот только потери… вместе с неизбежными и напрасные. О минных полях следовало догадаться и предупредить всех раньше.
Алексей пошел разыскивать хозвзвод. Батальонная кухня дымила неподалеку от расщелины, и Чапля, услышав оттуда голос замполита, поспешил навстречу.
— Товарищ капитан, обед и заодно ужин для личного состава готовы — пшенный суп на сале, макароны с тушенкой.
— А как будете доставлять?
— Термосами.
— Термосами? Люди с ног валятся, а мы им еще термосы на плечи? Как это вы еще отважились через Вислу перебраться?
— Так ведь искрим, товарищ капитан. Боязно не за себя — за кухни. Ехать-то до Германии еще далеко.
— Ехать вам еще ровно столько, сколько им, солдатам, идти. Запомните это, Чапля, и не топчитесь в затишье. Давайте на плацдарм. В полосе второго батальона пологий въезд. И не махлюйте с водкой. Выдайте ротам по старым спискам.
— Слушаюсь, товарищ капитан, — с натянутой бодростью выкрикнул старшина, однако не повернулся, не ушел, переступил с ноги на ногу и голосом змея-искусителя добавил: — Может быть, пробу снимете?
— Там и сниму… Выполняйте, что приказано… И чтобы ни единой искорки. Еловыми ветками запаслись или заново вас учить?..
…Глубокие свежие воронки даже зимой долго хранят жар разрывов. Многие красноармейцы в них подремали, кто-то все-таки разыскал под вздыбленными огневым валом накатами блиндажей утлое подобие жилого угла… Пришли в свою неизменную ночную смену саперы и разведчики, поползли на передний край…
Собравшись в полуразрушенном бункере, Фещук, Трилисский и Осташко изучали новую карту Варшавы и ее северного пригорода. Параллельно Висле дорога тянулась по окраинам Маримонта, пробегала мимо крепостной цитадели и фортов Жолибужа, врезалась и разветвлялась в густом скоплении кварталов Старого Мяста. Размышляли над тем, где возможны самые опасные узлы сопротивления и как удобнее их обойти, где могут встретиться последующие рубежи фашистской обороны. Готовились к худшему. Ни в батальоне, ни в полку пока не знали, что самая значительная часть их забот и тревог уже, в сущности, снята в эту ночь; что на большой карте Генштаба клины январского наступления уже достигли района Сохачева и Жирардува, прямо к западу от Варшавы, а над всей варшавской группировкой нависла ничем не отвратимая реальная, подавляющая всякую волю к отпору угроза полного окружения. Немцы спешно начали выводить войска из этого гигантского, грозившего с часу на час затянуться привислянского мешка… Весть об этом пришла в батальон после полуночи.
— Товарищ майор, гитлеровцы пятки показали…
Торопливо спустившегося в бункер разведчика, казалось, поддерживала на ногах лишь эта принесенная им радостная новость, и, как только ее сообщил, пошатнулся, обмяк, прислонился спиной к стояку у входа.
— Откуда это взял? Что видел? — Фещук, ожидая подробностей, смотрел на измаранное грязью, изнуренное двумя бессонными ночами лицо разведчика.
— Точно… Пролезли и в первые траншеи, и во вторые… Всюду пусто… И шум на шоссе… Правда, туда не удалось пройти, на пулемет нарвались… Наверное, заслон… Доложите в полк…
Фещук вызвал по телефону Каретникова, но тот уже располагал такими же сведениями, поступившими из других батальонов. Приказал поднимать людей, двигаться вперед.
Над поймой сквозь белесый туман несмело пробивался рассвет. С юга, со стороны Варшавы, доносились сильные взрывы. Они подтверждали донесения разведчиков. Как и всегда перед отходом, немцы рвут станционные здания, заводские корпуса, склады, казармы — все, что еще сохранилось и могло быть уничтоженным. Взрывы раздавались и западнее, в глубине прибрежного вражеского укрепрайона. Их отличала несхожесть с теми первыми — так дрожит под ногами почва только при глубокой подземной закладке тротила. Подняли в воздух форты? Но когда мелкие штурмовые группы стали приближаться к залегавшим за шоссе траншеям, блеклую предутреннюю мглу разорвали красно-желтые вспышки пулеметов. Их подавили выведенные на прямую наводку орудия. Наступающие продвинулись дальше, и пришлось снова остановиться — с яростным придыханием отозвались шестиствольные минометы. Нащупали, подавили и их. Красноармейцы стали перебегать во вторую траншею.
Уже недалеко было шоссе с черневшими на нем искореженными автомашинами, кухнями, опрокинутыми фурами, брошенными пушками. По бокам шоссе в аккуратно нарезанных и обозначенных такими же аккуратными табличками «Achtung, minen»[5] квадратах, за разделявшей их колючей проволокой круглые, ядовито-желтой окраски, коробки мин походили на тысячеголовое лежбище притаившихся за вольерами злобных и отвратных гадов.
Дивизия развертывалась фронтом на юго-запад, теснила арьергардные части гитлеровцев, сбивала их подвижные отряды, с ходу овладевала наспех оборудованными промежуточными рубежами.
По сторонам шоссе все выше поднимались нагромождения развалин — нескончаемые отвалы, железокаменный хаос обрушенных стен, крыш, изломанной арматуры, смятых в фантастическом переплетении водопроводных труб, рельс, решеток…
Алексею никак не верилось, что это уже началась Варшава. Впереди, за руинами домов, вновь, как и осенью, встали черные столбы, но теперь они курились вразброд, отдаленными друг от друга очагами… Падающий снег притрушивал черные камни, быстро стаивал, и еще резче и мрачней проступали черные провалы в стенах, копоть оголенных лестничных клеток… И вдруг среди всего этого сумеречно однотонного пепла огромного города, подобно красному ошеломляющему сигналу, блеснула на шоссе яркая охра трамвайных вагонов. Опрокинутых, с выбитыми стеклами, но в остальном сохранившихся. Ясеневые желтые скамьи и таблички над дверями «Nur für Deutsche»[6], откинутые, как сломанные протезы, дуги. Эти ярко окрашенные вагоны подтвердили, что это Варшава…
Схватки с выставленными вражескими заслонами возникали все реже и становились все скоротечнее. Гитлеровцы торопились вырваться из каменного котла, которым грозила стать для них разрушенная столица. Бои, что вела левее вторая пехотная дивизия первой польской армии, втягивались в центр города. После полдня на его улицы и площади опустилось безмолвие.
Батальон Фещука теперь шел вместе с артиллерийскими частями, самоходками, танками — все они торопились на запад, преследуя отступившего врага.
Театральная площадь освещалась пожаром. Недалеко от нее горело здание какого-то банка. Под ногами красноармейцев словно шелестела осенняя листва.
— Товарищ капитан, а ведь это деньги. — Трилисский поднял с земли и протянул Алексею какие-то бумажки: — Не успели вывезти?
Алексей посмотрел на новенькие, без единого изгиба ассигнации.
— Краковские злотые… Помните, что говорил пан Виктор? Немцы их выпускали миллиардами…
Красноармейцы шли по этой шуршавшей желтой пороше равнодушно, устало. Карта показывала, что где-то здесь, неподалеку от банка, должна была находиться городская ратуша… Сердце Варшавы. Но по сторонам площади, на которую вышел батальон, тянулись все такие же полуобваленные стены. У одной из них, наиболее сохранившейся, чей-то голос подзывал проходивших:
— Про́шу сюда, панове!.. Про́шу сюда!..
Пламя, вырывавшееся из окон соседнего здания, осветило высокую глухую стену и темневшую у ее подножия сутулую худощавую фигуру.
— Про́шу сюда… к ратуше.
Был этот зов таким настойчиво-страстным, что Алексей остановил красноармейцев и вместе с ними подошел к развалинам. У стены, оказавшейся частью сожженной городской ратуши, стоял с обнаженной головой и разметанными ветром сединами старик и показывал рукой на какие-то примерзшие к камням, на уровне человеческого роста, серые комки. Они походили на прилепившиеся ласточкины гнезда, но каменную кладку вокруг них оспенно выщербили пули, и Алексей, содрогнувшись, уже догадывался, к какой страшной стене подзывал всех проходивших этот старик.
А его исступленный крик не стихал, разносился на всю багровевшую пожаром площадь:
— Никто не должен пройти мимо… Про́шу сюда… Про́шу смотреть. Это мозг моего сына… Мозг его товарищей… Юнацтва польского… Здесь их катовали гитлеровцы… Помста! Помста, червони браты!
Красноармейцы отошли от ратуши, позади слышался мерный шаг новых, вступивших на площадь колонн, но по-прежнему не утихало гневное:
— Про́шу сюда, панове… Про́шу смотреть… Помста! Помста!..
10
Все дни весны Валя жила в беспрестанном ожидании встречи с городом, которому отныне предстояло стать близким, родным. С бригадой «Гипрогора» она приехала в Донбасс в середине апреля, но отлучиться из Сталино, где работала, не могла — не было не то что выходного, а ни одного свободного часа. Письма, которые получала в эти дни от Алексея, были наполнены таким же нетерпением… Последнее он написал ей из Гросс-Барнима, это уже по ту сторону Одера. Был вычерчен весь нехитрый маршрут от вокзала к дому на Первомайской, вписаны наименования улиц и переулков… Конечно, никакой надобности в таком подробном плане не было, но она живо представила себе, с каким удовольствием и счастливым предвкушением он его набрасывал. Оттуда, издалека, из вражеской, чужой страны, он уже всматривался, узнавал, приветствовал и землю, где вырос, и ее, ступающую по этой земле.
В рабочем поезде, куда она села, только и разговоров, что о последних сводках Совинформбюро. Тех, кто на остановках входил в вагон, встречали вопрошающими взглядами, будто за тридцать минут перегона, от станции к станции, могло произойти самое желанное, самое долгожданное и им уже стало известно об этом.
Но все пока знали одно. То, о чем утром оповестили черные раструбы репродукторов перед заводскими воротами, в общежитиях и домах для приезжих, в шахтерских квартирах. Уличные бои в Берлине… Окружение и ликвидация крупной группы немецко-фашистских войск… Успешное наступление в Чехословакии…
Поезд приближался к Нагоровке, и Валя вышла в тамбур. Показались разбросанные окраинные строения — склады, мастерские, электроподстанция, вокруг них — обваленные, лежащие плашмя, бетонные заборы, глубокие котлованы, залитые водой и грязью. А вот и сам город… Весна, насколько могла, скрашивала въевшиеся в него следы тягостного военного разора — рассекла кварталы зеленой стрелой проспекта, прикрыла сиренью окна с вставленной в них фанерой. Но с черными, обугленными стенами какого-то здания, стоявшего недалеко от железнодорожной насыпи, ничего не в силах была поделать и она… До изломанных ржавых стропил, поднимавшихся над городом, не дотянуться даже цепкой повилике. И так же ничем не скрашенным остался исцарапанный осколками приземистый мрачный вокзал, главный вход которого до сих пор был замурован кирпичом с темневшей в нем бойницей. Но как бы преобразилось все это для нее, если бы сейчас на перроне встречал ее Алексей!.. Но, когда отошел поезд и немногие покинувшие его пассажиры исчезли за скученными на подъездных путях платформами и цистернами, она осталась одна…
Валя разыскивала Первомайскую и по пути мечтательно мысленно украшала город. Пересекая пустырь, поставила на нем трехэтажное здание школы. На хрустевших золой дорожках проложила тротуары. Посередине большой базарной площади, где у опустевших рундуков куры подбирали просыпанное зерно, со столичной лихостью и размахом возвела крытый рынок… Но и она, обладая небольшим опытом архитектора, остановилась в растерянном раздумье, когда подошла к высоким обугленным стенам, примеченным еще из окна вагона.
— Что это за здание было? — спросила Валя у пробегавшей мимо школьницы.
— Говорят, какой-то Дворец…
Улица, что начиналась от бокового подъезда Дворца, вывела Валю почти на окраину города, и тут вправо за площадью ответвлялся в степь тот реденький порядок особняков, который, по словам Алексея, когда-то замышлялся как начало новой Нагоровки… Вот и угловой дом…
Во дворе, огороженном прикрепленной к кольям проволокой, белела майка размеренно вскапывающего грядки человека. При невысоком его росте стариковская сутуловатость была мало заметна — Алексей говорил, что свой рост перенял у матери, — в коротко подстриженных волосах мало заметна седина… Он! Отец!
Валя подошла к изгороди:
— Здравствуйте…
— Добрый день, дочка!
Валя сызмальства считала, что у людей вот с таким ежиком привередливые, жесткие характеры, но серо-голубые глаза, что глядели на нее сейчас, искрились доброжелательством, и морщины сбегались к ним в знакомом радушном прищуре…
— Игнат Кузьмич?
— Да…
— А я Валя…
Что скажет ему это имя? Она не добавила больше ничего. И по тому, как он сразу заволновался — переложил в другую руку черенок лопаты, достал носовой платок, — убедилась, что ее ждут здесь давно.
— Алеша писал: «Встречайте гостью…» Верно, значит. Хоть и не сам явился, а порадовал на праздник.
Он снял с изгороди бязевую куртку и, на ходу натягивая ее, повел Валю в дом.
— Вы разве теперь один, Игнат Кузьмич? — спросила она, пройдя кухню, комнату, где стояли кровать, обеденный стол, комод, и очутившись в другой. Здесь — черный дерматиновый диван, письменный стол, пустая этажерка. Догадалась: комната Алексея.
— Танюшка со мной, на работе сейчас.
— А внучка?
— Алеха про все расписал? У бабки внучка, в Моспино.
— Что ж, перво-наперво надо тебя накормить, — решил Игнат Кузьмич. — Сейчас сообразим, вот только скажи: когда от Алексея письмо получила?
— Позавчера. А вы?
— Позавчера, говоришь? — Осташко медленно прикидывал расстояния и маршруты. — Это откуда ж в таком случае?
— По-моему, посылал, когда находился уже недалеко от Берлина… Даже пошутил — осталось тридцать километров войны…
— А мне прислал еще с Одера. Похвалился, майором стал. Василий — тот и вовсе молчун. Я, правда, им тоже раз в месяц. Да ведь, сама понимаешь, главная забота не обо мне.
Оставшись одна, Валя рассматривала фотографии на стене — небогатую, прерывающуюся большими интервалами хронологию семьи, в которую она теперь входила. Команда бронепоезда «Смерть Деникину», но среди красноармейцев, расположившихся на ступеньках броневагона, из-за давности снимка уже трудно было различить Осташко-отца… Выпуск нагоровского горпромуча… Алексей, как самый высокий, в третьем, последнем, ряду, сразу узнала его, большелобого, с вытянутой шеей… И еще один выпуск — Высшая школа профдвижения… Он почти не изменился, те же широко раскрытые, изумленные глаза. А вот и поздний, пожалуй наиболее удачный, снимок. Он в вышитой украинской рубахе, с бритой головой, и оттого лоб кажется еще выше… Но этот снимок был примечателен еще одним: изображение располагалось не в центре, а сдвинуто вправо, к рамке, и Валя догадалась, что кто-то, стоявший рядом, был отрезан… Стоявший? Стоявшая? Ну да, наверное, она, та, первая… Но Валя не почувствовала никакой ревности, доверилась этому решительному, отсекающему взмаху ножниц… Отрезана навсегда…
Однако что же она ротозействует? Посторонняя здесь? Случайно нагрянувшая гостья? Поспешила на кухню и, увидев, что Игнат Кузьмич собрался чистить картошку, смущенная своим опозданием, спохватилась, не позволила ему взяться за нож…
Разрумянившаяся, похорошевшая Валя совсем по-свойски распоряжалась за обеденным столом, Игнат Кузьмич, тронутый ее обходительным вниманием и умелостью, не выдержал, спросил:
— Так вы с Алексеем какие планы составили? Где думаете обосноваться? В Нагоровке или другие места на примете?
Прямота вопроса взывала к такой же прямоте ответа, и Вале вспомнилась Вологда, где они впервые робко пытались вообразить себе свою совместную послевоенную судьбу, вспомнились письма, десятки полученных и написанных писем с их надеждами и обещаниями.
— А разве не примете нас, Игнат Кузьмич, не потеснитесь? — улыбнулась она.
Ему сразу стало легче.
— А что мне тесниться? Василий — тот в кадрах небось и останется. Снова будет и Танюшку, и внучку по военным городкам таскать. А здесь — все ваше…
Игнат Кузьмич встал, подошел к репродуктору, повернул регулятор громкости.
Диктор читал оперативную сводку Совинформбюро, перечислял занятые города, захваченные самолеты и орудия — и вдруг деловито-будничный, пожалуй даже суховатый и поспешный, голос его замедлился, налился торжествующим тембром:
— Войска фронта, продолжая вести уличные бои в центре города, овладели зданием германского рейхстага, на котором водрузили Знамя Победы…
Замерев, с напряженными, побледневшими от радостного волнения лицами, они слушали Москву, и вдруг губы Вали непроизвольно дрогнули, она разрыдалась:
— Вот и все, папа, вот и все!..
11
Батальон Фещука тридцатого апреля занял Голитц — одно из западных предместий немецкой столицы. Уже давно не стало нужды в дорожных указателях, теперь их заменял простой солдатский глазомер. Впервые за все годы войны боевые порядки батальона развернулись фронтом на восток, и теперь на востоке, рукой подать, громоздились захлестнутые петлей окружения центральные районы Берлина, и солнце, поднявшееся из-за Одера, так и не в силах было пробиться, рассеять окутавшую их темно-сизую мглу. В этой застилавшей горизонт пелене, цветом своим сходной с мутно-темной пленкой рентгеновских снимков, тенями проступали искривленные железобетонные ребра фабричных и административных зданий, глубокие каверны в их омертвелых стенах, саженные позвонки обнаженных огнем этажных перекрытий.
Уже невозможно стало выделить и отличить какие-либо отдельные выстрелы и даже залпы. Слышалось только громыхание двух батарей, которые вели огонь по развилке дорог в районе Шпандау.
Батальон со скоротечными боями и стычками продвинулся меж двух лесных озер, расположенных почти в городской зоне, и здесь получил приказ закрепиться.
— И не теряйте соприкосновения, прощупывайте разведкой, — беспокойно и горячо клокотал в телефонной трубке требовательный голос Каретникова. — Соседей видите? Стыки, стыки! Не забывайте. А где связные отсыпаются? Проверить.
— Не забываем, связные будут, так точно, — отозвался Фещук и с легкой досадой посмотрел на Алексея: — Понял, какая торба? И закрепляйся и не теряй соприкосновения. Выходит, держи косолапого, а сам косолапый тоже не пентюх, не отпускает…
Но Фещук и Осташко знали, что некоторая противоречивость приказов вызывалась противоречивостью самой обстановки, в которой здесь, в западных пригородах Берлина, приходилось им действовать.
Переднего края в его обычном, уставном понимании давно не стало. После ожесточенных, лоб в лоб, боев у Гросс-Барнима и Врицена дивизия в составе сорок седьмой армии пошла в обход Берлина с северо-запада. И это быстрое фланговое движение наших войск, полностью отсекающее Берлин от всех питающих его из глубины Германии коммуникаций, явилось для фашистского командования совершенно непредугаданным. Каких-либо заранее подготовленных долговременных укреплений здесь не оказалось. Появления наших войск тут, за спиной столичного гарнизона, не ждали. Сдерживая наступление, вступали в бои дислоцированные в пригородной зоне редкие запасные части, подразделения фольксштурма да поспешно брошенные навстречу подвижные отряды эсэсовцев. Полк Каретникова, действуя на внутреннем обводе окружения, теснил их все дальше, загонял в тот гигантский, кипящий уличными боями котел, каким стал к этому времени Берлин. И главной заботой Каретникова в предвидении всех возможных осложнений было — во что бы то ни стало удержать на своем участке стенку этого котла. Это и диктовало его распоряжения: закрепляться там, где продвинулись, не терять соприкосновения, прощупывать разведкой.
Вечерело. Выставили боевое охранение. Хоть и по-прежнему настороженная, могущая внезапно оборваться тревогой, все-таки наступила какая-то кратковременная пауза. Осташко и Золотарев впервые после форсирования Одера созвали парторгов рот. Собрались на берегу озера. Было необычно и странно видеть здесь, поблизости от бушевавших над Берлином смерчей, старательно хранимый дачный уют. На отмели пестрел длинный ряд окрашенных в разные цвета прогулочных лодок. Неужели их владельцы настолько верили бахвальству Геббельса, что не намеревались лишиться радостей загородного отдыха и в эту весну? Подновленная, недавно окрашенная, голубела вышка для прыжков в воду; и летнее кафе, рядом с которым желтел песок площадок для гольфа и крокета. Подошедший Солодовников смотрел на все это угрюмо, осуждающе, как на дикарскую непристойность. И Алексей, перехватив его мрачный, злой взгляд, посочувствовал старшему сержанту. Уже во время весеннего наступления нагнало Солодовникова письмо из дому с новой тяжелой вестью: в мартовских боях где-то в Чехословакии погиб Дмитрий… Четвертый из девяти братьев. Льется, льется кровь… И нестерпимо для сердца было видеть на земле врага это дачное благоденствие…
Золотарев, присаживаясь на днище опрокинутой лодки, шутливо стукнул по ней носком сапога.
— Может, это уже для нас старались, товарищ майор? Смотрите, какой порядок навели! Хоть и незваные гости, а встречают…
— Встречают? Чем? Забыл, как позавчера чуть башку не оторвали!..
Позавчера, когда роты двигались на самоходках по шоссе, их головную машину внезапно из-за садовой ограды обстреляли фаустпатронами, подбили одну машину. Такие удары исподтишка, из засад, из укрытий, гитлеровцы наносили на всех путях своего отхода. Собирались они дать бой здесь, у озер: на прибрежном песке валялись брошенные фаустпатроны — их не успели пустить в ход.
Солодовников шевельнул ногой снаряд, похожий на выкинутую волной большеголовую хищную рыбину.
— И в самом деле, подлая штуковина. Неужели это про нее Гитлер брехал, что, мол, есть тайное оружие? Все же после Орла кое-что намозговали…
— Э, про что заговорил, — усмехнулся Золотарев. — После Орла и у нас сколько прибавилось! Вон как лихо бреют под заход солнышка…
Слева, из-за пилонов поставленной перед въездом в город и сейчас полуразрушенной арки, с нарастающим ревом моторов понеслись в багровое марево штурмовики — их пушечные выстрелы и разрывы сброшенных бомб поглотил все тот же несмолкаемый гул.
После того как Золотарев вспомнил об Орловской битве, Алексей невольно вернулся мыслью к пройденным дорогам. Глядя на собравшихся, он подумал о том, что из всех их только Золотарев да Солодовников могли вспомнить о том, как было под Орлом. Остальные пришли в батальон позже. Вступали в партию в Белоруссии, под Ковелем, у Западного Буга и за какой-то год-полтора закончили в боях высшую коммунистическую школу, сами стали вожаками. А сколько их, единомышленников, товарищей по оружию, по партии — и ровесников и постарше годами — не дошло до этого последнего рубежа войны… Сама память о них зовет в эти завершающие дни к такому же воинскому достоинству, к той же воинской высокой чести, которую блюли они до последней капли крови. Об этом сейчас и говорил Алексей, делясь с собравшимися парторгами своими мыслями, слушая их раздумья… Со стороны дощатого павильона, где стояла батальонная рация, послышались взбудораженные возгласы. Из двери выскочил Чапля, взмахнул пилоткой и, увидев Осташко, припустил бегом.
— Товарищ майор… Только что радист поймал… Сообщение… Знамя над рейхстагом подняли…
— Кто передает, Москва?
— Да нет, не Москва… Какая-то штабная рация, в открытую… Все равно ж обмана быть не может… Это уж точно…
Все собравшиеся невольно вскинули лица в сторону Берлина: будто ждали, что там, сквозь клубившийся над далекими крышами дым, разглядят трепетание алого полотнища.
Позже, в час, когда Москва обычно передавала сообщения с фронтов, собрались у рации. Ждали приказа Верховного Главнокомандующего, салюта. Но, хоть сводка Совинформбюро и подтвердила перехваченную радистами весть и Левитан торжественно выделил слова о водруженном Знамени Победы, приказа по Первому Белорусскому фронту не было. Поняли: все чествование — на завтра, на Первое мая, на праздник… Первомайский приказ, щедрое разноцветье огней над Москвой, праздничные салютные залпы у стен Кремля… А здесь еще не стихали боевые.
Пламя самодельной лампы беспокойно вздрагивало, покачивалось, искрило. И ракеты, что взлетали в берлинском небе, были по-прежнему командами на атаку, прикрытие, сближение, штурм. Фещук и Алексей, выходя из павильона в ночную темень, взяли с собой ракетницы. Оба были встревожены. Прислушиваясь, замечали странность… Канонада, что весь вечер доносилась лишь с одного направления — из Берлина, теперь порой перемещалась куда-то на фланги, далекая ружейная перестрелка раздавалась и позади, примерно там, где находился штаб дивизии.
— Уж не десант ли выбросили? — предположил Алексей, и сам отверг эту промелькнувшую мысль. — Так на чем? Да и не до того им сейчас…
— Ты так думаешь? Это не Ковельские леса и не Белоруссия, тут они у себя дома… Тебе никогда не приходилось бандита в его собственной хате брать?
— Нет, с милицией у меня знакомство шапочное.
— Я тоже в ней не служил, а в чоне был. И помню, как в Урене и Сергаче атаманцы из окон на задворки сигали. И за глотку схватишь, а он извертывается, норовит укусить. Так что надо быть готовым ко всему. И пока тихо, иди подремли, чтобы хоть свежая голова была, в случае чего…
— Кой леший, тихо, разве не слышишь?
— Ну, это где-то у соседей… Понадобишься — разбудим.
— Что ты меня спать укладываешь? Сам-то куда идешь?
— К Литвинову. На его участок должны выйти дивизионные разведчики. А ты, если и впрямь еще держишься, давай к Пономареву.
Они разошлись в разные стороны, а Алексею хотелось именно сейчас, после того, что они услышали по рации, побыть с Фещуком. Все-таки вместе два с лишним года… Начиная с Кащубы, кратковременно блеснувшей сугробами своего дикого, угрюмого бора. А путь сюда, в Берлин, начали еще раньше, гораздо раньше… И верили, убеждены были, что дойдут; если не доведется самим, то дойдут товарищи. Однажды, еще перед Варшавой, разговорились о том, чего бы больше всего хотел каждый после войны, о каких минутах мечтает? И Фещук, подумав, сказал, что ничего другого ему не надо, кроме как постоять с карабином в руках четверть часа у Мавзолея Ленина… Так же, как стоял курсантом тогда, в двадцатых годах… И пусть бы шли и шли люди… Четверть часа молчания и раздумий… Сколько бы они вместили в себя! И свою собственную жизнь, и жизнь всех тех, кто был бойцом батальона в годы войны… Алексей еще сильней ощутил сожаление, что Фещука нет рядом.
…По берегу озера под старыми раскидистыми соснами тянулась асфальтовая дорожка, и казалось, что серные испарения асфальта перебивают в весеннем воздухе даже запах хвои. Дорожка вывела на широкую просеку.
Первым, кого встретил здесь Осташко, был Спасов. Узнав замполита, он мгновенно вскочил с низенького парапета, за которым поблескивало озеро, и негромко доложил:
— Товарищ майор, пулеметный расчет несет дежурство на огневой позиции.
— Где же она, ваша позиция? — огляделся Алексей. — Что-то не вижу.
— Да тут она и есть, товарищ майор. — Спасов пришлепнул ладонью по парапету — в полуметре от земли темнела небольшая квадратная ниша, из которой высовывался ствол ручного пулемета.
— А про саперную лопату уже и забыли! — без прежней настойчивости пожурил Осташко.
Он и сам знал, что приказ Каретникова — закрепиться — и затем приказ по батальону, отданный Фещуком, если и не утратил своей категоричности, то все равно солдатами будет выполняться по-своему. К тому же выбранная Спасовым позиция была действительно удобной.
— До каких же пор, товарищ майор?! — шутливо воскликнул Спасов. — Слава богу, за три года землицы перепахал столько, сколько и совхоз «Гигант» не вспахивал. Неужели и здесь, на берлинском асфальте, руки мозолить?
— А где командир роты?
— Там, — кивнул в глубь леса Спасов, — в этой, как ее, ро… ротонде.
За деревьями белели колонны небольшого куполообразного здания, и оттуда, услышав голоса разговаривающих, подошел Пономарев.
— Товарищ майор, так это правда насчет рейхстага? Взяли?
— Правда… И Москва уже передала.
— Значит, тогда и главного нечистого схватили?
— О нем пока ничего не сообщают… А вот Муссолини казнен. Сами итальянцы-партизаны с ним разделались.
— Вот и полетела их ось в тар-та-ра-ры! Одни шпеньки остались…
— Карта у тебя есть, Пономарев? — спросил Алексей.
Пономарев расстегнул полевую сумку, вынул и расправил на парапете ломкий лист. Присветили фонариком. Между двумя голубевшими озерцами — зеленая краска лесопарка, багровая вздувшаяся жила автострады.
— Вот здесь стоим, — ткнул пальцем Пономарев в середину зеленого массива, который дальше вклинивался в кварталы предместья.
— Слева от тебя Литвинов?
— Он и две самоходки стоят на стыке.
— Связь?
— Да мы же плечом к плечу.
— Боевое охранение от тебя?
— И от меня и от него.
— Сигналы?
— Как и сказано, ракетами.
Пономарев сложил карту и не выдержал, изумился:
— А ведь последняя, товарищ майор!.. Аж не верится…
Алексей пошел дальше, углубляясь в лесопарк. На пути оказался высохший ров или канал, который когда-то, очевидно, соединял озера. Здесь, тоже не утруждая себя окапыванием, обосновался один взвод. Проходя вдоль рва, Алексей увидел у мостика Солодовникова. Он прислонился к перилам и смотрел в сторону полыхавшего за лесом зарева. У ног лежал фаустпатрон — после совещания парторгов прихватил с собой с пляжа.
— Неужели освоил, Павел?
— Штука не больно хитрая. Да теперь вроде уже и ни к чему.
— Впереди тебя кто?
— Есть двое… А что ж вы связного не взяли, товарищ майор? Там второй мостик, и за ним надо поосторожней, какой-то стервец нет-нет да хлестнет очередью… Опоражнивает напоследок диск, что ли?
Но Алексей все же намеревался проверить боевое охранение и пошел теперь обочиной вновь появившегося асфальта, от сосны к сосне, иногда останавливался, прислушивался. Того слитного орудийного гула, что доносился днем, уже не стало. Порой наступали минуты полного затишья, а потом оно прерывалось выстрелами вразброд, и по их частоте — то мерной, то убыстрение нарастающей, казалось, можно было прощупать пульс близкого уличного боя. Паузы выжидания, выслеживания противника и ожесточенно вскипающая пальба, когда нельзя медлить и надо во что бы то ни стало упредить врага, настигнуть огнем, не выпустить… В одну из таких пауз Алексею почудилось, что он расслышал далекий шум машин, но эхо раздавшегося в той же стороне и удвоенного лесом залпа приглушило все другие, таящиеся в ночи, звуки. «А Солодовников все же прав, напрасно не взял связного, — укорил себя Алексей, досадуя, что вот он в одиночестве идет уже с четверть часа, а так никого и не встретил. — Уж не заплутался ли, не сбился ли с дороги?» Хотя подлесок здесь и не рос, но тени, падавшие от сосен, были плотными, дальнее зарево не рассеивало, а только резче подчеркивало их контрастность. Вскоре деревья стали реже, под ногами почувствовалась не пружинистая, усыпанная хвоей земля, а гравий какой-то дороги. И он уже собрался выйти на ее середину, когда шум машин послышался явственней — тяжелый, перекатывающийся лязг. Танки? Алексей отступил в тень. Чьи? Нашим, пожалуй, незачем было бы мчаться здесь, по незнакомой им глухой дороге так воровски, на бешеной скорости и с потушенными фарами. Первая машина поравнялась с Алексеем, и он увидел, что это не танк, а семидесятитонная самоходка с гранеными очертаниями орудийной башни, с куцо обрезанной кормой и широкими бортами, на которых прижались к броне немцы. А вслед за ней и другая, промчавшись, обдала лицо горячей чадной волной.
«Пустились наутек… прорываются…» Эта мысль могла бы сегодня вызвать и мстительное удовлетворение, если бы к ней сразу не присоединилась другая — об опасности, которая вот-вот громыхающе и внезапно нависнет над Солодовниковым и Спасовым, над ротой Пономарева и всем батальоном. И тут же, негодующая, возникла и третья — о том, что несправедливой, до жестокости равнодушной была бы жизнь, если б после всего содеянного на земле вот этими прижавшимися к броне серо-зелеными мундирами позволить им где-то укрыться, избежать возмездия. Алексей выхватил из-за пояса и поднял вверх ракетницу. Красные огни всполошливо вспыхнули над убегавшей на запад дорогой, над верхушками сосен, осветив на миг и его самого. Он отскочил за дерево. Но с надвинувшейся, замыкавшей колонну машины раздалась автоматная очередь, и нестерпимо горячее пламя обожгло изнутри все тело, кинуло наземь…
Ему возвратила сознание нестихающая, распаленная боль, и мысль словно тщетно нащупывала единственно оставшуюся узенькую, нитеобразную тропу, по обеим сторонам которой бушевал огонь. Из непостижимой дали на секунду возникло позабытое было ощущение той смертельной опасности, которую он пережил осенней ночью сорок первого года в Нагоровке на пешеходном мосту… Прошел по его незащищенной перилами кромке и уцелел лишь потому, что шагал прямо, не уклоняясь в сторону… А сейчас, что может спасти его сейчас? В глаза ударил яркий луч; его, Алексея, куда-то несли, а когда он снова поднял веки, то увидел сверкающую белизну потолка, и, заслоняя ее, над ним наклонилось чье-то женское лицо… Валя? Но глаза принадлежали не ей — большие, черные, властные… И впервые за все эти годы он прошептал слова, которых бы раньше устыдился…
— Мирвари? Жить… Только бы жить!..
Сказал он их или не успел сказать? Тот, кто, невидимый, стоял позади, взял его голову в ладони и опустил на жесткую подушку. И почти одновременно мягкое черное облако вобрало в себя все вокруг… Только еле заметный, крохотный просвет еще оставался, брезжил где-то далеко-далеко… Нет, он заметил его позже, очнувшись. Боль не проходила, но перед глазами было залитое солнцем окно, слева от него стеклянная этажерка с никелем инструментов, еще левее — белая, неведомо куда ведущая дверь, и он, принимая отчетливость всего увиденного как самый высокий дар, понял, что остается жить.
1967—1970
СКАЗАНИЕ О ПЕРВОМ ВЗВОДЕ Повесть
…Бились друзі за щастя народне,
Двадцять п’ять іх було, двадцять п’ять,
Славні іх імена благородні
Будуть вічно у пісні лунать.
Из украинской народной песни о взводе двадцати пяти героев Советского Союза — широнинцев1
Сколько же можно отсиживаться на плацдарме, когда слева — с юга и с юго-востока — что ни день летят добрые вести?! Вот порой, кажется, приподнимись над бруствером, прислушайся, и меж редких ружейных выстрелов, что давно уже стали буднично-обыденными, ясно различишь другое: катящуюся откуда-то со Среднего Дона, с Волги басовитую канонаду неисчислимого множества орудий и минометов. Вот там, у соседей, двинулось дело! Наступают! А здесь? Которую уж неделю затишье, ожидание… И еще, будто назло, погода разбаловалась, декабрем и не пахнет.
— Что же получается, товарищ гвардии старший сержант, снова мы не угадали?
Улыбнувшись так, что улыбка приоткрыла добрую половину крепких, без единой трещинки, зубов, Вернигоренко взглядом горячих карих глаз указал на валенки помкомвзвода и затем на низко нависшее небо, откуда вперемешку с мокрым снегом с утра моросил холодный, нудный дождь.
— Да чего, бесова душа, смеешься? Что ты тут веселого нашел? — отвлекаясь от своих досадных размышлений, удивился Болтушкин.
— А почему не посмеяться? Хай наши враги журятся, а не мы. Хай нас бог от этого обереже, як малу дытыну. Чи так я кажу?
— Что верно, то верно, сынок, — проговорил Болтушкин, почти влюбленным взором окидывая ладную, бравую фигуру сержанта. Ни изрядно поношенная загрязнившаяся шинель, ни многодневная жесткая щетина, покрывшая подбородок и щеки, не мешали ему представить Вернигоренко таким, каким, конечно же, он был у себя на селе — первым парубком на гулянках, компанейским среди хлопцев, разбитным, охочим на шутку среди девчат.
— А что не угадали, то не угадали, — повторил Вернигоренко. — Обувка не та.
Болтушкин, соглашаясь, тоже усмехнулся, переступил с ноги на ногу, и под досками, которые уже четвертый месяц гнили на дне окопа, хлюпнуло, чмокнуло.
— Мне-то мудрено угадать, Вернигора, — помкомвзвода невольно изменил фамилию сержанта так, как это делали все его сослуживцы. — В Вологде, знаешь, какие в такую пору снега ложатся? Любо стать на лыжи — да и в лес погонять зайцев. Или другая забава — за снасти и на речку к прорубям! Милое дело в морозец жереха из лунок потаскать. Понял, какой там декабрь? А вот ты почему ошибся?
— Да я ведь, добре знаете, тоже не видциля, товарищ старший сержант. У нас на Николаевщине про лыжи и совсем не вспоминают, а валенки в колхозе разве только для вахтеров держат. А то так, як кажуть, — козырек на вате, пиджак на теплых нитках. Ну, правда, когда ветры с моря… Тьфу ты, черт, и табак отсырел. — Вернигоренко уже опалил свои смолистые, изогнутые красивой лукой брови, крутя и раскуривая цигарку за цигаркой, а все понапрасну.
— Возьми моего, — неторопливым жестом, откинув полу шинели, Александр Павлович Болтушкин вынул из кармана ватных брюк деревянную табакерку — ну и покурено, видно, из нее, коль так отшлифована, что почернела, стала словно мореный дуб! — протянул ее Вернигоре, позже закурил и сам.
Зябко поеживаясь, подошел Исхаков.
— У кого тряпица найдется, товарищи? Винтовку бы протереть.
Исхаков ночью был в боевом охранении. Смуглое лицо его сейчас выглядело серо-землистым. Шутка ли, несколько часов неподвижно, без единого человеческого слова, без огонька просидеть в заснеженной воронке. Однако в глубине продолговато разрезанных глаз, меж чуть припухшими веками, поблескивали такие неугомонно-жгучие искорки, что сразу было видно — не потушить их какой-то одной, беспокойно томительной ночи. Да и к тому же предвкушает парень близость сладких, дремотных часов в обогревалке. А пока, протирая винтовку, живей ходуном ходите руки, чтобы быстрей побежала по телу застывшая кровь, чтобы теплей стало и плечам, и спине!
— Исхаков, тряпицу потом занесешь и мне! — донесся из-за крутого изгиба окопа простуженный голос Скворцова.
— Да ты иди к нам, Андрей Аркадьевич, — отозвался Болтушкин, — предупреди Грудинина, чтобы наблюдал, и айда к нам!
В ответ под тяжелыми шагами Скворцова захлюпали, заскрипели доски, послышалось его надсадное, тяжелое покашливание. А вот и он сам — худощавый, длинный как жердь. Такому опасно разгибаться в окопе во весь рост, ненароком подстережет вражеская пуля. Лукавая, умная ухмылка прячется где-то меж усами и бородой, которые, однако, не могли скрыть упрямых, жестких складок вокруг рта. Уже тронула и усы и бороду изрядная седина, и оттого почти ничем не рознятся они от побуревшей цигейки ушанки.
Подойдя к сослуживцам, Скворцов с бесцеремонной шутливостью втиснулся между ними, как, наверное, втискивался недавно он, председатель сельского Совета, где-нибудь на полевом стане в компанию отдыхавших трактористов.
— Ну-ка, плотней, товарищи, поплотней, сжимайте так, чтобы грело, — Скворцов отставил в сторону принесенный с собой надраенный до блеска котелок и снова надсадно закашлял.
— Не рано ли, Аркадьич, к завтраку готовишься?
— Небось не рано, гляньте-ка, уже Чичвинец к нам спешит, — обратил Скворцов внимание собравшихся на то, что он сам заметил раньше других благодаря своему росту.
По ходам сообщения, то замедляя шаг, то ускоряя его на простреливаемых участках, приближался к переднему краю Чичвинец — старшина роты. Видимо, Чичвинца заметили и другие бойцы взвода. К навесу, под которым стояли четверо, подошли Нечипуренко, Злобин, Бабаджян.
Теперь собралась почти половина изрядно поредевшего в боях на плацдарме первого взвода. Дожидаясь старшины, они оживленно заговорили о том, о чем обычно говорят, когда позади осталась еще одна настороженная, фронтовая ночь, а впереди новый день с его внезапностями, с очередной дележкой табака, с желанным появлением полевой почты, с надеждами и разочарованиями.
* * *
Уже четвертый месяц полк стоял в обороне на правом берегу Дона, чуть южнее Воронежа. Плацдарм захватили в августе. Болтушкину — одному из старослужащих части — хорошо были памятны эти дни.
Полк перебросили на этот участок фронта после битвы под Москвой, где он заслуженно получил славное гвардейское имя. Сосредоточивались и готовились к форсированию скрытно, по ночам.
Казалось, в безмятежном покое размеренно дремали под жарким солнцем обезлюдевшие улицы и майданы станиц, сады, отягощенные в это лето обильными плодами, тенистые рощи, подступившие к самому берегу привольной, также спокойно дремлющей реки.
Сколько в небе ни кружила «рама», но заметить ли с воздуха лодку, укрытую ночью в широколистной рогозе? Разглядеть ли звенья штурмового мостика в чащобе камышей или лафет орудия, над которым раскачиваются зонтикообразные метелки бузины? Угадать ли миномет в мирном шалаше, стоящем на бахче?
Но как-то с рассветом вскипел, забурлил горным потоком Дон. Одновременно с тысячепудовым огневым ударом артиллерии гвардейцы ринулись на штурм правого берега. На широкой глади реки вздыбились смерчи воды и огня. Оглушенные сомы и щуки, перевернувшись атласно белыми брюшками вверх, поплыли по течению. Снаряды крошили в щепу плоты и паромы, осколки мин дырявили лодки. Но люди бросались в воду и вплавь, на бревнах, а то и попросту вразмашку, саженками добирались до вражеского берега, крутой меловой горой поднимавшегося на той стороне.
Небольшой рыбацкий дубок, на котором плыл Болтушкин, опрокинуло и отбросило в сторону разрывом снаряда. Пули захлестали рядом, по воде. Намокшее, тяжелое обмундирование влекло вниз, ко дну. Не стал противиться, нырнул, ударился ногами о каменистое дно, оттолкнулся вперед, торопливо хватил глоток воздуха и снова вниз, снова толчок, снова глоток… Так до тех пор, пока спасительно не нависла над головой почти отвесная круча берега. Ну, значит, жить тебе, Александр Павлович! Неподалеку, как былинные витязи, выбегали из водной пучины товарищи. По крутым тропкам немедля вверх, в штыки!
Запомнятся эти дни и гитлеровцам. Это ли не дерзость! Их танки уже за Ворошиловградом, за Лихой, вот уже они пылят по дорогам к Сталинграду, вот уже их пушки бьют по волжским переправам, и автоматчики занимают рубежи в цехах заводов. Много ли еще дней нужно, чтобы обессиленно пала волжская твердыня и распахнулись за ней заманчивые обходные пути на Москву? А тут советские полки неожиданно врываются на западный берег Дона, теснят мадьярские части на десять километров от реки, хотят закрепиться на плацдарме. Что это? Вызов? Попытка ввести противника в заблуждение? Или просто-напросто шаг, продиктованный отчаянием? Или наконец какой-то пока непонятный дальний расчет? Проучить! Сбить с плацдарма! Сбросить в реку! Захватить и живьем доставить в Берлин штабных офицеров. Гиммлер заставит их разговориться.
Но тщетно ставка фюрера отдавала приказ за приказом, тщетно поднимались мадьяры в одну атаку за другой, тщетно вслед за мадьярами шли на штурм прибрежных высот эсэсовские полки. Ликвидировать плацдарм не удалось. Пришлось скрепя сердце примириться с ним, примириться с тем, что советское командование, собственно говоря, уже достигло первой немаловажной цели: принудило немецкие армии, нацеленные на Сталинград, отвлечь часть сил в сторону, заставило и впредь, как это ни неприятно, но считаться с тем фактом, что висит над флангами и этот захваченный и удержанный удобный плацдарм, а с ним и ряд других.
Неделя проходила за неделей, месяц за месяцем, и вот уже она обжита, стала хорошо знакомой и близкой каждым своим деревцем, каждой впадинкой эта прибрежная полоска земли. Более чем половину ее занимал лес. Много лет назад он, очевидно, был сплошь хвойным, но после порубок здесь появились светолюбивые березки и осины, буйно разросся подлесок — лещина со своими красноватыми хлесткими прутьями и цепкий бересклет. Грибное царство! Подосиновиков, маслят, сыроежек полным-полно до самых заморозков.
По лесу на северо-запад проходил узкий, но глубокий овраг. Он соединялся затем с другим таким же оврагом, который ветвился с запада на восток и уже широким разлогом выходил почти к самому Дону.
Всякий, впервые попадавший сюда, на правый берег, с удовлетворением отмечал эти бесспорно выгодные стороны плацдарма. Экое раздолье для артиллеристов, для саперов, для хозяйственных взводов. Хватало удобных мест и для штабных землянок, и для позиций минометных батарей, и для батальонных кухонь… Повара, готовя огневые щи, могли не опасаться, что враг сможет заметить искры из трубы, настолько укромными, дикими были лесистые приречные дебри.
И все же… И все же какая цена всем этим удобствам сейчас, когда, кажется, сам ветер приносит сюда такое бодрящее дыхание долгожданных, великих событий?!
* * *
— …На мою думку, так, — размышлял вслух Нечипуренко, не забывая поспевать своей ложкой за ложками товарищей, опорожнявших котелки, — на мою думку, дело теперь у Гитлера — гробовая доска, ноль без палочки, а одним словом — швах. Ну, соображайте сами, бывало, окружали и нас. Мне это, сами знаете, лучше других известно. Месяц белорусскими лесами и болотами из окружения выходил, так то ж все одна забава!..
Нечипуренко смотрел на товарищей таким ясным взглядом, словно и в самом деле все пережитое им в окружении — непрерывное ожидание неравной встречи с врагом, студень из лишайника, зловещие, бессонные ночи — теперь, оставшись позади, казалось детской игрой.
— А тут же другое дело, за тридевять земель от своих границ — хлоп, и закрылась ловушка, а в ней сотни тысяч, и им ни туда ни сюда хода нет. Швах, полный швах, братцы!
— Эге, Нечипуренко готовится весняну сивбу уже дома встречать, — пошутил Вернигора.
— А что? Думаешь, у него таких армий, как та, которая под Сталинградом накрылась, хоть отбавляй, считать не пересчитать? А не слышал, что вчера старший лейтенант говорил?
— Да ничего я не думаю. Я понимаю, что тебе треба швыдше…
— Почему именно ему? — переспросил Бабаджян.
— Ну как же, ему домой, мабуть, месяц ехать.
— Правильно, это ж Дальний Восток… Мне потом еще и на лошадях километров двести трястись.
— Вот я и говорю, что тебе нужно всех скорей, бо пока приедешь с фронта, уже и обмолотятся.
Добродушное подтрунивание Вернигоры, видимо, было приятно Нечипуренко. Как-никак оно сладко бередило сердце воспоминаниями о родном доме, о Приморье, в лесах которого стояли беленькие, совсем как где-либо на Полтавщине, хатки приветливого села. Туда еще в прошлом столетии вместе с переселенцами приехала с Украины на новые земли семья Нечипуренко. Там он жил и работал последние годы.
Были приятны эти напоминания и всем остальным. Исхаков то и дело косил смеющимся темным глазом в сторону разговорившихся. Мерно работая ложкой, Скворцов со стариковской хитринкой поддакивал то Вернигоре, то Нечипуренко — пусть, коль охотка, раззадорятся ребята, веселей будет. Лишь один Грудинин, низко наклонившись над котелком, чтобы прикрыть его от дождя, ел молча, не поднимая головы. Но вот он отвалился от котелка, сдвинул на затылок ушанку, изнеможенно вытер рукавом шинели запотевший высокий лоб.
— Людишек маловато, — неожиданно вслух подытожил он собственные размышления и окинул всех своим чуть застенчивым взглядом. — Людишек, говорю, у нас пока маловато. Вот хоть бы и в нашем взводе сколько? — Грудинин вскинул два растопыренных рогулькой длинных, тонких пальца. — Раз… два… и обчелся. Так и в других. Четыре месяца плацдарм удерживать нелегко. А конечно, будь побольше людишек, разве не добавили бы немцу сейчас и мы? С нашего правого фланга оно бы ладно вышло.
— Да уж добавили бы! — с ожесточением разделывая крепкими зубами мосол, согласился Злобин. Исчерна-смуглый, угреватый, он крутнул пожелтевшими белками глаз в сторону Грудинина. — Верно говоришь, Василий, для того мы здесь и стали… Дождемся!
С мнением Грудинина обычно во взводе считались. Ивановский текстильщик, он несколько лет проработал на большой мануфактуре гравером. Именно Грудинин, если к нему обращались, мог найти в своей объемистой вещевой сумке газету со стихами любимого всем фронтом поэта; мог вырезать на крышке плексигласового портсигара такой затейливый рисунок, что хоть посылай в музей, и смастерить такую зажигалку, на которой остановит любопытный, изумленный взгляд и сам генерал; мог вставить при чтении очередной сводки такое меткое замечание, что к нему прислушается и командир.
— Ясное дело, дождемся. Я про это Нечипуренко и говорю, — вновь вернулся к своей мысли Вернигора. — Ему еще богато зароблять придется, чтобы домой не в задних повернуться!
— Не больше, чем тебе!.. Я кое-что заработал еще и в прошлом году.
— Да то, що ты тогда заробыв, — то в лесу осталось, — недвусмысленно намекнул Вернигора на то, что Нечипуренко во время окружения вынужден был зарыть документы.
— Я как-нибудь еще тогда старшиной батареи был.
— Э-э! — Вернигора выразительно посмотрел на солдатские погоны товарища и махнул рукой.
— Вот тебе и э-э… Подожди, копии документов давно запрошены.
Может быть, и еще бы продолжалось это незлое препирательство, но его прервал раздавшийся с левого крыла окопа громкий зов:
— Скворцов!
— Я! — откликнулся Андрей Аркадьевич.
К сидевшим торопливо подошел Петр Шкодин, тоже боец первого взвода, но выполнявший в эти дни обязанности связного у командира роты.
— Скворцов, молнией к комбату!
— Да какой же он тебе Скворцов? — изумился Вернигора, глянув на мальчишеское, покрасневшее от быстрой ходьбы лицо Пети.
— А кто же он мне?
— Папаша, Андрей Аркадьевич, вот кто, а ты — Скворцов… да еще — молнией!..
— Это уж, извините, товарищ гвардии сержант, действую и обращаюсь точно по уставу.
Не только эта, с пылкой строптивостью произнесенная реплика, а и весь вид Пети как бы говорил: нет, меня с толку никому не сбить, и не пытайтесь, свое дело знаю. Что из того, что мне всего восемнадцать лет! А у кого другого так начищена и так горит пряжка ремня, как у меня? У кого еще так точно, по-уставному, подшит отутюженный, сверкающий белизной подворотничок? На ком еще так ловко заправлена и так молодецки сидит шинель, хотя и выдал ее старшина — ну и несочувственный человек! — из числа обмундирования, бывшего в употреблении?
— Ну, смотрите, яке ж маленьке, а петушится, — с прежним изумлением проговорил Вернигора.
Шкодин метнул на него потемневший, гневный взгляд и вновь повторил еще официальнее:
— Гвардии красноармеец Скворцов, вас ждет командир батальона.
— Да иду, иду, Петро.
Поднялся, окончив есть, и Болтушкин, за ним остальные. Кто-то, или Скворцов, или Нечипуренко — оба они были одинаково высокого роста, — потягиваясь, чтобы размяться, очевидно, приподнял голову над бруствером окопа. Взвизгнули пули, одна, другая, третья… послышалась короткая пулеметная очередь, и мелкие комья мерзлой земли взметнулись над бруствером.
— Ишь, сволочи, так и норовят какую-нибудь пакость сделать, — выругался Скворцов.
— Да это ж они похоронный салют по своей шестой армии отдают.
— Ага, смотри, чтоб тебе цим салютом голову не зацепило… а то как раз на жнива попадешь, — проговорил Вернигора в ответ на эту чрезмерно восхищенную реплику Нечипуренко и вразвалку направился к своей нише.
Вслед за разрозненными ружейными выстрелами послышался глуховатый орудийный залп, и снаряды, словно мощным компрессором нагнетая и уплотняя воздух, зашумели над головами и разорвались чуть позади окопов.
Гитлеровцы после многодневного бездеятельного перерыва сегодня решили вновь попытаться сбить клин, которым участок батальона выдвигался на плацдарме. Второй залп, третий…
Вырвавшись из сотни стволов, сталь и тротил забуйствовали на прибрежной полосе, сметая проволочные заграждения, вызывая при близких разрывах ощущение тошноты и удушья. Каждый снаряд бил по земле, будто по живому, и она, зыбкая, еще не успевшая промерзнуть, откликалась взъяренным, глубинным гулом.
Понимая, что вот-вот гитлеровцы поднимутся в атаку, и Скворцов, вызванный к комбату, и Исхаков, собравшийся в обогревалку, и Шкодин теперь остались в окопах. В трех шагах от Исхакова втиснулся в нишу Злобин. Он что-то крикнул Исхакову, но разорвавшийся неподалеку снаряд заглушил восклицание, и лишь по движению губ Злобина, по его усмешке красноармеец догадался: вот, мол, теперь обогреешься!
Гитлеровцы выскочили из своих окопов, подбадривая себя покрикиванием, бесприцельными выстрелами на ходу. На флангах заговорили вражеские пулеметы. Их густые очереди мешали красноармейцам поднять голову над бруствером и вести огонь. Но за три месяца пребывания на плацдарме все они уже обжили свои места, приноровились к каждой не заметенной снегом былинке, к каждой кочке и камешку впереди себя. Вернигора, что ни вечер выползавший из окопа, чтобы расчистить от наметов снега свой сектор обстрела и поправить рогульки для ночной стрельбы, всматривался в подбегавших гитлеровцев, нетерпеливо ожидал команды открыть огонь. Грудинин тонкими почерневшими пальцами перебирал в нише выложенные из подсумков патроны, словно искал среди них самые ему нужные, неотразимые. Скворцов то с силой двигал плечами, то по-стариковски согревал дыханием озябшие руки, чтобы было ловчее работать затвором.
Большинству красноармейцев первого взвода уже не раз приходилось встречать атаки немцев. Не раз уже они испытывали острое, леденящее чувство смертельной опасности. Не раз приходилось вступать в единоборство с врагом, в единоборство, в котором побеждала бо́льшая воля, бо́льшая ненависть, бо́льшая любовь. Но странное дело, хотя сейчас так же, как и в прошлом, каждый из тысячи пролетавших осколков и каждая даже шальная пуля могла в любую минуту оборвать жизнь, ощущение опасности было не таким тягостным, словно бы уменьшилось. Казалось, что на стороне сидевших в окопах, помимо полковой и дивизионной артиллерии, помимо притаившихся в оврагах минометных батарей стояла еще неизмеримо более грозная сила. И пусть она была незримой, отдаленной сотнями километров степей и дорог, все равно эта сила — сила сталинградских армий, в гигантском междуречье громивших гитлеровцев, — создавала перевес, превосходство и здесь. Это знали сидевшие в окопах. А знал ли это враг?
Снаряды уже рвались позади, в глубине обороны полка. Атака подкатывалась к окопам…
Болтушкин приподнял голову над бруствером. Он уже ясно различал ощеренный в исступленном крике рот рослого фашиста, который вырвался из цепи вперед. На бегу он поводил автоматом из стороны в сторону, из стороны в сторону метались его руки, и оттого казалось, что автоматчик и сам не знает, куда именно, к какому краю окопов он бежит.
— Огонь! — передавая команду командира роты, со злым придыханием крикнул Вернигора, стоявший слева от Болтушкина.
Помкомвзвода с силой гаркнул это слово, чтобы его услышали и справа, прицелился в рослого немца, нажал спусковой крючок. Автоматчик продолжал петлять по снегу. Упал он, лишь на какую-то долю секунды опережая тот миг, когда Болтушкин выстрелил вторично. «Гад, два патрона выманил», — разъяренно выругался про себя Александр Павлович. Винтовочный огонь стремительно учащался, сливался то в залпы, то в длительно рвущийся, катившийся лентой звук.
Цепь атакующих неумолимо редела, но те, кто остались, все еще бежали вперед, словно страшась повернуть обратно на путь, усеянный трупами.
Но когда перед подбегавшими, взвихрив снег и землю, всклубились разрывы гранат, когда сбоку по цепи ударил кинжальный огонь пулеметов, фашисты поняли, что, хотя до окопов и осталось несколько десятков метров, сил для ближнего боя у них уже нет. Они дрогнули, начали откатываться назад.
— А ну, на обратную дорожку им! — крикнул Скворцов.
Разгоряченный, он почти половиной туловища перевалился через бруствер и будто вколачивал пулю за пулей в хмурую зимнюю дымку, в которой перебегали, падали и вновь поднимались серо-зеленые шинели.
Но и Андрей Аркадьевич не поспевал за Шкодиным. Петя, недавно переведенный в стрелковую роту из транспортной, впервые участвовал в бою. И сейчас словно старался наверстать ранее упущенное. Он поспешно перезаряжал винтовку, давно опорожнил подсумок и теперь выхватывал обоймы из кучи патронов, которые просыпались из опрокинутого чьей-то ногой ящика…
По лицу Грудинина текла кровь от ссадины на лбу, нанесенной мелким осколком. Он то и дело быстро комьями снега убирал кровь, чтобы она не застилала глаза, вскидывал винтовку, стрелял, что-то приговаривая.
— Эх, людей маловато! — расслышал Болтушкин.
— Да, что жаль, то жаль… Маловато!.. — невольно повторил и помкомвзвода, понимая, как хорошо было бы сейчас подняться в контратаку и на плечах убегавших фашистов ворваться в их окопы.
2
Четвертый день от села к селу шагала маршевая рота. Двигались грейдерными дорогами, а чаще проселочными, так как они сокращали путь, да и не приходилось ежечасно сворачивать за кювет, уступая дорогу автоколоннам, танкам, конным обозам.
По мере приближения к линии фронта все труднее становилось выбирать места для больших привалов, для ночевок. Населенные пункты оказывались переполненными армейскими тылами и подходившими свежими подразделениями.
Для молоденького лейтенанта, который вел роту, недавнего выпускника военного училища, то было первое самостоятельное задание, и он искренне волновался и переживал все: то, что в нарушение порядка не мог сегодня утром обеспечить роту кипятком, то, что люди не обсушились как следует, и даже то, что с неба пластами — словно его оттуда выгребали лопатами — валил мокрый снег. Стараясь не обнаруживать перед ротой своего волнения, он то и дело вынимал из полевой сумки карту и рассматривал ее. Но карта, уступленная ему уже в дороге одним покладистым интендантом, была крупного масштаба, совсем не такая, с какой лейтенант привык иметь дело в училище. Мелкие населенные пункты не показаны, многие топографические знаки на ней уже не соответствовали действительности. Там где обозначался густой смешанный лес, оказывались горелые пни, там, где должен быть мост, надо льдом торчали лишь гнилые сваи — и от всего этого лейтенант расстраивался и волновался еще более.
А между тем все в маршевой роте шло своим чередом. Когда на одном из привалов понадобилось обогреться, сержант Кирьянов мгновенно — словно они для него и были припрятаны — отыскал под снегом несколько бревен, положил три из них веером на пару других; с помощью бересты ловко развел пламя под сходящимися концами бревен, и люди вдосталь насладились теплом у костра, сразу приободрились. Когда один из красноармейцев, прыгая через кювет, оступился и слегка подвихнул ногу, медсестра, сопровождавшая роту, пустила в ход содержимое своей санитарной сумки. Умело орудуя сильными, ловкими пальцами, она вправила вывих, поставила на сустав холодный компресс, и красноармеец смог продолжать путь.
Маршевым ротам свойственна особая неоднородность состава. Здесь труднее уловить те общие признаки, которые роднят и сплачивают, допустим, личный состав уже повоевавшей батареи или саперного подразделения, или батальона связи. Неоднородность состава была и в данном случае. Наряду с красноармейцем Букаевым, который в боях за оборону Сталинграда уже заслужил орден Красной Звезды, в колонне шагал Чертенков, паренек из Улан-Удэ, чья военная биография исчерпывалась кратковременным пребыванием в запасном полку. Наряду со старшиной Зиминым, который уже трижды был ранен и на этот раз тоже возвращался на фронт из госпиталя, в колонне шел красноармеец Павлов, таких же средних лет, но до сих пор имевший отсрочку от призыва, как специалист по дорожному строительству. Наряду с сержантом Седых, молчаливым, хмурым сибиряком, легко и весело отмахивал километр за километром разбитной смазливый ярославец Торопов.
И, однако, при всей этой неоднородности было одно общее качество, вернее, одно общее чувство, что роднило всех шагавших в колонне. Питалось это светлое чувство теми новостями, которыми в эти дни полнились фронтовые дороги и о которых с веселой, простодушной словоохотливостью мог рассказать вам любой регулировщик, да и любой встречный. Там, в сталинградских степях, вершилось справедливое возмездие над врагом. И удовлетворенное сознание этого возмездия несказанно ободряло всех.
В большое село Покровское маршевая рота пришла вечером. От Покровского оставалась примерно одна треть пути до пункта назначения, где пополнение должно было влиться в состав дивизии, занимавшей плацдарм на правом берегу Дона. Посмотрев при свете фонарика на карту, лейтенант определил, что следующий населенный пункт был расположен километрах в двадцати и, следовательно, лучше всего было ночевать здесь, в Покровском. Лейтенант оставил роту на площади у сельсовета, а сам пошел к коменданту, чтобы договориться о размещении людей. В комнате перед столом, где сидел комендант, сгрудилось немало офицеров, и до лейтенанта, который из-за столпившихся не мог даже и разглядеть коменданта, доносился лишь его сиплый, раздраженный голос.
— Поймите, товарищ майор, ничего больше я вам предложить не могу. Покровское переполнено войсками окончательно. Размещайте часть в Бокушево.
— ПАХ потому и называется ПАХом, что это полевая, а не городская хлебопекарня. И фабричных зданий для вас здесь, извините, не соорудили. Располагайтесь, где и как хотите.
— А вы чего теряете время, товарищ лейтенант? Если вас не устраивает этот дом, скажите, я его сейчас же отдам другому.
Чей-то голос, показавшийся лейтенанту удивительно знакомым, стал возражать, но тщетно: видимо, с размещением людей дело обстояло действительно сложно.
Озабоченно представляя себе, как откажет комендант и ему, командир маршевой роты стоял, дожидаясь своей очереди.
Вдруг кто-то тихонько потянул его за рукав. Оглянулся — Торопов.
— Товарищ лейтенант, — шептал он, — идемте, все уже в порядке.
Лейтенант, еще ничего не понимая, но уже испытывая чувство облегчения, вышел из комнаты. Оказалось, что Торопов, который на стоянках быстрее других вступал в общение с местным населением — точнее, с его женской частью, — узнал от двух проходивших молодок, что в полукилометре отсюда, за балкой, куда тянулось Покровское, есть Дарьин угол, а в нем с десяток хат, пока свободных от солдатского постоя.
— Строиться! — повеселевшим голосом скомандовал лейтенант.
Дарьин угол действительно оказался счастливой находкой. Дома были добротные, пятистенные, выстроенные хотя и много лет назад, но надолго. Над трубами дымились приветливые дымки. За многими окнами, как они ни были замаскированы, угадывался свет и тепло. Отыскивая у одной калитки запор, лейтенант зажег фонарик и прочел на поржавевшей жестяной табличке надпись: «Во дворе злая собака». Но тут же послышался такой безобидный заливистый лай щенка, что стало ясно — надпись относится никак не к этому щенку, а к его давним-предавним предкам.
Разместились легко и быстро. Зимин, Букаев, Торопов и Чертенков постучались в двери небольшого дома, стоявшего напротив колодезного сруба. Им отворила женщина лет шестидесяти, у которой на лице, уже покрывшемся старческими морщинками, при виде солдат попеременно и противоречиво отразились и растерянность и вместе с тем радостное оживление.
— Не ждала, бабушка? Можно войти гостям? — спросил Зимин.
— Ой, сынки ж мои, ой, сыночки! — запричитала женщина все с тем же противоречивым выражением и озабоченности и радости.
— На одну ночь, бабушка, завтра утречком в путь, — проговорил Торопов, первый бочком проходя в дом, так как хозяйка все еще стояла в сенях, держала руку на крючке, и было непонятно, то ли она собирается все-таки пустить солдат, то ли нет.
— Нам здесь задерживаться никак нельзя, уважаемая мамаша, — пробасил Букаев, которому из-за его тучности пришлось уже протискиваться в полуоткрытую дверь.
— Ой, детки мои, да в какую же хату вы попали… Неужели и впрямь не знаете? Кто над вами посмеялся, когда сюда направлял?
— А что такое? Хата как хата, — недоумевая, сказал Зимин и обвел взглядом первую, чисто подметенную комнату, еще пышущую теплом русскую печь, затейливые занавесочки на окнах, половички от двери до двери.
— И не говорите. Уже от моей хаты и все родичи отказались. Приехала невестка из-под Харькова, эвакуировалась, бедолага, оттуда с детьми, и то вторую неделю у чужих людей живет, а у меня — пустка…
— Да что такое, мамаша?
— Страшно и сказать…
— Ну уж не пугай нас, солдат, экая пуганая мамаша! — произнес Зимин. — Говорите, в чем дело?
— Да у меня ж бомба… — не проговорила, а словно бы выдохнула женщина, кивком головы указывая на другую горницу.
— Что за черт?.. Какая бомба?
— Известно какая… гитлеровская.
— Откуда она сюда попала?
— Бомбили нас неделю назад, и вот упала, проклятая, прямо в дом и не разорвалась.
Хозяйка проговорила это так, точно именно то, что бомба не разорвалась, ее более всего и огорчало. Усмехнувшись, Торопов в меру решительно и в меру осторожно шагнул к двери и присветил лампой. Через его плечо заглянули в горницу и остальные. В самом деле, меж двумя неубранными кроватями лежала целехонькая пятидесятикилограммовая бомба с неоторвавшимися даже крылышками стабилизаторов. Вверху на потолке темнело отверстие, закрытое со стороны чердака листом фанеры.
— А почему же ты не сказала о ней никому? Председателю сельсовета… коменданту?..
— Как же, говорила. Приходил один военный, повертелся около нее, что-то вывинтил да и ушел, только и всего… Обещал приехать, забрать, да, видать, других хлопот хватает…
Торопов теперь уже совсем решительно подошел к бомбе, наклонился, присмотрелся. Так и есть. Взрыватель удален. Бомба безопасна.
— Я ему, скажу правду, и сметанки, и курочку, и поллитровку предлагала… Избавь, прошу, меня, от нее, злодейки, а он только смеется: успокойтесь, говорит, мамаша, до самой смерти ничего не будет. А как тут успокоиться, когда ложишься спать и думаешь: проснешься ли? Внучка прибегает проведать, а я ее и на порог не пускаю.
Торопов, который сам и уговорил Зимина направиться в этот именно дом, потому что заметил в его дворе что-то вроде коровника и свиного хлева, теперь, услышав из уст хозяйки подтверждение своих догадок, и вовсе повеселел. Однако открыто обнаруживать эту свою веселость не стал.
— Что ж, хозяюшка, — деловито сказал он, — как тебя зовут-то?
— Дарья… Дарья Филипповна.
— Так это не твоего ли имени угол?
— Люди так прозвали… Я ведь первая с мужем здесь отстроилась. Еще лет сорок назад. Мне тут криничка очень понравилась. Вот и пошло с тех пор… Дарьин угол, Дарьин угол.
— Так вот, Дарья Филипповна, благодари бога, что мы к тебе на постой попали. Сейчас всю твою заботу снимем с плеч, будто ее и вовек не бывало.
— Хотя бы так, сыночек, я уж и не знаю, что бы для вас сделала, милые мои.
— Ничего нам, Дарья Филипповна, не надо. Солдат в походе находится полностью на выданном ему казенном сухом пайке, — с подчеркнутым и оттого неискренним великодушием отмахнулся Торопов от щедрот хозяйки; он шепнул что-то Чертенкову, прошел в горницу.
Через минуту дверь распахнулась.
— Не оступись, тише, — взволнованно покрикивал Торопов на Чертенкова, пронося бомбу к дверям, — заходи задом в сени. Куда ты? Стой. Прешь, как паровоз. Самому жизнь не дорога, так других пожалей. А еще говоришь, носильщиком работал. Экий увалень!
— Ой, боже ж мой, — мелко закрестилась Дарья Филипповна, укрываясь за печь и уже ругая себя, что обратилась с такой просьбой. Ну, лежала бомба и пусть бы себе лежала, пока не кончится война и не вернется сын. А он в механике понимает, придумал бы что-нибудь.
Могучие плечи Чертенкова мелко тряслись от с трудом сдерживаемого смеха, и напрасно пытался он подобно Торопову придать своему широкому доброму лицу встревоженное выражение, оно от этого становилось только комичным.
— Куда же, детки, вы ее вынесли? — спросила Дарья Филипповна, когда Торопов и Чертенков вернулись в дом.
— Около сарайчика положили.
— Ой, да в сарайчике у меня козочка… Вы бы лучше дальше… за погреб…
— Пожалуйста, нам ничего не стоит. Скажите только, утром хоть и за огород отнесем, — перемигнулся Торопов с Чертенковым.
— Эй, Торопов! — многозначительно произнес Зимин. Он осуждающе глянул на расходившегося ярославца, и тот понял значение этого взгляда, присмирел, умолк.
Через полчаса ужинали. Сияющая счастьем Дарья Филипповна подкладывала на тарелки то свежеиспеченные оладки, то сало, то пелюстку, ничем не заменимую закуску к выпивке. Зимин собирался после ужина писать письмо и потому пить не стал. Чертенков признался, что он вообще не пьет. В затее с бомбой он принял участие почти бескорыстное, и теперь за столом нет-нет да и прорывался у него смех, и солдат отворачивался тогда в сторону. Охотно выпили по сто граммов Букаев, Торопов и, пожалуй, всех охотней сама Дарья Филипповна, которая словно бы помолодела после того, как развеялись ее страхи.
— Товарищ старшина, здесь, в Покровском, сегодня кино будет, передвижка приехала, — обратился Торопов к Зимину после ужина. — Недалеко отсюда, в медсанбате. Разрешите?
Зимин посмотрел на часы. Только восемь. Отпустить, что ли?
— Мы с Чертенковым и Дарью Филипповну захватим. Пойдем, Дарья Филипповна? — предложил Торопов хозяйке, желая чем-нибудь более существенным отплатить ей за отличнейший ужин.
— А что там показывают?
— «Капитанскую дочку». Об Емельяне Пугачеве и прочем. Слышала о таком?
— Как же не слышать? У нас и хутор рядом Пугачевским называется. Говорят, Емельян в нем останавливался.
— Ну вот и пойдем.
— А пустят?
— С нами пустят.
Букаев и Зимин остались одни. Букаев после ужина направился в горницу и долго беспокойно ворочался там на кровати, пока наконец не послышался оттуда его храп. Некуда пока писать письма Букаеву, неоткуда и ждать. Пусть хоть во сне приснится родной Ворошиловград, да приснится не таким, каков он сейчас, при фашистах, а прежним: Ленинская и Пушкинская улицы с шумным, веселым людом; засаженные деревьями и цветами террасы центральной площади с памятником борцам за свободу, зеленеющий садами Каменный брод, тоже террасообразно поднимающийся к аэродрому, красавец паровозостроительный с высокими корпусами цехов, где еще в юности слушал Букаев выступления Климента Ефремовича, звавшего на борьбу за народное счастье…
Оставшись один, Зимин подвинул ближе к себе лампу, вынул из трофейной сумки бумагу для письма. Всего неделю назад он писал из Мичуринска, где в прифронтовом госпитале лечился после ранения. Ранение было легкое, не сравнить с двумя прежними, когда осколки задели голову, перебили ключицу. На этот раз пуля прошила насквозь мякоть икры на правой ноге, и после короткого срока лечения Зимин вновь был на ходу. Об этом и предстояло сообщить семье в Усовку.
«Здравствуйте, Клавдя, любимые детки, весь наш родной коллектив!..»
Все свои письма с фронта Сергей Григорьевич неизменно начинал этим обращением, ибо почти зримо представлял себе, как, увидав почтальона, прошедшего к его дому, потянутся к нему по заснеженным и таким красивым в эту декабрьскую пору улицам Усовки односельчане. Кому из колхозников не захочется узнать, что пишет с фронта их председатель? Сводка сводкой, а ведь полезно глянуть на войну и глазами своего, близкого человека, того, с которым приходилось иной раз и поспорить из-за непонравившегося наряда на работу, и дружелюбно за полночь потолковать о жизни, лежа бок о бок где-либо на глухариной тяге, под мирным звездным небом.
Зная, что письмо будет перечитываться несколько раз, Зимин с силой — даже побелели суставы пальцев — нажимал на карандаш, словно навечно вдавливал в бумагу каждую букву.
Обратная сторона восьмушки бумаги обычно посвящалась семейным делам. Зимин прислушался к тому, как простуженно скрипит под холодным, порывистым ветром незахлопнутая калитка, и вспомнил о том, что вот уже идет вторая военная зима и детишки, наверное, пообносились да и повырастали за эти годы. Догадалась ли Клавдя распорядиться тем отрезом, которым премировали его когда-то в Горьком на областном слете? Из этого сукна, пожалуй, вышли бы пальтишки и Юрику — ведь он уже в третьем классе — и Боре. Ну, а самой Клавде его полушубок гож будет еще не одну зиму — справил перед самой войной, еще новенький. Эх, Клавдя, Клавдя!.. Зимин вписывал имя жены почти в каждую строчку — и там, где следовало, и там, где это совсем не требовалось, — и оттого теплело на сердце. Повторяя это имя множество раз, он словно бы досказывал ей все то, чего не доскажешь никакими другими словами…
В сенях запела дверь, кто-то притопнул ногами, сбрасывая снег. Вошла Дарья Филипповна. «Неужели кончилась картина? — изумился Зимин. — Да нет же, не прошло и часа».
— Почему так рано, Дарья Филипповна?
— А ну ее, страшно и смотреть. Из пищалей палят, из пушек палят. И ядра летают и стрелы. Аж дух заняло, так переволновалась.
— Вот тебе и раз, — не выдержал и захохотал Зимин. — А как же ты, мамаша, с бомбой ночевала? Эта ж бомбочка не чета давним, образца тысяча девятьсот сорок второго года. Забыла, что ли?
— Так то ж в своей хате!..
Дарья Филипповна, что-то ворча, полезла на печь. Вскоре пришли Торопов и Чертенков. Торопов был недоволен, раздражен. И в кино-то отправился в надежде, что уговорит пойти туда и медсестру, а она не захотела, отказалась. Что теперь делать? Только спать. А Зимин писал письмо в Усовку, пока не затрещал и не заискрил фитиль лампы.
3
…Утром Зимина разбудил шум, доносившийся из соседней комнаты. Слышались беспечно звонкие голоса детей, женский говор и среди него словно бы налитый тяжелой колокольной медью бас Букаева. Да как же он, Зимин, мог дольше других нежиться на перине? Торопливо вскочил, в две минуты оделся.
В большой комнате от скамьи к скамье сновали, играли дети. Две женщины чистили картошку, и одна картофелина за другой слетали с проворных пальцев в ведерный ушат. Орудуя перочинным ножом, помогал им, шутливо пересказывая какую-то евангельскую притчу и вызывая смех, Букаев. Сама хозяйка хлопотала у плиты.
— С гостями тебя, Дарья Филипповна, — проговорил Зимин.
— Какие ж это гости? Свое семейство. Вот невестушка, про которую я вам говорила, а это ее сестра, детки. Как узнали, что этой проклятой бомбы больше нет, снова вместе, снова под мою крышу.
Сергей Григорьевич поймал и приподнял пробегавшую мимо девочку с светло-золотистыми кудряшками и румяным полненьким личиком, свидетельствовавшим о том, что внучка под бабушкиной крышей не обижена ничем.
— Отвечай гвардии старшине, как звать?
— Тоня.
— А фамилия? Что? Как? Богиня?..
— Благиня.
— Смотрите-ка, и в самом деле богиня, — повторил Зимин, своей жесткой бородой шутливо из стороны в сторону водя по припухшему, покрытому пушком загорбку девочки.
— Да Благиня же! — рассерженно воскликнула Тоня и пружинисто уперлась в его грудь, чтобы сползти на пол.
— Постой, постой, а где твоя мама? — Зимин покосился на женщину с золотистыми, уложенными венцом косами. И этим венцом, а главное, выражением добрых, чуть усталых глаз женщина напомнила Клавдию, только у Клавдии волосы были потемнее и будто отливали каленым багрянцем. — Ну-ка, Тоня, покажи ее..
Но тут другая, еще меньшая девочка, поглядывая на забавлявшегося Зимина, неожиданно проговорила:
— А мою мамку фашисты убили… За кровать.
Тон этих слов был внешне привычным, обыденным, наверное, произносились они девочкой уже много раз с тех пор, как в ее детское сознание вошло страшное горе, вошло, оставшись необъяснимым, не понятым ею. И именно эта будничность, привычность и заставили Зимина вздрогнуть, хотя за полтора года войны и пришлось ему видеть немало людских страданий. Он вопросительно посмотрел на женщин.
— Это сиротка, тоже наша, тарановская, — объяснила одна из сидевших. — Соседкина дочь. Мы ведь уходили из Тарановки, когда в ней уже бои шли. Вот она о том, что видела, по-своему и говорит — за кровать, мол… Четыре годика ей всего. По малолетству еще не вдумывается…
Зимин бережно привлек девочку к себе, участливо заглянул в ее чистенькие, словно бы промытые утренней росой глазенки. Ох, как трудно, как больно и горько было Сергею Григорьевичу смотреть в такие вот глаза летом прошлого года, когда его полк, отступая, проходил через села дорогами на восток. С тех пор трижды пролил он свою кровь в суровых боях с врагом. Под Можайском, под Белевом и недавно под Сталинградом. Но вот же как бывает, когда отстаиваешь справедливое дело, — взамен каждой капли крови, упавшей на родную, русскую землю, словно бы вернулось, прибавилось множество других и прибавилась с ними неизбывная сила, и, ни в чем не упрекая себя, может он приласкать эту девчушку из незнакомой Тарановки.
— Вы, может быть, и до наших краев дойдете, когда его под Сталинградом доколотят? — сказала женщина, похожая на Клавдию. — Большое село, на шесть километров протянулось. От нашей Тарановки до Харькова два часа езды.
— Дойдем, обязательно скоро дойдем. Не мы, так другие.
Вернулись со двора Торопов и Чертенков.
— Передали, что через двадцать минут в путь, — сообщил Торопов.
Все сели завтракать. Дарья Филипповна проявила еще бо́льшее хлебосольство, чем вчера, и Зимин невольно перевел подозрительный взгляд с блюд, которыми был заставлен стол, на Торопова.
— Упросили, товарищ старшина, честное слово, упросили перенести ее дальше… — смутился и густо покраснел красноармеец. — Сам я, поверьте, ни слова!
…И опять шагала к Дону маршевая рота. После вчерашней оттепели резко посвежело, утренний морозец прихватил подтаявший снег, и теперь ослепительно блистающий наст лег от горизонта к горизонту, сложился в парчовые, словно бы шуршащие складки на ближних и дальних сугробах, на склонах балок и казацких курганов. Широкая придонская степь казалась обезлюдевшей, и только впечатанные в заснеженную дорогу следы гусениц, новеньких шин, колес говорили не об обычном, а о крупном передвижении войск, притом свежих войск, которые прошли здесь ночью и сегодня поутру. Красноармейцам приятно было ступать на этот ровный след, и хрупкий стеклянный снег весело поскрипывал под коваными солдатскими каблуками. С перевала, что поднимался в километре от села, оглянулись, увидели крыши гостеприимного Дарьиного угла, и вновь простерлась впереди — куда ни кинь глазом — чуть волнистая, вспенившаяся барашком сугробов равнина. Красноармейцы шли по ней размеренным, ходким шагом, молчаливо смотрели в открывавшиеся взорам новые дали.
4
Лишь спустя полчаса после того, как была отбита очередная атака фашистов, Скворцов направился в штаб батальона. Напомнил Андрею Аркадьевичу о недавнем вызове тот же Шкодин.
— Товарищ Скворцов, комбат вас ждет, — сказал он, стараясь выдержать прежний бесстрастный тон. Глядя на Шкодина, можно было подумать, что полчаса назад не произошло ничего: не было никакого артобстрела, никакой атаки и он сам, Шкодин, будто и не переживал тревоги и запала, целясь в перебегавших гитлеровцев.
— Пойдем, сынок, пойдем.
Болтушкин задумчиво, как перед долгим расставанием, провожал взглядом высокую, чуть сгорбленную фигуру Скворцова. Когда тот на миг обернулся, Болтушкин махнул рукой: ладно уж, иди, мол.
Однако для чего он, Скворцов, понадобился командиру батальона? Размышляя о причинах вызова, Андрей Аркадьевич вслед за Шкодиным оставил позади хода сообщения и по крутой тропинке стал спускаться в овраг. Здесь, на его западном склоне, была отрыта землянка, где размещался штаб батальона.
Скворцов откашлялся и приоткрыл дверь:
— Можно?
Он хотел, как подобает старому солдату, воевавшему еще в первую мировую, браво вытянуться, браво доложить о себе. Но не рассчитал в полутьме ни высоты землянки, ни своего роста. Стукнулся головой о низкую притолоку, сразу растерялся и выдохнул лишь одно слово:
— Прибыл!
За столом в жидком свете, лившемся сбоку из небольшого окошка, сидели еще мало знакомый Скворцову командир батальона Решетов и командир их роты лейтенант Леонов. Очевидно, они тоже недавно пришли с переднего края. Под только что снятыми ушанками пряди волос сбились, влажно блестели от пота, лица были разгоряченными. С минуту оба смотрели на вошедшего каким-то странно пристальным, отечески участливым взглядом. Казалось, будто та власть, которой наделил их народ, сейчас сделала их старшими, нежели Скворцов, не только по должности, а и по возрасту, по жизненному опыту.
— Ну что, Андрей Аркадьевич, жарко сегодня пришлось? — спросил командир батальона, молодой, но, видимо, немало повоевавший старший лейтенант с бакенбардами, с усами, лихо отпущенными вразлет, как их любили отращивать многие гвардейцы.
— Дело солдатское, товарищ гвардии старший лейтенант, отвыкать от него на нашем веку пока не приходится. — Скворцов все еще недоумевал, зачем его вызвали. Если по какому партийному делу, так был бы при разговоре и парторг. Может, какая-либо весть из дому? А может быть — что скорее всего, — какое-либо особое задание Скворцову? Да, конечно, вот оно…
— Есть тебе, Андрей Аркадьевич… одно важное… поручение, — командир батальона произнес эти слова по-необычному раздельно, словно затруднялся подобрать их, найти наиболее точные. Но Скворцов не заметил этого, польщенный подчеркнуто уважительной формой обращения к нему.
— Слушаюсь, товарищ гвардии старший лейтенант.
— Нужен мне надежный человек в хозяйственном взводе, Андрей Аркадьевич. Опытный, серьезный. На тебе выбор остановил.
Скворцов растерялся, молчал. Неожиданное предложение командира, да какое там предложение — приказ, кому это не понятно, — заставило красноармейца осунуться. Казалось, что еще более ссутулились плечи, еще глубже стали морщины, а их немало набросали на лицо прожитые полвека.
— Так с завтрашнего дня и приступай, — деловито заключил старший лейтенант, делая вид, что не замечает, какое впечатление произвели на Скворцова его слова.
— Болтушкину передай, что через полчаса буду у него, — добавил Леонов, недвусмысленно давая понять, что разговор с командиром батальона окончен. — Да вот и письма, кстати, в роту захвати.
Но Андрей Аркадьевич не уходил. Взял письма — треугольнички, открытки — и по-прежнему стоял у дверей, высокий, нескладный, изредка шевеля узловатыми пальцами, как это делает человек, который порывается и не решается высказать то, что его тяготит.
— Что еще, товарищ Скворцов? — командир батальона уже был официален.
— Обидно, — глухо и сдавленно выговорил Скворцов.
— Обидно? Почему? Что такое?
— Я ведь еще под Перемышлем окопы в четырнадцатом рыл, — заговорил Андрей Аркадьевич, в нарастающем волнении незаметно учащая и учащая речь. — А когда Великий Октябрь, то первым пошел белоказачьи эшелоны разоружать… Потом в Урене снова я за винтовку… Опять же в Самарканде против басмачей… Вернулся в Макарьево, народ ни на кого другого, а на меня смотрит, ждет, как я на селе дело поверну. Беспартийный тогда был, а колхоз организовал и все Макарьево за партией повел. Потом позже председателем сельсовета выбрали, и семь лет ходил с государственной печатью…
Сам над тем не задумываясь, Скворцов нашел наиболее убедительную форму для выражения своей обиды. Не искал слов поярче, погромче, а вот на виду у всех, кто был в землянке, оглянулся на всю свою жизнь, и выходило, что никак не может быть ему дороги куда-либо назад с переднего края.
— Да, милый же ты человек, в хозвзводе, по-твоему, тихая заводь и последние люди там сидят? Да они вместе со всеми нами и в огонь и в воду, — уже примирительно заметил командир батальона.
— Правильно, товарищ старший лейтенант, да только не для этого я все телефоны в райкоме обзвонил… Докучал и секретарю, и военкому.
— Ну что с тобой поделаешь? Ладно уж, дослуживай службу в первом взводе, а мы-то хотели, чтобы полегче тебе…
— Разрешите идти, товарищ гвардии старший лейтенант? — пропуская это последнее признание мимо ушей, приподнято спросил Скворцов.
— Иди!
Андрей Аркадьевич возвращался в первый взвод, кипя от негодования. Теперь понятно, почему Болтушкин провожал его таким взглядом и даже — ишь ты заботник! — прощально помахал рукой. Значит, он знал, что его, Скворцова, хотят направить в хозвзвод. А может, не только знал, а и сам подсказал это командиру? «Эх, Александр Павлович, Александр Павлович!..». Скворцову стало еще оскорбительней от предположения, что именно помкомвзвода, с которым он был в свойских, дружеских отношениях, посчитал его вроде обузой…
А когда часом позже, побывав в обогревалке, Скворцов вернулся во взвод и встретил Болтушкина, встретил его участливый взгляд — такой же, как у командира батальона, — Андрей Аркадьевич ощутил уже не обиду, а глухое раздражение. «Да что они меня полным стариком считают, что ли?..»
— Ты, Александр Павлович, по всему видно, на ножах был с сельсоветчиками, здорово они тебя гоняли, — с укором сказал он.
— Почему так думаешь?
— Да сам же понимаешь, у тебя в первом взводе один председатель сельсовета попался, и то хотел его выжить, да не удалось, милый мой, не удалось. Я бы до самого Кондрата Васильевича дошел с жалобой.
Болтушкин рассмеялся, поняв, что Скворцов догадывается обо всем.
— Ну, это тебе не помогло бы. Разве в ординарцы к нему угодил бы, — напомнил Болтушкин о том, что Билютин, командир полка, также участник еще первой мировой войны, однажды предлагал своему однокашнику Скворцову эту должность.
— Вот бы ты обрадовался тогда! — съязвил Скворцов.
— Да по мне хоть до конца войны рядом, плечо в плечо пройдем. Не в том дело, Андрей Аркадьевич.
— А в чем же?
— Легче тебе там было бы…
— Тьфу! — обозлился и сплюнул Скворцов, второй раз за день услышав это слово. — Сговорились, что ли? Ладно, я незлобивый, получай письмо. Даже не успел глянуть откуда. Жинка, наверное?.. И Злобину весточка, и Нечипуренко… А тебе, Василий, что-то опять, друг, нет… — догадался Скворцов, чье именно дыхание затеплилось у него на щеке. Это Грудинин приподнялся на носках и сзади через плечо Скворцова следил за разбираемой им почтой.
— Не забывает Ивановна моя, — улыбнулся Болтушкин, беря самодельный, склеенный из газеты конверт.
Морщины, сбегавшиеся со лба, со скул к узкой, сухой переносице, белесые брови, также почти сходившиеся в одну, чуть изогнутую у переносицы бровь, всегда придавали Болтушкину сосредоточенный вид. Впечатление этой сосредоточенности еще более подчеркивали глаза — светло-серые, словно бы чуть выцветшие, какие так свойственны тем, кто родился и вырастал под скупым на краски небом Севера. Но сейчас морщины словно бы разбежались, взгляд потеплел, заискрился доброй улыбкой. Плохо гнущимися на морозе пальцами Александр Павлович не спеша раскрыл конверт, стал вынимать письмо, из конверта упала на снег какая-то нитка.
— О! Это ж, мабуть, какой-то женский наговор нашему помкомвзвода, — удивился Вернигора, поднимая льняную нитку с несколькими завязанными на ней узелками. Болтушкин, и сам пока не понимавший смысла присланного сюрприза, читал письмо и вдруг широко и счастливо заулыбался.
— Вот здорово придумала Саша. Не надо и фотографии!.. Это ж потомство, детишки мои, — говорил он, распутывая и рассматривая нитку. — Я у нее в каждом письме спрашиваю, как там дети подрастают? Так вот она мне и ответила… Ну, это, конечно, Галина, ей уже двенадцатый год. — Болтушкин, примеряя ниточку на себе, пустил ее по шинели и изумленно посмотрел сверху вниз: верхний узелок оказался почти у могучего, крепкого плеча. — Вот это быстро растет девчурка!.. А Бронислав, смотрите-ка… уже выше пояса. Ну, а Генка совсем малыш, только-только над сапогом поднялся.
Приценивающимися взглядами добрая половина первого взвода рассматривала льняную, выпряденную, очевидно, домашней прялкой нитку, сопровождая свои наблюдения добродушными замечаниями.
— Ну и навязал же ты, Александр Павлович, со своей Ивановной узелков. Сразу и не разобраться, — искренне восхитился Нечипуренко.
— Да уж немало. Смотрите, вон и четвертый внизу…
— Это Шурка, самый меньший. Я когда на фронт уходил, он еще по полу ползал. А сейчас ишь, тоже подрос.
— А не беспокоишься, Павлович, коль она у тебя такая охочая насчет узелков, без тебя какой-нибудь не завяжет? — подмигнул Скворцов, желая хоть этим вопросом досадить помкомвзвода за перенесенное сегодня волнение.
— Нет уж, не беспокоюсь, — ответил Болтушкин коротко, со спокойной, внушающей веру убежденностью.
— А вот Грудинин переживает, — добродушно усмехнувшись, заметил Злобин.
Грудинин вспыхнул, зарделся и словно бы онемел — таким неожиданным был переход от подтрунивания над Болтушкиным к подтруниванию над ним. Ну, да сам же и был в этом виноват. Как-то не сдержался и, сумерничая в обогревалке, рассказал Вернигоре н Злобину о своей сердечной беде, о Вале, о том неясном, что осталось между ними.
С Валей, работавшей на той же текстильной фабрике, где и он, Грудинин познакомился в клубе. Он занимался здесь в изостудии, Валя — в драматическом кружке. Оба понравились друг другу и за год до войны расписались. Как крепко полюбили они? «Крепко», — думал о себе Грудинин, замечая, как появилась в нем и ревность — эта спутница настоящей любви. Грудинину казалось, что Валя иной раз беспричинно долго задерживается на репетициях, что слишком уж приветлива была с одним из кружковцев, издавна выступавшим на сцене в первых ролях. Странным казалось, что Валя не допускала и мысли о ребенке, не хотела его. И не раз вспоминая все это, Грудинин приходил к выводу, что за год так и не возникла между ними та душевная близость, которая даже разных и внешностью, и характером людей делает все-таки похожими друг на друга, немыслимыми друг без друга. Правда, расставались, когда уходил на фронт, с пылкими клятвами, с горячими напутствиями, но сомнения оставались или, вернее, пробудились вновь. Получал письма, по нескольку раз перечитывал их и не угадывал за их строками ничего, настолько еще мало он и Валя знали друг друга. Она сообщала, что ходит на краткосрочные курсы медсестер. А в последнее время и писем не стало. Да и что письма? Насколько меньше говорили они, чем вот эта простенькая и в то же время сказочная ниточка, связавшая навек две человеческие судьбы. Во взводе знали о переживаниях Грудинина и старались не бередить их. А вот сегодня не сдержались, пришлось к слову, и подшутили.
— Бросьте парня разыгрывать, — строго сказал Болтушкин, снова становясь сосредоточенным и собранным. Нитку он бережно спрятал в конверт, а конверт сунул в боковой карман шинели. — Ну-ка по местам, командир роты идет.
5
Леонов, видимо, пришел с чем-то важным. Солдаты следили, как он, отозвав в сторону помкомвзвода, долго что-то объяснял, кивком головы или осторожным жестом руки указывал на местность, лежавшую перед окопом.
Чуть снижаясь с прибрежной возвышенности, что делало позиции гвардейцев намного выгоднее по сравнению с позициями противника, стелилась в сторону вражеских траншей заснеженная степь. Сталь и тротил кое-где разметали снег, и эти места темнели разводьями в море. Слегка волнистая равнина тянулась вдаль, будто и в самом деле раздольные морские просторы. Чуть приподнявшиеся над ними колья беспорядочно поставленных проволочных заграждений казались на этом величавом просторе жалкими, утлыми снастями кораблей, легко и небрежно разметанных шквалом. А вон там виднеются и выброшенные могучим прибоем, окутанные серо-зеленой тиной трупы. Кто раскинулся навзничь, кто ткнулся в землю боком, кто сбился в предсмертной агонии комком — кого и как гневно кинула наземь крутая, неохочая до шуток волна. После неудачной атаки немцы еще не успели убрать погибших, и их лежало особенно много против окопов первого взвода, куда гитлеровцы нацеливали острие утренней атаки.
Что привлекло сейчас внимание Леонова на этом поле боя?
— Может быть, скоро начнем и мы, братцы? — с оживлением воскликнул Злобин, думая о предстоящем наступлении.
— Да уж, пожалуй, скоро, — проговорил Скворцов, вспоминая то, что ему пришлось заметить, будучи в тылу батальона. — Артиллеристы на плацдарме так и снуют, да и саперы на реке топориками чаще стали постукивать.
— Эх, «языка» бы сейчас хорошего, чтобы всю их карту раскрыть.
— Карта у них сейчас известная… крепко битая, по-сталинградски.
— А думаете, они знают про Сталинград? Им Геббельс такую слюну пустит, набрешет такое, что только уши распускай.
— Не могут не узнать… Все равно должны узнать.
— Когда мы по потылице им дамо, тогда до них дойдет… це вже я знаю, факт.
Леонов пошел дальше, в окопы второго взвода. Болтушкин вернулся к солдатам. Все с нетерпеливым ожиданием смотрели на старшего сержанта. Он сообщил, что сегодня через окопы первого взвода пойдут в ночной поиск полковые разведчики. Надо быть готовыми в случае чего поддержать их, прикрыть огнем.
…Зимний день угасал быстро. В пять часов вечера уже стемнело, к тому же появился туман, и редкие ракеты фашистов словно бы плавали в воздухе огромными, тускло-молочными шарами. Лишь порой они отбрасывали трепетные отблески, да и то не вниз, а вверх, в хмурое, низко нависшее небо.
Время для поиска было самое подходящее, тем более что после недавней атаки гитлеровцы наверняка еще не заминировали проходы к своим окопам, намереваясь ночью выслать санитаров и подобрать убитых.
Четверо разведчиков очутились в первом взводе как-то незаметно и неожиданно для всех, будто все время укрывались здесь же, в нишах. И хотя окопы для них были чужими — не они их рыли, — держали они себя здесь по-хозяйски, бесцеремонно, с фатоватой важностью, как порой держит себя молодой мастер, собираясь показать своим еще более молодым подмастерьям настоящий, высокий класс работы.
Разведчик с неразличимым в темноте лицом подошел к ячейке, где стоял Вернигора, скользнул быстрым лучиком фонарика по высокой гладкой стенке окопа, презрительно проговорил:
— Что ж ты баклуши здесь бьешь? А еще, наверное, наступать собираешься?! Из окопа и не вылезть.
— Не учи, ще молодый, — обиделся Вернигора.
— Молодый! Сказано — пехота… Дай лопату! — повелительно произнес разведчик и быстро, несколькими ударами лопаты вырубил в глинистом грунте стенки пару ступенек.
— Вот тебе и дорога на Украину.
Слева чей-то густой и еще более властный голос тихо спросил:
— Романов, полотенце взял?
— Позабыл, виноват, товарищ сержант, — смутился разведчик, стоявший рядом с Вернигорой.
— Раззява. Что же портянку снимешь, что ли?
— Можно и портянку, товарищ сержант.
— Эх, сказано — разведка! — не вытерпел и тоже иронически протянул Вернигора, глядя, как его сосед присел на патронный ящик и завозился с сапогом. Сержант вынул из кармана шинели припасенную для чистки винтовок ветошь, протянул ее разведчику.
— Что же, в поиск без портянки пойдешь? Бери, вот тебе кляп.
Выждав, когда в небе померкла очередная серия молочно-тусклых шаров, разведчики скользнули за бруствер, исчезли в темноте.
Первый взвод настороженно всматривался в ночь. Она нависла угольным пластом — немая, безмолвная, тяжелая. И как блестки на изломах угольной глыбы, изредка просекал ее золотисто-красный пунктир трассирующих пуль. Минутами тишина представлялась такой безмятежной, что ожидалось — вот-вот ветер донесет крик петуха, песню загулявшихся до поздней поры девчат, скрип колодезного журавля. Но тут же вверху рвались ракеты, наливали тревожно-мерклым светом многосаженные, очерченные черной каймой окружности, и зримо представлялось, каким нечеловеческим напряжением полны там, впереди, каждый шаг, каждое движение.
— Нелегко разведке будет. Немец сейчас пошел беспокойный, не до сна ему сейчас, — озабочено заметил Болтушкин.
— Перехитрят. Ребята, видать, бывалые, проворные, — отозвался Скворцов.
И вдруг кто-то рванул и во всю ширь разодрал черный креп ночи. Грянули ружейные выстрелы, автоматные очереди, слева спохватился и скороговоркой затараторил пулемет, бухнули, упав на дно ночи, гранаты.
— Нащупали. Значит, что-то есть.
— Смотреть в оба, чтобы по своим не ударить, — раздался с левого крыла окопа голос Леонова.
А Вернигора, услышав впереди окопов свист, вложил пальцы в рот и свистнул этаким соловьем-разбойником.
И вот в темноте сперва неясно, а затем отчетливей обозначились приближающиеся силуэты. Над бруствером заскрипели на снегу грузные шаги разведчиков, послышалось их учащенное дыхание. Что-то бесформенное и тяжелое, как куль, свалилось на дно окопа. Вслед за ним, теперь уже облегченно, спрыгнули вниз разведчики.
— Посмотри, не задохнулся ли? — осведомился повелительный голос.
Луч фонарика осветил пленного. Сильная рука рывком подняла его с хворостяного настила. Лицо фашиста казалось маской, настолько неестественно бледным, одеревенелым оно было. Изо рта торчала ветошь. Один из разведчиков выдернул ее.
— Теперь ори сколько хочешь.
Гитлеровец судорожно передернул челюстями, проглотил набежавшую слюну. Он дико озирался на подошедших солдат и указкой поднял кверху палец, призывая к вниманию.
— Будапешт! — воскликнул он, как бы отрекомендовываясь.
— Эге, ишь откуда!
— Далековат адресок.
А пленный помедлил, потом качнул головой, выдавил из себя с суеверным страхом перед чем-то для него непостижимым:
— Ста-а-линград! О! Сталинград!..
— Вот то-то ж воно, що Сталинград.
— Давай, давай! — крикнул разведчик, толчками в спину направляя «языка» к ходу сообщения. — Там будешь исповедоваться…
— Знают! — удовлетворенно воскликнул кто-то из первого взвода. — Знают, сукины сыны!
6
Пятый день в пути маршевая рота. После Покровского ночевали в Самарине, таком же большом селе, где на ночь останавливались в просторном колхозном клубе. Здесь даже удалось послушать по радио свежую сводку Совинформбюро. В районе Среднего Дона наступление наших войск продолжалось, и началось новое наступление на Северном Кавказе, в районе Нальчика. Удваивались, с нарастающей силой наносились армией советского народа удары по врагу.
Взбодренные этими хорошими вестями, бойцы вышли из Самарина веселые, оживленные. С каждым новым километром все явственней ощущалась близость поймы большой реки. Чаще и чаще встречались в низинах перелески, глубже ветвились балки и овраги, принимавшие по весне и лету многочисленные потоки с далеких рубежей водораздела.
Все явственней чувствовалась и близость фронта. В часе ходьбы от Самарина роту обстрелял фашистский самолет.
— Воздух! — крикнул лейтенант, когда зловещая тень летучей мышью скользнула почти над головой.
Самолет подобрался к шоссе по-воровски — низом, со стороны черневшего неподалеку леска. Лейтенант еще в начале марша обстоятельно рассказал бойцам, как поступать при воздушном налете, с добросовестной точностью повторил то, что ему говорили в училище. Да и к тому же большинство людей уже бывало в таких переделках.
Все мгновенно бросились врассыпную от дороги. Лишь один Павлов, отбежав от дороги, заметался на снегу. Не то что он испугался больше других. Пожалуй, наоборот. «Рассредоточиться», — лихорадочно, колесом вертелся в его голове всплывший приказ. Но казалось, что если он упадет недалеко от Зимина или Чертенкова, то тем самым может их подвести, и он побежал дальше, отыскивая тот условный квадрат, где может лечь без помехи для других. Так он наскочил на Букаева.
— Что петляешь, чертова душа?! Падай! — гаркнул сталинградец и своим криком пригвоздил Павлова к снегу.
Над головой, в небе, тошнотно заклохтал пулемет. Казалось странным, что в эти минуты как бы оборвался бешеный гул мотора — хотя, конечно же, он продолжал работать, — слух воспринимал только одно клохтанье, ненавистное, муторное, несущее гибель.
Самолет сделал два захода, выпустил две очереди и скользнул в сторону леса.
— Отбой! — поднялся Букаев. — Все, спектакль окончен.
— Что ж, у него и всего запаса две очереди? — недоверчиво спросил Павлов.
— Будь уверен, на всех нас хватило бы, да уж где-то, наверное, нашкодил, вытратил, ну и на обратный путь хочет приберечь: вдруг да наши перехватят.
Павлов с уважением глянул на Букаева, коротко и спокойно объяснившего поведение летчика. Да, чтобы все это знать, мало того осоавиахимовского кружка, в котором в свое время занимался Павлов. Надо самому не один десяток раз подобно Букаеву побывать под огнем, да и в переплетах покрепче… Это же он, Букаев, участвовавший в сталинградских боях, на вопрос, за что ему дали Красную Звезду, отвечал немногословно, коротко: «Было дело… За спасение командира!..» И все! А что за этими тремя словами — подумать только! Эх, имел бы право он, Павлов, сказать такое!..
Лейтенант, волнуясь, смотрел, все ли бойцы поднялись. Кто-то, неразличимый на снегу, продолжал лежать поодаль меж сухими будыльями, и вещевой мешок горбом выпирал на его спине. К лежавшему подбежали Зимин и медсестра. Это был Чертенков.
— Что, ранен? — встревоженно спросил старшина, видя, что Чертенков и не поднимается и вместе с тем недоумевающе таращит глаза.
— Вроде того… в спину что-то ударило…
— Где? Больно?
— Да не так, чтобы…
Медсестра торопливо снимала санитарную сумку. Ремень сумки зацепился за воротник, на лице вспыхнул румянец замешательства. «Быстрей же, быстрей!»
Зимин наклонился, заметил на вещевом мешке крохотную дырочку с опаленными краями, приподнял мешок, посмотрел на обратную сторону. Там дырочки не было.
— Ну вставай, нечего разлеживаться. Твой вещевой мешок на девять граммов в весе прибавился, только и всего.
— Фу ты, черт, — приподнялся Чертенков. — А я уж другое подумал… А в вещевой мешок по мне хоть и три пуда вложи.
Рота зашагала дальше. В колонне пересмеивались по поводу происшедшего.
— Не хочет нас на фронт пустить, пропуск потребовал.
— Он теперь всюду шныряет, высматривает, где да что, не собираются ли и здесь по морде дать, как под Калачом.
— Да уж и люди, и техника двинуты сюда неспроста.
Дорога обогнула большое озеро и, обходя луг, вильнула влево, пошла по другой стороне озера. Здесь, на пологом берегу, стояли вросшие в лед, кряжистые, с изборожденной глубокими трещинами корой вязы-ильмы, из тех, что растут преимущественно на юге страны. За ними, обозначая неразличимый отсюда проселок, тянулись старые, словно бы перевернутые комлем вверх, ракиты.
— Ну и велики же советские земли, — раздумчиво сказал Зимин, шедший во главе колонны. — Вот уже полтора года шагаю, не одну пару сапог уже истоптал, а все вокруг новое, все новые места. Уж никак не скажешь, что, мол, одно и то же, что примелькалось.
— Что велики, то велики, — согласился Чертенков, и перед ним словно бы легли шесть тысяч километров, которые привели его сюда из далекого Прибайкалья.
До призыва в армию Чертенков работал на станции Улан-Удэ — вначале кладовщиком камеры хранения, затем перронным контролером. Станция была крупная, шумная. Она находилась на главной сибирской магистрали. Важную роль играла и ветка из Улан-Удэ на Наушки, откуда открывалась дорога на Улан-Батор, в столицу Монгольской Народной Республики. Число грузов, перевозимых по этой ветке, изо дня в день возрастало, и станция должна была расширяться. Но Чертенков был недоволен своей работой. Все чаще сходили на перрон из прибывших поездов геологи, буровики, геодезисты, изыскатели-путейцы, звероводы, таксаторы, направляясь в глухие поселки и аймаки Восточной Сибири. Пятилетка разведывала, примерялась перекраивать и эти таежные, необжитые края. А чем был занят он, Чертенков? Перетаскивал обвязанные бечевой фанерные чемоданчики приезжавших, выписывал багажные квитанции. Совсем было собрался рассчитаться и уехать вместе с женой на одну из сибирских строек, но тут грянули события на Халхин-Голе. Через Улан-Удэ заспешили воинские эшелоны, воинские грузы; и уже не с фанерными баульчиками, а с другой поклажей, посерьезней, пришлось иметь дело на товарных рампах. Японской военщине дали по зубам. Снова вернулись мирные будни и с ними прежние замыслы законтрактоваться на строительство, и снова помешала война…
Сейчас, вспомнив все это, он задумчиво смотрел по сторонам дороги и представлял себе свою родную приселенгинскую степь, такую же необозримую, ровную и так много говорящую цепкому, зоркому глазу того, кто вырос на ее широких просторах.
Чертенков первый и заметил далеко от дороги человека, который взмахивал руками и звал к себе.
— Товарищ лейтенант, а ведь это он нам.
Командир маршевой роты всмотрелся из-под козырька ладони. Да, несомненно, человек обращался именно к ним. Сзади него темнело на снегу нечто похожее на ящик, и пять-таки Чертенков догадался:
— Да с ним же машина… грузовая… она в ложбине, наверное, застряла, а кузов вон он, точно!
Лейтенант заколебался. Как поступить? Ясно, что человек просил помочь вытащить машину. Однако из-за недавнего обстрела рота и так потеряла полчаса и имеет ли право еще терять время? Да и потом те, кто на грузовике, сами же виноваты. Почему поехали не по шоссе, а по какой-то проселочной, проходящей в стороне дороге?
Очевидно, человек понял, что рота намерена продолжать свой путь, и сорвался с места, понесся ей наперерез.
— На лыжах! Здорово чешет, мастак, видно! — тоном знатока похвалил Зимин, и сам любивший ходить на лыжах.
Лыжник катился с удивительной легкостью. Вначале казалось, что он движется неторопливо, что слишком уж далеко выбрасывает руку с палкой, слишком уж долго скользит на согнутой ноге. Но расстояние, отделявшее его от шоссе, сокращалось так стремительно, что становилось ясно, какая большая скорость таилась в этом длинном скользящем шаге.
Рота продолжала идти, ожидая команды лейтенанта.
И может быть, ее и не последовало бы, если бы порыв ветра не донес такое странное и вместе с тем такое знакомое Канунникову восклицание:
— Эй, якуня-ваня!..
Только из уст одного человека, да и то в пору своих школьных лет, слышал лейтенант это восклицание, и оно звучало тогда разновременно с неисчислимым множеством оттенков — то восхищенно, то пренебрежительно, то горделиво, то выражая разочарование или отеческий упрек, то добродушно и ласково.
Однако неужели это он? Откуда бы?
— Стой! — короткая команда остановила бойцов.
И вот уже лыжник, раскрасневшийся, разгоряченный бегом, рядом. Горбинка на суховатом носу придавала его лицу повелительное выражение; серые глаза с живым, колким блеском; задиристый ежик волос, выбивающийся из-под сдвинутой на затылок ушанки…
— Петр Николаевич! — изумленно вскричал лейтенант.
Лишь на секунду скользнула тень растерянности в быстрых, твердых, словно прицеливающихся глазах, и сразу же восторженное:
— Эх ты, якуня-ваня, встреча какая!
Мгновенно отбросил палки, лыжи, крепко обхватил лейтенанта, стал целовать в губы, щеки, чуть пригибая более высокого Канунникова.
— Да погоди, погоди… я по-русски, по-русски!.. — приговаривал лыжник, не отпуская лейтенанта, который смущенно пытался освободиться из его объятий — ведь смотрит вся рота. Наконец отпустил, придерживая за плечи, чуть отодвинул назад, как это делают, всматриваясь в понравившуюся картину.
— Что же ты, Леня, заставил меня волноваться? А? Своего учителя, Широнина, не узнал? Про Кирс забыл?
— Да ведь как вас узнать, Петр Николаевич? Кирс-то далеко, никогда бы и не подумал здесь встретиться.
— А где же? Что же, по-твоему, Петр Николаевич историю должен только преподавать, а делать ее будешь ты? Нет уж, Леня, на фронте нам и встречаться. Ты откуда и куда? Рота, вижу, маршевая, наверное, и сам недавно из училища?
— Месяц назад.
— Где заканчивал?
— В Ташкенте.
— Ну, а я в Глазове, Петрозаводское. Оно там сейчас обосновалось… Вот нас война и сравняла, Леня. Оба лейтенанты. Так ты дай команду, чтобы люди помогли вытащить машину, а мы пока поговорим. На меня час назад «мессер» налетел. Шофер начал бросать машину из стороны в сторону и застрял в колдобине.
— Так он и нас после этого обстрелял.
Лейтенант подозвал бойцов, приказал группе их направиться к машине. Следом за солдатами пошел с Широниным к машине и сам. Оба — учитель и ученик — влюбленно посматривали друг на друга.
Лейтенанту зримо представлялся Петр Николаевич, каким он привык видеть его в классе, когда любимый учитель рассказывал о далеком прошлом России. Невысокого роста, с нетерпеливыми, резкими движениями, он не любил сидеть за столом. Излагая тему, Петр Николаевич обычно ходил вдоль парт какой-то задиристой, усвоенной еще в комсомольские годы походкой. Впечатление этой задиристости создавалось и посадкой чуть откинутой назад головы, и выставленной несколько вперед грудью. И о чем бы ни шла речь — о древлянах или кривичах, о Киевской Руси или о заселении Сибири, — урок пролетал быстро и в то же время оказывался необычайно вместительным, интересным, волнующим. Вспомнились лейтенанту и пионерские походы на берега Вятки, вечера у костра, ранние июльские зори — лучшая пора ловли знаменитых вятских язей. Секретами ловли этих язей Широнин щедро делился со своими питомцами. «Эх, что же у тебя за приманка? Разве она годится? Вот возьми мою. На солнышке подержана, язь такую любит». «А ты, якуня-ваня, никогда не забывай сольцы с собой захватить. Поймал, сразу разрежь, жабры вытащи, серединку подсоли да и в сумку…» Все это Петр Николаевич проделывал так искусно, что на всю жизнь потом у Канунникова и у всех его сверстников осталась любовь к русским рекам, лесам, зорькам.
А Широнин, шагая рядом с Канунниковым, с удовлетворением и гордостью думал: «Черт возьми, не так уж он, Широнин, и стар — всего тридцать три года, — а поди ж ты, уже офицерами стали его ученики». И вспоминая то же, что вспоминал лейтенант — школу, пионерские походы, экскурсии, — взыскательно сейчас спрашивал сам себя: а дал ли он им, выходившим в жизненный путь, все, что понадобится на этом пути, подготовил ли их к любым испытаниям? И теперь, на войне, с расстояния в шесть-семь прошедших лет он как бы заново осознавал и оценивал великий смысл и значение каждого слова, с которым обращается учитель к своим ученикам.
Разговаривая об общих знакомых, о родном городе, подошли к машине. Ее кузов был доверху наполнен попарно связанными лыжами.
— Вот мое хозяйство, Леня, — кивнул Широнин на лыжи и почему-то огорченно махнул рукой.
— Так вы в лыжном батальоне, Петр Николаевич?
— В лыжном, — нахмурился Широнин.
— Да что такое, не нравится, что ли?
— Как тебе сказать. Знаешь, сам увлекался когда-то этим делом, да вот только здесь, на юге, оно не ладится. Видишь же, какая погода, оттепель за оттепелью. А ведь впереди не Карельские леса, а Украина. Хоть бы поскорей расформировали.
— А что, и это предполагаете?
— Да ведь чего другого ждать? Ну, еще месяц-полтора, а там и весна… Эх, завидую тебе, откровенно говоря! Ты куда с ротой направляешься?
Лейтенант назвал населенный пункт.
— Так это же к гвардейцам! — обрадовался Широнин. — Мы им тоже приданы. Славная дивизия. Она еще под Москвой гвардейской стала. — И добавил с улыбкой, смотря, как дюжий Чертенков легко плечом приподнял перекосившийся бок машины и с помощью товарищей выровнял ее: — Что ж, пополнение ведешь, по всему видно, хорошее, бравое! А шинельки-то, шинельки какие новые на всех!
Колеса, забуксовавшие в колдобине и разметавшие снег до самой земли, теперь стояли на колее. Надо было расставаться.
Широнин снова порывисто и по-мужски неловко привлек Канунникова к себе, обнял.
— Встретимся, Леня. С плацдарма нам вместе двигаться.
— Вы думаете, что и нас на плацдарм, Петр Николаевич?
— А куда же! Слышали сводку?
— Слышали сегодня в Самарино. Наступление и на Северном Кавказе.
— То-то. Всюду начинается. Значит, и наш час подходит. А раз вы к гвардейцам, значит, на плацдарм. — Широнин сел в кабину и, прежде чем захлопнуть дверку, еще раз поблагодарил всех.
— Ну, спасибо будущим гвардейцам.
— Не за что, товарищ лейтенант. Дело нехитрое.
— Товарищ лейтенант, а что там, на Западе? Может, вы знаете? — спохватился и спросил Павлов.
Но машина уже тронулась с места. Широнин высунул голову из кабинки, на ходу что-то крикнул в ответ.
— Что он сказал, а?
— Кто слышал? — заинтересованно стали переспрашивать друг друга.
— Что-то такое непонятное… трепотания… что ли?
— Трепотня и далее, — с бойкой сообразительностью расшифровал Торопов. — Так, что ли, товарищ лейтенант?
— Триполитания, — догадался и объяснил Канунников. — Там их, союзников, патрули действуют, в Триполитании… Это страна такая в Африке.
— Я же про то и говорю! — выкрутился и невозмутимо заключил Торопов под смех гвардейцев.
Уже с шоссе Канунников долго следил за тем, как по заснеженной степи бежал, все уменьшаясь, широнинский грузовичок.
А Широнин торопил водителя. Хотелось обрадовать товарищей долгожданной новостью: шло подкрепление, значит, близится день наступления, близится битва за освобождение Украины.
7
Есть люди, которых как бы и куда бы ни бросала судьба, они все равно на всю жизнь сохраняют привязанность к тому городу, где родились и выросли, и всегда с особой гордостью подчеркивают это. И пусть этот город будет совсем небольшой, пусть он помечен на карте крохотным кружочком, для тебя он всегда значителен, для тебя он всегда огромен. Ведь ты украсил его воистину сказочно — украсил волнующей памятью о проведенном здесь детстве, о материнской ласке, о своей первой любви, о том дне, когда впервые перешел с отцовского хлеба на хлеб, заработанный своими руками. Сколько бы нового ни приносило время, для тебя это новое становится всего понятней и убедительней на живом примере родного города, и, право же, это не плохо, если такая привязанность не заслоняет всего остального и вызывает уважение к другим, кто верен таким же привязанностям. Думается даже, что и самое высокое, самое благородное чувство — чувство любви ко всей своей Родине — с наибольшей полнотой и силой свойственно именно таким людям. Да и может ли быть иначе, может ли тот, кого не хватило на малое, мечтать о том, чтобы подняться сердцем к неизмеримо большему?
…Широнин любил свой Кирс. В прошлом захолустный поселок, затерявшийся в лесах, в двухстах километрах от Вятки, он в советское время стал городом. Здесь полвека на старом металлургическом заводике слесарили отец — Николай Никитич — и все дядья, здесь полвека проработали дед — Никита Прокофьевич — и прадед.
Северо-восточная часть края, где расположен был Кирс, прилегала к предгорьям западного склона Уральского хребта, и Широнин с детства с затаенным вниманием слушал сказы о башковитом и сметливом уральском мастеровом люде, привык гордиться им. Славился своими умельцами и кирсовский завод. Правда, производство на нем велось допотопное, демидовскими методами, но железо он выпускал чистое, мягкое, благо, что работал на легкоплавких омутнинских рудах.
Подрастал Широнин, и вскоре и другая слава взволновала подростка. Недаром на глазах Петра отец ремонтировал пушки, ружья для партизанских отрядов. Недаром еще в детстве наслушался рассказов о тех суровых днях, когда кирсовские рабочие дали отпор колчаковским бандам, которые хотели через Кирс пробраться на Вятку. Это была слава оружия, поднятого революцией во имя счастья народа, слава подвига во имя народа.
Николай Никитич не раз сурово покрикивал на сына, мастерившего какой-нибудь самопал:
— Ты себе черепок этим не забивай. Дойдет черед и до тебя. Не спеши, твое дело учиться.
— Учиться… когда ни книг, ни тетрадей, ни чернил… С клюквенным соком многому не научишься.
— А вы разве клюквенным пишете?
— А каким же?
— Вот недотепы! Пишите черничным… Черничный и гуще, и темней!
Учение требовало много упорства и позже. Закончив пять классов, Петр поступил в фабзавуч, а он находился в Песковском поселке, в тридцати шести километрах от Кирса. Денег в семье было маловато. Не раз Широниным приходилось задумываться, чем оплатить угол, который снимал Петр на частной квартире в Песковском, чем оплатить харчи.
Когда сын гостил на праздники дома, Николай Никитич, провожая его в обратный путь, укладывал ему в сумку свои слесарные изделия — дверные задвижки, заслонки для дымоходов, оконные шпингалеты и крючки.
— Ну, прокормишься этим месяц?
— Авось прокормлюсь. Ботинки вот только сбились… Новые бы надо.
— Ну что с тобой поделаешь, ладно уж, вот тебе и на ботинки, — отец бросал ему в сумку несколько хитроумных, с особым секретом замков. — Мастерил для матери, хотела она продать да телку купить, ну уж пока по боку телку. Ботинки нужней.
Тяжелая сумка оттягивала плечи, хотя позвякивало в ней всего-навсего железо. Петр веселел и не спеша шагал лесными дорогами в Песковское. А если по пути удавалось собрать со стволов пихты изрядное количество ароматной живицы — ее охотно принимали в любом заготпункте, — то он и совсем уверенно смотрел в свой завтрашний день.
И вот закончен фабзавуч. Петр — столяр-краснодеревщик. Чудесная специальность! Теперь бы обратно в Кирс, на завод. Но ошеломила неожиданная весть — кирсовский завод наряду с некоторыми другими уральскими заводами остановлен, поставлен на консервацию. Надолго обезлюдели корпуса цехов, и только воронье каркало над этим сиротским запустением.
Куда же мог приложить Петр свои охочие к труду руки, если без дела сидели по домам даже старые, опытные заводские мастера? Широнин уехал на поиски работы в другие города. Много изъездил он краев. Он видел свою Отчизну в годы, когда она начинала великий разбег к историческому скачку — превращению в могучую индустриально-колхозную державу. Он видел, как рос Днепрогэс, как вздымались копры новых шахт, как поднимались стены тракторных заводов. Он сам помогал рождению этих гигантов.
Пыльные стройплощадки, оглушающие грохотом бетономешалок… Подводы грабарей, углубляющих котлован… Холодные дымовые бараки…
Как-то в одном из городов его разыскало письмо родных. Они сообщали радостную, обнадеживающую весть: кирсовский завод тоже реконструируется. Вместо демидовского типа плотин, дававших заводу водную энергию, сооружена электростанция. К городу подводится железная дорога, и ветка Яр — Фосфоритная пройдет дальше, в самый глухой, медвежий угол края, где найдены богатые запасы отличнейших фосфоритов.
Широнина потянуло в родные места.
Николай Никитич с затаенной гордостью смотрел на приехавшего сына. Петр покидал Кирс неоперившимся птенцом, но крылья крепнут в полете, и возвратился он возмужавшим, хватким к любому делу, начитанным комсомольцем. За плечами была большая школа жизни. Видно, впрок пошел зачин — отцовские шпингалеты и заслонки, которые помогли сыну в первые годы его учения.
Петр поступил в школу инструктором по труду и одновременно стал учиться в педагогическом техникуме.
Через три года он преподавал историю. Что побудило Широнина выбрать именно этот предмет? Может быть, то волнующее сопоставление старины и нови, которое делало в эту пору столь ощутимым убыстряющийся полет времени над страной?! Разве не об этом стремительном ускорении времени свидетельствовал каждой своей улицей и захолустный Кирс — по годам ровесник Петербурга, — Кирс, встряхнутый и преображенный великим переломом?! Разве не об этом же говорил тот факт, что расположенные поблизости Березовские Починки, куда в свое время царским правительством был сослан Короленко, и Нулинск, где был в ссылке Дзержинский, стали строительными площадками для предприятий, немыслимых ранее в этих таежных лесах?! Наконец, разве не об этом же ускорении времени убеждало все то, что пришлось Широнину увидеть в стране за годы его отлучки из Кирса?!
История Родины, за каждой страницей которой воочию представлялся труд, пот и кровь старших поколений, история, одушевленно творимая руками его ровесников, вызывала обостренный интерес, манила, влекла. Так он выбрал этот предмет и стал одним из самых молодых учителей истории во всей округе.
Встреча с Канунниковым всколыхнула в самых дальних закоулках памяти все это — пережитое и прожитое.
Сейчас, подъезжая к приречному селу, где располагался штаб части, Широнин невольно подумал и о предстоящем — о том, что ждет его самого и Канунникова в грядущих боях.
Не случайно он не утерпел и высказал своему недавнему ученику недовольство пребыванием в лыжной бригаде. Может быть, и не следовало, чтобы не сбивать с толку паренька, так откровенно говорить о своих огорчениях? Армия есть армия! В ней каждому свое место, и угадать ли солдату наперед, где именно и на какие именно весы ляжет его доля, его вклад в победу? Но Широнину трудно было сдержаться и смолчать.
Закончив пехотное училище, он летом сорок второго года был направлен в один из районов Татарии, где формировалась лыжная часть. В знойное лето с утра до позднего времени на специальном лыжедроме красноармейцы тренировались в ходьбе на лыжах. Для этого вырезались в земле длинные углубления, их наполняли ветвями сосны, и лыжи скользили по хвое, как по снегу. Изволь, упираясь палками в горячий песок, делать перебежку; изволь лечь на лыжи и, обучая солдат, переползать по-пластунски, чуть не приникая лицом к острым иглам сосны… Это была черновая, полная условностей учеба солдата. Широнин понимал ее необходимость, и, однако, с какими думами приходилось заниматься ею, когда знаешь, что не условная, а реальная угроза нависла над Сталинградом, когда знаешь, что не условный противник, а озлобленный, ожесточенный враг подошел к берегам Волги…
Поздней осенью часть была направлена на фронт. Она участвовала в боях за Бобров. Затем стала в оборону… А тем временем юго-восточнее грянула Сталинградская битва. Все говорило за то, что вот-вот бои перекинутся и на этот участок фронта.
Маршевая рота, которую вел Канунников, как и встреченные Широниным другие свежие части, подтягиваемые к переднему краю, обнадеживала Петра Николаевича.
Он первый и привез на плацдарм многозначительную весть о том, что подходит пополнение.
8
В этот день первому взводу выпал черед баниться. Болтушкин заранее, с утра, послал к реке Нечипуренко и Злобина, чтобы они натаскали воды да пожарче натопили баню, а спустя два часа повел туда всех своих людей, оставив в окопах дежурным лишь одно отделение.
Если бы с поймы не тянуло знобким, с запахами молодого ледка ветром, можно было бы подумать, что река еще не стала и продолжает свое течение. По верхнюю кромку некрутых берегов налитая морозным маревом, она словно непомерно разлилась, казалась больше, чем обычно, и паровала совсем так, как парует и дымится на ранней июльской зорьке. К этому времени солнце еще не успело отогнать туман в глухие протоки, в прибрежные лески и овраги, и струи даже на стрежне скользили матово-голубые, зыбкие… Сейчас на реке только кое-где темнели не затянувшиеся льдом промоины — следы недавней бомбежки, да у самого берега виднелись проруби, вырубленные саперами для хозяйственных нужд.
У одной из таких прорубей, по краям которой неисчислимым множеством игольчатых граней искрился снег, хлопотали Злобин и Нечипуренко.
— Ну и знатная же баня будет, товарищ сержант! — воодушевленно воскликнул Нечипуренко, завидев Болтушкина.
Красноармеец лихо рванул из проруби пудовое ведро, вода в котором дымилась, как кипяток, рукавом шинели смахнул с лица пот, шагнул к берегу.
— Да вы что же взвод подводите, не наносили еще, что ли? — озлился Болтушкин.
— Полный порядок, товарищ сержант!.. Это мы уже про запас… для любителей студеной. А горячей уже столько, что дюжину кабанов можно шпарить.
В просторной землянке, где находилась баня батальона, действительно было натоплено на славу. Под двумя железными ребристыми бочками из-под бензина, вделанными в приземистую плиту, пожирая валежник, бешено гудело белое пламя. Его залили, приоткрыли дверь, чтобы выветрился угар, и лишь потом стали раздеваться. Андрей Аркадьевич даже пошевелил ноздрями, жадно ловя запахи сухого пара и ржаной соломы, которой щедро был устлан пол землянки.
— Вот это удружили, вот это по-нашему, по-нижегородскому, — приговаривал он, сбрасывая в предбаннике шинель, ватник и прочую солдатскую одежку.
И через минуту, словно бы не поредевший взвод, а по крайней мере рота в полном составе оказалась в землянке, таким шумом она наполнилась.
— Хлестнем еще, а? Еще ведрышко, братцы! — попеременно, с упоенным восторгом кричали то Болтушкин, то Злобин и добавляли еще и еще воды на накаленные каменья печи. И они оба, и Скворцов, и Грудинин норовили побольше хватить легкими того огненно-натомленного воздуха, что был у самого верха, у задымленных черных бревен. А Бабаджян и Исхаков, не привыкшие к таким баням, боялись приподняться с соломы, плескались внизу, где холодным током бродил приятный сквознячок, и только посмеивались над сослуживцами. Злобин озорно распахнул дверь, выскочил наружу в чем мать родила и, исступленно вскрикнув, набрал в пригоршни снега, стал им растираться. Глаза Бабаджяна расширились в неподдельном ужасе.
— Товарищ помкомвзвода, да что же вы смотрите? — не выдержал и закричал он.
— Слышь, Яков, в самом деле, прекрати баловство! — пригрозил Болтушкин расходившемуся Злобину. — Не так уж велика честь в санроту попасть. Закрой дверь.
— Да пусть немец снега боится, а нам он только на пользу.
— Закрой, я тебе говорю, — еще строже прикрикнул Александр Павлович.
Уже кончали баниться, и тут в припертую дверь кто-то постучался.
— Эй, там, скоро ли? Это вам не гарнизонная.
— Потише, потише, тебе-то какое дело, — ответил Болтушкин, зная, что он привел взвод в точно отведенные для него часы.
— Давай, давай живее! — послышался уже и другой голос — грубоватый густой бас. — Нечего других задерживать. Что, женки там с вами, что ли?
— Да кто вы такие? — рассердился на назойливых, раньше времени явившихся сменщиков Александр Павлович.
— Кто? Первый взвод, вот кто!.. Наш черед! — проговорил уже другой, спокойный и деловитый, голос.
— Какой роты? Первых взводов в полку много.
— Восьмой, стрелковой… Да нечего нам допрос устраивать. Не чужие, открывай!
— Вот же шалопуты, вот же нахалы! — не выдержал и возмутился Скворцов тем, что кто-то столь бесцеремонно присваивает имя первого взвода и щеголяет им. — Дурницы захотелось? На натопленное, на готовенькое?
Но подошедших, видимо, не смутить было этим упреком. Дверь затрещала под натиском чьих-то могучих плеч.
— Товарищи, да это ж, мабуть, пополнение, — сам обрадовавшись своей догадке, воскликнул Вернигора.
Это предположение оживило всех.
— А и точно, не они ли?
— Ждем ведь.
— Говорят же, что не чужие.
Не кончили одеваться, открыли дверь. В завихрившихся клубах пара неясно обозначились, наполняя предбанник, кряжистые фигуры. Но вот пар стал опадать, пошел колечками низом. Болтушкин только что собрался натянуть на ногу сапог, а всмотрелся в стоявшего впереди солдата и растерянно выпустил сапог из рук, медленно, сам не веря своим глазам, приподнялся.
— Сергей Григорьевич! Дорогой мой!
— Ну, а не пускал ведь, не пускал, чертова кукла! — узнал и широко, всем своим зарумянившимся на холоде лицом осклабился Зимин.
В короткий миг перед глазами обоих встало их оказавшееся не последним прощание у Яхромы в дни зимней битвы за Москву. Привязав раненого Зимина к спаренным лыжам, четыре километра тащил его Болтушкин по глубокому снегу.
Уже в санроте, когда Зимин был переложен на нарты, запряженные веселыми, шумными лайками, наклонился к помкомвзвода — удастся ли еще свидеться? — крепко приник губами к запекшимся, зачугуневшим от боли губам Зимина. И долго затем смотрел, как по заснеженной равнине со звонким лаем и повизгиванием, с трудом различимая на блестевшем снегу, катилась диковинная упряжка.
— Ну и далече они тебя затащили, собачонки, коль через год только пришлось встретиться, — проговорил Болтушкин после паузы, наступившей вслед за первыми, как обычно, несвязными восклицаниями.
— Тогда-то? Эге, милый мой, да я тогда уже через месяц был на ногах. После того еще в два госпиталя заглядывал.
— Ну, извини, а я думал, что просто припозднился, залежался где-то.
— Где ж человеку нынче залежаться, Александр Павлович? — Разговаривая, Зимин между тем раздевался и сейчас похлопал по икре ноги, где багровел рубчатый шрам, кивнул на него: — Видишь? Это уже последний раз в Сталинграде отметился.
— И там был?
— Пришлось. Да вот и еще сталинградец со мной… — взглядом повел на Букаева. — Одним словом, все ребята хоть куда… Орлы! Как видишь, не теряются.
Орлы и в самом деле не терялись. То и дело хлопала дверь. Чертенков и Торопов уже дважды сбегали на реку за водой. Седых притащил охапку хвороста, и вновь загудело длинноязыкое жаркое пламя.
Обратно возвращались все вместе. С неба срывался сухой, вихлястый снежок, крутыми завитками ввинчивался в придорожные впадины, дымчато стелился по оголенным почерневшим тропинкам, курился и ластился у блиндажных накатов. И без того разгоряченные баней лица красноармейцев зарумянились на ветру еще больше. Но и ветер, и снежок сейчас только бодрили людей, и они шагали неторопко, весело, словно каждого впереди ждало тепло дома, а не пронизывающий до костей холод застуженных окопов.
Зимин и Болтушкин шли рядом.
— Ну, Сергей Григорьевич, отдохни с дороги да и готовься опять принимать взвод.
— Что он, снова без офицера?
— Да, командира нашего еще на переправе убило. А так взвод в полном порядке. Поговаривают, что скоро и автоматы дадут. В общем, бери дела в свои руки. — Болтушкин оглянулся назад на растянувшуюся по склону цепочку бойцов и затем перевел уважительный взгляд на погоны товарища. Старшина! Знать, изрядно поварила его в своем котле война и нелегкие суровые дороги пришлось пройти, если за год трижды повышали в звании!.. А Зимин словно бы отмахнулся от этих преждевременных выводов друга.
— Э, Александр Павлович, такое не нам с тобой решать. Да и что из того взвода, который под Москвой был, осталось? Номер да мы с тобой?
— Обновился, слов нет, обновился. Но не к худшему, я тебе скажу.
— Конечно, не к худшему. Этим-то мы и сильны.
И оба заговорили о давних общих друзьях, о том, кого и куда кинула судьба, вспомнили и тех, кто навеки заснул под могильными холмами в деревнях Подмосковья, и тех, от кого и сейчас нет-нет да и залетит случайная весточка.
Позади Зимина и Болтушкина валко и молча мерили неширокую тропу Чертенков и Вернигора. Для Чертенкова, впервые попавшего на передний край, все было здесь новым, незнакомым: и бережно прикрытый маскировочной сеткой штабель снарядных ящиков, приткнутый у пригорка; и словно завязшие в земле в своих укрытиях автомашины; и провода, множество проводов, подвешенных то прямо на ветках деревьев, то на раскачиваемых ветром легких шестах. И Чертенков осматривался вокруг не столько настороженным, сколько любопытствующим взглядом, тем взглядом, который еще не может отличить, насколько страшна для проходившего по этой тропинке была мина, чей свежий когтистый след виднелся чуть поодаль, насколько опасен был переход через этот увал, дорога по которому в ясную погоду просматривалась и простреливалась пулеметами фашистов.
— Откуда сам, браток? — скосив на Чертенкова глаза, поинтересовался Вернигора.
— Из Улан-Удэ! — охотно откликнулся Чертенков.
— Откуда-откуда? — подивился незнакомому для него названию города Вернигора.
— Из Улан-Удэ… Это за Алтаем, товарищ сержант!
— Улан-Удэ! Ишь ты! — повторил Вернигора и бесхитростно, словно размышляя сам с собой, расписался в том, что отнюдь не всегда у него были пятерки по географии. — Ну подумайте, и такой город, оказывается, есть!
В недавнее мирное время Вернигора не раз мысленно сетовал, что так неладно получилось у него с учебой. Успел закончить всего шесть классов. Надолго и тяжело заболел отец, и пришлось бросить школу, пойти работать в колхоз учетчиком. А позже только собрался ехать на курсы механизаторов, так призвали в армию. Три года, проведенные в ней до войны, и стали первой, по-настоящему серьезной школой. А еще большей житейской школой явилась армия в войну. Из тысяч прошедших перед ним людей, из тысяч знакомств в запасных полках, в госпиталях и комендатурах, в обогревательных и питательных пунктах и, наконец, в окопах вставал тот одушевленный живой облик Родины, который не разглядеть с одной только школьной парты. В огне боев была его Украина, а из глубины страны шли и шли на фронт новые полки, маршевые роты и батальоны — волжане и тамбовцы, уральские и тульские люди, москвичи и казанцы, поморы и сибиряки, казахи и пензенцы, шли с Лены и Енисея, шли с берегов Байкала и Тихого океана… А вот еще и новое — Улан-Удэ!..
— Что за люди там у вас? — спросил Вернигора, присматриваясь к скуластому, словно литому лицу Чертенкова, к чуть раскосым быстрым глазам, над которыми бугрились тяжелые веки.
Чертенкова не обидело это изумление, настолько простодушным оно было.
— Бурят-монголы… Скот разводим, лес валим, зверя бьем, паровозы строим, золото добываем, — усмехнулся и залпом выпалил Чертенков.
— Ты смотри! — восхитился Вернигора. — Главное ж гарно, що зверя бьете. Для цього ты сюда, браток, и послан!
Пригибаясь, бойцы миновали ходы сообщения и соскочили в окоп.
9
И еще в этот день была одна встреча. Но о ней в первом взводе не знали.
Когда взвод возвращался с реки, Грудинин и Торопов шли в конце колонны, замыкали строй. Иной раз трудно и объяснить, что толкает двух порой совершенно разных людей к дружбе. Что могло понравиться Грудинину, чуть ли не по-девичьи застенчивому и скупому на слова и любящему оставаться наедине со своими мыслями, что ему могло понравиться в балагуре Торопове? И что могло понравиться Торопову в замкнутом Грудинине, с которым и шуткой переброситься неловко: вдруг да обидится?! А вот же сблизились за какой-нибудь час. Может быть, Грудинин и сам тяготился своей замкнутостью и не хватало ему рядом приятелей, которые бы беззаботней, повеселей глядели вокруг? Может быть, и Торопов понимал, что не одна «легкость на язык» красит человека. И вот уже называли они друг друга по именам, и уже знали, кто из них откуда и какой путь прошел после тех памятных дней, когда одного в Иваново, а другого в Рыбинске, в общежитии машиностроительного завода, позвали и круто повернули их судьбы повестки военкомата.
— Ты мне скажи, Вася, и долго ж нам тут придется загорать? Страсть такого не люблю. Не по мне это! — порывисто признавался Торопов, чуть опережая Грудинина на узкой, косо заскользившей по склону дорожке.
— Может, уже и недолго… Вас ведь, пополнения, только и дожидались.
— В разведчики просился, когда роту рассортировали, так не послали. У нас, говорят, и без тебя их полный комплект. А в разведке бы лучше было. А? Как ты считаешь?
— Ну это ты зря. Им тоже настоящего дела иной раз месяц приходится дожидаться.
Взвод спустился в балку и проходил по дороге, как бы зажатой близко подступившим лесом. В глубине его меж картинно-пышными узорчатыми елями курились голубоватые и сизые дымки. Порыв ветра донес оттуда сладковатый на морозном воздухе запах какого-то варева, стук швейной машинки. Там шла неторопливая, размеренная жизнь полковых тылов.
— Вася, а Вася, а где у вас санрота? — неожиданно, точно спохватившись, спросил Торопов.
Дивясь такому мгновенному переходу в мыслях Торопова — от лихой разведки к санроте, — Грудинин посмотрел на пышущее здоровьем лицо товарища:
— А тебе на что она?
Тот по-свойски — догадывайся, мол, сам, — лукаво подмигнул глазом, заговорщически толкнул локтем.
— У нас с маршем сестричка шла, всю дорогу с ней болтал. Теперь ее куда-то в санроту направили.
— Вот оно что! — деланно усмехнулся Грудинин.
— Хотелось не потерять след, свидеться. Очень уж хорошая дивчина. Между прочим, она, по-моему, землячка твоя, ивановская. Сама на фронт упросилась. Мать ее вначале отговаривала: разве на фабрике ты не нужна, куда, мол, ты, Валюша. Так нет, настояла на своем…
Под ноги Грудинина словно что-то упало. На секунду он остановился.
— Валюша?.. — проговорил оторопело, недоверчиво, будто сомневаясь, да в самом ли деле сейчас, здесь, рядом с ним прозвучало это имя.
— Валюша! — мечтательно повторил Торопов. — И ты скажи, Васька, крепкая какая! Мы по тридцать — тридцать пять километров в день делали, и она с нами как ни в чем не бывало. Только на привалах все шутя просила — еще бы минуточку, еще бы минуточку посидеть, а потом поднимется, разойдется — и словно самый заправский солдат. Никак не удавалось на ночевках в одну избу попасть, больно уж строг старшина насчет этого, да и она сама… Да постой, ты куда?
Но Василий кинул на приятеля какой-то странно текучий, отсутствующий взгляд, прибавил шагу, обогнал полвзвода и, поравнявшись с Вернигорой, обратился к нему, командиру своего отделения.
— Мне бы на полчаса отлучиться, в санчасть надо.
— Чого це тоби вздумалось? Ну иди, когда треба, — разрешил Вернигора, зная, что кто другой, а Грудинин никогда не попросит лишнего. И через секунду шинель Грудинина мелькнула и скрылась среди заснеженных елей.
Он вернулся в окопы не через полчаса, а уже перед сумерками. Вернигора собирался было его пожурить, но увидел, как в глазах Грудинина плескался какой-то лихорадочный огонь, и смягчился.
— Да ты что, и в самом деле прихворнул? Иди полежи. Сменить нужно будет, вызову.
И вот Грудинин лежит на устланных ветвями сосны нарах. В утлую скрипучую дверь тянет ветер-сиверик. Холод ползет на нары и с земляного пола, на который сапогами нанесены плотно сбившиеся ошметки снега. Холодом веет от заиндевевших, покрытых изморозью бревен наката. Грудинину хочется половчее укрыться шинелью. Он то натягивает ее полы на голову, то подтыкает воротник шинели под спину, точно боится, чтобы вместе с теплом тела не улетучилось и другое, самое дорогое тепло — тепло от только что пережитой встречи. Он заново переживал ее, заново осмысливал всем сердцем…
А было так. Он подошел к землянкам, где размещалась санрота, и в волнении замедлил шаги.
— Мне бы тут одну землячку отыскать, — проговорил он, когда на его стук дверь блиндажа открыла женщина с погонами лейтенанта медицинской службы, в черных роговых очках.
— Землячку? Какую? — переспросила женщина низким строгим голосом.
— Из Иваново… Сказали, что здесь она.
— Из Иваново? Будто бы у нас такой нет.
— Она новенькая. Сегодня только что прибыла.
— Ах, Валя! Так она рядом, вон в том блиндаже.
Сюда Грудинин уже не стучал, а рывком распахнул дверь, шагнул и мгновенно вобрал ищущим взором всю землянку… и ее, сидевшую у единственного оконца… Крохотное, непротертое, оно — да оно ли! — казалось, сейчас залило солнечным светом все вокруг.
Валя растерянно качнулась, привстала, вновь села. А он, даже не посмотрев, есть ли кто еще в землянке, бросился к ней, молча целовал и целовал ее губы, глаза, щеки, обнимал ее плечи, сжимал ее маленькие горячие руки.
— И ничего не написала, злая, ни слова же! — наконец проговорил он, не выпуская из своего взора ее счастливый, увлажненный взор.
— Васенька! Да как же ты можешь такое сказать!.. Это я на тебя обижена, а ты вздумал меня упрекать. Сам почему молчал? Как на курсы ушла, так и ни одного письма. Только и вся надежда, что похоронной не было.
— Ну, так у тебя хоть эта была надежда, а у меня? У меня что?..
Но долго ли можно вспоминать о посланных и недошедших письмах, о старых и новых адресах, о недоразумениях и случайностях, порожденных войной, что перевернула, встряхнула не только их жизни, а и миллионы других!
Валя смотрела мужу в лицо. Ветры и стужи кинули на него не загар, а какой-то темно-красный сургучный оттенок, отчего еще ярче обозначились и голубизна глаз, и светлые, словно поредевшие брови. Еще больше углубилась впадинка на давно не бритом, худом подбородке. Стал тоньше и оттого будто загорбился нос. Неужели милей были теперь эти черты после полутора лет разлуки? «Милей, милей», — признавалось сердце. «Милей, милей», — повторял сам себе и Василий, не отводя ласкающего взгляда от Валиного лица.
Дверь блиндажа распахнулась. В офицерской шинели внакидку вошла женщина в черных роговых очках. Увидев, что Валины руки лежат на плечах красноармейца, она недоуменно поправила очки. Не слишком ли увлеклись земляки?
— Сестра, подойдите помогите Власенко. У нее раненый, — сухо сказала она.
— Виктория Львовна, — Валя поднялась, не снимая рук с плеч Василия и будто опираясь на него. — Это мой муж! Нашелся! В этом же полку!
…И три, и четыре, и пять дней назад Грудинин, как и все на плацдарме, жил думами о предстоящем наступлении, нетерпеливо ожидал его. А между тем только сейчас он в полной мере почувствовал себя душевно готовым к нему. До этого смутно тяготила мысль о том, что оставалось недосказанным между ним и Валей, недосказанным в их судьбах, в их жизни. И это томило, как томит человека, собравшегося в большую дорогу, неясное сознание чего-то незавершенного. А дорога, в которую вот-вот должен был позвать его властный голос командира, — триста метров, отделявших наш передний край от вражеского, — была самой непостижимо дальней и неизведанной из всех дорог.
10
Части, сосредоточенные на плацдармах в верхнем течении Дона, в том числе и в районе Сторожева, перешли к активным боевым действиям в середине января. Это совпало с тем временем, когда командование окруженной под Сталинградом группировки противника отклонило наш ультиматум и советские войска повели бои по ее уничтожению.
Подставляя свою обреченную группировку под тяжкий молот танковых и артиллерийских ударов и ударов с воздуха, страшась дальнейшего продвижения наших войск на запад, на Украину, гитлеровцы прилагали лихорадочные усилия, чтобы удержать за собой рубеж Воронеж — верхнее течение Дона — нижнее течение Северного Донца. С этой целью спешно перебрасывались из Западной Европы резервы, сколачивались подвижные ударные группы. Но советское командование не склонно было давать оккупантам ни дня, ни часа передышки. И Воронежский фронт начал наступление.
…12 января, еще задолго до рассвета, Зимин, Болтушкин и Скворцов были вызваны в штаб батальона. Уже один тот факт, что они — три коммуниста — одновременно понадобились так внезапно и в такое неурочное время, позволял догадываться, что долгожданный час настал.
Рассвет рождался в зимней ночи томительно медленно. Над окопами долго не рассеивалась сумеречная, схожая с поздним вечером мгла, а едва только тускло обозначилась и стала подниматься чуть повыше темно-серая парусина неба, как трое отлучившихся вновь были в окопах.
Казалось, что все трое они пришли не из такой же зябкой, пронизанной сырыми туманами ночи, какая склонялась над окопами, а спустились с близкого крутого перевала, по ту сторону которого над обрезом горизонта уже заискрился бодрящий краешек солнца, забрезжило раннее утро. Его первые отблески словно бы и сейчас лежали на разрумянившемся лице Зимина, придавая ему торжественную значительность, воодушевленность. Такой же трудно скрываемой значительностью узнанного светились и глаза Болтушкина, Андрея Аркадьевича…
Это заметили все.
— Сегодня? — не выдержал и, знобко, взволнованно прищелкнув зубами, воскликнул Нечипуренко и тут же, смутившись — не приняли бы это за трусость — переспросил уже спокойно и почти утвердительно: — Наверное, сегодня, товарищ старшина?
— Сегодня, товарищи! — словно освобождаясь от ожидаемой всеми и лежащей на его плечах ноши, выдохнул Зимин.
Трое коммунистов сразу же разошлись в разные стороны по крыльям окопа, как люди, уже заранее обдумавшие, что именно велит им делать это коротко прозвучавшее «сегодня».
Недавно Зимин принял от Болтушкина первый взвод. Правда, перед этим, размышляя, кому из них какое место отвести во взводе, и командир роты, и командир батальона оказались в некотором затруднении. И это было естественно. И Сергей Григорьевич и Александр Павлович — хоть первый был моложе на три года — выглядели, как близнецы, вскормленные одной мамкиной грудью, выросшие в одной семье, воспитанные в одной и той же определившей их характеры и натуры среде. И тот, и другой председатели колхозов имели уже немалый опыт в руководстве людьми. Этот опыт терпеливо и настойчиво прививала им, в прошлом батракам, партия. Она, партия, научила их, как сплачивать людей в их движении к поставленной цели, научила считаться с большим и малым в этом движении, научила находить те простые правдивые слова, которые всегда трогают и волнуют душу человека своей бескорыстной и бесхитростной прямотой. Почти одинаков был и их военный опыт. Болтушкин даже имел в смысле солдатского стажа некоторое превосходство. Он с начала до конца прошел всю финскую кампанию, вызвавшись в армию добровольцем, благо, что начало той кампании застало его на курсах, откуда отпустить человека на фронт было легче, чем с поста председателя колхоза.
Над всем этим, взвешивая биографии обоих, и задумались командир роты и комбат. Решили — раз Зимин все-таки был званием повыше и — главное — прошел самую к тому времени высшую ратную школу — школу Сталинграда, — накануне наступления исполняющим обязанности командира взвода, до присылки на эту должность офицера, назначить Зимина, а Болтушкина — его помощником.
В короткий срок Зимин быстро познакомился со всеми людьми. Лично пережитое подсказывало ему, что своей самой существенной стороной они предстанут не в окопном затишье, а потом, в наступающем горячем деле. Сейчас, после партийного собрания, шагая по устланной хворостом траншее, Зимин поочередно передавал бойцам в окопах столь знаменательную для каждого из них весть, а она неведомыми путями уже обогнала его, катилась впереди.
— Так, значит, сегодня, товарищ старшина? — тем же вопросом встретил его Вернигора и, форсисто закатив обшлаг шинели, глянул на свои пятнадцатикамневые, доставшиеся еще в битве под Москвой трофейные часы. — Без двадцати девять, наверное, в девять начнем, а?
Зимин тоже вынул часы, старинные, еще отцовские, с пожелтевшим циферблатом, те, над которыми не раз посмеивались на совещаниях в районе и которые были хорошо известны своей точностью во всех бригадах усовского колхоза.
— Твои отстают, Вернигора, поставь по моим, сверенные…
— Ну, чертова ж трофейщина, никак не выдрессирую их по нашему времени, — обозлился Вернигора, снял варежку, желтыми протабаченными пальцами завертел шляпку часов, — а ведь в девять, чует мое сердце, что в девять.
Зимин и сам точно не знал, когда начнется наступление, знал только, что ему будет предшествовать длительная артиллерийская подготовка.
— Нам тогда сигнал дадут, такой сигнал, что хоть уши затыкай, все равно услышишь.
— Так это уж я знаю! — восторженно подхватил Вернигора. — Не впервые такой сигнал слышать. Недаром ребята жалуются, что позади нас нигде и под куст не присядешь, куда ни сунешься — или пушка, или миномет… сгоняют нашего брата… А мне, товарищ старшина, и сон сегодня в руку приснился. Повез я будто из своей Михайловки в Николаев кавуны продавать, крупные, херсонской породы, большие. И вот еду через мосточек, а доски под колесами так гуркотят, так гуркотят…
— Ну ладно, Вернигора, ладно, — засмеялся Зимин, — ты лучше скажи, как твое отделение, готово?
— Как штык, товарищ старшина. Когда узнали, вчера трижды проверил.
— Что узнали?
— Да про наступление…
— Откуда же ты узнал строжайшую военную тайну?
Вернигора посмотрел на Зимина несколько растерянно: что он, шутит, хочет ввести в заблуждение или говорит серьезно?
— Да дело ж солдатское, товарищ старшина. Саперы ведь еще с вечера на передний край пошли работать. Разминировали проходы… Тайна тайной, а нашему брату догадаться можно… Потому и мы с ночи начали готовиться. Потому и говорю, что все, как штык!..
Зимин усмехнулся, махнул рукой — что уж тут толковать…
— Ну что «как штык» — это главное. Украину ведь идем освобождать. Немцы ее легко не сдадут… Дай бог, чтобы про арбузы ты завтра досказал и чтобы я завтра тебя дослушал.
Зимин пошел дальше. Ему, конечно же, надо сейчас свидеться не с Вернигорой, под шинелью которого на груди уже давно была приколота медаль «За отвагу», а с Чертенковым, Павловым, Злобиным, Фаждеевым, людьми еще не обстрелянными.
— Постой, погоди! — крикнул он, увидев впереди Павлова.
Правда, Павлов никуда и не порывался идти; он сидел на корточках в витке окопа и, только что старательно отерев пальцем внутренние стенки раскромсанной тесаками консервной банки, собирался отправить остатки ее содержимого в рот.
— Куда спешишь? Погоди, говорю, — сказал, подходя, Зимин.
Лицо Павлова — как яблоко, и розовое и округленное, — выразило недоумение. Недоуменно, словно призывая к вниманию, замер и палец с белым, как снег, лярдом.
— Так ведь, товарищ старшина, не я один, все ребята сейчас съестное подбирают, здесь солому только и оставим. Сытому идти теплее…
— Эко ты о каком тепле думаешь. А еще вологодский. Небось зимой не раз на охоту ходил, — дружески журя красноармейца, Зимин чуть ковырнул ногтем лярд, размазал его на ладонях и энергичными движениями стал втирать в щеки, — вот что надо с ним делать…
— Да вроде бы мороз небольшой, — оправдывался красноармеец.
— В лесу небольшой, в окопе тоже, а в степи, как ветерок потянет, сразу побелеешь. Ты знаешь, сколько, может быть, сегодня придется нам километров отмахать? Не знаешь? То-то!
Пока красноармеец обеими руками втирал в свое еще более раскрасневшееся лицо смалец, Зимин взял его винтовку, цепким и приметливым взглядом осмотрел ее, проверил, исправно ли действует затвор, хорошо ли закреплен штык, а под конец обеими руками поднес ее плашмя к губам — словно собирался поцеловать, — бережно сдунул какую-то соринку и с секунду смотрел, как ожила и матово замерцала согретая теплым дыханием сталь.
— Винтовка у тебя ладная, Павлов, — сдержанно похвалил Зимин не то красноармейца, не то его оружие. — Зачем идешь и куда идешь — тоже знаешь, говорили не раз. И силенка у тебя, я вижу, есть, сноровки только не хватает. Мой тебе, друг, совет, когда начнется, держись за нами, посматривай на Вернигору, на Букаева, на Болтушкина. Тебя в обиду не дадут, ну и в… в остальном будь счастлив.
Будничная, обычная взыскательность, с которой Зимин осмотрел винтовку, а затем подсумок, лопату, подвешенные к поясу гранаты, не могли не внушать спокойствия. Спокойствием веяло и от всей осанки старшины. Истончившееся сукно старой шинели так плотно, без единой складки, обтягивало его чуть выпяченную вперед грудь, что, казалось, под ним был не ватник, а кольчуга, в какой в старину ходили в бой его земляки — нижегородские люди. Все это, и слова старшины, и его полный деловитого достоинства вид, вызвало у Павлова то нужное перед атакой состояние духа, при котором человеку сопутствует пусть не хладнокровие — его не может быть в такие минуты, — но известная выдержка, ясность мысли.
— Спасибо за доброе слово, — просто сказал он Зимину, своему однолетку.
…Уже пошел одиннадцатый час, уже вернулись на свои места и Скворцов, и Болтушкин, так же как и Зимин, беседовавшие с бойцами, а ничто пока не нарушало тишины и размеренного хода дня. Восточный низовой ветер погнал дальше туманы, пришедшие из-за Дона, и открывавшаяся взору снежная равнина выглядела мирной, спокойной, и даже частокол проволочных заграждений, будучи полузанесен сугробами, казался просто-напросто бодыльями подсолнечника, оставленными в поле.
Вернигора то и дело посматривал на часы. Стрелка подходила к одиннадцати.
— Ну, братцы, если и в одиннадцать не начнется, значит, отложено, — с отчаянием выкрикнул он, глядя, как сходятся обе — большая и маленькая — стрелки.
Но вот они плотно сомкнулись и будто тут же, мгновенно, силой возникшего контакта привели в действие гигантский часовой механизм. Рвущийся залп сотен, а может, и тысяч орудий тяжело сотряс небо и землю, гулкой, урчащей волной покатился по склонам балок и оврагов, и еще впереди не обозначилось ни одного разрыва, как второй, еще более могучий залп на миг качнул все, что охватывал взор, и сумрачная, зубчатая гряда леса со сказочной внезапностью поднялась и зачернела на снежной пустыне. Словно отдаляясь, она, эта гряда, изменила свои очертания, осела книзу и затем вновь, как в стеклах бинокля, приблизилась. Взметнулись косматые черные султаны, вот их больше и больше, они теснятся, громоздятся, становятся выше и выше. Их тени стремительно скользнули повсюду по снежному полю, и оно стало схожим с тем, каким бывает, когда яркое зимнее солнце неожиданно заволакивается тучей и уже не солнечные лучи, а их отраженный, мертвенно-серый, зыбкий свет ложится на белые просторы.
— Глядите-ка, глядите-ка, что-то там у них взорвалось, — не услышанный никем, крикнул Шкодин.
Очевидно, один из снарядов попал в склад с боеприпасами. Добела раскаленные молнии ударили трезубцем снизу вверх, просекли темно-дымчатый клубящийся вал и потухли уже высоко в небе. Шкодин приподнялся над окопом и вертел из стороны в сторону изумленными, оторопелыми глазами, чтобы видеть всю картину артиллерийского наступления.
Если бы каждый снаряд из тех, что падали впереди, поражал хоть одного врага, что бы осталось там впереди живого? Но и те, которые не поражали, делали свое нужное дело — взрывали минные поля, разметывали проволочные заграждения, обрушивали стенки окопов, методично крушили давно и тщательно подготовленную немецкую оборону. Андрей Аркадьевич, стоявший недалеко от Грудинина и Шкодина, когда раздался первый залп, невольно снял — да так и позабыл надеть — ушанку, замер на месте.
Букаев артиллерийскую подготовку видел не впервые и сейчас не следил за ней. «Каждому свое», — говорил его сосредоточенный вид. Он жадно затягивался цигаркой и торопливыми точными ударами лопаты прорубал в стенке окопа ступеньку, чтобы удобней было в нужную минуту, не мешкая, подняться вверх. Но когда позади словно кто-то по-богатырски рванул и распахнул на заржавевших петлях дверь и все окрест завизжало, заскрипело, загромыхало, а в небе вспыхнули зарницы, не выдержал и Иван Прокофьевич, глянул за бруствер на работу гвардейских минометов.
— Вот это вещь! — залюбовался он.
Впереди — и вправо и влево — всюду, куда мог достать взор, горизонт затянуло аспидно-бурой завесой; на миг она напомнила Букаеву заводские дымы Донбасса. Может быть, и там, южнее, тысячи, десятки тысяч бойцов сейчас вот так же изготовились и ждут сигнала к атаке.
…Над окопами взлетела, бросив на снег кумачовые отблески, ракета, и тут Букаев, сплюнув окурок, чувствуя, как сердца коснулся уже не раз изведанный щемящий ледяной холодок, в один мах вскочил на бруствер… Все последующее лихорадочно замелькало в сознании несвязными обрывками, разрозненными кусками… Белое как бумага исступленное лицо бежавшего рядом Шкодина… Чуть поодаль сгорбленная фигура Скворцова… Очередь трассирующих пуль, которой Зимин на ходу указывал взводу полосу его движения… Вернигора, оступившийся в заснеженную воронку; выкарабкиваясь, цепляясь за ее края, он оставил на снегу варежку и не шагом, а прыжками рванулся догонять отделение… Кровь глухо, толчками колотилась в ушах Букаева, и они, эти толчки, сливались в непрерывный, все усиливающийся гул… Лишь немного спустя, кинув взгляд в сторону, Букаев понял, что это стучит не кровь, а что нарастает и нарастает раскатистый гул неисчислимого множества голосов… «Ура-а-а!..» И тогда сам, запекшимся ртом хватая морозный воздух, закричал это слово, точно с ним можно было быстрее пробежать страшные триста метров, отделявшие их от врага.
…А позади опустевших окопов в одной из штабных землянок командиры танковых частей, предназначенных для ввода в прорыв, склонились над картой и в последний раз уточняли пути наступления. Назывались Горшечное, Дергачи, называлась и Казачья Лопань — первое село на украинской земле…
11
Отделение Вернигоры бежало вслед за одним из танков. Грузная, многотонная махина «тридцатьчетверки», казалось, сейчас наполовину освободилась от своей тяжести, полегчала и взлетала на выбоинах и воронках удивительно проворно, неслась — только поспевай за ней — вперед и вперед.
Стремительно вращавшиеся гусеницы срывали и отбрасывали назад спрессованный траками снег, больно бьющие в лицо комья мерзлой земли. Но Вернигора, Букаев, Злобин, Нечипуренко не уклонялись в сторону, держались почти вплотную к гусеницам, зная, что скорость танка спасительна и для них, чувствуя свою полную слитность с теми, кто сидел за броней, у узких прорезей прицелов.
В нескольких десятках шагов тяжело ухнул в снег снаряд, пронеслись осколки, пахну́ло кислой гарью разрывов. Вернигора на ходу обернул к товарищам искаженное яростью, горевшее злым багрянцем лицо, что-то дважды крикнул, крестом распростер руки. Цепь тут же разомкнулась, стала реже.
Исхаков вначале, так же как и все, кричал «ура», а сейчас, когда совсем близко, с неотвратимой отчетливостью застучали фашистские пулеметы, он оборвал крик, еще более прибавил шагу. Зубами ожесточенно закусил губу, словно сдерживал ими боль, готовую вот-вот хлынуть во все тело. Бежавший впереди Бабаджян внезапно точно споткнулся и стал резко — чуть ли не по кругу — забирать левей и левей. Исхаков бездумно тоже побежал влево, а когда ефрейтор, словно завязнув в сугробе, упал, и сам хотел упасть рядом с ним. Но Бабаджян выбросил вперед руки и так торопливо и судорожно стал загребать скрюченными пальцами снег и все, что было под ним, что Исхаков понял — ефрейтору больше не подняться, и отшатнулся обратно вправо, к отделению Седых.
В изломанной, но размеренно перебегающей цепи все чаще и чаще стали рваться снаряды и мины. Немецкая артиллерия заранее пристреляла на ничейной земле каждый квадратный метр и теперь усилила огонь по танкам. Один из них, тот, который поддерживал соседнюю роту, уже недвижно стоял на снегу, и танкисты в черных комбинезонах, переползая с места на место, сновали вокруг него.
Сколько времени прошло после взлета ракет? Три минуты? Пять? Семь? Но не больше, хотя никто из бежавших — будь внезапно спрошен об этом — ни сейчас, ни позже не ответил бы. А за эти минуты все поле, лежавшее между нашими и фашистскими окопами, преобразилось и полнилось уже деловитой и строгой хлопотливостью.
Низко приникая к земле, перебегали санитары. У пушек, выдвинутых на прямую наводку, суетливо работали расчеты. Артиллерийские наблюдатели и связисты наспех обосновывались в еще дымящихся воронках. А те, кто пять-семь минут назад сделал ничейную землю обжитой, еще только подбегали к вражеским траншеям. Наша артиллерия к этому времени перенесла огонь в глубь обороны, и сизая завеса разрывов, будто сгоняемая ветром, отходила назад.
Движимый одной лихорадочно волнующей мыслью — сблизиться, скорее сблизиться всем взводом с засевшими в траншее гитлеровцами, — Зимин перескочил через свисавшие с кольев оборванные проволочные заграждения и уже видел, как мелькали над бруствером каски немцев, увидел сорванный разрывом снаряда и отброшенный по ту сторону траншеи фашистский пулемет… Рядом с собой он слышал тяжелый бег и прерывистое, сиплое дыхание Павлова. Все триста метров он не отдалялся от Зимина ни на шаг… На миг у Сергея Григорьевича мелькнуло опасение: не слишком ли торопил он людей, хватит ли у них сил для ближнего боя? Но тут же это опасение заслонила другая сразу надвинувшаяся опасность…
Прямо перед ним из-за искусно замаскированного в снегу пулемета приподнялось перекошенное страхом мелово-бледное лицо. Над лбом с растрепавшимися жиденькими волосиками подпрыгивали очки, и то ли они, то ли в ознобе ужаса трясущиеся руки мешали гитлеровцу пустить пулемет в ход.
Зимин полоснул очередью, но — рассчитаешь ли на бегу? — она оказалась неточной, прошла выше… Лицо пулеметчика злорадно искривилось.
— Стой, стой! — внезапно закричал Павлов, непонятно к кому обращая свой крик и на полкорпуса выдвигаясь перед Зиминым. Может быть, этот вопль еще на секунду продлил замешательство фашиста. Когда жуткий синеватый дымок вырвался из дула пулемета, Павлов был уже на бруствере и, уставя штык в грудь стрелявшего, не ударил, а силой всего тела навалился на винтовку и сам как-то странно, обессиленно сунулся в окоп лицом вперед.
Зимин пружинисто спрыгнул на дно широкой траншеи. Влево и вправо незнакомо ветвились ходы сообщения. Из-за изгиба одного из них навстречу выбегали фашисты… Зимин выдернул чеку гранаты, плотно вжался всем телом в неглубокую нишу, метнул ее им под ноги. Тут же вслед за сухим треском разрыва выскочил и лицом к лицу столкнулся с одним из бежавших, хотя можно ли было назвать лицом эту сплошь — от лба до подбородка — залитую кровью рваную рану, рот, исторгавший безумный крик. С разбегу ударившись о Зимина, гитлеровец мешком осел, отвалился на спину.
В глубине открывавшегося взору длинного хода замелькали серо-зеленые шинели других фашистов, выскакивавших из блиндажей. Зимин нажал спусковой крючок и похолодел: автомат молчал. «Все, конец», — понял, что диск кончился, а вставить другой уже времени нет… Но тут же на миг затемнило небо. Откуда-то, громыхнув гусеницами, налетела и навалилась на этот ход громада танка. Он вздыбил бревна блиндажных накатов, стал уминать бруствер, стенки траншей и все, что в них было; грузно покачнулся, пошел вперед. Вслед за танком в траншею стали спрыгивать бойцы отделения Седых.
Чертенков, подбегая к траншее, не заметил выдвинутой вперед стрелковой ячейки. Может быть, он так бы и миновал ее, но что-то жгуче защемило чуть выше локтя левой руки, и она ослабела. Чертенков ловчее перехватил правой рукой шейку винтовочного ложа, замедлил шаг. Тут-то он и увидел справа от себя двух фашистов, ведущих из ячейки огонь. Чувствуя, что ладонь деревенеет и он не сможет верно направить винтовку, Чертенков свалился в тесную ячейку между двумя немцами и — коренастый, грузный — как бы заклинил их, сковал все их движения. Все трое несколько секунд ошарашенно смотрели друг на друга, не в силах повернуть даже плечи. Чертенков впервые в жизни видел вплотную перед собой ненавистный, окаймленный белым фашистский погон, видел, как над расстегнутым воротом тужурки ходуном ходит костлявый, острый кадык, еще выше — покрасневшие от ячменей, простуженные веки, налитые злобой глаза. Один из фашистов сдавленно захрипел, попытался выпростать руку, чтобы достать пистолет или нож.
— Сюда! — закричал Чертенков и, поднимая кверху лицо, напыжился, растопырил локти, еще сильней притиснул обоих к стенкам окопа. На них набежал чуть поотставший Скворцов. Стрелять нельзя. Не попасть бы в своего. Тогда Андрей Аркадьевич поднял винтовку, сверху вниз прикладом нанес такой удар по каске гитлеровца, что вогнал ее края в плечи.
— Га-а-х! — тяжело выдохнул Скворцов и взметнул винтовку для второго удара…
Первая вражеская оборонительная полоса была вскоре прорвана, бой уже перекидывался и за вторую.
По ранее ничейной земле теперь уже во весь рост шли раненые, посыльные, навстречу им двигался людской поток, в котором были хозяйственные и санитарные взводы, подводы с боепитанием, и какой-то ездовой-артиллерист отчаянно переругивался с другим ездовым — пехотинцем, неторопливо поправлявшим соскочившие с вальков постромки. До этого артиллерист чувствовал себя неплохо, едучи вслед за товарищем по проложенному им первому колесному следу. А тут на тебе — остановка. Не выдержал и, ругнувшись поотчаянней, хлестнул лошаденку, направил ее в сторону, по снежной, еще не разведанной миноискателями саперов целине, обогнал товарища, на миг почувствовал и себя героем…
С неба навис и как бы лег на плечи идущих низкий, басовитого тембра металлический гул. Шли наши штурмовики. Вначале они старательно подравнивались друг к другу, словно бы желая порадовать своих четким, слаженным строем, но вот вдалеке, развернулись веером, пошли к замеченным целям, и спустя три минуты окрест покатилась урчащая волна взрывов.
Уже сгущались по-февральски ранние сумерки, когда Зимина в неизбежной толчее наступления разыскал связной и передал приказ остановиться, дать людям короткий отдых. К этому времени в прорыв уже входили подвижные соединения, и бой откатывался дальше и дальше на запад. Туда, на запад, к уже неразличимому горизонту, над которым рдели зарницы орудийных вспышек, мчались по дорогам батареи самоходок, гвардейские минометные установки, танки с десантом на броне. Автоматчики в дубленых полушубках и маскхалатах с уважением смотрели на рассеянных по изрытой окопами степи и теперь собиравшихся повзводно и поротно стрелков. Они, пехотинцы, — и те, что продолжали идти, и те, что остались лежать, — уже свершили свое дело, свой большой зачин.
12
Зимин собирал людей в просторном, очевидно, штабном блиндаже. Пока налицо была только половина взвода. Всех валила с ног усталость; однако не она, не усталость, делала собравшихся в блиндаже бойцов в первые минуты молчаливыми, неразговорчивыми. Вот и перешагнут рубеж, о котором не раз думалось в эти дни, и каждому хотелось наедине разобраться в пережитом, перед глазами каждого стояло недавнее…
Четверть часа погодя в жестяной печке забилось пламя, блиндаж наполнился теплом, и словно оттаяла пасмурная молчаливость людей. Вновь ожило — уже в расспросах, в репликах, в восклицаниях — оставшееся позади напряжение боя.
— Сам видел… осколком его! — рассказывал, поводя жарким тревожным взглядом, Фадеев о Бабаджяне. — Может, ранило, а?
— Насмерть! — кинул Злобин. На его руке белел перевязанный у запястья бинт, и Злобин то и дело сгибал и разгибал пальцы, проверяя, не отказывают ли они. — Бабаджяна насмерть, это точно. Меня медсестра перевязывала и говорила, что подбежала к нему, а он уже не дышит. Да, Василий, о тебе она спрашивала, — Злобин вскинул взгляд на Грудинина. — А что я ей мог тогда сказать? Жив, говорю, и, выходит, не ошибся.
— А кто Павлова видел? — спросил Зимин, вспоминая, как Павлов выручил его у немецкой траншеи и сам свалился в окоп.
— Павлов ранен, товарищ старшина, — ответил Нечипуренко. — Мы когда с Кирьяновым пробегали по окопу, он просил хоть приподнять его, а то затопчут, говорит… Приподняли, оттащили в сторонку… В ногу его будто…
— А что с Букаевым, так и не знаю, — подхватил Петр Шкодин, которому больше других хотелось сейчас рассказывать и рассказывать. — Мы с ним все время вместе были. А неподалеку от вторых траншей он куда-то в сторону побежал. Я было вдогонку за ним, а тут, смотрю, немецкий офицер из блиндажа выскочил, без шинели, без фуражки. Я стал его нагонять. Он в меня хотел пульнуть из пистолета, да промахнулся сперва… Мне-то промахиваться уже нельзя, штыком докончил. Потом, слышу, левее гранаты разорвались, кричу: «Букаев, Букаев!..»
— А он тут как тут, черт полосатый! — распахнул дверь и шумно ввалился в блиндаж Букаев. — Ты что, не хоронишь ли меня?
— Да нет, я рассказываю, как разбежались мы, я ведь звал, — растерянно проговорил Шкодин.
— Звал!.. На прогулке, что ли? За мной бы надо…
— Так офицера ж увидел… За офицером погнался.
— Подумаешь, невидаль какая! А я на пятерых фрицев наскочил… Еле-еле отбился. Спасибо, Торопов помог. Правда, самому ему не повезло. Ранило. Будто бы не тяжело. Еще шел… А ты говоришь — офицер, офицер!..
— Да офицер-то, видать, из важных, погон витой, серебряный, — оправдывался Шкодин и зашарил рукой в кармане шинели. — Я даже не утерпел, пистолет его подобрал, больно уж нарядный…
Пистолет, вынутый Шкодиным, выглядел действительно нарядно. Обычной системы парабеллум был изукрашен так, как украшают дорогое оружие. Все части пистолета покрывали никель, на рукоятке красивой формы золотая пластина с выгравированной на ней большой надписью.
— Кто прочтет? — предложил Шкодин. — Тут что-то и про Геринга…
Грудинин взял оружие и, заинтересовавшись не столько надписью, сколько изяществом отделки пистолета, вертел его в руках. Надпись так и не успел прочесть. В землянку шумно ввалился Болтушкин с термосом за плечами. При виде его все оживились, и даже Шкодин сунул пистолет в карман, потянулся к голенищу за ложкой.
— Нехай немцы сухой паек грызут, а мы и горячее заработали, — сказал Вернигора, принимая от Александра Павловича термос и ставя его на стол.
Не затемняя окошка — немцам сейчас не до полетов, — зажгли одну из валявшихся в блиндаже плошек, принялись за еду. Тепло блиндажа и горячая еда окончательно разморили солдат.
— Эх, сейчас бы минуток сто, — блаженно проговорил Злобин, делая вид, что собирается прикорнуть на стоящих в углу нарах. Но никого не соблазнило это предложение. Не до него. Кто пополнял опустевшие патронные сумки, кто наспех подшивал оборванную шинель, кто просто грел руки у огня.
Букаев затянулся первой с начала наступления цигаркой и философски посматривал на обстановку немецкого блиндажа. Его всегда изумляло обилие бумаги в жилье, покидаемом гитлеровцами. Вот и сейчас весь пол был завален книжками, брошюрами, отпечатанными на глянцевой бумаге иллюстрированными журналами с фотоснимками марширующих солдат и каких-то девиц, бесчисленным множеством газет, в заголовках которых была оттиснута свастика.
Иван Прокофьевич с трудом снял отсыревший сапог, нагнулся к газетам.
— Статистики утверждали одно время, — размышляюще заговорил он, — что культура — это если побольше потребляешь мыла. Потом стали говорить, что тот культурный народ, кто больше тратит бумаги. А что же сейчас получается, други мои?.. Разве не ясно, что тот всех на свете культурней, кто больше уничтожит этого бумажного геббельсовского дерьма? Пользуйтесь цайтунгами, товарищи. И тепло, и ходко в дороге!..
Все, в том числе и Зимин, и Болтушкин, с шутками последовали примеру Букаева, стянули сапоги, стали обвертывать ноги сверх портянок газетами.
Открылась дверь, и торопливо вошел Чертенков с каким-то незнакомым ефрейтором, у которого на боку висела сумка с красным крестом.
— Товарищ старшина, — с порога взмолился Чертенков, увидев Зимина, — да скажите, чтобы он от меня отвязался.
— Что такое?
— Ранэн он, — вместо Чертенкова стал объяснять ефрейтор, выговаривая слова с каким-то восточным акцентом. — Ему в санроту надо, а он еще воевать хочет.
— Да перевязал же ты меня, чего еще тебе надо?
— Былютин приказал ранэных в санроту… ему видней… выполняй приказ. Красноармеец ты или не красноармеец?
— Постой, постой, — остановил ефрейтора Зимин и обратился к Чертенкову: — Куда ты ранен?
— Да вот немного в руку, ну, царапина же… Я сам его и попросил, чтобы он меня перевязал, а он теперь меня не отпускает, привязался, видно, больше делать нечего.
— Сейчас идты, а потом за тобой кого прикажешь посылать? А? — настаивал на своем ефрейтор.
Но тут за дверями блиндажа лязгнул танк, зашумел мотор. Кто-то отворил дверь и, не входя в блиндаж, крикнул:
— Здесь первый взвод?
— Здесь, товарищ лейтенант, — откликнулся Зимин, узнав голос Леонова.
— В ружье! Выводи людей, сажай на танк!
— Есть на танк!
Едва ли не первым выскочил из землянки Чертенков.
— Ну я же тебе говорил отвяжись, — на ходу бросил он санитару. — Видишь, машина ждет? Не до тебя сейчас.
Глуховатая тишина стояла над завечеревшей степью. Танк, приняв на броню первый взвод, рванулся вперед.
13
Полуторку мотало и заваливало на ухабах дороги из стороны в сторону, и Павлов на устланном соломой дне кузова ожесточался, стискивал зубы и стонал при каждом резком толчке. Он уже было притерпелся к боли в бедре, но когда машину встряхивало, казалось, что помимо этой раны, которая, не переставая, прожигала огненным лампасом тело от колена до поясницы, мгновенно дают о себе знать множество других, и трудно было повернуть даже шею. Приподнявшись, он заколотил кулаком о стенку кабины. Что за бесчувственный человек там за рулем, не щебенку ведь везет, неужели нельзя ехать потише? Шофер обернулся. В окошке забелело совсем юношеское, испуганно вопрошающее лицо, и Павлов понял — водитель такой же новичок, как и он сам, и волнуется, переживает за попавшийся ему непривычный груз, за свою беспомощность на этих проклятых рытвинах. Павлов с отрешенной досадой махнул рукой: ладно, мол, дьявол тебя побери, гони дальше!
Однако, поднявшись, вроде бы было легче. Павлов осмотрелся. В кузове кроме него было еще трое раненых. Защищаясь от налетевшего сверху морозного с серебристой пыльцой ветра, они плотно натянули на головы воротники шинелей, скрючились и лежали недвижимо и молчаливо. Может быть, угрелись и задремали, а может быть, их уже не беспокоит ничто, хоть бы и вверх колесами полетела в кювет эта чмыхающая бензиновой гарью таратайка?
Усаживаясь поудобней, Павлов носком сапога боязливо и осторожно тронул сапог своего соседа с черными петлицами на воротнике шинели, и тот нехотя поджал ногу, что-то болезненно проворчал. Жив!..
Павлов чуть приободрился. Превозмогая боль, он принуждал себя подумать о чем-либо хорошем, приятном в том повороте своей судьбы, к которому подвел его этот день. Полуторка давно миновала недавний передний край и теперь на пути к медсанбату или походному госпиталю ехала полями, мирный вид которых, как и мирные гостеприимные дымки, синеющие в хуторах, должен бы в конце концов успокаивать, навевать раздумья умиротворенные, снимающие тревожную тяжесть с души. Ведь коль поразмыслить, обороты стертых скатов снова приближали ту привычную жизнь, из которой Павлова на его сороковом году нежданно вырвала война, — знакомую, добела выхлестанную дождями изгородь околицы Верхнего Рыстюка, теплые домовитые избы и среди них самую желанную, ту, где без устали сноровисто хлопочут руки Анны, где не смолкают голоса детишек — Зины, Николая и еще третий, самый крикливый, голосок, Валькин, зазвучавший на белом свете всего за несколько дней до повестки военкомата…
«Вот и отвоевался солдат?» — безмолвно, про себя воскликнул Павлов, предугадывая слова, с которыми он переступит порог дома. И однако, подведя этот свой итог, он ничего хорошего, что могло бы успокоить сердце, так и не почувствовал. Подступала необъяснимая гнетущая тоска, мысли пасмурно раздваивались, сосредоточиться на какой-либо из них было трудно, и в конце концов он вернулся к самым сейчас близким — заново стал переживать свой первый и, пожалуй, последний бой…
…Главное, чего он страшился, когда во время атаки бежал к немецким окопам, — это отстать от Зимина, оказаться одному, поступать только по своему разумению, а что уразумеешь при своей неопытности? Все то, чему учили в запасном полку, растерял в сумятице боя, едва пробежав сотню шагов. Погибать же по своей дурости, как желторотый перепел, нет ничего хуже. А рядом с Зиминым он себя чувствовал крепко, уверенно, надежно. Поэтому так и испугался, когда увидел, что гитлеровский пулеметчик вот-вот своей очередью лишит его этой опоры, испугался и, ни секунды не колеблясь, заслонил Зимина. Да еще и закричал этак простецки: «Стой! Стой!» — как закричал бы в лесу на какого-либо порубщика, чей топор воровски замахнулся на дерево, которое хотелось во что бы то ни стало сберечь. Пулеметчик после короткого замешательства все-таки нажал на спусковой рычаг, но полоснул уже не Зимина, а Павлова. И он, Павлов, расправившись штыком с гитлеровцем, упал и, пока Кирьянов и Нечипуренко не оттащили его в укрытие, видел, как Зимин вовремя пустил в ход гранату, видел, как на подмогу подоспел танк и вслед за ним ввалились в окоп бойцы отделения Седых, видел, как первый взвод продолжал свой тяжкий бой… Потом уже в нише, затягивая ремнем ногу, чтобы до прихода санитара не обессилеть, не истечь кровью. Павлов слушал, как отдаляются разрывы гранат и треск автоматов, и, разгоряченный схваткой, мысленно все еще был вместе с ними, с Зиминым, Седых, со всеми своими товарищами по взводу…
Где они теперь?
Дорога кружила, поднимаясь на обледенелый холм, и сейчас, если вглядеться пристальней, можно было заметить протянувшуюся по горизонту темно-бурую полоску. Небо над ней испещряли черные крапинки — то ли наши, то ли чужие самолеты, — и, когда они снижались к земле, края полоски становились рваными, зубчатыми, как на почтовой марке. Фронт отодвигался дальше, на запад… И Павлов, всматриваясь в горизонт и с волнением прислушиваясь к своему сердцу, понял, что в эту большую войну, в которую он сегодня вступил, у него помимо того дома, что в Верхнем Рыстюке, появился и еще один такой же дорогой ему дом — первый взвод, с которым он на всю свою жизнь породнился пролитой на глинистое дно окопа кровью…
Полуторка, урча, осиливала разъезженную сельскую улицу, поравнялась с указкой, на которой был изображен красный крест, и въехала в забитый машинами двор. Подошли санитары, откинули борта кузова. Павлова понесли на носилках в небольшое двухэтажное здание. И когда на крыльце его санитары едва не столкнулись с санитарами, которые несли беспокойно ворочающего своей стриженой башкой Торопова, Павлов порывисто приподнялся. С внезапно нахлынувшей радостью он крепко вцепился рукой в жердь оказавшихся так близко носилок.
— Сашко!
— Михалыч!
Лицо Торопова на морозе разрумянилось, как всегда, выглядело плутоватым, улыбчатым, и только по обкусанным, обветренным губам можно было догадаться, что и он перетерпел немало.
— Братки, — взмолился Павлов. — Поставьте нас рядышком… Сослуживцы мы, с одного взвода.
— С одного взвода! А если с одного полка или с одной дивизии, тоже всех рядышком? Пусти носилки, не цепляйся, — осердились санитары, но все же уступили просьбе и в коридоре поставили носилки почти впритык.
Операционная размещалась в станичном Доме культуры. На одной из дверей в коридоре и сейчас висела табличка: «Вход после третьего звонка воспрещается». Эта дверь то и дело распахивалась, вносили и выносили раненых. Павлову и Торопову полагалось бы сострадать, сочувствовать друг другу, что им довелось очутиться здесь, где мучаются люди, где им обоим предстоит застонать под ножом хирурга, но они словно позабыли все сострадательные слова, непритворно довольные тем, что оказались вместе.
— Главное, Михалыч, чтоб кость была цела, а мясо нарастет, — ободрял Торопов.
— Да кость вроде не тронута, я до полуторки худо-бедно, а сам ковылял… Это уж тут меня на носилки взвалили…
— Ну вот и хорошо. Я же видел, ты не только Зимина, ты и других выручил. Та клятая вражья душа пулеметом многих скосила бы… Я успел стороной проскочить, уже в окопе осколком задело, наверное, в мякоти и остался… Это не беда! Еще повоюем! Ты за меня держись, Михалыч, чтоб вместе… Я с медициной разговаривать умею… Выкарабкаемся и упросимся в свой, в семьдесят восьмой, в тот же взвод…
— Вот и я об этом думаю…
— Держись за меня, слышь, Михалыч!.. Вместе будем. Не отставай!.. — кричал Торопов и тогда, когда его первым понесли на носилках к двери с табличкой.
14
Близилось сретенье — по народному поверью время встречи зимы с летом. Выпадали дни, когда еще во всю свою полную силу мела злая пурга. Обманчивая, увертливая поземка вилась по дорогам Харьковщины, перекрывала недавно наезженный путь снежными косами-отмелями, громоздила на околицах сел увалы, доверху засыпала поспешно откопанные и так же поспешно брошенные немецкие траншеи. Но уже не раз ложилась на землю сверх затвердевшего наста и печатная пороша, при которой на мокром снегу отчетливо — до каждой иззубрины коготка — видны следы не только тяжелого матерого зайца, а и самого молодого. Все круче и круче поднималось над горизонтом солнце, чаще и чаще поглядывало из-за туч на это извечное единоборство зимы с летом и любовалось им, ускоряя исход поединка.
В такое разнопогодье едва ли не хлопотней всего приходилось на этом участке фронта лыжной бригаде, в которой служил Широнин. В середине января бригада вошла в огромную брешь, пробитую гвардейцами во вражеской обороне, и, взаимодействуя с танкистами, сбивая гитлеровцев с промежуточных рубежей, прошла более двухсот километров. Лыжники участвовали в боях за Старый Оскол, Старый и Новый Мерчик, Валуйки, наконец, за город Ольшаны, со взятием которого над гитлеровскими войсками, находившимися в Харькове, нависала угроза окружения. Но неустойчивая погода затрудняла дальнейшие успешные действия лыжников. Приноравливаясь к ее капризам, они в иной день дважды, трижды меняли на лыжах мазь, а сейчас и это уже не выручало. Бригада расположилась на вынужденный отдых в небольшом селе недалеко от Ольшан. Но не отдыхали и дня. Стало известно о расформировании соединения.
И вот сейчас, после бессонной ночи, занятой сдачей имущества, Петр Николаевич стоял около регулировщицы на выходе из села и дожидался попутной машины. В кармане гимнастерки лежало предписание, которым он откомандировывался в гвардейскую дивизию. А погода словно бы решила напоследок опять пошутить. После ряда дней оттепели сегодня с утра вновь припустил снег. Белая завеса то нависала прямо над головой, то рассеивалась под порывами ветра и рвалась на косые, хлесткие полосы. Широнин нетерпеливо всматривался в дорогу, уходившую к Харькову. Канонада, которая накануне день и ночь гремела со стороны города, сегодня утихла, и лишь порой восточный ветер доносил глухое урчание орудийных залпов.
Словоохотливая регулировщица в плотно надвинутой на лоб и наглухо завязанной у подбородка шапке-ушанке, из-под которой выглядывали смышленые светло-карие глаза и аккуратненький маленький носик, говорила всем подходившим к КПП:
— Освободили… Утром броневичок проезжал с офицером связи, он и сказал, что освободили… Еще позавчера бои на Холодной Горе велись.
Эта весть — взят Харьков! — и обрадовала Широнина, и несколько смутила. Он знал, что два дня назад штаб гвардейцев находился северо-западнее Харькова, а а где его искать теперь, куда направиться!
— Да вы б уже прямо на мою Полтаву, товарищ лейтенант, — пошутила регулировщица и тут же стала рассказывать, что сама она из Полтавы, работала там на мясокомбинате — может, слышали, лучший был на Украине? — а в армию пошла добровольно, жаль только, что не попала в артиллерию, ну да и здесь работа живая: в наступлении только успевай поворачиваться.
То ли девушке скучно было оставаться одной на развилке дорог, то ли и в самом деле хотела лейтенанту лучшего, но она упорно уговаривала его подождать какой-то особо удобной машины из хозяйства Перепелицы.
— Оттуда, от Перепелицы, все найдете…
«Перепелица, Перепелица…» — кружилась в мыслях Петра Николаевича эта когда-то слышанная и не могущая не запомниться фамилия. И вдруг вспомнил веселого тучного подполковника из второго эшелона гвардейцев, который как-то на плацдарме выручил лыжный батальон, одолжил ему в трудную с горючим пору бочку бензина.
— А где сейчас хозяйство Перепелицы?
— В Ключах. Это сорок километров отсюда. Говорю же вам, подождите.
Подошедшая вскоре грузовая машина оказалась отнюдь не такой уж удобной. В кабине сидел капитан. В кузове высились снарядные ящики с отстрелянными гильзами. Под их малиновый перезвон, оглушенный этим перезвоном, Широнин спустя полчаса въезжал в Ключи, где находился полк, в который он был направлен представителем гвардейской дивизии.
Немцы сожгли село еще, очевидно, в первый год войны. На огородах и пустырях виднелись полузасыпанные снегом замысловатые геометрические фигуры жести, сорванной с крыш, обугленные сваи построек; лежали массивные, в два обхвата, дубовые колоды, на которых, наверное, не одно поколение девчат устраивало свои гулянки; кто-то, видать, тщетно пытался подзапастись дровишками, нарубить щепы на растопку, да только даром иззубрил топор: не поддался мореный дуб, остался лежать и ждать поры повеселей. А пока людское жилье переместилось под землю и обозначилось дымками: они курились из сохранившихся каменных подвалов домов, из погребов, из землянок. В большинстве своем крохотные, в одно неказистое окошко, они были выкопаны старательными женскими руками. Но попадались и вместительные с длинными, крутыми гребнями, отстроенные впрок, на добрый десяток лет. Уж не на этот ли срок рассчитывали их владельцы, гадая, как и куда повернет свои ход война?
В одной из таких землянок и разыскал Широнин штаб полка. Его принял сам командир части, пожилой, лет пятидесяти, полковник, сидевший за столом в фуражке и шинели.
— Билютин, — коротко буркнул он, протягивая и пожимая Широнину руку.
Даже ясно-голубые с льдинкой глаза не молодили его лица. Седые волосы, седина в усах. Прочтя предписание, полковник устало посмотрел на Широнина.
— Лыжник?
— Так точно, из лыжного батальона, товарищ гвардии полковник! — выпрямляясь всей своей сухонькой фигурой ответил Петр Николаевич.
— Ну, лыжники мне, пожалуй, уже не нужны, ни к чему… к весне дело идет… Вы что в лыжном батальоне делали?
— Помощник по материально-техническому обеспечению.
— А такие и подавно не нужны. Хватает таких… А вот командиров взводов маловато. Как вы на этот счет?
— О другом и не думаю, товарищ полковник…
— Ну это и хорошо… Это и хорошо, — сразу как-то подобрел и смягчился Билютин и, подойдя к дверям, крикнул: — Филиппов, посмотри, не ушел связной из третьего батальона?
— Сейчас узнаю, товарищ гвардии полковник.
— Сюда его!
Через минуту у порога браво пристукнул каблуками и замер в ожидании приказа Петя Шкодин.
— Отведешь лейтенанта к Решетову и скажешь, что бы он мне через полчаса позвонил.
— Слушаюсь! Отвести и позвонить! — Петя приглашающе — пошли, что ли? — посмотрел на Широнина, и тот обратился к полковнику:
— Разрешите идти?
— Идите.
В сенях Широнин нашел свой вещевой мешок.
— Давайте я понесу, товарищ гвардии лейтенант, — кинулся к вещмешку Петя, догадываясь, что лейтенант направляется в батальон не по каким-либо командировочным делам, а насовсем.
— Да нет уж, привык сам его таскать, — отказался от предложенной услуги Широнин. — И кстати, я еще гвардейцем не стал… Это поторопился ты меня так повысить.
— Так станете, у нас быстро станете! — убежденно воскликнул Петя.
Они вышли на улицу. Снег продолжал падать, но над селом синело в небольшом просвете небо, в нем кружила «рама», и где-то на огородах изредка нехотя били зенитки. На самолет никто не обращал внимания. Меж двумя оголенными черными вязами дымилась полевая кухня. К ней ребячьим мелким шагом, позванивая котелками, бежали солдаты, и было непонятно — то ли кухня только что прибыла и солдаты, заждавшись ее, изголодались, то ли, наоборот, собирается уезжать и повар бросил по ротам веселый клич — подобрать оставшееся. По задворкам с бухтами проводов шагали и перекликались связисты, и опять не понять было, то ли часть собиралась сниматься, то ли только что прибыла и обосновывалась в селе всерьез, надолго. Широнин спросил об этом Шкодина.
— Оно и так, и этак, товарищ лейтенант, — охотно стал объяснять Петя, довольный тем, что он первый введет нового офицера в курс дела. — Сейчас ведь у нас вся война такая… Утром расположились будто на неделю, а к вечеру снова в дорогу. Надо же пользоваться тем, что фриц растерялся. Иной раз и бутерброд получается. Мы уже далеко впереди, а они еще не успели отойти, лезут потом по ночам отовсюду, как черви. Ох, сколько ж их в Харькове один наш взвод перебил… Вот бы вам, товарищ лейтенант, к нам, в первый взвод…
— А чем же ваш первый взвод так уж знаменит?
— Так у нас же полная дружба народов. Со всех республик и краев собрались. Это раз! А два — начальство-то какое! И председатели колхозов, и председатель сельсовета, и художник, — восторженно стал перечислять Шкодин и запнулся, не зная, кого еще добавить к этому перечню. Разве Букаева, Кирьянова, Нечипуренко?..
— Ну, в такое начальство, а может, и повыше и ты наверняка попадешь после войны, — усмехнулся Широнин.
— Нет, я, откровенно вам сказать, после войны на какой-либо большой завод хочу податься. Больше всего на авиационный тянет. Вы сами, товарищ гвардии лейтенант, не по заводскому делу раньше были?
Чуть забегая вперед Широнина, искоса бросая на него пытливые взгляды и по-прежнему нет-нет да и присваивая ему гвардейское звание, Петя пытался точнее определить, что именно представляет собой его спутник. За тридцать лет, а только лейтенант. Значит, не кадровый, из запаса.
— Был и по заводскому, а в последнее время учитель! — сказал Широнин.
— О-о! — только и смог обрадованно воскликнуть Шкодин и после паузы, доверительно, словно желая предстать перед недавним учителем в наилучшем свете, сообщил: — А я же в тридцать девятом в Артеке был, товарищ гвардии лейтенант. Наша дружина на всю Курскую область славилась. Меня, как председателя совета, и послали. Правда, потом, когда вернулись, одна промашка вышла, сейчас неловко и говорить…
— А все-таки что за промашка? — полюбопытствовал Петр Николаевич, которому все больше и больше нравился сопровождавший его паренек.
— Вернулся из Артека, а тут освободительный поход начался, я и сбежал из школы, поехал в Западную Украину. Эх, думаю, была не была, или орден заработаю, или выговор.
— И что же?
— Да выговор. Меня дальше Шепетовки не пустили. И разжаловали с председателя.
— Ну, а в финляндской не участвовал? — придавая вопросу самый серьезный тон, поинтересовался Широнин.
— В финляндской не пришлось. Туда еще дальше… Все равно бы не доехал. Да знаете ж, товарищ лейтенант, дело было мальчишеское, — попросил отнестись к нему снисходительно Петя. — Все не терпелось. Кто ж его знал, что через три года так получится…
В штабе батальона Широнин представился командиру старшему лейтенанту Решетову, рыхлому блондину с пушкинскими бакенбардами. Здесь беседа была еще короче. Решетов отчитывал какого-то старшину за пропавшую и до сих пор не найденную подводу с боеприпасами. Старшина стоял навытяжку, не шевелясь, уставив на комбата кроткие немигающие глаза, точно смирившись с тем, что ему будет учинен по крайней мере двухчасовый разнос. При появлении незнакомого офицера Решетов не отпустил старшину, но прервал разнос, бегло просмотрел документы Широнина.
— Пойдете к Леонову, — после минуты раздумья решил он, — примите первый взвод. Шкодин, отведи, — и сразу же — теперь ведь Широнин стал своим — вновь повернул к старшине гневное, раздраженное лицо.
Побывав и у командира роты, Широнин вместе со Шкодиным теперь шел к стоявшим поодаль от села полуразрушенным постройкам фермы, где размещался первый взвод.
— Взяли бы вы меня к себе, товарищ гвардии лейтенант, — говорил по пути Шкодин, обрадованный назначением Широнина.
— Так ты же в первом взводе и есть.
— Я не про то… Ординарцем бы к себе.
— Мне, друг, ординарец не полагается.
— Ну, просто бы так, как это, вестовым, что ли?.. Надоело все по штабам да по штабам. А вот и наш взвод. Не поскользнитесь. По приступочкам… Осторожнее… Их тут не разглядеть.
15
Постройка, в которую вошли Широнин и Шкодин, была без потолка и крыши — всего-навсего четыре заледеневшие стены, по-сиротски стоявшие в степи. Они укрывали лишь от ветра. У одной из стен шумно, без умолку трещали два костра.
У веселого, жаркого огня сгрудились красноармейцы.
Слышался ровный голос, каким обычно читают письмо, и он то и дело обрывался смехом и замечаниями собравшихся.
— «Сегодня, товарищи, у нас праздник: торжественно сдали завхозу костыли. По этому поводу разрешили себе и сто грамм».
— Не теряются ребята!
— Торопов насчет этого расторопный.
— «Выпили за ваше здоровье, друзья, — продолжал ровный голос, — за наш первый взвод, и не думайте, что повеселели, ни черта; наоборот, такая смертная госпитальная тоска взяла, что выпимши и письмо это стали писать, может, вы хоть душок почуете…»
— И за это спасибо!
— Напишите им, товарищ старшина, что и у нас это добро в наступлении бывает.
— Товарищ старшина, — позвал Шкодин Зимина. Тот обернул потемневшее, разморенное теплом лицо, глянул на вошедших чуть слезящимися и от смеха и от едкого дыма глазами. — Вот товарищ лейтенант к нам в первый взвод.
Зимин шагнул к Петру Николаевичу, и Широнин протянул ему свою сухонькую, легонькую руку, уважительно пожал зиминскую — загрубевшую, будто набрякшую в только что законченных хлопотных трудах.
— К нам, командиром? Давно ждем, товарищ лейтенант, — прояснилось в мягкой, дружелюбной улыбке лицо Зимина.
У костра обернулись и тоже с нетаимой заинтересованностью смотрели на прибывшего офицера Чертенков, Букаев, Кирьянов, Болтушкин.
— Ну вот и дождались, коль ждали. — Петр Николаевич переводил пристальный взгляд с одного красноармейца на другого, и невольно возникала мысль, что где-то и когда-то — по крайней мере, вот этих троих или четверых — уже видел. Это чувство было настолько смутным, что сейчас не стал разбираться в нем, прошел мимо расступившихся солдат к первому костру, поближе к языкастому, приветливому пламени.
— А жилье у вас, товарищи, скажем прямо, неважнецкое, — Широнин глянул в небо, с которого продолжал валить снег. — Не гостиница «Москва».
— И то хорошо, что не в голой степи, товарищ лейтенант, — отозвался Кирьянов, а за ним и другие.
— Та всэ ж таки затышок!
— Чего еще в наступлении?
— Фриц нам здесь блиндажей не успел приготовить.
— На кой ляд они нам и нужны.
— Наше жилье сейчас такое… Отогрелся, ноги на плечи — и дальше! — проговорил Букаев своим сиплым баском, которому непогода и бездомные ночевки придали еще более густой, низкий тембр.
А Петр Николаевич, услышав этот басок, щупнул взглядом быстрых глаз крупные черты лица Букаева и вновь ощутил прежнее, пока безотчетное чувство чего-то знакомого.
— Где-то мы с вами будто встречались? — спросил он, пытаясь из тысячи фронтовых встреч выхватить памятью ту единственную, о которой ему напоминали эти лица.
— Может, и встречались, товарищ лейтенант… Из-за Дона идем.
— Из-за Дона? Так правильно же… Вот там и виделись. На марше. Неподалеку от Самарина. Так ведь?
— А, вспомнил и я, — осклабился Зимин, и сам теперь узнавая лейтенанта с лыжами. — Мы вам помогали тогда машину вытащить. Вы еще насчет шинелей посмеялись, новые, мол, слишком.
— Верно, было такое… Ну, а шинельки у вас после того пообносились, слов нет, пообносились, а-я-яй, я-яй! — Широнин шутливо качал головой, окидывая взором действительно побуревшую, словно мятую вальками одежду красноармейцев.
Вон чья-то — зазевался ее хозяин — прихвачена костром; другую не полоснул ли шальной, горячий осколок?
— О том не жалеем, товарищ лейтенант, — деловито заметил Кирьянов. Ему показалось, что глаза лейтенанта остановились именно на его шинели, рукав которой в одной из атак под Холодной Горой был разодран немецким штыком и теперь наспех заштопан. — Фрицу Харьков больно уж понравился, не хотел с ним расставаться, выковыривать пришлось с каждого переулка.
— Вот же как на фронте получается, на две тысячи километров он размахнулся, а с кем не встретишься! — довольный сегодняшним совпадением, проговорил Широнин и оживился, вспоминая. — Да, а командир, что вас тогда вел… Канунников. Где он теперь? Это же мой ученик!
— Убило его, товарищ лейтенант. — Зимин нагнулся, стал осторожно поправлять отвалившиеся от костра, подернутые серебристым пушком пепла веточки. — Уже в самом Харькове убило, перед Южным вокзалом. Когда мы с марша пришли, он во вторую роту попал. Его за прорыв и к награде представили. Красную звездочку дали. Заходил после к нам в роту, веселый был такой…
— Эх, Володя! — только и выговорил Широнин. Вспомнилась мать Канунникова. Он с ней не раз встречался на родительских собраниях. С началом войны, проводив в армию мужа, и сына, Канунникова пошла работать в механический цех, стала к станку. Может быть, там, в цехе, ей и вручат в эти дни похоронную? Решил при первой же возможности написать ей.
— И сколько же того молодняка фашисты погубили. Его больше всего и жаль, — раздумчиво сказал Скворцов, стоявший у костра на коленях, чтобы согреть плечи. — Была б на то моя воля, по всему земному шару приказ отдал бы: коль воевать, так только таким, как я…
— А тебе-то сколько, Андрей Аркадьевич, в гражданскую войну было? — не выдержал и улыбнулся Грудинин.
— Ну тогда мы только начинали. То было не в счет.
…Широнин знакомился со взводом. Он вынул из полевой сумки сохраненную еще из Кирса тетрадь — разрезанный пополам классный журнал. Своим крупным красивым почерком — недаром когда-то Наркомпрос даже в Москву вызывал составлять прописи — переписал по алфавиту весь состав взвода, тут же делая записи о домашних адресах, партийности, сроках пребывания в армии.
— Да у вас действительно кого только нет! — промолвил Широнин, вписывая в тетрадь вслед за вологжанином Болтушкиным украинцев Букаева и Вернигору, вслед за горьковчанином Скворцовым таджика Фаждеева, уроженца Ура-Тюбе.
— Да вот только с Исхаковым никак не разберемся, товарищ лейтенант, — шутливо пожаловался Вернигора. — Сами же видите, и рос и призывался в Каховке, цэ ж рядом з моею Николаевщиной, а он говорит, что узбек. Так чи считать его земляком, чи нет?
— Считай, не ошибешься.
Когда все были переписаны, красноармейцы отошли ко второму костру, оставили Широнина, Зимина и Болтушкина втроем.
— Вы бы, может, отдохнули, товарищ лейтенант? — предложил Зимин. — Александр Павлович, а ну-ка подбрось сюда соломки помягче да побольше. Отдохните, с дороги ведь.
— Да, догонять вас нелегко было, — сказал Широнин, вспоминая недавний путь и чувствуя, что в голове и сейчас еще не затих докучливый перезвон снарядных гильз. Но все-таки отдыхать отказался. Хотелось подробней расспросить Зимина о людях. А тот и сам опередил его.
— Вы коммунист, товарищ лейтенант? — несколько замявшись, спросил он, как-то сбоку нацеливая на Широнина твердый и пытливый глаз.
— Коммунист, — невольно насторожился и ответил Петр Николаевич. Что предваряет этот вопрос и что собирается ему сказать Зимин? А если бы он, Широнин, не был коммунистом, так разве бы не вправе командир, поставленный во главе воинского коллектива народом и партией, знать и слышать все…
А Зимин, передохнув, словно бы обратился к той высшей, наиполной слитности помыслов и устремлений, которая теперь, после широнинского ответа, возникла между ними. Она, эта духовная слитность — чистая, ни слоинки в ней не найти какой-либо чужой примеси, — позволяла без похвальбы, без рисовки глянуть на самих себя, на окружающее, отдать всему должное.
— Я вам от всей души скажу, товарищ лейтенант. Хорошо, приятно жить, когда знаешь, что есть на свете что-то повыше, побольше, чем ты сам и твоя жизнь. Мы это и до войны понимали. Потому и жили по солнышку: оно на работу поднимется, и мы на ногах! Строить же надо было державу такую, чтобы слава о ней в веках стояла. А в войну все, про что нам партия говорила, еще понятней стало. И люто наш народ воюет. Вот хотя бы и первый взвод. Он, конечно, капля в море, так ведь без капель и моря нет. Что за люди!.. Чертенкова еще на плацдарме ранило. Правда, легко, и упросился во взводе остаться, воюет. В уличных боях схватываться с немцами приходилось лицом к лицу, и не счесть, сколько их Чертенков уложил в рукопашной. И тот же Кирьянов Коля, который вам насчет шинелей ответил… Слесаренок из Калинина… Не богатырь на вид, а любую задачу поставь — выполнит… Орел, одним словом. На площади перед Госпромом первый в атаку поднялся… А вот перед тем, как вы пришли, мы читали письмо из госпиталя от Торопова и Павлова. Тоже наши бойцы. Оба вышли из строя еще при прорыве. Истосковались ребята, просят, чтобы помогли им к нам в полк вернуться.
— Да ты про нынешних товарищу лейтенанту побольше, про нынешних, — вставил Болтушкин.
За месяц боев Александр Павлович несколько изменился. И ранее не тучный для своих сорока с лишком лет, он стал еще более поджарым, словно бы все, что было в его дюжем теле хлебороба, ушло в мышцы, в мускулы, в кость. Светло-серые глаза стали жестче и глубже запали под белесые, выцветшие брови.
— Знамо, расскажу про всех. Товарищу лейтенанту с нами же воевать. Я только хотел пояснить, что и при нынешних, и при ненынешних, а во взводе всегда была и есть ось… Та ось, которую и партийные люди и беспартийные отковали задолго, впрок, глядя далеко вперед, и на ней, на этой оси, теперь все наше дело движется, ладно движется….
Слушая рассказ Зимина о взводе, его скупые и точные характеристики людей, Широнин с удовлетворением думал о том, что взвод и в самом деле дружный, сплоченный. Но вместе с этим удовлетворением обострилось и чувство своей командирской ответственности за него, за людей, которых ему предстояло вести в новые бои.
— Вы все-таки с дороги подремали бы, товарищ лейтенант, — вторично предложил Зимин после того, как рассказал все, что, по его мнению, могло и должно было интересовать Широнина. — Кто его знает, долго ли здесь будем? А около костра неплохо.
Широнин прилег на груду соломы спиной к костру и через несколько минут, погружаясь в сон, желанно ощутил, как к плечам, к спине пробилось сквозь полушубок и расплылось по всему телу восхитительное, совсем домашнее тепло.
Но спать пришлось недолго.
16
— Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант! — разбудил Широнина негромкий, но настойчивый окрик, и кто-то тронул за плечо. Приоткрыл глаза. Угрелся во сне, а теперь хватил ртом промороженный воздух и — словно плеснули в лицо холодной водой — привстал, ошарашенно осмотрелся по сторонам. Сколько он спал, час, два? Очевидно, немного, потому что продолжавший падать снег только чуть-чуть припорошил полушубок. Пламя костра побагровело и с натугой осиливало сырой, неломкий хворост. В темно-рдяных отблесках Петр Николаевич разглядел склонившегося над ним Зимина.
— Только что передали из штаба полка, чтобы вы явились к командиру. Немедленно, говорят…
— Есть немедленно! — взбадривая себя, повторил Широнин и вскочил, взял автомат, направился к пролому, заменявшему дверь. Едва шагнул за порог, как ветер клубком кинул под его ноги снежный бурун, взвихрил его, стеганул лицо. Черная стена ночи заслоняла село. Сколько ни шарь глазами — ни единого огонька. Еле различимый на снегу след, в который старался вступать Широнин, привел его к двум вязам, где и сейчас стояла полевая кухня, а отсюда он уже легко нашел штабную землянку.
Полковник будто и не поднимался из-за стола. Сидел за ним по-прежнему в шинели и фуражке, только еще больше сгустились тени под глазами.
Его сосед по землянке, чей второй топчан стоял здесь же, — тоже немолодой, со впалыми щеками — что-то поспешно писал, и, когда он утомленно распрямил спину, Широнин увидел в его петлицах две шпалы. «Замполит», — догадался он по этим, еще не замененным на погоны старым знакам различия.
— А, лыжник! — сразу узнал вошедшего Широнина Билютин. — Наконец-то. Вот вы своим приездом нам зиму накликали, воротили, так теперь извольте сами и выпутывайтесь, исправляйте свою же вину.
Продолжая шутить и ворчливо упрекать лейтенанта, Билютин придвинул поближе к себе лежавшую на столе карту, прихлопнул по ней ладонью.
— Хорошо ходите на лыжах? Не разучились в интендантах?
— Как бог! — не сдержал нескромного порывистого восклицания Широнин; увидел ухмылку в глазах под насупленными бровями, добавил: — Я ведь, товарищ гвардии полковник, сызмальства обучен, сам-то кировский, из Вятки.
— Ну, нам, положим, неизвестно, как ходит на лыжах бог, а вот вятские, сам знаю, в этом деле мастаки. Я с ними когда-то против колчаковцев не раз вместе ходил. Думаю, что за два с половиной десятка лет не разучились. Так вот смотрите, — полковник подозвал Широнина к карте, — нужно доставить срочное донесение в штаб дивизии. За ним должен был приехать офицер связи, но его броневичок где-то безнадежно застрял. А дело важное, ждать нельзя. Штаб размещается вот в этом селе. ПСД[7] поближе. Можете сдать на ПСД, но предупредите, что срочное.
Билютин обернулся к писавшему.
— Заканчиваешь, комиссар?
— Готово, Кондрат Васильевич.
— О наших соображениях насчет Червонного сообщил?
— Да, и о соседнем селе… Мы ведь его тоже можем прихватить… В нашей полосе наступления…
— А о самоходках не забыл? Хотя ладно, о них начштаба особо написал.
— Ну и я тоже добавил. Лишний раз не помешает. Дело того стоит…
— Ну, давай подпишем…
Билютин подписал бумаги, вложил их в плотный пакет и снова вернулся к карте, у которой стоял Широнин.
— Видите, лейтенант, в какую горячую пору к нам подоспели. Передышек нам не дозволено, а метель… метель, может, и на руку. Вот только связь, связь отстает. Без нее — слепые: и мы у себя в полку, и в штабах повыше… Ясно теперь, что от вас зависит?
— Ясно, товарищ гвардии полковник.
Слушая Билютина, Широнин смотрел на карту. Меж Ключами и населенным пунктом, где находился ПСД, лежали горизонтали, обозначавшие ровную степь, затем луг и болото в лощине небольшой реки, за рекой небольшой редкий лес и снова степь.
— Тут можно и напрямик, товарищ гвардии полковник, — сказал Широнин, заметив, что дорога обегает топь далеко в стороне, — болото, если верить карте, и летом проходимое, а сейчас и подавно. Напрямик километров девять будет. От силы полтора часа ходу.
— Напрямик так напрямик. Только поосмотрительней будьте, немцы вот, в частности, здесь, в лесах, могут шалить. Они к своим еще из Чугуева пробиваются. Связного возьмите с собой. Есть у вас подходящий, чтобы вместе на лыжах?
— Не успел спросить, товарищ гвардии полковник, сами знаете, только сегодня прибыл.
— Ну хорошо, попробуем найти здесь. — Полковник шагнул к двери, распахнул ее, вгляделся в темноту, где глазасто мерцали цигарки сидевших связных. — Признавайтесь, гвардейцы, кто на лыжах ходит?
— Я! — раньше всех других прозвучал юношеский звонкий отклик, в котором Широнин сразу узнал голос Шкодина, того самого паренька, который так обрадовался, услышав, что Широнин учитель.
— Хорошо?
— На третьем месте в районе был, товарищ гвардии полковник.
— Ну вот, прямо какие-то хвастуны, а не солдаты. Один уверяет, что ходит на лыжах, как бог, другой, правда, рангом пониже, в масштабе района. Ладно уж… Мигом к коменданту. Скажи, я приказал дать две пары лыж, да отбери получше.
Снарядились в путь быстро и вскоре, перекликнувшись с часовыми, стоявшими на окраине села, вышли в степь. Здесь остановились, присели в кювете. Шкодин заслонил вырываемую ветром, гремящую, как жестяной лист, карту, Петр Николаевич достал компас и при свете фонарика сличил карту с местностью, вычислил азимут, без которого двигаться в завьюженной ночи было невозможно.
Метель разыгрывалась все сильней и сильней. Вначале ветер дул попутный, на юго-восток, и достаточно было при обычном ходе совсем легких, не требующих особого напряжения ударов палками. Но углубились в поле, и словно бы оглушило разъяренной перебранкой всех столкнувшихся на степном раздолье буранных ветров. Они метали хлесткие летучие космы снега то справа, то слева, толчками упирались в грудь и вновь забегали сзади, с сухим шелестом сразу же заносили след. Широнин нет-нет да и посматривал на своего связного. Парень и в самом деле, видать, был натренированный, не отставал, хотя в шинели и в маскхалате, полы которых рвал ветер, ему было идти трудней, чем Широнину в его легком полушубке.
— В след иди! — сердито прикрикнул Петр Николаевич и двумя сильными ударами палок опередил красноармейца, пошел перед ним, чтобы облегчить ему путь.
Через полчаса ходу степь покато начала спускаться к лугу. Еще раз посмотрел на компас. Двигались верно.
На лугу в болоте мело меньше, но сквозь снег проступали смерзшиеся в чугун кочки, и на них лыжи так заерзали, что заломило в щиколотках и пришлось замедлить шаг. Зато реку пересекли одним махом и «елочкой» поднялись по склону к зачерневшему над ним лесу. На той стороне бора должен был находиться хуторок, где помещался ПСД. Не стали искать просеки, благо лес был одноярусный, хвойный, и, внутренне радуясь, что приближаются к цели, скользнули в его затишье. Прошли с километр. Лес поредел, обозначилась опушка. Лыжи съехали в канаву, которая, очевидно, являлась границей лесничества. Помогли друг другу влезть на вал. Но не успели распрямить спины, как послышалось тревожное:
— Стой, кто идет?
Щелкнул затвор.
— Стрелять буду!
— Свои, зови разводящего, — крикнул Широнин.
Прогремел выстрел.
— Что же ты, якуня-ваня, патроны портишь? — не выдержал и упрекнул Широнин.
Пришел разводящий. Оказалось, что они наскочили на дворы, где размещался автобат. Пункт сбора донесений был на другом краю хутора, в десяти минутах ходу. Обочиной раскатанной дороги двинулись туда. Широнину бросились в глаза частые посты часовых и встревоженность разводящих, вспомнились невольно слова полковника о том, что гитлеровцы «шалят».
В тесной, жарко натопленной хатке у полевого телефона дремал старшина. Узнав, из какого полка донесение, он оживился, принял пакет и сочувственно посмотрел на лыжников.
— Нелегко вам, видать, пришлось. Вы б, товарищ лейтенант, в автобат сейчас направились. Там свободней, до утра бы отдохнули.
— Нет уж, старшина, перекусим — да и обратно, — отказался Широнин. — Вот только пакет поскорей доставь в штаб.
— Пакет не задержим, о нем уже три раза спрашивали. А в автобат все-таки советую. Метель, слышите, как расшумелась?..
Петр Николаевич посмотрел на часы. Еще не было и двенадцати. В иной обстановке совет старшины показался бы разумным и к нему следовало бы прислушаться, сейчас же беспокоила другая мысль. А если к утру часть снимется с места? С первого же дня оставить взвод и потом где-то его разыскивать? Нет уж, лучше возвратиться!
— Как, тезка, хватит силенки? — спросил Широнин у своего спутника.
— Да что вы, товарищ лейтенант, нам ли на погоду смотреть? Вроде и неудобно перед полковником будет.
— Ну, тогда собираемся.
Петр Николаевич сразу заспешил, словно опасался, что поддастся уговорам старшины, соблазнится теплым жильем, а оно ой-ой как было бы заманчиво после двух бессонных ночей.
Через несколько минут двинулись в обратную дорогу. В низко нависших снеговых тучах утлой лодчонкой мелькал и тут же исчезал в набегавших гребнях узкий месяц. Прикинув на глаз расположение хутора, тянувшегося вдоль опушки леса, Широнин решил — чтобы не тратить время на разговоры с разводящими — направиться не по улице, как прежде, а въехать прямо в лес.
Месяц вскоре надолго канул в темноту. Надвинулись новые, еще потяжелей, вихревые текучие тучи, и даже в лесу лыжники почувствовали, что метель не только не ослабевает, а усиливается. Раскачиваемые шквальным ветром, скрипуче переговаривались и стонали сосны. Казалось, что буран оборвал с их глухо гудевших верхушек всю хвою и теперь метал ее иглы в лица — не открыть ни глаз, ни рта. Лыжники тяжело наваливались на ветер то правым, то левым плечом, упрямо пробивались сквозь белую кутерьму.
— Товарищ лейтенант, — крикнул Шкодин, останавливаясь и рассматривая что-то на снегу.
— А-ат, а-ат, — донесся до Широнина оборванный ветром крик, и Петр Николаевич тоже остановился, всмотрелся туда, куда тыкал палкой красноармеец. На снегу темнела лыжня.
— А-аша-а! — кричал Шкодин.
«Наша ли? — мелькнуло на миг сомнение у Широнина. — Нашу-то давно, должно быть, занесло». Но тут же неприятное сомнение развеяла приятная, подсказанная обессиленным телом мысль, что если эта лыжня именно та, которую час назад они проложили, значит, можно с уверенностью, без всякой опаски держаться заданного ею направления, не задумываясь над азимутом. И подобно Шкодину, приняв желаемое за реальное, Петр Николаевич свернул по лыжне чуть влево…
Еще полчаса ходьбы. Лес кончился. Лыжники напрягли силы, прибавили шагу, ожидая, что вот-вот начнется спуск к реке. Но неожиданно после трехсот-четырехсот метров, пройденных по степи, вновь перед ними взмыли и загудели высокие сосны бора, и Широнин понял, что сейчас они шли не степью, а поляной, что они сбились с пути. Теперь не зная места стоянки, ориентироваться стало трудней. Сжав одеревенелыми ладонями компас, Петр Николаевич смотрел, как трепетала мерцающая фосфорической зеленью стрелка, пока наконец не уперлась своим острием в направлении леса. Значит, на северо-запад нужно было идти вдоль его опушки.
По карте на одной из полян — на той ли, где они находились? — жались к бору несколько отдельных дворов; знаки, как ни трудно было их рассмотреть при ослабевшем луче фонарика, показывали, что это лесничество, пасека. Двинулись вдоль опушки и вскоре действительно наткнулись на какую-то изгородь, за которой темнел угол хаты.
Широнин оставил на всякий случай Шкодина дозорным, а сам перешагнул через изгородь и бесшумно метнулся меж деревьями садика к окошкам хаты. Стекла были чистые, без единой морозной узоринки. В одном из них чернела ничем не заткнутая дыра, и Петр Николаевич почувствовал даже облегчение от того, что хата нежилая, покинутая.
Поднялся на крыльцо, открыл подпертую сугробом дверь, шагнул по зашуршавшей под ногами соломе в темноту, прислушался. Да, пусто… Очевидно, хозяев угнали при отходе немцы, а возможно, лесники и сами ушли отсюда, чтобы держаться в войну поближе к людям. Не было никого и в других домах.
— Ну, Петро, придется нам здесь заночевать. Что же блукать по лесу? — сказал Широнин, убеждаясь в том, что метель не собирается утихать и будет бушевать до утра.
— По мне все равно, товарищ лейтенант. Коль так получилось, заночуем, — с деланным безразличием произнес Шкодин.
До этого он не проронил ни слова, ничем не выдал своей усталости. Сам же вызвался идти вместе с командиром взвода, что уж тут хныкать! А между тем изнеможение было таким, что все тело казалось оцепенелым, и только щеки, которые он частенько — чтобы не отморозить — натирал снегом, жгуче горели. И еще больше устал Широнин. Сказывались вторые сутки, проводимые им в дороге… Можно ли считать отдыхом короткий сон на ферме и еще более короткую передышку на ПСД?
Для ночлега выбрали самую маленькую, расположенную в глубине дворов, хатку. Правда, кроме узких скамей вдоль стен, в ней ничего другого не было, но зато глинобитный пол устилала на полметра солома, и Широнин, зарываясь в нее, блаженно ощутил, как отдалились и стали глуше голоса разыгравшейся пурги.
— Ну, разрешаю тебе, Петро, часок поспать, а я посумерничаю, — сказал Широнин.
— Нет уж, товарищ лейтенант, — категорически запротестовал Петя, — давайте начнем с вас, а мне, ей-право, спать не хочется, я посижу. — Петя прислонился спиной к бревенчатой стене, как под перину, сунул под солому озябшие ноги.
— Смотри тогда, — согласился Широнин, — ежели что, сразу буди. Полчаса подежурь… А потом я… Этак, якуня-ваня, лучше будет… Да можешь и ты поудобней располагаться, — уже бессвязно роняя слова, Петр Николаевич так и упал в сон с дремотным шепотком на губах…
…За стеной продолжало мести.
Петя снял и поудобней пристроил рядом с собой автомат, пощупал гранату в сумке, затем вспомнил о своем трофейном пистолете — в нем ведь тоже было с пяток патронов — и вынул его, положил перед собой на скамью. Мало ли что может случиться, ночь велика. Затем встал, плотнее притворил дверь.
Тишина, стоявшая в хате, жаркое дыхание Широнина над ухом, тепло, расплывшееся по телу, напомнили ставшее давним-предавним: дом в Лопухинке, поздний ночной час, когда по требованию матери он закрывал книгу, тушил лампу, но еще долго ворочался на кровати, мысленным взором возвращаясь к картинам прочитанного.
— Да спи уж, спи, неугомонный! — строго прикрикивала мать. — Не петушись, завтра в школу в семь часов подниму, слышь, что говорю?
Не откликался, делал вид, что спит, а сам в пылких мечтах скакал в эскадроне рядом с Павкой Корчагиным или вразмашку переплывал холодный Урал, или с отрядом сучанских партизан шагал по хмурой приморской тайге…
Мечты переходили в сновидения, сновидения будто снова становились явью…
17
Ветер раскачивал сосны от самых корней до вершин. Под их глухо шумящими кронами, проваливаясь в снег, шел отряд. На просеках порывы ветра ударяли сильней, и тогда вся людская колонна, податливо пошатываясь, клонилась в сторону. Майор фон Глейм шагал в середине плотно сбившихся в кучу солдат. Нагрянувшая в ночь вьюга заставляла их жаться друг к другу, искать хоть какое-то подобие защиты за спиной идущих впереди. Но обессиливала каждого и вызывала отупляющее, животное безразличие и к себе, и к другим не только метель…
Глейм вспомнил все, что было пережито за последнюю неделю. Такого изнурительного напряжения, такого страха перед каждым новым наступающим днем — да что днем, перед каждым новым часом и минутой! — хватило бы с избытком на всю жизнь, какой бы долгой она ни была. А все этот тупица, этот идиот Хайс! Да разве к лицу гебитскомиссару, как попугаю, повторять заголовки геббельсовских газет: «Немецкие войска прочно удерживают позиции перед Харьковом…», «Наши новые рубежи надежны…». И еще эта самоуверенная старческая болтовня: нервы, мол, крепче, нервы, герр майор!
А потом? А потом затихшая телефонная трубка, зарево над райцентром, ожесточенная пальба вдали, и он, Глейм, еле-еле успел уйти с остатками гарнизона от советских танков, рассекших пресловутые прочные рубежи… Глейма и его людей укрыл лес. Надолго ли? Уже дважды их обстреляли. Первый раз, когда переходили шоссе, и второй раз, когда в поисках пищи хотели войти в небольшую, казавшуюся безлюдной деревню. В этих стычках потеряли с десяток солдат. Правда, спустя день к отряду прибилось несколько мадьярских офицеров, которым удалось спастись при окружении и разгроме венгерского полка. Но стал ли отряд от этого сильней?
Сейчас рядом с Глеймом шагал один из мадьяр, высокий горбоносый офицер, в валенках, отнятых у какого-то русского… Валенки, очевидно, были мадьяру тесны, и, оступаясь в рытвины, он болезненно мычал, хватался руками за Глейма. И эти прикосновения, и вообще близость мадьяра вызывали у Глейма с трудом сдерживаемую ненависть. В конце концов не они ли, венгры и итальянцы, прежде всего и виновны в том, что произошло под Харьковом? Разве не они дрогнули первыми там, у Острогожска и Россоши? А теперь еще изволь выслушивай от этого попутчика вначале намеки, а потом и откровенные прямые предложения сдаться в плен. Ему хорошо рассуждать об этом. Если бы Глейм служил в полевых частях, может быть, он и согласился бы с венгром, но думать ли о плене ему, Глейму, начальнику гарнизона города, где любой уцелевший житель потом станет изобличающим свидетелем?! Нет уж, лучше пробиваться на запад, пробиваться, пока держат ноги, шаг за шагом, но пробиваться!
Странно, что даже ветер и снег, тающий на лице и на губах, не могут остудить жара, подступившего к щекам, жара в сухой гортани. Уж не заболел ли он? Тогда не останется ничего другого, как смерть на снегу, под кустом. Надеяться на то, что его не покинут, не оставят одного, — бессмысленно каждый сейчас думает только о своей шкуре.
Чуть растянувшаяся колонна подсобралась, скучилась, и Глейм, углубившись в свои размышления, ткнулся носом в чью-то спину.
— Что такое?
— Кончился лес, герр майор.
Глейм хмуро прошел вперед, кто-то придержал его за руку:
— Здесь канава…
Воспаленными, слезящимися глазами молча смотрел в укрытое ночной темнотой поле. «Ну-ка, ну-ка, попробуйте-ка сюда!» — угрожающе завывали клубящиеся вихри метелицы. Нащупывая ногой дорогу, Глейм сделал несколько шагов по гребню канавы, вдоль опушки. Но тут — близко ли, далеко ли, как определить в такой буран? — послышался одиночный выстрел…
Это был выстрел, которым часовой у автобата остановил Широнина и Шкодина…
Колонна замерла. Глейм прислушивался, но, кроме шума бора, ветер не доносил больше ничего. Ясно была одно — по опушке двигаться нельзя, надо снова в лес.
Отряд свернул круто вправо, через час вышел на противоположную сторону леса. Вдали в темноте мелькнул какой-то отблеск. Не призрачный ли? Не показалось ли?
— Видели? — спросил Глейм у близстоящих.
— Или машина, или костер, — дрогнувшим голосом подтвердил фельдфебель Краус.
Глейм, ни слова больше не сказав, вновь зашагал в лес, даже не глядя, идут ли за ним. Еще час ходьбы… Глейм, шедший теперь впереди, чуть не полетел наземь, споткнувшись о какую-то обломанную изгородь. Выстуженное морозом дерево затрещало, стрельнуло, и Глейм невольно отпрянул в сторону. Что это? То ли межа каких-либо заброшенных в лесу огородов, то ли близкое жилье? Глейм потянул за рукав Крауса, кивнул головой вперед, приказывая разведать. Но, не дождавшись возвращения Крауса, сам рассмотрел в темноте силуэт избы, рядом с ним другой. Конечно же, русским солдатам здесь делать было нечего, да и если б были они, выставили часовых…
— Никого, пусто, герр майор, — вернулся и доложил Краус голосом, в котором чувствовалось облегчение, предвкушение отдыха. Наконец-то, наконец-то они после ночевок в лесу и оврагах могут остановиться в стенах дома, а там будь что будет!..
Трех хат было вполне достаточно для размещения всего отряда. Глейм вошел в избу, стоявшую чуть в стороне. Присветил фонарем, прислушался, вздрогнул. Слышался чей-то храп. Чей? Спящие укрылись соломой так, что видны были лишь сапоги, две пары сапог… Глейм повел фонарем. На скамье у вороха соломы что-то блеснуло… Взвел автомат, осторожно шагнул к скамье. Пистолет! В лучах фонаря сверкнула золоченая надпись… Читал ее, и впервые за эти семь дней губы искривила насмешливая улыбка.
Прежде, в другое время, начертанная на пластинке фамилия вызвала бы почтительный трепет, робость, а сейчас, здесь… Все было безразлично. Разве только про себя слегка позлорадствовал, что эта именитость со своим пожалованным в дар оружием оказалась в таком же почти безвыходном, отчаянном положении, как и он сам. В комнату с шумом ввалились солдаты. Глейм со свистящим шепотом поднял руку: «Ти-ше! Тише!» Пусть спят. Да, каждый пусть думает о себе…
18
…Вспоминая родное село, мать, сверстников, Петя так и не заметил, как перешагнул границу, отделившую воспоминания от сновидений… Вот он и Тимоша Лавренко, звеньевой из его дружины, мчатся на лыжах к ветряку, за которым начинается Красный яр. Присев на старый жернов, поправляют крепление лыж, потуже подпоясываются. Глухо шумит и поскрипывает насквозь продуваемый ветряк, чудится, будто кто-то сипло переговаривается в его дощатой утробе, спорит, жалобно ворчит. Правду ли говорят или только пугают, что здесь, бывает, зимуют и совы, и филины? Ледяной холодок скользит при мысли об этом по спине. Айда к яру! Спохватившись, шаром катятся по пологому спуску туда, где самая-самая наикрутизна. Вот бы задала, если б увидела, мать! Здесь трамплин не хуже, чем тот, который они видели в журнале… Точно паришь в воздухе. Во всем теле словно бы жутковатая щекотка. Так минуту-две, пока ноги не спружинят в толчке по снегу, засыпавшему дно яра. Словно снаряд, оба дружка проносятся меж его крутыми откосами, а перед рекой обрыв еще круче. Закрой глаза, и покажется, что летишь в огромную черную бездну, и щекотка уже невмоготу. Фу ты!..
Петя резким движением тела освобождается от подступившего кошмара, сбрасывает солому, широко пялит глаза в темноту. Выходит, что он вздремнул? Торопливо схватился за автомат, за пистолет. Они на месте. Вот уже и на дворе будто стало тише, только сильней сонное дыхание рядом. Петя уже хотел приподняться, когда не слева, где лежал Широнин, а справа, совсем близко, раздалось:
— Майнэ муттэр… майнэ либэ муттэр!..
Петя замер, похолодел. Не показалось ли ему? Не продолжает ли он спать? Но вот опять послышались горячечно-бредовые и вместе с тем отчетливо различимые слова:
— Муттэр… майнэ муттэр!
Шкодин осторожным движением вынул фонарик, сунул его под полу шинели и уже оттуда чуть приоткрыл глазок фонаря, повел его лучиком. На расстоянии руки от него разметался на соломе немец. Заросшее, с заострившимися чертами лицо. Блуждающая, блаженная улыбка на оттопыренных припухших губах. Чуть дальше из соломы высовывалось чье-то другое плечо… За ним еще и еще, с отороченными белой ниткой погонами, на которых блеснули оловянные пуговицы. Гитлеровцы вповалку спали по всей избе.
Не столько страх, сколько стыд, жгучий стыд перед доверившимся ему Широниным прежде всего ощутил Шкодин. Он перекатился поближе к командиру взвода, приник губами к его уху, чуть потряс.
— Товарищ лейтенант, я вам буду говорить, а вы молчите, слушайте. — Шкодин боялся, что Широнин при такой неожиданной вести вскочит, зашумит, всполошит всех. — В избе немцы… Полным-полно… Надо уходить.
— Что? Какие немцы? — спросонок ничего не понял, но все же шепотом переспросил Петр Николаевич.
— Ввалился, наверное, целый взвод. Спят сейчас… Надо уходить.
Широнин с минуту лежал молча, а потом и сам услышал учащенное дыхание и храп новых, загнанных пургой в хату постояльцев и тихо поднялся, потянул за рукав шинели Шкодина.
Осторожно переступая друг за дружкой, направились к двери. Широнин шел первым и зацепил одного из лежавших за ногу, чуть не упал. Гитлеровец спросонья что-то заворчал, поджал, пропуская идущих, ноги.
В сенях нашли лыжи. На минуту остановились на крыльце.
— Эх, гранату бы, — прошептал Шкодин и тут же почувствовал, что рука тянется к гранате неохотно, колеблясь… Вспомнились жаркий бред спящего, слова, зовущие мать… С облегчением услышал тихий голос Широнина:
— Не поднимать шума… видишь, везде часовые.
В самом деле, впереди, в саду, поскрипывали чьи-то шаги, чья-то тень чернела у второй хаты. Отряд, расположившийся в лесном хуторке, видать, был немалый. Широнин и Шкодин задворками двинулись к лесу, но у большой хаты, в окнах которой мерцал ночничок, остановились, затаили дыхание. За углом, коротая время, мычал какую-то песню часовой.
— Давай! — одним словом приказал Широнин, рванулся вперед и, бросив палки под левую руку, вылетел за угол, послал очередь из автомата. Фашист с воплем повалился на спину. Широнин метнул гранаты в окно, в другое окно полетели гранаты Шкодина. Не миновали и крайней, третьей хаты. Под треск гранатных разрывов и дикие крики переполоха, поднявшегося на хуторе, скрылись в лесу.
…Что же все-таки произошло ночью?
Рассветало. Широнин и Шкодин подходили к деревне и все еще раздумывали, пытаясь объяснить случай на хуторе. Почему гитлеровцы не тронули лыжников? Не заметить их они не могли.
— Я, товарищ лейтенант, задремал, ну, может быть, на четверть часа, — виновато оправдывался Петя, — а потом спохватился, чую, дело неладное. Чужой дух, и словно кузнечный мех в хату втащили, такое дыхание…
— Ну, положим, четвертью часа не обошлось, наверное, — посмеивался Широнин.
Все в конце концов вышло к лучшему. Если бы кто из них и не спал, что бы они могли поделать в неравной схватке?
— Ну, может быть, полчаса, — уступчиво, не имея ни желания, ни основания настаивать на своем, согласился Шкодин. — И вот проснулся, первым долгом хвать за оружие — автомат на месте, пистолет на скамье…
— Какой пистолет?
Шкодин смутился.
— Да я вам собирался еще вчера показать. Очень уж занятный. Я его, еще когда с плацдарма наступали, у одного гитлеровского офицера отбил.
Шкодин вынул пистолет. Широнин с любопытством вчитывался в надпись на золотой пластинке и вдруг захохотал.
— На скамье говоришь?
— Ну да, чтоб под рукой был.
— Теперь понятно, в чем дело. Этот пистолет нас и выручил. Его же сам Герман Геринг вручил какому-то оберсту. Это по-нашему полковник, большое начальство.
— Так что же? — недоумевал Петя.
— А вот что. Немцы вошли в хату, осмотрелись. Нас-то в соломе как следует не разглядели, не опознали, а пистолет на скамье заметили, обнаружили сразу. Прочли надпись. Свои, подумали, да еще какие свои! Начальство! Высокопоставленное! Наверное, укладывались спать втихаря, осторожненько, чтобы его высокоблагородие не разбудить. Службисты!
Петя почувствовал некоторое облегчение. Как-никак, а этот трофейный пистолет заполучил все-таки он. В схватке не на жизнь, а на смерть. Теперь представлялось, что он тогда померялся силой чуть ли не с самим толстопузым Герингом и одолел, взял верх…
Уже спускаясь к селу, заметили, что оно обезлюдело. Направились прямо к ферме. Но и там никого не было. Петр Николаевич носком сапога разворошил остатки костра. Несколько углинок еще тлели. Значит, взвод ушел не так давно. Надо было теперь его нагонять.
19
Село Червонное, о котором Билютин писал в своем донесении, семьдесят восьмой полк должен был взять с ходу. В штабе дивизии согласились с направлением удара, предложенным командованием полка. Не отказали и в самоходках. Таким образом, пакет, доставленный Широниным, сделал свое дело.
Едва ли не самая главная роль в осуществлении задуманного плана отводилась батальону Решетова, а значит, и роте Леонова, а значит, и первому взводу.
Накануне, 22 февраля, полки дивизии с боями овладели несколькими населенными пунктами на пути к Червонному и теперь разомкнулись: один ушел влево, другой продолжал наступление справа, и батальон Решетова, поддерживаемый батареей самоходных орудий, развернул свои боевые порядки между ними. Предполагалось, что немцы, засевшие в Червонном и в ближних к нему селах, не станут при угрозе с флангов так уж цепляться за этот рубеж. Такое предположение оправдалось, но, как часто бывает в скоротечных боях, когда с обеих сторон действуют ударные группировки, возникли и осложнения, которые предусмотреть было невозможно.
Соседнее село, расположенное даже западнее Червонного, на склонах большой лощины, было уже покинута гитлеровцами. Горели подожженные ими при отходе хаты, удушливый чад нескончаемой полосой стелился по лощине, заволакивал ее до самого гребня.
Немцы поспешно отходили и с южной окраины самого Червонного, но те его порядки, которые группировались на возвышенности, вокруг бывших колхозных складов, оказались неожиданно крепким орешком. Правда, выглядела эта сотня дворов совсем мирно. Не разглядеть было ни окопов, ни каких-либо других оборонительных сооружений.
Но рота Леонова, действовавшая на левом крыле батальона, уже дважды вслед за самоходками поднималась в атаку и дважды залегала. Фашисты вели огонь сквозь узкие бойницы из домов и были сами почти неуязвимы.
— Окопаться! — крикнул Широнин, когда в третий раз роту прижали к земле губительные пулеметные очереди. Не надеясь на то, что его услышат, Широнин выхватил лопату — делай, как я! — и с ожесточением стал вкапываться в плотный слежавшийся снег. О лоток лопаты ударилась пуля, срикошетила на взлете, ноюще взвыла… Пули с чмоканьем секли снег вокруг. Широнин плотнее приник к обнаженному, смерзшемуся грунту, стал торопливо набрасывать бруствер. Справа, в пяти шагах от себя, увидел работающего лопатой Зимина, за ним Вернигору, за ним, кажется, Букаева.
Самоходки, вырвавшиеся вперед и встреченные орудийным огнем, круто повернули обратно, и одна из них прошла меж Широниным и Зиминым, бросила на них пласты снега. Сейчас из-под него было видно только лицо Зимина, проводившего самоходку виноватым взглядом. «Что ж, милые мои, — как бы говорил этот взгляд, — вам и за то, что снежком укрыли, спасибо, а с нас не взыщите, видите же, как плохо дело получается…»
Широнин не раз вспоминал на фронте дни учебы в пехотном училище и чаще всего вспоминал своего взводного командира, покладистого, веселого, но до пота взыскательного в обучении, киевлянина Карпенко. Слушая лейтенанта на тактических занятиях в поле, курсантам иной раз казалось, что где-где, а уж на войне смерть — это нечто необычное. Стоит только при перебежке под огнем противника «камнем» упасть и откатиться в сторону («Отставить. Швыдше, швыдше, я кажу», — подгонял Карпенко курсантов), и уже никакая пуля тебя не тронет. Стоит только плотнее прижаться к земле при переползании («Локтями, локтями же работай, цел останешься!»), и опять-таки никакой осколок тебя не зацепит.
— А как же вы сами не убереглись, товарищ лейтенант? — однажды на перекуре спросили курсанты после того, как Карпенко трижды заставил взвод ползком на животе преодолеть стометровую полосу. У Карпенко над ухом была плешина, и на ней розовела кожица шрама.
— Потому вас так и учу, шо сам не уберегся. Блыжче б носом до матиньки-земли — и ничего б не було.
— Выходит, товарищ лейтенант, что это чрезвычайное происшествие?
Карпенко усмехнулся, молчал.
А возможно, оно так и в самом деле было бы, если бы главное на войне — сохранить жизнь… Но главное было добиться победы!
И сейчас, лежа на снегу под огнем пулемета, о ней, о победе, думал Широнин, занятый лихорадочными поисками нужного в данный момент решения. Взгляд Широнина встретился со взглядом Зимина.
— Ну, гады же, и поздравили с праздником, — прохрипел в тишине, наступившей между двумя пулеметными строчками, старшина. — И еще дымовую завесу пустили.
Может быть, Петр Николаевич и пропустил бы мимо ушей эти невеселые слова Зимина, если бы не показалось странным его замечание о дымовой завесе… Где уж там она, эта завеса, когда по степи хоть шаром покати: ни кустика, ни пригорка, и в полосе наступления все просматривается со стороны села как на ладони. Но, следуя взором за взором Зимина, Широнин повернул голову влево, увидел, как по лощине перекатывается дым пожарища… Дымовая завеса! А ведь верно же!..
— За мной! — крикнул он, отползая влево и затем назад за те сто метров, которые достались взводу с таким трудом…
В витке неглубокого оврага стояли две самоходки. Широнин постучал по броне одной из них автоматом. Поднялась крышка переднего люка, и в ней показалось покрытое копотью лицо самоходчика.
— Эй, братишка, выдержишь? — Широнин указал рукой в сторону застланной дымом лощины, куда выходил овраг.
— Один? — догадался, что предлагает лейтенант.
— Какой черт один, вот же якуня-ваня, весь взвод с тобой!
С гребня оврага один за другим соскакивали вниз солдаты. Самоходчик с минуту смотрел в сторону лощины, затем отодвинулся в темноту люка, посоветовался с экипажем и вновь обратил к Широнину повеселевшее лицо.
— Давай!
— Давай, ребята, — повел рукой в сторону самоходок Широнин и вскочил на борт машины, половчей пристроился к дулу орудия, чтобы не слететь в пути.
Самоходки рванулись в лощину, исчезли в ней, как в ночи. От дыма першило в горле, пудовая тяжесть налегла на грудь, дым въедался со слезящей резью в глаза. «Еще немного, еще», — закрыл рукавицей рот и мысленно приказывал сам себе Широнин. Он считал не расстояние — дым укрывал все вокруг, — а минуты, секунды… Но вот самоходка, поднимаясь по склону, накренилась, перед слезящимися глазами посветлело, легкие жадно вобрали посвежевший воздух. Самоходки с десантом вышли западнее Червонного, к горловине, по которой проходило шоссе, и на третьей скорости устремились по улицам села, сшибая, давя и расстреливая застигнутых внезапным ударом с тыла обезумевших гитлеровцев.
Рота Леонова поднялась в атаку, но пока, увязая в снегу, цепь стрелков подбегала к окраинным хатам, в них уже хозяйничали бойцы первого взвода.
— Та громче же, громче кричи, бо в Берлине не слышно! — воскликнул Вернигора, когда на него с криком «ура» чуть не налетел из-за угла хаты ефрейтор второго взвода Халдеев.
— Ура! — еще раз рявкнул Халдеев, очумело глядя на спокойно стоящего перед ним и смеющегося знакомого сержанта.
— А, это ты, Вернигора? Не узнал я тебя, — выдохнул, переводя дух, Халдеев и, изморенный бегом и волнением, опустился на завалинку. — Фу, умаялся.
— А кто же? Я самый и есть. Хорошо, однокашник, что ты меня только на ура поднял, а я уже думал, вдруг да автоматом полоснешь. Вон куда бежи, кричи… — кивнул Вернигора в сторону большого сада, в глубине которого раздавались выстрелы. И Халдеев послушно вскочил, уже не спеша, вразвалку побежал, точно примирившись с мыслью, что опоздает и туда.
Петр Николаевич считал, что сейчас как раз хорошо было бы двинуться по шоссе и продолжать преследование отходивших на этом участке гитлеровцев. Но Леонов сообщил ему приказание комбата — закрепиться в Червонном, занять оборону.
— Товарищ лейтенант, вот бы сейчас на их плечах!.. — в возбуждении предложил Широнин. Его радовал успех боя и, главное, то, что он, этот успех, достался малой кровью: кроме трех солдат, раненных еще в первые атаки, в роте потерь не было. «Значит, есть же силенки и для преследования!»
— Погоди!.. На плечах! Ишь, всадник какой лихой нашелся, — добродушно передразнил и охладил пыл лейтенанта Леонов. — За то, что на самоходках выручил, за это благодарю и донесу выше… А насчет плеч повременить надо… Видать, неохотно стали они их подставлять… Слышишь, что на левом фланге делается?
Издалека доносился неумолчный орудийный гул. Он не отдалялся, неотступно висел над горизонтом. Такая все нарастающая канонада действительно раздавалась впервые после январского прорыва.
— Продвинулись далеко, теперь надо укрепиться… Это не Решетов придумал, — добавил Леонов, — так передали сверху, а оттуда виднее.
Выполняя приказ, рота окопалась на западной окраине. Окопы разрешено было отрыть пока для стрельбы с колена, неглубокие. Широнин оставил в окопах отделение Седых, а остальным позволил пойти в хаты отдохнуть, погреться. Спустя полчаса пошел туда и сам.
Еще идя по улице, Петр Николаевич заметил, что кроме военных в селе появились и местные жители, из тех, кто прятался по ямам, по балкам и не был угнан фашистами. Женщины несли на руках детвору и узлы с пожитками, тащили за собой санки с оставшимся небогатым скарбом.
Вернулись хозяева и в хату, которую занял первый взвод.
— Ой, гарненьки ж вы мои, — певуче восклицала пожилая женщина, не отходя от сидевших на лавках красноармейцев. Она обрадованно всплескивала руками, так и не утирая слез, катившихся по морщинистому лицу. — Наче сонечко в хати снова, як вы тут… А то ж при тих шкреботунах и на свит смотреть не хотелось…
— А чому ж шкреботуны, мамо? — спросил Букаев, услышав еще одну, новую для него кличку из множества тех, которыми народ метко наделял оккупантов.
— Так они ж и ходят не по-нашему, — женщина, не приподнимая ног, зашаркала подошвами по полу, показывая, как шумят шипами своих сапог гитлеровцы. — И шкребут, и шкребут по всем хатам та по всем коморам и клуням, сердце у людей выскребли, злодии.
— Мамо, та годи про це, — сказала другая женщина, возраст которой трудно было определить, так плотно закуталась она в косынки и платки. — Вы б краще печку растопили та хоть чугун с водой поставили… Може, товарищи хоть кипятком погрелися б…
— Мамо та мамо!.. Звыкла? — с шутливой серьезностью стала выговаривать мать. — Це ж при немцах, мамо, и до колодца, мамо, и по хворост. А зараз чого лякаться? А ну, швыдко сама!
— Чула, донько? Выполняй! — засмеялся Вернигора, и девушка медленно повела в его сторону широко поставленными черными-пречерными глазами, лукаво срезала его взгляд своим взглядом, вышла из хаты. Вернулась, бросила хворост у печи, скинула платки и явила такую строгую, сбереженную красоту тонко выписанного лица, что даже Широнин не выдержал:
— Эге, было что прятать!… И все на Харьковщине такие?
— Полтавские еще лучше, товарищ лейтенант, — подзадоривая дивчину, воскликнул Вернигора.
— Ты б своих, николаевских, хвалил.
— Та про них уже молчу… свои же!..
Вошли и приветливо поздоровались с красноармейцами еще две девушки.
— Пилиповна, а чи наших вы не бачылы? — обратилась к хозяйке одна из них. — Уже половина Червонного дома, а их нет та нет…
— Не бачыла, Ганно… Та не хвылюйтесь. Зараз вже знайдуться…. Наш Сашко теж десь ще блукае… Вы не в Терновий балци булы?
— Ни, мы в яру, де крыныця, ховалысь.
Девчатам, наверное, не хотелось возвращаться в пустые хаты, и когда Вернигора предложил присесть, они помедлили только приличия ради, а затем, подталкивая друг друга, прошли к лавкам у стола.
— Вот бы и гармонь сюда, — воскликнул Нечипуренко, вспомнив о своем излюбленном досуге.
Пилиповна переглянулась с дочерью.
— А ну, Ганно, где ее Сашко сховал?..
Ганна прошла в другую горницу, чем-то застучала там, вынесла через несколько минут почти новенькую трехрядку.
— Это ж Сашко, меньший мой… Сам еще не грае, а все для Васыля бережет. Васыль мий тоже в армии…
— Разрешите, товарищ лейтенант? — обратился Нечипуренко к Широнину, кивая на гармонь. — Бедняжка, безработная два года, а сегодня все-таки праздник.
— Ну-ну, расшевели ее… бедняжку… по случаю праздника, — в тон Нечипуренко шутливо сказал Петр Николаевич.
— А якый же сегодня праздник, сынки? — переспросила Пилиповна.
— Двадцать пять лет Красной Армии, мамаша. Твой Васыль тоже десь святкуе, — ответил Вернигора.
— Ой, був бы жывый!..
И уже тронул Нечипуренко долго молчавшие лады, уже вызвали улыбки на лицах собравшихся первые такты какой-то затейливой плясовой, уже вышли из-за стола на середину комнаты Вернигора и Злобин, как в хату влетел Шкодин.
— Товарищ лейтенант, можно вас?…
Лицо Шкодина было бледным, взволнованным. Это заметили все, в том числе и Нечипуренко, но гармонист продолжал играть, чтобы не смутить девчат. Широнин вышел из хаты.
— Идемте, товарищ лейтенант, — поспешно увлекал за собой Широнина Петя Шкодин, — там такое делается!.. Столько народу побито!.. Во-он за той крайней хатой, в балочке… Я, еще когда окоп отрывал, вижу, что-то вроде чернеет на снегу… Потом решил проверить… И ужас прямо! Сразу к вам. Никто еще, наверное, не знает. Вот тут держитесь танкового следа… А там дальше свернем, так ближе.
Они миновали крайнюю хату и спустились к обрыву, нависавшему над узкой каменистой балкой. Широнин посмотрел вниз, и стынуще сжалось сердце, заледенело в ногах, и они словно бы приросли к снегу, не в силах дальше сделать ни шагу. Все дно балки заваливали трупы. Можно было разглядеть разметавшихся в предсмертной агонии женщин, детей, стариков. Видимо, гитлеровцы гнали их впереди своих танков и потом, не успев угнать, двинули танки прямо в толпу. Разбежаться по сторонам людям, стиснутым крутыми откосами балки, было невозможно. Какой-то паренек, видимо, пробовал, уцепившись за росший в расщелине шиповник, подняться вверх, но был настигнут пулей, и синяя, совсем синяя ручонка и сейчас не выпускала пригнутой, обломанной ветки.
— Они ж не только давили, а и пулеметами… чтобы никто не ушел. Крови-то сколько! — побелевшими трясущимися губами шептал Шкодин.
В село возвращались молча. Широнин осуждающе думал о том, что в эти горячие дни наступления, в дни стремительного продвижения наших войск и панического бегства вражеских гарнизонов ему, Широнину, — да и только ли ему? — дальнейший ход войны порой представлялся облегченным, представлялось, что самые тяжелые ее рубежи остались позади. А выходит иное. Коль гитлеровцы еще способны на такое, много, много еще впереди будет пролито людской крови, понадобится еще много и напряжения, и жертв, прежде чем победит та великая правда, которую отстаивают советские люди.
А Пете Шкодину вспомнился лесной хутор, гитлеровец, звавший во сне мать, вспомнилось минутное душевное смятение там, на крыльце лесной сторожки… Никогда и никому не признается он в том своем постыдном колебании…
Вечером Широнин читал во взводе переданную из штаба полка замполитом дивизионную газету. В ней был опубликован приказ Верховного Главнокомандующего, посвященный двадцатипятилетию Красной Армии.
— «…Мы начали освобождение Советской Украины от немецкого гнета, но миллионы украинцев еще томятся под гнетом немецких поработителей. В Белоруссии, Литве, Эстонии, в Молдавии, в Крыму, в Карелии пока еще хозяйничают немецкие оккупанты и их прислужники. Вражеским армиям нанесены мощные удары, но враг еще не побежден. Фашистские захватчики яростно сопротивляются, переходят в контратаки, пытаются задержаться на оборонительных рубежах и могут пуститься на новые авантюры. Вот почему в наших рядах не должно быть места благодушию, беспечности, зазнайству…»
Широнин читал раздельно, с паузами, вскидывая взор на торжественно суровые лица бойцов. Хотелось, чтобы каждый из них до глубины души проникся готовностью к любым испытаниям и волей победить.
20
Приказ перейти к обороне был отдан штабом дивизии 24 февраля. А через несколько дней Билютина вызвали в штаб дивизии на короткое, но важное совещание вместе с другими командирами стрелковых полков и приданных дивизии частей усиления и поддержки.
Билютин вернулся к себе в штаб к вечеру и вводил в обстановку своих заместителей.
Кондрат Васильевич не спал уже три ночи. А тут на потепление разнылись давние — еще с польской кампании — раны в груди, дышать можно было только вполсилы легких, и голос полковника звучал оттого глухо, прерывисто.
— Ну, товарищи, за Червонное наш семьдесят восьмой поблагодарили. Звонил генералу и командарм. Доволен. С этим вроде бы хорошо…
Хотя вызванным в штаб офицерам и было приятно слушать эти слова, однако каждый почувствовал, что похвала только предваряет нечто другое, главное, ради чего они все здесь собрались.
Билютин смолк, как бы подводя черту сказанному, итог, вновь возвращаться к которому уже незачем, и после паузы заговорил тем же глухим, прерывистым голосом.
— Стало, товарищи, известно — фашисты готовят большое контрнаступление… План их разгадан. Смотрите сюда, — Билютин повел острием карандаша по карте к тому месту, где пятнисто и густо скучивались в пятачок прямоугольники и ромбики, обозначавшие кварталы и пригороды Харькова. — Они хотят прорваться своей крупной танковой группировкой вот здесь, южнее, захлестнуть охватывающим ударом город с юго-востока, окружить наши войска. Реванш за Сталинград… Недурно придумано, а?
— Ну, положим, за Сталинград какой уж там реванш?.. — щурясь на карту, протянул Евсеев — заместитель Билютина по строевой части.
— Нет, нет, товарищи, недооценивать силы противника нам не позволено. Никогда, никак и никем не позволено. Да, удался бы им этот план хоть частично, знаете, какой бы трезвон они подняли?!
— Это уж верно. Растрезвонили бы и в Анкаре, и в Токио. Насчет трезвона они мастера, — согласился Пахомов, замполит.
— Гитлеровцы подтянули новые части, — продолжал Билютин, — переброшены свежие танковые и моторизованные дивизии из Западной Европы, благо второго фронта так и нет. Уже отбиты у нас Красноград и Лозовая, ожесточенные бои в Донбассе. Короче: перед нами поставлена задача передвинуться влево, прикрыть подход к Харькову с юго-запада. Наши оборонительные позиции должны пройти здесь… — Билютин нагнулся, разыскал наименование села, — у Тарановки. Это, как видите, километров шестьдесят от Харькова. Начальнику штаба сейчас же сообщить комбатам, чтобы готовились к форсированному маршу. Сдадим участок полку Данилова. Пахомов, ты пройди сейчас в батальоны, поговори с людьми… Как, приказ Ставки всем известен?
— Читали во всех взводах, сейчас коммунисты проводят беседы.
— Вот, вот… Надо особенно разъяснить людям слова о возможных немецких авантюрах… Видите, как нас Ставка предупреждает? А то и в самом деле за месяц километров триста отмахали, немудрено, что и головы могут закружиться… Ни у кого не кружатся, товарищи?..
— Не кружатся, товарищ полковник, — теперь уже хмуро, за всех ответил Пахомов. Только сейчас у карты он понял всю серьезность складывающейся обстановки:
— Если так, то хорошо. Я сам завтра с утра выезжаю в Тарановку. Все ясно?
— А кто будет нашими соседями? — спросил начштаба.
— Слева Иваненко, а справа около Соколова чехословацкая часть.
— О, таких соседей еще не приходилось иметь.
— И сам не встречал. Но говорят, что часть сформирована неплохо. Готовились к боям давно. Видел в штабе дивизии одного их представителя.
Пахомов и начштаба смотрели на Билютина, ожидая, что он добавит еще. Надежный сосед в горячем бою — дело большое. И Билютин почувствовал это ожидание сослуживцев. Вспомнил офицера в незнакомой форме, вспомнил, как крепко тот стиснул ему руку и улыбнулся.
— Палкы́й!.. — Из всех прилагательных, что характеризуют человека, Кондрат Васильевич выбрал именно это, услышанное на Украине и полюбившееся слово.
…С утра следующего дня открытая легковушка Билютина носилась по улицам растянувшейся на шесть километров Тарановки. Разведывая местность, расположение села, подступы к нему и дороги, Кондрат Васильевич все отчетливей понимал, почему комдив трижды подчеркнул особую ответственность боевой задачи, которая возлагалась на его, билютинский полк.
Тарановка, по существу, была отдаленным огромным пригородом Харькова, юго-западным ключом к нему. Чтобы ясней представить себе наиболее выгодные рубежи обороны, Билютин даже поднялся на колокольню церкви, стоявшей посредине села. Сопровождал его туда местный житель дед Охрим, у которого хранились ключи от дверей церковного здания. В трижды латанном и перелатанном кожухе, он долго возился у массивного замка, что-то ворчал, точно ворожил.
— Выходит, здесь вроде привратника, дедушка? — поинтересовался Билютин, когда старик распахнул перед ним тяжелую, обитую железом дверь.
— Та ни, товарищ полковник, якый же тут привратник? Насчет того, чтобы приврать, так тут давно вже не вруть. — Дед Охрим кинул на Билютина взгляд с такой неиссякшей в эти годы лукавинкой, что тот невольно восхитился. Вот тебе и старичина! Понял же, несомненно понял, о чем его спросили, а смотри, как шутнул и перевернул по-своему.
— Ще до войны спорили, що тут зробыть, — говорил старик, ведя Билютина к маленькой двери сбоку от притвора. — Одни казалы, что треба кино, «Заготзерно» хотело склад зробыть, так и не домовылысь, чи склад, чи кино…
«Склад чи кино… а может, еще и иное, третье, уготовано этому зданию?» — Билютин с удовлетворением рассматривал его метровой толщины стены, крохотные, схожие с бойницами, зарешеченные окна. Темный узкий ход, на ступеньках которого пришлось светить ручным фонарем, привел на колокольню.
В прояснившийся день отсюда хорошо было видно почти все разбросанное по высоким взгорьям село. Своей серединой, где была и церковь, и площадь с сельскими учреждениями, оно вплотную подходило к железной дороге, которая проходила из Харькова на Лозовую, а краями — подобно подкове — отгибалось восточней. Эти крайние порядки хат тоже тянулись по холмам, темневшим первыми весенними проталинами, и как бы оцепляли огромную, многокилометровую котловину, лежащую со своими левадами и лугами позади села.
— Ото ж движение було по ций железке! — Дед Охрим вздернул клин каштановой с проседью бороды, указал на магистраль: — Каждые полчаса поезд… Через Тарановку ж и на Запорожье, и в Крым!… А одних рабочих поездов сколько! У нас, в Тарановци, було так, що не двор, то найдется робитнык або з тракторного, або з генераторного, або з «Свет шахтера»… Кожни полчаса вид колес земля навкруги трясется.
— Так, так… каждые полчаса, говоришь… — машинально повторил Билютин, всматриваясь в железнодорожную насыпь и мысленно прикидывая, что именно перед нею, вдоль посадок, и будет лучше всего расположить узлы обороны… А вот там, позади, в ложбинке, и для минометчиков хорошее местечко… Чуть правее удобно будет поставить полковую артиллерию…
— А где же там переезды, дедушка?
— Ото ж бачите лысинку промиж посадками?.. Це триста шостый километр… Перший переезд. А дали станция Беспаловка, там другий… Цей, що на Беспаловци, цей головнийш, товаришу полковнику!… Я вас попереджую!.. Треба его крепко держать, не спускать глаз.
Эти последние слова старик произнес столь многозначительно, что вновь привлек к себе пристальное внимание Билютина. Вот и попробуй угадать, что за этой бородой!..
— Ну, а как, Охрим…
— Григорьевич.
— Как, Охрим Григорьевич, грунт тут у вас по весне… Проходимый?
— По дорогам?
— Ну и по дорогам, и не по дорогам…
— По дорогам ще так-сяк… Ну, а полем хиба бронетранспортер и проскочит, а так средний или тяжелый танк… Тому достанется!
— Эге, Охрим Григорьевич, — уже не тая своего изумления, воскликнул Билютин, — я вижу, ты оцениваешь обстановку, как генерал… Откуда это у тебя? Уж не академию ли кончал?
Но Охрим Григорьевич внезапно замкнулся, лишь усмешка скользнула и скрылась где-то меж усами и бородой. Только, опускаясь вслед за Билютиным вниз, пробурчал:
— В лесах чого не почуешь? Хлопци навчать!
И Кондрату Васильевичу стало ясно, где прошел академию этот тарановский дед и что за хлопцы его обучали…
Еще только поднявшись на колокольню, Билютин увидел, как вдали, по окраинной улице Тарановки, двигалась, направляясь к центру села, колонна бойцов. Нелегкий путь они преодолели ускоренным маршем даже раньше данного им срока.
Когда Билютин спустился вниз, его на паперти встретил Решетов.
— Разрешите доложить, товарищ полковник, батальон прибыл.
— Молодцы! Пусть теперь отдохнут. А вы идите со мной.
Полковник еще час назад высмотрел небольшой домик в стороне от церкви. Он стоял в садике, который круто сбегал меж двумя высокими каменными изгородями к леваде и был удобен для размещения штаба.
В домике до войны, очевидно, находилась сельская библиотека. Вдоль стен тянулись теперь пустые полки, шкафы пустовали, и казалось чудом, что они уцелели, не сожжены гитлеровцами.
— Ну, раз первым ты прибыл, с тебя и начнем, — проговорил Билютин Решетову и вынул карту.
— Великоват участок, — качнул головой Решетов, когда полковник объяснил ему задачу батальона и сделал паузу, словно приглашая высказать свое мнение.
— Великоват, слов нет. У всего полка великоват. Но для нас что основное? Перехватить дороги, их взять на замок. Выйдем на местность, увидишь, как это получше сделать. Вот сюда, к этому переезду, надо выдвинуть взвод, а вот сюда, к Беспаловке, тоже взвод, да самый крепкий, самый надежный… Какой предложишь?…
— Ой, товарищ полковник, все они у меня надежные… да только людей-то в них…
— Ничего, ждем пополнения… Не в этом дело. Главное, чтоб и взвод был обстрелянный и чтоб командир посмышленей, орлом чтобы держался.
Решетов с минуту подумал, щипнул бакенбарды.
— Разве Широнина сюда?
— Широнин? Что-то незнакомый даже…
— Он у нас недавно, всего три недели… С Урала сам, учитель, что ли… Пехотное кончал. По-моему, со сметкой офицер. Под Червонным, можно сказать, весь батальон выручил…
— Ах, лыжник! Знаю, знаю… Он и меня выручил на прошлой неделе, в метель. А что у него за люди? Был бы костяк…
— Да костяк у них во взводе крепкий… Четыре коммуниста, сталинградцы есть, а двое в полку с самой Москвы…
— Сколько же всего?
— Пожалуй, сейчас человек пятнадцать… Точно не помню.
— Надо еще им добавить.
— Есть добавить.
— Да, кстати… — словно вспомнил что-то Билютин. — Ты знаешь, кто у нас правый сосед будет?
— Слышал, будто чехословаки, что ли.
— Ну и как ты считаешь?..
Решетов смотрел в иссиня-холодноватые, внимательно вопрошающие глаза Билютина, пытаясь угадать ход его мыслей.
— Я думаю… По-моему… — несколько робко начал он, — не помешает, если на правый фланг подкинуть лишних людишек…
— Гм… Лишних… А где же они?
— Так сами же говорите, пополнения ждем…
— Эх, Решетов, Решетов, — усмехнулся Билютин. — Офицер из тебя неплохой, а политик ты, скажу прямо, недалекий. Да я разве тебя об этом спрашиваю? Им-то, новым соседям, у кого сейчас учиться, кроме как у нас, а? Не у кого больше! Вот о чем надо нам с тобой и сейчас и всегда думать… а ты — лишних людишек!… Подбросить! Ну ладно, присылай часам к пяти мне этого… учителя… Широнина. Я ему лично задачу поставлю… — Голос Билютина зазвучал приглушенно, и Решетов, хорошо знавший полковника, почувствовал его внутреннее волнение. Словно преодолевая его, Билютин резко поднялся, направился к двери. И уже на крыльце ошеломил Решетова неожиданным строгим окриком: — А это еще что такое?!
Полковник даже остановился. Решетов смотрел из-за полковничьего плеча. Почти у крыльца начинался сад. Выхлестанные зимними стужами, почерневшие ветви деревьев теперь, под проглянувшим солнцем, словно оттаивали, дымились. В саду — куда ни кинь взором — никого не было.
— Да вон на изгородь посмотри… Скворцы, что ли?..
На высоком заборе, выложенном из глыб песчаника, зябко перепрыгивали две птахи. Несколько камней обсохли, прогрелись, и пичуги вертелись на них, робко и озадаченно перекликались, не зная, куда дальше держать путь.
— Так точно, скворцы, товарищ полковник.
— Рановато… Рановато они в этом году. А? Торопят весну! — потеплевшим голосом проговорил Билютин и тяжело шагнул с крыльца. — Ну, поехали на Беспаловку!..
21
Когда батальон Решетова прибыл в Тарановку, Широнин увидел знакомых связистов из артиллерийского дивизиона и от них, почти ежедневно настраивавших свою рацию на Москву, узнал о сегодняшней сводке.
1 марта Совинформбюро сообщило, что наши войска вели наступательные бои на прежних направлениях, то есть западнее Харькова и севернее Курска.
Как и в неисчислимом множестве других мест, эту сводку слушали в Усовке, в доме Зимина, и в Кирсе, на Первомайской улице, где жила семья Широнина, слушали в Улан-Удэ, родном городе Чертенкова, и в чайханах Ленинабада, где в свое время частенько сиживал Фаждеев, наверное, слушали ее, занесенную из партизанского отряда и передаваемую шепотком, и в Ново-Михайловке, откуда был родом Иван Вернигора.
А для них самих, для Широнина и Зимина, для Вернигоры и Фаждеева, как и для всех других бойцов, воевавших на этом и на прилегающем к нему участках фронта, каждая фраза сообщения, сдержанно и деловито комментировавшего ход дела на фронтах, полнилась особенной значительностью. Ведь еще накануне упоминалось и об ожесточенных контратаках врага юго-западнее Ворошиловграда и Краматорска, о ста немецких машинах с войсками и грузами, уничтоженных за день нашей авиацией…
Широнин вернулся во взвод, расположившийся с солнечной стороны полуразрушенного школьного здания, и стал рассказывать свежие новости. К взводу подошли и красноармейцы только что прибывшей из Змиева маршевой роты — нового пополнения, о котором говорил Билютин. Большинство их было призвано в армию недавно полевыми военкоматами в освобожденных районах Украины, и, слушая лейтенанта, они все теснились к нему поближе, старались не пропустить ни одного слова. А над селом одна за другой проходили в сторону Краснограда и Староверовки то девятки, то семерки штурмовиков, и Петру Николаевичу приходилось замолкать, когда из-за взгорья накатывался и нарастал их звенящий металлом гул. В такие паузы Широнин, как и все, откидывал голову назад, любовался могучим, грозным строем боевых самолетов.
Мысленно Широнин сопоставлял сегодняшнюю активность авиации с тем, что сообщало Совинформбюро. Было ясно, что гитлеровцы продолжают подбрасывать на этот участок фронта новые и новые подкрепления, и задачей штурмовиков является расстроить, сдержать подход этих свежих частей.
Вскоре пришел связной и передал Широнину приказ — прибыть немедленно в штаб полка, к Билютину. Бойцы маршевой роты расступились, пропуская лейтенанта, и затем снова сгрудились вокруг первого взвода, словно ожидая теперь уже от самих солдат, что они добавят к словам командира.
Зимин поудобней сел на выступе фундамента, скрутил цигарку, заинтересованно посмотрел на молодых бойцов.
— Выходит, вовремя подоспели к нам на подмогу, а? — спросил у одного из них, красноармейца с худощавым, насупленным лицом, с беспокойным, возбужденным блеском черных глаз. Он слушал Широнина всех внимательней.
— Выходит, так, — хмуро ответил красноармеец и отвел взгляд в сторону. На голове его, стриженной под нулевку, была непомерно большая ушанка — хоть вставляй в зазор два пальца, — и когда он поворачивал голову, то казалось, что ушанка оставалась на месте неподвижной.
— Что же ты, солдат, и шапку не подобрал себе как следует?
— Сойдет! — с пасмурным безразличием кинул новичок.
— Он, товарищ старшина, про запас взял, на рост, — бойко и весело заговорил стоящий рядом с красноармейцем в большой ушанке другой паренек — широкоплечий, скуластый крепыш с огненно-рыжими бровями. — Я уже знаю, у него, если чуб отрастает, так и эта еще тесна будет!
Хмурый красноармеец бросил на приятеля недовольный взгляд: чего, мол, разболтался, в чубе ли сейчас дело?
— Откуда сами? — Заметив, что оба парня посматривают не столько на него, Зимина, сколько на цигарку в его руках, Сергей Григорьевич протянул им табак.
Рыжеватый красноармеец по-свойски взял кисет, но не раскрыл его, передал товарищу.
— Лисичанские мы. Я и он. А есть тут и из Купянска, из Россоши, Коротояка.
— Тяжело небось пришлось за эти полтора года? — спросил Зимин, глядя на хмурого красноармейца и пытаясь объяснить себе его замкнутость и угрюмость. Но тот только махнул рукой, а откликнулся на вопрос Зимина все тот же крепыш.
— Что уж и говорить, товарищ старшина. Вот его, Алексея, два раз в ортскомендатуре стегали за то, что на биржу труда не являлся. Потом месяц на чердаке вместе со своим тезкой сидел, прятался, они оттого вроде и одичали…
— С тезкой? И он тут?
— А вон стоит, — кивнул красноармеец на другого бирюковатого паренька, зябко переступавшего с ноги на ногу. — Тоже Алексей — С Гор Вода…
— За что ж его так прозвали?
— Просто народ говорит… В этом месяце, в марте, как раз у них день ангела…
— Ишь ты, — усмехнулся Зимин, вспомнив, что по деревенскому календарю действительно приближается Алексей теплый. — А ты ж тогда кто такой?
— А я тоже мартовский… Василий Капельник… Тот, что медведя будит и сани распрягает…
— Вижу, что Святцы знаешь, а кроме них, в газету, например, заглядывал?
— Когда-то не забывал… А в эти полтора года самим писать довелось.
— Уж не свою ли собственную, на чердаке?
— Да нет, не газету, а листовки. Из Краснодона приносили, а мы уж у себя на поселке переписывали для всех людей. Без этого чем душе жить? А уж нам и до петельки можно было дойти, если б в конце концов к партизанам не прибились.
— И прибились все-таки?
— А как же! Мы и до Изюма с отрядом доходили.
— Это хорошо, значит, автомат и граната для вас не новость… Ну, а петельку теперь уж будем гитлеровцам готовить.
— Дело понятное, товарищ старшина, им одну уже скрутили под Сталинградом… Вот нам бы теперь только поскорее куда-нибудь определиться!
Широнин отсутствовал с полчаса. Пришел не один, а с заместителем командира полка по строевой части майором Евсеевым.
— Встать! — скомандовал Зимин, завидя подходивших офицеров.
Но они направились не к первому взводу, а к отошедшему в сторону пополнению. Майор приказал маршевой роте выстроиться в одну шеренгу, довольно усмехнулся — молодые красноармейцы хотя с минутным замешательством, но все же выполнили приказ дружно, стали ровным, плотно сомкнутым строем.
— Сколько же вас? — повернулся к Широнину Евсеев.
— Человек семь, товарищ майор. Так и полковник сказал.
Евсеев смотрел на шеренгу, будто затрудняясь, кого же выбрать. Смотрел на нее и стоявший позади офицеров Зимин. Парень в большой ушанке и его веселый приятель были в шеренге крайними слева. Коренастый красноармеец встретил пристальный взгляд старшины и недоуменно приподнял огненно-рыжие брови. Не почудилось ли ему? Да нет же, глаза старшины, который их расспрашивал и поделился табаком, дружелюбно щурились, подмигивали, звали: что, дескать, теряешься, будь смелей, выходи! Крепыш толкнул локтем товарища — ну-ка за мной! — и оба решительно сделали шаг вперед, замерли в ожидании.
Увидев, что его тезка вышел из шеренги, торопливо шагнул и пристроился рядом с ним и второй Алексей — С Гор Вода. Теперь мартовские пареньки стояли локоть к локтю, как выросшие из одного клубня три голубоглазых подснежника.
— Эге, да ребята расторопные, нетерпеливые, догадываются и сами, в чем дело, — засмеялся, прощая этот самовольный выход из строя, Евсеев. Подошел к роте, размашистым жестом руки — будто откраивал добрый ломоть — отделил от шеренги еще четырех красноармейцев.
— В первый взвод, ясно?
— Ясно, товарищ майор, — ответил за всех лисичанский паренек.
Когда Евсеев распределил по ротам остальных и ушел, Широнин достал свою полевую тетрадь — классный журнал, — вписал в нее новых бойцов. Первым был парень в большой ушанке Алексей Крайко, затем Алексей Сухин, их рыжеволосый побратим Василий Танцуренко и еще Визгалин, Гертман, Силаев, Субботин.
…И вот первый взвод шагал по улице села к переезду.
Как ни трудно было в последние дни с подвозом боеприпасов, Билютин приказал выдать Широнину все, что он сочтет необходимым. Теперь почти каждый боец нес помимо личного оружия или ящики с гранатами, или патронный ящик. Тех, у кого к этому времени еще имелись винтовки, теперь наделили автоматами. Широнину даже удалось заменить один из ручных пулеметов, отражатель которого в бою под Червонным вышел из строя, и получить новенький, покрытый еще заводской смазкой. Билютин обещал придать взводу и одно противотанковое орудие из полковой батареи.
Идя сейчас чуть сбоку колонны, по перемешанному с грязью снегу, Петр Николаевич вспомнил недавний разговор с Билютиным. Полковник вначале пытливо расспрашивал о нем самом, о бойцах взвода, улыбнулся, услышав знакомые фамилии старослужащих Болтушкина, Скворцова, Вернигоры, попросил рассказать об остальных. Лишь потом заговорил о задаче, которую решил поставить перед первым взводом. И тогда в глазах Билютина проступило выражение такой суровой, властной требовательности, которую придает только твердая убежденность в том, что слушающий его человек никуда, ни на какую долю секунды не уклонится от повелевающего над всей его жизнью высшего долга.
— Ну, желаю вам успеха, — сказал и, может быть, дольше, чем обычно это делают, задержал руку Широнина в своей горячей руке. — Да не забывайте почаще докладывать Решетову обстановку…
Взвод прошел уже полпути и поравнялся с приземистым, крытым черепицей домом, у двери которого стояла бричка батальонного санвзвода. Ездовой и девушка в шинели сгружали с брички носилки и какие-то обернутые плащ-палатками узлы. Завидев проходившую колонну, девушка выпустила из рук носилки, стала всматриваться в ряды красноармейцев.
— Товарищ лейтенант, это же нашего Грудинина женка, — сказал Зимин, узнавая медсестру.
— Грудинин, выйти из строя! — Широнин обернулся, разыскал взглядом красноармейца и с улыбкой кивнул в сторону дома.
Грудинин подбежал к Вале.
— А ты чего здесь?.. Ты же в санроте.
Из-под ушанки Вали выбивались кудряшки, и она убрала их рукавом шинели, сдвинула на затылок и ушанку, открыв высокий, крутой лоб.
— Сама… Ну, конечно, сама… — не спрашивал, а утвердительно произнес Грудинин, не отводя взора от этого лба, пронзительно синих, искрящихся глаз.
— Ну ладно, сама не сама, а зато теперь вместе, — подтвердила догадку Василия Валя и озабоченно зашарила рукой в карманах шинели. — Табак тебе нужен? У нас во взводе старшина не курит, всегда могу взять…
Грудинин нагнал первый взвод уже у переезда. Колонна поднялась на железнодорожную насыпь. К югу и северу убегали подорванные гитлеровцами рельсы большой магистрали. Петр Николаевич, уже знакомый с местностью по карте, теперь внимательно, изучающе смотрел на участок, который предстояло занять взводу. Слева темнели развалины станции Беспаловка. Чуть в стороне виднелись сохранившиеся стены какого-то небольшого здания, за ним раскинулся пруд и молодой, очевидно посаженный перед самой войной, сад.
А впереди взору открывалась засыпанная еще не сошедшим снегом широкая долина — Касьянов яр. Он уходил далеко-далеко, к самому горизонту, на дымящейся кромке которого виднелись ломаные, уступчатые очертания разрушенной совхозной усадьбы и еще каких-то строений.
Первый взвод стоял позади Широнина молча, не мешая раздумью командира. Вместе с ним красноармейцы смотрели на поля, покрытые серой смушкой мартовского снега, смотрели, не зная того, что тем из них, кто останется жить, и эти поля, и эта долина, и этот темнеющий молодой сад западут в память неизгладимо, навсегда.
22
Широнин оставил взвод у железнодорожного переезда, а сам пошел к станционным зданиям. Прежде чем окончательно решить, где именно отрывать окопы, хотел тщательно изучить прилегающий к переезду участок.
Беспаловка была обычной пригородной станцией. Вокзал из четырех-пяти комнат, небольшой пакгауз, будка для кипятка, сарайчик пожарного депо. Сейчас все лежало в развалинах. Только перрон, на диво, уцелел, прямо хоть занимайся на этом гладком бетонном плаце строевой подготовкой. Вокруг же все разрушено, сожжено. На остатках почерневших, обугленных стен кое-где сохранились наполовину облупленные, покрытые веселой голубой эмалью таблички: «Вхід», «Каса» и табличка с незнакомым Широнину словом «Окріп»[8].
Вначале Петру Николаевичу показалось заманчивым сделать опорным пунктом обороны эти руины. Но тут же он отказался от этой мысли. Со станции невозможно держать под прицельным огнем автоматов железнодорожный переезд. Да и не ясно ли, что в случае чего станционные здания станут первым легко различимым объектом и для вражеской бомбежки, и для артиллерийского огня.
А вот домик вблизи сада Петру Николаевичу понравился.
Можно было предполагать, что здесь в свое время находилась метеорологическая станция. Во дворе сохранились все те нехитрые приспособления, которыми пользовался кружок юннатов и в кирсовской школе. Дождемер, шест с флюгером, чтобы определять направление ветра, другая высокая жердь с укрепленным наверху обручем, стоя под которым хорошо было наблюдать за направлением движения облаков.
Правда, от самого домика тоже остались только четыре стены, но внутри имелся наполовину прикрытый досками подвал, а главное, что привлекло Широнина, — домик находился в створе невысокого каменного заборчика, который тянулся меж садом и шоссе, и этот заборчик просматривался отсюда с обеих сторон.
Широнин вернулся к переезду, подозвал к себе командиров отделений.
— Окапываться будем здесь, — заговорил он, указывая рукой на обочины шоссе. — Ты, Седых, со своими людьми держись поближе к насыпи. Твои ориентиры — вот тот куст; отделению Вернигоры окопаться наискосок от кювета, Болтушкин — на левом фланге, вот за тем домиком… Пару окопов в полный рост отрыть и перед домиком, остальные подальше.
— Ясно, товарищ гвардии лейтенант!
— Ориентиры вижу.
— Есть, товарищ лейтенант! — один за другим откликались командиры отделений.
— И вот что еще: предупредите всех, чтобы понапрасну на снегу не толклись.
Широнин опасался, что бойцы наследят вокруг, втопчут в грязь снег, и без того лежавший леденистым голубовато-серым студнем, и тем самым демаскируют позицию взвода. Но этого последнего предупреждения можно бы и не делать. Мартовское солнце уже исподтишка хозяйничало на пригревах. На откосе железнодорожного полотна оно обнажило просмоленные, блестевшие шпалы, кучу шлака, когда-то давно выброшенного из паровозной топки, растопило снег над охапкой перекати-поля, и его ежастые шары покачивались на тоненьких ножках, точно раздумывая: сорваться ли с места и перемерить озорными скачками степь сейчас или дождаться такого ветра, чтобы взметнуться под самые облака. Прибавлялось черноты и на гребнях придорожных канав, на буграх да и на ровном поле.
Вернигора разметил в стороне от кювета окопы для своих бойцов и теперь сам, поплевав на широкие ладони, с силой налег ногой на штык большой саперной лопаты, выворотил первый пудовый ком мокрой земли. На ее срезе вылупилась какая-то крохотная зеленая личинка.
— Перезимувала? — дружелюбно удивился Вернигора и срезал еще бо́льший пласт.
— Ну, хлопцы, весенние полевые работы начались.
— Да уж, видать, начались. Трактора аж гудят, — в тон Вернигоре откликнулся Букаев, кивая в сторону горизонта.
Канонада, гремевшая с утра, приблизилась. Ее перекаты учащались. Западный небосклон порой усеивался облачками разрывов — стреляли зенитки, — порой же закрывался нарастающими снизу клубами дыма, и тогда очертания горизонта на глазах менялись и весь он словно бы колебался. Оттуда, со стороны Краснограда, все чаще проходили и к триста шестому километру, и к переезду, где окапывался первый взвод, колонны наших частей, артиллерийские и минометные батареи, обозы. Шла большая перегруппировка войск.
— Что там, сынки? Припекло, что ли? — разогнул спину и кинул проезжавшим батарейцам Андрей Аркадьевич, копавший окоп вблизи шоссейного кювета.
Расчет расположился на станинах 152-миллиметровой гаубицы и, будто бы накрепко к ней привязанный, оцепенел. Каждый, выбрав на неудобных сиденьях относительно удобное положение тела, старался не нарушить его и не обращал внимания на грязь, которая всплескивалась из-под колес, густо залепляла сапоги, шинель да и лицо. Реплика Скворцова не пробила пасмурного молчания, видимо, вконец истомившихся и в боях, и в дорогах артиллеристов. Лишь один из них глянул сверху вниз на стоявшего по пояс в земле Скворцова, строго прикрикнул:
— Копай, копай, папаша, поживей, не валандайся. Каждому своя задача.
— Глянь, какой начальник нашелся. Это я и без тебя знаю. Ты хоть шинель подбери… Рассупонился, как у тещи за оладьями.
Но артиллерист только дремотно прикрыл веки, не шевельнул и рукой, и угол шинельной полы поволокся дальше по дороге, к переезду.
Широнин, наблюдая за отходом частей, поторапливал взвод, чтобы до наступления сумерек отрыть хотя бы одиночные окопы. Кто знает, что принесет ночь и следующее за ней утро? А окапываться было нелегко. Набухший влагой суглинок налипал на лотки лопат, свинцово тяжелыми пластинами приставал к подошвам сапог, и не один уже солдат и про себя и вслух клял Гитлера и гитлеровцев, всех, кто их породил. Чертенков, который в иной обстановке справился бы с такой работой за четверть, ну от силы за полчаса, сейчас только сопел и медведем ворочался в наполовину отрытом окопе, поправляя его обваливающиеся стенки. Кирьянову, когда на заводе случалась авария, нипочем было простоять с молотком и зубилом в руках две смены, а сейчас даже он сбил ладони до сукровицы.
Больше всего пришлось потрудиться отделению Болтушкина, которое окапывалось неподалеку от пруда. Вначале лопаты, легко входили в верхний песчаный, еще не оттаявший грунт, но за ним оказалась заиленная земля — очевидно, в первые летние месяцы пруд разливался и здесь. Под ногами захлюпала жижа, которую впору выбрасывать не лопатой, а черпаком. Между тем окопы здесь были крайне нужны. А что, если гитлеровцы вознамерятся прорваться к переезду через сад?
Только когда стемнело, Широнин велел прекратить работу — она в основном была закончена, — выставил по сторонам шоссе боевое охранение, половину взвода отвел в подвальчик дома на отдых.
На неприметном, разложенном в яме костерике вскипятили чай.
А на шоссе не смолкали покрикивания ездовых, урчание моторов, и нет-нет да чья-либо фара брызгала светом, на миг выхватывая из ночи то шагающую колонну, то повозки обоза.
В подвальчике было темно и сыро. Пахло гниющим деревом, затхлыми бочками из-под солений. На не прикрытый досками пола угол набросили и прикрепили плащ-палатки, закурили, надышали, и в подвале потеплело от скучившихся, пропотевших в нелегком труде тел. Поблескивая цигарками, молча прислушивались к движению на шоссе.
— Вроде отходят наши, а? — несмело произнес чей-то малознакомый голос, наверное принадлежавший кому-либо из новеньких.
Этот вопрос — а по существу, утверждение — выразил давно зревшую у каждого догадку, ту догадку, о которой не хотелось и говорить, не то что отстаивать ее.
— Отходят, отходят!… — раздраженно передразнил Злобин. — Наконец-то понял, наконец-то разобрался!.. А что же, считаешь, как ты в армию пришел, так теперь прямиком и до Берлина?
— Да я ничего такого и не думал… Просто вижу, как дело оборачивается, ну и сказал, — смущенно стал оправдываться новичок.
— А как же оно для тебя оборачивается? — еще раздраженнее спросил Злобин. — Небось мозоли натер и теперь отдыхать неделю собрался. А свое-то дело знаешь?
— Знаю.
— Ну?
— Известно что… Стоять до последнего! — уже с искренней запальчивой обидой воскликнул тот же голос новенького.
Широнин, слышавший весь этот разговор, вмешался:
— Что ты, Злобин, на парня налетел? Глаза никому из нас закрывать не для чего. Война ведь… Сводку сегодня слушали?.. А парень, как видишь, и в самом деле свою задачу понимает, правильно сказал — стоять до последнего!
— Да я против него ничего не имею. Я только так, к слову заметил, — смутился теперь сам Злобин. — И сам давно вижу, что отходят.
Несколько минут молчали, попыхивали цигарками.
— Стоять до последнего! — вдруг задумчиво повторил слова парнишки Кирьянов. Огонек цигарки выхватил из темноты его круглые надбровные дуги, глубока запавшие, воспаленные глаза. — Как знать, где оно последнее, а где не последнее?..
— Где последнее? Когда ты чувствуешь, что уже определенно завтра тебя старшина из суточной ведомости вычеркнет, вот оно и есть последнее, — пошутил Вернигора.
— Ну, положим, в седьмой роте старшина, поговаривают, не спешит вычеркивать… По два-три дня еще в списке числит.
— Это совсем другое дело…
— Коль зашла речь об этом последнем, я так скажу, — послышался голос Нечипуренко. — Со мной самим было в начале войны в Белоруссии… Тоже вот так новичком выглядел и на все поплевывал сверху. Э, мол, погибать так погибать!.. Однажды на опушке ждали танковой атаки. Командир приказать отрыть окопы поглубже. Ну, а я лопатой ковыряю, а сам думаю: «Да что, в самом деле, мне от гитлеровцев прятаться, не зазорно ли?». Наполовину откопал и сижу. А когда двинулись на нас танки, один прямо на мой окоп навалился. Земля песчаная, окоп в миг расползся. Да только сосна рядом росла. Корневища почву связали и сдержали. Так я потом, когда танк подбил, вылез из окопа и смотрю на эту сосенку как на самую разлюбимую, обнять даже захотелось. «Спасибо тебе, говорю, что мне, дураку, жизнь спасла. Вперед буду умнее…» И сколько же я после того дорог прошел, сколько гитлеровцев переколотил!
— А с одним так случилось, — заговорил из угла Букаев. — Вместе с напарником пошел он однажды под Сталинградом в разведку. Ну и попал в переплет. Стали их окружать. Напарник упал. Дело плохо. Куда ни сунься — гитлеровцы. Стал отстреливаться. Ну, думаю, — Букаев и не заметил, как с третьего лица перешел на первое, — оставлю последний патрон для себя, на крайний случай. Подбил еще четырех фашистов, и вот все — последний патрон. А они видят, что я перестал стрелять, обнаглели, уже не ползут, а во весть рост на меня. И впереди шагает в плаще один высокий такой, статный… Шагов десять остается ему до меня. И вдруг ветерок распахнул ему плащ, вижу — птица какая-то важная: грудь полна орденов, нашивок разных на мундире и не счесть. Эх, думаю, солдат-то перестрелял, а этот, главный, жив останется! И так ведь, скажите, нахально прет, даже зубы скалит, считает, что теперь и голыми руками можно меня взять. У меня холодный пот так и выступил. Что выбирать? Наверняка ведь в плен попаду… Черт с вами, решил, если и захватите живьем, все равно, пусть кожу с меня сдерут — ничего не скажу, а этого расфуфыренного гада убью. Выстрелил из последнего патрона, упал он. Ну, думаю, теперь все, прощевай, Иван Прокофьевич. И вдруг слышу: слева из-за развалин автомат застрочил, и оставшиеся немцы кто замертво наземь, а кто в бег. А это меня выручил напарник. Его-то, оказывается, не убило, а только оглушило. Очнулся и первым делом подумал обо мне. Спас, одним словом, вытащил с того света. Вот тут и размышляй, когда ж оно наступает, последнее?.. Пустил бы себе пулю в лоб — что толку!…
— Ах, хорош напарник, ах, хорош! — даже прицокнул языком Фаждеев.
Он сидел в углу подвальчика, поджав под себя ноги, как, наверное, привык сидеть в чайхане Ура-Тюбе, и крышку от котелка, в которой плескался горячий чай, держал снизу, кончиками пальцев, будто разузоренную пиалу. Уже и себя мог по праву считать бывалым солдатом Фаждеев, однако по-прежнему с заново пробуждающимся интересом слушал вот такие рассказы товарищей, вдумывался в жестокий опыт войны.
— Знамо хорош, — отозвался на восклицание Фаждеева Букаев и неожиданно простодушно рассмеялся. — Да только, признаюсь, друзья, я этого напарника и не знал. Судьба свела с ним только с утра, в тот день. Он — артиллерия, я — пехота. Успел лишь спросить, откуда родом. А он отшутился. «Я, говорит, издалека: девяносто верст от Рязани, триста от Казани…» Вот и все наше знакомство. И выходит, подумавши, что вроде бы сам народ мне на безыменную подмогу пришел…
Широнин, как и все, внимательно следил за неторопливым ходом мыслей Нечипуренко и Букаева. Эти мысли исподволь, но неуклонно вились, вились и подобрались к главному. Разве прежде всего отрешенности от себя ждет от них, солдат, война? Не наоборот ли? Не нравились Петру Николаевичу эти слова… Отрешенность… Самозабвение… Словно бы человек заранее склонил голову перед чем-то показавшимся неизбежным, неумолимым, позабыл о том, что в нем самом и вокруг него…
— Иван Прокофьевич к верной мысли подвел, товарищи, — заговорил Широнин. — Кто мы с вами такие? Вот здесь собрались, кто?..
Он спросил и умолк, думал, как всего проще передать то, что сейчас зрело в сердце.
В подвальчике было темно, и все же угадывались в этой темноте, в наступившей тишине ожидания обращенные к нему, на его вопрошающий голос, лица, угадывались глаза…
— Народ, — сказал Широнин. — От него наша жизнь, — раздумчиво продолжал он спустя минуту, — наша сила и все, чем мы славны, и для народа эта наша жизнь дорога, как дорога матери ее родная кровинка. Ну а коль так, то и распоряжайся этой жизнью умеючи, благодарно, по совести, помни, что всегда сопутствует тебе доброе материнское слово… И когда ты видишь в бою, что уже ничего другого для Родины сделать не можешь, тогда… Ну, тогда не задумывайся, отдавай ее, жизнь. Вот что, по-моему, значит держаться до последнего.
…По узкому ходку, который был прорыт из подвала прямо под стенкой и заканчивался окопом, Петр Николаевич вышел наружу. К ночи начинало подмораживать. Широнин облокотился о берму, и под локтями стеклянно хрустнула тоненькая, недавно сбежавшаяся ледяная корка. Воздух посвежел, стал в вышине прозрачным. Но окрест лежала такая темнота, что Широнину, глянувшему на крупно проступившие звезды, на миг показалось, что они склонились не над степью, а над привычной ему тайгой Приуралья и он стоит в чаще, смотрит на них сквозь просветы меж пихтовыми кронами. И тут же это мимолетное ощущение рассеялось. Вдалеке стреляли зенитки. Многоцветный искристый ручей пересек у невидимого горизонта глазастое звездное небо, упал в темноту с глухим рокочущим шумом.
— Зимин! — наклонился к ходу в стене и позвал Широнин.
— Я, товарищ гвардии лейтенант.
— Давай-ка пройдемся по окопам.
Оба поднялись на бруствер и, тихо переговариваясь, зашагали к переезду.
23
Продолжали окапываться и с утра следующего дня. Углубляли траншеи, прорыли ходы сообщения меж отделениями, метрах в ста вправо от переезда соорудили ложные позиции.
Все подивились хитроумной выдумке Болтушкина. Он насыпал в плащ-палатку земли, направился к пруду, осторожно ступил на начинавший рыхлеть лед. Шагах в десяти от берега высыпал землю, обровнял ее лопаткой, чуть присыпал снежком.
— Что колдуешь, Александр Павлович? — спросил Фаждеев, изумленно следивший за старшим сержантом.
— Не собираешься ли коропа на завтрак приманить? — засмеялся и Кирьянов.
— Коропа, Кирьянов, коропа. Да самого крупного… Вдруг да и клюнет, — проговорил Болтушкин, вернулся на берег, всмотрелся в свое незамысловатое сооружение, воскликнул: — Ну чем не окоп!
— А и в самом деле, — разгадал этот дальновидный замысел Кирьянов, — ловушка может получиться неплохая.
Он и Фаждеев последовали примеру Болтушкина, он несли часть земли из своих окопов на лед, и теперь издалека, со стороны глядя, действительно можно было подумать, что это не ровная поверхность пруда, а небольшое, изрытое окопами плоскогорье.
В середине дня артиллерийская запряжка доставила обещанное Билютиным орудие.
— Командир орудия сержант Комаров прибыл с расчетом в ваше распоряжение, — отрапортовал батареец лет тридцати, сверля своего нового командира глазами, выражающими и служебное рвение и вместе с тем чуть плутоватыми.
Широнин уже не раз переходил на ту сторону насыпи и поглядывал в сторону села, ожидая орудия. Сейчас он с удовлетворением окинул взором наконец-то явившийся расчет.
— Ребята, видно, подобрались тертые, а?
— Жаловаться не стану, товарищ лейтенант, — с достоинством, как командир командиру, ответил Комаров. — Вон Тюрин еще в сорок первом под своей Тулой боевое крещение принимал. Он и в мирное время оружейником был. Так что понятно… Да и Петренко, заряжающий, разные виды видывал.
— Что ж, будем знакомы, артиллеристы, — проговорил Широнин, пожимая руку Комарову, Тюрину, красноармейцу с высоким, прямо-таки профессорским лбом, и Петренко.
— Как со снарядами?
— Вдоволь, товарищ лейтенант. Есть для всякого Якова. И осколочные и фугасные.
Широнин вместе с Комаровым прошли за насыпь, выбрали место для огневой позиции. Удобнее всего было расположить орудие у небольшого пригорка, за которым стоял колодезный сруб. Но и сам колодезный журавель, и росшие рядом два высоких тополя могли облегчить противнику пристрелку, и потому решили установить орудие левее перед одним из крайних домов. Отсюда также был хороший обзор впереди лежащего танкоопасного направления, имелся и достаточный по дальности свободный обстрел. А главное, если бы танки прорвались к переезду, то их, поднявшихся на насыпь, встретили бы орудийные выстрелы почти в упор.
Батарейцы начали оборудовать огневую позицию. Широнин направился к взводу порадовать бойцов вестью о прибывшем подкреплении.
Но в этот же день совершенно неожиданно первый взвод еще пополнился людьми.
За час до прибытия расчета Петр Николаевич послал Шкодина с донесением к Решетову. Шкодин вернулся не один. Широнин увидел его еще издали, шагавшего по железнодорожной насыпи с какими-то двумя бойцами. Может быть, несут обед? Так нет. До обеда вроде бы далеко. Да и за плечами у красноармейцев не термосы, а вещевые мешки.
— Товарищи, да это же Торопов и Павлов! — первым узнал подходивших и оживленно воскликнул Чертенков. — Они, честное слово, они.
— А и в самом деле, — подтвердил, всматриваясь, Зимин.
— Писали ведь, ждите, мол.
— Я ж казав, що Торопов такый, що своего добьется.
Торопов и Павлов кубарем скатились с насыпи в гурьбу выбежавших навстречу из окопов красноармейцев.
— Привет фронтовикам от геройского советского тыла! — шутливо кричал Торопов, переходя из объятий Чертенкова в объятия Грудинина, Букаева, Вернигоры.
— Я бачу, що ты не так уже и стосковался, как писал, — пошутил Вернигора, глядя на упитанное, еще более раздобревшее в госпитале лицо Торопова.
— Да это все Павлов виноват… У него аппетита не было, так всегда за столом приходилось его выручать, — пошутил Торопов, вызвав еще больший смех сослуживцев.
В первом взводе знали, что кто-кто, а уж Павлов мимо рта ложку не пронесет. Да и госпитальная поправка пошла ему на пользу не меньше, чем его напарнику. Торопов увидел Широнина, догадался, что это командир взвода, мигом одернул шинель, поправил пояс, подошел:
— Товарищ гвардии лейтенант, красноармейцы Торопов и Павлов прибыли в первый взвод для дальнейшего прохождения службы.
Оказалось, что оба красноармейца направились в Тарановку вместе с той маршевой ротой, которая пришла в село еще вчера. Но в пути командир роты послал их с поручением к коменданту соседнего села, и они явились к месту назначения только сегодня.
— Что же ты, Иван, и окопа нам не приготовил? — спустя полчаса весело журил Торопов Чертенкова.
— А кто же знал, что вы приедете, — проговорил Чертенков, всерьез принимая этот упрек. Что бы ему стоило с его силой сделать приятное другу!
— Эй, Сашко, берись-ка сам за лопату, на чужого дядю не смотри, не надейся, — прикрикнул Вернигора. — Я бы на твоем месте сейчас для всей роты окопы отрыл, кабан ты этакий.
Широнин направил вновь прибывших в отделение Болтушкина. Александр Павлович сразу нашел им работу, приказал окопаться на левом фланге.
К разговорам о виденном в тылу Торопов и Павлов вернулись несколькими часами позже, после того как старшина Чичвинец с красноармейцем из хозвзвода принесли в термосах обед и бойцы, плотно поев, отдыхали в подвальчике метеостанции.
— Это же только видеть и чувствовать надо, товарищи, как наш народ борется, — рассказывал Торопов. — Наш госпиталь сперва в Мичуринске был, а потом в Тамбов переехал. Что ни воскресенье, гости приходили проведать. Из школ, с заводов. Ну вот, к примеру, приходит старичок. Такой, что давно бы ему, еще десять лет назад, на покое быть… Говоришь ему: «Папаша, посидите еще с нами в палате. Мы ведь своих отцов третий год не видим…» — «Нет уж, простите, — отвечает, — сынки, навестить навестил, а надо идти, дело ждет». — «Какое? Сами же говорите, что в паркетной мастерской работаете, подождет он, паркет, не до него сейчас…» А он только усмехается. «Я бы, — отвечает, — в свои семьдесят лет не спешил, да тут, сынок, сам должен понимать, сейчас наша мастерская другой паркет производит. Такой, что на нем ни один фашист поскользнется…» Поняли, что за столяр?
— А из школ детвора, — добавил Павлов, — с подарками разными являются, с яблоками, с конфетами. Посмотришь на них и не выдержишь, спросишь: «Да вы-то сами их видите, едите сейчас, ребятки?»
— Ну, а постарше, не школьники, небось тоже навещали, а, Торопов? — подмигнул Нечипуренко.
— Это уж будьте уверены, чтобы Торопова да обошли, — сказал Скворцов.
— Навещали и постарше, — затаенно улыбнулся и согласился с намеком сослуживца Торопов. — Эх, товарищи, вспомнил, какой я стишок у одной студенточки переписал. — Красноармеец сунул руку в боковой карман шинели, вынул потертую записную книжицу, перелистал ее: — Хотите, прочту?
— Давай, давай, — заинтересованно подвинулись ближе Шкодин, Нечипуренко, Кирьянов.
— Она в каком-то журнале прочла и записала себе. Ну, а я у нее попросил. Слушайте. — Торопов кашлянул, рукой откинул назад волосы, как это делал какой-то выступающий в госпитале чтец.
Нет, нет, письму не заменить Твоей улыбки, взгляда, речи. И вот в окоп приходит вечер, Перебираю писем нить, Но им тебя не заменить.Прочел стихотворение до конца, посмотрел на товарищей. Ну, мол, как?
— Что-то уж больно фокстротисто.
— Под такие стихи и танцевать можно.
— Что же еще молодому нужно?
А Скворцов, сидевший на приступках, и вовсе пренебрежительно махнул рукой.
— Что, Андрей Аркадьевич, не понравилось?
— Слов нет, складно получается, — неопределенно и нехотя протянул Скворцов. — Только мне с гражданской войны другие запомнились. Еще тогда, когда я вот таким, как Сашка, был.
— Можем послушать и твои.
— Ну-ка, Андрей Аркадьевич, в самом деле, весь взвод просит.
Скворцов нахмурился, молчал. В паузе ожидания послышалось, как далеко в степи прогромыхало несколько орудийных разрывов.
— Бьют, — проговорил Скворцов. — Вроде бы ближе стало.
— Нет, уж, Андрей Аркадьевич, — дружно запротестовал взвод, — ты не хитри, в сторону нас не отвлекай. Раз назвался, так давай и свои.
Андрей Аркадьевич внимательно посмотрел на собравшихся: нет ли на их лицах усмешки? Потом перевел задумчивый взгляд поверх их голов в угол, вызывая в памяти давно минувшее. Носок его кирзового сапога еле заметно стал отбивать полузабытый ритм песни… Он вначале затянул ее без слов, только мотив, негромко, про себя. Но дойдя до припева — а привык слышать, что его дружно подхватывала добрая сотня голосов, — уж не мог сдержать нахлынувшего волнения, напевно воскликнул:
Кто честен и смел, пусть оружье берет!..Закончил припев и, словно бы озлясь, затянул еще громче:
Против гадов, охрипших от воя, пожирающих наши труды…Закончил и эту строфу, усмехнулся, кивнул на сидевшего поближе к нему Петю Шкодина.
— Знаешь такую, чья?
— А почему не знать? Знаю. Демьяна Бедного. Называется, как это ее… «Марсельеза», по-моему. В школе учили.
— Правильно. «Коммунистическая марсельеза». Только я в восемнадцатом не в школе ее учил…
Уже стемнело. Широнин, обойдя окопы, направился к артиллеристам проверить, как они подготовили огневую позицию, но на насыпи его догнал Грудинин, посланный командиром дежурного отделения.
— Товарищ, лейтенант, вас зовут.
— Кто?
— Генерал.
— Какой генерал? — удивился Петр Николаевич.
— По-моему, это командир нашей дивизии. Он оттуда, со стороны совхоза едет. Приказал немедленно вас разыскать.
Широнин поспешил к переезду. У открытой машины, под колесами которой возился занятый какой-то починкой водитель, шагал взад-вперед генерал.
Петр Николаевич сразу узнал комдива, которого встречал как-то перед Червонным.
— Вы командуете взводом? — не дожидаясь рапорта, спросил генерал.
— Так точно, товарищ генерал… Командир первого взвода лейтенант Широнин.
Генерал подошел вплотную к Широнину, несколько секунд пристально всматривался в него.
— Через час здесь пройдут наши последние части… Очевидно, поутру вы окажетесь лицом к лицу с врагом… Понимаете?
— Понимаю, товарищ генерал.
— Знаете свою задачу?
— Так точно, знаю.
Комдив расспросил о численности и составе взвода, поинтересовался, почему Широнин выбрал для окапывания именно этот участок, одобрил соображения лейтенанта. Затем, как бы убеждая сам себя, заговорил:
— Большую победу выигрывают большие армии. Так обычно принято думать. Но мы по опыту знаем, что в такой войне, как эта, да к тому же на нашей земле, бывает и другое. Иной раз взвод может проложить дорогу для будущей победы. Согласны со мной?
— Согласен, товарищ генерал.
— И вот еще что вы должны знать… Справа от Тарановки, у Соколова, впервые вступают в бой наши союзники…
— Союзники?.. — не выдержал и переспросил Широнин, и в его вопрошающем восклицании прозвучали не только растерянность, недоумение, а и мимолетно та насмешливая солдатская укоризна, с которой это слово множество раз произносилось в окопах.
— Ну, это как раз не те, о которых вы подумали, — усмехнулся и генерал. — Эти хоть и помалочисленней, но одними посулами не отделываются, рвутся к оружию, в дело… Чехословаки! Их родина под немецким сапогом, им медлить да затягивать нельзя… Первый бой за свою землю примут на нашей, советской земле, рядом с нами… Теперь ясно?
В наступившей паузе Петр Николаевич с волнением осмысливал эту неожиданную весть, а комдив ждал, что он скажет, и вдруг вместо обычного, предписанного уставом подтверждения у Широнина вырвались простые и вместе с тем весомые, доверительные слова:
— Я ведь учитель истории, товарищ генерал…
И генералу, видимо, понравился такой ответ, видимо, почуял он в нем все, что хотел сказать и недосказал Петр Николаевич.
— Ишь ты, вспомнил к месту, кстати, — одобрительно произнес он. — Учитель истории?! Гм!.. Хорошо!.. Что ж, до свидания, Широнин! — уже без обращения по званию, как давний товарищ товарищу проговорил генерал, пожал руку Петру Николаевичу, шагнул к машине.
«…Через час здесь пройдут наши последние части…» И действительно, спустя час и без того ставшее редким движение на шоссе оборвалось. Правда, немного погодя прошли в своих побуревших маскхалатах семеро разведчиков, один из них прихрамывал, очевидно, из-за него все они и задержались. А больше ни души. Широнин молча смотрел в сторону затихшего, потемневшего горизонта. Там теперь был враг.
24
Утро третьего марта занималось нехотя, пасмурно. Ветерок с северо-востока набирал силу исподволь и не спешил теснить туманы глубже в степь. Придорожные посадки около триста шестого километра, развалины совхозных построек на горизонте, разъезженное дочерна шоссе, сбегавшее со склона Касьянова яра, долго были заволочены блеклой, низко стелющейся пеленой и обозначились явственно лишь спустя час после рассвета. К этому времени и в низко нависшем небе вихревые потоки разметали серую клочковатую облачность, приоткрыли за ней серое мартовское небо.
От железнодорожной насыпи и до самого горизонта степь лежала обезлюдевшей, пустынной. Но и такая обезлюдевшая, она полнилась приметами своей обновляющейся жизни, своей близкой ранней весны. Прежде ничего не говорившие глазу, заметенные снегом пригорки и бугорки теперь, когда снег осел и порыхлел, красовались словно отделанные чернью. Талая вода прибавила, углубила рытвины, и они темнели, как швы, которые вот-вот расползутся под богатырским усилием сбрасывающей зимнее оцепенение земли. Подойти бы поближе, присмотреться вот к тому пригорку у берега пруда. Первым пригрело его солнце. В искрошенный теплыми лучами синевато-грязный снег, наверное, уже уткнулось снизу крохотное рыльце неприхотливого белокопытника, уткнулось и, опираясь стеблем на могучие подземные корневища, ждет не дождется неминуемой скорой побудки… Близится, близится она!
Петр Николаевич поднялся из окопа, прошел к каменной изгороди и, полной грудью вдыхая пахнувший утренним заморозком воздух, повел пристальным взором по степи. На минуту задержал его на прояснившихся очертаниях совхозной усадьбы. Можно было предполагать, что немцы ее уже заняли. Букаев и Злобин, выдвинувшиеся на ночь в боевое охранение, задолго перед рассветом доносили, что на той стороне яра слышится шум движущихся танков.
— Ну, что впереди, Александр Павлович? — Широнин подошел к окопу Болтушкина.
— Глаз не сводим, товарищ лейтенант, но пока ничего. В усадьбе, наверное, уже немцы. Там перед утром что-то пару раз вспыхнуло. Фары, по-моему.
— Посматривай и за пруд, Болтушкин, — напомнил Широнин.
— Туда они не сунутся, товарищ лейтенант. Там болотина… А сунутся, то на свою же голову. Я те места просмотрел, ручаюсь за них…
Широнин и сам исключал какое-либо другое танкоопасное направление, кроме шоссе, но что, если гитлеровцы, желая разведать станцию и переезд, пошлют разведку, допустим, отдаленной стороной? Надо было предусмотреть и это. Еще с вечера, после разговора с генералом, узнав, что первый взвод теперь лоб в лоб противостоит противнику, Широнин приказал всем бойцам зорко вести наблюдение, а самим ничем не выдавать себя, своих позиций. Но чем попытаются гитлеровцы их прощупать? Танками? Пешей разведкой?
— Ползет! — оборвал эти размышления Широнина Болтушкин. Он смотрел вверх, откуда плыл и разносился над степью поющий мерный звук. Летела «рама». Это было худшее, чего можно было ожидать. В мартовскую ростепель не только фотообъектив воздушной разведки, а и невооруженный глаз без особого труда отличит сверху недавно отрытые окопы с их черным дном. Истинное положение оборонительных позиций взвода мешали определить только ложные окопы. А над их сооружением немало потрудились бойцы.
Фашистский самолет сделал большой круг над Тарановкой и где-то в районе Соколова свернул влево, взял обратный курс на аэродром. Блеснуло последний раз, попав в косой луч солнца, то ли крыло, то ли хвостовое оперение, и снова пустынно небо.
А спустя час на степь тяжело налег сверху многомоторный басистый зык.
— Раз… два… три… четыре… пять… — приподнял голову над бруствером окопа и начал считать приближавшиеся «юнкерсы» Танцуренко, красноармеец из новеньких.
— Не забув высшей математики? — обернул к нему посеревшее лицо Вернигора.
Из всех проклятых штук, с которыми приходилось иметь дело на войне, больше всего ненавидел Вернигора вот эту — бомбежку. Спасет ли при ней ладное, подвижное тело, зоркий сообразительный глаз, сноровка? Нет же, сиди, как сурок, замри, томись, жди — только и всего.
Бомбардировщики летели двумя эшелонами по семнадцать штук в каждом. Миновала железнодорожную насыпь и развернулась к центру села первая их волна, уже начала переваливать через магистраль и вторая, но она не последовала за предыдущей… Головной ведущий «юнкерс» вдруг резко накренился и, сверкнув крылом, пошел стремительно вниз, на станционные здания Беспаловки… Из ее развалин выбежал и, на ходу затягивая поясной ремень, пулей помчался к своему окопу Торопов.
Плюхнулся на его дно, привстал, оглянулся на товарищей.
— Успел! — только проговорил это слово и вжал голову в плечи, пригнулся.
Воздух рвануло, сотрясло. Измельченная кирпичная пыль красным косматым факелом взметнулась над станцией. Пять Ю-87 один за другим опорожнили свои бомбовые кассеты над Беспаловкой.
Вот когда Широнин мог быть доволен, что не прельстился, пренебрег руинами. Даже сюда, до окопов, долетели обломки камней, щепа вывороченных из своих гнезд шпал, куски бетона, сорванные с перрона… Еще двенадцать бомбардировщиков висели в воздухе. Не снижаясь, они сделали малый круг над станцией и где-то над котловиной, лежащей позади села, повернули, пошли со стороны солнца к насыпи. И все во взводе поняли, что гитлеровцам примерно известна и оборона у переезда.
Первые бомбы далеко перелетели окопы и разорвались в степи. Буревой вихрь воздушной волны пригнул сухую полынь, пронесся над снегом, потух лишь у высокой насыпи. Но почти вся серия бомб второго пикировщика упала между окопчиками Зимина и Крайко.
Сергей Григорьевич сидел на корточках на дне ячейки. Откинув голову, он вначале следил за тем, как самолет крутым откосом, у невидимого подножия которого находился Зимин, скользнул вниз. Уже ясно различимы неубирающиеся шасси — две нелепо торчащие ноги, прикрытые обтекателями, кресты на крыльях, пятнистое брюхо. Из него высыпались и понеслись вниз черные каплеобразные дробинки. Зимин уткнулся лицом в прослоенный зернистым песком слезящийся суглинок, закрыл глаза. «Жив!» — мысленно воскликнул вслед за оглушившим, перехватившим дыхание разрывом. «Врешь, живу!» — повторил, когда второй, еще более близкий разрыв обрушил из стенки окопа глыбу земли и песок, словно жесткая щетка, полоснул лицо… «Живу!» — в третий раз вырвалось из почти затемненного громовым скрежетом сознания… В минуту наступившей тишины не выдержал, взглянул вверх. Ветер колыхал над окопом сизый удушливый полог дыма. Ранее золотившееся солнце теперь тускло желтело.
— Товарищ старшина!
Кто окликнул его? Зимин обернулся, увидел Крайко.
Только что пережитое исказило и без того насупленное лицо Крайко, наложило на него тени, но в возбужденных злых глазах был не испуг, а такая ищущая себе выхода ярость, что Зимин невольно подумал: «Не напрасно, нет, не напрасно тогда на площади перед школой подмигнул я парню, позвал его из шеренги… Стойкий, надежный будет боец».
— Что тебе, Алексей?
— Не контузило вас, товарищ старшина?
— Будто бы нет…
— А вон Танцуренко оглох.
Зимин рассмотрел за пригорком и другого лисичанского паренька. На его скуластом лице лежало сейчас странное, очумелое выражение, огненно-рыжие брови были недоуменно приподняты.
— Что с тобой, Танцуренко?
Тот только растерянно захлопал ресницами.
— Прячьтесь, товарищ старшина, слева опять заходят, — крикнул Крайко.
Зимин махнул рукой Танцуренко — ложись, мол ложись — и сам упал на дно окопа. К насыпи направлялись и шли в пике бомбардировщики новой волны.
Четверть часа бушевал у переезда, сотрясая землю и воздух, ревущий шквал. Семнадцать «юнкерсов» один за другим разряжали над переездом бомбовые кассеты, отваливались в сторону, вновь возвращались… Ложные окопы, предусмотрительно отрытые в стороне и слева и справа, заставили гитлеровцев рассеять бомбовые удары.
Воронки чернели в саду, перед станционными зданиями, метров на двести вдоль шоссе.
А первый эшелон бомбил село. Но там хоть не плотная, отозвалась зенитная оборона. Один «юнкерс», волоча за собой заклубившийся черный пиратский стяг дыма, скользнул вниз. Здесь же, над переездом, пикировщики не встречали отпора и действовали нахально, оголтело.
Одна из бомб разорвалась рядом с домиком, у которого в своем окопе сидел Широнин. Кинутый толчком воздушной волны наземь, он несколько минут лежал неподвижно, почти в беспамятстве, а когда пришел в себя, то увидел, что стену домика рассекла глубокая трещина, а флюгер был сорван с жерди и закинут на дерево… Но это была, видимо, последняя бомба.
Шум моторов отдалился. Широнин устало поднялся наверх. Все вокруг дымилось, словно война ворвалась в самое чрево земли. Петр Николаевич разглядел приподнявшихся над своими окопами Болтушкина, Павлова, Фаждеева, Торопова. Казалось, что за их плечами сейчас остался какой-то, по крайней мере двенадцатичасовой каторжный труд, который сгорбил их, сделал нетвердыми движения, запечатлелся неимоверной усталью в глазах. Справа Широнин узнал Букаева, Вернигору, Скворцова. Значит, гитлеровцы все же не добились своего, первый взвод есть, сохранился… И тут же Петр Николаевич увидел сбегавшего с насыпи Тюрина. Неужели что-либо с орудием?
— Товарищ лейтенант… Товарищ лейтенант, — приближаясь, кричал Тюрин. Остановился перед Широниным и, запыхавшись, сообщил: — Расчета у пушки нет… Расчет погиб!
Тяжело дыша, красноармеец рассказывал: бомба угодила в край окопа, в котором сидели артиллеристы; командир орудия убит, наводчик тяжело ранен и, наверное, тоже скончался. Сам Тюрин уцелел только потому, что за пять минут до бомбежки пошел к колодцу. Он переждал бомбежку там, в какой-то старой щели.
— Мне бы, товарищ лейтенант, хоть одного знающего человека!.. Мы бы и сами справились, — с отчаянием говорил Тюрин, понимая, что вслед за бомбежкой вот-вот, с минуты на минуту можно было ждать атаки.
— Товарищ лейтенант, да у нас же Нечипуренко в артиллерии служил. Ему это дело знакомое, — вспомнил и подсказал Петя Шкодин.
— А ну-ка, быстро его сюда!
Нечипуренко даже засиял, когда узнал, в чем дело, зачем его вызвали.
— Конечно, я пушку знаю… Не беспокойтесь, управимся, все будет как следует.
Оба бегом направились к насыпи.
— Товарищ лейтенант, — вдруг окликнул Широнина из своего окопа Болтушкин. — Кажись, танк. Вот там, чуть правее кустика.
Широнин глянул, куда указывал рукой старший сержант. Метрах в семистах, по дороге, наискосок проходившей по склону яра, медленно сползал окрашенный в грязно-серый цвет фашистский танк. Вот над ним взлетела и разорвалась, бросив на снег жутковато-неестественный свет, синяя сигнальная ракета. Это начиналась атака.
25
Нечипуренко и Тюрин поднялись на железнодорожную насыпь и побежали к орудию. Тарановка горела. Дым пожаров клубился в центре села и в тех его частях, которые были разбросаны по взгорьям. Ветер легко перекидывал огонь с хаты на хату, с клуни на клуню, и соломенные крыши вспыхивали мгновенно. Две-три минуты — и уже сквозь дым проступали охваченные пламенем стропила, чердачные переборки, а сорванные ветром горящие жгуты соломы взлетали в воздухе и догорали там или падали, меча искры, на соседнюю крышу.
Загорелся и дом, перед которым стояло орудие. Тюрин и Нечипуренко ухватились за колеса и хотели перекатить орудие на запасную позицию, подготовленную в ста метрах от дома, но тут же, взглянув за насыпь, увидели свет взлетевшей вражеской ракеты.
— Не успеем… Давай с этой! — крикнул Тюрин, опасаясь, что при передвижении, сразу, еще до своего первого выстрела, они будут обнаружены гитлеровцами.
Сильным рывком выкатили пушку на замаскированную ветками орудийную площадку, и Тюрин крутнул маховик поворотного механизма, нащупал глазом и дулом орудия ленту шоссе.
Вражеские танки спускались по склону яра к переезду своим излюбленным строем. Вслед за головной машиной уступом влево и вправо двигались еще шесть. На флангах ползли по степи два самоходных орудия. Но на раскисшем, изборожденным рытвинами поле они заметно отставали от головного танка и, видимо получив по радио команду, стали скучиваться к шоссе… Фашисты полагали, что у переезда, куда только что сбросили свой бомбовый груз семнадцать пикировщиков, вряд ли остался кто-либо могущий оказать серьезное сопротивление.
Нечипуренко смотрел то на танки, то на Тюрина, прильнувшего к окулярной трубке. Чего он ждет? Что думает в эту минуту Широнин? Танки совсем близко. Несколько минут хода, и они поравняются с окопами, где сидели бойцы отделения Седых. Послышались пулеметные очереди. Гитлеровцы как бы прощупывали лежащую перед ними изрытую воронками и окопами молчаливую землю… Она не откликалась. Нечипуренко ясно различал сквозь неразвеявшуюся сизую дымку облепленные грязью запасные катки, запасную гусеницу, уложенную на борту перед закрытым люком. Ясно различил желто-черный крест, когда машина, обходя воронку, повернулась боком… И тут рука Тюрина, крепко сжимавшая шнур курка, резко оттянула его назад. Прогремел выстрел. У самых траков блеснул разрыв снаряда, танк дрогнул. Конвульсивными толчками он прошел, волоча разорванную гусеницу, несколько метров и остановился. Нечипуренко дослал в канал ствола снаряд. Второй выстрел, очевидно, заклинил башню танка… Его орудие только что начало медленно поворачиваться в сторону стрелявших и замерло, не дотянулось.
Танки, шедшие позади, рассредоточились и открыли огонь. Фашисты не успели точно засечь орудие по первым выстрелам и стреляли вначале наугад. Один из снарядов угодил в горевший позади дом. Длинная пылающая жердь отлетела от пожарища, едва не задела голову Тюрина, рухнула у его ног. Орудие окуталось чадом. Нечипуренко достал третий снаряд и, обжигая руки, отбросил головню в сторону, чтобы облегчить наводчику видимость.
— Давай, давай! — исступленно кричал Тюрин, убыстряя выстрелы. Он чувствовал, что вот-вот гитлеровцы нащупают пушку, и стремился в оставшиеся до этого минуты нанести врагу возможно бо́льший урон.
Два вражеских танка уже были подбиты. Один из них дымился. Из-за совхозной усадьбы выползло еще несколько танков и самоходных орудий. Но они направились не к шоссе, а пошли гребнем яра влево и скрылись в какой-то выемке. Над нею закачались только пруты антенн, словно там, за выемкой, шли с примкнутыми штыками цепь солдат.
Нечипуренко заметил их и хотел крикнуть об этом нагнувшемуся к панораме Тюрину. Но тут в пяти шагах перед пушкой разорвался снаряд, осколки ударили в щит и поверх щита, и Нечипуренко почувствовал сильный толчок в плечо, чуть не выпустил снаряд.
— Теперь на запасную! — крикнул Тюрин.
Наводчик повернул пушку, и Нечипуренко из последних сил налег на щит правым, здоровым плечом, выволакивая колеса из осыпавшейся земли.
В гром орудийных выстрелов давно уже вплелся учащенный перестук автоматных и пулеметных очередей. Цепь гитлеровцев, перебегавших вслед за танками, вынуждена была под плотным оружейным огнем оборонявшегося взвода залечь в кюветах и на меже перед садом. Танки замедлили ход, двигались расстроившимся боевым порядком.
Из-за танковой колонны выскользнули и прямо по степи юрко, зигзагами побежали к окопам взвода две бронемашины. Очевидно, сидевшие в них считали, что бронемашины представляют собой менее уязвимую цель для орудия, и торопились выйти во фланг взвода, чтобы оттуда кинжальным огнем пулеметов ударить вдоль окопов. Тюрин уже сделал по ним три выстрела, но трудно было рассчитать при такой скорости верное упреждение. Рука, сжимавшая шнур, задрожала. Неужели и в четвертый раз мимо? Тюрин лихорадочно подкручивал маховичок, чувствуя, что не хватает в эти секунды нужной выдержки и холодного расчета. Но вот, кажется, первая машина, самая опасная, надежно поймана в перекрестие прицела. Он дернул шнур. Броневик уже обогнул пруд и обходил выдвинутое чуть вперед отделение Болтушкина. Снаряд попал в заднее колесо… Машина резко завернула влево, остановилась. И тут же всклубились под ней два других разрыва. Это полетели навстречу гранаты из окопов. Тюрин стал ловить в перекрестие вторую машину. Но туг Нечипуренко оглянулся в сторону станции и отчаянно вскрикнул:
— Слева… самоходка!
Прямо по улице, прижимаясь к заборам, со стороны Беспаловки на них мчалась фашистская самоходка. Гитлеровцы не стреляли, рассчитывая подобраться незаметно, сзади, и уничтожить расчет наверняка. Увидя мчавшуюся на них машину, Тюрин и Нечипуренко попытались повернуть орудие, с самоходки почти в упор громыхнул выстрел. Но и он уже был ненужным… Всей своей тяжестью вражеская машина навалилась на орудие.
26
— Гранаты! — крикнул Широнин, когда увидел, что вслед за первым танком перевалила бугор и двинулась к шоссе, на ходу развертываясь для атаки, вся танковая колонна.
— Гранаты! — многоголосно перекатилось по окопам.
И недавняя бомбежка, и ожидание атаки сделали наступившую теперь тишину до предела напряженной. Отчетливо и отрывисто справа и слева прозвучали металлические щелчки. Бойцы ставили гранаты на боевой, затем предохранительный взвод, сдвигали задвижки запалов.
Накануне Петр Николаевич еще раз проверил, насколько умело бойцы обращаются с этой карманной артиллерией. Слушал его и Петя Шкодин. А вот сейчас, уже не в порядке обучения, а всерьез, глянул на него красный сигнальчик, и пальцы дрогнули, поспешно закрыли этот тревожный зрачок предохранительной чекой.
— Не торопись, не торопись, Петро, — насколько мог спокойно, сказал Широнин. — Время еще есть.
А времени-то было не так много. Каких-нибудь триста метров оставалось пробежать головному танку до первых, выдвинутых перед переездом, окопов взвода. Широнин легко определил тип танка — с таким приходилось встречаться еще у Дона. Это был Т-3, вооруженный 37-миллиметровой пушкой и тремя пулеметами. Он долго не открывал огня. И лишь с двухсот метров трахнуло несколько пулеметных очередей. Но тут последовал первый удачный выстрел тюринской пушки, которого с нетерпеливым волнением дожидались Широнин и весь взвод.
— Вот это молодец Нечипуренко! — воскликнул Шкодин, по-приятельски относя всю удачу на счет сослуживца.
Широнин наблюдал за меткими выстрелами артиллеристов, расчетливо откладывал момент, когда и взвод должен был обрушить на атакующих всю свою огневую силу. И вот она подошла, эта минута. Гитлеровцы приблизились к каменной изгороди, заметались перед нею, не зная, на какую ее сторону выгодней податься. Большая часть их побежала влево.
«Ага, растерялись!..» — с мстительным удовлетворением подумал Широнин, чуть приподнявшись, крестом распростер руки в стороны — сигнал открытия огня — и затем сам приник к ложе автомата, нажал спусковой крючок. По набегавшей цепи гитлеровцев ударили пулеметы и автоматы всего взвода.
…Широнин, как и Нечипуренко, заметил идущие в обход самоходные орудия. Он знал, что туда, к самому, дальнему переезду, Билютиным также был направлен подвижной отряд заграждения. Правда, отряд был малочисленный, сколоченный наспех. Не хватало людей, не хватало и мин. Плотно минировать все танкоопасные направления перед растянувшейся на шесть километров Тарановкой оказалось невозможным.
Удастся ли отряду задержать самоходки? Мысль об этом тревожила Широнина, и он сквозь гул надвинувшегося боя нет-нет да и пытался уловить отзвуки другой схватки, той, которая велась вдали и от которой также зависела судьба обороны беспаловского переезда. Ветер донес три гулких взрыва… Так могли взорваться только мины. Однако самоходок прошло не три, а больше. Но Широнин уже не мог думать об этом…
Две бронемашины, на ходу ведя пулеметный огонь, зашли на левый фланг взвода, и пули взметнули снег на бруствере. Широнин и Шкодин пригнули головы, схватили противотанковые гранаты. Урчание первой машины слышалось рядом. Окоп Широнина находился теперь в мертвом, недосягаемом для пулеметов пространстве. Он поднялся и уже занес связку над головой, когда у колеса бронемашины разорвался снаряд. Она накренилась, проползла еще несколько метров. Широнин и Шкодин метнули гранаты, упали в окоп. Приподнялись и увидели, что вторая машина въехала на лед пруда, продавила его, и пулемет, сделав несколько очередей, умолк. Но чувство облегчения не успело шевельнуться в душе. Что-то лязгнуло, зашумело сзади, на насыпи. Широнин оглянулся. По ту сторону рельсового пути неслось к переезду самоходное орудие с крестом на броне.
— Та-ам!.. Смотри! — высунулся из окопа и кричал Широнин в сторону переезда, где было отделение Вернигоры, кричал, зная, что в шуме боя его все равно никто не услышит. По пояс вылез из окопа, протянул руку, указывая на опасность. Почему же, почему молчит тюринское орудие? Мысль о том, что оно уничтожено, была страшной, поверить в это не хотелось, но как иначе могли бы немецкие панцерники прорваться со стороны насыпи.
Еще несколько минут — и самоходка ударит взводу в спину, начнет утюжить окопы. Широнин ощутил жгучую, щиплющую боль выше локтя, однако не опустил руки, продолжал подавать сигналы. У переезда заметили их. Кто-то — кажется, Скворцов — вылез из окопа, пополз к насыпи. На ее склоне длинная, измаранная грязью шинель красноармейца была легкой мишенью и для вражеских автоматчиков, и для танковых пулеметов. Скворцов прополз несколько метров, и темный след крови потянулся за ним по откосу. Взвод усилил огонь по гитлеровцам, по смотровым щелям танков, чтобы помешать прицельной стрельбе. А уже и не различить, движется ли Скворцов или нет?.. Движется!.. Руки, в одной из которых виднелась противотанковая граната, простерлись вперед, к ним медленно подтянулось все тело. Самоходное орудие круто, сломив придорожный столб, завернуло у переезда, прогрохотало по рельсам, приподняло днище над обратным скатом насыпи. И в это время ползущий приподнялся на колени, пошатнулся и замедленным движением словно не бросил, а обронил гранату под набегавшую на него гусеницу…
Окутанная дымом разрыва, машина боком съехала с насыпи, перевернулась, рухнула.
Может быть, именно этот поединок, разыгравшийся на глазах у всех, предрешил исход первой атаки. Часть гитлеровцев залегла, часть откатилась назад, за пригорок, и оставшиеся танки не решились без пехоты продвигаться дальше.
В широнинский окоп приполз Болтушкин.
— Андрей Аркадьевич, Андрей Аркадьевич, — с горечью проговорил он. — Родной наш!.. Вот же у него смерть-то какая!
— Не смерть, а бессмертие… — поправил Петр Николаевич.
— И без пушки теперь придется держать… Артиллеристов не стало…
Болтушкин опечаленно опустил голову и вдруг вскинул глаза на Широнина.
— Товарищ лейтенант, вы ранены, что ли?.. Из рукава капает.
Из рукава широнинского полушубка действительно стекала и пятнила снег струйка крови.
— Ну-ка, разденьтесь, — приказывающе проговорил Болтушкин и напустился на Шкодина. — Ты что здесь делаешь, не видишь, что ли?
— А как у тебя с людьми? — спросил Широнин, пока Болтушкин делал ему перевязку. Пуля прошла в мякоти предплечья.
— Кирьянов погиб. Субботина ранило, но, говорит, еще крепко себя чувствует, может пособить. Остальные все целы… А вот что у Вернигоры и у Седых — не знаю.
— Разрешите, товарищ лейтенант, я туда смотаюсь, — вскочил и предложил Шкодин.
— Поосторожней только. И передай всем мой приказ — беречь себя. Их-то, гитлеровцев, по десятку на каждого из нас.
Шкодин вскоре вернулся, доложил:
— У Седых только молоденького одного еще при бомбежке контузило. У Вернигоры ранен Злобин и вот… Андрей Аркадьевич…
Шкодин протянул командиру взвода небольшую, обернутую синей фланелькой пачку документов. Петр Николаевич развернул ее, нашел партийный билет, раскрыл. Партийный билет был выдан Варнавинским райкомом партии Горьковской области в 1940 году. Ясно, что к этому времени относилась и фотокарточка. И, однако, только большие залысины свидетельствовали о том, что к этому времени Скворцову перевалило далеко за сорок. А так — живые, смеющиеся глаза, аккуратно подбритая бородка, которую к лицу носить и тридцатилетнему.
— Это ведь его война состарила, я знаю, — проговорил Александр Павлович, с которым чаще, чем с кем-либо другим, делился Скворцов своими размышлениями.
— Кого она не состарила, — согласился Широнин, заворачивая партбилет во фланельку.
Солнце уже высоко поднялось над Тарановкой.
У совхозной усадьбы виднелось множество двигавшихся машин. Было ясно, что гитлеровцы не отказались и не могли отказаться от своего намерения пробиться через переезд, ибо другого, более удобного, пути на Тарановку не было. Их залегшие цепи не отходили, вели беспокоящий огонь. Потом на каких-то несколько минут он прекратился; обнадежить это, разумеется, не могло. Вот-вот следовало ждать новой атаки.
— Пойдешь к Решетову с донесением, — сказал Петр Николаевич Шкодину, вырвал из тетради лист бумаги, достал карандаш. Но писать раненой рукой было невозможно, и он передал карандаш Болтушкину.
— Пиши, Александр Павлович: атака отбита, уничтожили три танка, одну самоходку, две бронемашины. Свои потери: выведено из строя орудие, есть убитые, раненые.
Широнин замолк. Что сообщить еще? Просить подкрепления? Но знает ли он, как обстоит дело на других участках? Может быть, там приходится еще тяжелей? Нет уж, лучше доложить об обстановке так, как она есть, а там поймут, примут решение.
— Пиши… Гитлеровцы готовятся к новой атаке. Против нас их примерно батальон. Есть?
Широнин взял донесение и подписал его.
— Идут в атаку, товарищ лейтенант, — сказал Болтушкин.
По склону яра двигалась новая колонна танков, за ними автоматчики.
— Быстро, Петро, быстро. А про остальное расскажешь, — приказал Широнин, протягивая донесение.
27
Букаев еще перед первой танковой атакой немцев, сразу после отбушевавшей бомбежки, скинул с себя шинель. Отяжелевшая за эти сырые непогодные дни, она бы только мешала. А Иван Прокофьевич понимал, что из всех перенесенных им в войну испытаний это, нынешнее, такое, что уцелеть в нем равносильно чуду. Даже расколотые тротилом, покрытые льдом и копотью камни, что остались там, далеко позади, в Сталинграде, сейчас вспомнились с сердечной благодарной признательностью. Сколько раз выручали эти обвалившиеся, ощетиненные ржавой арматурой стены, вздыбленные фундаменты, останки трансформаторных подстанций и заводских труб. А здесь ровная, голая степь, мать-сыра земля… Но тут же Букаев мысленно пристыдил себя («Э, да не хоронить же сам себя собираюсь… Немцам там и камни не помогли») и шинель все-таки свернул по-хозяйски, аккуратно и бережно положил ее в угол окопа, чтобы не замарать сапогами.
А вспомнив о Сталинграде, не мог не подумать и о том, что вопреки всем нечеловеческим тягостям, а верней, в силу того, что упрямо выстоял под ними, не сломился, выпало уже ему большое солдатское счастье сполна насладиться в эту зиму вкусом победы, разделить ее радость со своими товарищами, со всем своим народом.
Слева от Букаева стоял в окопе Сухин, Алексей С Гор Вода. Остроносый, веснушчатый, с чуть шепелявым мальчишеским говорком, он был похож на ротного любимца и гармониста Евсика, с которым Иван Прокофьевич принимал первый оборонительный бой вблизи Иклы. Но Евсик остался лежать на топком берегу реки, так и не изведав ничего, кроме скорбной горечи отступления. А этот щупленький паренек уже увидел драпавших из его шахтерского городка немцев; шагая с маршевой ротой из Харькова к Тарановке, видел на обочинах дороги брошенные фашистами и занесенные снегом обозы, пушки, минометы; уже проникся нужной светлой верой в неминуемое торжество правды, а ярости после всего пережитого в оккупации, ярости и ожесточения тоже хватало… По-девичьи нежная, тонкая кожица его подвижного лица сейчас даже потемнела от ненависти, как потемнели и светло-синие глаза, которыми он всматривался в увалы Касьянова яра.
— Теперь недолго придется ждать, Алеха, — крикнул ему Букаев. — Сейчас полезут… Встречай… Ты того… Проверь целик…
Сухин промолчал. Накануне вечером Широнин, обходя окопы, предупредил всех, чтобы огонь вели на дальность сто — двести метров, не больше. Патроны надо беречь. И напоминание об этом же, сделанное Букаевым, Алеша посчитал для себя обидным. Но, наверное, и ему хотелось перед боем отозваться, перекинуться с соседом словом.
— Я их буду на выбор… в пупки… Они у меня, гады, попляшут, я их подстригу… — выкрикнул он сорвавшимся на мальчишеский фальцет голосом.
И когда подкатывалась к окопам первая атака, Букаев, и не оглядываясь на Сухина — было не до этого, — чуял, однако, что Алеша своему слову верен. Он палил короткими очередями в три — пять выстрелов каждая; выжидательная нащупывающая пауза — и снова очередь, снова отстукивал и точно адресовал свои мстительные, смертоносные депеши. Танк, с первого попадания подбитый тюринской пушкой, остановился как раз напротив их окопа. Отбросив крышку верхнего люка, из него хотел выскочить гитлеровец. Букаев в это время заменял опустевший диск и с сердцем крякнул, разозлившись, что будет упущена такая близкая добыча. А Сухин словно ее и поджидал; раздалась очередь его автомата, и гитлеровец мгновенно обмяк, перевалился и повис на башне, выпустив из рук какой-то длинноствольный пистолет, скорей всего ракетницу…
Оставшийся в танке механик-водитель попробовал сдвинуть машину. Извергая клубы смрадного черно-сизого дыма и распластывая по грязи оборванную гусеницу, она завертелась, как жук-рогач, наколотый острием иголки, но только глубже вгрузла в податливую мартовскую землю, замерла. И это прямо перед окопом Букаева. С минуты на минуту могла начаться новая атака, а громадина танка заслоняла обзор. К тому же гитлеровцы беспрепятственно накопились бы за этим нежданным прикрытием. Упредить бы их!..
— Алеха, — позвал он Сухина, который растерянно смотрел на возникшую у окопа преграду, пожалуй, еще не разобравшись, к лучшему она или к худшему. Букаев тычком автомата указал на танк и выбрался на бруствер, пополз вперед. Обернулся. Понял ли его Сухин? Понял, ползет следом.
Под днищем танка, чуть приподнявшегося на откосе вырытой им ямы, было смрадно и жарко от еще не остывшего мотора. В углубление быстро набежала вода, и поверх ее павлиньим хвостом распустилась пленка смазочных масел и бензина. Букаев и Сухин с ходу плюхнулись в эту жижу и, как у амбразур, изготовились меж залепленными глиной катками. Поспели вовремя. С десяток гитлеровцев разрозненно, перебежками приближались сюда же: то ли хотели укрыться за броней, то ли намеревались выручить экипаж.
— Я шам… Я шам, — вдруг просительно зашептал Алеша, подтягиваясь и высунув автомат, — у отверстия кожуха ожесточенно запульсировал дымчатый смертный венчик…
Вылазка была отбита. На снегу после нее осталась серо-зеленая, словно бы обомшелая борозда — те, кому уже не подняться.
Теперь только цепь, что залегла на гребне яра, продолжала вести огонь, да не смолкали крупнокалиберные пулеметы. Над головой Букаева что-то звякнуло; почудилось, что это в чреве самого танка, что водитель снова запускает мотор, а тогда им в этой ловушке, в которую они сами же залезли, хана, конец. Но цокнуло еще ближе, около уха, и Букаев догадался, что это расплющиваются, рикошетируют пули крупнокалиберных пулеметов. Гитлеровцы обнаружили засевших под танком и торопились разделаться с ними. Вступать в поединок с пулеметами было бы напрасным делом. Букаев отполз за колесо. Почти перед своим лицом он увидел оброненную танкистом ракетницу. Хотел было откинуть ее в сторону, но пробудилось любопытство, взял ее, открыл затвор. В стволе патрон с желтой меткой. А ведь когда начиналась атака, гитлеровцы просигналили синей. Что же могла обозначать желтая? Гитлеровец вылезал из люка. Значит, наверное, просил прекратить огонь, чтобы не подстрелили свои же. Так или иначе, а вреда быть не может. Букаев направил ракетницу вверх, нажал спусковой крючок. В небе округлился и с хлопком разлетелся над степью желтый шар… И впрямь, как по команде, гитлеровцы прекратили огонь. Это и были те немногие минуты, когда Широнин смог написать донесение Билютину…
А сам Букаев в эту короткую передышку ощутил страшную потребность закурить. Все бы, кажись, отдал за одну затяжку, хоть бы она и была последней. Полез в один карман, в другой, потом с досадой вспомнил, что кисет оставил там, в шинели: не до курева было, не рассчитывал на это…
— Алеха, у тебя табачку случаем нет? — окликнул он Сухина.
Тот не отозвался.
— Слышь, Алексей С Гор Вода? — громче повторил Букаев.
Ни слова в ответ.
Иван Прокофьевич встревоженно придвинулся к соседу. Тонкие веки над его глазами были приспущены, не шевельнулась ни одна ресничка. Резче выступили на побледневшем лице веснушки. Скользящий стреловидный след свежесбитой окалины на броне рядом с головой досказывал остальное…
28
Гитлеровцы вновь открыли огонь по окопам взвода. Стреляли на ходу развернувшиеся в густую цепь автоматчики, стреляли танки.
Несколько минут Шкодин лежал перед насыпью, выжидая, — может быть, в этом прижавшем к земле плотном огне хоть на миг окажется какая-то невидимая лазейка, которой бы он мог воспользоваться. Но ее не было… Он представил себе, как Широнин обеспокоенно следит за ним, за насыпью. Еще подумает, что он, Шкодин, убит, и пошлет другого связного.
Петя вскочил и, пригнувшись, взбежал на железнодорожное полотно. Рядом словно кто-то защелкал длинным бичом. Несколько пуль звякнуло о рельсы, но Шкодин был уже по ту сторону насыпи.
К орудийной площадке, где теперь бесформенно лежала исковерканная самоходкой пушка, Петя подбежал одновременно с Валей, спешившей навстречу к переезду. Вместе наклонились над Нечипуренко, широко разбросавшим руки на обмятом траками снегу. Нечипуренко был мертв.
— А другие? — Валя оглянулась.
— Вон, вон, смотри, сестра, — крикнул Петя, заметив, как к переезду, над которым выбивалось рыжее пламя горевшей самоходки, бежит какой-то красноармеец. Это был единственный уцелевший из всего орудийного расчета Тюрин. Теперь, когда пушки не стало, наводчик решил присоединиться к взводу.
— Есть там раненые? — спросила Валя.
Видно было, что ей только что пришлось проделать нелегкий путь. Сдавленный голос, обожженные крылья ресниц, пот на висках.
— Есть. И лейтенант ранен. Но будто бы легко.
— А ты куда?
— С донесением, — уже на бегу обернулся и ответил Петя.
Вырвавшись из боя, что велся у переезда, еще полуоглушенный его гулом, Шкодин бежал по задворкам и улицам горевшей Тарановки и слышал, как уже не со стороны Беспаловки, а из центра села и с его северной окраины близится шум и других завязавшихся там схваток.
Гитлеровцы одновременно пытались прорваться и через триста шестой километр, и еще севернее, по другим дорогам, пересекавшим Тарановку. На некоторых участках им удалось потеснить оборонявшихся. И теперь вражеская артиллерия вела ожесточенный обстрел села.
На лужайке перед сельмагом, которая по весне служила тарановской детворе спортивной площадкой, догорал сбитый «юнкерс». Дымящаяся груда дюралюминия, истлевшего перкаля, расплющенных навигационных приборов. На покоробившихся остатках фюзеляжа корчилась свастика. Неподалеку на перекладину футбольных ворот взлетел и храбрился, чуть ли не победоносно посматривая вниз, огненно-красного оперения петух. Крыша сельмага была сорвана, то ли когда взорвались бензобаки, то ли раньше, при бомбежке. Свежие воронки были видны повсюду.
Шкодину пришлось не раз падать наземь, когда на пути взметывались близкие разрывы снарядов. Один из них настиг его перед церковью. Петя с ходу ткнулся в канаву у глухого забора, а когда шевельнулся, полузасыпанный землей, и раскрыл глаза, то увидел, что забор в полуметре над головой был изрешечен осколками. Шкодин поднялся, услышал прямо над собой в небе близкую пулеметную очередь. Одну, за ней другую. Снова самолеты? Нет. Их не видно. Догадался, что стреляет пулеметчик с церковной колокольни. Значит, тут гитлеровцы подошли к селу почти вплотную.
Шкодин спросил у пробегавшего красноармейца, где сейчас КП батальона Решетова. Красноармеец кивнул на провод, тянувшийся вдоль забора, и по этой нитке Петя добрался до командного пункта. Он размещался в наполовину врытом в землю небольшом каменном строении, где когда-то, наверное, хранилось горючее.
У полевого телефона стоял заместитель Решетова лейтенант Прохватилов и, поглядывая в крохотное, прорубленное в стене окошко, кричал:
— Седьмой — Роман, поняли меня?! Повторяю: седьмой — Роман…
Шкодин знал незамысловатый код, который употребляли в полку при разговорах по телефону. Седьмой — Решетов, Роман — ранен, Ульян — убит.
— Есть принять на себя, — коротко бросил по телефону Прохватилов и обернулся к связному. Но тут плащ-палатка, заменявшая дверь, распахнулась, и вошел Билютин. Он уже слышал о происшедшем.
— Где его?
— В пятой роте, товарищ полковник, только что. Там было немцы прорвались… Лезут, как ошалелые. Наверное, запоздали с Тарановкой, не вышло по приказу, чтобы занять, как хотели, тютелька в тютельку, вот теперь их подгоняют. Решетова в рукопашной ранило.
— Товарищ гвардии полковник, разрешите обратиться к лейтенанту, — в наступившей паузе проговорил Петя и выступил вперед.
Билютин узнал Шкодина, часто бывшего связным в штабе полка, нетерпеливо шагнул навстречу.
— Из первого взвода? С донесением?
Торопливо пробежал взглядом строки, набросанные Болтушкиным под диктовку Широнина. Шкодин стоял навытяжку, взволнованно всматривался в непроницаемое хмурое лицо полковника. И получасом ранее перед насыпью, и только что, перебегая улицами села, наверное, не испытывал Петя такой тревоги, какая вошла в сердце сейчас. Что решит полковник? С какой вестью вернется к переезду Шкодин? Стоит ли ждать первому взводу подмогу? Есть ли она?
— Трудно приходится? — вскинул на связного глаза Билютин.
— Трудновато, товарищ полковник, — сказал Петя и тут же уточнил, представив себе, сколь многое зависит от его ответа. — А прямо сказать — тяжело. Первую атаку отбили, а когда я уходил, они во вторую поднялись. И танков, и пехоты побольше.
— И орудие не уберегли, — тихо обронил Билютин.
— Самоходка его раздавила, сзади, со спины, зашла, товарищ полковник.
Билютин молчал, и по этому тяжелому для всех молчанию Шкодин понял, что у командира нет сейчас никого под рукой, в бою все люди, на счету каждый человек.
Билютин отвернул обшлаг шинели, посмотрел на часы, и вдруг во взоре, обращенном на Шкодина, блеснуло нечто ободряющее.
— Передай, пусть держатся. Еще час — и поможем… Понятно?
— Есть передать пусть держатся… Еще час — и поможем!.. — громко отчеканил Петя, словно хотел, чтобы эти слова закрепились, не ушли из памяти полковника. — Разрешите идти?
— Иди… Стой, боеприпасов хватает?
— Хватает вдоволь.
…Петя опрометью пустился в обратный путь к переезду, откуда доносились раскаты продолжавшегося боя. Едва он поравнялся с церковью, на колокольне которой по-прежнему не умолкал пулемет, как за хатами что-то учащенно затарахтело, защелкало — из переулка на бешеной скорости вымчался мотоциклист. Площадь перед церковью еще накануне изрыли колеса обозов, гусеницы танков. Глубокие ухабы налились мокрым, тающим снегом и грязью. Добавила свое и бомбежка. Мотоциклист, разогнавшись в переулке, теперь попал в это месиво. Он растерялся, крутанул было руль вправо, затем влево, но нащупать проезжую дорогу оказалось невозможным. Мотоцикл грузно осел в подвернувшуюся на пути рытвину, мотор чихнул и заглох… Все это произошло мгновенно и почти рядом с Петей. Как он ни спешил, однако, невольно приостановился. Мотоцикл был явно чужой, немецкий, да и сам солдат, хотя на нем были обыденная ушанка и красноармейская шинель, поначалу вызвал у Пети настороженность. Воротник не застегнут наглухо, а вроде бы расправлен под отложной. На рукаве незнакомая трехцветная нашивка — красная и белая ленточки с вклиненным в них синим треугольником. На ногах — краги. Уж не лазутчик ли какой?..
Но на обескураженном, замаранном брызгами грязи лице солдата, когда он увидел Шкодина, вдруг сквозь волнение просияла такая добросердечная радость, что настороженность Пети сразу развеялась.
— Соудруг! — быстро соскакивая наземь, выкрикнул мотоциклист. — Соудруг! Ну-ка, ну-ка, про́шу!..
Движением рук он как бы пояснял свои произнесенные с непривычным для Шкодина ударением слова: звал помочь, подтолкнуть и выкатить мотоцикл. И Шкодин догадался, что перед ним и есть тот правый сосед, о котором вчера перед боем рассказывал взводу, со слов генерала, Широнин.
— А ты… ты куда? — разгоряченным, запыхавшимся от бега голосом спросил Петя.
— Вот-вот! — солдат указал рукой на подвешенную к шестам нитку связи, которая вела к командному пункту. — Ча́са нет… Быстро… Прошу!..
Петя подскочил к его, видимо трофейному, мотоциклу.
— Ну, давай! Ра-аз!..
Машина пружинисто качнулась, выкатилась из колдобины на обочину дороги.
— О, спасибо, соудруг!..
Чех торопливо вскочил в седло, с силой нажал и крутанул педаль. У обоих на счету была каждая минута, каждая секунда, и все-таки Петя не удержался, спросил:
— Погоди… Скажи, как там у вас?
— Зе́мля, зе́мля!.. — перекрывая шум заработавшего мотора, выкрикнул мотоциклист. Он снова добавил к своим словам выразительный жест рукой, и Петя понял, что соседи окапываются…
— Заборов держись, вдоль заборов езжай! — напутствовал он чеха, а тот уже пересекал площадь и на миг обернулся, благодарно кивнул.
Пулемет на колокольне продолжал клокотать исступленно, настойчиво, бой разгорался жарче и жарче…
29
Когда Шкодин отбежал от разбитой пушки, Валя сразу поднялась и заспешила к переезду вслед за Тюриным.
Сегодняшняя утренняя бомбежка застала Валю в хате, где размещался санвзвод. Она снаряжала необходимым сумки санитаров, приходивших из рот, инструктировала их.
Хату качнули близкие разрывы первых бомб, разлетелись, брызнув мелкими осколками, стекла. Валя вместе со всеми побежала в сад — там еще вчера были отрыты щели.
Она выскочила во двор, не накинув даже шинели, — думала, что это налетел одиночный самолет. А их нависло над селом множество. В сырой, сочащейся водой щели пришлось сидеть долго, вздрагивая от бомбовых разрывов, сотрясавших землю, и от холода.
Полтора года фронтовой жизни еще не заслонили в Валиной памяти довоенных дней. Странно, но чаще всего именно в такие тяжелые минуты она мысленно возвращалась к давнему, причем возвращалась с чувством некоторого самоосуждения. В самом деле, глубоко ли она представляла себе, какие тягчайшие и суровые испытания может принести жизнь? Валя играла на клубной сцене Любовь Яровую, играла Катерину из «Грозы» Островского, радовалась успеху товарищей по клубной сцене и фабричных подруг, а сама-то, по существу, была очень далека от того мира больших, потрясенных жизненной грозой чувств, в которые пыталась вжиться! И только сейчас, на войне, он раскрывался перед нею; раскрывался у изголовья умирающих; раскрывался при виде той лютой решимости, с которой шли в бой ее товарищи по полку; раскрывался в задушевных мечтах о грядущем, которыми делились на фронте люди. А суждено ли им быть в этом грядущем? Валя вновь подумала обо всем этом, когда сидела в щели и смотрела, как с вражеских самолетов срывались бомбы, сея смерть и разрушения.
Закончилась бомбежка. За селом загремели орудийные выстрелы. И все, кто был в санвзводе, разошлись по подразделениям. Валю направили к переезду, в первый взвод.
…Она торопилась к железнодорожной насыпи, хорошо понимая, что, может быть, несколькими минутами позже перебраться через нее не удастся. Ранее прерывистый клекот то одного пулемета, то другого и разрывы гранат теперь слились в один до предела ожесточившийся гул боя. С насыпи Валя даже не рассмотрела, что перед нею; взвизгнули пули, и она ринулась вниз, туда, где в черном дыму словно разверзлась вздыбленная земля.
— Ты что, сдурела? Без тебя бы обошлось, — с силой дернули ее за шинель и втащили в окоп. Упала. А привстав, узнала Зимина.
— Где раненые?
Зимин кивнул влево и вновь приложился к автомату. Пригибаясь, а где ползком, Валя добралась до окопа, где лежал тяжело раненный в шею Злобин. Только начала перевязывать его, как неподалеку разорвался снаряд. Валя наклонилась над раненым, прикрыла его. На спину тяжело осыпалась земля. Движением плеч освободившись от нее, Валя закончила перевязку — наложила марлевые подушечки на сквозное отверстие, обвязала шею бинтом.
— Лежи спокойно, вынесем, — дрогнувшим голосом сказала Злобину. Красноармеец хрипло стонал, на посиневших губах пузырилась кровь.
Валя чуть приподняла над окопом голову — где еще нужна ее помощь? — и в пяти шагах от себя увидела приникшего к земле бойца. То ли его выбросило из окопа недавним разрывом снаряда, то ли сам пытался переползти на другое место и был застигнут осколком, но сейчас красноармеец уже был беспомощен, не мог проползти и пяди. Только по судорожным движениям рук можно было догадаться, что он еще жив и хочет отползти в укрытие. Вот он медленно повернул голову набок, и Валя узнала Василия…
Фашистские танки были уже в ста метрах от окопов. Дружный огонь широнинцев сдерживал натиск вражеской пехоты, которой против взвода было брошено более батальона. Но фашистских танкистов уже не пугало отставание своих автоматчиков. Орудие, которое при первой атаке вывело из строя две машины — они и сейчас дымились перед переездом, — теперь молчало, и танки мчались напролом.
Один из них летел по обочине шоссе, прямо на окоп Зимина. Сергей Григорьевич различил на дверцах переднего люка какую-то выведенную черной краской эмблему — то ли пикового, то ли трефового туза. Только однажды — да и то в первом бою, перед Смоленском, — Зимина смутила какая-то вроде этой чертовщина на борту фашистских танков, штурмовавших их оборонительный узел. После того первого боя привык относиться к подобным штукам — а их пришлось встречать не раз — как к глупому шутовству врага, надменно тешившего себя этой символикой. И сейчас Зимин почти в упор стрелял по смотровым щелям, по приборам наблюдения, стремился ослепить тех, кто сидел за броней.
А когда всего каких-либо несколько десятков метров отделяло его от танка, опустил автомат, нагнулся за связкой гранат, передумал, схватил бутылку горючки. Танк, надвигался на окоп в лоб, и гранаты — их сподручнее метать со стороны — могли сейчас не выручить.
…Словно тысячепудовая кувалда грохнула над окопом, затемнила все. Но еще миг — ворвался свет, и Зимин вскочил, метнул бутылку вслед — в моторное отделение. Оно мгновенно занялось пламенем. С минуту танк волочил за собой шлейф дыма, двигался к насыпи, а затем распахнулись люки, и из них с пистолетами в руках стали выбрасываться гитлеровцы. Тюрин, сидевший в окопе перед самым шоссе, бросил в них две гранаты.
Сквозь дым, стелившийся над окопом, Зимин вначале не мог рассмотреть, куда двигались другие танки. Только слышал близкий лязг гусениц. Затем дым рассеялся, и Зимин увидел, что еще и другой танк вздыбился и неподвижно замер со свисающей гусеницей над окопом Вернигоры.
Что-то крича, Вернигора и Исхаков, лишенные обзора из-за нависшей над ними громады, перетаскивали в соседний окоп пулеметы и гранаты.
Третий поотставший танк приближался к окопам отделения Седых. И тут Зимин заметил Валю. Она, очевидно, ползла, а теперь, когда танк был совсем близко, привстала на одно колено.
— Да в окоп же, в окоп! — отчаянно крикнул Зимин.
Валя была не одна. Она приподнялась и держала в руках Грудинина. Чувствуя, что вместе с ним уже не успеет укрыться в окоп, Валя передернула на грудь санитарную сумку — пусть увидят красный крест, — с наивно-просящим выражением глаз смотрела, как стремительно надвигалась на нее многотонная машина… И она не свернула в сторону…
— Сволочи! — закричал Зимин и в бессильной ярости полоснул очередью автомата по борту танка: добросить до него гранату он не мог. Но только что происшедшее наполнило силой страшного гнева сердце не только Зимина. Из своего окопа скользнул навстречу танку Крайко. Надвинувшаяся на лоб шапка мешала ему видеть, и он сбросил ее движением головы. Быстро работая локтями, он полз по земле и вдруг вскочил, размахнулся гранатой, точно попал ею в ведущее колесо… Уже не прячась, метнулся обратно в окоп. И недалеко от Зимина пошатнулся, упал навзничь.
Зимин высунулся из окопа и втащил красноармейца к себе… На его шинели темнели следы пронзивших его пуль. Зимин понял, что ранение смертельное. Крайко зашевелил губами, силился что-то сказать. Сергей Григорьевич наклонился поближе… Кому — матери или дивчине — хотел передать красноармеец Алексей Крайко свое прощальное слово? Глаза умирающего открылись, но перед ними, начавшими тускнеть, наверное, еще стояло видение недавней схватки.
— А здорово я его, гада, а? — прошептал Крайко.
Зимин приподнял голову красноармейца, подложил под нее вещмешок. Нагнулся, хотел по-отечески напоследок поцеловать парня, но неожиданно весь окоп взмыло ураганным разрывом снаряда, легкие сжались в удушье, и Зимин упал рядом с Крайко.
30
Зимин погиб на глазах у Павлова. Окоп Павлова располагался наискосок от зиминского, отходил уступом метров десять назад. Когда начался и стал все сильней и сильней ожесточаться бой, то даже в те выпадавшие немногие минуты, в которые можно было перевести дух, снять с автомата руку и сунуть ее за отворот шинели, чтобы она, рука, не закоченела, сохранила подвижность, не подвела, даже в эти короткие интервалы Павлов не смотрел по сторонам на других соседствующих с ним товарищей. Ему достаточно было видеть впереди себя, левей, Сергея Григорьевича, собственно, лишь его приподнимавшуюся над бермой, знакомо сдвинутую на затылок ушанку, изредка его плечи. Да, этого было достаточно, чтобы в пылу нарастающей схватки с врагом верить, что ты находишься на предопределенном тебе, умно и расчетливо выбранном месте, что рядышком, тоже на своих местах, все твои однокашники, и этой солдатской верой перебарывать, гнать прочь ту противную слабость, которая нет-нет да и подступала к сердцу в этой вскипевшей адовой буче…
Осколки снаряда, накрывшего прямым попаданием окоп Зимина, пролетели над головой Павлова, как иззубренный, но все еще страшный клинок, и посвист был такой же, как у клинка при сильном замахе, он не успел и зажмуриться… А потом, оглушенный, задыхающийся, чувствуя во рту чужой и отвратный железистый привкус, еще шире раскрыл глаза, чтобы различить, разобраться в том, что же произошло… На него сыпалась сверху, с неба, измельченная земля, понизу волочился удушливый, перехватывающий горло дым. Павлов судорожным движением рук нащупал на бруствере неостывший, горячий автомат… Вдруг ветер сгонит эту плотную, затемнившую все вокруг пелену, и он окажется лицом к лицу с подкравшимися немцами? Но вот растуманилось, посветлело. Там, где только что промелькнула ушанка Зимина, разверзлась и могильно чернела саженная воронка… Из-за танка, подбитого Алешей Крайко, выскочили и, не пригибаясь, пружинистыми прыжками устремились к этому уступу окопов немцы. Человек пять — самые, видать, отчаянные, оголтелые… Впереди какой-то старший с пистолетом в руке и с болтающейся на боку треугольной кобурой… Соблазненная этим остервенелым рывком, убыстрила шаг и накатывалась ломаным валом орава других, числом куда большая…
И вот теперь Павлов не выдержал и невольно глянул по сторонам, влево от себя, вправо… Сейчас, когда Зимин убит, кто же с ним, с Павловым, еще?.. И не увидел никого, верней, и не мог бы увидеть при этом поспешно кинутом, оторопелом взгляде.
Накануне, когда взвод оборудовал свои позиции, Павлова, человека, любящего все делать аккуратно, исправно, с крестьянской прилежностью и хозяйственностью, от души порадовало то, как искусно и хитро они распорядились этой доверенной им полоской степи у переезда. Сейчас же от вчерашнего порядка не осталось и следа. Все было смято, сдвинуто, искромсано, раздавлено. Над трижды перепаханной, перемешанной со снегом землей, над развороченными окопами и ходами сообщения плыли к железнодорожной насыпи и таяли темно-лиловые клочья дыма. У подножия насыпи продолжала гореть подорванная Скворцовым самоходка, бензин из ее бака выхлестнулся на разбросанный штабель шпал, и они тоже занялись жадным, смолистым огнем. На пруду, где Болтушкин, Кирьянов и Фаждеев насыпали ложные окопы, торчмя громоздились зеленоватые и словно бы притрушенные пеплом льдины. Вдоль берега желтел гладким срезом пласт глины, будто вывороченный наружу из глубин земли каким-то сатанинским плугом. Только обгорелая коробка метеостанции стояла неразрушенной, но все равно Павлов не мог бы разглядеть, жив ли Широнин, командует ли боем. Все, кто еще не погиб, кто уцелел, старались оставаться незаметными, вжаться в землю, слиться с ней, сохранить жизнь, а значит, сохранить силу для противоборства, для отпора врагу… Павлов же, мимолетно бросив по сторонам взгляд, решил — он теперь остался один, уже безмолвны все его товарищи, и перед этой подбегающей цепью гитлеровцев лишь он и есть то, что в боевом и строевом расписании, в расчетах и надеждах батальона и полка покуда еще именуется первым взводом.
Всю свою жизнь, с тех пор как из деревенского постреленка Павлов стал взрослым человеком, он строил дороги, незамысловатые грейдерки, проселки или лежневки, которые, если и были помечены на картах, то лишь на тех, что висели в правлениях колхозов, в райкоме партии, в райисполкоме, — короче говоря, дороги районного значения; меньшего же значения, как известно, и не существовало. А всего больше ему нравилось строить на этих дорогах мосты. Опять-таки это были не те большие многопролетные мосты или виадуки, на которых грохотали скорые, почтово-пассажирские и товарные поезда, а легенькие, деревянные, с веселыми, из неокоренной березы перильцами, перекинутые через тихие лесные речушки, ручьи, овраги, через мелиоративные каналы. По настилу этих мосточков бойко тарахтели колеса бричек, тракторов, полуторок с луговым сеном, бидонами молока, зерном, коноплей, лесом. Здесь, у мостков, по вечерам назначались свидания, ребятишки удили плотву. Если перед началом весенне-полевых работ в Краснополянске созывалось совещание, то на него непременно приглашали из Верхнего Рыстюка и Павлова.
— А как у нас с дорогами, товарищи? — спрашивал председатель сельсовета. — Люди жалуются, что после дождей через Медвежий Лог не проедешь. Надо бы тебе, Василий Михайлович, навести там мосток.
И Павлов запрягал лошадь доротдела, брал топор, пилу, рубанок и ехал в Медвежий Лог. Бывало, он не управлялся там за один день. Анна приносила ему из дому обед и могла долго смотреть, как плотничал муж, как в его руках топор, обтесывая бревна, словно бы играл, пел…
И только в войну, когда Павлов ехал в запасной полк, а потом на фронт и еще позже, эвакуируясь с фронта в далекий тыл, в госпиталь, а оттуда возвращаясь снова на передний край, он впервые увидел и большие широкие мосты своей Родины. Их неохватные, гранитной крепости опоры, исполинские шаги пролетов, кружевные фермы, узорчатые арки, поднявшиеся над полноводными реками и долинами… «Ох, красота ж какая!…». Красноармейская теплушка, казалось, отделилась от рельсов, вспарила в высоту и неслась сказочным ковром-самолетом над необозримой, просторно раскинувшейся внизу поймой с ее темно-зелеными дубравами, прибрежными озерами, лугами, затоками, причалами, с мускулистым стрежнем великой реки…
Когда позавчера в подвальчике метеостанции Широнин заговорил о их воинском долге перед народом, о Родине, то слушавшему его Павлову почему-то прежде всего и представились эти большие гулкие мосты…
Возможно, он бы вспомнил о них, будь для этого время, и сейчас, но сейчас у него оставалось на счету только несколько скупых, как гаснущие искры, секунд… Длинной, на полдиска, очередью автомата он срезал пятерых, тех, что вырвались вперед… Старший упал прямо у окопа, будто споткнулся о бруствер, и его слетевшая с головы каска лязгнула у ног Павлова. Быстрый, прицельно ищущий взгляд Павлова теперь уперся в спину свалившегося на бок немца. Стрелять невозможно. А вот-вот подбегут остальные, отставшие. Василий Михайлович оперся руками о берму и выметнулся наверх. Он порывисто вскочил и, прижимая локтем приклад, стреляя на ходу, ринулся навстречу цепи. Хрипло закричал что-то яростное, устрашающее, гневное, будто кричал за всех тех, кто замолк в этой степи навеки… Но вдруг то тягостное, скорбное безмолвие, которое после гибели Зимина мнилось за спиной, оборвалось… Из-за рытвин, из-за желтевшего пласта глины, из-за кочек, из обвалившихся траншей дружно и напористо ударили по цепи выстрелы.
— Падай, черт, ложись! — оберегающе настиг его чей-то властный и знакомый голос. Букаева? Вернигоры? Самого Широнина?
Павлов кубарем скатился в слегка курившуюся воронку, но еще успел подползти к ее краю и огнем почти в упор встретить дрогнувшую, разрозненно набегавшую цепь.
31
Командование четвертой немецкой танковой армии, осуществляя контрнаступление в районе Харькова, бросило в бой, чтобы пробить себе дорогу через беспаловский переезд, свыше двадцати танков и самоходных орудий — тысячу тонн стали! Но этот броневой смертоносный таран, направляемый отборными гитлеровскими панцирниками, безнадежно завяз в изрытой окопами и воронками земле перед малоприметным железнодорожным переездом, затерявшимся в безбрежной украинской степи.
Первый взвод — двадцать пять советских людей, которых сплотила великая присяга, данная народу, оказался неизмеримо крепче вражеского тысячетонного тарана.
А как нужны, позарез нужны были гитлеровским генералам эти необратимо ускользавшие от них, нет, вырванные у них часы! Недаром на Тарановку нацеливалась только что срочно переброшенная из Бельгии, усиленная другими мобильными подразделениями дивизия «Мертвая голова». Каждый час равнялся на картах оперативных отделов пятнадцати-двадцати километрам. Четыре часа означали шестьдесят-восемьдесят километров… Сокрушительный клин, глубоко с разгона рассекающий фронт… Это (по плану задуманной операции) настигнутые танками на марше, не развернувшиеся в боевой порядок наши дивизии, это — не изготовленные к огню, захваченные врасплох артиллерийские полки, это — не успевшие отойти и укрепиться на новом рубеже армии… Это — с ходу взятые Змиев, Чугуев, Каменная Яруга и дальше, дальше… Вожделенно начертанные разноцветными карандашами стрелы своим острием упирались в южные и восточные пригороды Харькова, захлестывали его. Вот он заманчиво мерещится, желанный и долгожданный котел! Окружение! Харьковская группировка советских войск в кольце! После зловещих дней траура, которыми Германия отметила гибель своей шестой армии, наконец-то рейху будет преподнесен блистательный первый подарок. Реванш за Сталинград! Пусть и неравноценный, далеко не равноценный, но остальное доделает Геббельс со своей машиной пропаганды, раздует, раструбит…
Однако стрелы, которыми самоуверенно тешили себя те, кто планировал контрудар, и те, кто его одобрил, утвердил, так и оставались на бумаге, точнее, сразу, вначале же притупились… Потому что у самого основания этих стрел, если от штабных схем обратиться к действительности, нерушимо пролегли окопы гвардейцев — семьдесят восьмого полка, его левых и правых соседей.
Время шло к полудню, а бой у переезда не стихал. К первому ранению Широнина вскоре добавились новые. Пуля вторично попала в ту же правую руку, чуть пониже наложенной Болтушкиным перевязки.
— Товарищ лейтенант… Петр Николаевич, да вы же так не высовывайтесь, когда командуете, — взволнованно ронял слова вернувшийся из штаба Петя Шкодин, перевязывая Широнина. — Лучше мне скажите, я куда угодно проползу и все, что надо, передам.
— Петро, Петро.. Должен бы знать, что командиру взвода принято управлять сигналами руки, — скривился от боли и, с трудом превозмогая ее, чуть усмехнулся Широнин. — Тут уж мне твоя прыть не нужна, а вот за то, что хорошую весть принес, тебе спасибо.
— Через час поможем, так и сказал, — повторил Петя. — У полковника, сами знаете, слово твердое, гвардейское. Да, товарищ лейтенант, я и позабыл вам сказать… Мотоциклиста по дороге встретил, чеха… Мчался к нашему полковнику…
— И что ж он? Видать, и им нелегко?
— Как я понял, вышли на рубеж… Окапываются…
— Эх, выдюжили бы!
За все эти часы, хотя Широнин всем своим существом сосредоточился на управлении боем, все-таки не раз жарко вспыхивала в его сознании мысль о правом соседе. Выстоит ли он? Справится ли со своей задачей? Когда Широнин увидел, какую силу бросили гитлеровцы против первого взвода, то он в этой грозной опасности для себя, для своих бойцов усмотрел, как это ни странно, и обнадеживающий признак. Ведь если бы немцы с ходу, во встречном бою, смяли чехов и прорвались бы на соседнем участке, то незачем было бы так остервенело штурмовать беспаловский переезд. Просто обошли бы его и ударили с тыла, в спину. Этого не произошло. А вот и Шкодин подтверждал, что чехословаки вышли и твердо стоят на порученном им рубеже, пожалуй, к этому времени уже вошли и в соприкосновение с противником. И коль немцы с удвоенной злобой рвутся в Тарановку, то, значит, и там, в Соколове, не нашли слабого, уязвимого места. Широнину не под силу было охватить мысленным взором весь протянувшийся на десятки километров фронт сражения, как его охватывали в высоких штабах дивизии, армии. Он отчетливо осознавал одно: немцы рвутся через беспаловский переезд на оперативный простор и во что бы то ни стало надо перекрыть им этот путь… Правый сосед не подводит, не подведет и первый взвод!..
Широнин приподнялся из окопа как раз в то время, когда фашистские танки вырвались на правый фланг к окопам отделения Седых… Только хотел крикнуть Вернигоре, чтобы тот поддержал огнем напарника, как ощутил внезапную боль в груди, покачнулся… Дышать стало тяжело, очевидно, пуля задела легкое, и ранение было сквозным — по спине побежала теплая струйка крови. Широнин схватился рукой за сердце.
— В грудь? — вскрикнул Шкодин, подхватывая вот-вот готового упасть лейтенанта. Но тот слабым движением руки отстранил Шкодина и несколько секунд стоял пошатываясь, с закрытыми глазами, словно по частице собирая усилие, нужное, чтобы устоять на ногах. С трудом открыл глаза, услышал голос Болтушкина:
— Товарищ лейтенант, подползают, берегитесь.
Гитлеровцы воспользовались тем, что подбитые взводом семь танков затрудняли красноармейцам обзор и обстрел, стали скапливаться за броней неподвижно замерших машин и теперь поползли к окопам. Над землей чуть виднелись тускло поблескивающие каски.
— Рус, плен!..
— Зачем кров?
— Давай-давай белый плат!..
— Нас много, — донеслись издалека картавые выкрики.
В груди у Петра Николаевича горело, страшила мысль, что потеряет сознание, упадет. Он захватил горстью комок перемешанного с грязью снега, сунул его за пазуху. Посмотрел на часы. Оставалось еще сорок минут до обещанного Билютиным подкрепления. А если оно задержится? В памяти встал вчерашний вечер, разговор с генералом… «Большие армии выигрывают большие победы. Но бывает, что и взвод…»
Да только взвод ли сейчас остался у переезда? Не стало уже Скворцова, Грудинина, Нечипуренко, Кирьянова. Убиты и трое из пополнения, много раненых.
— Болтушкин! — окликнул Широнин старшего сержанта. — Что с Зиминым?
— Убит, по-моему… Прямое попадание в окоп… Вместе с Крайко.
Вот и эти двое. Чувствуя, как нестерпимым становится жжение в груди и в гортани, Широнин еще сгреб с бермы снегу, положил в рот. Стало чуть легче.
— А это ж кто такой лихой один в контратаку поднялся?
— Павлов…
— Что ж он так, опрометью?
— Сгоряча, видать.
Широнин смотрел на Болтушкина.
— Александр Павлович, в случае чего примешь команду взводом на себя.
— Есть принять команду… в случае чего.
— А сейчас прижать фашистов пулеметами, остальным открывать огонь только по команде.
Гитлеровцы были совсем близко. Раздались пулеметные очереди, и ползущие ускорили движение, чтобы поскорее сблизиться с обороняющимися и подавить их сопротивление своим численным превосходством.
Но Торопов и Исхаков, чуть привстав над окопами и маскируясь за вывороченными глыбами земли, так умело направляли огонь пулеметов, что то один, то другой из ползущих распластывался на снегу. Немцы поняли, что потерь все равно не избежать. В цепи раздались слова команды, гитлеровцы встали, устремились к окопам.
— Огонь! — с силой крикнул Широнин и сам приник к ложе автомата.
Но каким губительным ни был огонь гвардейцев, встречи с врагом лицом к лицу, в неравной рукопашной схватке предотвратить не удалось. Широнин видел, как серо-зеленые шинели замелькали справа в окопах отделения Седых, над брустверами взметнулись приклады автоматов, всклубились разрывы гранат.
В это время из-за садов вырвалась самоходка, облепленная стрелявшими на ходу автоматчиками. Машина неслась прямо к развалинам метеостанции. Широнин дал по ней длинную очередь — она была последняя: диск кончился. Трое автоматчиков кувырком скатились с трясущейся брони. Широнин завозился, сменяя диск, а когда вновь повел огонь, то заметил, что навстречу самоходке, ящерицей извиваясь меж обрушенными камнями, ползет Шкодин.
Вражеская самоходка была совсем близко. Автоматчики соскочили с нее, тоже залегли меж камнями, бросили гранаты в метеостанцию. Несколько их разорвалось позади Широнина. Осколок ударил в пятку, другой рассек губу, выбил два зуба. Широнин не успел и выплюнуть их. Он увидел, как Шкодин привстал на колени, метнул гранату под гусеницу самоходки и сам, сраженный автоматной очередью, мягко, ничком упал на землю.
Самоходка остановилась. И тут в сознание Широнина неотвратимой опасностью вошли два темных зрачка. Один из них большой — дуло самоходного орудия — в упор наводился на метеостанцию, другой маленький, но не менее опасный… Выбежавший из-за самоходки гитлеровский офицер целился в Широнина. Петр Николаевич опередил его двумя слитно прозвучавшими выстрелами. Но прогремел выстрел орудия… «Цел», — в первую минуту подумал Широнин, когда осколки просвистели над головой и зашипели на снегу. Но стена метеостанции заколебалась, сдвинулась, Широнин не успел сделать и шага в сторону, как она тяжело рухнула на него.
32
Если бы год-два назад кто-либо сказал Фаждееву, что он — здесь ли, в украинской степи, или где-то на другом участке тысячеверстного фронта — предрешит исход такого боя и выйдет из такого поединка победителем, он бы сам рассмеялся, не принял бы всерьез этих слов.
Думается, что нет ничего более значительного и более заслуживающего внимания в жизни человека, чем те преображения, которые день за днем делают его отличным от того, каким он был прежде. Но сколько нужно таких дней? Какие из них всего весомей? Кто ответит точно?
Мы привыкаем видеть у себя во дворе посаженное нами же маленькое деревцо, и незаметно летит время, пока в какое-то весеннее утро, бросив на него случайный взгляд, искренне удивляемся и восклицаем: «А смотрите-ка, вот молодчага, дубок, как пошел в рост!»
Не так ли с человеком? Мы свыкаемся с ним, видим его рядом с собой будто бы одинаковым, но рано или поздно подходит час, и от всей души восхищенно дивимся: «Эге, да он ли это?!»
Когда же преображались, вырастали дубок, человек, о которых речь? Когда вырастал гвардии красноармеец Фаждеев? Наверняка значительно раньше, чем тогда, когда повестка военкомата позвала его в армию и привела в запасной полк, а затем во фронтовую часть. Здесь он прошел только шлифовку. А в какую бы обработку ни попадал металл, он не меняет полученных ранее коренных, первичных свойств. Человеческие же свойства Фаждеева слагались одновременно с обновляющейся жизнью его народа. За одним незримым пластом другой. За годом год. И когда из заброшенного в горах кишлака он, подпасок байских отар, впервые спустился вниз, пришел в шумный, лежащий на берегах Сырдарьи Ленинабад, сел за школьную парту. И когда он, подросток, закончив школу, бродил с партией присланных из Москвы ирригаторов от аула к аулу, от такыра к такыру, открывал путь воде, а с ней и новой жизни на полях дехкан. И когда позже он сам трудился на этих полях не с кетменем, нет, не с кетменем, который полвека не выпускали из рук отец и мать, а ведя трактор, властвуя над дивными силами, каких не знала прежде таджикская земля.
Но назвать ли все то, что желанной, светлой новизной входило в биографию паренька с Алтайских гор, что растило его и стояло у истоков его возмужания?! Добрый же ратный путь воину, которого окрыляет гордость за содеянное им и который со справедливым достоинством может оглянуться на прожитое!..
…Фаждеев в бою у переезда находился на правом крыле окопа, вторым от Скворцова, как бы замыкавшего траншею своей ячейкой. Левым соседом был Исхаков, ручной пулеметчик. При налете «юнкерсов» разрывы бомб густо окаймили эту часть окопов — вывороченная земля валом легла и впереди и сзади, — но ни одна из бомб не причинила никому никакого вреда. Начался бой, и только лишь в первые его минуты Фаждеев испытал тягостное замешательство, тревожную смятенность. Взволновала мысль: а что, если он в горячей схватке не разглядит или не услышит сигнала командира, а вдруг да он неправильно поймет его? Простит ли он, Фаждеев, себе это? Первый взвод всегда представлялся Фаждееву как нечто цельное, нераздельное, любая часть которого должна действовать в лад со всеми другими частями.
Но вот Широнин вскинул обе руки в стороны — дал команду открыть огонь. Фаждеев вначале чуть поспешно, даже как следует не прицелившись, нажал спусковой крючок. То ли его выстрелы, то ли выстрелы товарищей вырвали из цели атакующих и бросили на снег нескольких гитлеровцев. Еще очередь, еще!.. И, ободренный, он уже чувствовал свою слитность с теми, кто был справа и слева от него, свою волю в единой воле всех. Словно бы рукой сняло замешательство и суетливость.
После первой неудачи гитлеровцы поднимались в новые атаки. Редели ряды обороняющихся. На глазах у Фаждеева погиб, выручая взвод, Скворцов. Теперь он, Фаждеев, был крайним на правом фланге, и все более расчетливыми и точными становились его выстрелы. Как косарь, идущий позади другого косаря, подбирает огрехи напарника, так Фаждеев то одиночным выстрелом, то короткой очередью автомата завершал то, что пропускал пулеметчик Исхаков, увлеченный широким размахом своей свинцовой косы.
В начале шестой атаки близкий разрыв снаряда взметнул и обрушил на Фаждеева чуть ли не с воз земли. Присыпанный, он едва не задохнулся под земляной плитой, что придавила его плашмя ко дну траншеи. Но напружинился, с неимоверным трудом подобрал под себя колени и скинул плиту, вывернулся наверх. Едва отдышался, кинул взгляд по сторонам. В первую секунду даже не понял, что же именно изменилось у переезда, а чувствовал: изменилось. Присмотрелся: на месте метеостанции, откуда командовал Широнин, лежали развалины. Позади них в окопы первого отделения спрыгивали немцы. Слышались разрозненные выстрелы, разъяренные крики бойцов, завязавших рукопашную схватку. Фаждеев разглядел, как кто-то — кажется, Чертенков — прикладом автомата сбил наземь наскочившего на него гитлеровца; разглядел в полыхнувшем дымке гранатного разрыва почерневшее, искаженное лицо Вернигоры.
Издали на окопы, уже предвкушая свою победу, набегала с улюлюканьем и криками вторая цепь гитлеровцев, с которой было бы невозможно совладать оставшимся бойцам. Пулемет Исхакова молчал. Не видно было и его самого.
Фаждеев не выпустил из рук автомата и будучи заваленным, землей. Сейчас он первым делом инстинктивно потянул к себе рукоятку затвора: исправно ли оружие? Однако затвор не дошел до переднего положения. «Засорилось!»
Фаждеев оглянулся и — как же он раньше этого не заметил? — увидел далеко позади себя на пригорке отброшенный разрывом снаряда пулемет Исхакова. Красноармеец выскочил из окопа и, петляя меж воронками, вгрузая в снег, побежал к пригорку.
Никогда еще так не страшила мысль о смерти, как в эти минуты. Вот-вот свалит его посланная вдогонку или просто шальная пуля. И кто тогда узнает, зачем он покинул окоп? «Жалкий трус… Предатель… Убежал даже без оружия, бросил оружие». Разве не вправе так подумать каждый, кто останется в живых? Да и главное — останется ли кто? Свистнула пуля. Не своя ли?
Упал у пригорка, подполз к пулемету, лихорадочно ощупал его. Диск стоял на месте. Ни на затворе, ни на стволе видимых повреждений как будто не было. Прижал предохранитель…
Цепь фашистских автоматчиков уже была в двух десятках метров от окопов, когда сбоку внезапно заговорил пулемет. Словно кегли, падение каждой из которых вызывает падение следующей — с края и дальше, дальше по цепи, — стали валиться гитлеровцы. Кинжальный огонь, направляемый с пригорка, разил их в упор. И изломалась цепь, дрогнула, немногие оставшиеся побежали назад…
33
Был на исходе пятый час боя. Солнце подобралось в небе уже к той невидимой черточке, которая в этот мартовский день была для него пределом, и при набравших полную силу солнечных лучах отчетливее выступило у беспаловского переезда месиво грязи, крови, снега, расстрелянных гильз.
Батальон фашистских автоматчиков, потерявший половину своего состава, в шестой раз откатился назад, укрылся в рытвинах, кюветах, за бугорками. Если бы они знали, что эту атаку отражали всего несколько тяжелораненых бойцов!
Но и этот недружный и разрозненный огонь напоминал о том, что первый взвод жив…
Болтушкин медленно полз по ходу сообщения к соседним окопам. Раненный осколками в плечо и в ногу выше колена, потеряв много крови, он выбрасывал вперед автомат, упирался прикладом в землю и со стоном подтягивался к нему.
В одном из окопов Болтушкин увидел Вернигору. Сержант всем телом навалился на переднюю стенку окопа, закинул вперед сцепленные руки, опустил на них голову. «Жив или нет?» Александру Павловичу подумалось, что Вернигора убит и только это положение рук не позволяет телу упасть на дно окопа.
— Иван!
Вернигора, не поднимая головы, повернул ее, глянул вниз на Болтушкина затуманенными глазами.
— Павлович…
— Кто еще остался?
— Кажись, Букаев… Вон под танком. А у тебя?
— Торопов, Тюрин… Ранены, но еще держатся… Ты стрелять можешь?
— Буду. Контузило меня…
— Подкрепления вот-вот ждать надо.
Болтушкин пополз дальше.
На небольшом пятачке, от которого ответвлялся ход сообщения к запасным окопам, Болтушкину пришлось перелезать через несколько лежавших навалом трупов. В одном из убитых узнал Ивана Чертенкова. Грузчик из Улан-Удэ в рукопашной схватке оказался страшным для гитлеровцев противником. Тяжелые узловатые руки его и перед смертью не выпустили горла фашистского унтера. Сам Чертенков был убит выстрелом сзади.
Дальше за изгибом траншеи Болтушкин наткнулся на воронку и в ней увидел два присыпанных землей, вплотную друг к другу лежавших тела — Зимина и Крайко.
Несколько минут Александр Павлович запоминающе смотрел на ставшее теперь таким недоступно строгим лицо своего фронтового побратима, затем расстегнул верхние пуговицы зиминской шинели, нащупал в кармане гимнастерки партийный билет и другие документы. Вынул их, положил к своим. «Пока жив, пока автомат в руках, пусть они будут со мною».
Головы обоих убитых лежали на вещевом мешке, распираемом изнутри чем-то твердым.
«Диски, гранаты, — догадался Болтушкин. — Они-то мне и нужны».
— Ты уж, Сергей Григорьевич… поделись со мной напоследок, дружок, — жарко зашептал Болтушкин и осторожно потянул к себе вещевой мешок.
На краю воронки недвижно лежал кто-то третий. Снизу были видны только его кирзовые, залепленные глиной сапоги. Узнал Павлова. Шинель на груди разорвана в клочья. На снег обильно натекла кровь, наверняка убит осколком. Груда отстрелянных гильз рядом, под рукой, так и не выпустившей автомат.
Стенка окопа, разрушенного снарядом, обвалилась, и теперь наверх можно было выползти не вставая. Подтаскивая за собой вещмешок, Болтушкин поднялся из окопа. Впереди, метрах в четырехстах от себя, увидел высящуюся над бугром башню тяжелого, с короткоствольной пушкой, танка. Чуть дальше стоял и другой…
Видимо, гитлеровцы растерялись от понесенных ими таких неожиданно больших потерь и теперь ждали дальнейших приказов. И из какого-то штаба, где вчера с непреложной точностью минута в минуту было вычислено, когда именно фашистские части должны пройти через Тарановку, он последовал, этот приказ, отданный в бешенстве из-за пятичасовой задержки.
Первый, ближний танк двинулся вперед. Он шел пока один, на малой скорости. Болтушкин с горечью осмотрелся по сторонам. Подмога, где она? И вдруг бессвязно и радостно вскрикнул перед долгожданным… Из-за станции выбегала цепь красноармейцев.
Наверное, их заметили и в смотровые прорези танка. Он прибавил скорость и был уже совсем недалеко от окопа Болтушкина.
Судьбу переезда теперь решали считанные минуты. Кто опередит? Успеет ли подкрепление добежать до окопов и занять оборону или танк вырвется на насыпь и оттуда из всех трех пулеметов огнем в упор ударит по цепи?
Александр Павлович приник лицом к мелким комьям смерзшейся земли. Не лучше ли было бы встретить этот наступивший миг последнего выбора не сейчас, когда она, земля, еще такая неприветливая, холодная, сырая? А встретить позже, чтобы еще хоть разок полюбоваться на нее, отогретую и щедро украшенную весной, звенящую песнями жаворонков, расшитую травами и хлебами во всю свою привольную ширь! Э, да и сейчас, такая скуповатая на ласку, как она мила!..
Но где-то между этими светло мелькнувшими размышлениями, вернее, одновременно с ними Болтушкин уже сделал свой выбор. И, бесповоротно выбрав то, что подсказывала ему совесть, он почувствовал, как вошло в сердце великое и мудрое спокойствие.
Всего несколько минут назад Александр Павлович готов был грызть землю от томящего сознания своей беспомощности, своего бессилия перед этой дьявольски грозной махиной, мчавшейся к переезду… Сейчас же в последний раз предрешил то, что должен был сделать, и — хотя был дважды ранен, потерял много крови — понял, что все же куда сильней, во много раз сильней, чем все те, кто укрывался за броневыми плитами.
И с презрением следил он теперь за приближением тяжело покачивавшейся машины.
Главной задачей было остаться незамеченным. Александр Павлович осторожными движениями отложил в сторону автомат, чуть отпустил на шинели ремень, сунул за него две связки гранат. Одну гранату хотел положить за пазуху, но, вспомнив о своих и зиминских документах, не стал этого делать. «Только бы хватило силы подняться», — подумал, зная, что размахнуться рукой, в предплечье которой была рана, не сможет. Лежал, вслушиваясь, как все сильней гудит и вздрагивает земля. Лязг гусеницы рядом. Привстал, рывком бросился под блеснувшие стальной синевой траки…
34
…А ты, что ты еще можешь, Вернигора? Рваная, набежавшая из-за станции тучка на миг закрыла солнце. Наверное, лежал ее путь куда-либо севернее, туда, где в хмуром небе еще теснились хмурой громадой ее собратья. А вот же не стерпела, остановилась над переездом, труханула мокрым лапастым снежком, словно желая освежить запекшиеся губы тех, кто еще жил и боролся, а тела павших прикрыть хотя бы редким, как марля, пологом.
Когда подтаявшие на лету хлопья зачастили и закрутились затейливым роем, тогда будто бы отдалилось далеко в глубь степи все, что минутой назад представлялось Вернигоре неотвратимой угрозой.
«Да полно, не сон ли все это?» — искрой мелькнула мысль в темном провале контузии. Вот же сгинет, бесследно развеется это проклятое наваждение, и снова послышится рядом ворчливый говорок Андрея Аркадьевича, из-за развилки окопа выглянет со своей застенчивой улыбкой Грудинин, торопливо пробежит с широнинским поручением Петя Шкодин, на потеху всему первому взводу ввяжется в какой-либо смешливый, безобидный спор Нечипуренко… Он, Вернигора, увидит все это. Стоит только преодолеть сковавшую тело тяжесть, вернуть привычное бодрствующее сознание. С силой шевельнул плечами, чтобы освободиться от кажущегося сна, до крови прикусил губу, стремясь этой, намеренно вызванной болью заглушить другую — тупую, цепенящую, парализовавшую все движения.
И тут же прояснившейся частью сознания понял, что перед ним явь. Да, никого из друзей уже нет. И он сам должен довершить то, ради чего пришел сюда первый взвод, ради чего здесь, у переезда погибли его товарищи…
Что же ты можешь, Вернигора?
Откинул голову чуть назад, подставил лицо падавшим хлопьям снега, жадно ловил их пересохшими губами. Пулеметные очереди — одна, за ней другая — прогрохотали почти над самым окопом; почти над самым окопом заскрежетало, залязгало, и Вернигора, обессиленно навалившись грудью на стенку окопа, ощутил всем телом, как встряхнулась земля от нависшей многотонной тяжести.
Прямо перед ним кружился на одной уцелевшей гусенице танк, подорванный Болтушкиным. Пламя и раскаленный воздух, вырываясь из выхлопной трубы, выжгли в снегу округлую рытвину до самой земли, забросали все окрест грязью. Горячая, напоенная бензиновой гарью волна пахнула прямо в лицо. Сколько раз радовал этот синеватый дымок на марше, на бесчисленных фронтовых дорогах, когда взвод обгоняла колонна спешивших к переднему краю машин. А этот — ненавистный, прогорклый, чужой — сразу напомнил о потерянных побратимах, о пролитой крови, об истоптанной, оскверненной врагом земле. И уже совсем, совсем ясным стало сознание.
Подбитый танк не мог ни на шаг продвинуться навстречу подкреплению. Но башенный пулемет не прекращал огня, и Вернигора видел, как неумолимо редела подбегавшая на подмогу цепь стрелков. Ее правый край, не добежав даже до ложных позиций, залег, и автоматчики открыли беспорядочную стрельбу, с такой дистанции не опасную ни для приборов наблюдения, ни для смотровых щелей танка. Но именно она, эта стрельба своих же автоматчиков, и мешала сейчас Вернигоре.
— Отставить! Эй, хлопцы, отставить! — приподнялся над окопом и закричал Вернигора. Несколько раз он сверху вниз махнул зажатой в руке ушанкой. Вряд ли расслышали и разобрали его слова. А жест поняли, угадали своего и перенесли огонь в сторону — там, позади подбитых танков, гитлеровцы изготовились к новой атаке. Пригнувшись, Вернигора метнулся к танку. Он и сам еще не знал, что будет делать. Гранат не осталось. От контузии сильно дрожали руки. Очередь из автомата, нацеленная этими дрожащими руками в смотровую щель, не зацепила даже брони, пошла поверху. А танк уже рядом. Вернигора подполз к той его стороне, где не было гусеницы, уцепился руками за скользкий выступ брони, стал взбираться на машину. Она вздрогнула, повернулась на месте, словно желая сбросить с себя и смять смельчака. Ветер кинул полу шинели в ведущее колесо. Страшная сила потянула Вернигору книзу. Не поддавался ей, напрягся, крепче сжал руками броневую кромку.
Оставив внизу клок шинели, Вернигора поднялся на танк. Пулемет не умолкал. Вот же рядом он. И будто виделось за броней искаженное страхом и яростью лицо стрелявшего. Но что с ним сделаешь? Торопливый взгляд остановился на запорошенном снегом запасном звене траков, лежащем у борта. С трудом поднял его и, зайдя к пулемету со стороны, с силой опустил на смертоносное, высунутое в прорезь дуло. Пулемет уже смолк, а Вернигора все еще наносил по нему удар за ударом, пригибая книзу острое разящее жало. Он выпустил из рук траки лишь тогда, когда почувствовал, что вновь непреодолимое изнеможение подступило к сердцу; чтобы не упасть под машину, схватился за дуло, обессиленно повис.
…Кто-то тряс его за спину. Посмотрел затуманенным взором вниз, не сразу разглядел на заснеженной шапке подползшего солдата красную звездочку.
— Сюда, браток, сюда. Падай!
Услышал эти слова и разжал ладони, пластом ссунулся с брони.
35
— Шкодин, сюда… Помоги! — очнулся и невнятно прохрипел Широнин. Из рассеченной осколком губы текла кровь, и по расползшемуся на грязном снегу большому пятну Петр Николаевич понял, что был в беспамятстве долго. Многопудовый груз налегал на ноги, на поясницу, вдавливал его в землю.
— Помоги!.. — и тут же увидел Шкодина, лежавшего неподалеку от обвалившихся камней. Глаза Пети были накрепко зажмурены, точно перед ослепительной вспышкой света, и две глубокие складки — их раньше не было — залегли на лбу выше переносицы.
Широнин застонал, попытался высвободиться из-под камней сам. Но даже попытка пошевелить ногами или рукой вызвала мгновенно такую страшную боль во всем теле, что он, изнеможенно опустив голову на снег, застонал еще громче.
Неподалеку послышалось шуршание — кто-то или подползал, или осторожно подходил. Неужели гитлеровцы? Плотнее приникнув лицом к земле — может, подумают, что убитый, — Широнин кистью правой руки — всю руку выпростать было невозможно — шарил по земле, искал пистолет… «Вот оно и последнее!» Но пистолета не было. А шуршание ближе, ближе, и кто-то, уже совсем рядом, наклонился.
— Живы?.. Товарищ лейтенант?..
Свой! Широнин повернул голову и прямо перед собой увидел обеспокоенное, бледное лицо незнакомого красноармейца.
— Помоги, жив.
— Ох ты! Как же это вас так? Кирпичей-то сколько навалило, — растерянно срывалось с подрагивающих губ красноармейца. Не поднимаясь с коленей, он стал медленно сбрасывать камни, помогая толчками плеча рукам, вернее, одной левой руке… Правая висела неподвижно, и Широнин догадался, что красноармеец тоже ранен.
— Потише, браток, полегче, — проговорил Широнин.
Лицо красноармейца при каждом движении мучительно кривилось от боли, и он стиснул зубы. Как ни было больно самому Широнину, он сейчас страшился одного, что у красноармейца не хватит сил разобрать завал и он откажется от этой попытки, уйдет. А тот постанывал, скрипел зубами, но продолжал делать свое дело, позволяя себе лишь короткие передышки.
— Выручим, товарищ лейтенант. Потерпите, выручим, — шептал он.
Стрельба хотя и стала реже, но не отдалилась. Из-за груды обрушенных камней поля боя не было видно. Наконец красноармеец расчистил завал, освободил Широнина и он привстал, осмотрелся ищущим взором. Неужели из первого взвода не осталось никого?
В окопах сновали незнакомые Петру Николаевичу красноармейцы. Они устанавливали пулеметы, поправляли брустверы. По ходу сообщения к развалинам метеостанции подбежал какой-то, тоже незнакомый старший лейтенант. Ворот его шинели и гимнастерка были расстегнуты. Деловитым взглядом он окинул окопчик, из которого командир первого взвода руководил боем, на секунду задержал этот взгляд на залитом кровью лице Широнина.
— Ну-ка, давай отсюда, дружище. В тыл, в тыл, давай, голубок! — как бы смягчая этими ласкательными обращениями свой грубоватый сиплый голос, закричал старший лейтенант на Широнина и торопливо стал обосновываться в окопе — скинул шинель и остался в меховом жилете, разложил на берме несколько гранат.
Теперь он был здесь полновластным хозяином, отвечал за этот кусок земли у переезда и за все то, что могло с ним произойти.
Однако Широнин еще не мог свыкнуться с этим.
— Постой, куда же я пойду? А бойцы?.. Бойцы мои где?
— Э, что уж об этом спрашивать, лейтенант? После такого боя…
Широнин смотрел на окопы. Посолонело во рту, спазмы сдавили горло.
— А люди!.. Люди-то какие! — задыхаясь от волнения, воскликнул он, чувствуя, как застилаются влагой глаза.
— Ну, ладно, сослуживец, ты того… спокойней, спокойней, — сочувственно произнес старший лейтенант. — Мои ведь тоже не из железа… И внезапно, раздражаясь, закричал: — Да ты что мне здесь, слезу собираешься пустить? Сырость развести? Сказано тебе — уходи!.. Ясно? Кто здесь старший? Выполняй!
— Сумку бы только достать, — уже не переча своему преемнику, попросил Широнин. Его полевая сумка осталась под обрушенной стеной.
— Ладно, после войны найдем, не мешай, говорю! — отмахнулся рукой старший лейтенант и обернулся к красноармейцу: — Пирожков, ты ранен?
— В правую руку, товарищ старший лейтенант, но стрелять еще бы мог.
— Без тебя обойдемся. Вместе с лейтенантом сейчас же на медпункт. Слышишь? Вместе.
— Иначе нельзя, товарищ старший лейтенант. Он ведь сам и до насыпи не дойдет.
— Ну, быстро, быстро.
Старший лейтенант торопил. Далеко впереди весь склон Касьянова яра зачернел от передвигавшейся вражеской пехоты — подкрепления подходили и к атакующим.
Широнин с трудом поднялся. Из простреленной груди вырывалось свистящее дыхание. Ступить на правую ногу он не мог. Пирожков закинул руку лейтенанта к себе на плечо, обхватил его за пояс своей левой.
— Как-нибудь дойдем… Нам бы только через насыпь перейти.
По размякшему, скользкому склону насыпи пришлось перебираться и ползком, и на четвереньках. Тут уж Пирожков помочь почти ничем не мог. Только поднявшись чуть выше, протягивал руку Широнину, подтягивал его. На той стороне насыпи утомленно опустились на снег. А позади, отделенные насыпью, все еще слышались сердитые покрикивания старшего лейтенанта.
— Луценко, эй, Луценко, ты что же ворон ловишь? Выдвигайся с пулеметом вперед. Сомов, тебе говорю или нет? Переходи в окоп Луценко. Приготовить гранаты!..
Пирожков обернулся к Широнину:
— Пошли дальше, товарищ лейтенант?..
— Нет, Пирожков, так, видно, дела не будет, — проговорил Петр Николаевич, понимая, насколько тяжело приходится с ним красноармейцу. — Ты и сам еле идешь. Надо что-то другое придумать.
После минутного размышления он снял ремень, приложил автомат прикладом вниз к ноге и стал туго привязывать его ремнем.
— Что это вы, товарищ лейтенант? — удивился красноармеец.
— Полевой протез… Патент заявлен, — нашел в себе силы пошутить Петр Николаевич. — Помоги только встать.
Поднявшись, Широнин даже с неким победоносным торжеством взглянул на Пирожкова.
— А что скажешь? Ведь неплохо получилось?
Автомат был приспущен вершка на два ниже ноги, и теперь можно было и не становиться на землю раздробленной пяткой.
Ковыляя, делая частые остановки, Широнин и Пирожков вошли в село. Обстрел Тарановки не утихал. Гитлеровцы продолжали рваться к востоку по всем дорогам. Канонада не прекращалась и севернее села, где принимала свое боевое крещение чехословацкая часть. Ни там, в районе Соколова, ни здесь, у тарановских взгорий, гитлеровцам не удалось добиться никакого успеха. И, видимо, на всех участках боя возникло то положение, при котором обе стороны собирают силы для решающей схватки.
Раненым предстояло сворачивать вправо, в переулок, в конце которого в одной из хат размещался медпункт. Широнин у переулка остановился и, схватившись рукой за изгородь, долго смотрел в сторону площади перед школой, где позавчера был КП полка. Сейчас через площадь только изредка перебегали красноармейцы. Но вот на площади появилась, правда небольшая, но шедшая строем, группа солдат. Идущие впереди несли какой-то длинный, покачивающийся над головами свиток. Вверху над ним что-то огнисто блеснуло… «Знамя, — в ту же минуту догадался Широнин. — Знамя полка!» Куда его могли нести? Может быть, не захотели оставить в обстреливаемом селе и нашли укрытие где-либо в стороне? Или, наоборот, Билютин решил вынести эту святыню полка в его боевые порядки, чтобы перед новой, нещадно суровой битвой окрылить дух гвардейцев?!
Широнин, придерживаясь рукой за жердь изгороди, уже брел по переулку, а взглядом все еще ловил отдаляющиеся золотистые блестки знаменного копья…
36
…Вот уже несколько дней в короткие летучие паузы, которыми перемежалось забытье, Вернигора слышал над собой участливый женский голос, чьи-то руки бережно поправляли подушку, подносили к губам чашку с водой, но приподняться, откликнуться на этот голос он был не в силах. Давно, где-то позади, в отгрохотавшем степном бою, осталась нестерпимая, плавящая мозг боль, и теперь в дружески оберегаемой кем-то тишине с ним лишь слабость, такая слабость, что кажешься самому себе бесплотным — не поднять век, не шевельнуть губами.
Однажды его лица мягко коснулось позабытое за эти дни, почти человечье своей ласковостью тепло; даже сквозь смеженные ресницы Вернигора радостно ощутил льющийся сбоку свет, и словно бы именно этого — первой радушной улыбки весны — до сих пор не хватало, чтобы подтолкнуть организм и вывести его из тяжелого оцепенения.
Вернигора открыл глаза, тут же испуганно зажмурился от хлынувшего в них золотисто-песчаного блеска солнца и, превозмогая робость, снова открыл их. Где он?..
Над головой низко нависали ребристые, чуть задымленные балки потолка, в углу, убранная расшитыми рушниками, чернела икона. Слева на подоконнике — неприхотливые калачики, высаженные в консервные банки, справа — печь, к низу которой приткнут куда-то отлучившейся хозяйкой веник. Хата, как добрая тысяча других хат, в каких уже пришлось то дневать, то ночевать за годы войны. И, почувствовав сильную жажду, Иван Григорьевич привычно глянул в сторону двери, рядом с которой обычно даже ночью, на ощупь, находил ведро или кадку с водой. Конечно же, она стояла и тут.
Он привстал, опустил ноги с лавки, на которой лежал. С недоумением увидел, что на нем не щеголеватые суконные бриджи — он один, если не считать Широнина, носил их в первом взводе, — а потрепанные штаны из чертовой кожи и шерстяные, домашней вязки носки.
Где же все-таки он? Вернигора не обнаружил ни своей шинели, ни автомата, ни вещмешка на стене, где висела хозяйская одежда, и тщетно пытался вызвать, оживить в затуманенной памяти хоть какое-либо воспоминание. Собрался с силами, приподнялся, шагнул к кадке и не дошел — изнеможенно опустился на скамью, зацепив и сбросив на пол стоявшую на ней миску.
Дверь из сеней распахнулась, и в хату торопливо вошла привлеченная шумом пожилая женщина.
— Та боже ж ты мий, чому ж ты пиднявся? Хиба тоби зараз разгуливать? — запричитала она и кинулась к Вернигоре, который беспомощно вцепился пальцами в край скамьи, чтобы не сползти на пол. На лице выступили капли холодного пота, приглушенно, словно замирая, забилось сердце.
— Испить, мамо… — обессиленно прошептал Вернигора, глядя в густо обобранные морщинами, добрые, ясно-голубые глаза.
— Позвал бы. Разве б я не почула? Я ж тут в коридорчике була. А ну до лижка, до лижка![9]
С силой, удивительной для ее лет, она приподняла за плечи Вернигору, отвела его обратно, на лавку, принесла пить.
Через несколько минут Вернигора знал все.
— Да ты только не хвылюйся… Чого тоби зараз хвылюваться? Не трэба, — трижды вставляла хозяйка в свой сбивчивый рассказ заботливое и вместе с тем неясно тревожащее предупреждение. Для чего оно? Вернигора вначале не понимал, а потом пришла горькая и жуткая догадка, приподнялся, взволнованно и требовательно спросил:
— Скажи прямо, у немцев я?..
— И як же тоби не соромно? — обиженно всплеснула руками и воскликнула хозяйка. — Хиба ж я нимка?
— Не крути, мамо… Сама понимаешь, о чем я пытаю. В Тарановке немцы?
— Ну немцы! Что с того? Ты-то на своей земле, у своих! До нашей хаты они и зимой не заходили, а сейчас, по весне, им сюда и зовсим не соваться. Подывысь у викно.
Женщина протерла рукавом запотевшие стекла. За ними проглянул небольшой, огороженный низеньким каменным забором садик. Сразу же от него начинался крутой спуск в глубокую ложбину, на дне которой, казалось, уже шумели под набухшим голубоватым снегом веселые мартовские ручьи.
— Ось диждемося своих назавжды. А гитлеровцам зараз не до нас. Они и старосту доси не призначили, чують, что час их пройшов. Скильки ж вы их, гадов, побылы, скильки побылы! Навалом лежали в Касьяновом яру. Три дня гитлеровцы их кудысь развозили… чи в Староверовку, чи в Красноград…
— А наших?..
— Наших мы сами поховалы. На майдане, де школа, братську могилу копали. Ой, какой же один молоденький был («Шкодин, Петя», — подумал Вернигора), а другой смуглявый, смуглявый, мабуть, не з нашего краю… Биля пулемета як лежав, так и перед смертью его из рук не выпустил…
«Фаждеев», — догадался Вернигора, испытывая чувство сердечной вины перед товарищем по оружию. Как он мог в те страшные минуты, кажется, шестой по счету атаки, усомниться в Фаждееве, посчитать его трусом?!
Из рассказа Максимовны — так звали хозяйку хаты — Вернигора представил себе все, что с ним произошло. Очевидно, это было на второй или третий день боя, когда заслон, выставленный у беспаловского переезда, выполнил свою задачу и получил приказ отойти. Тогда-то Максимовна и подобрала в одном из дворов его, сваленного в беспамятстве тяжелой контузией. Она жила сейчас одна: муж и сын были в армии. Двор Максимовны находился действительно на отшибе, и никто даже из близких ей односельчан не знал, что кого-то укрывала эта закинутая на крутое взгорье хата.
После того дня, когда Вернигора пришел в сознание и впервые поднялся с постели, он стал быстро крепнуть. Но с поправкой пришло и другое — удручало вынужденное бездействие, угнетал каждый, казавшийся томительно нескончаемым, день ожидания. При всем своем заботливом попечении о нуждах выздоравливающего не могла Максимовна разгадать его самой настоятельной и жгучей потребности.
— Ты скажи, Максимовна, твой Федос курил? — не выдержал и как-то спросил хозяйку Иван Григорьевич.
— Федос? Да от него дым, як из заводской трубы, валил, — почему-то восторженно, видимо, тронутая этим воспоминанием, воскликнула Максимовна. — Нашу хату, мабуть, не то что пчела, а и комар десятой стороной облетал. Ось як вин курив!..
— Так, так… А что же он у тебя курил, Максимовна? — продолжал допытываться Вернигора.
— «Эру», «Броненосец», а по святам этого, как его, черного коня…
— Черного коня? Первый раз про такие папиросы слышу, — удивился Вернигора, но потом догадался: — Уж не «Казбек» ли?
— Во-во, «Казбек»… Это на Жовтневи свята, на Первомай, ну а в будни, зрозумило, и самосадом не брезговал…
— Сажал? — даже привстал в волнении Вернигора.
— Сажал.
— У себя на огороде?
— Да не на чужом же, — обиженно проговорила Максимовна. — Целую грядку отвоевал у меня на эту пакость… Я краще б маку посадила… Я уж ему… Да куда ты, Григорьевич?..
Но Вернигору уже не остановить. Не дослушав, он выскочил во двор. Миновал небольшое картофельное поле и подошел к грядкам. Но тщетно искал меж бодыльями укропа и помидоров какой-либо затерявшийся желанный стебелек, проросший из случайно выпавшего семени. Коль и был в прошлую осень такой, то наверняка не миновала его хозяйская тяпка.
«Эх, Максимовна, Максимовна!» — укоризненно прошептал про себя Вернигора. И, посвистывая — видимо, еще не потерял какой-то надежды, — вернулся к хате. В сенях лежала лестница. Поднял ее, приставил к стенке, полез на чердак. Здесь он повременил, пока глаза не привыкли к полумраку, а затем возобновил свои поиски. На перекладинах висели связанные вениками кукурузные початки, валялись клочки сена, старая обувь. Вернигора подбирал разбросанные бодылья, расщеплял их ногтем, принюхивался. Так он добрался до кучки запыленных стебельков, лежавших на дымоходе, расщепил один из них, поднес к ноздрям и даже вздрогнул от нетерпеливого предвкушения, когда потянуло еле уловимым, но таким дурманяще-сладким запашком. Поднес свою находку к окну — так и есть, те самые желанные корешки… «Ну, спасибо тебе, Федос», — мысленно обратил Иван Григорьевич к неведомому человеку свою искреннюю благодарность. Уже собираясь спускаться вниз, он посмотрел в окно чердака и тут вновь вернулся к тем горячим беспокойным думам, которые уже не раз бередили сердце в долгие бессонные ночи. Отсюда, с чердака, ясно открывались взору перелески, раскинутые вдоль железной дороги. Один, другой, третий… Вот левей их и памятный железнодорожный переезд. Хмуро чернели и горбились перед ним сбившиеся в немое железное стадо танки, навсегда властно остановленные первым взводом в тот памятный мартовский день. Еще левей — развалины станции…
Вернигора задумчиво спустился вниз.
— Ну, я бачу, ты все ж таки найшов, — усмехнулась Максимовна, увидев в руках у своего постояльца заветные стебельки.
— Нашел, Максимовна! Дай бог твоему Федосу доброй солдатской удачи да легкой обратной дороги.
Иван Григорьевич крошил ножом табак, но, занятый этим делом, всеми своими мыслями был там, у переезда… Часов в шесть, перед сумерками, он стал собираться, надел не шинель, а старый солдатский пиджак, обтертый кроличий капелюх.
— Ты куда? — встревожилась Максимовна.
— Часок пройдусь, не беспокойся…
— Як же не беспокоиться, а если наскочишь на немцев?
— Не наскочу… Да и сама ж ты говорила: не они, а я на своей земле…
Пасмурный тихий вечер дразнил запахами оттаивающей земли, разлитой повсюду весенней свежестью. На улице безлюдно и пустынно. Стараясь держаться поближе к заборам, вдоль которых вилась еле намеченная тропка, Вернигора вышел к переезду, спустился на противоположную сторону железнодорожного полотна. Он кинул взгляд на поле недавнего боя и остановился, потрясенный нахлынувшим волнением. В нем смешались и глубокая скорбь о погибших вот здесь, в украинской степи, товарищах, и великая солдатская гордость за исполненный ими долг, и презрение к врагу, который, самонадеянно кичась своей броневой мощью, не понял, не догадывался, что она ничтожна перед другой силой — самозабвенным порывом человеческой души, отстаивающей свою правду…
На откосе насыпи хмуро чернела подорванная Скворцовым самоходка. Неподалеку от нее, над окопом, вздыбилась в свой последний миг махина танка, остановленного Алексеем Крайко. Чуть подальше — танк, под гусеницами которого, поправ смерть, погиб, выручая подходившую смену, Александр Павлович… Перед взором Вернигоры снова ожили, явственно выступили из глубины отошедшего в прошлое дня родные, близкие лица…
А вот, кажется, и тот танк, который Вернигоре и подавно не позабыть. Погнуто дуло пулемета. Рядом на борту звено траков… Последнее, что осталось в памяти: удар за ударом наносил тогда он, Вернигора, пригибая книзу острое, разящее жало…
В тишине загустевших сумерек Вернигора задумчиво бродил по изрытой окопами и воронками степи, когда внезапно услышал долетевшее издалека ржание лошадей, визг колес, раздраженные покрикивания. Вот они приблизились, и Иван Григорьевич различил слова команд, отдаваемых на чужом языке, озлобленную ругань. По дороге от Касьянова Яра к переезду двигалась какая-то большая колонна. Вернигора шагнул в сторону от дороги, поглубже в укрытую быстро наступавшей темнотой степь. Очевидно, к переднему краю направлялась какая-то крупная артиллерийская часть. Она с трудом пробивалась сквозь месиво грязи к переезду, а когда поравнялась с окопами первого взвода, то и вовсе замедлила движение. Несколько орудийных пристяжек, разъяренно понукаемых ездовыми, пытались проехать за обочиной, степью, но на изрытой разрывами снарядов земле завязали, не могли сделать дальше ни шагу… Пробка, образовавшаяся перед переездом, росла и росла.
И тут Вернигора, сперва не поняв, что это такое, услышал другой, донесшийся откуда-то сверху звук… Вначале почти невнятный, приглушенно мерный, он с каждой минутой становился сильней, громче, будто некто невидимый, доискиваясь ему нужного, все глубже ввинчивался с неба в эту весеннюю ночь.
— Наши!.. Дружки мои хорошие!.. Кукурузнички!.. — наконец догадался Иван Григорьевич, в радостном смятении обращая к зашумевшему небу горячие, упрашивающие слова. — Не пролетайте ж мимо! Вот же, вот же для вас и работенка! За товарищей ваших, за первый взвод! Дайте-ка огоньку, расплатитесь!..
Он ликующе встрепенулся, что-то даже вскрикнул, когда свет брошенной сверху ракеты разорвал черный полог ночи и прокатился первый, оглушающий взрыв. За ним второй, третий… Ночь наполнилась отчаянными воплями, стонами, тревожной суетой. Вернигора сперва даже и не подумал о том, что и ему ведь надо где-нибудь укрыться. Только когда воздушная волна близкого разрыва едва не сбила его с ног, он осмотрелся, увидел при мерклом свете ракет неподалеку от себя развалины метеостанции, где когда-то был командный пункт Широнина, и сбежал в укрытие. Но, как это ни было опасно, он через несколько секунд снова приподнялся из развалин, чтобы видеть все, что делалось у переезда. Самолет был не один. Гул моторов заполнял все небо, всю степь. Неожиданно, заслонив обзор, перед глазами Вернигоры мелькнула тень, и в щель, на дне которой он стоял, с шумом и бранью свалился рослый гитлеровец.
— Das bist hier du Max?[10] — переводя учащенное дыхание, бормотнул он.
— Я! — односложно бросил Иван Григорьевич.
Гитлеровец, очевидно, принял этот ответ за немецкое «да», успокоенно сдвинул фуражку со лба, стал отирать вспотевшее лицо. Иван Григорьевич молчал, и это молчание заставило немца насторожиться, присмотреться.
— Wer bist du?[11] — испуганно выкрикнул он, отстраняясь от придвинувшихся к нему незнакомых, угрюмо блеснувших глаз и хватаясь за автомат.
Иван Григорьевич быстрым, коротким ударом выбил оружие наземь и обеими руками с силой рванул гитлеровца за воротник к себе.
— Я! Я! Я! — трижды кинул он в ненавистное, искаженное смертельным страхом лицо.
37
Третий месяц Петр Николаевич лежал в госпитале в большом приволжском городе. Списался с семьей, с частью, и теперь чуть ли не каждый день получал оттуда весточки. Первые письма от жены были полны тревоги и отчаяния. Галина Федоровна никак не хотела верить, что ей пишет он сам.
«Петя, заклинаю тебя детьми, — взывала она, — сообщи правду, насколько тяжело ты ранен, какие надежды на излечение. Будь откровенным, не утаивай от меня ничего. Ведь я вижу, что пишет кто-то другой, и представляю себе бог знает что. Честное слово, не выдержу, приеду».
Жена написала письмо даже начальнику госпиталя с той же просьбой сообщить ей «всю, всю правду, как бы тяжела она ни была». Начальник госпиталя, пожилая приветливая москвичка в звании полковника медицинской службы, вызвала Широнина к себе.
— Послушайте, лейтенант, что вы никак не можете успокоить жену? Она вот-вот и в самом деле явится сюда. А к чему ей ехать за тысячу верст? Ведь лечение проходит нормально, и скоро вы будете дома.
Широнин развел руками.
— Что ж поделаешь, товарищ полковник, не верит она мне… А все из-за почерка.
— Вот и мне она пишет о почерке, что якобы не ваш… Что там у вас за почерк такой знаменитый был?
Петр Николаевич не без гордости усмехнулся:
— Да меня из-за почерка даже в Москву до войны вызывали. Составлять прописи для школ. Ну, а теперь, сами понимаете, изменился… — Широнин приподнял руку, просторный рукав госпитального халата откинулся, открыл выше запястья длинный, до самого локтя, рубец.
Только после письма начальника госпиталя жена Широнина несколько успокоилась.
Получил Широнин и письмо из части, от Пахомова. Петр Николаевич сразу же, по прибытии в госпиталь, просил замполита сообщить, остался ли кто-либо из первого взвода жив. Но Пахомов не мог точно ответить. Он объяснил, что их полк под Тарановкой в ходе боя был сменен другой, подошедшей на подкрепление частью, и оставшиеся раненые могли попасть в другой медсанбат. Никто из них пока не отозвался.
«Желаю тебе быстрейшего выздоровления, Петр Николаевич, — заканчивал Пахомов свое письмо. — Лечись, читай газеты, указы… Твой первый взвод не забудут».
Слово «указы» было дважды подчеркнуто.
В городе размещалось много эвакуированных правительственных учреждений. Газеты сюда доставлялись из Москвы самолетом. В палату, где лежал Широнин, приносили во второй половине дня «Правду». Петр Николаевич развертывал газету и, вспоминая слова Пахомова, невольно первым делом обращал внимание на указы о награждении орденами и медалями. Неужели не встретятся ставшие такими близкими, такими на всю жизнь памятными фамилии?
Прошел и Первомайский праздник, а знакомых имен на страницах газет пока не было. А между тем, читая первомайский приказ Верховного Главнокомандующего, Широнин, как никогда, отчетливо понял смысл тех ожесточенных боев, какие в начале марта велись под Харьковом. В приказе говорилось о провале авантюристической попытки гитлеровцев окружить наши войска под Харьковом, воздавалось должное мужеству и стойкости советских воинов, сорвавших этот замысел гитлеровского командования. Широнин вышел из палаты и направился в зал, где висела карта Советского Союза. Долго и задумчиво смотрел на обозначенную флажком линию фронта. На юге она тянулась по Северному Донцу, выше огибала Курский выступ. Приподнявшись на костылях, Петр Николаевич пытался найти Тарановку. Но масштаб карты был малый, и село на ней не значилось.
— Что обдумываешь, стратег? — окликнул Широнина его сосед по палате Медведовский, артиллерийский капитан, попавший в госпиталь с Брянского фронта.
— Да вот смотрю, как же это они окружение планировали.
— Э, да что там смотреть! — воскликнул Медведовский. — Для того чтобы сделать Сталинград, многое браток, надо. Не получилось у них — и баста. Это уже прошлогодний снег. Им сейчас надо бы уже не о котлах думать, а о том котелке, что на плечах. Будем теперь вперед глядеть. Весна предстоит жаркая. Пойдем в сад, на Волгу полюбуемся, мне ведь скоро в путь-дорогу…
Медведовский собирался выписываться и уже всеми своими мыслями был там, в родном артиллерийском полку, стоявшем где-то под Новосилем, на Орловщине.
— Ты мне, брат, со своим взводом и спать не даешь, — говорил Медведовский, шагая рядом с Широниным по дорожке сада к обрыву, нависавшему над рекой.
— Это почему так?
— Ну как же, я уже весь личный состав твоего взвода назубок изучил… У тебя были такие — Скворцов, Зимин, Болтушкин, Шкодин?..
— Ну были, — с удивлением глянул на Медведовского Широнин.
— А Чертенков, Вернигора, Нечипуренко?
— И такие были.
— Вот-вот… Я теперь каждую ночь вместе с тобой поверку взводу произвожу.
Широнин понял, что он по ночам бредит. И сам утром, просыпаясь, вспоминал, что во сне заново переживал картину боя, командовал. Сейчас, выслушав Медведовского, только махнул рукой.
— Эх, капитан, таких людей и во сне не забыть.
Они подошли к обрыву, сели на скамейку. Весенний разлив Волги не охватить было взором. Водная безбрежная гладь вплотную подступила к горизонту, и даже самые крупные пароходы словно бы теперь стали меньше, проходя этим нескончаемо широким руслом. К обрыву глухо доносился шум их плиц, вспенивавших воду. Нескончаемо, казалось, тянулись через реку большие красивые мосты. Их последние пролеты неясно прорисовывались в залиловевших предвечерних далях.
— Кончится война, честное слово, первым же делом проеду из конца в конец по Волге. Я ведь коренной донбассовец, не бывал на ней раньше, — любуясь рекой, воскликнул Медведовский. — Возьмем с женой каюту, будем смотреть в окно, читать, попивать чаек. Мечта, брат, а?
— Да ты ведь не женат.
— Ну, это не препятствие. Я думал, ты другое скажешь: если, мол, вернешься…
Сидели и беседовали над обрывом до самого ужина.
Однажды группа бойцов и командиров, чье излечение уже подходило к концу, была приглашена на оборонный завод. Правда, Широнина вначале не включили в их число — ходил он еще с трудом. Но Петр Николаевич упросил начальника госпиталя отпустить и его. Очень уж хотелось ближе познакомиться с тем, как живут и работают в тылу.
Старенький госпитальный автобус за полчаса доставил группу к проходной завода, где приглашенных уже ждали парторг и с ним несколько старых рабочих и девушки.
— Милости просим, дорогие гости! — приветливо пожал всем руки парторг, плотный, среднего роста мужчина в военной гимнастерке, на левой стороне которой темнели пятна — звездочки, овалы — памятки полученных и не надетых в будничный заводской день наград. Взоры девушек быстро скользнули по петлицам приехавших. Завод делал моторы для авиации, и каждая, наверное, искала летчиков среди раненых.
Почти два часа группа переходила из цеха в цех, от станка к станку. Лишь на короткие минуты отрывались от своего дела работавшие.
— Как там, на фронте, не ругают нас, моторостроителей?
— Сыночки, нет ли среди вас кого-либо из Ленинграда? Мужик мой там воюет.
Спрашивали, а сами на вопросы раненых отвечали скупо, сразу принимались вновь за работу, словно и точные, ловкие движения рук у суппорта и высоко звенящий напев резца, снимавшего стружку с детали, сами по себе являлись красноречивым ответом на все вопросы о тыле.
Почему-то Широнину больше всего запомнился шестнадцатилетний паренек из инструментального цеха. Это было уже во время перерыва. Он стоял у своего станка и завтракал. В одной руке — краюха черного хлеба, в другой — бутылка с молоком. Разбавленное водой молоко было таким синим, будто его налили в невыполосканную бутылку из-под чернил. Но паренек прикладывался к ней с таким аппетитом, так вкусно причмокивал, что думалось: уж не сливки ли там?
— Ну, как воюешь, товарищ? — спросил Петр Николаевич, явно желая этим обращением польстить юному инструментальщику.
Тот молодецки подтянулся, вскинул на Широнина загоревшийся взгляд быстрых глаз.
— Пока промашки будто не даем, товарищ лейтенант. Да вам там видней.
И этот горячий задорный взгляд и это слово «промашка» сразу с болью напомнили Широнину Петю Шкодина. С минуту молчал, всматриваясь в раскрасневшееся веснушчатое лицо.
— Да слов нет, не обижаемся, спасибо!
Разговорились. У паренька на фронте были отец и два старших брата… Петр Николаевич слушал его рассказ и был уверен, что обязательно последует и тот обычный вопрос, с которым приходилось встречаться уже не раз. Ну вот, так и есть!..
— Товарищ лейтенант, а почему таких, как я, не берут добровольцами на фронт?
— Видишь, вот у тебя и первая промашка, — засмеялся Широнин. — Да разве с такого завода можно тебя отпустить? Смотри, какое фронтовое задание выполнил. — Широнин кивнул на груду деталей, лежавших у станка. — А все тебе мало? Вот и тебе боевая команда, ее слушайся!..
В цеху заревела сирена, возвещавшая окончание перерыва, и паренек, смешно махнув рукой — э, мол, все вы так успокаиваете, — стал к станку.
В госпиталь вернулись к вечеру, и снова томительно медленно потянулись дни.
Медведовский со дня на день ждал выписки из госпиталя. Жадно следил по газетам за положением на фронтах. Единственный экземпляр «Правды», попадавший в палату, из рук Широнина сразу же и надолго переходил в руки его товарища.
19 мая «Правда» опубликовала ряд корреспонденции с фронтов. Были опубликованы и Указы Верховного Совета СССР об очередном награждении отличившихся в боях солдат и офицеров. Петр Николаевич прочел газету и передал Медведовскому.
Капитан развернул газету, стал читать и вдруг порывисто приподнялся с подушки, недоумевающе, оторопело посмотрел на Широнина. Тот лежал, уставившись безразличным, задумчивым взором в календарь на стене. Угловато очерченный профиль лица с задиристым ежиком волос, который взъерошивался из-под еще не снятой белой повязки, выглядел будто строже, чем обычно.
— Петр Николаевич, ты читал газету?
— Да, — не поворачивая головы, ответил Широнин.
— Указы?
— Не все, про ордена и медали читал.
Медведовский внезапно вскочил с кровати и закричал:
— Так что же ты лежишь, а? Что же ты дремлешь?!
Теперь уже оторопело посмотрел на Медведовского Широнин. А что же ему делать?
— Да Герои же… Герои Советского Союза все твои люди!.. Все двадцать пять!.. Понимаешь? И ты сам!.. На́, читай вот это.
Широнин взял газету, прочел стоявшие в указе первыми фамилии Болтушкина, Букаева, и словно туман застелил ему глаза.
— Прочти ты, капитан… Вслух… Прошу!..
Медведовский выхватил газету.
— Эх ты, слушай же… «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» гвардии старшему сержанту Болтушкину Александру Павловичу, гвардии красноармейцу Букаеву Ивану Прокофьевичу, гвардии старшему сержанту Вернигоренко Ивану Григорьевичу…».
Одно за другим звучали в госпитальной палате знакомые имена. Завершали составленный по алфавиту перечень: гвардии красноармеец Фаждеев Степан Петрович, гвардии красноармеец Чертенков Иван Матвеевич, гвардии лейтенант Широнин Петр Николаевич и гвардии красноармеец Шкодин Петр Тихонович.
Широнин слушал и был сейчас не здесь, не в госпитальной палате. Перед его взором снова ожили навсегда вошедшие в память лица, изрытая снарядами земля у беспаловского переезда, застланное дымом пожарищ село, сверкавшее вдалеке под солнечным лучом копье полкового Знамени…
…А этому Знамени предстояли еще большие, большие дороги. Придет час, и ветерок шевельнет его шелковые складки у вод Днепра, Буга, зардеет оно над Днестром и Дунаем, над Моравой и Дыйей, заплещется на площади городов, где звучит незнакомая, непривычная славянину речь. Но и там, в этих чужих краях, тысячи и тысячи людских сердец встретят это Знамя как весенний праздничный вестник новой желанной поры. А те, кто осенен этим родным Знаменем, запыленные, утомленные в нелегких походах и боях, где-либо на гористом перевале перед большим городом, название которого приходилось встречать только в книгах, присядут на перекур. Попыхивая синеватым дымком цигарок, будут с молчаливым любопытством смотреть на громоздящиеся далеко внизу кварталы, башни, старинные крепостные стены… Разговорятся, и старослужащие вспомнят об оставленных позади тяжелых рубежах войны, назовут среди них Тарановку и в наступившей минутной тишине произнесут имена бойцов первого взвода…
ЧЕРЕЗ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА Эпилог
Тихая, неглубокая река, отражая в своих чистых, незамутненных водах лазурное небо, светло-серебристые облака, аистов, перелетающих с берега на берег, тянется и тянется вдаль, по приволью необозримых густо-зеленых лугов. Мимо приветливых, живописно разбросанных по холмам селений, мимо шумных полевых станов, мимо тенистых, задумчивых рощ. В одной из них сквозь листву ясеней и вязов пробивается и реет над опушкой сизо-голубой дымок походного очага, и, если всмотреться, можно различить в глубине рощи несколько белеющих армейских палаток. К ним и направлялся я, чувствуя, признаться, волнение при мысли о предстоящей встрече.
Накануне вечером в штабе части мне сказали:
— Вы в первый взвод? В широнинский? Он сейчас далеко, не в городке, а на выезде…
Уже одно то, что штабной работник так привычно, как само собой разумеющееся, назвал первый взвод широнинским, не могло не тронуть сердце. И сейчас ранним утром, подходя к укрывшемуся в перелеске маленькому лагерю, я невольно вспоминал, когда и как впервые прозвучало для меня это гордое наименование. Тогда — а было это в пятьдесят втором году, — находясь в Москве, я обратился в отдел Министерства обороны, ведающий учетом награжденных: хотелось получить там хотя бы первичные биографические данные о бойцах, сражавшихся у беспаловского переезда.
…Помнится, как в большой комнате, чуть ли не половину которой занимала картотека, сотрудница отдела разыскивала учетные карточки двадцати пяти Героев Советского Союза. Я называл их фамилии по алфавиту, как они перечислены в Указе Президиума Верховного Совета, и рука девушки протягивалась то к одному отделению картотеки, то к другому, то к третьему… Когда же она нашла все и передала работнику отдела, тот, посмотрев, удивился:
— Позвольте, все двадцать пять из одного взвода? Выходит, широнинский взвод?
Да, на всех карточках было помечено — восьмая рота, первый взвод…
Но еще большую неожиданность пришлось испытать в тот день мне самому. Долгое время считалось, что в живых после памятного боя остался только Петр Николаевич — вернулся в свой родной Кирс, живет там и работает. И вдруг, знакомясь с карточками, увидел, что на четырех из них вписанное вверху слово «Посмертно» было зачеркнуто и сделана приписка: «Грамота вручена лично награжденному». Это были — Вернигоренко (Вернигора), Букаев, Тюрин, Торопов. Позже, списавшись, узнал, что Вернигоренко из своей Ново-Михайловки, куда он вернулся после войны, переехал на Дон, работает в шахте горным мастером, что Тюрин в своей Туле, что Торопов тоже дождался победы, однако вскоре после войны погиб от злобной бандеровской пули…
А первый взвод все эти годы жил и живет от одного поколения призывников к другому, как бы обновляясь вечной юностью своей Родины, достойно несет славное и легендарное имя широнинского…
Пройдя в рощу, я присел на пенек вблизи вкопанной в землю печурки и ждал, пока разыщут командира. На тропинке раздались шаги, и вдруг почудилось, что вот-вот сейчас из-за деревьев покажется сухонький, с поседевшим ершистым зачесом волос Петр Николаевич. Поднявшись, я шагнул навстречу. На поляну вышел ладно сложенный молодой офицер с загорелым лицом, смуглость которого как бы подчеркивалась и чуть намеченными смолисто-черными усиками и горячими темно-карими глазами.
— Лейтенант Бутковский, — представился он.
Узнав о том, с какой целью я пришел, он несколько смутился. А возможно, это мне так показалось, потому что смутился, пожалуй, прежде всего я сам, не зная, с чего начать разговор. Не с истории же взвода? Она мне была известна. Но не заговорить о ней тоже было нельзя, ибо они ведь деятельно продолжали ее, славную историю своего коллектива, эти быстроглазые, хваткие пареньки, что сновали вокруг стоявшего на поляне мощного ЗИЛа и собирались на выезд — в кузов складывались лопаты, щупы, приборы.
Лейтенант стал рассказывать. Я понимал его сдержанность, его нежелание показаться нескромным, перехвалить кого-либо… Но ведь многое видно было и мне самому… Почти у всех солдат на гимнастерках нагрудные знаки отличников — зримое свидетельство воинского мастерства, исполнительности, прилежности в учебе… Да и задание, доверенное взводу — провести разминирование, обуздать притаившуюся здесь на полях черную смерть, — тоже убедительно говорило о том, на каком счету в части первый взвод, о его дисциплине, высокой ратной подготовке и сплоченности… Из разных мест собрались в дружную боевую семью ее молодые сыны… Старший сержант Шепелевич из Бреста… Младший сержант Томашевский и рядовой Власенко приехали из Змиевского района, на земле которого когда-то сражались широнинцы… Рядовой Балакирев из Иваново, откуда осенью сорок первого года уходил на фронт Василий Грудинин, рядовой Джура Фальзиев из Средней Азии, благодатные сады и величавые горы которой были так близки сердцу Фаждеева… Многие солдаты из Чувашии — труженики этой республики шефствуют над частью…
Я записывал в блокнот фамилию за фамилией, хотя и знал, что к тому времени, когда будут читать повесть, здесь на вечерних поверках зазвучат и другие имена, может быть, тех, кто приедет сюда из Улан-Удэ или из Вологды, или с Николаевщины… Да, первый взвод был и остался таким же, словно представляющим всю нашу многонациональную Отчизну. А сам его молодой нынешний командир, кто он? Заканчивал среднюю школу в Орле, потом — Высшее Московское ордена Ленина училище имени Верховного Совета РСФСР… Это в прошлом — прославленная школа имени ЦИК СССР, почетным курсантом которой навечно зачислен Владимир Ильич Ленин. На выпуске Александру Бутковскому вручили диплом с оценкой «отлично», своей пожизненной профессией он избрал военное дело…
Однако наш разговор надо было заканчивать. Солдаты усаживались в кузов. Водитель взялся за руль и посматривал на лейтенанта, ожидая его команды. В путь! Машина выехала из леса, пересекла луг, направляясь к старому руслу, прогрохотала по настилу моста… И этот обыденный деревянный мост, один из тех, какие любил строить Василий Михайлович Павлов… Здесь, вблизи старого, заросшего бурьяном русла, к которому вплотную примыкало обширное, засеянное целительной мятой поле, воинам предстояло пытливо прощупать каждую пядь земли. Здесь дважды — сперва в оборонительном, а потом в наступательном бою — не на жизнь, а на смерть схлестнулись противоборствующие силы… Армия фашистских захватчиков и армия, самоотверженно отстаивающая родную советскую землю.
Солдаты надели наушники и медленно пошли вдоль поля меж цепких кустов жимолости, чутко прислушиваясь, не взвоет ли зуммер миноискателя, сигнализируя об упрятавшихся в землю коварных и яростных молниях…
Бой был, видать, жаркий. Вскоре на травянистом, окаймленном ивняком пригорке стала расти и расти зловещая груда… Заржавевшие ручные гранаты… Неразорвавшийся снаряд немецкого орудия… Головка от авиабомбы… Несработавшая сигарообразная мина… Безобидный ключ от телеграфного аппарата, снаряд, тут же ствол винтовки, которую кто-то, безымянный, так и не успел разрядить… И патроны, патроны… Отстрелянные гильзы и неотстрелянные… В обоймах, дисках, россыпью…
Солдаты осторожно откапывали и извлекали на свет этот начиненный порохом и тротилом металл. И наверное, не только мне, а и многим из них невольно представилась в эту пору другая, такая же иссеченная железом земля — там, у Тарановки…
Группа подрывников осторожно перенесла все найденное в машину и увезла, чтобы уничтожить далеко в стороне от селений.
Взвод вернулся в лагерь.
Раздумчиво потрескивает костер. Вокруг огня в тесный кружок собрались солдаты. Где-то за речкой отдаленным эхом войны раздался глухой взрыв, и вновь над вечереющей рощей, над лугами благословенная тишина. Киевлянин рядовой Кирсанов негромко запевает любимую всеми песню:
…Травы полевые шелестят, Низко нагибаясь до земли. Двадцать пять их было, двадцать пять, Но пройти фашисты не могли…Это хранимая признательной памятью народа песня о широнинцах, о боевых походах отцов, о сыновьях, принявших из их рук оружие победы, о революционной преемственности поколений.
— А вы были в нашем музее? — спросил, когда умолкла песня, лейтенант. — Обязательно зайдите… Откуда только ни приезжают, чтобы его посмотреть…
Да, конечно, я буду и в музее…
Большое светлое здание. Его высокая черепичная кровля, если подходишь к военному городку, видна издалека. Здесь, в просторных залах, бережно и вдумчиво собраны драгоценные реликвии ратной славы гвардейцев, памятные знамена, схемы боевых операций, документы, повествующие о пройденном незабываемом пути.
На стенах портреты питомцев части, Героев Советского Союза, удостоенных этого звания в боях под Тарановкой и Синельниково, на берегах Днепра и Дуная, на улицах и площадях Будапешта.
Сотни и сотни фотоснимков. Прошлое и настоящее выступает здесь в неразрывном единстве.
…Широнин гостит в своей родной части; проходит перед строем нынешнего первого взвода. Он же, Петр Николаевич, сфотографирован рядом с Валентином Павловым — сыном Василия Михайловича. Валентину довелось служить в том же взводе, где служил его отец.
Переписываются с воинами части и не раз гостили у них сыны Болтушкина, Нечипуренко, Скворцова, Зимина и других героев, в чьих семьях, как самая заветная святыня, хранятся Грамоты Президиума Верховного Совета СССР о высокой награде Родины. А Грамота Героя Советского Союза Чертенкова торжественно передана на вечное хранение железнодорожникам Улан-Удэ, где трудился до своего ухода на фронт Иван Матвеевич…
Обо всем этом с волнением узнают все, кто входит под своды этого здания и слушает экскурсовода, всматривается в собранные здесь памятные наглядные свидетельства неугасимой ратной славы…
…Вернигоренко приехал навестить гвардейцев и преклонил колени перед боевым Знаменем части, целует его шелковое полотнище.
Вот книга генерала Людвика Свободы «От Бузулука до Праги», присланная из Чехословакии… Не забывается, крепнет боевое содружество!.. Вот приветствие, с которым обратился к солдатам и офицерам в День Победы городской комитет Будапешта… Благодарные, теплые слова…
А это фотографии беспаловского переезда, какой он есть сейчас. Мимо укрывшегося в зелени сада приветливого полустанка мчится могучий электровоз… Недалеко от железнодорожного полотна белеет памятник погибшим бойцам первого взвода…
Я ходил по залам музея вместе с ветеранами части, приехавшими сюда в эти весенние дни из Москвы и Северодвинска, Душанбе и Донбасса, чтобы встретиться с молодыми воинами. А в середине дня под высокими сводами вдруг заалели пионерские галстуки. Это вошли в зал школьники, много школьников. И в том благоговении, в той задумчивой сосредоточенности, с которой они всматривались в черты героев, как бы тоже утверждалось бессмертие подвига.
1953—1967
Примечания
1
Полевая армейская хлебопекарня.
(обратно)2
Говорить! Немедленно! Все говорить!.. (нем.)
(обратно)3
Батальон аэродромного обслуживания.
(обратно)4
Пункт сбора донесений.
(обратно)5
Внимание, мины (нем.).
(обратно)6
Только для немцев (нем.).
(обратно)7
Пункт сбора донесений.
(обратно)8
Кипяток (укр.).
(обратно)9
Постель (укр.).
(обратно)10
Это ты здесь, Макс? (нем.)
(обратно)11
Кто ты? (нем.)
(обратно)








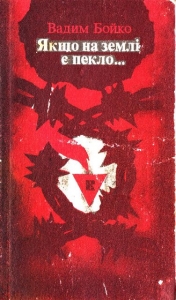


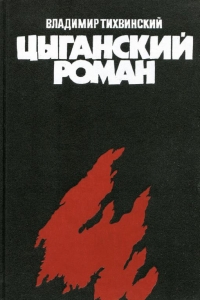
Комментарии к книге «Ключи от дворца», Юрий Лукич Черный-Диденко
Всего 0 комментариев