Памяти защитников и освободителей Крыма
Офицеры-товарищи
Лето 1943 г. Туапсе
Они узнали друг друга с полувзгляда, в доли секунды, ещё даже не разглядев как следует. Но без малейшего намёка, — даже не дрогнула ни единая жилочка в лицах, — изобразили полное неузнавание и соответственное равнодушие. Хотя оба они, и Войткевич, и Новик, встречи ждали, — даже мечтали, чтобы военная судьба предоставила ещё одну возможность встретиться, посмотреть друг другу в глаза, поговорить…
Но не в такой ситуации, не в коридоре лабаза дореволюционной постройки, кое-как приспособленного под тюрьму Смерша. Тюрьму, по коридору которой они шли под конвоем дюжих сержантов в разные стороны, но к одинаково неопределенному будущему.
Знали они друг о друге больше, чем спецслужбы СССР и Германии, вместе взятые, — по крайней мере, больше, чем было зафиксировано в документах на русском и немецком языках. Хотя причины неполноты информации в службах были весьма различны.
С Яковом Войткевичем всё было вообще и сложно, и неоднозначно. Начиная хотя бы с фамилии. Она была не та, с которой двенадцатилетний Яшка сбежал из родительского дома в Одессе и прибился к приморской шпане. И не та, под которой он чалился, а потом и всерьёз перевоспитывался в макаренковской колонии, затем учился и ушёл в армию. Вообще не настоящая, а выдуманная. Он, тогда младший командир погранчасти в Забайкалье, по одному ему известной аналогии назвал её весной 1934 года [1], когда встал вопрос о выдаче новоиспечённому секретному агенту ОГПУ чистых документов.
Где-то в архивах эти все эволюции непременно отражены, но, пожалуй, Якова мало волновало, когда и как всё это распутается. Гораздо больше занимал его вопрос, как и почему его до сих пор минует частый бредень чисток и проверок, — бредень, который раздирал и просеивал чекистский аппарат все эти годы. Пострашнее ведь, чем в собственно армии, перетряхивали все ступени «важнейших органов». С важным, впрочем, отличием: армейские, перелетая на пару-тройку ступенек в командной лестнице вверх, всё-таки были в главном, в человеческих качествах, не хуже тех, кто исчез, — хоть и не обладали, в большинстве своём, ни знаниями, ни умениями для новых высот. А вот те, кто приходил на смену «орлам» Ягоды, затем Ежова, а особенно многие из тех, кто трудился сейчас под крылом Лаврентия Павловича, были в главном — хуже.
Во всяком случае, все, с кем приходилось сталкиваться, прямо или косвенно, Якову Осиповичу почти за десять лет, каждый раз оказывались хуже предыдущих.
Те, кто с ним «работал» в Забайкалье, кто сумел доказать ему, бывшему малолетнему урке, затем воспитаннику трудовой колонии, чуть позже — комсомольцу и студенту, а в те годы образцовому бойцу погранвойск РККА, важность и сложность, но и увлекательность агентурной работы, — были из лучших. Как понял со временем Яков, они были из «старой гвардии», и вряд ли кто из них пережил волны больших чисток.
Двойная жизнь Войткевича продолжилась в Одессе. Там никто не узнал его после десятилетней отлучки, которая пришлась на годы физического роста и взросления. Яша совмещал успешную учёбу в ОИПП с игрой за футбольный «Пищевик» и с предписанной кураторами относительной «свободой». Нарабатывал «легенду». Так вот, те, кто «вёл» его в Одессе, были работниками уже из новой волны, явно похуже прежних. Но хоть более-менее порядочные мужики, с подготовкой, пониманием задачи, знанием элементарных правил работы с агентурой. Кстати, все поголовно, с кем Яков контактировал, были не одесситы, часть — из Ленинграда и Москвы, якобы как сосланные на периферию. Хотя и в разведывательном, и в контрразведывательном плане Одесса, равно как всё Северное Причерноморье и Крым, была очень даже непериферией.
В Ровно, куда агента Войткевича, легально — молодого специалиста, направили «красным директором» на пищекомбинат, собранный из полудюжины мелких и средних фабрик, брошенных предусмотрительными владельцами или отнятых у политически неграмотных, Якову Осиповичу пришлось пережить две смены кураторов. Первую — пережить буквально, т. е. физически, — расстреляли их, бедолаг (хотя у этих бедолаг к тому времени руки были уже замараны кровью), а вторую — скорее тактически.
Впрочем, этих, последних довоенных (у которых руки были в крови уже по локоть, и зачастую в крови невинной), он, лично и непосредственно, не узнал. Может, потому и дожил аж до лета 1943 года, что не сунулся тогда восстанавливать связь, утраченную с арестом его предыдущего ровенского куратора. Остерёгся — потому что уже составил представление о них по делам, которые он видел сам и о которых узнавал от агентуры.
Агентуры немецкой разведки, в которую он и внедрился на завершающем этапе долгой своей операции. То есть как двойной агент…
Но прежде чем мы продолжим представлять главных героев этого повествования для тех, кто не знаком с предыдущей нашей книгой, «Разведотрядом», расскажем о нескольких событиях, отделённых от встречи в тюремном коридоре годами войны. Но и днями — тоже. Будем считать, что это
Вместо пролога
1. Совещание в Ставке Гитлера, 23 июля 1941 г.
…Редер : Меры, предпринимаемые против русских на Чёрном море, следует признать недостаточными. Минирование подходов и непосредственно Севастопольской бухты силами авиации не дают ожидаемых результатов. Крейсеры ЧФ могут вот-вот повторить бомбардировку нефтехранилищ Констанцы…
Геринг : На этот раз им не удастся даже приблизиться к побережью Румынии. Авиаразведка контролирует все их манёвры в северо-западном секторе.
Гитлер : А ночь, а дождь, а противодействие их авиации?
Геринг : Не стоит преувеличивать…
Гейдрих : Пока что они находятся под воздействием нашей дезинформации. Они ожидают высадки крупного десанта в Крыму — и не предпримут активных действий.
Редер : Мы настаиваем на необходимости создания на Чёрном море группировки кригсмарине, для эффективного противодействия ЧФ. Нельзя зависеть от погоды и вечно надеяться на успехи дезинформации.
Гитлер : И как вы себе это представляете? Турция пока что не готова открыть проливы.
Редер : Дунай уже контролируется нами. Перебросим комбинированным способом и по Дунаю бригаду подводных лодок и флотилию торпедных катеров, — я уверен, что этого будет достаточно.
Гитлер : Вы полагаете, что ваша «комбинированная операция» совершится быстрее, чем сухопутные войска превратят Чёрное во внутреннее море Германии? Дёниц, что скажете?
Дёниц : Каждый потопленный транспорт противника сохраняет жизнь сотням, если не тысячам, немецких солдат. Мы должны прямо сейчас дать задание проработать транспортную операцию.
Гитлер : Давайте-давайте, но не будем отвлекаться от главного, от Атлантики и Северного фланга. Лодки? Шнельботы? Очень хорошо. Пусть на Чёрном море этим займутся союзники. Мы же, кажется, строили торпедные катера и для болгар, и для румын?
Редер : Так точно, мой фюрер. На наших и на голландских верфях всего восемь катеров серии S.
Гитлер : И подготовьте меморандум дуче: наверняка он найдёт хоть с полдюжины своих хвалёных субмарин для переброски на Чёрное море. Катеров, кстати, тоже…
2. 19 января 1940 г., Париж
Премьер-министр Франции Даладье обратился с просьбой к генералу Гамелену и начальнику морского Генштаба адмиралу Дарлану: «Подготовить свои соображения о предполагаемой операции по вторжению в Россию с целью уничтожения нефтяных источников».
При этом одним из вариантов действий, направленных на срыв снабжения Германии нефтью из Советского Союза, рассматривался вопрос поддержки освободительного движения народов Кавказа.
И в его рамках, по инициативе командующего «восточным оперативным фронтом» генерала Вейгана, в составе армии, дислоцированной во французской Сирии, планировалось формирование грузинского батальона.
3. Сентябрь 1941 г. Крым. Якорная бухта
…Над «изделием» этим Хмуров трясся, как над собственным дитятей.
С виду — обычное «изделие 53–38 ЭТ». Но разрабатывалось оно спецгруппой профессора (если по-военному, то старшего военспеца) Павла Григорьевича Бреннера по специальному поручению «свыше» и в режиме секретности, чрезвычайной даже для секретного «Гидроприбора». И, следовательно, иначе как «изделием» не называлось. Тем более, за пределами завода.
Впрочем, на самом заводе после самых первых, модельных ещё, испытаний, как-то само собой укоренилось и другое название: «Вьюн». Потому как ходило это сверхсекретное «изделие» зигзагом, шло синусоидами и ещё бог весть какими кривыми, ориентируясь, вроде бы, на шум корабельных двигателей и винтов, но, может, и ещё на что-то. И хрен от этого «речного угорька», «Вьюна» то есть, увернуться неповоротливой артиллеристской барже, прыткой десантной, вроде немецкого «Зибеля». Поди угадай, куда он вильнёт через секунду. А для «работы» с конвоем — а уже наслышаны были спецы «Гидроприбора» и морячки, что транспортники теперь всё больше большим и организованным стадом да под охраной всяких там фрегатов и даже крейсеров, «конвоем», значит, ходят, — так ему вообще цены нет.
И вот с «вьюном» у товарища Хмурова, Лёвки-Левши, была любовь особая. Хоть и не первая. Лёвка-Левша вообще любил всякие новинки в своих «минно-торпедных средствах», чтобы было куда приложить своё творческое «зубило». А тут Москва такую задачу поставила «Гидроприбору», что «зубилу» его и покоя не было. Потому как, одно дело, заставить модель в лабораторной ванне плескаться, а другое — готовое «изделие» в море выпустить. Это всё равно, что корабль на воду спустить. И не так уж важно, что не гордого красавца со стапелей, а полуторатонную болванку с «решётки». Не простую ведь болванку и не просто быстроходную, а которая такого красавца если догонит, то…
Так что и дневал, и ночевал в цеху местный Левша. И даже вот в последние пять минут от точки «броска», — то есть точки в море, откуда шлёпнется она на воду и побежит на сорока двух узлах, то есть куда быстрее скорого поезда, к бонной мишени, — и в эти минуты кряхтел воентехник Хмуров над мудрёной головой «Вьюна». Потому как мечтал, чтобы, ориентируясь на шум корабельных двигателей и немаленькую массу настоящего корабля, не «купился» «Вьюн» ни на кавитационный след, ни на ложные шумовые мишени, ни на разрывы от заградительного огня и глубинных бомб, а прямиком, то бишь, зигзагом — да под брюхо вражине. Как говорится, так, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия под присмотром товарища Сталина — и, как надеется товарищ П.Г. Бреннер, под присмотром Особого отдела…
4. Лето 1943 г. В шестистах метрах над Крымом. Борт «Ли-2»
Забираясь в планшет комиссара госбезопасности, Яков почти не сомневался, что найдёт там что-нибудь нелестное о своей особе, какую-нибудь «телегу», груженную чекистской бдительностью. Но находка превзошла все его ожидания. «Что за…?» — подобрал лейтенант Войткевич фотографию, вирированную в рыжеватом тоне и с зубчатым кантом, выпавшую из оккупационной газеты «Голос Крыма». Такие фотокарточки раньше в художественных фотоателье, где-нибудь подле пляжа, печатали: «Привет из Ялты, Гурзуфа…» Яков перевернул фотографию. Так и есть: «Jewpatoria»… — было подписано с обратной стороны по-немецки, знакомым убористым почерком: «Am 7. Juli 1943».
«То есть?!» — ошеломленно уставился на надпись Войткевич.
«Недели две назад…» — с убийственным хладнокровием документа подтверждала подпись.
Неожиданное воскрешение его бывшего «куратора» от абвера ошеломило Якова…
5. Туапсе. Лето 1943 г. Штаб КЧФ
…Продолжил начальник Смерша уже в коридоре, без посторонних ушей:
— Потащат ли Бреннера немцы к себе или тут склонять к сотрудничеству начнут, за этим и мои ребята присмотрят. А ты своих готовь к заброске в Крым… — Полковник Овчаров остановился и, морщась от табачного дыма, присущего Гурджаве, как фимиам языческому истукану, потянул начальника разведотдела за локоть. — Немцы «Вьюна» не должны получить, даже если выяснится, что это просто учебная болванка. Может даже, особенно поэтому.
— Почему это «поэтому»? — нахмурился Гурджава.
— Потому, что с обнаружением инженера Бреннера поиски содержимого головы «Вьюна»… — снова постучал себя по лбу пальцем полковник Овчаров, как и в первый раз, когда речь зашла об «умном изделии». — Поиски на этом не закончены. Нами — так точно не закончены. А вот немцами… — он вздохнул. — Хотелось бы, чтобы они, не достав ни «Вьюна», ни нашего Бреннера, угомонились.
— Ну так в чём дело? — мрачновато усмехнулся полковник Гурджава. — Торпеду найти и взорвать разведгруппу пошлём, Бреннера сами расстреляете. И ни нам, ни немцам.
— Ты меня не понял, — снова остановился начальник Смерша. — Нами — не закончены, потому что инженер Бреннер — не единственный и даже не самый главный, как выясняется, творец «Вьюна»…
И не свой, и не чужой
…Яков Осипович хорошо сыграл отведённую ему роль в Ровно. Не так чтобы уж слишком выделяясь профессионально в лучшую сторону из прочих «назначенцев» — на руководящую работу в освобождённые области Западной Украины (равно как и в Белоруссию, в Прибалтику) направляли людей преимущественно квалифицированных и с деловой хваткой, — он заметно выделялся свободой поведения. Алкоголь в этом был на последнем месте; а вот карты, музыка, прекрасное знание языков, безбоязненные разговоры и куртуазность не могли не привлечь внимание вербовщиков.
Главным из них был Карл-Йозеф Бреннер, кадровый немецкий разведчик и большой любитель оперы, который умело пользуясь либеральным режимом в духе сначала боевого содружества СССР и Германии против зарвавшейся Польши, а потом и Московского договора, часто посещал Волынь и Полесье. И к осени 39‑го Яков, окончательно завербованный по классической схеме «медовой ловушки» с активным и заинтересованным участием фольксдойче Инги, стал де-факто резидентом германской разведки по кличке Spiller, Игрок.
Он к тому времени уже узнал, — и своевременно информировал об этом своего куратора в областном управлении НКВД, — почти всю «старую» агентуру; а в течение последующих полутора лет заметно расширил вражескую агентурную сеть. И усилий от него это требовало тем меньших, чем активнее «работали» специальные товарищи из последней предвоенной чекистской смены.
Особенно страшно было в последнюю предвоенную зиму, холодную и снежную. На «освобождённой и воссоединённой» земле шла чистка, и к весне край замер, оцепенел.
Брали по доносам и внешним признакам, по национальному и образовательному принципу, по наветам и просто так, за компанию, и для выполнения плана.
Брали зажиточных и умелых за то, что они умелые и зажиточные.
Брали тех, кто вдумчиво расспрашивал о преимуществах колхозного строя — за то, что слишком умные. Брали тех, кто не понимал, почему надо отдавать своё кровное в общий котёл, из которого и похлебать, может, не придётся — да ещё и благодарить за это. Их — за тупоумие.
Бывших харцеров — за харцерство, бывших пластунов — за пластунство.
Брали членов компартии Западной Украины, КПЗУ, чтоб не задирали нос, и кружковцев «Просвиты», чтоб не сомневались, что лучшие украинские писатели уже назначены советской властью.
Некоторым полякам, правда, разрешали выехать без гроша за пазухой в оккупированную дружественным вермахтом Польшу, чехам и словакам — соответственно, в протектораты Богемии и Моравии, а немногим всё осознавшим и ни в чём не замешанным, а порою и давшим подписку о сотрудничестве , евреям — в Палестину. «Титульным» же украинцам, счастливчикам, которым не поставили свинцовую примочку в Корце, Костополе, Остроге или Дубно, предстоял долгий благостный путь на бескрайние сибирские просторы.
Но вот выявленную Войткевичем немецкую агентуру чекисты, нацеленные на искоренение антисоветских и националистических элементов , почти не трогали, разве что в том случае, когда фигурант попадал под общую гребёнку массовой зачистки. Сначала — вроде как до поры до времени, ожидая руководящих указаний из Киева. Потом — от стремительности кадровых чисток в аппарате областного НКВД (и обкома партии), в результате которых исчезали ответственные люди. Попадали в застенки или просто к стенке, не успев, не пожелав, а более всего — не сумев передать дела.
И, наконец, потому, что Войткевич, потеряв последнего «своего» куратора, принял решение действовать самостоятельно. Не идти на смертельный риск, раскрываясь перед «новой волной», не ждать быстрых и справедливых решений от бериевских выкормышей, — и не обрекать на верную погибель в лагерях для «чесеиров» годовалую дочурку и молодую жену. Понял он, что до нападения Германии, которое наверняка приведёт пусть ко временной, но оккупации западных земель, остаются считаные недели. И когда получил 19 июня 41‑го извещение от геноссе о точном времени вторжения и заданиях агентуры, выполнил свой долг.
Ингу он убивать не собирался — только допросить, выжать из неё то, что не знал сам об агентуре и подполье. Да так получилось, что и не убил — она погибла от пули своей напарницы-любовницы, не успев ничего сказать; а эту «тишайшую» Марту Яков убил, не раздумывая, «на автомате», в порядке самозащиты. Затем в течение долгого июньского дня и части дня последующего навестил всех агентов, кого знал и считал особо опасными, вызывал их на явки и расстреливал.
Следующим этапом была эвакуация. В служебную директорскую эмку поместились жена с годовалой Валечкой и их дядя, одноногий, но достаточно молодой и разворотливый Йося Остатнигрош, заместитель Якова Войткевича по пищекомбинату.
Взяли только самое необходимое, помимо личных вещей и документов: печать, главную книгу и кассу пищекомбината, и выехали со всем этим в Киев.
В субботу главк, что естественно для того времени, работал, и Войткевич, вовсю используя, где надо, мощное мужское обаяние, где — наглость, артистизм и умение убеждать, а при случае и отменные навыки подделывать подписи, — за полдня уволился, сдал печать, документы и кассу.
В 21.45 отправлялся поезд на Свердловск. Наглости проскочить в кабинет начальника киевского вокзала, артистизма, двух батонов сырокопчёной колбасы и сувенирного флакона «Полесской» плюс, конечно, полная стоимость билетов, — хватило на два места, купе в литерном вагоне. Прощание с перепуганной и заплаканной Софочкой и спящей дочкой заняло не больше пяти минут — поезд уже отходил. С бледным и всё понимающим одноногим Йосей, которому Войткевич доверил семью на всё грядущее лихолетье, уже ничего не обговаривали напоследок — не было необходимости. Переговорили в дороге.
…Эмка так и стояла перед вокзалом. Яков Осипович, осторожно выруливая и притормаживая у трамвайных путей, проехал полпути к военкомату, остановился у тёмного скверика и переоделся. Ещё битый час просидел в машине, обдумывая произошедшее и грядущее и сосредотачиваясь. Затем подкатил поближе к бессонному военкомату, вышел, одёрнул гимнастёрку, надел армейскую фуражку и уверенным шагом направился внутрь.
— Лейтенант Войткевич для получения назначения прибыл!
* * *
Известие о начале войны встретило свердловский поезд уже в Москве. Но расписание движения ещё не нарушилось и не изменилось, и поезд отправился дальше, простояв только положенные минуты.
Софочка, конечно, плакала и только сейчас, после услышанных сообщений и слов пошедшей пятнами от волнения проводницы, окончательно поверила словам мужа. Хотя верила Войткевичу всегда и с первой минуты знакомства, и больше, чем кому бы то ни было, — но всё же предупреждение о грядущей большой войне по-настоящему принять не могла.
Не одна она, впрочем. Даже в Калининском военкомате Киева за считаные часы до получения тревожного оповещения царила вальяжная и сонная атмосфера, и лейтенанту Войткевичу пришлось чуть ли не покомандовать старшими по должности и по званию, чтобы они выполнили минимум требуемого. То есть отметили его прибытие 21 июня, пристроили эмку в служебном дворе (а утром она уже ой как понадобилась), выделили ему топчан в дежурке — мол, утром придёт зам военкома и даст указание о месте назначения. А пока можно отдохнуть…
Отдых, конечно, требовался, — с утра на ногах и за рулём, и сколько всего было, — но смог Яков Осипович подремать всего пару часов. Потом, когда первые «хейнкели» с грузом бомб и мин подлетели к Севастополю, а в военкомат полетели первые срочные распоряжения, поднялся и уставился в тёмное окно, выходящее на запад.
Ещё ничего не было видно и слышно, до первой бомбёжки приграничных аэродромов, укрепрайонов и железнодорожных узлов оставалось больше часа, но спать уже не было никакой возможности. Войткевич смотрел на небо, где только-только начали меркнуть щедрые летние звёзды, смотрел и будто видел, как всё начинается…
Страшно всё начиналось. Ни одна война так страшно не начиналась. И самое страшное в этом начале — железная планомерность с одной стороны, планомерность, фактически не нарушаемая обычными армейскими неполадками и недоразумениями, и трагическая разрозненность усилий со стороны противоположной. Такая, что у тысяч и тысяч опытных командиров и бойцов за считаные дни исчезала воля, вера и надежда, а взамен выползало нечто мягкое, скверное, безразличное.
…А потом уже и на Киев упали первые сотни бомб. И режим работы военкомата сразу же изменился. К девяти часам, когда в трехстах километрах к западу третья волна бомбардировщиков крушила бетон и сталь Владимир-Волынского укрепрайона, лейтенант Войткевич уже строил взвод наскоро экипированных призывников.
К одиннадцати утра девятка «Ю-87» выстроилась в карусель от Мизоча до Здолбунова — и была неожиданно для пилотов встречена совсем не целеуказаниями, а хоть и редким, но прицельным зенитным огнём. Так и не дождавшись сигнальных ракет, пикировщики принялись долбить что попало в бомбовый прицел — и важная узловая станция хоть и пострадала, но работала ещё четыре дня. А в Киеве первые полуторки с неестественно возбуждёнными, равно как и перепуганными красноармейцами, катили к Караваевым дачам, туда, где формировался новый воинский эшелон. На третий день войны лейтенант Войткевич уже поднимал бойцов в контратаку возле Каменца. И даже представить себе не мог, что где-то в трехстах вёрстах на северо-запад жиденькую колонну легковушек и фургонов НКВД, выбиравшуюся из Ровно, застукает крыло «лаптёжников», не нашедших условленный сигнал для бомбёжки. Возвращаться с грузом бомб и нерастраченным боезапасом героям люфтваффе не хотелось — а тут вроде как неплохая добыча. И пилоты «Ю-87», как на учениях, «отработали» цель, да так, что расколотили и подожгли все автомашины. И в числе прочих документов особой секретности и важности, с дымом улетели в бесстрастное полесское небо все доносы и сигналы, все описания действительных и сомнительных подвигов агента ИНО НКВД «Везунка», равно как и его многочисленные сообщения и рапорты, с конкретикой, об активности германской разведки…
А у Якова Осиповича последовали затем бои под Одессой, первая лёгкая рана и первая лёгкая контузия. В середине сентября — Ишуньские позиции, первый орден, потери, отступление, третий кубик в петлицу, сводная рота морпехов, затем разведрота батальона морской пехоты.
Вновь отступление — и контратака с Керченского полуострова, во спасение осаждённого Севастополя. Наступление ради того, чтобы вытянуть на себя из смертельного полукольца вражеского окружения города-крепости немецкие самолёты и танки, вызвать на себя удары умелых, обстрелянных и стойких вражеских пехотинцев образца сорок первого. Наступление, которое захлебнулось западнее Старого Крыма.
А на острие красноармейской контратаки, даже чуть дальше на запад, уже в ближнем тылу «победоносных германских войск», оказалась его разведрота, внезапным манёвром противника отрезанная от своих.
И не она одна. И посчитали у наших, что никто уже с той стороны не вернётся…
* * *
…Они узнали друг друга с полувзгляда, в доли секунды, ещё даже не разглядев как следует. И без малейшего намёка, даже не дрогнув ни единой жилочкой в лицах, изобразили полное неузнавание и соответственное равнодушие друг к другу…
Старлей Саша Новик был не только на десять лет младше Якова Осиповича, но и прошёл совершенно иной боевой путь: всё открыто, однозначно и легально. Более того, начинал он в славных рядах НКВД… И вряд ли когда-то предполагал, что может оказаться в ведомственной тюрьме в качестве арестованного. Но об этом позже.
* * *
…А Яков Войткевич всё-таки вернулся, и не один, хотя их встретили не объятия однополчан, а пулемётный огонь, — а тут и немцы, опомнившись от внезапности дерзкого прорыва, накрыли остатки разведроты из миномётов; к счастью, это заставило бравого командира «наших» скомандовать своим пулемётчикам прекратить огонь.
Контуженого Войткевича отправили в госпиталь, немного затем помордовали в Особом отделе, но выпустили с минимальными потерями. Уж слишком всё было очевидно, и все уцелевшие бойцы свидетельствовали о своём командире однозначно. Так что весну 42‑го Яков Осипович встречал уже старшим лейтенантом на Ак-Монайских позициях и командовал ротой, собранной из весьма разношёрстной и в известной мере сомнительной публики.
В её комплектации — так и хочется сказать: хоть в чём-то, — тогдашнее руководство дивизии опередило общевойсковые тенденции.
А когда немцы сосредоточенным ударом прорвали фронт на Керченском полуострове и началась паника, приведшая к небывалым потерям, Яков повёл свою «особую роту» (название «штрафная» появилось чуть позже, после выхода Приказа № 227) не на восток, в погибельную сумятицу отступающих частей и соединений, а на запад, в тыл врага. И, отбиваясь от преследователей, румын и «добровольцев», через почти полторы сотни километров прибыл в расположение партизанского отряда в горнолесном массиве западнее Судака. И затем уже вместе с Калугинским партизанским отрядом прошёл между Демерджи и южным склоном Чатырдага на Бабуган-яйлу.
К тому времени Войткевич уже командовал отрядной разведкой, отобрав, в дополнение к своим проверенным в боях морпехам и четырём младшим командирам из разбитых ещё в сорок первом частей, дюжину местных пареньков — не бог весть каких бойцов, но шустрых, знающих местность и умеющих ходить по лесу и по горам.
В боевую работу отрядной разведки входило и установление контактов с подпольем. Организованным, оставленным в городах и поселках соответствующими горкомами и райкомами (оно оказалось, к счастью, не всегда, не везде и не полностью вычищенным немецкой и румынской контрразведкой), и неорганизованным — с просто нормальными людьми, которые к тому времени уже очень хорошо прочувствовали все прелести оккупации.
На явочной квартире у «неорганизованной», но настоящей патриотки Марии Казанцевой, во Фрунзенском, они и встретились впервые с Александром Новиком.
В первый, но не в последний раз.
Выглядело это примерно так…
И не чужой, а вроде бы и не свой
— Хотите чаю? — впустив в дом полуночных гостей, назвавших пароль, с равнодушным церемониальным гостеприимством предложила хозяйка и, не дождавшись запоздалого «Отчего бы и нет?» Новика, вышла на кухню.
Послышался частый стук поршня, и к золотистому свету керосиновой лампы добавилось бледное голубое зарево, — свет огня керогаза из дверного проёма.
— Итак? — вернувшись и поставив вазу с яблоками на стол, спросила «графиня», Мария Казанцева, точно приступая к экзаменам.
Подумав немного, Саша Новик встал.
— Командир 1‑й разведгруппы 2-го разведотряда штаба флота старший лейтенант Новик, — представился он и коротко кивнул, будучи «не по форме».
— Старший лейтенант НКВД? — неприязненно уточнил чей-то голос из-за спины. — То есть, не краснофлотский, а краснопёрый, прошу прощения… Товарищ старший лейтенант?
Голос Новику не понравился. Было в нём что-то развязное, с блатным душком, знакомым с курсантской поры, когда караульную службу курсанты школы НКВД несли в ведомственной тюрьме. Саша внимательно посмотрел на хозяйку, словно надеясь увидеть в чёрных агатах зрачков, что ждёт его позади, за спиной, но ничего не смог вычислить.
— Допустим… — наконец, проворчал Новик и, обернувшись, наткнулся взглядом на дуло ППШ в дырчатом кожухе, наведённое на него с ремня, переброшенного через плечо в чёрном бушлате.
— А ты кто таков, морячок? — хладнокровно поинтересовался у обладателя автомата старший лейтенант и демонстративно опустился на стул.
— Командир особой роты 7‑й бригады морской пехоты лейтенант Войткевич… — ответил вместо автоматчика такой же, до тридцати, как и Новик, разве чуть постарше, крепкий мужик в армейской гимнастёрке с распахнутым воротом, в котором проглядывала чёрная, — морских пехотинцев, — тельняшка.
Скривив насмешливую гримасу, лейтенант Войткевич выдернул из-под застигнутого врасплох Кольки-царя табурет и уселся напротив Саши.
— Ну… как лейтенант с лейтенантом пить я с тобой не буду… — выложил он на стол командирский куцый наган. — Потому как я строевой командир, а ты легавый. Тем не менее прежде чем решить, что с вами делать, спешу представиться — Яков, для своих Яша, но насколько вы свои — нам ещё предстоит выяснить. Так что, для вас Яков. Можно просто, Яков Осипович…
— Ну и какое отношение вы имеете к партизанам?.. — спросил Новик, иронически покосившись на матросов и морпехов, объявившихся как чёрт из табакерки: кто из-под столовой скатерти с бахромой, кто из-под кровати в соседней комнате, а один так даже скрипнул дверцей платяного шкафа в полутёмной прихожей…
Ответа не последовало.
— Каким боком вы к партизанам?.. — переспросил Новик и выложил со своей стороны на стол табельный «ТТ». — А?.. Яков Осипович?
— Самым непосредственным… — не сразу и как-то лениво отозвался «строевой».
«Даже не обернулся на своих… — неохотно отметил Саша слаженное, будто отрепетированное, явление пятёрки чёрных бушлатов. — Шустрые какие, сто процентов разведчики…»
— На данный момент командую разведгруппой… — подтвердил его догадку «строевой», — …1‑го отряда 1‑го партизанского сектора…
— Майора Калугина… — закончил за него Саша.
— Допустим… — вальяжно откинулся на стуле Яков Осипович и заложил руки в карманы галифе. — Только ваша осведомлённость… коллега… — процедил он почти брезгливо, — никак не развеет моих сомнений…
Лейтенант Войткевич принялся раскачиваться на жалобно скрипящих задних ножках стула, словно размышляя вслух в плетёном кресле-качалке где-нибудь на дачном припёке, — лениво и неспеша.
— Можно ли вам доверять? Хотя бы в той степени, в которой, вообще, можно доверять важнейшим «органам» Родины-матери. Уж слишком, знаете ли… — поморщился Яков Осипович. — Слишком от них подванивает…
— Так тебе, может, нюхало починить?.. — громыхнул табуретом, грозно поднимаясь, Колька-царь, но не успел до конца распрямиться, как его тут же усадили тяжёлые ладони, лёгшие на плечи. — Чтобы не мешал дерьмо с ромашками… — сердито сбросил он с плеч руки морпехов, но, остановленный взглядом Новика, подрываться больше не стал. Только уставился в профиль «строевого» пристально и крайне недружелюбно.
Тот и ухом не повёл, продолжал, игнорируя жгучий взгляд преданного новиковского адъютанта.
— …Слишком уж вы, чекисты, любите пользовать людей вслепую. У вас что ни слово — «легенда», что ни шаг — обманные манёвры. Вы ж что с чужими, что со своими, — всё втёмную. А я этого не люблю…
— Не любит он… — развёл Саша руками и, насмешливо щурясь, перегнулся через стол к «строевому». — А я, по-твоему, что должен? Каждому оборзевшему фраеру все карты скидывать?
— Где наблатыкался? — в свою очередь, подался навстречу ему «строевой» лейтенант со злобно суженными зрачками. — Когда на допросах немецких шпионов лепил из окруженцев?! — хлопнул он ладонью по вышитой скатерти.
— Хватит… — раздался вдруг высокий девичий голос, негромкий, но решительный…
Это была Настя, Анастасия, единственная любовь Саши Новика, чудом спасённый в вихре смертей и страданий огонёк счастья.
Но до счастья было ещё далеко. Предстояли ещё бои, погони, перестрелки, гибель товарищей и неправедные обвинения.
Самым страшным, наверное, было то, что на Большой земле, в Туапсе, куда удалось через два дня добраться на допотопном баркасе потрёпанной разведгруппе Новика, Настю заподозрили в измене и не выпускали из круговерти допросов и провокаций до того самого времени, когда удалось разоблачить настоящего врага.
Сумел это сделать, вычислить оборотня, радистку Асю, так получилось, что самолично приведённую Новиком к партизанам, Войткевич, — и, наверное, именно тогда окончательно поверил Александр этому партизану-разведчику-морпеху-двойному агенту.
А до того, даже во время и после отчаянного налёта на офицерский санаторий Гелек-Су, подозрения не оставляли старлея; да ещё и Яков Осипович нет-нет да и приоткрывался с неожиданной, непривычной и очень для чекиста подозрительной стороны.
Товарищи офицеры
Туапсе. Лето 1943 г. Штаб КЧФ. Разведотдел
— Могу я всё-таки узнать, за каким чёртом контрразведке понадобились мои разведчики? — проворчал Гурджава, проводя взглядом телефонную трубку, опущенную полковником на рожки аппарата.
Полковник Овчаров посмотрел на него с некоторым сомнением.
— Такое дело вырисовывается, Давид Бероевич… Дело довольно-таки давнее. Ты помнишь, у нас на мысе Атлам под Феодосией был такой интересный заводик? «Гидроприбор» назывался?
— Забудешь тут, — проворчал Давид Бероевич. — С его эвакуацией столько шороху вышло…
— Вот… — поднял указательный палец начальник флотской контрразведки, надо понимать, акцентируя внимание «разведки». — А накануне эвакуации, буквально в сентябре 41‑го, успели на секретном полигоне того «заводика» провести весьма любопытные и очень секретные испытания. Срочную эвакуацию завода откладывали до последнего момента. Из-за изделия «38–41 ЭТ». Его испытания подошли к концу, оставались учебные стрельбы и далее, по итогам, представление в наркомат вооружений… — Полковник вернул очки на переносицу и ещё некоторое время морщил мясистый нос, устраивая поудобнее. — Эвакуация, естественно, была бы тем самым долгим ящиком, в котором потом хрен чего сыщешь. Как, собственно говоря, и получилось, — вздохнул он. — Хоть немцы, что, кстати сказать, весьма и весьма подозрительно… — подчеркнул бывший комиссар 3-го ранга, — практически не бомбили «Гидроприбор», который буквально до последнего дня выпускал для флота торпеды, а для армии — ручные гранаты. Но поскольку после прорыва Перекопа и выхода немцев на Ак-Монайские позиции другого пути эвакуации последней очереди завода, кроме как морем, не было, а все суда до последней шаланды пошли на спасение 51‑й армии. И распоряжались погрузкой, сам понимаешь, как… — Овчаров махнул пухлой ладошкой. — С боем палубы брали…
— Это понятно… — поморщился Давид Бероевич Гурджава, и сам хорошо помнивший осень 41‑го: «Эвакуация… Если это и можно как-то назвать, то разве что «героическим бегством». — Однако взорвать-то завод, насколько я помню, успели?..
— Не успели… — вздохнул Овчаров и, прежде чем лицо Гурджавы вопросительно вытянулось, успокаивающе поднял ладони. — Там пустые цеха остались, успели железяки вытащить. Да ещё буквально в тот же день, как немцы вошли, разбомбили оставшееся всё детальным образом. Армейская авиация помогла.
— Всё-всё? — невинно поинтересовался Гурджава, чуткий к ноткам голоса коллеги.
— Разбомбили всё, — после некоторой паузы повторил Овчаров, — …что было на причалах не вывезенного. И сами причалы… частично, — значительно добавил он и уставился на Давида Бероевича поверх тонкой оправки…
— А что-то было и в море… — констатировал полковник Гурджава.
— То-то и оно, — неохотно согласился Овчаров. — Монитор «Синоп», царский ещё. Собственно, потому и приписанный к «Гидроприбору» для стрельбищных испытаний, что староват… Да нет, конечно, не на расстрел приписанный, — хмыкнул Овчаров в ответ на недоверчивый взгляд Гурджавы. — А то искали бы мы его, надо очень. На нём пару торпедных аппаратов обновили специально для испытаний серии «53–40».
— И что он? Почему ищем?.. — Проникаясь дурным предчувствием, начальник разведштаба выстучал папиросу о крышку «Казбека».
— Да вот потому и… — сердито передёрнул плечами новоиспеченный начальник флотского Смерша. — Потому и ищем, что пропал. И пропал, кстати сказать, во время последних испытаний.
— Вместе с испытуемым «изделием»? — глухо промычал Гурджава, подкуривая.
О том, что пропажа дореволюционного монитора случилась отнюдь не «кстати», он уже догадался.
— Оно вроде как булькнуло без следа. Нет, вместе с одним очень непростым воентехником. Таким себе Хмуровым… — подался назад Овчаров.
Несмотря на долгую свою штабную бытность, он так и не обвыкся с революционными манерами накуренных дворцов.
— Нехорошо как-то… — отмахнулся от дыма Георгий Валентинович. — Пропади он в море как бесхозный «Синоп», так пропади и пропадом. А то ж ведь на берегу исчез, зараза, и как раз в дни немецкого наступления.
— На берегу… — поморщился, в свою очередь, и Гурджава, и уточнил свои дурные предчувствия: — А где именно?
— А чёрт его знает, — развёл руками полковник Овчаров. — В том-то и дело…
Крым. Осень 41 г. Якорная бухта. Полигон завода «Гидроприбор»
Тучи клубились над морем, словно железная окалина отражалась в клинковой полированной стали полного, типично предштормового штиля.
— Пал Михалыч, а где Пал Григорич? — деловито, вытирая руки замызганным передником, поинтересовался кок, выглянув откуда-то из-под локтя капитана.
Несмотря на «инвалидскую», выражаясь старорежимно, выслугу во флоте, ни привить, ни вбить в бритую голову кока, старшины первой статьи Юлдашева, понятие субординации было невозможно. С чем кавторанг Верховицкий, по правде сказать, давно уже смирился, но под наивно-недоумённым взглядом представителя отдела боевого обеспечения флота всё равно было как-то неуместно и неловко…
— Я ему болтушка сделал, как он любит… — с семейной заботливостью ворчал кок, озираясь вокруг и не придавая значения ни грозно сведённым бровям капитана, ни изумлённо поднятым — представителя штаба флота.
— Старшина Юлдашев… — попытался «вытрезвить» его кавторанг Верховицкий подчёркнуто форменным обращением. — Вам что, на камбузе делать нечего?
Да где там…
— У него желудок болной… — вполне исчерпывающе, как с его точки зрения, пояснил своё присутствие на испытаниях кок и уже готов был подвинуть голыми, раскрасневшимися на холоде, руками каперанг-инженера, то есть, представителя, но…
— Инженера Бреннера нет, — поторопился развернуть его кавторанг Верховицкий восвояси. — На берегу остался.
— Как остался?.. — всплеснул руками Юлдашев. — Опять?!
С одной стороны, не могло быть, чтобы ведущий инженер «секретки» — секретного участка завода — не участвовал в испытаниях собственного детища, «изделия». С другой… В конце августа, сразу после выхода малоизвестного указа [2], Павел Григорьевич уже раз не дошёл до трапа «Синопа» — старорежимного монитора, приспособленного под испытания новых «изделий». На полпути его перехватила характерно угрюмая пара в фуражках с васильковым околышем. Пара из Особого отдела «Гидроприбора», — крайне зловредные товарищи, как с точки зрения Юлдашева, так, пожалуй, и со всех прочих. Но тогда дирекции завода товарища Бреннера удалось отстоять как ведущего специалиста.
— Займитесь, наконец, своими прямыми обязанностями… — раздражённо посоветовал кавторанг.
Но, глянув на постную мину тибетского монаха, которая прописалась на лице волжского татарина, смилостивился и пояснил:
— На НП твой Павел Григорьевич. Наблюдает… — пояснил капитан 2-го ранга ещё раз, хотя вроде как на таком объекте, как «НП», ничего другого и делать нельзя было.
— А… — облегчённо протянул татарин, но с места не сдвинулся: стал озираться, кому бы ещё предложить свою фирменную «болтушку», незаслуженно почитаемую им как замечательное лечебное средство по части гастроэнтерологии.
Следующим по юлдашевскому ранжиру мог быть только Лёвка Хмуров.
Ничего, что вслед за главным инженером «секретки» Юлдашев величал и праздновал, ну и прикармливал по мере возможности, простого воентехника. Лёвка Хмур того стоил. И это было не только его личным мнением.
Собственно, дипломированным инженером воентехник Хмуров по прозванию Левша не был. Как-то не сложилось то ли с институтом в нужное время, то ли с самим этим временем (пять войн и три революции — шутка ли?), а потом уже и не до того было. И среднее специальное образование успел он получить едва-едва, почти что экстерном, что, в общем-то, в «оборонке» никак не праздновалось, но допускалось иногда.
На Руси таких мастеров со времён сказочных называли «Левша». Должно быть, с такой легендарной прозорливостью и назвали его родители Лёвкой. То ли Лев, то ли Лаврентий — этого он уже и сам не помнил, поскольку было давно, в 1891-м. Но Левша из него вышел прямо-таки по Лескову, фольклорный. Искусности необычайной. Привезут из Питера или, как по-новому, Ленинграда какой-нибудь мудрёный эпроновский прибор, который там, или на жутко засекреченном номерном заводе, может быть, и работал исправно, вытворял, чего следует, — а тут, в цеху «Гидроприбора», наотрез упирался. Высококвалифицированные, в синих халатах, руками разводят. Зовут тогда Лёву Хмурова, не инженера, но пайка ради «специалиста минно-торпедных средств». И он точно, как в том анекдоте, с зубилом и «божьей матерью» вмиг… Ну, во всяком случае, в разумные сроки приводит мудрёную хреновину в чувство. Где надо — мигает, чего надо — жужжит да переключает исправно.
В этот раз вроде бы и не звали Лёву «спецы», более того, пожалуй что и не подпустили б к «изделию» перед самым пуском. Но нашёл кок первой статьи Левшу именно там, где и предполагал найти — у бакового торпедного аппарата в позе глубокой сосредоточенности. В случае Хмурова это значило — в ракообразной позе, при которой он чем-то железно поскрипывал и постукивал в голове семиметровой «сигары» с бронзовым гребным винтом в кольце хвостового оперения.
— Лёвка, слушай, болтушка есть, Пал Григорьичу хотел… — начал, было, Юлдашев, постучавшись в тощий зад, потерявшийся в мешковатых матросских штанах.
— Сгинь, уважаемый… — гулко прозвучало откуда-то с другой стороны. — Не до тебя, ей-богу. До точки запуска пять минут ходу…
И тут не повезло заботливому коку. Он тяжко вздохнул и посмотрел на далёкий НП. Да что там увидишь! Еле фигуры опознать можно. Тем более, не услышишь. И, конечно же, не поймёшь, что там на уме у всеми нелюбимого комиссара Овсянникова.
А понял бы — так ещё меньше симпатии бы к особисту почувствовал.
«Правда, и на нашей улице бывает праздник, — молча кривился в тот момент начальник Особого отдела «Гидроприбора», комиссар госбезопасности Овсянников. — Только сделай шаг вправо-влево. Случайную, будто бы, осечку, аварию, срыв сроков. Чтобы вражья твоя образина наружу проявилась, ведь враг же, враг. Даже по этой самой образине видно».
Особист на товарища Бреннера давно, как говорится, точил зуб.
Удивительного в этом немного. Публику такого рода всегда раздражала, да что там, бесила, определённая независимость всяческих спецучастков, секретных цехов, где народ будто и не в Стране Советов живёт и чхать хотел на власть или на представителей важнейших органов Родины-матери. Пройдёт такой очкарик мимо, аж зубы сводит… Втоптать бы в лагерную пыль, заглотать живьём да отрыгнуть — а оно ещё и здоровается через раз, потому как вша эта кальсонная, видишь ли, особо ценная, мозги у неё, мать её этак, из особого теста замешаны. Дать бы по этим мозгам с носка сапога…
Наружность Павла Григорьевича Бреннера, то бишь Пауль-Генриха, — достоверно знал Овсянников, — и впрямь была плакатно вражья. Хоть на страницу «Пионерской правды» рисовать: «Убей буржуя, порадуй Сталина!» Желчная физия, будто его мама немецкая не молоком из титьки поила, а уксусом через пустышку. Наглая, заносчивая, с брезгливыми складками вокруг рта, вечно недовольно поджатого. Даром что и родился в России, из здешних немцев, екатерининских переселенцев.
«Видно, с молоком матери… хрен там, с уксусом! — впитал вражина ненависть ко всему русскому, читай, советскому…» — сводило щёточку «наркомовских» усов у комиссара. Потому и топтался Овсянников на досках вышки «НП» за сутулой спиной в чёрной флотской шинели. Потому и косился на красный кружок на бреннеровском рукаве, кружок с торпедкой посредине; а ниже — не набор годовых уголков, а один золотой, с двумя кантами и звёздочкой! Вон сколько уже таится с ножом в руке за спиной у советской власти, больше десяти лет выслуги… И ведь дождался же?! Пришли его кровные родственнички ! Вон, уже в Перекоп стучатся танками Манштейна.
«Следовательно… — полагал особист, поднимая к глазам полевой бинокль. — Вот-вот выглянет его звериная сущность предателя…»
И она и впрямь выглянула в точке запуска. Да так выглянула, что счастью своему, глазам своим не поверил комиссар госбезопасности.
С правого полубака «изделие» плюхнуло в воду, как многопудовая майская форель, и обещанными зигзагами порскнула под водой, словно тень в подполье, к видневшейся в отдалении мишени. Порскнуло скрытно, проворно и почти бесследно, как та же рыба; но, всё-таки, следить за ним можно было — НП и сам по себе порядочно возвышался, и на высотке располагался: местность, окружавшая бухту, была холмистая.
Все и следили. Заводская свита начальства — в стереотрубу, расставившую «улиткины рожки» под навесом смотровой площадки. Инженер Бреннер, «само собой», в немецкий монокуляр Цейса. И комиссар госбезопасности в «честный» полевой бинокль «ЛОМО». И даже без всякой оптики таращились с рыжих, после жаркого лета, холмов те из рабочих и техников секретного участка, кого, надо понимать, преступно провёл через оцепление главный инженер. И все увидели, как, чуть морща серое шинельное сукно осеннего моря, «Вьюн» достиг дощатой мишени, весьма достоверно симулирующей шум корабельных двигателей и весьма приблизительно символизирующей вражеский дредноут: можно сказать, ткнулся в него, и…
Ничего не произошло. Трехсоткилограммовая боевая часть промолчала. Бесследный «Вьюн» вырвался на свободу и ушёл куда-то вдаль. Канул в воду.
Опережая события, отметим: канул так, что после его не нашли ни «торпедоловка», ни контрольная водолазная группа.
Впрочем, при его запасе хода и его, хода то есть, непрямолинейной особенности, это как-то и не особо удивительно. А на долгие и тщательные поиски времени не хватило.
Конечно, надо непременно сказать, что не совсем удачные и даже совсем неудачные испытания новых торпед случались у всех, кто эти торпеды производил. Американцы — так, вообще, после первых провальных повторные испытания не производили (торпеда-то у них 14‑й модели стоила аж десять тысяч долларов, в ценах 1939 года, разве можно такую дорогую впустую гонять?), и почти три года кряду пытались топить японцев «изделиями», из которых попадала в цель и срабатывала только каждая двенадцатая. Но у них там демократия и военно-промышленный комплекс, а у нас… У нас же щёточка усов комиссара 3‑го ранга ГБ Овсянникова самодовольно дрогнула. И прежде чем застывший инженер Бреннер опустил цейссовский монокуляр, Овсянников наконец-таки произнёс фразу, которую мечтал произнести уже очень давно, а после 22 июня — особенно:
— Пройдёмте, гражданин Бреннер.
Именно так, позорно утраченный для советского общества «гражданин», а не его жизнерадостный «товарищ».
Правда, сразу же на съедение в гарнизонный Особый отдел (уже тыла фронта) П.Г. Бреннера не отдали. Проводилось служебное расследование в присутствии представителя отдела боевого обеспечения флота, — то есть расследование особо тщательное. Но как только выяснилось (на третий день), что сразу по возвращении монитора «Синоп» в заводской порт пропал небезызвестный, да что там, почти легендарный «специалист минно-торпедных средств» Лёвка Хмуров, тот самый воентехник, который рылся накануне, чуть ли не во время испытательных стрельб, в сверхсекретной начинке «Вьюна», и пропал так же бесследно, как «Вьюн»… то заговор для военного прокурора стал очевиден, как 58‑я статья Уголовного кодекса.
Соответственно, пропал и товарищ Бреннер.
Зато со временем и на другой стороне фронта появился господин с той же фамилией…
Хроники «Осиного гнезда»
…Но упреждало его появление событие вроде как не слишком значительное, хотя и связанное, в перспективе, с мысом Атлама и Якорной бухтой, откуда в спешном порядке было эвакуировано почти всё оборудование минно-торпедного завода и почти все его работники, кроме мобилизованных и призванных, а также арестованных и пропавших без вести.
Называлось это событие «сосредоточение в Констанце», происходило 18 июня 1942 года, и участвовали в нём всего девяносто шесть моряков кригсмарине.
…Последние наставления корветтен-капитан Хейнц Бирнбахер, командир 1‑й флотилии торпедных катеров, давал на свежем воздухе, на площадке в двадцати метрах от пирса, к которому попарно были пришвартованы все шесть шнельботов. На палубе любого из них места хватало только для собственной команды, и то не на ходу, а так, возле пирса.
Хотя эти катера, в сравнение хоть с английскими, хоть с русскими, были не только «габаритнее», но и намного более грозными и солидными. Шутка ли: сто с гаком тонн водоизмещения, торпедные аппараты, упрятанные под фальшбак, бронированные рубка и люковая турель бакового 30‑мм орудия, два пулемёта и сдвоенный 20‑мм зенитный автомат за невысокой скошенной антенной. При такой же, как у противников, разве что кроме русского Г-5, предельной скорости хода: 40 узлов по спокойной воде. Ни морские охотники, ни сторожевики с ними реально тягаться не могли, а эсминцы… От большинства эсминцев не представляло особого труда оторваться. Пять узлов преимущества в скорости! Снаряды, конечно, летят быстрее, но попробуй попади, попробуй выставь правильно упреждение на предельных скоростях, да ещё при маневрировании!
Красивыми «шнелльботы», конечно же, не назовешь — эдакие низко сидящие в воде тридцатиметровые «утюги», — но катерники считали их самим совершенством. Да и в боях они показали себя вполне достойно. Пусть пока не снискали ни Тёнигес, ни Кюнцель, ни Бюхтинг, ни остальные капитаны шнельботов 1‑й флотилии такой славы, как подводники Гюнтер Прин или Херберт Вольфарт. Пусть не повторяли с бессильной яростью, даже после удачных действий 1‑й флотилии в Ла-Манше и у норвежского побережья, английские моряки номера катеров так, как повторяли названия «жуткой парочки сестричек», линкоров «Шарнхорст» и «Гнейзенау». Но ведь из всех схваток шнельботы выходили победителями, и на счету каждого в 1‑й флотилии числились уже торпедированные суда и даже сбитые самолёты.
И, кроме небольших пробоин, повреждений не было; как сказал недавно командир «S-40», капитан-лейтенант Шнейдер-Пангс, «самым серьёзным испытанием был марш от Гамбурга до Констанцы».
В самом деле, переброска была чрезвычайно непростой. Получив приказ от адмирала Шнеевинда, Хейнц Бирнбахер в декабре 1941 года собрал флотилию в Гамбурге; не все катера сразу — шестой, «S-72», только к февралю вышел из судоверфи «Люрсен», где проходил профилактику. К самому Рождеству катера начали разгружать (сняли вооружение, часть механизмов и, наконец, самое тяжелое — двигатели), затем — уже в феврале и начале марта 42‑го, — буксировали вверх по Эльбе до Дрездена. Там их уложили на специальные четырехосные автомобильные платформы и потихоньку-полегоньку, со скоростью спорого пешехода, по три тягача каждую повезли по прекрасным автобанам в Ингольштадт. Груженый «караван» шел пять дней, все-таки 450 км — не шутка. «Тяжести», менее габаритные, везли по железной дороге дальше, до Линца. В Ингольштадте облегченные катера, не укомплектовывая, спустили на воду и на буксирах повели по Дунаю. В Линце техники, командированные с верфей Люрсена, установили часть снятого оборудования и приборов, — почти всё, за исключением орудий и двигателей. Дальше предстояло движение вниз по Дунаю до Галаца. Там, наконец, всё те же техники с минимальной помощью румын вернули катерам двигатели, но не артвооружение и торпеды — их привезли спецвагонами прямо в Констанцу.
Остаток пути по Дунаю и морю, до главной базы румынского флота, на счету которого громких побед не числилось, шнельботы шли своим ходом. Уже к 1 июня полностью готовы к бою были «S-26» и «S-28», но начинать боевые действия только двумя катерами в штабе посчитали преждевременным.
Полная комплектация флотилии завершилась к середине июня, когда уже итальянские подводники добились нескольких побед, а на счету пилотов бомбардировочной авиации набралось уже два десятка потопленных или безнадёжно повреждённых судов. Преимущественно — транспортников и малых военных кораблей, но были и эсминцы, и большой старый крейсер.
— Наша задача, — продолжал Бирнбахер, ощущая, несмотря на июньскую жару, лёгкий холодок вдоль напряжённой спины, знак осознания церемониальной важности построения всего личного состава флотилии, — полностью блокировать Севастополь с моря. Ни один борт русских не должен ни войти в его бухты, ни выйти из них. Действуем ночью: в светлое время суток акваторию контролирует авиация. Реляции их штаба, конечно, преувеличены, но русские теперь избегают дневных прорывов. Перекроем и ночное «окно» — и Севастополь падёт как перезрелый плод!
Равные по званию, разные по заботам
Туапсе. 1943 г. Штаб КЧФ. Разведотдел
То, что приказы положено выполнять, а не обсуждать, полковник Д.Б. Гурджава невесть сколько раз уже за годы службы говорил и подчиненным, и равным по званию, и даже — хотя и с иной интонацией — командованию. И сейчас, после третьего прочтения постановления СНК, обсуждать и не собирался, вот только вертелась и вертелась в бритой голове неуставная фраза: «Три Смерша на одну голову».
Вот что он прочёл:
«…согласно секретному постановлению Совета Народных Комиссаров от 19 апреля 1943 года Управление особых отделов НКВД преобразовано в Управление контрразведки Смерш Народного комиссариата обороны СССР, Управление контрразведки Смерш НКВМФ и отдел контрразведки Смерш НКВД СССР. Главное управление контрразведки Смерш в Наркомате обороны СССР, начальник Виктор Абакумов, комиссар госбезопасности 2‑го ранга. Подчинение непосредственно главнокомандующему Иосифу Сталину. Управление контрразведки Смерш Наркомата Военно-Морского флота, начальник генерал-майор береговой службы П.А. Гладков, в подчинении наркома флота Н.Г. Кузнецова. Отдел контрразведки Смерш Наркомата внутренних дел, начальник комиссар госбезопасности С.П. Юхимович, под непосредственным руководством наркома Лаврентия Берии».
Приложение к документу: «Органы Смерш являются централизованной организацией: на фронтах и округах, в других частях действующей армии и флота органы Смерш подчиняются исключительно своим вышестоящим органам ».
Решаемые задачи:
а) борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной Армии;
б) борьба с антисоветскими элементами, проникшими в части и учреждения Красной Армии;
в) принятие необходимых агентурно-оперативных и иных (через командование) мер к созданию на фронтах условий, исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта с тем, чтобы сделать линию фронта непроницаемой для шпионских и антисоветских элементов;
г) борьба с предательством и изменой Родине в частях и учреждениях Красной Армии (переход на сторону противника, укрывательство шпионов и вообще содействие работе последних);
д) борьба с дезертирством и членовредительством на фронтах;
е) проверка военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении противника;
ж) выполнение специальных заданий народного комиссара обороны.
Органы Смерш имеют право:
а) вести агентурно-осведомительную работу;
б) производить в установленном законом порядке выемки, обыски и аресты военнослужащих Красной Армии, а также связанных с ними лиц из гражданского населения, подозреваемых в преступной деятельности;
в) проводить следствие по делам арестованных с последующей передачей дел на рассмотрение соответствующих судебных органов или Особого совещания при НКВД СССР;
г) проводить специальные мероприятия, направленные к выявлению преступной деятельности агентуры иностранных разведок и антисоветских элементов;
д) вызывать без предварительного согласования с командованием в случаях оперативной необходимости и для допросов рядовой и командно-начальствующий состав Красной Армии.
…Органы Смерш комплектуются за счет оперативного состава бывшего Управления особых отделов НКВД и специального отбора военнослужащих из числа командно-начальствующего и политического состава Красной Армии. В связи с чем, «работникам органов Смерш присваиваются воинские звания, установленные в Красной Армии», и «работники органов Смерш носят форму, погоны и другие знаки различия, установленные для соответствующих родов войск Красной Армии…»
«Последнее распоряжение тем более не лишено смысла, — подумал начальник разведотдела Черноморского флота полковник Гурджава, щурясь через пелену табачного дыма на новенькие, не ломаные ещё полковничьи погоны Овчарова. — Что особисты НКВД в их фуражках с васильковым верхом в армии пользовались такой лютой любовью, что с самого начала войны эти фуражечки потихоньку, но откровенно дырявили. Причём, по понятной причине, сзади — куда чаще, чем спереди».
Георгий Валентинович Овчаров — как раз и есть бывший начальник Особого отдела флота. Вчера ещё комиссар госбезопасности — звание, соотносимое со званием теперешнего общевойскового полковника не более, чем чин архангельский с чином протодьякона: чёрт его знает, как и приложить. В любом случае, явное понижение в должности, поэтому…
— Даже и не знаю, товарищ полковник, поздравлять вас с новым званием или как? — пожал плечами полковник Гурджава. — Мы теперь с вами вроде как в одном звании…
И не удержался, чтобы не ввернуть:
— А я слыхал, что от комиссара НКГБ и выше ваш брат и в этом вашем новом ведомстве остался при своих персональных регалиях.
— А мне ни здравицы твои, ни помины не нужны, — с плохо скрытым раздражением заметил бывший комиссар 3‑го ранга, глянув на разведчика также искоса, но вполоборота, по-хозяйски расположившись в кресле напротив. И закончил, подчёркнуто не обращаясь по званию: —…Давид Бероевич. И, вообще, чего это ты вприсядку пустился?.. — развернулся он наконец окончательно и навалился на стол грудью, словно у себя в следственном кабинете. — Выкаешь тут, как на званом приёме. Я ж к тебе не погоны обмывать, а по делу, Давид Бероевич.
Овчаров выкатил на начальника флотской разведки желтоватые судачьи глаза и, точно за давней жандармской традицией, направил в лицо пыточную лампу. Давид Бероевич даже поморщился невольно и подумал: «Похоже, что и в этой, выделенной из НКВД и переподчиненной контрразведке… Как её там, прости господи? «Смерть шпионам»? Гадючье какое имечко… Нравы будут царить те же». Поэтому ответил категорически (раньше, чем окончательно сообразил, откуда в голосе такая категоричность):
— Я своих людей в этот ваш гадючник не дам…
— Ну ты давай бережней как-то… — недовольно удивился бывший особист. — С важнейшими органами Родины-матери… Слыхал уже, что ли? [3] А то я тебя и с этими погонами, — кивнул Георгий Валентинович на собственное покатое плечо, — …особо спрашивать не буду. Дело-то не в том, чьи перья краше, а кто летает выше. А то индюк, знаешь, такой николаевский сенатор, как надуется, а ворона ср… чхать на него хотела. Причём заметь: с высоты птичьего полёта, так-то…
Гурджава даже наморщил угловатый бритый лоб, следя за живописными выкрутасами особистской логики.
— Или ты хочешь… — вернулся из «живописи» на грешную землю Георгий Валентинович, — чтобы я через твою голову за-ради какого-то драного лейтенанта к адмиралу обращался?
Давид Бероевич неспеша вынул из коробки «Казбека» новую папиросу, выстучал её о крышку. Пауза соответствовала мыслям: «Похоже, прав был начальник оперативного отдела, когда в ответ на новость об учреждении отдельной от НКВД контрразведки только выразительно закатил глаза. Кто знает, как оно пойдёт, — может, этот их Смерш и впрямь будет больше дело делать, чем лозунги оправдывать. Но в любом случае…»
— Вас кто-то конкретно интересует? — нахмурился полковник Гурджава.
— Интересует… — кивнул новоиспечённый начальник новообразованного флотского Смерша. — Был у тебя, помнится, лейтенантик один, шустрый такой. Он ещё весной 42‑го чуть пол-Крыма не разнёс к хвостам собачьим, непонятно по какой надобности…
— Ну почему «непонятно». — Сунув в губы картонный мундштук папиросы, Гурджава невольно дёрнул углом рта, что должно было означать улыбку, и промычал, подкуривая: — Лейтенант Новик сорвал введение в строй немецкой секретной базы малых подводных лодок 30‑й флотилии. Как вы помните, конечно… — добавил он значительно.
— Помню… — согласился полковник Овчаров. — Но также помню, что и достаточного подтверждения этого его геройского подвига приведено не было.
Полковник-контрразведчик отмерил не менее значительную паузу.
— Зачем же вам такой, — раздражённо фыркнул табачным дымом Давид Бероевич, — …недоказанный герой?
— А вот именно потому, что такой… — брезгливо поморщился на дым некурящий начальник Смерша. — От которого, как от чёрта, один дым остаётся. Безо всяких прочих доказательств… Где он у тебя сейчас?
Давид Бероевич задумался. Задумался так основательно, что Овчаров даже удивлённо приподнял белесую бровь: «Не знает, что ли?»
Но начальник разведотдела не вспоминал, где находится старший (теперь опять)… лейтенант Новик, командир отдельной разведгруппы второго разведотряда его отдела флота. Это он, как раз таки, знал достоверно. Потому и обдумывал сейчас, стоит ли об этом знать и начальнику флотского Смерша. И в конце концов решил, что стоит, потому что…
— Зачем искать чёрта тому, у кого чёрт за плечами… — процитировал Давид Бероевич ведьмака с «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
Бабка у грузина Гурджавы, что не так уж и странно для Российской империи, была петербурженка родом из Малороссии.
— Это ты к чему сейчас? — вздохнул Овчаров.
Сей вздох означал примерно такую сентенцию: «Поговорили… Разведчик с контрразведчиком. Ни слова в простоте…»
— Да к тому, что у тебя он сейчас, — неспеша выпустил струю дыма Гурджава. — В Особом отделе сидит.
Несколько секунд Георгий Валентинович смотрел на начальника разведки судачьими глазами самого рыночного выражения: «По рублю». Наконец, подтянул к себе чёрную коробку телефонного аппарата.
— Это старлей Новик А.В.? Вообще-то, не у меня он теперь.
— А у кого?
— Боюсь, что эта новость покажется тебе поганой, — скривившись, проворчал Овчаров, накручивая дырчатый диск набора. — Ты моего мамелюка, следователя Кравченко, хорошо помнишь?
— Вот б… — невольно процедил Гурджава, не донеся до рта папиросу.
— Да, в общем-то, и я такого же мнения, — мельком глянул на него Георгий Валентинович. — За что хоть сидит? Дисциплинарное?..
Тяжело вздохнув, начальник флотской разведки отрицательно покачал головой:
— С этим бы я и сам разобрался…
И на немой вопрос Овчарова неохотно закончил:
— За содействие националистической агентуре фашистов.
Не дожидаясь ответа коммутатора, начальник флотской контрразведки осторожно опустил трубку на рожки аппарата.
— Вы что тут, охренели все?
Хроники «осиного гнезда»
Недавно, чуть меньше года тому назад…
То есть по нормальным меркам недавно, а по военным — бесконечно давно, комплектовал лейтенант А.В. Новик разведывательную группу в осажденном Севастополе. Тогда в Севастополе хватало и оружия, и боеприпасов, и техника тоже оставалась кое-какая. Работали заводы (правда, к тому времени уже всё больше в подземельях) и заходили в бухты боевые корабли. Швартовались и, пока выгружали пополнение, боепитание, медикаменты и прочее, и грузили раненых и эвакуированных, добавляли мощь своего главного калибра к артогню сухопутных батарей.
Теперь же в городе оставались только измученные голодом и жаждой моряки и солдаты, считаные пушки и считаные патроны на каждый ствол винтовок и автоматов. А корабли пробирались только ночью и в непогоду (нечастую в июльском Крыму), — бесконечно длинным днём их клевали и клевали «юнкерсы» и «хейнкели».
Но в ночь 19 июня 1942 года пришли ночные хищники…
Выйдя из Ак-Мечети, катера крейсерским ходом пошли на юго-восток. Севастополь обогнули тремя милями мористее; очень приметное место, заметное издалека лучше любого маяка. Даже сейчас, в полночь, прокатывались по невидимым издали линиям обороны огненные шары разрывов, тлели кое-где кострища ночных пожаров, а чуть в стороне, где-то на траверзе мыса Фиолент, с интервалом в пять минут косо втыкались на несколько мгновений в звёздное небо оранжевые факелы: била последняя севастопольская батарея тяжёлых орудий. И вот в свете очередного залпа 15‑дюймовок зоркий командир «S-40» Шнейдер-Пангс разглядел силуэты кораблей русского конвоя.
Капитан-лейтенант передал по рации:
— Вижу конвой зюйд-зюйд-ост, две мили шесть кабельтовых. Три эсминца и три сторожевика. Транспорт — примерно пять тысяч.
— Атакуем! — отозвался капитан-лейтенант Тёнигес, командир «S-102».
Заревели дизели, наливаясь мощью. Катера заложили разворот и, стремительно набирая скорость, пошли на сближение. Пенные буруны вздыбились и широко разлетелись чуть позади острых форштевней…
Похоже, именно на них и среагировали на кораблях конвоя. Над едва различимыми на фоне тёмного берега бортами заметались орудийные вспышки, и поперёк курса шнельботов выросли не слишком высокие, но многочисленные пенные снопы разрывов снарядов.
Катера пошли «змейкой», отчаянно кренясь с каждым поворотом; осколки и пули просекали корпуса и рикошетили по броне. С восьми кабельтовых выпустили торпеды и тут же заложили разворот «все вдруг».
Спустя полторы минуты, выпутавшись из гущи близких разрывов, поняли: все пять торпед прошли мимо. Ни одного разрыва. Ещё четыре минуты — и стало ясно: не нашли даже случайную цель и опустились на дно, выработав запас хода. Шнельботы развернулись и снова легли на боевой курс. А русские тем временем поменяли ордер: два «охотника» выдвинулись навстречу атакующим и открыли отчаянный огонь. Ответили им комендоры «S-27» и «S-72», «связали боем», а катер Тёнигеса промчался на полном ходу, обойдя их по дуге, и почти на встречном курсе выпустил последнюю свою торпеду в транспорт.
Мощный взрыв стал сигналом для всех катеров на выход из боя. Не прошло и пяти минут, как, разорвав дистанцию, они на малом ходу отошли ещё на две мили мористее, а потом, разглядев-таки, что транспорт, подсвеченный прожекторами кораблей эскорта, ушёл под воду, направились на базу.
Из радиоперехвата установили, что потоплен был санитарный транспорт «Белосток», с ним на дно ушло почти полтысячи раненых. Ещё 157 человек подобрали тральщик и «морские охотники», — те самые, которые Шнейдер-Пангс принял за эсминцы и сторожевики…
Робин Гуд и «мамелюк»
1943 г. Туапсе. Новое в обращении с А. Новиком
Сумрачным коридором бывших складов «Пряхинъ и сыновья» старший лейтенант шёл в виде куда как более божеском, чем можно было ожидать от узника. Как-никак не на гарнизонной гауптвахте, а том самом Смерше НКВД, внутреннем, то есть бериевском, уже успевшем заработать репутацию предбанника ада, «чистилища», находился.
Хоть никого, отметим справедливости ради, ни к тюремному заключению, ни, тем более, к расстрелу сами по себе органы Смерш не приговаривали. Приговоры выносил с их подачи военный трибунал или Особое совещание НКВД. Но всё равно. Запросто могли проволочь старшего лейтенанта А.В. Новика босыми ступнями по половицам, обвисшим на руках дюжих сержантов, в одних исподних портках, вполне возможно, что и мокрых, красно-синим, да ещё харкающим кровью. А так — ничего, молодец огурцом, даже при погонах — не сорвали. Вот только рыжеватая гимнастёрка выпущена из галифе и мотню надо поддерживать руками — ничего такого, на чём в камере вздёрнуться можно, «не положено».
Странно только, что вместо начищенных до антрацитового блеска сапог топает старший лейтенант по половицам бывших складов легкомысленными домашними тапочками. Да ещё, вместо выбитых зубов и затёкшего глаза, — этаких едва ли не обязательных печатей на титульной странице «дела», открытого в производство на «ст. л-та Новика А.В.», — всего-навсего облизывает Новик А.В. нижнюю губу, разбитую почти случайно, можно сказать, от неожиданности. И это всё не потому, что матёрые вертухаи НКВД — таинственные Смершевцы, если они фигуряют в пивной или на танцах в портовом клубе, и костоломы при ближайшем рассмотрении, — такие уж сердечные ребята. Скорее, опытные. А опыт подсказывал им, что если накануне разметал задержанный Новик полувзвод «тыловиков» — войск НКВД по охране тыла, — то и с ними, простыми вертухаями, вряд ли станет церемониться.
— И, кстати сказать, напрасно… — Подполковник Трофим Кравченко (тот самый, которого командир его, полковник Г.В. Овчаров, устойчиво именовал «мамелюком» — не за верную ли службу против «бывших своих»?) пережевал мундштук папиросы из одного угла сухих губ в другой. Затем, скрипя дерматином, «восстал» из чёрного провала дивана, не вынимая рук из карманов галифе. — Напрасно так ерепенишься, старшой.
Подполковник безопасности, «мамелюк», которому аббревиатура Смерш, особенно если букву «ш» заменить на «кого ни попадя», подходила как нельзя лучше, подобрался поближе, уселся на край столешницы, оббитой зелёным плюшем и, нависая над Новиком, изрёк доверительно:
— Или ты забыл, как от флотских особистов выскочил в прошлом году с распаренной задницей? Так наша баня ничем не хуже… — Он ещё больше навис над Новиком, невольно отпрянувшим на табурете. — Тоже, знаешь, так растопить умеем, что чертям жарко…
Здесь подполковник Т.И. Кравченко сделал паузу, предназначенную для вразумления допрашиваемого, и продолжил:
— Или ты думаешь, Александр Васильевич, что ты тот самый высоко упомянутый кадр, «который решает всё»? Хрен там. Как верно подметил тот же источник, «незаменимых у нас нет…»
После таких вольных эволюций цитатами вождя, бывший следователь флотского Особого отдела невольно покосился на белёную стену, где Иосиф Виссарионович, в белом же кителе, встретил взгляд Кравченко прищуром несколько ироническим: «От кляті хохли, і чому ви такі невгамовні?..» Глянул вождь, будто оторвавшись на миг от чтения «личного дела» самого «Кравченко Т.И. 1897 г.р.», нынешнего следователя и начальника отдела Смерш НКВД и бывшего «слідчого» петлюровской контрразведки. Тогда подъесаула, а не далее как на днях — подполковника госбезопасности.
— Кто б сомневался, — искренне признал Новик. — А толку-то?
— Добре, — с наигранным сочувствием вздохнул Трофим Иванович. — Ты хоть понял, в какое ты дерьмо вляпался, а? Робин Гуд ты недоделанный.
Жила-была царица…
Туапсе. 1943 г. Район завода «Грознефть»
Это Новик, как раз таки, понимал.
И не сейчас понял, а ещё тогда, когда в тесном заполошном дворике на «Грознефти», где лейтенант Новик проживал, — если так можно назвать набеги в самоволку и редкие ночёвки в увольнении, — со своей молодой женой Настей.
…Старшему лейтенанту Александру Новику «напрямую» не выпало столько сложностей и двусмысленностей, сколько Якову Осиповичу. Всегда он был на одной, «нашей» стороне, с врагом общался всё больше через прорезь прицела, проявлял бдительность и стойкость, ну и всё прочее, что там ещё пишут в наградных листах. Разве что две большие тени витали над его красивой, «породистой» и отчаянной головой.
Одна звалась Асей Приваловой, ловким и убеждённым агентом абвера. Её он ещё в Севастополе самолично отобрал в свою разведгруппу, не выявив и даже не заподозрив в этой сержантке-радистке, орденоносице, врага. Да не просто в разведгруппу: ещё и на явочную квартиру привёл, а затем — прямиком в партизанский отряд, до тех пор один из самых активных и, соответственно, опасных для оккупантов. И разоблачил её в конечном итоге вовсе не он, а Яша Войткевич, доставив напоследок Новику только сомнительное удовольствие непосредственного ареста вражины.
Вторая тень тоже принадлежала женщине, Насте, Анастасии, главной и, возможно, единственной радости в эту нерадостную пору.
Влюбленный в неё с предвоенного лета, Саша нежданно нашёл её в тылу врага и вывез вместе с разведгруппой на Кавказ. А там началась мука тоски, неизвестности и сострадания, поскольку бдительные его коллеги по НКВД всё выясняли, по каким мотивам и по чьему заданию Настя «провалила» в Симферополе группу патриотов-комсомольцев, которые жаждали бороться с оккупантами. И не она ли является тем самым гнусным абверовским агентом, на деятельность которого против КЧФ указывает целый ряд военных неурядиц.
Только раскрытие части вражеской разведсети, свидетельства парочки уцелевших Настиных соратников по молодежному подполью и документы айнзацкоманды, захваченные во время дерзкой вылазки, вызволили Настю. А следовательское чувство ведомственной солидарности с Новиком, не исключено, что замешанное на опасении жесткой реакции лихого разведчика, позволили ей выйти из застенка без особых физических травм. И они с Александром Новиком были счастливы непозволительно долго, по военным меркам, — целых три месяца, встречаясь в своём доме на съёмной квартире чуть ли не каждую неделю, когда совпадали перерывы в госпитале с увольнительными из близлежащей базы.
Если чего-то и боялся сейчас отважный и, надо прямо сказать, удачливый разведчик, так это подвергнуть Настю, теперь Анастасию Новик, законную жену! — новой опасности. Но не зря же говорят: хочешь рассмешить Бога — поделись с ним своими планами…
Понял, или скорее почувствовал, Саша Новик беду, когда только появился у них во дворе смуглый, как античная терракота, худющий пацанёнок с забавным грузинским именем Мамука.
Тихий, как мышь, сторонившийся чуть ли не собственной тени, в битье окон единственным на весь двор латаным мячом незамеченный. И в воровстве изюма с балконов незамеченный тем более. Тогда только и замечал его Саша, перекуривая у открытого окна, когда соседские мальчишки затевали во дворе очередную «войнуху с фрицами». Во «фрицы» пацаны шли неохотно, поскольку во дворе остались только те и дети тех, кто не подлежал брони или эвакуации, как работники круглосуточно пыхтящего на нужды фронта и флота нефтеперегонного завода «Грознефть». А значит — те, чьи отцы на фронте, бьют сейчас «немца» по-взрослому. И, соответственно, похоронок разнесено по квартирам заводского дома уже немало. Так что «западло», скажем, Кольке Русакову, у которого и отец, и два старших брата сгинули ещё в 41‑м, в «фашисты» идти, пусть даже понарошку. Иное дело — молчаливый чужак с низкой, чёрной, как воронье крыло, чёлкой, точно как у Гитлера, что, насупившись, сидит за нехитрым узором резьбы на веранде перед квартирой бабушки Стелы да и по-русски объясняется через пень-колоду. «Гитлером» Мамука назначался априори, без всякого своего на то согласия, — как, впрочем, и безо всякого своего участия в дальнейшей судьбе гитлеризма.
Один раз, правда, лоботряс Колька вздумал ему углем усики пририсовать для пущего портретного сходства с карикатурным Адольфом, но, увидев, как Мамука, сумрачно глянув исподлобья на приближающегося «портретиста», потянул со стола бабушки увесистую чугунную сковороду, не обращая внимания на её содержимое, замер и…
— Ну его на хрен, — крепко почесался Колька в давно нечёсаном рыжем загривке. — Придём в Берлин, тогда…
А пока что Мамука бережно, ладошкой, сгребал рыжие ломтики жареной картошки несытого своего обеда, рассыпанного со сковороды, и оставался по-прежнему независим, горд и одинок. И, забывшись, егозил и сучил ногами на своей пустой веранде, глядя, как, сигая по ветхим сараям, «наши» наступают, паля из «ППШ», то есть из палок с подбитыми снизу консервными банками так, что слюней не хватает. И видно было, как подмывает его выдать ещё одного невольного «фрица», Марка Финштейна, коварно укрывшегося в бочке из-под солидола. Впрочем, Финьку мать и без того казнит, когда с работы придёт…
— Ты не знаешь, Настёна, чего он меня боится?.. — спросил как-то Саша, давя окурок в блюдце на подоконнике.
— Кто? — невнятно промычала Настя со шпилькой в зубах, усмиряя на затылке смоляной вихрь чёрных волос, так чтобы влез потом под белую косынку.
До её смены в госпитале оставалось полчаса без минуты.
— Да этот малый. — Саша прикрыл окно, задёрнул нитяным тюлем. — Мамука. Смотрю, целыми днями один сидит на веранде, как мышонок в норе, с прочей детворой не водится, хотя видно, что неймётся поиграть… А вчера мы с ним столкнулись на лестнице…
Хоть дома для «Грознефти» и строились в 1928 году со всеми подобающими архитектурными излишествами в виде гипсовых вензелей серпов и колосьев, молотов и наковален, как-то не очень привязанных к нефтяной промышленности, но изнанка внутренних двориков была у них сугубо кавказская. Чуть ли не старый Тбилиси в русскоязычном Туапсе. Общие веранды с дверями квартир, разбег скрипучих ступеней до второго и третьего этажа, хаос сараев и сараюшек, лепившихся к стенам дома, как глинистые ласточкины гнёзда. Поэтому и неудивительно, что жилец кв. № 43 поневоле сталкивался с жильцом из кв. № 3 на одной железной лестнице на чугунных столбах, хоть и разнесены они были по разным подъездам.
Саша с будничной торопливостью грохотал по вытертым до лоска ступеням, спеша на полуторку, отходившую от бывшей городской управы на Ашкой, базу разведотряда, когда заметил мальчишку, вжавшегося в узор перил. Разминуться им не было никакой возможности. Пацанёнок в замызганной майке, провисшей в подмышках так, что виднелся смуглый «баян» худых рёбер, с самодельной удочкой на плече и куканом с бычками в сером глянце слизи. Мамука остановил Сашу не приветствием, о котором можно было только догадаться по едва шевельнувшимся губам, он остановил Новика взглядом. В чёрных расширенных зрачках, как у загнанной в угол собачонки, было столько ужаса и затравленной злобы, что лейтенант поневоле остановился.
— Ты чего, боец? — попытался он потрепать смоляную чёлку мальчишки, но тот прянул назад и, уронив на железные ступени клейких бычков, с громом ссыпался по лестнице вниз…
Так что, на этот вопрос его «Ты чего?» Саше ответила уже Настя, и только сейчас.
Она опустилась на дореволюционную софу, задумчиво помяла в пальцах только что отутюженную белую косынку с красным крестом и подняла на Сашу настороженный взгляд угольных зрачков:
— Он не родной внук бабушки Стелы…
— Вот как? — присел рядом и Новик.
— Его к ней привезла её старая подруга, тётя Мамуки, а к ней — его родная бабушка по матери, а к ней — дядя. — Настя, как-то по-детски скривившись, махнула рукой. — Прямо колобок…
— От кого это он так бегает? — нахмурился Саша, предчувствуя что-то недоброе в возможном ответе.
— Он заложник, Саша…
Немногие по эту сторону линии фронта и на этом берегу Чёрного моря знали это секретное распоряжение:
…
«Абвер. Отдел иностранной разведки № 53/41. Берлин 20 июня 1941 г. Для выполнения полученных от 1‑го оперативного отдела военно-полевого штаба указаний о том, чтобы для использования нефтяных районов обеспечить разложение Советской России, рабочему штабу “Румыния” поручается создать организацию “Тамара”, на которую возлагаются следующие задачи:
1. Подготовить силами националистически настроенных грузин организацию восстания на территории Грузии.
2. Руководство организацией возложить на обер-лейтенанта Крамера (2‑й отдел контрразведки). Заместителем назначается фельдфебель доктор Хауфе (контрразведка 2).
3. Организация разделяется на две агентурные группы:
А. “Тамара-I” — состоит из 16 грузин, подготовленных для саботажа (С) и объединенных в ячейки (К). Ею руководит унтер-офицер Э. Герман (учебный полк “Бранденбург” ЦБФ 800, 5‑я рота).
Б. “Тамара-II” — представляет собой оперативную группу, состоящую из 80 грузин, объединенных в ячейки по признаку происхождения из тех или иных районов Грузии. Руководителем данной группы назначается обер-лейтенант доктор Крамер.
4. Обе оперативные группы “Тамара-I” и “Тамара-II” предоставлены в распоряжение “1 С” АОК (разведотдел Главного командования армии).
Вооружение организаций “Тамара” проводится отделом контрразведки.
Начальник отдела спецопераций абвер-II
генерал Э. Лахузен».
Об этой «грузинской царице» командир 2-го разведотряда штаба флота Новик, разумеется, был наслышан. Не знал только, что вообще-то пальма первенства организации диверсионного батальона из числа грузинских националистов принадлежала нынешним нашим союзникам, французам. Ещё в период так называемой «странной войны» 1939–1940 годов, войны Франции и Англии с Германией, войны без единого выстрела со стороны союзников. Впрочем, тогда ещё так не называемой. А для советского человека это был период всеобщего предчувствия: «Если завтра война!»… А пока дело ихнее и, честно говоря, малопонятное; понятно только, что без нас не сегодня, так послезавтра непременно не обойдётся. Вопрос только, с кем «Если завтра…»? С Англией или Францией, или всё ж таки с новым смертельным «другом»?
Дико звучит с непривычки, но в то время руководство СССР, истово следуя германо-советскому пакту о ненападении от 23.08.1939 г., из своих каких-то недоступных смертным соображений [4], безостановочно снабжало Третий рейх экономическими ресурсами, в том числе и кавказской нефтью, имеющей для Берлина стратегическое значение. А грузинские добровольцы из числа эмигрантов, осевших во Франции, примерно в это время изъявили желание принять участие в планируемых на Ближнем Востоке боевых операциях французских войск против СССР.
Грузинский батальон, переброшенный к тому времени в тренировочный лагерь в Восточных Пиренеях, после капитуляции Франции так и не смог завершить своего формирования. Но уже вскоре…
«На глазах у каждого из нас выступили слёзы радости. В эти минуты мы чувствовали себя счастливыми. Нам предстояло освободителями вернуться на Родину. Наряду с этим рушилась русская империя. Наша надежда, что вскоре Грузия будет свободна от русского рабства, была настолько сильна, что все мы, в случае необходимости, готовы были погибнуть во имя Отечества» — вспоминал свою присягу на верность рейху и лично Адольфу Гитлеру Михаил Кедиа, занимавший в 1940–1941 годах должность руководителя Грузинского бюро в Париже.
Немцам французская «заготовка» оказалась весьма кстати.
4 сентября 1942 года, в 7 часов вечера, первая группа «Тамары» вылетела в Грузию с крымского аэродрома Саки. После трехчасового полёта добровольцы в униформе вермахта (форма одежды — с целью создания у местного населения представления о близости фронта) стали высаживаться в Цхалтубском районе.
По свидетельству членов группы, её командир Э. Германн был уверен, что на территории Грузии добровольцам придётся действовать от одной до трёх недель. По расчётам немецкого командования, именно столько времени требовалось соединениям вермахта для вступления в республику. Но уже 8 сентября, спустя пять дней после высадки, отнюдь не оставшейся незамеченной органами районных отделов НКВД, членами истребительного батальона был обнаружен и убит в бою недалеко от с. Цхункури командир группы «Тамара-I» фельдфебель Э. Германн. А 9 сентября такая же участь постигла и радиста А. Грюнайса, в задачи которого входило поддерживать связь с радиостанцией абвера в Симферополе. И вместо двух-трёх недель оставшимся в живых грузинским диверсантам пришлось прятаться по горным селениям несколько месяцев. Пока, окончательно не разуверившись в скором приходе немцев, местные жители не выдали их НКВД. Тех, конечно, кто ещё не сдался к тому времени сам.
Но, несмотря на то, что особого проку для немцев от «Тамары» не получилось, беспокойства управлению НКВД «по защите тыла армии» доставили они немало. Прежде всего, обнаруженным у диверсантов изрядным запасом алюминиевых эмблем в виде кавказского кинжала… [5]
Примером или подтверждением тому, что данное предписание не было бредовой идеей штабных фантазёров абвера, была деятельность аналогичной чечено-ингушской разведывательно-диверсионной организации «Шамиль I–II». Наладив радиосвязь повстанческого временного правительства Чечни с абверкомандой-21 майора Г. Арнольдта, РДО «Шамиль» сумела организовать снабжение с воздуха чеченских повстанцев оружием, снаряжением и медикаментами. В результате, начавшись с сугубо диверсионной, деятельность повстанцев дошла до полномасштабных боёв с войсками особого назначения НКВД и кадровыми частями Красной армии.
С оглядкой на деятельность «Шамиля», руководство НКВД особенно тревожило, что такой солидный запас алюминиевых кинжалов «Тамара» тащила за собой не зря. Поддержка диверсантов грузинским населением поначалу оказалась довольно широкой, вплоть до того, что укрывательством одной из групп диверсантов занимался председатель местного сельсовета. Поэтому и меры, предпринятые органами НКВД, были самые по-военному адекватные. Для устрашения местного населения диверсанты расстреливались непосредственно в местах их высадки. Это имело смысл, поскольку германская разведка, рассчитывая использовать родственные и иные связи добровольцев, как правило, отправляла их в районы, откуда те были родом. Публично также расстреливались и местные жители, оказавшие содействие диверсантам. Таким образом, населению однозначно давали понять, какая судьба ожидает тех, кто деятельно ожидает прихода немцев. При выяснении родственных связей, семьи членов организации «Тамара» арестовывались как заложники. Такая же судьба ожидала и семьи тех, кто только подозревался в причастности к её деятельности. В первую очередь это касалось семей эмигрантов, замеченных «иностранным отделом» НКВД в антисоветской деятельности за рубежом. В этом списке и был отец Мамуки, полковник царской армии Симон Лилуашвили, один из неисчислимого множества грузинских князей, с династической преданностью служивших в русской армии и прошедших ад Перекопа, и с нею же бежавших в Турцию, во Францию. Закономерно — активный член эмигрантской РОВС.
Кое-что, конечно, из этого знал и старший лейтенант Новик. Знал, что завелась такая «царица» и что бороться с нею следовало «несмотря и невзирая». А уж про славную чекистскую традицию выжигать, вытаптывать и искоренять до энного колена, знал и подавно. Кое-что ему рассказала Настя, которая наслушалась и в госпитале, и от соседки.
— Но ведь прямых доказательств его причастности… — начал было Саша, и сам осёкся, махнул рукой: «Кому они нужны, те доказательства…»
— Он даже не знает, за что, — вздохнула Настя, досказав мужу последнее, что он не знал по роду своей службы: о княжеском происхождении мальчика со взглядом затравленного зверька. — За что арестовали мать, учительницу русского языка, других родственников, которые укрывали его по очереди?..
Настя недоумённо повела плечом.
— А его, вот, до сих пор каким-то чудом удавалось спасать. А то был бы сейчас в каком-нибудь голодном детдоме для ДВН [6] за Уралом…
— До сих пор? — хмуро переспросил Новик.
— Пока кто-нибудь не узнает, кто он такой, и не выдаст… — Настя, стараясь не смотреть мужу в глаза, вдруг спохватилась, что скомкала только что выглаженный платок, и бросилась к утюгу.
Саша и сам проводил её смущённым взглядом, краснея отчего-то и злясь. И чем старательнее Настя раздувала безнадёжно остывший старинный угольный утюг, тем больше душила эта постыдная злость. Он видел, как её подмывает переспросить, чтобы увериться…
— Я не скажу, — буркнул Саша вполголоса. — Я не воюю с детьми.
Настя выдернула косынку из-под чугунного утюга и, давясь по-бабьи невольным всхлипом, уткнулась в неё раскрасневшимся лицом.
— Ну что ты. — Едва не опрокинув гладильную доску, Саша метнулся к жене, обнял её сзади за плечи. — Ну неужели ты сомневалась?
— Ни капельки! — отчаянно замотала головой Настя, рискуя растрепать едва укрощённый чёрный вихрь волос. — Ни на секундочку. Поэтому и рассказала.
— Ну, ты ладно… — улыбнулся Саша, зарывшись лицом в её волосы и по привычке шумно потянув носом.
Любил он этот непередаваемый запах, который ни угаром скверно топившейся печи не вытравить, ни хозяйственным мылом, частенько заменявшим что-либо более изящное в парфюмерном смысле…
Любил. «Как лошадь сено» — не раз комментировала Настя.
— Ты-то ладно, — вырвавшись из душистого плена, повторил старший лейтенант. — А вот бабушка Стела как решилась тебе рассказать?
— Не знаю, с какой стати, — искоса и чуть игриво глянула на мужа Настя. — Но бабушка Стела считает нас порядочными людьми.
— Действительно, — пожал плечами Саша. — Безосновательное, ничем не подтверждённое убеждение. Или чем-то всё-таки подтверждённое? — Не выпуская из объятий жену, он внимательно осмотрелся вокруг, повёл носом. — Например, четвертушкой халвы, которую я тебе вчера привёз из Ашкоя?
— Конечно, нет! — картинно возмутилась Настя, вырываясь. Впрочем, вырвавшись, уточнила: — И если хочешь знать, Мамука халвы у меня не взял, насупился букой и ни в какую. Наверное, из-за этих твоих солдафонских галифе, — добавила она с улыбкой.
— Ну он же не знает, что без галифе я просто душка… — скромно потупившись, возразил Новик.
Настя прыснула и продолжила только минуту спустя, успокоившись:
— Пришлось отнести халву бабушке Стеле. Она расчувствовалась и всё такое… И ещё, — Настя внимательно посмотрела на мужа, накручивая на палец выбившийся таки из чёрного узла локон. — Бабушка Стела очень долго мялась, но потом попросила, вернее, только спросила попросить, вернее, попросила спросить… — жена замялась в свою очередь, и Саша, понятливо кивнув, закончил за неё:
— …не могу ли я как-то помочь?
Настя кивнула.
— Но как?..
Задумавшись, Саша отошёл к окну, снова отдёрнул нитяную шторку и поискал глазами порыжелую некрашеную веранду бабушки Стелы. Прилизанная чёрная головешка, как обычно, темнела в прорезях резьбы. Мальчишка жмурился, подставив смуглое личико утреннему, скудному ещё, солнышку, словно кенарь в клетке, попавший в случайный лучик на подоконнике…
— Как, как… — отчего-то раздражаясь сам на себя, проворчал лейтенант. — Как-нибудь, да…
Он осененно хлопнул себя ладонью по высокому лбу аристократической лепки:
— Нужен грузин! Всего-навсего грузин, один из наших разведчиков с родословной, потерявшейся в Кахетии со времён Дарвина. Они — отличные парни. Кто-нибудь из них с радостью найдёт и примет своего пропавшего племянника…
Саша вдруг осёкся. Несколько секунд, замерев у окна в напряжённой позе, он молчал и, только обернувшись, закончил озабоченным тоном:
— Грузин — это потом…
Саша схватил с валика софы Настину сумку, с которой она обычно ходила в госпиталь, и бесцеремонно повесил на шею жены.
— А сейчас нужно, чтобы ты как можно быстрее отвела Мамуку на площадь перед управой. Там сейчас Плетнёв из отряда. Они… — Саша мельком глянул на ящик настенных часов, — …через 15 минут повезут на базу парашютное снаряжение. Скажи Плетнёву, чтобы по дороге оставил мальчика у тетушки Матэ в Ашкое.
«Плетнёву — у тетушки Матэ…» — повторил лейтенант назидательно, как шифровку.
Настя закивала головой согласно, и тут же отрицательно.
— Он со мной не пойдёт, он даже халву не взял!..
— Надо будет, бери с собой и всю халву, и бабу Стелу, она старуха бодрая, добежите, — глухо отозвался Саша из-под гимнастёрки, которую стягивал через голову. Старую гимнастёрку, порыжелую. Гражданский гардероб его ограничивался сборным костюмом.
— А ты?! — всполошилась Настя уже возле дверей.
Она ни разу не переспросила мужа: «А что, собственно, случилось?»
Это и так было ясно…
По тарахтенью мотора, такому неожиданному для захолустного затишья двора, по коротким, невнятным, но отчего-то вполне понятным командам и железному грохоту лестниц, ведущих на общие веранды, под сапогами. Бойцы охраны тыла в порыжелых, но не слишком трёпаных гимнастёрках разбегались по витиеватым наружным лесенкам дома с проворством и целеустремленностью тараканов, хорошо знающих своё воровское дело. Словно их на минуту впустили в дверку буфета со словами:
— Найдёте кусок рафинада — ваш!
И заскрипели трухлявые половицы, застонало рифлёное железо ступенек, заколотили приклады трехлинеек по мелькающим голенищам…
Командовал ими капитан в фуражке с малиновым околышем. Азартно барабанил пальцами по фанерной крыше полуторки, озираясь на цыпочках на подножке кабины. «Где тут у нас кв. № 3? С подлым предателем дела и учения, проживающим без прописки?» — читалось в его злобно-озабоченном взгляде, вдруг зацепившемся за дрогнувшую шторку.
— А я их задержу… — отпрянул от окна Саша.
— Как, господи?.. — испугалась Настя.
— Ну ты же жена разведчика, ты знаешь, — сбросив гимнастёрку на пол и сунув босые ноги в шлепанцы, Саша зачем-то распахнул застеклённые дверки деревенской работы буфета. — Мы, армейские, «тыловиков» терпеть не можем.
Новик выхватил из-за скромного фарфора бутылку с газетной пробкой.
— Особенно… — выплюнул пробку старший лейтенант Новик, — …когда выпьем. Твоё здоровье…
Хроники «осиного гнезда»
25 июня 1942 г.
— Вижу крейсер, курс норд-норд вест, скорость предположительно 25, — прокричал в микрофон всё тот же «глазастый» Шнейдер-Пангс.
В голосе его, хоть и искажённом аппаратурой, слышалась радость.
Оно и неудивительно: после первой удачи три последующих выхода к Севастополю оказались безрезультатными. Да ещё в прошлый раз, уже на рассвете, когда пришло время возвращаться на базу, откуда-то появились два русских истребителя («ЛАГГ» — опознал, неизвестно насколько точно, Кюнцель, командир «28‑го»). Пришлось отстреливаться и резко маневрировать, уклоняясь от пулемётных очередей. Гремели спаренные «эрликоны» всех трёх катеров; одному из русских пробили крыло, но самолёты, — возможно, расстреляв боезапас, — ушли на восток. Потерь у катерников не было, только пять пуль прошили полубак «40‑го», никого не ранив и ничего серьёзно не повредив, но всё же столкновение оставило неприятный осадок. Хотелось реванша, хотелось показать, что где-где, а в море они — истинные короли.
Крейсер увидели и все остальные. Да и как было не увидеть: приняв их за свой эскорт, с него принялись семафорить.
— Атакуем! — приказал Кюнцель (на этот раз он командовал соединением).
Шнельботы пошли на сближение. Расстояние стремительно сокращалось (катера шли наперерез и выжимали уже почти полные сорок узлов), а посреди едва различимого во тьме летней ночи крейсера всё мигал и мигал сигнальный прожектор. Но, когда до дистанции неотвратимого торпедного удара оставалось не больше тридцати секунд хода, семафор погас, и тут же вспыхнули пламенем полтора десятка дульных срезов орудийных стволов.
Торпеды, по одной со всех катеров, врезались в воду, буквально вскипевшую от разрывов. В одну из торпед, видимо, сразу попал снаряд или осколок; она не сдетонировала, но просто пропала из виду. Два белопенных следа, заметные даже в гуще всплесков и перемежающейся тьме, потянулись к крейсеру, но он, вынужденно прекращая на время манёвра артогонь, заложил два крутых поворота, так что едва не ложился на борт, — и обе торпеды умчались во тьму, в направлении невидимого и недостижимого для них берега.
— Отходим! — закричал в переговорник Кюнцель.
Шнельботы развернулись на полном ходу и помчались в открытое море.
Русский крейсер (как потом узнали катерники, это был, по классификации ВМФ СССР, лидер эсминцев «Ташкент») ещё какое-то время преследовал их, пока тьма не поглотила катера окончательно и вести огонь стало бесполезно [7].
Два сапога, да не пара
Туапсе. Лето 1943 г. Штаб КЧФ. Разведотдел
— А всё-таки, будь добр, Георгий Валентинович… — потянулся полковник Гурджава за новой папиросой, хоть и предыдущая ещё не дотлела в пепельнице. — Прорисуй ты мне, некомпетентному, ту генеральную линию, на которой мой командир разведотряда с твоим торпедно-свечным заводиком пересекается, а?
— Линию… — хмыкнул Овчаров. — Тут, Давид Бероевич, где линия, а где такой зигзаг, что башку уследить вывернешь, а то и вовсе пунктир, едва намеченный.
Начальник флотской контрразведки внимательно, словно решаясь нанести средней тяжести должностные увечья, посмотрел на начальника флотской разведки. И всё-таки решился.
— Но в целом картинка такая складывается. Вроде бы, и нечего немцам на том «Гидроприборе» выискивать. Во-первых, и вывезли мы оттуда всё, чуть не до последнего болта. Во-вторых, и рылись они там уже в 41‑м. Прям под веник мели, да ничего не намели. Оно и понятно — после эвакуации да бомбёжки. А тут вдруг такую бурную деятельность развели, что аж не верится.
— Из-за той торпеды, что ли? — нахмурил густые брови Гурджава. — Что уплыла из-под носа секретки? Как её там… «изделие 53–41 ЭТ»?
— «Вьюн», — покачал головой Овчаров. — Они её «Вьюном» прозвали, ну а мы переименовывать не трудились.
— Нашли? Ищут? — попытался прочитать Гурджава на флегматичной с виду физиономии контрразведчика.
— Не нашли и, думаю, что хрен найдут. Уплыла куда незнамо и по какой нужде неведомо. Такая у неё, видишь, конструктивная особенность. — Полковник прочертил по зелёному плюшу стола ребром ладошки замысловатый зигзаг. — Не попала, — всё, пропала.
— Ну и к чему тогда такие нервы?
— Нервничать заставляет то, — главный контрразведчик подпер ладошкой складки подбородка и воззрился на главного разведчика с соболезнующей гримасой, — что инициатором этих, вроде как заведомо безнадёжных, поисков является «Марине Абвер айнзатцкомандо» капитан-лейтенанта Ноймана. А говоря по-человечески: команда морской фронтовой разведки. Не хухры, понимаешь, мухры… — Полковник извлёк вчетверо сложенный блокнотный лист, исчёрканный стенографической скорописью и, опустив на мясистый нос очки, зачитал: — Входит в состав… такое и выговоришь-то только под дулом… «Нахрихтенбеобахтер», — тем не менее довольно запросто воспроизвёл Георгий Валентинович, невольно поднаторевший в немецкой грамматике.
— Вот так-то, если за дело взялись такие сурьёзные фрицы — то неспроста это.
Для сведения:
Разведывательные операции по линии «Нахрихтенбеобахтер» (морской разведки) в прифронтовых районах на черноморском театре боевых действий проводила «Марине Абвер айнзатцкомандо» (команда морской фронтовой разведки), руководитель — капитан-лейтенант Нойман.
Продвигаясь с передовыми частями немецкой армии, команда Ноймана собирала документы с уцелевших и затонувших судов, в учреждениях советского флота, опрашивала военнопленных и добывала разведывательные данные через агентуру, забрасываемую в советский тыл.
Команда собирала разведывательные данные о Военно-морском флоте Советского Союза на Чёрном и Азовском морях и о речных флотилиях Черноморского бассейна. Одновременно вела разведывательно-диверсионную работу против Северо-Кавказского и 3‑го Украинского фронтов, а в период пребывания в Крыму — против партизан.
Начала деятельность в мае 1942 года и действовала на керченском участке фронта, затем под Севастополем (июль 1942 года), в Темрюке (август — сентябрь), Тамани и Анапе, Краснодаре (с октября 1942 года до середины января 1943 года). С конца февраля 1943 года айнзатцкоманда, оставив в Темрюке головной пост, переехала в Керчь и разместилась по 1‑й Митридатской улице.
— Морская разведывательная абверкоманда… — закончил полковник Овчаров, но взгляд его, вроде бы, по-рыбьи равнодушных, судачьих глаз не сходил с лица полковника Гурджавы. Будто было нечто недосказанное.
— Что-то ещё? — после терпеливо неторопливой затяжки спросил Гурджава.
— Ага… — кивнул Овчаров, сложив на воротнике кителя пару лоснящихся подбородков. — Помнишь, кто был ведущим инженером проекта «Вьюн»? Я тебе говорил.
— Бреннер Пал Григорьевич… — не слишком задумываясь, припомнил начальник флотской разведки. — Или Пауль-Генрих. Попадал он нам уже в поле зрения… особенно, когда пропал из него.
— Вот именно, — значительно покачал головой Овчаров. — А знаешь, кто возглавил работу «Марине Абвер» на многострадальном «Гидроприборе» в качестве, так сказать, привлечённого кадра?
Давид Бероевич раздражённо пожал плечами, мол: где нам, сирым?
— Тоже Бреннер! — почти торжествующе припечатал полковник Овчаров по столу пухлой ладошкой.
— Что? Тот же? — недоверчиво поморщился полковник Гурджава.
— Тот, да не тот… — снова покачал головой Георгий Валентинович.
Живучая змея
Оккупированный Крым. Евпатория. Июль 43‑го. Ещё один Бреннер…
Своего старого знакомого, штурмбаннфюрера Габе, гауптштурмфюрер Карл-Йозеф Бреннер встретил там, где меньше всего ожидал — в Евпатории. И встретил, когда меньше всего хотел этого.
Карл-Йозеф как раз вышел на ступени гостиницы «Мойнаки», уровень комфортности которой, даже после интендантских забот полковника медицинской службы Шламе, красноречиво отображала лепнина на фронтоне «1897 г.», когда увидел худощавую, с запоминающейся канцелярской сутулостью, фигуру штурмбаннфюрера.
Впрочем, эта его видимость гражданского чиновника никак не сказывалась на боевой репутации командира армейской зондеркоманды Feldpolizei [8] Дитриха-Диц Габе. Бывший дрезденский полицейский инспектор вписался в карательную экспедицию вермахта как нельзя удачно. Он вполне мог бы претендовать, к примеру, даже на «колотушку» — сугубо солдатскую нашивку «за участие в рукопашной схватке», то есть был решителен и храбр. Но при этом не потерял и сугубо полицейской хватки, умения «проявлять оперативную инициативу». Точнее сказать, инициативу карьеристскую и, что особенно скверно, непрогнозируемую. Поэтому…
— Так, говорите… — поспешно дёрнул Карл-Йозеф полковника Шламе за нарукавную нашивку с гиппократовой гадюкой на васильковом ромбе и ненавязчиво развернул его грузную фигуру так, чтобы прикрыться от случайного взгляда Габе, — …это дерьмо должно помочь?
— Это не дерьмо, господин гауптштурмфюрер, а минерализованная, в высшей степени биологически активная лечебная грязь, — по-детски обиженно поджал нижнюю губу Шламе. — Но, если вам так уж угодно — пусть сизо-чёрное дерьмо, то дерьмо воистину царя Мидаса!
— Прямо-таки, золотое? — не слишком заинтригованно и не слишком натурально удивился Бреннер, выглядывая из-за покатого плеча полковника.
…В общем-то, у него не было повода бояться встречи с Габе. Можно сказать, бывшим коллегой. Поскольку «абвершелле» [9], которой руководил гауптштурмфюрер Бреннер в мае этого года, была, как и зондеркоманда «Geheimefeldpolizei» [10] Габе, прикомандирована к отделу контрразведки 1 «С» 11‑й армии, оккупировавшей Крым. Вот только прибыл Карл-Йозеф на днях из отпуска к прежнему месту службы, не долечившись как следует, отнюдь не из чрезмерного рвения и не в прежней своей ипостаси. Поэтому и не хотел, чтобы о его прибытии узнал кто-то ещё, кроме тех, кому следует. По крайней мере, пока. Пока это ему самому не понадобится.
Дела тут, в Крыму, были еще у Карла-Йозефа Бреннера, важные дела…
— Ещё в 1814 году доктор Ланге описал её свойства, — тем временем воодушевлённо тряс красным зобом медицинский полковник. — Впрочем, что там Ланге? Первые упоминания о целебных грязях этого озера мы встречаем у античных авторов. Геродот, Плиний Старший, Клавдий Птолемей говорят о них, можно сказать, наперебой…
Вопрос, что делал здесь, в такой дали от Гурзуфа, места дислокации своей зондеркоманды, её фюрер Габе, вскоре отпал сам собой. Контора грязелечебницы — несколько пузатых колонн с насупленной на них наполеоновской треуголкой фронтона с тройным медальоном бородатых «Фавнов Коммунизма», как прозвал для себя Карл-Йозеф «святую троицу» октябрьской русской революции, находилась прямо напротив гостиницы. За гипсовым бассейном фонтана, знакомо безликого, как и всякая провинциальная отрыжка столичной помпезности. Что твоя гипсовая Матильда с веслом где-нибудь в дальнем берлинском форштадте, что Маша с тем же веслом в Подмосковье… Теперь тут, в паре вёрст от западной окраины Евпатории, располагался небольшой танкоремонтный заводик, поскольку в самом городе, после отчаянного рейда севастопольцев в декабре 41‑го, мало что осталось в смысле камня на камне. Церковь, костёл, кенасса и ещё нечто ритуальное, вроде как и фундаментальное, но для размещения оборудования малопригодное. «Текие дервишей» — лучше (то есть хуже) и не скажешь.
Догадку, что именно на завод, а не в самодеятельную грязелечебницу Шламе поваляться в целебной грязи да засолиться в целительной рапе, прибыл Дитрих-Диц Габе, подтвердило явление ещё одного старого знакомца Бреннера по тем страшным майским событиям. Со скрежетом разъехались на рельсах железные ворота с легионерским орлом на широких створках, под надписью: «Kampfwagen Werk» [11], и на бульвар, вздыбив клубы глинистой пыли, вырвался полугусеничный бронетранспортер «Schwerer». Скорее всего, именно тот «der Krokodil», что увёз тогда, в мае, в русский плен личного адъютанта Бреннера, долговязого СС-штурмана Стефана, а потом был сброшен то ли русскими диверсантами, то ли партизанами? — как это у них говорится: «Хрен не вкуснее редьки»… [12] — в пропасть. И, видимо, только теперь вышел «Schwerer» из ремонта.
И вот, надо же, выкатился день в день, минута в минуту, как только Карл-Йозеф Бреннер ступил за порог грязелечебницы Шламе, открытой при благожелательном попустительстве Гиммлера как один из прообразов будущего Готланда.
И вышел Карл-Йозеф тоже, можно сказать, из ремонта.
— Даже если это у вас так называемые фантомные боли, — продолжал разглагольствовать потенциальный министр здравоохранения будущей «земли» великого рейха, — возьму на себя смелость утверждать, что не сразу, конечно, но месяца через три-четыре они пройдут.
— За это время, как мне сказали в Вене, они и сами проходят с божьей, а не врачебной помощью… — почти дружелюбно заметил Бреннер.
Он почувствовал облегчение с той минуты, как штурмбаннфюрер Габе в сопровождении двух солдат направился к пятнисто-зелёному, как жаба, бронетранспортеру.
— Может, это прозвучит как-то не слишком по-христиански, но я не приходской врач, герр Бреннер, а военно-полевой хирург, — снова поджал губу Шламе. — Поэтому утешать вас не стану. Болезни опорно-двигательного аппарата весьма коварны и разнообразны. Ваши симптомы могут свидетельствовать и о банальном радикулите или ревматоидном артрите, как инфекционном, так и дистрофическом. Но в качестве остаточных явлений травмы это может быть и повреждение периферической нервной системы…
— Да ну вас к чёрту, Шламе, — проворчал Карл-Йозеф. — Теперь вы мне эпитафию сочиняете.
— Отнюдь, — почти торжествовал полковник, — только диагноз. Пусть не самый оптимистический, но, с учетом обстоятельств, вам неслыханно повезло, поскольку бальзам и панацея от всех возможных ваших болячек у вас под ногами. Бодрее, господин гауптштурмфюрер, вы на курорте, которому нет аналога во всей Европе. Или вы думаете, напрасно Геринг вывозит эту грязь целыми вагонами в Альпы? Там, в пещерах, специально вырубаются ванны.
«Пошёл ты со своими ваннами…» — раздражённо подумал Карл-Йозеф, поймав себя на том, что пытается утешить правую руку.
Похоже, этот докторский стих латынью, — ревматоидный артрит… дистрофический… периферическая… фантомные… — раздраконил едва унявшуюся с утра боль. То ноющую, то нестерпимую, как при обновлении первичной перевязки.
«Фантомная боль, или сигнал повреждённой нервной периферии?..» — Поскольку гладил гауптштурмфюрер Бреннер левой рукой правую перчатку, натянутую на протез.
Ещё и поэтому освежение столь малоприятного знакомства, — знакомства с командиром «полевой жандармерии», — в планы Карла-Йозефа никак не входило. Как бы там ни было, но именно он, штурмбаннфюрер Габе, командовал тогда прикрытием его встречи с бывшим агентом «Игроком». Встречи, на которой гауптштурмфюрер Бреннер был убит, — по замыслу «Игрока».
Три месяца тому назад. Оккупированный Крым. Гора Аю-Даг
— Auf Wiedersehen… Прощайте… Во всех смыслах… — добавил Войткевич, уже канув в лесную глушь, как в небытие. Только отступил куда-то в сторону, выйдя из серебристо-дымного луча лунного света, — и ни шороха.
Бреннер не сразу даже спохватился, да и не пытался отследить, куда подевался бывший его агент «Spiller», «Игрок». Его внимание приковал дуб, дупло, темневшее на уровне его головы. Отмахнув рукой в сторону дебрей, дескать: «Halt!» — не хватало ещё, чтобы штурмбаннфюрер Габе рванулся задержать Войткевича, — Карл-Йозеф поднялся. Он не мог допустить, чтобы «расстрельный список», оставленный ему «Игроком» Якобом, попал в чьи-либо руки. Список завербованных им, «Игроком», сотрудников абвера в период с 1939 года по 1941‑й. Как выяснилось, агент «Игрок» неплохо справлялся как с ролью завербованного агента абвера, так и с амплуа советского разведчика. И если кто-либо узнает об этой его, Бреннера, ошибке… («Какой, к чёрту, ошибке?! Провале! Три года курировать агента ИНО НКВД?!») то удастся ли ему, Бреннеру, доказать, что это был только провал, а не предательство? После похищения русскими его собственного адъютанта Стефана Толлера к нему и так вопросов больше, чем хотелось бы. Поэтому никто, даже этот мальчишка Габе, что сидит сейчас в засаде со взводом своих «фельдполицай» чуть поодаль поляны, не должен знать. А он, может быть, тем более. «Очень смышлёный, и очень некстати, мальчик», — подумал Бреннер, сунув руку в чёрный зев дупла.
— Записка?! Мой бог, да здесь их столько!..
Он вынул целую горсть то ли бумажек, то ли жёсткой дубовой листвы. «И впрямь, пока найдёшь нужную, можно не то что скрыться, а занять оборону и окопаться в полный рост…» — глянул вдогонку исчезнувшему Якобу Карл-Йозеф и, зацепившись локтем за край дупла, полез свободной рукой в карман за фонариком. «Впрочем, кажется, повезло», — облегченно вздохнул он, высветив скромным огоньком содержимое горсти.
Первая же бумажка в комке пожелтевших и даже полуистлевших посланий была исчёркана угловатым латинским шрифтом.
«Стефан любит Мусю. 13.07.26 г…» — успел разобрать немецкое «Ich liebe Musja…» Карл-Йозеф и вдруг ослеп. Боль, страшная и странная боль, — локоть, оставленный в дупле, будто продёрнуло электричеством…
…Нервный смешок по поводу того, что вместо компромата на самого себя, он обнаружил в дупле пионерского «почтового дуба» любовную записку своего адъютанта, — «Die volle Idiotie!» — не оставлял Бреннера всё время. Больше часа, пока его, контуженого, шокированного и окровавленного, но почему-то не потерявшего по-акульи стоического сознания (даром, что выпотрошили — живёт и готова кусаться тварь морская!) — спускали со спины Медведь-горы. И ещё полчаса, пока везли в гурзуфский госпиталь. И даже потом, в Вене, уже с протезом на руке, частенько вспоминал он за покером, как бравурный фронтовой анекдот: «Вообразите, без малого двадцать лет прошло, как мой болван, упокойте черти его душу, оставил в дупле дуба записку пионерской вожатой, в которую был влюблён без памяти. Что вы удивляетесь? Он тоже был пионером. Рыжий, с оттопыренными ушами «спартаковец» Веймарской республики отдыхал в советском пионерском лагере по приглашению Сталина. Как у них там, «Die Proletarier aller Länder verbinden Sie sich! [13] Пить водку…»
О том, за каким дьяволом сам гауптштурмфюрер на крымской Медведь-горе сунулся в дупло «почтового дуба», он многозначительно умалчивал. «Не те собеседники» были, чтобы расспрашивать об этом контрразведчика, и сами понимали, что они «не те».
— Бедный Стефан… — подытоживал армейские байки Карл-Йозеф, прежде чем разговор снова возвращался к новинкам сезона Венской оперы. — Русские его убили.
По крайней мере, Карл-Йозеф на это надеялся…
Надежды оправданные, не очень — и очень не…
Оккупированный Крым. Район действия 2-го партизанского сектора. Июль 43‑го
Приплюснутое рыло бронетранспортера разнесло деревянные останки телеги на краю поля, как городошную фигуру, но тут же зарылось в бугор ржавой земли, вдруг поднявшийся под его передними, в рубчатых автомобильных скатах, колёсами. Сопровождаемый раскалённо-белым пунктиром пуль, Сергей Хачариди кубарем откатился с пути «Scherer». Вздыбленная земля и клочья стерни уже через мгновение опали, и Войткевич с облегчением заметил, что одно колесо бронетранспортера соскочило с оси. Граната Сергея пришлась как нельзя впору. Из кузова «Scherer» посыпались мешковатые фигурки в каменно-серой форме фельдграу.
Но перевести дух Яша не успел. Подбрасывая на рытвинах коляску с пулемётчиком, из-за бронетранспортера выкатился «BMW» полевой жандармерии, затем другой.
Первый наткнулся на длинную очередь Войткевича, не глядя махнувшего в его сторону стволом «шмайссера», но второй успел озариться огненным рваньём, полыхнувшим из щелей ствольного кожуха «MG». Очередь выбила фонтаны земли совсем рядом.
Яков перекатился в сторону и вновь нажал спуск. И только через несколько секунд, а может, минуту, — в горячке перестрелки разве поймёшь, — в сознание лейтенанта проник и заставил обернуться чей-то вопль:
— Горит!
Первый транспортник «Ли-2», груженный и даже перегруженный, к тому времени уже взревел двигателями и, тяжело вскидывая элеронами хвостового оперения, стронулся с места, набирая ход, — и тут из заслонок охлаждения вырвались чёрные вихри копоти и длинные языки пламени.
— Стефан! Стеша! — драл глотку Войткевич, слепо продираясь в свалке человеческих тел, то ли рвущихся на свободу, то ли уже агонизирующих в задымленной крематорской камере, в которую превратился грузовой отсек «Ли-2». — Стеша, сукин сын, голос!.. — бесцеремонно отбрасывая с пути чьи-то тела, невидимые в удушливом дыму, орал лейтенант. — Аська, б..!
— Кто бы говорил… — прохрипело над самым ухом, и Яша инстинктивно пригнулся.
Пригнулся раньше, чем успел вообразить, на какие тяжкие может пуститься «абверовская…», чтобы бежать, воспользовавшись суматохой. И как сумела освободить руки? Сам же связывал.
Оказывается, — никак. Подкованный каблук «кирзача» махнул над спиной Войткевича маятником и наверняка свалил бы кого-нибудь в этой давке, если бы, также рефлекторно, Яша не поймал задник сапога, задрал к своему плечу и двинул кулаком в пах. Опять-таки, не успев сориентироваться, что вроде как и незачем, не фельдфебельский пах, ничего там такого. Ну да всё равно помогло. Больше оскорблённую, чем оглушённую болью, зловредную «радистку» лейтенант выбросил из загоревшегося самолёта уже беспомощной тряпичной куклой.
Стефана он тоже нашел, но позже и поздно. Стефан скалился по-лошадиному длинными зубами и таращился на него стеклянным глазом в пустой глазнице пенсне.
«Неужели успел задохнуться?» — недоверчиво удивился Яков и рванул стоячий ворот чёрного мундира с эсэсовской петлицей. И совсем уже не удивился, когда увидел неестественно свёрнутый набок кадык на тощем горле пленного.
«Аська, сука, — хмыкнул про себя Войткевич. — Коленом, что ли? Довела-таки дело до конца… А Портнова?..» — отмахивая змеистый дым, он всмотрелся в фигуру подле неподвижного Толлера. Отрядный особист Портнов скорчился, будто торопился на вожделенные юга на четвереньках, да так вот и не поспел. «Тоже её работа?»
Разбираться в этом было уже некогда. Дымом и резиновой копотью тесный отсек заволокло настолько, что ещё несколько секунд — и придётся ему искать выход отсюда, как той крысе в незнакомом чулане, бессознательно. «А с опалёнными усами, — шарахнулся от пламенного вихря Войткевич, — и эти шансы равны нулю…»
Шарахнувшись, он натолкнулся на кожаный планшет особиста. Тот самый, с сопроводительными документами. Подхватил его машинально и рванул вслед слоям бурого дыма, плывущим к выходу.
* * *
Над понурившимся бронетранспортером «фельдполицай» тяжёлый «Ли-2» пронесся багровым апокалипсическим демоном. Днище, подсвеченное пламенем гигантского костра, в который уже превратился оставленный на враждебной земле собрат, заставило невольно пригнуться россыпь фигурок в серых мундирах. Две из них растянулись на рыжеватой стерне, две закружились на месте, прошитые крупными стежками свинца.
Стреляли с самолёта.
Затолкав последнего, кого мог — кого не попёр отчаянным матом пилот, — в брюхо второго транспортника, Войткевич уже хотел было и сам выпрыгнуть обратно. Туда, где оставшиеся с командиром разведгруппы партизаны откатывались в сторону леса. Но заметил, как наперерез валкому разбегу самолёта высыпала разношерстная толпа «оборонцев». В присутствии немцев расхрабрились-таки паладины, вылезли из подпаленного своего муравейника, и теперь кипят жаждой мести.
Яков Осипович выругался и, упёршись ногой в обрез люка, полоснул по халатам и длиннополым рубахам «шмайссером» от живота. Кто-то ещё, грузный, подсунувшись помочь, загромыхал «шпагиным», придавив колено Войткевича, — так, что драгоценные секунды, пока ещё можно было спрыгнуть туда, где оставались бойцы Хачариди, его отчаянные мальчишки и, возможно, оставался ещё Антон, были потеряны. Теперь, не свернув головы…
— Ти хоч і сокіл… — дёрнул его за штанину Руденко. Оказалось, это начштаба с «ППШ» завалил своей болезненно-рыхлой тушей люк. — Але літати не вмієш.
Транспортный самолёт уже пронёсся в предрассветном синеватом сумраке над рыжей «султанкой» минарета. Ещё через мгновение позолота полноценного дня облила фюзеляж. Собственно, утро в горах — явление топографическое, хоть карандашом вычерти.
Яков зло сплюнул через плечо в это пылающее, адское утро. Утро, которое и в случае самого успешного своего исхода, — если доберутся они до кавказской стороны без приключений, — не предвещает ему ничего особенно радужного.
— Доставишь пленную к своим, в штаб флота… — просипел Руденко, утирая рукавом лихорадочный пот, и даже, кажется, значительно подмигнул. — Бо я, бачиш, пораненый.
«Ну да… — криво усмехнулся лейтенант. — В кого Булатову потом чернильницей швыряться? Особист — убит. Начштаба — ранен. Прошла ещё одна пайка медалей прахом, мимо Крымского обкома. Вот только, — нахмурился Яков и потянул брезентовую петлю люка, — где на том берегу мои?..»
Но вслух сказал только:
— Служу трудовому народу.
— Планшет Портнова не забудь… — уже прикрывая воспалённые глаза, напомнил Руденко.
Подождав, пока начштаба окончательно забудется, Яша расстегнул пряжку кожаного ремешка на планшете.
— Должен же знать, что на ярмарку везу, — пробормотал он чуть слышно. — Тем более, что не опечатано, а значит — «зачитать приговор вслух перед строем»…
Хроники «осиного гнезда»
3 июля 1942 г. В районе мыса Ай-Тодор
Костёр Севастополя погас. На последних пятачках на мысах Херсонес и Фиолент последние тысячи защитников теряли последнюю надежду на эвакуацию. Помогали им её потерять пилоты люфтваффе — днем, итальянские и немецкие подводники и катерники — поздним вечером и ночью.
Последние «организованные» попытки эвакуации сорвали именно катерники. Патрулировавшие возможные пути отхода четыре шнельбота обнаружили уходящие на восток два «морских охотника» [14]. Два часа длилась артиллерийская дуэль (после того, как советские катерники блестяще уклонились от торпедных атак).
Но силы были слишком неравными: каждый СКА уступал по всем статьям шнельботу, а у немцев было ещё и двойное преимущество в численности. Преимущество было на стороне русских разве что в том, что дрались они с отчаянием обречённых, и победа не досталась немцам даром. 45‑мм снаряд с русского катера попал в «S-40», пробил левую торпедную трубу и вызвал взрыв торпедного резервуара со сжатым воздухом. Сама торпеда не сдетонировала, но в носовом отсеке начался пожар. Пламя удалось сбить, но корпус катера получил серьёзные повреждения, шнельбот потерял ход. Трое матросов были убиты, ещё около десятка членов экипажа, включая и командира, капитан-лейтенанта Шнейдер-Пангса, получили осколочные и пулевые ранения. Были потери убитыми и ранеными также на «S-28» Кюнцеля. И всё же к исходу второго часа боя, когда уже посветлело небо над Крымом, оба советских «морских охотника» были потоплены.
Из воды немцы подняли 37 человек, в том числе командира 109‑й стрелковой дивизии генерал-майора П.Г. Новикова, который возглавлял оборону Севастополя после того, как комфлота адмирал Ф.С. Октябрьский и генерал И.Е. Петров покинули (на транспортном самолёте, взлетевшем с последнего аэродрома на мысе Херсонес) обречённый город-крепость [15].
Тяжело повреждённый шнельбот «S-40» удалось отбуксировать в Ак-Мечеть, а затем в Констанцу. Ремонт затянулся на пять месяцев, а потом ещё полгода катер простоял в резерве без моторов и экипажа. Ремонт поменьше предстоял и «двадцать восьмому», хотя он тоже растянулся почти что до конца месяца. Требовали мелкого ремонта, испытаний и, конечно, пополнения боезапаса и остальные катера.
А тут ещё начались всякие передвижения и перестановки…
Июль 43‑го. Борт «Ли-2». В предчувствии огня и дыма…
Комиссар Портнов не понравился Войткевичу с первого взгляда.
С его, Портнова, первого взгляда, которым он уставился на то «добро» из разбитой гондолы, которое флотские принесли с собой к партизанам. Немедленно приказал он: «Сдать всё в Особый отдел!» А «отдел» тот — он сам, Портнов, и есть. Да и потом, когда ни хрена, кроме четверти фляги спирта, в тот отдел не попало, всю дорогу косился, как раскулаченный. Так что, забираясь в планшет комиссара, Яков почти не сомневался, что найдёт там что-нибудь нелестное о своей особе, какую-нибудь «телегу», груженную чекистской бдительностью. Но находка превзошла все его ожидания.
«Что за..?» — подобрал лейтенант фотографию, вирированную в рыжеватом тоне и с зубчатым кантом, выпавшую из оккупационной газеты «Голос Крыма».
Такие фотокарточки раньше в художественных фотоателье, где-нибудь подле пляжа, печатали: «Привет из Ялты, Гурзуфа…» Яков перевернул фотографию. Так и есть: «Jewpatoria», — было подписано с обратной стороны. И чуть ниже, тоже по-немецки, знакомым убористым почерком: «Am 7. Juli 1943».
«То есть?!» — ошеломленно уставился на надпись Войткевич.
«Недели две назад…» — с убийственным хладнокровием документа подтверждала подпись.
С парадной стороны, с аверса фотки, этаким Наполеоном заправив правую руку в перчатке за борт эсэсовского мундира, надменно хмурилась жёлчная, с ещё более обострившимися складками, мина Карла-Йозефа Бреннера. Будто бы и впрямь недовольная необходимостью позировать в компании чопорного докторского халата и игривого фартучка медсестры.
Неожиданное воскрешение его бывшего «куратора» от абвера ошеломило Якова настолько, что даже затмилась как-то горячка только что прошедшего боя, только что минувшей опасности.
А бой был нешуточный и опасность немалая. И, по сути, нависла она с самого раннего утра.
С самого раннего утра…
— Ты чего это спирт лакаешь, как неверный? — иронически нахмурился Войткевич, заметив поползновение татарина к фляге на ремне.
— Да я просто… — смутился Шурале Сабаев, возвращая руку на приклад пистолета-пулемета Шпагина. — Замёрз немного.
Широкоплечий татарин, который, казалось, едва умещался в карстовой «дырке» — округлом провале на краю скального отрога, и в самом деле ёжился и вздрагивал. Но вряд ли только от ночного промозглого тумана, плывущего над краем провала белёсым дымком. Тумана, в грибную прель которого вплеталась едва различимая гарь сигнальных костров. Костров, не заметных ни отсюда, почти от подножия склона, ни вообще с земли, поскольку горели они в глубоких ямах на давно непаханом поле.
— Не психуй, всё будет красиво, как на параде, — подмигнул татарину Яков.
…Хотя, по правде сказать, особой уверенности в том, что всё произойдет именно так, как обещал по рации командир отряда, вылетевший на Большую землю месяцем раньше по вызову ЦШПД [16], не было. Уже потому, что настоял на эвакуации Беседин наверняка через голову представителя Центрального штаба по Крымской АССР и первого секретаря Крымского обкома Булатова. Можно сказать, в пику. Хотя, формально, тот «взял на себя» исполнение приказа Центрального штаба. Не только этого. Но на «обкомовских» сейчас, после стольких месяцев голода, крови, потерь и лишений, вообще у большинства настоящих партизан полагаться привычки не было. Одно название только, что Крымский штаб партизанского движения.
«Греют там себе пузо в Сочи, шашлыки нарзаном запивают, — скрипнул зубами Яша. — И всех только забот, чтобы не достались кому другому лавры. Кому? А нам, тем, которые тут, и лаврового листка не нюхавши, со сведённым от голода брюхом, выгрызают Крым у немца из глотки…»
Впрочем, едва ли от таких штабных тонкостей бил мандраж даже такого матёрого и далеко не робкого десятка партизана-разведчика, как Шурале Сабаев. Немцы, крепко получив этой зимой по зубам под Сталинградом, вообще озверели. Дошло до того, что, едва ли не впервые с 41 года, в охоте на партизан, ранее отданной на откуп татарским добровольцам и румынам, приняли участие и кадровые части вермахта. Раньше-то, случалось частенько, даже местное командование «фельдполицай», получив от татарских «оборонцев» сообщение: «Зажали-де партизан на окраине посёлка, присылайте расстрельную команду…», махали рукой: «Сами справляйтесь. Живодёрня — по вашей части…» А теперь и в самую мартовскую непогоду, в слякоть и метель, могли в горах объявиться цепи автоматчиков в каменно-серых куртках горных стрелков, подгоняя разношёрстную орду добровольцев.
С тех пор как немцы взялись за очередное «окончательное решение партизанского вопроса», горстка оставшихся в живых, ослабевших и измученных, партизан оказалась полностью блокированной в горах и фактически обречённой на вымирание. Вывоз больных и раненых на Большую землю почти прекратился, а редкие операции превратились, по сути дела, в бои за пропитание.
Хотя и тут трудно сказать, кто у кого харчи грабил. Для партизан отбить из румынского обоза лошадёнку на убой — и то было редким везением, поскольку татарские хозяйства, как осиные гнезда, трогать было себе дороже. А для самих татар охота за грузами, которые сбрасывались партизанам с парашютов, как манна небесная, дальними бомбардировщиками, — стало чем-то вроде национальной забавы. Меньше трети перепадало голодным партизанам: обычно заставали разведгруппы уже раскуроченные парашютные гондолы, а нередко и засады.
На таком безрадостном фоне принять сразу два транспортных «Ли-2», наверняка хорошо загруженных продуктами и боеприпасами, и обратным рейсом эвакуировать больных и раненых, — а это почитай две трети отряда! — да ещё пленных отправить, казалось удачей редкостной. Но и затеей крайне сомнительной. Да что там, почти невыполнимой. Двухмоторный солидный «Ли-2» — это, всё-таки, не кроха «У-2», снаряжённый пламегасителем и шумоизоляцией двигателя, который может беззвучно, как ведьмина ступа, приземлиться на любом скальном уступе.
Но и забрать, даже в шикарном штабном варианте «У-2ШС», может он не больше четырёх человек, как в последний раз, когда прилетели отчаянные девчата за Бесединым. А отправлять надо полсотни. Так что ожидалось два транспорта. Две немаленьких машины бывшей гражданской авиации. А в этих местах и одну посадить некуда. Куда ни глянь, — словно руины древнего замка, высятся в слоистой пелене тумана мрачные башни и зубцы скал, утёсы и уступы, куда только горные козлы, дразня голодное воображение, взбираются с лёгкостью дыма.
Так вот, чтобы посадить самолеты, пришлось спуститься в долину и жечь сигнальные костры практически под носом у татар, в ямах на дальнем колхозном поле. Было б сказано, на дальнем. До Казанлыка — рукой подать: туман рассеется, и будут видны рыжие черепичные крыши, восковой огарок мечети. В общем, не зря знобило Сабаева.
«Его, небось, особенно…» — покосился Яков на бывшего циркового силача, на котором даже солидный некогда двубортный реглан смотрелся детским подстреленным пальтишком.
На то, что осталось от волжского татарина Мустафаева, которого, застав зимой на костровой площадке, «добровольцы» приняли за своего земляка, смотреть нельзя было без содрогания…
— Где ж там Серёга делся? — чтобы отвлечь приятеля от мрачных мыслей и самому отвлечься, произнёс вслух Яков и, морщась, привстал было на затекших ногах.
— Нишкни! — прошипел на него затребованный Серёга и, опрокинув лейтенанта назад, в каверну, ссыпался вниз прежде, чем Войткевич успел сообразить, откуда он взялся как чёрт из табакерки.
Следом за Хачариди, с шорохом известковой крошки, съехал и верный адъютант командира партизанских разведчиков, щуплый мальчишка лет четырнадцати с взрослым не по возрасту взглядом из-под насупленной ушанки. Володька Яровой.
Не успев перевести дыхание, Сергей прохрипел:
— Полный ахтунг, Яков Осипыч.
Прочистив горло и смачно сплюнув, он продолжил:
— Знали бы, что там такая ерунда творится, не мёрзли бы тут, на отшибе, и с дровами на брюхе не ползали бы, а сидели б сейчас, как те пионеры у костра, чаи гоняли да песни горланили.
— Давай без аллегорий, — хмыкнул лейтенант Войткевич, хоть и сам уже понял: оправдались, как водится, самые худшие опасения.
— Если без аллегорий, товарищ лейтенант, то они тоже ждут, — Серёга мотнул головой в сторону деревни. — Человек чуть не полста собралось на том краю. У реки прячутся.
— У реки? — слегка удивился Яков Войткевич, переглянувшись с другим партизаном, спешенным матросом Арсением Малаховым, широкую грудь которого, кроме рваного тельника, украшал трофейный цейссовский бинокль.
Тот озадаченно почесал в кое-как стриженом загривке:
— Да я битый час высматривал…
— И хрен бы высмотрел, — отмахнулся Серёга. — Там, после первого селя, столько хворосту и дерева нанесло, что твой бурелом таёжный…
— Давно сидят нехристи?
— Думаю, с самой ночи. — Сергей со скрипом облезлой кожанки пожал плечами. — К ним то и дело какая-то чадра с горячим чайником бегает.
— А чего ж до сих пор не лезут? Думаешь, самолёт ждут?.. — с сомнением, больше размышляя вслух, пробормотал Войткевич.
— Не думаю, что ждут, — роясь в карманах кожанки, помотал Хачариди курчавой, как у мифического фавна, головой. — А думаю, мы их с панталыку сбили. Привыкли, понимаешь, нас во мху да под пнями выискивать, а мы тут всей оравой сами припёрлись: «Селям алейкум!». Вот и не знают теперь, то ли счастье привалило, то ли полный амбец.
— Подкрепления ждут, — согласно кивнул Войткевич.
— До свету не дождутся.
Серёга Хачариди поднял голову. За обрезом провала виднелись вершины окрестных гор, с которых только-только сползали позолоченные языки тумана, скатываясь, оседая в долину, где ещё царил достаточно густой предрассветный сумрак. Утро приходило в долину с заметным опозданием.
— Немца таки точно не дождутся, — сделал вывод Серёга и, неодобрительно покосившись на своего ординарца, взял всё-таки из его ладони протянутую самокрутку.
И не удержался, одёрнул:
— Здоровья на два чиха, а туда же, курит…
Володька насупился и промолчал.
— …Немец впотьмах горами не поедет, — продолжил Хачариди, кресанув трофейной зажигалкой, — а с соседних сёл и звать особенно некого, всех джигитов угнали Зуйские леса прочёсывать.
— Говоришь, в хворосте прячутся… — рассеянно, словно пропустив мимо ушей последние слова разведчика, повторил лейтенант. — А сухой там сейчас хворост?
Хачариди глянул на него вопросительно, а потом перевёл взгляд на язычок пламени, так и не донесённый до самокрутки, и криво, чтобы не сказать зловеще, усмехнулся:
— Как порох.
— Что у нас есть подходящего?.. — после минутной паузы спросил Яков Осипович у Сергея Хачариди, само собой, более осведомлённого в содержимом каптёрки разведчиков.
Правда, от каптёрки той, в последнее время, осталось — снарядный ящик да два «сидора» за плечами.
— Бензина есть литра три, с жандармского мотоцикла слили на случай «коктейля Молотова», — сразу же ответил партизанский разведчик, уже успевший обмозговать идею флотского коллеги. — Тряпья у баб возьмём, соломы полно на поле, сырая, но с бензином пойдёт, а главное, — он извернулся на краю карстовой ямы и ткнул самокруткой куда-то в туман, стелющийся над порыжелой, парной ещё, землёй, — там телега есть, вернее, что от неё осталось. Но осталось-таки главное.
— То, что делает её колесницей? — уточнил лейтенант.
— Именно, — хмыкнул Серёга. — Колёса. Аж три.
— Средневековье какое-то, катапульты только не хватает: навозом кидаться, — проворчал Войткевич, щурясь вроде как с сомнением, но азартно, словно за карточным столом. — Пока разгорится чего-нибудь от этих твоих колёс с тряпками, их та же Зульфия из чайника зальёт.
— Пока разгорится, будут они у меня сидеть как каплуны в духовке, ждать румяной корочки, — похлопал Сергей по затворной крышке своего верного чешского «SB» с непривычной ручкой для переноски и магазином, торчащим сверху.
— Всё хотел спросить, ты где такой экзотический трофей раздобыл? — кивнул на пулемёт Войткевич. — Ни у немцев не видал, ни у румын…
— Словаки. Есть тут ещё и такая босота, — подал голос из ямы Арсений Малахов. — Это они Серёге такой талисман задарили. Он теперь с ним и в баню ходит.
— Словаки? — удивился Войткевич.
— Но это очень долгая история [17], — отмахнулся Сергей. — Не время сейчас.
— Не время, — согласился лейтенант и съехал на животе с края ямы, где они с Хачариди осматривали поле и спуск к реке. — Вовка, дуй за тряпьём и бензином!
Мальчишка дёрнулся было наверх, но вдруг нахмурился и вопросительно уставился на своего кумира и «первый номер» пулемётного расчета, мол: чего это он тут командует?
Сергей ответил нарочито строго:
— Что вы глазами хлопаете, рядовой Вовка? Сказано, дуйте, значит, тужьтесь… исполнять команду старшего по званию, — подмигнул он заговорщицки.
Вовка зашуршал известковой крошкой, ловко выбираясь наружу.
Проведя мальчишку насмешливым взглядом, Войткевич щёлкнул корпусом золотого брегета.
— А ты, Сергей Батькович, если не против исполнить команду старшего по званию, выбирай позицию татар шугать. Скоро транспорт придёт. И ты, правоверный, — обернулся он к Сабаеву. — Хорош спирт лакать, как гяур последний, с ним пойдёшь.
— Я и не правоверный, и не гяур… — вздохнул Шурале, закручивая крышку фляги.
— Это как? — вздёрнул бровь Яков Осипович.
— А так. Ни русский, ни татарин. Я вообще шайтан знает что такое. Национальный кадр… Был, до 28‑го… [18]
Нацвопрос и вопрос чести
Двумя неделями раньше. Туапсе. Отдел Смерша НКВД
— У нас нет национальностей, — назидательно повторил подполковник Кравченко, впрочем, тут же осёкся: «Мабуть що, переборщив». — В значении большем, чем, скажем, Закавказский ансамбль танца и свистопляски… — раздражённо поправился он. И снова патетически возвысил голос, так что старший лейтенант Новик на табурете подследственного даже обернулся: нет ли тут благодарных слушателей? Часового, откровенно спавшего с открытыми глазами и бдительным выражением у двери, в таковые явно можно было не засчитывать.
— У нас есть советский народ и предатели советского народа! — плакатно поднял указующий перст подполковник. — Вот применительно к ним и уместно упоминание национальности, в негативном, так сказать, контексте.
Кравченко неопределённо помахал рукой и, в конце концов, отмахнулся: «Тонкое это дело — национальное самоопределение. Шаг вправо-влево — и уже, неровён час, национализм».
— Так что советской властью преследуется не грузин!..
Наткнувшись на иронический взгляд подследственного, брошенный исподлобья, Трофим Иванович суеверно поёжился и, обернувшись на портрет вождя, глянувшего со стенки особенно пытливо, подытожил тоном почти извиняющимся:
— Не грузин, а грузинский националист.
— Кто? — с улыбкой поинтересовался старший лейтенант. — Десятилетний мальчишка? Грузинский националист?
— Время такое, военное… — откровенно юродствуя, развёл руками следователь. — И чукотский нацист может случиться. И, кстати сказать, вы только что сами косвенно подтвердили причастность вас и вашей жены к укрывательству… — Кравченко порылся на столе в ворохе бумаг и выдернул школярский тетрадный листок в косую линейку. — К укрывательству члена семьи царского полковника Симона Лилуашвили, — торжественно зачитал он.
Затем — как-то сразу после «…швили», ещё раз покосившись на портрет вождя, о котором знал не только родовую фамилию и клички, но и всяческие инсинуации насчёт соседа-богача и чуть ли не князя, как положено в сих краях, и даже заезжего открывателя лошадей, сменил тон:
— …Одного из руководителей белогвардейской РОВС и фашистского наймита. С которым вот, — помахал тетрадным листком следователь, — вашу жену видели сегодня около полудня на майдане… на площади, — поправился он, — перед горисполкомом, когда она садилась вместе с ним в машину хозвзвода вашего подразделения.
«Надо же, — промелькнуло в голове Новика, как бы ни была она занята тревожными мыслями о самом главном, о Насте. — Может таки, зря свернул челюсть тому капитану. Мало ли кто чего видел. Прямой привязки его «пьяной» потасовки с нарядом НКВД к спасению Мамуки документировано не было. Хотя уж кому-кому, а капитану войск НКВД по охране тыла она была предъявлена и подбита лиловой печатью под глаз, со всем торжеством, так сказать, армейской юриспруденции, и не далее как сегодня утром.
Капитан Зарубин тогда и впрямь сразу сообразил: «Что-то тут не так, не то что-то…» Неспроста этот загорелый нагловатый молодчик, вроде бы в линялых солдатских штанах, но по воскресному выбритый и пахнущий «Шипром», вообще какой-то «не по пролетарски» ухоженный… — комедию тут ломает. Расселся на узкой, как трап, железной лесенке — ни пройти ни проехать, — бормочет чёрт знает что: «А-а… Капитан, крыса трюмная…» — вроде лыка не вяжет, а глазки-то не мутные, как ни закатывай, как ни растирай их ладонями, мол, не отошёл ещё после тёщиных именин.
Раз-другой царапнул бравого капитана искоса брошенный цепкий взгляд чёрных зрачков, словно скользнул «бегунок» по мудрёной логарифмической линейке. И Зарубин, моментально забыв про «пьяного», стал озираться: «В чём дело? По какому поводу бенефис? Ага…»
На террасе перед квартирой, указанной в доносе, — наверняка, перед ней, — послышался шум немалого переполоха. Стук упавшего стула, звон кувшина об умывальник, по-детски высокие, но характерной гортанности, вопли. Таких воплей наслушался капитан охраны тыла в прифронтовом Кавказе до звону в ушах. Да ещё бабья, взахлёб, скороговорка: не то причитает, не то упрашивает.
«Да ты такой же пьяный… — зло глянул капитан себе под ноги и покачал головой, — как и солдат, кстати сказать…» — окончательно понял он. Вот что показалось Зарубину во взгляде загорелого парня «особенно трезвым»: не просто фронтовая привычность к опасности во взгляде, а командирская выдержка и решимость.
Даже если принимается решение: пойти и сдохнуть всем личным составом на неразведанном минном поле, — взгляд командира должен быть именно таким, без тени сомнения.
— Этого в комендатуру! — отпихнул коленом «пьяного» капитан НКВД. — До выяснения. Справа, на веранде! Блокировать все выходы…
И замахал руками капитан Зарубин, заметив, как пёстрым платком сорвало с той веранды, будто ветром вынесло, ситцевый сарафан, как разметало по плечам чёрные волосы; и крикнул, услышав, как дробно и тяжело ссыпались по железным ступеням маленькие босоножки — оттого тяжело, что ноша под мышкой визжала и упиралась.
— Девку, девку с пацаном держите!.. — и указал в ту сторону.
И этот его вопль, видимо, было той самой парой лишних слов, после которых теряют дар речи, а то и зубы. Словно кинопроектор в мозгах Зарубина спьяну сшиб завхоз клуба. Кадр опрокинулся, и последнее, что он увидел, прежде чем прогорела и ослепла белизной кинопленка, был по-боксерски расчётливый прищур чёрного глаза. Прищур, который никак не соответствовал последнему, что капитан услышал.
— А ты на той передовой был?! — невнятно, будто заплетающимся языком, но с ослиным энтузиазмом проревело в его ушах.
«А то не был?!» — с сердцем возразил Зарубин, но не услышал себя. Как тогда, когда контузило его, строевого капитана, тогда ещё замкомбата «нормальной» фронтовой части, в упорном бою под Моздоком.
И всё равно: хоть и не помянул капитан, что княжьего отпрыска Мамуку Лилуашвили утащила из-под носа наряда НКВД жена пьяного офицера разведштаба флота, нашлось, кому проследить завистливым глазом: «Уж больно красивая пара, этот таинственный офицер разведки и юная медсестра. Уж чересчур счастливы при любви и молодости, при своих тыловых пайках, как будто войны нет…» Может, и не так складно подумало внештатное «бдительное око НКВД», но что-то в этом духе оказалось нацарапанным на тетрадном листке в косую линейку.
«Небось, та же паскуда, что настучала, и увязалась за ними на площадь, — мрачно уставился на школярски-фиолетовые линейки лейтенант Новик. — Где же ты, Настя? Взяли, нет?»
— Разумеется, мы её взяли, — словно услышав его вопрос, торжественно сообщил Кравченко, словно речь шла об опытном фашистском диверсанте и, навалившись локтями на стол, придвинулся к лейтенанту. — В госпитале, как только она вернулась с вашей базы в Ашкое.
Новик поднял взгляд с листка на подполковника. Несколько секунд они молча рассматривали друг друга лицом к лицу, пока Кравченко не почувствовал себя «на короткой дистанции», наверное даже, на слишком короткой, — и невольно сдал назад, на стул с гнутой спинкой.
— Так что тебе, я думаю, не надо объяснять, что как муж, как мужчина, в конце концов, — развёл руками следователь, — ты просто обязан сказать, какое именно твоё поручение выполнила жена. Такая молодая, хрупкая, нежная, такая… — Кравченко чуть было не причмокнул скабрезно, но вовремя спохватился: «Бог его знает, чем обернётся апелляция к мужскому самолюбию отчаянного», и потому сухо закончил:
— Сам понимаешь, если мы её начнём расспрашивать…
Трофим Иванович неодобрительно покачал головой, очевидно, весьма сомневаясь в благородстве своих подчинённых.
— Как вы ей потом в глаза смотреть будете, — хотел было усугубить он трагизм момента, но неожиданно натолкнулся на насмешливую гримасу лейтенанта.
— Вот именно, как? — негромко повторил Новик вопрос следователя. И ответил на него про себя: «А посмотрит она на меня, как на последнего фашиста, если скажу, где мальчишка. Не знаешь ты моей Насти».
— Я могу её увидеть? — спросил он вслух.
— Ну разумеется, — откинулся на спинку стула Кравченко и, заметив, как невольно подался за ним на табурете подследственный, закончил с плохо скрытым злорадством: — Нет. Не в наших традициях. В наших традициях, знаете ли, мучить родственников неопределённостью и ожиданием. И как долго продлится эта мука… — он вновь красноречиво развёл руками.
Но мука неопределённостью, вопреки злорадным обещаниям Кравченко, длилась недолго. Прежде чем бесцеремонно затолкать арестанта обратно в камеру, безымянный сержант с мясницкой мордой, рявкнув как водится: «Пошёл, сволочь!..» — схватил Сашу за шиворот гимнастерки и неожиданно закончил свой дежурный лай шёпотом на ухо: — Девка твоя молодцом, лейтенант. Держится.
И сунул ему в ладонь что-то мелкое, величиной с монету.
Больше ничего не сказал, сколько ни вглядывался Саша в его безучастно-сонную оплывшую физиономию, мелькавшую время от времени в зарешеченной «кормушке» железной двери.
В ладони же, присев сразу за дверью на корточки, лейтенант Новик обнаружил крохотную панагию — образок Божьей Матери. Простенький, медный, ликов не разобрать, тем только и необычный, что на обороте выбиты два слова орнаментальными грузинскими буквами.
Два слова, в которых, не зная ни одной из этих загогулин, командир 2-й разведгруппы Александр Новик сумел-таки прочитать, что с Настей его всё пока что, слава богу, всё нормально, и с мальчишкой — тоже. Иначе откуда у неё, комсомолки заядлой, иногда до смешного, мог взяться этот православный амулет, или как его там положено называть?
«Но это только пока, — вздохнул Саша, затаив свой вздох от тишины в коридоре и от самого себя, и стиснул в кулаке образок. — Может, и недостаточно будет тех каракулей “в косую линейку”, чтобы обвинить её в “пособничестве”. Но ведь могут ещё вычислить и водителя хозяйственного взвода Плетнёва, и тётушку Матэ… И как они себя поведут в случае ареста? Это тебе не в атаку идти…»
Когда ни времени, ни сил…
Оккупированный Крым. Район действия 2-го партизанского соединения.
— Живо! Живо!.. По схеме микер-бикицер, — срывал горло Войткевич, подхватив самодельные носилки со стонущим беззубым «старичком» лет двадцати с копейками. — Времени в обрез!..
Хоть и не ждал лейтенант от татар «безумства храбрых», — измельчали, по его наблюдениям, потомки Чингисхана или слишком привыкли к роли карателей. — Но понимал, что даже если не хватит у них храбрости попереть против партизан и двух стволов крупнокалиберной «спарки» «Ли-2», то огонь, вдруг он каким-то чудом и впрямь в пять минут охватит завалы древесного намыва, выкурит. Полезут. И тогда неизвестно ещё, кому эта его затея выйдет боком. И так уже, после расчётливо коротких, пулемёт Хачариди зачастил длинными очередями — и в ответ, хоть и вразнобой, но густо захлопали винтовочные выстрелы, затрещал сорочьей скороговоркой «шмайссер». А надо ещё второй самолет принимать с минуты на…
«Чёрт!» — скрипнул зубами Яша, увидев ещё пару оранжевых огней, вспыхнувших в горном сумраке. — Живо! Примите этот баклажан! — Он почти вбросил носилки поверх трапа в утробу транспортного отсека. — Прости, друг, — это уже взвывшему от боли «старичку». И хотел было похлопать утешительно парнишку по руке, вцепившейся в жердь носилок, как…
— Пленных вперёд! — оттолкнули его сзади. — Пленных в первую очередь!
Впрочем, несмотря на свою озабоченность «ценным грузом», комиссар Портнов первым вскочил на трап, бесцеремонно протоптавшись по ногам раненого. Пленных же — ошалевшего от ужаса СС-штурмана Стефана Толлера и вслед за ним бывшую радистку-разведчицу Асю, как выяснилось, агента абвера, — выругавшись вполголоса, втолкал в трюм уже сам Яша, оттеснив спиной отчаянное столпотворение эвакуирующихся. «Груз» этот был действительно ценным. Им бы уже с весны в разведштабе флота какую-нибудь «радиоигру» с немцами затеять, а они тут последние крохи со стола сметают.
— Эх, своими руками, — успел ввернуть неугомонный Арсений Малахов, огорчённо глядя на свои ладони, которыми только что подбросил задок радистки в мешковатых штанах в тёмный провал двери. Но, заметив хмуро-вопросительный взгляд Войткевича, тут же оттёр ладони о неизменную рваную тельняшку: — Своими руками бы придушил. Всё. Я что? Я уже на позиции, — закончил он лирические «страдания», перехватил из-за спины «шмайссер» и хлёстко звякнул рукояткой затвора.
— Держите их, как чёрта кадилом! — напутствовал морпеха Яков.
— Куда они на хрен денутся… — нырнул под латаное крыло с красной звездой Арсений.
Но, похоже, что куда-то, да делись. Как-то просочились. Чёрное многоточие пулевых отверстий повторило ряд клёпок на стальном листе фюзеляжа возле самой двери.
Яков обернулся, глянул — но разве поймёшь чего в этом содоме? Рёв моторов и шелест пропеллеров на холостом ходу, гвалт, стоны больных и раненых, командный рокот начштаба и деловитая матерщина, бабьи всхлипы… Непонятно даже, откуда начали появляться на закамуфлированном борту вмятины и дыры от пуль.
Лейтенант начал продираться обратно сквозь пропахшую дымом, потом и, казалось, самым ужасом толпу — и наткнулся на товарища своего по майским событиям, сержанта Каверзева.
— Немцы! — коротко пояснил Антон.
И то ли расслышал кто в толпе его слова, то ли сам увидел… как на другом конце поля показались, разворачиваясь один за другим, с полдюжины трескучих мотоциклетов «полевой жандармерии», а за ними высунулось приплюснутое рыло полугусеничного бронеавтомобиля с встопорщенными «жаберными щелями» радиатора. И тогда более или менее организованная эвакуация окончательно перешла грань панического бегства.
— Усім, хто із зброєю, на правий борт! — направил на толпу дырчатое дуло «ППШ» начштаба Руденко, вообще-то человек по-штатскому мягкий и увалень с виду.
— За мной! — продублировал его команду Войткевич. Продублировал и действием, демонстративно передёрнув затвор новенького трофейного «MP-42».
Отрезвлённые их решимостью, партизаны, кто на ногах, начали также выдираться из толпы, но уже с винтовками и автоматами в руках. Хотел было спуститься к ним и Руденко, но вдруг пошатнулся, будто его кто врасплох ударил по плечу и, косо заваливаясь грузным телом, пропал в проёме дверей. Вместо него на вершине трапа показался пилот в потёртом кожаном шлеме и вполне гражданском свитере.
— Всё! Всё, мать вашу, товарищи! — внушительно рыкнул он на толпу с лицом, раскрасневшимся до пота, но вполне флегматичным. Привык к таким авралам, наверное. — Остальные на второй! — ткнул он большим пальцем через плечо, и, подхватив под мышки Руденко, попятился вглубь салона.
Там, за его спиной, вспыхнул молочным светом круг иллюминатора на противоположном борту, и под днищем самолёта загорелась чищеной медью стерня. Второй «Ли-2», с точностью фанерной тренировочной модели, добежал до первого, встал крылом к крылу и грузно опал на хвостовое оперение.
— Назад! — едва удержал Яша толпу, вповалку попадавшую под днище заполненного самолета, чтобы хлынуть к следующему. — Сначала со мной, кто жив. В оцепление!
Он оглянулся, кого б оставить вместо себя. Подбитые автомобильной резиной сапоги начштаба — последнего представителя комсостава, не считая взводных, — уже втянулись вовнутрь.
— От холера! — рванул вслед за ними Войткевич, мгновенно сообразив, что если это и не конец почти обезглавленного отряда Беседина, то невольное назначение его на новую должность. Да ещё, как бы не само… В этой полусотне почти отчаявшихся, измотанных людей старше его армейским званием и нет никого.
— Портнов! — крикнул Яков в грузовой трюм, битком набитый живым и полуживым человеческим мясом. — Я дико звиняюсь, комиссар! Руденко ранен! Принимай командование! Слышишь… Да слышишь ты, поц?! — наполовину всунулся в трюм Войткевич. — Пленных Смерш встречает, куда они на хрен денутся!
Комиссар «услышал», только когда всё тот же «старичок» двадцати с небольшим лет нашёл в себе силы повторить слова лейтенанта ему чуть ли не на ухо. Только тогда.
— У меня приказ! — нервически взвизгнул Портнов, откровенно забиваясь в угол. — Не имею права!
— Говорит, «сволочь я», — кротко передал «старичок», впадая обратно в забытье. — «Не могу…», говорит…
— Ну, лети, гусь, — скрипнул зубами Войткевич, грохнув кулаком по борту самолета. — На юга…
Как-то сразу и вполне естественно отношения его с Портновым не заладились. С первого, можно сказать, взгляда. Ещё две недели назад.
Оккупированный Крым. Ещё две недели назад…
В отряд Беседина флотские диверсанты разведотдела штаба КЧФ, лейтенант Войткевич и старший сержант корректировщик Антон Каверзев, прибыли не далее как вчера. Явились, как легендарные герои, слава которых, как говорится, бежала впереди них самих. Хотя никто толком и не знал, что там такого флотские натворили в Гурзуфе весной этого года, что из-за них пришлось полностью отказаться от эвакуации и снабжения морем. Немецкая береговая охрана, опасаясь повторной высадки диверсантов, каждую гальку на пляже переворачивала, в каждую ракушку заглядывала.
Как бы там ни было, шороху герои навели изрядно, что твой архангел Михаил в Египте, да и в отряд заявились, как небожители.
Повезло. Завернув по дороге в ущелье, где — как знали разведчики! — на крутой каменной стене повис один из грузовых парашютов, сброшенных для них флотским «ТБ-3Ф», обнаружили «гондолу». Да какую! Не разграбленную, в целости и сохранности. Почти. Так и не рискнув лезть на утёс, «добровольцы-оборонцы» расстреляли контейнер из винтовок, выпотрошив несколько бесценных килограммов муки.
Ещё больше разору навёл сам Войткевич, когда, рассудив: «Сгорел сарай, гори и хата…», взобрался на вершину утёса в обход — и выкорчевал изогнутую сосенку, за которую зацепилась «гондола», удивительно точно рассчитанным по времени взрывом гранаты. Даже булыжники кидал, сходные по весу с «Ф-1», глядя на секундную стрелку, чтобы рвануло не на самом контейнере, а с недолётом. Так что кое-что, что в жестянках было запаяно да и в мешочках холщовых непростреленных, уцелело и после того, как гондола грохнулась в щебень осыпи. И явились разведчики в отряд со спиртом, давно не нюханным, сгущёнкой, давно не виданной, мукой для лепёшек, давно не печённых, и с аккумуляторами для рации, давно умолкшей, вызвав закономерную радость у партизан. Как немалую, так, впрочем, и недолгую.
Услышав распоряжение особиста сдать весь имеющийся провиант в Особый отдел под опись, лейтенант Войткевич подобострастно козырнул: «Есть». И тут же демонстративно раздал всё до последнего сухаря в санчасть и мальчишкам, которых к разведгруппе отряда приписано было немало. Чем сразу вызвал расположение их командира Сергея Хачариди, вроде бы рядового партизана из красноармейцев, но державшегося с таким достоинством и ироническим превосходством, что Войткевич сразу заметил:
— А это что у вас за контрреволюция такая?
Хотя, в общем-то, именно этой своей независимостью, той насмешливой «покладистостью», с которой они подчинялись «порядку вещей», «покладистостью», за которой чувствовалась готовность в любой момент и «положить» на все правила, если только они разойдутся с теми, что сам себе положил, Сергей и Яков и были так схожи. Это сразу почувствовал отрядный оракул дед Михась, и посочувствовал особисту:
— Прикладывай, Спиридоныч, к жопе подорожник.
— Чего ты? — опешил капитан госбезопасности Портнов.
— Была у тебя одна геморройная шишка…
В этот так называемый «нижний» лагерь отряда (до «верхнего, как бы основного, где размещались часть бойцов и гражданских, походная мастерская, хозслужбы и санчасть, они так и не добрались) флотские разведчики прибыли не вдвоём. Пригнали впереди себя длинного, измождённого, тощего немца в ободранной и пыльной форме СС-штурмана, с очками, превращёнными в монокль, скорее всего, вопросом: «Гитлер капут?» и, вызвав минутное онемение партизан, смазливую веснушчатую деваху в красноармейской форме.
Онемение было настолько полным, что даже неугомонный Арсений Малахов, собравшийся было вкусно чмокнуть, провожая девичьи формы, — и мешковатые штаны не могли укрыть их от его беспардонного взгляда… — поперхнулся.
Не у немца, а именно у барышни руки были связаны за спиной солдатским ремнем.
На невольный Малахова вопрос: «Что, честь не тому отдала?..» — Войткевич только хмыкнул:
— Отчего же, кто просил, тому и отдала. Комсомольскую.
— Хрен с ней, с комсомольской, — вздохнул Арсений. — Негордые…
Деваха, хоть и не была похожа на пышную «Сюзанну» с одноимённой коробочки пудры, — в лесу особо не зажиреешь, да и фигурка была слишком «точёной», будто токарь со стружкой переборщил, — но всё равно была хороша. Даже отрядный особист Портнов проворчал, хмурясь:
— Что это у вас — девка связана, а фриц…
— А фриц как-то не хочет с ней вместе идти, — перебил его Яков. — Если не свяжем. Люта она с немцами. Сам не знаю чего. Принимай.
Портнов хотел было настоять на объяснениях, но, натолкнувшись на иронически-внимательный взгляд лейтенанта, понял, что не стоит. Не хватало ещё, чтобы ему при всём отряде рубанули:
— Не твоей компетенции дело, мол…
Портнов знал, что по распоряжению Крымского штаба партизанского движения, того же Булатова, Якову следовало отправить пленных, которых, скрепя сердце и отрывая последний кусок, третий месяц таскали за собой партизаны отряда Калугина по горам и по долам, на Большую землю, вместе с больными и ранеными отряда Беседина. Собственно, из-за этой несладкой парочки и «потянул на себя одеяло» Булатов. Сочинский главный партизан не хотел, просто не мог допустить, чтобы пленные через его голову попали в штаб КЧФ. Этак, глядишь, без него будет доложена в Ставку ценная разведывательная информация и, чего доброго, выяснится, что Крымский штаб партизанского движения к столь удачной операции — ну никаким боком…
Поэтому и доставить пленных должен был не кто иной, как сам Портнов, представитель обкома и республиканского НКВД. Один из тех немногих страдальцев, кому довелось по-настоящему хлебнуть из партизанского котелка отвару на дубовой коре. Комиссар и особист отряда Беседина. А Войткевичу — «спасибо за службу» и до свидания. И не сильно попрёшь.
Придя в отряд Беседина, помалкивали и Каверзев, и сам Яков, что к флотской разведке бывший командир разведгруппы отряда Калугина, бывший командир разведроты 156‑й стрелковой дивизии и ещё много чего «бывший», лейтенант (опять) Я.О. Войткевич относится по факту больше, чем по штату. Можно сказать, примкнувший…
* * *
— Давай, сынок… — удивительно спокойное бормотание расслышал вдруг в этом бедламе Яков у себя под локтем. — Ступай. Воюй. Я тут присмотрю.
Под рукой его оказался партизанский «дух предков» дед Михась. Тощий, как обветшалое пугало, припавшее от старческой сутулости почти до земли. Ему б в самый раз вместе с больными и ранеными.
— Спасибо, отец, — с чувством пожал сухую ладошку лейтенант. — Ты настоящий дед. А этот поц… — Он снова грохнул кулаком по борту самолёта, матерно помянув комиссара. — Чтоб он в Сочи испёкся.
Сгоряча, да в уши чёрту…
Пророчество Якова сбылось раньше, чем он перекатился под брюхом самолёта на другую сторону, навстречу зондеркоманде «Geheimefeldpolizei» штурмбаннфюрера Габе.
Первый транспортный самолёт загорелся, не успев даже как следует разогнаться.
А на втором, против воли самого Якова, ему пришлось отправиться в Туапсе. В распоряжение разведотдела штаба КВЧФ, где полностью ему доверял только командир 2-й разведгруппы 2-го разведотряда Новик. Тот самый Александр Новик, к отряду которого и примкнул весной 42‑го Яков. Волей-неволей, а надолго.
Правда, чуть позже, когда прорвались в расположение «своего» отряда, кто там к кому примкнул — определялось уже с трудом. Врагов били вместе. И друзей хоронили, — если удавалось похоронить павшего в бою, — тоже вместе.
Хроники «осиного гнезда»
3 августа 1942 года
На этот раз никто не позволил застать себя врасплох.
Почти за сутки агент в штабе КЧФ предупредил, что два первоклассных корабля русских, крейсер «Молотов» и лидер эсминцев, или лёгкий крейсер «Харьков», противники серьёзные, быстроходные и с мощным вооружением, выйдут в ночь на 3‑е августа обстреливать позиции в Судаке и Феодосии.
С учётом дальнобойности их бортовой артиллерии все три батареи береговой обороны пристреляли «квадраты», которые, скорее всего, выберут русские. Авиация и катерники (включая итальянцев) перешли в режим полной боевой готовности, а две субмарины заняли позиции на вероятном курсе подхода к цели. К вечеру над кавказским побережьем, перекрывая сектора обзора друг дружки, барражировали два «хейнкеля» и два «фокке-вульфа» воздушной разведки.
Около девятнадцати часов с «хейнкеля» заметили крейсерское соединение. Но заметили и его (на «Молотове» не только стояла, но и успешно работала первая на ЧФ РЛС), и сразу же начали играть в прятки. Прибавили ход и погнали на запад, то ли к проливу, то ли к болгарским берегам. Разведчик «поверил», проводил крейсера с полсотни миль и отвернул — не по пути, мол. Его сменщик зашел с юго-востока и убедился, что вскоре крейсеры заложили правый поворот и ринулись к Крыму. Но вскоре, хоть и подступили сумерки, обнаружили и этого разведчика, — и тогда «Молотов» и «Харьков» довернули ещё больше и направились точнёхонько к Новороссийску.
«Фокке-вульф» провёл их почти до самой базы, покружил немного карусели с «ЛАГГами», которые прикрывали Новороссийск, и улетел на базу. Темнело быстро и воздушное наблюдение становилось неэффективным.
Через час РЛС дальнего обнаружения на Меганоме засекла на пределе дальности скоростные цели, которые шли по дуге на северо-запад, по мере приближения к Феодосии всё круче заворачивая на север. А тут ещё выкатилась луна, и в её свете за несколько минут до полуночи появился именно там, где его ждали, длинный тёмный силуэт…
Спектакль без аплодисментов
Июль 1943 г. Ашкой. Военный аэродром КЧФ
«Так страшно, что даже сейчас страшно!..» — поморщился лейтенант Войткевич, глядя в открытую дверь грузового отсека, как вслед за полуторкой с красным крестом в белёном круге на рыжую взлетную полосу заруливает тяжёлый «ЗИС» с парочкой автоматчиков у заднего борта.
Их малиновые погоны предвещали мало хорошего, ещё меньше, чем чёрная, по-штабному холёная эмка, спешившая с другой стороны, — наверняка обкомовская. А тут ещё ленд-лизовский раздолбанный виллис проскакал рытвинами неухоженных складских задворок. А уж от ревности и резвости, не ускользнувших от внимания Якова, ревности и резвости, с которыми «делегация встречающих» чуть ли не наперегонки рванула в сторону самолёта, несло вообще скверно, как из адского котла. Так и представлялось, как минут десять-пятнадцать тому, когда НП противовоздушной обороны только сообщили о прохождении в радиусе прослушки вернувшегося «Ли-2», расплевались горячечной слюной штабные аппараты: «Сразу по приземлении, сюда!»
Куда именно — гадать не приходилось.
Не успели полностью угомониться лопасти пропеллеров, не уселась вздыбленная пыль, и только лишь в сердцах сплюнул механик, разглядывая лохмотья дюралюминия на пробитом крыле, как началось:
— Штаб партизанского движения… — торопливо, не успев окончательно выгрузить свою рыхлую тушу из приземистой эмки, просипел с одышкой. — Майор Достанян… — козырнул короткими пальцами кто-то из замов начштаба Булатова. И только потом, спохватившись, напялил на раскрасневшуюся лысину фуражку, забытую под задницей на сиденье. — Пленных ко мне в машину!
— Смерш! — загородил ему дорогу звонкий отутюженный лейтенант, с которого, кажется, ещё и складскую стружку полностью не обмели, и представился с величественным хладнокровием: — Лейтенант Столбов, отдел фильтрации! Всех в кузов.
— Майор Тихомиров, — с иронической ухмылкой в усы подал наконец голос и третий «делегат» от встречающих, развернувшись на сиденье джипа без дверок. — Контрразведка флота. Вообще-то, пленные взяты моими ребятами по заданию разведштаба флота.
И почему-то кивнул при этом через плечо на двух молодцев, с флотской вальяжностью развалившихся на заднем сиденье «виллиса», будто это именно они умудрились взять в далёком оккупированном Крыму только что доставленных «языков». Молодцы в тельняшках под армейскими гимнастерками тотчас же подскочили с сиденья и с конвойным дружелюбием перебрали «шпагиных» из-за спины под локоть.
— У меня распоряжение Центрального штаба! — то ли воинственно, то ли с перепугу, — одним словом, «по-индюшачьи» заклокотал горлом Достанян.
— Смерш НКВД! — с вдохновением заклятья повторно прозвенел лейтенант Столбов, несколько удивлённый, что с первого раза магическая формула не подействовала.
— Да иди ты?.. — вполголоса хмыкнул Тихомиров. — Ну и что? Мы тоже Смерш, так кому «корешки», кому «вершки»?
— Вы мне просто начинаете нравиться. Хрен вам всем… — устало, но членораздельно ответил за всех Войткевич, ещё более выразительно переложив «шмайссер» на колени. — Первая она, — кивнул он в сторону «сестрёнки», только что выпорхнувшей из фанерной кабинки госпитальной полуторки.
Девчонка, на ходу заправляя рыжий непослушный локон под косынку не первой свежести, деловито подвинула плечиком лейтенанта Смерша.
— Тяжелораненые есть?
— Для вас, мадам, всё, что угодно… — подмигнул Войткевич, спрыгивая с трапа. — Я, например, контуженый… С первого взгляда…
— И сразу на всю голову, — отодвинула хрупкая «сестрёнка» его коренастую фигуру и нырнула в сумрак грузового трюма.
— Петрович, носилки! — выглянула она уже через секунду наружу и скептически сморщила веснушчатый носик, глядя на офицеров, оцепеневших в немом, но оттого не менее напряжённом «противостоянии». — Мы вам не помешаем, товарищи офицеры?
— Ребята… — коротко скомандовал Тихомиров, и оба его бойца, забросив автоматы обратно за спину, живо сиганули из джипа наперехват пожилому «Петровичу», волокущему сразу двое носилок.
— Ну, что остолбенели? Грузить раненых!.. — отчего-то удушливо краснея, тут же раскричался на своих «краснопогонников» Столбов. — Бегом!
И первым, придерживая планшет, заспешил к самолёту сдержанной плац-парадной трусцой.
Беспомощно оглянувшись, майор из Крымского партизанского штаба открыл было рот, — но поскольку распорядиться, кроме водителя, сержанта, ещё более грузной комплекции, чем он сам, было некем, угрюмо проворчал:
— Говорил же, надо было конвой взять…
— И в чьи надёжные и нежные руки я передаю свой бесценный груз?.. — успел между делом, подхватив под колени очередного доходягу, поинтересоваться Яков Осипович у «сестрёнки», озабоченной «пироговским» первичным разбором. — А то у вас тут все представлялись, как воспитанные люди, а вы…
— А я не воспитанная, — мгновенно брызнула девчонка синей искоркой из-под насупленного на белёсые бровки платка. — Как и вы.
— Чем же заслужил столь незаслуженное обвинение? — вынырнул Яша с другой стороны и тоже не без дела, а с резиновым водительским шлангом, позаимствованным с бензобака полуторки.
— Спасибо, держите здесь, — затянула «сестрёнка» жгут маленькими, но крепкими ручонками и продолжила с тою же интонацией: — А тем, что у вас все раненые и больные стонут через раз, а вы треплетесь, как куплетист на эстраде. Поди тушёнку под одеялом жрать, — она, поморщившись, скрипнула резиновым узлом, — …изволили.
— Что вы, — криво усмехнулся Яша, вовсе не желая объяснять, что «треплется» он, выигрывая время, чтобы хоть чуть-чуть разобраться, в чьи руки и в чьё распоряжение придётся попасть и какую линию поведения при этом выбрать. Сейчас, когда он вроде как ещё владеет инициативой, пока идёт разгрузка и сортировка, он остаётся своим, и с каждой минутой зарабатывает если не «индульгенцию», то хотя бы человеческое к себе отношение. — Какая тушёнка, это всё от жестокого одиночества. Что там в лесу? Зайца поймаешь, погладишь промеж ушей — и всех тебе нежностей. А вас увидел…
— Страшно представить, — прыснула девчонка, едва не выпустив узел, — ваши партизанские нежности с зайцами.
— А уж зайцам-то?! — горячо подхватил Яша. — Им-то как страшно. Но вы за них не бойтесь. Мы держим себя в руках, — показал он мосластый кулак.
— Ну так и ещё подержите, — с лукавой серьёзностью посоветовала «сестрёнка». — В кулаке. Пока.
— А потом есть надежда? — оживился Войткевич.
— Потом найдёте в Первом госпитале ефрейтора медицинской службы Желткову, может, и поможет чем.
— Очень… — прижал к груди бледную руку (впрочем, не свою, а очередного раненого) Яша. — Очень надеюсь на помощь вашего ефрейтора.
— Петрович! — задавив в пухлых губах улыбку, не ответила ему ефрейтор Желткова. — Здесь лежачих полно! Спроси, может, аэродром ещё машину даст, хоть на одну ходку!
— А у меня тут баба… — невпопад отозвался Петрович, высунув немало удивлённую, стариковски морщинистую физиономию из дверного проёма в фюзеляже «Ли-2». — Связанная?!
— Ага, докопались, — спохватился Войткевич, вспомнив наконец о своём «бесценном грузе», оставленном привязанным к кронштейну, в самом конце грузового отсека. — Это не баба. Не в первую очередь. Военнопленная. Вынужден вас покинуть… — галантно раскланялся он, всучив перевязочный пакет самому раненому.
— В кулаке он держит, — фыркнула ефрейтор Желткова, провожая его взглядом из-под пушистых ресниц. — А в плен только баб берёт…
Но в правильный на первый взгляд расчёт Якова, да ещё предвещающий приятное знакомство, вмешался досадный, но, увы, очень даже реалистичный фактор. Очередное «шерше ля фам» весьма ограничило Войткевичу возможности выбора.
— Кто сопровождает пленных? — опомнился лейтенант НКВД Столбов, окончательно убедившись, что к рыжему симпатичному ефрейтору медслужбы никак не подступиться.
Нахальный небритый партизан, явно из фронтовиков — судя по манере обходиться без манер, — «окучивал» медсестру, демонстрируя при этом такую распорядительность в погрузке и ловкость в перевязках, что лейтенанту и подле крутиться не стоило. Только позориться. Но, поэтому же, и обрадовался он, когда на его вопрос, в этой суматохе почти риторический, откликнулся тот же «нахал».
Как оказалось:
— Лейтенант Войткевич! — небрежно отмахнул от козырька румынского утеплённого кепи «нахал». — Не пленных сопровождаю, а пленную. Одну. Унтер СС Толлер убит шпионом абвера, бывшим сержантом Приваловой.
— Каким сержантом?! Какой лейтенант?! Комиссар Портнов! — вклинился представитель Крымского штаба партизанского движения, размахивая предписанием. — Комиссар Портнов сопровождает пленных! Вот у меня приказ за подписью начштаба КШПД Булатова!
— Комиссар Портнов, с вашего позволения, почил, убит, — хладнокровно оборвал его Яков, даже не обернувшись в сторону гипертонически-румяного армянина. — Во время боя на посадочной площадке с немцами и татарскими «оборонцами». Есть начштаба Руденко, но он ранен, без сознания. Так что, — повёл он плечами, — поскольку мне было приказано доставить пленных в отряд Беседина, пришлось доставить их и до конечного пункта назначения.
— Пришлось, значит… — со зловещим пониманием протянул лейтенант фильтрационного отдела. — Но прямого приказа командования у вас не было?.. — уточнил он, выразительной «украдкой» покосившись в сторону «рыженькой»: «Так что, барышня, кто тут настоящий герой — это ещё выяснить надо».
— Руденко приказал, — невольно напрягаясь, но пока ещё миролюбиво, пояснил Войткевич. — Лично.
— Ага… — криво ухмыльнулся Столбов. — Будучи без сознания?
— Что вы меня беременеете? — уже мрачнея, процедил Войткевич. — Есть что сказать?
— Я хочу сказать, — с плакатной суровостью отчеканил лейтенант НКВД, — что оставление в военное время расположения воинской части, равно и партизанского отряда, без приказа является дезертирством. И до выяснения всех обстоятельств вы задержаны.
Взгляд, брошенный им в сторону рыженькой медсестры, был почти торжествующим.
— И вообще, странно вы их сопровождаете, что они у вас друг друга убивают по дороге. Прошу следовать за мной! — сделал он окончательный вывод-приговор, то ли её фантазиям по поводу лейтенанта, то ли ему самому, пренебрежительно оставленному за спиной. Оставленному на попечение автоматчиков, тут же отобравших у Войткевича «шмайссер».
Впрочем, и для «рыженькой» нашлась пара слов, чтобы заметила в конце концов кто тут «в бою» днём и ночью без продыху, а кто неизвестно чем занимается. «Ох, как неизвестно…»
— Все легкораненые отправляются в фильтрационный лагерь, — глядя сверху вниз в красный крест белой косынки, оправил он гимнастёрку под портупеей. — Там им окажут необходимую помощь, так что, будьте добры, отфильтровать. То есть отобрать…
— Здесь нет легкораненых, — не поднимая головы, но довольно внятно буркнула «рыженькая».
— А я видел, что есть вообще нераненые, — с заговорщицкой интимностью пробормотал лейтенант, мол, «и так одолжение делаю, мог бы и за сарай отвести. По законам сурового времени…»
— Нераненые, — нехотя согласилась медсестра и подняла на него недобрый прищур глубоких синих глаз. — Но почти у всех ultimam animam agere… [19]
— Прямо-таки у всех… — сглотнул комок чекист.
— Рискнёте? — простодушно распахнула синюю глубь глаз Желткова.
— В госпитале, — снова отдёрнул новенькую гимнастёрку Столбов. — На учёт поставим.
— Так, а что я?.. — растерянно помахал, словно веером, предписанием трагически, до бордового, раскрасневшийся комиссар Достанян. — Кого я?
Хроники «осиного гнезда»
База катеров «Иван-Баба». 1—31 августа 1942 г.
…Больше всех злился и нервничал Гельмут Тёнигес. Причина для негодования у него была, в сущности, точно такая же, как у всех остальных катерников, но сказывался, видимо, темперамент.
Понять любого из командиров, да и моряков из экипажей шнельботов, и самого корветтен-капитана Кристиансена было нетрудно. Всё ведь совпало. И лучший из черноморских противников, новёхонький, перед самой войной построенный советский крейсер, который по всем статьям превосходил свой прототип, «итальянца» [20], оказался и в непосредственной близости, в доступности, в считаных милях от базы катеров. И произошло это лунной ночью, при минимальном волнении, когда ничто не препятствовало торпедным атакам и преследованию. И три, а потом четыре катера участвовали в атаках, что давало возможность ударов изо всех секторов одновременно, чтобы сократить до минимума возможность «Молотова» уклоняться от торпед. Восемь «угрей», коротко сверкнув гладкими боками в лунном свете, врезались в солёную воду и мчались наперерез и вдогон двухтрубному красавцу, озарённому вспышками выстрелов его двадцати четырех орудий и четырёх крупнокалиберных пулемётов. И всё напрасно.
И ладно бы на том закончился б бой, что «Молотов» со своим напарником, лёгким крейсером «Харьков», умчался бы на всех тридцати шести узлах в Новороссийск или в Туапсе. Так нет же, во второй атаке самолётов-торпедоносцев (надо признать, атаке грамотной, с окружением противника и выходом на кинжальную дистанцию и сбросом торпед с бреющего полета) удачливый «хейнкель» влепил G7а рядышком с пером руля. «Молотов» потерял двадцать метров кормы и две трети своего замечательного хода…
Одно утешало в сиём очередном успехе люфтваффе: они крейсера-подранка так и не добили, хотя гнались за русским соединением почти до Новороссийска, до встречи с полудюжиной кораблей, высланных навстречу «Молотову» и «Харькову», и с неожиданно мощным истребительным противодействием. Ну и то ещё, разве, что бравые итальянцы на своих MAS, первыми обнаружив и атаковав «Молотова», истратили все четыре хвалёные свои торпеды типа «W», — и ничего, кроме дюжины осколочных пробоин и трёх раненых матросов в экипажах катеров, не приобрели.
Но нервничать, злиться и донимать попеременно свой экипаж и сослуживцев в офицерской столовой Тёнигесу пришлось целую неделю: авиационная и агентурная разведка, данные радиолокации и радиоперехватов свидетельствовали, что ЧФ не посылает ни одной своей посудины южнее широты Новороссийска.
Похоже, что нервничал и Георг Кристиансен — вступление в командование ведь желательно отмечать победами, а не бесплодными тщаниями с перерасходом дорогущих торпед, снарядов и моторесурса. Кстати, большой расход снарядов всеми катерами в прошедшем ночном бою и его, и снабженцев особо удручал — ну какая была необходимость палить из малокалиберных пушек осколочными по закованному в сплошную броню гиганту? Разве что краску оцарапать.
И вот, наконец, созрело решение организовать ночной поиск прямо в логове врага. «S-102» капитан-лейтенанта Тёнигеса, «S-28» капитан-лейтенанта Кюнцеля и старшего по званию, командира соединения и шнельбота «S-27», корветтен-капитана Германа Бюхтинга с наступлением сумерек 9 августа вышли на охоту. Сначала они забрали почти на десять миль мористее, чтобы наверняка остаться незамеченными возможными наблюдателями, а потом курсом на ост-зюйд-ост вышли на траверз Туапсе. И ещё до полуночи обнаружили цель. Транспорт, примерно 2 тысячи тонн водоизмещением, безо всякого эскорта направлялся куда-то на юг, в Батуми или в Поти, наверное.
Атаковать всем и на боевом ходу не имело смысла. «S-102» на крейсерской скорости, практически незаметный в южную полночь на слегка вспененном море, подошёл на дистанцию восемь кабельтовых и выпустил двух «угрей», и тут же заложил поворот вправо. Через две минуты и пару секунд грохнул первый взрыв, ещё через секунду — второй [21].
«Доброй охоты!» — прокричал по рации Кюнцель.
«Хорошая работа», — констатировал Бюхтинг.
Катера легли на обратный курс…
Следующий выход шнельботов в логово противника состоялся только 31 августа, — раньше не позволяла погода и необходимость профилактики матчасти. Несколько раз поиск откладывался из-за внезапно всплывших неполадок. Ещё пять дней отняло сопровождение транспортов и барж до Керчи и в Азовское море.
Вышли в поиск только два шнельбота — «S-28» капитан-лейтенанта Кюнцеля и «S-102» Тёнигеса. Вышли так же, вечером, и ближе к полуночи обнаружили и потопили близ Новороссийска транспорт «Ян Томп» (1988 брт).
Покой даже не снится
Туапсе. 1943 г. Отдел Смерша НКВД
Столкнувшись в коридоре бывших складов «Пряхинъ и сыновья», старший лейтенант Новик и лейтенант Войткевич узнали друг друга мгновенно, несмотря на своевременные окрики надзирателей: «Лицом к стене!» Оба были не из той породы, у кого коленки подгибаются от зверского рыка «вертухаев». «К стене, так к стене… чего орать-то, к этой, что ли?» Яков даже провёл взглядом через плечо фигуру старшего лейтенанта, остановив одним движением плеча растопыренную пятерню, которой собрался было надзиратель ткнуть его мордой в облупленную штукатурку. Взглядом провёл ироническим, и даже хмыкнул, отметив, как профессионально «не узнал» его Новик, словно Яков для него со штукатуркой слился облупленной. Да и сам Войткевич в заключение своего осмотра зевнул во всю ивановскую, куда уж безразличней. В общем, никак не «Два товарища…»
— «Что же его сюда занесло-то?» — подумал Новик, исчезая за дверью своей камеры.
— «Недавно тут, — отметил, в свою очередь, Войткевич. — Не протух ещё…»
На «завсегдатаев» бывших особых отделов он уже насмотрелся, имел несчастье. Помятые, глаза бессонно-красные, синяки с застоялой желтизной. А Новик бодрячком и даже в «домашних», хоть и казарменного покроя, тапочках.
«Значит, не из-за тех событий он здесь, — немного успокоился Яков, — что свели нас в Крыму весной… Что же тогда?»
Геррен официрен
Керчь. Лето 1943 г. 1‑я Митридатская ул.
Собственно, досадная неопределённость, — жив или благополучно убит Стефан Толлер, «расколота» ли и насколько «Еретичка» Привалова, жив ли и много ли сообщил своему руководству «Игрок» Войткевич, пока оставалась. И это было причиной, по которой гауптштурмфюрер Карл-Йозеф Бреннер, прибыв заранее, «промахнулся» мимо отдела 1 «С» 11-й армии, отдела контрразведки. Добрался поездом до Керчи, но не проявлял особого желания себя обнаружить чуть поодаль легендарной Митридатской лестницы на одноимённой горе, возвышающейся над городом.
Там в двухэтажном, но тесноватом домишке располагалась «Марине Абвер айнзатцкомандо» (команда морской фронтовой разведки). А может, даже и пряталась. Поскольку номерная вывеска её с легионерским орлом была практически анонимной, и не будь на высоком крыльце дома, — чуть ли не единственного из уцелевших, — парочки мышино-серых истуканов, да не отчаливай изредка от него курьерская мотоциклетка, то и в голову не пришло бы, насколько серьёзная команда тут располагается.
…Это даже не было приказом, скорее личной просьбой командира «Марине Абвер айнзатцкомандо», капитан-лейтенанта Ноймана. Просьбой тем более срочной, что вытряхнула она Карла-Йозефа из санаторной койки под Веной, где не долежал он даже заслуженного после тяжёлого ранения отдыха. И о причине этой срочности догадаться гауптштурмфюреру Бреннеру было несложно.
— Вы, конечно, знаете, герр гауптштурмфюрер, что не так далеко отсюда, под Феодосией, один из ваших русских родственников, тоже Бреннер, служил ведущим специалистом на торпедном заводе советских ВМС? — спросил капитан-лейтенант, с отсутствующим видом перебирая бумаги на обеденном столе, некогда принадлежавшем без вести пропавшему купеческому семейству.
— Мне-то известно, — подчёркнуто независимо, без приглашения, уселся Карл-Йозеф, но при этом вызвал разве что не менее отсутствующий взгляд Ноймана, и то мельком. — А вот вам — откуда? — закончил вопрос Карл-Йозеф.
— Из местного концентрационного лагеря русских военнопленных.
— Вот как? — гауптштурмфюрер обернулся на окно, словно надеясь увидеть означенный лагерь, но за окном только белели островки уцелевших белёных стен, бурыми засохшими ранами виднелись кирпичные россыпи и чернели копотные ожоги пожаров.
Зимой с 41‑го на 42 год русские десантники уже брали Митридатову гору, на которой отчаянно сопротивлялись немцы, а потом, летом, войска вермахта вышибали отсюда столь же отчаянно сопротивляющиеся войска Крымского фронта. Так что выражение: «живого места не осталось…» было наиболее точным определением пейзажа. Уже весьма относительно называвшегося «городским». Особенно потому, что из города к этому времени было выселено практически всё население, и большей частью — недалеко выселенное, не дальше Багеровского рва.
— И что же в том лагере? — потёр двумя пальцами глаза Бреннер, сняв очки и, сам не зная точного места расположения лагеря для военнопленных, довольно верно указал направление на него — в сторону особенно выразительных руин металлургического завода им. Войкова, бывшего Брянского. — Нашли кого-то из заводских?
— Даже и не искали особо, сам объявился, — пожал плечами командир «Марине Абвер айнзатцкомандо». — Если помните, в 1942 году, когда нависла реальная угроза освобождения русскими Крыма и деблокирования Севастополя, нам неоценимую услугу оказал один выпускник еврейского коммерческого училища, член Военного совета Крымского фронта и Ставки Верховного [22] … — капитан-лейтенант, по определению далёкий от сухопутных дел, покачал головой. — Он удивлял не только своих командующих армиями, но и Манштейна до такой степени, что папаша Эрих по нескольку раз гонял разведывательные самолёты на Керченский полуостров, — убедиться, что у наблюдателей не галлюцинации.
Это Карл-Йозеф и сам знал: стояли части Красной армии под бомбардировкой и массированным артиллеристским обстрелом, как колонны Наполеоновской эпохи: в чистом поле плечом к плечу. Окопы рыть запретил неугомонный деятель во избежание оборонческих настроений. А сам тем временем изничтожал командиров любого ранга куда как энергичнее, чем это получалось у немцев. Поэтому Бреннер только коротко кивнул.
— Это обеспечило нас таким количеством пленных солдат и матросов, что не будь, пожалуй, этих чёртовых крысиных нор, — Не глядя, Нойман мотнул головой куда-то в сторону одинокой заводской трубы, определённо имея в виду Аджимушкайские каменоломни. — Куда они, как крысы, и забились, причём как очень злые и отчаявшиеся крысы… То нам бы и размещать пленных некуда было. Пришлось бы извести огромное количество боеприпасов, чтобы положить всех.
— В это время я был в Крыму… — с плохо скрытым раздражением заметил гауптштурмфюрер. — Так что столь обстоятельно вводить меня в курс дела, герр капитан-лейтенант, нет особой необходимости…
Нойман наконец бросил бумаги и с неподдельным интересом посмотрел на гауптштурмфюрера глубокими чёрными глазами с неразличимыми зрачками.
Известная «независимость» в вопросах субординации чем-то роднила фронтовых разведчиков, пусть даже «Марине Абвер» и «Гехаймфельдполицай». Всё-таки нравы в прифронтовой полосе не те, что в Берлине.
— И то правда, что же я всё вам морочу голову преамбулой, — иронически дрогнул тонкими губами капитан-лейтенант.
— Наверное, потому, что хотите показать, что вам тут тоже не слишком весело приходится?
Предположение Карла-Йозефа прозвучало довольно бесцеремонно, но капитан Нойман только отмахнулся.
— Сейчас и в Берлине, как вы выразились, веселья мало… Хотите кофе?
— Вообще-то, я хочу знать, что там с моим то ли предком, то ли потомком, из числа отшибленных от Фатерлянда Екатериной Великой, — проворчал Карл-Йозеф вроде как по-прежнему недовольно, но, глянув в свою очередь на собеседника, поспешил смягчить тон: — Но и от кофе не отказался бы, особенно, если не эрзац.
Всё-таки, в ближайшее, по крайней мере, время им ещё работать…
Разливая по чашечкам кофе, настоящий, абиссинскую «арабику», добравшуюся сюда бог весть каким путём, Нойман рассказал… Для русского уха это прозвучало бы так:
…Комиссар госбезопасности 3‑го ранга Овсянников, бывший начальник Особого отдела «Гидроприбора», хотел жить.
Чувство вполне нормальное, пока не разрастается до такого животного жизнелюбия, при котором готов перегрызть глотку ближнего, лишь бы… Впрочем, животные как раз таки тем и отличаются от людей, что нет у них понимания — как это: ценой жизни ближнего. Вырвать кусок мяса из глотки себе подобного — это ладно, сам Дарвин поощрил, самку отбить — дело невинное, долг перед популяцией. Но чтобы выторговать свою жизнь ценой жизни товарища по классу, виду и семейству? Сугубо человеческая привилегия.
Первым, правда, ею воспользовался красноармеец с самой, вроде бы, непогрешимой фамилией Иванов. Когда колонна военнопленных, прошествовав по завалам «биржи», оказалась перед воротами бывших заводских конюшен, и бывший учитель немецкого, какой-то уж очень плюгавый в тени дюжих «фельдполицай» и длинной тени тощего офицера, раскаркался по-русски, бог весть зачем копируя немецкий акцент, которого за ним сроду не водилось: — Комиссары, политруки, евреи, прочий «неблагонадежный элемент». — Добропорядочный Иванов трусцой метнулся прямиком к офицеру, минуя переводчика и, озираясь с виноватой улыбкой Иуды на Овсянникова, ткнул в него пальцем, даже не уготовив для поцелуя маслянистые губы.
Да и Овсянникову с оборванными петлицами на гимнастерке было не до Христова всепрощения. Он даже как-то сразу забыл об Иванове. Сразу же озадачился: «Кого бы в свою очередь?» и даже обернулся на товарищей по несчастью. Но те, словно почувствовав иудину «породу», откровенно от него шарахнулись, расступились…
— Вот от него мы и узнали о весьма уникальном проекте русских. — Нойман отпил из белой фарфоровой чашки с привычным орлом на донышке, кстати сказать, почти «табельной» чашки, входившей в обеспечение солдатских и офицерских столовых. — О проекте движущейся по сложным кривым, возможно, что и самонаводящейся, электроприводной торпеды с контактно-неконтактным взрывателем, — закончил капитан-лейтенант Нойман.
Карл-Йозеф недоумённо дёрнул тонкой бровью на желчной физиономии.
— Уникальной? Но позвольте, а как же наш «Цаункёнинге»? Неужто вы хотите сказать, что разработка русских в чём-то…
— Во многом, герр гауптштурмфюрер, — отставив чашку, не без досады вздохнул капитан-лейтенант. — Разработка вашего родственника, — вот уж не знаю, какой дальности, — военного инженера, «товарища» Бреннера, превосходит наши по главному параметру.
— Это по какому же? — уже заинтригованно уставился на него «господин» Бреннер.
— Ну, если документально…
Ad memory
Значение торпедного оружия понимали давно, не случайно первая реальная «самодвижущаяся мина» Уайтхеда столь стремительно распространилась по всем странам, имеющим военно-морской флот. В двадцатом веке «агитировать» не приходилось даже самые консервативные законодательные и распорядительные органы. Разве что американский Конгресс и морское ведомство США «экономили» до последнего, так что во Вторую мировую войну ВМФ США вступил с наихудшими торпедами (средняя статистика — 1 подрыв на 12 пусков). Только в 1942 году, когда пролито было уже немало матросской крови, сбито «без побед» множество торпедоносцев США и прошли убийственные в неопровержимости демонстрации (стреляли по отвесным скалам — результат: едва четверть срабатываний), янки бросились догонять и догнали. Как минимум, японцев.
Английские, советские, итальянские, немецкие и французские торпеды, примерно в этой последовательности, были в числе лучших в предвоенные годы. Тогда же, в тридцатых, определили главные проблемы торпедного оружия: «следность», т. е. бурный выброс парогазовой смеси у «тепловых», самых быстроходных на то время торпед; ограниченная дальность и скорость; невозможность корректировки курса торпеды после пуска и, главное, недостаточная эффективность контактного взрывателя.
Прочие же недостатки почитались не столь существенными.
Например, то, что выталкивали торпеду на ряде типов подлодок сжатым воздухом — и на поверхности, в точности над лодкой, вспухал хорошо заметный сноп пузырей. Или то, например, что юстировка аппарата Обри сбивалась и не учитывала широтную разность температуры и плотности воды, — и больше половины американских торпед довоенного выпуска пролетали в паре метров под днищем японских эсминцев и даже крейсеров. Повышенное (а это неизбежно) давление воздуха внутри подлодок тоже сбивало юстировку механизма регулировки заглубления торпед, и они со свистом и грохотом проносились под килями кораблей. Были проблемы и с гироскопами, — а сравнительно небольшие отклонения на дистанции в несколько миль оборачивались изрядными промахами. Или же, например, относительная слабость боезаряда (260–300 кг тротила), — а тот же знаменитый немецкий линкор «Бисмарк» в последнем своём бою выдержал попадания более полусотни английских торпед и затонул, что бы там ни говорили баснописцы от Адмиралтейства Её Величества, только когда его собственная команда открыла кингстоны.
Все «не столь существенные» недостатки в ходе войны преодолевались в новых типах и модификациях лодок и торпед или же в ходе специальной модернизации. На подлодках установили «беспузырьковые» аппараты, если со сжатым воздухом — то они толкали только поршень, тот выталкивал торпеду, затем воздух откачивался обратно в резервуар. Работали и электрические системы, и пиропатроны. Заглубление торпед выставляли намного точнее, за счёт правильной юстировки, доработки и дублирования гидростатов; дорабатывали и дублировали также гироскопы. Взрывчатки загоняли в БЧ всё больше, чуть не до полтонны, меняли её тип и, следовательно, разрушительные возможности. Что же касается главных проблем…
«Бесследные» электрические торпеды разрабатывались, а потом изготавливались для нужд всех перечисленных флотов уже во второй половине тридцатых. У СССР это была модель ЭТ-80, но окончательно она была «доведена» Н. Шамариным только в 1942 году. По-настоящему массовое производство торпед на эвакуированных и частично разукомплектованных заводах СССР наладили только к окончанию войны: удалось выпустить всего чуть больше 3 тысяч, в большинстве — упрощенные модификации парогазовых; а ВМФ израсходовал за годы войны более 5,3 тысячи. «Выручил» довоенный запас. Электроторпед флот получил до конца войны всего 165 штук.
Конечно, торпеда — сложнейшая машина ручной сборки и доводки, чрезвычайно трудоёмких и требующих высшей квалификации рабочих и техников, так что удивляться трудностям выпуска не приходится. И надо учесть, что главные сражения СССР вел на суше и в небесах.
Немцы выпускали достаточно удачную электроторпеду GТ-7е; правда, поначалу у них были серьёзные проблемы с доводкой ряда систем и механизмов, так что «ломать хребты английским линкорам» и громить конвои какое-то время пришлось торпедами итальянскими, типа «W». Но парогазовые торпеды GТ-7а «работали» достаточно исправно, хотя их «следность» с каждой неделей боевых действий приносила всё больше огорчений ведомству Дёница. Ценой немалых усилий GТ-7е довели до вполне пристойного уровня надёжности и качества (модификация Т3а обеспечивала дальность хода 7800 м при 30‑узловой скорости), и во второй фазе войны «электрические угри» уже составляли 60 и больше процентов стандартного боезапаса подводных лодок.
У американцев удачная разработка 43–44 годов электроторпеды фирмы «Вестингауз» позволила их подводникам внести существенную лепту в завоевание США господства в Тихом океане.
Разрабатывались и в этих странах, и в Англии «бесследные» торпеды с двигателями (турбинными и поршневыми) на перекиси водорода и водородно-кислородные. В СССР это были АСТ — торпеда с азотно-скипидарным двигателем, и бесследная 450‑мм торпеда «Вода», двигателем которой служила кислородно-водородная турбина. Их ТТХ заметно превосходили ТТХ тогдашних электрических торпед, но массовое их производство так и не было налажено. Помимо технологических, финансовых и эксплуатационных причин это произошло и потому, что ходовые качества отступали уже на второй план по сравнению с проблемами наведения и взрывателей торпед.
Управлять торпедами после пуска до второй половины сороковых годов так и не научились. Опыт ВВС, особенно люфтваффе, освоили не сразу, да и то сказать: авиационные и зенитные управляемые ракеты реально встали на вооружение только в последнюю военную зиму.
Торпеды (неуправляемые) двигались или строго прямо, или описывали большой круг в надежде, что на каком-то отрезке наткнутся на вражеский корабль. Изрядным достижением было «поведение» поздней модификации немецкой GТ-7, снабжённой своеобразным автопилотом (аппарат FAT, позже FAT II): после прямолинейного марша, на расстоянии расчётного выхода внутрь каравана транспортников, дальше она двигалась «змейкой», что, конечно же, повышало шансы встретить цель. Или пройти от неё достаточно близко, чтобы сработал бесконтактный взрыватель и удар «гидромолота» проломил днище или борт.
Но только «повышало шансы». Реальным выходом было создание механизмов самонаведения; и в сороковые годы во всех «торпедных» странах они были созданы — механизмы пассивного акустического самонаведения.
Успехи конкурирующих разведок в том, что работы велись почти одновремённо и в одном направлении, не стоит переоценивать. Элементарными знаниями по физике моря владели все разработчики.
Лучшей считается немецкая система F5 «Цаункёнинге». Кригсмарине, несмотря на жестокие бомбардировки союзной авиации, сумели в последние годы войны наладить её массовое производство, с удержанием устойчиво высокого качества. «Угри» «мальчиков Дёница» мчались на шум винтов и рокот двигателей, неукоснительно повторяя все манёвры корабля-цели… Вот только выяснилось, что стрельба вдогон (когда противник «шумит» сильнее всего, таково уж свойство гидроакустики) эффективна только по медлительным транспортам, да и то часть торпед сбивает в последний момент с курса мощный выброс воды винтами корабля. И «мчались» торпеды не так чтобы уж очень стремительно — быстроходные эсминцы или крейсера они попросту могли не догнать. И союзники вдобавок очень скоро оснастили свои суда буксируемыми шумоизлучателями, так называемыми акустическими ловушками «фоксер», которые оказывались для торпед куда как более соблазнительной мишенью.
Несколько позже (не только у немцев, но и у американцев, и у англичан) появились торпеды с улучшенными ходовыми качествами и наведением по кавитационному следу, но «несколько позже» в условиях войны оказалось «слишком поздно», — то же самое произошло со многими другими выдающимися техническими новинками. Реального перелома в ходе боевых действий они не оказали.
Со взрывателями дело обстояло ещё сложнее. Ударные или контактные взрыватели, при всей их кажущейся простоте, подводили во множестве случаев (бывало, что торпеда проламывала борт и вползала внутрь корабля и не взрывалась). То угол удара не тот, то на ходу на какое-то препятствие, ладно бы если противоторпедная сеть, а то просто какой-то плавник, наткнётся и сработает, то вообще «заест», а то шарахнет прямо в торпедном аппарате.
Но бесконтактные, магнитные, прежде всего, взрыватели предвоенной разработки были такого качества (кстати, именно в США более всего), что в первые годы войны капитаны подлодок волевым решением, вопреки инструкциям, приказывали отключить их, и применяли ударные взрыватели, — при всех прелестях последних. Надёжность магнитных взрывателей немецких торпед в 1939–1941 годах оценивалась в 50 процентов; реально, пожалуй, дело обстояло ещё хуже. Они, конечно, совершенствовались, к середине войны магнитные взрыватели уже срабатывали больше чем в половине случаев, с учётом повсеместной практики размагничивания кораблей, но сохраняли «врождённые» слабости: неразборчивость в целях, зависимость от гидрологической и геомагнитной обстановки, да и просто чувствительность к механическим воздействиям.
Вот и получалось: причиняли торпеды смертельный ущерб сваям и буям, мелким, но не размагниченным плавсредствам и, конечно, специальным буксируемым ловушкам, которыми тоже, вскорости, не преминули оснастить надводные корабли. Топили и своих, собственные «родные» лодки, если промах, случайная помеха или сбой системы самонаведения заставлял торпеду пойти на циркуляцию, — а уж обилие металла на субмаринах было для них самым лакомым. Подрывали бесконтактные взрыватели БЧ торпед и в гуще разрывов заградительного огня, и в тихом бурлении магнитной аномалии, и просто в кавитационном потоке кильватерной струи. Не выдерживали они (не все, конечно) и удара об воду при сбросе с самолётов-торпедоносцев, как бы самоубийственно низко и медленно те не удерживались на боевом курсе.
А много, затем опасно много и, наконец, непростительно много, — по мере совершенствования противолодочной обороны, усиления зенитного прикрытия и организации конвоев, — неудачных торпедных атак оборачивались гибелью подводных лодок, или же напрасными жертвами отчаянных пилотов торпедоносной авиации, или, в лучшем случае, бессильной яростью командиров торпедных катеров…
…— Как вы понимаете, любое серьёзное усовершенствование торпедного оружия нам жизненно важно. — Мартин Нойман сказал это с чуть уловимой ноткой печали. — И не менее важно, чтобы противник нас не опередил. Плюс в этом деле — русские без вашего Бреннера в документации (а они вывезли всё) вряд ли разберутся. За два года они ещё и прежние модификации торпед не пустили на поток, по нашим сведениям: довоенными запасами пользуются.
— А вы уверены, что Пауль-Генрих жив? И кстати, что-то мне подсказывает, что наши инженеры смогли бы по натурному образцу установить, какие там фокусы придуманы.
— Вот вы и сформулировали двуединую задачу, — кивнул Нойман, поднимаясь. — Разыскать «геноссе» Бреннера живым или молчаливым и найти утерянную торпеду. Детонации не было, однозначно, — следовательно, шанс сохраняется. И вы должны возглавить поиск по двум направлениям…
Товарищи офицеры
Туапсе. Лето 1943 г. Штаб КЧФ. Разведотдел
— И тогда такая вот хрень получается… — Полковник Овчаров рискованно откинулся грузным телом на изящной спинке венецианского стула, жалобно под ним заскрипевшего. — Что об этом загадочном «Вьюне» мы знаем не больше, чем немцы.
— Как это… — недоумённая кривоватая ухмылка перекосила лицо Давида Бероевича. — А эвакуированные архивы?
— Там, в этих архивах, с позволения сказать, классическая «53–38 ЭТ», — развёл на животе короткими пухлыми пальцами контрразведчик. — Настолько банальная, что, если бы не наши текущие трудности, была бы уже серийной. Модификация 41‑го, как мне доложили, в «ходовой части», по чертежам, отличается только рулевой машинкой.
— А в чём тогда уникальность?.. — поднял брови Гурджава.
— Вот тут, в голове, — постучал себя пальцем по высокому лбу Овчаров. — Что-то такое было в голове этого «Вьюна», что переполошило и немцев, а теперь и наш Наркомат вооружений. А в чертежах ни хрена нет.
— А таки точно было?
— Однозначно.
— И что же?
— Думаю, это его уникальная способность чхать на все попытки обдурить торпеду на пути к цели, что, естественно, делает уязвимым всякий немецкий конвой… Это если она у нас окажется. А если не у нас — так всякий союзный. Со всеми вытекающими для ленд-лиза и прочими сопряжёнными радостями.
— Так… — протянул Давид Бероевич. — И где же?..
— Тебе срифмовать? — недовольно проворчал полковник Овчаров. — Где-где. Не знаем. Ни мы, ни, слава богу, они. Не знаем, где эти её мудрёные мозги, куда и кто их спрятал, и когда.
— А сам? — Вопросы разведчика становились всё более и более лапидарны.
— Бреннер, что ли? Инженер? — хмыкнул контрразведчик. — Логичнее всего предположить, что после провала испытаний он стёрт в лагерную пыль. Мы проверяем, но пока безуспешно. Того дуболома, который поспешил объявить всё провалом, саботажем и происками, давно черти на большой сковороде шкварят, а Бреннера ищем, но… — махнул он пухлой ладошкой. — Особых надежд на успех нет. Сам знаешь, при отступлении заключённых сплошь и рядом уничтожали вместе с архивами лагерей, чтобы не путаться потом, где чья фотография.
— Так, может, немцы и впрямь чего-то пронюхали?..
Георгий Валентинович поморщился крайне скептически:
— Очень и очень сомневаюсь, но там, — с тою же скептической гримасой полковник воззрился на потолок, — там, разумеется, подозрения именно такого порядка. Они всегда подозревают, что враг у нас необычайно хитёр и коварен, а мы, если и не работаем на врага, то на Родину всяко недорабатываем. Так что, хочешь не хочешь, но узнать, чего ради началась около бывшего «Гидроприбора» эта суета немецких разведок, мы обязаны.
— Для этого вам и понадобились мои ребята? — понимающе кивнул Давид Бероевич. — Чтобы узнать?..
— Не в первую очередь, — не опуская взгляда, перебил его Георгий Валентинович, поморщившись. — В первую очередь мы надеемся узнать это не за счёт лихой операции твоих ребят, а за счёт радиоигры, к которой подключим агента абвера, только что доставленного от крымских партизан.
— Заодно надеетесь и вычислить её куратора — резидента абвера в штабе флота? — покосившись на Овчарова, Давид Бероевич задал этот довольно каверзный вопрос почти безразлично, как само собой очевидное.
Начальник флотской контрразведки только насмешливо поджал губы в ответ на эту «каверзность»: «Наличие в штабе флота немецкого агента становится тайной Полишинеля». Но затем полковник Овчаров подтвердил догадку «коллеги», сказав:
— Заодно с вами, коллега… — подчеркнув и «коллега», и «с вами».
— Благодарю за доверие… — пожал плечами полковник Гурджава.
— Да, вот ещё, — как бы припомнил только что начальник контрразведки. — «Еретичка», которую мы так заждались и которая наконец-то доставлена от партизан, — он иронически прищурился на Давида, — доставлена, знаешь кем?..
— «Еретичка» — это тот самый агент абвера, что «партизанил» у Калугина? — моментально просчитав варианты, уточнил Давид Бероевич.
— Тот самый, что перед этим ходил в разведку с вашим разведотрядом, — не преминул въедливо уточнить, в свою очередь, Георгий Валентинович.
— И кем же, — недовольно поморщился начальник флотской разведки, — доставлена дева-краса?
— Таким себе лейтенантом Я. Войткевичем.
Во взгляде начальника флотского Смерша, словно в шпионском чемодане со вторым дном, проглядывался и второй, потаённый, смысл. Это слегка раздражало.
— А что с ним не так? — сердито буркнул Давид Бероевич. — Геройский парень. Судя по рапорту лейтенанта Новика, очень он ему там помог, на Аю-Даге, да и вообще зарекомендовал себя.
— А в его рекомендациях никто и не сомневается, — с нарочитой лёгкостью отмахнулся полковник Овчаров. — Как и в самом героическом его героизме. Вот только происхождение его не совсем понятно.
— Старая песня… — кисло поморщился Гурджава. — А новых песен спето уже достаточно.
В последнее время морщиться полковнику Гурджаве приходилось так часто, что морщины с высокого лба уже и не сходили, разве что раздвигались — теснились, как меха гармоники.
— У нас не кадровая политика, ей-богу, а какое-то сватовство Франца-Фердинанда, — в сердцах бросил он. — Всех происхождение тревожит. Что он, еврей и сын протоиерея?
— Да хоть сам папа римский, — коротко хохотнул Овчаров. — Не совсем понятно только, откуда взялся этот командир особой роты 7‑й бригады морской пехоты.
— А я тебе расскажу, — покачал головой Давид Бероевич и, громыхнув стулом, отошёл к сейфу, едва заметному где-то в ржаво-коричневых окрестностях миниатюрного Стамбула, изображённого на огромной, во всю стену, едва ли не декоративной, карте Черноморского бассейна, унаследованной штабом КЧФ от императорского страхового общества «Ллойдъ Черноморъ».
— Вот… — лязгнув дверцей дореволюционного сейфа, полковник перебросил на стол папку не самой выразительной толщины.
«Объединённый штаб партизанского командования.
Батуми.
Запись со слов.
Войткевич Яков Осипович (Иосифович?), 1915 г. рожд. (?), Одесса. Русский (?). Женат, жена София и дочь Валентина в эвакуации (Пермская обл.).
Призван Калининским военным комиссариатом г. Киева 21.06.1941 г. в звании лейтенанта. Ранее исполнял обязанности директора Ровенского пищекомбината. Уволен в связи с призывом (?). Службу проходил в составе 156‑й стрелковой дивизии, участвовал в боях. Имеет контузию и два ранения. Награждён (?) орденом Красной Звезды.
Прим.: наградные документы утеряны.
Присвоено очередное звание старший лейтенант 15.08.1941 г., назначен командиром разведывательной роты 15.08.1941 г.»
— Пояснил он, — скептически хмыкнул Георгий Валентинович, просмотрев записку объединённого штаба. — У тебя тут знаков вопроса не меньше, чем у меня в голове. Как это «красный директор» с Западной Украины мимо НКВД в армейскую разведку проскочил? Чего он там делал, на своей пищфабрике, окромя компотов и буженины? Во вражеском, можно сказать, окружении.
— Ну так раз он здесь, чего сам не спросишь? — раздражённо потянул папку к себе полковник Гурджава.
Но с неожиданным для его темперамента проворством полковник Овчаров выхватил из неё записку и, с молчаливого — пожатием плеч — разрешения, спрятал в нагрудном кармане кителя.
— Спрошу, обязательно спрошу, — покачал он лысиной в скульптурном венчике седых завитков. — Вот только тыловой Смерш его отфильтрует.
— Долгонько это будет, — заметил Давид Бероевич, пряча папку обратно в сейф. — С такой-то пунктуацией в личном деле.
— А ты вот что, — осенено замер Георгий Валентинович, словно забыв застегнуть золотую пуговку нагрудного кармана с орденской планкой над клапаном. — Ты, Давид Бероевич, вот что… Ты, наверное, прояви свойственную разведчикам смекалку и сообразительность, флотскую, так сказать, взаимовыручку, и что там ещё у вас идёт в оправдание дисциплинарных нарушений. И ускорь.
— Эк, заговорил… — медленно распрямился от сейфа с имперско-российским орлом Давид Бероевич и посмотрел на контрразведчика, пристально щурясь. — А ты?
— А я не замечу.
— А спросят?
— Не услышу.
Хроники «осиного гнезда»
2–6 сентября 1942 г. База торпедных катеров Иван-Баба в Якорной бухте.
…На рассвете 6 сентября Кюнцель и Тёнигес сошли на причал в Якорной бухте мрачнее тучи. На капитан-лейтенанта Хохшрайбера, командира «S-72», они, да и вся команда их шнельботов, избегали смотреть.
Хотя, в сущности-то, никакой особой вины за ним не числилось. Более того, все два предыдущих выхода, в ночи на 2 и 3 сентября, когда чуть северо-западнее Анапы четвёрка катеров яростно и эффективно терзала малые конвои, срывая эвакуацию окружённой с суши Керченской военно-морской базы, «72‑й» дрался и смело и умело. Метко стреляли его комендоры, отгоняя, а то и расщепляя наспех вооружённые русскими сейнера и буксиры, а все три его торпедные атаки приносили несомненные победы. В общем счёте — два десятка уничтоженных торпедами и артогнём плавсредств, — вклад его, «дебютанта» на Черноморском ТВД, вполне приличный. И всё же…
Это именно с его катера в ночь на 5 сентября был выпущен тот проклятый «угорь», который вместо прямого, как стрела, рывка к борту очередного тральщика вдруг начал циркуляцию влево и на сорокаузловом ходу влепился под форштевень «S-27» корветтен-капитана Германа Бюхтинга. Усовершенствованный контактный взрыватель на этот раз сработал безукоризненно, несмотря на сравнительно небольшую осадку «шнелльбота» и далёкий от прямого угол попадания. Взрыв 280 килограммов «амтекса» мгновенно отправил катер на дно. Из его экипажа удалось подобрать лишь пятерых, все без исключения — контуженые, раненые и обожжённые.
Командир, Герман Бюхтинг, по случайности пострадал меньше остальных, но лечиться и восстанавливаться ему пришлось достаточно долго.
Урок смекалки и сообразительности
Туапсе. Лето 1943 г. Отдел Смерша НКВД
С крысиной вкрадчивостью что-то поскреблось в сумраке камеры, едва раздражённом тусклой лампочкой в зарешеченном плафоне. Саша даже не сразу сообразил, что этот чуть слышный звук — скрежет железа, которым были оббиты двери камеры, двери складской внушительности и толщины.
— Что, не сидел никогда? — сердито зашипел на него надзиратель, когда он наконец догадался на цыпочках подкрасться к двери. — Третий раз скребусь, как…
«Кормушка» чуть приотворилась. В жёлтом зареве Саша узнал всё ту же раскормленную физиономию «вертухая», что передал ему привет от Насти в виде крохотной православной панагии, сотворённой на григорианский манер. Сердце невольно ёкнуло, но, прежде чем Новик успел открыть рот, «вертухай» закрыл его неожиданным встречным вопросом, жмуря и без того невеликие глазки:
— Чего тебе Сухоруков три должен, а Сухов четыре?
Саша на мгновение опешил и даже отпрянул от «кормушки» с недоумённой гримасой, но тут же спохватился:
— Компота! Три Сухоруков и…
— Не ори! — шикнул на него надзиратель, воровато озираясь по коридору.
Об этом их споре знали только они трое. Как-то раз, более-менее свободным субботним вечером, старший сержант Сухоруков, с грустью заглядывая в свою опустелую флягу, рассказал…
Поведал, как пионерскую «страшную историю», о том, какие драконовские меры приняты ВОХРом железнодорожной станции в связи с прибытием цистерны с «наркомовскими» 200 гр., распределёнными на 18 т ёмкости. То есть наоборот, конечно. Сухов сказал по этому поводу, что мечтать не грешно, но надеяться глупо; а Новик, человек, в общем-то, малопьющий, не азартный и рассудительный, встряхнув своей флягой возле уха и убедившись, что она не полнее прочих, сказал, что мечты и надежды — это для барышень, а для диверсантов главное азарт и безрассудность. То есть, хотел сказать, холодный расчет и… «Сколько, ты говоришь, их там, возле цистерны? А вышка далеко? А когда смена на вышке?»
На следующее утро начальника караула чуть было не отвели за пакгауз расстреливать, но поскольку «утечка» на фоне 18 тонн была смехотворная, дальше обморочного лязга затворов дело не дошло.
Впрочем, смехотворная или нет, но тем же утром Сухоруков с мокрым полотенцем на голове пожаловался Новику, что лучше бы его самого отвели куда-нибудь и расстреляли, чем так. А на компот Саша спорил, потому что был уверен, что водки у них сейчас будет хоть залейся, так что и спорить на неё как-то ни к чему.
…Выходило, что с чем бы ни подослали к нему сейчас этого, сонного на вид, упитанного «вертухая», сделали это ребята из разведотряда.
«Интересно даже, чем смогли подкупить такого?.. — мельком подумалось лейтенанту, пока пухлый конопатый кулак надзирателя протискивался вместе с локтем в “кормушку”. — Вряд ли американской тушонкой. Судя по его ряшке, своим довольствием он и так доволен».
Бумажку, взятую из руки надзирателя, он хотел было тут же развернуть, но, сунувшись томатной физиономией в железную амбразуру, надзиратель отчаянно загримасничал:
— Не рассыпь! Выпьешь завтра утром, в 8.30, сразу после завтрака.
— Что это? — рефлекторно сжал бумажный комочек Новик.
— Завтра, в 8.35 уже будешь знать, — отчего-то расплылся довольно «вертухай»
8.35.
— Ничего не понимаю, почему только у двоих? — развёл руками фельдшер отдела, провожая растерянным взглядом носилки за спинами дюжих «тыловиков», вызванных Кравченко для сопровождения. — Рацион у всех задержанных одинаковый, да и охранники из того же котла…
— А вы? — бдительно откликнулся лейтенант войск по охране тыла.
— Что? — непонимающе уставился на него фельдшер поверх перекошенной оправки очков.
— Из того же? Из котла?
— Да ну вас к чёрту, — чуть слышно пробормотал фельдшер, мужичонка изнурённой наружности, поправляя очки. — Я вольнонаемный. — И даже зачем-то добавил, будто в своё оправдание: — И вообще, я не военнообязанный, инвалид. У меня язва.
Впрочем, лейтенант Столбов, тот самый, что с пионерской бдительностью упёк «на фильтрацию» лейтенанта (старшего?) Войткевича, уже потерял к нестроевому фельдшеру всякий интерес и поспешил за носилками со своим «подопечным». Видимо, чуял «пионер», взращённый на «Подвиге барабанщика», какой-то подвох. Подвох кинематографической простоты, заметный только из зрительного зала, со стороны. Не то чуял, не то мерещилось всё ему, что не так тут что-то.
…Сразу после завтрака у двоих «задержанных до выяснения» случился приступ. Такой жестокий приступ, выражаясь протокольно, «острого пищевого расстройства», что даже подполковник Кравченко, на что уж несентиментальная личность! — но и тот брезгливо-жалостливо поморщился, прислушиваясь к звукам за дверями камер № 5 и № 7:
— Эк, разобрало. Дай им порошок какой-нибудь, что ли, доктор? Микстуру? Что там у тебя на этот случай.
— На этот случай?! — взорвался фельдшер, которому и так едва удалось выманить начальника отдела из кабинета на это, «ординарное», на первый непросвещенный взгляд, происшествие.
— Мало ли, задержанные обосрались?! — возмутился подполковник Кравченко, когда он вымогал его присутствия. «Я, может, и сам обделаться готов, когда меня “наверх” без предупреждения вызывают…» — добавил «мамелюк» уже про себя (была история, когда за собственным столом вдруг поутру он обнаружил начальника фронтового управления). — Что я теперь, должен всё бросить? — закончил он вслух.
— Не знаю, что там вы должны! — с неожиданной храбростью (сам-то плюгавенькой такой, в чём что держится) вдруг заверещал фельдшер, сорвав с носа пенсне. — На своём месте. А я на своём должен сейчас же карантин объявить, хлоркой тут всё засыпать в три слоя и карболкой залить! И всех, слышите, всех, включая вас, госпитализировать и вызвать санэпидемическую службу!
— От холера… — растерянно выругался Трофим Иванович, раздирая крючки стоячего воротника.
— Вот именно!
…— Почему это я нисколько не удивлён?.. — простонал сквозь стиснутые зубы Войткевич, чуть приподняв голову, чтобы заглянуть в соседние носилки.
— Я тоже. Как дерьмом запахло, так и понял, что без тебя не обойдётся, — без особого энтузиазма откликнулся из своих носилок Новик, морщась и корячась от рези в кишках. — А тебя, кстати, о чём «вертухай» спросил?
— Ну ты тоже не розами благоухаешь, — первым делом огрызнулся Яков, несмотря на слабость, при которой слова на выдачу подсчитывать хотелось, чтобы экономнее. — Ни о чём. Записку передал, сказал, из «Почтового дуба».
— Логично, — процедил лейтенант Новик и, переведя дух, добавил: — Что они там за отраву изобрели, черти. Неужели нельзя было простым пургеном обойтись?
— Пурген — дело разовое, — пожал плечами под казённой простыней Войткевич. — Раз — и свободен. На дизентерию не очень тянет. А так, видишь, вся симптоматическая картина, полный анамнез.
— Полный анамнез, — недовольно проскрипел Новик. — Полный… а не анамнез.
— Представьте, я тоже такого мнения, — настороженно прислушиваясь к своему мироощущению, согласился Войткевич. — Я уже боялся, что парашу у меня под тухесом разнесёт. И откуда что взялось при здешней диете.
— Э-э… — вяло попытался отодвинуться от него Саша. — Ты только тут фугасом не рвани, бежать некуда.
— Договорились, я только икать буду, в окошко.
— Лучше уже в кальсоны икай.
— И то правда, — согласился Яков. — Говорят же, что «ик» — это только заблудившийся «пук». Ладно, хватит о прекрасном. Ты как вообще?
— Спрашиваешь.
…Во избежание разбирательств — как-де допустил?! — и понимая, что нет такого расклада, при котором не получить ему по шеям (в самом уменьшительно-ласкательном случае — за антисанитарию), подполковник Т.И. Кравченко предпочёл сбагрить расхворавшихся заключённых на больничную койку. Может, клизмой всё дело и обойдется? А для пущей конспирации…
— Ты их в ведомственный госпиталь не вези, — не то чтобы просительно, но панибратски приобнял он за плечи отутюженного лейтенантика конвоя. — Тут неподалеку больница водников есть…
Но лейтенанта Столбова не проведёшь.
— Не имею права, товарищ подполковник, у меня сопроводительная записка вот, — полез он в нагрудный карман гимнастёрки.
Но «товарищ подполковник», окончательно расстроенный, только отмахнулся:
— Вези куда знаешь.
Хроники «осиного гнезда»
10–28 сентября 1942 г. База торпедных катеров в Якорной бухте
Два дня шла внеплановая проверка торпед, официальное расследование, переговоры с региональным командованием и штабом кригсмарине. В море никто не рвался, тем более, что у трёх катеров, «S-28», «S-72» и «S-102», выработался мотроресурс и подошли сроки планового ремонта.
Часть экипажей оставили на берегу — направили на краткосрочный отдых в санаторий Гелек-су, в компанию к подводникам и итальянским катерникам. А шнельботы малым ходом отправились в Констанцу, поскольку ремцеха ни в Николаеве, ни тем более в Севастополе пока ещё не восстановили настолько, чтобы они могли производить замену двигателей. Да и доставлять ремкомплект в румынский порт из рейха было проще. После их ухода в Якорной бухте оставались лишь два катера, «S-26» капитан-лейтенанта Мюллера, который прошёл ремонт в августе и не участвовал, к досаде своей, в славных рейдах на траверзе Анапы, и только что переведённый из Нормандии на Чёрное море «S-49» Герхарда Брюгена. Выходили они вдвоём в поиск трижды, в ночи на 20, 24 и 28 сентября. Каждый ночной поиск командиры шнельботов считали удачным: три атаки с расходом по две торпеды в каждой — и уничтожено три судна суммарным тоннажем в 5000 брт.
Вот только из радиоперехвата узнали, затем проверили с особой тщательностью по картам, а потом ещё и воздушная разведка подтвердила, что с победными реляциями торопиться не надо.
«Угри» первых двух атак слегка выщербили две скалы чуть севернее Геленджика, а третьей — добавили ещё две пробоины в корпусе разбитого подводниками ещё в 1941 году старого транспортного парохода «Дон», который затонул только до шестого шпангоута, зацепившись килем за подводную скалу.
Смена курса
Туапсе. Лето 1943 г. По дороге в госпиталь Смерша НКВД
— И куда везёшь? — лениво поинтересовался старший сержант Сухоруков у водителя бесхитростно-чёрного фургона с зарешёченным оконцем, вскочив на подножку форда «ГАЗ-АА» и примерно игнорируя лейтенанта Столбова.
— Вообще-то не твоего ума дело, сержант, — рассудительно ответил пожилой ефрейтор, разглаживая казацкие усы большим пальцем. — Но…
Он насмешливо прищурился на новенький ленд-лизовский «студебеккер», внезапно перегородивший «автозаку» дорогу. Выскочил «студер», как чёрт из табакерки, из проходного двора, из-под деревянной террасы, в самой дореволюционной теснине, где и не развернёшься между теми столбами, что террасу подпирают, чтобы при этом не разворотить полдвора.
— Но, вообще-то, в госпиталь везу.
— Отставить, ефрейтор! — возмущённо взвизгнул лейтенант НКВД, выталкиваясь в фанерную дверцу полуторки. — Что вы каждому встречному! Что происходит?!
Происходило и впрямь нечто странное, нехорошее, несоветское что-то происходило. Вместо того чтобы с куриным переполохом шарахнуться в сторону, вжаться в трещины штукатурки, закатиться куда подале, свернувшись испуганной мокрицей, — с самоубийственной храбростью неизвестные перегородили дорогу страшному, почти инфернальному «воронку», да ещё и допрашивают тут… Можно сказать, самому Харону посреди Стикса проверку документов учиняют. «Это ж какая служба, какое подразделение себе такое позволить может?!» — возмущённо глотал душную пыль лейтенант Столбов, выскочив из кабины и решительно направляясь к пятнисто-зелёному «студебеккеру». Кипел он, лейтенант то есть, праведным гневом: де, кто это охамел до такой степени, что высочайше установленный порядок вещей на попа ставит? Можно сказать, единственно верное мировоззрение пересмотру подвергает?
Кипел-то кипел лейтенант, но как-то боязно, что ли, неуверенно. Сразу, до тошнотного ощущения в желудке, не понравился Столбову вид возмутителей его гордого, непогрешимого и неуязвимого спокойствия. Из камуфлированного грузовика на него с ленивым любопытством, через локоть, смотрел неизвестный майор с опытной сединой на висках, из-под молодецки задвинутой на затылок фуражки. И взгляд его серо-стальных глаз был неприлично-таки безбоязненным.
— Кто такие? — демонстративно поправляя кожаную кобуру нагана, спросил Столбов.
— 2-й разведотряд разведотдела флота… — подумав даже, дескать — а стоит ли? — нехотя ответил майор.
— Освободите дорогу! — решительно помахал рукой лейтенант.
— Разведотряд флота, — словно глухому, повторил ему майор.
— Я слышал, освободите…
— Слышал, да не слушал, — лениво почесал мизинцем подстриженные седые усы майор. — Разведотряд флота! — и ткнул большим пальцем за спину, в сторону брезентового фургона.
«Чёрт…» — слегка опешил лейтенант НКВД, наконец-то поняв, словно прозрев сквозь брезент рентгеном: там, в фургоне, ни много ни мало, — а целый разведотряд флота.
— Какого чёрта?! — всё ещё криком, но уже несколько истерично и поэтому сипло, ругнулся лейтенант Столбов.
— А вот это уже больше похоже на разговор, — оживился майор, стряхнув нагловатую ленцу. — А то орёшь, как глухонемой. Спрашивали — отвечаем.
Низкая дверца «студебеккера» распахнулась, заставив Столбова слегка попятиться — на коленях майора отблескивал зловещим глянцем «ППШ» — и майор соскочил на запыленный булыжник мостовой. — Там у тебя (он показал стволом ППШ) наши ребята…
— Там у меня двое задержанных… — прочистив горло для пущей твёрдости в голосе, отчеканил лейтенант, впрочем, на этот раз не забыл обратиться по форме, — товарищ майор, которых я должен доставить в госпиталь.
— Вот и молодец, — поощрительно похлопал его по малиновому погону майор. — Вот и доставляй, лейтенант, болезных, только… — майор интимно, чуть ли не козырек к козырьку, приблизил холодно улыбчивое лицо к лицу Столбова, панически пошедшему пятнами. — Только не в госпиталь НКВД доставь, а в наш, флотский. Всё ж таки наши хлопцы, мы за них переживаем, нам за ними утки и выносить, а?..
— Да я… — начал Столбов.
Несмотря на доверительный тон, стальной взгляд майора не смягчился. Да и полный фургон легендарных флотских разведчиков, так сказать, наводил на мысль, что неспроста, ох неспроста, знает откуда-то майор диагноз конвоируемых.
Столбов вдруг по-детски шумно растерянно шмыгнул носом, задумался. Отчего-то вдруг вспомнилось, что Кравченко и сам ох как не хотел, чтобы задержанные оказались в госпитале НКВД; а какая, к чёрту, разница? Больница водников или госпиталь флота? Всё водоплавающие…
— Да мне как-то, — неуверенно промычал Столбов. — Сказано в госпиталь.
— Так в госпиталь! — снова хлопнул его по плечу майор Тихомиров, командир 2-го разведотряда КЧФ. — Пристраивайся в фарватер.
Во флотском госпитале «задержанных» ожидал сюрприз в лице ефрейтора медицинской службы Желтковой с рыжим непослушным локоном из-под платка.
— Ну и видок у вас, товарищ лейтенант, — брызнула она на Войткевича синей искоркой глаз.
— Одно слово, засранец… — покорно согласился Яша, норовя пристроить взлохмаченную, мокрую от лихорадочного пота, голову на её крепкие загорелые коленки.
С дальним прицелом
Оккупированная Керчь. Лето 1943 г. 1‑я Митридатская ул.
— Возглавить направления, — эхом повторил гауптштурмфюрер Бреннер, выслушав предложение Ноймана по сути дела. — Но вы должны знать, капитан-лейтенант, что абвер уже разрабатывал подобную вероятность накануне войны?
— И от неё решено было отказаться… — согласно кивнул седеющей головой Мартин. — И отнюдь не потому, что ваш отдалённый кузен настолько проникся советской идеологией. Напротив, насколько я помню, ваши подходы к нему на родственных чувствах были не так уж небезуспешны.
— Самое большее, на что нам удалось тогда подвигнуть Пауля, — покачал головой Карл-Йозеф, — это встретиться со мной в Ялте, на базе отдыха Коминтерна. И то, должен напомнить вам, что дальше изучения совместного генеалогического древа от времен Священной империи до екатерининской колонизации дело не продвинулось. Даже вступить в переписку со своими родственниками Пауль не решился, правда, по вполне понятным причинам: как раз развернулась «Reinigung — чистка» в советской армии…
— Ну, вот видите, — с неоправданным оптимизмом, на взгляд Карла-Йозефа, подхватил капитан-лейтенант. — Родовой герб — весьма завораживающая штука. Так что, ссылка на вас и ваше почтенное древо должна расположить вашего кузена…
— Да ни черта не должна, — глухо пробормотал Карл-Йозеф, брезгливо уставившись в чашку с остывшим кофе, наконец, отодвинул её. — Как я вижу, «кузен» — это уже устоявшаяся кличка объекта?
— Пожалуй… — подумав, с улыбкой согласился начальник айнзатцкоманды «Марине Абвер». — А что, вас что-то в этом смущает?
— Не особенно. Больше смущает другое. Как вы будете ссылаться на наше родство, если… — я правильно понимаю? — вы понятия не имеете, где может сейчас находиться братец Пауль?
— И тут мы снова надеемся на вашу помощь, — подхватил, словно закончил за него предложение, капитан-лейтенант. — Поскольку то, чего не знаем мы, совершенно определённо должны знать в штабе Черноморского флота.
— Ой ли?.. — скептически поморщился Карл-Йозеф.
Но вряд ли капитан-лейтенант Нойман правильно понял его сомнение, поскольку воспринял его географически.
— Да, мы знаем, что «Гидроприбор» эвакуирован частями, в Каспийск и Туапсе, а некоторые специалисты отправлены под Архангельск. Но нам также известно, что завод в Каспийске до сих пор не пущен, и вряд ли дело дойдёт до этого, по крайней мере, в ближайшее время, а в Туапсе производства и не начинают, только наладка. Я уже сказал, русские вообще до сих пор расходуют довоенные запасы торпед, и нет данных, чтобы новые серии запускались в производство, — развёл руками Мартин, будто бы искренне сочувствуя русским морякам в связи с неразворотливостью Наркомата вооружений. — Так что, полагаю, большая часть специалистов по торпедному вооружению сосредоточена, так сказать, на переднем крае, на заводах и заводиках по ремонту и установке торпедного оборудования, в частности на кавказском берегу.
— Это — в общем, — скрестил на груди руки Бреннер. — А в частности? Пауль-Генрих на Кавказе?
— Точно нам это неизвестно, но в штабе Черноморского флота не могут не знать, где находится их ведущий инженер по торпедным разработкам.
— Ой ли… — снова повторил Карл-Йозеф и, заметив лёгкое раздражение, дёрнувшее желваки на челюсти капитан-лейтенанта, пояснил: — Не знаете, Мартин, вы русских порядков. Самый жёсткий бюрократический педантизм в работе карательных органов приводит к самому отчаянному бардаку — и, заметьте, в силу того же бюрократического педантизма…
Призрачный шанс
Туапсе. Лето 1943 г. Штаб КЧФ. Разведотдел
— Значит, так и не нашли? — констатировал Давид Бероевич.
— Как это не нашли, — отчего-то хохотнул Овчаров, немало удивив начальника флотской разведки. — Нашли и даже сразу расстреляли, как вредителя и предателя.
— Как расстреляли, зачем? — недоумённо поднял на лоб густые брови Гурджава.
— Не «зачем»… — хмыкнул Овчаров. — Не «зачем», Давид Бероевич, а почему?
— Ну и почему?
— Потому, что мы послали запрос в соответствующую лагерную администрацию, а те, в свою очередь, в соответствующее подразделение войск НКВД, обеспечивающих конвой… номера частей я тебе сейчас воспроизводить не буду, не помню, да и незачем, — коротко махнул рукой полковник. — Главное, что никто не захотел отвечать за пропажу столь ценного зэка. А это значит?..
— Что пропасть он не мог, — подумав, развил силлогизм Гурджава.
— Но и найтись тоже, — помог ему Овчаров. — Поскольку никакой уверенности в том, что он жив, ни у кого нет.
— Так что же они?.. — брезгливо поджал губу начальник флотской разведки. — Просто отписались?
— А может, честно расстреляли первого контуженного, который по беспамятству согласился признать себя Бреннером. Так что тайна сия велика, — развёл пухлыми ладошками Овчаров.
— Что-то я тебя не пойму, Георгий Валентинович, — поднялся со стула полковник Гурджава и направился к тумбочке, что солдатской простотой никак не вписывалась в антикварную обстановку кабинета. — То ты уверен, что Бреннера в лагерную пыль стёрли, то не веришь донесениям коллег.
Давид Бероевич открыл скрипучую дверцу, за которой оказалась вульгарная электроплитка с чайником.
— А что тебя удивляет? — пожал покатыми плечами полковник, заглядывая через плечо Гурджавы. Вид закопченного алюминиевого чайника его заметно разочаровал. — «Всё может быть» — это единственное, в чём я уверен после стольких лет службы. А на нашей службе, сам знаешь, насмотришься такого, что сто Дюма выдумывать запыхаются.
— И что же тебе, как Дюма, представляется наиболее вероятным? — поинтересовался полковник Гурджава, водрузив плитку с чайником на тумбочку.
Претенциозный вид дореволюционного кабинета сразу приобрел толику фронтового, блиндажного уюта.
— Когда спецэшелон попал под бомбёжку, задача конвоя если не полностью совпадала с заданием немецких летчиков, то чувства они, я думаю, в общем-то, разделяли: «Врёшь, не уйдёшь!» И когда мы сделали запрос, то, честно говоря, и я бы на их месте рапортовал в том же духе, — от греха и разбирательств подальше. Разве объяснишь, почему из сотен разбегающихся заключённых ты побежал не за тем, за кем надо?.. Если, вообще, духу хватило бежать куда-нибудь, кроме как мамке под подол.
Лето 1941 г. Район Мелитополя
Нет, Пауль-Генрих Бреннер, вопреки предположениям полковника Овчарова, не только никуда не побежал, но даже и отказываться от того, что именно он и есть Павел Григорьевич Бреннер, главный инженер спецучастка завода «Гидроприбор», не собирался. По крайней мере, пока. В смрадном сумраке столыпинского вагона он остался один, если не считать скулящего где-то в противоположном углу огромного мужика откровенно уголовной наружности, словно с него малевали плакат в отделении милиции: «Стыдно?»
Всю дорогу этот «стыдливый» маргинал третировал «сраную интеллигенцию», а теперь катался по свалявшейся, кисло-вонючей соломе, лелея обрубок ноги, из которого уже перестала пульсирующим фонтанчиком бить алая артериальная кровь. И Павлу Григорьевичу даже казалось, что он то и дело ловит молящий взгляд безумно-расширенных глаз, хоть он и отворачивался от него всё время и закрывал ладонями уши, чтобы не слышать этот, неожиданно тонкий для огромной туши, звериный вой. Тем не менее слышал и этот нечеловеческий вой, и снижающийся в тональности до раздирающего кишки рёва вой самолётов, и секущий свист бомб, триумфально оканчивающийся гулким ударом. Не хотел, но видел молящий взгляд изуродованного уголовника, и видел дымные от пыли золотистые просветы в досках, и чёрный шквал земли, пронёсшийся в огромном проломе, куда попрыгали все, кто не остался лежать замертво в кислой соломе после того, как засветились первые рваные дыры в досках. Видел, как после каждого громового толчка вблизи вагона подскакивали тряпочными куклами на полу те, кто остался. И, наконец, в щель между досками, справа, увидел бегущих гуськом конвоиров с закатанными рукавами порыжелых гимнастёрок, с пилотками, сунутыми под ремень, и с какой-то отчаянной весёлостью в испуганных ухмылках, по-настоящему испугавших Бреннера больше, чем стремительная тень «юнкерса», то и дело рябившая на степном сухостое.
Несколько секунд спустя Павел Григорьевич понял, почему. Почему этот «распоясанный» нестроевой вид конвоиров и эти их дурацкие ухмылки заставили закатиться сердце. Один из них вскинул на уровень живота «дегтярёв» — и отнюдь не навстречу вновь набегающей тени «юнкерса», а вослед разбегающимся подконвойным заколотилась деревянная погремушка длинной очереди. К ней присоединилась и пороховая россыпь винтовочных выстрелов. Словно пугливых куропаток, энкавэдэшники принялись выбивать из высокого сухостоя силуэты в серых бушлатах…
И тогда Павел Григорьевич снял свой с номером на груди бушлат и рванул к провалу в дощатой стене вагона — но только в другой, противоположной от конвоиров, стороне. И уже на самом краю железной рамы запнулся и бросил бушлат на скорченную фигурку, так и не добравшуюся до такой желанной, но неожиданной и смертельно опасной воли.
«Что делать? Бежать под осколки бомб и пули конвоиров? — стучало в голове Бреннера. — Или остаться? Может, они не расстреливают тех, кто не бежит?..»
Разрешить эту дилемму Павел Григорьевич так и не успел. Альтовый свист, сопровождавший его панические размышления апокалипсическим аккомпанементом, вдруг оборвался — и в следующую секунду толчок дощатого пола выбросил инженера на закопченную насыпь, во мрак небытия.
— Собрать, кто остался, и легкораненых, — опустил горячий пулемёт командир конвойной роты, по-прежнему вжимая голову в плечи, хоть пара «лаптёжников» и унеслась уже за степной горизонт. — Отчитываться кем-то надо, не поверят, что всех потеряли.
— Вот… что удалось спасти, — хрипя одышкой, доложил невесть откуда взявшийся старшина, указывая взглядом на кипу коричневатых опалённых папок.
— Какого… — раздражённо вырвал папки из его подмышки лейтенант и, оглянувшись на рассыпавшихся по степи подчинённых, зло зашвырнул бумаги в полыхнувший вагон. И в ответ на остекленевший взгляд старшины процедил: — Без бумаг их у нас заберут и спишут в расход по количеству, а если пофамильно… Ты будешь на каждую зэковскую морду докладную писать?
— Так точно, — понятливо козырнул старшина. — То есть, никак нет.
Минутой спустя Павел Григорьевич, он же Пауль-Генрих, очнулся от бесцеремонного пинка сапогом в рёбра…
Хроники «осиного гнезда»
Октябрь 1942 г. База торпедных катеров «Иван-Баба» в Якорной бухте
К середине октября во флотилию возвратились «S-28» и «S-102», и капитаны Гельмут Тёнигес, равно как Макс Кюнцель, сразу же потребовали выхода в поиск.
Но за считаные недели обстановка существенно изменилась. Сопротивление Красной армии усилилось на всех фронтах; кое-где наступление не просто замедлилось, но даже остановилось. Здесь же, на Чёрном море, у моряков с их наблюдательностью и развитой интуицией появилось ощущение, что русские дошли до какого-то своего последнего предела. И теперь всякая новая попытка удара будет наталкиваться на сильнейшее противодействие.
На языке оперативных сводок это звучало как «эффективность действий катеров у кавказского побережья резко снизилась».
Каждый род войск воспринимал и оценивал эти перемены по-своему. На совещании командного состава 1‑й флотилии, в котором принимал участие и только что выписанный из госпиталя и ещё не назначенный на новую должность Шнейдер-Пангс, отметили, что русские приняли специальные меры по борьбе со шнельботами. Вроде бы ничего особенного не выдумали, но в комплексе, похоже, это срабатывало.
В любую погоду, кроме штормовой, когда шнельботы никак не могли выйти из закрытой гавани, русскими осуществлялись ночные дозоры на быстроходных катерах. В бой дозорные не вступали, уходили в сторону берега — но гнаться за ними не следовало. С возвышенностей начинали бить противокатерные береговые малокалиберные батареи, причём по заранее пристрелянным участкам акватории, и приходилось резко маневрировать, уходя из-под обстрела. А ещё каждый вечер высоко над кромкой моря, скал и лесистых холмов начинали барражировать самолёты: русские вели воздушную разведку. Если удавалось договориться с командованием Jagdgeschwader, истребительного авиакрыла, базировавшегося возле Кроненталя, то прилетала четвёрка «мессеров» и добрые полчаса темнеющее небо расчерчивали инверсионные следы и разноцветные стрелы трассирующих пуль и снарядов. Пару раз случались одиночные потери — с обеих сторон, чего раньше как-то не происходило. Затем русские самолёты убирались восвояси, твёрдо зная, что в ближайшие три часа катера не домчат до траверза Новороссийска.
…— Будем учитывать реальность, — подытожил Георг Кристиансен. — Продолжать «штурм унд дранг» нашими силами сейчас не время. Осторожность, скрытное приближение, внезапная атака и быстрый отход. Не похоже, что флотилию серьёзно пополнят в ближайшее время — а может понадобиться каждый боеспособный катер.
С тех пор перестрелки, возникавшие между немецкими и советскими катерами, во всех случаях завершались уклонением немецкой стороны от боя. Командиры шнельботов приняли, что эти «МО», сторожевики и даже ТКА, не уступающие в скорости, но намного меньшие по размерам и вооруженности — не та добыча, ради которой надо идти на любой риск. Тем более что сталкивались они не с одиночками, а с группами катеров КЧФ, и в поддержку этим группам в какие-то полчаса поспевало подкрепление. Чаще всего — авиационное.
По-настоящему рисковать и вообще показать, что такое шнельботы, удалось только раз, в ночь на 23 октября. Nacht und nebel, ночь и туман, помогли скрытно подобраться к самому Туапсе. Мастерство штурмана соединения из четырёх катеров обер-фенриха Дитера Штубе нельзя было не отметить: практически вслепую, ориентируясь только по пеленгу на крымские радиомаяки и показания лага, он вывел шнельботы на точку всего в пяти милях от рейда Туапсе. А там береговой ветер отогнал в глубь моря слоистый осенний туман, и катерники разглядели во мгле силуэты трёх боевых кораблей, входящих в гавань.
Но спустя несколько секунд, когда ещё катера не набрали боевой ход, разглядели и их самих. Сначала ударили береговые батареи, десяток стволов малого калибра, но скорострельные. Скорее всего, это были зенитчики, и упреждение выставляли из расчёта стрельбы по воздушным целям, но густые ряды пенных всплесков по курсу не вдохновляли. Потом озарились вспышками и корабли — два крейсера и эсминец. Заградительный огонь стал настолько плотным и точным, что пришлось выпустить торпеды с дистанции чуть больше двух миль, отвернуть и поставить дымзавесу.
Это было не так уж страшно: на крейсерах не успевали поднять пары и совершить манёвры уклонения, но в дело вмешалась неточная разведка. Ни на трофейных лоциях, ни на планшетах аэрофотосъёмки месячной давности не рассмотрели катерники ещё один волнолом, который на самом деле оказался как раз на пути торпед. Пять «угрей» ударили в него и взорвались; ещё три проскользнули в проран, на внутренний рейд, но «нашли» там не бронированные борта крейсеров или эсминца, а причальные бочки и старый дебаркадер [23]. Уходить пришлось на полном ходу, — орудия крейсеров стреляли вдогон сквозь завесу дыма, даже когда катера нырнули в туман и сразу же сменили курс. Это дало основание предположить, что бортовые радиолокаторы теперь появились не только на «Молотове» и «Парижской коммуне» и что русские осваивают стрельбу «вслепую».
Задача с двумя неизвестными
Оккупированная Керчь. Лето 1943 г. 1‑я Митридатская ул.
— Для меня это слишком сложно… — хмыкнул Нойман. — Вы серьёзно думаете, что можно потерять ведущего инженера военного завода, к тому же арестованного контрразведкой? — с плохо скрытой иронией уточнил он.
— Я ничего не исключаю, — развёл гауптштурмфюрер руками. — Когда дело касается «загадочной русской души». Тем более загадочной, когда она под погонами и движима такими смутными идеологемами, как «революционная бдительность».
Капитан-лейтенант с полминуты смотрел на него с видом человека, мучимого несварением и желудка, и мозга, — и так и не нашёл, что сказать. Так что вернулся к сути.
— И всё-таки я надеюсь, что ваш человек в штабе русского флота поможет нам прояснить ситуацию с «русским Бреннером», — пожалуй, что только из вежливости в вопросительном тоне предположил Мартин.
— Вообще-то, это не мои вассалы, — напомнил Бреннер «немецкий», гауптштурмфюрер, Карл-Йозеф, и услышал вполне ожидаемое:
— С абвером уже всё, разумеется, согласовано. И потом, насколько я знаю, вашего полку в штабе русского флота прибыло? — заметно кичась компетентностью, напомнил Нойман. — Партизаны переправили на Кавказ остатки разведгруппы, нашумевшей тут по весне, и среди них ваш агент.
«“Еретик”… — закончил про себя гауптштурмфюрер. — Ася. Красноармеец Привалова А.И., 1922 г.р., член ВЛКСМ, уроженка Москвы. Студентка МПИ, факультет романо-германской филологии. В 1941 году добровольцем призвана в Красную армию. Окончила радиотехнические курсы центра диверсионной подготовки Московского ВО. И при первом же забросе в тыл армии Гудериана сдалась в плен, и после тщательной проверки отделом 1 “С” контрразведки армии, гефрайтер Привалова была переправлена обратно через фронт, уже в качестве агента штаба “Валли”. Как выяснилось, подготовка русских разведчиков ничем не уступает практике “Абвер-Аусланд” [24], так что дополнительных курсов не понадобилось, да и тянуть нельзя было. И так выглядело подозрительно, что хоть и с нужными сведениями, но одна она через линию фронта вышла…»
— Ася… — вслух пробормотал, задумавшись, Бреннер.
— Вы в ней, как я погляжу, не слишком уверены? — чутко откликнулся капитан-лейтенант.
— Отчего же, — не выходя из задумчивости, возразил гауптштурмфюрер.
«Правда, в ходе нашей проверки не было выяснено сколь-нибудь личной, тем более драматической, мотивации девушки к измене Родине, вернее сказать, советской власти. По крайней мере, на этой разнице она настаивала с таким упорством, словно изучала брошюры Геббельса для оккупационных властей. Вполне счастливое пионерское детство, задорная комсомольская юность с поступлением в престижный институт, словно в чёрно-белой советской сказке о золушке капитализма и фее советской власти: “Здравствуй, страна героев!”. И вдруг — совершенно неуместная, несоветская какая-то, наблюдательность. Выходит, промахнулись идеологи “обострения классовой борьбы”. Порок оказался отнюдь не врождённым. С классовой точки зрения происхождение фройлян Приваловой, как раз таки, образцовое — “proletariy”. Не внучка белого генерала, не потаённая баронесса и даже не дочь репрессированных родителей. Какой там, испокон веку Приваловы на “Посселя” горбатились, и вроде как поправила судьбу младшенькая, пошла дорогой светлою, — и вот тебе, на тебе, не туда куда-то вышла. Одним словом, “Еретичка”».
Вырвавшись из плена раздумий, Карл-Йозеф невпопад кивнул:
— Да, я думаю, два агента — это свобода манёвра, а она нам понадобится.
— Мы тут уже прикинули сценарий радиоигры, — увлечённо подхватил Нойман.
«Только не учли одно немаловажное обстоятельство, — продолжил про себя Карл-Йозеф, с невидящим взглядом поддакивая кивками фантазиям начальника айнзатцкоманды “Марине Абвер”. — Характер дезинформации. Не учли то обстоятельство, что агент “Еретик” наверняка провален, и в случае, если она выйдет на связь, это будет значить только одно: советская разведка также ведёт радиоигру. Встречную. Это будет значить, что русские тоже играют краплёными картами».
Привычка — вторая натура
Туапсе. Лето 1943 г. Судоремонтный завод в/ч 67087
Вот уж не думал Павел Григорьевич, что будет когда-нибудь благодарен «матушке Гусыне» за её немецкий педантизм и немецкое же исповедание: «Anfangs Arbeiten — Сначала работа!»
Тётушку Хельгу, подлинного матриарха их большого семейства, «матушкой Гусыней» называли все русские Бреннеры, — с незапамятных пор и неизвестно, с какой стати. Наверное, за утиную её, вразвалку, походку. Так вот, тётушка приучала младших Бреннеров к «Arbeiten», как говорится, с «младых ногтей» — и сколько раз, бывало, он проклинал суровую старуху, когда она пухлой, но железной хватки рукой снимала его с лакированной доски трехколёсного скрипучего «буцефала». И вместо блестящего никелированного руля в руки Пауля препоручалось отполированное вековыми мозолями древко метлы. Но вот, пригодился и этот навык, вроде как не самый нужный для отпрысков вполне обеспеченной семьи потомственных морских инженеров.
Бреннеры, если верить россказням «матушки Гусыни», подтверждённым сомнительного сходства портретами, ещё под командованием Фёдора Фёдоровича [25] бились в Керченском проливе и у мыса Калиакрия. А теперь престарелый — ну, по крайней мере, весьма не молодой отпрыск древнего прославленного рода, — Павел Григорьевич с равномерностью механизма шуршал прутяным веником по щербатому и надколотому кое-где бетонному полу. И, слезливо жмурясь на радужный отблеск металлической стружки, в конце концов сгребал её в жестяной совок и ссыпал в дощатый ящик с трафаретной цифирью: «67087».
Вчерашний рыбколхоз, некогда называемый чего-то там не то знамя, не то рассвет, сегодня устанавливал однотрубные торпедные аппараты на вчерашние рыбачьи сейнеры, возводя их в ранг «сторожевиков». И работа подсобником на нём не была ни иронией судьбы, ни хитроумным замыслом инженера, в недавнем прошлом ведущего специалиста «минно-торпедных средств» секретного завода Наркомата вооружений «Гидроприбор». В этом была своя, пусть и бюрократически извращённая, но логика. Часть эшелона, разбомбленного случайной эскадрильей «юнкерсов» под Мариуполем, с эвакуированными с морского юга страны зэками, теми, кто был хоть мало-мальски знаком с судостроением, направлялась к Архангельской базе Северного флота. Кто в судостроительные «шарашки», если знания на то претендуют, кто на мелкие судоремонтные заводы и заводики, если знания без особых претензий. Павел Григорьевич, оказавшись без сопроводительных документов, решил, что с него хватит, «претендовать» на что-либо большее не стал.
— Ты что ли, Севрюгин?.. — мучительно морщась, как от контузии, спросил его старший караула, слюнявя химический карандаш и припоминая.
— Так точно, — моментально согласился Пауль-Генрих и даже, в свою очередь, припомнил, — Петр Геннадьевич.
Не только фамилия свежеубитого зэка была не такая уж «вредительская», как Бреннер, но даже инициалы похожие. Да и самого Петра Геннадьевича геноссе Бреннер знал: заурядный работяга с «Гидроприбора», такой себе цеховой «принеси-подай», который то ли не туда понёс, то ли не тому подал, — и остался лежать в дверях столыпинского вагона, когда Павел Григорьевич из него вверх тормашками вылетел.
И совесть как-то промолчала, и тщеславие Пауля-Генриха не замучило. Слишком хорошо запомнилось ему ощущение сорвавшегося в пустоту сердца, когда расплылась самодовольством омерзительная морда начальника Особого отдела «Гидроприбора», комиссара госбезопасности 3‑го ранга Овсянникова:
— Пройдёмте, гражданин Бреннер.
Так что, если уж и не «товарищем», то «гражданином» Пауль-Павел Генрих-Григорьевич предпочёл быть как можно более неприметным.
Второй раз позабавилась с ним фортуна, когда выяснилось, что в связи с наступлением немцев на Киевском направлении, ни о Белом, ни о Баренцевом море и думать не приходилось. А где ещё мог пригодиться такой «специальный» контингент, как не на Чёрном море, на кавказском его берегу, куда перебралась база Черноморского флота? Тут, на верфях вчерашних судоремонтных баз и просто у причалов мастерских рыбколхозов, срочно превращались в бронекатера романтические «шаланды, полные кефали». Работяги траулеры и сейнеры, ощетинившись зенитками и пулемётами, обращались в больших и малых «сторожевиков», простые баржи — в баржи десантные. Впрочем, и названия всем этим воинственным производным от «тюлькиного флота» придумать порой сложно было. Впору ограничиться одним именем: «Зловредный», «Яростный», «Напугай». Новообращенный из рыбколхозных мастерских в военный завод «в/ч 67087» от прочих отличался ещё и сугубо торпедной специализацией, что, в связи с нестандартностью по военным меркам «плавсредств», придавало ему некоторый экспериментальный тон.
«Вот, даже своё проектное бюро имелось, — скрипнул фанерной дверью Павел Григорьевич, — где не только ломались головы, как на задранный бак СЧС присобачить торпедный аппарат без особого выноса над фальшбортом. Но и даже…»
Павел Григорьевич неспеша вынул из кармашка выгоревшей спецовки очки и, привычно оглянувшись, заправил медные дужки за уши.
«Что это за рационализация, позвольте полюбопытствовать? Ну-с… В общем и целом толково, — пролистал он бумаги, прижатые рейсшиной на запрокинутой чертёжной доске. — Вот только при таком угле вхождения, голубчик, никак нельзя игнорировать солёность…»
Не отдавая себе отчёта, к чему это может привести, подсобный рабочий «П.Г. Севрюгин», он же старший военспец и доктор физико-технических наук П.Г. Бреннер, взял в лунке кульмана тщательно заточенный карандаш, который минут через десять выронил морской инженер Фильченков, вернувшийся с обеденного перерыва.
Выронил, подобрал и заявил во всеуслышание:
— Охренеть…
— Чего там?.. — оторвался от рейсфедера его коллега.
— Он внёс коэффициент плотности соли в гидродинамические расчеты!
— Кто?
— При пологой траектории на это можно было и наплевать, но, — в изумлённом азарте не услышал его Фильченков и потянулся за синей плиткой конструкторской резинки. — Но, если первоначальный импульс задаётся в условиях погружения…
— Э-э, братец… — отодвинул его бедром товарищ, более умудрённый жизненным опытом, и отобрал резинку. — Не спеши. Это всё, конечно, очень важно, но, поверь мне, куда важнее сейчас выяснить, кто эти поправочки внёс, — ткнул он пальцем в карандашные столбики цифр. — Кто этот скрытый и скрытный гений. Кто здесь мог побывать, пока мы трапезничали, а? Я ключей никому не давал, а ты свои?..
— Да только этому, старикану с метлой, дяде Пете, прибраться, — отмахнулся озадаченный Фильченков. — Не думаешь же ты…
Хроники «осиного гнезда»
Декабрь 1942 г. — февраль 1943 г. База торпедных катеров «Иван-Баба» в Якорной бухте
Силы 1‑й флотилии шнельботов, подорванные потерями и долгим ремонтом, наконец-то возросли. У причалов в Якорной бухте готовы были выйти в море «S-28», «S-51», «S-72» и «S-102» — грозная четвёрка, опытные и решительные военные моряки. Кроме того, славный боец, шнельбот «S-40», на который возвратился излеченный Шнейдер-Пангс, а также вновь прибывшие «S-47» и «S-52» находились в качестве резерва в Констанце. Там же проходили ремонт потрёпанные в боях и в штормах «S-26» и «S-49». И существенно ускорилось боевое обеспечение, не говоря уже об улучшении бытовых условий — 6 декабря была наконец-то введена в строй плавбаза «Романия», которую ещё весной приобрели у румын.
Но выходов в море было немного, а удачных — и того меньше. Зимние злые черноморские шторма накатывали один за другим, обрекая малотоннажные кораблики на бездействие. Авиация тоже не многое могла сделать: рваные тучи стремительно мчались едва не по гребням крутых волн, да и темнело рано. Так что русские крейсеры безнаказанно выходили несколько раз к союзным берегам. Пересекали бурное море и обстреливали портовые сооружения, нефтехранилища и заводы. Это приводило и к болезненным потерям, и к очередным вспышкам ярости, по восходящей, Цилиакса, Редера и самого фюрера. В короткие же дни затиший и ясного неба вовсю работала авиаразведка ЧФ, а если и удавалось выскользнуть к кавказским берегам под покровом темноты, то поиск ничего не приносил. Складывалось впечатление, что русские на этом направлении затаились.
Хотя очень даже не затаились на Сталинградском направлении.
Но вот временное спокойствие или относительное затишье взорвал большой десант под Новороссийском. И с февраля 1943 года главной задачей 1‑й флотилии стало нарушение снабжения русского плацдарма на «Малой земле».
Поскольку перевозки туда осуществлялись исключительно малотоннажными судами, список побед шнельботов стал стремительно пополняться буксирами, шхунами и сейнерами. В ночь на 18 февраля подвернулась цель и посолиднее: пять торпедных катеров нашли и атаковали в районе Геленджика плавбазу «Львов». Но находка не обернулась победой: и её артиллеристы, и комендоры полдюжины русских катеров сопровождения открыли такой огонь, что пришлось выпускать торпеды почти с трёх миль. В свете прожекторов и разрывов пенные дорожки, тянущиеся за «угрями», были хорошо заметны, и «Львов», резко и умело маневрируя, уклонился, и все пять «угрей» растаяли в ночном море.
Существенный боевой успех пришёл только через девять ночей. 27 февраля удалось потопить у Мысхако тральщик Т-403 и буксир «Миус». Ещё один «угорь» снёс корму канонерской лодке «Красная Грузия». Канонерка потеряла ход и села на грунт у Мысхако. Торпед у катерников к тому времени не оставалось, но Бюхтинг (это был его второй выход в море после возвращения из госпиталя) передал по рации точные координаты канонерки в штаб. Ещё до рассвета неподвижную цель накрыли огнём дальнобойной артиллерии. Несколько прямых попаданий вызвали пожар, и часть команды перебралась на подоспевшие «морские охотники». Довершила дело бомбардировочная авиация.
Ловля на живца
Туапсе. Лето 1943 г. Штаб КЧФ. Разведотдел
— Кто бы мог подумать, — хохотнул начальник флотской контрразведки полковник Овчаров, будто и впрямь рассказал презабавную байку. — Мы его чуть ли не с миноискателем по всем архивам ищем, предписаниями «совершенно секретно» и «срочно к исполнению» добрых людей стращаем. А он, подобно немецкой цветочнице, в нашем же садике, понимаешь, хризантемы поливает из жестяной лейки!
Полковник Гурджава, начальник флотской разведки, в очередной раз скривился на словесную живопись Овчарова: «Задерёт пионеров байками, а потомков мемуарами, ей-богу задерёт, — если доживет до победы, конечно».
А дожить у полковника Овчарова были все шансы. Такого на фронт рядовым если и разжалуют, то только если он рождественскую открытку Сталину «Хайль Гитлер!» подпишет, и то собственноручно, и при скоплении народа, — а то ведь отвертится, счастливчик. И впрямь, начальнику флотского Смерша везло, как зайцу на минном поле. Вчера только Георгий Валентинович и сам морщился в предчувствии «разгона» за утерянного «секретного» инженера, к тому же бывшего царского военспеца, читай, потенциального шпиона. А сейчас с самым триумфаторским видом излагает подробный план операции по выявлению немецкого шпиона, а то и сети, и не где-нибудь, а в самом штабе флота. Используя того самого, казалось бы, «безвозвратно утраченного» П.Г. Бреннера как живца.
— Ещё раз напоминаю, товарищи офицеры, — постучал толстым ногтем по столу полковник Овчаров. — Строжайшая секретность! Итак…
…Сослуживцы Павла Григорьевича моментально и однозначно опознали в разнорабочем в/ч 67087 П.Г. Севрюгине инженера П.Г. Бреннера, но никто ему не стал ни заламывать рук, ни отхаживать его кабелем усиленного питания. «Оставить всё, как есть!» — спешно и строго-настрого распорядился Смерш флота, немало разочаровав, но и успокоив бдительных товарищей из Особого отдела, и здесь имевшегося. Всё-таки лучше участвовать в тайной игре контрразведки, чем вульгарно получить по шапке за недосмотр. Вот только игра для них была настолько малопонятной, что со временем главные Смершевики, заметив, как с привычной бессонницей «недреманного ока» болтается подле Пауля-Генриха и Петра Геннадьевича в одном лице то один, то другой «товарищ» с расстёгнутой кобурой нагана, — их, товарищей то есть, обоих вывезли куда-то к чёртовой матери. Под предлогом очень специальной командировки. А вместо них на заводе появилось двое комиссованных моряков, хоть и рукастых, но всё равно как-то не слишком пролетарского духа. Впрочем, и должности у них были соответствующие, можно сказать, завидные, и как раз для реабилитации после ранения подходящие: один — банщик, другой — завскладом расходных материалов. «Рокировки» в этом, конечно, никто не заметил, кроме тех, «кому надо».
— Можно сказать, инженер Бреннер у нас сейчас, как сыр, — хмыкнул Георгий Валентинович. — Только не в том смысле, что в масле катается, а в смысле — сохнет на крючке мышеловки.
Трое из присутствующих офицеров вежливо зафыркали, а Овчаров увлечённо потёр пухлые ладошки и продолжил:
— Я думаю, я уверен, что «Марине Абвер» уже в курсе, кто, собственно, руководил проектом «Гидроприбора», который их так сильно заинтриговал. И если мы предоставим им информацию о том, где интересующая их персона, ведущий инженер проекта…
— Предоставим информацию? — ищуще обернулся по сторонам капитан 3-го ранга Васильев, начальник криптографической службы.
Полковник Овчаров энергично кивнул:
— Именно. И займётесь этим именно вы. Вы организуете утечку. Деликатно и элегантно, но так, чтобы знал весь высший эшелон флотского командования.
— Вы думаете… — чуть ли не охнул капитан 3‑го ранга Васильев.
— Не думаю, — решительно оборвал его начальник Смерша. — Но знаю, что сверху вниз эта новость быстрее дойдёт до среднего и младшего командного состава, чем снизу вверх. Практика показывает, — комически удручённо покачал он румяной лысиной, — что низы у нас как раз таки умеют держать язык за зубами.
— Они по ним и чаще получают, — «подумал вслух» командир 2-го разведотряда Тихомиров, и также нарочито «спохватился» под укоризненным взглядом Гурджавы.
— Дадим знать, и будем ждать, — продолжил Овчаров и, упреждая продолжение, готовое сорваться с губ того же «анархиста» Тихомирова: «У моря погоды…», поднял указательный палец. — Будем ждать активизации немецкой шпионской сети.
— Прямо-таки, «сети»… — пробормотал недовольно Давид Бероевич, но полковник Овчаров его будто бы не услышал.
— Поскольку утечка будет штабного происхождения, то нашему… — то есть немецкому, конечно, — поправился Овчаров, — «кроту» в штабе флота, так или иначе, надо будет принимать меры.
Полковник подошёл к карте Черноморского бассейна, как будто надеясь прочитать на ней возможные эволюции таинственного резидента.
— Что он предпримет? Попытается завербовать Бреннера или купить у него сведения об интересующем «команду Ноймана» «изделии»? Или, в самом крайнем случае, попробует переправить его через пролив, — развёл руками полковник. — Что бы ни предпринял вражина, отсидеться под плинтусом штабной крысой у него не получится. Собственно, потому, что мы ожидаем от него активных действий, мы, по рекомендации товарища полковника, — кивнул он на Гурджаву, — и хотим привлечь к операции разведотряд товарища Тихомирова.
«А вовсе не потому, что надо куда подальше заслать двух засранцев, пока за ними в госпиталь флота не припёрся Смерш НКВД», — прокомментировал про себя упомянутый полковник Гурджава.
Недолго ждать пришлось
Туапсе. Лето 1943 г. Судоремонтный завод в/ч 67087
— А им что сказали? — спросил банщик «в/ч 67087» Яков Войткевич кладовщика расходных материалов Александра Новика.
Тот пожал плечами, всё ещё ошеломлённый зрелищем «валтасарова пира» на дощатом столике среди цинковых шаек, сушёных веников и прочих атрибутов заслуженного и не очень отдыха.
— Энкавэдэшникам? Сразу же, поди, спохватились? — продолжил Яков.
— Чёрт их знает, — рассеянно ответил Новик. — Сказали, наверное, что мы уже где-нибудь в Констанце, чего-нибудь особо непотопляемое топим.
В последние три дня, когда улеглась боль и душевная, и физическая, Саша чуточку расслабился. Настёну, — не без участия полковника Овчарова, конечно, — вдруг резко выпустили из чекистского поля зрения. Не допрашивали и даже, наверное, что-то утешительное сказали в её госпитале, поскольку медсестре не навесили дополнительного дежурства за два дня отсутствия на трудовом посту. А вот как отреагировал Яков Осипович на небольшую стопку писем, которые неведомым почтовым колдовством долетели из Пермской области до Туапсе, сказать было сложно. Хотя и показалось Новику, что не очень утешили лейтенанта Войткевича вести издалёка.
— Я смотрю, ты тут за считаные дни уже, — Новик обвёл руками с небрежной щедростью рассыпанные на столике скумбрию в маслянистой меди шкуры, жестянку американской «chatka», горку нефритового «дамского пальчика», сгущёнку… — развёл взяточничество, хищения и прочий волюнтаризм. А хозяйственное мыло поди смылось?.. — прозорливо прищурился Новик.
— А ты здешний контингент видел? — с пугающей серьёзностью нахмурился Войткевич. — Ладно, когда ИТР по лысине обмылком мазнёт, а местные? Ты их видел? У них же шерсть сплошняком, от бровей до жопы, как у неандертальцев. Мыло как тёркой сдирает. Чтоб я так жил. Жри давай. Что там наш подопечный? Не денется куда, пока мы тут сибаритствуем?..
— Не, — закряхтел Саша, увлечённо скрежеща сапёрным ножом в банке. — Его в дирекцию вызвали.
— Кто? — слегка насторожился Войткевич.
— Да никто, можно сказать. Секретарша в окно аукнула, — отмахнулся Новик, облизывая маслянистое лезвие. — Наверное, двинуть чего-нибудь вроде мебели. Нашла тоже Геракла.
— И давно он уже там… авгиевы конюшни чистит? — вроде как расслабился Войткевич.
— Минут двадцать всего, не паникуй. Выйдет, увидим, — махнул ножом в сторону открытых дверей Новик.
Там действительно через анфиладу последующих раздевалок и предбанников виднелось крыльцо дирекции, или теперь, понятно, штаба «в/ч 67087» с его единственным входом. Как и все постройки бывшей межколхозной СРБ, штаб был архитектуры блокгаузной, вот только тылом упирался в контрфорсную стену оврага. Так что, если не через двери, то только в окна сигать.
«Но не средь бела ж дня такие шпионские страсти…»
Пока Войткевич лениво брёл к этому выводу, посасывая сгущёнку из банки, к сомнительно парадному подъезду дирекции подкатила чёрная эмка. Из неё выскочил поджарый офицер в иссиня-чёрном морской кителе и, на ходу отряхивая полы белым носовым платком, взбежал по ступеням к дверям. Складского происхождения дверям, но окультуренным незатейливыми филёнками. И — исчез за ними, взмахом платка оставив на крыльце то ли адъютанта, то ли денщика, верзилу при погонах старшего матроса.
— Саша, а вы уверены, что Бреннера туда двигать мебель позвали? — опустил Яков банку с сине-белой дореволюционной этикеткой сгущёнки.
— Уже нет… — вставая с фанерного ящика, нахмурился и Новик.
Эмка была узнаваемая.
Тихомиров нарочно показывал им заранее почти весь штабной автопарк.
Хроники «осиного гнезда»
Март 1943 г. База торпедных катеров «Иван-Баба»
То, что ситуация на море становится с каждым месяцем сложнее, с весны 1943 года почувствовали все моряки, вплоть до штаба кригсмарине. Самым показательным оказался рейд советской «малютки» [26], которой удалось прокрасться в саму Якорную бухту, где собралось шесть шнельботов, два сторожевых катера и морской буксир. Он-то и принял на себя торпедный удар, хотя это был не героизм и не самопожертвование, а обычная на войне случайность. «Малютка» выпустила прямоидущую парогазовую торпеду с восьми кабельтов, но небольшое искривление горизонтального руля превратило прямую траекторию в плавную дугу, заканчивающуюся на буксире.
Вторую торпеду русские не выпустили, не успели: на сторожевиках заметили пенный след и, не дожидаясь команды, обрубили швартовы и рванулись к подлодке. На каждом из них было по шесть малых глубинных бомб; возможный путь отхода проутюжили как следует, но, похоже, подлодку так и не накрыли. А значит, возможны были повторения.
Решили поставить у входа в бухту минное поле; но не исключено, что это действо засекла русская разведка, потому что на этих минах так никто и не подорвался.
Впрочем, подводные гости базу «Иван-Баба» больше не посещали [27].
Нагрузка на моряков всё возрастала — значительная часть боевого обеспечения германской армии, прорывающейся сквозь Северный Кавказ, производилась морем. Но навигацию, поначалу доступную транспортным судам и баржам с небольшим эскортом, из-за противодействия ЧФ вскоре пришлось превратить в отправку полноценно защищённых транспортных караванов; и шнельботы, самые боеспособные и подходящие для сопровождения, уже просто не справлялись, даже в ущерб своим ночным «поискам».
Удачный ход с крымского берега
Керчь. Лето 1943 г. 1‑я Митридатская ул.
— Ну вот! Что я вам говорил? — с неоправданным, с точки зрения гауптштурмфюрера Бреннера, оптимизмом, воскликнул капитан-лейтенант Нойман, торопливо проглядев бумаги, принесённые из шифровального отдела. — Ваш агент «Еретик» сообщает об обнаружении «кузена» на Кавказском берегу! — потряс командир айнзатцкоманды весьма скромной папкой.
— Это действительно интересно, — проворчал Карл-Йозеф.
Отсутствие чрезмерного оптимизма в его реплике было связано с тем, что разведчик подумал о своём: «Зачем, интересно, русским понадобилось ставить нас в известность о том, где отыскался братец?»
— А ваш? — спросил он вслух. — Ваш человек в штабе подтверждает эту информацию?
Нойман пригладил ладонью непослушную встопорщенную седину надо лбом, покосился на коллегу из «сухопутного» абвера и решился:
— Не напрямую, конечно. Им категорически запрещено сообщаться. Но в городе у него есть люди из грузинской оппозиции, вот через них.
— «Тамара?» — уточнил гауптштурмфюрер, разглядывая в окно затейливый каменный орнамент на уцелевшей стене гимназии, руины которой громоздились внизу, между провалами красно-ржавых крыш.
— Прекрасная «девушка», — хмыкнул капитан-лейтенант, — эта «Тамара».
— Только молодая и глупая, — мрачно буркнул Карл-Йозеф. — И пока далеко не царица. Кстати, о девушках, — он отошёл от окна. — Этот русский предатель, комиссар «Den Grasigen». Злаковый, как его…
— Овсянников? — слегка удивился капитан-лейтенант морской разведки и переспросил ревниво: — А что это вы о нём вспомнили? Да ещё «кстати, о девушках»?
Но гауптштурмфюрер будто бы его не услышал.
— Он указал точное место проведения последних испытаний интересующей вас торпеды?
— Указал, — пожал плечами Мартин Нойман. — Но что это нам даёт? Торпеда, — капитан-лейтенант выразительно свистнул куда-то в сторону солнечно-блещущей синевы залива, видной в соседнее окно, — как говорится, как в воду канула. Электрическую торпеду, — вы, возможно, не знаете, — никак нельзя запустить заправленной наполовину или ещё как, чтобы недалеко. В момент пуска происходит заливка кислоты и… Это, знаете ли, не бак заполнить на четверть. Так что, ушла с концами, тем более, что траектория этого «угря» была весьма причудливая. Путь до мишени Овсянников видел, а после — нет.
— Ну и бог с ней, — с неожиданным равнодушием прикрыл зевок чёрной перчаткой протеза Карл-Йозеф. — Русские-то об этом не знают. Не знают, что мы её не нашли. А насчёт девушек… — он задумчиво потёр подбородок и вскинул на Ноймана внимательный взгляд. — А что, если «Еретик» получит от нас информацию, что мы эту сказочную торпеду как раз таки нашли ? И сдаст эту информацию русским?
— Действительно, «что»? — недоуменно пожал плечами капитан-лейтенант.
— А то, — подошёл к нему Карл-Йозеф поближе, словно боясь, чтобы их не подслушали. — Я имел дело с флотской разведкой полковника Гурджавы. Поверьте мне, они не усидят на месте, узнав. Они будут здесь.
Мартин нахмурил белесые брови.
— Ну, во-первых, зачем им это надо?.. Тащиться, можно сказать, в пасть дьяволу? Отбивать у нас «находку», что ли? Чистой воды самоубийство. И во-вторых, такая провокация — рискованное дело и для нас. Вы ведь знаете, какое значение имеет сейчас для кригсмарине Якорная бухта? Там же основная база шнельботов. Смею напомнить, русские туда даже линкор с эсминцами посылали.
— И убедились, что это бесперспективно, — добавил Карл-Йозеф. — Поэтому, тем более, пошлют флотских разведчиков. Не мне вам объяснять, что один профессионал в нужное время и в нужном месте стоит самого меткого залпа линкора. Кстати, там был не линкор, а лёгкий крейсер вкупе с одним-единственным только лидером эсминцев. А насчёт вашего первого вопроса, — морщась, потёр чёрную кожу протеза Карл-Йозеф. — Зачем им это нужно…
«Гораздо проще объяснить, зачем это нужно ему самому. Ему нужен был русский лейтенант Войткевич. Бывший подопечный в резидентуре на Западной Украине и, как оказалось. — Карл-Йозеф болезненно поморщился, словно вновь разыгрались фантомные боли в пустой перчатке протеза. — И, как оказалось, его же, Карла-Йозефа Бреннера, куратор по линии ИНО [28] НКВД. Нужен здесь и желательно живой, по крайней мере, до тех пор, пока не выяснится точно, провален или нет агент “Еретик”? Можно ли на неё полагаться? Ведь от этого зависит, как долго ещё можно будет полагаться и на всю информацию, исходящую от их резидентуры в штабе русского флота. Кто знает, может, уже и предмет гордости “Марине Абвер”, их глубоко законспирированный агент, не стоит выеденного яйца. Может, он уже под диктовку полковника русской морской контрразведки, как его… Das Schaf… Овца… Овцевода… Овчарова пишет свои донесения?.. — покачал головой Бреннер в такт своих невесёлых раздумий. — Провал тогда будет не просто громкий, а расстрельный… По крайней мере, я бы так поступил».
Но вслух Бреннер сказал, будто суммируя выводы:
— А почему, как вы думаете, русские спохватились искать «кузена» сейчас, спустя два года после того, как его, — вот уж не знаю, в какой степени, — гениальное изобретение кануло в воду?
— Вообще-то, — фыркнул капитан-лейтенант Нойман, — я полагал, что это только подтверждает ваш недавний тезис об их бюрократической тупости и бестолковости. Потерять столь ценного инженера.
— И так старательно его искать сейчас. Видимо, им стала известна истинная ценность его работы, — выразительно закончил за него Карл-Йозеф.
— Значит, в этой подводной красавице действительно что-то есть, — прищурился на гауптштурмфюрера капитан-лейтенант.
— И именно поэтому русская разведка не должна допустить, чтобы это «что-то» попало к нам в руки, — с ответной пристальностью уставился на него поверх круглой оправки очков Карл-Йозеф. — По крайней мере, им нужно будет точно знать, что известно нам об этой, как вы выразились, «красавице». Это непреложный закон инженерного противостояния.
— Вы думаете, с русскими разведчиками здесь будет и соответствующий специалист? — не то уточнил, не то предположил Мартин Нойман.
— Едва ли сам «кузен» Бреннер… — сухо улыбнулся гауптштурмфюрер, — староват для таких затей профессор физико-технической комиссии Академии Его Величества. Но кто бы ни прибыл, об этой торпеде он будет знать всё.
— Вам не откажешь в логике, — решительно кивнул Мартин. — В таком случае, попросим русских поторопиться. Пусть ваш «Еретик» сольёт им новость, что мы пока ещё не подняли торпеду, а только накануне подъёма «изделия». Или даже только знаем точное место, но по ходу поисков зарылись в иле. Одним словом, «вот-вот, время не терпит, но ещё есть». И, кстати, — задумался командир морской фронтовой разведки. — А как она, ваша «Еретичка», не раскрываясь, им сообщит это?
«Хорошо бы, чтоб “не раскрываясь”, — забарабанил гауптштурмфюрер пальцами левой руки по столу. — А то ей ещё и очередное звание дадут».
— Устроим ей случайный радиоперехват, — сказал он вслух, подытожив обсуждение хлопком ладони по столу.
— Но наших абверовских кодов они не знают, — отрицательно покачал седой головой Нойман. — Не открытым же текстом? Слишком наивно.
Но запнулся, увидев блуждающую в сухих губах улыбку Бреннера.
— Зато они достаточно хорошо знают терминологию интендантской службы вермахта, — пояснил свою «легкомысленность» тот. — Прямо скажем, не слишком секретную, чтобы разобраться, какого калибра у нас «баклажаны» и сколько жил и какое сечение у медных полевых «гадюк». Я бы посоветовал вам составить список легкоузнаваемого по образам и индексациям оборудования снаряжения для водолазных работ и подъёма со дна взрывоопасных и весьма габаритных предметов.
— Думаете, догадаются?..
…— Даже обидно как-то, — хмыкнул начальник криптографического отдела капитан 3‑го ранга Васильев. — У нас батарейные радисты в открытом эфире и то изобретательнее…
Ответный ход из Туапсе
Туапсе. Лето 1943 г. Штаб КЧФ. Криптографический отдел
— Где планируется подъём? — поинтересовался полковник Гурджава, заглядывая через плечо полковника Овчарова в блокнотные каракули дешифровки.
— Ну а ты как думал? — Георгий Валентинович оттиснул ногтем в блокноте слово: «Ankersablage». — Ты видал когда-нибудь «Якорный склад» в окопе?
— Якорная бухта, — чуть слышно пробормотал начальник разведотдела. — Нашли, что ли?
Георгий Валентинович красноречиво пожал плечами:
— Меня больше занимает, почему именно она эту радиограмму выловила?..
Он обернулся на фанерную ячейку, где, под присмотром часового и офицера Смерша, сидела сержант Привалова. И сидела в довольно вольготной позе, забросив ногу за ногу. Так что поневоле часовой, «как на мёдом мазанную», косился на её крепенькую и весьма привлекательную ножку, восходящую из смятого голенища короткого сапожка.
— То с партизанами днями напролёт связаться не может, а то интендантский запрос между частями вермахта поймала, запросто, как Информбюро на длинных, — закончил Овчаров.
— Думаешь, «деза»? — поскрёб подбородок Гурджава.
— Да нет, наверное, — после минутных раздумий отрицательно покачал головой полковник Овчаров. — Смысла не вижу. Скорее всего, своеобразный ответ на нашу информацию. Мы им: «А мы Бреннера нашли!», а они нам: «А мы изделие!»
— Ну, не нам, допустим, а своим, — кивнул полковник Гурджава на Асю.
Дерзкая ухмылка бывшего сержанта и разоблачённого агента, впрочем, его не особо обманывала — с такой дерзкой улыбкой и ребенок задницу прячет в предчувствии неизбежной порки.
«И в лучшем случае, ей теперь в лагерях так улыбаться придётся начальнику режима, если только тот, не дай бог, бабой не окажется, да ещё нормальной склонности…»
— Тогда тем более интересно, — отвлёк его от разглядывания «падшего ангела с красным знаменем» Овчаров. — Что дальше? Чем должен окончиться этот наш своеобразный диалог?
— «А тащи-ка его сюда…» — флегматично пробормотал Гурджава, словно процитировал.
— Это ты сейчас нашу реплику продолжил, или их? — фыркнул Георгий Валентинович.
— Без разницы, — отмахнулся папиросным дымом Гурджава. — Так и они могут сказать про нашего Бреннера и мы про найденную ими торпеду.
— Тоже, кстати сказать, нашу, — напомнил Овчаров.
Давид Бероевич, словно невпопад, проворчал:
— Вот именно… — и, подумав, спросил уже «впопад»: — Что думаете делать? — И прищурился на начальника флотского Смерша сквозь серую вязь табачного дыма.
— Во-первых, думаю, хватит твоим ребятам в баньке париться на СРБ, — вполголоса произнёс полковник Овчаров и решительно зашагал на выход из криптографического отдела. — Поди, разомлели там уже на интендантских харчах, что твои коты на припёке.
Продолжил начальник Смерша уже в коридоре, без посторонних ушей:
— Потащат ли Бреннера немцы к себе или тут склонять к сотрудничеству начнут, за этим и мои ребята присмотрят. А ты своих готовь к заброске в Крым. — Овчаров остановился и, морщась от табачного дыма, присущего Гурджаве, как фимиам языческому истукану, потянул начальника разведотдела за локоть. — Немцы «Вьюна» не должны получить, даже если не сработал он из-за технической неисправности, а не злоковарства. Может даже, особенно поэтому.
— Почему это «поэтому»? — нахмурился Гурджава.
— Потому, что с обнаружением инженера Бреннера поиски содержимого головы «Вьюна», — снова постучал себя по лбу пальцем полковник Овчаров, как и в первый раз, когда речь зашла об «умном изделии», — на этом не закончены. Нами — так точно не закончены. А вот немцами… — он вздохнул. — Хотелось бы, чтобы они, не достав ни «Вьюна», ни нашего Бреннера, угомонились.
— Ну так в чём дело? — мрачновато усмехнулся полковник Гурджава. — Торпеду разыскать и взорвать разведгруппу пошлём, Бреннера сами расстреляете. И ни нам, ни немцам.
— Ты меня не понял, — снова остановился начальник Смерша. — Нами — не закончены, потому что инженер Бреннер — не единственный и даже не самый главный, как выясняется, творец «Вьюна».
…Допрашивать Павла Григорьевича или Пауля-Генриха, не отвлекая от роли приманки и не привлекая излишнего внимания, приходилось за пределами базы, в городе. Для чего заключённого «П.Г. Севрюгина» типа как за примерное поведение перевели на поселение. И то, от греха подальше, встречи полковника Овчарова с бывшим старшим военспецом проводились не у чрезмерно бдительной хозяйки, где произошло «поселение», а на конспиративной квартире.
…— Я понимаю, что это прозвучит не слишком убедительно, — устало снял Павел Григорьевич круглые очки и принялся протирать их краем деревенской выбивной скатерти. — Но я и в самом деле не знаю, какие в точности… и даже какого рода изменения в систему распознавания внёс этот доморощенный Кулибин. Хотя бы потому, что внёс он их, как выяснилось, в последние минуты перед испытаниями «изделия».
— И даже не поставил вас в известность? — иронически хмыкнул Овчаров, глядя на инженера с добродушием председателя колхоза, который только что счастливо избежал расстрела, свалив порчу колхозного имущества на тракториста МТС.
Приговорённый ещё в Крыму, переименованный в степи под Мелитополем и опознанный на Кавказе, Павел Григорьевич Бреннер промолчал, уставившись на край скатерти.
— Значит, он скрыл от вас эти свои новаторства, — снисходительно кивнул Овчаров. — Почему?
Бреннер выразительно пожал плечами. Как-то не хотелось ему признаваться, что если перед смекалкой «Кулибина», как механика, он готов был снять шляпу, то к его потугам инженерный гений относился с известной ревностью, — а следовательно, весьма долго и тщательно проверял бы все выкладки, прежде чем допустить изменения в «мозгах» торпеды. Тем не менее, будучи воспитанным в европейском духе рациональной справедливости, на следующий вопрос полковника: «Мне кажется, вы не считаете, что это он сделал, — Овчаров неопределённо помахал пухлой ладошкой, — …из каких-то вредительских соображений?» — Павел Григорьевич ответил твердо: «Не считаю».
Бреннер нацепил дужки очков, хоть и дрожащими руками, но аккуратно, и даже приосанился, запахнув полы видавшего виды пиджака.
— Совершенно не считаю. Я даже уверен, что Лёвка Хмур, — он скрипуче прочистил горло. — То есть, воентехник Хмуров, конечно, вполне порядочный человек и гражданин, и предан… — Павел Григорьевич, разгорячившись, как-то даже подзабыл, чему там быть преданным поучал комиссар Овсянников на нудных своих политзанятиях, так что сказал только растерянно: — Всему, чему надо.
— Тогда что же? — усмехнулся начальник флотского Смерша в ладонь, по обыкновению, подпиравшую подбородок. — Что им, по-вашему, двигало?
— Это трудно объяснить без привлечения специальных технических понятий, — начал Павел Григорьевич извиняющимся тоном, но, заметив нетерпеливую гримасу полковника, продолжил, почти сердясь: — Я думаю, Хмуров пытался усовершенствовать систему распознавания искусственных и естественных помех, отвлекающих торпеду от цели. Но получилось так, — раздражённо развёл он руками, — что не столько усовершенствовал, сколько усложнил систему, ввёл какие-то излишние блокировки, вот она и не сработала.
— Значит, Хмуров не планировал сорвать испытания? — равнодушно, словно для протокола, уточнил Овчаров.
— Совершенно уверен, — решительно подтвердил Павел Григорьевич. — Ни сорвать приёмку «изделия», ни как-либо его испортить.
— Почему же тогда сбежал? — закономерно спросил полковник.
— Когда увидел, что меня тут же арестовали? — негромко, но с горькой иронией уточнил, в свою очередь, инженер и подслеповато прищурился на Овчарова поверх круглой оправки очков. — А вы мне сейчас поверили?..
Пришла очередь подполковника красноречиво промолчать.
Снятся нам покой и воля…
Туапсе. Лето 1943 г. Судоремонтный завод в/ч 67087
— Ну вот, а я уже надеялся дослужить сытым и мытым до ветеранского аттестата, — хрипел Яша Войткевич, сигая через скамейки и распахивая на бегу двери предбанников. — С березовым веничком на полатях.
— С намыленной задницей! — звеня цинковыми шайками и чертыхаясь, опередил его Новик. — И поперёк лавки! Будешь ты своей пенсии дожидаться. Что здесь делать Задоеву?!
— Всё, что не хотите, — пнул ногой подвернувшийся тазик Войткевич.
Действительно, что удивительного в появлении на довоенной межколхозной, а теперь военной малотоннажной судоремонтной базе старшего офицера радиотехнической службы флота? Ничего. Кроме решимости к действию двух разведчиков, ожидавших появления «кого угодно из штабных», — как довольно туманно пояснил их задачу майор Тихомиров, командир 2-го разведотряда. Как это он сказал? А вот так:
— И вообще, кого угодно, кто приблизится к объекту, хватайте за шкварник! Потом, если что, покаемся, а не поможет, так примерно вас расстреляем, но с сохранением наградных и посмертных семьям.
Собственно поэтому, в первую очередь, и привлекли к традиционно шпионскому сценарию не офицеров контрразведки, а фронтовых разведчиков, не примелькавшихся в штабе флота.
— Альбина!.. — зажевав отчество солидной дамы, с порога рявкнул Александр Новик, разнеся плечом двери директорской приёмной. — Где Задоев?
Альбина Эдуардовна, женщина рептильного хладнокровия, не поднимая головы, как если бы не вихрь ворвался, а сквозняком потянуло, посмотрела на него поверх очков:
— Кто?
— Каперанг, который сюда заходил! — рванул к обитым дерматином директорским дверям старший лейтенант.
Впрочем, с точки зрения Альбины Эдуардовны, — всего лишь Саша-кладовщик, поэтому: «Назад!» — вполголоса, но так внушительно скомандовала она, по-прежнему не поднимая головы от гроссбухов, что Новик невольно отдёрнул руку от фигурной медной скобы.
— Никто сюда не заходил. Тем более, эта ваша «абракадабра».
В секретарши Альбина Эдуардовна попала с вполне сухопутной должности директора пионерского лагеря. Поэтому ни удивить, ни взять напором её не представлялось возможным. А уж оспорить решение… На подчиненных своего мужа она смотрела с материнской готовностью выпороть их, в случае чего, для их же блага.
Новик слегка сдал на попятную.
— А уборщик где? Дядя Паша?
— Ты разберись сначала, кто тебе нужен, — философски заметила дама. — Впрочем, они вместе, я думаю. Морской офицер, которого ты первым искал, попросил его в машину коробку отнести с радиостанцией, списанной с «Карла Либкнехта».
«Слава богу…» — невольно перевёл дух Новик, поскольку знал, что возле штабной эмки остался Войткевич, забалтывая не то денщика, не то адъютанта расспросами о трудностях штабного довольствия. «Рация. Вот тебе, хоть и непристойно надуманный, но для чужого глаза вполне приличный повод появиться старшему военспецу радиотехнической службы…» — додумал Саша уже в коридоре.
На днях был разукомплектован крепко поклёванный «мессерами» каботажный теплоходик, спущенный перед самой войной со стапелей Данцига. Рация на нём была хоть и не диковинная, но немецкая всё-таки.
Именно этот нюанс, с рацией, более всего убеждал в том, что появление тут капитана 1-го ранга Задоева, начальника «трофейного» отдела РТС — неспроста. Кому, при вдумчивом взгляде, мог понадобиться гражданский «Телефункен»? И за такой мелочью ехать самому начальнику отдела? И то, что, словно на блюдце с синей каёмочкой, случайно подвернулся ему Бреннер, означало либо «не случайно таки подвернулся», либо «на редкость повезло», и моментально среагировал матёрый шпион. Либо же всё это — такое жестокое стечение таких невинных обстоятельств, что в конечном итоге их с Войткевичем и впрямь примерно-показательно расстреляют перед строем: «за перебдёжь!»
Но не успел старший лейтенант добежать до входных дверей дирекции-штаба, как окончательно развеяли его сомнения звучные хлопки «ТТ».
…Широко расставив ноги, Войткевич палил в чёрный приземистый задок эмки, вихляющий в клубах пыли по направлению к въездным воротам. Злодейская эмка, не оставаясь в долгу, отвечала беспрерывным, но явно для острастки, тявканьем вальтера. «В белый свет как в копейку». Саша даже не задумался: пригнуться ли? Оглянулся с гримасой досады.
По-штабному отутюженный верзила — старший матрос, не то денщик, не то адъютант каперанга Задоева, сконфуженно скулил на ступенях дирекции, утирая локтем разбитые «вареники с вишней» и шаря, как заведённый, по расстегнутой кобуре реквизированного «ТТ». А вот и «подопечный» разведчиков Бреннер, и подозреваемый каперанг, надо понимать, с грохотом проломили дощатые ворота базы…
— Что ты?! — в сердцах выматерился на Войткевича Новик.
— А что вы хотите?! — мимоходом огрызнулся тот, заталкивая в рукоятку «ТТ» новую обойму. — Что я, Цербер о трёх головах? Пока я этих на мушке держал, меня сзади водитель приласкал, куда он уходил, и мама его не знает. Стой! — Яша бросился наперерез полуторке, вырулившей из-за угла одного из цеховых пакгаузов.
— Ты что?! Что, Яков Осипович? — ошалело уставился пожилой водитель на пистолет в руке мирного «банщика», вскочившего на подножку «фанерного форда». — Тебе что, директор машину не даёт? Так ты скажи по-людски, захватим твоё бельишко, или что там, — молитвенно забормотал он, невольно пятясь на дерматиновом сиденье.
— О чём вы думаете, Кузьмич, бельишко… — прорычал лейтенант Войткевич, плюхнувшись за баранку. — Вали отсюда «Дранг нах…» Потом ещё целоваться полезешь усатой своей… Давай! Шевели ботами!..
Это уже относилось к Новику, догонявшему полуторку, которая не то что не остановилась во время их мгновенного препирательства, но даже с жалобно-возмущённым воем взрыла дорожную пыль, резко набрав обороты. Саша, перевалившись через задний борт, загремел засаленными солидолом стальными бочками.
Начальник караула в опрокинутых воротах базы не знал, что ответить на немой вопрос часового, всё ещё поднимавшего и опускавшего видавшую дореволюционные виды трехлинейку.
— А я знаю?! — в конце концов, махнул он рукой в ответ на растерянный взгляд часового.
Обе машины находились на охраняемой территории на вполне законных основаниях, с предъявлением пропуска, путевого листа и примелькавшейся морды. А вот какого лешего они вылетели с неё, как подпаленные? Свалив и без того хлипкие ворота, да ещё паля друг по дружке так, что даже над часовым, вон, зажелтели на трухлявой доске свежие сколы?
— Звони в штаб… — сплюнул начкар, предчувствуя, что при любых раскладах «повесят дворника», — дворников, стрелочников и прочих козлов отпущения у нас много.
В декорациях Расина
Керчь. Лето 1943 г. 1‑я Митридатская ул.
— Не примите близко к сердцу, герр гауптштурмфюрер… — надвинул глубже на глаза глянцевый козырёк фуражки капитан-лейтенант — солнце, застрявшее над бухтой как приколоченное, нестерпимо резало глаза. — Но мне иногда кажется: не отвлекаем ли мы вас от более серьёзных дел в вашем армейском «абвершелле»?
— То есть, вы уже сомневаетесь в целесообразности моего привлечения к вашей операции? — без обиняков уточнил Карл-Йозеф, иронически щурясь.
— Ну, не так прямолинейно…
— Бросьте деликатничать, Мартин… — фыркнул начальник абверкоманды [29] при контрразведке 11‑й армии. — Вы меня мало огорчаете и ещё меньше отвлекаете от моих прямых обязанностей…
— То есть?.. — удивленно запнулся капитан-лейтенант.
Трость гауптштурмфюрера также остановила свой легкомысленный счёт булыжников на 1-й Митридатской.
Никакого гражданского населения в городе, бывшем ключевым звеном обороны, как Красной армии, так и вермахта (и не в последний раз), не осталось. Поэтому из охраны один только фельдфебель «Geheimefeldpolizei» скучал позади офицеров морского и «заморского» абвера, когда завзятый театрал предложил взглянуть на места действия бессмертной трагедии Ж. Расина «Митридат». Впрочем, капитан-лейтенанта больше умиляла не столько сама одноименная гора, на которой располагалась во времена оные столица царя, донимавшего великий Рим с упорством, не меньшим Ганнибалова. Не столько её археологические руины, — видал он и краше, в тех же Афинах, — сколько панорама бухты. Одной из тех, что со времён своего геологического рождения обречена была быть портом огромного значения. Не только военного, не только торгового, но и в конечном итоге исторического.
Правда, сейчас все три основных керченских порта, не считая мелких «ведомственных» и военного, для гидропланов, лежали внизу в руинах. Увы, несмотря на немецкий педантизм, так и не приняли они более-менее обжитой вид. Хоть катера, корабли и баржи принимались и отправлялись от их причалов, грузы складировались, а груды кирпичного и бетонного боя были убраны в сторонку древнейшим методом: «данке шён — битте шён [30]», — но людей для уборки, то бишь, военнопленных, всё равно не хватало…
— Кажется, здесь и проходил легендарный путь скандинавских ариев в гости к индийским родственникам? — опёрся о старинный парапет контрфорсной стены капитан-лейтенант.
Гауптштурмфюрер некоторое время мучительно морщил лоб, пытаясь сообразить арийскую транскрипцию общеизвестного: «из варяг в греки», и не удержался, чтобы не заметить достаточно ехидно, но вполголоса:
— Вообще-то это названия конечных пунктов довольно опасного пути, который проходили славяне , если, конечно, вы не имеете в виду Великий шёлковый путь, — на всякий случай добавил он.
— Его тоже проходили славяне? — недовольно переспросил Нойман.
— И все, кто ни попадя… — слабо утешил его арийский гонор Карл-Йозеф. — Вон там он и проходил… — ткнул он тростью в сторону заводского порта. — Сразу за молом.
Так и не поняв, издевается над ним этот чёртов культуртрегер от СС, или нет, Нойман вернулся к прежнему разговору:
— Я, конечно, рад, что «Марине Абвер» не отвлекает вас от деятельности «Абвер Аусланд», но…
— Но что именно я имею в виду? — опёрся двумя руками о слоновую кость рукояти трости Карл-Йозеф.
— Да, пожалуй, — подтвердил капитан-лейтенант.
— Прежде всего, ваша операция позволила мне убедить командование спустить с гор в Туапсе двух опытных диверсантов грузинского подразделения «Тамара» в помощь, так сказать, вашему агенту в штабе русского флота. А то сидят там, как горные козлы… — с заметным раздражением проворчал Бреннер. — Без всякого видимого толка и надежды всучить кому-нибудь свои «алюминиевые кинжалы» на случай восстания…
Бреннер не стал озвучивать мысль, что «…и без особой надежды на приход немцев, к которому это восстание рассчитывал приурочить «Абвер Аусланд» [31].
— Так что я надеюсь… — продолжил он вслух.
— Вы надеетесь, что за счёт их контактов с нашим резидентом, — продолжил за него капитан-лейтенант, — их информация будет более ценной?
— Я бы даже сказал — сколько-нибудь ценной, — без обиняков согласился Карл-Йозеф. — А то сидят там, в осаде, и всей информации от них: «сидим, осадили». Проку чуть…
— Боюсь вас разочаровать, — самодовольно дёрнул стрижеными усиками Нойман. — Но и от нашего резидента узнают они немного. Он имеет указание обратиться за помощью к вашим людям только в самом крайнем случае…
— И поверьте мне, если мои предположения о провале «Еретика» верны, то случай им представится очень скоро, — не менее ядовитой улыбочкой парировал гауптштурмфюрер.
— Одно дело делаем… — после минутной паузы первым сдался капитан-лейтенант: дескать, «чего уж там, свои люди».
— Великое дело… — вежливо насупился гауптштурмфюрер, но хватило его не надолго. — И, кстати, о делах…
Его ореховая трость снова принялась, словно костяшками бухгалтерских счёт, отсчитывать булыжники времен античных архонтов и российских императоров.
— Как ваши продвижения с поиском секретной торпеды русских?
— Какой торпеды? — кисло поморщился Нойман. — Никто её и не ищет, в смысле не надеется найти… — поправился Мартин Нойман. — Это же вы настояли на том, чтобы мы дурачили большевиков как можно более правдоподобно: дескать, если не нашли, то завтра уж точно…
— Дурачить… — укоризненно покачал головой Бреннер. — Нет более серьёзного дела, чем дурачество, Мартин. Не забывайте, что шпионом русских может оказаться кто угодно, даже старуха с корзинкой грибов…
— Какая старушка, какие грибы?.. — фыркнул капитан-лейтенант. — На данный момент Якорная бухта — самый охраняемый объект кригсмарине на всём побережье. Из местных там только самые необходимые и самые проверенные, кто сам готов идти с вилами на большевиков…
— С вилами… — теперь пришла очередь скептически скривиться Бреннера. — Большевистская зараза, Мартин, имеет странное свойство проникать в самые неожиданные слои общества. Так что, где им те вилы выдают, чтобы со Сталиным бороться, ещё вопрос… Не удивлюсь, если у них и попы с партбилетом под рясой Сталину «Многая лета» вперемежку с анафемой поют.
Он остановился.
— Я вам говорил, почему настаивал, чтобы с гор для контакта с «кузеном» спустился молодой Гия Лилуашвили?
— Отец — царский генерал, активист эмигрантской военной организации… — припомнил Нойман. — Сами сказали, козырь молодого гефрайтера Гии Лилуашвили — дореволюционное знакомство отца-генерала с вашим кузеном. Вроде как генерал Лилуашвили вооружением береговой обороны в империи заведовал, а Бреннер уже тогда работал по вооружению.
— Забудьте о козырях, — мрачно отмахнулся мёртвой перчаткой Карл-Йозеф. — Генерал Симон Лилуашвили арестован гестапо по подозрению в сотрудничестве с советской разведкой. А вы мне про идейно навострённые вилы.
— Чёрт… — спал с лица капитан-лейтенант. — И вы мне об этом так, между прочим? А младший?
— Успокойтесь, Мартин. С младшим всё нормально. Он отправился на родину мстить за ещё более младшего. А у кавказцев на этот счёт отношения, скажу я вам, самые что ни на есть первобытно-общинные. — И без перехода бросил: — Теперь нам сюда, — метнул набалдашником трости Карл-Йозеф за поворот улицы, опоясывающей легендарную гору, в дебри вечнозеленого дрока. — Тут есть развалины храма Тесея, не того, конечно, что на Акрополе, а построенного тут в середине прошлого века для лапидарной коллекции, кстати, одной из лучших в Европе…
— Когда вы успели всё это узнать?.. — недовольно морщась, как от несварения — видимо, всё ещё переваривая последнюю информацию, — проворчал капитан-лейтенант.
Но, видимо, так и не сварилось. Не дожидаясь ответа, Нойман нахмурил белесые брови:
— Простите, Карл, но вынужден буду вас покинуть. Пойду. В свете вашей новости побеспокоюсь о пущем правдоподобии поисков русской торпеды.
— Что ж, пойдите, — покачал головой Бреннер. — Побеспокойтесь. А я, напротив, пойду, умиротворюсь. Руины хоть и не слишком элегические, но всё-таки не такие марсовы…
И вполне довольный собой, забросив трость на единственный погон с серебряной перевязью, крикнул Карл-Йозеф скучающему фельдфебелю полевой жандармерии:
— Герр профессор? Густав? А где сейчас эта коллекция?..
Хроники «осиного гнезда»
Весна и лето 1943 г. База катеров «Иван-Баба» в Якорной бухте
В ночь на 13 марта, несмотря на ненастье, в поиск пошли две группы шнельботов. Повезло найти цель только меньшей из них, в составе двух катеров («S-26» капитан-лейтенанта Хайнца Мюллера и «S-47» Карла Рёдля). Но цель оказалась первоклассной: большой, свыше шести тысяч тонн, танкер [32], и в сопровождении всего двух сторожевиков. Русские почему-то не предполагали нарваться возле Туапсе в четырехбалльный шторм на торпедные катера.
Торпедные атаки приходилось сочетать с минными постановками. В последнюю ночь марта четыре катера скрытно подошли на малом ходу к Мысхако и выставили небольшое, но весьма правильно рассчитанное минное заграждение. Потеряв пять судёнышек [33], русские почти неделю гоняли вдоль и поперек тральщики и свои глиссеры «Г-5» с лёгкими тралами, а пилоты люфтваффе охотились за ними. Правда, без особого успеха.
17 апреля началась операция «Нептун», решительная попытка ликвидации советского плацдарма. 1‑й флотилии шнельботов поставили задачу полностью блокировать «Малую землю» с моря. Все во флотилии понимали, что пять катеров («S-28», «S-47», «S-51», «S-72» и «S-102»), действующих с базы в полутора сотнях морских миль, с этим вряд ли справятся. На серьёзную авиационную поддержку рассчитывать тоже не приходилось — похоже, что авиация русских становилась сильнее день ото дня. Но приказ следовало выполнять. В ночь на 18 апреля катерники совершили первое нападение на конвой русских. Удалось скрытно приблизиться на дистанцию торпедной атаки и потопить головной «Морской охотник». Но больше удачных торпедных атак не было. Два русских ТКА типа «Д-3», неожиданно для Бюхтинга (он командовал соединением) вооружённые 20‑мм «эрликонами», и три сторожевых катера, не слишком быстроходные, но хорошо вооруженные, отрезали путь к транспортам, «связали боем». Драться пришлось почти два часа, потрепали сторожевиков и один из ТКА изрядно, сами тоже получили пробоины и ранения матросов. А когда расстреляли почти весь боезапас, поняли, что русские отходят, не повторяя попытки разгрузиться.
— Возвращаемся! — приказал Бюхтинг.
Формально задачу катерники выполнили: в эту ночь подкрепление на плацдарм не пришло. Но во все последующие семь ночей, пока не стало ясно, что ликвидация плацдарма не удалась, сорвать доставку подкреплений катерникам больше не удавалось. Охранение конвоев русские увеличили до 12–15 катеров, а в ночи, когда волнение утихло, к сторожевикам присоединялась пара-тройка глиссеров-торпедоносцев «Г-5». Маленькие, почти вдвое короче и уже шнельботов, да ещё и вёрткие, они являли собой трудную мишень. Ещё и скорость — на десять, а то и на пятнадцать узлов больше; хорошо хоть, что несли они, помимо торпед, всего по два пулемёта. И вот все эти полтора десятка злых и, надо признать, умелых врагов устраивали такие водяные карусели в свете прожекторов и осветительных ракет, что никаких шансов прорваться к транспортам не оставалось. К концу недели «S-28» опытного и удачливого бойца Кюнцеля, «S-47» Рёдля и «S-102» «глазастого» Тёнигеса пришлось отправить в ремонт. Вымотались командиры, вымотались экипажи, а ещё больше — сами катера. И на каждом был по два-три десятка боевых повреждений, и с каждого по двое или трое моряков убывали в госпиталь.
На смену им прибыли только «S-26» и «S-49».
Немецкий и русский варианты поговорки
Туапсе. Лето 1943 г.
«Мама, вы родили идиота! — в который раз, яростно выворачивая баранку, подумал Яков. — Надо было оставить Кузьмича за штурмана!»
Сам он, хоть и не страдал топографическим кретинизмом, но этот горный «термитник» — Туапсе — знал куда хуже, не то что родной Одессы, но даже так и не ставшего родным Ровно. Некогда было тут особенно променады с рандеву устраивать, не было тут ещё «заветных» ажурных балкончиков, до которых через ряд неприметных калиток добираться надо, так что, поневоле, не только каждую подворотню, а каждую канаву, лавочку, водосток выучишь.
Эмка шмыгала во дворах и подворотнях, точно крыса в родном подполье. Яков же на полуторке то и дело норовил снести фигурные литые столбики террас, наскочить на резное крылечко, влепиться лупоглазой мордой форда в чугунную оградку, — и без счёта вылетали из-под стальных крыльев грузовичка вездесущие старики в колониальных макинтошах времён НЭПа. Выручала только природная реакция и рефлексы автомобилиста. Было дело, гонял по Ровно в служебной машине, не сильно различая, что там, впереди, за бампером творится.
«Загнать бы эту крысу, как в казарме, в глухой угол, да сапогом, — отчаянно трещали синхронизаторы в коробке передач. — Да не разгонишься».
И вдруг такая перспектива образовалась.
Неистово визжа тормозными колодками и едва не черпая булыжную мостовую подножкой, эмка Задоева влетела в тесную проходную и почти сразу же врылась в клубы пыли из-под юзом замерших колес.
Кренясь набок, ввалился в синий полусумрак и реквизированный у Кузьмича форд, и тоже, — убедился Яша, — «Ahtung». Приехали. Если и не «minen», то дороги нет. Или почти нет. Сумеречная проходная выводила в каменный колодец внутреннего двора. Хрестоматийного двора — с метнувшимися из-под колёс чумазыми курами и не менее чумазыми карапузами, взвившимися по дубовым ступеням на террасы веранд. С колонкой пожарного гидранта в тени обгоревшей пальмы.
Эмка обогнула колонку с одной стороны, форд наперерез — с другой, едва не снеся чахлую пальму.
Какую-то долю секунды они, — Войткевич и Задоев, — буквально смотрели друг другу в глаза, хоть и, конечно, через ржавый налёт пыли. Но всё-таки сблизи настолько, чтобы рассмотреть злобный ужас в глазах старшего офицера радиотехнической службы флота, по крайней мере, одного из старших.
Но дворик, выложенный каменными плитами, вытертыми если не столетиями, то десятками лет неутомимой суеты сует, оказался всё-таки слишком, точнее — неожиданно просторным. Кое-что от его периметра, что уходил в тень под обычными азиатскими террасами, Яков не учёл-таки.
Эмка резко отвернула, почти вынырнула из-под бампера полуторки и метнулась под дощатую веранду, отчаянно заскрежетав лоснящимся чёрным боком по чугунному столбику.
— «Уйдёт, сука!» — успел подумать Яша, и уже увидел рубчатый протектор запаски на её заду, как раздался грохот и рефлекторный визг тормозов.
Войткевич выскочил на подножку форда. Лейтенант Новик стоял в кузове грузовика с выражением лица великого лейб-хирурга Пирогова, крайне заинтригованного исходом только что проделанной операции.
Один из бидонов, между которыми всю дорогу швыряло и катало старшего лейтенанта, провалил лобовое стекло эмки.
— Кажется, с подписанием протокола допроса Задоеву придётся теперь потерпеть, — поскрёб Яков трехдневную рыжеватую щетину.
— Не думаю, — утёр пыль и пот тыльной стороной ладони Саша. — Я на водительское место кидал.
Действительно, довоенная «М-1» была с разделённым лобовым стеклом, и бидон отсвечивал солидолом с левой стороны, а это значило…
Переглянувшись, лейтенанты мгновенно соскочили с машины — Войткевич со своей подножки на широкую подножку легковушки, Новик — прямиком на крышу. Но гулкий удар обеими его сапогами не произвёл на пассажира впечатления. Тот сидел, как говорится, ни жив ни мёртв, механически вытирая кровяные брызги с левой стороны пергаментно-бледного лица, на котором особенно отливал синевой вполне «геройский» шрам.
— Ну, чем брал, Иуда? — выволок его за локоть из машины Войткевич. — Марками, сребрениками или обещанием всех благ в загробном будущем Третьего рейха?
Замкомандующего радиотехнической службой КЧФ Задоев посмотрел на него прозрачным невменяемым взглядом. Должно быть, всё ещё не верилось Иуде…
«Nicht allen dem Kater die Fastnachtswoche», — злобно процитировал Яков старинную немецкую поговорку. — «Не всё коту “Октоберфест”».
Но оказалось, что и «не всё коту масленица». Характерная «сорочья» очередь из немецкого автомата с какой-то восточной безоглядностью, будто кто палил, не глядя, задрав над головой «шмайссер», прозвенела по чёрной крыше эмки, вскрывая её, как консервную жесть, и сметая с неё лейтенанта Новика…
Краткий курс театроведения
Керчь. Лето 1943 г. 1‑я Митридатская ул.
— Кажется, я теперь понимаю, почему вы настаивали, чтобы именно агент «Еретик» перехватила шифровку с дезинформацией в штаб русского флота, — укоризненно пробормотал капитан-лейтенант Нойман, обращаясь почему-то к самому рейхсфюреру, то есть к его парадному фотопортрету в никудышном «походном» багете министерства пропаганды. — Но как? Почему? Почему вы предполагали, что «Еретик» провален?
— Ну… — протянул гауптштурмфюрер Бреннер, ревниво осматривая маникюр на уцелевшей руке (после утраты кисти другой, — тем более ревниво). — Конечно, было бы куда романтичней сослаться на интуицию. Но нет, — спрятал он руку в тонкой нитяной перчатке. — Анализ радиопочерка.
Мартин Нойман, отвернувшись от портрета в коричневатой, — и впрямь, походной, дымке виража, — посмотрел на него с раздражением. Дескать, сами не по плакатам гитлерюгенда читать учились.
— Есть, знаете ли, у всякой дезинформации… неважно чьей, — небрежно махнул Карл-Йозеф Бреннер другой перчаткой, — …одна, я бы сказал, театральная особенность. Страх актёра, что ему не поверят, когда нечто многозначительное в его монологе проскальзывает как малозначимое.
— Я, знаете ли, как-то больше по солдатским казино да офицерским варьете, — с наиграным уничижением развёл руками капитан-лейтенант. — Так что мне это ваше театроведение или высоколобая критика даётся с трудом.
— Да и нет никакой критики, герр капитан, — с не менее наиграным прямодушием отмахнулся гауптштурмфюрер. — Просто стоит паяц при свете рампы и мается: то ли ему значительно подмигивать в зал и воздевать палец, когда он говорит, что у соседки Августы кошка сдохла… — Лицо Карла-Йозефа приняло выражение крайней, почти потусторонней загадочности. — То ли сказать об этом, как о действительно совершеннейшем пустяке, так, между прочим?
Лицо гауптштурмфюрера при этом и впрямь исказила гримаса вполне дурацкая.
— Ну и кто, между прочим, сдох? — понемногу теряя терпение от всей этой идиотской пантомимы, с грохотом угнездился на простом стуле Нойман.
— Боюсь, что наша «Еретичка», — иронически отреагировал на эту его репризу Карл-Йозеф. — Когда она передавала нам шифровку от вашего штабного резидента о возможном скором восстановлении подбитого «Молотова», в ней чувствовалось спокойствие сродни безразличию.
— А ей, и впрямь, особенно радеть за нашу победу как-то… — начал было Мартин, но коллега из «сухопутного абвера» его бесцеремонно перебил:
— А вот когда речь зашла «о моём дорогом кузене» Пауле, — поджал сухие губы Карл-Йозеф, — мне уже стала заметна некоторая нервозность. Будто сообщение это диктовалось ей через плечо, и во многом успех мероприятия определял и её судьбу.
— Мистика какая-то, — буркнул Нойман. — Что там можно почувствовать в столбцах цифр?
— Не скажите, герр капитан-лейтенант, не скажите…
Хроники «осиного гнезда»
В мае удалось договориться с итальянцами о дополнительной помощи. Отзывать свою флотилию катеров, действовавших на Чёрном море с 42 года, а теперь воюющую на Азове, итальянцы не стали — там тоже нагрузка была весьма велика. Вместо этого итальянские союзники по Оси перебросили из Средиземного на Чёрное море и передали под германское командование дополнительно семь своих торпедных катеров типа MAS. На их базе была развернута 11‑я флотилия торпедных катеров под командованием капитан-лейтенанта Хуго Мейера, опытного катерника, переведённого с Балтики.
Итальянцев, для принятого в кригсмарине единообразия, переименовали, присвоили катерам номера с «S-501» по «S-507», хотя рядом с «настоящими» немецкими ТКА они выглядели малютками: всего-то двадцать тонн водоизмещения. Правда, скорость они развивали приличную — до 47 узлов, но это только по спокойной воде. С мореходностью у них, само собой, дело обстояло не очень. Отвага и умение итальянских катерников, конечно, компенсировали некоторые технические издержки, но слишком многого ожидать не приходилось. В прямую противоположность известной реплике о том, что итальянцы гораздо лучше строят свои корабли, чем воюют на них.
Немалую проблему представляли и взаимоотношения между итальянскими катерниками, германским командованием и обслуживающим персоналом базы «Иван-Баба», где кроме немцев были и румыны. Любить немцев отважных «синьоров», понятно, никто и не собирался заставлять, но слышать, как они между собой употребляют не только «звево», но и «джермашки», было не слишком приятно. Румын же, справедливо считая их потомками ссыльных, варваров и изгоев из Римской империи, «синьоры» презирали просто откровенно. Все попытки «романов» обращаться к союзникам на языке, который, в общем-то, и впрямь восходит к латыни, вызывали у «синьоров» смех и издёвки. Несколько разными, наверное, оказались пути формирования современного итальянского и румынского.
…Но всё же семь катеров — это достаточно солидно. Флотилия, усиленная сторожевиками, осуществляла охранение конвоев между портами Крыма и Анапой.
Не слишком долгий путь, но почти ни одна проводка не обходилась без противодействия ЧФ и авиации. В ходе постоянных боевых столкновений один катер («S-505») вскоре был потерян, а три («S-501», «S-506» и «S-507») получили настолько тяжёлые повреждения, что были исключены из состава флота. В октябре 11‑ю флотилию расформировали, итальянские экипажи вернулись домой, отведя три оставшихся катера, тоже повреждённых и с почти полностью выработанным моторесурсом, в Румынию. Перевозить их прежним порядком, по суше, сочли невыгодным.
Румыны же их так и не отремонтировали и, в конце концов, сняли вооружение и всё, что представляло для них ценность, и оставили катера на дальней стоянке в Констанце.
Досадная потеря
Туапсе. Лето 1943 г.
Стреляли с террасы. «Петушиный клюв» новенького «MP-42» торчал в одном из маленьких окошек веранды и всё ещё полыхал кляксой пламени.
«Кто и откуда тут взялись?» — особо задаваться этими вопросами сейчас не было времени. Не ту гримасу скорчила Судьба, чтобы обращаться к ней в данный момент с вопросами. Да и не тем, пожалуй, местом обернулась. Особенно если учесть, что, когда заскрипев наподобие ржавой калитки, отворилась задняя дверца эмки, из неё выпало мёртвое тело, и с деревянным стуком ударился о каменную плиту бордюра желтовато-костяной череп Бреннера. Того самого бесценного инженера, присматривать за которым и были приставлены офицеры-разведчики. И вот на тебе: багровая лужа на глазах разрасталась под старчески пигментированным затылком Павла Григорьевича…
Бидон пригодился и на этот раз, впору не под солидол его пользовать, а записывать в штатное вооружение разведотряда. Лейтенант Новик, с первым же выстрелом кувыркнувшийся обратно в кузов полуторки, оценил это сразу. Дело даже не в гуманистических каких-то соображениях, хоть он и успел подумать мельком, что стрельба по оконцам веранды может до добра и не довести.
Откуда бы ни взялись тут диверсанты, — очень уж мало вероятно, чтобы они здесь квартиры снимали, предугадав заранее, куда их резидента нелегкая занесёт. Значит, могут оказаться в квартирах местные жители, совершенно ни к чему не причастные. Диверсантов же, хоть одного, надо взять живым и допросить. А бидон — это не смертельно. Но до смерти страшно.
И действительно, в глазах стрелка или стрелков алюминиевый бидон, кувыркающийся в воздухе и разрастающийся на глазах, впечатление произвёл куда большее, чем какая-нибудь плюгавенькая граната.
Провалив вовнутрь ветхие рамы, он отбросил от них стрелков. И прежде чем они успели вскочить на ноги, вслед за грохочущим бидоном, с удачливостью кегельбанного шара, вкатившегося в комнату, влетел на террасу и лейтенант Новик. С крыши грузовика оно было сподручнее.
Войткевич же, к тому времени, умудрился прямо под пулями сволочь обомлевшего форменного Иуду в тень под террасу и тем самым спасти ему жизнь. Судя по всему, инструкция неведомых диверсантов включала в себя не только прикрытие штабного резидента, но и уничтожение его, в случае, если прикрытие окажется бесперспективным.
«Здрасьте вам через окно! — подумал Яков, уворачиваясь от пуль, сёкших каменные плиты прямо через дощатый пол веранды и волоча за собой Иуду в форме, который слишком был занят пережёвыванием собственных зубов, чтобы строить планы на будущее. — Уже хорошо, хоть кто-то из тех, кто “много знает”, будет хоть невнятно, но вполне в состоянии рассказать, что именно знает он».
Тем более, что, — лейтенант знал, — покойного инженера Бреннера допрашивали чуть ли не ежедневно и, значит, выспросили.
«А вот этому будет что рассказать».
Яша наконец-то придумал, что делать со своим ценным грузом. По-восточному плоскую крышку величественного сундука, — такие сплошь и рядом служили на террасах чем-то вроде лавочек, — запирал висячий замок, который Войткевич без труда сбил. Там пылилось какое-то ветхое персидское тряпьё, на место которого вполне и целиком поместился и замкомандующего радиотехнической службой флота.
Войткевич водрузил на место замок, дёрнул — изнутри не откроешь, — и бросился наверх, по ажурной чугунной лесенке. Туда, где всё ещё звонко гавкал «ТТ» Новика в ответ на птичий треск «MP-42», — и значит, продолжалась охота.
Впрочем, уже через несколько минут оба лейтенанта, просто и старший, уселись на медную чеканку сундука. И не слишком поспешали отозваться на робкий стук Задоева. Войткевич только громыхнул по крышке тяжёлой рукояткой пистолета: «Цыц!» И спросил:
— Второй — я так думаю, тоже грузин?
— Был… — с досадой скривился Новик.
— Ну, извини, — как-то не очень правдоподобно пожалел о содеянном Яков. — Я же не знал, что их там так мало, вот и спас тебе жизнь. В следующий раз не обещаю.
Лейтенант Новик только скривился пуще прежнего.
— Ты думаешь? — попытался сменить тему Войткевич, стягивая через голову тёмную от пота гимнастёрку.
— Уверен. «Тамара»…
Вероятность содействия немецкому резиденту со стороны национального диверсионного подразделения «Тамара» была, и более того — Тихомиров просил не только иметь это в виду, просил «на это рассчитывать».
— А то, что боевики оказались именно здесь и именно сейчас, — это куда совать? — спросил Яков Осипович.
— Могли ведь и следить.
«Но могли ведь следить и за ними…» — нахмурился лейтенант Войткевич.
Это следовало проверить.
…В проулке по соседству вскоре обнаружился не только брошенный с открытыми дверцами невинно-пекарский фургон, во времена оные реквизированный в коммунхозе на потаённые нужды войны, но и «ГАЗ-АА» с вездесущим лейтенантом Столбовым. Смерш НКВД, оказывается, «вёл» парочку из «Тамарочки» — и, выходит, охотился не только за детьми врагов народа.
Именно это, в свою очередь, заставляло хмуриться и отмалчиваться старшего лейтенанта Новика. Он-то успел однозначно разглядеть, что один из только что убитых ими, молодой, едва ли призывного возраста грузин был разительно, прямо-таки фотографически, похож на одного знакомого дворянского отпрыска, в недавности спасённого его женой. На десятилетнего князя Мамуку Лилуашвили.
— Проедем?.. — как-то не так уже агрессивно, как в прошлый раз, предложил лейтенант Столбов, и даже козырнул, дескать: «Особых подозрений на ваш счёт нет, товарищи, но надо бы провериться, мало ли что, опять-таки, вши?»
— Да ну тебя, — с усталой ленцой послал его лейтенант Войткевич. — Оно мне надо?! У нас свой Смерш имеется…
Отеческое напутствие
Туапсе. Лето 1943 г. Штаб КЧФ. Отдел контрразведки Смерш
Никакого особо инквизиторского отличия в кабинете начальника флотской контрразведки от кабинета начальника флотской разведки не было. Ни тебе живодёрских клещей на стенах, ни оков с кандалами, ни другого пыточного инструментария. В общем, ничего такого, что произвело бы впечатление на командира разведгруппы «2–2» — 2-й разведгруппы 2-го разведотряда. Как и на бывшего командира разведроты Войткевича, — насмотрелся уже Яков Осипович, врагу не пожелаешь.
Стандарт. Дежурный портрет Сталина на стене в дубовых панелях да набор плакатов тематики соответственной: «Бди! Не болтай! Куды по копаному?!» И всё-таки, какую-то, загнанную вглубь, исподнюю, а то и преисподнюю, тревогу лейтенанты испытали, когда расположились на арестантских табуретках, нарочно, что ли, расставленных под стеной кабинета.
— За поимку немецкого резидента благодарю, конечно, — коротко бросил полковник Овчаров, не отвлекаясь от бумаг, принесённых с собой. — Хорошую службу сослужили.
И добавил уже с большим чувством, окончательно сунув бумаги куда-то в многочисленные ящички торжественно-бюрократического стола (только это, пожалуй, и унаследовала хаотическая машина диктатуры пролетариата от царственной осанки самодержавия, — страсть к столоначалию):
— Это же надо, в последнюю очередь бы подумали на него… — словно сам себя укоряя, хоть и не особенно в это верилось, продолжил Георгий Валентинович. — Был на отличном счету, геройский боевой офицер. Дунайская флотилия, шутка ли? Оборона Одессы, Севастополя… Там хлопцы такие дела творили!
Полковник Овчаров покачал головой.
— Правда, ещё тогда надо было проверить, почему именно геройская Дунайская флотилия оказалась основным поставщиком дезинформации относительно десанта в Крыму.
— Десанта? — переглянулись младшие офицеры. — Это в 41‑м?
Помнилось им обеим, и очень хорошо помнилось, как гоняли морпехов, да и армейцев, будто сидоровых коз по всему побережью в места предполагаемой высадки немецких кригсмарине, которых, по большому счёту, и не было тогда ещё в Чёрном море. Как ни скрипи зубами, а операцию по дезинформации и дезориентации абвер провёл блестящую. Уже Перекоп прорвали, а наших добрая половина сил от побережья оторваться боялась.
— Надо было сразу проверить характер сообщений на предмет шифровки и почерка… [34] — будто вслух рассудил полковник, выстукивая «морзянку» по папке карандашом.
Но, заметив взгляды офицеров… — слишком уж осмысленные, не то, что у большей части среднего комсостава, заимевшего штабную привычку не слышать того, что не для твоих ушей, — спохватился.
— Но и теперь, хлопцы, я вам не отпуск предложу с поездкой на юг и повышением в должности до постельного клопа, — не то кривовато, не то виновато как-то усмехнулся Георгий Валентинович. — Хотя в какой-то степени можно говорить и о поездке на юг. Только больно уж жарко вам там придётся.
От самой двери раздался голос с характерным лёгким акцентом:
— Обстановочка в районе выброса, прямо скажем… — Появление полковника Гурджавы, видимо, в силу навыков разведческой его юности, осталось незамеченным всеми, кроме, разве что, овчаровского адъютанта, чью адъютантскую прыть полковник остановил хозяйским жестом. — Обстановочка крайне сложная, — продолжил Давид Бероевич. — Если быть документально точным…
Хроники «осиного гнезда»
Вся первая половина мая прошла в бесплодных поисках. Воздушная разведка русских — в составе их разведчиков появились «аэрокобры», которые не уступали «мессерам» в скорости, — «засекали» соединение, едва оно выбиралось из бухты. И тогда русские конвои, не говоря уже о боевых кораблях, заранее готовились к встрече, обнаруживали противника своевременно и открывали огонь задолго до выхода шнельботов на дистанцию торпедной атаки. А ещё умело перестраивали ордер, прикрывая серьёзные цели конвойными кораблями, или же укрывались в ближайшем защищенном порту. Только в ночь на 20 мая «S-49» и «S-72», проскользнув туда, где не ожидал противник — к самому порту Сочи, — потопили буксир и большую гружёную баржу. Четвёртый «угорь», разминувшись с ещё одной баржой, выломал изрядный проран в молу порта.
Возвращение на базу далось трудно. На рассвете оттуда, откуда через час должно было появиться майское солнце, налетела пятёрка русских штурмовиков. 20‑мм «спарка» 26‑го и «фирлинг», счетверённый автомат 72‑го, грохотали почти непрерывно, пока Мюллер и Брюгген, капитаны, на предельной скорости закладывали сумасшедшие виражи, уворачиваясь от пушечного и пулемётного огня. Только когда три дымных следа сбитых самолётов уткнулись в воду, а оставшиеся, покружив над местом их падения, умчались на восток, можно было оценить и мастерство комендоров, и серьёзность повреждений, и потери в обеих экипажах.
Весь июнь занял ремонт, пополнение личного состава вместо убитых и раненых и бесплодные попытки со стороны прибывших с ремонта катерников в короткие летние ночи выследить добычу.
А потом настал «чёрный день» 8 июля, когда погиб «S-102» доселе удачливого Гельмута Тёнигеса, подорвавшись на мине в южной части Керченского пролива.
И в тот же день неподалёку от базы «S-40» столкнулся с собственным тральщиком, который вылавливал советские мины, ловко и скрытно поставленные на традиционном пути выхода из бухты, — и вновь отправился на длительный ремонт…
Крылья на выбор
Туапсе. Лето 1943 г. Штаб КЧФ. Разведотдел
— Вы планеризмом часом не занимались? — не поднимая крупной стриженой головы и задумчиво чертя что-то в блокноте остро отточенным карандашом, спросил полковник Гурджава.
— В детстве, но сразу бросил, — мгновенно и, пожалуй, машинально отреагировал Войткевич.
Гурджава медленно поднял голову и окинул Якова недоумённым взглядом поверх круглых очков. Начальник лётной части подполковник Ленкова густо покраснела.
Перехватив насмешливо-укоризненный взгляд майора Тихомирова, лейтенант поправился:
— Прошу прощения, товарищ полковник, товарищ подполковник, — кивнул он, не оборачиваясь, Ленковой — тридцатилетней полнокровной даме гренадёрских статей. — Но, когда «Все на танки!», «Все на самолеты!» и «…на планеры!», соответственно, я в футбол гонял.
Давид Бероевич перевёл недоумённый взгляд на Тихомирова, — дескать, ты где этого клоуна выкопал?
— И неплохо гонял, — невозмутимо подтвердил Яков Михайлович Тихомиров. — Тезка мой — бывший правый инсайд одесского «Пищевика», а это вам не фунт…
— Вижу, что не «левый», — проворчал Давид Бероевич и, не глядя на хулиганистого лейтенанта, бросил: — Полетишь багажом.
— Это вряд ли возможно, товарищ полковник, — твердо заявила Ленкова Римма Яновна, громыхнув стулом, вставая и скептически глянув на «багаж» сверху вниз.
Причём точно так же глянула бы она на него и сидя. Женщина была по-скандинавски дебелая, рослая; даже непонятно было, как своё восхождение к званию и должности начальника лётной части авиадивизии она начинала штурманом в легендарном фанерном бипланчике «У-2»? Поди блистала авиаторскими очками выше верхнего яруса крыльев…
— Для неуправляемого «ведомого» груза нужен сильный «ведущий», — пояснила своё возражение подполковник Ленкова. — С этим и опытному планеристу справиться непросто, а учитывая сложную розу ветров морского побережья…
— Понятно, Римма Яновна, — остановил её поднятым карандашом полковник. — Ваши предложения?
Бывший штурман привычно расстегнула планшет, словно на крыле своей «фронтовой молодости», отцветшей, вернее, отгоревшей всего два года назад. Но, видимо, азимуты и маршруты были начертаны под густым валком русых волос с тою же чёткостью, что и на карте.
— Я думаю, нам есть смысл обратиться за помощью к командованию 46‑го гвардейского полка ночных бомбардировщиков.
— Это там, где вы… — начал было начальник флотской разведки, невольно указывая острием карандаша на грудь Ленковой, плотную, до треска пуговичек в петлях гимнастёрки, на которой отливали рубином два ордена «Красной Звезды». — Но ведь у вас тоже имеются те же «У-2», причём, насколько я знаю, лучших характеристик?
— «У-2ВС»… — подтвердила Римма Яновна. — С броневыми щитками и гасителями шума и пламени. Но не в этом дело.
— Так что же вам? Опыта не хватает?.. — недоумённо поскрёб карандашом за ухом полковник.
Вот уж не ожидал он такого отказа от балтийски хладнокровной и непреклонно гордой Риммы Яновны.
— Вполне хватает, — с ожидаемой прохладцей возразила подполковник, вернув «статус кво». — Но девчонки, то есть, простите, лётчицы этого полка, еженощно и даже по нескольку раз на ночь отрабатывают как раз квадрат предполагаемой выброски.
— Действительно, — согласился Гурджава и мысленно добавил: «Керченский полуостров и далее девчата перепахали вдоль и поперёк, вплоть до Владиславовки, а там и до Якорной рукой подать. А пашут они умеючи, недаром…»
Недаром о подвигах «ночных ведьм» (ночные бомбардировщики были исключительно бомбардировщицами, от командования до последнего механика) ходили любовные легенды среди своих. И только догадываться можно, какие ужасы рассказывали о них те, кто дал им такое прозвище.
«И впрямь, если подумать, “ведьмина ступа”, — Давид Бероевич потянулся за портсигаром, на который смотрел с вожделением всё время, пока в кабинете находилась эта женщина, чем-то напоминавшая хрестоматийную британскую горничную, от которой хотелось спрятать вчерашние носки. — Крохотный, беззащитный — одной зажигательной пулей спалить можно. Что там, фанера и деревянный каркас, железа даже под задницей нет, только мотор; тихоходный, но зато упорный, как ишачок, и почти бесшумный. “У-2” мог подкрасться как призрак и насыпать 300 кг бомб, как углей за шиворот».
— Действительно, — вслух повторил полковник и с раздражённым сожалением отложил портсигар. — Свяжитесь с командованием полка, только через шифровальный отдел. Пусть просто откомандируют два экипажа. Вам же, по старой памяти, лишних вопросов задавать не станут?
— Никак нет. Разрешите идти? — изъявила немедленную готовность начальница лётной части.
— Конечно, идите, — почти обрадовался Гурджава, вновь потянувшись за «Казбеком».
Точно такую же папиросу, только не из портсигара, а из коробки тотчас же вытянула и Римма Яновна, едва за ней закрылась дверь кабинета полковника.
Почти следом вышли и Новик с Войткевичем, которых попросили обождать итогов связи с 46‑м полком.
— Два девичьих экипажа, — потёр ладони Яков, как первогодок срочной службы в летних лагерях, услышав призыв: «В колхоз!»
— Что-то у тебя воображение разыгралось, — снисходительно хмыкнул Саша. — Пойди планеризмом займись, остынь.
Ничего не знал Александр Новик о том потрясении, которое пережил Войткевич накануне. Или, точнее, не знал о том, что именно почувствовал Яков Осипович, прочтя запоем пачку писем из Пермской области.
Героическая — на полном серьёзе, именно такая, — почта всё же не могла успевать за бурными перемещениями Якова между воинскими частями, госпиталями, партизанскими отрядами и фильтрационными пунктами. Посему письма накапливались больше года и попали в руки «лейтенанту Я.О. Войткевичу» все сразу.
Фотографии Валюшки, годовалой, полутора— и двухлетней, Яков Осипович сразу же упрятал в левый карман гимнастёрки. А больше вроде никакой реакции Александр Новик так и не заметил. Вот разве что повторил Яков несколько раз, неизвестно к чему, нечто о последней копейке, но по-украински.
«Осиное гнездо» крупным планом
Крым. Лето 43‑го. Якорная бухта
С первых же дней отменно жаркого лета всё царство эндемической Флоры на побережье превратилось в гербарий, будто собранный нерадивым гимназистом абы как, сеновалом, безо всякого разбора и радения о сохранности. Да ещё и горел тот «гербарий» неисчислимое количество раз, когда просто — от окурка, выброшенного унтером зенитной батареи через бруствер из мешков с песком или стальных буёв, когда — как в памятном августе 42‑го, — подожжённый ракетами русских, пущенных торпедными катерами с неожиданностью незапланированного фейерверка. Или, напротив, от пламени артиллерийской дуэли, как произошло через пару дней и ночей после того налёта, когда с «распростертыми объятиями» береговые батареи встретили крейсер «Молотов», а он огрызался главным калибром.
Какие святые унесли его тогда — известно одному только русскому богу. Но с тех пор сунуться в Якорную бухту мог только сумасшедший, чего, собственно, и приходилось ждать, зная, — на третьем году войны, — манеру русских опровергать не только законы тактики и стратегии, но и доводы здравого смысла. Посему скалистые высоты вокруг бухты скорее напоминали либо вновь обжитые по военному времени руины древней крепости, либо сплошную линию бастионов эпохи Крымской войны, памятную по гигантскому полотнищу Рубо, виденному гауптштурмфюрером Бреннером в довоенном Севастополе. Даром что преимуществовала бетонная заливка и педантическая география траншей: рядом были и те же мешки с песком, и ряды железных ребристых бочек, разительно похожих на фашины со щебнем, и варварские кладки камня-дикаря. Вот только куда было тем допотопным, пусть даже и трехсотфунтовым, пушкам по сравнению со 150-мм, выставленными чёрными жерлами на море: «Что там господин “Молотофф”, не оклемался часом?» И уж совсем дики для той поры были бы насекомые хоботки зенитных батарей, задранные к дрожащему, звенящему от летнего зноя, небу. Что тогда, сто лет назад, ждать было? Монгольфьера — разведчика, разве что. И ещё не слишком обыкновенно было для этой крепости, не громоздящейся вверх, как прежде, а по-современному врытой в землю, то, что приступа ждала она не столько с суши, а с моря. С моря и неба. Суша теперь была не вчерашняя Всесоюзная здравница большевиков, а завтрашняя провинция Третьего рейха, славная земля Готланд.
…Теперь же господин гауптштурмфюрер призывал не ждать ангелов мести с разверзшихся небес или из пучины морской, а как раз — с суши. И таки на ней, на суше, и сосредоточить всю свою национал-социалистическую бдительность. И призывал, как всегда, — начал уже привыкать капитан-лейтенант Нойман, — в обычной своей манере, несколько парадоксальным, мягко говоря, образом.
— Чем ждать их неведомо откуда, — постукивал тростью по бетону Карл-Йозеф, — надо предоставить русским две-три лазейки, где мы могли бы их встретить как следует и провести под нашим присмотром.
— Куда? — даже опешил поначалу Мартин.
— До возможного предела… и нужного нам места, — ещё чуть-чуть, казалось, и Бреннер подмигнёт ему заговорщицки водянистым серым глазом за стеклышком монокля. — А там и до стенки недалеко, — плотоядно ощерившись, закончил он. — Если другого применения нашим гостям не найдётся. Как это говорится, «если нет возможности предотвратить, следует возглавить».
— Боюсь, что не рискнул бы играть с вами в покер, — ворчливо заметил капитан-лейтенант.
Худощавый, жилистый, какой-то почернелый, как топлёная коряга, Карл-Йозеф Бреннер со своими пустыми блеклыми глазами, вспыхивающими вдруг пламенным отблеском, словно он бросал на потускневшие каминные угли тайные записки и планы заговоров, напоминал Нойману какого-то короля-изгоя из мрачного готического эпоса, носившего в чёрной своей душе самые зловещие и хитроумные замыслы мести.
«И трудно сказать, во имя чего или против чего все эти его интриги и яды, — подумал Нойман. — Не похоже, что во имя “великого дела” и против “красной заразы”. Скорее всего, своего имени ради ткутся эти заговоры Bellum omnium contra omnes [35] против всех, своих и чужих, дальних и ближних, вплоть до собственных детей, если таковые у него, вообще, могут быть, как следствие человеческих привязанностей».
Но «человек без человеческих привязанностей» хоть и чувствовал, какое смятение он вызывает в простом вояке, прусской военной выправки и вправки мозгов, никак не мог пояснить ему, что и впрямь отнюдь не «Зиг хайль!» и не «Слава в победе!» движет им. Всего-то вульгарная, проповедованная ещё Чарльзом Дарвином, борьба за существование. До обидного примитивное чувство самосохранения.
Откуда у него была уверенность, что среди разведчиков, которых непременно пошлёт командование русского флота для уничтожения, «чтоб врагу не досталась», своей секретной торпеды, непременно будет Войткевич? Этого он и сам не знал.
То, что агент «Еретик» в штабе КЧФ продолжает передавать сведения, и сведения вполне правдоподобные — ещё не значит, что бывший агент абвера «Игрок», он же лейтенант русской разведки Яков Войткевич, не сдал её Смершу. Наверняка сдал, ведь, оставив тогда в дупле «Почтового дуба» на Аю-Даге взведённую бомбу для своего куратора в абвере, Яков пребывает в уверенности, что его, Карла-Йозефа, нет в живых, и никакое разоблачение ему не угрожает. И, если русский НКВД его проверил и поверил, если не нащупал в нём «Игрока», то непременно «Игрок» воспользуется его прошлогодним опытом. А вот ему, гауптштурмфюреру Бреннеру, чтобы жить дальше и не ожидать резкого хлопка по плечу «хальт!», от которого, глядишь, лопнет изношенное сердце, надо было знать, и знать с банковской гарантией, что «Игрок» никогда больше не возникнет на его пути. Ни спереди, ни сзади, со спины. И если для этого понадобится лично убить «Игрока», — Дарвин свидетель: он, в жизни не убивший никого, кроме таксы покойной тёщи, это сделает, и сделает с удовольствием.
Остаётся ждать…
Боевые друзья и подруги
Кавказ. Лето 43‑го. Аэродром авиации флота «Ашкой-2»
Увиденное заставило старшего лейтенанта Александра Новика замереть с рыбьи приоткрытым ртом. Всякого и разного повидал он за два года войны, но такого…
На стальной струне тяги, протянувшейся от гнезда пилота до хвостового элерона «У-2», крутились и закручивались на жарком ветерке самые затрапезные портянки, но вышитые коричневатыми цветочками, словно виньетками по краям.
Саша беспомощно обернулся на Войткевича, но тот только развёл руками, расплываясь в улыбке, которая всегда в таких случаях окончательно теряла признаки воспитания. Совершенно босяцкая ухмылка, циничная донельзя, хоть сейчас за ухо в отделение веди.
— А что, миленько? Мелкобуржуазно так.
То, что по уставу и опыту должны были обматывать эти чудные обмотки, выглядывало из-под фюзеляжа «У-2» в косой предвечерней тени. Причём на беззащитно-маленьких загорелых ножках недоставало не только портянок.
Неисправимый Яков шумно шмыгнул носом, словно вздохнул, и даже облизнул сухие губы. Недоставало и манжет солдатских бриджей со штрипками, которые тут же, но на другой тяге, игриво вытанцовывали штанинами какой-то замысловатый фокстрот.
— Венера, вот конечности, раскраденные у тебя похотливыми богами, — патетически произнёс Войткевич, поддёргивая брюки и явно намереваясь присесть для более «углубленного» осмотра «достопримечательностей», но Саша успел подхватить его за шиворот трикотажной блузы.
Ноги тем временем, смущённо передёрнув кукольными пальчиками, окончательно втянулись в тень зелёного фюзеляжа. Через некоторое время с той, другой его стороны, из-под широкого, латанного жестью крыла объявилась и сама «Венера», впрочем, как обещали пожалуй что слишком изящные ножки, — мало соответствующая упитанному скульптурному идеалу Античности. Наглухо застёгивая ворот гимнастёрки, на них сердито полыхала карими глазами из-под разведённых на выпуклом лбу чёрных стриженых прядок совсем девчонка. Даже нагловатая ухмылка Войткевича едва не оплыла отцовским умилением.
Но, неистово одёргивая полы гимнастерки, словно их можно было натянуть и на хэбэшные рейтузы, к счастью, не видимые под крылом, звонко прикрикнула девчонка с нарочитой строгостью вчерашней выпускницы педучилища:
— Вы что тут шляетесь… ополченцы? — закончила она, поминутно переводя взгляд с пугающе гражданских мужиков, невесть как затесавшихся на военный аэродром, на свои недостижимые бриджи и обратно. — Я сейчас охрану вызову, — пообещала она прыгающими от досады губами: «Какие, к чёрту, “меры по задержанию” в рейтузах?!» Тем не менее, сведя бровки, — мол, совсем офонарели, — продолжила она в том же духе: — Хотите, чтобы вас шлёпнули на месте за проникновение на секретный объект?
И впрямь, обряжены были офицеры в такую хулиганскую солянку, что хоть сейчас начинай распекать за нерадение на воскреснике в поддержку детей испанских коммунистов. Что, в общем-то, так и было. Выбраны были эти, не самые шикарные туалеты на складе ветоши, недавно подведомственной Войткевичу на СРБ.
— Охрану не надо, — наконец обрёл дар речи Новик и даже приложился было ладонью к сломленному козырьку жениховского кепи. Но тут же отдернул руку, беспричинно рассердившись то ли на бойкую девчонку без штанов, то ли сам на себя, что стоит перед ней, как… «ополченец». И потому доложился, демонстрируя командную выучку: — Старший лейтенант Новик, разведка флота. Представьтесь, товарищ младший лейтенант.
Девчонка нахмурилась, но теперь, скорее, чтобы скрыть смущение, граничащее с отчаянием: «Ну-ка, рапортуй без штанов?!» — и потому, козырнув к пилотке, чуть визгливо, с вызовом, затараторила:
— Младший лейтенант Колодяжная, пилот 46‑го гвардейского полка ночных бомбардировщиков.
Девчонка, наверное, имела ещё что сказать, к примеру: «Обратите внимание, товарищи лихие разведчики, что, несмотря на малый рост и поджатый хвост, у меня медаль “За боевые заслуги” имеется на груди, которую, конечно, в более удобный момент я б подправила ватой в лифчик…» Но тут ревниво вклинился Войткевич:
— А звать-то тебя как, метеор? — поинтересовался он так простецки, что девушка растерялась:
— Тася. Таисия Николаевна…
— Да давай без батюшки, — приглашающим жестом поманил её Яков.
— А без батюшки только на сеновале! — раздалось сзади низким грудным голосом. Грубоватым, но волнующе обволакивающим. Этак, вполголоса, донецкие ведьмы с каторжным бесстыдством обсуждают скупость на утехи своих благоверных. Так что всякий поведётся постоять за совокупную мужицкую гордость.
Офицеры обернулись.
— Старшая откомандированных экипажей лейтенант Засохина.
Не бог весть какая крупная, но ладная и округлая какая-то, словно из глины лепленная, девица твёрдо смотрела на них серыми стальными глазами, чуть навыкате, словно заклёпки на броне.
— Извините, что сразу не доложилась, — безошибочно обратилась она к Новику, взяв в счёт аванса серьёзную складочку между бровей. — Нас предупредили, что вы сегодня прибудете. Да я тут по случаю с береговой охраной полаялась, — просто, как бытовую неурядицу, пояснила она. — Вчера ночью девчонки чуть ли не до полка на хвосте «фокке-вульф» притянули…
Между делом Засохина сдёрнула с тяги элерона солдатские бриджи.
— С лейтенантом Колодяжной, я так поняла, вы уже познакомились?
— Частично, — приподнялся на носки разношенных штиблет Войткевич, вызвав невольное приседание девушки под крыло и снова вогнав едва оправившегося от смущения лейтенанта в краску.
— Ты чего разлагаешь товарищей по оружию? — снисходительно хмыкнула на Якова Засохина и перебросила Колодяжной вожделенную часть туалета.
— Комбинезон забыла, — буркнула девчонка, исчезая за широкой лопастью хвостового оперения. — А у меня там масло подтекает. Жалко…
— Порток ей жалко. А Дашка, техник, где?
— Так за маслом и пошла.
— Ясно. — Посчитав вопрос исчерпанным, лейтенант Засохина вновь обернулась к разведчикам. — Задание нам обрисовали очень уж в общих чертах, я так думаю.
— Конечно, обсудим, — вьюном оказался у неё под боком Войткевич и деликатно подхватил под локоть. — Сразу же после кружечки ароматного грузинского чая «№ 1».
— Выброшу без парашюта, — многообещающе улыбнулась ему Засохина, сверкнув ладным рядком эмалево-белых зубов.
Новику осталось только обречённо покачать головой: «Чёрт его знает почему, но поставь перед Войткевичем даже фельдмаршала в юбке — от субординации останется одна фиговая формальность».
— Всё, прощай, фронтовая медицина, — с картинным потрясением стянул Яков со стриженой головы кепку. — Привет фронтовой авиации.
— В медсанбате, значит, уже напакостил, — процедила сквозь эмалевые зубы лейтенант, поправляя под пилоткой тщательно зачёсанный русый узел. — Точно, выброшу.
— Только, согласно плану, к партизанам.
И ангелы неба, и духи земли…
Крым. Лето 43‑го. 1‑й партизанский район. База отряда Беседина
До окончательной проверки лейтенанта Я.О. Войткевича, весьма деятельно «приблудившегося» по весне ко 2-й разведгруппе штаба Черноморского флота под командованием Новика, официальным представителем, чтобы не сказать, «резидентом» флотской разведки, в отряде Беседина оставался артиллеристский корректировщик старший сержант Антон Каверзев.
Антон был единственный, кто из флотских разведчиков оставался до сих пор на крымском берегу после памятной операции. И перед ним теперь была поставлена задача, которую командир партизанских разведчиков, бывший рядовой инженерно-саперного батальона Сергей Хачариди по кличке Везунок, охарактеризовал, так: «Нет, ну нашли, блин, привидений. Хотя, после зимы похожи, конечно…» И на недоуменно-вопросительный взгляд Каверзева из-под кустистых бровей пояснил:
— А как ещё ты туда попадёшь? Во плоти — никак. Только духом.
И зарычал он вдруг с замогильным подвыванием, тряся неизменного своего оруженосца, 14‑летнего Вовку, двумя руками за тонкую цыплячью шею: «Пароль, Генрих, суточный пароль! Зачем ты убил меня, ефрейтор?!»
Вовка тут же весьма убедительно изобразил удавленника.
— Потому что перебьют нас ещё на подходе к Якорной, — неожиданно закончил Хачариди почти равнодушно, поправляя на шее Вовки воротник линялой и расползшейся в хлам рубахи.
— Чёрт малахольный, — прочистив сдавленное горло, солидно прогудел Вовка неуверенным баском.
— Не дерзи, — рассеяно отозвался Сергей, сунув в потрескавшиеся губы спичку, что должно было означать начало основательных, стратегического размаха, размышлений.
На самого Вовку, к примеру, сия мизансцена действовала угнетающе. Так-то пресловутая «солдатская смекалка» у Серёги была искрометная, лёгкая, точно стих, написанный на бегу, на колене; а раз так, со спичкой… Это всерьёз и надолго.
Вовка, заложив руки за голову, растянулся на ржавом хвойном ковре, зажмурился от лучей солнца, перьями жар-птицы падающих сквозь еловые лапы. И вскоре голоса совещания, проходящего «в самом узком кругу», и потому на отшибе от партизанской стоянки, он слышал уже как далёкое монотонное бубнение, размытое шорохами и потаёнными голосами леса.
Перед глазами закачалось снежное марево. Да-да, в это тёплое утро привиделся в полусне-полуяви зимний день, когда «добровольцы» подобрались к самому Восточному лагерю, где находился маленький партизанский госпиталь. Десять легкораненых и больных, трое пацанов — сторожевой пост и двое медиков. Фельдшер тётя Клава и её дочь, медсестра Оксана.
«Добровольцев» заметили, когда до лагеря оставалось чуть больше полусотни метров. Пацаны продержались минут десять; когда разрядились рожки ППС и в снежной круговерти рассеялись дымы взрывов всех четырёх их гранат, пацаны отползли чуть дальше и бросились врассыпную в надежде, что «добровольцы» погонятся за ними и у оставшихся в лагере будет ещё какое-то время. Густой снег тем временем повалил сплошной стеной.
Ещё какое-то время отстреливались раненые, кто мог держать оружие; потом хлопнули три глухих взрыва немецких гранат, и выстрелы смолкли.
Оксана выбралась из лагеря и почти наугад пошла, пригибаясь, в ту же сторону, куда чуть раньше побежал Володя.
А дальше…
На самом деле Володя, находясь всего в каких-то трёх десятках метров, почти ничего не видел, только слышал взрывы, выстрелы и крики и, давясь бессильными слезами, карабкался по обледенелой скале к укрытию, к невидимой снизу пещерке. Только позже, когда подоспел Хачариди с передовым заслоном и каратели убрались, удалось представить себе, что происходило и как — по воронкам и пятнам крови, по стреляным гильзам и трупам, по обрывкам аркана и смрадному кострищу.
…Оксана услышала чье-то натужное дыхание и негромко позвала: «Мама! Мамочка!» — и своим окриком выдала себя.
Послышалась команда:
— Не стрелять! Взять в плен!
Враги были уже совсем близко. Оксанка зубами выдернула чеку и бросила гранату в «добровольцев» — всего на несколько шагов. Раздался взрыв. Жгучая боль полоснула левый бок и руку. В метре от неё лежало трое карателей. Ещё двое корчились чуть поодаль. И снова раздалась команда:
— Не стрелять! Взять живьём!
Лёжа на левом боку, Оксана правой рукой пошарила в санитарной сумке. Гранат больше не было. Тогда Оксанка вытащила наган и посмотрела, сколько патронов в барабане. Голова кружилась. Веки тяжелели.
— Сдавайся! Всё равно тебе конец! — раздалось из-за ближайшего куста.
— Нет, не конец! — прошептала девушка. — Ещё пять пуль. Четыре всажу в ваши головы, гады, пятую — себе.
Из-за большого пня, покрытого снежной шапкой, показалась скуластая физиономия карателя. Оксанка нажала на спуск. Полицай беззвучно вытянулся на месте. Оксанка увидела ещё одного и так же хладнокровно выстрелила. Наповал. В это миг над головой просвистел волосяной аркан. Но накинуть петлю на шею Оксанки «добровольцу» помешало маленькое деревцо. Она повернулась и всадила «охотнику» пулю в грудь. Дико закричав, тот двинулся к девушке. Вот рядом, совсем уже близко, перекошенное от ярости лицо с кровавыми потёками слюны. Оксанка выстрелила ещё раз, прямо в голову врага. Четвертый патрон. Собрав остаток сил, слабеющим голосом, Оксанка крикнула:
— Прощайте, родные! Прощайте, друзья! Прощай, Родина! — и раздался пятый выстрел.
…А потом вдруг услышал Володя, чуть проснувшись, чтобы умоститься на колючей душистой подстилке поудобнее, голос Арсения: «Там же ни русского духа, ни запаха. Фрицы никого, кроме своих, и на пушечный выстрел не подпускают».
— Почему? — сонно пробормотал Вовка. — Туда наших военнопленных гоняют из-под Рыбачьего…
И провалился было в тёмный и стылый колодец забытья, как Везунок ухватил его за ногу:
— Тпру! Ну-ка, ну-ка! Давай сюда…
Змея живучая и предусмотрительная
Крым. Лето 43‑го. Поселок Рыбачье. Лагерь для военнопленных
— И никаких перекличек, только демонстративный пересчёт по головам, как скотину, — поучал гауптштурмфюрер Бреннер перепуганного начальника лагеря майора Гутта, дидактически стуча неживым пальцем по краю стола.
— Это будет несложно, герр гауптштурмфюрер, — не столько шагнув, сколько подавшись вперед, заметил группенфюрер тайной полевой жандармерии Шварцкопф. — Мы переправим сюда пленных из-под Керчи, переселение приведёт к увеличению численности почти вдвое. Отсюда вполне понятная неразбериха, какие уж тут переклички, хоть бы номера назначить. Я уверен, герр гауптштурмфюрер, — окончательно выступил худощавый Шварцкопф, поощренный кивком Бреннера. — Русские сочтут этот момент особенно удачным для внедрения.
— Неразбериха — на вашей совести, майор. Больше переселений из коровника в коровник и, вообще, беготни по скотному двору.
Бреннер выглянул в оконце конторы во двор, — и впрямь, бывший колхозный скотный, загороженный колючей проволокой с вездесущими щитами: «Побег карается…»
Майор, с мышиной прытью бегая по углам комнаты глазками, на секунду запнулся со своим привычным лакейски-торопливым «Яволь!», и Карл-Йозеф, почувствовав его смутное возражение, отвернулся от оконца, вопросительно вздёрнул острым подбородком:
— Хотите что-то добавить?
— Так точно, — обрадовался вполне невинной формулировке Гутт. — Именно добавить. Видите ли, герр гауптштурмфюрер, среди контингента у меня весьма разветвлённая агентурная сеть, — одёрнул он полы мундира на пивном бочонке живота.
«Как будто это что-то прибавляет к его скучной никчемности…» — брезгливо поморщился Карл-Йозеф, вслух же уточнил с уничижительной дотошностью:
— Что, кто-то доносит?
Майор покраснел, как мальчишка, застигнутый за разглядыванием непристойных открыток:
— Так точно.
— Проследите, чтобы он докладывал только вам, а ещё лучше — нагоните на него страху. Пусть думает, что на нём вся ответственность за секретность ваших контактов. Впрочем, — гауптштурмфюрер на минуту задумался. — Впрочем, как только он укажет вам на подозрительных новичков, найдите повод его расстрелять или дайте понять пленным, откуда у него сигареты, они сами управятся.
— Так точно! — с чувством выдохнул Гутт.
Расстрелять Овсянникова у него и самого руки чесались, не столько даже из моральной чистоплотности, сколько из-за тошнотворной необходимости как-то реагировать на его многочисленные «заговоры» и «подполья», «раскрываемые» бывшим комиссаром НКВД по инерции.
— Но как они узнают? — начал было группенфюрер Шварцкопф.
— Партизаны? — Карл-Йозеф пожал плечами. — Выгрузите пленных на станции и продержите на виду час-другой, пока не подъедет колонна конвоя. Думаю, к вечеру партизаны будут уже знать.
Карл-Йозеф ошибался даже в самых смелых своих предположениях. Они уже знали.
Крылатые подруги
Кавказ. Лето 43‑го. Аэродром авиации флота «Ашкой-2»
— Да… — скептически протянул лейтенант Войткевич, когда «его пилот» подвела его к фанерному биплану, густо латанному жестью, а то и вовсе проклеенной парусиной. — Такую грозную боевую машину карапузу бы на верёвочке катать, — похлопал он ладонью по крылу, отозвавшемуся барабанной пустотой.
Тася, младший лейтенант Таисия Колодяжная, остановилась, словно запнувшись обо что-то в траве и, резко вскинув маленьким подбородком, произнесла медленно, но гневно дрожащим голосом:
— Между прочим, товарищ лейтенант, за сбитый ночной бомбардировщик немцы Железный крест дают!
— За «ушку»? — будто дразнясь, недоверчиво уточнил Войткевич и, царапнув ногтем по свежей, некрашенной латке, покачал головой. — За ваш, как я погляжу, уже крестов пять дадено.
— Да… — губы Таси запрыгали, не то от возмущения, не то от готовности разреветься. Она смахнула с упрямо выпуклого лба чёрные прядки. — Да вы… Во-первых, за «У-2»! [36] А во-вторых, вы бы слышали только немецкий эфир, когда на них волной «ТБ» идут — и когда одна наша «ушка»!
— И какова разница, позвольте полюбопытствовать?
— «Сейчас, Герман, допьём кофе и пойдём сбивать этих русских увальней!» — с карикатурно-плакатным искусством колхозного клуба, но очень забавно, воспроизвела Тася, сонно вытянув личико и держа двумя пальцами воображаемую чашку.
— Браво! — с искренним восхищением зааплодировал Яков. — Я дико извиняюсь! А про вас, что говорят?..
И застыл после пары коротких реплик, угрюмо брошенных Колодяжной по-немецки.
Замерла и Таисия, тревожно всматриваясь в лицо лейтенанта и заливаясь свекольной краснотой:
— Ой, а вы что, по-немецки… понимаете?
Войткевич кивнул. Теперь его восхищение простиралось вплоть до потери дара речи. По крайней мере, на те несколько секунд, что понадобились ему, чтобы оправиться.
— Вы мне просто начинаете нравиться. Бабушка «фольксдойче» — или разведшкола?
— Факультатив при физмате Бауманки, — сконфуженно морща носик, пробормотала Тася. — Много было переводной техдокументации, вот я и решила…
— Да ну… — недоверчиво протянул Яков. — Факультатив? Даже я, и даже в рукопашной, не пользую терминологию саарских угольщиков.
— Ну, ещё допросы пленных, — виновато пожала плечиками младший лейтенант.
— Уже ближе к истине, — пробормотал Войткевич, ищуще оборачиваясь по сторонам.
И вдруг, выкорчевав у себя из-под ног какой-то древовидный сорняк семейства зонтичных, рухнул на одно колено:
— Тася, выходите за меня замуж! Как мы с вами будем ругаться!
Похоже, решение насчёт дальнейшего отношения к ровенской почти что вынужденной жене, а теперь эвакуированной Софочке, и к приставленному к ней доброму дяде Йосе Остатнигрошу, к этому времени у Якова Осиповича созрело окончательно.
Таня Засохина привычно выдернула из гнезда переднего сиденья укладку парашюта и отбросила в выгоревшую траву.
Проведя парашют взглядом, Новик вопросительно уставился на пилота.
— Техник для комплектации положила… — пожала плечами девушка. — В командировку всё-таки машину собирала.
— А так? — Саша невольно прочистил горло.
— А так мы их не берём никогда, — легко отмахнулась девушка. — Во-первых, у нас и без того бомбовый груз всего триста кило, а во-вторых — не дай бог живой к немцам попасть. Вы же знаете, как они нас называют?
— «Ночные ведьмы», — не сразу ответил Новик.
— Вот и поступают соответственно, со всей средневековой яростью, — хмыкнула Таня.
Новик посмотрел на свой парашют и невольно испытал что-то вроде если не стыда, то неудобства. Вроде как у него шансов больше.
— А вот вам не советую, — насмешливо блеснула Засохина белизной зубов. — Задание сорвёте, если кирпичом на немцев брякнетесь. Кстати, — посерьёзнела она. — Я, наверное, не имею права вас спрашивать, но это ваше задание… Вдруг что пойдёт не так?
— Не может пойти «не так», — покачал головой Новик. — Не может и не должно, не имеет права. — И добавил, внушительно глядя в серо-стальные глаза: — Скажем так, если мы в определённое время и в определённом месте не встретимся с партизанами отряда Беседина, будет сорвана крайне важная и ответственная операция флота.
Таня его «проникновенный» взгляд выдержала, не отводя своего, твёрдо и прямо, но без излишней «прочувствованности». И ответила легко, как о само собой разумеющемся:
— Понятно. Хоть керосин в один конец заливай…
Непривычная миссия
Крым. Лето 43‑го. Железнодорожная станция Владиславовка
Майор Гутт даже вспотел больше обычного, пока с угрюмым бессловесным шорохом, но под аккомпанемент надрывного собачьего лая колонна пленных проследовала мимо «вороньих гнезд» зенитных установок, мимо «чужих» патрулей и одиноко чернеющих на солнцепеке часовых. Мимо встречных офицеров «своих», в форме вермахта, с двойным сутажом чиновничьих погон, — но «чужих», поскольку непосвящённых.
Бывший директор муниципальной школы, всю жизнь свою проживший с опаской, никогда ещё не испытывал столь нелепых опасений. Теперь он боялся не прозевать нарушение своими подопечными свыше установленного порядка, не проявить преступный недостаток бдительности, а наоборот. Боялся помешать преступлению или, что ещё хуже и нелепее, не дать проявить эту чертову бдительность кому другому! Не дай бог, если кому-нибудь из конвойной роты при «фельдполицай», — набранной, как назло, сплошь из местных татар, которых в чём в чём, а в недостатке рвения не обвинишь, попадется на глаза большевистский лазутчик! Тогда этот «живой покойник» из страшных средневековых сказок, гауптштурмфюрер Бреннер, точно сожрёт его живьём, поучительно и скучно объясняя при том, что имел в виду Гинденбург, говоря, что «самый гениальный стратегический замысел не стоит и выеденного яйца в дурацком… — тут гауптштурмфюрер покажет всем присутствующим берцовую кость Гутта и обмакнёт её в соль, — в дурацком тактическом исполнении». Прокаркает что-то в этом роде, если не точно так, — если не подводит память мальчика, мечтавшего о берлинской кадетской школе.
Майор поёжился, проклиная живость собственного воображения — действительность и сама по себе живописна, как полотна Босха.
Он покосился на изможденные… страдальческие… озлобленные… и мёртво-равнодушные лица военнопленных; точно, что пленных ада, ожидающих своей участи уже без ропота и надежды. По крайней мере, в это хотелось верить, — отвёл взгляд майор, которому уже доводилось видеть и трезво продуманные побеги, и бунты отчаяния вот таких вот, казалось бы, уже ко всему равнодушных, кроме баланды из кормовой свёклы.
«Скорей бы уже колонну принял этот новый назначенец из Geheimefeldpolizei [37] штурмбаннфюрер Габе».
В другой раз майор бы не преминул добавить: выскочка. Но в свете последних обстоятельств майор тяжело вздохнул, что, видимо, означало: «благослови его боже!». И добавил вслух, поймав за рукав унтера из лагерного конвоя, руководившего татарскими «оборонцами»:
— Угомоните своих подопечных, Деггер, а то, бог свидетель, они переусердствуют овчарок.
Сеанс предусмотрительности и убеждения
Крым. Гурзуф. Лето 43‑го. Санаторий для офицеров вермахта и кригсмарине «Гелек-Су»
— Повторюсь, что чрезвычайно рад вас видеть, герр гауптштурмфюрер.
Чеканная крышка турки слегка застучала по медному горлышку, когда Дитрих-Диц заглянул проверить, заварился ли кофе по-восточному.
— Особенно после тех событий на Аю-Даге… — подчеркнул он без двусмысленности. — Но, насколько я понимаю, моя зондеркоманда не самая близкая к Атламу? Там есть ещё группа Юлиуса…
Но у гауптштурмфюрера абвера К.-Й. Бреннера были особые резоны привлечь зондеркоманду старого знакомца Габе к игре, шахматные фигуры которой пока ещё только расставлялись в его голове, за сошедшимися морщинами лба.
Не последнюю роль в ней играло и то, что штурмбаннфюреру в ней было уготована почётная роль гамбитной пешки. Может, не так буквально, чтобы на съедение… Но именно он должен был отконвоировать «троянского коня» — колонну военнопленных с внедренными в неё русскими разведчиками, а никто другой.
— Он не бывал в таких переделках, как вы, Дитрих, — покачал головой Бреннер. — А тут для вас имеются аналогии, не лишенные мистического содержания. Помните, сколько базировалось подводных лодок на секретной базе кригсмарине, с которой у нас с вами было столько хлопот по весне?
— Шесть, — пожал плечами командир армейской зондеркоманды «гехаймфельдполицай», дескать, что с того?
— Представьте себе, шнельботов, о которых столь ревностно печётся морское командование и лично фюрер, сейчас столько же. Впрочем, вы правы, не самое актуальное совпадение, — согласился Карл-Йозеф, садясь за стол с кружевной скатертью и жмурясь на солнечные вспышки в просветах глухих штор. — Гораздо более любопытным вам покажется… благодарю… — он пододвинул здоровой рукой чашку, закурившуюся ароматным дымком алжирских кофеен. — Что и тут мы с вами будем иметь дело не с кем иным, как со 2-й разведывательной группой 2-го разведывательного отряда штаба русского флота. С нашими старыми знакомыми.
— Особенно с вашими, — мельком глянул на него поверх своей чашки Габе.
— Вы о том, что мне доподлинно известны нумерация подразделения и фамилии командиров? — невинно приподнял брови гауптштурмфюрер.
— Нет, конечно, — задумчиво покачал головой Дитрих.
«Чёрт его знает… Притворяться несведущим и невинным “агнцем” с этим “волком разведки”, пожалуй, дело ещё менее перспективное, чем пытаться сыграть с ним в свою игру. Да в другой раз такая авантюрная затея и в голову не пришла бы, но сейчас, когда по три раза на день перелистываешь страницы памяти и старых блокнотов в поисках нужных связей…»
— Я о том русском разведчике, которого вы… — Изображая раздумье ещё мучительнее предыдущего, Дитрих закатил глаза к лепному потолку. Помедлил и, наконец, опустил их навстречу невыразительному, блеклому взгляду Бреннера поверх круглых очков. — То ли упустили? — начал штурмбаннфюрер, пожимая плечами. — То ли…
— Смелее, смелее, — поощрил его гауптштурмфюрер. — То ли отпустил? Именно отпустил. В качестве своего агента в штабе русского флота.
— И это в благодарность он вам, — деликатно указал чашкой Дитрих-Диц на мёртво-неповоротливую перчатку Бреннера, — удружил?
— Не думаю, что должен вас посвящать в свои замыслы, — сухо улыбнулся Карл-Йозеф. — И уж тем более, не стану вам врать, что оторвать себе руку — плод моей дальновидности и входило в мои долгосрочные планы, но… Сами подумайте, — приглашающим жестом указал гауптштурмфюрер на стул напротив. — А, по моим наблюдениям, вам есть чем.
— Данке шён. — Уселся Дитрих напротив.
— Битте. Теперь, полагая, что меня нет в живых, мой бывший агент — могу даже по дружбе назвать вам его позывной: «Игрок», — почти интимно добавил Карл-Йозеф, — наверняка заработал за мой счёт очередное звание и, может быть даже, орден или что там у них полагается за убиение немецких разведчиков, и тем больше натурализовался у русских.
Бреннер отвалился на спинку стула, демонстрируя такое самодовольство, словно это его дела пошли на поправку в абвере, и ему теперь вправлять в петлицу ленту Железного креста I класса.
Но вот в этом зондерфюрер [38] Габе как раз таки и не был уверен, но пока промолчал, ожидая более подходящего момента.
— Тем большим сюрпризом для «Игрока» станет встреча со мной в плоти и крови, что будет означать, что нити, ведущие к нему, как к марионетке абвера, не только не оборваны, а стали прочнее швартовых канатов.
Карл-Йозеф посмотрел на Дитриха почти триумфаторски, но бывший полицайинспектор и неплохой физиономист Габе уловил тень неуверенности в его жёлчной и, в общем-то, непроницаемой физиономии.
— Вот как? — с наигранным равнодушием заметил он. — А для абвера эта ваша комбинация не станет ли ещё большим сюрпризом, чем даже для этого… то ли русско-немецкого, то ли немецко-русского агента? — закончил он, обжигаясь горячим кофе, но будто не чувствуя этого, будто боясь пропустить «тот самый» момент. Момент, когда наступает реакция на брошенную реплику, которая в равной степени похожа и на шантаж, и на опрометчивую болтливость собеседника.
— То есть? — также безразлично, дескать: «простите, не совсем понял?», переспросил Карл-Йозеф.
— Мне показалось, во время разбора ошибок… — Подумав немного, Дитрих-Диц поправился. — Во время раздачи розг в связи с обнаружением и уничтожением большевиками секретной базы 30‑й флотилии Розенфельда… — Он сделал паузу, морщась на горячую смолистую жидкость в чашке, будто только теперь и обнаружил, что под рукой нет обычного стакана холодной воды. — Мне показалось, что ваша «абвершелле» [39] как-то не слишком посвящена в тонкости ваших взаимоотношений с русской разведкой?
— Вот вы о чём, — легкомысленно отмахнулся гауптштурмфюрер: мол, право пустяки. — И поэтому тоже, дорогой Дитрих, я хотел бы, чтобы мы продолжили с вами комбинацию, так нелепо прерванную этой весной.
— Потому что я… э… несколько в курсе? — поднял выгоревшие белесые брови Габе.
— Потому, что вам тоже есть чем удивить если не абвер, едва ли это их заинтересует, то «родословную» бухгалтерию «СС», куда вы так рвётесь перейти, — ощерился плотоядной улыбкой Бреннер, с семейным радушием приглашая штурмбаннфюрера в пекло.
Габе чуть приподнял брови, изображая некое непонимание.
— Кстати, не самый благоразумный выбор, — продолжил Бреннер, как ни в чём не бывало. — В последнее время элитой нации сплошь и рядом затыкают самые опасные дыры Восточного фронта. Так что, если вы рассчитываете на мистические парады в замке Гиммлера или на молниеносную карьеру, то рассчитывать можно только на последнее. Однако, боюсь, что, в лучшем случае, это будет «блицкриг» по трупам старших товарищей, — словно забыв о грозном намёке, увлекся Карл-Йозеф.
А командир армейской зондеркоманды Geheimefeldpolizei Дитрих-Диц Габе, и без того, — не в пример бравым Den jungen Idioten [40] из СС, сутулившийся после долгих лет карьерного забвения в криминальной полиции Дрездена, — осунулся окончательно. Ему едва удалось удержать фаянсовую чашку в заплясавших пальцах: «Откуда? Откуда он знает?».
Карл-Йозеф словно теперь только вспомнил о том, какого страху между делом навёл на штурбаннфюрера, и сам прояснил этот вопрос:
— И, кстати, Дитрих, растолкуйте наконец своим подчинённым, куда и по какому вопросу следует стучать на своего командира. А то с «моральным обликом» — в контрразведку? Впрочем, их можно понять. Я и сам, случается, путаю, кто за кем следит. Такая неразбериха с тыловыми и оккупационными службами. А вам, я гляжу, как будто, нехорошо?..
Друзья и подруги в бою и беде
Оккупированный Крым. Район Феодосии
Стороной прошли Керчь, которую, впрочем, и определить-то можно было, разве что, по серебристой чешуе в заводи бухты — немец соблюдал светомаскировку с не меньшим рвением, чем тыловые энкавэдэшники в Туапсе, готовые во всяком, кто закурит в кулаке, заподозрить шпиона-сигнальщика.
Несмотря на флегматический речитатив двигателя, равномерный шорох встречного ветра и убаюкивающее покачивание штурманской «люльки», в сон не тянуло. И не потому даже, что, тошнотворно проваливаясь, «небесная двуколка» безбожно пересчитывала все выбоины и ямы воздушных дорог. И не потому, что летели над вражеской территорией, и глухую августовскую ночь то и дело вспарывали хрустально-синие столбы прожекторных лучей. Отчего-то его волновала близость этой девчонки, вот этой, в летчицком шлеме, чей кожаный затылок сейчас покачивался впереди Войткевича. А он живо представлял себе её личико, заострённое кожаными клапанами «в сердечко», с упрямыми карими глазами, фантастически оттенёнными резиной очков, с нижней губой, поджатой в ученической сосредоточенности.
Сколько, казалось, их было уже за эти три года — иных, не довоенных девчат, так редко пахнущих духами и так часто кровью потерянных медсанбатов, портянками многодневных маршей, конским потом, бензином и машинным маслом военной техники… Разных. Суровых, готовых впрячься в упряжку артиллеристского орудия без всякой некрасовской патетики; по-матерински заботливых в свои неполные восемнадцать; жалостливых ко всякому: «А ну-ка завтра убьют…», и слепорожденных комсомолок: «Что вы, товарищ лейтенант? Война ведь».
И то правда: «У счастливчиков любовь кончается триппером, у тебя она кончится смертью». Причем, её же первую и убьют, как только побежит впереди оробевших мужиков на танки, бултыхаясь в сапогах не по размеру: «Впёред, товарищи, за Сталина!»
«Когда ж ты уже кровью удавишься, товарищ, — невольно поморщился Яков. — С 42‑го бьём такой силищей, что в резерве глядишь: “Хана фрицу, никакой подневольной Европы не хватит!” Прут с платформ новенькие танки и артиллерия — разгружать некуда, а как до дела доходит — всё у немца “превосходящие силы”, а у нас всё не хватает. Чего не хватает? Не видел бы, как один немецкий полк в обороне нашу дивизию кладёт, поверил бы. Да и не в том дело, что мужиков так не хватает, что пора бабам за ратное дело браться. А в том, что воевать не умеем. И не потому, что дурнее немца, а потому, что тех, кто умеет, тех, кого немец уже научил, мало. Редкий счастливчик переживёт наш “наступательный порыв”, когда не то что батальоны штрафников, — гвардейские дивизии, не жалеючи… По десяти раз на дню в лоб одну и ту же высотку. Пока какой-нибудь ротный не плюнет на приказ командарма, и в обход не пойдёт. Ротные, как известно, быстрее командармов воевать учатся, да только до командармов не доживают. Откуда ж взяться умельцам, когда у нас всё: “не щадя, да не жалея”? Воюем не по уставу, а по призыву товарища Сталина.»
Яков невесело усмехнулся.
«Вот и с лётчиками та же грустная комедия получается. Выпускают чуть ли не воздушную армию раз в три месяца, а мастерства — как у того новобранца, которому показали, как трехлинейку заряжать, а тактике… Если обороне, то в отступлении научишься, если наступлению, то в обороне. И летают потом. Немец воздушным боем по рации руководит, а наш звеньевой: “делай как я!” — крыльями машет. Рация, если и есть, то пользоваться не умеют. И на бомбардировку заходят по кострам и стрелочкам из телеграфных столбов. Конечно, теперь цены нет тем девчонками, кто за эту науку сотнями подруг заплатили…»
Словно подтверждая эту его мысль, младший лейтенант Колодяжная Т.И. накренила «этажерку» крыльев направо и выровняла «У-2» хвостом против луны, чтобы серебристый абрис не выдавал вражескому оку самолётик.
«Эх, оставить бы Соньку насовсем Йосе, да спрятать бы тебя за пазуху и отнести куда подальше из этого пекла, для домашнего, так сказать, пользования, что от ребра Адамова тебе богом предписано. К люльке да кухне приставить. Вон, у немца тоже поди мужиков недобор, а их бабы, как были в треугольнике «3К»: Küche, Kinder, Kirche [41], так и мыкаются, бедные. Так нет же, ещё брыкаться станет…» — невольно улыбнулся Войткевич, глядя на облитую лунным светом школярски-сутуловатую спину.
«Дитё дитём», — припомнил он, как, садясь в своё пилотское «гнездо», Тася с излишней строгостью, но очевидно стесняясь Войткевича, вынула из него кота, тощего, чёрного как трубочист.
«Не иначе как прошёл все передислокации полка на коленях младшего лейтенанта», — подумал Яков тогда не без зависти.
Захотелось вдруг ему снова увидеть мелкие, но прописанные изящным рисунком черты лица, завораживающие своим живым беспокойством. Тот самый случай, когда «на лице всё написано». Лейтенант даже протянул было руку к плечу, почти укрытому меховым воротником, но вовремя спохватился: «Совсем поплыл. Не хватало ещё угореть у этой печки. Последнее дело любовь, если ты не на кушетке ждёшь, когда тебя по ягодице ваткой приласкают, а к немцу в то же место самой нежданной клизмой». И довольно бесцеремонно похлопал перчаткой по кожаному темечку.
Тася обернулась с сердитой гримаской, закусив тонкую обветренную губу, дёрнула подбородком из клапанов подшлемника: «Чего, мол?»
Войткевич, также молча, показал на часы.
— Над Феодосией не пройдём! — крикнула девушка, помотав для пущей доходчивости головой. — Степью надо!
Яков согласно кивнул.
Орать, что времени у них впритык, не стал. Отчего-то смутился, что выйдет как у глухонемого. У неё-то, ладно, и голос звонче по-девичьи, и вообще в привычку со штурманом перекрикиваться, а ему как? Попробуй, переори сейчас рёв и треск мотора, к тому же прерываемый время от времени оглушительными газетными хлопками — копоть с хвостами пламени вырывалась из выхлопных труб.
«Как такое светопреставление только немцы не видят?» — в который раз удивился Войткевич и, как тут же выяснилось, с удивлением поспешил…
Все звания покорны
Командир армейской зондеркоманды Geheimefeldpolizei штурмбаннфюрер Дитрих-Диц Габе.
Личное дело: «Истинный ариец, характер нордический, выдержанный. Пользуется авторитетом у подчиненных».
Тогда как фрау Габе не ставила мужа ни в грош, за что он платил ей неподкупной ненавистью. Вообще, Дора Габе — это был не его выбор, а выбор отца, что не было бы странным, будь между первым именем Дитрих и вторым Диц не фамильярный дефис, а, скажем, артикулярный «фон». Но частный Der Advokat старый Диц Габе к выбору невестки подходил с таким брезгливым педантизмом, как будто речь шла о наследовании короны Священной империи, а не конторки на Цеппелинштрассе. Как и каким образом ему втемяшилось в голову, что дебелая дочь бакалейщика Дора Арсен — это именно та неукротимая и бездушная сила, что удержит Дитриха за скучным столом нотариальной конторы? Ненавидимым им всеми фибрами своего тщедушия. Тайну эту старый Габе унёс в могилу, так и не узнав, насколько жестоко он просчитался.
«Бакалейной» Доре её супруг был настолько безразличен, что она, пожалуй, даже и не заметила его бесстрашного и безрассудного реванша, случившегося сразу по смерти старого Дица. Дитрих, попирая дедовский и отцовский заветы и небрежно оттирая с груди материнские слёзы, повесил на компаньонскую контору внушительный замок, как точку в навсегда несостоявшейся трилогии: «und Sohn» [42].
Ничто, в общем-то, не мешало Дитриху аналогично поступить и с Дорой. Мужества бы, вполне возможно, что и хватило бы… Но зачем? И без того, на этот душевный мезальянс он согласился в тот день, когда общеупотребительная «вечная фройлян» Эва Коваль из дома с розовыми шторками на Interessanten Straße [43], не прерывая своего профессионального стона и полагая, что, увлечённый собой, Дитрих не заметит, повернулась к будильнику на прикроватном пуфе и сделала гримасу. В которой, может быть, и не было ничего такого многозначительного, но которую делают только наедине с собой: «Шайсе, ещё десять минут терпеть эту тряску…»
«Нет. Того, о чём бряцал на лире вагант Herzinniger, или нет вовсе, или нет для него — Дитриха» — подвёл тогда он итог долгих 35‑летних поисков. Скучное отвращение или, в лучшем случае, глубокая сосредоточенность на своём мироощущение — это всё, что видел Дитрих в глазах женщин, даже тех третьесортных невест, которые искренне пытались убедить себя, что вот, и с ней случилось, как в книге.
Чёрта с два. Так чем, скажите на милость, Дора Арсен [44] хуже Эвы?
«Ей, по крайней мере, не надо класть 20 марок на пуфик…» — наивно рассудил Дитрих, хотя впору такое решение было сопроводить сентенцией, вроде: «Пусть мне будет хуже!» И окончательно ошарашил родственников не только своим безропотным согласием на брак, но и, — как уже отмечалось в деле, — весьма строптивым решением стать полицейским детективом.
Будучи университетски образован, он поступил на ускоренные курсы Polizeiakademie [45]. Для супруги же ничтожество Дитриха даже на некоторое время стало более-менее любопытным. Но только на то время, которое понадобилось, чтобы оно, ничтожество, вновь вернулось к своему привычному знаменателю, но уже в должности «криминаль полицайинспектора». Несмотря на звучное название, к ужасу Габе, справлять свою должность ему пришлось не в лихих погонях на дорогих «хорьхах», размахивая штатным вальтером, а всё за тем же, но куда менее ухоженным и более залитым чернилами, конторским столом.
Гитлер и война дали Дитриху Габе всё, начиная от власти и чувства собственной значимости и заканчивая этим доселе неведомым чувством.
Дитрих внезапно влюбился — и был потрясен, как если бы наскочил на грабли. Сходу, как будто его снова в рукопашной огрел голым кулачищем по каске матрос и, вопреки заверениям изготовителя, шлем «Stahlhelm М42» не уберёг его от внутричерепного давления [46], — отчего Дитрих целую неделю проходил тогда с тошнотворным чувством унижения и налитыми кровью глазами. И поначалу ощущения штурмбаннфюрера были почти такие же, включая налитые кровью глаза.
Вообще-то к санаторию офицеров «Wehrmacht und Kriegsmarine Ghelek-Su» был прикомандирован добропорядочный бордель из Фатерлянда, укомплектованный арийками, но, как известно, «запретный плод…»
Неучтенный интендантской службой, «трофейный» бордель, основанный на маркитантских началах, пользовался куда большей популярностью. Наверное, ещё и потому, что экзотические его «кадры» менялись куда чаще, чем присылалось «подкрепление» из рейха.
Полячку с библейским именем Магдалена кто-то из штабных умудрился притащить с самого Вильно, но потом, то ли пресытившись, то ли выйдя в отставку без ноги и не имея ни возможности, ни желания тащить за собой прекрасный, но опасный трофей в рейх, оставил.
«Скорее всего, второе… — обдумывал потом поведение анонимного предшественника штурмбаннфюрер Габе. — Разве возбраняется заслуженному офицеру вермахта отправить домой одного-другого остарбайтера в помощь старой маме или юнкеру-дедушке на хозяйство?» Нет же, сдал как ненужный багаж обер-интенданту Бутлеру в армейский обоз, как будто не знал, какого рода снабжением озабочен главный штабс-интендант, кроме предписанного уставом.
В том, что Магдалену его недостойный соперник «сдал», а не отпустил на все четыре стороны, у Дитриха было больше веры, чем уверенности. По здравому рассуждению, а куда бы со своей горькой «вольной» подалась девушка по запутанным тыловым дорогам?
Но это потом. А тогда, наслушавшись удивительно разных отзывов о прекрасной полячке, когда скабрезных до завистливой брезгливости, когда умилённо восторженных до недоумения… И услышав фамилию Ковальски…
«Мой бог! Почти Коваль!» — злобно припомнил Дитрих равнодушный стон «вечной фройлян» Эвы и направился на ул. Безымянную (бывшую Ленина), практически обуреваемый «жаждой мести»: чтобы стонала — так уже если не от удовольствия, то и не от притворства.
Но потом… Вышел на чугунное литое крылечко купеческой дачи конца XVII века Дитрих Габе, расхристанный как внутри, так и снаружи. С нервной дрожью в пальцах разорвал пачку сигарет и, нервно же затянувшись, поймал себя на неуместной мыслишке: «А что, проверку гестапо Магдалена Ковальски, наверное бы, прошла? Ничего предосудительного за дочерью заурядного вильнюсского ксендза не числилось, — если верить долгому заполночному рассказу девушки со слезами счастливого забытья. — А верное следование за обозами вермахта, глядишь, сошло бы за верноподданническую признательность германскому солдату-освободителю? Если только не за шпионаж… — одёрнул сам себя Дитрих. — Нет, пожалуй, с официальным ввозом будут сложности, да и думать пока об этом рановато. Дел по горло, и становится всё больше, взахлёб. Если только, конечно, вдруг отпуск на Родину не выпадет нежданным-негаданным лотерейным счастьем…»
И оно выпало. Счастье нежданное.
«Это конец любви!» — разрыдалась Магдалена и не могла утешиться, пока Дитрих не нашёл в Ялте ксендза, достаточно замороченного внезапным приплодом прихода, чтобы не уточнять, есть ли «что-либо препятствующее этому браку?»
Без выписки из приходской книги пани Ковальски смущали её перспективы на будущее. А вот то, что перспектива эта весьма затмевалась внушительной фигурой фрау Габе, как-то не очень. И теперь, кажется, штурмбаннфюрер начал понимать, «почему». Есть нечто крепче уз брака, как освящённых, так и фиктивных, даже если фиктивные освящены, — и наоборот, освящённые вроде как фиктивные. «Чёрт ногу сломит», — поморщился Дитрих, как от зубной боли.
И вот теперь в Крыму, в Гурзуфе, в санатории для офицеров вермахта и кригсмарине «Гелек-Су», гауптштурмфюрер Бреннер всё сжимает и сжимает петли…
— Не сочтите мое любопытство бестактным, — наконец, будто очнулся от своих отвлеченных разглагольствований о судьбах «СС» Карл-Йозеф. Во время них он уже успел допить кофе и пройтись по номеру до трюмо в коридоре, будто прислушиваясь, к входным дверям и обратно. — Но где сейчас ваша э… эрзац-супруга?
— Я бы попросил, герр гаупт, — дернулся было Габе на мгновенье.
— Полноте, Дитрих, мы с вами солдаты…
Хоть он и сказал это ровным тоном, и ничего такого, что можно было бы назвать острасткой, в его реплике не было, но благодушие слетело с запечённого лица гауптштурмфюрера Бреннера, словно разбилась глиняная маска мима.
Соответственно, и штурмбаннфюрер так распрямился, что даже скрипнуло что-то в пояснице. Не то портупея на ремнях, не то позвоночник, согбенный канцелярской привычкой, переделать которую в армейскую выправку не помогала ни гимнастика, ни боевая практика, ни тот же корсет портупеи.
— Вполне можем обойтись и без аристократических поз, — закончил после долгой тяжелой паузы Бреннер и предложил взглядом сесть. — Я надеюсь, у вас хватит ума не тащить свою пассию к новому месту назначения?
— Разумеется, — коротко кивнул штурмбаннфюрер, понимая, что вот этого ему, как раз таки, может быть, и не хватило.
Не то, чтобы именно ума, но твердости. Бог мой, о какой твёрдости могла идти речь, когда Магдалена смотрела на него вот так, через плечо, отливавшее феерической позолотой в пене опавших кружев пеньюара, глазами полными отчаяния и испуга: «Вы же не оставите нас, Дитрих?» Именно нас .
Ещё и поэтому штурмбаннфюрер Габе приложил все усилия в 42 году, когда фон Левински [47], возглавив группу армий «Дон», ушёл из Крыма, чтобы его зондеркоманду, дескать, «приобретшую весьма специфический опыт», переподчинили из 11‑й армии в 500‑километровую зону «оперативного тыла». Потому, что Магдалена Габе (?) говорила теперь «о них» с придыханием и только как о Святом семействе, во всей полноте чуда.
«Но никаких умножений имени от предков!» — зарёкся Дитрих-Диц и назвал сына просто Адамом. «Интернационально», — не в рейхе будь сказано.
И вот теперь их обоих, словно для полноты библейского сюжета, он поместил, как выясняется, в «хлев изгнания». Ума хватило…
…И не только у него
Оккупированный Крым. Район действия 2-го партизанского сектора
— На станцию, дед Аврал говорит, даже новый конвой для наших пленных привезут, — жадно давясь печёной картофелиной, не слишком внятно, но старательно докладывал Вовка. — Татарам, вишь, тоже не доверяют. Так что со станции до Атлама и, я так думаю, на самой базе с ними будут те фрицы, что приезжают завтра утром. Уже ихний офицер был, но в Атлам почему-то не доехал и во Владиславовке не остался, — пожал плечами Вовка: мол, дело тёмное.
— Где же он подевался? — переглянувшись с Каверзевым, пододвинул командир разведчиков к мальчишке глиняную миску с какой-то не слишком аппетитной, к тому же отдающей лесной прелью, похлёбкой.
— Дед говорит — на Молоканском хуторе искать надо.
— На Молоканском? — недоверчиво переспросил бывший черноморский матрос Малахов, который, будучи привычен к рыбалке и прочим видам индивидуального промысла, побывал уже на всех курятниках округи. — Там три хаты с половиной всего. Куда там немцев размещать?..
— Так ведь и этот, — промычал в миску Володька, — один был, почти.
— Почти — это сколько? — нахмурился Везунок.
Такое прозвание прочно закрепилось за командиром разведчиков Сергеем Хачариди после того, как на станции Шкуровской он вылез из-под горящего немецкого состава с авиационным топливом даже без копоти на лице. А предварительно — несколько раньше, когда он протащил плотик со взрывчаткой к злокозненному мосту по речушке в локоть глубиной, зато бурной, с перекатами, и тоже, в отличие от мостика, оказался почти невредим.
— Два автоматчика, таких бугая из полевой жандармерии, и баба с малым ребёнком, — перечислил Вовка на грязных пальцах.
— Хорошо бы эту информацию проверить… — лизнул газетный край самокрутки Везунок-Хачариди. — Чую, какой-то резон из этой романтической «Рио-Риты» вытанцовывается. Вот только какой?.. — он задумчиво прищурился на расплывшиеся буквы оккупационной «Азат Кърым» [48], словно пытаясь прочесть верноподданнические заверения «мусульманского комитета».
Вовка уставился на него, на мгновение забыв о миске, перевёл взгляд на Каверзева и Малахова, но не найдя и там понимания слов командира, снова пожал плечами и сосредоточился на ловле языком маслянистой шляпки гриба.
— Говоришь, пленных с утра привезут? — продолжил Сергей, сунув в угол рта «многие лета Гитлер-эфенди!..»
Мальчишка энергично кивнул, не вынимая замызганной физиономии из миски, запрокинутой в рот.
— А у фрицев утро не позднее пяти начинается, — покачал головой Везунок и подытожил, обернувшись к сержанту-артиллеристу: — Времени совсем мало. Встретить разведгруппу, проверить Молоканский хутор на предмет: нельзя ли взять за душевные яйца командира конвоя и с рассветом уже затесаться в колонну?.. — он пожал плечами. — Чуть что, и… Как говорил самый великий вождь: «Промедление смерти подобно».
— Хутор, вообще-то, по дороге, — напомнил Малахов. — Не больше версты-полутора от посадочной площадки.
— Это радует, — поскреб Хачариди специально отращённую, антично-курчавую бородку, придававшую ему вид этакого Персея с краснолакового музейного кувшина, но только весьма изголодавшегося. — Хотя всё равно: «Промедление смерти подобно».
Ни скорости, ни брони
Оккупированный Крым. Район Феодосии
Почти невидимый для глаза вблизи, если нет ни облаков, ни тумана, ни дыма, луч прожектора, зацепив вёрткий «У-2», мгновенно вспыхнул на его плоскостях и сковал самолётик, точно огонь керосиновой лампы насекомое, только что вылетевшее из мрака. Всё, вплоть до клёпок на кожухе мотора и шурупов на плоскостях, вплоть до швов и потёртостей на кожаном шлеме Таси, стало видно в мельчайших, чуть ли не микроскопических, подробностях.
Второй столб хрустально-синего пламени, прожегший чёрное небо чуть поодаль, был виден уже не так, как первый — врасплох, от него можно было бы уже, наверное, и увернуться. Но теперь поздно. Механически дрогнув, второй луч дугой шарахнулся по чёрному куполу неба и безошибочно поймал ночного «гостя» в перекрестье с первым. Вместе они сделали из «У-2» подлинный светильник, паникадило, сияющее под соборным куполом небесного храма. Куполом, обугленным и дочерна закопченным мраком.
Светильник, сияющий таким торжественным серебром, таким праздничным… В другой бы момент и при других обстоятельствах. Но в этом сгоревшем храме военного неба — скорее, поминальным.
Ночной бомбардировщик, и вблизи-то не слишком грозный, как говорится: «ни вида, ни величия», теперь, распятый лучами прожекторов, стал вовсе крохотным и беззащитным. Наверное, поэтому смерть и не торопилась за ним, поглядывала, должно быть, искоса из-под чёрного капюшона ночи и продолжала скрежетать оселком по косе: «Куда ж ты теперь, на хрен, денешься…»
С запозданием в несколько секунд, за время которых и сердце успело ухнуть в бездонную воздушную яму, и паническая мысль: «Куда бы деться отсюда!», пробежав нервной дрожью по мускулам, улеглась отупляющим спокойствием отчаяния: «Куда ж ты теперь, на хрен, денешься», — с невидимой чёрной земли, забирая всё круче и круче вверх, потянулись голубые струи трассеров. Они разрастались из многоточия в короткие и всё более длинные и длинные пунктиры, чтобы сплошной параболой перевалить зенит и, остывая, сгинуть во тьме, — это если бы была охота следить. Но Войткевич такой баллистикой не интересовался.
«Что ж ты не маневрируешь, ас?» — хотел было он уже похлопать младшего лейтенанта по плечу, но тут по тяжёлому поползновению в кишках с боку на бок понял: «А кто сказал, что не маневрирует?» Очень даже маневрирует, но очень уж неповоротливо и неторопко «У-2» стал заваливаться на крыло, медленно-медленно отворачивая тупое рыло от встречи с посланными на упреждение траекториями пуль. Что поделать? Эволюции ночной бомбардировщик, может быть, проделывал даже лихие, если с земли смотреть, снисходя до его рода-племени, а так… С его разворотливостью ещё ладно, можно попробовать и уйти, но со скоростью полтораста км в час? Когда немцу на земле достаточно лишь чуток довернуть радиальный прицел спарки, чтобы дождаться в нём мишень на выходе из любой, самой затейливой, «фигуры». Довернуть — и она неизбежно окажется в кольцах глубины и перекрестии горизонта. Это ж тебе даже не танк, дергать рычаги бестолку: не встанет как вкопанный и в сторону не свернёт, крутясь на одной гусенице. На всё нужно время. Бесконечные, как жизнь, и мгновенные, как смерть, секунды, минуты… А их не было.
Именно это было написано на лице младшего лейтенанта Колодяжной, когда она через плечо запрокинула назад голову.
— Дотяну до места сколько смогу! — крикнула Тася, перекрикивая теперь не только свист ветра в элеронах и тарахтенье двигателя, но и завывание сирен, вязко поднимавшееся с земли, не такой уж и далекой, как хотелось бы.
— Протяну сколько смогу! — повторила Тася. — И как махну рукой, прыгай!
— Не оторвёмся?! — наклонился вперед к самому её лицу Яков.
Глаза расширенные, как перезревшая черешня, но страха в них как будто и нет, словно лихорадочно соображает что-то девчонка, потянув со стола профессора экзаменационный билет.
— От прожекторов? — Тася отрицательно замотала головой. — Нет! Небо чистое!
«Значит, от пуль как-то ещё можно», — прочитал в этом её уточнении Яков, хоть и успокаивало это не особо.
И это ещё их счастье, что не оказалось у немцев на дальнем подступе к железнодорожному узлу Владиславовка ничего существеннее зенитно-пулемётного дивизиона. «Или что оно там у них такое, пропади оно пропадом».
Не потявкивают зенитки, только спаренные пулемёты ткут по чёрному небу голубую паутину крупным калибром. Но и тех 20‑мм хватит по их душу, едва прикрытую фанерой, с головой, если достанут.
Почти краем глаза заметил лейтенант, как с нижнего яруса «этажерки», кувыркаясь, отлетели назад лохмотья фанерной обшивки. И только потом почувствовал, как обожгло щеку. Сорвав перчатку, провёл по щеке тыльной стороной ладони. «Ничего, крови немного и боль скорее саднящая. Должно быть, щепа от сосновой рейки», — обстоятельно успел обдумать Войткевич, прежде чем «У-2» ухнул куда-то вбок и вниз вместе со всем содержимым его желудка.
Глянув в ту сторону, Яков, прежде всего, увидел, как беспощадно, словно гигантским шашелем, изъедено крыло, на которое завалилась их «небесная двуколка», точно на подломившееся колесо.
— Прыгай!..
Лицо Таси было таким же спокойным на первый взгляд, напряжённо застывшим. Но не было больше в этой детской попытке «обуздать эмоции» скрытого поиска выхода. Судорожных и мучительных соображений: «Что делать? Как бы? Что же придумать?» Решение принято. Замерла складочка между сведёнными бровями. Искусанные губы плотно сжаты. И глубже, и безнадёжнее стала ночь в расширенных карих глазах. Решение принято: «Он прыгает и, может быть, сможет ещё довести до конца их важное дело. Она — остаётся». Собственно, это даже не решение — остаться, поскольку вариантов-то и нет, как нет парашюта, а решение — не орать, не визжать, не блажить, а до конца и достойно…
— Не прыгну, — откинулся Войткевич на жёсткую спинку сиденья, и даже подумал как-то мимоходом: «Не подкладывают ли туда девчонки сковороду вместо бронещитка? Как в Первую мировую пилоты «фарманов» под задницу?»
Но редко он себя чувствовал столь же беспомощным, как сейчас, когда стежки пуль штопали небо вокруг так, словно какой-то пулемётчик Ганс вставил его в пяльцы и вышивает, никуда не торопясь, железным крестиком.
— Что?! — Тасе показалось, что она не расслышала.
Она дёрнула застёжку под подбородком и отбросила клапан шлема, из-под которого беззащитно вспыхнул золотистый пух, вьющийся на шее колечками.
— Чего?
— Ничего. И не надо меня умолять, — проворчал Яков, демонстративно расстегивая на груди лямки парашюта, и крикнул в голос, когда уже освободился от парашютной сбруи полностью. — Сажай!
Тася замотала головой, так что распущенные клапаны забили по щекам, то ли самим по себе бледным, то ли от мертвенного зарева прожектора.
— Убьют!
— Не впервой, — снова негромко, вполголоса, ответил Яков, умащивая на груди «шмайссер» на немецкий манер, магазином кверху, чтобы не давила рукоять затвора [49].
И, приподняв с одного глаза авиаторские очки, подмигнул:
— Ну, что мы думаем? Думаем — куда?
— Чего там думать, поля кругом. — Отвернулась младший лейтенант, так и не решив, то ли закатить истерику умиления и разреветься, то ли с такой же истерикой, но возмущения, вытолкнуть разведчика за борт.
«Но пойди вытолкни такого физкультурника. Такого наглого, самоуверенного, самовлюбленного и самонадеянного, такого… интересного?»
Чувствуя, что начинает как-то путаться с определениями, Тася замотала головой, стряхивая наваждение. Да и не до определений сейчас.
Она потянула рычаг штурвала на себя. Машина плохо, но ещё слушалась.
Лишь бы хоть что-то осталось от подъёмной силы, от плоскостей, благо их у биплана целых четыре, а так… Скорость снижения «У-2» с выключенным мотором составляет 1–2 м/секунду, это даже меньше, чем у парашютиста в свободном падении. Шанс есть, по крайней мере долететь до земли. Но именно поэтому многие её подруги предпочитали не садиться, а падать.
«Там же нас встретят?» — снова обернулась Тася через плечо.
Лейтенант Войткевич откровенно скучал.
Разминулись во тьме
Оккупированный Крым. Район Владиславовки
— Что там? — заглянул Везунок через плечо старшего сержанта Каверзева на цифирь часов, светящуюся тусклой фосфорной зеленью.
— Уже час десять, как должны быть, — пробормотал Каверзев, ворочая запрокинутой вверх головой.
Небо молчало, как бездонный колодец с нетронутым отражением звёзд. Для полноты впечатления, где-то на окраине поля, в заболоченной низине, время от времени заводила дребезжащий будильник лягушка, что-то здорово напутав с брачным периодом. Август всё-таки…
Как и в прошлый раз, в прошлом месяце, когда отряд Беседина частично был эвакуирован на Большую землю, площадку для приёма разведчиков выбрали не в горах, а как можно ближе к району предстоящих действий. На заброшенном колхозном поле, не так далеко, — может, даже рискованно недалеко от Якорной бухты.
А если соотносить с крайней, восточной грядой Крымских гор, то вообще «у чёрта на куличках», далеко от своих партизанских баз.
Впрочем, может, тем себя и оправдывал этот неоправданный на первый взгляд риск. Тут их не ждали. Крупный, стратегического значения, железнодорожный узел; опять-таки, рядышком база шнельботов, сумевших едва ли не парализовать весь Черноморский флот, да ещё под личной опекой фюрера. Тут и версты не пройдёшь, чтобы не натолкнуться на пост или патруль полевой жандармерии.
— Ещё минут десять-пятнадцать и вообще всё пойдёт прахом, — заметил Малахов, недовольно смыкая порыжелую пехотную гимнастерку, сменить на которую вольную тельняшку командир его буквально принудил.
(Кто знает? Найдутся ли в завтрашней колонне военнопленных ещё морские пехотинцы или матросы? Ну как засветишься там экзотической своей полосатостью, что зебра в зоосаде?)
— Прахом?.. — с мрачной злостью отозвался Сергей Хачариди. — Прахом не пойдёт. Прахом не годится.
— А я и не говорю, что «вообще», — лениво поправился матрос. — А именно эта, так сказать, версия. Затесаться среди военнопленных.
— Ни хрена, — упрямо повторил командир. — Именно эту версию мы и будем отрабатывать.
— А как же? — Арсений Малахов закатил глаза к необыкновенно щедрому на алмазы августовскому южному небу и сунул в рот очередную соломинку, которыми уже почитай всю ночь приходилось заменять курево. — Как же наши архангелы?
— Тебе цель операции известна? — спросил Везунок так значительно, что понятно стало: спросил не только одесского морячка, «расклешённого» во всех отношениях, вплоть до дисциплинарного, но и всех присутствующих. Всех, «кому идти».
— Ну, в общих чертах, — промычал Арсений, пережевывая соломинку, как мундштук папиросы.
— Чего тебе ещё надо? — вполоборота глянул на него Хачариди.
— Мне? А чего мне, — без особого энтузиазма сплюнул соломинку матрос. — Мне как всем: «Служу трудовому народу». Хлебом не корми, дай народу послужить.
— А вдруг они всё-таки прилетят? — озвучил Вовка Яровой вопрос, увязший у всех на зубах. И продолжил, переводя взгляд с одного разведчика на другого: — Вдруг они на запасной площадке?..
— Мы это проверить уже не успеем. Придётся тебе, — положил Везунок руку на плечо мальчишки.
— Я с вами! — дёрнулся тот и нахмурился упрямо, но скорее всё-таки притворно. Как ни морщи лоб, ни ходи желваками — сам понимал, ну какой с него, к лешему, военнопленный? Больно приметен.
— Пойдёшь на запасную площадку, дождётесь контрольного времени… — сжал его плечо «вождь и учитель» Сергей Хачариди. — Нет, так нет. А если всё-таки появятся флотские, расскажешь им всё. И про наш план слиться с военнопленными, и про немецкого офицера, что бабу свою на Молоканский хутор отвёз. — Хватка Сергея на секунду ослабла, будто он отвлёкся от инструктажа другими мыслями, но… — Обязательно про офицера! — стиснул он снова плечо мальчишки так, что Володька поморщился. — Если успеют подключиться, пароль для связи прежний, тот же, что и сейчас. Не успеют… — Везунок поднял глаза к молчащей и сияющей бездне и уточнил со сдержанным вздохом: — Или не смогут. Тогда сами сделаем всё, что сможем.
В том, что юный партизанский разведчик сделает всё, как надо, Везунок не сомневался. Будто почувствовал уже, что Вовка Яровой — заговорённый.
Костры в ночи
Оккупированный Крым. Район Феодосии
— У тебя бомбы есть?! — прокричал Саша на ухо пилоту, привстав в штурманском «гнезде» фюзеляжа чуть ли не во весь рост.
— Сядь! — не оборачиваясь, бесцеремонно пихнула его назад ладонью лейтенант Засохина. — Бомбы?!.. — Она резко накренилась в сторону вместе со штурвалом, будто её девичьего веса только и не хватает, чтобы завалить «У-2» на крыло, поскорее отвернуть от столба света, угрожающе поползшего им навстречу.
— Бомбы, блин! — по-мужицки выругалась Татьяна Засохина. — Полные корзины!.. [50] Где они?
Плюхнувшись на сиденье, Саша, тем не менее, снова перегнулся вперед и протянул руку через плечо лейтенанта:
— Заходи на позицию!
За неполные две-три секунды частого сердцебиения, когда едва ли не случайно внезапно вспыхнувший впереди луч немецкого прожектора упёрся в серое брюхо «У-2» Колодяжной, Новик успел засечь азимут, определить, откуда растут, вытягиваются в чёрное небо пунктиры трассеров. Откуда полосуют свистящими и светящимися кнутами очередей немецкие пулемёты утлый её самолётик, то чернеющий в голубых струях света, то предательски блестящий, словно хромированная фигурка на чёрном капоте.
Казалось, не секунды, а долгие часы полосуют, разрывают его в клочья.
— Заходи вправо! Будем крыть сзади! — прокричал Саша в круглую выпуклость кожаного наушника на шлеме Татьяны.
Дань скорее форменному покрою, так как раций на «У-2», как правило, не водилось.
Татьяна обернулась. Секунду её серые глаза с каким-то удивительным, озёрным спокойствием отражались скорее даже не в зрачках, а в самой душе Новика. Обдать она его хотела этим своим озёрным холодом, остудить или вытрезвить? Но, в любом случае, это только придало ему ещё большей уверенности.
«Она сможет, — понял Александр. — Она — да!»
— Ну и что?! — насмешливо дёрнула уголком губ Татьяна. — Ну, зайдём? Сходишь ты на них, что ли?
— По большому! Очень! — многообещающе кивнул Саша, распуская петлю походного «сидора».
Если бы их «небесный тихоход» чуть раньше добрался бы до намеченной позиции, чуть раньше свалился бы в насильственный штопор, заменявший шедевру лёгкой бомбардировочной авиации штурмовое пикирование [51], ситуация оказалась бы проще. Успей они чуть раньше, может быть, не успел бы тогда старший пулемётчик расчёта гефрайтер Урбан. И стежки бело-голубой строчки трассирующих пуль не разорвали бы элерон «У-2» на правом нижнем крыле.
Но уже в следующее мгновение после того, как это случилось, Новик, выбравшись на перекошенное крыло и держась одной рукой за расчалки, швырнул другой рукою фугас в коробке деревянного корпуса. Швырнул вниз, в самый эпицентр, откуда веером расходились пунктиры трассеров. Красная точка трута канула во мгле.
Возникла долгая пауза ожидания, настолько напряжённого, что казалось, отступили, провалились в омут тишины, и рёв близкой теперь сирены, и керамический стук мотора, и тявканье зенитных пулемётов. И наконец…
«У-2» лейтенанта Засохиной чёрным демоном вырвался из багрово-золотых клубов пламени, раскатившихся и разросшихся на месте «вороньего гнезда» пулемётной спарки. Какой-то горящий лом, медно-блестящие пулемётные ленты, правый ботинок бравого гефрайтера закувыркались над развороченной водонапорной башней, где только что «гнездился» его пулемётный расчёт. Башней, над которой самолёт пронесся так низко и неожиданно, взявшись из небытия как творение самой ночи, что пулемётчики едва успели обернуться на рёв пропеллера, а гефрайтер чуть не выронил трубку полевого аппарата.
Впрочем, он успел прокричать в её резиновое ухо о глубокой диверсии русского разведчика. В том, что это был именно «разведчик», гефрайтер не сомневался: не найдя у «ночной ведьмы» даже обязательной пары, не то что прочей эскадрильи, что он мог ещё подумать? И эта его уверенность сохранялась даже несколько секунд после того, как его ботинок, брызгая кровью, закувыркался в огне.
Но лейтенантам Новику и Засохиной было не до торжества.
— Сбили Тасю! — обернулась Татьяна.
Впервые в её серо-стальных глазах Новик прочитал самый обычный, самый что ни на есть бабий вскрик. С надрывом. Плеснули серые озёра через край.
Их «пару» сбили, второй «У-2».
Саша и сам видел, как опавшим листом закружил вокруг феерического ствола голубого дерева света, проросшего с чёрной земли и раскинувшего в небе звёздную крону, и полетел к земле «У-2» с Войткевичем и Колодяжной на борту.
Отчего-то так и прозвучало в голове: «лейтенант Войткевич, младший лейтенант Колодяжная»…
Саша невольно сглотнул комок в горле. Промелькнуло в голове пофамильно, как список на деревянной пирамидке. И теперь казалось, что, косо заваливаясь на изрешеченное крыло, биплан летит прямо в пекло, в преисподнюю… Как-то слишком разгоревшуюся для экономного 500‑граммового фугаса. Не иначе что-то яростно полыхнуло под пожарной водонапорной башней. То, наверное, ради чего и гнездилась на ней немецкая пулемётная спарка, в общем-то здесь неожиданная. На таком-то удалении от самого железнодорожного узла.
«И то, ради чего непременно, — как-то вскользь, мимоходом, сообразил Саша, — сбегутся сюда сейчас и местные полицаи, и немцы понаедут. Не так уж и велико, если подумать, удаление, чтобы им не всполошиться».
Мысль эту «мимоходную» не иначе как нашептала ему интуиция. И уже через пару секунд она обрела актуальность. Кудрявые языки пламени ещё вихрились в цыганской пляске, разгоняя ночную мглу и ложась на днище фюзеляжа «У-2» багровым отсветом, когда они увидели свою «пару», ещё цепляющуюся за небо.
— Давай! Давай за ними! — словно неспешного извозчика, заколотил Новик «своего» пилота по плечу.
— Не понукай! Не запряг! — поморщившись, огрызнулась Татьяна, вроде как сердито, но с радостной дрожью в голосе.
Подгонять её и впрямь нужды не было. Толкнув от себя штурвал «У-2», она вытянула рукоятку акселератора, устремляя биплан вдогонку за близнецом-подранком.
Клубы дыма, подступившие к самым крыльям, чуть приглушили треск и чихание мотора, когда самолёт нырнул в копотную мглу. Мгла отчаянно саднила горло, дурманила, и на вкус была химически-кисловатой. Не иначе, как внизу горело какое-то топливо. Когда она расступилась и Новик убрал от лица локоть, то увидел, как золотистым оперением промелькнул над пожаром «У-2» Таси, выравниваясь для пологого спуска.
«Садятся!» — подтвердилась их с Татьяной догадка, почти интуитивная до сего момента.
Аrbeit macht frei
Оккупированный Крым. Поселок Рыбачье. Лагерь для военнопленных
Военных действий в Крыму не происходило уже с 42‑го, да и отношение к прифронтовой 500‑километровой зоне было, скорее, географическим, — Керченский полуостров хоть и оставался плацдармом для Кавказского направления, но теперь, положа руку на «железный крест», оставался оным сугубо формально. О кавказской нефти после сталинградской трагедии в исполнении 6‑й армии фельдмаршала Паулюса думать не приходилось. Да и поток пленных как-то поиссяк. Тем не менее обустроенности в лагере для военнопленных в поселке Рыбачий с первых дней его учреждения прибавилось не особо. Разве что для конвоя, для господ «фельдполицай» была отремонтирована и отскоблена бывшая контора совхоза да один склад приведён в божеское состояние казармы теми же татарскими рекрутами, которым, несмотря на звучное звание «Hiwi» — вспомогательного батальона, ничего существенней расстрелов и караульной службы не доверялось.
А так… Драматическое зрелище, наводившее тоску даже на коменданта Гутта, оставалось таким же, как и осенью 41‑го. До самого наступления знобких сумерек толпы оборванных красноармейцев теснились у скудных кострищ на вытоптанной в серую пыль земле, подобно серым духам первого круга Дантова ада. В бывшие коровники, «окультуренные» нарами и освоенные паразитами с куда как большим комфортом, устремлялись пленные с тем же скотским унынием, что и прежние их обитатели, и только по принуждению, когда «schnell!» — лениво подгонял немецкий конвоир и «ходи давай!» — усердствовали «вспомощники». А так, пленные сидели, изредка перебираясь от одной из компаний (сбивавшихся, по имевшимся у коменданта сведениям, чаще по признаку «землячеств», чем бывших однополчан) к другой. Или тенями слонялись вдоль старой огорожи и новой ограды с колючей проволокой и вышками. И только эти одинокие тени, небезосновательно наводящие на мысль о сумасшествии, как-то ещё бодрили часовых в форме «фельдграу» на вышках: кто знает, что заискрит между замкнувшими в мозгу клеммами безысходности и отчаяния? Но в основной массе они либо молчали с ничего не выражающими лицами, обострившимися и мёртвыми, как у истуканов, подсвеченных ритуальным огнем костров, либо, напротив, всё говорили и говорили о чём-то, скупо жестикулируя, часто не глядя на собеседников или, наоборот, оживляясь то спором, а то и смехом.
«Бог знает, о чём они там могли ещё говорить, над чем смеяться, о чём спорить и, главное, что вспоминать?» — никак не мог сообразить майор Гутт.
Именно вспоминать. Ни настоящего, ни будущего в их положении не было.
«Что им вспоминать, если их гражданская жизнь в этих их “колхозах”, — “достоверно” знал сознательный партайгеноссе майор Лин Гутт, — мало чем отличается от теперешнего существования? Тот же рабский труд под присмотром большевистских надзирателей из НКВД, тот же страх наказания за непослушание, и такое же вознаграждение за покорность — похлёбка из кормовой свеклы, как она у них там называется… боршч, что ли? И не выговоришь».
— Герр майор?
Майор Гутт наконец-то оторвался взглядом от окна, уже сереющего в предсмертной тоске дня, и поднял глаза на вошедшего ординарца.
— Этот… Касаткин… — с брезгливой гримасой кивнул через плечо ефрейтор.
Гутт молча кивнул.
Бывший краснофлотец Касаткин вызывал у майора некоторое удивление, сродни ничем не спровоцированной изжоге. И чем-то напоминал о бывшей учительской профессии, когда за такими вот скромными и даже умильно-милыми на первый взгляд учениками открывались немыслимые таланты, причем немыслимые как по благородству, так и по подлости. «Бог знает, чем голова набита. Весь в себе».
Вот, к примеру, на каждый свой доклад тайный осведомитель, проще говоря, комендантский «стукач», всегда входил, как этот… пионер-герой на допрос. Видел такого майор Гутт ещё в Фатерлянде, в поучительном фильме для гитлерюгенда «Подвиг Пауля», привезённом в его школу юнгфюрером с целью воспитания молодёжи в национал-социалистическом духе: «Meerrettich [52] вам всем, а не большая военная тайна вермахта!» Там такой патриот, помнится, на родного отца настучал, когда дознался, что тот в подполье марксистскую литературу прячет. Этот тоже… Пауль Фрост. Вошёл с заложенными за спиной руками — хоть никто и не требовал от него изображать из себя узника, — но при этом гордо распрямив плечи и широко расставив ноги, дескать: «стреляй, фашистская сволочь!» А у самого глазки по полу бегают, что мыши, и подхалимски-глуповатая улыбочка возникает всякий раз, как окликнет господин офицер.
— Fand sie? — так же, не глядя на штатного предателя, спросил начальник лагеря и обернулся к группенфюреру Шварценбеку, откровенно скучавшему у самодельного, на восточный манер, камина, сложенного одним из татарских умельцев.
— Что, нашёл? — лениво перевёл очередной из бесчисленных «фюреров» тайной полевой жандармерии, принуждённый к знанию словарных основ языка оккупации по роду службы. Тем не менее, кажется, даже сложнейшая операция абвера не смогла ни развлечь его тыловой скуки, ни напугать, — как, не в пример, самого майора.
— Кажется, да, господин майор, — воссиял предатель Касаткин; впрочем, и улыбочка его никогда не поднималась с полу, так что, казалось, радостью своей он делится с жирным тараканом, валко пересекающим половицы.
— Кажется? — недоумённо дернул белесой бровью Гутт.
— Уж больно тощие, от наших не отличить, — как-то странно пояснил матрос, но начальник лагеря догадался, о чём речь.
«Точно — партизаны», — нахмурился он.
Поступали, бывало, к нему после карательных операций из лесу и такие, что на их фоне его подопечные казались чуть ли не рубенсовскими амурами.
— Почему ты вообще решил, что это те, кого мы ждём, а не новенькие из Керчи?
Шварценбек наконец оторвал свой зад от низкой скамеечки у камина. Впрочем, заинтересованность его распространялась только до тех пор, пока не выяснилось…
— Нет, это не вновь прибывшие. — Отрицательно и важно покачал головой Касаткин.
То есть, не из тех, кого группенфюрер доставил вчера из Керчи, с целью устроения «Содома с Гоморрой», неразберихи.
«Доставил и не заметил, как занёс “партизанскую заразу”? Нет, слава богу. Ваша охрана прозевала», — мельком, но с плохо скрытым торжеством, глянул Шварценбек на Гутта.
— Отлично! — в пику ему, с наигранным энтузиазмом подкинул свой «пивной бочонок» со скрипучего стула майор, едва сдержавшись, чтобы не добавить: «Отлично справилась охрана со своим заданием!»
Кой там чёрт. Никто им такого задания не давал. Бреннер из абвера запретил строго-настрого как препятствовать, так и способствовать проникновению русских разведчиков в лагерь, целиком полагаясь на логику: «Охране, призванной и нацеленной на предупреждение побега из лагеря, в голову не придёт, что кто-то может попытаться пробраться в него, головой в петлю». Потому же и пришлось сменить караул из татар на немецкий конвойный взвод, — у начальника лагеря были все основания побаиваться особой бдительности добровольцев. Что-что, а исполнительность у них была на грани: заставь дурака… Как ни странно, но дисциплинированностью эти неполноценные могли самих нибелунгов засунуть глубоко за пояс.
— И всё-таки, — задумчиво побарабанил толстенькими пальцами по крышке стола Гутт. — Если, ты говоришь, от пленных не отличить, как же ты отличил? В лагере столько новых лиц. Как ты их вычислил?
— Во время кормёжки. Прошу прощения, приёма пищи, господин майор.
Касаткин выразительно посмотрел на стол, где на усмотрение мух были оставлены без салфетки останки офицерской курицы.
— Это как?.. — брезгливо усмехнулся начальник лагеря.
— И наши, и ваши… господин группенфюрер, — кивнул Кастакин куда-то в пол под ногами Шварценбека, — на баланду хоть и бросаются, но жуют как-то… как коровы сено.
— Без вдохновения, — хохотнув, перевёл жандарм.
— А эти, кажись, и гнилого бурака сто лет не видели, — подтвердил матрос.
— Вот как, — хмыкнул майор, вынимая из фанерного ящика под ногами увесистую консерву говяжьей тушенки и из тумбочки стола пачку солдатских сигарет «Dampf Vaterland».
— Это и Овсянникову? — ревниво следя за его руками, уточнил Касаткин.
— Комиссару? — задумался на мгновение майор Гутт.
Собственно, из этих двоих и состояла вся «шпионская сеть» начальника лагеря, но проку от наблюдений и бытовых замечаний матроса Касаткина было куда больше, чем от разоблачений сталинского «бдительного ока».
— Нет. Тебе, — решительно помотал круглой головой майор Лиин Гутт. — Только тебе, — подчеркнул он. — Овсянников нам, пожалуй, больше не нужен, — как бы советуясь, глянул он на Шварценбека.
Тот, хоть и не особенно был в курсе диспозиций, на всякий случай подтвердил мысль майора кивком. Заодно окончательно заверив смертный приговор комиссару ГБ Овсянникову.
…И, поскольку Овсянников, дознавшись, что сребреники за Иудину службу теперь выдаются другому, мог возревновать и, соответственно, сдать матроса как бы случайно и как бы вполголоса, глотку ему, в пресечение такой голосистости, кто-то этой же ночью перерезал иззубренной крышкой консервной банки с имперским орлом штамповки. Так, чтобы и вопросов не возникало: «За что?!»
А кто? Мало кто сомневался, что это дело рук краснофлотца Касаткина. Немцев, а тем паче их прихвостней, ненавидел он лютой ненавистью. Как глянет, щуря недобрые глазки, так даже овчарки немецкие и те хвост поджимают.
Перемена ролей
Оккупированный Крым. Район Феодосии
На случай, если доведется садиться, куда пошлёт непредсказуемая и переменчивая фронтовая судьба, на штанге между крыльями биплана умельцы-механики приспособили обычную автомобильную фару. Её тусклый, мутноватый свет, направленный полого вниз, наконец-то пробежал по чёрной ряби запущенной пашни, вызолотил стерню, обозначив довольно обширное пространство для посадки.
Но помогло это не особенно. Если в небе подбитый «У-2» ещё так-сяк, но чувствовал себя в родной стихии, то, потеряв и ту неверную опору под дырявыми крыльями, совсем отбился от рук пилота. Тася едва успела заглушить двигатель, воткнув рукоять акселератора до упора в панель. Самолет взорвал тупым рылом чёрную землю, метнул веер комьев из-под пропеллера, тотчас разлетевшегося лопастями.
Тася едва не вылетела через прозрачный щиток обтекателя, но Войткевич, также невольно подскочивший на сиденье, навалился на неё сзади.
— Тпр-у! — фыркнул он от неожиданности. И ещё секунду спустя уже выволакивал девушку из пилотского гнезда в фюзеляже.
Слава богу, но, выбросив из выхлопных щелей рваные лоскутья огня, промасленный мотор «У-2» не вспыхнул сразу, а дал ещё малую отсрочку, пока не вспыхнула проклеенная фанера обшивки. За эти несколько секунд, инстинктивно пригибаясь, диверсант и лётчица успели отскочить в сторону и ничком повалиться в колючую стерню заброшенного колхозного поля.
Громыхнуло. Последний язык керосинового пламени лизнул на прощание чёрное небо; и с равнодушием погребального костра огонь принялся обгладывать остов ночного бомбардировщика, хрустя его тщедушными костями, оставляя после своей неуёмной тризны лишь обугленный скелет. При этом поминальном освещении Яков, в силу посыла: «Страшно, но хорошо бы знать — почему?», приподнял голову.
Хотел было осмотреться, но сия ночь не переставала оправдывать мистические надежды. Через него, точно через никчемную колоду, с чертыханиями перескочила подлинная фурия в чёрном комбинезоне, подогнанном под девичью фигуру; на узких плечах сверкнули позолотой и взвихрились распущенные волосы.
«Я помню чудное мгновенье», — садясь, покачал головой Войткевич.
Лейтенант Т. Засохина, а это была она, — если только не валькирия, «отлучившаяся» из одноименной оперы Р. Вагнера, — упав на колени, скинула с поясницы… или около того… Таси ладонь, забытую Войткевичем после пробежки от самолёта.
— Жива?!
Тася, то ли не отдышавшись ещё, то ли не успев прийти в себя, кивнула.
— А мавр, значит, сделал свое дело, — проворчал Яков. — Мавр может уходить. — И продолжил без всякого выражения, настороженно оглядываясь по сторонам, вполголоса: — На задание в лютую ночь, один, несчастный и всеми забытый. Кому он нужен? Хоть подохни, будто пес безродный.
— Да уж скорее кобель, — огрызнулась девушка, но беззлобно, с искоркой в глазах, то ли от недалекого пламени, то ли от радостного облегчения, что обошлось, жива подруга, жива. — Подыхать он собрался, а лапы распускать не забыл.
— Так я ж на прощанье, — как-то не очень оправдываясь, возразил Яков. — Лебединая… Ну, если хотите, кобелиная песня.
Девушка фыркнула.
— Что это у вас тут за веселье? — рядом вдруг оказался Новик, припав на одно колено.
— Так, нервное, — отмахнулся Войткевич, напряжённо всматриваясь во мглу, резко очерченную отсветом пламени. — Чтобы не сказать — чумное.
— Ближе к истине, — сбросил Саша ремень «шмайссера» с плеча. — Сейчас тут фрицев будет как крыс в зернохранилище. Что-то мы не того рванули походя. Лишний шум получился.
— Ни хрена не лишний, — возразил Яков, кивнув в сторону зарева, бодро разгоравшегося на невидимом горизонте. — Может, как раз таки, хранилище какое-нибудь сурьёзное и рванули. Пусть думают, что за тем и прилетали.
В 30 км восточнее…
— Вот уж не думаю, — покачал головой Карл-Йозеф Бреннер. — Более чем уверен, что это составляющая той же операции русских.
Он отбросил карандаш, которым выискивал на тактической карте района место, где не далее как полчаса назад был сбит один самолет русских и приземлился другой.
«Приземлился в порядке фронтовой взаимовыручки? Или в этом и заключалось задание?..» — вот вопрос, обостривший на желчном лице Бреннера морщины тяжёлого раздумья, тем более тяжёлого, что: «Если в том, чтобы проникнуть в данный квадрат и заключалось задание в целом, то в чем оно состояло в частности? Oder zu sein zu sein, in als die Frage, вот в чем вопрос? [53] Разгромить резервный склад топлива, специально отнесённый от базы шнельботов, чтобы никакая, самая массированная, бомбардировка бухты не обездвижила катера, от которых зависит, учитывать ли Черноморский флот как оперативную единицу или иметь в виду только как стратегический ресурс. Или же достаточно хорошо замаскированный склад был вторичной, а то и случайной целью, возникшей в ходе операции по заброске диверсионной группы?»
— Но, — не дождавшись вполне ожидаемого возражения майора Гутта, подал наконец голос возражения группенфюрер полевой жандармерии Шварценбек. — Зачем русским такие сложности? Весь этот переполох вокруг склада, когда проникновение русских разведчиков в колону военнопленных удалось? По крайней мере, они так должны полагать.
— Кому это они тут задолжали, группенфюрер? — проворчал Карл-Йозеф. — Мне? Вам? Или всё-таки камраду Сталину?
— С учетом расстояния от места происшествия, склада «57С», и до места нахождения колонны, — продолжал настаивать Шварценбек с настырной педантичностью лютеранского проповедника, — это никак не напоминает согласованные действия.
«На первый взгляд — нет…» — внутренне должен был согласиться Карл-Йозеф, хоть внешне и одарил группенфюрера скептической гримасой.
Тем не менее события, последовавшие сразу после приземления-падения этих чёртовых «ночных ведьм», — не поймешь, что тут в первую очередь, — вполне вписывались в логику не совсем удачной заброски диверсантов.
Достаточно вспомнить, что как только команда штурмбанфюрера Габе, по удачной случайности только что прибывшая в качестве усиленного конвоя и оказавшаяся под рукой, прибыла в район склада «57С»…
В 30 км западнее. Район склада «57С»
Меньше всего подобной встречи ожидали «шутце» штурмбаннфюрера.
По логике вещей предполагалось, что они подойдут к сожженному остову большевистской «фанеры», попавшей в историю современных войн исключительно благодаря русской сообразительности. И, убедившись, что самоубийственное средство передвижения достигло своего закономерного конца, постреляют по предрассветной темени от живота и для острастки. В худшем случае, найдут расползающихся во мраке лётчиков, и если не прикончат, так подберут для допроса. А тут… Ещё не успели они ссыпаться с бортов полугусеничного «Schwerer» и рассыпаться в цепь, как над их касками, грозя настучать по стальным макушкам растопыренными шасси, с рёвом пронесся второй самолёт («Was ist?..») — и безо всяких посадочных костров, ориентируясь только на полыхающий остов товарища, сбитого над стратегическим складом, приземлился с лихостью осаженного коня.
Поначалу это даже придало энтузиазма. Без всяких понуканий Дитриха, соскочившие было с седел мотоциклов «шутце» принялись вскакивать обратно, выкручивая рогатины рулей, погоняя в сторону севшей «фанеры». Надсадно зарокотал крупповский двигатель под носатым капотом бронетранспортёра. Безусловно, следовало поторопиться, чтобы не потерять в потёмках русских пилотов, наказать чёртовых «ночных ведьм», не дать им уйти.
«Но какого чёрта?!» — запнулся штурмбаннфюрер и растянулся на чёрной земле под белым веером трассеров.
Первыми навстречу его бойцам ударили автоматные очереди как раз таки с той стороны, куда так резво устремились подчиненные Габе. И более того, русские быстро приближались.
«Как-то нелогично…» — подняв голову, утёрся тыльной стороной ладони штурмбаннфюрер.
Один из самых прытких «BMW» впереди запрокинулся на бок, прежде чем пулемётчик в коляске сообразил, куда, в какую сторону, в конце концов, ткнуть дулом «MG».
«Нелогично как-то…»
Контратака при таком раскладе сил никак не вписывалась в боевой опыт штурмбаннфюрера Габе. Ладно, если не бежать, очертя голову и куда глаза глядят, а застрелиться ввиду безысходности положения, это святое. Это, как говорится, «сам фюрер велел». Но переть в контратаку против моторизованной команды «Feldpolizei», в лучшем случае, двумя экипажами, и то, если уцелел первый? Это нелогично даже для молодых незамужних «фрау», которые только, если верить фронтовым легендам, и летали на этих фанерных гробах. Даже с учётом того, что эти русские «фрау», как, впрочем, и «фройлян», уже прославились своим совершенно неевропейским пониманием чувства гражданского долга.
«Психоз какой-то… — затолкал Дитрих в голенище сапога 9‑мм “люгер”, одновременно подтягивая более уместный “шмайссер”. — Если только русских лётчиц не ждало тут подкрепление, или где-то поодаль случайно не прогуливался партизанский отряд, завернувший на поле посмотреть, что происходит».
Впрочем, эта логическая каверза разрешилась уже через пару секунд. Круглое рыло русского самолёта вдруг вынырнуло из тьмы, клубившейся на краю пространства, озарённого пламенем его горевшего товарища и, роя тьму пьяным зигзагом, накатило на «шутце» Габе. Точно как апокалипсическая колесница. С рёвом и рыком, слепя фарой и сыпля с крыльев самолета пулями, что не было бы странно, будь перед ними что-то более затейливое в техническом отношении, чем прямой потомок «ньюпора» времен начала войны, времен 14‑го года [54]. Если «фанера» и брала разгон для взлёта, то как-то странно. В любом случае, паническое бегство это напоминало мало.
«Das unanständige Wort!» — готов был поклясться Дитрих-Диц: русские не убегали, они гнались за его бойцами…
— Хорош! — прокричал лейтенант Новик на ухо Татьяне, цепляясь локтем за борт её пилотского «гнезда». — Взлетаем!
И впрямь, у психической атаки есть только одно, но, к сожалению, быстро проходящее преимущество, — её ненормальность. Замешательство, вызванное ненормальным бесстрашием или упорством врага, проходит, когда выясняется, что бесстрашие отнюдь не гарантирует бессмертия. Тот, кто во весь рост идёт на пули, падает от них точно так же, как и тот, кто под ними пригибается. Немцы, разбежавшиеся во все стороны, очухались довольно быстро. Треснула первая автоматная очередь, заскрежетала опрокинутая коляска, вставая на колесо, а значит, сейчас с неё взвизгнет и «пила Гитлера»…
Татьяна сжала губы, вытягивая на себя штурвал. Самолет тяжело, натужно взревев мотором, так, что казалось, вот-вот отлетит жестяной кожух, оторвался от земли, но всего на пару вершков.
— Не вытяну!.. — снова засомневалась старший лейтенант Засохина.
Хоть прибавка в виде двух разведчиков и не тянула на триста кило обычной бомбовой нагрузки, но в виде несбалансированных довесков на крыльях…
— Метров сто хотя бы!.. — обернулся Новик, проведя длинной очередью метнувшуюся из-под крыла серую живую тень. — Только не поднимай!
Тень огрызнулась огненной вспышкой, и первое многоточие прочертило поверхность крыла у его колена. Похожие рваные дыры увидел и Войткевич у своих ног на другом крыле, с другой стороны. Обернулся.
— Ой, я не хотела, — сконфуженно пробормотала лейтенант Колодяжная.
Неслышно, но это легко читалось в шевелении губ и удивленно, совсем по-детски, распахнутых глазах. Она спрятала «ТТ» куда-то под себя, как улику нечаянной вины.
— Пусть там и будет, — одобрил Войткевич. — На лучше вот это. — И протянул девушке лимонку «Ф-5».
Несколько секунд глядя на него бездной карих глаз, теперь не просто расширенных, а безмерных, Тася, с тем же выражением застывшего ужаса, но чётко и спокойно, как на занятиях в «Осоавиахиме», выпрямила усики чеки. Затем вырвала её и, не глядя, выбросила чеку за борт самолёта; ещё секунду спустя туда же выкинула и гранату. Поежилась: «Фу, какая гадость».
Где-то за хвостовым оперением «У-2» подскочил ватный клубок дыма. Он и отметил границу нерешительного света и решительной тени, в которую наконец скрылся ночной бомбардировщик Засохиной. Как им, ночным, и полагается.
— Пора!
— Пошли!
— А десерт?
— Осторожней там, — последней в скомканной перекличке отозвалась Тася, то ли стирая с губ, то ли напротив, запечатав ладошкой мимолётный вкус мужского дыхания. — Товарищ лейтенант…
Раскачивая крыльями как коромыслом и дразня пузатыми красными звездами, «У-2» неуклюже перевалил за голову штурмбаннфюрера и исчез как фантом. Вернее, фантомная боль предстоящей головной боли.
«В которую непременно обернётся сегодняшняя промашка…» — скрипнул зубами Дитрих и, вскочив во весь рост, отчаянным жестом послал своих «шутце»…
Собственно говоря, уже было всё равно, куда посылать. В том, что пленных не будет, сомневаться не приходилось. Запоздалая очередь «MG» с борта бронетранспортёра была пустой тратой боеприпасов. Русские успешно подобрали своих — и они теперь чёрт знает где в этой угольной ночи, хоть и раскрошенной отчасти пожарами, но всё равно кромешной.
Что было не совсем так. Не дожидаясь, когда опустятся элероны и «У-2», стелющийся над землёй, пойдёт в гору, Войткевич и Новик освободили его фанерные крылья. Поэтому бедняга Габе ещё не знал, что с этого момента его неприятности только начинаются.
Добровольные пленники
Утром того же дня. Железнодорожная станция Владиславовка
Майор Линн Гутт толкнул локтем водителя.
— Sind gefahren, Scheißkerl… [55]
И в этот раз в толпе пленных ему не удалось заметить подозреваемых, столь живо описанных Касаткиным. Ни мосластого пейзанина со славянским простодушием на блинной морде. Ни городского люмпена с повадками и косолапостью матроса, которые, в общем-то, интернациональны для всех четырёх океанов. Ни парня с неукротимой курчавой щетиной на древнегреческом лице из красной глины, должного быть особенно приметным, несмотря на лагерную стрижку и общую измождённость. Но нет, не разглядел…
Зато искомый им Хачариди, проводя взглядом подскакивающий на выбоинах просёлка задок «ауди» с колесом запаски, поднял обожжённую солнцем, стриженую голову и утёр безвольную слюну с подбородка.
— Что-то он рыщет, мужики, — пробормотал Сергей товарищам, несшим его под руки на плечах…
На брезгливый вопрос конвоира, ткнувшего в него дулом маузера несколько минут назад: — «Dass mit ihm?» [56] — Каверзев ответил, демонстративно закатив очи горе:
— Солнечный удар.
— Солнце! — подтвердил Малахов и для пущей доходчивости, стянув с обвисшей головы командира пилотку, потрогал щетинистое его темя, как раскаленную сковороду, — ойкая и хватаясь за уши.
— Den Sonnenstich! — живо хохотнул конвоир и посоветовал по-немецки, незатейливо инсценируя команду «оправиться»: — Надо намочить!
— Ага!.. — радостно подхватил Малахов по-русски. — На твою могилу!
— Да вроде тут и сдавать-то некому… — оглянулся Арсений Малахов на прочих военнопленных, чьи лица, схожие тупой усталостью как групповое фото победителей соцсоревнования и равномерно припудренные пылью, казались неразличимы. — Я покрутился у одной компании, у другой. Мало кто друг дружку даже в лицо знает.
— Ты не особенно, — заметил Сергей, снова свесив голову между плеч товарищей. — Компанейский ты наш. Примелькаешься.
— Да я в кумовья ни к кому и не прошусь, — дёрнул локтем, будто отмахнулся, Арсений. — Да и не к кому. Скис народ. Один только парнишка толковый, кажется. Из наших, флотский. Ершистый такой. Касаткин.
— Ага, всю дорогу немцу в спину из фиги целится, — проворчал Антон Каверзев. — Ершистый твой.
— Я его тоже приметил, — не то кивнул, не то бессильно мотнул головой Хачариди. — Выпендрёжный, как матрос, — имея в виду присутствующих.
— Но если что, может и впрямь пригодиться, — не особо скривившись, «проглотил пилюлю» Арсений. — Не для толку, так для понту.
— Увидим, — остановившись, пожал плечами Сергей. — И, может, даже скоро. Что там?.. — с видимым трудом поднял он лицо.
Колонна пленных не сразу, но словно мутный поток, завихрившийся перед преградой, утихомирилась, замерла перед жабьи-пятнистым бортом бронетранспортёра, вдруг перегородившего дорогу с резким скрипом рессор и тормозных колодок.
Когда осели клубы пыли, на вытянутом угловатом капоте появилась поджарая, какая-то канцелярски-сутулая фигура в мундире «фельдграу», но туго перетянутом ремнями портупеи, с ремешком фуражки, опущенным под острый подбородок, увешанная подсумками. Всё как-то слишком, как-то франтовато по-фронтовому .
Троица переглянулась.
— У-у… — протянул Малахов, невольно морщась. — Как всё сурьёзно…
— И это только начало, — поддакнул Каверзев, глядя, как, вывернув из-за бронетранспортёра и демонстративно грозя стволами пулемётов, по обе стороны колонны раскатываются мотоциклы с колясками.
— Ничего, — сплюнул под ноги командир партизанской разведгруппы. — Шумнее свадьба, веселей гори деревня.
Словно подслушав эти его слова, зондерфюрер Габе, стоявший на капоте «Schwerer», проворчал то ли сам себе, то ли водителю за откинутым щитком с амбразурой, повертевшему во все стороны матерчатым шлемом, но так ничего и не понявшему:
— Охранять это быдло?..
Габе зачем-то посмотрел в бинокль на колонну, сбившуюся в толпу практически у него под носом.
— Для этого зондеркоманда не нужна. Что ж, Ульрих, надо полагать, будет весело.
— Ja! — не совсем уверенно, но с энтузиазмом отозвался водитель.
— Выровняйте эту сволочь, как полагается на марше, — распорядился Габе, перебираясь на крыло «Ханогана» [57]. — День будет долгий, — добавил он неизвестно к чему, поскольку до пункта назначения, до базы шнельботов в Якорной бухте было не так уж и далеко даже для этих мокриц.
Гости непрошеные
Молоканский хутор. Неподалеку от мыса Атлам
…В этот день домой штурмбаннфюрер Габе вернулся далеко за полночь и донельзя раздражённый, несмотря на то, что гауптштурмфюрер Бреннер не устроил ему публичного аутодафе. Вернее даже, именно поэтому. Потому что Бреннер не устроил, а скорее не удостоил Дитриха разноса. Только посмотрел на него поверх круглых очков, на секунду подняв голову от оперативной карты района. Но посмотрел так, что Габе словно услышал стук костяшками пальцем по лбу не то консультанта, не то куратора от абвера с правом решающего голоса.
— На двухместной «этажерке» эвакуировать ещё двоих?.. — с иудиной готовностью озвучил его невысказанное сомнение коллега штурмбаннфюрера, группенфюрер Шварценбек. — Пусть даже одного?
— Не знаю, как вам, господа… — снова склонился над картой Карл-Йозеф. — А по мне, так это только подтверждает мою версию о выбросе диверсантов.
— Район был тщательно прочёсан, герр гауптштурмфюрер, — поспешил вставить Дитрих прежде, чем это сделает Шварценбек, и впрямь чуть раньше его спохватившийся прочёсывать район склада «С-57».
— И? — без особого внимания поинтересовался Бреннер.
— Не было найдено ни диверсантов, ни какого-либо намёка на то, чтобы их кто-нибудь ждал… — напирая на последнее обстоятельство, рапортовал Габе и, подстегивая себя видимой самоуверенностью идиота, дескать: «занимаетесь тут чёрт знает чем, тогда как…», шагнул к столу. — Тогда как брошенная костровая площадка партизан обнаружена гораздо западнее, тут.
Его чёрно-кожаный палец постучался в карту поодаль геометрических фигур Владиславовки. — Если русские ожидали именно эти самолёты, то здесь. И, соответственно, не дождались… — добавил он со сдержанным торжеством, так, будто это он лично, а не покойный обергефрайтер Урбан трясся за рукоятками зенитно-пулемётной спарки.
— Не дождались, — задумчиво повторил Карл-Йозеф, подгоняя кончиком карандаша транспортир. — Не значит ли это, герр штурбаннфюрер, что ждут они вас где-то в другом месте, как вы думаете?
— Я думаю, герр гауптштурмфюрер, что я буду готов к встрече, — заявил Дитрих, вздёрнув подбородком.
И, как выяснилось, заявил слишком самонадеянно.
К этой встрече в доме, который так хотелось называть своим, потому что здесь ждали его сознательно — Магдалена и ещё неосознанно — готовый к рождению Адам, он оказался совершенно не готов.
…Русский разведчик стоял спиной к штурмбаннфюреру, склонившись над его, Дитриха, походным чемоданом, положенным на пузатое старинное трюмо, и смотрелся в его же, Дитриха, зеркало, вмонтированное с изнанки в фанерную крышку. Смотрелся густо намыленной нахальной физиономией, намыленной опять же его, Дитриха, мыльной пеной в медной чашечке и помазком, даже не его, Дитриха, а его дедушки, которым тот мылился в 1916 году в окопах при Сомме, прежде чем впервые в жизни увидел танки. И ничего, что помазок из барсучьей шерсти порядком облысел, всё равно обидно. Память всё-таки.
Потом Дитрих-Диц не однажды пытался забыть, что в эту критическую, опасную минуту в первую очередь пожалел о лысоватом помазке, а не о тех, о ком следовало бы. Но — не получалось.
Русский, обнажая лезвием в пене полосу смуглой кожи, подмигнул Габе, как старому знакомцу:
— Проходите, господин штурмбаннфюрер, что вы там замялись, как жених на пороге ЗАГСА…
Несмотря на то что сказано это было на чистейшем дойче, даже не фолькс, Дитрих толком разобрал только «проходите…» и «жених». И поэтому, оставив «ЗАГС» на малопонятный русский юмор, шагнул в комнату с удивлённо и, как он надеялся, надменно поднятой бровью. Дёргаться назад, в сени, смысла было не больше, чем орать во всё горло. Во-вторых, горло ему наверняка тут же перережут его же, вернее, деда, опасной бритвой с кайзеровским клеймом Рейхсвера. А во-первых, привезший его денщик покатил «BMW» в пустой амбар и наверняка застрянет там, чтобы почистить свечу. Поймав в дороге пару порядочных выбоин, заглохший мотоцикл они толкали, и, вообще, день выдался ни к черту, хоть ещё, собственно, и не начался.
С этой мыслью Габе, не дожидаясь унизительного приглашения присесть на собственный стул, угнездился на его краю, раздражённо забросив ногу за ногу, и вопросительно уставился в пол.
Подтверждая его прозорливую мысль о том, что звать на помощь всё же не следовало, из-за спины Дитриха на пол упала тень ещё одного русского, но в форме и со знаками различия «фельдполицай».
Впрочем, теперь Габе сообразил, что и первый русский, завладевший памятью дедушки, фузилёра 108-го Бранденбургского полка, широко расставил ноги в каменно-серых мешковатых штанах и ботинках с кожаными гетрами. Так что, о том, что перед ним те самые разведчики, о которых так много и разно говорил Бреннер, можно было догадаться только по тому, что он о них так много говорил. А так, сколь придирчиво бы не косился на форму русских диверсантов командир зондеркоманды «фельдполицай», должен был признать, что ничем она не отличалась от формы его подчинённых. Правда, вот, серебристое шитье унтерских знаков различия давно уже заменила мышино-серая нить попроще, но в глаза это не бросается.
— Разрешите представиться, — чётко, но не слишком манерно козырнул вышедший из-за спины штурмбаннфюрера фельдфебель (если, конечно, верить суконному треугольнику на рукаве).
— Соблаговолите, — продемонстрировал присутствие духа Габе.
— Посыльный комендатуры фельдфебель Рамштайн.
— Предлагаете так вас и представить моим людям? — со злой иронией поинтересовался штурмбаннфюрер.
— А что, они знают посыльного комендатуры?
— Их там до чёрта, — покачал головой Дитрих. — Только делать им здесь совершенно нечего.
— Едва ли ваши люди в курсе таких деталей.
— Но на «Иван-Баба»…
— Но в Якорной бухте ни один офицер не знает всех ваших людей в лицо, — заметил Новик, усаживаясь напротив Габе.
— Допустим, — хмыкнул штурмбаннфюрер и кивнул на Войткевича, уже растиравшего раскрасневшееся лицо вафельным полотенцем. — А это кто?
— Сам придумай, — многозначительно и ловко подбрасывая в ладони раскрытое лезвие, предложил Войткевич.
— Да с какой, собственно, стати? — процедил Дитрих, вдруг окрысившись.
— Аргументировать? — ухмыльнулся русский, с рожей самой злодейской.
О том, что русские ещё меньше смущаются при выборе средств и методов воздействия, чем даже гестапо, Дитрих, по крайней мере, был наслышан. И поэтому «что» или «кого» русские выдвинут в качестве аргументов он понял как-то сразу и, резко развернувшись на стуле, тревожно уставился в дверной проём соседней комнаты. «Donnervetter!» Вот теперь ему стало по-настоящему страшно.
Там, в лунных сумерках окна, не закрытого ставнями, белым призраком или, скорее, могильным надгробием в мраморных складках белых одежд, стояла его Магдалена, и лицо её было того же мраморного колеру. И только огромные её глаза жили на этом лице, но, впрочем, даже не жили, а умирали в кричащем ужасе.
Бывшая Магдалена Ковальски, а теперь Магдалена Габе, мать его ещё нерождённого ребенка. Можно было только догадываться… И страшно было догадываться, что сделают с ней эти звери и варвары.
— А чего ты с ней, в самом деле, сделаешь? — чуть слышно и хмурясь, спросил Саша, когда словно на заклание и с лицом цвета своей Магдалены, зондерфюрер пошёл к двери, теперь уже не сутулясь, а откровенно горбясь.
— А шо я с ней сделаю? — искренне удивился Яков и, отмахнувшись от Новика, той же рукой заехал по сутулой спине. — Слышь, ты, несчастье! Что ты как с гробом на горбу? Ничего с твоей Матильдой не станется.
— Магдаленой, — рефлекторно поправил его Габе.
— А хрен редьки, — хохотнул Войткевич и даже потрудился перевести: — Meerrettich ist ebenso süß als red\'ka… Партизаны присмотрят.
Мало чего поняв, но почувствовав, какую страшную угрозу высказал в адрес его любимой этот варвар, Дитрих чуть не подкосился в коленях, но его вовремя подхватили под руки.
— Какой слабонервный…
«Осиное гнездо». Ещё крупнее
База торпедных катеров «Иван-Баба» в Якорной бухте
Работа была бесхитростной, но невыносимо тяжёлой. Одним словом, рабской. Бог знает, для какой нужды надо было снова врубаться в сплошную скалу каменистого побережья, когда, казалось бы, и так со всех сторон бухты за кучевыми ватными облаками охотились стволы зенитных батарей и рыскали «спарки» зенитных автоматов. Не бухта, а крепость какая-то. А тут вновь и вновь искрили о мшистый, но неподатливый диорит ломы и кирки. Выносился в руках и вывозился в одноколесных тачках каменный лом. Что им ещё надо? Антон даже пожаловался однажды: «У меня вот глаза заливает от пота, какой я, на хрен, корректировщик, если света белого не вижу».
Свет и впрямь был бел — бел пронзительно, известково, а главное — слепил корабельной латунью беспощадного солнца. Жарко приходилось.
«Сабаева бы сюда, — вспомнил Антон бывшего циркового атлета, оставшегося исподтишка сторожить Магдалену. — Ему это занятие на один чих с перекуром. Махал бы себе киркой и по сторонам посматривал…»
«Типун тебе», — прохрипел Малахов, на секунду и с чувствительным ревматическим треском разогнув бронзово-лоснящуюся от пота спину.
И только Везунок, он же Сергей Хачариди, нашёл и возможность, и пункт для наблюдения. То ли он тому «фельдполицаю», что советовал его «помочить», запомнился как болезный, то ли это пресловутое везение Везунка, — но поставили его «поводырём», то есть бегать по воду и с водой. И вот, бегая теперь с медным, непривычно квадратным бидоном, он не забывал и осмотреться. А посмотреть было чего…
В небольшой, в общем-то, бухте покачивались на ряби защищенной акватории «курные утюги», как, не сговариваясь, прозвали торпедные катера пленные. Утюги грозные, ощетинившиеся стволами, которые и пулемётными назвать как-то язык не поворачивался, и гружёные торпедами.
«Шнельботы! — как авторитетно заявил всё тот же матрос Касаткин. — С этими катерами-переростками только наш “москитный флот” тягаться может, ежели три на одного, да авиация, а так… — махнул он рукой. — Они ещё и лидеру влепить могут, зараза, и от эсминца отгавкаться».
И вот то, чем этот чёртов «шустрый бот» может «влепить», — торпеда, которую фрицы зовут «угрём», и показалось Везунку самой удобной штукой, чтобы нагадить немцу. Конечно, ещё лучше было бы затопить один-другой из катеров, но как ты на них проберёшься? Разве что только «парадом», с кирками и красным знаменем впереди, чтобы фрицы охренели от такой наглости и пропустили, выстроившись почётным караулом… Иначе, никак. Там такая суета с утра до вечера.
«Вот ещё поодаль… — присмотрелся Сергей, — два немаленьких судна всё время копошатся на выходе из бухты. Чёрт знает, что там делают, но что-то чертовски важное, поскольку то и дело к ним шастает то катерок, то буксирок с командованием. Может, это начальственная возня — то самое задание флотской разведки? — в который раз прозорливо засомневался Сергей. — Ведь не посылали бы всего парочку диверсантов, чтобы уничтожить целую флотилию?»
Хачариди уже знал, — верный Вовка успел, и где только силы взялись, догнать колонну пленных у самого Атлама и шепнуть, когда конвоир отошёл подальше, что разведчиков всего двое, но это дядя Яша и дядя Саша, и что они уже наверняка на хуторе.
И прирожденная разведческая интуиция Везунка была, как всегда, права. Немцы и впрямь затевали нечто важное и очень серьёзное.
Этой серьёзностью проникся даже командир 1‑й флотилии корветтен-капитан Кристиансен, хоть он всегда и считал деятельность морской разведки «Марине Абвер», по большей части, симуляцией собственной значимости.
Солнце, стоявшее, словно замерший маятник часов, на 12‑ти, било лучами практически отвесно. Так что пробивало голубое стекло моря далеко вглубь, хоть и не до дна, конечно. Там голубое стекло становилось уже бутылочно-зелёным.
«Что там искать у русских? Какие такие технологические секреты?.. — морщился корветтен-капитан, упершись руками в леера. Что ещё мы со своими парнями не видели на пятом году войны? [58] И всё бесценное было уже топлено-перетоплено, и от всего ценного приходилось убегать чуть ли не вплавь, — а тут всего-то из-за старой торпеды, пусть и обнаруженной в неподходящем месте, столько ажиотажа».
— Не стоит недооценивать, Георг, — словно подслушав его мысли, произнес Мартин Нойман, фюрер команды морской фронтовой разведки. — Эта рыбка, на которую вы наткнулись во время траления акватории, может оказаться удачным образцом русской торпеды. Очень вероятно, что это она — прямоходные торпеды русских никак не могли сюда попасть. А наши инженеры уж разберутся, что её сделало более удачной, чем наша F5 «Цаункёнинге».
Не желая вступать в дебаты, Кристиансен пожал плечами.
— Просто морская техника как-то более консервативна, — как ни в чём не бывало, продолжил капитан-лейтенант Нойман. — Тут может и броненосец времен Кайзера сойти за новострой, а вот наших геноссе из вермахта русские ещё в 41‑м успели удивить и «орга́нами Сталина» [59] и «Микки-Маусами» [60].
— Броненосцы, — раздражённо повторил Георг. — Видали мы…
Из всего сказанного морским разведчиком он, командир 1‑ой флотилии, пожалуй, уловил только это. Зацепило. Уж его-то флотилия — просто образец германского технического гения, и хоть и не новейший образец…
Но не договорил.
Заскрежетали лебедки подъемника, вынесенного далеко за аппарель. Прибежал Bootsmanmaat [61] в чёрной бескозырке, правда, без ленточек. Как-то не принято было у немецкого матроса идти в рукопашную, закусив ленточки, чтобы не потерять бескозырку. Немецкая педантичность. Matrose zur See, он для того и назначен, чтобы на море воевать.
— Герр корветтен-капитан, можно поднимать, торпеду подмыли на грунте и застропили.
— Что ж, пойдёмте, посмотрим, — повернулся, наконец корветтен-капитан Кристиансен к капитан-лейтенанту. Младшему, вообще-то, по званию, но тут и сейчас — как командир «Марине Абвер айнзатцкомандо», — хозяину операции и, соответственно, положения.
— Посмотрим на ваш шедевр большевистского военного изобретательства. И, кстати, — мельком глянул Георг Кристиансен в чёрные глаза Ноймана, останавливаться на которых, вообще, было как-то не особенно приятно (как будто одни сплошные зрачки, безумно расширенные). — Что-то я не вижу вашего приятеля гауптштурмфюрера Бреннера. Не хотите позвать его на смотрины?
Отчего-то захотелось напомнить этому глазастому, что он едва ли тут самый главный.
— У него дела на берегу, — неприязненно дёрнул губой Нойман. — Как и положено полевой жандармерии, — упёр он на «фельд» — «полевую», — дескать, «рождённый ползать…» Хоть после гибели Веймарской республики Горького в Германии больше и не переводили.
Карл-Йозеф и в самом деле находился сейчас «в ущелье» и даже, отчасти, «ползал», что его и спасло. Как того предусмотрительного «ужа», что не рискнул изменить стихии. Гауптштурмфюрер устроился за бруствером хода сообщения и в бинокль изучал русских военнопленных, активно вздымающих кирками рыжую пыль на пригорке.
— Вы говорите, вон та пара симулянтов и водонос, — опустив «Цейс», переспросил гауптштурмфюрер майора Гутта, — и есть русские шпионы?
— Йа-а! — чуть не подавился зевком прикомандированный начальник лагеря, успевший разомлеть на солнцепёке, пока дотошный Бреннер изучал подозрительных пленных-самозванцев.
Гауптштурмфюрер скептически повторил бровью круглую оправку монокля.
Нет, он едва ли умел безошибочно отличить советских пехотинцев от советских матросов (а ожидал он именно последних — разведотряд штаба ЧФ). Но, предположив однажды, что с разведчиками непременно заявится и его старый знакомый Якоб Войткевич, некогда завербованный им агент «Игрок», возвёл это предположение своё в убеждение, и отказаться от него так запросто уже не хотел. В глубине души он понимал, конечно, что лейтнант Войткевич — не единственный у русских опытный разведчик со знанием немецкого языка и здешнего оперативного театра. Более того, вполне возможно, что со своим если не тёмным, то весьма неясным прошлым он, в кровавых традициях НКВД, вполне мог уже и сгинуть. Но интуиция, что ли? Что-то нашёптывало Карлу-Йозефу, что, только узнай этот его заводной «Игрок» о намечаемой операции такой сложности и авантюрности, ни за что… как это он, Якоб, говорил: «Не пропустил бы такой гулянки».
Прочтя по-своему эти его размышления в иероглифах лобных морщин, майор Гутт поспешил добавить, подобострастно подавшись вперед обвислым брюшком:
— Сведения вполне достоверные, герр гауптштурмфюрер!
— От этого, что ли? — неприкрыто скривился Карл-Йозеф, обернувшись на краснофлотца Касаткина, отосланного от прочих пленных под вполне благовидным предлогом получения нового шанцевого инструмента, вместо уже сломанного.
Матрос Касаткин, только что блаженно щурившийся с выражением кота, заваленного дровами на солнцепёке, будто выдрался из них, то есть, схватился за ноги в обмотках солдатских ботинок и чуть пригнулся вперед с готовностью внимать и исполнять.
— До чего хитрая рожа, — проворчал гауптштурмфюрер. — Он, случаем, не выдумывает? У них, майор, знаете ли, весьма развито хитрое рабство: «Чего изволите?» Чего изволите — того и принесут, даже если его нет и никогда не было.
Но Касаткин, против обыкновения, не врал. По крайней мере, на этот раз. И удосужься Карл-Йозеф продолжить свои наблюдения, он в этом убедился бы лично. Но, махнув рукой: — Не ходите за ними по пятам, но не спускайте с них глаз. — Бреннер пошёл к штабному бункеру.
В любом случае, следовало звонить и сообщить в «Абвершелле» о своих подозрениях и подозреваемых, уже для того хотя бы, чтобы не возникло потом вопроса, к чьей груди прикручивать Железный крест.
Проведя гауптштурмфюрера вскинутой ладошкой, майор Гутт тут же бессловесно перевёл его приказ Касаткину — ткнул ему в грудь биноклем, дескать: «Бди! Иначе…» — та же ладошка чиркнула по второму майорскому подбородку. И уже к концу этой пантомимы сам Гутт благодушно пустил слюну в углу рта, едва не опрокидываясь на принесенном денщиком стуле.
Часто покивав с подобострастной улыбочкой и ненатурально посуровев, Касаткин принялся бдить. Не зная, что и за ним следят.
Тот самый гефрайтер Зоннерфельд закончил жевать консервированные сосиски, выбросил плоскую жестянку и, утершись рукавом, поморщился на жирное пятно на обшлаге кителя: «Шайсе…» И направился сполоснуть затёкшую жиром рожу к ребристой бочке, которую периодически наполнял Везунок питьевой водой из неблизкой цистерны.
Увидев своё выражение на фоне синей перспективы глубинного неба, Зоннерфельд о чём-то на пару секунд задумался. О бренности всего сущего, скорее всего, — и вдруг на нём, на небе, и оказался. Страшно и мучительно. Отчаянно и безысходно.
Отчаянно, но бесполезно отталкиваясь руками от красно-ржавого дна, извиваясь всем телом и стуча лбом в железный бок ребристой бочки, Зоннерфельд захлёбывался — и захлебнулся. Захватив локтем голенища его сапог и упершись ладонью другой руки в игривый раскормленный зад, плещущий на поверхности, Сергей Хачариди продержал своего давнего знакомца и теперешнего конвоира до тех пор, пока тот окончательно не угомонился.
— Ну, и кто кого намочил? — сплюнул командир партизанских разведчиков в воду, из которой теперь только рубчатые подошвы ботинок чуть выступали за обрез бочки.
Приткнутый к её ребристому боку, «MP-42» остался в его распоряжении.
Матрос Касаткин видел, как тот из приблудной троицы военнопленных, которого почему-то звали Везунком (что же он в лагерь попал, а не «пал смертью храбрых», везучий такой?), с лёгкостью, — несмотря на то, что фашист был вдвое, как не втрое его тяжелее, — запихнул его вверх тормашками в бочку. Где и «утопил как котёнка». Что было сильным, но неточным сравнением — бочка под «котёнком» ходуном ходила.
Касаткин, опустив «Цейс», обернулся на своего «ненавистного благодетеля». Тот откровенно дрых, оплыв на сковороде солнцепёка, и уже порядком намочил чёрную петлицу мундира. Касаткин брезгливо поджал губу и отвернулся. Молча.
«В конце концов, мог же я смотреть и в другую сторону, всё-таки было поручено следить за всей троицей. А между этим Везунком-водовозом и остальными землекопами градусов 60 азимутального разноса».
Доверни он бинокль ещё градусов на 60 по горизонту…
* * *
Когда штурмбаннфюрер Габе наконец появился, поднимаясь по ступеням хода сообщений, Войткевич и Новик переглянулись. Яков подсунул под бедро плоский вальтер, Александр положил на колени «шмайссер».
Оба они сидели в открытом кузове с низкими бортами штабного «жука», справедливо называемого самими немцами Kübelwagen [62]. И впрямь, лоханка, разве что с сильно скошенным краем капота. Яков сидел за рулём — такую должность определил ему штурмбаннфюрер. Пришлось согласиться под давлением «аргументации» Габе: в самом деле, посыльный непонятно куда и не слишком понятно откуда — как-то не по-армейски. А Саша замер истуканом на заднем сиденье.
Прошла пара нервных минут, пока от штабного бункера Дитрих добрёл до своей машины. И не взвыла сирена, не посыпались серыми тараканами из щелей ходов сообщения солдаты.
— Кажется, проникся, — вполголоса пробормотал Новик.
— Пробрало, как грушами на молоке, — обернулся к нему Войткевич, забросив локоть на низкую спинку. — Вишь, идёт, весь в думы погружённый: как бы не обосраться.
Со стороны можно было подумать, что два немецких унтера беспечно обсуждают в ожидании командира новое поступление армейского борделя.
— Ты б тоже не вприпрыжку бежал, если б твою жену на сносях в заложники взяли, — резонно заметил «фельдфебель» Новик.
Дитрих, действительно, вызывал недоуменные гримасы и по дороге в штаб базы, и по дороге обратно. И только в собственно бетонных катакомбах как-то рефлекторно подтянулся, чтобы его закономерное любопытство кому-нибудь не показалось подозрительным.
— Ну?.. — чуть слышно и не глядя в его сторону, поинтересовался его «личный водитель». — Что выяснили?
— Кажется, ваш аппарат ещё не подняли, — процедил штурмбаннфюрер, садясь на переднее сиденье, и добавил не без злорадства: — Впрочем, не знаю, что вы там затеяли.
Он исподлобья взглянул на Войткевича с унылой злобой.
— Глубинные мины, диверсантов-водолазов или авианалёт, но в любом случае поздно. Вашу торпеду как раз сейчас поднимают.
Он надменно поджал губу, но и тут же отвесил её, ошеломлённый.
— Что вы говорите! — радостным шёпотом отозвался на эту новость Яша. — А то я уже думал, нам тут жить придется и рыбу жарить!
Дитрих уставился на него как на сумасшедшего и решил, что либо не понял вполне приличного немецкого этого типа, либо тот не понял его самого.
— Я говорю…
— Я слышал, что вы говорили, не трудитесь, — оборвал его Войткевич и вновь повернулся к Новику. — А ты что скажешь?
— Дай подумать… — нахмурился тот.
— Думайте, Саша.
— Подумал.
— Прямо Сократ! — похвалил его Яков. — И что вы подумали?
— Вы можете выяснить, на какую машину они будут перегружать объект? — с видимой почтительностью наклонился «фельдфебель Рамштайн» к уху штурмбаннфюрера.
— Не надо выяснять, вот она, — не оборачиваясь, позвал Яша.
Навстречу им по гравийной дороге, на обочине которой приткнулся Kübelwagen командира зондеркоманды, с надсадным рёвом, кивая широким бампером и выбрасывая щебень из-под передних колес, выкатывал полугусеничный грузовой «мерседес-бенц». Катил коротконосый, но ширококрылый монстр сам-одинёшенек, если не считать водителя, чья рыжина горела в сумраке под отброшенными бронещитками, так что даже Войткевич насмешливо пожал плечами.
— Саша, нас не считают за людей.
Но, обернувшись, недовольно поморщился, косясь на штурмбаннфюрера:
— А с этим шлимазлом что делать?
Впрочем, не успел он договорить, как проблема отпала вместе с головой штурмбаннфюрера, безжизненно повисшей на груди Дитриха.
— Ну тебя с твоими фантазиями, — отнял Новик ребро ладони от затылка Габе.
— Это что?.. — презрительно скривился Яков. — Через его беременную кошку?
— Это потому, что нам обратно ехать, — проворчал Новик, пряча чёрные смолистые волосы под кургузую серую пилотку.
— И сколько тогда у нас времени? — двумя пальцами поднял Войткевич подбородок Дитриха и заглянул в пустые остекленевшие глаза штурмбаннфюрера.
— Очухается скоро, но думать будет долго: стоит ли овчинка выделки.
— А вы жестокий человек, Саша. Рад за вас.
…На бетоне мола «мерседес-бенц» зашелестел резиновыми траками, уже ведомый Войткевичем. Рядом на сиденье с отсутствующим лицом, которое ему удавалось изображать куда лучше Якова, с его-то подвижной физиономией, сидел Новик.
На ловца и «вьюн» бежит
— Как глубоко её затянуло в ил? — задал, в общем-то, дежурный вопрос капитан-лейтенант Нойман корветтен-капитану Кристиансену.
— Весь день отсасывали, — не более содержательно ответил тот.
И работа эта, по подъёму вообще, оказалась не столько изнурительной, сколько нервной. Всю дорогу черноглазый командир «Марине Абвер айнзатцкомандо» стоял над душой, подгонял и поругивал, будто боялся, что куда-то русская железяка может деться со дна моря недалеко от входа в защищенную бухту. Но теперь наконец работа эта подходила к концу, можно сказать, триумфальному. И поэтому на баке собрались все причастные, начиная от водолазов в нестроевых нательных рубахах и заканчивая вовсе непричастным коком в фартуке на голое дряблое тело.
Командный состав, включая капитана вспомогательного судна «Кёльн» и присланного из рейха Torpedotechnische Offiziere, особо переживавшего за подъём, как за личный успех, толпились на баковой обводке мостика. Целое сборище капитанов, разных калибров и рангов.
Несколько раз уже траловые лебедки пытались выбрать лоснящиеся на солнце стальные стропы, но что-то всё не клеилось, до тех пор, пока обербоцман, непосредственно руководивший матросами техслужбы, не подбежал в тень мостика, держа ладонь над правой бровью:
— Герр корветтен-капитан! Надо бы подобрать ещё буквально метров пять от якоря, а то там расселина, тащить наискосок — не выдержат тросы, надо вертикально…
— А что ты мне жалуешься?.. — вполголоса проворчал старший по званию, но кивнув холодно, приглашающим жестом показал капитану «Кёльна»: мол, «соблаговолите уж». А затем почему-то зябко поёжился, хоть было совсем не холодно, и направился вдоль борта куда-то к корме.
Капитан же «Кёльна» перешёл на мостик, отдал команду рулевому и двинул рычаг машинного телеграфа; и уже через секунду где-то в железной утробе корабля на уровне трюма забубнил дизель.
Ещё через пару секунд за кормой вздулся зелёный волдырь воды и пены.
Заскрипели лебёдки, выбирая стропы. Минута, другая…
А затем куда больший, просто гигантский, водяной бугор с глухим рёвом и шипением вырос из моря, задрав почти вертикально тупой бак «Кёльна».
…Замечательно загерметизированный «Вьюн» два года лежал в расселине между подводными скалами, в мягкой подушке из ила и водорослей, подушке, в которую он воткнулся, когда разряженные аккумуляторы уже не могли питать электродвигатели. Но их энергии хватало на то, чтобы поддерживать всё это время взрыватель на боевом взводе.
Много раз за эти два года над ним, в трёх десятках метров, проходили катера, баржи, буксиры, транспортные корабли и даже солидная плавбаза «Романия», на которую взрыватель непременно бы среагировал, если бы не глубина.
Раздавались и взрывы, иногда совсем не далёкие от его тихого ложа, но на них «Вьюн», в соответствии с тщаниями Лёвы Хмурова, не реагировал. Равно как не среагировал на дощатую мишень при испытаниях 1941 года, поскольку предусмотрел умелец срабатывание взрывателя только при сочетании «правильного» шума, правильного приближения и достаточной близости большой металлической массы.
И вот пришёл его час. «Вьюн» не трепыхался, спокойно реагировал и на прикосновения жадного хобота землесосного снаряда, и на стальные стропы, охватившие его стальные бока. А вот когда стропы подняли его на два десятка метров к поверхности, и приблизился с правильным рокотом дизелей увесистый корабельный форштевень, «Вьюн» совершил то, к чему и был предназначен. Почти неслышно щёлкнули все двенадцать реле, замыкая электрические цепи, ринулся по медным проводам и дорожкам поток электронов, в нужном месте превращаясь в маленькую молнию, резко хлестнул взрыв детонатора — и сразу же ахнул взрыв большой…
— Что-то я удивлён, как монашка с пузом, — озадаченно пробормотал Войткевич, прокачав неподатливую педаль тормоза.
— Не иначе как наше «изделие», — с аристократической флегмой заметил Новик. — Давай задний ход. Нам тут делать нечего.
— Господи, а сразу нельзя было?.. — прорычал Яков, вталкивая рычаг передач в гнездо задней.
На бетонный мол с односторонним причалом мгновенно упала тень, и уже в неё из огненно-дымного облака, вздыбившегося над самой кипящей водой, посыпался какой-то металлический лом, горящие лохмотья, окровавленный передник кока. И фуражка кого-то из капитанов покатилась вслед за кургузым носом тягача, быстро откатывающегося назад.
Подскочив на водяной горе, нос корабля с нею же и опал в безумное и бестолковое кручение волн, и провалился в них ещё глубже, так, что вскоре на месте бака оказалась задранная корма.
Еле успев увернуться от заднего борта блиндированного «мерса», гауптштурмфюрер обернулся, не то погрозить протезом в чёрной перчатке ошалевшему водителю, не то ещё зачем — и замер с выпавшим из глаза на грудь мундира моноклем: «Donnervetter!»
Смешанные чувства овладели Бреннером. И торжество: «Говорил же я!» — сбылось его вещее предсказания оперативного значения. И злобное разочарование — всё и вся вокруг носилось, паникуя и недоумевая; а значит — от кого сейчас добьёшься трезвой и быстрой реакции?
«Разве что от старого знакомца Габе. Штурмбаннфюрер отличался пусть и несколько показным, но вполне работоспособным хладнокровием, не зря же я его вызвал сюда, — Бреннер принялся лихорадочно озираться. — Кстати, где это он запропастился?»
В этом Содоме с Гоморрой штурмбаннфюрера не было видно.
Считаные метры и секунды
Штурмбаннфюрер Дитрих-Диц Габе в это время, с возможно более независимым видом, отдавал распоряжения:
— Ящик гранат… пулемёт… шевелитесь, Вальтер.
— В резерве только стволы, герр штурмбаннфюрер…
— Чёрт возьми, снимите с мотоцикла Пауля.
— Яволь, герр штурмбаннфюрер, — суетился оружейник, бегая туда и сюда со свернутой набок, в сторону причала, головой.
Там происходило что-то невероятное. Не то, чтобы вообще. Война всё-таки. Но чтобы подобное происходило на столь охраняемом объекте?!
Над местом, где только что колыхался на покатой волне «Кёльн», вилась и клубилась грязно-рыжая туча с белесой подбивкой пара. По всему причалу носились «шутце» с карабинами наперевес и за спиной, завывали сирены по всей базе и отдельно на крыле санитарного фургона, отрывистыми жестами регулировали эту панику офицеры. И тем более странно, что на фоне очевидной, но пока невидной, высадки русского десанта снаряжался столь воинственно вполне мирный тягач. Хоть и блиндированный на предмет перевозки боеприпасов, но отнюдь не входивший в штат боевых технических средств их зондеркоманды. Куда логичнее было бы, — раз уж началось такое светопреставление, — со стороны Габе озаботиться немедленным выдвижением их бронетранспортера. Но их испытанный в боях «Das Krokodil» [63] недоуменно таращился круглыми фарами с приплюснутого рыла в тёмном углу гаража. А полугусеничный «мерседес», минуту назад беспардонно ввалившийся зарешеченной кургузой мордой чуть ли не в самые ворота блокгауза, затмив божий свет, как посланник ада, на глазах обрастая всеми признаками «Троянского коня». Вот только насчет римлян в его утробе… Что, только эти двое чужаков, приехавших сегодня с командиром? А кто, собственно, будет кидать гранаты и стрелять?
— Мне послать за Паулем?.. — пыхтя, уточнил оружейник, притащив в охапке «MG-39», звенящий ворох пулемётных лент и цинки с патронами.
— Не надо, — раздражённо отмахнулся Дитрих, мучительно потирая лоб под козырьком фуражки, словно от нестерпимой головной боли.
— Но, герр штурмбаннфюрер, а кто?.. — едва не выронил от недоумения громоздкий пулемет обергефрайтер.
— Давай, давай! Замер, будто геморрой в первый раз нащупал, — привёл в чувство оторопевшего Вальтера один из чужаков, перебираясь с подножки «мерседес-бенца» за высокий железный борт.
— И пару мешков с песком привязать к дверям, — не то напомнил, не то распорядился другой, высунувшись в закругленное по краям оконце.
Командир Габе подтвердил его реплику коротким кивком.
«Кто здесь кем командует?..» — озадачился обергефрайтер, послав чуть ли не пинком помощника к противоосколочному брустверу, сложенному как раз из таких мешков.
«Впрочем, а моего ли это ума дело?» — подсказала обергефрайтеру его благоразумная интуиция.
И она же подсказала, что не видать обергефрайтеру вожделенной нашивки штабсгефрайтера на рукав.
Так и сказала: «Die Scheide ist!» [64]. — Когда грузовик сдал назад в одних воротах, а в других, противоположных, упала зловещая тень от поджарой фигуры в мундире гауптштурмфюрера с рефлекторно поджатой к груди, словно всё ещё на перевязи, рукой, не по жаре затянутой чёрной перчаткой.
— Где ваш командир? — рявкнул Бреннер.
Минуту назад Габе с начальственным видом взобрался в кузов тягача по скобам на заднем борту, но уже через мгновение, с видом «овна на заклания» скорчился под другим бортом на досках, с кляпом во рту и связанными за спиной руками. Над ним, широко расставив ноги и сошки пулемёта на крыше кабины, встал Войткевич.
— Ты тут подумай пока, почём за рыбу.
Грузовик же, влившись в бестолковое на первый взгляд движение машин по проулкам цехов и блокгаузов, выискивал дорогу к одним из ворот базы.
— Почему не на этом?.. — особо грозно нахмурился Карл-Йозеф, так что показалось, что вот-вот треснет монокль в золотой оправке.
Вальтер, вслед за жестом чёрной перчатки, уставился на «Krokodil» так, будто увидел его впервые, хоть и сам задавался этим нехитрым вопросом во все последние минуты с тех пор, как гулко ухнул взрыв в море у горла бухты и взревели сирены.
— Кто ещё с ним? — с тем же злым недоумением обернулся Бреннер на куцый строй вытянувшегося во фрунт дежурного караула.
Все, кто не нёс патрульной или конвойной службы, — три экипажа, если рассаживать по мотоциклетам, — были тут. Никто не увязался за «мерседес-бенцем».
— Заводите эту вашу лохань! — Что-то начало проясняться в голове Карла-Йозефа, но, как всегда, скорее в виде предчувствия или догадки, чем вывода. — Это все ваши люди? — повернулся он к оружейнику зондеркоманды, но откликнулся дежурный унтер.
— Остальные в конвое, герр гауптштурмфюрер!
«Ах да, чёрт, — поморщился Бреннер. — Там же ещё эта троица, якобы диверсантов, сданных их же товарищем».
— Распорядитесь, чтобы всех военнопленных немедленно загнали в барак!
Распоряжение было несколько запоздалым.
Только почувствовав волнение пленных, произведённое взрывом на море подле акватории базы, старший конвоя Oberschutze [65] Швааб вскинул автомат, и над стрижеными головами треснула короткая очередь:
— Halt!
Толпа невольно отпрянула, пригнулась, а отсюда и присмирела. Не слишком-то Спартаком себя почувствуешь, пятясь раком. Тем не менее ничего доброжелательного в глазах пленных не читалось, и в напряжённых позах мерещилась изготовка к охотничьему прыжку. Строить их сейчас и вести к бараку — будет довольно нервным мероприятием.
— Лежать! Zu liegen! Всем лечь! — широко и властно повёл ладонью Швааб над обожжёнными солнцем головами и опустил ладонь к земле — для примера не только военнопленным, но и своим подчинённым.
Команда была полицейски толковой, и обершутце первым показал, как её исполнить.
Слегка присев в коленях, Швааб вдруг растянулся на каменистом отвале с немым вопросом в глазах, которые, в общем-то, уже мало чего различали в красном сумраке, и выбросив вперед руки. «Шмайссер», зашуршавший по гравию, мгновенно, в прыжке, подхватил бывший краснофлотец Малахов и, перевернувшись с живота на спину, не медля, полоснул очередью из него в конвойного справа. Тот ещё не успел и челюсть подобрать.
Конвойный слева успел и даже поднял ствол своего маузера, — но при этом его уже растрясали пули из автомата Везунка.
Толпа пленных взревела и, повинуясь логике массового побега, ринулась в сторону внешнего периметра, рассыпаясь на компанейские группы, к ним примкнувших и тех, кто понадеялся на личного ангела-хранителя.
— А мы куда?! — рванул было за остальными Арсений Малахов, но, заметив неспешность, с которой Сергей уселся перематывать обмотки, встал, недоуменно ворочая головой туда и сюда: — Тудой? Сюдой?
— А что изменилось? — пожал плечами Везунок.
— Так ведь?.. — не понял и Каверзев. Перемены, и впрямь, казались вполне очевидными.
— Тут и так, кажись, кто-то орудует?
— Креститься надо, — посоветовал Сергей, — …если кажется. А если, и в самом деле, наши подоспели, то помочь надо. И так не встретили.
— Ага, — буркнул Арсений. — Смертничками подсобить смерть встретить.
— Тем более, — спокойно, но жёстко подтвердил командир партизанских разведчиков.
— А тудой?.. — ткнул Малахов большим пальцем через плечо в сторону, куда устремилась прочая масса пленных.
— Как на тот свет, всегда успеешь, — согласился Антон Каверзев, уже вооруженный немецким маузером, приклад которого был щедро заляпан кровью.
— Ты что, не видал, чего там наворочено?.. — поднялся Хачариди и, словно припоминая нечто невеселое [66], покачал головой. — Линия Маннергейма, в масштабе.
Будто в подтверждение этих его слов, трескучим степным пожаром со стороны периметра покатилась отчаянная стрельба, с аккомпанементом пулемётного боя и барабанным уханьем минных полей.
Скрипач уже не нужен
Лейтенанты Войткевич и Новик уже знали от штурмбаннфюрера Габе, что немцы даже не подозревают о существовании истинного изобретателя (вернее сказать, «рационализатора» «Вьюна»). Они полагают воентехника тов. П.Г. Бреннера единственным и незаменимым, а сама торпеда найдена ими совершенно случайно во время обследования дна тралами на предмет наличия мин. Секрет Полишинеля, который не спрячешь на не такой уж и большой территории «Иван-Бабы». Так что бы там не подорвало «Вьюна», с участием разведчиков или без, — но результат был достигнут. Делать или «ловить», как выразился Войткевич, и почему-то даже с досадой, тут более было нечего.
Конечно, полезно было бы, пользуясь столь редким случаем, разобраться и со шнельботами. Но поди подберись к ним теперь, когда вся их база, словно развороченный муравейник: все рыщут в поисках диверсантов, которые, по иронии судьбы, как раз таки и не при делах. Так что, стоило подумать о том, чтобы убраться отсюда под шумок, тем более, что необходимый для этого «аусвайс» у разведчиков имелся. Вот он, в кузове лежит, скрученный дорожным узлом.
«Мерседес-бенц» подкатил к воротам, убранным, помимо традиционных желто-чёрной полосатой будки со шлагбаумом и собственно железных ворот, ещё и пулеметным гнездом, обложенным мешками, и с «MG», как-то нелогично обращённым дулом вовнутрь.
Выходит, что и не так-то нелогично. Грузовик фыркнул, окатив пылью и нависнув покатым носом над часовым и лейтенантом с бляхами дивизионной «полевой жандармерии» с легионерскими орлами.
— Куда это вы, Дитрих? — удивился, узнав штурмбаннфюрера лейтенант. — Прости, не удивился бы, если б ты в такую минуту наоборот… — он ладонью показал, дескать: ладно бы въезжал.
— Как раз по этому поводу, — не сразу нашелся Габе, стоя на широкой подножке кабины и изображая нетерпение тем большее, что в шею ему неприметно смотрел «люгер» в руке Войткевича.
Тот будто бы свесился из кузова с праздным солдатским любопытством, положив локти на железный борт.
— Надо кое-что срочно вывезти с базы в безопасное место, — загадочно добавил Габе.
— Я могу взглянуть на это «кое-что»? — поскрёб под фуражкой в затылке лейтенант. — Вроде как полагается.
— Не думаю, Зигфрид, это документы этого однорукого чёрта Бреннера, я и сам понятия не имею, что там.
— Погоди немного, — лейтенанта отвлёк трезвон телефонного аппарата в полосатой будке; тем не менее, бросившись в её сторону, он по дороге махнул часовым: «отпирайте!». Дело это было не скорое — замок, средневековый замковый засов, поспешности не любил. А в том, что командира родственной айнзатцкоманды надо будет выпускать, Зигфрид не сомневался до тех пор, пока…
— Was? — вытянулось лицо лейтенанта, когда он приложил резиновую мембрану к уху.
— Дитрих, я не совсем понял, — развёл он руками, возвращаясь из будки к машине. — Но этот самый чёрт…
Он не договорил, с изумлением глядя, как Дитрих вдруг схватился за горло и как-то преувеличенно осторожно, цепляясь за мешок с песком, привязанный к дверце, сошёл с подножки кабины. Выстрела сквозь вой сирен и рокот двигателя на холостом ходу Зигфрид как-то не расслышал. И поэтому недоумевал до тех пор, пока, сделав пару по-младенчески неуверенных шагов, штурмбанфюрер не растянулся у его ног.
Одновременно поднимая взгляд, лейтенант Зигфрид Халлер начал на низкой ноте орать «Allarm!» и перешёл на визгливый альт, пятясь и хватая пулю за пулей.
Так и не увидев Якова с рукой, в которой плевался огнём громоздкий «люгер», Зигфрид, наконец, запрокинулся на спину. Одновременно, фыркнув из-под заднего борта клубами чёрной копоти, «мерседес-бенц» со слепым бычьим упрямством бросился в сторону ворот.
Однако до них было добрых два десятка шагов, и за эти секунды успел ожить «MG-42» в пулемётном гнезде. Правда — ненадолго, пока в гнездо, кувыркаясь длинной ручкой, не залетела граната, и с хлопком белого пламени пулемётчик вынырнул на джутовый бруствер. Но, как чёрт из табакерки, в ту же секунду прямо под бампер грузовика выскочил «передок Круппа», лёгкий тягач, с водительского места которого косо свалился толстяк в мундире фельдграу. Случайным осколком угостило и его, но… лучше бы он успел повернуть.
Маленький трехосный тягач с коротким скошенным капотом, открытым шестиместным кузовом, этакий армейский трудяга, таскавший все, что ни попадя, от 20-мм «эрликонов» до 45-мм противотанковых пушек, в данном случае лязгал и тарахтел походной кухней, с которой, надо понимать, объезжал отдалённые посты. Завтрак и ужин были в ранце «шутце» и на его совести, когда хочешь или можешь, тогда битте. Но раз в день ему полагалась горячая пища, — и вот надо же, именно сейчас этот «раз в день» и случился.
Сам-то по себе, в сравнении с массивным полугусеничным «мерседес-бенцем», к тому же блиндированным, «Krupp L2H43» оказался несерьёзно хлипким, и смял его борт грузовик как консервную жесть. Но этой препоны оказалось достаточно, чтобы безнадёжно застопориться.
«Таким тараном, что не разгоняется, а тормозит, стальных ворот не вышибить», — понял Новик, с неистовым скрежетом протащив-протолкав перед собой смятый «передок» ещё с десяток метров. Но дальше, сорвавшись со сцепки под заднюю пару гусениц в резиновой обувке, с грохотом опрокинулся громоздкий агрегат походной кухни, брызнув искрами углей, которые тут же зашипели, залитые супом.
За эти мгновения, — лихорадочные на пересчёт нервов и беспомощные по результату, в порушенном гнезде, с обвисшим на мешках пулемётчиком, снова ожил пулемёт, а из-за полосатой будки в сторону «мерседес-бенца» полетели гранаты. Одна благополучно отлетела от увешанного стальными листами борта; другую Войткевич подхватил с досок кузова и, не глядя, швырнул обратно.
Задерживаться больше нельзя было ни секунды. Заскрежетав синхронизаторами и набирая обороты, тяжёлый грузовик стал сдавать назад. На прощание, вскинувшись в полный рост с дырявой трубой «MG» на животе, Яков, морщась, отсёк особо расхрабрившихся преследователей и пресёк их чрезмерный энтузиазм. Один словно поскользнулся на бетонных плитах, другой кувыркнулся через первого; по бетону заскакал брошенный «шмайссер». Дальше Войткевич и сам не устоял на ногах и, ухватившись за борт слева за кабиной, присел.
— Ты зачем Димку порешил? — крикнул Новик, высунувшись с той же стороны в оконце водителя.
— А скрипач не нужен, как мы поём — его не слышно! — отозвался Яков.
— Да и то правда, — проворчал под нос себе Саша, выкручивая баранку в один из многочисленных лабиринтов между промышленными строениями.
Как пропуск штурмбаннфюрер Габе исчерпался, а обузой был не только лишней, но и опасной — мало ли чего выкинет из отчаяния, полагая, что теперь, с провалом миссии, партизаны уж точно казнят его прекрасную заложницу.
Озираясь поверх блиндированного кузова:
— Давай туда! Сдавай! Мне сверху видно все, ты… — Войткевич успевал сообразить: «однорукий чёрт из Feldpolizei?.. Конечно, это он, старина Карл-Йозеф. Вот уж воистину Кащей Бессмертный. Почему я не удивлён, что он здесь?..»
Вперед и вверх, а там…
— Смотри, — Сергей толкнул локтем Каверзева. — Видишь, зенитное орудие на господствующей высоте?
— Дзот на скале?
— Именно.
Партизаны-разведчики, по дну ими же выдолбленной канавы — будущей траншеи, — подкрались к самому краю внешнего периметра на оконечности бухты. В отличие от их несчастных товарищей, пробирались ползком на животе, без шума и «Ура!», в котором было больше отчаянного: «Помирать так с музыкой!», чем надежды на жизнь.
— Я видел. Орудие стоит на краю обрыва, там оборонительный рубеж в два вершка шириной, ряд проволоки, да и всё, пожалуй, — продолжал Сергей развивать вслух свои соображения. — Ни мин, ни кольев.
— А на хрен они там нужны, — скептически буркнул Арсений. — И так голову свернёшь.
Он посмотрел на командира изучающе. Но, не найдя ничего утешительного, не то предложил, не то уточнил:
— А потом прыгнем?
— Можно прыгнуть, а можно и веселей, подорваться на гранате, — не стал разочаровывать его командир, и даже подмигнул. — Но перед этим можно будет из этой пушечки всю базу расстрелять.
— Подавить, как клопов на полатях! — о том же орудии кричал Войткевич, свесившись из кузова к дверце кабины, где Новик, высунув в окно одну руку со «шмайссером», другой крутил руль.
— Придется бросить, жалко! — ударил Саша по его чёрному текстолиту.
Хотя жалеть было уже как-то поздновато. Гусеница с одной колёсной пары «мерседеса» уже разлетелась в чёрные лохмотья, порванная взрывом гранаты, и литые шины на поворотах дымили копотью; одно крыло сорвано, из-за решётки радиатора подозрительно травил пар, и даже песок из продырявленных мешков на дверцах почти вытек.
— Ты доехай сначала!
— Голову прибери!
Саша вскинул руку с автоматом и в пару секунд, поворачивая и уходя в сторону, разогнал группу солдат, гуськом кравшихся вдоль выщербленной стены цеха, — только кирпичная крошка брызнула и зазвенела на серых касках.
Машину пришлось бы бросать, так или иначе. Это было видно невооруженным глазом, из любой точки базы, поскольку высота, действительно, была господствующей, замыкая материковую часть бухты с одного топографического края. Зенитное орудие, бог весть как взобравшееся на крутой подъём, стояло на каменном пятачке, к которому не только подъезда, но и подхода не видно было никакого другого, кроме выбитой в камне лесенки, шедшей, увы, с тылов бетонного сооружения.
— То ли дот, то ли штаб какой, — предположил Сергей Хачариди об этом же угрюмом бетонном блоке, откинувшись назад, за каменный валун древней осыпи, уже поблизости прибрежной скалы.
— Штаб береговой обороны, — присоединившись к нему, уточнил Антон Каверзев. — Офицер в зелёном сукне, а знаки различия флотского капитан-лейтенанта.
— Тю… — протянул с южногубернской многозначностью Малахов. — дотов мы не видали, — и пошарил на стриженом затылке, должно быть, в поисках ленточек бескозырки, которые следовало бы сейчас закусить, чтоб не слетела флотская гордость.
Но «гордость» сейчас была глубоко спрятана на дне вещмешка, в лесу, на попечительстве Вовки и других партизанских «сынов отряда».
— Что голый, честное слово, — вздохнул Малахов. — Где там твой офицер?
…Капитан-лейтенант береговой охраны, если и не подскакивал на месте от нетерпения и любопытства, то только из уважения к новеньким погонам. Не витые, конечно, как скажем, у корветтен-капитана, но всё-таки и не как у фендрика [67], с серебряным шитьём окантовки.
«Что же там происходит? — тянул цыплячью шею вчерашний фендрик. — От “фрегата” [68] мало чего добьёшься, отмахивается, как будто перед ним всё ещё курсант, а не боевой офицер; по привычке, конечно. А сам даром что надулся как индюк — видно же, понятия не имеет, ждёт, когда позвонят».
Весьма болезненный щелчок по затылку — точно в карты опять проиграл, на задней парте кадетской школы, — вышиб из головы новоиспечённого капитан-лейтенанта шаловливые мысли. С недоумением оглянувшись, он увидел на бруствере траншеи базарно-хитрую физиономию. Грязную, с мыском стриженых волос на лбу, как у пополнения последнего времени, когда общие признаки новобранцев никак не сочетались с опытом и наружностью матёрых мужчин.
— Ты кто? — чуть было не спросил юный офицер, но уже и сам догадался. Так что внутренности оборвались куда-то во франтовато узкие, чищенные до антрацитового блеска, сапоги.
Поэтому, когда физиономия спросила его на уже знакомом, но ещё незнакомом русском языке: — Ты что ли, тут оккупантом будешь? — Вчерашний фендрик набрал воздух в лёгкие, чтобы крикнуть «Allarm», но вдруг с ужасом понял: не стоит.
Русских в окопе было полно. Об этом красноречиво говорил часовой, только что стоявший за плечом с ненавязчивостью истукана. Теперь он беззвучно орал во всю пасть из-под съехавшей на нос каски, при этом как-то противоестественно вывернув челюсть за правый погон. Другой его солдат, что-то чинивший на корточках из своей амуниции, теперь вытянулся на дне окопа во весь рост, продолжая, вроде как, нашаривать маузер на дощатой стене. И русские всё лезли и лезли… Пока в шее капитан-лейтенанта что-то не хрустнуло, точно выключатель, потушивший в глазах свет.
Почти на уровне моря
Граната, прозвенев по рваному, едва ли не дореволюционному асфальту, хлопнула прямо под коляской мотоцикла, оторвав её от чёрного муравьиного тельца «BMW» и ещё выше подбросив пулемётчика с растопыренными руками, — будто всё ещё надеялся он ухватиться за куцый приклад «MG». С лихостью будёновской тачанки кузов «мерседес-бенца» пронёс в буром кирпичном ущелье Войткевича, который привалился задом к покатой крыше кабины и поливал из пулемёта преследователей.
Вот они в очередной раз сгинули в одном из закоулков производственной зоны. Дураков нет, — скоро снова появятся, пытаясь перехватить мятежный «мерседес» в следующем проулке, а пока…
Яков наспех вытер мокрое лицо рукавом с унтерской нашивкой:
— Ну вот, даже убьют впопыхах, без всяких речей и рыданий.
Вскарабкавшись по скошенному пандусу на длинную эстакаду вдоль какого-то пакгауза, загоняя его обитателей в дощатые ворота и сгоняя во двор, точно переполошенных кур, грузовик не столько пронёсся, сколько проковылял, будто инвалид, опаздывающий в керосиновую лавку. Веером разлетелись какие-то ящики с легионерскими орлами, гулко зазвенел целый строй чёрных баллонов со сжатым воздухом. И наконец, грохнувшись с эстакады так, что хрустнули полуоси ведущих колес, не привычный к этаким встряскам и гонкам трехтонный тягач окончательно выдохся. Даже бензобак, сорванный с лонжерона, опасно искря, заскрежетал вперёд машины по булыжникам грузового двора.
Войткевич — то ли выбросило его из кузова, то ли сам выскочил, — оказался рядом с кабиной и рванул на себя дверцу с изрешеченным мешком.
— Ты как?!
Новик не сразу оторвал лоб с налипшими чёрными прядками от кулаков, стиснувших руль.
— Бывало и лучше, — оттолкнулся он ладонями от руля. — Всё, совсем чуток не доехали.
— Не пугайте меня, Саша, — облегчённо перевел дух Яков. — Было так весело, а вы «всё»? Всё только начинается. — И медленно обернулся.
Вынырнув из-за стены пакгауза и грузно осев на гусеницы задних пар, посреди площадки замер знакомый бронетранспортер в земноводном ржаво-зелёном камуфляже. Скрежетнул отброшенный щиток и раструб дульного тормоза крупнокалиберного пулемёта поспешно развернулся в сторону друзей, словно на фотографии «В минуту затишья» замерших: один — в пустом оконце кабины, другой — поставив ногу на высокую подножку и с пулемётом наперевес. Хоть перевеса никакого это и не давало. Лента из-под затворной крышки вилась на землю безжизненной сколопендрой, жёлтых «лапок» патронов в ней не было. Да и не успел бы Яков даже вскинуть его для стрельбы.
На рыжий мощеный пятачок один за другим вкатили ещё три уцелевших «BMW», не сводивших с лейтенантов чёрные зрачки пулемётов и автоматов.
— Саша, у вас там гранаты не найдётся? — через плечо поинтересовался Яков. — А то я что-то не в настроении признаваться.
— В чём? — усталым, севшим голосом спросил Новик, будто сейчас это имело какое-то значение.
— Ну что не я «изделие»… — Войткевич коротко присвистнул. — Высадил.
— Что-нибудь соврёшь, долго ли тебе, — откинулся на спинку сиденья Саша. — А гранаты нет, извини. Пристрелить могу, если устроит.
Не поднимая пистолет, он медленно оттянул между колен затвор парабеллума и также, без лязга, повёл его шишечки назад.
— Только не через дверцу, а то ранишь, — также медленно пробормотал Яков. — А мне никак не хочется корчить рожи, когда со мной такие люди станут о деле говорить.
— Это ж какие?.. — повернул голову Новик.
Половина дверцы на бронетранспортере косо откинулась и из утробного его сумрака появилась рука в чёрной перчатке, замершей неживым балетным жестом.
Рука поманила Войткевича…
Та же база, на двести семьдесят метров выше
— Ты ж у нас корректировщик, Антон? Вызывай фронтовую авиацию, — подмигнул Арсений старшему сержанту Каверзеву, сам понимая, что даже в качестве шутки совет его не ахти.
Но ведь, собираясь к орудию на скале, Везунок тоже сказал, вроде как на полном серьёзе, артиллеристскому корректировщику:
— Ты разберись с этой бандурой, Антон, чем чёрт не шутит.
Однако даже если вообразить такое чудо, что по мановению старшего сержанта с наших аэродромов с рёвом поднимутся краснозвездные бомбовозы, то пока это они сюда доковыляют по облакам и облачками зенитных разрывов, от их троицы тут уже останется только замес для колбасы ливерной. Тем не менее…
— Устаревшие у меня позывные, но попробуем, — с неправдоподобной деловитостью подсел к рации Антон.
Малахов с недоверчивой гримасой пожал плечами и снова обернулся к узкому окну, скорее даже широкой амбразуре в бетонной стене, наполовину задвинутой броневым листом.
— Как ты думаешь, почему он нам сказал пока оставаться?
— Потому, что пока… — проворчал Каверзев, сосредоточенно накручивая рукоятки «Telefunken». — Пока он там чего-нибудь не подстрелит, пока немцы не спохватятся, пока мы их придержим, пока он там чего-нибудь не подстрелит, — закольцевал рассеянный ход мысли Антон, напряжённо следя за стрелочками индикаторов.
Малахов попытался уследить за этим ходом, как за иглой, бороздящей чересполосицу грампластинки, но бросил и только заметил, всё о своём:
— Что, ему там и второй номер в расчёт не нужен?
— Там автомат, «Flak», кажется… — по-прежнему озабоченно пробормотал старший сержант. — Он сам очередями лупит, только магазин присобачь. Если понадоблюсь, брось в меня чем-нибудь нетяжёлым, — добавил он, надевая кожаные подушечки наушников.
— Ага… — протянул было Малахов и вдруг закончил: — Ого! — подскочив с низкого откидного сиденья. — Куда это он пальнул?
Словно дизель завёлся с толчка — зачастил где-то над головой Малахова, над бетонным перекрытием зенитный автомат.
Зачастил — но тут же и вырубился, только шелест маховика ещё несколько протянулся в жарком воздухе; и с подобным этому, тоже каким-то железным шелестом, одна за другой пара голубоватых трасс сорвалась со скалы вниз, в тёмное ущелье между пакгаузами. Как-то слишком уж близко, словно прямой наводкой, в упор…
Внизу…
Этому мгновенному свисту не поверили и в кузове «Крокодила», а ведь был ещё миг, чтобы, по крайней мере, выпрыгнуть за борт. Но «Shwere» с гулким скрежетом вдруг подскочил на месте, словно от удара гигантской кувалдой — и снова замер, только теперь изо всех его смотровых щелей и стрелковых амбразур закурился густой серый дым.
С частотой машинописной строки серия разрывов 20‑мм снарядов вздыбила булыжники мощёного дворика и разметала в железный хлам один из мотоциклов; кровь колясочника-пулемётчика брызнула как из ведра.
Вздрогнул и Войткевич, когда прямо над его ухом оглушительно хлопнул выстрел, — а это Новик, невозмутимо, как в гарнизонном тире, целил в бензобак, сорвавшийся с кронштейнов их «мерседес-бенца» и очутившийся теперь почти под самым бронетранспортером. Со второго выстрела бак лопнул с гранатным грохотом и над бортом «Shwere» всплеснули языки пламени. Рука в глянцево-чёрной перчатке, словно застыв, продолжала торчать из полуоткрытой дверцы-люка, вроде как всё ещё маня Якова, пока наконец не упала, с деревянным стуком ударившись о пятнистую броню.
И наверху…
— Что вам тут, мёдом намазано? — пробормотал Сергей, с сосредоточенной яростью накручивая рукоятки высот и горизонтов, отчего поворачивалась вся станина орудия с сиденьем.
Хачариди то и дело сверял намеченные ориентиры с тем, что появлялось в оптике прицела, самостоятельно определявшего расстояние. А его до цели было совсем чуть-чуть. Бог весть как немцы сообразили, что штаб зенитного дивизиона захвачен. И вот, всего в трехстах метрах — кирпичный угол какого-то склада, красно-ржавая жестяная улитка промышленной вентиляции, а под ними, — высмотрел только что Везунок, — крадутся ещё с десяток каменно-серых мундиров.
Сергей ударил по педали гашетки, и кирпичи, вырванные из стены, посыпались на серые каски. «Надо бы взять ниже», — мелькнула мысль.
Собственно, спасать разведчиков он и не думал, не видел. Видел только, как потянулись со всех сторон к их высотке «фельдполицай» — пеше и запрыгивая по пути в кузова по-военному пятнисто-зелёных, но, в общем-то, вполне гражданских грузовых «MAN» и «Austro Daimler». Тем не менее заговорил его «Флак» очень вовремя.
Снизу вверх…
— Сюда! — вывел Новик из оторопи Войткевича и буквально за шиворот втащил в кабину тягача.
Из другой его дверцы они уже вдвоём и весьма резво бросились прямиком в распахнутые ворота блокгауза, пару раз только задержавшись в его сумерках за чугунными громадами станков, чтобы Саша пальнул наугад, чуть ли не на звук, отгоняя и без того не слишком навязчивых преследователей.
Выскочив в противоположные сквозные ворота, они едва ли не сразу очутились на крутом подъёме скальной осыпи, ведшей как раз к зенитному орудию, запримеченному несколько минут назад. Вот только на полпути к зенитке, почти сливаясь с шинельно-серой скалой, исподлобья бетонного наката смотрел на них впалыми глазницами-амбразурами дот.
Впрочем, и отступать особо было некуда.
— Вы не поверите, Саша, но я начинаю скучать по простому жуковскому наступлению, — задыхаясь, заметил по этому поводу Яков. — Чтобы всем кагалом и по всем направлениям, пока карта на столе не кончится. Что они там притихли, как тараканы в банный день?.. — продолжил он уже в десятке шагов от загадочно молчаливого сооружения.
Обитателям дота и впрямь впору бы сирену включить, заметаться, рассыпаясь по стрелковым гнездам: всё-таки скрытно подобраться по осыпи — ну никак не выходило, да и немецкая форма уже не должна была обмануть. Наверняка сообщили по телефону, что большевистские диверсанты — в форме «фельдполицай». Но бетонная громада молчала как необитаемая. Впрочем…
Новик и Войткевич переглянулись.
— А это ещё кто учудил?.. — спросил Яков, перевалившись через бруствер в ход сообщения и переведя дух после крутого подъема. — Неужто наши ихтиандры? То-то, поди, запарились в ластах по горам бегать.
— Те, что «Вьюна» подорвали? — уточнил Саша, присев под бревенчатую стенку хода сообщений.
— Ну а кто ещё? Ты ж настолько лунатизмом не страдаешь?.. — кивнул Яков на труп молодого немца в зелёном сукне вермахта, но с якорем на погоне и крылатой бомбой береговой обороны на рукаве.
Голубоглазый и белокурый, словно иллюстрация к этнографическому атласу «Offiziere der Marineartillerie» [69], с гробовой сосредоточенностью смотрел со дна траншеи в просвет неба.
— Чтобы и во сне фрицев душить?.. — прошептал Новик, выглядывая вдаль по проходу. — Вряд ли. Они мне и наяву осточертели. Я так думаю, наши их уделали. Пацан же сказал: в Якорную заползут.
— Ладно, полезли.
Хрестоматийных фортификационных зигзагов у траншеи не было — на скале особо не разгонишься, — так что видно было далеко, вплоть до бетонной стены с чуть приоткрытой железной дверью в заклёпках местного монтажа.
Как только Яков сунул в её тёмную щель дуло «шмайссера», его дёрнули за ремень автомата так, что едва не вывернуло плечо из сустава.
Громыхнув по пути о броню двери головой, лейтенант, он же «фельдфебель», чуть ли не кубарем вкатился вовнутрь бетонного склепа и обнаружил себя прижатым к полу коленом, при этом в переносицу ему со смертельным равнодушием смотрело дуло вальтера. Впрочем, недолго. Пары секунд, пока его руки оставались свободны, Яше хватило, чтобы, перехватив запястье и выбив толчком ладони кулак неизвестного в обратную сторону, развернуть «Polizeipistole» на 180 градусов.
Теперь вальтер смотрел в искажённую болезненной гримасой и одновременно удивлённую небритую физиономию, рычавшую самые патриотические, соответственно, нецензурные лозунги.
Одновременно в распахнутых дверях появился Новик с немецкой «колотушкой» над головой и, не обращая особого внимания на автомат в руках подскочившего сбоку Антона, пообещал:
— Сейчас долбану всё без разбора!
— Эй-эй! — по-прежнему не опуская автомат, но уже с подобием улыбки, прикрикнул в ответ Каверзев. — Полегче, славяне! Или вы уже не славяне?!
— Ага, — стряхнув с себя Малахова и садясь на полу, проворчал Яков. — Мы тут, Рузвельт с Черчиллем. Пришли к вам со вторым фронтом. Привет, Антон Александрович.
— Ну, раз пришли, открывайте, — несколько зло и сконфуженно буркнул Малахов, потирая запястье: «Как это он так? Моим же пистолетом и мне в морду, так что и «матерь божью» помянуть не успел?»
За недолгие дни пребывания Войткевича в их отряде лихой моряк ещё не успел узнать, как силён и страшен в рукопашной Яков Осипович.
— Кстати, уже и повод для второго фронта имеется, — помрачнев, кивнул Каверзев в приоткрытую амбразуру.
Ни богу свечка, ни чёрту кочерга…
Несколько раз у бывшего краснофлотца Александра Касаткина сердце заходилось, норовило выскочить через кадык, когда в щели жалюзи он видел, как, роясь среди всяческого каптёрского хлама, один из военнопленных — со знакомым якорем на смуглом плече и узнаваемо-нахальными повадками матроса, — почти вплотную подбирался к вентиляционной шахте. Но снова отходил, исчезал где-то в бетонных катакомбах, время от времени оглашая их разбитными воплями удачливого кладоискателя.
К счастью, так и не догадался морячок, что железный короб с традиционным обугленным черепом «Elektrische Anspannung 1000 V!» имеет с неприметного бока дверцу, в которую Касаткин втиснулся, как только в потерне между штабом и траншеями зенитного дивизиона послышался шум рукопашной. И с такой хриплой матерщиной, такой яростной «Полундра!», что ни на миг у бывшего спешенного моряка, некогда участвовавшего в подобных схватках под Одессой, не возникло сомнений, кто сейчас будет «в доме хозяин», раз уж постучались в самые двери.
«Это тебе не в трехстах метрах пулемётом в землю впечатывать, — в который раз поморщился Касаткин. — И какого чёрта не сказал я своему покровителю майору о том, что видел? Видел, как один из подозрительной троицы пленных, такой, с греческим профилем, утопил своего конвоира в питьевой бочке», — как-то запоздало соображал он, когда примащивал на клеммы и рубильники щитовой фанерную крышку какого-то раскуроченного ящика. Их тут навалом было на складе, где его заперли от греха подальше, пока выяснится «кто виноват?» да «что делать?»
«И почему майору, когда что-то рвануло в бухте, взбрело в голову притащить меня именно сюда? В ближайшее убежище? Где русского матроса, хоть и сотрудничающего с немцами, но можно подержать под присмотром? Мог бы, сволочь, и с собой, вниз прихватить, на базу, — тяжко вздохнул Касаткин. — Сидел бы сейчас на какой-нибудь их гауптвахте ни клятый, ни мятый, ни в чём не подозреваемый, а теперь…»
А теперь, когда под бетонными сводами раздавался пороховой треск и гулко отдавались раскаты взрывов — как доказать, что честно соблюдал нейтралитет? Стойко отсиделся, прикрывшись черепом с костями, как бывало, в воронке во время нашего контрнаступления? Ведь рано или поздно немцы ворвутся…
Выше некуда, вроде бы…
— Разведотряд штаба Краснознамённого, — не распрямляясь, приложил ладонь к серой немецкой пилотке Войткевич.
— Сядь, Яшка, кто б ты сегодня ни был, — мельком глянул на него Хачариди. — Пока пулю в лоб не словил. Заново знакомиться он ещё будет! Некогда мне с церемониями, уничтожаю живую силу противника.
— Дело хорошее, Серёга, — кивнул Яков, садясь под стенку бетонного капонира подле приямка со стреляными гильзами, — живую силу противника изводить. Только как же тебе противник пушку свою отдал для собственного извода? Что-то я «горы кровавых тел» не вижу? — оглянулся он.
— Только часовой был, там внизу лежит. Остальные жрать ушли, что ли?
— Точно. Мы сегодня весь день, куда ни ткнёмся, везде у них: «перерыв на обед», — покачал головой Войткевич, припомнив чёртову полевую кухню, так не вовремя подвернувшуюся под колеса их грузовика. — Прямо, воевать не с кем.
— Это как посмотреть, — заметил Везунок. — Если через прицел…
Он прижал подошвой ботинка педаль гашетки. Несколько секунд не только стальную поворотную станину «Flak», но и всё бетонное гнездо, казалось, сотрясала великанская дрожь. В ответ на размеренный механический грохот орудия отозвались, за дальностью невнятные, вопли наступающих.
— Браво, — похвалил Войткевич, отмахиваясь от пороховых дымов. — Сам управляешься, человек-оркестр? Где таким талантам учат?
— С артиллерией обращаться — в саперно-маскировочном, — не отвлекаясь от окуляра прицела, ответил Везунок. — А тут помесь автомата и пушки, вот только подогнать данные прицела под жопу… — Он с рокотом шарниров повернулся к лейтенанту вместе с сиденьем и короткоствольной пушкой. — Трудновато. Так что я, считай, прямой наводкой.
— У тебя ж целый корректировщик есть? — слегка удивился Яков. — Я вот привёл, — и кивнул на Антона, выбравшегося наверх вслед за ним.
— Он же радист, — резонно возразил Сергей. — Радист нужнее.
— Ну, это ещё вопрос, кто кого привёл, — вставил старший сержант, вытирая тыльной стороной ладони кровь со лба, рассечённого щепой. — А насчёт того, что радист, — добавил он, роясь в санитарной сумке немецкого расчёта, — толку с меня, как с радиста, — вздохнул Антон и, приложив ко лбу клок стерилизованной ваты, вынутой из алюминиевого футляра, отодвинул от прицела командира. — Думаешь, я на корректировку с рацией ползал? Хрен там. По старинке, как при царе Горохе, с катушкой полевого телефона на горбу. А где цели? Что-то я никого не вижу.
— И не увидишь, — фыркнул Сергей, уступая место наводчика и пересаживаясь за поворотные рычаги. — Кто попрятался, остальные уже ниже «минус 12‑ти» [70], в мёртвой зоне.
— Ну если вам всё равно, — оживился Войткевич и, оставив «шмайссер» на бруствере, встал на поворотный круг станины и выглянул поверх броневого щитка. — Очень нашему Краснознаменному вот эти шустрики досаждают, — ткнул он пальцем в бухту, где, как ни в чём не бывало, мирно колыхались на мелких волнах громоздкие шнельботы, пришвартованные к пирсам.
На уровне моря. Нежданно-негаданно…
…Рваные дымящиеся дыры в палубной обшивке рядком обозначили первые попадания. Во все стороны брызнули щепы и, пригибаясь, матросы.
— Donnervetter! — выругался корветтен-капитан Бюхтинг, оставаясь с достоинством надгробия неподвижным на мостике с той самой секунды, как только вокруг катера закипела вода, вздыбленная фонтанами разрывов. Хотя по его спине и пробежал озноб, словно по крупу лошади.
— Давайте без церемоний, Генрих! — невесть зачем натягивая перчатки, скомандовал он командору бакового 30-мм орудия. — Немедленно цельтесь в расположение зенитного дивизиона, чтобы по первой команде. — И обернулся в открытую дверь бронированной рубки. — Что там, Шульц?
— Есть связь! — обернулся радист.
— Что у вас там происходит, чёрт вас… чёрт возьми! — не сдерживаясь особо, зарычал корветтен-капитан в трубку, нервически гоняя желваки на выступающей, как у музейного питекантропа, челюсти, до сиза выбритой и терпко благоухающей французской туалетной водой.
— Так что теперь?.. — злобно удивился Герман Бюхтинг в ответ на невнятное кваканье трубки. — Вы им дадите меня расстрелять, ради того, чтобы взять живьём? Как? А вот так! Уже с минуту пристреливаются и, надо сказать, небезуспешно!
Будто в подтверждение его слов, 20-мм снаряд «Flak» с оглушительным звоном ударил в броневой щиток своего единоутробного (если «утробой» считать завод «Люрсе») близнеца. На шнельботе за рубкой размещался такой же 20-мм автомат, но в спарке, в два ствола. Другой снаряд с ошалевшей зенитки со скрежетом снёс наклонную антенну сразу за орудием; матрос-заряжающий, как раз несший для спарки дисковые магазины из крюйт-камеры, едва успел увернуться.
— Вам не кажется, что цель как-то не оправдывает средства, — скрипнул зубами корветтен-капитан. — Не дай бог они попадут!
Новая серия ударов встряхнула весь стотонный корпус шнельбота «S-27» и, точно в ответ на наихудшие ожидания Бюхтинга, из открытого люка фальшбака ядовито зазмеился бурый дымок; а спустя несколько секунд появилась и седая голова «Artillerie-Mechanikermaat» [71] с бессознательно закатившимися глазами и слипшимися от крови прядями челки. Из дымного провала его вытолкнул непосредственный начальник, обер-боцман торпедного отделения.
Не дожидаясь уже рапорта старшего торпедиста — не до того теперь, да и так понятно, — Бюхтинг рявкнул в трубу переговорного устройства:
— Пожар в торпедном отделении! — И в том же тоне, но теперь в окно, на бак: — Генрих! Ну их всех к чёрту! Огонь!..
Через неполную минуту, должно быть в порядке флотской солидарности, белыми дымами артиллеристских выстрелов окуталась и вся флотилия.
Чем выше, тем жарче
В ближних камнях осыпи снова взметнулись пыльные вихри разрывов, и немцы окончательно стали скатываться назад, вниз со склона. Малахов не преминул вдогонку послать длинную очередь, израсходовав остаток пулемётной ленты — один из отступающих так и остался лежать среди камней. Но, заправляя под крышку затвора МГ новую ленту, Арсений покачал головой:
— Не хочет больше фриц в штыки. Не нравится мне это.
От прежнего рвения немцев осталось с десятка полтора трупов в серых мундирах, рассеянных перед амбразурами дота; и самое большее, на что шли «фельдполицай» и охрана базы при попытке штурма, были дымовые гранаты, эффекта от которых было немного. Ветер с моря мгновенно обдувал прибрежную скалу, так что солдаты, успевшие добраться до укрепления, уже дважды были расстреляны в упор.
Теперь же по бетонному «лбу» дота то и дело грохали артиллеристские снаряды, правда, пока что малого калибра и толку.
— Что тебе не нравится? — рассеянно поинтересовался Новик, более занятый наблюдением за результатами обстрела бухты из захваченной наверху зенитки.
— По-моему, они бросили идею взять нас живыми, — повторил Арсений.
— Ну, во-первых, боятся под свои же снаряды попасть. А во-вторых, тебе что? Больше понравилось бы, если б они нам тут осаду Вердена устроили? — хмыкнул Саша, накручивая ролик настройки бинокля. — Голодом заморили, жаждой…
Его на полуслове оборвали мощные удары по перекрытию, от которых с потолка, словно мука сквозь сито, посыпалась бетонная пыль.
— Да уж, не похоже, чтобы на измор, — покосился на бетонный потолок Малахов. — Торопятся, — резко отодвинув стальные ставни на рычагах, выглянул Арсений наружу. — И это пока ещё легкая артиллерия, — задвинул он ставень обратно и нервно хохотнул. — А по соседству, я видел, и гаубицы есть.
Отбиваться в укрепленном штабе — а в том, что это был именно штаб береговой обороны, убеждали соответствующие карты прибрежных глубин и береговых линий, размётанные на столе и на полу, — можно было долго. В соседней комнате обнаружился оружейный склад, небольшой, — видимо, роты охраны, но этого могло хватить на сутки беспрерывных боёв, а то и больше. Имелся ещё внушительный бак питьевой воды и несколько ящиков сухого пайка. Воюй не хочу.
Если бы дело было на передовой, а не в глубоком немецком тылу, где пятёрка русских солдат была, как выразился Малахов, брезгливо глядя на стандартный портрет над столом: «чирья на заднице Гитлера».
«Не то что двух суток, и двух часов терпеть не будут. — Понял Саша. — Особенно с той минуты, как заговорила по своим же немецкая зенитка с горы, и торпедные катера пришлось вывести из бухты в безопасное место. Причём один из них — уже дымящимся и на буксире. Так что, как ни крути, Малахов был прав. Уходить надо, — подумал Новик, разглаживая ладонью карту, похоже, что именно их участка линии обороны. — Вот только куда?»
Единственной стороной, не блокированной немцами, был скальный обрыв за их спиной, обозначенный мгновенным переходом рыжеватой размывки высот в тёмно-синие тона глубины. Здесь же, по идее, оканчивался и охранный периметр базы. Но если даже севастопольский бесшабашный братишка, видевший уже этот обрыв в натуральном виде, смотрел на него теперь только как на способ самоубийства, так не лучше ли уже, в самом деле, «с музыкой»?
Телефонная трель оторвала лейтенанта от невеселых размышлений.
— Я тут отсюда наблюдаю пренеприятную картину, — спустив на колени текстолитовую коробку телефонного аппарата, кричал в трубку Войткевич. — По вашу душу с соседней высотки разворачивается орудие весьма и весьма солидного калибра. Мы, конечно, попытаемся возразить, — он пригнулся и отпрянул подальше от воронки дульного тормоза, плавно поплывшего над его головой. Везунок поворачивал орудие в сторону высотки, где также неторопко, точно готовясь к дуэли, плыло навстречу зенитному «Flak» дуло почти такого же на внешний вид, только гипертрофированного до 88‑го калибра зенитного орудия. — Но, если подпишутся ещё и гаубицы, то припоминайте «Отче наш», или «Адонай Элоим», кому как нравится.
— Ты бы не каркал, товарищ лейтенант, — подал голос с подвижного сиденья наводчика сержант Каверзев, оторвавшись от окуляра прицела. — А то у меня тут в зеркале как раз твоя гаубица на нас уставилась. И не одна…
Он надавил педаль, и зенитка забилась в откатной люльке с ритмичным стуком парового копра, выплёвывая пламя и пороховую копоть.
— Я не каркаю, я предвижу, — неслышно в грохоте, проворчал Войткевич и поторопил в трубку: — Тикайте оттуда, Саша! Сейчас вас в ответ накроет!
Ни богу свечка, ни чёрту кочерга…
Касаткин насторожился, прислушиваясь.
Тишина накатила внезапно и ещё более оглушительная, чем пальба и взрывы, — так это всегда бывает: тем сильнее оглушает тишина, чем яростней только что гремел бой. Подождав, на всякий случай, ещё минуту-другую, Александр с замершим дыханием и неистовым биением сердца скрипнул железной дверцей.
Наших, — насколько их там можно считать «своими», — не было. Только приоткрытая задняя дверь, выводившая на позиции зенитного дивизиона, указывала путь отступления. Не было ни убитых, ни раненых. Не считая, конечно, немецкого фрегаттен-капитана, так и оставшегося в кресле с расстегнутой кобурой, но не вынутым парабеллумом, адъютанта его, растянувшегося на пороге (куда бежал, чёрт его знает?). Да ещё четырех фрицев, бросивших амбразуры и свалкой скопившихся подле входа в дот под стенами, посечёнными осколками гранат и щедро забрызганными кровью.
Даже не верилось, что всё это учинили троё военнопленных, внезапно очутившись не там, где их готовились встретить пулемётчики на вышках периметра, а в тыловом окопе перед безмятежно открытым штабом. Не ждали такого немцы, не ждали.
Касаткин почти рефлекторно подобрал «шмайссер», отброшенный то ли в ходе рукопашной, то ли гранатным разрывом. Передёрнул, проверяя, затвор. Работает. Патрон в патроннике.
И именно в таком виде его застал первый из «фельдполицай», осторожно заглянувший в приоткрытую железную дверь.
Что Касаткин сделал следом, он сообразил уже после, когда соображать было как-то поздно. А в тот момент, увидев направленное на себя дуло маузера, он, не задумываясь, спустил курок. Фриц, словно и дальше протискиваясь в щель двери, ввалился в коридор штаба…
Но есть и выше
Трехступенчатый ствол грозной гаубицы вздрогнул, отскакивая назад и окутываясь пороховым облачком. И накрыло…
Но не дот, из задних дверей которого в ход сообщения со звериным проворством юркнули фигурки Новика в немецкой форме и Малахова в красноармейских обносках военнопленного. Огромные холмы вздыбленного каменистого грунта выросли на месте самой гаубицы. А через секунду на месте одного из пакгаузов образовался смерч обломков; дружно сыпанули во двор закопченные стёкла цеха, превратившегося в каменную лавину; переворачиваясь в воздухе, рванул золотыми клубами пламени фургон «Даймлера».
— Это не я, — озадаченно протянул Везунок, откинувшись на сиденье. — Я туда ещё не довернул, — он поднял голову, сдвинув на затылок немецкую каску.
— И не я, — добавил Каверзев, также уставившись в небо. — Я ни одной нашей станции не поймал, даже Москвы, не то чтобы Таманской воздушной дивизии.
Выныривая из золотистой кромки облаков и ныряя в грязно-серые разводы дыма, на небо, с неспешностью парадного построения, наползали тени двухмоторных «СБ». Впереди их тяжеловесного клина, словно лёгкие стайки стрижей, метались краснозвездные «ЛаГГи» и «Аэрокобры». Нарастающий вой бомб утопил в своей жуткой симфонии даже близкие разрывы немецких снарядов. Вой стремительно перерастал в свист…
— Вот это музыка, — расплылся в безотчётной улыбке Каверзев.
В следующее мгновенье земля заходила ходуном, бросая разведчиков на колени и подкидывая в сиденьях орудийной станины.
— Музыка, конечно, весёлая, — проворчал Яков, зажимая уши ладонями и тревожно оглядываясь на приближающийся вал огня и бурых клубов земли поверх бруствера. — Как у чёрта на поминках, но…
— Шансов прибавилось, но ненамного, — констатировал Новик, вскочив в гнездо зенитки под прикрытием близкого разрыва авиабомбы.
Груды щебня вдогонку хлестнули в бетонированный капонир, подгоняя и Малахова, инстинктивно и беззащитно прикрывшего голову локтями.
— Закопают за компанию, — контуженым криком подтвердил Яков, меняя серую пилотку на оливково-зелёную каску. — Антон! Угомонись! Они лучше тебя справятся!.. — повернулся он в сторону зенитки, продолжавшей с упорством механического завода слепо палить в бурый вал дыма. — И так ни черта не слышно! Антон?!
Везунок, сидевший рядом со старшим сержантом, потянулся через казённую часть орудия и взял за плечо Каверзева, приникшего к окуляру прицела. Голова Антона бессильно откинулась к плечу, и стал виден багровый провал на месте виска. Провал, из которого безостановочно вились на порыжелую гимнастерку вишенные струйки. Арсений хотел было снять ногу старшего сержанта с педали гашетки, но передумал.
Израсходовав магазин на двадцать снарядов, зенитка наконец умолкла.
Ни богу свечка, ни чёрту кочерга…
Минут через пять, снова меняя пенал магазина, Касаткин вдруг сообразил, что впервые за долгое-долгое время он ни хрена не боится и даже чувствует себя почти счастливым. Наверное, потому, что впервые за всё это время, месяцы, а может и годы, поступает «правильно!»
Так правильно, что его наверняка бы похвалил папа, как всегда немногословно, похлопав по плечу мозолистой ладонью. Как тогда, когда они с папой зарубили за амбаром секретаря райкома, и никто и не догадался, что это сделал председатель колхоза с сынком; и когда, напоив, подстрелили уполномоченного НКВД, приехавшего разбираться.
Александр Касаткин, затаившись за бетонным углом, караулил крадущихся под стеной фрицев. Тех самых, которые, вроде как, пришли сюда извести большевистскую чуму, от которой вымерла в 1922‑м их деревня. Но которые и сами — чума…
Александр отвинтил с рукоятки немецкой гранаты крышку чеки. Не потому, что «За Сталина!», а потому, что «За Родину!»
* * *
— Идей не спрашиваю, — накрыв мгновенно побелевшее лицо Антона пилоткой, мрачно произнёс Войткевич. — Их до обидного мало. Ну, так как?
Все переглянулись…
Home is the sailor, home from the sea…
Старокрымские леса. Район действия партизанского отряда Беседина
Вовка, толкнув вперёд шишечку затвора, загнал патрон в патронник и снова прильнул щекой к прикладу винтовки.
Немецкий мотоцикл, видный в просвете красно-рыжего сухостоя, казался чёрным муравьём, только как-то очень уж медленно ползущим вдоль склона горы, будто по корневищу древнего пня, и почему-то в одиночку. Обычно на лесной тропе, если и появлялись эти железные насекомые, то вереницей и торопясь, а этот… Как крадётся…
Что-то не то.
Вовка чуть приподнял голову, по-прежнему прицельно щурясь.
Картина, вроде бы, как учебная мишень с рогатым профилем: проста, ни с чем не перепутаешь. Один немец устало колыхается в седле, с серой пилоткой, сунутой под фельдфебельский погон. Второй — в зелёной люльке…
«Развалился, как на курорте», — зло прошептал Вовка; но именно это, — вдруг понял он, — его и смущало. Второй, который в коляске, бессильно мотал чернявой головой, выставив на станину снятого пулемёта ногу, замотанную в кровавые тряпки. Похоже, что даже не бинты, а так, что придётся. Время от времени первый утешительно похлопывал его по плечу.
«Ну так что ж теперь?.. — недовольно нахмурился Вовка. — Не на гимнастическом козле ведь ногу сломал. Может, в бою с партизанами…» — и подвёл под взлохмаченную голову «фрица» чёрную подковку прицела.
И вздрогнул, так, что наверняка выстрелил бы, не выдерни кто-то винтовку из его рук.
Вовка обернулся не сразу, а только когда малость утихомирилось сердце, заходившее, как поршень мотора. И ещё потому, наверное, что ладонь, лёгшая ему на плечо, показалась по-отечески спокойной, что ли? Когда если бы немцы, то впору за шкирку да мордой в землю…
— Дядя Серёжа! — с невольным детским восторгом, совсем не солидным для партизанского разведчика, вскрикнул Вовка, и даже, кажется, пустил петуха. — А я… А я тут…
— Чуть не пристрелил героических советских разведчиков, — хмыкнул взявшийся, надо полагать, с того света Везунок, — …лейтенантов Новика и Войткевича.
Приподнявшись на одно колено, он приложил ко рту ладонь горсточкой и очень похоже крикнул перепелом.
В ответ без особого таланта — почему и узнал Вовка, кто это, раньше, чем увидел, — откликнулся «дядя Арсений», Малахов, поднимаясь из зарослей высохшего травостоя с другой стороны мотоцикла.
— А что с товарищем лейтенантом?.. — суетился пару минут спустя Вовка, то забегая далеко вперёд с видом опытного проводника, то задерживаясь позади и прислушиваясь, как матёрый разведчик. — На мине подорвался?
— Не, — покачал головой дядя Яша Войткевич, который, казалось, дремал в кожаном седле, еле-еле ворочая блестящей рогатиной руля. — Купался, понимаешь, в неразрешенном месте.
— А… — протянул Вовка, хоть и не совсем понял, чего это им купаться вздумалось. — А с мотоциклом чего?
— Вторая передача не врубается, должно быть, синхронизатор полетел, — со знанием дела ответил Везунок, который шёл теперь, в лесу, рядом.
— А он и был поломанный, когда мы его в полевой жандармерии одолжили, — усмехнулся Войткевич, бормоча неохотно, наверное, только чтобы не заснуть. — Они его как раз ремонтировали, от своих отстали, а тут мы: «Не поможете товарища к партизанам свезти?», а они: «Может, лучше в гестапо?», а мы: «Нет, к партизанам». Ну, заспорили, повздорили… А насчёт передачи, не знаю. Акселератор вообще не работает, не тянет, эжектор…
— Хмур разберётся, — самоуверенно махнул рукой Вовка. — У него любая железяка в руках горит…
— Хмур? — вяло переспросил Войткевич и задумчиво повторил: — Хмур. Хмур… А как зовут этого вашего…
— Хмура? Лёвка, кажется… — Володя снова умчался куда-то вперёд, звучно топоча растоптанными ботинками.
Яков остановил мотоцикл и вопросительно уставился через плечо на командира партизанских разведчиков.
Тот, в свою очередь, повернулся к Малахову — старожилу отряда.
— Лёвка Хмуров, — пожал плечами Арсений. — Воюет с сорок первого. Мы его возле Атламских пещер подобрали, уже с трофейным оружием. Стреляет, правда, хреново, но в самом деле толковый механик, изобретательный сапёр. А ты чего?.. — насторожился Малахов, заметив странноватую, чтобы не сказать, глуповатую улыбку, блуждающую по лицу Войткевича.
— Ничего. Сколько ему? Лет пятьдесят на вид? — уточнил Яков.
— Ну, с копейками, — согласился Малахов.
— В очках?
— В очках…
— Железная фикса тут, — ткнул пальцем Войткевич в угол рта. — И ухи в фотокарточку не помещаются?
— Есть такое дело, — нахмурился Везунок. — А что? Ваш кадр, что ли?
Яков длинно и затейливо, но счастливо, как будто нашёл припрятанную на похмелье трёшку, выругался:
— Наш. Теперь наш. Бесценный кадр, прямо скажем… Слышь? — бесцеремонно толкнул он дремавшего в коляске Новика так, что тот застонал.
— Какого?..
— Задание выполнено и перевыполнено!
— Какое к чёрту?.. — поморщился Саша, бережно поправляя на ноге окровавленное тряпьё.
— «Изделие» уничтожили?
— Во-первых, не мы, а во-вторых, радости с того, — проскрипел зубами Новик.
— Радости полные штаны и медаль в придачу, — продолжал радостно тормошить его товарищ. — Ты помнишь, нам говорили про «специалиста минно-торпедных средств», помощника инженера Бреннера и подлинного отца «Вьюна», ещё фотографию его показывали?
— Это воентехник, который тут в сорок первом от Особого отдела ушёл? — с трудом сосредотачиваясь, припомнил Новик. — Лаврентий Хмуров, 1891 года… — и резко, до вскрика, выпрямился на сиденье мотоциклетной люльки: — А вы про кого говорили? Ну, только что?..
— Про Лёвку Хмура, прятавшегося осенью сорок первого в пещерах возле Атлама! — торжественно провозгласил Яков, соскакивая с сиденья, чтобы вновь завести заглохший «BMW».
— Где он?!
— А он у них тут, видишь ли, сапёром прохлаждается, — прорычал Яков, подскакивая на педали стартёра. — Это когда Родина так нуждается в его талантах.
«BMW R-71» неохотно прочихался и пошёл мелкой дрожью с лязгом расхлябанной выхлопной трубы.
— Засылай своего адъютанта, Серёжа, вперёд, — распорядился Войткевич. — Чтобы ваш изобретательный сапёр и близко сейчас к минам не подходил. По крайней мере, пока мы его в штаб флота не переправим…
Последние Хроники «осиного гнезда»
С сентября 1943 г командиром флотилии стал корветтен-капитан Герман Бюхтинг, ранее командовавший «S-27», потопленным в Керченском проливе, а затем «S-51» (семь пробоин от 20‑мм снарядов зенитки, временно захваченной диверсантами, заделали, и мелкие повреждения отремонтировали на базе «Иван-Баба»). Прежний командир, Георг Кристиансен, отделался лёгкой контузией при гибели «Кёльна», весьма умело организовал восстановление базы после налёта русской авиации; за боевые успехи получил «дубовые листья» к Рыцарскому кресту и отбыл на штабную работу.
Последним боевым эпизодом в деятельности германских торпедных катеров в 1943 году стало участие в блокаде Эльтигенского плацдарма в ноябре — декабре. Пятерка катеров совершила 17 групповых походов. шнельботам, которые взаимодействовали с тральщиками и быстроходными десантными баржами, удалось с середины ноября блокировать советский десант, что спустя две недели привело к его гибели. Операция прошла почти без потерь, что было, в частности, связано с удачным сдерживанием со стороны люфтваффе авиации КЧФ. Подопечные Бюхтинга заплатили за месяц боевых столкновений и пяти безрезультатных торпедных атак лишь повреждением катера «S-49», который так и не сумел увернуться от снарядов авиапушек.
Всю зиму штормило, и не было в ближних окрестностях морских операций, — зато на суше советские войска продвигались всё дальше и дальше на запад, оставляя Крым уже фактически в тылу. Долго это продолжаться не могло; катерники, народ лихой, но трезвомыслящий, понимали, что затишью скоро придет конец — и вряд ли он будет славным.
Так и получилось. 15 февраля 1944 года двенадцать «Ил-2» в сопровождении стольких же «Як-9» двумя группами штурмовали базу торпедных катеров. Два «Ил-2» подавляли средства противовоздушной обороны, остальные атаковали шнельботы в акватории. Один торпедный катер получил серьёзные повреждения, хотя и остался на плаву. Был подавлен огонь трёх батарей 20‑мм зениток и вызваны сильные взрывы в районе торпедно-пристрелочной станции (сдетонировали две торпеды, готовые к погрузке на шнельботы).
Начиная с 7 марта 1944 года катерникам пришлось испытать на себе всю силу ударов 11‑й штурмовой авиадивизии ВВС ЧФ. Командование Черноморского флота поставило перед лётчиками задачу полностью уничтожить «осиное гнездо» врага, — это была необходимая мера подготовки большого наступления и окончательного освобождения Крыма. Налёты происходили почти каждый день, иногда по два-три — теперь и штурмовики, и истребители базировались на Тамани, время подлёта сократилось до получаса. «ЛаГГи», «Аэрокобры» и новенькие «Яки» связывали боем истребительное крыло люфтваффе, почти каждый раз отправляя пенить волны кого-то из пилотов. А «шварце», русские штурмовики «Ил-2», пушечными снарядами и ракетами расклёвывали позиции зенитчиков и били по катерам в бухте и прилегающей акватории (далеко уходить не следовало). Особенно мощные налёты произошли 11 и 12 марта. Утром 11 марта в течении пяти минут двадцать пять штурмовиков «Ил-2» в сопровождении стольких же «Як-9» и «Л аГГ-3», а через день ещё двадцать черыре «Ил-2» в сопровождении «Як-9» и «ЛаГГ-3» повторно бомбардировали и расстреливали торпедные катера и баржи в бухте. «Як-9» фотографировал результаты удара штурмовиков. Из восьми катеров («S-26», «S-28», «S-40», «S-42», «S-45», «S-47», «S-49» и «S-51») повреждения получили шесть, в том числе два шнельбота («S-28» и «S-49»), — настолько тяжёлые, что в строй так и не вернулись. В групповых воздушных боях русские лётчики сбили «Хе-111» и три «Ме-109»; один «Хе-111» был подбит, но дотянул до своего аэродрома.
Финал базы наступил в апреле.
7 апреля тридцать «Ил-2» в сопровождении почти сорока «ЛаГГ-3» и «Як-9» нанесли бомбоштурмовой удар по торпедным катерам [72]. Два «Як-9» фотографировали результаты удара; все шесть шнельботов получили повреждения и больше не представляли угрозы апрельскому наступлению.
1‑я флотилия торпедных катеров перебазировалась в Сулину и Констанцу. 12 мая авиация КЧФ потопила плавучую базу «Романия», которая с конца 1943 года использовалась и как минный заградитель. Точку в существовании флотилии поставило новое советское наступление, начавшееся 20 августа. В этот же день ВВС Черноморского флота предприняли операцию по ликвидации остатков германо-румынских ВМФ. Шестьдесят два пикирующих бомбардировщика «Пе-2» 13‑й авиадивизии нанесли удар по Констанце, отправив на дно, в числе прочих, «S-42», «S-52», «S-131» и «S-149». Ещё два катера — «S-28» и «S-49» — были повреждены настолько сильно, что спустя пять дней их, как непригодных к восстановлению, затопили.
Разгрому подверглась и сулинская группа — после атаки штурмовиков 23‑го авиаполка она потеряла шнельботы «S-26» и «S-40». Катер «S-72» отбуксировали в Констанцу, но лишь для того, чтобы там его затопить. 22 августа погиб на мине в устье Дуная «S-148».
Три последних катера флотилии («S-45», «S-4»7 и «S-51») ушли в Варну. Команды шнельботов получили приказ затопить катера.
29‑го августа указание было выполнено.
Cправка вместо эпилога
К сожалению, «Вьюн» — изделие с маркировкой «ЭТ-80-51», — пошёл в серию только в 1951 году. Собирали и отлаживали его всё на том же заводе в Атламе, где со временем инженер-полковник Лаврентий Хмуров и вышел в отставку.
Идея взрывателя, реагирующего на градиент нарастания магнитного поля и акустических сигналов, интуитивно нащупанная Лёвкой Хмуром, прослужила, обрастая новой элементной базой, ещё не одно десятилетие.
Красноармеец Сергей Хачариди, командир партизанской разведгруппы, и его помощник краснофлотец Арсений Малахов партизанили вплоть до освобождения Крыма и погибли во время зачистки Симферополя [73].
Пути лейтенантов Новика и Войткевича, по возвращении в разведотряд штаба КВЧФ, на некоторое время разошлись. Старший лейтенант Новик со временем возглавил разведотряд уже в капитанской должности. Просто лейтенант Войткевич, получив звание старшего, был возвращён в Крым для оперативной работы.
Экипажи старших лейтенантов 46‑го полка ночных бомбардировщиков Засохиной и Колодяжной в ночь перед высадкой эльтигенского десанта были сбиты над Керченским проливом.
Обладая даром убеждения и на редкость внушающей доверие внешностью, бывший матрос Александр Касаткин дослужился до обергефрайтера и, одновременно, капитана НКВД, и закончил свои дни мирным бюргером Висбадена. Говорят, под прикрытием ЦРУ…
Примечания
1
Чуть позже ЦИК СССР принял, 10 июля 1934 г., постановление «Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел СССР», в состав которого вошло ОГПУ СССР, переименованное в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ). Первым наркомом внутренних дел СССР был назначен Генрих Ягода, бывший многолетний заместитель вовремя умершего (возможно, не без помощи зама) Менжинского. Затем наркомами становились Ежов и Берия.
(обратно)2
Указ от 28 августа 1941 г. Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, и меры по переводу военнослужащих-немцев в тыловые части».
(обратно)3
С апреля 1943 года управление военной контрразведки передавалось из ведения Наркомата госбезопасности в ведение Наркомата обороны. Как следствие, при комплектовании органов контрразведки преимущество отдавалось офицерам из числа фронтовиков, прошедших краткосрочные курсы…
(обратно)4
Ну не верится нам никому, ладно уж бы Суворову или Гарееву, а то и Старикову, и ещё дюжине умников, — из-за чего, почему и в чём смысл такого тщания кремлёвских властей. Даже Д. Андрееву, прости господи, нет сил поверить…
(обратно)5
«Установив связь с национально настроенными лицами среди местного населения, создать на их основе повстанческие организации, способные оказать помощь вермахту во время вступления в Грузию… При осуществлении данного задания особое внимание уделить дезертирам грузинской национальности, обладающим оружием. Развернуть на данной основе массовое партизанское движение против советских оккупантов и организовать при приближении передовых частей вермахта массовое национальное восстание. С этой целью личный состав забрасываемых в Грузию групп снабжен, пронумерованными с обратной стороны, эмблемами в виде кавказского кинжала. Точно такими же, которые носят на левой стороне кепи горные егеря соединения особого назначения абвера “Бергманн”. Данные эмблемы должны выдаваться членам местных повстанческих организаций, служа отличительным знаком их причастности к повстанческому движению…»
(обратно)6
ДВН — дети врагов народа, широко известная по тем временам аббревиатура.
(обратно)7
На следующий вечер лидер эсминцев «Ташкент», загруженный «под завязку» ранеными и эвакуированными, вырвался из обречённого города. Он вывез, кроме людей, часть полотна Панорамы, гениального творения Рубо. Почти весь переход приходилось отражать воздушные атаки. Мастерство и «чутьё» капитана П. Ярошенко выручали, хотя уже в непосредственной близости от Новороссийска две бомбы всё же настигли корабль. Повреждённый «Ташкент» дотянул до причала и благополучно разгрузился. После ремонта вошёл в строй.
(обратно)8
Feldpolizei — «Полевая жандармерия» (нем .)
(обратно)9
Отдел абвера при штабе армии, группы армий, по сути — «абверкоманда».
(обратно)10
«Тайной полевой полиции», на которую замыкалась «полевая».
(обратно)11
«Танкоремонтный завод»
(обратно)12
Der Meerrettich ist des Rettichs nicht leckerer — немецкая пословица.
(обратно)13
«Пролетарии всех стран…»
(обратно)14
СКА № 0112 и СКА № 0124.
(обратно)15
П.Г. Новиков погиб в немецком концлагере в 1944 году.
(обратно)16
Центрального штаба партизанского движения при ставке ГКО.
(обратно)17
Знакомая наблюдательному читателю по книге авторов «Крымский щит».
(обратно)18
Приблизительно к этому времени Сталину окончательно надоела идея «украинизации» Украины, «татаризации» Крыма, где татары отнюдь не были национальным большинством, и, вообще, всякие «национализации». Началось выращивание равномерно советского народа.
(обратно)19
Агония (лат .)
(обратно)20
За основу при постройке крейсеров «тип 26», к которым принадлежал «Молотов», действительно был взят итальянский проект «Эудженио Савой». Интересно, что один из самых лучших тяжелых крейсеров того времени, немецкий «Принц Ойген», носил то же самое, в сущности, имя — князя Евгения Савойского. Но наши судостроители проект доработали, в результате корпус и силовая установка оказались лучше, чем у «итальянцев». Отставало только вооружение: 9×180 мм в главном калибре предписывало соотнести «26-е» с лёгкими крейсерами, хотя по всем прочим параметрам они соответствовали классу тяжёлых крейсеров.
(обратно)21
Был потоплен военный транспорт «Севастополь», который вёз раненых и беженцев в Поти. Погибло больше 900 человек. Никто из спасшихся шнельбот не увидел, и принесшую столько жертв атаку долгое время приписывали подводникам, итальянским или немецким.
(обратно)22
Безусловно, имелся в виду Л.З. Мехлис, с параноидальным энтузиазмом уничтоживший Крымский фронт, несмотря на его превосходство по крайней мере в живой силе над 11-й армией Манштейна.
(обратно)23
Отряд в составе крейсера «Красный Кавказ», лидера «Харьков» и эсминца «Беспощадный» был атакован как раз в тот момент, когда корабли швартовались на слабо защищенном рейде Туапсе. Это могло обернуться трагедией, попади в цель хоть одна торпеда: на борту кораблей в тот момент находилось 3180 бойцов и командиров 9-й гвардейской стрелковой бригады со всем имуществом и боеприпасами.
(обратно)24
Абвер-заграница.
(обратно)25
Адмиралом Ф.Ф. Ушаковым.
(обратно)26
Подводная лодка М-111. Благополучно вернулась на базу.
(обратно)27
За годы войны на Чёрном море часть советских подводных лодок была не потоплена немецкой авиацией и катерами, а подорвалась на минах, частично — на поставленных противником, частично же — на «собственных», сорванных лютыми штормами с якорей.
(обратно)28
Иностранного отдела — отдела зарубежной разведки.
(обратно)29
То есть абвершелле.
(обратно)30
Из рук в руки.
(обратно)31
Иностранный отдел армейской контрразведки.
(обратно)32
Танкер «Москва». Его отбуксировали в порт Туапсе, однако начавшийся на нем пожар не могли потушить в течение трех суток. Восстановить «Москву» удалось лишь после войны.
(обратно)33
Погибли на минах буксир «Симеиз» и трое мелких плавсредств — сейнер и самоходные баржи.
(обратно)34
Больше полувека об успехе абверовской дезинформации, а особенно об её реальном влиянии на судьбы Крыма и Причерноморья, старались не вспоминать наши мемуаристы всех рангов, начиная от рядового комендора со славного крейсера до наркома ВМФ; и так — до начальника дивизионного политотдела, в будущем — многократного героя, маршала и генсека, что, естественно, взаимно определяюще.
(обратно)35
Война всех против всех (лат .).
(обратно)36
После смерти авиаконструктора Поликарпова его «У-2», признанный лучшим ночным бомбардировщиком Второй мировой (в целевых модификациях), был переименован в «По-2» Поликарпова.
(обратно)37
Тайной полевой полиции.
(обратно)38
Общее название военных чиновников, которыми назывались даже боевые офицеры, привлечённые к работе абвера и Тайной полевой полиции из криминальной полиции Фатерлянда.
(обратно)39
Армейский отдел контрразведки.
(обратно)40
Молодцам.
(обратно)41
Кухня, дети, церковь (нем ).
(обратно)42
И сын (нем ).
(обратно)43
На интересной такой улочке (нем ).
(обратно)44
Arsen — мышьяк (нем ).
(обратно)45
Полицейской академии (нем ).
(обратно)46
Возможно, еще и потому, что ухудшилось качество материала, из которого изготавливалась каска, он стал мягче. От легирования и добавок молибдена и марганца пришлось отказаться, танкам они нужнее.
(обратно)47
Э. фон Манштейн Левински.
(обратно)48
«Азат Кърым», или «Освобожденный Крым» — крымско-татарское издание времен службы рейху некоторой части соответствующего населения оккупированного полуострова.
(обратно)49
У МР-40 рукоятка взведённого затвора отводилась влево, что было не очень удобно при ношении через плечо. Споткнешься, забыв снять с боевого взвода, ещё и пальнешь в товарища, впереди идущего в колонне. С непривычки к трофею такое у наших случалось.
(обратно)50
Первоначальная, с позволения сказать, модернизация учебного «У-2» под бомбардировщик тем и ограничивалась, что к самолету подвешивались корзины с миномётными снарядами.
(обратно)51
Уникальность «У-2» как именно учебного самолета заключалась в том, что он самостоятельно выходил из штопора при брошенном управлении. Благодаря малому весу и замечательной аэроподъемности нос самолета просто-напросто задирался и «У-2» сам выходил на планирование.
(обратно)52
Хрен (нем .).
(обратно)53
Быть или не быть, далее по тексту.
(обратно)54
В пропаганде рейха Вторая мировая война была прямым продолжением Первой.
(обратно)55
Трогай, чего дрыхнешь… (нем .)
(обратно)56
Что с ним? (нем ).
(обратно)57
Более точное название.
(обратно)58
Он считает с 39-го.
(обратно)59
«Катюши» и реактивные установки залпового огня вообще.
(обратно)60
Таким прозвищем немцы окрестили «Т-34», — как откинет два круглых люка, так вылитый. Русские, по понятной причине, этого прозвища не знали, как и самого Микки-Мауса.
(обратно)61
Боцман — младший унтер-офицер кригсмарине.
(обратно)62
Автолоханка (нем ).
(обратно)63
Армейское прозвище бронетранспортера «Sd Kfz 251/1 Ausf D» ганноверской фирмы «Ханомаг». Тут, часто употребляемое «Shwere» приводится как обычная приставка во всевозможных классификациях и собственно значит «вспомогательный, помощник». Он и впрямь то тут, то там «вспомогательный».
(обратно)64
Ничего не выйдет (нем .).
(обратно)65
«Старший солдат» в свободном переводе.
(обратно)66
Именно там, припоминая «Крымский щит», началась боевая карьера рядового саперно-маскировочного батальона С. Хачариди.
(обратно)67
Фейндрих, если точно, — курсант военного учебного заведения последних курсов уже на действительной службе.
(обратно)68
Фрегаттен-капитан, в сухопутной аналогии (не совпадающей с аналогичным сугубо флотским званием) — майор, подполковник.
(обратно)69
Офицер морской (береговой) артиллерии.
(обратно)70
Ограничение угла спуска для «2 cm Flak 30».
(обратно)71
Унтер-офицер артиллерии, механик.
(обратно)72
Налёту противодействовал сильный зенитный огонь и шесть «Ме-109», один «Ме-110» и два «ФВ-190». Зенитным огнем в районе цели сбит «Ил-2»; экипаж погиб. В воздушном бою сбит «Ме-109» в 14 милях южнее горы Опук. Один «ЛаГГ-3» сел на воду, лётчик погиб.
(обратно)73
См. роман «Крымский щит».
(обратно)
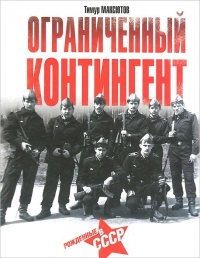








Комментарии к книге «Торпеда для фюрера», Юрий Яковлевич Иваниченко
Всего 0 комментариев