Высоко над Амуром летали стрижи. Летали долго и упоенно, словно в последний раз. А за Амуром и еще дальше, за далекими отрогами Сихотэ-Алиня, медленно надламывался громадный красный шар. И на фоне этого красного шара самозабвенно стремились по синему воздуху крохотные и беспокойные птицы. Полет их был столь пронзителен, что за ним невольно ожидался звук. Но звука не было — стояла тишина, благоговейная тишина второй половины августа, когда природа еще сильна, но сильна притомленно, ибо главная работа года уже сделана: поднялись травы, затвердел орех, встали на крыло птицы и окреп среди лесов и релок разномастный зверь.
Бывают такие минуты на земле, когда вдруг всякий человек задумается беспричинно, выйдет на простор и будет долго пить сухими и изумленными глазами окружающую природу. И увидит он, что вода во второй половине августа тяжелая и темная, что береговая осока пожухла и устало клонится долу, вяло покачиваясь от верхового ветра, а на березе появился первый желтый лист. Пройдет он по росным лугам, и поразится серебряному обилию паутины на кустах, и с грустью отметит, что не слышно уже голоса кукушки и не поет иволга, но зато, как никогда, шумливы цикады и кузнечики. И вздохнет человек, и низко опустит голову, и с непонятной печалью одними губами скажет протяжно: «Ос-сень». И что за печаль — непонятно. И кто вдруг позвал за село — неведомо. А только лишь вспомнишь, что тебе за пятьдесят, и еще раз вздохнешь, и улыбнешься грустно…
Глава первая
С утра Серафима занемогла. Что с нею стряслось, она толком не знала, а только по всему телу разошлась вдруг усталость, словно век тут была. Переделав всю утрешнюю работу по дому, она прилегла на минутку, да тут же и забылась. Сон дался ей тяжело: Серафима ворочалась на неразобранной постели, легонько постанывала, а то вдруг затихала, и тогда на ее высоком, по-женски белом лбу проступали мелкие капельки пота. Проснулась она, без облегчения в теле и с тяжелой от непривычного сна головой. Лежала, прислушиваясь к себе и равнодушно глядя в потолок. И впервые увидела, что некогда плотно подогнанные друг к другу доски разошлись, потрескались во многих местах и потемнели изрядно, и на этой темени четко проступали теперь кружочки от сучков. Но особо удивила ее матица, что на две равные половины делила потолок. Тяжело и мрачно лежала она над Серафимой, вся испещренная мельчайшими трещинками, а там, где некогда вбил Матвей крюк для зыбки, в палец толщиной зияла черная рана. Она прикрыла глаза, и необычайно ярко припомнилось ей, как эту самую матицу поднимали наверх. Матвей и теперь уже покойный свекор Петр Гордеевич подвели под матицу толстую веревку, кликнули на помощь ее, Серафиму, и медленно, по сантиметру, стали затягивать один конец. Когда он лег на торцевую стенку, свекор, широкий в кости и веселый в голосе, начал покрикивать: «А ну посунь, а ну еще разок! Еще! Посунь!» И матица, тяжелая и белая, охотно легла поперек избы. Потом ее развернули и укрепили там, где она есть и сегодня, полвека спустя.
Серафима лежала тихо и покойно, даже не отбиваясь от мух, что садились ей на руки. На тыльной стороне правой ладони мелко пульсировала крупная голубая вена, пересеченная белой меточкой шрама.
Когда Серафима поднялась, солнце уже было высоко, выше осиновой рощицы, что начиналась сразу за ее домом и хорошо была видна из кухонного оконца. Несколько раз плеснув в лицо из рукомойника, она достала из духовки теплый чайник и налила себе в кружку, по бокам которой едва приметно проглядывались какие-то сиреневые цветочки. Цветочки за временем стерлись, края у кружки пообкрошились, а во внутренние стенки въелась несмываемая коричнева. Все это Серафима видела тоже как бы в первый раз. Однако чаевничать Серафима не стала. Достав папиросу из мятой пачки «Прибоя», она чиркнула спичкой, сильно затянулась и, закинув ногу на ногу, о чем-то глубоко задумалась. Утренняя хворь не оставила в ней ни тревоги, ни воспоминаний, она, часто и глухо покашливая, думала одной ей ведомую думку, навалившись острым локтем на стол.
Мимо ее дома пробежали ребята, у пристани хрипло пробасил леспромхозовский катер, и она вспомнила, что идет день и надо жить. Затушив папиросу, Серафима вышла в сени, отыскала посылочный ящик с молотком и гвоздями, потом вернулась на кухню, поставила чайник обратно в духовку и пошла приколачивать ставенку.
Ставенка на горничном окне болталась на верхнем навесе с весны. Видимо, когда трогался лед и сильный верховой ветер помогал ему в этом, ставенке пришла пора, и она оборвалась с одного навеса и по ночам жалобно и устало скрипела. Этот унылый скрип изводил Серафиму, но до ставенки все как-то не доходили руки.
Гвозди Серафима заколачивала умело, широко, по-мужски размахивая молотком. Шляпки гвоздей плотно и жестко легли в гнезда, и навес словно бы прикипел к стене. Подергав ставенку и замкнув ее на крючок, Серафима присела на завалинку и вновь закурила, крупно и редко затягиваясь дымом.
Дом ее стоял хорошо, удачно — вся Покровка лежала как бы под ним, внизу, у самого Амура. Дом Серафимы отделялся от села редким осинником, и хотя было этого отделения метров сто — сто пятьдесят, но все эти метры шли вверх, на утес. Свекор был человек с выдумкой, с чудинкой, вот и решил, что если здесь построится, то и село будут строить в его сторону, а вышло иначе — домишки потянулись в противоположную сторону, ближе к воде. Но Серафима давно привыкла к этому и иного места для себя не чаяла. Да и как же иначе, если от самого порога и на многие десятки верст открывался такой простор, что взгляд безнадежно пропадал в неведомой дали, которая, так и не закончившись на земле, уходила в небесные выси. И в самые тяжелые часы, и в самые радостные минуты Серафима поверяла этому простору то тайное и одинокое, что есть у каждого человека, озабоченного жизнью.
День задался солнечным, с высоким прозрачным небом и свежей бодростью воздуха. Осенью таких дней на Амуре не перечесть, а вот этот, сегодняшний, был первым в году, и он обрадовал и опечалил Серафиму. Радостно было потому, что дышалось легко и думалось вольготно, а печаль… кто его знает, почему приходит она к человеку, и только ли в такие дни. Для нее дорога не заказана, когда хочет, тогда и нагрянет, и уж твое дело, как с нею справляться, какие мысли и настроение какое из нее вынести.
Обо всем этом Серафима думала как-то отстраненно, не задерживаясь разумом и не отдаваясь чувством, ибо что-то выше этой печали пришло сегодня к ней. Она пристально и жадно смотрела на темную полосу реки, что, огибая утес, на котором стоял ее дом, стремилась к далеким сопкам, и пропадала между ними, и уходила дальше, по суровому краю земли, к суровым холодным водам. Вся жизнь Серафимы прошла у этой реки, и только четыре года отдала она другой стихии — жестокой и беспощадной, которая подмяла и безжалостно поломала тысячи жизней, и среди этих многих тысяч была и ее, Серафимина. Все смешалось и перевернулось на земле за эти четыре года, и только река, думала Серафима, была и осталась прежней. В этом был какой-то смысл, который Серафима сегодня силилась и не могла угадать. Он почти осознавался, этот смысл, нервный и слабый, как пульс умирающего, но стоило напрячься мыслью, сделать усилие, как исчезал совершенно, вызывая невольное раздражение и тихую головную боль…
Уже три окурка, с ровными круглыми мундштуками, валялись у ног Серафимы, а она все так же неподвижно сидела на завалинке, тяжело уронив на колени сухие и красные руки. Ровно припекало солнце, две курицы и неопрятный, обдерганный (и кто его, черта, дергает?) петух купались в пыли, блаженно прикрывая глаза белыми пленками век. Когда Серафима закашливалась, хватаясь рукой за грудь, петух удивленно и сердито квохтал, потряхивая свернутым набок бурым гребешком. Серафиму это квохтанье почему-то раздражало, и она громко прикрикнула:
— Ну, будет квохтать-то, кочет бесплодный. А то ведь враз под топор пущу.
Голос у Серафимы грубоватый и сиплый от постоянного курения, но чувствовалась в нем душевная теплота, осмысленная внутренней отзывчивостью и добротой. И даже раздражение не могло скрыть этой доброты, этого тепла и отзывчивости.
Внизу, в Покровке, жизнь шла своим чередом. Каждый человек творил какое-то дело, и каждый человек был целым миром, со своими радостями и неудачами. И каждому на роду было что-то написано, и каждый человек ничего в этом писании не смыслил и будущей своей жизни не знал. Все это было обыкновенно, как обыкновенна сама жизнь. И кому какое дело до того, что затомило у Серафимы сегодня душу словно в каком-то горьком предчувствии. Эх, люди, люди, полны вы доброты, да скрытны, рождены для чести, а часто живете в позоре и открываете глаза, когда горе уже пришло и сберечься от него невозможно. А что бы чуток пораньше?
Вздохнула Серафима, тяжело вздохнула, от самого сердца вздох поднялся, и пошла собираться на работу.
Спустившись по тропинке в село, Серафима вышла на центральную улицу и широко зашагала мимо добротных, опрятных домов. Длинная черная юбка под коричневым жакетом делала ее выше и стройнее, чем она была на самом деле. Но все портил энергичный размашистый шаг и сильные движения рук. Эта необычная особенность походки Серафимы лишала ее женственности, было в ней что-то неуловимо мужское, и, может быть, именно поэтому звали ее в селе Военной.
У самого дебаркадера навстречу Серафиме попалась Мотька Лукина — маленькая круглая бабенка, бездетно доживающая свой век. Следом за нею понуро вышагивал Осип Пивоваров — тощий, нехорошо кашляющий человек, отменный плотник и законченный пьяница. Осип с войны вернулся в пятьдесят четвертом, пропадал где-то за какую-то провинность. И вернулся пьяницей.
— Сапоги за юбкою, голубь за голубкою, — усмехнулась Серафима.
— Дак ведь пристал, клятый, оглоблей не прогонишь. Второй год прошу ворота починить — его нет, а трешку горазд из-за пазухи выманить. — Слова Мотька сыпала часто и кругло, смешно удивляясь глазами и морща маленький вздернутый нос.
— Ну, у тебя-то есть чего таскать оттудова, — серьезно сказал Осип и подмигнул Серафиме.
— Есть, да не про твою честь, черт неупойный, — отрезала Мотька, у которой груди и в самом деле всходили пышно и дерзко выламывались в крутой вырез обширного платья. — Ты, Сима, на работу?
— На работу, Мотя, на работу, а то куда же еще.
— Ныне, сказывают, теплоход задерживается. На меляк напоролся.
— Снимут, никуда он не денется. А ты с брусничкой?
— С брусничкой, — вздохнула Мотька.
— Дозрела?
— Да где как. На бугорке — бурая, сладкая, а в низинах еще горчит. А ты, Сима, модницей у нас стала. Прямо первый сорт.
— Ну?
— Дак девки-то нынче в длинных юбках щеголяют, коленки им солнце ошпарило, что ли, дак стали прикрывать.
— Мо-оть, — тоскливо потянул Осип, — не томи ты душу.
— Тля тебя разбери, — вдруг осердилась Мотька, — ты что пристал как банный лист к…
Серафима повернулась и по шаткому трапу пошла на дебаркадер, усмехаясь Мотькиной перепалке с Осипом.
— Сим, Сима! — окликнула ее Мотька, — Ты слышала, твоего Матвея в районную больницу свезли? Сегодня ночью леспромхозовским катером отправили. Говорят, плох очень.
Серафима сбилась с шага, через плечо глянула на Мотьку, кивнула и пошла дальше, ничем не выдав своего волнения, так как за три десятка лет обучилась и этому.
Отворив свою каморку, Серафима устало опустилась на стул, оперлась локтями на маленький, под дерматином, столик и глубоко задумалась. В комнатушке пахло свежей краской, рыбой и устоявшимся холодком необжитого помещения. Даже в безветренную погоду дебаркадер легонько покачивался, тоненько звякала чайная ложечка в стакане, и надсадно гудела по стеклам большая зеленая муха.
Когда в окошко постучали, Серафима скинула крючок и резким толчком распахнула дверцу. Достала ключи и, отомкнув маленький продолговатый сейф, разложила на столе билеты трех классов, а палубные, которыми никто пока не пользовался, сунула обратно. Потом на столе появилась коробочка из-под домино, в которой глухо звякали разменные монеты. На угол стола Серафима положила пачку «Прибоя» и спички и только после этого глянула в окошечко. Там стоял Осип Пивоваров. Его тоскующие светлые глаза смотрели на Серафиму виновато и покорно, редкие русые волосы косо лежали на лбу, и под ними мелко искрились капельки пота.
Серафима достала новенькую хрустящую трешницу и положила на окно. Осип не брал и не уходил. Тогда она потянулась со стула, приоткрыла дверь и громко крикнула:
— Кто за билетами — подходи.
Осип и трешница за это время исчезли…
— Здравствуйте, тетя Сима. — Первой брала билет Галя Новосильцева, дочка председателя рыбкоопа Ивана Кузьмича.
— Здравствуй, Левонтьевна. — В город к сыну собрался дед Никишка.
— Добрый день, Серафима Леонтьевна. — Учителка провожала сына-первокурсника.
— Вам звонили? Мне первый класс. — Это командированное начальство из леспромхоза.
— Привет, теть Сима! — Колька Кадочкин ехал пересдавать на шофера.
— Ой, тетя Симочка, два билетика нам. — Девчушки-практикантки из леспромхоза.
«Вот, значит, как, Матвея сегодня увезли, — устало думала Серафима, и непонятно было, откуда вдруг взялась у нее эта усталость, тяжело навалившаяся на плечи. — То-то же и снилась сегодня змея — к дороге. Да стоит ли ехать? Может, ему теперь не до свиданок. Надо бы позвонить прежде, справиться в больнице. А чего справляться? Надо ехать».
Никто не появлялся у окошечка, и Серафима закурила. Длинно выпуская дым, вспоминала Матвея. Хотела думать о нем хорошо, но вспоминалось разное. Его сильные руки — на ее шее. И эти руки — давят. Невольно повела плечами, словно и теперь защищаясь от этих рук. Раскашлялась — долго и томительно, с досадой притушила папиросу.
— Еще кто за билетами?
Серафима смахнула деньги и билеты в ящик стола, сунула папиросы в карман жакетки и вышла на палубу.
Ребятня на палубе ловила чебаков. Серебристые рыбки стремительно вылетали из воды, ярко вспыхивали на солнце и, угасая, тонко падали на палубу. Искристые чешуйки разлетались во все стороны. А на корме стойко пахло свежими огурцами. Так пахнет еще корюшка.
— Теть Сима, а у меня вот такой сазанище сошел, как плюхнется в воду, аж брызги сюда долетели.
— Теть Сима, а мы вам звездочку поменяли. Старая выгорела, мы новую прибили.
А ей хотелось побыть одной, И не знала она, не научилась всем своим опытом тому, радоваться или сердиться, что невозможно на людях остаться одной.
Мирно и приветливо плескалась о борт плашкоута мелкая волна. Множество солнечных бликов, от которых рябило в глазах, лежали на воде, и были они похожи на серебристые чешуйки, щедро рассыпанные благодатным солнцем. Из-за крутой излучины реки уже показался высокий нос двухпалубного пассажирского теплохода. В селе кричали петухи, одинокая чайка кружилась над отмелью, и солнце медленно входило в зенит.
Облокотившись на перила, Серафима привычно замечала все это и грустно улыбалась — две жесткие складки ложились у ее маленького круглого рта. Грусть была давней, привычной для Серафимы, и отдалась она ей легко, с охотой. Так бывает с человеком, хорошо знающим цену жизни, любящим ее, несмотря ни на что. Так бывает с человеком, когда на исходе бытия подводятся им первые итоги, дабы узнать, зачем прожита жизнь, зачем были страдания и редкие минуты счастья.
Глава вторая
Суетня, шум и гам на палубе дебаркадера. Подав сходни, Серафима отошла в сторонку и привычно наблюдала, как торопятся люди с теплохода на землю, а деревенские приплясывают в нетерпении, желая поскорее взойти на теплоход. Странные люди. Вечно они спешат, вечно суетятся, а приходит черед — и нет человека. Выбыл из суеты, оставил сумятицу, успокоился. Казалось бы, хороший пример для молодых, ан нет, и они суетятся, и они торопятся, и тысячи лет не может человек научиться покою, и все потому, что он — человек. А успокойся, притупи в себе сумятицу — и нет человека.
— Бруснички, кому бруснички?! — тонким голосом кричала Мотька, снуя между пассажирами.
— А почем?
— По деньгам, милок, по деньгам. Двадцать копеек стакан. Берите, кому бруснички? Ягода рясная, посередке красная, по бокам стемна, ешьте досыта.
Деревенские пошли на теплоход. Первым дед Никишка. Сгорбленный, приниженный, торопливо просеменил по трапу и скрылся на палубе третьего класса. У деда несчастье, растратилась невестка на большую сумму, сидит под следствием. А дома четверо, и машина в гараже. Была. Дед на ней важно ездил, с заднего сиденья как с трона на людей смотрел. А теперь стыдится вот.
Прошли деревенские, и на дебаркадер сошел еще один человек — фронтовик. Этого Серафима заметила сразу. Хотя на первый взгляд все в нем было как и у остальных людей. Руки, ноги, голова на крепкой шее, широкая, хоть и несколько сутулая спина. Но Серафима за свой век фронтовиков перевидела достаточно, всех мастей и рангов, имела к ним особое отношение и сразу приметила пустое выражение правого глаза, угловатое правое плечо и неестественную прямоту правой руки. Так бывает, когда справа, близко, разрывается граната или снаряд тяжелого калибра ложится в окоп, и тоже справа. Фронтовик был в хорошем костюме, чисто выбрит, не деревенский.
Кто-то тронул ее за руку. Серафима оглянулась. Перед ней стоял Осип и радостно улыбался, бледная кожа лица обмякла и как-то странно провисла на щеках, но блестящие глаза Осипа были полны блаженства.
— Готово, Сима.
— Помоги сходни убрать.
Пробасил гудок теплохода, проезжающие заспешили, затолкались в узком проходе на трапе. Осип отдал носовой, течение мягко и сильно начало разворачивать теплоход, тяжело плюхнулся в воду кормовой трос, и вскоре дебаркадер опустел, лишь Мотька пересчитывала копейки, да мелькали в воздухе серебристые чебаки — клев был сегодня хороший…
Молча откупорив бутылку вина, Осип старательно разлил в стаканы и закурил. Руки у него не дрожали. Серафима достала банку домашних огурцов, луковицу, черствый хлеб. Тоже закурила. Выпить почему-то не решалась.
— Вот и жизнь, — вздохнул Осип Пивоваров, — да, жизнь.
— А что? — не поняла Серафима.
— Да как что, Матвей-то скапустился. Вот и что.
— А ты не каркай, Осип, не каркай, оно так-то лучше будет.
— Человек родится и думает, что родился для счастья.
— Он тогда еще ничего не думает, — усмехнулась Серафима, — орет только. Давай лучше выпей.
Осип пил долго, мучительно, мелкими глотками. Большой кадык под бледной морщинистой кожей сновал по шее словно челнок. Выпив, он еще некоторое время подержал стакан в руке, а оставив стакан, вновь потянулся за папиросой.
— Для счастья, — Осип закашлялся, что-то застонало, захлюпало в его груди, — где счастье было, там… капуста выросла. — Он засмеялся, и смех этот было трудно отличить от кашля его. — Для счастья кто родится? Дурак да сволочь всякая. А простой человек, он для горя родится. Век живет, век мыкается.
— Ты бы закусил. — Серафима хмуро сидела за своим столиком, привычно опершись на локти и глядя прямо перед собой. — А счастье, Осип, оно сильным людям дается. Да и не всегда поймешь, где оно, счастье-то это.
— Это мы с тобой не понимаем да вон Мотька еще, кубышка огородная, а люди понимают. Есть такие, что очень хорошо понимают. Ты много счастья-то видела, много? То-то же. — Осип заметно охмелел и стал не в меру суетлив, беспокоен: руки его не находили себе места, болтались без дела по воздуху. — Я-то свое счастье кайлом схоронил, ну и хрен с ним, а вот ты его за что лишилась, а, Серафима?
— Брось, Осип, — поморщилась Серафима, — что ты, как баба, расфыркался. Да и что ты про мое счастье знаешь? Ничего. Так и не трогай его, не трогай. А свое проспал, на чужое не зарься. Это все одно как чужие деньги считать.
Серафима, подвинув Осипу стакан, сухо сказала:
— Давай за Матвея. Пусть выздоравливает. Рано ему еще…
Однако выпить он не успел. В дверь осторожно постучали, потом еще раз.
Серафима, неохотно поднявшись со стула, отворила и увидела перед собой давешнего фронтовика. Еще не успев удивиться, она мгновенно признала его, и отступила на шаг, и прижала руки к груди, и вдруг вскрикнула, и бросилась к фронтовику.
— Сима! Симка! — изумленно и глухо сказал фронтовик, и правое веко его дергалось непрестанно.
— Никита! — с горькой болью прошептала Серафима. — Никита, Боголюбушко ты наш…
Осип смотрел на них, и вино из стакана тихо капало на пол. Заметив это, он принялся пить, но закашлялся, перегнулся в поясе и сердито толкнул стакан на стол.
— Какими судьбами, Никита? — радостно спрашивала Серафима. — Да как же ты меня нашел? А я смотрю, фронтовик сошел, и не признала, а как дверь распахнулась… Да господи, как же и не узнать-то было. Разве глаз лишиться…
— А и я не признал вначале, потом, как уж меня назвала, скумекал, — глухо гудел Никита Боголюбов, невольно смущаясь присутствием чужого человека.
— Места у вас вольготные, Сима.
— Да.
— Приволье. Экой простор-то вокруг.
— Простора хватает.
— И река — красавица. Раньше я только про вальс слышал, а теперь и реку повидал.
Амур. Хорошо. А ты, Сима, мало изменилась.
— Брось.
— Ей-бо!
— Все божишься? — улыбнулась Серафима.
— А че нам, крестьянам, бороду в кулак, да и ладно так.
— Ох, не верится мне, Никита, никак не верится. Все думаю, что сон вижу, и просыпаться страшно. Ведь тридцать лет, ты только подумай, Никитушка, тридцать лет!
— Тридцать, — вздохнул Никита.
Они медленно шли по осиннику, оставив за спиною село. Дом Серафимы уже проглядывал сквозь деревья, и она невольно прибавила шаг, предчувствуя долгий счастливый вечер воспоминаний.
— Как у вас с выпивкой, — добродушно басил Никита, — в воскресенье ша, в празднички по два?
— А то, — махнула рукой Серафима и засмеялась Никитиной шутке, — ничего лучше придумать не смогли. У тебя семья-то есть?
— В обязательном порядке. Целая гвардия. Мал мала пинает из-под стола. В аккурат бы на наш расчет хватило…
— А я одна, — поторопилась предупредить вопрос Никиты Серафима, — ничего, живу.
— Постой, — Никита поморщился, припоминая, — а муж, дочка же у тебя были?
Серафима, повернув голову к Никите, грустно посмотрела на него, тихо сказала:
— Потом, Никита. Потом я тебе все расскажу. Нет у меня никого.
И уже молча они дошли до дома…
— А я, понимаешь, сошел с теплохода и прямым ходом в село. Смотрю, бабенка навстречу бежит, я и спрашиваю ее, где, мол, тут у вас Серафима Леонтьевна Лукьянова живет. Военная? — переспрашивает бабенка, военная, говорю я ей, она и указала. Шлепаю я назад, к дебаркадеру, а у самого сердце обмирает. Никак не могу поверить, что увижу сейчас Симку нашу, сестричку фронтовую. Ан, вишь, встретились.
Никита, скинув пиджак, сидел в горенке за круглым столом. Серафима хлопотала на кухне. Петушиные перья летели в разные стороны, кипела вода в кастрюле, и сухо потрескивали смолистые еловые дрова.
— Сима, может быть, чего помочь? — Никита томился в бездействии.
— Отдыхай. Сейчас будем садиться.
— Уф, жарковато у тебя.
— И то, — спохватилась Серафима, — спасибо, хоть надоумил меня. Тогда тащи табуретки в палисадничек. Там стол есть, и прохлада от реки поднимается.
А уж вытащила Серафима из погреба огурцы малосольные и грузди хрусткие, тонкими ломтиками легли на тарелку лук и балык, вареные яйца для салата легонько дымились на столе, а скорлупу под навесом доклевывали куры…
— Выпьем, потянем, родителей помянем. — Стакан прочно сидел в широких пальцах Никиты. Сам он, улыбающийся, добродушный, выглядел празднично.
— Нет, Никита, — свела брови Серафима и прямо посмотрела на него, — поминать будем тех… За тех, кто не вернулся.
Минута пришла, минута и ушла, и они грустно молчали в эту минуту, припоминая тех, кого давно уже не было на земле. Тридцать лет не было. И они впервые по-настоящему поразились своей встрече, поразились тому, что имеют возможность видеть друг друга, и это после того, что они перевидели и что пережили они. Было удивительно им это, удивительно и больно. И еще успели подумать, что малого в жизни достигли, что те, кто не вернулся, достигли бы большего, да и на память были б щедрее.
— Встанем, Никита.
И они встали, добавив к прошедшей минуте еще одну, которую хотели и должны были прожить за товарищей.
Выпили и задумались. Говорить пока не хотелось, вернее не находились еще те слова, с которых можно было начать этот разговор. Никита от выпитого погрустнел и ушел в себя, а Серафима смотрела на то, как постепенно угасает день и меняется цветом река, вобравшая в себя солнечное тепло и теперь готовящаяся отдать его ночи. Тихо было на земле. Удивительно. А когда-то думалось, что к тишине привыкнуть нельзя, что вечно будут просыпаться солдаты от внезапной тишины.
Легкий ветерок перебирал листья осинок, многие из которых уже золотились по краям. От земли шло ровное спокойное тепло. А закуска на столе была не тронута, и ничего странного не было в этом.
— Эх, Сима, наливай еще!
— Да ты бы сам командовал, товарищ старшина.
— Это можно. Это мы можем.
Глава третья
— Товарищ старший сержант, рядовая Лукьянова прибыла в ваше распоряжение.
Девушка, в длинной шинелишке, аккуратно приткнув пальцы к виску, хотела разом охватить взглядом все: и его, старшего сержанта Боголюбова, и передовую, и расположение батареи, и бегущего по овражку с термосами повара Хамида. И по этому взгляду Никита догадался, что девушка на передовую попала впервые и все ей здесь в диковинку, все кажется великим и геройским.
— В мое распоряжение? — притворно удивился Никита, пристально разглядывая ее. — Вот это дела-а.
— В распоряжение…
Девушка не закончила, так как внимательно прислушивавшиеся батарейцы не выдержали и хохотнули. Подоспевший Хамид удивленно раскрыл рот, и из его рта тонко струился пар.
— И? — спросил Никита.
— Сержант, не томи, дай я ее расположу, — весело крикнул Коля Бочарников, — моя шинелка самая теплая, гагачьим мехом подбита. Дай…
Через два часа Коля Бочарников лежал на своей шинели, в своей крови, а Никита Боголюбов, морщась и чувствуя тошноту, зачем-то присыпал землей оторванную кисть Колиной руки. Земля была уже на изморози, комковатая, и все разваливалась, и бледные пальцы проступали из-под нее, словно ободранные корни.
Девушка бинтовала культю, встав над Бочарниковым на колени. Прядки волос выбились из-под пилотки, и выражение ее лица нельзя было разобрать.
Колю унесли, и еще двое ушли сами, виновато оглядываясь на батарею, невольно спеша и усиленно стараясь не показать этого.
— Страшно? — спросил Никита.
— Что?
— Страшно было?
— Н-нет.
— Ты не ври. Не надо. Мы и сами не каждый день прямой наводкой бьем. А страшно всем, и мне в том числе, потому как человек не для войны родится… Привыкнешь.
— Постараюсь.
— Как звать-то?
— Серафима.
— Сима, значит. Ну, Сима, будем воевать. Не каждый день к нам танки прорываются.
— Не каждый, товарищ старший сержант.
— Давно воюешь?
— С августа.
— Ну и добре, что к нам попала. С нами до Берлина дойдешь, там и замуж выдадим.
— Так я замужем.
— Ну?!
— И дочка у меня уже есть. Три годика.
— А муж?
— Там, — Сима неопределенно махнула рукой, и Никита понял, что дальше расспрашивать не надо.
Лежало перевернутое вверх колесами орудие, на огневой валялись еще теплые гильзы, и сладко щекотало в носу от порохового пара из казенников. Батарейцы зарывались в землю, где-то долго и тревожно бил пулемет.
— Никита?
— А?
— Ты помнишь, как я впервые на батарею пришла?
— Ну еще бы.
— Я тогда из госпиталя сбежала.
— Ты рассказывала.
— Ага, сбежала, Никитушка. А ты предписание не спросил. Потом бой, не до этого было.
Никита пьянел долго, тяжело. Какая-то стынь появилась в его добрых, широко поставленных глазах. Грузные плечи обмякли, опустились, и видно было, что он еще не дошел, а когда дойдет, то бог знает что из этого получится.
— Ты бы хоть рассказал, Никита, как жил все это время, чем занимался?
— Как жил? — Он улыбнулся и посмотрел на Серафиму ласково. — Разно жил, Симушка. Разно. Мы ведь воевали и думали, вот победим, придем домой, и почет нам за победу на всю жизнь будет. Дня три дома гулял, потом в норму начал входить и чую, чего-то в доме не хватает. Ну, все вроде бы на месте, ан нет — какая-то пустота, а какая — в толк не возьму. Тогда я к мамане, так, мол, и так. Она в слезы. Как же, говорит, хватать будет, если коровы нету. Повела она меня в стайку, а там уже и навоз давно простыл. Этим же вечером привел я с колхозной фермы себе коровенку. Ну, не без шума. Гвозданул по лбу сторожа. Пять лет потом на стройках народного хозяйства вламывал, там и женился. Вернулся — маманя долго жить приказала. Ну и подались с жинкой из села. Два года с геологами в Саянах, два года омуля на Байкале ловили, а потом в лес потянуло, на природу, и двинули мы в леспромхоз. Там и осели, детишек нарожали, живем. Ничего. Заработки хорошие, я уже двенадцатый год в бригадирах хожу, жена курсы закончила и десятницей при мне. Живем, Сима, не жалуемся. — Никита помолчал, покатал хлебную крошку на столе и глухо повторил — Не жалуемся.
— Значит, и тебя судьба не больно-то жаловала?
— Да я не о том. Кой хрен жаловать, когда я вот он, жив, руки, ноги целы, голова на плечах. Другим хуже пришлось. А я… — Никита махнул рукой и умолк. Потом взял стакан, посмотрел его на свет и спросил неожиданно — А у тебя звездочка на воротах, как проходили, видел. Почитают?
— Почитают, — усмехнулась Серафима. — И чем дальше, тем почета больше. Раньше, бывало, приедешь в город и уж по выправке через одного фронтовика узнаешь. Потом выправки не стало, и смешались фронтовички со всем людом, а теперь уж и сами вояки в редкость. Еще лет десять пройдет, и остальные отбегаются. И на этом наше поколение кончится. Отвоевали, отжили, ушли.
Никита выпил еще, закусил огурцом, широко вздохнул. Посидел в задумчивости и вдруг грохнул кулаком по столу. Тарелка с огурцами полетела на землю, перевернулась рюмка с водкой и покатилась к краю. Серафима подхватила ее и без всякого удивления поставила на место.
— Прости, Сима, но не могу, — глухо, со скрытым напором, уже пьяно и обиженно заговорил Никита. — Я, может, потому и тебя разыскал, к тебе поехал, что еще годков пять — и не свидимся уже. Ты вот про фронтовиков говорила, которые по городу ходили, а я безногих и безруких вспомнил, которые в колясочках катались. Сразу после войны их много было. Куда они делись, Сима? Умерли от нездоровья? Они от боли утихли, Сима… Я в Новосибирске Петьку Липина встретил. Помнишь, как он говорил? Мол, побьем Гитлера, вернусь домой, женюсь и двадцать пять детей нарожаю, чтобы на каждый год войны их по пять выходило. А тут вижу, катит в колясочке инвалид. Когда узнал меня, расплакался. Кому, говорит, я нужен, уж лучше бы убило… Всех перекрутила война, всех переломала, здоровых и калек, и сегодня еще тешится, тридцать лет прошло, а ей все мало.
Никита скрипнул зубами и потянулся за бутылкой, но на полпути рука его замерла, он виновато посмотрел на Серафиму и словно бы протрезвел на мгновение, так по- человечески тепло и удивленно сказал:
— А ведь не все плохо-то, а, Сима? Дети растут.
— Повырастали уже, — мягко ответила Серафима, — наши выросли.
— Много ты куришь, Серафима. Не бросала?
— Нет, Никита, не бросала.
— Кашляешь?
— Кашляю.
— Бросила бы.
— Теперь поздно.
Разговор сменился быстро, как это бывает за выпивкой, и Никита уже вскоре рассказывал Серафиме о своих ребятишках, звал в гости, добродушно улыбался, и лишь правое веко пульсировало безостановочно.
Когда солнце коснулось вершины хребта, на тропинке к дому показался Осип.
— Явился, не запылился, — усмехнулась Серафима.
Осип молча достал поллитровку вина и молча поставил на стол. Две орденские планки сияли на его груди.
— Зачем принес-то, у нас и так хватает.
— Пусть будет, — коротко сказал Осип и протянул руку Никите: — Осип Степанович Пивоваров.
— Никита Боголюбов.
— За знакомство…
Уже поздним вечером вынесла Серафима гармонь, и пока Осип настраивался, нервно и быстро пробегая худыми пальцами по клавишам, побежала в село. Долго дозванивалась до райцентра, потом в больницу, когда дозвонилась, ей сказали, что Матвей Петрович Лукьянов скончался два часа назад.
Глава четвертая
— Сима!
— Ну?
— Задержись на минутку.
— С чего бы это?
— Поговорить надо.
— Интересуюсь, о чем?
Матвей попытался обнять ее, но она сильно, с неожиданной яростью, оттолкнула его.
— Ты говорить говори, а руки не распускай.
— Не буду.
— Так что скажешь-то?
— Выходи за меня…
Матвей был старше ее одним годом. Невысокий, плотный, с белесыми ресницами и толстыми губами, он в красавчиках не ходил. Но было у Матвея одно преимущество— упрямство. Уж и гоняла она его, и высмеивала как угодно, а он все одно ходил за нею неотступно, терпеливо дожидаясь своего часа. И она уступила.
Свадьбу сыграли шумную, напоказ, вот, мол, мы какие, ничего нам не жаль. В первый же вечер Матвей перепился и спал на коврике у кровати. Она смотрела на его потное и жалкое во сне лицо и не спала. Утром Матвей полез к ней на кровать. Она, сонная, толкнула его, и Матвей обиделся, отвернулся, и целую неделю еще они спали поврозь.
Жизнь их налаживалась хоть и не без труда, но прочно. Поставили свой дом, справили новоселье, пора было и рожать. И она родила девочку. Олю.
— Не мог постараться, — ворчал на сына Петр Гордеевич.
Матвей смущался и уходил на улицу, а она говорила свекру:
— Сына на войну возьмут, да и убьют там, а дочь дома останется и жива будет.
— Тьфу на тебя, дура, чего каркаешь, — беленился свекор, — или у тебя одной дети?
— Тогда Оленьку не трогайте. Родилась и пусть живет.
— Ты че это, девка, — пугался свекор, крепкий и веселый старик, — ты че, белены объелась или так, тронулась умом? Да кто твою Ольку трогает?
— Сами же и говорите.
— Да мало что я говорю, ты слушай больше. Положено так, вот и говорю.
Свекор уходил, и она слышала, как он сердито выговаривал сыну:
— Олух царя небесного, и за себя-то вступиться не можешь, все на нее сваливаешь.
Серафима родилась и выросла на берегу Охотского моря, куда ее предки пришли еще на кочах осваивать суровые и дикие окраины России. Ее отец был рыбак-промысловик, старатель, плотник, лоцман, смолокур и пьяница. Грустно это признавать, но многие таланты русские сгубили себя на вине, и в чем тут причина — трудно сказать. Идет ли это от просторов наших или от просторов души, от желания забыться или вспомнить все, но пили даровитые люди много, бесшабашно, словно торопились сжечь себя зачем-то. Леонтий Маркелович — отец Серафимы — пил и буянил часто. Стоило по приморской деревушке прокатиться слуху, что Леонтий Охлопков пьян, как все мужики спешили по домам, затворяли запоры, и тогда Леонтий шел на пристань, где отстаивались китобои. Те промысловики, что уже его знали, убирали трап, и на этом дело заканчивалось, а другие долго и остервенело, большим количеством, подминали Леонтия, били, вязали по рукам и ногам и выбрасывали на берег. Всего этого Серафима долго не знала, так как домой отец приходил тише воды ниже травы. Даже окрика или громкого слова не слышала она от него. Зато мать, маленькая и щуплая, поднимала шум на весь дом. И отец, смущенный, растерянный, старался твердо стоять на ногах, просил:
— Даша, Дашенька, ну не ругайся, не надо. Не буду больше, вот истинный крест — не буду.
Но водку отец почитал больше истинного креста.
В десять лет Серафима научилась грести веслами и бить белку. Отец часто и охотно брал ее с собой и всем говорил, что научит Серафиму лупить своего мужика, чтобы самой битой не остаться.
Но только научить ее чему-нибудь он так и не успел — повел котиковых бойцов к Командорам и больше не вернулся. А через год странно и нелепо погибла мать — пекла хлеб и угорела в собственной избе. Тогда-то и забрала ее в Покровку дальняя материна родственница.
Серафима смерть родителей переживала тяжело, долго и болела, и почему-то ненавидела людей. Не отдавая себе отчета, она винила их в своем несчастье, и больше всех дальнюю родственницу, бабку Матрену. И долго потом стыдилась Серафима, как только вспоминала ее доброе, широкое и морщинистое лицо.
Однако годы и молодость взяли свое — боль отступила, горечь прошла, и осталась только память о великой доброте людской, которая ничему не обязывает и не обременяет, а просто существует на земле, как существуют воздух и вода. И эта память исподволь научила ее и самой быть доброй, щедрой на привет к людям, отзывчивой на их доброту. Так-то в миру все и ведется: ты к людям с шилом — и они рылом, ты с пирогом — и они лицом.
А уже пришли новые времена, и новые песни пелись над Амуром. Были они задорные, вызывающие. Человек, он, как малость оклемался, в себя пришел, и рад-радехонек, что есть он на земле, и сама земля есть, и воздух над нею чист, и птицы певучи, да солнце ласково. А схлынет первая радость, человек уже и задумается, засомневается, и смысл для себя какой-то в жизни ищет, и сам себя в этой жизни познать хочет. Любопытное существо. Талантливое и печальное. Печаль — она от леса, от той поры, когда жег человек первый костер посередке земли и со страхом смотрел на деревья, туго и впервые размышляя: а не вернуться ли туда опять? Может быть, и вернулся бы, да уже хвост отстал, цепляться за ветки нечем, вот он, человек, и ударился в талант: что ни шаг — выдумка. Так вот до наших дней и дошел. Одна беда, талантливость человеческая разно проявляться стала, а не случись этого, с чего бы человеку печалиться.
Серафима улыбалась жизни, как могут улыбаться ей только очень добрые и очень молодые люди. Семнадцати лет она поехала строить Комсомольск, потому что многие тогда потянулись из села на большие новостройки, и она не осталась в стороне. Жизнь в молодом городе была бурной и интересной. Днем она штукатурила дома, а вечером ходила на курсы медицинских сестер. Ей нравился труд сам по себе, нравилось ощущение усталости, сознание силы своей и возможности быть полезной тому обществу, среди которого она выросла и воспитывалась.
Когда тихо и достойно скончалась бабка Матрена, завершив свой многолетний путь по земле, Серафима уже знала, что этого не избежать и жить вечно невозможно.
И следом шла новая мысль — кто-то должен на земле заменить бабку Матрену, иначе земля очень скоро может опустеть. И поэтому она вернулась в село, получив специальность штукатура-маляра и удостоверение младшей медицинской сестры.
Матвей никогда не был ей дорог так, как может быть дорог самый близкий человек. Но он был отцом ее дочери, и она старательно и упрямо пыталась делить свою любовь поровну. Впрочем, очень скоро она поняла всю беспредельность того пространства, которое отделяет притворство от правды. Нельзя, невозможно любить землю и не ненавидеть зло. Самое странное тут в том, что не ты идешь к земле, а она сама стремится к тебе, со всем своим простором, певучестью и теплом. И ты не в силах устоять, как бы черств и жесток ни был душой. Вот и она пыталась угнаться за любовью, ухватить ее, притянуть к себе, пока не поняла, что любовь — пава с характером и приходит она только по своему желанию. Казалось бы, тут и точка семье Серафимы, предел, ибо жить с нелюбимым человеком — что может быть хуже такого наказания? Но русская женщина издревле славится добротой, и доброта эта, может статься, ничего, кроме бед, не дает ей, но отними доброту от нее — и лишится земля, может быть, самого безалаберного и самого прекрасного детища своего. И Серафима, нисколько не тяготясь и не ставя себе это в заслугу, искренне и безропотно несла свой нелегкий бабий крест до той поры, пока не пришла привычка.
И вот замышляет человек свою жизнь, прикидывает, стремится наперед угадать, и кажется ему, что теперь вот уже все известно и, слава богу, вроде бы неплохо должно это все сложиться, а в это же время совершенно обалдевший от неожиданной фортуны человек, ловко оболванивший в общем-то неглупый народ, кричит с трибуны: «Нах остен!»
Стихийное бедствие — всегда неожиданность: дома горят ночью, реки разливаются в солнечную погоду. Но была и остается самой неожиданной на земле — война! Как бы ни готовил человек себя к ней, как бы ни вооружался, он до последней минуты не верит тому, что она возможна, ибо война противна человеку.
С первых же дней потянулись из Покровки мужики на фронт. Но ушли не все, некоторых оставили на брони, и среди них Матвея, как бригадира рыболовецкой бригады.
Ночью Серафима спросила мужа:
— Матвей, а ты и в самом деле на фронт не пойдешь?
— Дак оставляют, чего же идти, — ответил Матвей.
— Шел бы, — ласково попросила Серафима. — А я уж тут умру, но за двоих управлюсь.
Матвей заворочался в постели, засопел, потом сердито пробурчал:
— Не твоего это ума дело. Спи лучше! Там знают, кого отправлять, а кого здесь придержать. Или ты от меня решила избавиться?
Серафима не ответила, чувствуя, как что-то тугое и жаркое зарождается в груди.
— Другим бабам-то в радость, — обиженно говорил Матвей, — а ты, бесстыжая, и скрыть-то своей нелюбви не можешь.
— Тогда я пойду, — спокойно сказала Серафима.
— Что? — Матвей приподнялся на локте. — Ты че буровишь-то, дура полоумная?
— Кому-то ведь надо идти, — вздохнула Серафима, — из каждой семьи должен быть солдат. Иначе мы его не одолеем. — Подумала малость и решительно добавила — Тут вот и повестку мне, как младшему медперсоналу, доставили, так что…
— Да я, — вскочил Матвей, — я тебе ноги повыдираю и спички вставлю, только сунься попробуй в военкомат. Вояка нашлась… Я тебе покажу повестку, а ребенок у тебя? Ее-то куда? В Амур или в приют прикажешь сдать? Или на меня надеешься — не надейся! Я в няньках ходить не собираюсь…
— Иди тогда ты!
Матвей коротко и сильно ударил ее в лицо. Свекор завозился, кашлянул, потом медленно и спокойно сказал:
— Еще раз стукнешь ее, как собаку удавлю и шкуру сдавать не буду.
Глава пятая
— Подожди, подожди, — Никита тяжело опустил руку на стол, — ты как думаешь, почему мы войну выиграли, почему мы, а не они? Вот как ты на этот счет думаешь?
— Надо было, вот и выиграли, — щупленький Осип в этот раз был на удивление трезв и сосредоточен: Серафима давно уже не помнила его таким и тихо удивлялась. — Народ захотел победить и победил, чего уж тут хитрого?
— А ты думаешь, фашисты не хотели победить? — Никита, кажется, был доволен ответом Осипа и, благодушно улыбаясь, гнул в разговоре какую-то свою линию. — Им, может быть, эта победа в сто раз нужнее была, а они вот взяли и проиграли нам войну. Почему?
— Ну, командующие у них, наверное, были похуже наших, — неуверенно ответил Осип, — да и сам немец потрусливее русака.
— Стоп! Никита поднял руку. — Стоп, Осип. Это ерунда. Немец завсегда хорошим воином почитался, иначе бы он под Москву не закатился. Иначе бы нам грош цена, что так далеко допустили.
Серафима, до этого почти не обращавшая внимания на их разговор, теперь насторожилась и прислушалась. Вернувшись из села, она ничего мужикам говорить не стала, чтобы не испортить им вечера, и одиноко переживала случившееся, как умеют переживать только много выстрадавшие и одинокие люди. Горя она не ощущала, нет, ибо давно привыкла к смерти, да и не тем человеком был для нее Матвей, чтобы удариться в безутешное бабье горе, скорее печаль какая-то подступила к ней, так как вместе с Матвеем ушел из жизни большой и грустный период ее судьбы. И Серафима прислушивалась к себе, к своим ощущениям и чувствам, тайно удивляясь покою, который снизошел вдруг к ней.
— Тогда почему же? — начал сердиться Осип, не понимая, куда гнет Никита и что он вообще хочет от этого разговора. А Никита, видимо, только и дожидался такого вопроса, и обрадованно хмыкнул ему, и значительно помолчал, прежде чем начать ответ.
— Из-за дисциплины, — сказал Никита и торжественно посмотрел вначале на Осипа, а потом на Серафиму. — Да, Осип, из-за дисциплины.
— Как это? — Осип нахмурился, усиленно соображая, и даже потряс головой на длинной худой шее.
— А очень просто. Ты видел, как ходит немец в наступление?
— Ну?
— Вот видел, а ничего не понял.
— Да я…
— Подожди, — решительно перебил Никита, — дай до конца скатать. Ты думаешь, я сразу сообразил? Хрена лысого. Я, может быть, тридцать лет над этим голову ломал, прежде чем самостоятельно додуматься смог. Так вот, как наступает немец? Дали ему задание взять деревню Н. Я к примеру говорю, дали ему такое задание, и он пошел. Пошел через поле брать деревню Н. А слева наша огневая точка. Сидят двое хлопчиков, хорошо замаскировались и ждут своего часа, когда в дело вступать надо. Ну, как полагается, провели артподготовку, пробили по квадратам и так просто пробили, на всякий случай, и поперли фашисты. Идут уверенно, смело — назад не поворотишь. И вот попадают они под прострел наших хлопчиков. Та-та-та, поливают хлопчики, а немец прет, у него задача: взять деревню Н. Выбили хлопчики роту, немец вторую шлет, кончилась вторая, немец резерв подтягивает, опять артиллерией обстреливает и опять идет. А хлопчики строчат да бога молят, чтобы прямым не накрыло. Ну, наконец, прорвался немец в деревню Н, потери большие понес, но приказ выполнил. А что в деревне? Три пустые хаты да одичавшая кошка. Наши-то давно отошли и на более выгодные позиции встали. Что немец выиграл? — ничего. Задачу он осилил, правильно, но сколько боевых единиц потерял и для чего — чтобы тоскливую от голода кошку увидеть? Теперь слушай сюда. Как эту самую деревню Н. будет брать Иван? Получили Иваны приказ, артобстрел провели — и вперед. Иваны знают, что первым задачу поставил командующий армией, потом командиры корпуса, дивизии… и так до командира роты, до взводного — и пошли. Иваны знают, что задачу надо выполнить во что бы то ни стало, что за этим выполнением следит грозное начальство и свои маневры планирует. Вот и пошли Иваны. Прошли половину поля — мать твою так — с левого фланга пулемет ударил. Идти дальше — верная смерть, и плюхнулись Иваны на землицу-матушку. А как только плюхнулись, тут же и окапываться давай. Ведь он, фашист проклятый, знай строчит из пулемета. Окопались Иваны, брустверочки из земли насыпали, очухались и давай из-за этих брустверочков потихоньку выглядывать.
Серафима и Осип улыбнулись. Осип заерзал на скамейке, хотел что-то сказать, но Никита строго поднял толстый короткий палец, требуя внимания.
— Выглядывают, значит, они и соображают, как бы немца перехитрить да задачу выполнить. А в это время связной из роты, в чем дело, мать-перемать, почему задачу не выполняете? Успеется, говорят Иваны, и дальше осматриваются. Опять связной пришлепал — результаты запрашивают. Да взяли уже мы эту Н., так и скажи, передают Иваны. Связной видит, что не взяли еще, однако докладывает, видит это и ротный, но тоже докладывает, взяли, мол, чего беспокоитесь. А Иваны лежат, однако знают, что сообщение пошло и через несколько часов могут двинуть сюда силы прорыва, и если к тому времени деревню Н. не взять — быть беде. Конечно, можно будет сказать, что деревню отбили немцы, что их там несметное количество, но это уже шиш, хреновина на постном масле, так до Берлина не дойдешь, и Иваны ищут выход.
Никита умолк, значительно и строго глядя на Осипа, перевел взгляд на Серафиму и откашлялся.
— Ну а дальше-то как? — заинтересованно спросил Осип.
— Дальше как? — Никита прищурился и сплюнул между ног. — Дальше так. Смотрит один из Иванов, а по полю межа идет, да так она ловко идет, что под пулеметным прострелом мертвой зоной получается. Набрал Иван полный рот воздуха и дунул в ту межу — только ошметки из-под сапог летят. Залег и опять же осматривается, а как осмотрелся, так и попер по-пластунски. Смотрят Иваны — проскочил, и следом посочились. Всыпались в деревеньку, а там та же кошка мяукает, дали ей сухарика, русская же кошка, наша, при немцах, можно сказать, в подполье обитала, и дальше соображают — как огневую точку подавить. Но тут уже ерунда, подробности — с тыла, да с гранатою, кто того дела не справит? Заняли деревеньку Н., потери — ноль. Дисциплину нарушили? Так какая в том беда, если это нарушение только на пользу пошло. А вот немец, он не нарушит, не та нация. Ему любой ефрейтор может за это челюсть набок свернуть, и он того ефрейтора пуще нашего пулемета боится. Вот и прет на верную смерть.
Помолчали. Осип спросил:
— Дак что, каждый раз межа, что ли?
— Ну не межа, так овражек, не овражек — еще что-нибудь, — задумчиво ответил Никита, — разве дело в этом. Вся хитрость в солдате. Начальство планирует, размышляет, хитрые операции придумывает, а выполняет-то все это солдат. Он без начальства — ничего, но начальство без него— дважды ничто. Солдат воюет, и ему на месте виднее, как в том или другом случае поступить. А немец этого не учел и проиграл нам.
Уже тихие сумерки опустились над Амуром, и внизу, в Покровке, во многих домах загорелись огоньки. Где-то лениво, басом брехала собака. Прошел лесовоз, тяжело груженный елью, слепо тыкались в сумерки его включенные подфарники. Серафима устала за день, от выпитого легонько кружилась голова, но она знала, что сна долго не будет и ночь к утру покажется длиннее жизни.
— А я вот под конец войны в шпионы угодил, — вяло, бесцветно сказал Осип, потянулся за рюмкой, разом выплеснул водку в себя и закашлялся. Никита несколько раз хлопнул его по спине. — Брось, — откашлялся Осип и вымученно улыбнулся, — это не от того, этот кашель хлопками не выбьешь. Серафима, а ты чего молчишь-то сегодня?
— Вас слушаю.
— Вот всегда так, — словно бы пожаловался Никите Осип, — молчит. Курит одну за другой и помалкивает, ровно ей и сказать нечего.
— А чего говорить-то? — вздохнула Серафима. — На свете много говорено и без моего.
— Так вот, в шпионы я попал. — Осип выжидающе посмотрел на Никиту, а потом вдруг изумленно возмутился — Четыре года провоевал — и шпион. Ах, дышло тебе поперек горла, тьфу! — Осип опять закашлялся, и Никита с жалостью смотрел на него. — В разведку нас послали, троих… А немец на прорыв пошел. Двоих-то и уложило, а я в овражке схоронился… Через два дня немца отбили, я к своим, едва живехонек добрался, а меня — под конвой. Почему, говорят, один вернулся? Дак убило двоих-то, отвечаю… А почему ты живой? Дак бог милостив, спасся на этот раз, повезло, значит… Ну а почему немец на прорыв пошел, когда мы резервы на другой фронт бросили? Дак это вы его спросите, говорю им. А мы тебя спрашиваем, потому как ты в это время на той стороне линии фронта был и странным образом в живых остался. Вот так и пошло-поехало. Домой вернулся в пятьдесят четвертом — мне руки не подают. Спасибо вот Серафиме, оборонила. Себе беды нажила, но выручила, а так бы — каюк.
— Какая уж там беда, — отмахнулась Серафима, — да я не я одна, а Мотька Лукина, а Иван Новосельцев? Или забыл уже?
— Так они уже после тебя, — возразил Осип, — как ты меня в дом пустила да добрым словом согрела. Тогда уж и не только они, многие мнение переменили. А сразу- то… То-то же. Матвей первым кричал, что изменникам Родины в селе делать нечего, а уж Варька Рындина и рада была стараться.
— Ладно, Осип, будет старое поминать-то, — встала из- за стола Серафима, — или больше говорить не о чем? Давайте лучше почаевничаем, да Никите и отдохнуть с дороги пора.
— Да я ничего, — начал было Никита, но Серафима строго заметила:
— Пора, Никитушка. Не те годы уже, чтобы сон не соблюдать.
— Не те, — согласился Никита.
Чай пили в молчании и уже при звездах. Каждый думал о своем и о всех вместе.
— Пойду, — поднялся Осип.
— Иди, — не стала удерживать Серафима.
— Ты гостя-то дома не держи, — посоветовал Осип, — пусть наши места посмотрит.
— Посмотрит. Ты бы мотор наладил да на рыбалку с ним съездил, а то ведь и сам уже позабыл, какой он, простор-то наш.
— Налажу, — пообещал Осип, — завтра же и налажу. Там делов на два часа.
— Ну и славно. А теперь ступай, на стол не косись, больше ничего не будет. Ступай.
И Осип покорно пошел по тропинке между светлыми проемами стволов.
Серафима быстро убрала посуду, постелила гостю, задернула занавески на окнах и сказала Никите:
— Ну, Боголюбушко, спасибо тебе на веки вечные, что навестил. Уж и не знаю, как благодарить тебя.
— Ну что ты, Сима, — смутился Никита, — чего там.
— Спи, Никитушка, мы еще с тобой наговоримся. — Сухими губами она поцеловала его в щеку и ласково повторила — Спи.
Сама же она вышла из дома и направилась на утес, откуда далеко окрест просматривались днем приамурские дали, а по ночам отражались звезды в реке, и казалось что плывет утес в какие-то неведомые края, мягко покачиваясь на мелкой волне.
Ночь была светлая и теплая. Наверное, одна из последних теплых ночей. Серафима села на круглый гладкий камень, оправила юбку на коленях и закурила. Огонек папиросы тихо мерцал в ее руке, а высоко в небе, круглобоко и ярко, катился в пространство желтый шар…
Глава шестая
Ушла Серафима тайком. Опасаясь погони, на тропу не выходила, пробиралась лесом, по-над сопочками, где любит летом жировать медведь. Несла она с собой маленький узелок с харчем, метрическую справку, в которой указано было, что Лукьянова Серафима Леонтьевна, 1921 года рождения, русская, рождена в селении Святогорье от брака Охлопкова Леонтия Маркеловича и Охлопковой Дарьи Семеновны, повестку из военкомата и удостоверение младшей медицинской сестры. Серафима считала, что этого вполне достаточно для того, чтобы попасть на фронт.
Бежала она тайгой, ключи вброд переходила, полная решимости выполнить задуманное, и лишь об одном, сердце тревожилось — как-то там Оленька без нее, накормил ли свекор в обед и не забыл ли молоко вскипятить, что в крынке на окне осталось. По летнему времени много ли ему надо — два-три часа, и скисло. Да еще о свекре, Петре Гордеевиче, думала, жалела, что так и не открылась ему, ничего не сказала на прощанье. Почему-то подсказывало сердце — не стал бы Петр Гордеевич ее удерживать, не перечил бы, а если так, то и на сердце куда легче было бы, да и за Ольгу спокойнее.
Какая-то неведомая сила гнала Серафиму вперед. Она и притомиться толком не успела, как миновала первое село — Славянку. Здесь она еще осторожничала, обошла село за огородами, скрываясь в мелком, но густом ельнике. Пахнуло на нее печным дымом, у кого-то собака забрехала, петух пропел, и заныло сердце у Серафимы, заболело болючее.
«Ах ты, немчура проклятущая, — ожесточенно думала на ходу, — на чужой кусок позарились, да как бы свой не проворонить. Одумались бы, пока не поздно, отступились, а мы не злодеи, простили бы. Всякий ведь ошибается. А может, пока она тайгою бежит, война уже и кончилась? Вот славно-то было бы как. Конечно, кое-кому из ихних хорошенько бы пришлось ответить, ну и не беда. Пакостников завсегда бивали, и ноне люди добрые бьют, потому как заслужил — получай сполна. И ведь зловредный народ-то какой, нет предупредить, раз уж так воевать с нами схотелось, по-честному сказать, так, мол, и так. Куда там, молчком двинулись, по-волчьи. Этак волки завсегда подкрадываются, втихомолку, но на то он и зверь, волк-то, а тут люди. Нет, эти вряд ли одумаются, раз так пошли, одумаются, держи карман шире».
Бежала Серафима дальше, размахивая белым узелком с десятком картофелин и балыком, мари перебегала, через завалы перелезала, кустами стланика продиралась, и чем дальше уходила от дома, тем больше решимости копилось в ней — воевать проклятого Гитлера.
Солнце уже к заходу клонилось, вечерние птицы запевать начали, а Серафима все бежала и уже верст тридцать, не меньше, от дома отмахала. Но усталости она не чувствовала, лишь опасение было, что не поспеет завтра к пароходу и придется тогда еще три дня в лесу скрываться, пока следующий подойдет.
«Лишь бы до города добраться, до Хабаровска, — думала Серафима, — а там народа уйма, там не найдут».
Что она будет делать в городе, к кому пойдет, к кому обратится — Серафима представляла смутно, но думала, что все как-нибудь обойдется, образуется. Ведь она на любую работу согласна, полы будет мыть, за солдатами стирать, лишь бы к фронту поближе, лишь бы польза от нее была.
Совсем уже стемнело, когда Серафима остановилась. Костер разжигать она поопасалась, а нашла поваленную бурей ель и устроилась в яме под ее корнями, набросав на землю еловых лап. Согнувшись в уголке, подтянув колени к подбородку, она развязала узелок, съела три картофелины, кусочек балыка и почувствовала голод. Раньше она его не ощущала, забывшись в мыслях и скором шаге, а теперь лишь растравила аппетит и великим усилием поборола себя от соблазна съесть хотя бы еще одну картофелину.
Звезды тревожно и холодно вплывали к ней в яму, легкий шум от движения множества веток, иголок, листьев, зверьков и птиц шел по тайге, но Серафима хорошо знала тайгу и не боялась. К тому же полная луна взошла из-за леса, и было светло и просторно в тайге, и тени от деревьев переплетались с настоящими деревьями, и все это походило на давно, еще в детстве, виденный сон. Впрочем, может быть, она уже и спала, потому что луна вдруг начала расти в ее глазах, и с каждой минутой становился нестерпимее ее свет, и когда вместо света в глазах осталась только режущая боль, Серафима с трудом размежила веки — было утро. Несколько мгновений она не понимала, что с ней и где она, а потому на всякий случай робко и растерянно улыбнулась, а потом вдруг разом все вспомнила, быстренько вскочила, выглянула из своего убежища и, убедившись, что ей ничего не угрожает, пустилась дальше в путь…
До прихода парохода она просидела в кустах и съела еще несколько картофелин и закусила еще одним кусочком балыка. Попила из ключика, что тонюсенько пульсировал прямо из-под камня и прятался в желто-серый мох. Зубы заломило от ледяной стыни, что шла из самого сердца земли, и Серафима сильно потерла их пальцем. В это время пароход ошвартовался у пристани, и семеновцы дружной гурьбой повалили на палубу. На берегу послышался плач, какие-то выкрики, вздохнула и умерла гармонь — из Семеновки уходили на фронт. Под этот шум и гам, под бабий плач и причитания Серафима прошмыгнула по трапу, перебежала падубу и толкнула первую попавшуюся дверь. Ее охватило грохотом, лязгом железа, далеко внизу она с трудом различила силуэты людей, испугалась и отпрянула.
Устроилась Серафима на корме, между громадным деревянным ящиком и поленницей. Здесь ее никто не видел, сама же она в щелки между поленьями хорошо могла рассматривать берег и все, что на нем творилось. Вначале она пожалела баб, что голосили у самого трапа по своим мужикам и протягивали им узелочки, которые пьяные и хмурые мужики никак не хотели брать. Потом она рассердилась, так как бабы все голосили и голосили, а теплоход стоял на месте.
— И чего голосят, — вслух подумала она, — чего голосить-то напрасно? Война идет, мужикам воевать надо, а они, дуры, рады бы их под подол упрятать. Ну а кто тогда на немца пойдет? От дуры! Ну поплакали, погоревали, да и честь надо знать. Зачем же мужиков напрасно расстраивать? Нет, ревут и ревут…
Плыть надо было весь день и еще ночь. День Серафима в своем закутке кое-как продержалась, а к ночи стало невмоготу: ноги затекли, ломило шею и позвоночник. К тому же она сильно захотела пить. Замирая на каждом шагу, прячась за ящиком, прислушиваясь, Серафима осторожно выбралась из закутка и… нос к носу столкнулась с Осипом Пивоваровым.
— Сима! — Осип от изумления вытаращил глаза.
Серафима же растерялась только в первый момент, а потом быстро сообразила, что кому какое дело до нее: едет в город по делам, вот и все. В больницу. Рожать хочет, а пузо не растет, вот и поехала к доктору. Не звонить же об этом на все село.
— Ну чего вытаращился-то? — немного неуверенно начала она, но решительно справилась с собой и насмешливо добавила: — Первый раз бабу увидел? В лесу вырос, что ли?
— Дела-а, — опамятовался и Осип, — ее Матвей дома на пристани ловит, а она вон куда уже укатила. Ловко. Вот так баба Матюше досталась. Сохатый, а не баба. На фронт?
— На базар, — отрезала Серафима, разом потерявшая всю робость и нерешительность.
— А ты че на меня вызверилась? — удивился Осип. — Я же не Матвей, ловить тебя не собираюсь.
И Серафима успокоилась, тихо спросила:
— Наши-то все уже знают?
— Вчера еще узнали, — усмехнулся Осип и закурил, и в свете спички Серафима заметила уважение в его глазах. — Матвей твой напился, бегал по селу, искал. Грозил застрелить, если найдет.
— А Оленьку видел, Осип?
— Сегодня видал. Петр Гордеевич с ней на пристань приходил, Матвея усмирять, а то он разбушевался, к самому капитану полез тебя искать.
— Ну и как она? — Серафима заволновалась, затеребила котомку.
— Как же ты решилась? — Осип покачал головой. — Ну и баба. Мужика бросила, дочку оставила, ну… — и неожиданно закончил — Молодец же! Этак ведь не каждая решится. А Ольга твоя нормально. Играет. Обыкновенно. Что ей, еще не понимает.
Серафима успокоилась и неожиданно пожаловалась Осипу:
— Пить хочется, сил моих нет.
— А чего у тебя в узелке?
— Картошка. Еще три штучки осталось. Хочешь?
— Ты подожди меня здесь, — заторопился Осип, — подожди, я сейчас.
— Смотри, Осип, — начала было Серафима, но Осип тихо и решительно перебил ее:
— Я, может быть, гордый за тебя, — серьезно сказал он, — что ты наша, деревенская, и на такое решилась, а ты мне чего буровишь?
Серафима смутилась и отвернулась к берегу. Только теперь, кажется, поняла она свой поступок в полной мере. Но удивления не было, а было крепнущее чувство, что она поступила правильно.
Сидели в том же закутке. Осип притащил все, что ему надавали в дорогу, а были здесь вареные яйца, кусок окорока, отваренная горбуша с картошкой, буханка деревенского хлеба, банка варенца, прошлогоднее варенье из смородины, лук, маленький пупырчатый огурчик и бутылка самогона.
За бортом парохода проплывали одинокие домишки бакенщиков, маленькие, в несколько дворов, деревушки, порой вплотную к реке подступали высокие скалы, а порой далеко окрест тянулись пойменные луга, залитые светом луны, и множество проточек и озерков холодно отражали в себе этот свет. И тихо было на земле, так тихо, что не верилось, не хотелось верить в то, что где-то идет теперь война, и кто-то умирает в эту минуту напрасной смертью, и кто-то готовится умереть, потому что войны без смертей не бывает, потому что война — кровожаднее самого кровожадного зверя, какого когда-либо придумывала земля.
— Наши еще кто-нибудь есть? — спрашивала Серафима, держа в одной руке кружку с самогоном, а во второй- с молоком.
— Нет, — покачал головою Осип, — меня, паразиты, продержали, а теперь вот один еду. Тем веселее было, кучей ушли. Хотя все одно, давай выпьем.
— А за что, Осип?
— За победу. Чтобы мы Гитлера скорее побили и все домой вернулись… Давай, Сима!
Осип выпил. Выпила и она. Задохнулась, но быстро справилась, не вдыхая воздуха, глотнув молока.
— Уф-ф!
— Х-хе!
— Как вы ее глушите?
— Зар-раза!
— Обожгло, а кишки-то не железные, поди.
— Ничего… Крепче будут.
Серафима ела жадно, сама себе удивляясь, а Осип знай подкладывал ей кусочки повкуснее и добродушно смотрел, как она аппетитно и хорошо жует.
— Там, чай, мужики приставать будут?
— У меня пристанут!
— Еще выпьем?
— Нет, я не буду. Голова кружится, а еще ехать надо.
Осип выпил и грустно сказал:
— Мать совсем плохая. Слегла. Наверное, Тонька в город к себе заберет. А в городе без молока и воздуха пропадет.
— Ничего, бог даст — поправится. В войну люди завсегда сильнее. Я вот и по себе знаю. Как осерчаешь на что-нибудь, откуда силы берутся, кажется, горы бы свернул… А чего, Осип, ты не женился? Вот бы невестка-то с нею и осталась.
— А если такая, как ты? — усмехнулся Осип.
— И я бы осталась, — спокойно ответила Серафима, — ты бы пошел, а я осталась. Я и Матвею так говорила, а он не понимает. Уперся как пень еловый — и все тут. Его броня завлекла хуже невесты…
— Как-то там будет? — вздохнул Осип. Хмель его не брал.
— Хорошо будет, — твердо сказала Серафима, собирая остатки еды, — побьем мы его, вот увидишь. А так бы зачем нам и ехать?
Спали они, привалившись спиной друг к другу. Вахтенный матрос заглянул за ящик, увидел их, тихонько присвистнул, улыбнулся и ушел. А солнце взошло, заглянуло в закуток и осталось, мягко лаская их юные головы, и, когда проснулись они, чего-то смущаясь и неловко отодвигаясь друг от друга, прикрылось тучкой, словно глаза смежило.
— Как бы дождя не натянуло, — сказал Осип.
— Нет, не натянет, — возразила Серафима, — вчера солнышко чисто садилось.
— Скоро приедем.
— Да пора уже.
— И че ты не мужик?
— А зачем?
— Вместе бы воевать пошли.
— А один боишься?
— Тьфу, боюсь. Мне за тебя страшно. Баба все-таки. Всякий обидеть может. Наш брат разный.
— Ты какого года, Осип?
— Восемнадцатого.
— А ровно мальчик ещё. Жениться надо было, Осип. Тогда мужик быстрее матереет.
Осип не ответил. Вдалеке, на высоком берегу, показались первые дома Хабаровска, и пароход приветствовал его длинным хриплым гудком.
На сборном пункте людно, шумно, бестолково. Но шум здесь приглушенный, робкий и тревожный, какой бывает при покойнике. Высокий плотный мужчина в военной форме хрипло выкрикивал фамилии, от толпы отделялись мужики, вставали в неровную шеренгу, переминались с ноги на ногу, приглядывались к соседям, крутили в руках кисеты и портсигары, но закурить не решались. Колонны людей уводили куда-то, и на их место вставали новые мужики, и военный уже шепотом называл фамилии, придерживая горло рукой. Его щеки были синими от бритья, а глаза красные, как у голубя. На безымянном пальце правой руки поблескивало обручальное кольцо.
Уходили и уходили колонны, а толпа на сборном пункте все не уменьшалась. Уже давно выкликнули Осипа, и он твердо встал в строй и твердым шагом ушел вместе с очередной шеренгой, а Серафима все не решалась подойти к военному. Она бы и решилась, так как ничуть не робела, даже наоборот, при виде такого количества народа, уходящего на фронт, еще большей решимостью воевать наполнилась, но от военного за версту пахло усталостью. Устал человек до изнеможения, и Серафиме совестно было беспокоить его.
Наконец наступила передышка. Военный достал платок, отер лицо и высморкался. Серафима робко тронула его за рукав. Он не услышал. Тогда она пальцем постучала по руке военного, и он спрятал платок и медленно повернулся к ней.
— Что вам? — он смотрел и не видел Серафимы.
— Запишите меня, — попросила Серафима.
— Куда?
— На фронт. Я любую работу делать могу.
— На фронте, милая, не работают, а воюют. А вам не воевать надо, а рожать. По возможности — мальчиков. — Он подумал, еще раз взглянул на смущенное и решительное одновременно лицо Серафимы, на белую полоску повестки и, видимо что-то поняв, махнул рукой: — Идите в военкомат, там посмотрят, а я повестками не занимаюсь.
— Иванов! Кислицкий! Терапян! Воскогонов! Бахметов! Лобанов! — опять выкликал военный, и из толпы все выходили и выходили мужики, каменея скулами и тоскуя растерянными глазами…
Из военкомата Серафима вышла сердитой. Там никто ее и слушать не стал. Все суетились, бегали по длинным полутемным коридорам, быстро, нервно курили, кричали, слушали сводку из огромного репродуктора и опять как ошпаренные неслись из кабинета в кабинет. Единственное, что ей удалось узнать, это месторасположение тылового госпиталя, куда она направлялась для прохождения службы младшей медицинской сестрой.
«Ну это уж дудки, — сердито думала Серафима, — это уж вы сами туда поезжайте, а я не для того сюда добиралась, чтобы в тылу отсиживаться. В тылу старухам сподручно возле раненых-то управляться, а я пока еще в силах».
Случайно услышав о формировании санитарного поезда, она вышла из военкомата, спросила, как ей добраться на вокзал, и решительно зашагала в указанную сторону. Город выглядел притихшим и пустым. Редкие прохожие не улыбались и не любопытствовали взглядом, ребятишки собирались в кружки и о чем-то по-взрослому беседовали, торопились подводы и машины, на станции часто и пронзительно гудели паровозы.
В первый момент станционная толчея сбила Серафиму с толку, закружила, ошпарила каким-то сумасшедшим ритмом. Но она очень быстро разобралась, что здесь и к чему, выбралась из здания вокзала, протискалась по перрону и стала пробираться между бесконечно длинными составами. Были это все товарняки, тяжелые, длиннющие и грязные. Когда трогался какой-нибудь состав, земля вздрагивала, и грохот оглушал Серафиму. Она отскакивала в сторону, зачем-то считала вагоны, очень скоро сбивалась и растерянно смотрела на то, как, грохоча и взвизгивая, несется мимо нее громадная железная лавина. В одном месте Серафима наткнулась на солдатские теплушке и долго наблюдала, как суетятся вокруг них новобранцы, молодые и старые, веселые и грустные. Она хотела подойти, посмотреть, нет ли среди них Осипа, но паровоз свистнул, попятился вначале назад, потом сильно дернул вперед, пробуксовал на месте и потихоньку тронулся, и солдаты на ходу уже попрыгали в теплушки, кто-то крепко матюгнулся, кто-то засмеялся, и поезд укатил.
Она устала, хотела есть. Охранники товарняков косо посматривали на нее и что-то говорили между собой, и один из них направился к ней. Тогда она повернулась и пошла на вокзал.
Как родная меня мать провожала… —
пел какой-то подвыпивший мужичок, ломая картуз и голос, и все с удивлением смотрели на него. Когда стемнело, опять пошла на перрон, и здесь, на первом пути, прямо против вокзала, стояли несколько вагонов с большими красными крестами. Серафима обмерла, сердце у нее часто-часто застучало, в висках заломило, и сразу захотелось пить.
К вагонам с красными крестами подходили грузовики, и молоденькие девчата в зеленых юбчонках и гимнастерках все носили и носили в вагоны из грузовиков какие-то белые коробки. За ними наблюдал толстый военный с большим мясистым носом и узкими быстрыми глазами. Серафима как глянула на него, так сразу и поняла, что это медицинское начальство и если кто может сейчас решить ее судьбу, то только это начальство.
— Товарищ фершал, — обратилась она к толстяку, — я к вам.
— Что?! — вытаращил тот узкие глаза. — Как вы сказали?
Одна из девчонок, набравшая коробок из грузовика выше головы, оглянулась на громкий голос толстяка. Коробки качнулись, и если бы не Серафима, попадали на землю. Перехватив коробки и встав с ними перед толстяком, Серафима решительно и строго сказала:
— Не слышишь, что ли, к вам я, говорю. На поезд.
— Вас Конюхов направил?
— Никто меня не направлял, — сердито посмотрела Серафима на толстяка, — я сама себе направщица. Коробки-то куда несть, в вагон, что ли?
— Нести, — машинально поправил толстяк, как-то смешно поморщившись мясистым своим носом, — в вагон, разумеется, но…
Серафима повернулась и, не дослушав толстяка, почти бегом бросилась к ступенькам.
— Ой, умру, — через час говорила круглолицая симпатичная Ольга, та самая, что чуть было не уронила коробки, — она ему «товарищ фершал», а Семен Николаевич-то наш опешил, глазенки вытаращил и как завопит: что?
Девчата смеялись. Вместе с ними смеялась и Серафима. Еще через час ее оформили санитаркой и отвели место в узком и тесном купе…
И поезд пошел по России. А и велика же она. Не то что глазом, мыслью разом не охватишь. День и ночь стучат колеса, а за окном все горы великие да просторы шальные. Другой раз утонет взгляд в могучей долине, поезд уже сотню верст пробежал, а взгляд все еще там, в той долине, ищет чего-то и не находит, и оторваться не решается.
Больше месяца добирался эшелон к фронту, и за это время Серафима вполне освоилась, привыкла к новым людям, и они к ней привыкли. По вечерам начальник санитарного эшелона, тот самый толстяк, Семен Николаевич, проводил занятия, и Серафима старательным крупным почерком писала в зеленую тетрадку длинные, трудные даже на слух, слова.
— Лукьянова, — строго говорил Семен Николаевич, на котором и через месяц форма сидела смешно и нескладно, — а как мы будем производить перевязку предплечья?
Серафима смущалась, путала слова, но отвечала в общем-то верно.
— Хорошо, Лукьянова, — кивал мясистым носом Семен Николаевич, — ну а как ты поступишь, если будет… будет, к примеру, пулевое ранение в области живота?
— Ну, первым делом остановить кровь…
— Как ты ее остановишь?
— Ну…
— Не нукай, Серафима, — сердился Семен Николаевич, — сколько раз тебе говорить… Ну и как же?
— А вы?
— Что я?
— Чего нукаете?
— Гм…
Девчата хохотали, Семен Николаевич хмурился, но видно было, что и он едва удерживается от смеха.
— Возьми шприц, Лукьянова. Взяла? Как мы будем делать укол во фронтовых условиях?
А поезд бежал и бежал вперед и остановился лишь в небольшом подмосковном городке — Подольске, И едва паровоз завел эшелон на запасной путь, как поступила первая партия раненых. Первая — для эшелона. Первая — для Серафимы. Для страны— уже давно очередная.
Как-то в госпиталь поступила девушка-санинструктор. Ее звали Леной, и ранена она была осколком снаряда в правое бедро. Пока делали операцию, эта хрупкая, интеллигентного вида девушка, с мягким красивым ртом, громко ругалась в беспамятстве. Серафима не могла поверить, что ругается именно она, и растерянно оглядывалась кругом. И странное дело, именно к Лене прониклась Серафима любовью и самым большим уважением, на которое была способна в те первые дни.
Через несколько дней Лену увезли дальше.
— Говори смело и гляди в глаза, — строго учила Лена Серафиму, — если спросят, поройся для вида в карманах и сделай вид, что потеряла. Впрочем, сейчас там не до предписаний… Ребятам обо мне сразу не говори. Если Боголюбов жив, держись его. И не трусь! Фашисты сволочи, и потому все равно все подохнут!
Лену увезли, а на другой день ушла из поезда Серафима.
Многого она тогда не знала. Не знала, что за два дня до ее ухода началась знаменитая немецкая операция «Тайфун». С далеких рубежей, от Рославля, Белого, Смоленска, Калинина, Вязьмы двинулись фашистские дивизии на штурм Москвы, они спешили промаршировать по Красной площади. Серафима этого не знала, как не знала и того, что от противотанковой батареи, куда она отправилась заменить Лену, осталось лишь два орудия, командовал которыми вместо погибшего командира Петелицы старший сержант Никита Боголюбов…
Глава седьмая
Утром чуть Свет пришла Мотька Лукина. Никита еще спал, тяжело разметавшись на стареньком диване. Серафима же растопила печурку на летней кухне и готовила завтрак.
— Сима, слышь, Сима, — часто затараторила Мотька, забыв поздороваться и испуганно кругля плутоватые глаза, — Матвей, слышь, помер.
— Ну?
— Как ну, — рассердилась Мотька, — еще вчера в больнице скончался. Во дворе у Варьки вой стоит. Уже и из города на «Ракете» кто-то прикатил.
Серафима молча чистила картошку.
— Ты что это такая каменная? — удивилась Мотька, растерянно присаживаясь на табуретку и поправляя на плечах лямки сарафана. — Поди, Матвей скончался, не кто-нибудь.
— Я вчера в больницу вечером звонила, мне и сказали, — Серафима отложила нож и выпрямилась уставшей спиной, — а из города Ольга приехала, я ее давеча на дебаркадере видела. Так что удивить меня ты припозднилась, Мотя, да и надивленная я за свою жизнь досыта.
— Кто приехал-то? — сменив разговор, деловито спросила Мотька.
— Однополчанин. Вместе воевали. Никита Боголюбов.
— Ишь ты, фамилия какая религиозная.
— А к тебе Осип заходил?
— Нет. Дома сидит. Я пробегала, так он во дворе с мотором возился. Рыбалить, наверное, собрался. А что, спит он еще, что ли?
— Спит, — улыбнулась Серафима, — вчера выпили маленько, да еще с дороги человек.
— Может, похмелку принести? — заерзала Мотька. — У меня ноне наливка знатная вышла, так я бы мигом принесла.
— Ты вот что, Мотя, — Серафима закурила, — к нему не приставай. У нас своих мужиков много, а он человек семейный, самостоятельный. Так что учти.
— Скажешь тоже, — поджала губы Мотька.
— Да уж скажу.
— Больно надо.
— Сколько за наливку возьмешь?
— Ох, Сима, не знала бы я тебя, так в глаза наплювала, — разозлилась Мотька, — мне что, деньги твои нужны? Фронтовой товарищ приехал, разве я не понимаю, а ты вчера Осипу трешку дала да в магазине две бутылки водки купила. Это одиннадцать рублей получается. Где же ты этих рублей наберешься, если еще и сегодня в магазин бежать? А там поминки. Небось будешь справлять?
— Посмотрю.
— Вот твой оклад и полетит в три дня.
— Да и черт с ним.
— Не ска-ажи, — Мотька усмехнулась, — есть, пить-то каждому надо.
Так они говорили, жарилась на плите картошка, румянцем берясь по бокам, и солнце мягко всходило над сопками, и Матвей впервые не видел его.
В первые дни она редко вспоминала дом. Не до того было. А потом вдруг случилось затишье, обе стороны примолкли, затаились, и Серафима обрадовалась этой тишине, еще не зная, что нет ничего хуже фронтовой тишины. Что именно в это время замышляются самые коварные планы, подтягиваются свежие силы, боеприпасы, танки, артиллерия, авиация, и все это для того, чтобы сокрушительно ударить по человеку в тот момент, когда он расслабился чуток, дом вспомнил, отошел от войны и мирной жизни испить до стона захотел. Но Серафима не знала этого и, устроившись в маленьком, но удобном окопчике, устало прикрыла глаза, вздохнула и… оказалась дома…
Густо и пышно взошла зелень на молодых осинках, в высоком прозрачном небе ни облачка, а над Амуром, прошивая синь воздуха, тянули на север косяки уток. Раннее утро, над Покровкой встают голубые дымы, и тянутся к небу, и растворяются в нем, а по двору бежит босоногая девочка. Серафима сидит на теплом от солнца крыльце, чистит огромного сазана и смотрит на свою дочь. А Оленька вдруг встала посреди двора, насупилась, белые волосы на лоб упали, а потом протянула к матери пухленькие руки, восторженно засмеялась и бросилась бежать к ней, мелко и часто переступая ножонками. У самого крыльца споткнулась, упала, хотела опять засмеяться, но тут почувствовала боль и расплакалась. Серафима подхватила Олю, и дочерина боль перешла к ней, заполнила до отказа, так что грудь сперло и перехватило дыхание, и крупные слезы выступили на глазах.
Потом она жарила сазана в сметане, а Матвей сидел рядом и рассказывал, как этот отъевшийся черт сошел было с крючка на мелководье, и он бросился к нему и придавил животом, и сазан несколько раз подбросил его, как подбрасывает мужика молодой необъезженный конь. И на коленях у Матвея сидела дочь и внимательно слушала, будто что-то понимала в этом. Серафима не выдержала и поцеловала их обоих, вначале Ольгу, потом Матвея, и Матвей вдруг вспыхнул от этой нечаянной ласки ее, растерялся и от растерянности буркнул привычно:
— Не балуй при ребенке-то.
А потом, когда крупные поджаристые ломти сазана лежали уже в чашке, накрытые полотенцем, а Оля заигралась во дворе, наряжая самодельную куклу, Матвей обнял ее со спины, поцеловал в шею и тихо прошептал:
— Слышь, Сим, я этого поцелуя в жизнь не забуду. Ведь в первый раз этак-то, от сердца…
И она испуганно поразилась проницательности Матвея, и пожалела его, и ничего не сказала на его слова — говорить было нечего.
И еще один день пришел на память Серафиме, уже после ночного разговора и после того, как ударил ее Матвей, был этот день. Оля спала. Серафима чего-то шила, то и дело забывая про иголку и уходя мыслями в себя. Пришел на обед Матвей, и по тому, как он долго топтался на крыльце, сердито и громко покрикивал на Пальму, Серафима догадалась, что Матвей пришел выпивши и хочет с нею говорить. Она не испугалась и не удивилась, лишь затосковала сердцем и, отложив шитье, пошла накрывать на стол.
Матвей ел мало и неохотно, пристально, словно впервые, приглядываясь к ней. А потом сразу, толком не прожевав, сердито спросил:
— Значит, пойдешь?
— Пойду, Матвей, — как можно ласковее ответила она.
Матвей помолчал, тяжело уставившись на нее из-под белесых ресниц. Его нижняя толстая губа обиженно оттопырилась.
— Меня защищать? Спасибо, дорогая женушка, спасибо. Выручила. Только вот его я тебе скажу, Серафима: как пойдешь, так больше в дом не вертайся. Не будет у тебя дома, меня не будет и дочери не будет. Ты вот это запомни и еще раз подумай, помозгуй маленько, раз такая умная выискалась…
— Почему же, Матвей, ничего у меня не будет? — тихо спросила она. — Я ведь не на гулянье прошусь. Война идет. Немец, слышишь, к Москве подбирается. И мне сидеть, тебя утешать невмоготу.
— Я вот и чувствую, что ты солдат собралась утешать.
Серафима побледнела. До боли стыдно ей стало от Матвеевых слов, но она сдержалась, пересилила себя и спокойно ответила:
— Ты чего замечал за мной, Матвей? В девках или уже когда с тобой жила? Чего молчишь-то, скажи? Я если тебе изменю, Матвей, я сама уже в дом не вернусь. И ты меня не страшай, незачем. Плохо ты еще меня знаешь, раз такие пакостные мысли у тебя в голове сидят.
Матвей слушал, и хмурился, и крутил одну за другой самокрутки, и она чувствовала, что слова ее доходят до него, не сразу, но доходят. Ничего не ответив, он резко поднялся с табуретки, и по тому, как вышел из дома, крепко пристукнув дверью, и как побагровела его короткая сильная шея, Серафима поняла, что нет, не отпустит ее Матвей по-хорошему, и думать нечего, убьет, но не пустит. И, глядя ему в спину, она ощутила легкий холодок решимости и знала уже, что уйдет, теперь любыми путями уйдет: от повестки за ребенка прятаться не будет — совесть не позволит…
Серафима очнулась, открыла глаза. По линии фронта все переменилось. И впервые вдруг стало тревожно ей, и сразу же заломило виски, заложило уши, гулко, больно заколотилось сердце. Она выглянула из окопчика и удивилась, когда вместо орудий увидела брошенную траншею, пустые снарядные ящики и чей-то забытый котелок. Серафима растерялась, беспомощно оглядываясь кругом, и в это время увидела бегущего к ней Никиту Боголюбова. Еще издали он делал ей знаки рукой, и лицо его было непривычно сердитым.
— Ты че, девка, — свалился в окоп Никита, — жить надоело?
— А что? — растерялась она.
— Едрена шишка, она еще спрашивает, — вытаращил глаза Никита, — да ты посмотри, не сюда, а вот сюда посмотри. Вот, вот, посмотри.
— Мамочки, — прошептала Серафима и невольно сжалась под шинелью. По всему полю, куда только хватало глаз, ровными порядками, через равные интервалы, шли немецкие танки. Земляные фонтаны взрывов вставали между ними, но очень редко и неточно, и танки, казалось, совершенно не обращали на них внимания.
— Ну, бежим! — дернул ее за руку Никита. — Сейчас тебе еще лейтенант всыплет.
Но лейтенанту Пухову было не до нее. В самый последний момент, переместив батарею на левый фланг, он теперь с холодным любопытством ожидал, куда пойдут танки врага. Если к лесочку, в сторону старой колхозной риги, — его маневр можно считать удавшимся, так как танки пойдут мимо его «сорокапяток» боком, и тут еще бабушка надвое сказала — кто кого. Если же повернут на север и ударят прямо в лоб батареи… Что ж, и тогда воевать надо будет. И он, вначале в бинокль, а потом и просто так, пристально следил за танками.
Лейтенанту Пухову перед войной исполнилось двадцать пять лет. То, что в мирное время он осваивал и постигал пять лет, но так и не сумел постигнуть окончательно, совершенно отчетливо усвоилось им за два месяца войны. За два месяца он самостоятельно обучился хитрости по отношению к врагу, он сумел быстро забыть правила учения и еще быстрее усвоить правила войны. И он стал хорошим командиром противотанковой батареи, еще не сознавая этого.
Танки пошли к риге, где редко залегла голодная пехота, ощетинившись штыками и бутылками с горючей смесью. Не зная положения фронта в целом, лейтенант Пухов, поджарый, симпатичный курянин, решил драться до конца и положить здесь голову, но не отойти.
— Твое место вот здесь, — наставлял Никита Серафиму, — здесь сиди и не высовывайся. Когда надо будет, я тебя кликну.
— Мне бы винтовку, — робко попросила Серафима.
— Ну? — удивился Никита. — Не дам. Побьешь все танки, а нам чего делать? Ты лучше вот что запомни: здесь, впереди тебя, первое и второе орудие, а там вон — за лесочком — третье и четвертое. Если что… случится, дуй туда. Уяснила?
— Уяснила.
Никита ушел к своему расчету, и она осталась одна, и, хоть стояли орудия метрах в двадцати от нее, Серафима вдруг почувствовала себя одинокой и брошенной всеми.
Потом земля качнулась, дрогнула, словно бы приподнялась под ее ногами, и ушла в сторону, и снова возвратилась на место, и с этой минуты Серафима начала какую-то новую жизнь, в которой значение имели лишь память и рассудок. Пересиливая неожиданно острое, еще мало ведомое ей чувство страха, после каждого взрыва она высовывалась из окопчика, боясь не услышать, когда ее позовут. Пыль и копоть стояли над землей. Она с трудом различала орудия впереди себя и лишь по ярким вспышкам определяла, что первый и второй расчеты ведут огонь по немцам. Сколько прошло времени — она не смогла бы сказать, но вдруг ясно, с какой-то удивительной твердостью поняла, что ей сейчас надо быть там, возле орудий, Никиты и Пухова.
Выбравшись из окопчика, она вжалась в землю, как вжимается в нее под артобстрелом всякий, даже не обученный этому специально человек, и быстро поползла вперед. Остальные события этого дня как-то спутались и смешались в ее голове. Забыв про взрывы, не обращая на них больше внимания, она подносила снаряды, помогала разворачивать орудие, всей своей силой, злостью и упрямством упираясь в теплый щит, видела лишь эту ставшую близкой и понятной пушку и совершенно не смотрела на поле боя. Что-то непонятное удерживало ее от этого.
Когда осколком в висок убило заряжающего первого орудия Ваню Лапшина, она встала на его место. И она уже знала, что и как ей надо делать, и делала это быстро, точно и уверенно. Где-то среди разрывов, грохота и стона снарядов, противного, заунывного воя авиабомб она поймала неожиданно удивленный и вопросительный взгляд Пухова. Он словно бы впервые увидел ее и теперь хотел знать, как и почему она оказалась здесь. И с этой минуты вся ее жизнь, смысл этой жизни и суть ее приобрели какое-то новое значение…
Бой закончился вечером, и никто не знал, на чьей стороне осталась победа. Но что-то малодоступное разуму, не поддающееся ему говорило Пухову, что он был сегодня сильнее. Среди боя, в отступлении и смерти, утопая в земле под гусеницами танков и растворяясь в воздухе от прямого попадания, русский солдат обрел вдруг то великое дыхание, которое довело его до Берлина. Еще впереди были стылые московские окопы, Синявинские болота, Охтенский плацдарм, еще лишь начался голод в Ленинграде, а солдат уже почувствовал то удивительное единение и сплоченность, которые приходят к народу нашему в беде и лихолетье и не оставляют его до той поры, пока не вздохнет освобожденно и радостно сама земля русская. Еще лишь отливались пушки, из которых предстояло дать первые залпы наступления, еще и смутно не прорисовывался и не ожидался план окружения армии Паулюса, а русский солдат уже догадался и сердцем почуял — быть великим делам.
Бой закончился, и от тридцати человек батареи Пухова едва осталась половина. И тут же, под крохотным увальчиком, рыли могилы, склоняли головы: и уходили солдатские сердца в землю…
— Спасибо, боец Лукьянова, — сказал Пухов, устало и опять вопросительно глядя на нее.
— У вас, товарищ лейтенант, кровь на щеке, — ответила она.
— Пустяки. От этого не умирают. Раненых много?
— Шесть.
— Где?
— Отвели в санпункт.
— Тяжелые?
— У одного ранение в голову. Но ходит.
— Это хорошо, что ходит, — он улыбнулся, и улыбка неожиданно молодо осветилась на его грязью и копотью заросшем лице, — Отдыхайте. — Он махнул рукой и пошел к орудиям, легонько приволакивая левую ногу.
Подошел Никита. Посмотрел вслед Пухову, посмотрел на нее.
— Ну, Сима, выручила сегодня. Снаряды-то тяжелые, как ты?
— Я привычная, — ответила Серафима и улыбнулась Никите.
— Видишь, три стоят. Как миленькие. Там и твоя доля есть.
Серафима оглянулась и увидела четкие белые кресты, постепенно расплывающиеся в ночи. Она вдруг медленно опустилась на землю и тихо заплакала, уткнувшись лицом в жесткий рукав шинели.
Глава восьмая
— Любил он тебя, Сима, — Никита, свежевыбритый, в новенькой сорочке с распахнутым воротом и закатанными рукавами, открывавшими сильные руки, сидел напротив Серафимы за кухонным столом и грустно смотрел на нее. Он лишь недавно встал — под глазами еще морщинилась отмякшая за ночь кожа — умылся и охотно пропустил стакан Мотькиной наливки. От второго решительно отказался и вот сейчас завел вдруг разговор о том, чего они вчера оба почему-то побоялись касаться. Завел просто и сразу, словно продолжая когда-то начатую и неоконченную мысль, и она совсем не удивилась, хотя за всю войну они и словом не обмолвились об этом.
«Любил, — как-то отстраненно и невесело подумала Серафима, разглаживая ладонью клеенку на углу стола. — Любил? Не то слово, наверное, не то. Любить-то каждый горазд, а как полюбил, так и норовит побыстрее все к рукам прибрать. Мое! Мое, мол, никто не трожь, глазом остановиться не вздумай. Разве это любовь? Так-то и за домом следят, и за огородом, и за собственным костюмом или велосипедом. И ведь тоже любят, и дом, и огород, и костюм, и велосипед. Нет, у Пухова было что-то другое».
— А ведь и словом никогда не обмолвился, — удивился Никита и посмотрел на Серафиму.
— Так почему знаешь-то? — помедлив, спросила она и сильно затянулась папиросой, так что на щеках образовались темные впадины, а высушенная годами и заботами грудь высоко поднялась и опала безвольно.
— А по глазам, Сима. У него по глазам о многом можно было догадаться. Сам кремень-мужик, а глаза детские. Я потом еще только раза два такие-то встречал.
Серафима не сдержалась и усмехнулась легонько: получалось смешно — Никита объяснял ей глаза Пухова.
В глазах Пухова всегда была легкая усмешка. Казалось, он постоянно усмехался всему: восходу солнца, танковой атаке, горячему обеду, смерти, трофейному автомату, крику птицы, потере орудия, собственной жизни, ровному полю и густому лесу, отступлению и форсированию Днепра… Он сердился, и голос его становился неприятно жестким, скрипучим, как портупея перед парадом, а глаза продолжали усмехаться, может быть, чуть холоднее, чем всегда. Менялось только это чуть, но усмешка оставалась. Года через два после войны Серафима была сильно и неприятно поражена тем, что не может вспомнить цвета его глаз. В памяти осталось только их выражение.
Сразу после Москвы в батарею пришел длинный и нескладный, шепелявый верзила Михаил Рыбочкин. Он был храбр и дерзок, иногда храбр безрассудно. Но в батарее его невзлюбили с первого дня и не любили до последнего. Какая-то первобытная сила и беспощадность угадывались в его нескладности, длинных мощных руках, больше смахивающих на стальные рычаги, в крупных, слегка навыкате, голубых глазах. На войне убивает каждый и каждый рискует быть убитым, это жестокий, но непреложный закон войны. И к этому с трудом, не сразу, но привыкают. Однако и за этой привычкой, даже у самого сурового солдата, чувствуется отвращение к убийству. Ибо человек сам по себе рожден не для этого. Рыбочкин убивал с удовольствием. Война была его стихией. В ней он чувствовал себя как бог, обладал звериным инстинктом, точным чувством опасности и холодным рассудком. Не раз и не два это хладнокровие и отчаянная смелость Рыбочкина спасали жизнь многим батарейцам, но и эти люди, обязанные ему жизнью, не любили его…
На второй или третий день Рыбочкин встретил Серафиму одну, встал на ее пути и весело сказал:
— Сто, Сима, гуляесь?
— Пусти, — спокойно попросила, она и хотела пройти. Рыбочкин взял ее за плечо и придержал.
— Торописся?
От его прикосновения Серафиме было почему-то мерзко и страшно одновременно. Голова закружилась, а ноги вдруг стали непослушными. Рыбочкин же был равнодушно-спокоен. Даже лениво-спокоен и уверен.
— Пусти! — побледнела Серафима.
— Брезгуесь?
— Да!
— Война больсая будет, Сима, я подозду. Я терпеливый. Потом сама придесь.
Он отступил, и она ушла, почувствовав такое неожиданное облегчение, словно бы пережила смертельную опасность. Теперь она украдкой, с ненавистью и страхом, постоянно наблюдала за Рыбочкиным. Но самый большой страх она пережила тогда, когда с непонятной силой остро и властно ее вдруг потянуло к нему. Это длилось только мгновение, слякотным осенним вечером, когда она уже лежала на своем топчанчике в санпункте, но это мгновение запомнилось ей на всю жизнь. Где-то, она не знала где, зайцы сами прыгают в пасть удава. Таким зайцем в тот вечер она почувствовала себя…
За эту секундную вспышку Серафима долго и больно расплачивалась сама перед собой: мысли об этом она пугалась до брезгливого отчаяния, не в силах понять, объяснить себе, как это могло случиться с нею.
Вторая встреча с Рыбочкиным случилась у нее почти полтора года спустя, далеко от Волги, в маленьком, разграбленном немцами селе. На этот раз она была спокойнее и, достав крохотный трофейный пистолет, объяснила Рыбочкину, что застрелит его, если он даже просто прикоснуться к ней посмеет. Рыбочкин на это странно усмехнулся, сделал какое-то движение, и в это время его окликнул Никита Боголюбов. Но так просто это закончиться не могло и не закончилось.
После тяжелых наступательных боев, в середине лета 1943 года, батарею капитана Пухова отвели на отдых. Бог знает кто этим распоряжался, но такой отдых всегда оказывался кстати. К этому времени солдаты Пухова изрядно поизносились, оголодали, и отдых этот для них был гораздо большим, чем просто передышка.
Село, куда их отвели, удивительно мало пострадало от войны. Так случилось, что оба раза, при наступлении немцев и их отступлении, село оставалось в стороне от линии фронта. В первый раз фашисты прошли по нему форсированным маршем, во второй — не менее форсированными темпами отступили на «заранее подготовленные рубежи».
Удивительны законы, по которым живет, развивается и умирает человек. В ином разграбленном до предела фашистами селе приветят тебя, отдадут последние крохи, и ты надолго запомнишь удивительный свет чьих-то прекрасных от доброты глаз. А в этом, где расквартировались батарейцы Пухова, клок соломы жалели сельчане для бойцов. Не в соломе, конечно, дело, но такого к себе отношения не ожидали батарейцы, и там, где нельзя было выпросить, брали сами. А брали-то — одного петуха на всю гвардию только и добыли. Все остальное или съедено было сельчанами, или припрятано надежно… черт их поймет.
И в этом-то селе у этих неприветливых людей случилось то, чего ждала и боялась Серафима….
Рыбочкин взял ее молча и жестоко. Взял ночью, беззащитную и сонную. Взял равнодушно и спокойно, как берут вещь с комода. Потом лежал, курил. Потом лениво и насмешливо сказал:
— Так се, стрелять-то будесь?
Серафима, смятая и раздавленная, плохо понимая, что с ней и где она, молча встала с постели, долго искала пистолет, подошла к Рыбочкину и выстрелила в длинное белое тело.
Утром Рыбочкина увезли. Морщась от боли, прямо глядя в глаза Пухову, он почти потребовал:
— Следствий не нузно. Мы сутили. Я сам спустил курок, запомни, командир, мы только посутили, и я скоро вернусь.
Глаза Пухова усмехались, но под смуглой кожей щек туго ходили желваки. Рыбочкин не выдержал пуховской усмешки, отвернулся, и два бойца под руки увели его. Наверное, он что-то понял — в батарею Рыбочкин не вернулся.
Серафима заплакала через месяц. Уже давно позабылось село, где отдыхали они, его название и негостеприимство, когда она заплакала впервые от большого человеческого горя, второй раз за два с половиной года войны. Она плакала в блиндаже, один на один с Пуховым. Плакала долго и безутешно, еще раз с болью и отчаянием пережиная унижение.
— Серафима, — Пухов звал ее только полным именем, — это надо забыть.
— Не могу, — она отчаянно затрясла зареванным лицом.
Она никогда еще не была с Пуховым с глазу на глаз.
— Это надо забыть, Серафима, — грустно повторил Пухов, и его глаза охватывали Серафиму тем добрым светом, от которого порой отступалась и сама смерть.
— Я бы ненавидела всех мужиков, Володя, если бы не ты, — она впервые назвала его по имени и впервые сказала ему «ты». И он не удивился, не растерялся от этого, а только взял ее руку и молча поднес к своему лицу. Она испугалась, что он хочет поцеловать руку, ту руку, которой касался Рыбочкин, и резко отдернула ее. И тут он все понял правильно и не обиделся на нее, а загрустил еще больше. — Я бы любила тебя, Володя, — всхлипывая, сказала она, — но у меня муж и дочка. Ее Оленькой звать. Нынче пять лет исполнилось.
— Я знаю, — ответил Пухов, — у тебя есть муж и дочка Оленька.
— Я не виновата, Володя. Я шла просто воевать. Ведь я не знала, что встречу тебя. С ним, с… этим… я не изменила мужу. А с тобой, Пухов, я бы изменила.
— Ложись, Серафима, отдохни. А я пойду.
— Нет, — она удержала его за руку, — посиди еще. Я ведь больше никогда тебе этого не скажу. Такое бывает только раз. Ты уж посиди. Я мужа-то своего не любила, Володя, никогда не любила. Он славный, простой мужик, другая баба возле него, может быть, и счастлива была бы, а я — нет. Но он мужик мой, и дочка от него. Ты вот однажды так на меня взглянул, что я и умирая вспомню, и всю жизнь помнить тебя буду за один взгляд этот, а от него я ничего не помню, даже ласки забылись, не то чтобы взгляд. Он меня на фронт не пускал, потому что не верил мне, думал, что я ему изменять буду, а видишь, Володя, так оно и вышло. Его правда получилась, а не моя.
— Не надо об этом, Серафима.
— Я знаю, Володя, ты бы понял меня. А он не поймет. Он до смерти меня за это судить будет. А ты говоришь — забыть.
И еще раз Пухов взял ее за руку, и поцеловал, и взглянул на нее, и в первый раз Серафима не увидела в его глазах усмешки, а увидела боль и где-то очень глубоко в них подступающие слезы. Она растерялась на мгновение, потом легонько провела ладонью по его лицу и тихо попросила:
— Теперь уходи, Володя…
И в этот день выбрала Серафима все свое счастье до донца, вместе со слезами выбрала. В последний раз. Через два дня капитан Пухов погиб.
— Кем бы он был теперь, а, Никита? — грустно спросила Серафима.
— Кто его знает, — не сразу ответил Никита, — может быть, генералом.
— Нет, — Серафима покачала головой, — генералом, наверное, он бы не стал. С его-то характером — и в генералы? Нет… Давай, Никита, уж враз обоих помянем.
— Как — обоих? — не понял Никита.
— Муж у меня вчера скончался, царство ему небесное. Мужем-то он мне в последний раз тридцать лет назад был, а не развелись, так под его фамилией и хожу.
— А что умер-то?
— Болел.
Они посидели в молчании, потом глянули друг на друга и опять удивились, что вместе сидят, живы-здоровы, и не верилось им, что тридцать лет не виделись, казалось, что вчера лишь из окопов в разные стороны разошлись, и сегодня снова встретились на передовой, и вся война еще впереди…
Пришел Осип. С порога сказал Серафиме:
— Привезли.
Серафима кивнула и задумалась.
— Собирайтесь, — деловито и решительно приказал Осип, — рыбачить поехали.
— Неужели отремонтировал?
— А то! Как часы.
— Знаю я твои часы. Прошлым летом, забыл, два дня на косе куковали.
— Ну то прошлым, — недовольно пробурчал Осип, — а это нынешним.
— Поедешь? — спросила Серафима Никиту.
— Обязательно, — живо засобирался Никита, — я до этого дела любитель большой. А ты?
— Я пойду… Туда схожу. А вы поезжайте. Чего дома сидеть-то? Поезжайте. А вечером посидим, еще поговорим. Да и вместе съездить успеем. Не последний день живем…
Осип и Никита ушли, прихватив с собою Мотькину наливку, а Серафиме вдруг тошно и грустно стало, и, сколько она ни курила, чувство это не покидало ее.
Глава девятая
Серафима приоделась. Накинула легкое цветастое платье — оно было великовато в талии, сверху синий жакет и давно не ношенные, стоявшие в коробке под кроватью туфли. Осмотрев себя в зеркало, что с незапамятных времен висело в горенке на стене, усмехнулась, собрала темные, с частой проседью волосы в тугой узел и пошла в село. Туфли да и весь остальной праздничный наряд мало в чем изменили ее — все та же размашистая, с упором на пятки, походка, энергичный взмах руки и прямой, устремленный только вперед взгляд.
— Ишь, Военная, пошагала, — глянул из-под руки дед Никишка и против воли сам подтянулся, поправил узкий ремешок на спадающих брюках, пошел было в куть за топором, но тут вспомнил, что умер же Матвей и Военная потому только приоделась сегодня, высунулся за свою ограду и долго провожал ее взглядом. — Неужто к ним пошла? — сам себе покачал головой дед Никишка. — Или простила? Видать, человек-то все забывает. — И задумался дед Никишка надолго, позабыв про дела.
А Военная, Серафима Леонтьевна Лукьянова, шагала по пыльной и широкой деревенской улице, рассеянно отвечая на приветствия односельчан, сопровождаемая их любопытными взглядами, и привычно хмурила высокий лоб, у самого переносья рассеченный глубокой морщиной. И многое припомнилось ей, пока она так шагала, но Серафима сдерживала память, не давала ей разгону, так как всему свой срок, а одной памятью жив не будешь. Так прошла она почти все село и остановилась у третьего от края дома под железной крышей, с резными, крашенными в зеленый цвет наличниками и высокой клумбой в середине двора. Она остановилась, и все, кто был в эту минуту во дворе Варвары Петровны Рындиной, оглянулись на нее. А были здесь в основном люди старые, и все больше женского пола, в черных скромных платочках, черных, до пят, юбках, из-под которых торчали носки черных же войлочных бот. С минуту смотрели на нее старухи пристально и неотрывно, и с минуту стояла она за калиткой, опершись на столбик рукой. Потом старухи как-то разом зашлепали сухими губами, согласно закивали — кто-то из них сморкнулся, кто- то приложил платок к сухим глазам, и они дружно отвернулись, словно и не было никакой Серафимы за калиткой. Серафима поискала глазами Мотьку, не нашла и шагнула к старухам. Они изумленно ахнули, потеснились, опять зашлепали губами, опять закивали, и все стихло. Зачем они тут стояли, что им надо было — не понять. Но Серафима давно приметила, что чем старше человек, тем больше он интересуется смертью, вникает во все подробности, любопытствует до неприличия.
А в доме было тихо, и никто не показывался из него, и никто не направлялся к нему. Стоял обыкновенный деревенский дом, рубленный в лапу, на каменном фундаменте, с глубоким холодным подпольем и шитой из еловых досок казенкой. И в то же время было в нем сейчас что-то необыкновенное, отличавшее его от всех остальных домов села. В чем заключалась эта необыкновенность — трудно было сказать, но ею дышал каждый венец дома, глухо зашторенные окна, плачущие смолой доски казенки, пустая, без дыма, кирпичная труба над железной крышей. Или это была печать смерти во всем, или так хотели видеть этот дом люди, не необыкновенность окружила его со всех сторон, заставляла притаить дыхание и крепко задуматься о своем сроке, строго отмеренном каждому человеку на земле.
— Обмыли уже? — тихо спросила Серафима старуху Кадочкину, ближе всех стоявшую к ней.
— Обмыли, милая, обмыли, — закивала маленькой узкой головой Кадочкина и опять устремила тусклые равнодушные глаза на двери дома.
— Прибирают?
— Прибрали уже, милая, прибрали.
— А чего ждут-то?
— Да ничего, милая, не ждут. Стоят, а зачем стоят — никто не знает. Может, свою смерть ждут, может, чужую караулят… Ольгу-то свою не видела?
— Нет, бабушка.
— Ну и постой тоже. Может быть, увидишь. Приехала она, приехала. Красивая, ученая вся, и платте-то модное на ней, и сережки в ухах торчат. Красивая. — Бабка покивала головой в черном платочке и отвернулась.
Услышав про Ольгу, Серафима заволновалась, хотела закурить и уже руку в карман жакетки сунула, но вовремя спохватилась. Теперь и она неотрывно смотрела на двери, ожидая, что выйдет сейчас Ольга, встанет на крыльце, высокая, статная, с ее, Серафимиными, широкими темными бровями и отцовским, немного вздернутым кверху, носом. Но вместо Ольги вышла на крыльцо Варвара Петровна Рындина, приемная мать Ольги, полная женщина, с большим тряским подбородком и маленькими, глубоко сидящими подозрительными глазами. Сонно и лениво обвела она взглядом старух и вдруг увидела Серафиму. В одну секунду что-то странное и малопонятное произошло с Варварой Петровной: она как-то подобралась вся, напружинилась, и чувствовалось, что в ее большом и рыхлом теле еще много силы, и силы недоброй, редко встречающейся у женщин.
С минуту она цепко и пристально смотрела в глаза Серафимы, а потом нахмурилась и фыркнула громко, ее большой подбородок, ложившийся чуть ли не на грудь, затрясся, заколебался мелкими волнами, которые тихо ушли под маленький вырез платья.
— А ты чего пришла? — Голос у Варвары Петровны был неожиданно мягкий, вкрадчивый, никак не вязавшийся со всей ее громоздкой фигурой, и люди, разговаривавшие с ней, всегда ловили себя на том, что хотели заглянуть через ее плечо, словно бы отыскивая того, кому принадлежал этот приятный голос.
Серафима не ответила. Она еще слабо надеялась, что увидит Ольгу, что горе, может быть, как-то поможет их сближению, что выдастся минута для разговора — и тогда Серафима скажет дочери все, что наболело у нее в душе за долгие тридцать лет, что выплакала она ночами и выстрадала всей своей так неудавшейся жизнью.
Не дождавшись ответа, Варвара Петровна слетела с крыльца и, небрежно растолкав старух, встала перед Серафимой.
— Так ты зачем пришла-то, я спрашиваю? — Варвара Петровна уперла руки в пышные бока и сощурилась так, что и без того маленькие глаза ее стали почти невидимыми за толстыми складками щек. — Ты на горе мое полюбоваться пришла? Рада-радехонька, поди. А морду кислую скорчила. Вы посмотрите на нее, люди добрые, — обратилась она к удивленным и отчасти перепуганным старухам, — вырядилась, как на карнавал, прынцесса. Чего ты здесь не видела, я спрашиваю?
Кто-то из старух осмелился и тронул Варвару Петровну за руку:
— Варя, грех так-то при покойнике. Она жена его законная, его фамилию носит.
Варвара Петровна даже подпрыгнула от этих слов. Изумленно оглядев старух, поперла на них грудью, шипя сквозь зубы:
— А вы чего тут пособирались? Вам что, богадельня здесь или приют для старух? Завтра похороны будут, завтра! Вот завтра и милости просим, не побрезгуйте, а сейчас…
— Мама! — послышался с крыльца строгий оклик Ольги. — Мама, что это такое?
И в третий раз удивительная перемена произошла с Варварой Петровной. Она вдруг обмякла вся, задрожала, черты лица ее расползлись в разные стороны, а из глаз выскочили две неожиданно крупные слезинки.
Но Серафима уже не видела этого. Прикусив в углу рта папиросу, она молча шла по улице и винила себя лишь за то, что действительно вырядилась сегодня как попугай, хотя, конечно, надень Серафима повседневный наряд, Варвара Петровна и к этому бы прицепилась. Дело не в наряде, это понятно, дело в глухой Варькиной ненависти к ней, Серафиме, которая за тридцать лет не только не поубавилась, а еще больше стала.
Обиды Серафима не ощущала. Она лишь дивилась неистребимому чувству ненависти Варвары Петровны к ней и грустно усмехалась, припоминая, сколько довелось ей вытерпеть из-за этой Варькиной злобы.
До теплохода оставался еще час. Серафима прошла мимо своей каморки, и встала у перил дебаркадера, и засмотрелась на воду, на солнечные блики, на первые желтые листья, стремительно несущиеся по реке…
Глава десятая
— Товарищ сержант, из какого села будете?
— Из Покровки.
— А я из Софийска.
Молоденький солдат восхищенно и радостно смотрел на нее. Наверное, он завидовал ее наградам, сержантскому званию, нашивкам за ранения.
— Воевали, товарищ сержант?
— Воевали, — вздохнула она.
— Теперь домой?
— Домой.
— А я на побывку. Десять дней без дороги дали. За пожар отметили….
Она уже не слушала, хотя и не хотела обидеть этого солдатика, которого могло сейчас не быть на земле, родись он на год раньше.
Теплоход мерно покачивался на волне, и она вспоминала, как добиралась в Хабаровск в июле сорок первого. Как пряталась за ящиком, со страхом думая о неизвестном будущем. Минуло четыре года, уже нет того человека с косой челочкой и нет его армии, так остервенело бросившейся на земли русские, она возвращается аж из самого Берлина, а будущее, будущее как было, так и осталось неизвестным: Матвей на ее письма не отвечал. Ни одного письма она от него не получила. До сорок третьего, года писал ей свекор, Петр Гордеевич. Когда свекор скончался, изредка присылала письма Мотька. А всего за четыре года набралось семнадцать писем, из которых она узнала, что через месяц после ее отъезда Матвей стал похаживать к Варьке Рындиной, а в сорок третьем году, схоронив отца, совсем перебрался к ней. И еще узнала, что Оленька зовет Варьку мамой, а про нее, Серафиму, говорит: «Мама меня бросива, мама нехороса». И было от чего задуматься Серафиме, было чему подивиться.
А за кормой теплохода проплывали с детства знакомые места, горбатились сопки, грустно стояли темные, притихшие деревеньки, за войну потерявшие многих своих лучших мужиков. Смотрела на все это Серафима, и сердце щемило от боли, от печали неведомой наворачивались на глаза слезы и тут же просыхали под теплым ветром…
— Сестричка, закурить не найдется?
— Найдется. — Она, оглянулась, с трудом уходя от своих мыслей. Перед ней стоял высокий крепкий мужик в выцветшей до белизны гимнастерке и широченных черных шароварах. Левый рукав был подвернут до самого плеча и перетянут суровой ниткой.
— Отвоевалась?
— Да уж хватит.
— Вот и я отвоевался, — усмехнулся мужик, закуривая кислую трофейную сигаретку, — теперь хоть головой да в воду.
— Чего так?
— Да так, сестричка. Ты-то еще домой на крыльях летишь, а нас уже встретили.
— Где потерял-то?
— Под Ельней… Слышала?
— Слышала. И мы недалеко были.
Мужик облокотился на перила, курил. Закурила и Серафима.
— Чего без мужика-то? Многие с мужами возвращаются.
— Мой дома.
— Ну? Как же отпустил?
Мужик разговаривал с необидной насмешливостью. И в то же время в нем самом чувствовалась какая-то боль, заставлявшая приглядываться к нему, искать причину этой боли, и, может быть, именно поэтому хотелось рассказать и о своей, поделиться горестями, облегчить душу.
— Сама ушла. Еще в сорок первом, — тихо сказала Серафима. — Тебя как зовут-то?
— Иван. Иван Рубцов.
— А меня Серафима. Я-то ушла, да и он ушел.
— На фронт?
— Нет, к бабе…
— Так зачем едешь? Дерьма такого кругом полно.
— Дочка у меня, Оленька.
— А у меня баба скурвилась, — просто сказал Иван Рубцов, — скурвилась и удрала. Люди с голода пухнут, а она в торговле зад отъела, ну и крутить им начала.
— Теперь куда?
— А черт его знает. Куда-нибудь. Вот до Николаевска доберусь, а там посмотрю. Дружок у меня в Николаевске есть, вместе воевали, только я без руки, а он без ноги остался… Вот мы и скооперируемся, да, глядишь, вдвоем-то чего и сообразим.
Помолчали, близко и хорошо понимая друг друга, и еще то, что вместе с последними выстрелами война для них не закончилась, что, может быть, еще долгие годы будут носить они на себе ее печать.
Ивана Рубцова Серафима запомнила надолго. Лет через пять встретила она его и едва узнала. Был он счастлив и вел под руку невысокую женщину, тесно приникшую к его плечу.
А уже показались из-за утеса первые дома Покровки, и Серафима так жадно потянулась к ним взглядом, что Иван догадался, кашлянул и ласково сказал:
— Ну, сестричка, прощай! Да не унижайся там, пошли его к черту. Ты же солдат, хоть и баба. Так что не срамись.
И он ушел по палубе, дымя трофейной сигареткой, а она подхватила свой чемоданчик, вздохнула глубоко и пошла к выходу, чувствуя, как колотится сердце и краска наплывает на лицо.
Трудно сказать, почему Серафима не решилась идти верхней улицей, а пошла вдоль Амура, по длинной песчаной косе, потом по галечнику, поднялась на взгорок, миновала овражек и по тропинке взошла на берег. Получилось так, что уходила она крадучись и вернулась тайком. Все как-то неладно складывалось в ее жизни, и кто тому виной — разве доищешься. Нет, вины за собой Серафима никакой не чувствовала, но и гордости, что вот она, Серафима, прошла всю войну, прошла с боями, была ранена и смерти в глаза смотрела, у нее не было. Перед родным селом, перед домом все это как-то враз позабылось, отодвинулось, словно далекий и трудный сон, и осталось лишь горькое чувство потери, которое переживает всякий человек, после долгой разлуки возвращающийся домой.
Она взошла на берег, обогнула раскидистый куст боярышника, увидела свою избу и остановилась. Сил идти дальше не было. И смотреть на свою избенку в два окна, крест-накрест заколоченных досками, на свой дворик, густо и пышно заросший бурьяном, на обвалившуюся трубу — она тоже не могла. От всего этого веяло таким одиночеством и запустением, что спазмы перехватили горло, стеснило дыхание, заныло, заболело простреленное плечо, и Серафима, торопливо отвернувшись, присела на свой чемоданчик, закурила трофейную сигаретку. Но тут же выплюнула ее в траву и свернула самокрутку из махры, крепко затянулась, прикрыла глаза, чувствуя, как мягко кружится голова и колотится, колотится сердце.
Многое встало за эти минуты перед ее глазами: полустершиеся черты лица дочери, яма в лесу под выворотнем, в которой она ночевала на пути к фронту, усмешливый взгляд Пухова, немецкие танки в широком осеннем поле, умирающий глаз ездовой лошади, веселая и добрая улыбка свекра, аккуратные улочки Магдебурга, белесые ресницы Матвея, смех Оленьки, оторванная рука Коли Бочарникова, Осип на палубе парохода, стон авиабомбы и лениво-спокойный Рыбочкин, мелкие морщинки тетки Матрены и холодные губы угоревшей матери, широкая ладонь отца, мертвые дети в затопленных подвалах, жаркий лязг гусениц над головой, Оленька с куклой, пикирующий бомбардировщик, ее, Серафимино, молоко на щеках Оленьки, спокойное и бледное лицо Пухова, шинели на колючей проволоке, прострелянный портрет человека с косой челочкой и ослепительные вспышки ракет над Днепром. Серафима медленно сползла с чемоданчика, легла в траву, уткнулась лицом в землю и заплакала. Она плакала за все и за всех, и за себя в первую очередь. Плакала безысходно и долго, как могут плакать лишь женщины, оплакивая свою незадавшуюся судьбу и готовясь к новой жизни…
По заросшей тропинке она подошла к дому, потрогала замок на дверях, поискала в бурьяне и нашла заржавленную ось от тележки, двумя ударами сбила замок, распахнула дверь и вошла. Дом был пуст, лишь в углу лежал перевернутый вверх ножками деревянный топчанчик, на котором некогда спал свекор. На полу валялись желтые обрывки газет, какие-то пузырьки, разбитая табуретка, кусочки стекла, полуистлевшие лоскутки и просто мусор. Она разгребла его ногой и увидела грязный треугольник письма. Подняла и развернула. Письмо было от нее.
«Здравствуйте, дорогой отец, Матвей и доченька Оленька», — прочитала она и не стала дальше читать, положила письмо на подоконник и задумалась. Потом решительно одернула гимнастерку под ремнем, поправила пилотку с пятиконечной звездой, достала из чемоданчика сверток и вышла из дома, оставив распахнутой настежь дверь.
Тихие сумерки опускались на землю, но красный ободок солнца еще выглядывал из-за сопок, и в той стороне плыли по небу розоватые облака, и красное зарево вставало над горами. Серафима шла, не чуя от волнения под собой ног, и словно бы пила окружающий простор жадными глазами, вдыхая с детства знакомый запах дыма от еловых дров. Она не замечала, как удивленно и любопытно смотрят на нее из окон домов старики и дети, как выскакивают они на улицу и провожают ее взглядами, перебегают от двора к двору, о чем-то перешептываясь и показывая на нее пальцем.
Она нигде не остановилась и не задержалась, а прямо прошла к дому Варьки Рындиной, уже тогда стоявшему под железом, поднялась на крыльцо и с той же решимостью, которая пришла к ней еще в своей горенке, открыла дверь.
— Здравствуйте, люди добрые, — с порога сказала она и увидела, как побледнел, вытаращив глаза, Матвей, как поперхнулась Варька и затряслась от кашля уже тогда широкая ее спина, как девочка-подросток удивленно и испуганно посмотрела на нее, потом на Матвея и Варьку. — Не ждали?
С минуту в комнате стояла тягостная тишина, потом Матвей вдруг засуетился, чуть ли не бегом принес из горницы табуретку и глухо сказал:
— Проходи, садись.
— Да я не к столу пришла, — отказалась Серафима, — а за дочерью.
Матвей растерянно помигал белесыми ресницами и посмотрел на Олю.
И тут ожила Варька. Отставив стакан с молоком, она повернулась к Серафиме, обмерила ее взглядом с головы до ног и сказала Матвею:
— Тебе управляться пора. Иди. И Ольгу с собой возьми, пусть помогает.
Матвей послушно направился к двери, а следом за ним и Оля, бочком выбравшись из-за стола. Серафима с болью, неотрывно смотрела на дочь, узнавая и не узнавая ее. Некогда курносенький нос ее выпрямился, пропала пухлота губ и щек, она подтянулась, выросла и невольно казалась Серафиме чужой. И в то же время каждая черточка лица ее была знакома и близка Серафиме, близка до головокружения, и Серафима, сделав шаг навстречу и выронив сверток, из которого выпала маленькая белокурая кукла, горько прошептала:
— Оля, доченька, Олюшка!
Девочка задержала шаг, какая-то тень промелькнула по ее лицу, казалось, она с трудом вспоминает что-то, но в это время Варька строго и властно окликнула ее:
— Оля! Я чего тебе сказала делать?
Еще мгновение Оля смотрела на Серафиму, потом нахмурилась и бегом пробежала мимо нее. Варька неторопливо достала лампу, протерла стекло и засветила. Так же неторопливо пошла в горницу, побыла там недолго и, вернувшись, протянула Серафиме какую-то бумажку. Это была метрика на имя Рындиной Ольги Матвеевны.
— Что это? — тихо прошептала Серафима.
— А ты не видишь? Я могу очки принести. — Варька смотрела холодно и зло.
— Но как же? — Серафима не находила слов.
— А просто, — усмехнулась Варька. — Похоронка на тебя пришла, вот и как же.
— Да я ведь через месяц писала, Варя, писала, как и что там вышло…
— Писала, — кивнула головой Варька, — да поздно уже было.
— Как поздно, Варя, ведь я мать! — Серафима прислонилась к стене, потом машинально нагнулась и подобрала куклу.
— Да какая ты мать? — В голосе Варьки начали пробиваться визгливые нотки. С грохотом собирая посуду на столе, не глядя на Серафиму, она все громче и громче выкрикивала: — Какая ты мать, если ребенка своего бросила. Последняя зверюга так не поступает, как ты поступила. Думаешь, я мало мук с нею вынесла, думаешь, мы здесь от жира лопались, пока ты там воевала? Да и как ты там воевала, еще никто не знает.
— Ты вот что, Варвара, — покраснела Серафима, чувствуя, как крошечные молоточки застучали в висках, — ты мою войну не трогай. Говори, да не заговаривайся.
— Ишь ты, — изумленно вздернула тонкие брови Варька и, вдруг бросившись к двери, сильным ударом распахнула ее, — в таком случае, дорогая вояка, вот бог, а вот порог! Выметайся, и чтобы духа твоего здесь больше не было. Выметайся, голубушка, а то ведь на медали твои не посмотрю…
Стыдно и больно стало Серафиме, стыдно за Варьку, больно за себя. Положив куклу на стол, покачиваясь, она прошла мимо торжествующей, кипящей от непонятной злости женщины, остановилась и, как могла, спокойно, примирительно еще сказала:
— Варвара, я ведь мать ее. Неужто у тебя сердца нет? Постыдилась бы, Варя.
— Постыдилась?! — Варька задохнулась и секунду стояла с открытым ртом. — Ты… ты меня стыдишь, шлюха солдатская!
И тут Серафима не выдержала. Громко застонав, она коротко и резко ударила Варьку по шее, от чего та мгновенно замолкла, вытаращив наливающиеся болью глаза, и бросилась вон из дома, боясь еще здесь, на виду у Варьки, заплакать. Когда выходила за калитку, услышала наконец-то прорезавшийся громкий Варькин вой. И здесь кто-то бросился к ней, маленький, тяжелый, повис на шее, обдавая свежим запахом черемши.
— Сима!
И тут только Серафима узнала Мотьку, неожиданно располневшую за четыре года, налившуюся ядреной бабьей силой…
Сидели в крохотной Мотькиной избе, ели отварную картошку с черемшой. Мотька громко возмущалась, выслушав рассказ Серафимы.
— Так она же теперь председательша, Сима, в сельсовете засела. Она, змеища, чуть чего, еще и милиционера на тебя натравит. Как только похоронка на тебя случилась, вот уж она тут забегала, заегозила: в район, из района, туда, сюда, пока Ольгу на свою фамилию не переписала, не успокоилась ведь. А люди-то сдуру ей все это еще и в заслугу поставили. Вот, мол, Варька какая: Матвея примаком взяла, да еще и сироту удочерила. А Матвей, я приметила, мучился сильно, несколько раз ко мне забегал, все спрашивал, нет ли от тебя письма. А потом, как ты написала, обрадовался, аж слеза прошибла…
— Матвей? — не поверила Серафима.
— Ну да, Матвей, — заулыбалась Мотька, видя, что Серафима постепенно отходит и все больше интереса проявляет к ее рассказу. — Он ведь любит тебя, Сима, еще с парней, я же помню, как за тобой увивался, как бегал, только уж из Варькиных лап ему не выбраться, не на ту напал. Она его крепко связала по рукам, ногам. Хваткая, зараза, даром что яловая, а своего не упустит…
— Да не трогай ты ее, — поморщилась Серафима, — баба же она, вот и думает, что я Матвея хочу у нее забрать. А мне Матвей не нужен, мне дочка нужна. А она знает, что, пока Оля при ней, и Матвей никуда не денется. Вот и взбеленилась на меня. Вот успокоимся обе, да все и выясним.
— Ой ли, Сима, — покачала головой Мотька.
— Ладно, Мотя, на сегодня хватит об этом, — отрубила Серафима. — Как вы тут хоть живете?
И потянулся долгий разговор, за каждым словом которого чувствовалось Мотькино одиночество и Серафимина тоска по дочери, по мирной жизни, по родному селу.
Уже улеглись спать, когда Мотька тяжело вздохнула и полусонно сказала Серафиме:
— А мужиков-то в селе почти не осталось, Сима…
Весть о том, что Серафима ударила Варьку в первый же день приезда, мгновенно разнеслась по селу. Мужики посмеивались и одобряли Серафиму, бабы же насторожились и к Серафиме относились сдержанно. Все они как-то мимо внимания пропустили, что Варька ведь Ольгу ей не отдала, не вернула Ольге ее настоящую фамилию, и что теперь даже того не понять, кем Матвей Лукьянов приводится Ольге. Все они видели лишь одно — статную красоту Серафимы, ее необычайную славу, военную выправку и медали на гимнастерке. Сами матери, они и думать забыли, что Серафима в первую голову тоже мать. И Серафима, чувствуя этот холодок отчуждения, замкнулась в себе, затаилась и лишь Мотьке поверяла свои горести, свою тоску по дочери.
На другой же день, сняв военную форму, Серафима облачилась в старенькое, еще довоенное платье, с удивлением обнаружив, что разучилась носить женские вещи, и, чувствуя себя в нем как-то неловко и голо, пошла в правление колхоза просить работу. В аккурат начиналась летняя путина, и ее отправили в посолочный цех, пообещав со временем подобрать работу более подходящую. Однако от этого обещания она решительно отказалась, и молодой председатель, Сергей Иванович Козлов, бывший комсомольский работник флота, удивился:
— Мы ведь почему, — заговорил он, слегка робея, — учитывая ваши заслуги перед Родиной…
— Не надо меня учитывать, — оборвала председателя Серафима. — А если браться за учет, так полстраны надо учитывать.
И это тоже не понравилось женщинам.
— Гордячка, — говорили они между собой, — выкамаривается. Ей почет оказывают, а она еще и ломается.
— Корчит из себя…
А Военная плакала по ночам. Попыталась пойти в сельсовет, к Варьке, Варваре Петровне теперь, но та захлопнула дверь перед самым ее носом.
И опять говорили женщины:
— Бесстыжая, неужто драку в Совете хотела учинить?
— Дак с нее станется.
Поехала в район, в суд обратилась — там пообещали прислать человека…
По вечерам Военная тайком пробиралась к Варькиному дому и часами лежала в огороде между картофельной ботвой, чтобы хоть на минуту взглянуть через окно на дочь. И опять плакала, кусая руки, боясь взвыть от великого бабьего горя.
А потом из района приехал милиционер. Он пришел к Серафиме, громко топая сапогами, грозно сел за стол, достал какие-то бумаги и вдруг увидел на стене фотографию в рамке. Поднялся, посмотрел, сравнил с Серафимой, грустно сидящей на топчанчике, и неожиданно воскликнул:
— Прости, сестричка!
И ничего больше не сказал, и записывать ничего не стал, а пошел в сельсовет и уехал вскорости.
Варька, Варвара Петровна, после этого долго дозванивалась в район, дозвонившись, плакала и ругалась.
Глава одиннадцатая
И пришел Матвей. Была уже осень. С вечера зарядил нудный кислый дождь, к ночи перешедший в проливной. Матвей пришел промокший и пьяный, по-хозяйски разулся у порога и босиком, наступая на шнурки от кальсон, протопал по комнате, постоял у печки, погрел над ней руки и сел к, столу. Редкие мокрые волосы разметались по лбу, лезли ему в глаза, он не замечал этого и долго сидел молча, сосредоточенно глядя прямо перед собой.
Серафима смотрела на него, и стало ей жаль мужика, но жалость эта была без любви, без чувства родства. Она давно ждала Матвея, знала, что он придет, и готовилась к трудному разговору, а теперь вот, когда увидела его, жалкого и пьяного, все как-то вылетело из головы, и осталось лишь одно удивление — да неужто с этим человеком жила она пять лет? Пять лет делила с ним одну крышу и постель, родила от него дочь, стирала ему нижнее белье и портянки. Не верилось во все это Серафиме, таким далеким и чужим увидела она то время. Казалось, его и не было никогда, а если и было, то жила в то время Другая Серафима, к ней никакого отношения не имевшая.
— У тебя чай есть? — глухо спросил Матвей.
— Найдется.
Серафима достала кружку, налила Матвею чаю, а сама опять села на топчанчик и закурила.
— Навоевалась? — Он ухмыльнулся и осмотрел полупустую комнату. — Одна осталась, не скучаешь?
— Скучаю, — Просто ответила Серафима.
— По ком же? — Матвей дернулся на табуретке, покривился, потом хрипло, через силу засмеялся. — По фронтовикам?
— Нет, Матвей, по дочери.
— Ишь ты, — притворно удивился Матвей, — четыре года не скучала, а тут вспомнила. Позднехонько, а, Серафима?
— Матвей, ты зачем пьяный-то пришел? Для смелости?
— Для смелости.
— Тогда ступай домой. Разговора у нас не получится.
— А может, я мириться пришел?
— Мы с тобой не ссорились, Матвей. А разговаривать я с тобой буду, когда Олю приведешь…
Матвей умолк, что-то туго соображая, и вдруг злые огоньки загорелись в его глазах, лицо расплылось в понимающей ухмылке:
— Ну да, я рылом не вышел. Там, поди, офицеры были, а то и генерал захаживал? А, Серафима? Чего молчишь? Я для тебя теперь не тот сорт. Фруктов, конфеток у меня нет, а ты, наверное, теперь к ним привычная. Молчишь. Сказать неча? Конечно, где уж мне с тобой разговаривать. Ты геройски воевала, а я тут просидел, груши околачивал…
— Матвей! — Серафима нахмурилась, и заболело, заныло в плече. — Иди домой.
— Гонишь? А я, может быть, у тебя хочу остаться. Я, может быть, люблю тебя. Неужто спать меня, своего законного мужика, не положишь?
— Нет, Матвей, не положу.
— Так, — Матвей угрожающе засопел, — брезгуешь после офицерья?
Он неожиданно быстро вскочил и бросился к ней, Серафима успела лишь приподняться, как сильный удар по голове опрокинул ее назад, на топчанчик. Всей тяжестью тела Матвей навалился на нее, схватил за горло и начал душить. Серафима не сопротивлялась. Мягко и сладко закружилась голова, кончики пальцев обожгло жаром, и перед глазами засияли ослепительно яркие радуги. И вдруг припомнилось Серафиме лицо Рыбочкина. его равнодушно-ленивый взгляд и шепелявый голос, и показалось ей, что это его руки на шее, его тяжелое жилистое тело навалилось вновь на нее, и рванулась Серафима с такой силой и яростью, что Матвей отлетел на пол, стукнувшись головой о стол. Не помня себя, накинулась Серафима на Матвея и принялась бить его по щекам, всхлипывая и давясь слезами…
И сидели они потом в тишине, и рассказывала Серафима притихшему Матвею все, как на духу выложила, задыхаясь от обиды.
Долго молчал Матвей, и хмеля его как не бывало. И ничего не сказал про Рыбочкина, а про Пухова спросил:
— Любишь его?
— Люблю, Матвей, — тихо ответила Серафима.
— Что же не уберегла?
— Не смогла.
— А я сволочь, Сима, — вдруг с тоской сказал Матвей, — Ольгу для тебя не сберег. Сам-то уж ладно, а о ней вот и не подумал. Ведь Варька-то ее по своей мерке воспитает.
— Может, ты ее все же уговоришь? — с надеждой спросила Серафима.
— Уговаривал уже, — вздохнул Матвей, — нет, добром она ее не отдаст.
Уже рассветало, когда уходил Матвей. Серафима проводила его до порога. Постояли в молчании. Матвей робко сказал:
— Я уж буду изредка проведывать тебя?
— Приходи, Матвей.
— Может, чего помочь?
— Нет, не надо, Матвей. Лишние разговоры пойдут. Я сама…
— А я еще поговорю, Серафима, но сильно сомневаюсь — не поймет…
И Матвей ушел, оставив в ней грустную боль и далекие воспоминания…
В районе ее снова долго слушали, отправляли из кабинета в кабинет, удивлялись, звонили в Покровский сельсовет, но так и не дозвонились. Наконец какой-то маленький и верткий человек сказал ей:
— Хорошо, Лукьянова, поезжайте домой. Мы пришлем представителя. Там, на месте, и разберемся.
Представитель приехал через неделю и оказался тем же маленьким зырким человеком по фамилий Петухов. Вначале он долго беседовал в Совете с Варькой, а потом пригласил и Серафиму.
— Очень сложная ситуация, — сказал он ей, ерзая на стуле за столом под красным материалом, — ведь вы, Лукьянова, фактически значитесь погибшей. Никаких других сведений на вас с фронта нет.
— Да какие же сведения, — удивилась Серафима, — если я — вот она?
— Минуточку, — строго поднял руку Петухов, — не перебивайте меня… Учитывая то, что вы сами вернулись с фронта и предъявляете претензии на девочку Олю Рындину…
— Какая же она Рындина? — не выдержала Серафима.
— Минуточку! — Петухов покраснел. — Иначе я умываю руки. Вас что же, на фронте дисциплине не учили? Так вот, повторяю, так как вы предъявляете претензии на девочку Олю Рындину, официальную дочь Варвары Петровны Рындиной, на том основании, что якобы являетесь ее фактической матерью, мы проведем сейчас очную ставку.
— Какую очную ставку? — не поняла Серафима. — Зачем?
— А такую, — невозмутимо сказал Петухов. — Варвара Петровна приведет сюда девочку, и кого она назовет своей матерью, тот и будет считаться и фактическим., и официальным родителем. Только, прошу вас, никаких эксцессов.
— Чего?
— Вести себя пристойно и… и руки не распускать. Мы этого не допустим.
— Да ведь она меня четыре года не видела, — заволновалась Серафима, — когда я ушла на фронт, ей только три годика сравнялось. Нельзя так, товарищ Петухов, вы пойдите в село, вам любой скажет, что я, я ее мать!
— Я уже ходил… Люди на стороне Варвары Петровны! — хлопнул рукой Петухов. — И командовать здесь буду я, а вы, если не хотите, чтобы я умыл руки…
— Так спросите хоть отца, — устало попросила Серафима, чувствуя какую-то пустоту и равнодушие в душе.
— Повторяю вам, все будет решать девочка. И еще раз повторяю — в противном случае я умываю руки.
— Да что вы, — не выдержала Серафима, — утром их не моете, что ли?
— Попрошу моей личности не касаться, — подпрыгнул за столом Петухов, — думаете, если вы воевали, так вам все позволяется, гражданка Лукьянова? И на вас законы найдутся.
Серафима поморщилась и промолчала…
Вошла Варька, ведя за руку Олю. Лицо Варвары Петровны было скорбно и печально. Не глядя на Серафиму, она села на черный диван и рядом посадила Олю. Серафима не шелохнулась, с тоской и болью вглядываясь в лицо дочери, потом, боясь не выдержать и расплакаться, отвернулась к окну, ничего за ним не видя.
— Оля, девочка, подойди ко мне, — сказал Петухов, — перекладывая на столе бумаги.
Оля посмотрела на Варвару Петровну и робко пошла к столу.
— Скажи мне, девочка, — тонко и умильно заговорил Петухов, ерзая на стуле, — тебе дома хорошо?
— Да, — шепотом ответила Оля.
— Ты никуда из дома не хочешь уходить?
— Нет.
— Тебя никто дома не обижает?
— Нет, — торопливо ответила девочка.
— Ну вот, молодец, Оленька, хорошая девочка. А скажи мне, Оленька, кто твоя мама? Покажи мне…
— Вот, — Оля с готовностью показала на Варвару Петровну.
— Хорошо… А вот эта тетя говорит, что она твоя мама.
— Нет, — убежденно тряхнула головой Оля. — Она меня бросила.
— Ну вот, видишь как, — озабоченно и укоризненно сказал Петухов. — А ты, Оленька, хочешь пойти к этой тете жить?
— Нет! — испугалась вдруг Оля. — Я не хочу, — и покосилась на Серафиму как на совсем чужого человека. И этот взгляд дочери на многие годы все предрешил: углядела в нем Серафима не только отчуждение родного дитя, но и детский гнев, а главное — недоумение. В этом коротком взгляде Оленьки так хорошо разглядела она приговор себе, своей незадавшейся судьбе: чего, мол, пристает эта тетя к нам, чего ей, противной, надо от нас?..
Не выдержав, Серафима поднялась и молча вышла из Совета. Странно, ей очень захотелось соленого. Она быстро шла по улице, и в голове мутилось — так ей хотелось чего-нибудь соленого. Дома, едва переступив порог, она бросилась в казенку, достала из небольшой бочки целую кетину и тут же, отрезав кусочек, принялась есть. Потом пошла в избу, попила чаю, почувствовала легкое головокружение и прилегла на топчанчик. Ее тут же стошнило, но убрать за собой она уже не смогла…
Очнулась Серафима только через неделю. Мотька возилась у плиты. В доме было чисто прибрано, пахло лекарствами. Серафима тихо позвала:
— Мотя.
Мотька вздрогнула от неожиданности, оглянулась и радостно заулыбалась:
— Сима, наконец-то, гос-споди…
— Что со мной, Мотя?
— Горячка у тебя была. Думала, не оздоровеешь, — Мотька подошла, присела на топчанчик, — вся ведь огнем пылала, Сима, даже страшно было. Фельдшер тебе уколы ставил, а ты в бреду кричала, ругалась что-то, немцев поминала.
Серафима смутилась. Спросила Мотьку:
— При фельдшере ругалась?
— Да при всех. Тут и Матвей был, и Сергей Иванович, и Никишка пришлепал с малиновым вареньем.
— Сильно ругалась-то?
Мотька засмеялась:
— Ну, значит, ожила, раз беспокоишься. А ругалась — так это ерунда. Лишь бы выздоровела. Сейчас я тебя покормлю. Лежи, лежи! — прикрикнула она, увидев, что Серафима пытается встать, и вдруг спросила — А Пухов, это кто, Сима?
Серафима покраснела и отвернулась. Не сразу сказала:
— Командир наш. Погиб.
— Ну ничего, — вздохнула Мотька, — бабий век долгий, авось и нам счастье отломится. Бывает же оно, счастье-то это… А, Сима?
— У меня было уже, — сухо ответила Серафима, — другого не хочу.
Вечером пришел Матвей. Долго мялся у порога, вытирал ноги о половичок. Потом достал из кармана бутылку молока, поставил на стол.
— Выздоравливаешь, Сима? — спросил с приглушенной лаской.
— Выздоравливаю, Матвей, — слабо ответила она, так как устала за день.
— Садись, чего встал у порога? — Мотька за столом вязала чулок.
— Да я на минутку, — замялся Матвей. — Сима, слышь, может, привести тебе Ольку? Пусть остается. Она-то, Варька, сюда побоится сунуться. А Ольга быстро поймет, что к чему.
— Нет, Матвей, не надо, — твердо ответила Серафима, — мы и так уже ее задергали. Надо было раньше думать. А теперь — не надо. Ни к чему. Подрастет, сама поймет. Хоть здесь, на глазах, и то ладно. Не трогай ее.
Матвей нахмурился, еще неловко потоптался и ушел.
— Чего не согласилась, Сима? — удивленно спросила Мотька. Не дождавшись ответа, с жалостью сказала: — Сошлись бы вы, что ли.
Серафима молчала, да и как бы она могла объяснить Мотьке, которая на жизнь смотрела легко и просто, что война не только ограбила ее, но и наградила тем чувством, которого она так ни разу и не испытала к Матвею….
И потянулись дни, месяцы, годы, прожитые в одиночестве. Оля росла, закончила школу, поступила в педагогический институт, получила диплом. Серафиму обходила стороной, а когда встречались все же случайно, бросала короткое «здравствуйте» и спешила дальше. С годами боль Серафимы притупилась, но не пропала. Теперь она хотела только одного — поговорить с дочерью. Хоть час, хоть пять минут. Но подойти к ней почему-то стеснялась. Ждала, что Ольга сама подойдет, но Ольга не шла. И ей была до боли удивительна черствость родной дочери. Ведь не могла она не знать, кто ее настоящая мать, родившая и выболевшая ее жизнь в муках…
Глава двенадцатая
— Сима, что это с тобой?
Она очнулась и увидела, что рядом стоит Никита, удивленно глядя на нее.
— Я тебе — Сима, Сима, три раза позвал, а ты молчишь, — говорил Никита, — что это ты?
— Задумалась, — улыбнулась Серафима, радуясь Никите, его беспокойству, довольному виду и даже рыбьим чешуйкам, что пристали к его сапогам. — Как съездили, Никита?
— Отлично, Сима! — Никита заулыбался. — Рыбалка у вас — во!
— Сейчас пойдем уху варить. Я только теплоход встречу, и пойдем. А то ступай один, отдохнешь, ключ под крылечком.
— Ну нет, — отказался Никита, — вместе и пойдем.
— А где Осип?
— В лодке.
— Чего он там?
— Рыбу караулит, — засмеялся Никита.
И хорошо стало Серафиме от его смеха, так хорошо, как уже долгие годы не было. И она сказала Никите:
— А другой раз подумаешь, Никита, не война, так я бы тебя не знала, Пухова, Хворостина. И жили бы мы теперь в разных концах, не зная друг друга. Народ-то, вишь, Никита, не зря приметил, нет худа без добра. Конечно, не приведи господь еще раз такого худа, а только и мы добром не обойдены…
После ухи, наваристой и круто перченной, Никита сказал Серафиме:
— Ну, Сима, ты тут убирайся, а нам с Осипом инструмент подавай. Наведем, так сказать, текущий порядочек в хозяйстве.
— Отдыхали бы, чего там, — слабо запротестовала Серафима, но Никита решительно заявил:
— Не дашь работы — уеду.
И принялись они с Осипом вначале за крышу, потом летнюю кухоньку поправили, потом и за ограду взялись, перевесили калитку, заменили подгнившие столбики, сменили штакетины. Серафима, управившись по хозяйству, вышла на улицу, хотела помочь мужикам, но они запротестовали. Тогда она закурила и присела на завалинку. Ей любо было видеть, как возятся мужики во дворе, давно не знавшем настоящей хозяйской руки, как незнакомо меняется облик ее немудреного хозяйства, от которого за версту несло сиротливым вдовьим неустройством. Играючи работая топором, Никита говорил Осипу:
— Так-то оно все так, но не только потому мы отступали. Нет, Осип, не только потому. Он против нас танковые дивизии, самолеты, даже мотоциклами не побрезговал, вот и попер…
Серафима прислушалась к разговору мужиков и впервые удивилась тому, что как бы ни были тяжелы воспоминания, а память все возвращается и возвращается туда, в войну, которую теперь, через тридцать лет, хочется понять как-то по-иному. Может быть, возраст тому виною или время, а может быть, и то, что война для всех них осталась как память молодости, но только неизбежен такой разговор, стоит лишь встретиться двум фронтовикам, с болью и боем прошедшим войну.
— Он, подлец, на танке прет, да еще и постреливает на ходу, — продолжал Никита. — Нет, Осип, не только в неожиданности было дело. Да и как можно было его не ожидать, когда он два месяца выходил к нашим исходным рубежам, автострады построил, аэродромы, танки перегнал…
— Так у нас ведь замирение с ним было, чтобы не нападать, — хмуро возразил Осип. — Кто думал, что у него совсем совести нет и он наплюет на это замирение?
— Должны были думать. Придержи этот конец, нет, поверни, ага, вот так. — Никита, ведя спор с Осипом, про дело не забывал, и оно в его крепких руках хорошо спорилось, и смотреть на работающего Никиту Боголюбова было удовольствие, как и на воюющего. Любому делу, за которое Никита брался, он придавал какой-то домашний уют, крепкую русскую хозяйственность. — Ты вот Серафиму спроси, Она не даст соврать, как мы от их чертовых танков бегали, вместо того чтобы лупить по ним.
— Бегали, — задумчиво кивнула Серафима и неожиданно припомнила небольшой березовый лесок под Орлом и одну из немецких контратак, когда вражеские танки прорвали наши позиции на левом фланге и неожиданно вышли на батарею с тыла. Завязался бой.
В первые же минуты было выведено из строя два орудия — танки сумели слишком близко подойти к березовому лесочку. Задымила одна фашистская машина, разбило гусеничные траки у второй. Но еще три танка упрямо двигались к батарее. До них уже оставалось не более трехсот метров, и Серафима завороженно следила за ними из своего укрытия, невольно щурясь от дыма и копоти. «По танкам бронебойными — огонь!» — срывая голос, кричал старшина Боголюбов, и вдруг она увидела, как подломились у него ноги и он медленно осел на землю, пряча голову в коленях. Она бросилась к нему, боковым зрением машинально отметив, как еще один танк завертелся волчком и замер. Его тут же прикрыл «фердинанд», перший к батарее напролом. Подхватив тяжелого старичину под мышки, она вместе с ним стала пятиться в глубь лесочка, обратив внимание на покореженное орудие и перевалившегося через станину заряжающего Колобкова. «Жив ли?» — подумала с беспокойством, отметив для себя, что первый и третий расчеты продолжают вести бой. У старшины она обнаружила рваную, осколочную рану бедра, быстро перевязала ее, смочила спиртом ссадину на голове. Боголюбов застонал и пришел в себя. Удивленно посмотрел на Серафиму, глухо спросил: «Что с батареей, Сима?» — «Лежи! — приказала она ему. — Батарея сражается. Колобков, кажется, убит. Пойду за ним…»
К разбитому орудию она с немецким танком выскочила почти одновременно. Чуть левее в дыму прорисовывался силуэт еще одного танка, кажется, «тигра». Серафима попятилась в испуге, споткнулась о ящик и упала. Падая, успела заметить, что в ящике лежат несколько связок противотанковых гранат. Прямо под гусеницы она швырнула одну за другой три связки. Еще один бросок — и наконец танк охватило пламенем. Кашляя, вытирая слезы, она удивленно разглядывала горящее черное чудовище и вдруг увидела, как рванулся к ней тот проклятый «тигр». Раздавив пушку и заряжающего Колобкова, танк, словно бы приподнимаясь над землей, неумолимо двигался на нее.
В ящике гранат уже не было, и Серафима, очнувшись от страха, бросилась бежать. Немцы в танке не стреляли. Она лишь слышала, чувствовала каждым нервом, как все приближается и приближается к ней лязгающая траками, ревущая сильным мотором многотонная стальная машина. Хоть и была перепугана Серафима до смерти, но бежала она в сторону, противоположную той, где лежал старшина Боголюбов. И когда уже почувствовала жар перегретого двигателя, запах сгоревшего масла — земля ушла у нее из под ног и она полетела куда-то вниз, в кровь раздирая колени и руки о кусты шиповника и боярки. Сверху трижды ухнула пушка, длинная пулеметная очередь прошла невысоко над головой. «Тигр» несколько раз газанул, развернулся, подминая молоденькие березки, и шум двигателя стал стихать.
Минут через десять Серафима выбралась из оврага и наугад пошла к березовой опушке. Боголюбов встретил ее встревоженным, вопросительным взглядом. Без сил она упала рядом со старшиной и, сдерживая подступающие слезы, рассказала обо всем, что увидела и пережила. Никита выслушал ее молча, потом, чутко улавливая звуки стихающего боя, хрипло сказал: «А ведь не будь тебя, Сима, лежать бы мне под гусеницами вместе с Володькой Колобковым… Ты мне жизнь спасла, Сима, — век не забуду!» — «Да ну, не выдумывай», — отмахнулась она. «Нет, Сима, я знаю, что говорю, — с трудом выдавливал слова старшина батареи. — Считай, что после матери ты меня второй раз родила… Такое, Сима, не забывается… А теперь, сестричка, надо бы разведать, как там у нас, на батарее?» И она, пересиливая неимоверную усталость во всем теле и еще не совсем пережитый страх, с трудом поднялась с земли…
— А я вот чего скажу, — вступил Осип, — ты, Никита, вчера хоть и складно говорил о том, как немец и Иван в наступление ходили, а только не потому мы победили. И потому, конечно, но главное в том, что он нашего солдата не уважал. За человека не считал. Вот тут у него главная промашка и получилась…
— Бог в помощь! — подошел дед Никишка. — А я слухаю, наверху топоры тюкают, ну, думаю, кто же это там строиться затеял. А вы тут Серафимины хоромы ладите. А это кто такой будет, что-то не признаю? — уставился дед на Никиту.
— Жених, дедушка, свататься приехал, — засмеялся Никита, — отдадите за меня Серафиму?
— Это посмотреть надо. К ней ведь и не такие подкатывались, да от ворот поворот получали.
Дед Никишка пошмыгал носом, еще посмотрел на работу мужиков и пошел на завалинку к Серафиме.
— Здорово живешь, Серафима.
— Здравствуй, дедушка.
— Все куришь?
— Курю!
— А кто это?
— Однополчанин. Вместе воевали. Никита Боголюбов.
— Женатый?
— Да.
— А чего он?
— Шутит.
— Так-то мужик видный.
— Видный.
— Я еще даве его приметил, как вы с рыбой шли.
— Что в городе не гостили?
— А че гостювать, — нахмурился дед Никишка, — суда еще не было. Отвез ребятишкам гостинцев, да и домой. Я к тебе черемухой разжиться. Старуха животом мается, так к тебе отправила. Может, дашь?
— Дам. У меня ее с прошлого года еще три банки.
— Будь добра, дай, как-нибудь сочтемся.
Серафима сходила и принесла деду черемухи.
— Слышь, Серафима?
— А?
— Эта… заноза, говорят, опять тебя поносила?
— Да бог с ней, — отмахнулась Серафима.
— Горбатого, видно, могила исправит, — удивился дед Никишка, — и чего ей-то еще от тебя требуется? Мужа сманила, дочери начисто лишила, а все ярится. Чудно. Говорят, оркестр они из района заказали.
— Зачем?
— А шут его знает. Теперь вроде бы всех при музыке хоронят, вот и оне заказали. Конечно, денег много надо, да у нее-то их куры не клюют. Сама-то пойдешь?
— Пойду.
— Сходи. Пусть еще немножко побесится.
— Да я ведь не потому.
— А и потому тоже сходи, — строго сказал дед Никишка, — пусть не располагает, что она тебя вконец одолела… Поясница ноне болит, с самого утра так и ломает, к дождю, что ли?
— По радио не говорили.
— Так они потом скажут.
— Не надо бы его сейчас.
— Знамо дело.
— Ишь, куют мужички. И Осип не пьяный… Сколько Матвею-то?
— Пятьдесят седьмой пошел.
— Молодой ишшо.
— Нестарый…
— До моих годков-то жить да жить.
— Что делать, она не смотрит на годы.
— Не смотрит. Я вот зажился, а ничего, бог милует.
— Живите.
— Да поживу еще годков пять. Ну ладно, Серафима, спасибо за черемуху. Пойду старуху лечить. Чего надо — прибегай.
— Прибегу.
— Покурите, мужики, замаялись, — задержался дед Никишка у калитки.
— Нанимай нас, дедушка, мы тебе дачу отгрохаем. — Никита ловко поддел ломиком столбик и довольный посмотрел на деда.
— Вас найми, — не расплатишься. Только напоить — Амура не хватит.
— А мы щелбанами возьмем, недорого.
— Так я ведь не поп, — нашелся дед Никишка, покхекал от удовольствия и не спеша направился домой.
— Слышь, Никита, — повеселел и Осип, — давай уж и этот… ну, сортир, что ли, отшаманим.
— В один момент.
— Осип, — окликнула Серафима, — а ты бы Мотьке оградку-то все-таки отремонтировал, а?
— Сделаю, — пообещал Осип.
— Так сделай.
— Ну не сейчас же.
— Потом. Ей-то самой не осилить.
— Еще бы.
Уже сумерки опускались над Амуром и где-то далеко, в северной стороне, вспыхивали громадные зарницы, когда Никита весело сказал:
— Ну, Сима, принимай работу…
Глава тринадцатая
Ночью пошел дождь. Серафима проснулась и слушала, как монотонно, уже по-осеннему, барабанит он в окно, по шиферной крыше, как из слива на правом углу дома падает вода в бочку и, выплескиваясь через край, стекает в огород. Хорошо было под одеялом, уютно в такую-то мокрядь, и Серафима покойно лежала с широко открытыми глазами. На диване посапывал Никита, укрывшись с головой. Привычка, наверное, оставшаяся у всех фронтовиков. А вот Серафима такому сну не обучилась — стоило прикрыть голову, она задыхалась, не хватало воздуха, и лучше уж был яркий свет, чем это неприятное ощущение задушенности, как при сильном беге в противогазе.
Потом Серафима вспомнила, что завтра похороны, и опечалилась. Даже и не завтра уже, а сегодня, так как внизу, в Покровке, отпели первые петухи и тонко прогудел рейсовый почтовый водомет из райцентра. Да, сегодня уже, и мало хорошего в том, что на самом исходе лета занудил этот дождь — расквасит землю, затопит релки и мари, раскинется на обе стороны по берегам Амур — и ни рыбы не взять, ни ягоды. Но главное, конечно, похороны. Оно и так на душе муторно, а в такую занудную погоду и подавно. Хорошо хоть копали вовремя управились, а еще лучше, если догадались прикрыть чем-нибудь могилу. Хоть и мертвый человек, а все одно в мокрую могилу не с руки его дожить.
И опять ненароком припомнилась ей война и то, как хоронили товарищей, в воронках, окопах, едва присыпая землей, торопливо, если были патроны, салютуя и не всегда успевая поставить фанерный обелиск со звездой, и тогда над холмиками земли оставалась простая каска или пилотка, и уже те, кто шел за ними следом, не знали, кто здесь похоронен и как смерть от войны принял. И сколько их, таких-то вот могилок, земляных холмиков под пилотками и касками, осталось на земле. И всех приняла земля, и новых людей взамен дала, и кому ведомо, лучше они тех, под холмиками, красивее или же не удались статью, не вызрели душой. Кому это ведомо — никому. Они выросли без войны и, слава богу, научились жить хорошо и от жизни многое требовать, и это не беда, пусть требуют, пусть живут в счастье и радости, потому как на этот век бед и зла и без того достаточно. Только бы не забывали, что это счастье беречь надо, беречь пуще своего глаза и жизни своей, потому как добывалось оно слишком уж дорого, чтобы растерять его за здорово живешь, по лености или тугодумью.
Фронтовиков-то, прав Никита, все меньше остается, рано уходят они, чаще всего и до пенсии не доживают, слишком много сил пришлось им отдать в те четыре года. А кто еще, как не сами фронтовики, могут рассказать о войне всю правду. И такие рассказы никакие фильмы не заменят, никакие книги не осилят, как бы хорошо там все ни писалось и ни показывалось. Только на ее, Серафиминой, памяти сколько случаев таких было. Пусть знают все. И то, как трупы молевым сплавом по рекам шли, и то, как в разведку боем ходили и как прорвавшихся из окружения солдат встречали. Был случай, спрашивает ее Колька Кадочкин, мол, тетя Сима, цветы-то вам дарили на войне или нет? А она вот что-то за всю войну и цветов не припомнит, и бог их знает, были они тогда на земле или нет. А даже и были, то какие же это цветы, если они на крови всходили, если вся земля этой кровью как губка напиталась…
Серафима заворочалась, захотелось ей курить, но она боялась дымом потревожить сон Никиты и перемогла, стерпела это желание и опять прислушалась к дождю, и припомнилось с болью ей, сколько таких-то вот сиротливых ночек пережила она за свою жизнь, одиноко ворочаясь в постели и с грустью думая о том, кого уже давно не было на земле, да и в самой-то землице вряд ли чего осталось. И казалось, затаить бы ей обиду на неудавшуюся свою жизнь, на тех, кто лучше устроился, кто быстрее от войны сумел отойти, от памяти о ней, но нет, не было такой обиды в Серафиме, никогда не приходила она к ней, даже в самые горькие минуты, даже в самые тяжелые часы. Она сама, без принуждений и натуги, выбрала свой удел и сама, без жалоб и сетований, справлялась с ним. Только однажды… Да нет, и однажды не было. Было что-то жалостное, скорее материнское, чем бабье…
Тот мальчик-председатель, тот бывший комсомольский работник, Сергей Иванович Козлов, вдруг начал уж как-то больно сильно заботиться о ней. Придет она домой, а во дворе целая машина дров лежит, напиленных и наколотых, в другой раз кто-то сарайку перекроет, огород вскопает. А однажды и того чище — два кубометра теса завезли, потом из этого леса летнюю кухоньку соорудили, и опять без ее ведома. Она еще и в толк ничего взять не успела, а по селу уже слухи пошли, и Матвей вдруг разом перестал с ней здороваться. Тогда Серафима пошла к председателю. Шла сердитая, готовая наговорить ему черт знает чего, даже из колхоза выйти, но как вошла в кабинет и увидела густой румянец на председательских щеках, его виноватые и покорные глаза, так все разом из головы и выскочило. От его смущения и сама смутилась, так как в деле хваток был молодой председатель, тверд и строг. Спросила его:
— Это вы все?
Он кивнул и стул ей подставлять бросился.
— Зачем?
— Помощь от колхоза, как одинокой фронтовичке. Вы заслужили.
— А люди что думают?..
— Ну что вы! — Он опять покраснел, даже большие уши покраснели, склонился над столом и тихо сказал — Я ведь вам от всего сердца.
— Я знаю, но только больше не надо. — И, уже поднимаясь, неожиданно для себя сказала:
— Заходите в гости, раз интересуетесь моей жизнью. Вот и увидите, что я не хуже остальных живу.
Через два дня он пришел. Вначале смущался и прятал это смущение за напускной строгостью, но она-то видела, и понимала его, и жалела почему-то. А он все приходил и однажды остался, и она как-то разумно и спокойно согласилась с этим. Но когда увидела, что все заходит слишком далеко и что сама уже скучает по нему, если он где задерживается, испугалась. Ночью сказала:
— Сережа, что-то надо делать.
— Что такое? — не понял он.
— Молод ты еще, Сережа. Я против тебя старуха.
— Тебе тридцать лет, Серафима, какая же ты старуха?
— Я не годами старуха, Сережа, а жизнью. Ты не поймешь.
— Нет, отчего же, пойму.
Ей было грустно, что он так легко собирается понять всю ее жизнь, когда она и сама ее толком не понимает.
— Тебе, Сережа, хорошую девушку искать надо. А я баба, я истратилась уже вся до донышка, и ничего такого, что в тебе есть, во мне давно нет.
— Что же делать, Серафима, я без тебя не могу.
— Не знаю. Но что-то делать надо. А врать я не умею, Сережа.
Жизнь, как всегда, распорядилась по своему усмотрению, и Сережа, Сергей Иванович, уехал на пять лет учиться. К тому времени уже оправились колхозы после войны, подросли ребята, да и управлять хозяйством было кому, вот Сергея Ивановича и отпустили на учебу, и хоть клялся и божился он, что непременно вернется — не вернулся. Но письма присылал ей долго, звал к себе, сам грозился приехать — она запретила.
…А дождь все лил, и сквозь эту морось начал проступать мглистый рассвет. Вначале выбелилась из тьмы та стенка, что была напротив окон, потом уже можно было разглядеть потолочные доски и черную тяжелую матицу.
Никита спал без просыпа, видимо, все-таки уработался за день, да и годы не те, как ни бодрись, а все чаще приходит какая-то беспричинная усталость, растекается по телу, вяжет мысли, и в такие минуты начинаешь понимать, что чувствуют люди перед смертью. Вернее, догадываться, потому что понять это не дано человеку ни до, ни после нее.
О чем думалось Матвею? Что вспомнил он? Чужой, а вроде бы и близкий человек, так хорошо понятный ей. Вспомнил ли он свою молодость или последние дни жизни? А может быть, то и другое враз? Вспомнил ли он ее или Варвару Петровну, или их обеих? Кто это может знать? Человек прожил жизнь, и все, что он успел сделать, осталось на земле, а то, что успел узнать от нее, унес с собою. Как ни говори, а свой опыт страданий и счастья на земле никому не передашь и никого им не научишь, каждый должен испить свою, только свою долю, и как это лучше сделать, ни у кого не узнаешь…
В последний раз приходил Матвей с месяц назад. Она его долго не видела и поразилась тому, как он изменился за этот срок. Седой, задыхающийся, с обвисшими усами, сутулый и худой, он долго не мог начать разговор, глотая воздух открытым ртом и хватаясь рукой за грудь. Она испугалась его вида, растерялась и не смогла вовремя все это спрятать, утаить от него. И он, когда отдышался, откашлялся, с вымученной улыбкой спросил:
— Что, Сима, сильно я сменился с лица?
— Похудел, а так-то…
— На скелет смахиваю, — перебил Матвей, — врать-то ты не умеешь и никогда не могла, а теперь уж и не учись.
— Чай будешь пить, Матвей? — спросила она.
— Я ведь проститься к тебе пришел. В этот раз слег, дак все боялся, что не повидаюсь под конец, и шибко худо мне от того было.
— Спешишь, Матвей, — сердце у нее сжалось от спокойной уверенности Матвея в своем конце, — спешишь, а напрасно. Она и без нас знает, когда ей прийти, а ты ее подгоняешь. Зачем?
Но Матвей, наверное, не слышал ее, потому что ровным глуховатым голосом продолжал спокойно говорить:
— Нескладно жизнь-то у меня получилась, Сима, нескладно. Не понял я тебя тогда, ночью, не понял, а потому и ударил. Прости.
— Да господи, — удивилась Серафима, — нашел о чем говорить.
— Отец, покойник, похоже, и то лучше в тебе разобрался. Может быть, потому все так и получилось, что я-то не разобрался. И еще одна моя вина перед тобою — за дочь. Прости, Сима, если можешь. Тяжело мне с таким грехом на тот свет собираться, а ведь сделанного не воротишь. Простишь ли? — С робкой требовательностью он смотрел на нее, и видно было, как пульсирует на руке, ниже большого пальца, маленькая голубая вена.
— Давно уже простила, Матвей.
— Спасибо, Сима… Я ведь старался, Сима, все силы прикладывал, но осилить Варвару не смог — она Ольгу по-своему воспитала. Уже выросла когда, повзрослела, сколько раз просил: сходи к матери, поговори, ведь родная она тебе, исстрадалась. Бросила, говорит, она меня, знать такой матери не хочу. Характером-то в тебя — упрямая, да только упрямство это не туда повернуто… Дай чего попить, Сима, что-то в груди жжет.
— Чаю?
— Давай чаю, только сахар не клади.
— Бог ей судья, Матвей. Она ведь по-своему тоже права.
— Она не по-своему права, а по-Варвариному. Если бы по-своему — можно и смириться.
— Тебе-то легче теперь?
— Легче.
— А то ляг, отдохни. Я диван разберу.
— Дал бы бог, — вздохнул Матвей, переводя дыхание после чая и наваливаясь спиной на стену, — у тебя на руках помереть, а больше ничего не хочу. Все перехотел и все уже отжалел… Я болел, так думал, Сима, от войны-то схоронился, за бронь спрятался, а она меня и дома нашла. Нашла и раздавила, как червя земляного, и поделом. Осип вон пьет, тоже жизни нету, а и он счастливее меня. На праздник, Девятого мая, он вместе с тобой в президиум поднимается, а я в зале сижу.
— Кто-то ведь и здесь должен был остаться, — возразила Серафима, — всем нельзя.
— Должен, — согласился Матвей и прикрыл глаза, — но и здесь надо было по совести оставаться, а я по боязни сидел. Работал, конечно, не хуже других, а фронта боялся. Вот и весь секрет.
— Устал?
— Устал. Пойду сейчас. Я вот еще чего хотел тебе сказать. Ольге-то я напишу или сам скажу, если приведется, она должна последнюю мою волю исполнить. Так ты ей все расскажи, меня не жалей, не надо. То, что я тебе сегодня рассказал, тоже доложи. Не должно так все время быть, не по справедливости… Ну, пойду. Хватится — шуметь будет.
— Поправишься, приходи еще.
— Приду, — он усмехнулся, поднялся с трудом, посмотрел на нее долго и попросил: — Поцелуемся?..
Серафима вышла проводить Матвея и с болью смотрела, как медленно и неловко ковыляет он по тропе, низко опустив голову и широко расставляя слабые ноги…
Серафима не выдержала, потянулась за папиросой в чиркнула спичкой, и тут же Никита проснулся, приподнялся на диване, удивленно посмотрел на нее:
— Не спишь, Сима?
— Не сплю.
— Дождь, что ли?
— Всю ночь поливает.
— А я сон видел. Что-то мои привиделись. Наверное, вспоминают. — Никита зевнул и сладко потянулся, выгнувшись широкой грудью над подушкой. — Я лет пять как на мирные сны перешел, а то все такое снилось, что вскочишь в поту и не знаешь, за что хвататься. Один раз спросонья комод перевернул, окапывался, значит, ну моя Мотря и выдала мне по первое число. А то плакал. Проснусь, а подушка мокрая. Вспоминаю, чего во сне видел, вспомнить не могу. А теперь-то чего не спать, то работу какую во сне делаешь, то ребятишки приснятся. Хорошо.
— Хорошо, — откликнулась Серафима.
Глава четырнадцатая
— Никита, ты ордена не взял?
— Нет, Сима, планки только прицепил. Да и нет их у меня, орденов-то, пацанва моя растаскала.… А чего ты хотела?
— Так ты тогда костюм с планками надень.
— Надену.
— Осип тоже наденет. Я ему говорила.
— А зачем, Сима?
— Похороны сегодня, Никита. Мужа моего хоронят. Он хоть и не воевал, а от войны тоже дай бог вынес, вот мы его по-фронтовому и почтим. Ты уж прости меня, Никита, но сегодня с нами сходишь, а?
— Конечно, Сима, чего я один-то буду делать?
— Отдыхать приехал, в отпуск, а тут…
— Брось, Серафима, — недовольно перебил Никита, — а то ведь у меня и наряд схлопочешь. И вообще, чего это ты со мной как с чужим обходишься, или и правда чужой?
— Ладно, Никита, не буду больше.
Серафима, достав из чемодана военную форму, разложила ее на коленях и глубоко задумалась, не замечая, как чутко и торопливо ощупывают пальцы сукно, проверяют штопки, пуговицы и еще какие-то ей лишь одной известные мелочи.
— Сохранила? — удивился Никита. Он сидел за кухонным столом и направлял утюг, развалив его до последнего болтика.
— Сохранила, — вздохнула Серафима и погладила сукно руками. — Я от войны, Никита, все сохранила.
Задернув легонькую шторку на дверях, она медленно переоделась и долго стояла у комода, перебирая безделушки, которые в разные годы и по разным причинам покупала в магазине, и никак не решалась подойти к зеркалу. Потом взяла гребень, тщательно расчесала все еще густые и черные волосы, собрала их в узел на затылке и, закалывая шпильки, опять задумалась, так и оставшись с поднятыми руками. Никита что-то говорил — она не слышала. С неприятно поразившим ее удивлением Серафима поймала себя на том, что с тоскою думает о войне. Нахмурившись, она решительно подошла к зеркалу на стене и увидела, что помолодела до неприличия. И это опять неприятно удивило ее.
Она села на кровать и закурила. Пилотка лежала на комоде, ее она так и не решилась надеть. Сильно заболело сердце. Память упорно стучалась к ней, и она так же упорно гнала эту память от себя, боясь не осилить, не справиться с ней.
— Сима! — весело окликнул Никита. — Покажись-ка.
И она очнулась, на ходу прихватила пилотку, точным, заученным движением (словно и не было тридцати лет после войны) надела ее чуть набок и на два пальца над бровями. Отдернув шторку, вышла к Никите.
— Симка! — вытаращил тот глаза. — Сгинь, Симка!
Она смутилась и, невольно подтягиваясь, прошла по кухне.
— Вот это фокус, — пристально и удивленно разглядывал Серафиму Никита, — да неужто и я бы так помолодел в форме-то? Ну-ну. Тебя, Сима, впору под венец вести. А ну повернись еще. Н-да. А ремень-то есть?
— Есть.
— Надень-ка.
Серафима перетянулась ремнем и, тоже привычно, расправила под ним гимнастерку, согнала морщины.
— Вот ведь как помолодела, — загрустил вдруг Никита, — тебе форма идет.
— Увидел, — усмехнулась Серафима.
— Так пойдешь?
— Хотела, да не знаю…
— А чего тут знать. Иди так.
— Нет, Никита, гимнастерку я сниму, кофту надену.
— А ордена?
— Перецеплю. Долго ли.
Она ушла в горенку и еще раз глянулась в зеркало и только теперь приметила, что у нее были старые глаза. Форма омолодила только ее фигуру, глаза же ничем нельзя было омолодить, потому что все, что они увидели за пятьдесят с лишним лет, осталось в них. А ведь они видели много страшного, чего человек видеть не должен. И особенно если этот человек — женщина.
Серафима, сразу уставшая и тихая, сняла гимнастерку, подержала ее в руках и принялась отвинчивать ордена и медали. Когда она сделала это, и награды, холодно звякая, с трудом уместились в ее руке, гимнастерка как-то разом осиротела, стала до неузнаваемости серой и обыденной. И Серафима долго с удивлением смотрела на нее…
— Куда, куда прешься, идол? — зашикали, завозмущались старухи на Кольку Кадочкина, который, нарушив порядок, показался в дверях с обитой красным сатином крышкой гроба.
— А чего нести-то? — недовольно нахмурился Колька.
— Венки, как чего, поди, не знаешь?
— Господи, помрешь, и схоронить-то ладом не смогут.
— Ничего к ним не пристает, все как от стенки отскакивает. Хоть бы это уж запомнили.
— А зачем? В городах, слышь, жечь наловчились. Вот им и без разницы.
— Они-то как хотят, а мы христиане, и пусть хоронят нас по-христиански.
— Они схоронят! Еще вперед головушкой выпрут, ума хватит.
Но дальше все шло по правилам, и старухи примолкли, поджимая сухие губы…
Не переставая, с самой ночи, продолжал моросить мелкий, по-осеннему холодный дождь. Он сыпал и сыпал из низких сплошных туч, которые сползли с хребтов и вяло тянулись над Амуром в южную сторону. За этой тоскливой мутью едва проглядывали сопки на левой стороне реки, и все в мире как бы сузилось и потеряло свои размеры и очертания. Земля раскисла и, уже не в силах принимать влагу, покрывалась мелкими лужицами, в которых одиноко плавали первые опавшие листья. По этим лужицам и по листьям, по сырой раскисшей земле медленно продвигались десятка три людей в сторону кладбища, что было расположено у подножия небольшой сопочки и густо поросло кустами боярышника да березами. Ярко рдеющие горьковато-сладкие ягоды боярышника источали крепкий запах, и поэтому, когда люди подошли к кладбищу, вобрали этот запах в себя, многие удивились — откуда, словно раньше никогда и не замечали его.
Все, кто шел сегодня хоронить Матвея Лукьянова, были в чем-то похожи друг на друга: почти у всех были одинаковые плащи, косынки и кепки, и даже старухи в своих черных плюшевых жакетках не нарушали общего впечатления, и лишь один-единственный неожиданно яркий (красный, с голубыми цветочками) зонтик сильно выделялся в толпе. Он медленно и празднично плыл над головами, и на него было как-то странно и тяжело смотреть. Словно бы этот зонт, помимо воли его хозяина, надсмехался над людьми, холодным дождем, далекими сопками и даже над самим покойником. Давно бы не выдержали старухи, укорили хозяина, да шла под этим зонтиком Ольга. И Серафима, чувствуя неловкость и огорчение, мысленно умоляла Ольгу, чтобы та убрала зонт хоть до той поры, пока не опустят Матвея в могилу. Но дочь, как и всегда, не слышала ее.
Едва опустили гроб на землю возле прикрытой досками могилы, как, разбрызгивая грязь, подкатил колхозный «газик», и из него легко выскочил председатель. Был он человек еще довольно молодой, с образованием, а потому начисто лишен деревенских предрассудков. На ходу, цепляясь ногами за корни деревьев, он успел опечалиться лицом и выдернуть из-за пазухи лист бумаги. Председатель не заметил, что на его машину смотрят с удивлением и укором, что и сам он как-то быстро и неуместно появился здесь с еще более неуместной бумажкой в руках, и с ходу, резко осадив себя над гробом, звучным баритоном сказал:
— Разрешите, товарищи…
Председатель уткнулся в бумажку и начал читать:
— Все мы знали Матвея Петровича как добросовестного труженика, всю свою сознательную жизнь отдавшего родному колхозу. Не перечислить всех добрых дел, которые он сделал для нас с вами и которые еще долго будут жить, напоминая нам о скромном и удивительном труженике, выходце из народа… Учитывая заслуги Матвея Петровича, правление колхоза постановило занести имя Матвея Петровича Лукьянова в книгу Почета и посмертно наградить его Почетной грамотой колхоза…
Наверное, он и еще что-то хотел сказать, так как лист бумаги был исписан на машинке с двух сторон, но не нашелся, как продолжить свою речь, и поспешно отступил в сторону.
Началось прощание, и Варвара Петровна, упав коленями в грязь, красивым голосом запричитала. Ее как-то быстро подняли и отвели в сторону. Старухи было сунулись к ней с положенными утешениями, но она строго посмотрела на них и твердо сказала:
— Умирают все.
Изрядно выбитые из ритуального порядка похорон речью председателя, старухи опешили и долго не могли понять, что им делать дальше, потом кто-то из них догадался перекреститься, и замелькали в воздухе тонкие, сухие руки в странно широких рукавах жакетов.
Пошла к покойнику Серафима, следом за нею двинулись Осип и Никита. У самого гроба Серафима словно бы споткнулась, почувствовав на себе чей-то тяжёлый и пристальный взгляд. Она подняла голову и увидела Ольгу, которая в упор смотрела на нее. От этого взгляда Серафима тихонько охнула, обмякла на ногах и уже не помнила, как подходила к гробу, как прошептала: «Прощай же, Матвей, пухом тебе земля» — и как отошла прочь, с трудом унося на себе этот невыносимо тяжелый взгляд.
Гроб подняли на веревках и опустили в могилу, в то последнее место на земле, где должно теперь было лежать Матвею.
Варвара Петровна первой бросила в яму горсть земли. Потом бросили все. И у всех от мокрой земли остались на руках грязные потеки, и все сорвали тут же по клочку желтой кладбищенской травы и ею вытерли руки.
Председатель подошел к Варваре Петровне и, видимо, договорил ей то, что не сумел сказать из-за смущения.
Закапывали долго, в молчании. Земля мокро шлепалась в могилу, прилипая к лопатам, и мужики то и дело колотили ими по молодой березке, и комки грязи тяжело сползали с лопат.
Серафима украдкой следила за Ольгой, которая безучастно стояла под своим ярким зонтиком, изредка переговариваясь о чем-то с Варварой Петровной. Когда шли на кладбище и когда председатель произносил речь, Серафима еще надеялась, что как-нибудь выдастся случай, который поможет ей поговорить с дочерью, познакомить ее с Никитой, рассказать, кто он и почему приехал к ней, и перед Никитой похвастать хоть и получужой, но дочерью ведь. Теперь же она и думать забыла об этом. Серафима не хотела признаться себе, но она почему-то начинала бояться Ольгу, ее пристального холодного взгляда и всегда спокойного выражения лица. Что-то в ней было такое, или мертвое уже, или усталое преждевременно. Но Серафима сдерживала в себе эти мысли, гнала прочь, беспокойно отыскивая оправдание дочери. И вдруг она услышала спокойный, намеренно громкий голос Варвары Петровны:
— Этого допустить нельзя. Ведь не хочешь же ты, чтобы она испортила нам поминки.
— Как знаешь, мама, — спокойно ответила Ольга.
Серафима вздрогнула и прикрыла глаза; вся ее жизнь, со всеми муками и лихом, мгновенно встала перед нею. И вся эта жизнь, прожитая бедно и сурово, была посвящена человеку, который равнодушен к ней. За что? Неужели только за то, что она поступила так, как велела совесть, как велел разум? Неужели только за то, что она ушла защищать землю, по которой бегала на слабеньких еще ножках русоголовая девочка — ее дочь? Неужели только за то, что она всеми мыслимыми силами, всем разумом и материнской любовью, совершенно не сознавая этого, сохранила свою жизнь для той девочки — ее дочери? Как же тогда устроен человек, если это возможно?
Без слез, с широко распахнутыми глазами, Серафима медленно повернулась и побрела с кладбища, не различая земли и неба, и медали под ее плащом тихо звякали, и напоминало это звяканье далекий погребальный звон. Она не видела, как гордо и обиженно поджали губы старухи и молча пошли за ней, и как бросилась останавливать и уговаривать их Варвара Петровна, и как ничего у нее из этого не вышло: старухи молча и упрямо обходили ее, шли дальше, сурово глядя перед собой. Не видела она и того, как тихо и быстро сказал Колька Кадочкин что-то Ольге на ухо, от чего она вмиг покраснела и поперхнулась, и, отшвырнув лопату, пошагал за старухами. Лопату подобрал председатель, неумело повертел ее в руках и передал шоферу, и тот в одиночестве доложил холмик, обровнял его и сверху приложил пластами…
И все еще сыпал дождь на дома, могилы, сопки, на четырёх человек, как-то сиротливо и неуместно стоявших над могилой: Варвару Петровну, Ольгу, председателя и его шофера, симпатичного молодого паренька, через месяц собиравшегося в армию.
В первый раз тяжело и устало поднялась Серафима к себе, вошла в дом, и не успела снять плащ, как чинно и чопорно проследовали по двору старухи, разулись в сенках и в шерстяных носках прошли в дом. Серафима растерялась и не знала, что сказать, а уже следом тащили Никита, Осип и Колька ящик вина, тяжело оскальзываясь на камнях.
— Ну, Серафима, не задерживай, давай-ка вместе поминки готовить, — строго сказала бабка Кадочкина, — вон уже и мужики с водкой подоспели, а у нас еще ничего не готово.
И бабки согласно зашелестели губами, закивали узкими и высокими головами.
Глава пятнадцатая
Через три дня Никита уезжал. Он как-то враз затомился сердцем по дому, заскучал и на все уговоры Серафимы погостить еще шутливо отвечал:
— Гостил бы, да чую — жена замуж собирается. Нет, Сима, поеду. Теперь очередь за тобой. А на День Победы в Москву поедем, а? Там ведь все наши собираются, фронтовики, может, кого встретим. Поедем?
— До Москвы далеко, — вздохнула Серафима, — так просто не выберешься, а к тебе приеду. Хочу на твоих ребят посмотреть.
— Ну а там разберемся, — повеселел Никита, — там мы все порешим.
И вот они стояли на дебаркадере, и только несколько минут оставалось им до разлуки. А день выяснился, дождливые тучи пронесло, и теперь молодо и весело светило солнце. Вода в Амуре хоть и потемнела от дождей, но под солнцем плескалась искристо, шумно обтекая дебаркадер, накатываясь на берег и завихриваясь в мелкие воронки под утесом.
В эти последние минуты слова у них не шли, хотя казалось, о многом еще надо было сказать. Но неловкости от этого они не чувствовали, а лишь печалились душой, что так быстро пролетели дни, отпущенные им для встречи.
— А Осипа что-то нет? — забеспокоился Никита,
— Придет.
— Хороший мужик.
— Да ничего…
И в это время на дебаркадер поднялась Ольга. Ничем не выдав своего волнения, Серафима пошла выдать ей билет. Она долго не могла сосчитать положенную Ольге сдачу с десяти рублей, долго отрывала билет и вписывала в него номера каюты и места и, наконец, не выдержав, спросила через окошечко:
— Уезжаешь, Оля?
Ольга удивленно посмотрела на нее, потом нахмурилась, как бы припоминая что-то.
— Да, отец перед смертью просил меня поговорить с вами. Но, право, я не понимаю, о чем бы мы с вами могли поговорить?
— Оля! — Серафима ссутулилась за столиком и умоляюще смотрела на дочь. Лицо ее, за минуту до этого строгое и задумчивое, вдруг стало жалким и растерянным. Она грустно опустила голову.
— Минуточку, девочка, минуточку, — перед Ольгой встал бледный, вздрагивающий от гнева Никита. — Ты хоть знаешь, с кем ты сейчас говорила? — Голос Никиты окреп и зазвенел. — Ты знаешь, кто перед тобой в той комнатенке сидит?! Ты как с ней разговариваешь, едрена шишка! Она же мать тебе, а нам сестра, понимаешь, сестричка она моя, которой я тоже жизнью обязан… Ты хоть понимаешь эти слова или нет — Мать, Сестра? Или совсем одеревенела… Она под танки, под пули, под снаряды… она изранена, контужена, она дня не прожила там, на фронте, чтобы тебя, сопливую, не вспомнить, а ты ей чего?.. Тебе не о чем с ней разговаривать, да? — Никита задыхался. Глядя в перекошенное от страха и гнева Ольгино лицо, он, как мог, сдерживал в себе ярость, готовую выплеснуться бог знает во что…
— Никита! — выбежала из своей комнатенки перепуганная Серафима. — Не надо, Никитушка, бог с ней… Успокойся, родимый, успокойся и присядь…
Боголюбов послушно присел на скамейку, а в это время теплоход подошел к дебаркадеру, и волны от него с шумом накатились на берег. Подали трап, и Ольга первой простучала по нему высокими каблуками, с опаской косясь на мужика, возле которого хлопотала с валидолом ее мать.
— Ну, Сима, мне пора, — пришел в себя Никита и виновато попросил: — Ты уж прости меня, не сдержался, накричал я на нее, но сил не было смотреть, как она мордует тебя…
— Ничего, Никита, — ответила Серафима. — Давай, пароход сейчас отходить будет.
Краем глаза заметив, что Ольга пристально следит за ними, она обняла Никиту и троекратно расцеловала его, и только тут заплакала теми тяжелыми бабьими слезами, которые копились в ней все эти тридцать лет, все то время, что минуло с того далекого дня, когда весь мир узнал о Победе, к которой шла она долгих четыре года по фронтовым дорогам. Шла — во имя жизни на Земле, во имя каждого человека в отдельности и всех людей вместе. А понадобилась — пошла бы опять…
* * *
Еще долго стояло тепло над Амуром, и светло-желтые листья медленно кружились над землей, укрывая ее многоцветным покрывалом, мягко и ласково шуршащим под ногами. Еще долго тянули на юг птицы и бродили по лесам полусонные медведи, удивляясь теплу и той благодати, что шла на землю от каждого дерева и куста, от каждого вскрика птицы и тихого кружения листа.
1976


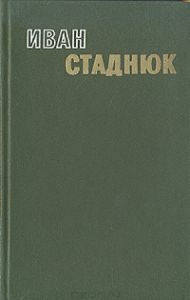
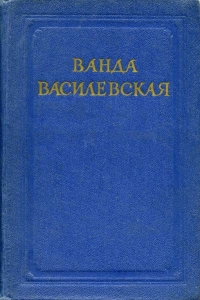



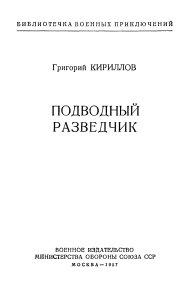

Комментарии к книге «Военная», Вячеслав Викторович Сукачев
Всего 0 комментариев