Отцу моему Юзефу Орловскому посвящаю
У подножия старого замка
Городок спал, укрывшись густым туманом. Но на востоке сквозь мглу уже начинала проступать розово-золотистая подсветь. Первые солнечные лучи зажгли в окнах домов десятки слепящих крохотных солнышек и отразились в алмазинках росы, осевшей на траве и кустах. В кронах старых лип, что росли вдоль правого берега реки Дзялдувки, проснулся ветер. Он ворвался на тихие, узкие и горбатые улицы городка, разлохматил туман и прогнал его на луга и в овраги. Поднимаясь, солнце осветило сначала стрельчатую громаду костела, затем пожарную вышку, башню городской водокачки и старинную ратушу, посмотрелось в прозрачную воду Дзялдувки и задержалось на кустах сирени, у стен старого рыцарского замка.
Много старых замков на мазурской земле, но этот особенный. Он забрался на высокий холм в самом центре Гралева и нет ему равных в этих краях ни по дикой красоте, ни по величию. У его подножия течет не глубокая, но быстрая Дзялдувка. Река — старше замка. Она знает про него все. Построен он на костях и крови мазурских предков — венедов, пришедших сюда с далекой Вислы и порабощенных потом жестокими крестоносцами. Замку более пяти веков. Высокие кирпичные башни смотрят на все четыре стороны черными глазницами бойниц, а узкие окна с остатками ржавых решеток равнодушно взирают на приютившийся внизу городок.
Мазурский край суров и живописен. Он славится на всю Польшу своими лесами, озерами, старинными замками и легендами. Одну из них — происхождение герба святой Катерины — гралевцы особенно любят и передают из поколения в поколение.
В те далекие времена их городок был крохотным славянским селением, его окружал дремучий лес. В самой чаще темного леса стояла ветхая избушка смолокура. Со старым смолокуром жила дочь Катерина. Голубизну ее больших лучистых глаз, белизну лица и золото тяжелых кос можно было сравнить лишь с красотой погожего весеннего утра. Целыми днями Катерина плела кружева, ткала полотно и пела. И все кругом замирало, слушая ее: и деревья, и ветры, и струи родника, протекающего рядом с избушкой. Бедный смолокур души не чаял в дочери.
Слава о красоте мазурской девушки докатилась до замка. Там царил молодой и красивый, но злой и жестокий крестоносец Зигфрид. Однажды под покровом грозовой ночи он со своими холопами ворвался в домик смолокура. Старика схватили, Зигфрид выколол ему кинжалом глаза. Катерину связали, бросили на коня. Она отбивалась, звала на помощь, но крики ее тонули в цокоте копыт, в шуме лесов, как тонет плеск дождевой капли в морской пучине.
Зигфрид привез Катерину в замок и запер в северной башне. Через день он пришел к узнице, чтобы натешиться ее юностью и красотой. Катерина не покорилась Зигфриду. Тогда он попробовал ее купить, принес в башню груды награбленных драгоценностей, парчовых тканей. Гордая славянка осталась глухой и неприступной.
Как-то раз ночью девушка услышала слабые стоны и бряцание цепей. Звуки доносились из подвалов квадратной башни, что была напротив северной. Они не давали Катерине покоя, и она решила во что бы то ни стало спасти несчастных.
Она попросила Зигфрида устроить пир, после которого обещала подарить крестоносцу свою любовь. Во время пира Катерина поднесла Зигфриду и его гостям по чарке с вином, куда незаметно подсыпала снотворного зелья. Когда Зигфрид, его гости и слуги уснули, а замок погрузился в густой мрак ночи, Катерина сняла с пояса спящего крестоносца связку ключей, спустилась в подвалы, раскрыла тяжелые двери и выпустила на волю узников. Потом повела их в замок, дала мечи и показала на спящих крестоносцев.
После того пира долго пустовал обагренный кровью замок. Вздохнули мазуры. Через год в замке поселился молочный брат Зигфрида, Конрад. Он был еще более жестоким. Чтобы найти Катерину, Конрад разослал гонцов во все концы земли мазурской. Но мазуры надежно прятали девушку. Тогда люди Конрада схватили слепого отца Катерины.
Узнав, что отец в застенке, Катерина обрезала свои золотые косы, взяла арфу и под видом странствующего певца пробралась в замок. Но ее узнали, схватили и привели к Конраду. Он приказал отдать ее на потеху своим холопам, а потом казнить. Катерине удалось вырваться из рук палачей. Она взбежала по наружной лестнице на самую высокую башню и бросилась оттуда в Дзялдувку.
Прошли века, но мазуры помнят легенду. Над входной дверью ратуши гралевцы высекли из камня герб. На нем в готическом портале стоит Катерина. Она опирается на зазубренное колесо — орудие пыток. В руках у нее щит с крестом и меч. А пастухи говорят, что и по сегодняшний день в погожие летние ночи, под Княжим Двором, там, где выход из подземелий замка, можно встретить стройную девушку в белом воздушном платье, услышать грустное пение и звуки арфы. Это Катерина поет о своей тоске по отцу, о красоте земли мазурской, о страданиях и мужестве своего народа.
Ирена родилась и выросла в доме у самого подножия холма, на котором стоит замок. Полный таинственности, этот мрачный великан всегда привлекал ее внимание. Когда Ирена входила под высокие звездные своды залов и гулких длинных коридоров, она представляла себе картины тех лет. Ей виделись тесно заставленные всевозможными яствами столы, возле них, на скамьях, накрытых шкурами диких зверей, сидят надменные рыцари. На них белые, расшитые дорогими каменьями плащи с черными крестами на спине и груди. Ирене казалось, что она слышит, как толпы слуг выкатывают из подвалов все новые и новые бочки вина и меда. Но ни крики захмелевших крестоносцев, ни звон кубков не могут заглушить тяжелых стонов, глухих проклятий и лязга цепей…
Ирене делалось страшно. Она вздрагивала от шороха летучих мышей, которых так много в этом замке, и убегала прочь.
Ирена — дочь каменщика Ольшинского. Его семья из шести человек живет на улице Святой Катерины в доме пана Бернась.
Отец Ирены редко находил работу по специальности и брался за любое дело, лишь бы прокормить семью. Он был мастером на все руки: и дом построит, и печь сложит, и трубы сварит, и даже рукавицы для ребятишек свяжет. Летом жилось легче — ловили рыбу в окрестных озерах, собирали щавель, ягоды, грибы. Хуже было зимой. От голода иногда спасали неожиданные морозы: в стужу в городе лопались водопроводные трубы, и Ольшинскому удавалось заработать несколько злотых на их ремонте.
Зима 1937 года была особенно трудной. В ожидании случайного заработка пан Ольшинский вместе с другими безработными целыми днями простаивал около ратуши. Ирена приносила отцу в большом термосе горячий кофе — мать варила его из поджаренного на сковороде жита. Ольшинский угощал им товарищей, а потом, забыв отослать Ирену домой, засунув руки в карманы залатанного на локтях пальто, ругал местное начальство, а заодно президента Мостицкого, охотившегося, если верить газетам, в то время с маршалом Герингом в Беловежской пуще.
Ирена недоумевала. В школе она разучивала о пане президенте и о недавно умершем дедушке Пилсудском столько хороших стихов! Учителя говорили, что это самые умные, самые справедливые люди в Польше. А отец их ругает…
— Порази их, ясная молния! — ворчал отец. — Они там, толстопузые, зубров стреляют, а у нас животы от голода подвело. Все говорят — кризис…
— Ну что ты, Бронек, — останавливал друга пан Граевский, — хочешь, чтобы тебя в Павяк[1] упрятали?
— Не упрячут, нас слишком много, — возражали пану Граевскому безработные. — Говорите, пан Ольшинский.
Пан Ольшинский, раскурив затухшую трубку, рассуждал:
— По-моему, настали тяжелые времена. Всей Польше нелегко, а нам, мазурам, хуже всех. Немцы считают нас поляками, поляки — немцами, кому как выгодно. А сами мазуры забывают порой, что они потомки древних венедов-славян. А мы не должны забывать, что у нас есть свой язык, свои национальные обычаи, что мы поляки! Мы принадлежим Польше и свои права отстоим. Не так ли, Костя?
— Еще бы! Ты, как всегда, прав, Бронек, — соглашался пан Граевский. — Вот и скажи об этом на собрании мазурской народной партии. Ты ведь там голова.
— И верно, пан Ольшинский, сказали бы! — поддержали пана Граевского безработные.
— Что ж вы думаете, не говорил? — Отец Ирены горестно вздохнул. — Да я уже не меньше десяти раз объяснял, почему нам необходимо вырваться из-под немецкого влияния и брать пример хотя бы с конгресяков[2]. Ведь мы, мазуры, вместо того, чтобы отстаивать свои национальные права и обычаи, петушимся друг перед дружкой и даже, по примеру некоторых евангеликов, разжигаем неприязнь к конгресякам.
— Конгресяки хитрые, изворотливые, — сказал кто-то. — С ними нам не по пути. Они нас не понимают, потому что им всегда жилось легче, чем нам, мазурам.
— Ну и неправда! — возразил Ольшинский. — Просто они смелее нас и истинные поляки! Они открыто протестуют против того, что наши власти устраивают для немцев и своих магнатов балы в Королевском Дворце в Варшаве, а народ голодает. А мы молчим, терпим и не учитываем, что все наши внутренние распри — быстрая вода на немецкое колесо. Из-за наших разладов немцы нас совсем оттеснили. Чуть ли не все предприятия, учреждения и магазины в их руках. Мы им нужны только как грубая рабочая сила, да и то не всегда.
Пан Граевский дернул отца Ирены за рукав и испуганно зашептал:
— Хватит, Бронек, а то еще подслушают пилсудчики, в конце недели пособия не дадут. Подохнем тогда.
— Не подохнем, Костя, не паникуй! Расшиби их, ясная молния!
Отец Ирены приходил домой озябший, усталый и мрачный. Не раздеваясь, молча ложился на деревянный топчан, стоявший на кухне, отворачивался к стене и делал вид, что спит. Когда же отец приходил с деньгами, то был совсем другим. Хитро прищурив помолодевшие глаза, выкладывал со стуком на буфет два-три серебряных кружочка и говорил матери:
— Вот тебе, Настка, деньги, сбегай в магазин, купи нам чего-нибудь.
— Сейчас, Бронек, — откликалась обрадованная мать. — Сейчас!
Она надевала свою вытертую каракулевую шубу, которую носила уже лет двадцать, и убегала в лавку. Вскоре на столе дымился суп со шкварками, который в шутку называли «Заиграй». «Заиграй» — суп бедняков, им наедались вволю. Иногда, по праздникам, к этому супу добавлялся еще кусочек кровяной колбасы.
Ирена училась в шестом классе, а ее брат Юзеф в четвертом, когда им стали выдавать в школе бесплатные завтраки. На большой перемене разодетые, надушенные дамы, жены чиновников и лавочников, надев повязки с красным крестом, раздавали детям бедняков хлеб со смальцем и сладкий кофе. Ирене и Юзефу было стыдно принимать эту милостыню, но что было делать — им так хотелось есть.
В городе было две школы. Семилетняя, где учились дети бедных и зажиточных, и гимназия — только для богатых. Многих барчуков привозили в школу на бричках, а зимой — на санках. И кучера называли этих барчуков паненками и панычами.
Ирена, слыша это, презрительно усмехалась и, показывая на барчуков, говорила брату:
— Цацы!
— А ты бы не хотела так кататься?
— Нет.
Это была неправда. В душе Ирена завидовала этим паненкам и панычам. Они так хорошо одеты, всегда сыты, на бричках катаются.
Панычи не водились с детьми бедняков. Они презирали их. А как они смеялись над самодельными деревянными башмаками! В особенности Болек Танский, тот Болек, который нравился Ирене. Он орал на весь класс:
— Ой, держите меня, а то упаду! Смотрите, как эта Ольшинская вырядилась! Что за шикарные туфли! А чулки, чулки! Еще лучше! Ну, и дядувка!
Однажды, придя из школы, Ирена спросила отца:
— Тато, скажите, почему Больку Танскому, Целине Маевской, Франеку Гроховскому и Хинцу живется хорошо, а нам плохо? Почему, тато?
— Потому, дочка, что у них деньги, власть. Они нас, Мазуров, за людей не считают, не дают нам работы. Учись, учись, доченька. Мы им докажем, что и мы не лыком шиты.
Отец гладил светлые, тонкие волосы Ирены и вздыхал.
Учеба давалась Ирене легко. Тут уж Болеку было далеко до нее. Ирена часто выручала класс своими толковыми ответами во время визитов инспекторов. Даже ксендз, благосклонный только к детям состоятельных родителей, хвалил Ирену. Одно его настораживало: девочка неохотно молилась и на уроках закона божьего задавала ему такие вопросы, на которые было трудно ответить.
— Вот вы говорите, что бог справедлив и милосерден, — волнуясь, спросила как-то Ирена. — А почему он помогает только богатым? Ведь богатые меньше работают, а едят досыта, много веселятся и красиво одеваются. Мои тато с мамой работают с утра до вечера, а живем мы бедно, впроголодь. Почему? Скажите!
— На все воля божья… Бог знает, что делает. И ему виднее, кто больше достоин его милостей. Тебе этого не понять, ты еще слишком мала. Советую не думать об этом. Молись! Только в молитвах ваше спасение. Бог милостив, он простит твои неразумные слова.
Ксендз поднял глаза на распятие, висевшее между портретами президента Мостицкого и маршала Рыдза-Сьмиглого, потом подошел к парте Ирены, положил на голову девочки пухлую холеную руку и тихо добавил:
— Молись, Ольшинская, молись!
— Не хочу, не буду молиться! — заупрямилась Ирена.
— Опомнись! Не богохульствуй! — Ксендз испуганно перекрестился.
— Буду так говорить! Буду, — не унималась девочка.
— Замолчи сейчас же! Скажи отцу, пусть завтра придет в школу.
— Ему некогда, прошу ксендза, — вмешался Болек Танский. — Он стоит целыми днями у ратуши и мутит безработных. Отец говорит: Ольшинский добивается, чтобы им платили за их жалкую работу столько же, сколько платят немецким специалистам…
— И правильно! — оборвала Болека Ирена. — Мой тато и его друзья ничуть не хуже ваших немецких специалистов. — Потом повернулась к ксендзу и сказала: — Хорошо, тато придет в школу. Только он тоже говорит, что бог не для бедных. Бедным некогда молиться — им надо работать, иначе они пропадут с голоду. Пусть ваш Болек молится! — Ирена неожиданно разрыдалась.
— Вон! Вон из класса, негодница! — Ксендз затопал короткими ногами. Серебряное распятие, висевшее на длинной цепочке на его груди, закачалось при этом, словно маятник от часов.
Ирена рванула из парты тряпичную сумку с книжками и убежала в парк. Домой вернулась к вечеру. На следующий день отец ходил в школу и пришел оттуда сумрачный, расстроенный.
— Зря ты затеяла этот разговор с ксендзом, дочка, — сказал он. — Все равно правды не добьешься, а из школы могут исключить. Бедным везде плохо живется, но твоему духовному наставнику этого не понять. Он нужды не видел! Но ничего, дочка, придет скоро и наш черед, а пока потерпим. Ну, не хмурься! Будет! Садись за уроки.
— Хорошо, тато.
Ирена любила отца. Она считала его самым умным, сильным и справедливым из всех, кого знала. Она любила слушать его рассказы о море, о жарких диковинных странах. В молодости отец служил на флоте и знал много историй из далеких плаваний, о незнакомых землях и людях. Рассказывал отец обычно зимой, когда у него было много свободного времени, и все, кроме матери, занятой на кухне, присаживались к теплой печке. Прислонившись широкой спиной к белым кафельным изразцам, отец неторопливо набивал крепким самосадом трубку, закуривал ее и начинал…
И тихая комната как бы наполнялась плеском океана, дрожала, качалась, словно палуба настоящего корабля. Постепенно океан затихал. Волны становились добрее и вскоре превращались в покорную серебристо-синюю гладь. Чайки кружились, кричали за кормой. Корабль приходил в многолюдный порт…
— Хватит на сегодня, Бронек! — Голос матери всегда неожиданно и жестоко вторгался в сказочный мир. — Ребята, мойтесь, и пора спать!
Через полчаса все спали. Только Ирена продолжала плыть навстречу солнцу. А солнце склонилось к горизонту, обмакнуло свой пылающий край в серебристо-синюю гладь океана, потом растеклось по рваным краям облаков и скрылось. Девочка долго глядела в темноту, все еще слыша глухой и задушевный голос отца. «Вот выучусь, стану учительницей, и буду рассказывать своим ученикам о далеких диковинных странах так же увлекательно, как тато!» — решила, уже засыпая, Ирена.
Соседи и даже мать считали Ирену чудачкой: дочь бедняка, а мечтает стать учительницей. Ирена и сама это понимала. Но судьба улыбнулась ей. Когда Ирена кончила начальную школу, «Союз мазурских учителей»[3] в награду за хорошую учебу разрешил ей готовиться к поступлению в гимназию бесплатно.
И вот экзамены позади. Ирена — гимназистка. Портниха шьет ей форменное платье синего цвета — подарок дяди Михаила из Гдыни. Радость Ирены понимали только отец да самая близкая подруга Леля.
Леля — дочь пана Граевского или, как его называли в городе, дяди Кости рыбака. Он родился, вырос и состарился в Гралеве, но воинскую повинность отбывал когда-то в далекой Галиции. Там Граевский влюбился в красивую румынскую еврейку Нину, женился на ней и привез в свой город. Здесь молодую женщину встретили недружелюбно, дав ей из-за необычной для этих мест цыганской внешности обидное прозвище — чаровница-ведьма. Поэтому Лелю дразнили в школе «ведьминой дочкой».
Нина так и не привыкла к суровому северному краю мужа. Она затосковала по своей родине, заболела и умерла молодой, оставив дяде Косте пятерых девочек. Леле шел тогда седьмой год.
После смерти Нины дядя Костя женился вторично на горбатой, но очень доброй и трудолюбивой девушке Паулине. Она родила дяде Косте еще троих девочек. Несмотря на такую ораву, Граевские сумели построить собственный домик над Дзялдувкой, развести огород, купить лодку. Паулина шила платья гралевским модницам, дядя Костя ловил и продавал рыбу. Рыбак любил выпить, а выпив, собирал вокруг себя толпу и жаловался:
— Господи, и за что это на меня напасть такая? Девять женщин в доме и ни одного наследника! Молился я богу, молился, чуть штаны на коленях не протер, — просил у него сына. Так нет, не дал! Лопнуло мое терпение! Не пойду больше в костел. Нет его, видно, бога-то!
— Совсем рехнулся старик! Бога не признает! Да не слушайте его. Мало ли что человек наговорит спьяна. Грех-то какой! Прости его боже! — крестились набожные гралевянки и уходили прочь. Мужики только посмеивались и говорили:
— Ладно, ладно, Костя, будет у тебя еще наследничек. Иди домой, поспи.
Леля — старшая из восьми дочерей пана Граевского. Озорная, смешливая, она совсем не походила на серьезную и мечтательную Ирену. Характером Леля пошла в отца. Девчонок она не терпела (исключение составляла только Ирена), любила водиться с мальчишками и была у них признанным вожаком. Мальчишки хотя уважали своего чернявого атамана в юбке, но колотили его, как равного. Леле это не нравилось, и она научилась давать сдачу. Мальчишки знали — если Лельку заденешь, она живо расправится с любым из них. Дралась она со своими обидчиками до полной победы и никогда не ревела от боли. Лелька водила своих друзей, куда только вздумается. Не было уголка ни в городе, ни около старого замка, который бы она не облазила с мальчишками. Она открывала на территории замка новые ходы и укрытия. И не раз босоногая ватага мальчишек, возглавляемая загорелой до черноты девочкой, совершала набеги на фруктовые сады городских богачей.
Училась Леля неважно, часто пропускала уроки. Была она способная, схватывала все на лету, но никак не могла усидеть долго на одном месте. Не помогали ни наказания учителей, ни просьбы тети Паулины, ни подзатыльники отца. Она все терпела, всех выслушивала, обещала исправиться или упрямо молчала и продолжала делать свое. Из всех уроков любила только уроки пения. Если бы не Ирена, которая чуть не силой заставляла Лелю учиться и помогала ей, сидеть бы Леле по два года в каждом классе.
* * *
Июль 1939 года был жаркий. Пообедав, Ирена с Лелей, отпросившись у матерей, брали с собой вязание и шли гулять. Переходили деревянный скрипучий мост через Дзялдувку и взбирались на пологий холм у старого замка. Там было тихо и безлюдно. Дни будничные: кто в поле, кто на покосах, а кто на выкопке торфа. Приятный, теплый ветерок пробегает по высокой траве холма и разгоняет сонных жирных шмелей, прилипших к золотым сердцевинам ромашек. Пахнет клевером и шиповником. Гралево с холма словно на ладони…
Вязать было лень. Подруги отложили спицы в сторону.
— Давай лучше смотреть, что в городе делается, — предложила Леля.
— Давай! Только пересядем вон на тот камень. Оттуда все видно.
И Ирена потянула подругу к большому валуну, что на краю холма.
— Гляди, — сказала Леля, когда они уселись рядышком на горячем камне, — вон едет в своей бричке наш молодожен бургомистр. Только почему он один? Куда делась его новая молодая жена? Видно, удрала от него в казино, к офицерам на танцы. Так ему и надо! Она танцует, а он с горя едет на озеро Мамры рыбу удить. — И Леля засмеялась звонко, раскатисто.
Мимо замка прошел судья вместе с суетливым и тощим, как палка, адвокатом. Поодаль, на рынке, у открытого кафе, под полосатым зонтом, виднелся бочкообразный владелец единственной в городе аптеки. Он пил пиво и о чем-то оживленно спорил с подсевшим к нему врачом. Вот идут по улице три ксендза. Среди них и ксендз Мишевский, который учил Ирену и Лелю в школе закону божьему. Ксендзы, несмотря на жару, одеты в длинные черные сутаны и подметают ими каменные плиты тротуаров. Священники взволнованно размахивают руками, что-то доказывая друг другу. От их резких движений нагрудные распятия отлетают в стороны.
— Гляди, какие они сердитые, — заметила Ирена. — Видно, злятся, что мазуры стали реже ходить в костел.
— Мой тато с весны тоже перестал ходить в костел, — сказала Леля. — Он говорит, что и так слишком долго вымаливал у бога лучшую жизнь.
— И у нас ходят в костел только мама с Халиной и Ядькой. А тато в это время надевает красные в синюю полоску штаны, коричневый бархатный кафтан, натягивает праздничные сапоги и уходит в пивную, — заговорила доверительно Ирена. — Ты ведь знаешь, в пивной пана Гедамского всегда шумно и весело. А на днях мама сказала: мы бедны потому, что о боге забываем, и что ксендз не придет к нам колядовать на Рождество. Он не хочет нас больше знать и не будет отвечать на наши поклоны.
Тут тато не вытерпел и как закричит на маму: «Не нужен нам твой ксендз и его колядование! Он только и ждет, когда звякнешь об его тарелку злотым!»
Ой, что тут было! Мама расплакалась, Халина и Ядька ревут в голос. Мы с Юзефом тоже испугались. А тато, сердитый, как никогда, говорит, что он теперь председатель мазурской народной партии в нашем городке, и его семья должна забыть дорогу в костел.
— И правильно! Наша тетя Паулина ходит в костел только по большим праздникам, а пани Ольшинская — два раза в неделю.
— Мне жалко маму, — вздохнула Ирена. — Она же, кроме костела, ничего не видит.
— Конечно, если бы не костел, в нашем Гралеве можно подохнуть от скуки, — согласилась Леля.
Жарко. Молчит старый замок. Только внизу под ногами журчит по камешкам обмелевшая за лето Дзялдувка. Вода прозрачная, чистая. Лишь у моста застряли прибитые течением ветки и бревна. Они образовали широкий плотный настил, поросший зеленью. Река там узкая. Но в этом месте много всякой рыбы. Если встать посреди моста, то можно увидеть песчаное дно реки, а в воде юрких ельцов и бычков. Изредка и окунь блеснет золотистыми полосками или линь мигнет красноватым толстым туловищем. Берега Дзялдувки затканы шелковистой голубизной незабудок. Что-то тихо шепчут вековые липы, растущие вдоль реки, стрекочут в траве кузнечики, жужжат шмели. Высокая трава хорошо защищает их от жары. А вот аистам жара нипочем. Аист и аистиха стоят в своем гнезде на крыше старого замка и клекочут радостно и победно на всю околицу.
— Скоро первое сентября, а мне не верится, что я буду учиться в этой гимназии, — заговорила мечтательно Ирена, кивнув головой в сторону белого нарядного здания.
— Вот дурочка! — засмеялась Леля. — Ведь уже все решено. Кончишь гимназию, потом лицей и станешь учительницей. Ну, а я подамся в Варшаву, к тете, она живет хорошо — и поступлю в музыкальную школу. Хочу научиться играть на скрипке, как наш учитель пения. Поверишь, Ирка, когда я слушаю его, мне даже плакать хочется. Спать потом не могу. Все слышится его игра. А когда выучимся, поедем путешествовать по Польше. Ты представляешь, поезд мчится, мелькают за окном телеграфные столбы, леса, поля, деревни, большие и малые города, а мы стоим у открытого окна и дивимся, до чего красива наша страна. Наша Польша…
Ирена удивленно посмотрела на подругу. Леля была сейчас такая восторженная, милая, задумчивая. С нее слетела обычная занозистость и присущая ей насмешливость. Ирене передалось ее волнение.
— Вот будет здорово! — воскликнула она. — И еще непременно поедем к морю и привезем по кусочку янтаря. Тато говорит, что его много на Балтике. Рыбаки Кашубы, что живут на побережье, делают из янтаря браслеты, бусы и перстни. Люди их покупают и носят, как талисманы. Мне тоже хочется найти кусочек этого счастливого камня. Я бы подарила его отцу, чтобы у него всегда была работа…
— Мы его найдем, Ирка, — сказала убежденно Леля. — Найдем!
По реке, то и дело застревая на мели, плывут в утлой лодчонке какие-то мальчишки. Видно, что ребята устали. Лодка ткнулась носом в песчаную кромку берега, мальчики выскочили на песок и побежали к рыбачьему домику.
— Пожалуй, пора домой, — сказала Леля, вставая. — Я уже проголодалась.
Недалеко от замка им встретилась тетя Паулина. Она шла с речки с полной корзиной мокрого белья. Ирена и Леля помогли донести корзину и развесить во дворе белье. Тетя Паулина сказала Ирене:
— Оставайся ужинать. Я окуньков нажарила.
— Спасибо, тетя Паулина. Боюсь, мама заругается. С обеда дома не была.
— Не заругается! Я тебя потом провожу, Ирка. — Леля потянула подругу в дом.
Они кончали ужинать, когда к Граевским примчался явно чем-то испуганный Юзеф.
— Мама велела позвать Ирку домой! Я думал, что они с Лелькой еще в замке, побежал туда и вот смотрите, что нашел в траве. Читайте!
И Юзеф подал дяде Косте свежую листовку с большим черным орлом, державшим в лапах свастику. Листовка была обращена к местным немцам, в ней говорилось о близком дне их освобождения.
— Неужто начнется война? — озадаченно сказал дядя Костя, дочитав листовку до конца. Она была напечатана на двух языках: польском и немецком.
— О, Езус, Мария! — перекрестилась тетя Паулина. — То-то на базаре только и разговоров, что войны с Гитлером нам не миновать.
— Все может быть. Кто знает, что у этого Гитлера на уме? Немцы давно зарятся на Мазуры, Гданьск. И в Гралеве полно немцев, которые ждут не дождутся прихода своих. Вот беда! — Дядя Костя вздохнул.
Леля с Иреной переглянулись. Они еще не понимали, что такое война, и листовка эта их не испугала. Но хорошего настроения, с которым они вернулись из замка, как не бывало.
Дома Ирену ждало письмо из Бурката. Тетя Марта, сестра отца, просила, чтобы Ирена приехала к ней на недельку-другую помочь в жатве. Ирена обрадовалась — она давно не была в Буркате. Отец отвез ее туда на велосипеде.
Деревня Буркат в тридцати километрах от Гралева. Она раскинулась на краю глубокого оврага, заросшего пышным ивняком. На дне оврага поблескивает ручей с родниково-прозрачной водой. Сразу же за оврагом начинаются густые леса, которые тянутся на десятки километров к юго-западу. Обширные поля и луга — владения самого крупного помещика Гралевского района пана Дверского. В центре Бурката стоит его белый с лепными украшениями и балюстрадами двухэтажный дом. Пан Дверский с семьей жил в нем только летом, остальное время года господа проводили либо в Варшаве, либо за границей. На помещика работала чуть ли не вся деревня: свои небольшие полоски земли, отвоеванные у леса, не могли прокормить буркатских крестьян.
Тетя Марта жила вместе с взрослым сыном, деревенским ковалем, в новой, недавно построенной избе. Изба была большая и светлая. Она еще пахла смоляными сосновыми досками, сквозь три чисто вымытых окна в нее щедро лилось солнце.
Чуть свет деревня пустела — жатва была в разгаре. Хлеб убирали вручную, ведь батраков у помещика Дверского много и ему не к чему тратиться на покупку машин. Тетя Марта с Иреной нанялись вязальщицами снопов. Работа эта нелегка, особенно для городской. Превозмогая усталость, Ирена старается не отстать от тетки. Стебли колючие и ломкие от длительной жары. Хлеб начал осыпаться, и люди спешат.
Ирена набирает большую охапку пахнущих пылью и солнцем стеблей, кладет их у ног, потом скручивает прясло, поддевает его под низ собранной охапки, стягивает крепко-накрепко, помогая себе при этом коленкой, завязывает и откидывает готовый сноп в сторону. Уже целый ряд лежит за ее спиной, и выглядят они не хуже, чем те, что связала Марта. Ирене хочется услышать от нее похвалу. Она распрямляет на миг вспотевшую, ноющую от усталости спину и спрашивает тетку:
— Ну как?
— Хорошо, деточка, хорошо! — хвалит тетя Марта. — Глядишь, за такую работу управляющий в конце недели отсыплет тебе мешок зерна. Поможешь отцу.
Девушка довольна. Пот щиплет глаза, капает с кончика носа. Исколотые стерней руки саднит до самых плеч, но Ирена не обращает на это внимания. Ведь она получит целый мешок пшеницы. Отец свезет пшеницу на мельницу, а мать напечет из ее муки вкусные хрустящие оладьи…
Работали обычно до полной темноты. С одиннадцати до трех дня солнце пекло так невыносимо, что люди были вынуждены уходить с поля. Поев, они расстилали в тени деревьев дерюжки и отдыхали. Когда жара немного спадала, снова шли в поле.
В полдень и деревня замирала. Не было слышно даже привычного тявканья дворняжек, которые тоже прятались от жары. И лишь в дальнем конце села, в тени крохотной дубовой рощи, несколько полуголых, чумазых ребятишек гоняли тряпичный мяч.
К вечеру Буркат оживал. Пригоняли с пастбища огромное помещичье стадо коров, коз и овец, слышалось посвистывание пастушьего кнута, скрип цепей у колодцев. Над избами начинал виться еле заметный дымок: хозяйки готовили ужин. На завалинках хат сидели старики, молча посасывая длинные трубки. Из леса тянуло свежестью.
Время летело незаметно. Ирена втянулась в работу и уже не уставала так сильно, как в первые дни. Уезжая из Бурката, Ирена везла с собой заработанный мешок жита и бидон пчелиного лесного меда — подарок тети Марты.
Война
Хотя о войне говорили давно, началась она все равно неожиданно, как всякое бедствие.
Первого сентября Ольшинских разбудил на заре далекий, но все нарастающий гул. Потом внизу громко хлопнула дверь, и женский голос закричал: «Война! Война! Немцы в городе!»
Пан Ольшинский наспех оделся, открыл окно и увидел, как со стороны Мазурских ворот в город входили гитлеровцы. Вскоре все вокруг наполнилось ритмичным топотом тысяч окованных сапог, громким барабанным боем, лязгом самоходных орудий, треском мотоциклов.
Заметались в панике проснувшиеся гралевцы. Кое-кто спрятался в подвалы в надежде переждать самое страшное — бои на улицах. Но ничего такого не случилось. Гитлеровцы заняли Гралево без единого выстрела.
Местные немцы ликовали. Они уже успели вывесить на своих домах фашистские флаги. Немки спешили к ратуше с цветами, корзинами фруктов, вином, приветствовали солдат восторженными возгласами:
— Хайль Гитлер! Хайль зиг! Слава, вам, слава, слава!
Ирена обрадовалась, когда отец сурово и твердо сказал матери:
— Собирайся, Настка! Пока эти оголтелые фашисты орут на весь город и целуются с гралевскими фольксдейчами, порази их всех, ясная молния, мы попробуем выбраться из города. Поедем на восток за Вислу. Думаю, туда германца не пустят… Сама понимаешь, здесь нам оставаться нельзя.
— Сейчас, Бронек, сейчас, — согласилась мать и продолжала неподвижно сидеть. Губы ее шептали молитву.
— Настка!
От окрика мать точно проснулась.
— Куда же мы побежим с детьми?
— Куда побежим! — взорвался отец. — Ты не кудахчи, а собирайся, да поскорей, пока они не одумались, расшиби их, ясная молния!
— Но ведь у нас нет хлеба, нет денег. Дома хоть картошки вволю… О, господи! — запричитала мать.
Отец уже вязал узлы, выносил их во двор и укладывал на тележку. Мать, не переставая плакать, посадила на узлы Ядвигу и Халинку, а Юзефа крепко держала за руку. Ирена суетилась вокруг тележки и торопила:
— Скорей, скорей, тато! А то немцы не выпустят нас из города.
— Не путайся под ногами! Сбегай лучше в дом, поищи ведро, — приказал отец. — В дороге без воды нельзя.
Ирена бросилась в дом. Он был похож на растревоженный улей. Голая и жалкая мебель, всюду обрывки бумаги и солома, вывалившаяся из тюфяков. На стеклах окон плясали красноватые, зловещие блики полыхающих уже кое-где пожаров. Дом показался Ирене чужим. Она нашла ведро и выбежала на улицу.
Дворами, закоулками Ольшинские выбрались за город. Там, минуя тенистое Грюнвальдское шоссе, двинулись по пыльной проселочной дороге на Млаву. «Все! Нет у нас теперь дома. Мы беженцы, — подумала Ирена. И вдруг вспомнила Лелю. — А ведь мы даже не попрощались!»
Было знойно. Страшно хотелось пить. Впереди Ольшинских и за ними тащились уже сотни таких семей из пограничных местечек и деревень. Все шли на восток к Висле. Шли молча, будто стыдясь чего-то. Над головами беженцев повисла плотная завеса пыли. Пот заливал глаза, немилосердно жгло желтое маслянистое солнце. Плакали дети, жалобно мычали недоенные, привязанные к тележкам коровы. А дороге, казалось, не было ни конца, ни края. Над притихшими, недавно убранными полями и лугами дрожало зыбкое марево. Далеко-далеко маячила сизая, еле видная полоска леса.
А тем временем по залитому асфальтом Грюнвальдскому шоссе беспрерывным потоком двигались немецкие колонны, танки, самоходные орудия. Они тоже шли на Млаву.
Халина и Ядвига уснули на узлах. Мать прикрыла их от солнца платком. Девочки все время вздрагивали во сне и всхлипывали. Ольшинский устал, толкая тяжелую тележку. Он еле передвигал ноги, обутые в грубые яловые сапоги, рубашка его потемнела от пота.
— К вечеру будем в Илове. В этой деревне и заночуем. Крепись, Настка, — бормотал он.
Лес, за которым начиналось Илово, был уже близко. Но неожиданно, сотрясая воздух, пронеслось несколько фашистских бомбардировщиков. Они шли так низко, что их черные тени скользили по убранным полям, по дороге. Вдруг что-то ухнуло, задрожала земля. И сразу к небу поднялся огромный султан пыли, полетели комья глины, камни. Люди попадали прямо в дорожную пыль или в канавы, под мясистые листья лопухов. Послышались плач, стоны. Рядом с приникшей к земле семьей Ольшинских рухнуло громадное дерево. Потом стало совсем тихо. Оглушенная Ирена увидела над собой встревоженное лицо отца.
— Тебя не ранило?
Было уже далеко за полдень, когда они, наконец, добрались до леса. Но не успели пройти и километра, как дорогу преградили мотоциклисты. Немцы кричали:
— Возвращайтесь назад, польские собаки, не то всех перестреляем! Назад!
Ольшинский вышел вперед и попытался было возразить немцам. Они молча направили на него автоматы.
— Бронек!..
Ольшинская кинулась к мужу и потянула его назад…
Поздним вечером голодные и смертельно усталые Ольшинские вернулись домой.
Немцы считали Гралево своим, и поэтому уже через два дня вывели войска, оставив лишь около сотни солдат.
Гралево попало в лапы гаулейтера Коха. С первого же дня оккупации он приказал навести в городе железный немецкий порядок. Город стал называться Зольдау. На дверях магазинов и учреждений появились таблички с надписями на немецком и польском языках: «Евреям, полякам и собакам вход воспрещен», или «Только для немцев». Всем полякам было приказано носить на груди желтый лоскут с темно-синей буквой «П». Лоскут был виден издалека.
Над особняком сбежавшего адвоката Вирвича развевался черный флаг СС. В подвалах особняка хозяйничало гестапо. Там пытали и убивали поляков. Расстреливали за все: за найденный радиоприемник, оружие, польские книги, которые было велено сжечь еще в первые дни, хождение по улицам в полицейский час. На рассвете расстрелянных и замученных увозили на телегах в направлении деревни Коморники. Однажды, укрывшись в подъезде, пан Ольшинский видел, как с телег, прикрытых мешками, на мостовую капала кровь…
Усадьба сбежавшего помещика Гедамского превратилась в концентрационный лагерь. Мимо него не разрешали даже проходить. В каждого, кто появлялся вблизи усадьбы, будь то взрослый или ребенок, стреляли с вышек. Школу тоже обнесли рядами колючей проволоки и пустили через нее ток. Вскоре туда привезли несколько сот изможденных, полуодетых людей. Этих несчастных водили под конвоем строить новую дорогу на окраине города. (После войны гралевцы назвали эту дорогу «Аллеей мучеников», потому что там от побоев и голода погибли сотни людей.)
Совсем распоясались местные немцы. Самыми жестокими из них были помещик Фриц Скуза и лавочник Отто Шмаглевский, которого поляки прозвали «черным дьяволом». Они знали в лицо всех жителей Гралева, заставляли их низко кланяться, били, плевали в лицо и за малейшее неповиновение доносили в гестапо. Почувствовав себя настоящими хозяевами Гралева, они прошлись по домам, переписали всех поляков, сняли отпечатки их пальцев и велели немедленно выходить на работу — мостить булыжником дороги и улицы Гралева. Предупредили: кто не хочет работать на месте, того вывезут на работы в Германию или отправят в лагерь, а кто выйдет работать — получит продовольственные карточки.
Подумав и посоветовавшись, Ольшинский и Граевский решили выйти на работу.
— Работать можно по-разному, — сказал дядя Костя. — Поработаем, а там видно будет.
— Правильно, — поддержал Ольшинский. — Думаю, не долго им здесь хозяйничать, порази их всех, ясная молния!
Ирена теперь редко видела отца. Он часто уходил из дома по вечерам, возвращался поздно, хмурый. Как-то раз обмолвился, что он и Граевский слушают в одном месте радио. Мать сразу запричитала.
— Перестань, Настка, — строго сказал отец и нахмурился.
— Не ходи больше! Хочешь нас сиротами оставить? Ты забыл, какое теперь время? — не унималась мать.
— Я ничего не забыл, Настка! Но надо же знать, что на свете делается, чтобы приободрить других, иначе люди поддадутся немецким уговорам. Мы хотим, чтобы мазуры остались верными Польше. Вчера, например, мы с Костей слушали, как о Варшаве говорил весь мир. Оказывается, наша столица сопротивлялась дольше всех городов, хотя правительство, во главе с президентом Мостицким покинуло ее в первую неделю войны. Варшаву жгли, бомбили, оставили без воды, света, а она все боролась. Об этом должны узнать все гралевцы, а ты говоришь — не ходи! Ты не права, Настка.
Первая военная зима пришла очень рано. Уже в конце октября повалил снег.
Однажды вечером Леля Граевская засиделась у Ольшинских допоздна. Давно наступил полицейский час, и Ирена оставила подругу ночевать. Пришел отец. Мокрая одежда торчала на нем коробом. Мать сняла с него полушубок, собрала на стол. Он поужинал куском сухого хлеба, запил его ячменным кофе с сахарином.
Ирена подсела к отцу и тихо спросила:
— А вы, тато, сегодня тоже слушали радио? Плохие вести, да?
— С чего ты взяла? — нехотя ответил отец. — Не спрашивай, чего не следует.
— Не сердитесь, тато! Лучше расскажите нам: бьют еще наши немцев или нет? — не унималась Ирена.
— Вот пристала, словно репей к хвосту. Только смотрите, никому об этом ни гу-гу! — сдался отец.
— Никому, дядя Бронек! — поспешила заверить Леля.
— В конце августа в Гданьский порт пришел якобы с «визитом вежливости» немецкий броненосец «Шлезвиг Гольштейн», — начал Ольшинский. — И обрушил внезапно, порази его, ясная молния, всю мощь своих двадцати девяти орудий на оборонительные сооружения Вестерплатте. Это коварное нападение с моря было поддержано огнем немецкой артиллерии с суши и жуткой бомбардировкой с воздуха. Более трех тысяч вооруженных гитлеровцев надеялись за один день смять и уничтожить наш форпост — небольшой гарнизон пограничников. Их было всего сто восемьдесят два человека. Но, несмотря на это, Вестерплатте защищалось семь дней и ночей. Дрались до последнего патрона. Командовал пограничниками майор Сухарский. Запомните эту фамилию, девочки.
Ольшинский помолчал немного, ласково провел рукой по светлым волосам дочери, сказал:
— Ничего, мы еще посмотрим, кто кого одолеет! Нашими руками немцы строят сейчас дороги, но строят они для нас, для наших детей. — Заметив вопросительный взгляд Лели, пояснил: — Мы скоро прогоним немцев, и все будет нашим. А после войны мы, рабочие, возьмем власть в свои руки, как это сделали наши восточные соседи — русские.
— Москали? Что вы, тато! — испугалась Ирена. — Это же наши враги, дикие азиаты и безбожники.
— Чушь, дочка! — засмеялся отец. — Вам в школе морочили головы, а ты, глупенькая, верила. Именно у русских нам надо поучиться…
Отец не закончил фразу — на пороге комнаты стояла мать. Она была бледная, глаза у нее горели. Отец посмотрел на нее с тревогой и попросил:
— Сходила бы к доктору, Настка!
— Зачем?
— Так ведь ты больна…
— Это все из-за тебя. Ты пропадаешь по вечерам, и я все время боюсь, что к нам ворвется «черный дьявол» и тебя заберут. Мне страшно, Бронек. Я не сплю по ночам, все слушаю… А теперь еще и Ирену с пути сбиваешь. Пожалел хотя бы детей.
— Прости, Настка, и пойми: мне нельзя иначе. Нельзя подводить товарищей, которые мне верят. И дочке полезно знать правду. — Отец обнял мать за плечи.
— Ты, неугомонный, довоюешься! Чует мое сердце, — вздохнула мать.
Когда прошли первый страх и оцепенение, гралевцы все чаще стали задумываться и спрашивать друг у друга:
— Как это случилось, что наш город сдался гитлеровцам без единого выстрела?
— Нас предали, — предполагали одни.
— Еще в августе был разработан план эвакуации Гралева, — припоминали другие. — Выходит, власти знали, что города им не удержать. Городская знать удрала, а нас оставили на погибель, на издевательства.
— Да и в лагере, в основном, одни евреи и пленные солдаты. Куда же делись польские офицеры? Неужели их всех расстреляли? — допытывались третьи.
— Как бы не так! Сбежали.
Ирена и Леля жадно слушали разговоры, только не понимали, кто прав. И как могли сбежать офицеры: такие гордые, красивые, похвалявшиеся своей смелостью.
— Дядя Костя, вы у нас человек сведущий, — обратилась Ирена к Граевскому, — правда, что польские офицеры предатели и трусы?
— Это почему? — удивился Граевский.
— Испугались немцев и сбежали.
Граевский внимательно поглядел на Ирену и дочь, вздохнул и сказал:
— Люди разное болтают. Впрочем, о некоторых офицерах говорят правду — сбежали. Незадолго до начала войны я гостил у родственников. Шел утречком мимо офицерских домов и видел, как солдаты грузили на машины большие ящики, узлы и чемоданы. Когда машины были уже полны, в кабины втиснулись офицеры с женами, с детьми. Жара, а офицерши в мехах… Я подошел к солдатам и спросил: куда, мол, подались господа офицеры? Солдаты пожимали плечами и молчали. Один из них сказал неуверенно: «Офицеры уехали на месяц в летние лагеря». «В лагеря? С женами, детьми и имуществом?» — усомнился я…
Граевский помолчал с минуту.
— Но не думайте, девочки, что все офицеры такие. Наша Польша не была подготовлена к войне, это верно. Но в армии было много героев-солдат и верных офицеров. Ведь остались с народом такие герои, как майор Сухарский, командир Вестерплатте, и тысячи других.
Незадолго до Нового года, поздним вечером, когда сестренки, отец и Юзеф уже спали, а Ирена с матерью домывали на кухне посуду, в дверь громко постучали. Мать, побелев от испуга, прижала руки к груди — и ни с места. Ирена подошла к двери и спросила:
— Кто там?
— Открывай, — потребовал сердитый, нетерпеливый мужской голос.
— О, боже, наверное, немцы, — прошептала мать и без сил опустилась на табуретку.
Ирена кинулась в комнату к отцу, затормошила его и закричала:
— Вставайте, тато, немцы!
Дверь слетела с петель. На кухню ворвался сам «черный дьявол» с двумя полицаями. Они грубо оттолкнули пани Ольшинскую и ринулись в спальню.
Ольшинский сидел в одном белье на краю постели и щурился от яркого света направленного на него фонаря. Отто Шмаглевский, играя толстой плеткой, которую всегда носил с собой, издевательски проговорил:
— Ну что, старый мазур, председатель народной рабочей партии, не ждал гостей, а?
— Таких, как ты, не ждал.
— А ну, встань, бунтовщик, и показывай, куда спрятал ваше проклятое знамя! — потребовал Отто.
— Какое знамя? Не понимаю, — зевнул Ольшинский.
— Врешь, мазур!
— Ищи, если не веришь.
— Ну, погоди! — И Отто с полицаями принялись переворачивать всю квартиру. Пораскидали постели, вспороли тюфяки, перетрясли все белье, одежду, взломали кафельные печи.
Ирена стояла рядом с отцом и смотрела полными ужаса глазами на этот погром. Она не знала, что отцу удалось надежно спрятать знамя еще в первые дни войны, и все боялась, что немцы вот-вот наткнутся на это красно-малиновое с белым орлом и золотыми лозунгами полотнище.
Когда Отто рванул на себя дверцу шкафа, на пол вывалилось несколько старых книг. Поднял одну из них, самую толстую. Это была немецкая книга о Вильгельме II «Унзер кайзер» («Наш король»). Шмаглевский почтительно положил книгу на полку, спросил у Ольшинского:
— Откуда она у тебя?
— Это книга моего отца. Он получил ее от самого кайзера за хорошую службу на флоте. Там надпись.
Отто вновь взял книгу и прочел пожелтевшую надпись, заверенную огромной королевской печатью. Хмыкнул и сказал полицаям:
— Кончайте обыск! Тут надо разобраться…
Немцы ушли, но утром явились снова. Ольшинский собирался на работу.
— Ну, вот мы и разобрались, — объявил ему с ехидной ухмылочкой Шмаглевский. — Идем с нами! Оказывается, по тебе давно веревка плачет. И теперь тебе даже наш кайзер не поможет.
Полицаи схватили Ольшинского и поволокли к выходу. Пани Ольшинская, обезумев от горя, цеплялась за куртку мужа и в отчаянии спрашивала:
— Куда вы его уводите? Куда?!
— Пошла прочь, стерва!
— Успокойся, Настка! Я скоро вернусь. Береги детей.
Уже в дверях отец повернулся к застывшей в испуге Ирене, улыбнулся ей и сказал:
— Будь молодцом, дочка! Помогай тут матери…
Без отца дом осиротел. Ирена не могла привыкнуть к тому, что не слышит его шагов, добродушной перебранки с матерью и кашля по утрам. Ей все время казалось, что вот-вот откроется дверь, и отец войдет в дом, как ни в чем не бывало. Загремит сапогами, бросит на деревянный топчан пиджак, потянется до хруста в костях, доставая при этом головой газовый рожок под потолком, сядет у стола и первым делом спросит у Ирены:
— Ну, дочка, чем ты меня сегодня порадуешь?
Суровый с виду, он становился мягким и добрым, когда разговаривал с детьми. Ему можно было поведать все. Отец возвращался с работы, и в квартире становилось светлее и уютнее. От отца пахло потом, сосновой стружкой, пальцы его дрожали от усталости, когда он набивал свою потухшую трубку. Часто трубка вываливалась изо рта, и отец засыпал, пока Ирена рассказывала ему о своих успехах в школе. Мать, добродушно причитая, снимала с него сапоги и вдвоем с Иреной укладывала спать. Отец открывал глаза, и лицо его расплывалось в виноватой улыбке.
— Ладно, Иренко, мы с тобой завтра поговорим…
После ареста отца мать трижды ходила в городскую управу, наводила справки. Ей сказали, что политическими занимается гестапо, а туда лучше не показываться. Наконец один знакомый из управы по секрету сообщил, что пана Ольшинского в Гралеве уже нет, и посоветовал набраться терпения и ждать. Не одна она в беде.
Мать совсем слегла. Всегда молчаливая, она стала злой и раздражительной. Ее маленькая фигурка сгорбилась, глаза потухли, запали еще глубже. На бледном лице с редкой россыпью веснушек залегли скорбные складки, а волнистые, отливающие медью волосы побелели на висках. Ирена, бывало, любила глядеть, как мать причесывается. Усядется на стул перед зеркалом, вытащит все гребни и шпильки, распустит толстые косы, и волосы укрывают ее всю, словно плащом.
Она редко смеялась. Редко наказывала, но и редко ласкала своих детей. Была с ними строга и требовательна. Может, поэтому они больше тяготели к отцу. Особенно Ирена. Она жалела мать, но близости у них не было. Когда ей хотелось поговорить с матерью по душам, как некогда с отцом, та либо отмалчивалась, либо говорила:
— Не морочь мне голову своими разговорами. И без того тошно.
Оставалась Леля.
К счастью, подруга была настолько веселой и беззаботной, что Ирена с ней как бы оттаивала. Леля дурачилась, кривлялась, изображая «новых хозяев», потешалась над ними, болтала без умолку, словно ей было наплевать и на оккупацию и на «новый порядок». Ей всегда жилось легче, чем Ирене, такой уж у нее был характер.
На фабрике дождевиков
Однажды пан Граевский принес Ольшинским корзинку наловленной им плотвы. Поговорив о том, о сем, он будто бы между прочим сказал:
— А знаешь, пани Настка, немцы напали и на Россию.
— Ох, господи! — перекрестилась испуганно пани Ольшинская. — Неужели они весь свет завоевать думают?
— Да, соседка, невеселы наши дела, — вздохнул пан Граевский. — Теперь война уйдет далеко на восток и не скоро жди ее конца. Немцы, холера бы их взяла, уже с самого утра трубят по радио на весь город о своих победах над русскими. Неужели и их одолеют? Ну, пока, пани Настка! Если тебе что надо, не стесняйся. Всегда помогу.
— Спасибо, пан Костек. А я что-то совсем расклеилась, — пожаловалась она. — Ох, если бы от Бронека моего была весточка… Пропал, будто и не было его.
Пани Ольшинская заплакала.
Тех продуктов, что отпускались по карточкам на месяц, хватало едва на пять дней. Да и их не на что было выкупить. С наступлением холодов выручала мерзлая картошка, сваленная с лета в большую кучу около старого винокуренного завода. Когда же мать чувствовала себя лучше, она брала Юзефа и шла с ним в дальние деревни. Там еще можно было выменять на одежду или керосин немного муки и крупы. Но скоро менять стало нечего, и голод прочно поселился в доме. Лицо матери сморщилось, побледнело. Она почти ничего не ела, все отдавала детям и с трудом передвигала по комнатам опухшие ноги. К тому же у нее участились тяжелые приступы астмы.
Ирене надо было срочно искать работу. Едва дождавшись весны, она и Юзеф стали ходить к пану Битнеру на кирпичный завод. Заводик был маленький, на нем работало всего два человека: старый мастер пан Тессар — знакомый отца и хромой парень Ян. Они вручную лепили кирпичи и обжигали их в огромной печи. Полуслепая тощая кляча с утра до вечера крутила тяжелый ворот с бадьей жирной серой глины.
Придя первый раз, Ирена и Юзеф встали поодаль и смотрели, как пан Тессар лепит кирпичи. Надев заляпанный глиной брезентовый фартук, он подошел к большущему столу, поплевал на руки и начал бросать в форму глину, потом выровнял ее палочкой, бегом отнес и ловко вытряхнул из формы на ровную земляную площадку два серых лоснящихся кирпича. И так без конца. Кирпичи быстро сохли на ветру и солнце, их надо было все время переворачивать. Хромой Ян один не успевал, и мастер, увидев Ирену и Юзефа, закричал им:
— Помогайте!
Ирена с братом кантовали и складывали под навесом уже сухие кирпичи. За каждую тысячу высушенных кирпичей мастер Тессар платил им по одной марке. Иногда удавалось заработать и три — это уже было целое состояние. Когда хозяин завода пан Битнер узнал, что это дети бунтовщика Ольшинского, он рассвирепел, обругал мастера и приказал даже близко не подпускать к заводу «коммунистических выродков». Пусть быстрее дохнут с голоду. Нечего их жалеть.
Вскоре Ирене прислали повестку с биржи труда. Она собиралась туда с тяжелым сердцем. Мать и сестренки провожали ее плачем и причитаниями. Один Юзеф, шмыгнув раз-другой носом, сказал:
— Не робей! Может, обойдется…
Придя на биржу, Ирена увидела там несколько десятков девушек и парней. Среди них были и знакомые по школе. Все боязно жались к стенам коридора. Жарко, а многие надели зимние пальто, шали и шапки, в руках большие узлы с едой и одеждой. Это на всякий случай. Они приготовились к самому худшему — вдруг сразу угонят в Германию?
Пожилой солдат с багровым лицом то и дело открывал высокую, массивную дверь в глубине коридора и выкрикивал одну-две фамилии. Очередь быстро таяла. Наконец, позвали Ирену. Прижав узелок к груди, она встала перед тощим, очень высоким немцем с плотно сомкнутым ртом и пустыми холодными глазами. Левый плоский рукав его мундира был заткнут за ремень.
— Ольшинская? — процедил он, скользнув холодным взглядом по съежившейся от страха фигурке Ирены. Потом заглянул в лежавший перед ним список. — Шестнадцать лет?
— Нет еще…
— Что умеешь делать?
Ирена чуть заметно пожала плечами.
— Пойдешь работать на фабрику дождевиков. Вот бумага, передашь шефу. Все!
Ирена взяла направление и выбежала на залитую солнцем улицу.
Теперь Ирена виделась с Лелей редко. Граевская работала в шляпной мастерской, Ирена клеила дождевики на фабрике, которая только что открылась в их школе.
В бывшем актовом зале стояло сорок столов. Над ними в тусклом свете электрических запыленных лампочек, висевших под высоченным потолком, склонилось сорок женщин и девушек. Взмах кистей с клеем, стук тяжелых прессовальных молотков — и прорезиненная ткань склеена и разглажена. Воздух пропитан едким запахом клея и бензина, с непривычки тошнит и кружится голова. То и дело слышится резкое покрикивание и ругань надзирательниц.
Ирена уставала до изнеможения. Уже к обеду у нее ныла спина, болели руки. Возвращалась домой поздно, голодная, безучастная ко всему. Проглотив кусок вязкого, как глина, хлеба, ложилась в постель и мгновенно засыпала. А утром все начиналось сначала.
В начале декабря, кладя в печку последний кусок торфа, мать пробормотала:
— У нас нет больше топлива.
Было воскресенье. Ирена не работала. Они с братом молча оделись, взяли веревку, санки и ушли в лес за хворостом. Хворосту под снегом много, надо только выбрать ветки потолще, чтобы хватило на неделю. Но хворост не торф, долго тепла не держит. Затрещит, взовьется жарким пламенем и нет его. К вечеру кухня так остывала, что на подоконниках пушистой бахромой проступал иней, а в водопроводных трубах замерзала вода. Юзефу приходилось отогревать их паяльной лампой. Раньше Ирена любила зиму. Они с Лелей, бывало, подолгу катались на санках с холма старого замка, бегали на коньках по замерзшей Дзялдувке, лепили снежную бабу и хохотали, ловя ртом снежинки. Теперь же зима — горе. Голод и холод, страшные и порознь, объединились.
Кое-как дождались весны. Выглянуло солнышко. Обогрело людей и землю. Проснулась, сбросила лед и заторопилась к далекой Висле Дзялдувка. Проклюнулась трава, на деревьях набухли острия почек.
За зиму Халина и Ядвига так ослабли, что разучились ходить. Глядя на них, Ирена сказала матери:
— Мамо, девочек надо выпроваживать днем во двор, на солнышко, а то они у нас совсем зачахнут.
— Ладно, — согласилась мать. — Боюсь только, их будут обижать дети соседа фольксдейча Краузе.
— А вы идите с девочками к старому замку. Там тихо, и немцы туда заглядывают редко. Вам тоже надо подышать свежим воздухом.
— Хорошо, дочка. А то и вправду без свежего воздуха плохо. Может, и ты пойдешь с нами, сынок?
— Нет, мамо. Провожу Ирку на работу и пойду к ребятам. У нас дело есть, — ответил Юзеф.
Юзеф теперь часто провожает сестру. За эту зиму Ирена изменилась и повзрослела. Она собирает свои светлые пушистые волосы в большой пучок и кажется от этого выше и строже. Ее тонкая фигурка потеряла прежнюю угловатость, стала стройной и гибкой. Юзеф заметил, что парни при встрече с его сестрой странно на нее заглядываются, стараются заговорить, пристально смотрят в глаза. Юзефу это не нравится.
А сестра будто ничего не замечает. «Не поймешь этих девчонок, — думал Юзеф. — Только что бегала, играла в прятки, визжала, когда ее дергали за косу. А теперь будто подменили. Не та Ирка стала». Он приметил, что сестре перестал нравиться даже Болек Танский, тот самый холеный барчук, к которому она была неравнодушна еще в школе. Болек теперь часто крутится около их дома. А как-то раз дождался Ирену, остановил ее и долго о чем-то просил. Но Ирка только отмахнулась от Болека и убежала в дом.
Юзеф случайно подслушал разговор сестры с Лелькой Граевской.
— Болек Танский не сбежал вместе с отцом только из-за тебя, — смеясь, говорила Лелька. — Я слышала, что он живет у какой-то дальней родственницы и сохнет по тебе. Раньше ты его считала самым красивым, а сейчас даже говорить с ним не хочешь.
— Оставь, Леля! Сразу видно, что у тебя нет других забот, — ответила сердито Ирена. — Мне не до Болека. Пять ртов надо накормить. Я так устаю. А ты — о Болеке…
Стефан
На улице Святой Катерины, недалеко от дома Ольшинских, немцы открыли большую пекарню. Работали в ней местные и приезжие поляки. Среди них был парень из ближней деревни Казаннице, высокого роста, плечистый, светловолосый, улыбчивый. Но улыбка его была лакейски-угодливая, она портила его полное и румяное лицо. Жидкие волосы он зачесывал набок и мазал жиром, чтобы они лучше лежали и прикрывали большую розовую лысину. Его маленькие быстрые глазки бегали по сторонам и никогда не смотрели на собеседника прямо.
Ирена встретилась с этим парнем на улице. Ни с того, ни с сего он снял кепку, низко поклонился и сказал:
— День добрый, паненко!
— День добрый, — нехотя ответила Ирена, проходя мимо.
С тех пор каждый раз, возвращаясь с работы, она встречала его на перекрестке улиц и слышала: «День добрый, паненко!»
Однажды, завидев пекаря, Ирена перешла на другую сторону улицы, чтобы затеряться среди прохожих. Но парень догнал ее и пошел рядом. Она слышала его дыхание и торопливые шаги. Некоторое время он молчал, а потом спросил:
— Почему вы меня избегаете, паненко?
— Идите своей дорогой, — тихо, но решительно попросила Ирена и ускорила шаг.
Парень тоже пошел быстрее.
— А, может, у нас с вами одна дорога, паненко?
— Не думаю!
— Неужели не нравлюсь? Не в вашем вкусе?
— Нет! И потом, как вам не стыдно преследовать незнакомую девушку?
— Понравились, потому и хожу за вами. Не сердитесь, давайте лучше познакомимся. Меня зовут Стефан. А вас?
Он был назойлив и упрям. Утром и вечером поджидал ее то около фабрики, то появлялся неожиданно на рынке, то вырастал, как из-под земли, возле дома. Девчата на фабрике уже приметили Стефана и, увидев его в окно, кричали шутя:
— Ирка, твой жених пришел! Кончай работу, домой пора.
— Хватит вам! Какой он жених… — сердилась Ирена.
— Ладно, не скромничай! Парень видный. Сейчас война, женихов мало. Если тебе не нужен, скажи — мы его живо подберем.
— Перестаньте болтать. Мне и глядеть на него тошно.
— Смотри, Ирка, пожалеешь! С таким всегда сыта будешь.
Стефану шел двадцать седьмой год. Молодой и здоровый парень, он пек для немцев хлеб, угодливо снимал перед ними кепку, улыбался. «Работать можно заставить. Но снимать кепку и улыбаться врагу, — думала Ирена, — это слишком».
Однажды она спросила напрямик:
— Почему вы угождаете немцам, вместо того, чтобы их ненавидеть? Ведь вы поляк, пан Стефан. Многие ваши сверстники партизанят, чтобы как можно скорее освободить от фашистов нашу родину. А вы…
— О, я не настолько наивен, чтобы верить в ее освобождение, панно Ирено.
— Неужели вы заодно с немцами?
— Нет. Но сами понимаете, надо же как-то жить и веселиться, пока молод. Годы идут, несмотря на войну. — И Стефан нелепо захохотал на всю улицу.
Ирена смерила его таким презрительным взглядом, что он осекся. После этого долго не появлялся, и Ирена обрадовалась, что он оставил ее в покое. Но Стефан пришел снова и, увидев, что девушка убегает, закричал вслед:
— Куда вы?! Все равно не убежите! Я не привык отступаться от тех, кто мне нравится! Ха, ха, ха!
Чтобы не встречаться с ним, Ирена стала уходить с работы позже других и, прежде чем вернуться домой, долго еще, усталая и голодная, бродила по городу или сидела до полной темноты во дворе старого замка.
Но хитрый Стефан не сдавался и начал действовать по-иному. Он сумел познакомиться с матерью Ирены. Увидев однажды, как пани Ольшинская направляется с младшими девочками к старому замку, пошел следом. Присев поодаль, развернул газету «Зольдауер цейтунг», а сам наблюдал за девочками. Халина и Ядя нарвали цветов клевера и ромашки и попытались сплести венки. Но венки то и дело рвались. Тогда Стефан подошел, поздоровался с пани Ольшинской, которая штопала, и сказал девочкам:
— Цветы для венков следует собирать с длинными стебельками. Вот такие. — Он сорвал несколько ромашек, ловко сплел из них ровный полукруг и подал девочкам.
Пани Ольшинская приветливо улыбнулась. Так они познакомились. Пекарь понравился матери своей обходительностью, разговорами о боге. А вскоре он рискнул заявиться к Ольшинским и принес в подарок буханку хлеба.
— Почему мне? За что? — растерялась Ольшинская.
— Дорогая пани Ольшинская, я не могу видеть, как голодают ваши дети. Хлеб я взял у немцев, грех невелик, так что не стоит об этом говорить.
— Воровать всегда грешно. Сколько он стоит? Я уплачу.
— Ну, что вы, пани Ольшинская. Я же от чистого сердца. Надо помогать ближним. Вспомните, как говорится в евангелии. — Стефан набожно закатил глаза.
— Коли так, то спасибо, пан Брошкевич!
С этого дня Стефан стал для матери своим человеком. Он приходил в дом, выкладывал из карманов на стол белые булочки, которые отдавали жаром, словно только что из печи. Потом появились кульки с мукой, сахаром.
Ирена не поверила своим глазам, когда впервые увидела на столе эти душистые булки. У нее даже закружилась голова от их запаха.
— Ой, мамо! Откуда такое богатство?
— Ешь, Ирена, ешь, — мать опустила глаза.
Ирена насторожилась.
— Мамо, откуда у нас белый хлеб?
— Не бойся, не украли.
— Я не стану есть, пока не скажете.
— Ну, выменяла… На отцовский костюм.
— Костюм! — Ирена ахнула. Кинулась к шкафу. Единственный отцовский костюм, который они берегли, висел на месте.
— Откуда хлеб? Откуда хлеб, я спрашиваю?! — закричала Ирена.
— Не кричи… Его принес пан Стефан.
— Стефан?!
— Да. Он добрый парень.
— Добрый?! Он?! Я вас умоляю, мамо, никогда ничего у него не берите. Слышите? Я не хочу, чтобы он сюда приходил!
Пани Ольшинская испуганно смотрела на дочь, бледную, в слезах, и сказала примирительно:
— Хорошо, доченька, я ничего не возьму больше. Как ты хочешь, так и будет. Только успокойся. А про пана Стефана ты все же зря. Он заботится о ближних.
— Заботится о ближних? О нет, мамо! Я его знаю лучше, чем вы. Это подлец и негодяй! Он хочет на мне жениться, но я его ненавижу, ненавижу!
— Я ведь не знала этого. Прости меня, доченька.
Стефан, ничего не подозревая, пришел снова. Он старательно вытер у порога ноги, повесил на гвоздь кепку и прошел в комнату. Пани Ольшинская гладила белье. Она еле кивнула головой в ответ на его приветствие. Пекарь глянул на нее удивленно и настороженно и положил на стол очередную буханку хлеба и кулек с сахаром. Мать поставила утюг на кирпич, подошла к Стефану и сказала неуверенно:
— Возьмите все назад, пан Стефан. Долг за прежнее постараюсь вернуть вам в ближайшее время… Не приходите к нам больше…
— Пани Ольшинская, что случилось? Почему вы меня гоните? Я ведь хотел только помочь вам, — начал Стефан.
— Вам лучше знать, почему. Деньги вам передам через сына.
Стефан наотрез отказался от денег, которые ему принес Юзеф. А через неделю Халина сказала брату, что, когда мама уходила в лавку, к ним снова забегал дядя Стефан и принес вкусных хрустящих булочек. А потом и пани Ольшинская застала Стефана в обществе своих девочек: Халина и Ядя что-то жадно и торопливо доедали. Мать заплакала горько и беспомощно. Пекарь стоял и самодовольно улыбался.
Вскоре пани Ольшинская снова стала брать у Стефана хлеб. Голод оказался сильнее угрызений совести. Стефан приходил ежедневно, читал девочкам книжки, оставлял хлеб и уходил. Об Ирене никогда не спрашивал. Но пани Ольшинская сама начала думать об их женитьбе. Однажды, улучив момент, когда Ирена пришла с фабрики особенно усталая, мать затеяла разговор:
— Не дури, дочка. Скажи, чего ты хочешь? Ведь любит тебя Стефан, очень любит! И работник хороший. Его хозяин ценит. Если Стефан попросит, Бельке и за тебя замолвит словечко на бирже труда. Ты разом избавишься от этой каторжной работы и станешь женой такого человека. Заживешь в достатке…
— Но я его не люблю. Он мне противен!
— Побойся бога, глупая! С таким, как он, не пропадешь. Привыкнешь, полюбишь, да еще спасибо матери скажешь. Война неизвестно когда кончится, а жить надо. Я больна, делать ничего не могу. Не выйдешь за него, помрем с голоду.
— А обо мне вы подумали? Отец никогда бы этого не допустил.
— Не говори так, дочка! Отца, наверное, давно нет в живых, иначе он прислал бы весточку.
И безутешно заплакала, закрыв ладонями лицо.
Мать, действительно, чувствовала себя плохо. Она таяла на глазах, лежала большей частью в постели, тихо стонала или молилась. А Стефан приходил в их дом словно в собственный, молча садился на диван и глядел на Ирену. С лица его не сходила неизменная глупо-счастливая улыбка. Ирена принималась стирать, шить, убирать квартиру, показывая этим, что ей нет дела до непрошеного гостя.
Однажды, когда Леля уже легла спать в сарайчике во дворе, в дверь забарабанили. Леля открыла и увидела Ирену. Бледная, рукав кофточки порван. Она уткнулась лицом в Лелино плечо и зарыдала.
— Что случилось? — испугалась подруга.
— Больше не могу! — рыдала Ирена. — Вешала я на чердаке белье, обернулась, а за спиной — Стефан. Не успела рта открыть, как он бросился на меня и давай целовать. Словно взбесился. Я его ударила бельевой корзинкой по голове, вырвалась и убежала. А он крикнул вслед, громко, на весь дом: «Все равно не убежишь! Все равно будешь моею!» — И захохотал. Мне страшно, Леля, так страшно!
— Хватит реветь. В ведре, на стуле, вода. Попей, умойся и ложись рядом. Мать знает, куда ты убежала? Нет? Тем лучше. Раз они заодно, оставайся у нас насовсем, — уговаривала Леля.
— Не могу я у вас остаться. Мать совсем больная. Был бы Юзеф постарше…
— Ложись-ка спать, — скомандовала Леля. — А завтра что-нибудь придумаем.
Они заснули, крепко прижавшись друг к другу. Только Ирена долго еще всхлипывала во сне.
На следующий день она забежала домой и сказала матери:
— Не обижайтесь, мамо, но я поживу пока у Лели. Не хочу со Стефаном встречаться.
— Побойся бога, дочка! У тебя нет сердца…
— До свиданья, мамо!
Наступило лето. Оно было жаркое, душное, с частыми ливнями, с лиловыми молниями и гулкими громовыми раскатами. Зелень была буйная, густая. С полей и огородов, заросших сурепкой, тянуло крепким медовым духом, горько и томительно пахли тополя. Ирена с Лелей уходили по воскресеньям за город, полежать на дурманящей траве, подремать на солнышке под птичий перезвон, подышать вволю свежим воздухом.
— И за что только меня мать не любит, — жаловалась Ирена. — Неужели болезнь и голод сделали ее такой? Как ты думаешь, Леля?
— Не знаю. Пани Ольшинская, конечно, любит тебя, просто ей трудно понять, почему тебе не нравится Стефан. Я слышала, он из богатой семьи. Это правда?
— Да. Он рассказывал матери, что его родители имеют в Казанницах большое имение. Стефан заодно с немцами, это польский фашист. Я раз видела, как он обнимался на улице с «черным дьяволом», словно с лучшим другом.
— Хочешь, Ирка, я попрошу отца поговорить с твоей матерью? — предложила Леля. — Отец расскажет о связи Стефана с Отто Шмаглевским, который погубил ее мужа. Отцу она поверит. Хочешь?
— Еще спрашиваешь! Только мне кажется, что мать все равно не отступится от своего.
В тот же вечер пан Граевский пошел к Ольшинским. Он начал издалека: поговорили о войне, о Бронеке. Пани Ольшинская расплакалась, вспомнив мужа. Тогда пан Граевский осторожно намекнул, что-де в городе плохо говорят о Стефане, и посоветовал не губить дочку.
— Твой Бронек, пани Настка, всю жизнь боролся против таких негодяев, как этот Стефан, а ты хочешь отдать ему Ирену. Бронек тебе не простит… Она еще дитя, семнадцати нет. Креста на тебе нет, соседка…
— Не стыди меня, сосед. Я ей только добра желаю. Бронек как в воду канул, меня астма скоро в могилу загонит, что тогда будет с детьми? Стефан парень хороший, с таким не пропадешь. И он любит Ирену.
— Ничего себе хороший! Он наушничает немцам, поэтому его не трогают. Только не знают его жадности к деньгам. Говорят, он выносит из пекарни муку, мешки с сахаром и продает втридорога голодным полякам. Как это по-твоему называется, соседка?
— Мало ли что злые языки наплетут на человека. Я этим басенкам не верю. Он помогает ближним бескорыстно…
— Такие, как он, ничего бескорыстно не делают. Да что с тобою говорить, соседка! Вижу, тебя не переубедишь. Только что ты Бронеку скажешь, когда он домой вернется? — бросил напоследок дядя Костя и ушел, забыв попрощаться.
Дома он сказал Леле:
— Ольшинская совсем лишилась рассудка. Жаль девочку. Загубят они ее.
— Тогда Ирена останется у нас насовсем, — решительно заявила Леля.
Но пани Ольшинская каждый день присылала на фабрику Юзефа или сама приходила к Граевским и просила Ирену:
— Вернись домой. Пожалей сестер…
Ко всему прочему, их сосед фольксдейч Краузе снова начал грозить выселением из квартиры. Веселый домик с балконами, где жили Ольшинские, был приметным, выделялся среди других построек причудливой лепкой, украшавшей фасад, и светлой окраской. Стефан сумел уговорить Краузе не трогать Ольшинских, сказав, что Ирена его невеста и они вскоре поженятся. Стефан преподнес за это Краузе немало бутылок водки, и немец оставил на время Ольшинских в покое.
Ирена вернулась домой.
Казалось, что Гралево отрезано от всего мира, но и сюда дошли слухи о неудачах немцев на восточном фронте. Как-то раз, зайдя за Иреной к Граевским, Юзеф, радостный и возбужденный, сразу с порога объявил:
— Германское радио хвастало на всех перекрестках, что они возьмут Москву с ходу, да не вышло по-ихнему!..
— Тише ты! Еще кто-нибудь услышит, — замахала испуганно руками пани Граевская.
— Ничего, мать, мы тут одни. Пусть выкладывает, что знает, — сказал дядя Костя. — Говори, откуда узнал?
— Кто сказал, Юзю? — допытывались нетерпеливо и Ирена с Лелей.
— Это тайна. Так вот не вышло! — продолжал Юзеф уже тише. — И это для них тяжелейший удар, потому что они, проклятые, привыкли к тому, чтобы у них выходило! Не будет у них теперь покоя!
— Погоди, Юзеф! — остановила его Леля. — Откуда ты это узнал? Кто сказал?
— Неважно кто, — отмахнулся от нее Юзеф. — Важно, что это правда! И подумать только — русские оказались сильнее немцев. Чего доброго, они одолеют Гитлера.
— Одолеют, сынок, одолеют, — заверил дядя Костя. — И нам еще помогут разделаться с фрицами.
— Конечно, помогут! Тато тоже говорил, что русские наши братья и что нам с ними надо держаться вместе, — оживилась Ирена.
— Правильно, дочка, — сказал дядя Костя.
На следующий день Ирена с Лелей постарались, чтобы о разгроме немцев под Москвой узнала вся фабрика. С лета мастерскую головных уборов закрыли, и Леля тоже пришла на фабрику.
Фабрике за последнее время не хватало сырья. Директор и надзирательницы нервничали. Фабрика выпускала все меньше женских нарядных плащей, вместо них чинили простреленные, слипшиеся от крови военные плащи и плащ-палатки. Их привозили на фабрику целыми грузовиками.
За одним столом с Иреной и Лелей работали еще две школьные подруги Марина и Зося. По-разному жилось этим четырем девушкам, но судьбы их были похожими.
Высокая худенькая Марина часто болела. На ее тонком, заострившемся лице пылал нездоровый румянец. Марина то и дело мучительно кашляла. Едкий, пропитанный скипидаром и резиной воздух фабрики убивал ее.
Красивая, пышнотелая, с кудрявыми темными волосами Зося недавно овдовела. Ее мужа замучили в гестапо. И Зося осталась с двухлетней дочкой Данусей, ради которой готова была вынести все. Зося могла часами рассказывать подругам, как ее Дануся играет в куклы, как смеется, как забавно усваивает новые слова. «Такая славная, такая умная, ну прямо вылитый Хенек», — повторяла она по нескольку раз в день.
Но самой красивой и веселой среди подруг была, конечно, Леля. Будь она босиком и в старом залатанном платье или в нарядных туфлях, подаренных отцом накануне войны, походка ее одинаково горда и изящна. Лелины глаза искрились, словно два темных озерца в солнечный полдень. Глядя на подругу, Ирена не раз задавала себе вопрос: откуда в этих огромных цыганских глазах столько непонятной внутренней силы?
Леля любила и умела петь. Подругам нравился ее низкий, чистый голос. Леля знала множество песен, многие из них сочинила сама. Пойдет, бывало, с Иреной в лес, вернется оттуда с новой песней. Побывает на лугу — и снова песня. Все умела высказать Леля словами песни: и красоту природы, и любовь, и ненависть.
Во время получасовых обеденных перерывов, заметив усталость подруг, Леля вдруг предлагала:
— Хотите, я вам спою?
И, не дожидаясь ответа, начинала:
Плыне Висла, плыне по польской краине, Зобачила Кракув, певне, го не мине… Зобачила Кракув внет го покохала, И в довуд милости встенгой опасала…[4]И от ее тихих песен сразу становилось легче на душе, забывалась даже невыносимая вонь фабрики.
Леля научила подруг хитрить и увиливать от работы. Когда у кого-нибудь на руке образовывалась от клея маленькая ранка, девушка, не задумываясь, соскабливала на нее окись меди с немецких пфенингов. На следующий день рука опухала, нарывала, поднималась температура. И надзирательницы, страшась заразы, отсылали больную домой. Ранка заживала медленно. Ради осторожности подруги никогда не «болели» все сразу.
В конце лета пани Ольшинская полоскала в реке белье. Дни стояли теплые, но вода в Дзялдувке была ледяная от бивших на ее дне ключей, и пани Ольшинская простудилась. Подточенный нуждой и болезнями организм уже не смог справиться с новым тяжелым недугом.
Ирена ночами сидела у постели матери, меняла компрессы, поила липовым отваром, растирала скипидаром. В одну из таких ночей Ирена задремала. Мать разбудила ее и сказала слабым голосом:
— Я умираю, дочка. — Отдышалась немного и зашептала снова: — Выслушай меня до конца. Одна ты все равно не прокормишь троих детей и себя. Прошу тебя, Иренко, будь великодушной, послушайся меня, выйди замуж за Стефана.
— Не могу, мамо, — взмолилась Ирена. — Я буду работать день и ночь, только не заставляйте меня выходить за него замуж.
— Не упрямься, дай умереть спокойно, — шептала мать.
Встав у кровати на колени, Ирена гладила и целовала тонкие, с синими прожилками руки матери, словно пыталась отогнать надвигающуюся смерть. Мать металась в жару, часто теряла сознание, уже не могла говорить. Придя на миг в себя, остановила на дочери туманный от жара взгляд. И этот взгляд просил: «Согласись!»
И Ирена сдалась. Она наклонилась над матерью, поцеловала ее и сказала:
— Хорошо, мама. Я выйду замуж за Стефана.
Пани Ольшинская сразу затихла. Из ее широко открытых глаз полились слезы. Через несколько часов у нее пошла горлом кровь, и к утру она умерла.
Ирена окаменела от горя. Сидела и глядела в одну точку, Юзеф стоял рядом, еле сдерживая слезы.
— Мамо, проснитесь! — плакали сестры.
Ирена хотела обратиться за помощью к Граевским, но пришел Стефан и взял на себя все хлопоты, связанные с похоронами. Он был молчалив, и Ирена была даже благодарна ему за это. Ей хотелось плакать, как плакали сестры, громко, навзрыд, но слез не было. Не заплакала она и тогда, когда о гроб матери застучали комья сырой глины. Только сжало горло. С кладбища вернулись в осиротевший неуютный дом.
Пани Брошкевич
Свадьба должна была состояться через месяц. Так решила тетя Марта, приехавшая на время из Бурката. Сразу после похорон она усадила возле себя Ирену и Стефана и деловито заявила:
— Вот что, деточки, горевать вам долго нельзя. Воля матери свята. Свадьба будет через месяц, в конце октября. Нечего ее откладывать, я должна возвращаться в Буркат.
— Мне все равно, тетя. — Ирена с неприязнью посмотрела на Стефана.
Тетя Марта сделала вид, будто ничего не заметила. Она притянула к себе племянницу, неловко поцеловала в щеку и продолжала:
— Все обойдется, уж я-то знаю. Берегите ее, — обратилась она к Стефану. — Ирена еще так молода.
— Не обижу, пани Марта, — заверил Стефан.
Вечером, когда он ушел, тетя Марта сказала Ирене:
— Будь с ним поласковее. Ласка хоть из кого человека сделает.
— Но я его ненавижу, тетя!
— Ничего, стерпится, слюбится. Специальность у него хорошая, людей кормит. Да и сам парень вроде ничего… Приметный.
Шли дни. Стефан чувствовал себя уже полным хозяином в доме Ольшинских. Привез две телеги дров, перепилил их с Юзефом, подогнал рассохшиеся за лето оконные рамы.
В канун свадьбы Ирена пошла к старому замку. Вечер выдался теплый. Нежаркое солнце клонилось к горизонту. Багровые закатные полосы плыли и качались на темной воде Дзялдувки. Ирена уселась на любимом валуне и засмотрелась с высоты холма на город. Было тихо, все кругом дышало покоем и зрелой красотой поздней осени. Старые липы и дубы, тронутые осенней ржавчиной, привычно шумели над головой и сбрасывали в реку ливень разноцветных листьев. Упав на воду, листья на миг замирали, потом, подхваченные течением, неслись стремглав к мосту. Аисты давно улетели в теплые края. Их огромное гнездо сиротливо чернело на крыше замка. Высоко-высоко по холодному синему небу плыли легкой стайкой белые пушистые облака с чуть подкрашенными закатным багрянцем краями.
Поглядев на родной дом, Ирена поежилась, словно от холода. Бывают кошмарные сны, которые помимо воли годами гнездятся в памяти, и бывает явь, удивительно похожая на эти кошмарные сны. Завтра ненавистный Стефан станет ее мужем.
Погруженная в свои невеселые мысли, она не заметила, как солнце коснулось земли и ушло за горизонт. На город быстро наступали сумерки. Пора идти домой, но идти не хочется. Там ждет ее Стефан, гости. А здесь, у подножия замка, тихо.
С лугов и торфяников на город наползал туман, густой и липкий. Он подбирался к замку. Поглядев в последний раз на островерхие черепичные крыши города, Ирена пошла прощаться со старым замком. Прошлась под гулкими сводами мрачных коридоров и палат, поглядела на едва различимые в сумерках остатки геральдических надписей на стенах главного входа. Сумрак и шорохи замка уже не страшили ее. Замок давно стал ее другом и союзником. Он не раз прятал ее от облав, от немцев, которые предпочитали обходить замок стороной. Он не мог только спрятать ее от Стефана.
— Прощай, друг! Завтра я стану пани Брошкевич. Ирка Ольшинская пришла к тебе в последний раз…
Дома Ирену встретила необычная суета — приехали родственники Стефана. Ирена хотела пройти незамеченной в свою комнату, но Стефан увидел ее. Широким жестом он показал на заваленный мясом, рыбой, колбасой и пирогами кухонный стол и похвастался:
— Посмотри, Ирена. Мне думается, ни один из твоих гралевских кавалеров не смог бы теперь достать копченой колбасы, сыра и столько мяса. А я вот достал!
— Пропади ты пропадом! — почти крикнула Ирена.
Но Стефан не обиделся. Он только засмеялся.
— Ничего, дорогая! Завтра ты узнаешь, что я умею любить и по-другому. Завтра…
— Отстань!
— Смотри, я сделал новую табличку на дверь. Здесь будут жить теперь не Ольшинские, а панство Брошкевич. И их не посмеет выгнать отсюда никакой Краузе. Ты не рада?
— Мне все равно.
На следующий день их обвенчали. В костеле торжественно играл орган. Были цветы, были сочувственные и даже завистливые взгляды знакомых. Все происходило словно во сне. Ирена повторяла за ксендзом слова присяги, а мысленно кричала: «Все это ложь! Ненавижу этого человека!»
Вернувшись из костела, она подошла к комоду, взяла в руки небольшой, отливающий перламутром камень и приложила к щеке. Этот камень — память об отце, он привез его из дальнего плавания. Ирена вытерла украдкой глаза, положила камень на место и села за стол рядом со Стефаном, молчаливая и безразличная.
Свадьба была в полном разгаре. Опустили светомаскировку на окнах и зажгли ради праздника большую керосиновую лампу. Отец Стефана, бывший помещик, толстый, усатый, завел старенький, дребезжащий граммофон. Тетя Марта прибежала из кухни, замахала руками:
— Извините, дорогие гости, но музыки не надо. Чего доброго, немцы услышат.
— А мы тихо, пани Марта. Какая же свадьба без музыки, — возразил Брошкевич.
— Я немцев не боюсь, — заявил Стефан. — Гуляйте, пейте, веселитесь!
— Нельзя. Невеста только что мать схоронила, — напомнила строго тетя Марта. Но Стефан и гости не слушали.
Халина и Ядька жались друг к другу, всеми забытые, в дальнем углу комнаты. Они смотрели, словно птенцы, которых только что вытащили из гнезда. Девочек пугал необычный наряд сестры, белая фата на голове. Юзеф сидел за столом, почти не притрагиваясь к еде.
Стефан ни на миг не отходил от жены. На нем был черный новый костюм, белая рубашка с туго накрахмаленным воротником и черным галстуком-бабочкой, лакированные ботинки. На белых, пухлых руках, кроме обручального кольца, сверкали еще два золотых перстня. Лицо его раскраснелось и лоснилось от пота. Стефан был пьян и продолжал пить рюмку за рюмкой. Ирена с ужасом и отвращением думала: «Боже, он не только самодовольная скотина, но еще и пьяница!»
А гости шумели все громче, пили и танцевали. Стефан смеялся громче всех, дышал в лицо самогонным перегаром. Ирену чуть не тошнило, а он сжимал под столом ее холодные руки и пьяно бормотал:
— Ну вот… Теперь… ты моя! Эх, и заживем мы! Поцелуй же меня! Ну!
Ирене хотелось ударить его, встать и уйти из-за стола, но ноги не слушались. Она не могла сдвинуться с места…
Было далеко за полночь, когда громко хлопнули и распахнулись настежь входные двери. В комнату вошел хозяин пекарни Бельке в сопровождении четырех немецких солдат с автоматами наперевес. Увидев хозяина в мундире штандартенфюрера СС, Стефан страшно побледнел. Бельке подошел к столу. Его взгляд пробежал по закускам, скользнул по бутылкам с самогоном, по лицам гостей и остановился на секунду на лице невесты. Гости боялись шелохнуться, одна только тетя Марта отважилась пройти через всю комнату, чтобы остановить шипящий граммофон.
— Наконец-то я тебя поймал с поличным! — внешне спокойно сказал Бельке. И, показав на стол, закричал: — Вон сколько наворовал, скотина! Забрать его!
Один из солдат встал позади Стефана, ткнул ему в спину дулом автомата и сказал на плохом польском языке:
— Идем, польская свинья! Ну, подымайся скорее!
Стефан жалобно взглянул на жену, на родителей. Подталкиваемый автоматом, он не успел сказать ни слова. Когда немцы были уже у дверей, мать рванулась за ними с криком:
— Куда вы уводите моего сыночка?! Пощадите его, господин офицер! Он не виноват! Ее берите! Это все из-за нее. — И она с ненавистью показала на Ирену.
— Кончайте этот спектакль, мадам, не то всех заберем, — пригрозил ей гестаповец Бельке и ушел вслед за Стефаном и солдатами.
Утром в квартире был произведен обыск. Немцы искали мешки с сахаром, мукой и деньги. Бельке давно заметил, что Брошкевич не чист на руку, но Стефан был хорошим пекарем, и хозяин до поры до времени терпел. Когда же сахар и мука стали пропадать целыми мешками, он обратился в полицию. В комнате Стефана над пекарней нашли целый склад продуктов и бутылки с самогоном. Парни, которые работали со Стефаном, тоже воровали, но свалили всю вину на старшего пекаря. Они не любили его за скупость и жестокость.
Граевские и хозяева дома Бернась заступились за Ирену. Они убедили немцев, что девушка ничуть не виновата в случившемся. Ирену не тронули. В память о ненавистном муже ей осталась только его звучная фамилия. Ирену стали называть теперь пани Брошкевич.
На второй день после свадьбы фольксдейч Краузе потребовал, чтобы Ирена со своими «выродками» сейчас же убиралась вон. Она попыталась было возразить, но Краузе заорал:
— Молчи, польская стерва! Захочу, сгною и тебя и твоих щенков так же, как вашего папашу, в лагерях. Не все ли равно, где вам подыхать, коммунисты проклятые! Чтобы завтра же ваше барахло было на чердаке! Не нравится, можешь жаловаться Отто Шмаглевскому! Он тебя живо отправит вслед за муженьком-вором!
Краузе позволил взять из мебели только большую кровать да два стула. На большее в каморке не нашлось бы и места. Теперь, когда в их доме поселился немец, жить стало еще труднее. Ирене казалось, что даже у стен есть уши.
События последних месяцев: смерть матери, свадьба — не прошли бесследно для Ирены. Она заболела. Снова приехала тетя Марта и привезла с собой известного на всю округу знахаря Зиберта. Он осмотрел Ирену, оставил мешочек с сухими травами, объяснил, как их заваривать, получил за труды бутылку керосина и уехал.
Ирена проболела больше месяца. Тетя Марта с трудом выходила ее. Каждый день после работы прибегала Леля. Усевшись на край кровати, рассказывала:
— Немцы на фабрике стали злющие-презлющие. Плащей и плащ-палаток, простреленных, как решето, поступает навалом. Верно, русские здорово бьют фрицев.
— Слава богу! Наконец-то у фашистов земля начала гореть под ногами, — обрадовалась Ирена.
Леля наклонилась и прошептала ей на ухо:
— Вчера директор говорил надзирательницам Лотте и Берте, я случайно услышала, что фабрику придется эвакуировать в Шнейденмиль. Здесь оставаться опасно — в округе объявились партизаны. — И закончила громко: — Вот какие дела, Ирка! Поправляйся быстрее.
Годы без солнца
Юзефу исполнилось пятнадцать лет. Он заметно возмужал и манерами стал походить на отца. Столяр пан Грабовский взял его в ученики. Теперь каждую неделю Юзеф приносил домой несколько марок, выкладывал их перед сестрой на столе и солидно говорил:
— Держи! Скоро буду получать больше. Вместо стульев и табуреток начну делать шкафы. Мастер обещал.
— Спасибо. Дай я тебя расцелую.
— Еще что надумала! Что я, маленький или девчонка? После Рождества неожиданно получили долгожданную весточку от отца. Ее привез незнакомый, худой и изможденный мужчина. Отец писал:
«Дорогие мои! Я жив, здоров. Нахожусь в лагере для политических под Кенигсбергом. Как я живу, расскажет товарищ, который передаст это письмо. Я очень беспокоюсь за вас. Держись, Настка! Береги детей.
Бронек.»Ребята обступили незнакомца.
— Скажите, как выглядит тато? Скоро ли вернется к нам? — спрашивали они.
— Я видел вашего отца всего два раза и то лишь издали, на лагерной поверке. А его письмо попало ко мне случайно. Заболел я и ослаб настолько, что уже не мог работать. Товарищи, которыми, я узнал, руководил ваш отец, устроили меня в лагерный лазарет, а потом помогли мне и еще нескольким заключенным бежать. Перед побегом нам зашили в одежду письма с тем, что, если все будет хорошо, эти письма передать по адресам. Вот и все.
Ирена накормила гостя, напоила горячим желудевым кофе с сахарином. После ужина он стал разговорчивее.
— Лагерь, в котором держат заключенных, — рассказывал он, — находится на окраине Кенигсберга, на самом берегу Балтики. А военный завод, куда водят работать под конвоем, в пяти километрах от лагеря. По четырнадцать часов в сутки заключенные точат на станках гильзы для снарядов, грузят в вагоны ящики с оружием и патронами. Работа изнурительная, а кормят два раза в день одной брюквой. Сколько раз валились около вагонов или у станков без чувств. Отольют ледяной водой — и снова работать. На ночь загоняют в бараки, в каждый по пятьсот человек. А всего таких бараков в лагере девять. Успеешь занять нары — хорошо, нет — ложись на пол. Пол цементный, сырой. От моря дует пронизывающий ветер. В лагере, кроме поляков, русские, французы и чехи. Все живут одинаково…
Гость закашлялся и долго не мог успокоиться. Прощаясь, он попросил Ирену никому не говорить о нем, а письмо сжечь.
Письмо Ирена не сожгла и долго носила с собой серый клочок оберточной бумаги. Доставала его из-за выреза платья и перечитывала по нескольку раз в день. Она воспрянула духом: отец жив, а это главное.
Несмотря на опасения немцев, фабрика дождевиков не только осталась в Гралеве, но и разрослась чуть ли не вдвое. На школьном дворе построили еще два корпуса, завезли новые машины и оборудование. Теперь на фабрике работало уже свыше трехсот человек. От едкого клея руки у женщин покрывались язвами, распухали и нарывали. Ирена не спала по ночам от боли. Даже никогда не унывающая Леля жаловалась:
— Ох, болят, ну прямо мочи нет! Поджечь нам, что ли, эту проклятую фабрику?
— Тише, ты! Никак в Германию захотела? — останавливала Лелю испуганным шепотком Зося. — Угонят нас, а у меня Дануся, у Ирки — сестренки. — Зося тяжело вздохнула и, увидев спешившую к ним надзирательницу, предупредила:
— Девочки, тише! Берта плывет.
Надзирательница Берта — уши и глаза директора фабрики. На жалобы Берта обычно отвечала:
— Руки болят? Ничего! Славян слишком много развелось, незачем их жалеть. Не хотите работать, не надо. Пошлем вас на курорт, в лагеря, там отдохнете, польские свиньи!
— У, фашистская гадина, — ругались про себя работницы.
По вечерам Ирена читала вслух книги Сенкевича, Пруса и Мицкевича. Некоторые из них были переписаны от руки и передавались из дома в дом. Рассказывали они о красоте и богатстве родной земли, о мужестве древнего народа, о его тяжелом прошлом. Халина, Ядвига да и Юзеф слушали сестру с затаенным дыханием. Слабый, колеблющийся огонек коптилки, висевшей над кроватью, едва освещал их тесную каморку.
Когда книги были прочитаны, Ирена стала рассказывать сказки и предания о городах Гнезне и Кракове с его легендарным замком Вавелем, о Варшаве, о красавице Висле. Ирена невольно подражала отцу и старалась говорить так же образно, занимательно и проникновенно, как он.
— На гербах старого ганзейского города Гданьска, — начала Ирена, — изображены львы, охраняющие щит с двумя крестами и короной. Львы смотрят друг на друга. И только в гербе на гданьской ратуше они повернули головы на восток и глядят на Золотые Ворота. Вот что рассказывает об этом легенда:
«Жил когда-то в Гданьске, над рекой Мотлавой талантливый скульптор Даниэль. Из-под его искусного долота выходили как живые фигуры купцов, ремесленников, ночных сторожей и рыцарей. Но охотнее всего Даниэль ваял львов. Когда ему поручили вылепить главный герб города над входом в старинную ратушу, Даниэля навестил его старый учитель. Придирчиво присматриваясь к работе своего ученика, сказал:
— Опять львы. Вижу, со львами ты в ладах. Это хорошо, потому что теперь их уже немного осталось на свете. Зато хватает волков, лисиц и хорьков…
— К чему ты это говоришь, учитель?
— Надо напоминать волкам, лисам и хорькам о давних достоинствах гданьчан, о мужестве и верности.
Долго молчал Даниэль, потом проговорил:
— Хорошо, учитель. Пусть будет по-твоему.
— Только как ты это сделаешь?
— Увидишь в тот день, мой учитель, когда я закончу свою работу, — ответил загадочно Даниэль.
И вот работа закончена. На открытие главного герба города перед ратушей собралась огромная толпа. Но не было слышно обычных в таких случаях радостных возгласов и веселья. Гданьчане стояли перед новым гербом хмурые и подавленные, как и осеннее небо над их головами. Не до радости, не до веселья было людям, когда за их спинами маршировали прусские батальоны короля Фредерика.
Но вдруг затянувшуюся тишину взорвал чей-то звонкий и взволнованный голос:
— Смотрите! Смотрите-ка на львов! Видите, они повернули головы и смотрят на восток. Что это? Неужели мастер ошибся?
— Нет, это не ошибка, — радостно закричал старый учитель Даниэля. — Оба льва смотрят в одну сторону, на Золотые Ворота, откуда в Гданьск должна прийти свобода. Польша не забыла о нашем Гданьске и вскоре освободит нас из-под немецкого ига. Львы Даниэля первыми почуяли это.
Но шли годы, а кругом все еще звучала немецкая речь. Состарился и умер мастер Даниэль. Только его львы продолжали упрямо смотреть на восток. Все ждали свободу…»
Ирена умолкла.
— Они дождались? — спросила сестру Халина.
— Да, дождались, — ответила Ирена. — Почти…
И, помолчав с минуту, сама придумала окончание легенды.
«Пришло время, и задрожали городские стены и высокие старинные башни древнего Гданьска, взволновалась, вспенилась Мотлава. Оглушительный рокот артиллерии ворвался на узкие улицы, испугал врагов. Подняли головы, приосанились львы на Гданьской ратуше.
— Ты слышишь, брат, как гремит? — спросил первый лев. — Наверное, не помнишь на своем веку подобной грозы?
— Нет, не помню, — ответил второй лев. — Смотри! Это Польша к нам возвращается.
И львы увидели на улице Длуги Тарг танк с белым орлом на башне. Танк подъехал к ратуше и остановился. Открылся железный люк, на мостовую спрыгнул солдат с бело-красным знаменем в руке. Он побежал к Дворцу Артуса, и львы увидели, как на его крыше затрепетал польский флаг. Радостно и победно зарычали львы на весь Длуги Тарг».
Сказки радовали сестренок, помогали забывать о тяготах оккупации. Словно и не было войны, а отец с матерью ушли ненадолго, поручив Ирене смотреть за малышами.
Но сказки были сказками, а за дверьми жила суровая быль.
Ранней весной 1943 года полицаи схватили на улице Зосю. Она нарушила «закон», оказалась на улице после полицейского часа. Напрасно она просила полицаев о пощаде, напрасно говорила, что дома ее ждет маленький ребенок. Немцы будто не слышали, их не трогали никакие мольбы, Зосю втолкнули в закрытую машину и увезли на железнодорожную станцию.
На следующий день, придя на работу, девушки сразу почуяли неладное: Зося никогда не опаздывала. Встревоженные подруги ждали до обеда. Зося не пришла. Тогда Леля решила сбегать к ней на квартиру под каким угодно предлогом.
В тот день дежурила надзирательница Лотта. Эта высокая, стройная, очень нарядная женщина с пепельными завитками волос вокруг нежно-розового кукольного лица ходила по цехам с хлыстом и чуть что — секла прямо по лицу. Прежде она работала в концлагере. Лотту боялись и люто ненавидели.
И все же Леля решилась подойти к надзирательнице и сказала по-немецки просящим голосом:
— Фрау Лотта, разрешите мне сбегать на одну минутку к Софии. Она тут недалеко живет. Разрешите, пожалуйста?
— А что тебе от нее надо? — буркнула немка, играя хлыстом.
— София взяла вчера мой прессовальный молоток. Сегодня она не пришла, и мне нечем работать.
— У вас вечно беспорядок. Ты в ее шкафу смотрела, растяпа?
— Смотрела… Там его нет. Видно, София домой его взяла…
— Ах вы, ленивые телки! — ругалась Лотта. — Унтерменшен[5]. Чего стоишь? Чего уставилась?! Беги за молотком, только быстро, а то директору скажу!
Леля в один миг скрылась за дверью. Лотта пошла по цеху от стола к столу и кричала:
— Работайте, польские свиньи, работайте, да поживее! — Она замахнулась хлыстом, и конец его просвистел над самым ухом Ирены.
Квартира Зоси была заперта. Леля долго стучала. Собираясь уже отойти от двери, она прислушалась, наклонилась и заглянула в замочную скважину. Ей вдруг показалось, что за дверью тихо плачет Дануся. Леля затаила дыхание и явственно услышала плач. Она громко позвала. Дануся заплакала сильнее. Леля кинулась на второй этаж к Зосиной соседке пани Закшевской:
— Вы не знаете, где Зося?
— Нет. А что?
— Она не вышла на работу. Дома одна Дануся. Плачет.
Они спустились вниз вдвоем, налегли на дверь, но она не поддалась. Тогда пани Закшевская принесла топор, и они выломали замок. Дануся лежала на кровати, окоченевшая от холода и обессилевшая от плача. В квартире было прибрано. Зося, видимо, собиралась истопить печку: печная дверка в маленькой кухоньке была приоткрыта, из нее торчали щепки и бумага, на плите стояла кастрюля с водой. По всему было видно, что хозяйка вышла куда-то на минутку, да так и не вернулась.
Леля схватила Данусю на руки, прижала к груди, укрыла полой пальто и стала ходить по комнате, приговаривая:
— Ну, успокойся… Успокойся, моя хорошая. Не плачь…
Когда девочка успокоилась и согрелась, Леля попросила пани Закшевскую присмотреть за ней до вечера. Сама заперла квартиру на висячий замок, который нашла на кухне, и побежала на работу.
У проходной ее встретила обеспокоенная Ирена. Озираясь с опаской по сторонам, она быстро передала Леле спрятанный под фартуком прессовальный молоток и спросила:
— Что с Зосей?
— Потом! Бежим быстрее! Лотта ругается?
— Как всегда.
Леля рассказала обо всем, что застала на квартире Зоси.
Подруги еле дождались конца рабочего дня. Потом втроем направились к дому Зоси. Пани Закшевская вышла навстречу с Данусей на руках и пожаловалась, что девочка все время кричит, зовет маму и не хочет есть.
Зося так и не появилась.
— Как же нам быть с Данусей? Может, ей пока у вас остаться? — попросили девушки пани Закшевскую. — Вы не беспокойтесь, кормить ребенка будем мы.
— Я бы рада, но у меня своих четверо, все маленькие. Кто будет заниматься с ребенком, пока я на работе? Я ведь одна, муж погиб в сентябрьскую кампанию. Извините, паненки, но Данусю взять не могу. — Закшевская заплакала.
— Не плачьте… Мы ведь понимаем. Что-нибудь придумаем. — Ирена поглядела на Лелю, потом на Марину. Дануся уснула у нее на руках. — По домам пора, скоро полицейский час, — напомнила она, услышав бой часов на ратуше. — Девочка поживет у меня, а там посмотрим.
— Ребенок простудится в твоей каморке, — возразила Леля. — Данусю возьму я!
— Дануся может жить у нас. Я одна, — вмешалась молчавшая до сих пор Марина. И закашлялась, прижав к губам платок.
Ирена с Лелей переглянулись.
— Ладно, Ирка, забирай пока Данусю к себе. Няньки из твоих сестер выйдут неплохие, — согласилась Леля. — А я сегодня спрошу отца и мачеху. Мы непременно возьмем Данусю. У нас ей лучше будет, спокойнее.
— Спокойнее-то спокойнее, но у вас и так полно детей, — напомнила Марина.
— Ну и что? Еще одному место всегда найдется.
На следующий день, только Ирена поднялась с постели, пани Граевская тут как тут и прямо с порога заявила:
— Давай мне Дануську! Тут ей опасно оставаться. И бог нам никогда не простит.
— Спасибо, тетя Паулина. — Ирена заметалась по каморке. — Только спит она.
— Ничего! Я ее тихонько понесу, она даже не почувствует. А няньки у нас понадежнее твоих. Больно бледные они у тебя и жуть, как отощали.
— Да, — вздохнула Ирена. — Какая у нас еда… И на воздухе они почти не бывают. Как только выйдут во двор, так Краузе, потехи ради, тут же свою овчарку с цепи спускает. Вот и сидят весь день взаперти.
— А ты их к нам приводи. Они с моими девочками на лугу поиграют. Когда смогу, то и накормлю. Приводи, не стесняйся, все им веселее будет. Ну, а Юзеф как?
— Юзеф работает. Чуть свет в мастерскую ушел. Он у меня молодец, помогает во всем.
— Да, серьезный, самостоятельный стал. Похож лицом на покойницу мать, но характером в отца, — заметила тетя Паулина. Она взяла спящего ребенка и заторопилась домой. Уже в дверях обернулась и шепотом добавила: — Даст бог, скоро все изменится к лучшему. Вчера мой Костя сказывал, будто американцы и англичане собираются открыть второй фронт. Так что будут теперь утюжить фашистов с двух сторон.
С того дня Дануся стала жить в семье Лели. Если кто спрашивал пани Граевскую, чей это ребенок, она отвечала:
— Это наша дочка. Много их у нас, вот вы и забыли.
Зося не вернулась больше в Гралево…
Вскоре после того, как угнали Зосю, слегла Марина. Всю зиму она надрывно кашляла, глаза ее ввалились и лихорадочно блестели. С конца апреля Марина уже не вставала. Она глядела на плывущие по весеннему небу облака и шептала в полузабытьи:
— Господи, когда все это кончится? Когда? Я так хочу видеть солнце!
Марина умерла в конце мая. За некрашеным гробом, который сделал Юзеф, шли родственники и друзья умершей. Ирена с Лелей несли по букету белой, еще не успевшей отцвести сирени, сорванной под стенами старого рыцарского замка.
Той же весной 1943 года Гралево наводнили так называемые «литауэрдейч». Это были немцы из Латвии, Литвы и с берегов реки Нарев. Каждый день поезда оставляли на Гралевском вокзале десятки семей немецких переселенцев. Они занимали квартиры поляков. Потом, когда квартир не стало, на окраине для них построили деревянные домики. За два месяца там вырос целый городок. Его обнесли проволочной сеткой, проложили плиточные тротуары, разбили маленькие садики, посадили деревья и цветы. По всему было видно, что переселенцев устраивают в городе надолго. Это были большей частью немки с детьми и их мужья — инвалиды, или отпускники, приехавшие с фронтов. Они бродили целыми днями среди окрестных лесов и полей, устраивали шумные пикники в тени дубов, грелись на солнце. Лечили расшатанные войной нервы. В Гралеве им нравилось. Вскоре переселенных стало больше, чем коренных жителей.
В Гралеве на домах и заборах все чаще стали появляться листовки, призывавшие к беспощадной борьбе с оккупантами. А в июле ребятишки, игравшие в городском парке, нашли двух убитых немцев, спрятанных под копной свежескошенной травы. Ребята испугались, понеслись в город, крича на всю улицу:
— Немцев убили! Немцев убили!
Убитыми оказались ненавистные всем полякам Отто Шмаглевский и Фриц Скуза.
В день их похорон немцы согнали на ратушную площадь все польское население от мала до велика. Посредине площади около вырытой могилы стояли два закрытых, убранных цветами гроба. Из ратуши вышел бургомистр Гралева господин Битнер в окружении чиновников и офицеров, и траурный митинг начался. В заключение его бургомистр объявил:
— Мы казним каждого пятого из вас, если в течение ближайшей недели не выдадите нам убийц. А сегодня вместо траурного салюта мы расстреляем десять человек. — И он показал на выводимую в это время из подвала магистрата группу юношей, пойманных полицаями в последней облаве.
Юношей расстреляли на глазах скованных ужасом гралевцев в тот самый миг, когда гробы опускали в могилу. Как только раздались залпы, из толпы крикнули:
— Мы не забудем! Отомстим за вас, ребята! Отомстим!
Немцы потребовали выдать того, кто кричал, но поляки молчали. Гралевцев продержали на площади до ночи.
Целую неделю полицаи и гестаповцы рыскали по городу. Они врывались ночью в квартиры гралевцев, уводили с собою. Теперь и в огромных классах и подвалах пустовавшей до сих пор гимназии орудовало гестапо. Гралевцы передавали друг другу шепотом, что стены гимназии стали липкими от крови.
Немцы так и не дознались, кто убил Шмаглевского и Скузу. Оккупантам даже в голову прийти не могло, что все беспорядки в городе вызваны горсткой отчаянных юношей. Это они распространяли по городу листовки. Это они убили немцев. Среди них был и Юзеф.
Как-то раз мастер послал Юзефа и еще одного ученика в концлагерь отвезти на ручной тележке пару гробов. И то, что там увидели ребята, наполнило их непередаваемым ужасом. Они видели, как гестаповцы били людей до смерти, как забавлялись во дворе «игрой в собаки». Заключенные должны были бегать вокруг немцев на четвереньках, лаять по-собачьи и слегка кусать своего «господина». Гестаповцы хохотали и пинали их при этом в лицо, живот, куда попало. После этой «игры» трое заключенных так и не поднялись с земли.
Недалеко от ворот Юзеф с товарищем увидел нагих людей, привязанных к толстым столбам колючей проволокой. Они стояли на солнцепеке худые, заросшие. По их грязным телам текла струйками кровь и ползали мухи. Люди эти еще жили. Их глаза запомнились юношам на всю жизнь. И хотя ребята пробыли в концлагере не больше двадцати минут, им казалось, что прошла целая вечность. Они решили мстить.
Мало кто из гралевцев знал тогда, что ребятами руководит бывший учитель пения гралевской школы пан Казимир Малек. Немцы еще в первые дни войны расстреляли его отца, члена КПП (Коммунистической партии Польши), который отсидел во время дефензивы[6] восемь лет в Павяке. Казимир Малек еще до войны был одним из руководителей Союза борьбы молодых. Сидел в тюрьме за организацию забастовки учителей, требовавших выдачи пособия многосемейным рабочим.
После нападения немцев на Советский Союз, когда стало ясно, что война не скоро кончится, пан Казимир начал сколачивать группу из бывших своих учеников, верных друзей, чтобы вместе бороться с оккупантами. Собирались обычно на торфяных выкопках среди болот и в подземельях старого замка. Ребята нашли там наполовину обвалившийся подвал, расчистили его, заделали вход со стороны замка кирпичом, засыпали землей и пробили новый ход в подземный коридор, который шел под рекой Дзялдувкой и кончался далеко за городом под Княжим Двором. Найти его было нелегко. Немцы не знали, что под замком существуют подземные лабиринты и переходы. Не знали об этом и гралевцы. Их совсем случайно обнаружили Юзеф и его друзья и очень обрадовались. В подземельях можно было писать листовки, учиться стрелять из пистолетов. Сквозь толщу земли и кирпича не проникало ни звука.
Ирена очень боялась за брата. Он стал не по годам развитым, дерзким и отчаянным, ему уже было мало писать и расклеивать по городу листовки, охотиться за отдельными полицаями. Юзефу не терпелось бить врагов десятками, сотнями. Но для этого нужно оружие. И пока «Земста»[7], как стали теперь называть пана Казимира, ломал голову, как добыть оружие, Юзеф с товарищами смастерил самодельный приемник и начал ловить вести с фронтов.
Так гралевцы узнали, что на востоке, в далекой Москве, организован Союз польских патриотов, который возглавляет писательница Ванда Василевская, товарищ Лампе и другие деятели. Союз польских патриотов издает газету «Вольна Польска» и, самое главное, создает под Москвой и на Украине новое Войско Польское. Две польские дивизии имени Костюшко и Домбровского будут вместе с Советской Армией сражаться против фашистов.
Полицаи все-таки частично дознались, кто распространяет по городу листовки. Но пан Казимир предусмотрительно переправил ребят в Буркат, а вскоре и сам туда перебрался. Они обосновались в глуши Лидзбарского леса и вынашивали план наладить связь с лесным войском, которое, как упорно гласили слухи, действовало в Румоцком лесу под Млавой.
Однажды надзирательница Берта, войдя незаметно в цех, увидела около стола Лели целую толпу девчат. Оттуда доносился звонкий, насмешливый голос Граевской. Она что-то пела. Песня то и дело заглушалась взрывами хохота. Берта отступила за шкаф, прислушалась.
Заложимы коло, коло, Ах, бенде, бенде нам весоло, Бо в тым коле — бык и крова. Цо? Бык и крова? Так! — То шпетны, як гжех, дыректор И зла, як оса, Берта — Овчарка дыректорова![8]Когда до Берты дошел, наконец, смысл Лелиных частушек, надзирательница рассвирепела. Выпучив от ярости глаза, она подскочила к Леле, начала бить ее по щекам и кричать:
— Ах, ты, польская стерва! Я тебе покажу, тварь, как надо мной смеяться. Сгниешь теперь в лагере, как последняя собака!
И поволокла Лелю к директору. Директор вызвал гестаповцев, а Лелю приказал запереть в туалетной комнате на втором этаже.
Вскоре к фабрике подкатили два мотоцикла с колясками. Гестаповцы прошли следом за директором к туалетной комнате, чтобы увезти с собою смутьянку. Открыли туалетную, а там никого. Немцы кинулись к открытому окну. До земли — не менее трех с половиной метров. Неужели прыгнула? Да. Вот и клумба под окном помята. Фашисты выругались, сбежали вниз, обыскали ближайшие дворы и улицы — Лели нигде не было…
Только через два дня Ирена узнала, что Леля в Буркате у «Земсты». После удачного прыжка со второго этажа фабрики Леля добежала до замка и весь день отсиживалась в его подземельях. Там ее нашли связные «Земсты» и ночью отправили в лес.
Пятая военная зима пришла неожиданно. Уже в конце октября ударили лютые морозы и пошел снег. Густой, колючий, он валил и валил несколько дней подряд, наметая сугробы, и улицы стали похожи на туннели. Дзялдувка покрылась толстой ледяной коркой. Свинцовое небо опустилось на островерхие заснеженные крыши домов. Стылое солнце показалось за месяц не больше двух раз, выглянуло на полчаса и скрылось за горизонтом оранжево-красным шаром. Мороз крепчал день ото дня; казалось, сам воздух стал хрупким, звенящим.
В одну из таких морозных ночей в конце ноября Ирена услышала, как к дому подъехала машина. «Наверно, к Краузе», — подумала она. Но на лестнице, ведущей на чердак, послышались тяжелые шаги и через минуту в дверь каморки забарабанили.
— Открывай! — Ирена узнала голос Краузе.
Она вскочила с постели, кое-как натянула платье, но дверь не открыла. Стояла, прижав руки к груди, ноги ее стали словно ватные.
Дверь выломали, и два здоровенных полицая и Краузе, светя карманными фонариками, ворвались в каморку, схватили Ирену и поволокли к лестнице. Проснулись сестренки, подняли крик, плач. В одних рубашках, босиком Халина и Ядвига выбежали на крыльцо и увидели, как их сестру втолкнули в большой фургон. Ирена услышала их душераздирающий крик:
— Ирка! Ирка!
— Куда вы ее увозите? Куда?
И довольный возглас Краузе:
— Наконец-то я разделался с этой чертовкой!
В неволе
В фургоне Ирена упала на что-то мягкое. Послышался стон. Нащупав пол, Ирена села. В ее ушах звенел отчаянный крик сестер:
— Ир-ка! И-и-р-ка-а!..
Взвыл мотор. Машина рванулась с места и через мгновение уже неслась на большой скорости. Ирена тщетно пыталась угадать, куда их везут. Дороги близ Гралева она хорошо знала, но машина ныряла в какие-то колдобины, кренилась на ухабах, видимо, уже где-то далеко за городом.
В фургоне была кромешная темнота. По голосам, вздохам и стонам Ирена догадалась, что в машине в основном женщины. Прислонившись к чьему-то теплому плечу, Ирена только теперь почувствовала холод. Ее взяли в одном тоненьком платье. Сбоку сильно дуло, и она плотнее прижалась к своим попутчикам.
Ехали долго. Наконец машина остановилась, открылась дверь и сбившихся в кучу людей ослепил яркий свет зимнего утра. Конвоиры окружили фургон, подталкивая людей дулами автоматов, закричали:
— Выходи по одному! Быстрей! Быстрей!
Когда люди, помогая друг другу, вышли из машины, их выстроили по двое и погнали бегом к станционным постройкам. Все это происходило в таком темпе, что Ирене не удалось прочесть даже названия станции. Ей только показалось, что это была Илава. Потом их загнали в холодные грязные вагоны и закрыли двери на засовы.
В вагоне, в который попала Ирена, было не меньше ста человек. Маленькие, обмотанные снаружи колючей проволокой оконца еле светились, люди задыхались от тесноты и смрада. По обрывкам фраз Ирена поняла, что этот поезд шел с далекой Украины и подбирал по дороге все новые партии рабочей силы для рейха.
Многие люди так ослабли, что уже не поднимались. Они полулежали на коленях друг у друга, или сидели, прислонившись спиной к стенам вагона. Беззаботному перестуку колес вторил негромкий тягучий стон. Ирена опустилась на пол у дверей и закрыла глаза. Из головы не выходила мысль о сестренках. Если пани Граевская не заглянет к ним, они погибнут. Или того хуже — Халинку и Ядьку тоже увезут в Германию и воспитают по-своему. Они еще маленькие и глупые…
Ирена незаметно задремала. Проснулась от нестерпимого холода. Сжалась в комок — не помогло. Почувствовав, как она дрожит, какая-то женщина, сидевшая рядом, набросила ей на плечи край грязного одеяла.
— Спасибо, — поблагодарила Ирена.
Так прошел день.
Во вторую ночь пути умерли две женщины. Их положили в углу вагона и прикрыли снятыми с них пальто.
На четвертый день поезд попал под бомбежку. Самолеты с воем проносились над крышами вагонов, бомбы рвались совсем рядом. Осколки пробивали стены, и узники в панике метались, давили друг друга, пытались открыть дверь. Когда самолеты улетели, в вагоне оказалось трое убитых и несколько раненых. Вскоре от ран и голода умерло еще четыре человека. Трупы складывали в углу вагона. При толчках они постукивали, как деревяшки. К привычному смраду прибавился сладковатый запах разлагавшихся тел.
Ирена давно потеряла счет дням и часам. Временами ей казалось, что она теряет сознание. Усилием воли Ирена отогнала одолевавшую ее дремоту. Надо что-то делать, иначе гибель… Она вспомнила Лелю, и вдруг ее осенило. Песня! Она не раз выручала ее подруг, когда становилось невмоготу на фабрике дождевиков. Голосок у нее хотя и верный, но слабенький. Куда ей до Лели! А может, все-таки попробовать?
И Ирена решилась. Пошатываясь от слабости, она поднялась, оправила платье, откинула упрямым движением головы светлую волну волос и запела. Сначала тихо, неуверенно, будто про себя, но постепенно голос окреп, набрал звук и силу. Ирена пела все подряд: о королеве Ванде, дочери Крака, которая не захотела взять в мужья немца и предпочла любви чужеземца смерть в волнах Вислы, и свою любимую «Роту»:
Не жутим земи, сконд наш руд, Не дамы погжеть мовы. Польски мы наруд, польски люд, Крулевски щеп пястовы!..[9]Что это?!
Ирена с радостью увидела, как люди в вагоне стали подниматься на ноги и, поддерживая друг друга, выпрямляли согнутые плечи, брались за руки и подхватывали мотив. Не всем были понятны слова песни, но одно было бесспорно — она их объединяет. И песня звенела, ширилась. Ей стало тесно внутри душного вагона, и она вырвалась через крошечные окошки на волю. Ее подхватили в соседних вагонах. Услышали и конвоиры, застучали в стены прикладами, заорали в смотровые оконца:
— Молчать! Стрелять будем!
Но остановить песню было уже невозможно. Молодая черноокая украинка забарабанила в дверь кулаками и что было сил закричала:
— Откройте, гады! Дайте хлеба, воды! Слышите?!
По крыше забегали охранники. Поезд остановился. Уже изо всех вагонов слышались разноязычные проклятия, требования:
— Хлеба, воды! Хлеба, воды!
Дверь вагона приоткрылась. Конвоиры, зажав платками носы, вытащили из вагона трупы. Потом бросили узникам несколько буханок хлеба и дали два ведра воды.
Теперь Ирену часто просили петь. И она пела, сколько хватало сил, часто думая при этом: «Мне бы Лелин голос!» Ирену полюбили, как могли, заботились о ней. Люди в вагоне были разные. Одни делились последним куском, но были и такие, кто мог вцепиться в горло любому из-за корки хлеба. Эти ели тайком. Но даже их покоряла душевная, не слишком умелая песня польской девушки.
Поезд шел все медленнее, часто останавливался на глухих разъездах и пропускал вперед другие составы. Заметно потеплело, стены вагона покрылись изморозью. Ирене почудилось, что она слышит голоса корабельных сирен. «Или я схожу с ума, или действительно близко море? — подумала она. — Вот опять гудит».
Двенадцатая ночь пути подходила к концу. Утром впервые за много дней дверь распахнулась во всю ширь, и в вагон ворвался запах свежего морского воздуха.
— Выходите! — заорали конвоиры, с трудом сдерживая рвущихся с поводков овчарок.
Всех людей выстроили в длинную колонну по четыре в ряд и погнали, как сказали конвоиры, на биржу труда. На бирже, в мрачном сером здании, немцы провели тщательный отбор. Больных и слабых отправили в лазарет при бирже, здоровых отвели в душевую, затем накормили досыта и начали распределять между хозяевами, приехавшими за рабочей силой.
Ирена и две русские девушки Катя и Тамара попали к толстой и сердитой немке. Она придирчиво осмотрела девчат и сказала:
— Меня зовут фрау Бестек. Будете работать у меня на фольварке.
И подозрительно покосилась на Тамару. Когда вышли на улицу, спросила девушку по-немецки:
— Ты еврейка?
Тамара не поняла. Ирена перевела вопрос по-польски, и девушка ответила:
— Нет. Я русская.
— Очень уж ты чернявая и глазастая, прямо жидовка, — проворчала недовольно хозяйка. — Шагайте быстрее. Лошади ждут.
— Где мы? Что это за город? — спросила Ирена, когда они усаживались на большую телегу.
— Бремен, — ответила немка.
«Далеко же нас увезли», — вздохнула Ирена.
Фрау Бестек сама правила лошадьми. Она то и дело оборачивалась и поглядывала на девушек маленькими, сверлящими глазками. А Ирена рассматривала своих спутниц. Что это за девушки? Катя, видно, молчалива. За всю дорогу не проронила ни слова. Понимает ли она по-польски? Ирена наклонилась к ней и тихо спросила:
— Вы откуда будете?
Безбровое, все в мелких оспинках лицо Кати оживилось. Она поняла вопрос, улыбнулась синими глазами и ответила на полупонятном Ирене языке:
— Я из Брянска. А она, — Катя кивнула в сторону Тамары, — с Украины. Мы в Брянске вместе в техникуме учились. А ты откуда?
— Из Гралева. Это в Польше, — ответила Ирена.
— Мы плохо понимаем по-польски, так что ты нас научишь своему языку, а мы тебя русскому. — Катя снова улыбнулась и протянула Ирене широкую короткую ладошку. Ирена пожала ее и ответила:
— Буду очень рада…
— Чему ты радуешься, полячка? — сердито оборвала разговор фрау Бестек. — У меня вам радоваться не придется. Работать надо! — И она выразительно взмахнула кнутом.
Девушки замолчали.
Телега катилась по широкой бетонной автостраде. Вдали виднелись усадьбы, черепичные крыши стрельчатых кирх и больших деревень. С моря дул резкий влажный ветер, гнал по низкому небу темные снеговые тучи. Не успели доехать до деревни, как зачастил холодный дождь со снегом. Он больно сек лицо.
Фрау Бестек погнала лошадей вскачь.
Телега съехала с автострады на длинную, обсаженную старыми каштанами аллею. Хозяйка приказала девушкам слезть и идти дальше пешком. Повозку и лошадей передала вышедшему навстречу подростку. Это был сын хозяйки Курт.
Над чужой землей опустились ранние декабрьские сумерки…
У фрау Бестек было большое хозяйство. Ее муж воевал на восточном фронте, а она снабжала армию хлебом и овощами. Знакомый чиновник с биржи труда время от времени поставлял ей здоровую рабочую силу. У фрау уже работало два десятка женщин и девушек, которых в разное время пригнали с востока. Большинство из них были русские, остальные чешки и польки. У Бестек работали и пленные, но они жили отдельно. Их приводили и уводили под охраной.
Ирену и Тамару хозяйка предпочла держать у себя на виду. Еще на бирже труда она обратила внимание на горевшие ненавистью глаза Тамары. Она так и сказала:
— Пусти вас к остальным, беды не оберешься. Смотрите у меня!
Ирену оставила из-за того, что та знала немецкий язык.
Ирена с Тамарой должны были мыть полы, топить печи, носить воду. А по утрам и вечерам доить коров, рубить для них брюкву в корыте. Коров у хозяйки было тридцать голов, лошадей двадцать, а свиней и птицы разной не счесть. Катю отправили работать в поле и на бойню, где били скот. У фрау Бестек был свой небольшой мясной консервный завод.
За девушками наблюдали. Куда бы они ни пошли, всюду их сопровождал прыщеватый сын хозяйки с огромным волкодавом. Зачастую, шутки ради, он натравлял собаку на Ирену и Тамару. У них от страха подкашивались ноги, но они не подавали виду, что боятся. «Только покажи, что страшно, совсем затравит», — думали они. Курт придирался по каждому поводу. Чуть что жаловался матери, а та умела наказать.
— Не будете слушаться, отправлю вас в лагерь, за колючую проволоку. Там узнаете, что такое настоящая работа. Заставят чистить выгребные ямы! Это вам не коров доить.
После этого Курт нагло покрикивал на Тамару:
— Быстрее поворачивайся, проклятая жидовка! Ну, кому говорят?!
— Отцепись ты от нее. Ведь и так работаем, как волы! И потом сколько раз тебе говорить, что она не еврейка, а русская, — заступалась Ирена.
— Рассказывай! Польки и русские светлые или рыжие, а Тамарка черная, как тойфель[10]. Жидовка она, вот кто! — истерически кричал Курт. — И ты знаешь, что мы делаем с жидами и их заступниками. Мы их вот так! — И Курт красноречиво указывал на шею и ближайшее дерево. Волкодав рычал, оскалив зубы.
Время для Ирены будто остановилось. Дни тянулись бесконечно долго и однообразно. Подымались задолго до рассвета, затапливали печи, носили воду, доили и кормили коров, стирали, мыли, терли. И так изо дня в день по восемнадцать часов в сутки. К вечеру девушки так уставали, что не было сил раздеться. Они валились на нары и сразу засыпали.
Фрау Бестек все-таки избавилась от Тамары. Ее неожиданно увезли в Бремен. «Русская чертовка» понадобилась в госпитале, она будет мыть в анатомичке оцинкованные столы и скрести цементные полы. «А то совсем разленилась, глазастая, коров доить отказывалась», — ворчал Курт.
Так прошла зима. Ирена совсем пала духом. Весна не принесла ничего нового. Кругом по-прежнему были чужая земля, чужие люди, чужое небо над головой и изнуряющий, унизительный труд. Даже фрау Бестек чем-то напоминала надзирательницу Лотту. С утра до вечера ходила по дому и двору с плеткой и била своих работниц за малейшую провинность. Однажды она избила Ирену только за то, что та нечаянно опрокинула в кухне ведро с пойлом для телят.
По ночам Ирену все чаще стал будить мощный рев самолетов, летевших в сторону Берлина. Услышав гул моторов, Ирена вскакивала с нар и подбегала к окну. Английские и американские бомбардировщики «Томми», как их называли немцы, уже несколько раз бомбили Бремен. Во время таких налетов фрау Бестек со всеми домочадцами отсиживалась в бомбоубежище. Усадьба словно вымирала. Тогда-то у Ирены и зародилась мысль о побеге и уже не выходила из головы.
Катя все это время работала у родственников фрау Бестек в соседней деревне Шейнвизе. Однажды, когда ее хозяева укатили в город, она прибежала к Ирене. Катя очень изменилась, похудела, яркие синие глаза потухли и ввалились. Оспинки на ее осунувшемся лице стали почти незаметны. Она уже хорошо говорила по-польски: ее научили польские девушки, жившие во флигеле.
Ирена обрадовалась Кате, расцеловала ее. Вздохнув, сообщила:
— А Тамару увезли в Бремен.
— Знаю. К нам приходил Курт и хвастался, что теперь этой «жидовке» конец. Но ничего, Тамара не робкая, авось не пропадет!
Ирена обняла Катю за плечи, потянула в дальний угол кухни.
— Слушай, Катя, я надумала бежать… — начала она.
— Куда же ты побежишь? — удивилась Катя.
— Домой. В Польшу.
— Эва! Отсюда до твоего Гралева восемьсот километров. Десять раз поймают.
— Лесами буду идти. Их в Германии много. Давай вместе, а?
Катя отрицательно покачала головой.
— Все равно поймают. Ты лучше подожди немного. — И, оглянувшись, возбужденно зашептала: — Знаешь, наши девчата говорят, англичане и американцы уже открыли второй фронт. Теперь держись, фрицы!
— Неужели это правда, Катя?
Катя сдвинула белесые бровки.
— Правда! К девчатам наши парни из города приходили. Они на заводах работают и все знают, даже радио слушают. Ну, я пошла, а то как бы Курт нас вместе не увидел и не натравил свою овчарку.
Катя быстро поцеловала Ирену и убежала. На душе у Ирены впервые за эти месяцы сделалось вдруг легко и радостно. Она даже тихонько запела.
В кухню вошел Курт.
— Ты чему радуешься, чертовка?
— Погода хорошая, вот мне и весело.
— Врешь! К тебе забегала эта русская из флигеля. Что она тебе тут говорила?
— Что надо, то и говорила. А тебе-то что?
— Погоди! Все расскажу матери.
— Уходи, не мешай. Мне ваших коров доить пора. — И Ирена, схватив ведра, побежала к коровникам.
В начале сентября фрау Бестек получила объемистый конверт с черной каймой по краям. Немецкое командование извещало хозяйку о том, что ее муж штурмбанфюрер Эрвин Бестек погиб еще в позапрошлом году под Сталинградом.
Прочитав извещение и увидев два выпавших из пакета железных креста, хозяйка заревела в голос. Она осунулась на глазах и, как показалось Ирене, похудела сразу на добрый десяток килограммов. «Ничего! Так тебе и надо! Это тебе за Зосю, за осиротевшую Данусю, за сестренок, за Марину, за всех нас, проклятая ведьма!»
В эту ночь Ирена спала спокойно. Ей снился разрушенный войной безмолвный русский город и скованная льдом Волга. На льду и на заснеженных берегах чернели тысячи, сотни тысяч убитых немцев. Потом приснились незнакомые русские солдаты. Они шли строгие, рослые, сжав в руках автоматы…
Проснулась Ирена от грохота взрывов. Бомбы падали где-то совсем близко. В кухне было светло. Окна распахнуты настежь, рамы перекосились и повисли. Ирена сунула ноги в деревянные башмаки, накинула на плечи одеяло и выбежала во двор. Пахло гарью. Горели хозяйственные постройки, лиственницы и кусты в саду. От мощной взрывной волны с крыши сползла черепица и вылетели все стекла.
После этого налета фрау Бестек окончательно потеряла покой. Она обезумела от страха и вымещала на работниках свою ненависть и тревогу.
Вскоре Бестек сдала поместье брату, вернувшемуся с фронта без ноги, и переехала к сестре в Грайфенхаген близ Щетина. Ирену взяла с собой нянькой для троих меньших детей. Курт записался в фольксштурм и остался под Бременом. Ирена очень обрадовалась переезду: ведь он приблизил ее сразу на несколько сот километров к Гралеву.
Грайфенхаген была большая зажиточная деревня. Только напрасно фрау Бестек думала найти здесь покой. Не прошло и месяца, как и сюда стали прилетать самолеты. Но уже русские. Услышав вой сирены, хозяева бежали в бетонное убежище, что посредине деревни. Ирену туда не пускали. Да она и не собиралась прятаться. Стоя во дворе, радовалась, когда кругом все рушилось и гремело:
— Бейте их! Бейте, хорошие! Не жалейте гадов!
В Грайфенхагене хозяйка почти не следила за ней. Не было и Курта с волкодавом. И Ирена исподволь готовилась к побегу. Припрятала на гумне мешочек сухарей, немного сала, картофеля, стащила из чулана новый полушубок, платок, лыжные ботинки. Не забыла и нож, большой, острый, каким обычно резали свиней.
Немецкий язык к этому времени она знала уже настолько хорошо, что в случае чего могла сойти за немку. Знак с буквой «П» можно отпороть в любое время. Но как быть с документами? Где раздобыть аусвейс?[11]
Побег
Русская бомба разорвалась в самом центре Грайфенхагена. Взрывом снесло несколько домов, в том числе и дом сестры фрау Бестек. Начались пожары. Тушить их было некому.
Ирена выскочила из-под навеса над колодцем, не раз спасавшим ее от осколков. Убедившись, что хозяева сидят в убежище, она кинулась на гумно, достала из тайника припрятанный узел. Теперь бежать, бежать, пока хватит сил! Ирена кинулась в сторону парка, остановилась на минутку перевести дыхание. Прислушалась. Только огонь трещал позади. Впереди узкая полоска поля и… лес. У одинокого дома на окраине деревни стоял велосипед. Ирена схватила его, повесила на руль узел и побежала к лесу. Там развязала узел, надела полушубок, ботинки, повязала голову платком и, озираясь, вышла из лесочка на дорогу, ведущую в Щетин.
Был поздний вечер. Ирена села на велосипед и покатила по пустынной дороге. На багажнике была прикреплена связка новых деревянных корков[12]. Видно, владелец велосипеда собирался на базар в Щетин. Его корки были для Ирены как нельзя кстати. Она подумала: «Если меня задержат на дороге и спросят, куда и зачем еду, скажу, что на рынок. Отец велел продать корки».
Ирена на всякий случай и имя немецкое себе придумала. Она теперь Эрна Шредер. «Потребуют документы, скажу, что забыла дома. Риск, конечно, большой, потому что ни одна уважающая себя немка не имеет права забывать документов. Но делать нечего».
На рассвете Ирена благополучно минула Щетин, объехав его стороной. Сразу за городом она свернула с большой ровной дороги на узкую и ухабистую тропинку, которая вела к дальнему лесу. Все кругом было присыпано тонким слоем выпавшего накануне снега. Стоял конец ноября. Здесь было значительно холоднее, чем в Бремене.
Где-то впереди залаяли собаки. «Деревня», — догадалась Ирена. Было уже светло, но деревня еще спала, и Ирена, не встретив ни души, выехала на едва приметную под снегом тропинку, бегущую рядом с лесной дорогой. Днем ехать было опасно, и Ирена свернула в лес и отоспалась в густом ельнике. А к ночи двинулась дальше в сторону границы.
Поля и дороги были по-прежнему пустынны. Тихо и в лесу. Глаза девушки уже успели привыкнуть к темноте. В полночь на небе появилась луна. Она освещала холодным светом причудливые, сверкающие снежные шапки на верхушках деревьев и застланные белым покрывалом спящие поля и лесные поляны. При луне Ирене было не так страшно и одиноко. Хуже было, когда луна ныряла за тучи. Глаза, освоившиеся с ее серебристым светом, сразу теряли тропинку, и Ирена несколько раз сваливалась в припорошенные снегом канавы и ямы. Ботинки и одежда намокли от снега, липли и холодили тело. В темноте за каждым деревом или кустом чудился зверь или человек. Ирена вздрагивала от шороха падающей шишки. Если ее поймают, то она никогда больше не увидит брата и сестер. За побег от хозяев сажали в лагеря, из которых редко кто возвращался. Помня об этом, Ирена решила до самой польской границы ехать только ночью, а днем отсыпаться в лесах. Лесов-то кругом много. Кончается один, а рядом уже виднеется другой. Ирена знала, что эти леса сливаются на северо-востоке с ее родными, далекими мазурскими лесами.
Компаса у нее не было. Ориентироваться по звездам она не умела, к тому же они часто бывали закрыты снеговыми тучами. Но она припомнила, как отец учил распознавать направление по стволам деревьев: с северной стороны они всегда покрыты мхом. И еще ей помогали пролетавшие в вышине самолеты. По их нарастающему шуму Ирена угадывала, где восток.
На пятые сутки лес внезапно кончился, и Ирена увидела невдалеке черепичные кровли фольварков с надменно устремившимся ввысь костелом. У стогов близ фольварков копошились немцы. Издали они казались куклами. Впереди начинался новый лес, и Ирена торопливо нырнула под его душистую, мохнатую зелень. Поела, нарезала ножом еловых лапок и легла.
Так она спала уже несколько ночей. Будил ее холод. Солнце, если и показывалось, то ненадолго. Небо словно лежало на верхушках заснеженных деревьев. К ночи мороз крепчал, выжимал оставшуюся в деревьях влагу, и они трещали. Иногда казалось, что это выстрелы, и Ирена вся съеживалась и замирала от страха.
Ирена была в пути уже вторую неделю, как неожиданно потеплело. Начался снегопад. Ехать стало невозможно. Колеса велосипеда пробивали подтаявший, невидимый под снегом лед в колеях лесной дороги, проваливались местами по самые оси в жидкое ледяное месиво и обдавали Ирену ледяной водой. Порой велосипед так застревал в глубоких разъезженных за лето колеях, что она с трудом его вытаскивала. Теперь ей приходилось больше нести его на плече, чем ехать на нем. А бросить было жалко — с велосипедом она не чувствовала себя такой одинокой, и с его помощью ей удавалось пройти за ночь тридцать километров. К счастью, на развилках лесных дорог довольно часто попадались указатели.
На одном из них она вдруг прочла при свете луны: «До Аленштейна 300 км». Ирена тихонько засмеялась от радости. Ведь от Аленштейна до Гралева всего восемьдесят! Через неделю она может быть дома!.. Дома… Даже не верилось. Сначала она пойдет к Граевским. Домой идти нельзя: ее может увидеть Краузе. Ирена ясно представила, как пани Граевская, увидев ее, всплеснет руками и запричитает:
— Езус, Мария! Раны боске![13] Ты ли это, Ирка? Свят, свят!
Чем ближе дом, тем непроходимее становились леса. Это были уже мазурские леса. Ирена боялась заблудиться, боялась встречи с дикими зверями и поэтому держалась ближе к дороге с указателями.
У Ирены давно кончились ее скудные запасы. Пока шла, есть хотелось меньше. Но стоило остановиться на отдых, как начинало подводить живот. Пробовала жевать хвою, но от горечи так сводило челюсти, что Ирена торопилась заесть ее снегом. Пытаясь обмануть голод, подолгу всматривалась в плывущие над головой облака, слушала, как постукивают голыми ветками осины, вкрапленные кое-где между елями. Ели стояли пышные, нарядные в своих белых шапках. Из-под них видны длинные рыжие шишки. Если смотреть на них снизу, то они кажутся гигантскими свечами. Тяжелые мохнатые лапы опускаются до самой земли.
Ближе к старой польской границе снова стало холоднее и снега больше. Велосипед теперь только мешал. Ирена с большой неохотой оставила его, наконец, под раскидистой сосной. От длительного одиночества она стала разговаривать сама с собою. Шла и думала вслух. От этого становилось легче на душе и не так страшно одной в густом лесу.
Однажды мимо нее пронеслось небольшое стадо серн. Вслед за ними пробежал заяц-беляк. Он остановился на минуту, глянул на Ирену удивленным влажным глазом, похожим на серебристо-черную бусинку, и скрылся сразу в голых зарослях орешника, запутывая следы. Ирена замерла, прислушалась. Она подумала, что за животными, возможно, охотятся немцы и вот-вот заметят ее. Сердце гулко стучало. Но в лесу было по-прежнему спокойно, тишину нарушал лишь стук шишек, падающих на землю, да далекий гул самолета.
До Аленштейна оставалось еще сто пятьдесят километров. Ирена прошла их за четыре дня. На двенадцатый день, под вечер, она увидела вдали большой город с острыми черепичными крышами высоких домов, костелами и хорошо сохранившимся рыцарским замком. Это был знакомый Ирене по открыткам Аленштейнский замок. Значит, отсюда до Гралева не больше трех дней пути… Но сил уже не было. Она брела, проваливаясь в глубокие сугробы. Голод гнал ее к людям.
Миновав Аленштейн, она отважилась подойти к ближайшей деревне. Крадучись, подползла к погребу крайнего дома, прислушалась. Нигде ни звука. Толкнула дверцу и спустилась по ступенькам вниз. Пошарила руками вокруг себя, огляделась — прямо над головой висел копченый окорок. Ирена отрезала от него большой кусок и спрятала за пазуху. С полки взяла мороженые яблоки, банку варенья и тут же выбралась из погреба.
Где-то близко скрипнула дверь, послышались мужские голоса, залились лаем собаки. На снег рядом с Иреной легла широкая полоса света. Девушка притаилась за забором, затаила дыхание. Голоса отдалились, только собаки продолжали лаять. Начинало светать, нужно было скорее уходить в лес. Ну, вот и он! В лесу она немного поела, зарылась в хвою и тут же уснула. Проснулась, когда уже смеркалось. Пора в путь. Еда и сон подкрепили ее, и она прошла километров двадцать пять.
Ночь была на исходе. Сплошная темная стена деревьев стала раздвигаться. Ирена еле передвигала ноги и уже высматривала удобное местечко, где бы отдохнуть, как вдруг…
— Хальт! Вер ист да?[14]
В нескольких шагах от нее, словно из-под земли выросла фигура немецкого часового в белом маскхалате. Он, видимо, охранял те длинные строения на краю леса, которые Ирена только сейчас приметила. Она инстинктивно подалась назад, но было уже поздно.
Вспыхнул яркий луч карманного фонаря. Он ударил прямо в глаза, ослепил. Увидев перед собой молодую женщину с горящими обветренными щеками и выбившимися из-под платка завитками светлых волос, немец успокоился, отвел фонарь, подошел вплотную и потребовал документы.
— У меня нет документов, — ответила Ирена на отличном немецком языке. — Я их оставила дома.
— Ах, так! Что же ты здесь делаешь ночью? — спросил немец.
— Я еще вчера ушла за дровами и заблудилась.
— Заблудилась?! А где ты живешь?
— В деревне Уздау, под Нейденбургом. Зовут меня Эрна Шредер.
— В Уздау? Однако далеко ты забралась, Эрна! — Немец недоверчиво присвистнул. — Пойдем со мной, надо разобраться. Здесь запретная зона, посторонним ходить нельзя. — И немец махнул автоматом туда, где виднелись контуры большого барака и горел слабый свет.
«Вот и все! Поймали все-таки и почти у самого дома», — думала с болью Ирена, шагая за немцем.
Вдруг часовой резко обернулся, перекинул рывком с груди на спину автомат, противно захихикал и пошел на Ирену. Кругом стояла жуткая звенящая тишина. Даже лес, казалось, замер в испуге. Ирена попятилась назад, прижав руки к груди, лихорадочно соображала: «Что делать? Кричать? Не поможет. В бараках тоже немцы».
Когда солдат прижал ее к дереву, она процедила сквозь стиснутые зубы:
— Оставь меня в покое! Все равно не дамся!
Но солдат не обратил на эти слова никакого внимания. Она видела в предрассветном сумраке его нетерпеливые белесые глаза, пожелтевшие от табака зубы. Чувствовала на своем лице его частое дыхание. Он уговаривал, требовательно настаивал:
— Не упрямься, Эрна! Поцелуй же меня, малютка! Ну!
Ударить? Он застрелит ее, как собаку, хотя она и «немка». И это рядом с домом! После всего пережитого! Умирать так глупо. Но тут она вспомнила, что у нее в кармане нож. Им хозяйкина сестра Эмма резала свиней… Ирена достала его, когда солдат пытался повалить ее на снег. Шинель у него распахнулась, и Ирена с силой ударила немца в грудь. Нож вошел мягко и легко…
Немец взмахнул руками, захрипел. Его белесые глаза чуть не вылезли из орбит, удивленные, страшные. Он покачнулся и рухнул в снег. Запахло теплой кровью. У Ирены закружилась голова, к горлу подступила тошнота, ее затрясло, словно в лихорадке. Наконец она сообразила, что надо скорее бежать прочь от бараков: могут хватиться часового. Она кинулась в лес, не разбирая дороги, и бежала до тех пор, пока окончательно не выдохлась и не упала на снег. Ей показалось, что ее настигает погоня, что она слышит лай собак. Но подняться и бежать дальше уже не могла. Только медленно подползла к толстому стволу ближайшего дерева и тут же потеряла сознание.
Очнулась, когда в лесу было уже совсем светло. Прислушалась — тишина, лишь где-то далеко-далеко свистел паровоз. Цепляясь руками за неровный ствол дерева, Ирена с трудом поднялась, сделала шаг, другой. И пошла, проваливаясь до колен в сыпучий снег. Пот градом катился по лицу.
Кончился день, самый длинный день в ее жизни. А Ирена все брела, спотыкаясь о торчавшие из-под снега пни и кочки, но упорно, медленно продвигалась вперед.
Прошел еще день и ночь. Кончились Лидзбарские леса. И вот в бледной дымке зимнего утра перед затуманенными от усталости и голода глазами показались, наконец, знакомые силуэты домов. Первыми ее приветствовали старый замок, стрельчатая башня костела и крохотные домики рыбаков над уснувшей подо льдом Дзялдувкой.
Собрав остатки сил, Ирена добрела огородами до дома Граевских. Войти к ним сразу побоялась, пробралась в сарай, легла на сложенные в углу доски и тут же уснула. Разбудил ее скрип отворяемой двери: в сарай вошла пани Граевская. Поеживаясь от холода, — она была в одном платье, — стала набирать в передник дрова. Ирена хотела окликнуть Граевскую, но голос осекся, и она только застонала.
Пани Граевская выронила от испуга дрова, всплеснула руками, глухо вскрикнула:
— О, Езус, Мария, кто это? Сгинь, сгинь, нечистая сила, сгинь! Сгинь!
И несколько раз перекрестилась.
Ирена тихо и счастливо засмеялась. Все случилось так, как она и представляла. Пани Граевская опасливо подошла, узнала ее, но, все еще не веря своим глазам, спросила:
— Неужели и вправду это ты, Ирка?
— Я, пани Граевская, я! Где мои сестры? Живы? — допытывалась Ирена сиплым от простуды и волнения голосом.
— Живы и здоровы, моя кохана! Идем скорее в дом! Ты вся дрожишь…
— Там есть кто-нибудь чужой?
— Да нет же! Только старый и девочки. О, Езус, Мария! Езус, Мария! Вот радость-то…
— Тогда помогите мне подняться.
Ирена не помнила, как они вошли в дом, как ее мыли. Когда открыла глаза, то уже лежала на кровати, а около нее сидел постаревший дядя Костя. Пани Граевская заталкивала в пылающую плиту запачканный кровью полушубок и остатки башмаков.
— Дядя Костя, где Халина и Ядька?
— Очнулась, кохана! — обрадовалась пани Граевская. Подошла, отстранила мужа, села на край кровати и стала рассказывать:
— О, Езус, Мария! Когда тебя угнали, они прибежали к нам ночью, как были, в одних рубашонках, босиком. Морозище был жуткий, но, представь себе, даже не чихнули. Видно, с перепугу. Мы их отогрели, приласкали. Пожили они у нас недельку, потом приехала твоя тетка Марта и увезла их в Буркат. Так что не волнуйся, децко кохане, и быстрее поправляйся, — говорила пани Граевская, припав к Ирене. И, поглядев на мужа, прикрикнула:
— Ну что ты, старый, слезу пускаешь, как малое дитя? Следи лучше за печкой.
И пожаловалась Ирене:
— Совсем старый от рук отбился. Пить стал, с работы его выгнали. Недавно на рынке ввязался в разговор, почему мяса по карточкам не выдают, и как закричит на весь базар: «Откуда быть мясу, если последняя свинья в фольксдейчи записалась!» Как его не забрали, ума не приложу. Видно, фрицы считают, что он совсем свихнулся от пьянства, потому и не трогают…
Ирена улыбнулась.
— А как Юзеф, Леля?
— Они все там. Здоровы.
Под вечер Ирена впала в забытье. Стала бредить. Перепуганный дядя Костя ушел за лекарем, тем самым Зибертом из Перлавки, который уже однажды лечил Ирену. Зиберт осмотрел ее, покачал озабоченно головой и сказал Граевским:
— Мне кажется, у нее воспаление легких. Растирайте ей грудь, спину и ноги денатуратом… Она очень ослабла, но молодая. Надеюсь, выживет…
— О, Езус, Мария! — запричитала тетя Паулина.
— Да, чуть не забыл! — спохватился лекарь, собираясь уже уходить. — Надо бы ей побольше молока с медом. Сможете достать?
— Постараемся. Да вознаградит вас бог, пан доктор, — поклонилась пани Граевская. — Уж вы не говорите о ней никому…
— Не беспокойтесь!
Лекарь ушел, не взяв за свой визит ничего…
Ирена поправлялась медленно. Ей было хорошо у Граевских, но она боялась навлечь на них беду. Если фашисты пронюхают, им всем не сдобровать.
Паулина и дядя Костя, как могли, успокаивали Ирену:
— Не волнуйся! Никто не узнает, что ты у нас. К нам никто не ходит. Да теперь уже и недолго ждать. Пережить бы только эту последнюю зиму.
Что эта зима была последней военной зимой, никто больше не сомневался. Гралевцы уже знали о варшавском восстании, о том, что советские войска вместе с новым Войском Польским с лета стоят в Праге[15] над Вислой и что там идут жестокие бои. А в конце декабря 1944 года Ирене ночью почудился далекий, приглушенный рокот артиллерийских орудий. Осторожно, чтобы не разбудить спящую рядом Регину, она приподнялась на локтях и прислушалась. Да, действительно, была слышна орудийная канонада. От возбуждения Ирена не сомкнула глаз до утра. А утром поделилась своей радостью с Граевскими.
— Пани Паулина, дядя Костя, девочки! Я слышала сегодня ночью грохот канонады. Наши идут!
— О, Езус, Мария! — всплеснула руками пани Граевская. — Неужто и вправду начинается?
— Давно пора. Только не почудилось тебе, дочка? — усомнился дядя Костя.
— Нет, так могут греметь только мощные орудия!
Фашисты чувствовали, что скоро им придется убираться из Гралева, и свирепствовали вовсю. Участились облавы по ночам, грабежи. Ирена понимала, что не имеет права оставаться больше в доме Граевских.
— Дядя Костя, миленький, помогите мне добраться к нашим в Лидзбарские леса или в Буркат, — попросила Ирена.
— Слаба ты еще. Выдержишь ли долгую дорогу? — сомневался Граевский.
— Выдержу! — не унималась Ирена. — Здесь мне нельзя больше оставаться. Регина говорила, что Краузе уже откуда-то узнал о моем побеге. Проклятая Бестек могла прислать в магистрат Гралева бумагу о розыске. Краузе знает, что мы дружили с вами, и каждую минуту может нагрянуть сюда с полицаями. Я не имею права подвергать вас опасности.
— Немцы в последнее время так и рыскают кругом. Малейшее подозрение — и людей волокут в комендатуру. Никого из Гралева не выпускают, кохана. Чуют, холеры, что им скоро конец. Регинка пыталась было пройти незаметно на лыжах в Буркат, но полицаи ее задержали сразу за городом. Так-то, децко кохане! — вздохнула пани Граевская.
— А, может, попробуем, Паулина, — возразил жене дядя Костя, увидев помрачневшее лицо Ирены. — Чем черт не шутит, постараемся их обхитрить.
Он достал из-за шкафа припрятанную бутылку самогона и пошел к знакомому крестьянину, у которого была лошадь.
— Одолжи мне на завтра коня и сани, пан Вишневский, — попросил он, ставя на стол бутылку и положив рядом две большие мороженые рыбины. — Дочка меньшая вдруг заболела. Надо ее свезти в Перлавку к лекарю.
— Бери, только смотри, чтобы к полицейскому часу быть здесь.
— Не беспокойся. Все будет в порядке! — заверил дядя Костя.
Потом он отправился в магистрат за пропуском. Там как раз дежурил знакомый фольксдейч, которому дядя Костя не раз продавал рыбу. Он выписал Граевскому пропуск в Перлавку.
На следующий день пани Граевская надела на Ирену свое пальто, закутала ее платком по самые глаза, уложила на солому на самое дно саней, укрыла старым тулупом, перекрестила и сказала, утирая ладонью глаза:
— Ну, трогай, старый! С богом!
При выезде из города их остановили два полицая. Они потребовали пропуск, заглянули в сани и спросили у дяди Кости:
— Чем больна?
— Горячка у нее… Не может никак разродиться. К лекарю вот везу.
— Тогда проваливай, да поживее! Старик, а с бабой спать горазд, — загоготали вслед полицаи.
Ирена вся вспотела от волнения. Вдруг бы проверили, что за «роженица»? Ну, и дядя Костя! Несмотря ни на что, все такой же шутник и выдумщик.
Сестры и тетя Марта едва не задушили Ирену в объятиях. Они плакали и смеялись от радости, что она жива и вернулась к ним. Халина и Ядвига заметно окрепли и выросли за этот год.
Тетя Марта оставила Ирену у себя. Племянница была еще очень слаба. То и дело плакала безо всякой причины, ночами вскакивала с постели, пугая тетку и сестер. Ей снились кошмары. То прыщеватый Курт со своим волкодавом, то убитый ею немец с выпученными белесыми глазами, то взрывы и пожары. А иногда она будто наяву видела бескрайние снега, леса, черные контуры спящих фольварков и над головой далекие холодные звезды…
Как только Ирена немного окрепла, она отправилась в Лидзбарский лес в расположение партизанского отряда. Там, наконец, она увиделась с Юзефом и Лелей, встречу с которыми ждала с таким нетерпением. Теперь в партизанском отряде было уже более ста человек. Часть из них жила в лесу, в сторожках, а большинство в Буркате и окрестных деревнях под видом крестьян, нанявшихся на поденную работу к немецким бауэрам и помещикам, понаехавшим в здешние края.
Маскировка была превосходная. Когда фашисты прочесывали округу, они видели только батраков в поношенной крестьянской одежде и деревянных корках, мирно пасущих помещичий скот или работающих на полях. А помещикам и невдомек, что под боком у них те самые мстители, которые вот уже больше двух лет жгут беспощадно их фольварки, уводят из-под носа и прячут в лесу скот, нападают на немецкие эшелоны, обозы с оружием и продовольствием.
Юзеф с восторгом рассказывал о «Земсте»:
— Знаешь, Ирка, как его все любят и уважают! Франек, Стах, я да и другие ребята пойдут за ним в огонь и в воду. Только он строгий и не всех пускает на задание.
Ирена с грустью отметила, что Юзеф рано повзрослел. Лицо решительное, сосредоточенное, а пушок на лице только пробивается…
Юноши, действительно, все время рвались в бой. Узнав, что в Варшаве вспыхнуло восстание против немецких оккупантов, они надумали пробраться в столицу, чтобы помочь восставшим. И «Земсте» стоило немалого труда отговорить ребят:
— Еще рано открыто бороться с врагом, ребята. Поверьте мне, варшавское восстание обречено на неудачу, потому что им руководит кучка фанатиков из Лондона, которые никогда не нюхали войны, не знают, что такое голод, холод, гестапо, концлагеря. Не знают они и цены крови. Всю войну отсиживались за границей, а теперь вдруг надумали руками и кровью варшавян ускорить свое возвращение к власти и настроить нас против русских. Они ненавидят и боятся русских. Боятся, потому что знают — мы не допустим их больше к власти. Сами будем управлять своей страной. Русские нам помогут. Поэтому, ребята, не стоит зря рисковать жизнью. Потерпите до весны. Мы сразимся тогда с фашистами лицом к лицу.
И «Земста» оказался прав. Варшавское восстание длилось два месяца и закончилось поражением, несмотря на беспримерный героизм варшавян и страшные жертвы.
Лелю в отряде любили за веселый нрав и звонкий смех, за редкую красоту и необычную для девушки храбрость. Ирена сразу почувствовала эту общую любовь к подруге и в душе даже слегка позавидовала. Но главное, чему она завидовала, это участию Лели во всех делах отряда.
— Ты спрашиваешь, Ирка, что мы сделали за этот год? — Леля чуточку помедлила, припоминая: — Да, вроде, немало. Пустили под откос четыре эшелона и взорвали железнодорожный мост через Дзялдувку вблизи Нажима, по которому шли все поезда из Германии на восток. Фрицы чинили потом мост две недели. Это, пожалуй, самая крупная наша победа. Мост взрывали «Земста», Франек, Юзеф и я, — сказала с гордостью Леля. — «Земста» не хотел меня брать на задание, но я настояла. А скоро мы взорвем Кисинскую комендатуру, где хранятся списки жителей Гралевского района, которых немцы собираются уничтожить или угнать в Германию. Рядом с комендатурой два барака. Там томятся под стражей около трехсот человек. Комендатуру и бараки охраняют эсэсовцы. Но ничего! Оружия разного, взрывчатки и гранат у нас теперь достаточно, да и опыта хватает. Справимся с гадами, — сказала уверенно Леля.
В конце концов девушки, как и раньше, заговорили о самом сокровенном.
— Я верю, Леля, — мечтательно говорила Ирена, — мы снова будем учиться, работать. И обязательно поедем путешествовать. И еще… сможем любить, кого захочет сердце.
— Кого захочет сердце, — задумчиво повторила Леля и покраснела.
Ирена заметила это и задала вопрос, который давно вертелся у нее на языке:
— Тетя Марта намекнула мне, что пан Казимир к тебе неравнодушен, что его будто подменили с тех пор, как ты появилась в отряде…
— Глупости все это! — зарделась смущенная Леля.
— Почему? — засмеялась Ирена. — Ты красивая! Тебя не мудрено полюбить, Лелька! Ты умная, веселая и отчаянная! Помнишь, как удрала с фабрики? А как ты поешь!
— Перестань, — попросила Леля. — «Земста» такой, такой… В общем, непохожий ни на кого.
— Он тебе нравится, да? — не унималась Ирена. — Какое счастье, должно быть, пройти жизнь с любимым человеком. Разве это не так?
— Не знаю. Быть может, и так, — перестала вдруг спорить Леля. — Видно, не зря меня дразнили «ведьминой дочкой», раз я очаровала самого пана Казимира. Только ни к чему это. Я «Земсту» очень уважаю, но ему уже далеко за тридцать. И потом…
Леля явно чего-то недоговаривала.
— Что потом?
— Мне нравится Стах Каминский, — призналась вдруг Леля.
— Неужели влюбилась? — ахнула Ирена.
— Не знаю… Стах такой веселый и интересный. Он так красиво говорит о любви…
— Эх, Лелька, Лелька! Ничего-то ты не понимаешь! «Земста» сумел бы сделать тебя счастливой… А Стах мальчишка.
— Ну, что я могу поделать? — сказала Леля, чуть не плача. — Жалко его, а сердцу не прикажешь. И потом он мне и не заикнулся о своей любви. Не пойму я его! Недавно своими ушами слышала, как он ответил одному из ребят, что любовь и война — несовместимы, что с этим надо подождать до конца войны. А сам при встрече смотрит на меня, как на образ, и молчит, душу мне терзает. А со Стахом мне легко. И давай не будем больше об этом говорить.
Кисинская операция удалась. Партизаны подпилили телеграфные столбы, чтобы оборвать связь с Гралевом, Млавой, Цехановом и другими близлежащими селами и городками, взорвали комендатуру, склад с боеприпасами и выпустили из бараков на волю всех узников. Часть освобожденных разбежалась по своим деревням, а часть укрылась в Лидзбарских лесах.
У отряда «Земсты» стало традицией после каждой вылазки, будь то зимой или летом, собираться у огромного костра в чаще Лидзбарского леса. Они обсуждали подробности операции, подшучивали над теми, с кем случались казусы, вспоминали с грустью дом, родных.
Ирена жила теперь делами партизанского отряда и по мере сил помогала ему. Сборы у костра она особенно любила. Родной лес обступал их со всех сторон сплошной стеной. Пляшущие тени от кустов и огромных елей создавали впечатление чего-то необычного, сказочного. Лица партизан, освещенные красноватыми отблесками огня, казались отлитыми из бронзы. О близком конце войны говорили как о деле решенном. Еще 22 июля 1944 года в освобожденном городе Хелм Краевой Радой Народовой был создан Польский Комитет Национального Освобождения — временный орган исполнительной власти. Теперь Комитет перенес свою резиденцию в город Люблин и взял там власть в свои руки.
Время понеслось вдруг с невероятной быстротой.
Освобождение
Артиллерийская канонада усиливалась с каждым днем. И если наступало кратковременное затишье, то оно уже пугало. Гралевцы облегченно вздыхали и лица их прояснялись, когда орудия начинали вновь свою перекличку. Значит, фронт приближается, а с ним и долгожданное освобождение.
Советская Армия и наступавшее вместе с ней Войско Польское освободили больше половины польских городов и сел. Шли ожесточенные бои за Варшаву. Она была охвачена морем огня и взорвана фашистами почти полностью. Такая же участь ожидала и другие польские города, но войска второго Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского наступали так быстро, что не давали осуществиться подлым замыслам оккупантов.
С десятых чисел января 1945 года немцы от мала до велика выгнали всех жителей спиливать в парке деревья, жечь костры, чтобы отогреть глубоко промерзшую землю и рыть вокруг Гралева окопы. Линия фронта подошла вплотную к городу. Соседние — Насельск, Цеханув и Млава были уже свободны. Гралево лежало всего в трех километрах от старой восточно-прусской границы, и немецкому командованию было приказано именно здесь занять оборону. Городу предстояло вынести все тяготы фронтовой полосы.
Засыпанный снегом, скованный морозом городок снова наполнился, как пять с половиной лет назад, шумом и грохотом. Только не от барабанного боя и победных бравурных песен. Грохот создавали санитарные и товарные составы, которые один за другим, не задерживаясь, проносились мимо маленькой гралевской станции к бывшей немецкой границе, нетерпеливые гудки сотен автомашин, переполненных ранеными, груженные ящиками с награбленными у поляков произведениями искусства: картинами из варшавских музеев и дворцов, гобеленами, фарфором. Машины с трудом пробивали себе дорогу среди пеших немецких беженцев, которые тоже стремились к старой немецкой границе. Фабрика дождевиков спешно эвакуировалась в Гамбург. Туда же угнали и триста гралевских работниц.
Ирена с сестренками вернулась в Гралево пятнадцатого января. «Земста» с партизанским отрядом освобождал от полицаев и немецких помещиков близлежащие от Гралева и Бурката фольварки и деревни, чтобы они достались польскому народу целыми, неразграбленными. В дальнейшем «Земста» думал влиться с отрядом в ряды Войска Польского и идти на запад до самого Берлина.
Ирена с сестренками осторожно пробралась к своему дому. Убедившись, что ненавистный Краузе сбежал, они вошли в квартиру. Долго оставаться здесь было опасно, и сестры укрылись в подвале. Но даже его толстые стены содрогались от артиллерийского обстрела. Свеча то и дело гасла, воздух подвала наполнялся густой угольной и известковой пылью. На улицах города на снегу чернели трупы. Хоронить немцев было некому, и с ними расправлялось голодное воронье.
…18 января 1945 года с раннего утра через Гралево шли последние немецкие машины и фургоны с ранеными. Яростно лязгали, перемешивая грязный снег, гусеницы танков, громыхали самоходные орудия, тягачи… Потом наступила тишина.
Ирена, чтобы не пропустить прихода своих, то и дело оставляла сестер и выходила из подвала наверх. На город уже опускались ранние зимние сумерки, и в их зыбком свете Ирена, наконец, увидела танки. Они шли со стороны Княжего Двора и казались громадными. Им было тесно на узеньких улицах Гралева, местами они сбивали каменные ступеньки подъездов. Лязгая гусеницами по разъезженной мостовой, разбрызгивая вокруг грязную снежную кашу, танки пронеслись мимо дома Ирены. На их башнях она увидела красные звезды. «Вот и все, — облегченно вздохнула Ирена. — Теперь можно спать спокойно, город свободен».
А русские танки все шли и шли большой колонной в сторону Перлавки к старой немецкой границе. Заиндевелые и почерневшие от копоти, с вмятинами от снарядов, они сотрясали мостовые, и ничего не было слышно, кроме этого грохота. Потом показалась кавалерия. И тут среди всадников Ирена узнала польских солдат. Да, это были уланы! Знакомые эмблемы, трепещущие по ветру флажки на длинных пиках. Кони идут будто в ногу. Из их ноздрей валит пар, он виден даже в густых сумерках.
Ирена распахнула дверь и закричала:
— Сердечне витамы вас, дродзы жолнеже! Денькуемы вам, кохани![16]
Два всадника отделились от эскадрона и подъехали к ней.
— Здравствуй, девушка! Да вознаградит тебя бог за добрые слова! — сказал один из них на польском языке.
— Мы вас так ждали, так ждали! — и плача и смеясь, говорила Ирена.
— А где же горожане? — спросили обеспокоенные уланы. — Город кажется пустым. Люди живы?
— Да, но отсиживаются в подвалах.
Уланы пришпорили коней. А Ирена побежала к сестрам.
— Там, наверху уже наши! Понимаете, наши!!! — закричала она.
— Наши? — не поверили Халина и Ядя.
— Ну, да: уланы! Они и русские. Идемте скорее наверх!
В квартире Ирена первым делом нашла кусок белой материи, оторвала от наперника полосу красной и сшила из них два небольших флажка, которые прикрепила у своих окон, выходивших на улицу. Но флажки показались ей маленькими, малоприметными. Халина отыскала в спальне за шкафом огромное свернутое гитлеровское знамя, оставленное там сбежавшим Краузе. Не долго думая, сестры спороли свастику, подшили к красному полотнищу простыню, прибили гвоздями к древку и собирались было укрепить его на крыше.
— Давай вывесим его на ратуше, — предложила вдруг Ядька.
— А, может, лучше на замке? — сказала Халина. — Оно будет видно отовсюду.
— Правильно! Молодец! Лучше не придумаешь, — обрадовалась Ирена.
Они бегом направились к замку и укрепили флаг в одной из его бойниц. Он был хорошо виден, и проезжавшие мимо воинские части салютовали ему, а уланы опускали длинные пики с желтыми флажками на концах.
Ирена полюбовалась замком. Белый от морозного инея, он весь светился в зареве пожаров и казался от этого еще более величественным и таинственным. Замок крепко пострадал. Снаряды изрыли весь холм, бомба снесла одну из самых красивых башен: круглую, стройную на восьмигранном основании. Она лежала теперь у подножия замка кучей битого кирпича. Без башни замок казался другим, стал как будто выше. «Сколько же он видел и вынес на своем веку?» — подумала с нежностью Ирена.
В квартире Ольшинских гулял ветер. Стекла в окнах были выбиты, со стен и потолков обвалилась штукатурка. Сестры принялись за уборку, и вскоре квартира приняла более или менее жилой вид.
На рассвете сестер разбудил странный шум на улице. Послышалась немецкая речь. Халина спрыгнула со своей кровати, подбежала к Ирене, прижалась к ней и испуганно зашептала:
— Немцы вернулись! Мне страшно, Ирка.
Ирена спустилась по лестнице вниз и выглянула на улицу. Она увидела бесконечную колонну пленных немцев, которых вели к вокзалу. Русские конвоиры покрикивали:
— А ну, давай, шнель, шнель! Не отставать, фрицы!
Наконец колонна пленных скрылась за углом улицы, и стало тихо.
Сестры снова заснули, а Ирена лежала и думала об отце. Где он сейчас? Жив ли? Только о Стефане вспомнила на один лишь короткий миг и тут же забыла. Будто и не было его на ее пути…
Утром их разбудил нетерпеливый стук в дверь. «Кто бы это?» — встревожилась в первую минуту Ирена. И, накинув на плечи пальто, торопливо спустилась вниз. Однако открыла не сразу. Притаилась, прислушалась.
— Видно, там никого нет? — произнес за дверью какой-то незнакомый мужской голос. — Не могут же они спать так крепко.
— Нет, они дома, — пробасил другой, знакомый, но сиплый от простуды голос. — Разве не видишь, окна забиты и занавешены изнутри. Давайте, ребята, закричим все вместе, иначе замерзнем. Ирена! Открой! Тут свои!
— Юзеф, милый! — Ирена с трудом отодвинула железный засов и увидела брата, Стаха, Франека и еще двоих ребят из отряда «Земсты».
— Живы? — спросил Юзеф. — Почему так долго не открывала?
— Боялась, — призналась Ирена. — Думала, чужие.
— Эх, ты, бояка! — засмеялся Юзеф. — Пошли, ребята! Сейчас Ирка нас чем-нибудь накормит и напоит. Перевяжем Франека, отдохнем. Хорошо?
— Идет, — согласились они.
Ирена засуетилась вокруг гостей. Она затопила на кухне плиту и поставила огромный бак с водой. Потом разогрела оставшуюся от ужина кашу, сварила кофе.
Ребята вымылись, поели. Ирена сняла с головы Франека грязный бинт, промыла рану, перевязала ее чистой полоской полотна, оторванной от старой простыни. Поев, ребята заснули, как убитые.
К вечеру прибежала Леля. Подруги обнялись, всплакнули от радости. Потом посовещались и решили организовать праздничный ужин, пригласить Граевских, хозяев дома и, конечно, «Земсту», отметить встречу в освобожденном городе.
Ирена с Лелей напекли румяных и хрустящих картофельных оладий. Пани Бернась принесла пачку настоящего чая и баночку черничного варенья, а дядя Костя — бутылку крепкого самогона и красное трофейное вино. Пан Казимир принес с собой немного масла, кружок колбасы, консервы. За столом собралось шестнадцать человек.
Дядя Костя встал, поднял рюмку и сказал:
— Выпьем, панство Бернась, и ты, Ирена, и вы, уважаемый пан Казимир, и вы, дети мои, за нашу счастливую встречу в городе, за победу, за вашу радостную жизнь, за ваше счастье… — тут голос дяди Кости осекся, он расплакался и чуть не выронил рюмку.
— Спасибо, дорогой пан Граевский. Вы верно сказали. Выпьем за победу, за радость и за счастье! — подхватил его тост Казимир Малек. — Пейте, дорогие друзья!
Трофейное немецкое вино было кислое и терпкое, но все осушили рюмки до дна. И каждый подумал в этот миг о своем. Ирена, Юзеф, Франек и Стах вспомнили родителей, которых у них отняла война. Родителей Франека расстреляли в варшавском гетто еще в начале войны, а родные Стаха умерли от голода в Млаве прошлой весной.
Пани Паулина, будто угадав мысли ребят, вздохнула и сказала:
— Жаль, нет родителей ваших за этим столом. Мать, горемычная, не дождалась, а Бронек пропадает где-то в фашистских лагерях. Да, многих поломала, покорежила и разбросала по свету проклятущая война.
И заплакала.
— Зато смотрите, как молодежь выросла и возмужала, — сказал «Земста». — Теперь им уже ничто не страшно. Кончится война, начнут учиться, работать…
Юзеф и его друзья переглянулись.
— Мы поедем в Варшаву, — сказал он. — Мы это решили еще в Лидзбарских лесах. Варшава разрушена, сожжена. Поможем ее отстроить.
— Верно решили, — поддержал Юзефа и его друзей «Земста».
— И я поеду, — заявила Леля.
— Что ж, перед вами теперь открыты все пути. Выбирай любой. — И пан Казимир с грустью посмотрел на Лелю.
Ирена тоже поглядела на Лелю. Ее красивое, смуглое лицо раскраснелось от выпитого вина. Ирене вдруг захотелось послушать ее пение, и она попросила:
— Спой нам, Леля. Я так давно не слышала твоих песен.
— Да, спой, — все хором поддержали Ирену.
И Леля, быстро взглянув на Стаха, запела:
Разквитали понки бялых руж, Вруть, Ясеньку, с тэй военки, юж. Вруть, уцалуй, як за давних лят бывало, Дам ти за то ружи найпенкнейшей квят…Грудной, низкий голос Лели послушно и точно передавал состояние ее души. Это была песня о них, о молодых, о первой робкой любви, о только что пережитом.
Ясенькови ниц не тшеба юж, Бо му квитно понки бялых руж. Там, под лясом, где в военце падл, Вырусл на могиле бялей ружи квят.[17]За первой песней вспомнились другие. Пели до позднего вечера.
«Земсте» не удалось уйти на запад вместе с Войском Польским. В Гралеве он оказался нужнее.
В первую очередь надо было рассчитаться с теми фольксдейчами, которые не успели удрать из города. Пока новые власти разберутся, кто и как из гралевцев вел себя в оккупации, многие предатели успеют сбежать и их потом не найдешь. Потом пришлось дать отпор объявившимся невесть откуда силам реакции, пытавшимся во что бы то ни стало захватить власть и сохранить в Гралеве старый общественный режим. Против этого решительно выступил бывший командир партизанского отряда «Земста».
В феврале пан Казимир Малек стал председателем народного городского Совета. Первым делом он открыл школу, считая, что это одно из самых важных дел, не менее важное, чем восстановление города и взорванной немцами железнодорожной линии Варшава — Гралево — Гданьск. Затем все гралевцы вышли на работу по очистке городских улиц от завалов. Там, где еще недавно чернели груды покореженного железа, камней и кирпича, стали появляться улицы и скверы. Гралевцы сажали деревья и цветы. Покрасили все уцелевшие дома вокруг старинной ратуши, и они выглядели теперь нарядно, празднично. Обновили и герб святой Катерины над парадной дверью ратуши. Теперь фон портала стал светло-голубым, платье — пурпурным, а плащ — позолоченным. Жизнь в городе налаживалась.
Юзеф давно уехал в Варшаву на строительство. Ирена работала переводчицей в магистрате и секретарем в загсе. Проводив в школу сестер, Ирена отправлялась на работу. Шла не торопясь, она любила пройтись по утреннему городу. Была весна. Глыбы серого пористого снега, пригретого солнцем, с шумом скатывались с островерхих крыш и быстро таяли, растворяясь в мутных ручьях. От талой земли, молодой зелени шел дурманящий запах. По высокому небу плыли легкие, ватные облака. Они отражались в освободившейся ото льда полноводной Дзялдувке, в синеве окрестных озер. Прилетели птицы. Они искали прошлогодние гнезда и, не найдя их, шумно строили новые. Вернулись аисты, и вскоре в их новом гнезде на крыше замка появились аистята.
В ту весну Ирене все казалось необычным, обновленным. Другими стали и гралевцы. Мазуры словно проснулись от долгого сна. Их дети учились в школе и гимназии, где за учебу теперь не нужно было платить. Они не зависели, как прежде, от панов Дверских и Потоцких. Работы было теперь сколько угодно.
Однажды, выйдя из магистрата, Ирена чуть не столкнулась с проходившим мимо паном Казимиром Малеком.
— День добрый, панно Ирено, — поздоровался он, обрадованный неожиданной встречей. — Куда вы так спешите?
— День добрый! — улыбнулась Ирена. — Спешу домой.
— Тогда нам с вами по пути. Мне надо в гимназию, на собрание. Провожу вас немного.
Они пошли по улице Свободы. Пан Казимир Малек кивнул на закладки двух новых домов, что вырастали около вокзала на месте разобранных бараков.
— Приятно глядеть, как жизнь у нас налаживается, не правда ли?
— Да.
— Только все не так просто, как нам с вами видится…
И пан Малек озабоченно вздохнул.
— Почему? — спросила Ирена.
— А потому, панно Ольшинская (пан Казимир, зная историю ее замужества, никогда, не в пример другим знакомым, не называл Ирену пани Брошкевич), что нам нужно не только строить и восстановить разрушенное, но и создать другой, совсем новый общественный строй…
— И вы боитесь, что мы не создадим этот строй?
— Нет, почему же? Создадим, обязательно создадим, но не так скоро, как бы хотелось, — говорил взволнованно пан Малек. — Реакционные силы так и лезут из каждой щели, мешают нам. Вы читали последние газеты?
— Да, я читала в «Глосе працы» ваше обращение к гралевцам. Вы говорите, что построить новый общественный строй можно только путем проведения демократических реформ, разработанных Польской Рабочей Партией. Извините, пан Казимир, я плохо разбираюсь в политике, но мой отец до войны был членом Народной Рабочей Партии. Это то же самое?
— Не совсем. Та была народная, а эта коммунистическая партия. Ваш отец боролся больше за национальные права мазурского народа, за улучшение его быта, а коммунистическая партия борется за развитие и улучшение жизни всего польского народа без каких-либо национальных различий. В Гралеве сейчас пока мало членов этой партии, и поэтому нам трудно. Мы должны приобщить к нашему делу всех простых людей. Должны помочь им разобраться в главном, чтобы они не попали под влияние враждебных нам элементов. Наша страна будто рождается вновь, и надо помочь ей стать сильной, богатой.
Ирена слушала пана Малека и ей припомнился отец. Жив ли? Он бы, наверное, думал и действовал так же, как пан Казимир. Она поделилась своими мыслями и тревогой с «Земстой».
— Все возвращаются домой, а отца нет, — вздохнула Ирена.
— Вам известно, куда его увезли?
— В сорок третьем был в Кенигсберге. Но этот город давно свободен.
— А в Красный Крест вы обращались?
— Нет.
— Тогда напишите туда. Если ваш отец жив, его найдут.
— Я напишу. Сегодня же, — обрадовалась Ирена.
— Как Юзеф? Пишет?
— Редко. Сами знаете, как сейчас работает почта. Письма из Варшавы идут к нам неделями, — пожаловалась она.
— Ничего, скоро и это наладим. Вот-вот кончится война, бои идут уже на подступах к Берлину. Слыхали?
— Да. Скорей бы!
— Вот и ваш дом, панно Ольшинская. Ну, я пошел, — сказал пан Казимир. Но не уходил, и Ирена догадалась, почему.
— А как поживает панна Леля Граевская? — услышала Ирена спустя минуту его тихий взволнованный голос. — Я ее с зимы не встречал. Все собираюсь к ней сходить… да некогда.
— Леля сейчас в Млаве, — ответила Ирена. — Поступила в медицинское училище, хочет стать врачом. Ей прямая дорога в музыкальное училище, сами знаете, какой у нее чудный голос, но она об этом и слышать не хочет. Писала недавно, что осенью перейдет на заочное отделение и вернется в Гралево. У них дома нужда выглядывает из каждого угла. Отец пьет, не работает, а пани Граевской и Регине трудно кормить такую большую семью.
— Будьте добры, узнайте, чем я могу им помочь. И дайте мне адрес панны Лели.
Пан Малек достал из кармана блокнот и протянул его Ирене.
— Пожалуйста, — она написала адрес подруги.
Они пожали друг другу руки, и пан Малек ушел, не оборачиваясь.
Ирена послала запрос в организацию Красного Креста и стала терпеливо ждать ответ. Но неожиданно получила известие от самого отца. Коротенькую записку, написанную, правда, еще позапрошлой зимой, принес один из гралевчан, недавно вернувшийся из Германии. Отец писал, что его перевели из трудового лагеря дальше на запад, в Трептов на Реге близ Кезлина, где он работает конюхом у крупного немецкого помещика. Ирена еле разобрала адрес: Банхофштрассе, 17.
Сестры разложили на столе большую немецкую карту, оставленную Краузе, и стали искать Трептов на Реге. Это оказался крохотный городишко на северо-западе Померании.
— Послушайте, девочки, а не поехать ли мне туда, а? Может, я сумею разыскать тато? — сказала Ирена.
— Поезжай!.. — оживились сестренки. — Поезжай!
Ирена отпросилась на работе и ранним апрельским утром отправилась в путь.
Товарняк еле плелся. За трое суток он прошел, наконец, эти пятьсот километров до Трептова на Реге. Это был городок немногим меньше Гралева. Еще неделю назад здесь шли бои. Разрушенный, пустой, он кое-где дымился. Ирена долго плутала по разбитым улицам, пока не увидела дощечку с надписью «Банхофштрассе». А вот и нужный ей дом. Каменный двухэтажный дом цел, но был пуст. Только стекла в его окнах выбиты и рамы перекосились. Ирена обошла кругом, заглянула в окна. Никого. Во дворе увидела длинные и тоже пустые конюшни. «Здесь, наверное, жил тато, — подумала Ирена, и сердце ее сдавила тревога. — Надо узнать, куда бежал хозяин дома». Она снова вышла на Банхофштрассе и увидела, как в уцелевшем доме напротив в окне быстро опустилась занавеска. Недолго думая, Ирена постучала в дверь, потом еще раз, настойчивее. Появился старый немец в повязанной крест-накрест клетчатой шали. Ирена спросила по-немецки:
— Не скажете, где хозяин этого дома?
— Не знаю, я ничего не знаю, — залепетал старик.
— Может, припомните?
— Нейн! Нейн!
— Тогда, может, вы знали его конюха? Поляк, высокий, светловолосый, уже немолодой. Его звали Бронислав. Бронислав Ольшинский…
— Бруно? Как же, знаю! Бруно каждый день водил коней герра Юриша к Реге на водопой. У Бруно были больные ноги, он сильно хромал. Очень хороший манн, — торопливо отвечал немец.
— А где он сейчас?
— Герр Юриш еще в феврале уехал из Трептова и увез с собою всех коней и работников. Куда уехал, не знаю. Моя жена Ирма говорила, что у герра Юриша еще одно поместье под Гановером… Мы с Ирмой бедные люди, нам некуда ехать. И мы надеемся, что фрейлен пришла не за тем, чтобы выгнать нас из дома? — спросил, заискивающе улыбаясь, немец.
— Мне ваш дом не нужен, — успокоила его Ирена. — Я ищу своего отца.
Она пошла обратно к вокзалу и не видела, как лицо старого немца стало вдруг мрачным и злым.
Возвращалась назад тем же товарным поездом. Он ходил, как вздумается, без расписания. Ирена устроилась на открытой платформе, битком набитой людьми.
Было начало мая. Солнце пригревало совсем по-летнему. Ирена с интересом глядела на проплывающую по обеим сторонам Померанию. Аккуратную, разлинованную Померанию, где уютные домики утопали в лиловой сирени. Теперь это была польская земля. Рядом с немецкими названиями станций уже появились польские, написанные краской, а где мелом или углем. И везде, куда ни посмотришь, следы панического бегства немцев. На полях и в перелесках сотни перевернутых машин, обгорелых и искореженных танков с опущенными к земле хоботами замолкших навсегда орудий. В кюветах, упираясь тупыми носами в цветущий кустарник, стояли изрешеченные пулями и осколками штабные автобусы, грузовики. Поезд шел по местам, где еще недавно бушевала война.
Часть пути Ирене пришлось идти пешком по шоссе. Поезд дальше не пошел из-за неисправности моста. И она влилась в толпу пешеходов. Тут были и поляки и немецкие беженцы. Беженцы были напуганы и безразличны ко всему окружающему, на рукавах у них белые повязки — знак капитуляции. Немцы уходили из городов и сел Померании дальше на запад, к своим.
Увидев идущие навстречу части русской пехоты, беженцы бледнели и испуганно жались к обочинам дороги. Но русские солдаты, выйдя из колонн, совали немецким детям хлеб, сахар, консервы и говорили при этом, смешно путая русские и немецкие слова:
— Битте, кушай, киндер! На, битте! Твой Гитлер все равно капут!
На четвертый день путники подошли к переправе. Одер словно кипел и клубился — такое было сильное течение. А его берега — в розово-белых шапках расцветших садов. К переправе потоком шли машины. И вдруг разноголосый шум толпы и рокот моторов перекрыл неожиданный грохот артиллерийских орудий.
— Боже, что это? — послышалось кругом.
— Езус, Мария, Юзефе святой, спаси нас, грешных!
Люди ринулись к мосту. Понтонный мост с шатким деревянным настилом не смог бы выдержать неожиданный натиск сотен перепуганных людей.
— Назад, граждане! Сохраняйте порядок и спокойствие! Это салют в честь победы, война окончена! — пронесся над толпою чей-то зычный голос.
Мгновенно стало тихо. Потом раздались взволнованные возгласы:
— Салют победы?
— Не может быть!
— Неужели вправду война кончилась?
— Да, кончилась! Сегодня утром Германия капитулировала, — оповещал в рупор все тот же зычный голос русского офицера, стоявшего у контрольно-пропускного пункта на спуске к мосту. — С победой, товарищи!
— Ура-а-а!!! — подхватила толпа. — Ура! — И поток людей понес Ирену на мост. Он ходил под ногами ходуном, трещал, но каким-то чудом держался. Вскоре его охране удалось навести кое-какой порядок. И два потока людей, военных и гражданских, прижимаясь к деревянным перилам, пошли навстречу друг другу. Одни — на левый, другие — на правый берег Одера. Когда в наступающих сумерках в небо взвился разноцветный фейерверк, все остановились. Россыпь зеленых, желтых, красных и синих огней повисла над потемневшей рекой. Они летели букетами к небу, падали, сыпали на головы людей дождь золотых искр и гасли с легким шипением в Одере. Не переставая, торжественно и ликующе били вокруг орудия, и людям казалось, что сейчас весь мир состоит из этих ликующих звуков и огней. Кто-то из поляков запел гимн, и тут же все остальные подхватили его. «Марш, марш, Домбровский, с земли итальянской на польскую…» Мелодия гимна, запомнившаяся с детства, была величественная и прекрасная, как этот победный салют.
Ирена плакала. Кончилась война. Две тысячи семьдесят девять дней войны и фашистской оккупации остались позади. Было это девятого мая 1945 года.
Вернувшись из Трептова, Ирена еще раз написала в Варшаву в организацию Красного Креста. Наряду с тревогой о судьбе отца ее подсознательно мучил вопрос, что стало со Стефаном? И в своем вторичном запросе Ирена просила сообщить ей и о пане Брошкевиче. На этот раз ответ пришел быстро. Ей написали, что о Брониславе Ольшинском новых данных нет, но не следует терять надежду. А Стефан Брошкевич, как удалось установить по найденным в Познани немецким архивам, умер в штрафном лагере, как заключенный под номером 1284.
У Ирены словно огромная тяжесть свалилась с плеч.
Андрей
Ирена сдала экзамены и стала студенткой гралевского педагогического техникума. Мечта ее сбывалась.
В выходные дни техникум часто устраивал воскресники. Студенты разбирали развалины, выходили с кирками и лопатами за город и засыпали траншеи и окопы. Вместе со студентами и школьниками трудились приехавшие русские и польские солдаты.
Однажды, недалеко от того места, где работала Ирена, взорвалась мина. Один студент зацепил лопатой торчащий из земли ржавый провод, потянул его. Раздался взрыв. В небо взметнулся фонтан земли и осколков. Студент погиб, ранило еще нескольких ребят и девушек, в том числе и Ирену. Осколок попал ей в ногу чуть выше колена. Рана сильно кровоточила. Ирена сняла с головы косынку, завязала рану, но повязка быстро намокла от крови. К месту происшествия уже спешили русские и польские солдаты, подъехали машины.
— Вы ранены? — спросил у Ирены молодой польский капитан. — Идти сможете?
— Пустяки, пан капитан, — ответила тихо Ирена и покачнулась.
— Носилки сюда! Живо! Везите ее в наш госпиталь.
Ирена попыталась было отказаться от помощи, но ее не слушали. Положили на носилки, а потом вместе с остальными ранеными увезли в госпиталь.
Раненых было пятеро, двое из них тяжело. Их тут же понесли в операционную. Ирена терпеливо дожидалась своей очереди, лежа в коридоре на носилках. Было досадно, что ее так нелепо зацепило осколком. Наконец, пришли и за ней. И тут от боли и крепкого запаха йодоформа все вдруг поплыло у нее перед глазами, и она потеряла сознание. Очнулась уже на операционном столе, увидела озабоченное лицо врача. Он держал в высоко поднятой руке, обтянутой резиновой перчаткой, шприц и что-то говорил операционной сестре. Над переносицей врача, под надвинутой по самые брови белой шапочкой образовалась глубокая вертикальная складка. Ирена, лежавшая в одной коротенькой рубашке, застеснялась своей наготы, пошевелилась, пытаясь натянуть повыше простыню. Но в этот миг ее пронзила нестерпимая, резкая боль. Ирена застонала.
— Спокойно! Потерпите еще немного, — сказал врач. И обратился к сестре: — Щипцы, пожалуйста!
Звякнул металл. И сразу стало легче, боль притупилась.
— Вот и все! — Врач устало вздохнул и стянул с лица маску.
— Вы? — удивилась Ирена. Она узнала в нем того самого польского капитана, который велел солдатам везти ее в госпиталь.
— Да, я.
Он улыбнулся Ирене, взял ее руку, сосчитал пульс и сказал:
— С ногой у вас теперь все в порядке. Через месяц сможете танцевать. А это возьмите на память. — И он подал Ирене темный кусочек металла с зазубренными острыми краями.
Ее отвезли в палату. Рана заживала быстро. На третью неделю Ирену выписали домой. За все время, пока лежала в госпитале, она ни разу не видела того врача, который ее оперировал. Все ждала, что он войдет к ней в палату (ей почему-то очень этого хотелось!), улыбнется и спросит: «Как ваше самочувствие, паненко?»
Но он не приходил. Вместо него ей делал перевязки другой врач.
Выписываясь из госпиталя, Ирена спросила дежурную сестру:
— Скажите, пожалуйста, как фамилия того врача, который меня оперировал?
— А зачем вам это?
— Хочется поблагодарить его.
— Он уехал. И когда будет, не знаю, — ответила почему-то сердито сестра.
В конце сентября Ирена получила приглашение в клуб. Там устраивался вечер в честь советских и польских солдат и офицеров, освобождавших город.
Ирена долго думала, идти ли ей на этот вечер. Одной там неинтересно, была бы Леля… Да и занятий она много пропустила за время болезни, надо нагонять. Села писать сочинение по книге Пруса «Кукла», но дело подвигалось плохо. Ирена махнула с досады рукой, надела свое лучшее платье, причесалась и пошла в клуб.
Вечер только что начался. После многочисленных теплых речей, тостов и шумного ужина началась забава[18]. Ирена не умела танцевать, села в сторонке под большим олеандром и стала наблюдать за кружащимися парами. Духовой оркестр исполнял какой-то незнакомый, но очень хороший, задушевный мотив. Может быть, от этой музыки, от той сердечности и доброжелательности, с какой все русские и поляки обращались друг к другу, а может быть, от двух бокалов выпитого ею вкусного вина, у Ирены вдруг пропала скованность, с которой она сюда вошла. Все показалось ей вдруг необычным и красивым: люди, убранство зала, музыка, певучий русский говор.
В фойе висело большое зеркало. Ирена подошла к нему, чтобы поправить выбившуюся прядку волос, да так и застыла с поднятой вверх рукой: позади нее стоял знакомый врач. Он с минуту пристально разглядывал Ирену, потом улыбнулся своей доброй улыбкой и обрадованно воскликнул:
— О, старая знакомая! Здравствуйте, паненко!
— Здравствуйте, пан доктор!
— Как ваша нога? Не беспокоит?
— Нет. Я уже и забыла о ней.
— Тем лучше! Тогда позвольте вас пригласить на танец?
— Я не танцую, пан доктор. Не умею, — тихо призналась Ирена, и лицо ее зарделось.
— Жаль. Ну тогда разрешите с вами посидеть. Можно?
Ирена молча кивнула. Она испытывала какую-то странную робость.
Офицер принес стул и уселся рядом. Ирена ловила на себе его пристальные взгляды, и это смущало ее еще больше. Некоторое время они молчали. Но вот он спохватился, поднялся со стула.
— Простите, паненко! Забыл представиться. Капитан Андрей Иванов.
— Очень приятно. Ирена Брошкевич, — тихо отозвалась она, протянув ему холодную от волнения руку. Услышав его фамилию, недоуменно подумала: «Почему Иванов? Он же поляк».
— У вас красивое имя, Ирена, — заметил капитан, не отпуская ее руки. — Может, все-таки потанцуем? Это совсем не трудно, я вас научу. Пойдемте, панно Ирено.
— Хорошо, попробуем. — Ирена поднялась.
Офицер нравился ей все больше и больше. Он вел себя просто и непринужденно. Ей хотелось так же свободно говорить, смеяться, но она только смущалась, краснела и злилась на себя за это. Такого с ней еще никогда не бывало. А Андрею Иванову девушка запомнилась еще с первой встречи на поле, когда, превозмогая боль, она застенчиво улыбнулась. Ему понравились ее упрямые брови вразлет, открытый взгляд больших глаз, высокий чистый лоб и светлые волосы.
Боясь показаться смешной и глупой, Ирена, не дожидаясь конца забавы, вдруг заторопилась домой. Капитан вызвался проводить ее. Погода была теплая и тихая, луна пряталась где-то за облаками, но на землю все же проникал ее голубовато-серебристый свет.
Они медленно шли по пустынным улицам. Андрей Иванов о чем-то рассказывал, но до сознания Ирены смутно доходили его слова. Она делала вид, что внимательно слушает, а на самом деле слышала лишь, как звенят его шпоры. Этот звон множился, отражаясь гулким эхом в уснувших улицах. Он казался Ирене то очень нежным, то тревожным и заставлял замирать ее сердце.
— Удивительный сегодня вечер, не правда ли, панно Ирено? — спросил вдруг капитан, когда перед ними возникли из темноты контуры старого замка. — У меня, пожалуй, такого еще никогда не было.
— Да, вечер необычный, — согласилась Ирена, искоса поглядев на своего спутника. — А вот и мой дом. Спасибо, что проводили. Прощайте, капитан Андрей Иванов!
— Не уходите, — тихо попросил он. — Еще несколько минут.
— Но ведь поздно.
— Мы с вами должны условиться о встрече, — решительно сказал Андрей. — Ведь мы не можем теперь так просто расстаться, верно, панно Ирено? — спросил он, пытаясь заглянуть в ее глаза.
— Не знаю. У меня так мало свободного времени…
— Вы работаете?
— И работаю и учусь.
— Где же?
— Работаю в магистрате, а учусь в педагогическом техникуме.
— Извините, можно узнать, сколько вам лет?
— Скоро двадцать, — ответила Ирена.
— А мне двадцать семь. Как видите, я уже старик, — вздохнул Андрей.
Оба рассмеялись.
— Итак, когда мы встретимся?
— Если вам так хочется… Приходите в воскресенье к старому замку.
— В воскресенье? Но ведь сегодня только вторник!
— Раньше не могу. У меня семья…
— Семья?! У вас есть семья?!
— Да, сестренки.
— Ах, сестренки! — вздохнул с облегчением Андрей.
— До свидания! В воскресенье ровно в шесть я приду к замку. Встретимся у главного входа со стороны улицы Свободы, — уточнила она и быстро скрылась в подъезде.
Поднимаясь по лестнице, Ирена ругала себя. «Что я наделала, глупая? Назначила свидание мало знакомому человеку. Весь вечер робела, стеснялась, а потом назначила свидание. Глупо!» Лежа в постели, она долго не могла уснуть. Сердце было наполнено чем-то очень радостным и тревожным. Она задремала, когда за окном уже обозначилась светлая полоска зари.
Неделя тянулась бесконечно. Но вот и воскресенье. Ирена готовила обед, убирала квартиру, проверяла заданные сестрам на дом уроки, а сама то и дело поглядывала на часы. Выгладила синий костюм, вычистила до блеска «лодочки», старательно уложила волосы, перевязав их голубой ленточкой. Сестры с интересом наблюдали за ней. Наконец Халина спросила:
— Ты снова идешь на забаву, Ирка?
— Нет. Просто хочу погулять.
— Обманывай! Ишь, как вырядилась!
— Ну и что?
— Не хитри. Мы с Ядькой уже не маленькие. Скажи, с кем идешь гулять?
— Много будете знать, скоро состаритесь, — ответила со смехом Ирена. Подошла к зеркалу, критически осмотрела себя со всех сторон и спросила сестер:
— Тогда скажите честно, как я выгляжу?
— Прекрасно, Ирка! Ты самая красивая на нашей улице.
— Ну, это уж чересчур. — Она взяла сумочку и сказала: — Пойду проведаю Данусю. Вчера получила от Лели письмо, она просит зайти к Граевским. Потом забегу на почту и пошлю ответ. Приду не скоро, ужинайте без меня и ложитесь сразу спать. Хорошо?
— Ладно! Беги уж на свое свиданье, — снисходительно сказала вслед Халина.
Подходя к замку, Ирена еще издали увидела Андрея. Он стоял у входа, возле разбитой северной башни и нетерпеливо поглядывал на улицу Свободы. А Ирена нарочно пришла с другой стороны. Увидев девушку, глаза Андрея засияли. Он вдруг смутился и потому, наверное, задал нелепый вопрос:
— Вы пришли?
— Как видите! Я привыкла держать слово. — Ирена улыбнулась и подала ему руку.
Они постояли с минуту около замка, потом Андрей предложил:
— Давайте пройдемся по Грюнвальдскому шоссе. Там сейчас очень красиво.
Ирена согласно кивнула.
Не успели они сделать и нескольких шагов, как раздался душераздирающий женский крик:
— Мой ребенок! Спасите моего Эдя!
Андрей и Ирена быстро подбежали к женщине.
— Что случилось?
Вокруг уже собралась толпа.
— Ребенка ее засыпало в подземелье замка, пан капитан, — пояснил кто-то.
— Не одного, а двоих, — уточнил другой голос. — С Эдком был еще Януш Брезиньский. Мать его погибла во время войны, отца тоже нет. Вот хлопец и бегает беспризорный, куда ему только вздумается, и водит за собой других. Сегодня его, Эдка и Казика понесла нелегкая в замок. А он местами того и гляди рухнет. Занес их, нечистый, в подземелье, там их и засыпало. Казик-то выбрался, прибежал домой, а те двое…
— Так чего же вы стоите? — возмутился Андрей. — Надо попробовать спасти ребят.
— Вы, видно, не знаете нашего замка, пан офицер. С него теперь так и сыплются кирпичи. А в подземелье и вовсе не войти, — оправдывались люди.
— Несите скорее лопаты, ломы, веревки и фонарь, — потребовал Андрей. — Я спущусь в подземелье.
— Пан офицер, спасите моего Эдя, — молила мать.
Андрей сбросил китель, взял зажженный фонарь и пошел к черному лазу в подземелье. С ним вызвались идти еще двое мужчин. Они спустились в сырой, узкий проход и вскоре наткнулись на обвал из земли и кирпича, преградивший им путь.
Андрей осмотрел завал, постучал, прислушался и сказал мужчинам:
— Будем копать, пока не доберемся до ребят. Завал, видно, не широкий. Простукивается.
Работали согнувшись — подземный коридор был низок. Пот лил градом, воздуха не хватало. Вдруг лопата Андрея стукнулась о что-то деревянное. Все трое увидели перегородку, упавшую наклонно к стене, а под ней, в образовавшейся пустоте, полузадохнувшихся ребят. Мальчик постарше тихо застонал, когда Андрей поднимал его на руки. «Видно, где-то перелом, — подумал он. — Теперь скорее наверх, на воздух».
Люди, оставшиеся во дворе замка, истомились от долгого напряженного ожидания. Уже стемнело, когда Андрей, весь измазанный землей, вынес пятилетнего Эдка. Другой мужчина нес Януша, а третий — фонарь, кирки и лопаты. В толпе набожно перекрестились. Андрей устало улыбнулся и сказал кинувшейся к нему с воплем матери Эдка:
— Успокойтесь, пани. Дети живы. Они только испугались, поцарапаны. У старшего, кажется, сломана нога. Мы поспели вовремя. А сейчас надо их отнести в больницу, вывести из шока. Через день-другой сможете забрать своего Эдка домой.
— Спасибо, пан офицер, — прошептала мать. — Да вознаградит вас бог!
Детей отнесли в больницу. Андрей ушел с ними. А люди долго не расходились.
— Если бы не этот офицер, детей бы не спасти.
— Кто он?
— Как его фамилия?
— Надо сообщить о нем командиру…
Ирена встретилась с Андреем через неделю снова у входа в замок и первым делом спросила:
— Пан капитан, как ребята?
— Поправились. Давно уже дома. — И добавил шутя: — Ну, что же, продолжим нашу прогулку по Грюнвальдскому шоссе?
Шел последний день сентября. Он был яркий, солнечный, по прозрачному воздуху плыли серебристые паутинки «бабьего лета». Они цеплялись за деревья, садились на волосы, щекотали лицо. Андрей снял конфедератку, подставив загорелое лицо ветру. У него были темные, вьющиеся крупными волнами волосы, высокий открытый лоб, несколько большой для его худощавого лица нос с горбинкой. Лицо его нельзя было назвать красивым. Но оно нравилось Ирене. Больше всего привлекали его глаза. Они были большие, серые, с искорками в глубине темных зрачков. Говорил он горячо, убедительно, с легким восточным акцентом. «Уж не русский ли он?» — Ирена несколько раз порывалась спросить об этом и все никак не решалась. Она боялась, что Андрей скажет: да, я русский. А тогда?.. Что тогда? «Нет, он, видно, с Подоля или Волыни и потому у него такой мягкий, певучий акцент», — решила про себя Ирена.
Над ними тихо и дремотно покачивались вековые липы, растущие по обеим сторонам шоссе. Они образовали над головой длинный зеленый тоннель, сквозь который даже в полдень трудно пробиться солнцу. Листья начали желтеть и горели в лучах заходящего солнца, словно маленькие желтые фонарики. С поля ветер доносил запахи скошенных хлебов, сена. Шоссе было пустынным в этот предвечерний час. Лишь изредка проезжала крестьянская телега на резиновом ходу. Цокот копыт по асфальту слышался долго, пока не замирал вдали.
Андрей рассказывал Ирене о недавних боях, в которых он принимал участие, о том, как его дивизия освобождала Варшаву, форсировала Одер.
— А вот до Берлина не дошел, — сказал он с сожалением. — Меня ранило под Щетином, и я попал в тыловой госпиталь. А когда выписался, война уже кончилась. — Он немного помолчал. — Многие из нашего полка скоро демобилизуются и уедут домой.
— А вы? — быстро спросила Ирена.
— А я кадровый офицер и моя служба продолжается. Только я тоже скоро уеду дальше на запад. А жаль, особенно теперь. Мне очень нравится… И город, и…
— Я очень рада, что вам понравился наш городок, — поспешно сказала Ирена, не дав ему досказать те слова, которые она бы и хотела услышать, и боялась.
— Городок живописный, — продолжал Андрей. — Я всегда сюда приезжаю с радостью. Только уж очень маленький и тихий.
— Тихий? Ну, нет! Я с вами не согласна! Теперь он уже не тихий, — горячо возразила Ирена и неожиданно для самой себя спросила:
— А где вы жили до войны?
— Далеко, — ответил уклончиво Андрей.
Они вернулись в город, и Андрей уговорил Ирену посидеть с ним немного у реки. От Дзялдувки тянуло прохладой. В рыбачьих домиках светились окна, их неяркий свет отражался в черной воде реки и разбегался по ней мерцающими дорожками. Рядом темнела громада старого замка. Вокруг него шумели дубы. Вслушиваясь в этот знакомый с детства шум, Ирена все время испытывала щемящее чувство непонятной тревоги и опять насторожилась, услышав тихий голос Андрея:
— Мне очень нравится ваша страна. Я ее прошел с боями всю — с востока на запад. И особенно мне по душе западные городки, вроде вашего Гралева. Люди здесь трудолюбивые, но, простите, чересчур набожные и суеверные. Но это ничего! Скоро они перестанут тянуться по воскресеньям в костел. Особенно молодежь. Ей некогда будет туда ходить.
— Значит, вы русский? — с грустью сказала Ирена. — А я-то думала… Мне казалось, что вы поляк, только родом из Восточной Польши.
— Почему же? — Андрей засмеялся.
— Потому что вы совсем не похожи на русского. Манеры… И вообще…
— Я русский, панно Ирено. С деда и прадеда русский! Иванов! Но, я вижу, вы этим очень огорчены?
— Но почему вы в этом мундире и служите в польском кавалерийском полку? — уклонилась от прямого ответа Ирена.
— Все очень просто. Я и другие мои соотечественники, русские специалисты, служим в Войске Польском со дня его основания. Я попал в Первую Варшавскую имени Грюнвальдского Креста дивизию кавалерии Войска Польского прямо из Ленинградской медицинской академии. Надел польский мундир, выучился польскому языку. В Польше нахожусь временно в длительной командировке. Надеюсь, что, в конце концов, и меня отзовут домой.
— Куда? — с трудом спросила Ирена.
— В Приокск.
— Приокск… — Ирена повторила незнакомое слово. — Где же это?
— Недалеко от Москвы. Наш город стоит на берегу русской реки, о которой у вас в песне поется:
Плыне, плыне Ока, Як Висла, шерока, Як Висла, глембока!..[19]Но я надеюсь, что все, о чем я рассказал, не помешает нашей дальнейшей дружбе, панно Ирено?
— Не знаю, пан капитан, — призналась она чистосердечно. — Все это так неожиданно… Мы, поляки, плохо знаем русских, не дружили с ними до войны. Хотя сейчас многое изменилось…
— Но вы… как вы, панно Ирено, относитесь к русским? Смогли бы вы, например, полюбить русского? — спросил напрямик Андрей, взяв ее за руку.
— Не знаю… — прошептала она, не отнимая руки. — Все это так сложно и страшно…
— Не вижу в этом ничего сложного и страшного, — возразил он. — Когда любишь, ничего не страшно.
— Но ведь вы уедете из Польши?
— Да.
— И возьмете польскую девушку с собою в Россию? Ведь это невозможно!
— Трудно, но возможно. Только на такое не каждая решится. Буду говорить прямо. Придется покинуть родину, оставить надолго родных, быть может, навсегда…
— Не говорите так, — перебила его Ирена. — Покинуть родину сейчас! Оставить близких! Мне кажется, что это будет предательство.
— Работать можно везде. Наши народы борются за одно общее дело. Подумайте, Ирена, прошу вас, и пока не отвечайте мне ничего. Знайте только, что я люблю вас.
— Хорошо, — прошептала Ирена, дрожа словно в лихорадке от охватившего ее волнения.
Андрей заметил это:
— Вам холодно?
— Нет, нет! Это просто так. Вы ведь совсем не знаете меня, моей жизни. — Голос ее задрожал. — Я вам не сказала, что была замужем. К счастью, так вышло, что никогда не принадлежала мужу. Его забрали гестаповцы прямо из-за свадебного стола. Он умер в лагере. Следовательно, я вдова… — торопливо закончила она.
Андрей взял ее руки в свои.
— Расскажите мне о себе все, — негромко попросил он.
И Ирена рассказала о жизни в оккупированном Гралеве, об отце, угнанном в лагерь, о смерти матери, свадьбе с ненавистным Брошкевичем, о фабрике, о том страшном поезде, который увез ее в Германию, и, наконец, о своем побеге. Андрей слушал Ирену и перед глазами его вставали: зимний лес, белое безмолвие снегов и хрупкая девушка, упорно пробирающаяся к своим. В его груди поднялась теплая волна нежности и любви к ней. Он наклонился и приник губами к ее руке…
Они стали часто встречаться. Андрей приезжал каждую субботу и после работы ждал Ирену у ратуши. Они бродили по городу, сидели во дворе старого замка на любимом Иреной замшелом валуне. Окруженные лесами луга за рекой Дзялдувкой казались с высоты холма чашами, наполненными голубоватым туманом. Туман этот клубился над самой землей и оседал жемчужинками на траве и кустах. Вот он закрыл уже низенькие рыбачьи домики у реки и начал подползать к подножию замка. Прикоснется к увядшим цветам, растущим в немецких касках, к пожухлой траве холма, полижет их и отступит. Туману не подняться до замка. Куда там! Он слишком огромен. И туман уползает назад в торфяные болота и луга.
Андрей молчит. Молчит и Ирена, словно боится вспугнуть эту тишину. Она понимает: пришла любовь, которая может круто изменить всю ее дальнейшую жизнь. Андрей человек из другого мира, которого она не знает, которого она, наслушавшись в школе ксендзов, еще недавно так страшилась…
Андрей обнял Ирену, и она очнулась от своих мыслей.
— Я люблю тебя, Ира! Ты моя судьба. Но ты до сих пор не ответила мне, поедешь ли со мной в Россию?
— А ты не мог бы остаться у нас в Польше? — робко спросила она.
— Это невозможно. Я офицер, врач.
Андрея послали на несколько дней в отдаленный район. Засевшие в лесах националисты тяжело ранили одного советского командира, ему предстояла сложная операция. За это время Ирена должна была решить, станет она женой Андрея или нет.
Все эти дни Ирена жила словно во сне. Тревога за Андрея не давала ей покоя. Она боялась, что его убьют «Лесные», или банды «Вервольф»[20], то и дело плакала или становилась такой задумчивой, что сестры начинали ее тормошить и уговаривать: «Ирка, не надо… Что с тобою? Ты заболела?»
Но вот вернулся Андрей. И на душе стало сразу спокойно и ясно. Она села и написала два письма: брату и Леле. Сообщила им, что выходит замуж. Юзефа просила приехать в ближайшее воскресенье. Потом объявила сестрам:
— Девочки, я выхожу замуж…
Халина и Ядька так и застыли ошеломленные. Первой опомнилась Халина. Она спросила, сгорая от любопытства:
— За кого, Ирка?
— За одного хорошего человека… Сами понимаете, мне почти двадцать. Должна же я когда-нибудь выйти замуж…
— Ты же замужем! — выпалила Ядя.
— Замолчи, дурочка! — прикрикнула на нее Халина. — Постой, Ирка, — вдруг спохватилась она. — А как же мы? Как мы без тебя жить будем?
— Кохана моя, кто сказал, что без меня? Вместе жить будем! Если нам придется уехать, я вас с собою возьму.
— Уехать? — насторожились сестренки. — Разве твой жених не здешний?
— Нет. Он из России.
— Что?! — глаза Халины и Ядьки округлились от удивления и испуга. — Он большевик?! Москаль?!
Ирена рассмеялась, притянула к себе сестер, поцеловала и сказала:
— Он хороший человек. Вы сами увидите.
— Он к нам придет?
— Да.
Свадьбу договорились сыграть в середине ноября. Ирена решила справить ее по народному мазурскому обычаю, чтобы она запомнилась на всю жизнь.
— Хорошо, — согласился Андрей. — Только с одним условием: без венчания. Я не верю ни в бога, ни в черта и в костел не пойду.
— Ну, разумеется, — засмеялась Ирена. — Неужели ты думаешь, Андрей, что я собираюсь тащить тебя в костел? Да я и сама туда давно не хожу.
За два дня до свадьбы приехали Юзеф и Леля, а вслед за ними тетя Марта и другие близкие и дальние родственники Ирены.
Леля вернулась в Гралево насовсем. Юзеф вырвался домой только на свадьбу. Он говорил, что ему некогда гулять и отдыхать, слишком много дел ждет в Варшаве. Кроме основной работы на стройке, он возглавлял теперь молодежную организацию в Жолибоже, одном из районов Варшавы. Юзеф и его друзья Стах и Франек первыми из гралевцев вступили в ряды «Звензку Млодежи Польскей» — «ЗМП»[21]. Юношей и девушек из «ЗМП» можно было встретить там, где труднее всего. Они прокладывали в разрушенных городах новые улицы, закладывали новые дома, смело ехали осваивать западные земли, где в лесах засело еще много всякой недобитой гитлеровской нечисти.
В день свадьбы стояла ясная сухая погода. В доме Ирены кипела работа. Тетя Марта и пани Граевская вторые сутки не отходили от плиты: пекли пироги, жарили мясо, фаршировали рыбу, готовили разные салаты. И хотя достать продукты было очень трудно, все же благодаря выдумке и умению хозяек свадебный стол обещал быть богатым. Женщинам помогали Халина и Ядвига. Но девочки то и дело отрывались от работы и с любопытством заглядывали в спальню, где Ирена с помощью Лели одевалась в подвенечный наряд. Вот-вот должен прийти Андрей со своими друзьями. Ирена стояла перед большим зеркалом уже в нарядном длинном белом платье и нервничала — Леле никак не удавалось закрепить фату на ее высоко взбитой прическе. Наконец справилась.
Ирена оглядела себя внимательно со всех сторон и вдруг заплакала.
— Ты чего, Ирка? — растерялась Леля. — Перестань сейчас же, не то глаза покраснеют.
— Вспомнила мать, отца… Если бы они были сейчас рядом и увидели, какая я счастливая. Мне самой все еще не верится: не сон ли это. Боюсь проснусь — и все исчезнет…
— Вот выдумщица, — удивилась Леля. — Сегодня лучший день твоей жизни. Ты должна быть веселой и красивой. Наклони-ка голову, вот так. Надо еще прикрепить венок, — сказала она и приколола поверх фаты маленький миртовый венок с мелкими белыми розочками.
Сама Леля была одета в длинное платье лимонного цвета, которое очень шло к ее черным волосам и смуглому лицу.
В дверь постучали.
— Скорее, девчата, вас ждут, — послышался голос Юзефа. Он распахнул дверь и охнул: — Боже мой! До чего вы обе красивые!
— Ладно! Будет тебе! — засмеялась довольная похвалой Леля.
Юзеф подал Ирене руку и по обычаю подвел сестру к жениху. Андрей поблагодарил Юзефа, поцеловал бережно обе руки невесты, вручил ей большой букет белых хризантем. Потом повел невесту к стоящим поодаль друзьям и представил:
— Моя Ирена.
Друзья, как по команде, щелкнули каблуками, зазвенели шпоры. Подошли с поздравлениями родственники, знакомые. В числе гостей был и председатель Гралевского районного Совета пан Казимир Малек.
Ровно в четыре после обеда к дому Ирены подкатило несколько бричек. Жених с невестой и гости спустились вниз, сели в брички и, делая большой круг, поехали через весь город к магистрату, где размещался загс. Вместе с молодыми ехали Леля с Юзефом и Регина с капитаном Ухановым, лучшим другом Андрея. Бричка молодых ехала последней.
Кони мчались быстро. Развевались по ветру разноцветные ленты, вплетенные в конские гривы, громко цокали по подмерзшей мостовой копыта. Дружно перезванивались колокольчики, подвешенные на дышлах. Встречные горожане приветливо махали руками, провожая свадебный поезд. Вот и магистрат. Молодые и гости поднялись по устланной коврами лестнице на второй этаж. В большом, ярко освещенном зале их уже поджидал мэр города Гралева. Жених с невестой подошли к огромному столу, сели в красные плюшевые кресла. Мэр города пан Ковальский произнес краткую речь, потом Ирена и Андрей расписались в толстой, совсем еще чистой книге и обменялись кольцами. Пан Ковальский поздравил молодых с законным браком и сказал:
— Вы открыли счет первой послевоенной свадьбе в нашем Гралеве. И свадьба эта необычная. Наша девушка выходит за русского офицера, за одного из тех, кто помог нам освободиться от ненавистного врага. Желаю вам большого и настоящего счастья, дорогие пани и пан Ивановы. И пусть ваш союз и вся ваша жизнь будут такими же радостными, ясными, какой была для всех нас первая мирная весна. Примите от гралевцев цветы и скромный подарок.
И вручил Ирене букет белых и красных роз и перевязанный голубой лентой пакет.
Домой возвращались уже в сумерках. Теперь молодые ехали первыми. Они везли гостей в свой дом. Легкий морозец пощипывал щеки, хватал за уши. Кони, встряхивая гривами, громко фыркали. Леля рассмеялась и растолковала это по-своему:
— Это к счастью. На добрую ворожбу, и вообще…
Подъезжая к дому, Ирена невольно глянула на замок. Побеленный изморозью, он слабо мерцал в скупом свете редких уличных фонарей и будто утратил на время свою извечную суровость, посветлел, принарядился и тоже поздравлял Ирену. Она улыбнулась старому другу и обратилась к мужу:
— Посмотри на замок. Ты не находишь, что он сегодня какой-то особенный?
— Сегодня все особенное, дорогая, — ответил ей с улыбкой Андрей.
Перед домом молодых поджидали близкие товарищи Андрея. Уланы встали у входа в два ряда, выхватили из ножен сабли, скрестили их над головами жениха и невесты и трижды прокричали:
— Виват! Виват! Виват!
На пороге дома Юзеф и тетя Марта встретили молодых хлебом и солью. Вокруг собралась толпа любопытных. В таком маленьком местечке, как Гралево, любая свадьба всегда была одним из интереснейших событий, а тут тем более. Первая свадьба после войны, да еще жених-то русский! Люди толковали об этом по-разному: кто с одобрением, а кто и осуждал Ирену. Но все сходились в одном: показать русским все обычаи мазурской свадьбы. Из толпы под ноги молодоженам стали бросать пустые бутылки и тарелки. Они разбивались со звоном на мелкие осколки, а жених с невестой должны были по ним пройти. Потом их стали осыпать с головы до ног мелкими монетами и приговаривать нараспев: «Будьте счастливы, будьте богаты… Сто лет! Сто лет!» Во время этих обрядов Андрей вел себя просто и непринужденно.
После свадебного обеда отодвинули к стенам столы, заиграл приглашенный по этому случаю духовой оркестр, и начались танцы. Музыка вырывалась сквозь распахнутые форточки на простор, плыла по улицам города, вдоль задремавшей уже под тонким льдом Дзялдувки и замирала у стен рыцарского замка.
Леля танцевала почти все время с паном Казимиром. Она показалась Ирене в тот вечер особенно красивой, временами даже загадочной. А глаза пана Казимира во всей свадебной толпе видели одну лишь Лелю…
Волки выходят из лесу
Через две недели после свадьбы часть, в которой служил Андрей, была переброшена дальше на запад. Андрею разрешили явиться на новое место службы после рождественских праздников, которые Ирене очень хотелось провести дома вместе с сестрами. До сочельника оставалось всего два дня. Приехал Юзеф. Узнав, что в доме еще нет елки, заявил:
— Елка будет! Отдохну немного с дороги и схожу с дядей Костей в лес. Мы с ним знаем, где растут самые красивые и густые елки.
Вместе с паном Граевским и Юзефом собралась в лес и Леля. Сразу за городом пан Граевский и Юзеф заспорили. Дядя Костя доказывал, что Юзефу следовало бы теперь, когда Ирена уедет, вернуться домой, что дел для него и в Гралеве хватит, а девочек не стоит везти на этот беспокойный восток, отрывать от школы. Быть может, и отец скоро домой вернется… Но Юзеф не соглашался.
— Сестры не маленькие. Халине уже почти четырнадцать. Обед сварить сумеют. К тому же тетя Марта обещает остаться у нас насовсем.
Леля ушла далеко вперед и была уже на краю леса. Ноги тонули в глубоком снегу, мороз пощипывал щеки, забираясь под платок. Она завязала его потуже. Дорогу пересекали частые заячьи следы. Они напомнили Леле зимы в партизанском отряде. Та же белизна снегов, такие же петляющие заячьи следы на полях…
В ближайшей просеке увидела две мужские фигуры. «Видно, тоже за елками», — подумала она. Шли торопливо, часто озирались. Елок за спинами у них не было. Леля инстинктивно спряталась за громадный ствол сосны. Вот они уже совсем близко, можно разглядеть лица. Одно из них показалось Леле очень знакомым. Еще мгновение — и лицо ее стало белее снега.
— Нет, нет, этого не может быть! Сгинь, сгинь, нечистая сила! — прошептала она, подражая мачехе. Один из незнакомцев был удивительно похож на Стефана Брошкевича. Из-под низко нахлобученной меховой шапки выглядывало такое же наглое лицо, те же бегающие по сторонам глаза. «Неужели Стефан? Но ведь он умер! — недоумевала Леля. — Нет, наверное, обозналась».
Человек, похожий на Стефана, и другой, постарше, сильно хромающий, уже скрылись из виду, а Леля все стояла, не в силах сдвинуться с места. «Что делать, что делать? — лихорадочно соображала она. — Если это Стефан, он убьет Ирену, когда узнает, что она вышла замуж за другого. Надо быстрее возвращаться в город, предупредить…»
Подошли отец с Юзефом. Они были так увлечены разговором, что не обратили никакого внимания на прошедших мимо людей. Мало ли их шаталось в то время по разным дорогам!
— Что с тобой, доченька? — спросил вдруг пан Граевский. — Ты вся дрожишь!
— Мне что-то нездоровится, я лучше вернусь домой…
— Говорил ведь: не ходи. Так нет, увязалась! — проворчал Граевский. — Ну, куда ты пойдешь теперь одна? Темнеет уже. Мы с Юзефом быстро управимся и вернемся домой вместе.
— И правда, Лелька! Мы мигом.
«Сказать Юзефу? Но он горяч, непременно догонит того и набросится на него с голыми руками. А те — волки… У них наверняка есть оружие… Нет, надо подождать».
А вслух сказала:
— Хорошо, только давайте быстрее.
Был уже поздний вечер, когда они вернулись в город с большой, густой елкой. Халина и Ядя, увидев ее, завизжали от восторга.
А Леля не находила себе места. Она так и не решилась сказать Ирене о своей встрече: не хватало духу испортить ей последние дни, которые она проводила с родными.
После рождественских праздников Андрей уехал в свою часть. Ирена должна была приехать к нему через месяц. Раньше Леля грустила от предстоящей разлуки с подругой, а теперь дождаться не могла, когда Ирена, наконец, покинет Гралево.
Шли дни, и Леля немного успокоилась. Человек, похожий на Стефана, как в воду канул. «Наверное, я все-таки обозналась», — с облегчением думала она.
Но однажды Ирена прибежала к Граевским запыхавшаяся, взволнованная.
— Леля дома? — спросила она пани Граевскую прямо с порога.
— Нет. А что случилось, дочка? На тебе лица нет! Леля вот-вот подойдет. Сядь, подожди.
— Не могу! — Ирена выбежала на улицу и за углом чуть не сбила подругу с ног.
— Ты знаешь, кого я сейчас встретила? — возбужденно заговорила она.
— Кого?
— Краузе! Выхожу из магистрата и слышу, кто-то окликает меня: «Добрый вечер, пани Брошкевич!» Я обернулась. Сидит на тротуаре какой-то старикашка, выставил вперед деревянную ногу и ухмыляется. А рядом шапка с медяками. Потом как затянет хриплым гнусавым голосом: «Пани Брошкевич, подайте Христа ради бывшему соседу несколько грошей!» Краузе! Меня аж всю заколотило от страха. Я кинулась прочь. А он мне закричал вслед: «Бежишь? Ну, беги, беги! Берегись, красотка!»
— О, боже! — только и могла вымолвить Леля. Опомнившись немного, она обняла Ирену за плечи и осторожно спросила: — Скажи, Ирка, что бы ты сделала, если бы так же, как сегодня Краузе, встретила Стефана?
— Стефана? Ты с ума сошла. Ведь он умер…
— Ну, а вдруг? — настаивала Леля. — Сама знаешь, в войну всякие случаются ошибки. Получат извещение о смерти, а потом «покойник» возвращается домой живым и невредимым… Стефан мог убежать из лагеря, запросто примкнуть к бандам эн-эс-зетовцев или виновцев. За деньги он кому хочешь продастся. Теперь зима, и таких, как Краузе, стужа и голод выгоняют из лесов в города и села. Так что, если Стефан жив, то придет сюда. Больше некуда. Формально ты его жена.
— Это было бы хуже смерти! Леля, ты что-нибудь знаешь, да? — испуганно спрашивала Ирена.
— Мне показалось… — Леля отвела глаза.
— Ты видела Стефана? — Лицо Ирены исказилось ужасом. — И ничего мне не сказала?
— Не могла! Прости, Ирка, но ты была так счастлива…
— Когда это было?
— Еще перед рождеством. Когда мы ходили за елкой…
— О, Езус, Мария! — застонала Ирена. — Скорей бы уехать отсюда, иначе я сойду с ума. И мне страшно за Андрея. Вдруг Стефан в самом деле жив?
— Успокойся, Ирка! Ты теперь Иванова, и он не имеет на тебя никакого права. Та свадьба недействительна, тебя принудили. Ты была несовершеннолетней, — пыталась успокоить подругу Леля. — А по Краузе давно веревка плачет. Сейчас же идем к пану Казимиру и все ему расскажем.
На следующий день Краузе был арестован. А вечером, возвращаясь домой, Ирена встретилась со Стефаном. На улице было уже совсем темно и безлюдно. Ветер пронзительно свистел в проводах, будто жалуясь на свою долю. Вьюжило, и Ирена не сразу заметила шедшего навстречу человека. И вдруг:
— Здравствуй, женушка!
Ирена остановилась и медленно попятилась назад. Кровь схлынула с ее лица. Протянув вперед руки, будто защищаясь, прошептала:
— Нет, нет! Мертвые не воскресают?.. Это не вы…
— Ошибаешься, дорогая! Это я, — засмеялся Стефан. И подошел совсем близко, так близко, что Ирена почувствовала запах самогона. — Это я, твой муж Стефан! Вернулся живой и невредимый. Еле дождался тебя. Неужели не рада?
И, шагнув еще ближе, попытался обнять.
Ирена резко отпрянула назад. Мозг ее сверлила одна единственная мысль: «Живой. Вернулся. Права была Леля…»
— Ты что, онемела от радости? Хочешь меня заморозить на улице? — прохрипел Стефан, хватая Ирену за руки. — Я прождал тебя на этом проклятом ветру несколько часов. Краузе мне рассказал, что видел тебя и что ты стала еще красивее, чем была. Веди скорее в дом, женушка!
Ирена резко вырвала у него руки и закричала:
— Оставьте меня в покое и уходите, иначе я позову на помощь.
— Так! Гонишь, значит? Что же, кричи, я не боюсь, мне теперь терять нечего. Я устал там, в лесах, и должен отдохнуть, отогреться. Хочу жить, как все. Я пришел домой…
— Здесь нет больше вашего дома. Уходите!
— Не оставлю, слышишь! — закричал он. — Никогда не оставлю!
И Ирена увидела его налитые бешенством, выпученные глаза. Стефан преградил ей дорогу к дому.
— Я все знаю! Знаю, что ты теперь Иванова. У, стерва! С русским снюхалась, коммуниста захотелось? Не бывать этому! Ты его больше не увидишь. Убью!!!
Ирена огляделась. Кругом ни души. Видны ярко освещенные окна ее квартиры, там ее ждут.
А Стефан, тесня Ирену к темной стене дома, шипел:
— Убью, убью, сволочь!
Потом вдруг сказал спокойно, вкрадчиво:
— Если бы ты знала, как я ждал этой минуты, Ирена. Как ждал! Думал, вернусь домой, и мы с тобой заживем хорошо, в достатке. У меня есть золото, деньги. Мы откроем свою пекарню… Я осыплю тебя золотом, только не гони! Пожалей меня, Ирена. Я ведь по-прежнему тебя люблю…
— Не смей говорить мне о своей поганой любви! — опомнилась, наконец, Ирена от сковавшего ее оцепенения. — Не смей, слышишь! Я тебя презираю и ненавижу. Ты хуже гитлеровца, хуже самого закоренелого бандита! Я никогда не стану твоею! Никогда!
— Замолчи, стерва! По закону ты моя жена!
— Нет, не замолчу! Такие, как ты, — вне закона. Ты можешь меня убить, тебе ведь не привыкать, убийца. Но знай, я люблю своего мужа Андрея Иванова! Люблю, слышишь, бандит?..
Брошкевич размахнулся и ударил Ирену. Раз, другой. У Ирены потемнело в глазах, и она медленно стала сползать по стене на землю.
Из темноты выскочила женская фигурка. Стефан отпрянул, быстро сунул руку за пазуху. Узнав Лелю, поспешно спрятал пистолет. Он тяжело дышал, его крупные, оскаленные, словно у зверя, зубы блестели в темноте.
— А, это Леля! Неразлучная подружка… Надеюсь, ты здесь одна?
Леля, не потеряв самообладания, подбежала к Ирене:
— Что с тобой, Ирка? Что он сделал?
— Пустяки… — прошептала Ирена, не в силах сдвинуться с места.
Поддерживая подругу, Леля гневно крикнула Стефану:
— Это тебе так не пройдет, бандит! Не миновать тебе виселицы… Отправим вслед за твоим дружком Краузе!
— Ишь ты, какая прыткая! — зловеще прохрипел Стефан. — Откуда тебе знать, кто мы такие?
— Знаю! Вы бандиты, волки…
— Но, но, полегче! Не то пожалеешь, — зарычал Стефан. — Мы не бандиты, а патриоты. Мы защищаем Польшу от русских, от коммунистов, боремся за прежнюю свободу и независимость нашей страны.
— Борцы, патриоты! — презрительно передразнила его Леля. — Гнида ты вшивая и бандит, вот ты кто! Твоя родина — деньги. А ну, пропусти нас, шкура!
— Никуда я ее не отпущу, — не унимался Стефан. — За ней должок! Не отпущу, пока не высплюсь с ней. У нас ведь не было брачной ночи. Так что оставь нас и проваливай отсюда, защитница. Сами договоримся…
Ирена, собрав последние силы, ударила его по лицу.
— Ах, ты так!..
Стефан грязно выругался и достал пистолет. Леля заслонила собой Ирену и закричала на всю улицу:
— На помощь! Помогите!..
— Получайте обе, проклятые коммунистки! — захохотал Стефан. — Жалуйтесь!
Грянуло подряд несколько выстрелов…
Когда к месту происшествия подоспели люди, они увидели два распластанных на снегу тела. Леля была уже мертва. Ирену увезли без сознания в больницу, у нее было прострелено плечо и легкое.
Погибшую от руки бандита Лелю Граевскую хоронил весь городок.
Тем временем врачи боролись за жизнь Ирены. Ее долго не удавалось вывести из тяжелого нервного шока. Опасаясь за последствия, вызвали Андрея. Когда Ирена пришла в сознание и увидела рядом мужа, она едва улыбнулась уголками губ, потом сдвинула брови, силясь вспомнить что-то, и прошептала:
— Что с Лелей?
И по той еле уловимой скорбной тени, пробежавшей по его лицу, Ирена поняла: Лели больше нет. И снова впала в беспамятство.
Поправлялась она медленно. И все молчала, не отвечала на вопросы мужа, сестер. Спросила только Андрея:
— Того бандита поймали?
— Да, дорогая, поймали. Выловили целую банду, скрывавшуюся в ваших лесах. Но ты не думай сейчас об этом, Иренко. Не надо!
Ирена закрыла глаза и долго лежала молча. Потом вдруг снова спросила, с напряжением всматриваясь в его лицо:
— Андрей, а знаешь, кто это был?
— Да. Бандит. Бывший фольксдейч.
— Это был Стефан Брошкевич, мой первый муж! Он не умер, вернулся. Это он убил Лелю.
— Успокойся, родная. Забудь о нем.
И тут Андрей увидел в светло-русых волосах жены тонкую седую прядь…
Накануне отъезда из Гралева, Ирена с Андреем сходили на кладбище, и там, у свежего холмика, усыпанного цветами, Ирена простилась с Лелей навсегда. Расправляя спутанные ветром ленты на венках, Ирена увидела на одной из них надпись: «Любимому другу и товарищу от «Земсты».
Оформляя в магистрате документы на выезд, она зашла в кабинет пана Казимира. Но там сидел незнакомый человек. Пан Казимир Малек уехал в Познань работать в воеводском народном совете секретарем КПП…
На вокзал Ивановых провожали всей семьей. Пришли и Граевские. Горе состарило их сразу на много лет. Андрей был не на шутку встревожен молчаливым и безучастным отношением жены ко всему происходящему. Тетя Марта шепнула Андрею:
— Душа у нее зашлась от горя. Не волнуйся, сынок, отойдет. Память человеческая сильна, но жизнь есть жизнь. Ты только береги ее.
И отошла в сторону, утирая концом платка слезы. А Халина и Ядвига просили Ирену:
— Ты нам пиши, часто пиши! Слышишь, Ирка?
И долго махали вслед поезду.
Самая дальняя дорога
Шел март 1946 года. Неспокойное это было время. Ночами жителей городка будили частые выстрелы, треск автоматных очередей, взрывы гранат, забрасываемых в окна домов. Война кончилась, но борьба продолжалась. Кроме недобитых гитлеровцев, банд «Вервольф», орудовали еще «Лесные»: группы «Народной Силы Збройной»[22] и «Вольность и Неподлеглость»[23]. Эти враждебные новому строю Польши люди действовали под разными вывесками, но задача у них была одна: использовать в своих преступных целях трудности послевоенного времени, неразбериху, неопытность органов службы госбезопасности и захватить власть. Враги знали, что волнует людей разных классовых слоев и убеждений: каков будет новый политический строй Польши? Не отнимут ли у крестьян землю? И реакционные силы пользовались сомнениями и колебаниями народа, развивали бешеную пропаганду против проведения земельной реформы, мешали созданию органов и ячеек народной власти.
Русские офицеры, служившие в рядах польского 2-го кавалерийского полка, среди которых находился и Андрей Васильевич Иванов, принимали самое активное участие в ликвидации вооруженных банд и становлении новой Польши. Андрей иногда по два-три дня не выходил из санчасти, делал по нескольку операций в день. Он был единственным хирургом в городке. Медицинского персонала не хватало, на счету был каждый человек. И Ирена стала помогать мужу выхаживать раненых.
В самый разгар этих трудных и хлопотливых дней Андрей вернулся с работы раньше обычного. Он был сильно взволнован.
— Что-нибудь случилось, Андрей? — спросила его Ирена.
— Да. То есть нет, ничего особенного… Ты помнишь, что я тебе говорил в Гралеве?
— Мы уезжаем в Советский Союз? Да?
— Не мы уезжаем, а ты. И немедленно. Здесь стало слишком тревожно. Поедешь к моим родителям в Приокск. Меня обещают перевести из Войска Польского в ряды Советской Армии, так что я, возможно, скоро приеду.
— Значит, пока я должна ехать одна, — грустно сказала Ирена. — Что ж, поеду, раз так нужно. — И с трудом улыбнулась. — Только ведь твои родители даже не знают, что ты женился. Ты не написал им об этом?
— Не написал, виноват. Думал сделать сюрприз: приехать сразу с женой, а вышло вот что. Сегодня же напишу. А письмо ты сама передашь. Родители все поймут… Я знаю, ты им понравишься.
— Когда ехать?
— Через три-четыре дня. Раньше не успеем оформить документы.
Через три дня, получив в штабе полка необходимые документы, Андрей проводил Ирену в Кольберг, откуда она должна была уехать в Варшаву, а оттуда в Советский Союз. Кольберг, некогда красивый курортный город, расположенный на берегу Балтийского моря, был в сплошных руинах. В ожидании поезда Ирена с мужем устроилась в маленьком привокзальном скверике. Оба молчали. Их угнетала предстоящая разлука. Ирена думала, как воспримут ее внезапный отъезд в Советский Союз Халина и Ядвига, которых она завтра увидит в Гралеве? Как ее встретят родители Андрея?
Из развалин вокзала до них долетали звуки частых телефонных звонков. Они мешали думать. Андрей тоже прислушивался к этим звонкам и морщился.
Подошел железнодорожник, спросил у Андрея, приложив руку к форменной фуражке:
— Вам, пан ротмистр, на варшавский?
— Да.
— Тогда собирайтесь, панство. Через две минуты поезд будет здесь.
— Ну вот, родная, — сказал Андрей по-русски изменившимся голосом. Когда он волновался, то всегда говорил по-русски, даже если знал, что его не понимают. — Будь молодцом, Иренка, не робей! Скоро увидимся, и все будет хорошо… — Он улыбнулся, поцеловал ее. — Передай привет сестренкам, Юзефу и моим старикам в Приокске…
Ирена не помнила, как она очутилась в вагоне. Одна. Она и вагон. Пустой, громадный, неуклюжий. Идет медленно-медленно. Впоследствии Ирена не раз вспоминала эту дорогу, которая показалась ей тогда самой длинной в жизни…
Ранним утром следующего дня — короткая остановка в Гралеве. Странно, но Ирена почувствовала себя здесь уже гостьей. Она купила цветов, сходила на могилу к матери и Леле. Потом поднялась на холм старого замка. Было очень тепло и тихо. Пахло полевой ромашкой, мятой, липой. Все было таким, как в детстве, как десять лет назад, но Ирене все показалось другим: обновленным, лучшим и более дорогим, как это бывает перед долгой разлукой.
К вечеру того же дня Ирена уехала в Варшаву. Последним скрылся из виду старый замок. Она оставляла там свое детство, свою тревожную и тяжелую юность, которая, несмотря ни на что, показалась ей сегодня розовым осколком волшебного стеклышка…
Ирена знала, что такое война, но именно в Варшаве увидела ее самые жуткие, самые страшные следы. Столица Польши была разрушена до основания, город лежал к руинах. И весь этот ужас минувшей войны двоился, отражаясь в голубой Висле.
Ирене удалось сесть с великим трудом в поезд, в котором возвращались из Германии и Польши на родину советские солдаты и офицеры. Поезд шел быстро и без остановок. Через несколько часов по вагону пронеслось магическое слово: граница. И все пассажиры сразу притихли, лица их посерьезнели, замолкли трофейные гармошки и аккордеоны.
Поезд остановился, в вагон вошли польские пограничники.
— День добрый, товарищи! Просим предъявить документы и оставаться при своих вещах, — услышала Ирена. — Контроль гранична и девизова, панове, — повторили они по-польски.
Проверив у всех визы, пограничники попрощались и ушли.
— Вот, товарищи, и граница, — сказала, ни к кому не обращаясь, высокая русая женщина с карими глазами, одетая в форму лейтенанта медицинской службы. Она показала рукой на блестевший впереди полноводный Буг. — Сейчас мы пересечем реку и будем дома. Вы понимаете, дома! — Женщина счастливо засмеялась.
Дома! Сердце Ирены болезненно сжалось. Ее дом, родина остались на той стороне…
Устало лязгнув буферами, поезд остановился в Бресте. Пассажиры высыпали на перрон и заспешили в таможенный зал. После повторной проверки документов и багажа уже советскими пограничниками Ирена оставила вещи в камере хранения и вышла на привокзальную площадь. Из сквера, что был разбит посреди площади, шел одуряющий запах тополей и медуницы. Белый тополиный пух плыл по воздуху, оседая на кустах и газонах. «Здравствуй, Советский Союз! Вот ты какой!» — воскликнула про себя Ирена и улыбнулась тополям и цветам.
Деревья, цветы и запахи были такими же родными и знакомыми, как за Бугом, в Польше. И все же это была уже другая земля. Всюду слышалась только русская речь, из вокзальных репродукторов неслись мелодии советских песен. Мелькали зеленые мундиры советских пограничников. Самого города не было видно. Он лишь угадывался далеко за шоссе, обсаженном двумя рядами высоких тополей.
Ирена вернулась на вокзал. Купить билет до Вязьмы оказалось делом не простым, около билетных касс выстроились огромные очереди. Люди терпеливо ждали.
Это были не военные, — те получали билеты через военного коменданта, — это был простой гражданский люд, который раскидала война. Теперь они возвращались в родные места. Несмотря на усталость, они шутили, охотно и обстоятельно отвечали на вопросы, наперебой советовали Ирене, как лучше и быстрее добраться до Приокска.
На вокзале Ирена встретила и нескольких своих соотечественников, ожидавших поезда в Польшу. Ирена обрадовалась им. Но некоторые поляки, узнав, что она приехала насовсем в Советский Союз, враждебно посмотрели на нее. Особенно зол был тощий поляк в полувоенном френче и толстых роговых очках на длинном птичьем носу. Кривя тонкие губы, он уговаривал Ирену:
— Что вы делаете, пани? Вы сошли с ума! Вы не знаете, куда вы едете. Там, — он показал рукой на восток, — голод, грязь, нищета и лагеря. Да, да, лагеря! И они ждут таких наивных женщин, как вы, пани…
— За что же меня туда сажать? — недоверчиво спросила Ирена.
— Вы не знаете русских, а я знаю, — продолжал ворчать поляк. — Почти пять лет прожил в России.
— Значит, вы приехали сюда еще до войны?
— Да, в начале сорок первого.
— И вы можете так плохо говорить о народе, который приютил вас в самое страшное для нашей родины время? — возмутилась Ирена. — Как вам не стыдно!
— Поверьте, пани, я старый тертый калач, многое перевидал на своем веку и мне вас просто жаль, — вкрадчиво сказал он. — Вы молоды и красивы, пропадете у этих варваров. Будете ходить в лаптях или в грубых подшитых валенках. Ух, дябли бы их взели! — ругался лысый.
Ирена, испытывая к нему гадливое чувство, резко сказала:
— Слушать вас противно! Видно, не дали вам русские открыть собственный ресторанчик или лавочку, вот и ругаете их, спешите в Польшу за наживой, наверстать упущенное. Не надейтесь! В Польше теперь такие, как вы, не нужны.
— Ого! А вас, оказывается, уже сагитировали, — криво ухмыльнулся лысый. — Но хотел бы я посмотреть на вас через год-другой. Тогда вы по-другому запоете…
Он повел глазами вокруг, ища поддержки у соотечественников. Но те молчали, потупив глаза.
Поезд на Москву для гражданских подали только на десятые сутки. Все эти дни Ирена спала, ела прямо в зале ожидания, устроившись на одной из скамеек, как и другие пассажиры. Попав, наконец, в вагон, Ирена, измученная, крепко уснула.
Проснулась, когда садилось солнце. Поезд шел полным ходом на восток, увозя ее все дальше от границы. Ирена высунулась из окна и подставила лицо встречному упругому ветру. Он трепал волосы, раздувал рукава светлой блузки, обдавал паровозной гарью, но Ирена ничего не замечала и с жадным любопытством смотрела на плывущую за окном землю. Мимо проносились беленые хаты белорусских деревень, одинокие избы на косогорах, реки и речушки. Ирена видела радужные блики в окнах хат, вьющиеся кудели дымков из труб, колодезные журавли. На вокзалах больших и малых городов Ирена видела бесчисленное множество людей. Казалось, что вся Россия в те дни торопливо куда-то ехала.
Ирена удивлялась гигантским расстояниям от деревень до городов, когда перед глазами часами не было ни одного домика, только лес, сплошной и таинственный, похожий на их Лидзбарские леса, или поля, широкие и неоглядные, с прожилками проселочных дорог.
На третьи сутки поезд прибыл в Смоленск. В распоряжении пассажиров было два часа.
Ирена вышла на перрон и направилась к привокзальному рынку. Покупая топленое молоко, разговорилась с пожилой словоохотливой крестьянкой. Она была рослой, полной, с добрыми синими глазами. Окинув Ирену из-под низко опущенного на лоб платка пытливым взглядом, женщина спросила:
— Может, еще огурчиков малосольных возьмешь, а? Бери, дешево отдам. Хочется, небось?
— Спасибо, пани, не надо, — ответила Ирена и покраснела. Кивнув головой в сторону землянок, видневшихся невдалеке от рынка, путая русские и польские слова, сказала участливо: — Сильно, видать, утерпяло ваше място за войну, если люде до сих пор живут в таких домках.
— Ой, сильно, дочка, сильно, — ответила женщина, и голос ее дрогнул. — Немец тут страсть как лютовал. Натерпелись, не приведи, господи!
— И у нас тэж так, — вздохнула Ирена.
— А ты откуда будешь? Разговор у тебя вроде не нашенский, чудной…
— Я из Польши, — улыбнулась Ирена.
— Полячка, значит. Слыхала я про поляков-то. Тоже намаялись под фашистами не хуже нашего. Куда же ты путь держишь?
— В Приокск еду…
— Значит, соседями будем. Была я в Приокске. Давно, правда. Город ничего. Меньше нашего Смоленска, но ничего. Ну-ка, возьми огурчиков, ешь на здоровье. Денег не надо…
— Спасибо, пани!
Около поезда Ирена увидела толпу людей, услышала музыку. Спросила у проводницы:
— Что там?
— А ничего! — засмеялась она. — Пляшут.
На перроне, окруженный плотным кольцом высыпавших из вагонов пассажиров, плясал паренек лет пятнадцати. Босоногий, худой, с пышным смоляным чубом, упавшим на глаза, в длинной полосатой рубахе поверх обшарпанных штанов, паренек самозабвенно выплясывал под звуки гармошки. Он кружился, словно юла, приседал, взбивая голыми пятками пыль, хлопал в ладоши и гикал так, что вскоре, не выдержав, к нему присоединились еще несколько плясунов. Только звук станционного колокола, давший сигнал к отправлению, прервал это веселье.
Чем дальше поезд увозил Ирену в глубь России, тем ясней и отчетливей доходило до ее сознания горе и подвиг пока не знакомого ей русского народа. Того самого народа, который в единоборстве с коварными фашистскими захватчиками выстоял и победил, того народа, который спас и ее от кошмара долгой оккупации и освободил ее родину.
В доме под кленами
От Вязьмы до Приокска Ирена добиралась пригородным поездом. Она очень волновалась и глядела туда, где вскоре должен был показаться Приокск. Сначала Ирена увидела поблескивающие золотом и голубой эмалью купола церквей, заводские трубы. И вот уже рядом с поездом поплыли окраинные улицы с деревянными одноэтажными домиками, утопающими в садах.
Поезд остановился у бело-розового здания вокзала. Ирена вышла на привокзальную площадь, растерянно огляделась.
— Куда тебя везти, барышня?
Ирена обернулась. На нее глядел бородатый мужик, небольшого роста, с хитрыми глазами. Вместо ответа Ирена подала ему бумажку с адресом. Мужик поглядел деловито на бумажку, повертел ее в прокуренных желтых пальцах и признался:
— Я, барышня, читать-то не шибко умею. Скажи так, куда тебе надо?
— На Садовую. Дом сто сорок седем, то есть семь, — поспешно поправилась Ирена.
— Понял. Поехали!
Возчик привязал оба чемодана Ирены к двухколесной тележке, поплевал на ладони, крякнул, взялся за дужки и добавил уже на ходу:
— Не отставай.
Ирена еле поспевала за возчиком. Они шли по широкой прямой, как стрела, улице, обсаженной старыми кленами. За деревьями виднелись и одноэтажные деревянные домики под железными крышами, и каменные дома с колоннами, лепными розетками и украшениями по фронтонам. Город был очень зеленым, и эта буйная зелень очень украшала его.
Наконец вышли на Садовую. Ирена еще издали узнала знакомый ей по фотографии, которая была у Андрея, деревянный дом с тремя резными окошками, глядевшими на улицу. Расплатившись с возчиком, подошла к калитке, постояла несколько минут, пытаясь унять волнение. Ноги, обутые в легкие босоножки, сделались вдруг тяжелыми и непослушными. Не хватало решимости взяться за кольцо. Ирена подняла голову и увидела два громадных клена, склонившихся над самой крышей. Они покачивали приветливо ветвями, будто говорили: «Ну, входи же, не бойся! Смелее!».
И она решилась. Нажала рукой на металлическое кольцо, калитка звякнула и отворилась. И тут же через маленький тихий дворик к Ирене заспешил невысокий человек лет шестидесяти. Он вопросительно посмотрел сквозь очки на вошедшую, и Ирена догадалась, что перед ней отец Андрея. У него были такие же серые, чуть насмешливые глаза, тот же высокий лоб и такие же кудрявые, только с проседью, волосы.
— Здравствуйте, Василий Петрович, — робко поздоровалась Ирена.
— Здравствуйте, — ответил старик и удивленно спросил: — Вы к нам? Простите, что-то не припомню, чья вы?
— Я вам привезла письмо от Андрея.
— От Андрея? Не может быть! Мой сын в Польше! — удивился старик.
— Да. И я оттуда. Вот письмо. Это очень важное письмо. Прочитайте его, пожалуйста, сейчас же, при мне, — попросила Ирена и протянула Василию Петровичу толстый конверт. От волнения она говорила с большим акцентом, но старик уже не слушал ее. Увидев знакомый почерк, засуетился, стал искать по карманам очки, не нашел, вспомнил, что они у него на носу, всплеснул руками и засмеялся:
— Извините меня старого, девушка! Совсем ошалел от радости. Ведь с полгода нам не писал, и мы все беспокоились. Чего это мы стоим? Проходите сюда, садитесь.
Василий Петрович усадил Ирену на скамейку во дворе и сам уселся рядом. Он протер платком очки, надел их снова, разорвал нетерпеливо конверт и начал читать. Ирена, затаив дыхание, следила за выражением его лица.
Прочитав несколько строчек, он поглядел с недоумением поверх очков на Ирену и снова принялся читать сначала. От волнения Ирена ничего не видела, кроме шевелящихся губ Василия Петровича. И вдруг она вздрогнула.
— Здравствуй, дочка! Разреши мне обнять тебя. Вот радость-то. И кто бы мог подумать? Женился, а отцу с матерью ни слова! Ну и шельмец!
— Извините, Василий Петрович, так получилось… Мы очень виноваты! Мы хотели…
— Ладно, чего уж там! Сейчас уже неважно, что вы, милые мои, хотели, — прервал ее обрадованный старик. — Сейчас главное, что ты к нам добралась, что ты дома! Ох, и обрадуется наша мать! Она на базар ушла, вот-вот должна подойти. Да ты чего, дочка? Никак плачешь?
Слезы сами текли по щекам Ирены. Приветливые, теплые слова Василия Петровича растрогали ее. Она поверила, что теперь ее дом здесь, что она в нем не чужая.
— Ну, ну, будет плакать. Идем скорее в дом. Сейчас самовар поставлю. Проголодалась, небось, с дальней дороги?
В большой кухне с огромной русской печкой Ирена увидела старую, опрятно одетую женщину. Это была бабушка Андрея.
— Принимай внучку, Наталья Дмитриевна, — весело сказал Василий Петрович. — Это Андрюшина жена. Она из Польши.
— Кто? — не поняла старушка, приложив ладонь к уху.
— Андрюшкина жена, полячка! — повторил громче Василий Петрович.
— Неужто? О, господи! — засуетилась, заулыбалась всеми своими морщинками бабушка. — Подойди ко мне поближе, внученька, — попросила она. — До чего же ты молоденькая да пригожая. А как звать-то?
— Ирена.
— Что ж, по-нашему Ирина, значит. А батюшку твоего как зовут?
— Тато? Брониславом.
Василий Петрович ушел в сени ставить самовар. Только Ирена умылась, причесалась, как в дверях кухни появилась невысокая, худенькая, темноглазая женщина с седыми вьющимися волосами. Она с недоумением смотрела на незнакомую девушку, застывшую посредине ее кухни с полотенцем в руках.
— Знакомься, Катя, это Ирина, невестка твоя, — сказала бабушка.
— Невестка?.. — чуть слышно прошептала мать Андрея. Она побледнела, схватилась рукой за сердце.
— Ну что же ты стоишь, Катя? Обними дочку. Вон на столе письмо от Андрюшки, — сказал Василий Петрович, входя в кухню с кипящим самоваром.
Наконец Екатерина Николаевна поняла, кто эта незнакомая девушка. Она справилась со своим волнением, улыбнулась, шагнула к Ирене, обняла ее крепко, поцеловала и вдруг заплакала.
— Вот и дождались мы с тобой, Вася, дочки, — говорила она сквозь слезы.
Ирена быстро привыкала к новой обстановке, чувствуя ласку и ненавязчивую заботу родных Андрея. Узнав, что невестка ждет ребенка, они стали относиться к ней еще бережнее.
Василий Петрович работал на заводе сменным мастером, Екатерина Николаевна — воспитательницей в детском саду. Заработок у них был небольшой. Денег едва хватало, чтобы выкупить продукты по карточкам. Ирене хотелось помочь родителям, и она попросила Василия Петровича:
— Устройте меня, пожалуйста, куда-нибудь на работу. Хоть к себе на завод, на стройку. Могу быть и прачкой, и санитаркой, и швеей. Руки у меня сильные. Ну, пожалуйста. Василий Петрович! Я не хочу так…
— Нет, Ирина! И думать не смей! — возразил Василий Петрович. — Тебе скоро родить.
— Обойдемся, дочка! — вмешалась в разговор Екатерина Николаевна. — Отдохни немного. Читай больше, пока время есть, быстрее научишься нашему языку.
Книг у Ивановых было много. Они помогали Ирене, как нельзя лучше познавать новый для нее язык, его богатство и красоту. Книги Горького, Чехова, Льва Толстого захватили ее теперь не меньше, чем любимые книги польских классиков: Сенкевича, Пруса и Мицкевича.
Изредка Ирена с Екатериной Николаевной гуляли по городу. Ирене больше всего полюбился старый городской парк. Особенно хорошо в нем под вечер, когда спадала жара. Облокотившись на перила высокой террасы, Ирена могла часами любоваться захватывающей прелестью широкой реки с желтыми пятнами больших отмелей, темной зеленью орешника в заокской дали, светлой змейкой пыльной дороги, карабкавшейся куда-то вверх между зелеными холмами. Из-за Оки, из ольховых зарослей и кустов орешника слышалась соловьиная песня.
Надвигались сумерки. Меркли заречные дали. В парке зажигались фонари. Ночь, как магнитом, притягивала звезды поближе к земле. Казалось, протяни руки, и пальцы почувствуют их холодное тепло. Звезды всем людям светят одинаково. На них смотрят, наверное, и Андрей в маленьком городке, и Юзеф в Варшаве, и сестренки в Гралеве, и отец, если он жив…
Через два месяца Ирене выдали в обмен на визу советский паспорт. Василий Петрович по такому случаю достал к ужину бутылку смородиновой настойки. Он разлил ее в граненые стаканчики, чокнулся с Иреной и сказал:
— Поздравляю, дочка! Теперь ты совсем наша.
Под Новый год Ирена получила большое письмо от отца и фотографию. Это было до того неожиданно и радостно, что Ирена не поверила в первую минуту своим глазам. Ведь прошло почти шесть долгих лет, когда она видела его в последний раз. На фотографии отец был такой, каким она его помнила, только глубже стали складки вокруг рта, да волосы совсем побелели. Но усталые, добрые, бесконечно родные глаза отца улыбались по-прежнему. Он писал:
«Здравствуй, дорогая моя девочка!
Я наконец-то дома. Где был и что пережил за все эти годы, расскажу при встрече. Как вы жили, узнал от Юзефа и сестры Марты. Спасибо, моя мужественная девочка, что сберегла младших. Не держи обиды на нашу бедную мать. Она любила вас. Как горько, что она не дожила до теперешних дней, не увидит вас счастливыми…
Дома все хорошо. Тетя Марта живет с нами. Ядя и Халина здоровы, учатся. Юзеф тоже здоров, работает по-прежнему в Варшаве и учится на инженера-строителя. Я тоже с месяц жил в Варшаве, разбирал развалины в Аллеях Иерусалимских, хотелось вложить хоть частичку собственного труда в стройки нашей непокоренной Варшавы.
Сразу же после возвращения из неволи избрали меня председателем Гралевского райсовета. Свободного времени нет совсем. Стараюсь оправдать доверие наших гралевчан, но сил у меня порой маловато, отняли-таки лагеря, да и нужного опыта в руководящей работе нет. Но есть помощники, молодые, головастые, вроде Регины Граевской. Часто хожу на могилы матери, Лели, ношу цветы. Леле я обязан твоей жизнью, Иренко, и считаю ее своей дочерью.
Кохана моя Иренко! Мне так хочется тебя увидеть. Признаться, я не думал, что мы будем жить далеко друг от друга, что ты полюбишь русского и уедешь в его страну. Недавно познакомился с твоим мужем, дочка. Он приезжал к нам в Гралево на два дня. Должен тебе сказать, что лучшего парня, чем твой Андрей, я, пожалуй, не встречал. Принципиальный, честный, волевой…
Наше Гралево строится, растет и хорошеет со дня на день. Скажу тебе по секрету, что по вечерам, придя из магистрата, снимаю костюм, натягиваю рабочий комбинезон и становлюсь на два-три часа каменщиком. Я, Граевский и еще несколько наших старых рабочих решили восстановить ту восьмигранную северную башню замка, которая была разрушена. Побелим, покрасим залы и сделаем в замке мазурский музей.
Привет тебе от Юзефа, сестер, Марты и Граевских. От нас всех — родителям Андрея. Крепко тебя целую и обнимаю. Твой отец».
Ирена перечитывала письмо по нескольку раз в день, смеялась и плакала от радости. «Тато дома! Вернулся! Тато жив!»
Приезд Андрея откладывался до марта следующего года. В письмах он умолял беречь себя и будущего сына. (Андрей был уверен, что у них родится сын). Он тоже упомянул о встрече с паном Ольшинским: «У тебя хороший, умный и деятельный отец. Теперь понятно, в кого ты у меня такая энергичная…»
В феврале Ирена родила сына. Дни теперь побежали быстрее. По вечерам, сидя у постели спящего сына, Ирена слушала вьюгу за окном и невольно вспоминала свое далекое Гралево. Ирена так живо представляла себе свой город, замок, что ей порой казалось: выгляни она на улицу сквозь оттаявший кружочек на стекле, и она увидит напротив темную громаду замка и занесенную снегом улицу Святой Катерины.
Андрей приехал в один из солнечных апрельских дней. Приехал без предупреждения. Ирена кормила Сашу, когда раздался громкий стук в калитку. Так не стучал никто из домашних. Положив уснувшего ребенка, Ирена глянула в окно и увидела край офицерского погона на зеленой польской шинели… Натыкаясь на мебель, она выбежала в сени, крича на весь дом зазвеневшим от радости голосом:
— Мама! Бабушка! Андрей приехал!
Через секунду Андрей уже обнимал Ирену, родных.
— А где же мой сын? Покажите мне его!
Андрей долго любовался спящим сыном, а потом, весь сияя, самодовольно заявил:
— Сразу видно — Иванов! Орел парень, весь в меня!
— Ты научился хвастаться, Андрей, — укоризненно сказала Ирена.
— А ты — здорово говорить по-русски! Вот разве только акцент… Можно подумать, пани Иванова, что вы из западных районов Советского Союза, допустим, из-под Львова…
Ирена и Андрей расхохотались.
Спустя годы
Шли годы. Уходило, но не забывалось прошлое.
Семь лет пролетели для Ирены словно один год. Она закончила десятилетку, поступила в педагогический институт, закончила его заочно и стала работать учительницей немецкого языка в средней школе. У Андрея с Иреной двое детей — Саша и четырехлетняя Леокадия. Дочь они назвали в память погибшей Лели.
Отец, Юзеф и сестренки писали Ирене часто. Дедушка в каждом письме звал их всех к себе. И Ирена не выдержала. Однажды, впервые за все годы, она сказала мужу:
— Андрей, уже девять лет, как я не видела родных. А отца — целых пятнадцать. Я стала забывать их лица, стала забывать свое Гралево. Мы должны поехать туда с тобою, с детьми. Мне так хочется показать им мою родину, познакомить с дедушкой. Потом мне хочется посидеть с вами над нашей Дзялдувкой, послушать, о чем теперь шепчутся старые липы и каштаны у костела и замка… Для полного счастья мне необходимо время от времени дышать воздухом своей родины.
— Понимаю, родная! Обещаю тебе, что следующий отпуск мы проведем в Гралеве, — ответил Андрей.
Летом 1956 года они, наконец, поехали в Польшу. Когда граница осталась позади, Ирена уже не отходила от вагонного окна. Поезд шел по родной земле.
В Варшаве их встретил Юзеф с женой и дочкой. Он возмужал, раздался в плечах, отчего казался выше и еще больше походил на отца. Как ни хотелось Ирене попасть скорее в Гралево, Юзеф уговорил ее пожить два дня у них. Ему не терпелось показать сестре и Андрею, как изменилась за эти годы Варшава.
— Это мы, Ирка, пробивали здесь первые тропинки, которые потом становились улицами, — говорил горделиво Юзеф. — Мы построили первый мост через Вислу, заложили фундамент под первый новый дом, видели, как пошел первый трамвай, как зажегся первый электрический фонарь на наших варшавских улицах. И вот теперь гляди!
И Ирена увидела вторично родившийся город — старый со своими семисотлетними традициями и новый. Здесь, в этом старом и вместе с тем очень молодом городе над голубой Вислой снова кипела бурная жизнь.
Они проехали по только что проложенной широкой главной магистрали. Кругом, куда ни посмотришь, поднимались леса новостроек. Память о погибших во время войны живет в Варшаве в бронзе и мраморе памятников, в граните мемориальных досок, укрепленных на стенах восстановленных домов. И всюду у подножия памятников живые цветы.
Снова, как и до войны, Варшава просыпалась от фабричных гудков на Красной Воли, Варинского и Вальтера, на Жерани и Мокотове. Это рабочие районы Варшавы. Они всегда пробуждались первыми. Услышав гудки, на улицы, как и раньше, выходят шумные, любящие посплетничать, городские торговки. Их специфический варшавский юмор не ослабел за годы войны. Они толкают перед собой тележки с цветами и фруктами и располагаются каждая на своем углу улицы. Без них Варшава немыслима.
Встречались и воспетые в песнях варшавские извозчики — «дрындяже». Они погоняют своих сонных одряхлевших лошадок и с презрительным безразличием поглядывают с высоты облучков на пролетающие мимо них трамваи и троллейбусы. «Дрындяжей» осталось немного. Всего одиннадцать. Их берегут, как музейную редкость.
На углу улиц Маршалковской и Аллей Иерусалимских им встретились музыканты. Услышав русскую речь и узнав, что Андрей служил в Польше, музыканты окружили его и спели по-польски «Катюшу», да так, что растрогали всех до слез.
Постояли над Вислой, возле легендарной бронзовой Сирены, ставшей символом и гербом столицы. Юзеф, обняв сестру за плечи, спел ей любимую песню о Варшаве:
Варшаву нельзя не любить. Только тут можно счастье найти. Только здесь сердце потерять…Побыв в Варшаве два дня, Ирена с семьей заторопилась в Гралево. Юзеф с Кристиной обещали приехать через несколько дней…
…Пошли памятные с детства родные места. Ирене казалось, что поезд идет слишком медленно. Но вот уже миновали Млаву, промелькнули деревни Нажим, Высока, Кисины. Вдали показалось Гралево… От волнения у Ирены перехватило дыхание, на глазах выступили слезы. Андрей стоял рядом и тихонько гладил ее руку.
Дети тоже не отходили от окна ни на минуту. Вдруг Саша закричал:
— Мама, смотри! Твой старый замок!
Он сразу узнал его по рассказам.
Старый друг первым встречал Ирену после долгой разлуки. Он четко выделялся на фоне погожего летнего неба. Показались костел, водокачка, блеснула на миг синяя полоска обмелевшей за лето Дзялдувки.
Поезд замедлил ход. Ирена высунулась из окна и сразу увидела бегущих вдоль поезда сестер и отца.
— Тато, — позвала она тихо. — Тато! Девочки! Мы здесь! — закричала она, наконец, звонко, во весь голос.
Встреча с родными была бурной и радостной. Отец подбрасывал вверх внуков, целовал их и приговаривал:
— Вот они какие, славные, большие! Русачки мои дорогие!
Ему еще не верилось, что эта красивая женщина его дочь, а Саша и Леля — ее дети. Он представлял себе Ирену такой, какой оставил ее много лет назад.
Отец был все такой же энергичный, все так же шутил и смеялся. Но Ирена с грустью отметила, что он сильно поседел, ссутулился, отчего казался ниже ростом, лицо в густой сетке морщин. Ну, а Халину и Ядвигу узнать невозможно. Обе высокие, стройные, красивые. Халина стала детским врачом, Ядя — инженером-экономистом. На вокзал они пришли со своими мужьями.
Родной дом встретил Ирену знакомыми запахами яблок и квашеной капусты, скрипом деревянной лестницы. Дом показался Ирене маленьким и тесным, но все в нем осталось по-прежнему, даже мебель на тех же местах.
В первый же день приезда Ирена пошла на кладбище. Долго сидела у могилы матери, заросшего белыми маргаритками холмика со скромным мраморным крестом. «Как горько, что ее нет, что она не видит, как неузнаваемо изменилась жизнь», — думала Ирена.
На могиле Лели теперь стоял красивый памятник. С фотографии на Ирену смотрела смеющаяся и вечно молодая Леля. Ирена не плакала, только не отрывала глаз от портрета подруги. Потом положила на могилу букет белых и красных гвоздик — любимых цветов Лели.
Ирена навестила Граевских. Дядя Костя давно умер. Пани Граевская выдала дочек замуж и осталась теперь с одной Данусей. Девочка заканчивала школу. Она рассказала Ирене, что их с бабушкой Паулиной часто навещает дядя Казимир и присылает бабушке деньги, чтобы она, Дануся, могла учиться. Пан Малек работает в Министерстве просвещения в Варшаве и живет один. «Земста» остался верен Леле.
Обновленным, другим стало древнее Гралево. Город разросся и стал в три раза больше, чем до войны. Снесли старые рыбачьи домики над Дзялдувкой, вдоль реки теперь тянулся неширокий бульвар с молодыми каштанами и множеством цветов. От прежней тишины не осталось и следа. То и дело встречались туристы изо всех уголков Польши. Их притягивала сюда красота мазурских озер и лесов, музей в старом рыцарском замке. У озер, на краю лесов белели открытые солнцу корпуса санаториев и домов отдыха. Один лишь костел сиротливо стоял на отшибе. Звон его колоколов показался теперь назойливым и унылым.
Обновили и старый рыцарский замок. Заделали выбоины и трещины, застеклили разноцветными стеклами окна и бойницы, покрасили решетки, восстановили по сохранившимся рисункам восьмигранную северную башню. На высоком холме вокруг замка разбили парк, поставили скамейки. Туда вели теперь каменные лестницы с фигурными балюстрадами. Но среди подстриженной травы на холме, как и прежде, торчал любимый Иреной серый валун. Около замка теперь шумно. Туристы фотографируются на фоне древних стен, ходят по залам и знакомятся с собранными здесь экспонатами многовековой истории и культуры мазурской земли. Заведует музеем пан Ольшинский, только что ушедший на пенсию.
Дедушка очень привязался к внукам. Не желая расставаться с ними ни на один час, забирал их с собой в замок.
Саша и Леля носились по гулким палатам и коридорам, играли в прятки. Прислушивались, как под высокими сводами откликается эхо.
— Леля, где ты?
— Тут!
— У-у-т! У-у-т! — откликалось во всем замке эхо, и Саше было не понять, в каком зале или коридоре искать сестру. Когда он долго не мог ее найти, то шел на хитрость и кричал:
— Выходи, Леля, не то тебя заберут крестоносцы!
— О… о… ы… ы… — гудел многократно замок. И сероглазая, шустрая сестренка, знавшая о крестоносцах, о которых ей рассказывали мама и дедушка, стремглав выбегала из замка на залитый солнцем холм.
— Ага, попалась, бояка! — смеялся довольный Саша. — Пошли к дедушке, а то он волнуется.
И они втроем шли к серому валуну, садились на него и подолгу смотрели на город, где солнце зажигало золотом и пурпуром все окна. Из-за реки, с полей, заросших сурепкой, тянуло медовым духом, перемешанным с запахами ромашки, клевера и мяты. Горько и томительно пахли разросшиеся над Дзялдувкой тополя и каштаны. Плакучие серебристые ракиты, которых тут раньше не было, мочили в воде свои длинные косы. А высоко на островерхой крыше замка клекотали аисты.
— Дедушка, они тут и зимой живут? — спросил Саша.
— Нет, на зиму эти птицы улетают в теплые края. Но всегда возвращаются назад, в свое гнездо. Тут их дом, родина.
К отцу и детям неслышно подошли Ирена и Андрей. Встали рядом. И перед Иреной отчетливо и ярко всплыло далекое детство. Когда это было? Ирена вздохнула, потом улыбнулась и сказала, обращаясь к отцу:
— Удивительно, как в жизни все повторяется, тато!
— Не только повторяется, но и продолжается, дочка, — в тон ей ответил отец, прижав к себе покрепче внуков. — Этим и прекрасна жизнь.
Примечания
1
Павяк — тюрьма для политических заключенных в Варшаве.
(обратно)2
Конгресяки — обидное прозвище жителей Варшавского воеводства. Воеводство Варшавское, граничащее с Мазурами, называлось в 1815–1915 гг. Королевством Конгрессовом — Конгресовка, а его жители — конгресяками. Мазуры с ними всегда враждовали.
(обратно)3
Легальная организация учителей.
(обратно)4
Течет Висла, течет по польскому краю,
Увидела Краков, наверное, его не минует…
Увидела Краков и сразу его полюбила,
И в знак любви лентою его опоясала…
(обратно)5
Недочеловеки.
(обратно)6
Дефензива — орган контрразведки в буржуазной Польше.
(обратно)7
Земста — по-польски месть.
(обратно)8
Мы встанем в круг, круг,
И будет, будет нам весело,
Потому что в этом кругу — бык и корова.
Что? Бык и корова?
Да! — Уродливый, как грех, директор
И злая, как оса, Берта —
Директорская овчарка!
(обратно)9
Не бросим земли, откуда мы родом,
Не дадим загубить родного языка.
Польский мы народ, польские люди,
Предки наши идут от крестьян!..
(обратно)10
Черт (немец.).
(обратно)11
Паспорт (немец.).
(обратно)12
Корки — обувь с деревянной подошвой и куском грубой кожи на носке.
(обратно)13
Раны божьи! (польск.).
(обратно)14
Стой! Кто там?
(обратно)15
Прага — правобережный район Варшавы.
(обратно)16
Сердечно приветствуем вас, дорогие солдаты! Благодарим вас, милые! (польск.).
(обратно)17
Распускались бутоны белых роз,
Вернись же, Ясю, с войны, вернись, наконец.
Вернись, поцелуй, как бывало раньше,
Подарю тебе за это самую красивую розу…
Но Янку уже ничто не нужно,
Для него и без этого белые розы цветут.
Там, под лесом, где он был убит,
Вырос на могиле белой розы куст.
(обратно)18
Танцы (польск.).
(обратно)19
Течет, течет Ока,
Как Висла, широка,
Как Висла, глубока!..
(обратно)20
«Лесные» — подпольные организации, враждебные новому строю Польши. Они занимались массовыми убийствами, поджогами, грабежами. «Вервольф» или «вильколаки» («волкоподобные»), как их обычно называли, были немецкие диверсанты, засевшие в западных лесах Польши.
(обратно)21
«ЗМП» — «Союз Польской Молодежи».
(обратно)22
«Народные вооруженные силы».
(обратно)23
«Свобода и независимость».
(обратно)
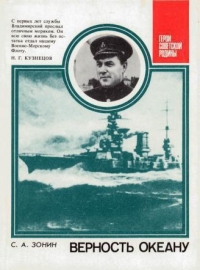

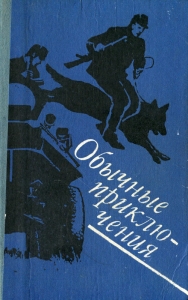
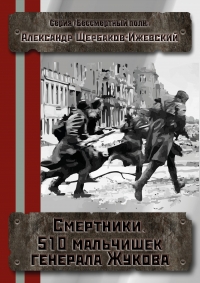
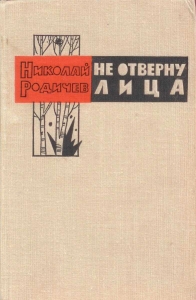





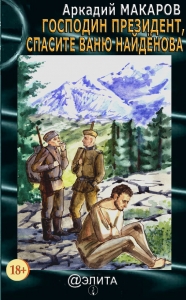
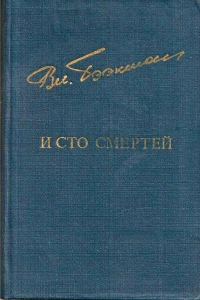
Комментарии к книге «У подножия старого замка», Марианна Юзефовна Долгова
Всего 0 комментариев