АЛЕКСЕЙ ЛОГУНОВ МОЙ ПШЕНИЧНЫЙ СНОП
Я нагнулся, чтоб сорвать ромашку С крупными лучами — лепестками, И остановился: Меж травинок Я увидел целое селенье! Под листом широким черный жук Окопался И глядит из норки, Хитрыми усами шевеля. Муравей с оторванною лапкой Тащит с передышками хвоинку. Вот мужик-трудяга! Инвалид, А работу все же не бросает. Две букашки, словно две старушки В старомодных кофточках в горошек, Греются на солнце и судачат… Я нагнулся, чтоб сорвать ромашку, И остановился. Ведь она Здесь была, как старая береза На бугре у нашего села.АЛЕКСЕЙ ЛОГУНОВ МОЙ ПШЕНИЧНЫЙ СНОП РАССКАЗЫ
БОЛЬШИЕ КЛЮЧИ
Рассвет… Я выхожу во двор. Растаял месяц за деревней. Желтеет струганый забор Сквозь кудри ивы частым гребнем. Родной и близкий уголок! На кольях две стеклянных банки. А пруд, как голубой платок, В траву упавший с плеч крестьянки, Наверно, и отец и дед, Как я, босыми выйдя в сенцы, Смотрели так же на рассвет — И так же вздрагивало сердце…Затерялась среди ржаных и овсяных полей наша неказистая деревушка — Большие Ключи. Правда, так торжественно мы именуем ее лишь тогда, когда пишем свой адрес на почтовых конвертах. А между собой называем просто Ключевка. Я часто допытывался у взрослых, почему так назвали нашу деревню. Одни говорили, что имя ей дали многочисленные холодные ключи, которые в изобилии рассыпаны на окраине и в соседнем овраге. Многие из них огорожены замшелыми срубами, и люди по сей день берут из них воду. Другие утверждали, что деревню нарекли Большими Ключами ратники Дмитрия Донского. Именно здесь была та ключевая позиция, откуда двигались они на Куликово поле, чтобы добыть в бою себе бессмертную славу, а родной земле русской — независимость и свободу.
Я верил и тем, и другим. Ведь как бы там ни было, а Большие Ключи — хорошее, красивое название! Когда я вырос, то много повидал больших и малых городов, поселков и деревень и не раз дивился красоте, певучести и благородству их названий. «Какое хорошее имя, — говорил я себе, — ничуть не хуже, чем у нашей деревушки…» Впрочем, разве мы меньше любили бы своих матерей, если бы их звали не Марья, Аксинья, Пелагея, а, скажем, Франсуаза или Генриетта?
В детстве Ключевка казалась мне огромной и загадочной. И я, как отважный путешественник, открывал и осваивал ее — шаг за шагом, избу за избой. В избах, словно зерна в колосьях, были люди: веселые, грустные, смешные, сердитые, рассудительные… Потом я заметил, что их объединяет одна особенность. Что бы ни делали ключевцы: пахали землю, или пели песни, или просто беседовали друг с другом — они всегда старались выкинуть какое-нибудь замысловатое коленце. Дескать, знай наших!
С годами я понял, что ошибался. Не тщеславное стремление удивить других, а нужда заставляла их пускаться на разные выдумки. В деревне у нас не любят неумех и бездельников. Если уж взялся за дело, то расшибись в лепешку, но сделай его хорошо. Иначе долго потом будут над тобой потешаться.
Мы, ребятишки, на выдумки тоже были большие мастаки. Моя сестра Манюха любила придумывать для меня новые игры и прозвища. Когда она приходила из лесу с корзиной грибов, то всегда спрашивала за дверью:
— Терем-теремок, кто в тереме живет?
— Леня-Леша-Алексей! — радостно и звонко отвечал я.
— А еще кто?
— Лесин, Лопушок, Подсолнушек, Карабчик!
— А ну выходи по одному! — строго приказывала сестра.
— А я здесь один! — распахивая дверь, выбегал я ей навстречу.
Игра эта повторялась каждый день и ничуть не надоедала мне. А последнее прозвище — Карабчик — так прилепилось ко мне, что никто в деревне иначе меня не называл. Я сначала обижался, потом привык. Только однажды упрекнул сестру, зачем она прозвала меня Карабчиком.
— А ты и есть Карабчик, — беспечно отвечала она. — Так и норовишь куда-нибудь повыше вскарабкаться, все тебе надо узнать да увидеть.
Это была правда. Но не озорство заставляло меня забираться на заборы, старые суковатые ветлы и крыши сараев. Я тренировался, чтобы когда-нибудь влезть на высокий тополь, обсыпанный грачиными гнездами. У наших ключевских мальчишек это считалось своеобразным испытанием на ловкость. Не влезешь — скажут: «Слаб в коленках!» или: «Мало каши ел!» Разве не обидно?
Быстрее других взбирался на тополь Мишка, наш сосед, который был старше меня года на три. Только что стоял рядом, а через минуту его красная рубаха и голые пятки уже мелькали высоко вверху, чуть ли не под облаками. Вот он, прильнув животом к толстому сучку, обхватывает его ногами и одной рукой, а другую запускает в грачиное гнездо и выгребает оттуда яйца. Сучок раскачивается, вместо с ним качается и Мишка; кажется, он вот-вот сорвется вниз, и я невольно зажмуриваюсь. А когда откроешь глаза, красная Мишкина рубаха уже скользит вниз по стволу, а сам он крепко держит в зубах кепчонку, в которой лежат грачиные яйца. Потом мы все вместе, где-нибудь за огородами, пекли их в костре и ели.
Не раз, придя к тополям (они росли за деревней, на пригорке), я пытался влезть так же высоко, как Мишка. Не раз я обдирал себе до крови коленки и рвал штаны. И однажды, когда я уже учился во втором классе, высота была покорена. Я залез даже выше грачиных гнезд!
— Ты чего там застрял? — кричали мне снизу товарищи.
А я не мог оторвать взгляда от нашей деревни. Отсюда, сверху, она была похожа на пшеничный колос!
Большак с бревенчатыми мостами и мосточками — это узловатый стебель. Он начинается где-то в синей дали, на Куликовом поле. Влево и вправо отходят от большака узкие листья проселочных дорог. А вот и сам колосок — наша Ключевка. Словно зерна, жмутся друг к другу крыши. Между ними в разных местах видны прогалы — это вылущила избы война… Но колосок стоит, топорщит в разные стороны усики тропинок и стежек!
Давно уже наша деревня перестала для меня быть неведомой и загадочной страной. Но она и сейчас еще так порой удивит, что только руками разведешь:
— Ну и Ключевка!
МОЙ ПШЕНИЧНЫЙ СНОП
Наливается на воле, Крепнет каждый колосок. Затерялась в хлебном поле Стежка, словно поясок. Утром солнышко как пышка, Трактор фыркает звончей. А у облака под мышкой — Сноп сияющих лучей.Как-то пришла с молотилки мама, и я тут же полез в ее широкий карман на фартуке. Она всегда мне что-нибудь приносила в нем: или огурец, или кусочек лепешки, который оставляла для меня от обеда.
— Ничего я тебе не принесла нынче, Карабчик, — устало сказала мама.
— А это что?
В кармане я наскреб щепотку пшеничных зерен.
— Зернышки? Ну играй, играй…
И я, устроившись за столом, стал играть в пшеничные зерна, которые у меня тут же превратились в людей. Были тут зерна-женщины, спешившие на работу, зерно-бригадир, зерна-школьники с зерном-учительницей посередине (она читала им книжку), зерно-пастух, даже зерно-стекольщик, ходивший от избы к избе с протяжным криком, похожим на песню: «Сте-екла вставляю! Ве-едра паяю!» Получилась целая деревня, наша Ключевка!
Когда осталось последнее, самое маленькое зернышко, я никак не мог придумать, кем его сделать. И тут вспомнил, что забыл про себя. Но уж больно неприглядное, щуплое зернышко осталось… Может, поменять его с кем-нибудь местами? Например, с учительницей. Подумал-подумал и не решился: разве будут ребята слушаться такого замухрышку? Тогда, может, со стекольщиком? Опять не годится: вон какой тяжелый ящик у стекольщика, его не так-то просто донести. С нашим бригадиром, одноруким Иваном Артемычем, тоже не удалось поменяться. Он даже с одной рукой так ловко запрягает лошадь, что иному человеку и с двумя за ним не угнаться.
Так и пришлось мне самому быть самым маленьким, щуплым зернышком. Помню, до того мне стало обидно, что крупные взаправдашние слезы так и закапали на стол, прямо на мою игрушечную деревню из пшеничных зерен. Я уж позабыл, что сам выдумал эту игру, и плакал всерьез, как над большим горем! Ведь каждый в Больших Ключах умел делать что-то особенное, большое и нужное, один я ничего не умел.
На другой день я собрал все свои зернышки в кулак, пришел на ток, где работала мама, и бросил их потихоньку в большой ворох пшеницы. И на душе стало отчего-то легко и радостно.
Хорошо на току. Шумно, весело, но не бестолково — работа идет! То и дело подъезжают с поля возы со снопами. Тарахтит колесный трактор ХТЗ, в распахнутых воротах риги с завыванием гудит барабан молотилки, от которого к трактору тянется широкий, чуть ли не в полметра, приводной ремень. Возле барабана распоряжается усач Петр Матвеевич, он здесь самый главный. На нем длинный кожаный фартук, почти половину лица закрывают квадратные очки в резиновой оправе — от мякины и пыли.
— Не зевайте, девки, пошевеливайтесь! — покрикивает он.
И девушки-подавальщицы, закутанные платками по самые глаза, кидают ему прямо в руки тяжелые, уже развязанные снопы. Я долго смотрю со стороны, как Петр Матвеевич сует их в ревущий барабан, словно кормит сердитого железного зверя. Барабан глотает снопы моментально, один за другим, и тут же выплевывает внутрь риги изжеванную солому. Солома ложится длинным валом, вдоль которого ходят женщины, тоже в квадратных очках, и граблями сгребают ее в стороны. А на ее месте все выше и выше растет длинный ворох пшеницы — так называемая залога.
Мне очень хочется постоять у барабана, рядом с Петром Матвеевичем, но подойти просто так, без дела, я не решаюсь. На мое счастье с одного из возов на краю тока свалился сноп, и я кинулся его поднимать. Сноп оказался тяжелым, к тому же раза в полтора выше меня ростом, но я все-таки поставил его стоймя и крепко обхватил обеими руками, словно собирался бороться. Приподняв, я нес его к молотилке, а сноп раскачивался, норовя вырваться, засовывал длинные пальцы колосьев мне за шиворот и царапался. До барабана я его не донес совсем немного: споткнулся и упал вместе со снопом прямо под ноги девушкам-подавальщицам.
— Ишь, помощничек выискался!
— Брысь отсюда!
Они подняли меня, наградили шлепком, чтобы не мешался, и больше уже я к ним не подходил.
Ну что ж, прогнали так прогнали… На току и кроме барабана немало интересного. Можно полежать на ворохе теплой пшеницы и полюбоваться причудливыми облаками в небе, похожими на сказочных птиц, можно, улучив момент, покрутить ручку веялки-тарахтелки, можно, наконец, поиграть в прятки в соломенном скирду, в котором мы с мальчишками уже успели проделать целый лабиринт длинных ходов и потайных нор. Но играть не с кем, мальчишек в этот день на току не было, кроме третьеклассника Мишки-лошадника. Да и тот занимался делом: отвозил от молотилки верхом на лошади вязанки соломы. Я было кинулся к нему, но он даже не захотел со мной разговаривать — некогда!
И снова мне стало нестерпимо грустно, как вчера, когда я играл в зернышки: все работают, у всех свое дело, один я хожу как неприкаянный и вроде бы лишний среди людей.
— Карабчик, ты чего такой насупленный?
Я поднял голову и повеселел. Дедушка Митрич! Вот с кем можно поделиться и радостью и горем. С ним дружили все деревенские мальчишки. Он учил нас делать ветряные мельницы-трещотки, плести корзины из ивовых прутьев, вырубать из старой косы лезвия для складных ножичков, что мы особенно ценили. А между делом всегда что-нибудь рассказывал.
— Поедем со мной за снопами! — позвал он.
Я прыгнул к нему на телегу, и лошадь затрусила по накатанной дороге в поле. Поудобнее устроив свою деревянную ногу, скрытую подвязанной штаниной (он был хром еще с давней-давней войны), дедушка передал мне вожжи.
— На-ка, правь конем.
Ах дедушка Митрич! Он всегда словно бы подслушает твои мысли и сделает то, что тебе больше всего хочется. Я с удовольствием держался за вожжи, время от времени встряхивал ими и, как заправский возчик, покрикивал:
— Шевелись, голубушка!
Лошадь дорогу знала сама, бежала все той же неторопливой рысцой и на мои покрикивания не обращала внимания. Старая телега с четырьмя деревянными рогатульками по углам скрипела, дребезжала, и я боялся, как бы она не рассыпалась. А дедушка между тем неторопливо рассказывал:
— Воскресла тележка-то можно сказать, из мертвых. В лопухах за кузницей валялась. Ну, я ее подремонтировал немножко, и вот — скрипит, но катится.
И только тут я заметил, что колеса у телеги разные: два обыкновенных, деревянных, одно непомерно высокое, железное, скорее всего от конных граблей, а четвертое вообще какое-то невиданное, с резиновым ободом.
— Ничего, еще послужит, — продолжал дедушка. — Небось не думала не гадала, что снова в поле придется поехать.
И он ласково, как живую, погладил телегу по старым, позеленевшим от времени доскам.
Миновав лощину, мы въехали на уже убранное поле, где стояло несколько забытых пшеничных суслонов. Они казались мне маленькими избушками. Дедушка стал складывать на телегу снопы, а мне велел водить под уздцы лошадь. После каждого суслона на стерне оставались прядки пшеничных колосьев, и дедушка ворчал сам на себя:
— Как же я, старый дурень, грабли позабыл захватить? Негоже хлеб в поле оставлять, не для того его ро́стили… Карабчик, может, ты соберешь эти прядки? А то мне с моей деревяшкой нагибаться несподручно.
— Соберу, дедушка, — отвечал я. — Мне нагибаться сподручно, я хоть сто раз нагнусь.
Но собирать пшеничные прядки оказалось не таким уж приятным делом. Стерня колола руки, нахальные оводы, обленившие лошадь, норовили ужалить и меня, по спине поползли щекотные струйки пота. И не собирать я уже не мог: стыдно было перед дедушкой, ведь обещал ему, да еще как хвастливо — «хоть сто раз нагнусь!». А он меня все похваливал:
— Вот молодец, да ты так целый сноп соберешь!
Это меня подбадривало, и охапка пшеничных колосьев постепенно росла. «А что, — размышлял я, — вот соберу сейчас сноп — большой-пребольшой. В пять… нет, в десять раз больше обычного. Привезем мы его к риге, скинем с воза Петру Матвеевичу, а тот удивится: «Вот это снопище! Кто же его связал?» — «Карабчик связал», — скажет дедушка Митрич.
— Ну, вот и всё, последний суслон убрали, — прервал мои приятные мысли дедушка Митрич. — И ты, гляжу, управился?
— Управился… — выдохнул я, с удовольствием разгибая спину.
— Теперь надо свясло свивать, — озабоченно проговорил дедушка. — Без свясла снопа не свяжешь.
Дома я не раз видел, как легко и просто скручивала свясла мама — готовила их впрок, чтобы в поле всегда были под рукой. Для нее это было не работой, а отдыхом. А когда попробовал сделать сам, у меня ничего не вышло, и я растерянно посмотрел на дедушку Митрича.
— Не получается? Ну давай вместе попытаемся.
Вдвоем мы все-таки свясло свили и связали сноп. Снопишко получился кургузый, раза в два меньше обычного, но дедушка уважительно подцепил его на вилы, как настоящий, и положил на середину воза. Потом подсадил туда же и меня, а сам пошел рядом с лошадью.
Разноколесая телега наша, покачиваясь из стороны в сторону, выбралась наконец на дорогу и пошла ровнее. Я лежал на возу, смотрел вперед, на видневшуюся вдалеке ригу, и одной рукой обнимал, словно младшего братишку, свой сноп.
КАРАБЧИК
Объявила всем весна, Что в селе — субботник. Солнце трудится с утра, Как волшебный плотник. Из-за пазухи лучи Солнце вынимает И на голые сучки Листья прибивает. Мы работаем в саду. Я сгребаю лебеду, Щепки, листья — всякий сор И ношу его в костер. День стоит прозрачно-синий, И у каждого двора Голубые плети дыма Вырастают из костра.Как-то учитель литературы Владимир Сергеевич дал нам необычное домашнее задание: написать о своем дошкольном детстве. В срок я не уложился, написал только начало на нескольких листах, но учитель все равно поставил мне «пять». Ему, видимо, понравилось то, что писал я сочинение в форме рассказа.
Помнится, это новое дело так увлекло меня, что я продолжал просиживать над заветной тетрадкой все вечера, запустил уроки, по многим предметам нахватал двоек, и тот же Владимир Сергеевич (он был у нас классным руководителем) позорил меня перед всем классом. Он даже вызвал в школу мою мать, после чего заветная тетрадка исчезла (мать сказала, что растопила ею печь), и я, погоревав, постепенно забыл о ней.
А мама, оказывается, тетрадку сберегла. Я нашел ее в старом зеленом сундуке, среди конвертов с адресами родственников и газетных вырезок о разных лекарственных травах. Тетрадка от времени пожелтела, фиолетовые чернила поблекли, но разобрать написанное вполне можно. И теперь я иногда перечитываю ее, особенно длинными зимними вечерами, когда все домашние угомонятся и можно наконец посидеть в одиночестве, подумать о жизни или просто послушать, как скребется в балконную дверь ветер и тихо позванивают стекла в рамах.
Она и сейчас лежит передо мной, эта тетрадка, и я вновь осторожно и медленно листаю ее, перечитываю, словно давно забытую сказку.
«Правдивое жизнеописание деревенского мальчишки, по прозвищу Карабчик, который очень хотел стать большим человеком…»
Жил в деревне мальчишка, по прозвищу Карабчик. Жил он с мамой и с сестренкой Манюхой, ученицей третьего класса. Мама, как и все деревенские женщины, много работала: то на ферме, то в поло. Домой возвращалась с заходом солнца, а то и позже. Манюха тоже часто отлучалась из дому: собирала на колхозном огороде мерзлую прошлогоднюю картошку, из которой потом пекли оладьи, бегала в лес за щавелем и диким луком. И мама с грустной улыбкой называла ее «наша кормилица».
А Карабчику то и дело приходилось оставаться дома одному, за хозяина.
Вот и сегодня утром Манюха наказала ему:
— Я пойду в лес, а ты играй у дома, далеко не ходи. Утята прибегут — накормишь.
— Как будто я сам не знаю, — обиженно ответил он. — Не маленький…
Когда сестра ушла, Карабчик решил заранее приготовить корм. И пока он мял в чугунке вареные картофельные очистки, утята уже были тут как тут. Друг за другом перескакивали они через порог, и в сенцах сразу стало шумно и бестолково. Последним, попискивая, вперевалочку приплелся Самолет. Так звали самого маленького утенка с растопыренными крыльями.
Когда Самолет только вывелся, он ничем не отличался от своих братьев, пушистых несмышленых комочков. Высиживала утят не утка, а курица. И все-таки утята, когда немного подросли, каким-то чудом разузнали, что недалеко от дома, за дорогой, находится старый илистый пруд. Целыми днями они стали пропадать там. А курица, побегав дня два вдоль берега, снова стала нестись.
Вот тогда-то и случилась беда. Однажды теплая гладь пруда запузырилась от налетевшего дождя. Кинулись утята на берег, зовут свою приемную мать-курицу, а ее нет. Дождь, как нарочно, выдался хлесткий, с ветром. И не добраться бы маленьким желтым комочкам до дома, не подоспей к ним на выручку Манюха. Быстро покидала она мокрых, обессилевших утят в лукошко, накрыла маминым фартуком — и в избу. Лукошко поставила на печку — отогревайтесь, гулены!
Обсохнув, утята снова стали беззаботными и шустрыми. Только один из них никак не мог прийти в себя: крылья распустил, глаза прикрыл синими пленками — вот-вот умрет. Его и молоком поили, и ночевать посадили в отдельное лукошко, чтоб не затоптали ненароком беспокойные братья.
— Не жилец он больше, что вы его мучаете! — сердито сказала вечером мама.
Но утенок ожил. Утром он уже пил молоко, ел пшенную кашу и вперевалочку ходил по избе. Только маленькие крылья его были опущены. Как ни старался он их поддергивать и укладывать на место, они все равно сползали и торчали в стороны. С тех пор и прозвали его Самолетом.
За те несколько дней, пока его отхаживали, Карабчик очень привязался к утенку. Может быть, потому, что он сам в это время болел ангиной, на улицу его не пускали, и Самолет был ему вместо товарища. Мальчик сажал его к себе на колени, и утенок, пригревшись, дремал и забавно, тоненько чиликал.
Рос Самолет значительно медленнее своих счастливых братьев, поэтому и места у корытца с кормом ему не всегда доставалось: кто-нибудь да ототрет в сторону. Так было и на этот раз.
— Подожди, Самолет, — сказал ему Карабчик, — не лезь ты к этим нахалам. Я тебя сейчас отдельно кашей покормлю.
Он быстро нырнул в избу и заглянул в чугунок. Но каши не было. Карабчик совсем забыл, что еще утром они с Манюхой съели все до крошки.
И тут он увидел, что с полки свисает край полотенца. В него мама обычно завертывает хлеб. В доме у них к хлебу все относятся уважительно и строго. Мама за обедом аккуратно отрезает три ломтя, причем себе всегда чуть потоньше, а остальной убирает на полку.
«Взять или не надо?» — на секунду задумался Карабчик и решил взять. Он торопливо положил краюшку на стол и отрезал тоненький ломтик — для Самолета. Подумал и отрезал еще один ломтик — для себя. Прикрыв остальной хлеб полотенцем, мальчик заспешил в сени.
Утят там уже не было. У пустого корыта стоял, доклевывая крошки, петух — мохноногий, грозный в своем черно-красном оперении. Даже почти голая от многочисленных драк шея не портила его воинственно-величественного вида.
К нему, добродушно чиликая, неуклюже ковылял Самолет. Он, видимо, побежал вместе с братцами к пруду, когда те наелись. Но голод заставил его вернуться. Уж лучше бы он не возвращался! Петух скосил на него черный блестящий глаз и сердито клюнул в нежно-желтый пушистый затылок. Куда, дескать, лезешь, мелюзга? Самолет упал на спину, дернул несколько раз ланками и затих. Все это произошло за каких-нибудь несколько секунд, так что мальчик едва успел опомниться.
— Ах ты гад ползучий! — бросился Карабчик на петуха. — Дурак! Фашист ободранный!
Самоуверенный петух нападения не ожидал. С диким клекотом вылетел он из сеней, теряя по пути пух и раздувая крыльями сор.
О, сколько раз мама собиралась отрубить этому разбойнику голову! Раскопанным на огороде грядкам, поклеванным огурцам и помидорам уже перестали вести счет. Из-за него в доме не живет ни одна кошка. Стоит ей только появиться во дворе, как петух, словно только и ждал ее, налетает невесть откуда и бьет смертным боем. Однажды он налетел даже на Карабчика, когда тот был поменьше. И вот теперь еще одна жертва — безобидный заморыш Самолет!
Мальчик осторожно поднял его с холодного земляного пола, подышал в клюв, но утенок не шевелился. Он был еще теплый, хотя голова уже безжизненно свисала вниз. А на пушисто-желтом затылке выступила алая капелька крови.
И Карабчик заплакал. Ну почему, почему больше всего страдать приходится маленьким и безобидным?
Размазывая по щекам слезы, он положил утенка за пазуху, под рубаху, прижал к голой теплой груди и залез на печку.
Мальчик прижимался к еще теплому печному колпаку, словно ища у него защиты, и тихо всхлипывал. Сколько он пролежал так — час, два ли, — Карабчик сказать не мог. Вдруг дверь открылась, и в избу тихо вошел петух. Потом он также бесшумно взлетел на печку и уселся Карабчику на грудь. Мальчик ясно ощущал его тяжесть, чувствовал, как петух ворочается, стараясь сесть поудобнее. Карабчик хотел закричать, схватить петуха за голову и оторвать ее, но не мог пошевелить ни ногой, ни рукой. Казалось, его спеленали, как в детстве, или скрутили веревками. Слезы отчаяния и обиды так и брызнули из его глаз.
Тут он услышал, как тихо и тоненько чиликал Самолет. Неразумный, он снова протягивал к петуху шею, словно хотел сказать ему что-то доброе и ласковое. А петух, как тогда в сенцах, презрительно покосился на утенка блестящим глазом и вот-вот готов был снова клюнуть его в пушистый, желтый затылок.
«Ах ты гад ползучий!» — в отчаянии закричал на него Карабчик и… проснулся. Петуха нигде не было. Зато Самолет действительно сидел на его груди и снова тоненько чиликал. Он был жив!
— Самолетик, хороший мой, оживел… — радовался Карабчик, устраивая утенку в лукошке гнездышко поудобнее. — И откуда у тебя только силы берутся… Заморыш заморышем, а смотри какой!
Глядя на утенка, Карабчик и сам чувствовал себя как будто подросшим. В голове его созревал план расправы с петухом. В том, что этого полудикого голодранца надо уничтожить, у мальчика не было никаких сомнений. Но как это сделать? Сказать маме, чтоб отрубила ему голову? Опять только будет обещать…
— Сделаю рогатку, подкрадусь незаметно и застрелю, — окончательно решил он судьбу петуха.
Прошло несколько дней. Самолет совсем оправился и снова по целым дням плавал с другими утятами в пруду. Рогатку Карабчик так и не сделал — не было резинки. Но мысль о том, чтобы убить петуха или хотя бы примерно наказать его, не покидала мальчика. И он почти осуществил ее: долго гонялся за петухом по двору, по огороду, кидал в него камнями, так что тот вынужден был, спасая жизнь, взлететь на крышу избы, где и просидел до самого вечера. А разгоряченный, довольный Карабчик напился в подвале холодного молока и снова заболел ангиной.
Конечно, его опять стали закрывать в избе на замок, чтобы не убежал на улицу и не простудился еще больше. Скоро ли он поправится? Наверное, скоро: глотать уже совсем не больно. Только вот скучно Карабчику. Он сидит на подоконнике и смотрит в окно. А на него из палисадника смотрит большой рыжий подсолнух. Ему хорошо, подсолнуху, он на улице. Правда, всю жизнь на одной ножке стоять тоже не очень интересно. Но зато все-все кругом видно.
Подсолнух с утра начинает медленно поворачивать голову и внимательно все разглядывать. За день он делает только один поворот.
«И чего он, чудак, так медленно поворачивается? — думает Карабчик. — Я бы на его месте все уже давно рассмотрел. Ага, наверное, у него шея болит», — решает мальчик.
Карабчика тоже мама зовет иногда Подсолнушком. За веснушки. Они, как зернышки, все лицо его усеяли.
Как медленно тянется время! Но Карабчик старается не унывать. Он болтает ногами и глядит на большой плакат, приклеенный к стене крахмальным клейстером. С плаката на мальчика смотрит боец с красной звездочкой. В руках у бойца флаг, а на нем буквы. Читать Карабчик не умеет, но что там написано, он знает. «Мы победим!» — вот что там написано. Об этом ему и мама говорила, и Манюха тоже. А еще Манюха сказала, что этот боец — их папа. Карабчик не поверил ей и спросил у мамы. Но мама отчего-то вдруг стала очень задумчивой и ничего не ответила.
Скоро мама придет, Скоро папа придет… —негромко напевает Карабчик. Получается что-то вроде песенки. Он еще энергичнее болтает ногами и продолжает сочинять:
Мама — с работы, Папа — с войны…Как здорово — он сам придумал песню! Правда, он ее и не придумывал вовсе, она сама сорвалась с языка. «Спою ее вечером Манюхе, она еще такой не знает», — думает Карабчик. Но до вечера еще далеко, а ему хочется с кем-нибудь поделиться радостью. На потолке живут его друзья — маленькие смешные человечки. Сестра говорит, что это обыкновенные сучки. Но что она понимает? Разве ей приходилось хотя бы один день просидеть под замком?
Вот тот, с бородой, похож на дедушку Митрича. Он все время куда-то торопится. Наверное, его кто-нибудь ждет. Чуть подальше — девочка с корзинкой. Это Манюха, сестра. Без платка идет, ветер растрепал волосы, и голова ее похожа на маленькую копну сена. А у стенки, на самой широкой доске, живут сразу три человечка. Это мальчишки. У них там тепло и весело. Наверное, недавно прошел дождь, и они бегают по лужам. А в руках, словно сабли, держат длинные хворостины. У одного даже две.
Карабчик вспомнил, как недавно так же вот бегал сам, вздохнул и закрыл глаза. А человечки взялись за руки и закружились в хороводе Они кружились и пели его песенку:
Скоро мама придет, Скоро папа придет. Мама — с работы, Папа — с войны…Когда Карабчик открыл глаза, хитрые человечки были уже на своих местах и как ни в чем не бывало занимались каждый своим делом. Карабчик посмотрел на плакат. И мальчику показалось, что строгое лицо папы-бойца чуть заметно улыбнулось.
Рядом с плакатом на стене висят часы, старые заржавевшие ходики. Но они уже давно не ходят.
— Надо Митрича позвать, может, починит, — часто говорит мама. — Скучно без часов-то…
Но проходит день за днем, дед Митрич все не появляется, и часы молчаливо продолжают висеть на стене. Как украшение. Карабчик даже не знает, как они тикают. А Манюха говорит, что раньше ходики очень весело тикали: тик-так, тик-так… Ну, не тикают, и не надо. Время и по солнышку узнать можно, сейчас не зима. А зимой, когда солнышко встает поздно и утром бывает совсем темно, мама открывает штору и смотрит: не светятся ли в чьей-нибудь избе окошки? Если светятся, значит, пора вставать.
Раньше всех они начинают светиться у деда Митрича. Избушка у него меньше всех, а видно ее всей деревне: на бугре стоит.
Интересный это человек, дед Митрич! Ростом он совсем маленький, с Манюху, а лицо сплошь заросло густыми белыми волосами. Среди них, как два золотистых шмеля, ворочаются быстрые, с хитринкой глаза. Да еще торчит нос. Одна нога у деда деревянная. Когда он идет, она негромко поскрипывает, словно жалуется на что-то.
Но Митрич хоть и мал ростом и на деревянной ноге, а мастер на все руки. Он и худые ведра паяет, и стекло в раму вставит, и новую табуретку смастерит. Даже лошадей кует, Карабчик однажды сам видел на колхозном дворе, возле кузницы. А еще про него рассказывают, что он умеет заговаривать зубы, если у кого заболят. Но это, наверное, врут.
Карабчик его сначала побаивался. Но он добрый, Митрич. Когда встретит мальчика на улице, то огурец ему даст, то горсть стручков гороховых или просто погладит своей большой твердой ладонью по голове. И всегда зовет к себе домой, в гости.
— Приходи, я тебе ветряную мельницу сделаю. Вон она, моя изба, крайняя, на отшибе стоит — видишь?
Карабчик видел. Но жил Митрич все-таки далеко, за прудом, на дальней слободе, которая называлась Оторвановка. Стоит она особняком, на крутом берегу глухого оврага. Словно действительно кто-то оторвал кусок от деревни и бросил в сторону. Карабчик так далеко от дома в одиночку ни разу не уходил — мама не разрешает. А сегодня это получилось как-то само собой.
От скуки Карабчик вышел в сенцы, подергал дверь — на замке. Заодно подергал другую дверь, она вела в хлев, где жила корова Зорька. Дверь не открывалась. Но зато качался клин, которым ее запирали. Потянул его Карабчик посильней — клин и выскочил. Сладко запахло навозом, прелой соломой, и всего его обдало светом, так что Карабчик зажмурился. В хлеву была еще одна дверь, она оказалась распахнутой настежь.
Не выйти на улицу было просто невозможно. И Карабчик вышел. От яркого солнца, запаха теплой земли и крапивы его слегка пошатывало. Тихо-тихо, маленькими шажками он прошел мимо палисадника, мимо погреба, миновал колодец… Впереди, за дорогой, синел пруд. А за ним начинался мир, в который одного его не пускали. «Ты куда, Карабчик?» — обычно спрашивала мама. И Манюха тоже. Сегодня его никто об этом не спросит. Он на свободе! Конечно, когда мама узнает, что он ушел из дома один, то очень огорчится. «Что же ты, Подсолнушек?» — скажет она. Но Карабчик старался не думать об этом.
Ведь как весело было идти далеко-далеко, и совсем одному! Карабчик пополоскал ноги в пруду, поймал и потом отпустил водяного жука. За прудом, на лугу, постоял у ямы, в которой выжигали известку, а на тропинке нашел осколок чашки с золотой каемкой.
Но самое большое чудо его ждало впереди: это была изба деда Митрича. Вся она такая маленькая, приземистая, словно и не изба вовсе, а теремок из сказки. Оконные наличники ее выкрашены в ярко-синий цвет, отчего изба казалась синеглазой. Да и крыша не соломенная, как у других, а из досок. По ним во все стороны разросся зеленый мох. А в одном месте между досок даже цвела Желтая сурепка!
— Карабчик! — услышал мальчик обрадованный голос деда, словно тот давно ждал его. — Заходи под навес, потолкуем.
Навес был устроен в проулке, на случай дождя. Здесь стоял небольшой верстак, две старых кадушки, лежали доски. Вокруг были разбросаны щепки и пахло смолой. Сам дед сидел на приземистом чурбаке и аккуратно обтесывал деревянный круглячок. На землю сыпались мелкие желтые стружки. Можно было подумать, что он не круглячок строгает, а стрижет золотистого кудрявого ягненка. Все это было так незнакомо, ново, что казалось таинственным. Но дед Митрич улыбался ласково и добродушно. Он разворошил стружки в решете, которое стояло рядом, и вынул оттуда крупное куриной яйцо.
— Держи гостинец, — протянул он Карабчику.
И мальчик немного осмелел. Он присел на корточки и стал ловить стружки в ладонь.
— Вот, ногу себе новую делаю, — словоохотливо заговорил дед Митрич и постучал себя по деревянному обрубку, — эта неуклюжая очень. Рассохлась вся, скрипит.
— Сам себе ногу делаешь? — удивился Карабчик.
— Конечно, ведь я же старый солдат, — засмеялся Митрич, — значит, все должен уметь делать, даже щи из топора сварить. И однажды сварил… Не веришь?
Карабчик знает, что это сказка, Манюха ему ее рассказывала, но он сейчас искренне верит даже в это, И ему хочется стать старым солдатом, чтобы все-все на свете уметь делать.
— И кто тебя только научил всему, — снова удивляется мальчик.
— Нужда научила, — отвечает дед. — Она, брат, нужда-то всему научит.
— А какая она, деда?
— Нужда какая? Старая она. Тыщу лет ей, а может, и больше.
— И меня научит она? — снова допытывается мальчик.
— Научит, — уверенно говорит дед Митрич. — Вот как повстречаешься с ней, так и научит.
— А где я с ней повстречаюсь?
— Да уж где-нибудь повстречаешься. Ходит-бродит она по белу свету среди людей; не ждешь, не зовешь ее — а она припожалует.
«Скорее бы уж, что ль, приходила, — думает мальчик. — Деду Митричу что, он вон даже ногу делает для себя сам… А я маленький, ничего не могу».
— Плохо быть маленьким… — вздохнул Карабчик.
Дед Митрич внимательно посмотрел на мальчика, хитро прищурился.
— Мы люди маленькие, да удаленькие! — весело сказал он. — И на выдумки горазды. И ты не горюй, что мал, не один живешь — с людьми. Придет время — всему научишься.
— Научусь, — согласился Карабчик.
— А что же ты яйцо не пьешь? — спросил Митрич. — Умеешь, чтобы скорлупу не разбивать?
— А разве можно так?
— Можно.
И Митрич научил мальчика делать «фокус-мокус». Проткнешь в скорлупе гвоздиком маленькие дырочки с двух сторон — и пей. Высосешь все, а скорлупа целая останется. Как будто настоящее яйцо, только совсем легкое.
Сделал дед Митрич мальчику и обещанную ветряную мельницу, и даже подарил совсем маленькую пилу-ножовку. Хоть и была она величиной с ложку, но пилила как настоящая.
И Карабчик заспешил домой. Ему не терпелось что-нибудь смастерить самому, как дед Митрич. В избу он вошел прежним путем, через хлев. Манюха еще не приходила, и мальчик самостоятельно принялся за поиски, что можно было бы распилить. Но ничего такого не находилось. Может, отремонтировать что-нибудь? Взгляд его упал на старые ходики. Что у них там внутри, почему они сломались и не тикают? Карабчик пододвинул к стене табуретку. Часы висели не очень высоко, он легко дотянулся до них и снял с гвоздя.
Когда он заглянул внутрь, оттуда рысью выбежал серый паук и спрятался в щель между печкой и полом. Внутри часов было много зубчатых колесиков — больших, поменьше и совсем маленьких. Все они, словно нитками, были опутаны паутиной.
— Ах ты злодей! — сказал Карабчик пауку. — Опутал все колесики в ходиках, вот они и не тикают. Ну погоди, я еще до тебя доберусь.
Мальчик долго дул в дырочку, очищая колесики от паутины, а потом за цепочку стал возить ходики по полу: часы превратились в грузовик.
— Фы-ырр, фы-ыррр! — фыркал Карабчик. — Что за грязная дорога, опять забуксовали. Надо подлить горючего.
Однажды, к большой радости мальчишек, возле их слободы застрял грузовик, и они помогали его вытаскивать. С тех пор Карабчик часто в играх своих становился шофером.
Мальчик разыскал на столе гасничку — пузырек со вставленным в него фитилем — и налил из него немного керосину в дырочку в часах.
— Ну вот, теперь поехали. Фы-ырр, фы-ыррр!
Грузовик продолжал еще буксовать, когда в сенцах звякнула щеколда и появилась Манюха. Увидев беспорядок в избе, она всплеснула руками:
— Господи, Карабчик, что ты тут делал? И зачем часы снял?
Оправдываться было бесполезно. И Карабчик честно рассказал обо всем.
— Глупый ты, глупый, — причитала Манюха, вешая на стенку ходики. — Керосин вот разлил… Ох и попадет тебе от мамы!
Повесив ходики на место, Манюха поддернула гирьку, машинально качнула маятник.
Тик-так, тик-так, тик-так…
Часы ходили, не останавливались! С их механизма керосином отъело ржавчину, и зубчатые колесики-шестеренки снова завертелись. Не остановились они и через минуту, и через полчаса. Часы шли и шли, словно спешили наверстать упущенное время. А внутри их что-то тихо поскрипывало.
Теперь на Карабчика Манюха смотрела с большим изумлением. Она ведь считала его совсем малышом, а он вот что сделал — ходики починил! Вечером, когда мама пришла с работы, ребята первым делом подвели ее к часам.
— Видишь, тикают? Это их Карабчик починил. Сам! — радовалась Манюха.
— Ну, вот и помощник подрос, — сказала мама, ласково погладила сынишку по голове и отвернулась, чтобы ребята не видели ее неожиданно набежавших слез. Но они видели…
ХРОМОЙ ЧЕРТ
У новой избы, Под окном, В огороде, У старого пруда И возле дороги — Вся наша деревня Сажает деревья! У тети Алены — Клены, У бабушки Феклы — Ветлы, У Зины — рябины, У Розы — березы, У дедушки Васи — Ясень… Я из лесу даже Дубок приволок: Пусть вместе со мной Подрастает дубок. Как много деревьев Посажено разных! … В весенней деревне Веселье и праздник.О хромом черте я слышал часто. Работал он лесником, и многие ключевцы, бывая в лесу, встречались с ним. У одних он отбирал топоры и пилы, когда те пытались срубить на дрова дубок или березку, других стыдил, а некоторых даже штрафовал, что считалось особенно большой неприятностью.
— Принесло же на нашу голову этого хромого черта! — говорили они.
Зато тем, кто собирал для хромого черта желуди, семена бересклета, жимолости, акации, клена, вяза и других деревьев и кустарников, он давал дров бесплатно, по целому возу.
Говорили, будто живет хромой черт совсем один, в лесной сторожке, и это делало его для меня еще более таинственным и непонятным.
Как-то мальчишки постарше собрались в лес, и я увязался за ними. В лесу я был всего раза два, да и то с мамой, поэтому сейчас идти было и весело, и жутко. Я радовался, что иду как большой, и никто меня не держит за руку, чтобы не потерялся. В то же время было страшновато: вдруг встретится хромой черт? А ребята всю дорогу только о нем и говорили.
Но стоило нам войти в молодой прозрачный березняк, где на все лады звенели шмели и птицы, а вверху плавали круглые светлые облака, как все страхи сразу же забылись. Ребята тут же принялись кататься на березах. Это у нас называлось «спуститься на парашюте». После нескольких попыток научился кататься и я. Проделывалось это так. Забираешься на тонкую березку как можно выше, почти до самой макушки, затем крепко хватаешься обеими руками за ее упругую вершину и, раскачавшись, падаешь вниз. Березка под тяжестью твоего тела сгибается, и ты стремительно несешься к земле. Коснувшись пятками травы, нужно быстро разжать руки, иначе березка, распрямившись, могла тебя снова подбросить в воздух.
Так со мной и случилось. Когда я с замирающим от восторга сердцем летел по воздуху, кто-то из ребят отчаянно крикнул:
— Хромой черт!
Товарищи мои тут же рассыпались по лесу, а я от неожиданности и страха вцепился в макушку березки мертвой хваткой. В то же мгновение меня снова подбросило в воздух, и я, раскачиваясь, повис, словно над пропастью. Когда взглянул вниз, то к ужасу своему увидел прямо под собой синюю форменную фуражку и протянутые ко мне руки. Я зажмурился и… разревелся.
— Да не бойся ты, дурачок, — услышал я снизу спокойный голос. — Прыгай, я поймаю тебя. А то убьешься еще…
Не помню, сам ли я прыгнул, или руки, не выдержав напряжения, отцепились, только оказался я в крепких объятиях лесника. Он поставил меня на ноги, вытер тыльной стороной ладони слезы с моих щек. Теплая загорелая рука его пахла смолой и махоркой.
— Эх ты, парашютист-неудачник! — весело сказал лесник и улыбнулся.
Я несмело взглянул ему в лицо. Это был высокий рыжий парень в выгоревшей на солнце гимнастерке и солдатских сапогах. Один сапог, когда лесник поворачивался, сильно скрипел: вместо ноги у него был протез. К удивлению моему, за уши лесник меня не оттрепал и даже не грозился оштрафовать. А когда я немного успокоился, спросил:
— Что же тебя товарищи бросили, а?
— Н-не знаю…
— Да, брат. Жизнь — она штука заковыристая. Ты из Ключевки? Ну пойдем, я тебя провожу немного, а то еще заблудишься.
Я искоса поглядывал на лесника. На гимнастерке у него поблескивал от солнечных бликов орден Красной Звезды, такой же, как у моего отца. Это и удивило меня, и почему-то обрадовало. А лесник то отыскивал молодые, сочные стебли щавеля, с удовольствием ел их сам и угощал меня, то показывал причудливый старый пень, похожий на голову диковинного зверя, а то вдруг, быстро нагибаясь, вытаскивал из травы упругий свинушок или еще какой гриб.
— Складывай их в рубаху, — приказал он мне, — придешь домой с лесными гостинцами. Всё, глядишь, мать не отлупит. Небось без спросу в лес ушел, а?
Но самое удивительное, чего уж я никак не ожидал от лесника, была сказка, которую он рассказал мне возле старого, корявого дуба, росшего на опушке. Не знаю, сам ли он ее выдумал или слышал от кого, но мне эта немного странная сказка запомнилась надолго.
…На высоком лысом бугре жил разбойник-ветер. Изредка он, по-змеиному свернувшись в кольцо, вполглаза дремал. Но чаще улетал в соседнюю деревню, к людям, и там безобразничал. То напустит в избу холоду, то сломит макушку старой березе, то еще что-нибудь натворит. Такая у него была вредная натура.
Возвращался ветер довольный, а за ним всегда тянулся хвост из опавших листьев, сора и пыли.
Однажды на лысом бугре весной проклюнулись два зеленых росточка. Видно, ветер затащил сюда на своем хвосте семена каких-то растений. Росточки тянулись к солнцу, крепли и вскоре превратились в два молодых деревца — дубок и тополек. С высокого бугра они видели, как ветер в деревне обижает людей, и жалели их.
— Как жаль, что мы выросли не на деревенской околице, — шептались они, — мы бы своей грудью заслонили деревню от ветра.
Со временем они стали крепкими и сильными деревьями. Но каждый со своим характером. Когда ветер начинал бушевать слишком сильно, тополь скрипел всем своим упругим телом, шумел и возмущался. Но он не гнул спину, а стоял с гордо поднятой головой перед ненавистным врагом. И однажды в сильную бурю сломался. Люди изрубили его на дрова и стали топить ими печи. Так тополь и после смерти воевал с холодным ветром: сгорая, он согревал людей и давал им силы для жизни в ту суровую зиму.
Люди сложили о гордом тополе мужественную и веселую песню. Первыми разучили ее мальчишки. Они каждый день распевали эту песню по дороге в школу, на снежной горке и где только им вздумается.
Молодой дубок остался в одиночестве. В глубокой задумчивости стоял он на открытом со всех сторон бугре, и каждый порыв ветра гнул его до самой земли. И люди удивлялись его живучести. Он все глубже пускал корни в землю, и разбойник-ветер уже ничего с ним не мог поделать. А осенью на его ветвях выросли бронзовые, словно пули, желуди. Ветер от этого совсем взбеленился:
— Ишь како-о-ой! — выл и шумел он. — Все прикидывался покорным, гнулся до земли, а сам уже желудями обвешался! Уничтожу все твое потомство!
И ветер яростно стал срывать с веток желуди и разбрасывать их как можно дальше.
Снова пришла весна. Из желудей проклюнулись росточки, и потянулись к солнцу молодые дубки. Так постепенно на бугре, в самом логове ветра-разбойника, выросла большая дубовая роща. Она надежно заслонила собой деревню, и ветру пришлось убраться в другие края. А старый дуб, хотя и был еще силен, стал очень некрасивым. От постоянных поклонов ветру у него образовался большой горб, ветки скрючились, стали узловатыми. Что делать, в жизни ничто не проходит бесследно.
В дубовую рощу сейчас часто приходят дети.
— Смотрите, какое страшилище! — говорят они, показывая на старый дуб. — И зачем только такие образины на свет родятся?
И дети побыстрее уходят от старого дуба. А чтобы им не было страшно, они поют веселую и мужественную песню о гордом тополе, которую сложили их отцы и деды.
— Ну как, поправилось? — спросил лесник.
— Тополь жалко, — отвечал я, осматриваясь вокруг. — А где же пень?
— Какой пень?
— Ну… от тополя. Ведь должен остаться пенек.
— А почему ты думаешь, что он рос именно здесь?
— Да ведь вот же дуб стоит, тот самый. Неужели ты его не узнал?
Лесник засмеялся, потом сказал:
— Мало ли, мальчик, по белу свету таких корявых дубов растет…
Мы посидели некоторое время молча, затем лесник тряхнул головой, словно отгонял мух или невеселые мысли, и спросил:
— Да ты чей будешь-то? Что-то личность знакомая.
— Андрея Курносова сын.
— Андрея Михалыча? — удивился лесник. — Так я и подумал. Воевали мы с ним вместе… Хороший мужик, справедливый.
Мне было приятно, что так говорят о моем отце, и я совсем осмелел:
— А зачем ты топоры у людей отбираешь?
— Чтобы лес не губили, — отвечал лесник. — Если люди вырубят весь лес, то прилетит сюда разбойник-ветер и начнет им же самим делать разные пакости… Придут тогда люди ко мне и скажут: «Ты куда смотрел, хромой черт? Почему не отбирал у нас топоры?» Вот какие дела, Карабчик…
Я удивился: откуда лесник знает, что я — Карабчик? Но он знал не только это. Выведя меня на опушку, он показал рукой вдаль:
— А вон ваша деревня виднеется.
Но я, сколько ни смотрел, никакой деревни не видел и сказал об этом леснику.
— Так она же за бугром, чудак, — улыбнулся он. — Зато видно флаг, который на крыше вашей школы развевается. Присмотрись получше.
Красный флаг действительно было видно. Он плескался на самом горизонте, на фоне чистого синего неба, словно бы вырастая из пшеничного поля.
— Иди все время на красный флаг — и с пути не собьешься, — напутствовал меня лесник. — Ну, счастливо!
И я заспешил по узкой полевой стежке домой.
МАТРОСКА
Идет размашисто весна. В земле бунтует сок. Из полусонного зерна Проклюнулся росток. И на рассвете кулачком Отважно, Как боксер, Пробил он влажный чернозем — И вышел на простор!Мне никогда не забыть истории, которая произошла с Шуриком, парнишкой лет тринадцати. Жил он вдвоем с больной матерью. Она еле передвигалась, даже летом носила старые, подшитые валенки и все, бывало, сидела возле избы на скамеечке. В Ключевку приехали они со Смоленщины вместе с другими эвакуированными, да так и прижились навсегда. Чтобы семья эта как-то могла существовать, колхозники выбрали Шурика подпаском: как-никак общественные харчи (кормили пастухов в каждом доме по очереди), да и заработок к тому же.
У нас, деревенских мальчишек, перед подпаском была большая вина. Завидев его где-нибудь на улице, на безопасном расстоянии, мы всегда принимались кричать на разные голоса:
Пастух, пастух, Овечий дух!Шурик иногда прицыкнет на нас, и мы, как воробьи, разлетимся в разные стороны, без оглядки убегая домой. Но чаще он проходил мимо равнодушно, и весь его отрешенный вид словно бы говорил: мелюзга, что с них возьмешь? А вообще он был вежлив и незлобив, даже с непослушными коровами и бестолковыми овцами. И некоторые считали его чуть ли не дурачком.
Слава эта особенно укрепилась, когда люди заметили одну его странность. Шурик почти никогда, даже за обедом, не снимал с головы старенькую бескозырку, или матроску, как обычно в деревне у нас называется этот головной убор. А если уж снимал ее, то прятал за пазуху или крепко держал в руках.
— Болеет он, — судачили между собой женщины, — голова у него, видать, зябнет…
Нам такое объяснение казалось слишком простым, и во всем этом чудилась некая тайна.
— Шурик, дай матроску померить, — говорил кто-нибудь из нас невинным голосом, когда подпасок вечером приходил в очередной дом ужинать и вокруг него собиралась ватага ребят.
Шурик от таких слов обычно пугался, придерживал матроску рукой, чем доставлял окружающим немалое удовольствие.
— З-зачем? — говорил он, слегка заикаясь. — Н-не надо.
Ну разве можно было такого человека не дразнить? И у нас появилась еще одна дразнилка, более, на наш мальчишеский взгляд, подходящая:
Моряк — с печки бряк, Растянулся, как червяк!Кроме подтруниванья над подпаском, было у нас еще одно любимое занятие — ловить гольцов в ручье, который бежал за деревней, в овраге. Выбрав местечко поуже, мы перегораживали ручей корзиной и крепко держали ее, чтобы не снесло течением. Потом кто-нибудь шел по берегу и бултыхал в воде старыми граблями. И когда корзину вытаскивали на берег, внутри нее, на самом дне, обязательно трепыхалось несколько серебристых плотвичек, уклеек или юрких черноспинных гольцов (по-деревенски — огольцов). А бывало и так, что из тины лупоглазо пялилась на нас треугольная морда зеленой лягушки. Ее обычно со смехом снова отправляли в ручей.
В тот день, о котором я хочу рассказать, рыбалкой командовал Мишка, наш сосед. Мне он доверил самое приятное и ответственное дело — собирать рыбу в стеклянную банку с водой. И я с гордостью, важно носил ее за веревочную ручку. Следом за нами ходил по берегу большой белый гусь и выбирал из выброшенной тины съедобные корешки.
— Щучонок попался! — неожиданно заорал Мишка.
— Держи крепче, держи!
— Это я его из-под берега граблями выгнал!
Поднялся невообразимый шум. Все сбились в кучу посмотреть на щучонка. Я тоже норовил пролезть вперед. А маленький, с ребячью ладонь, пятнисто-зеленый щучонок хищно разевал пасть и отчаянно извивался, пытаясь выскользнуть из цепких Мишкиных пальцев.
Возле нас остановился Шурик. Появился он так незаметно, что все растерялись и никто не успел дать стрекача. Шурик держал в руках лопату. Он воткнул, ее в землю и тоже с любопытством смотрел на щучонка.
— Ого к-какой! — дружелюбно сказал он. — Много уже наловили?
— Не… — ответил за всех Мишка, — кошке на ужин.
— Надо после дождя ловить, когда вода мутная.
— После дождя лучше, — согласился Мишка. — А где банка с рыбой?
Банку я оставил на берегу. Возле нее уже хозяйничал белый гусь. Он, не торопясь, проглотил последнего гольца и добродушно загоготал. Все словно онемели. Мишка от неожиданности разжал пальцы, и щучонок плюхнулся в воду. Теперь от нашего улова не осталось и следа.
Гуся ребята прогнали, хотя и с запозданием. Его так напугали, что он даже поднялся в воздух и летел низко над ручьем. Хотели дать подзатыльник и мне, но заступился Шурик.
— Тише! — громко и уверенно приказал он. — Драки не будет. Лучше помогите мне сделать в овраге море.
Мы насторожились: уж не издевается ли он над нами? Море из нас никто не видел, но мы знали, что это много-много воды. А откуда же ей здесь взяться? Ручей один бежит, и тот весь осокой зарос.
А Шурик уселся на траву и начал, как я теперь понимаю, вслух фантазировать. Он всё уже обдумал. Ручей надо перегородить плотиной из дерна. Лопата есть, дерна тоже сколько угодно — заготавливай на здоровье. Сначала получится небольшой пруд. Потом плотина день ото дня будет расти все выше, выше, вода разливаться все шире. И придет день, когда здесь разольется настоящее море. По синим волнам его побегут лодки и пароходы. А сколько здесь будет рыбы — больших полосатых щук! Тогда уж не зевай, только успевай ловить.
Мы слушали Шурика полуоткрыв рты. А он посмотрел на солнце, которое стояло почти в самом зените, и уже по-деловому сказал:
— Ну что ж, начнем?
— Начнем! — дружно согласились мы.
Поплевав на ладони, Шурик стал ловко выкапывать лопатой куски зеленого дерна. А мы наперегонки носили их к ручью и складывали на берегу.
— Полундра! — весело кричал подпасок. — Даешь плотину!
Казалось, это был совсем другой человек. Он даже не заикался. Сами мы тоже кричали «полундра!» и «даешь плотину!» и работали с таким рвением, какое едва ли кто из нас проявлял в домашних делах. Помню, я сопел, надувался, но каждый кусок приносил целехоньким, ни одного не разломил. Если дернина была слишком тяжела, я обеими руками крепко прижимал ее к животу и так нес в общую кучу. Штаны и рубаха мои были в грязи. Земля набилась под ногти, за шиворот и даже в уши. Но я ничего не замечал.
Когда заготовили дерн, Шурик залез в ручей. Вода едва закрывала ему щиколотки. Он лихо сдвинул набекрень матроску, снова привычно поплевал на ладони и уложил в воду первый кусок. Уложил травой вверх и прижал ногой. Рядом легли второй, третий, четвертый… Потом пошел второй ряд. Вытянувшись цепочкой, мы передавали ему дерн прямо в руки. И вот уже плотина, похожая на узкую зеленую тропку, выступила из воды, ручей заметно стал шире. Все по очереди пробежались по ней с берега на берег и рядком, как ласточки на проводах, уселись отдохнуть. Потные, чумазые, белозубые, мы сидели на своей зеленой плотине и смеялись.
И тут мы увидели белого гуся. Он вернулся и по-хозяйски плыл вдоль разлившегося ручья. С гордо выгнутой шеей, гусь напоминал старинный корабль, какие обычно рисуют в учебнике истории. Но на него уже никто не держал обиды за съеденную рыбу.
Отдохнув, мы снова принялись за работу. Когда был уложен последний ряд, все долго плясали на плотине — чтобы не просачивалась вода. А для стока ее Шурик по берегу прокопал канавку.
— Ну, а теперь купаться! — весело сказал он.
Сколько здесь было плеска, смеха, брызг! Теплая, как парное молоко, вода разлилась в ширину метров на пять, и ребята даже ухитрялись плавать в образовавшемся прудочке. Я плавать не умел и барахтался у края. Потом принялся скакать на одной ноге по плотине и, поскользнувшись, сорвался в воду. От испуга я так сильно закричал, что все мальчишки мигом вылетели на берег. А Шурик прямо в одежде (он сидел на берегу и отдыхал) кинулся в воду, схватил меня на руки и вынес на сухое место. Меня долго не могли успокоить.
— Ну не реви, не утонул же ведь… — уговаривал меня Шурик, выжимая брюки. — Здесь и воды-то — мне едва коленки закрывает… — И, видя, что я все никак не успокоюсь, продолжал: — Знаешь, как отец меня плавать учил? Бросил в речке на глубоком месте: греби, говорит, руками. И я поплыл. Честное слово!
— А вот твоя матроска плавать учится! — засмеялся Мишка.
Шурик машинально схватился за голову, и пальцы его утонули в мокрых волосах. Он совсем забыл про свою матроску, забыл ее снять, когда бросился за мной. Вон она, уже набухла и погрузилась в воду, торчит только краешек. И Шурик кинулся ее спасать. Мальчишек это развеселило, и они тоже попрыгали в воду. Даже я перестал реветь и улыбнулся. А потом я никак не мог понять, почему у Шурика дрожат губы, когда он вылез на берег, оторвал подкладку матроски и вынул размокший комок бумаги, отдаленно напоминавший треугольничек солдатского письма…
Как-то я напомнил Шурику о том случае. И он рассказал мне, что это действительно было письмо, единственное и последнее, которое еще на Смоленщину прислал им отец, балтийский матрос. Письмо было скупое и ласковое. Но Шурик иногда в одиночестве думал, что лучше бы уж и не было его. Сколько раз, придя домой, он заставал мать в слезах! А на коленях у нее обычно лежал этот заветный треугольничек. А потом, наплакавшись, она несколько дней не могла подняться с постели.
И куда только Шурик ни прятал это письмо — и в сундук, и между страницами книжек, — но мать его все равно находила. Вот тогда-то он и зашил его за подкладку матроски. Но никто в Ключевке об этом не знал.
ВОЛЧОНОК
Солнце, Как яичко золотое, Прилепилось На краю земли. Прямо на него С сердитым воем Грузовик ползет Вдоль колеи. Чуть не вылетая Из штанишек, Следом мальчуган Бежит в пыли И кричит шоферу: — Дядя, тише! Солнышко смотри Не раздави!В деревне у каждого есть прозвище. Было оно и у того нескладного мальчишки, о котором я хочу рассказать, — Волчонок или Волчок. Прозвище подходило к нему как нельзя лучше. Рос он молчаливым, диковатым. Играл почти всегда один, и скучно ему не было.
Прямо за их избой бежала речка. Речушка так себе, без названия даже. Все ее попросту так и называли — речка. А для Волчонка она была самым лучшим другом, кроме, конечно, Ивана Артемыча, отчима. Но о нем будет речь впереди.
На речке Волчонок пропадал целыми днями, особенно летом. Сидит где-нибудь на бережку, среди густой осоки, и смотрит на воду. Вот прямо по воде бежит на длинных ножках-ходулях продолговатый комар. У берега распустилась крупная, с небольшой вилок капусты, лилия, и точно такая же отражается под ней в воде. Рядом торчит треугольная мордочка зеленой лягушки. Ишь, лупоглазая… Волчонок обрывает головки ромашек, кидает в лягушку. Раз!.. Недолет. Еще раз — перелет. Раз! Цветок падает напротив треугольной мордочки. И вдруг всплеск — и цветка нету! Лягушка проглотила его. «Ах ты хитрюга, — думает мальчишка, — сидишь, добычу подстерегаешь. Ну сиди, сиди…»
Волчонок вспоминает про свой зверинец и отправляется посмотреть, всё ли там в порядке. Зверинец он сделал сам. На перекате, где речка совсем мелкая и из воды торчат темно-зеленые, замшелые камни, он огородил у берега небольшой участок, в шаг шириной. Между большими камнями насовал мелких, так что запруда стала похожей на частое сито и пропускала лишь воду. В запруду он пустил улитку, юркого черноспинного гольца, двух маленьких рачков, которых поймал под камнями, и пятнистого, поменьше мизинца, тритона. Живите вместе! Дно в зверинце чистое, песчаное, в углу растут несколько кустиков зеленой ряски. Своим «зверятам» он ловил комаров, приносил моченый горох и хлебные крошки, но еще ни разу не видел, как они едят.
Волчонок любил речку. И она, словно по секрету, как хорошему другу, открывала ему свои тайны. Он знал, где под берегом живут большие коричневые раки. К ним в норы нередко заплывали и голавли, и красноглазая плотва. Знал он также, где прячется в осоке маленький светлый родничок, выбегающий из-под плиты известняка. А однажды речка открыла ему такое, что он чуть не закричал от восторга. Это была небольшая пещера. На крутом берегу кто-то копал песок для хозяйственных нужд, вот она и образовалась. Со временем вход в пещеру зарос крапивой, конским щавелем, и она стала невидимой. Волчонок натаскал туда сена, вход понадежнее замаскировал ветками и стал часто играть там. Никто не мешал ему лежать здесь целыми часами, рассматривать какой-нибудь стебелек или следить за хлопотливым муравьем, заскочившим туда по своим неотложным делам.
Даже свой зверинец Волчонок стал навещать реже. Ему нравилось валяться на пряно пахнущем сене и бездумно смотреть вдаль, сквозь кружево зеленых листьев крапивы. Отсюда, с крутого бугра, хорошо была видна речка внизу, и две избы за ней на косогоре — Выселки, возле них старые ветлы, обсыпанные грачиными гнездами, и даже крыши нашей деревни, от которой Выселки убежали почти на километр.
Свою мать Волчонок побаивался. Всегда раздражительная, закутанная в платки, кофты, рваные фуфайки, пахнущая лекарствами, она в тридцать лет уже выглядела старухой. Он старался пореже попадаться ей на глаза, потому что запросто мог получить подзатыльник.
А она иногда, задумавшись, вдруг стискивала его в своих объятиях, принималась часто целовать, плакала и причитала:
— Сыночек, кровинушка моя, и что же мы с тобой такие горькие, а?
Из отрывочных разговоров взрослых, и более откровенных — мальчишеских, Волчонок рано узнал, что отцом ему доводился какой-то пьяный немецкий солдат. Мать его хотела отравиться, выпила отвар из ядовитых кореньев, но ее отпоила молоком и выходила соседка, бабушка Федора.
Только две их избы и остались в Выселках. Раньше были еще три, но хозяева разъехались, избы от недогляда пришли в ветхость, и их постепенно растащили на топливо. А камень (все они были сложены из местного известняка) уже после войны перевезли на колхозный двор и построили новую конюшню.
На колхозном дворе Волчонок бывал редко: там всегда ватажились мальчишки, они дразнили его и дрались. Но там было столько интересного! Два длинных каменных амбара, покрытых железом. Новая конюшня. Деревянная сторожка, похожая на избушку на курьих ножках, — в ней хранились хомуты и другая конская сбруя. Колодезный журавель с большой деревянной бадьей и длинное, позеленевшее внутри корыто, выдолбленное из огромного бревна. В этом корыте поили лошадей. Здесь же стояли телеги, пахнущие соломой и дегтем, под навесом лежали плуги и бороны, валялись различные ржавые железки.
Но интереснее всего был колокол. В Больших Ключах когда-то стояла церковь, но ее сломали за ненадобностью, а колокол приспособили для хозяйских нужд. По его зову люди выходили на работу, приходили на обед, собирались на собрания. Когда случался пожар или еще какая беда, в колокол звонили изо всей силы, и в его густом, зычном гудении слышались всхлипы. Звонили в колокол и зимой, в пургу, чтобы тот, кто заблудился в поле, мог выйти на его голос.
Колокол висел на перекладине, между двумя врытыми в землю столбами, и к языку его была привязана веревка. Без дела звонить не разрешали, чтобы зря не будоражить народ.
Однажды Волчонок пришел на колхозный двор, там было тихо и пусто. Он медленно обошел все кругом, словно обнюхивая каждую вещь, попил светлой воды из деревянного корыта и остановился под колоколом. Веревка висела у самого его лица, можно было взять и дернуть, и тогда колокол протяжно загудит, звон его облетит все Большие Ключи, докатится до их Выселок и убежит дальше, за речку, в поле… Но Волчонок уже научился быть осторожным. Он набрал горсть мелких камешков, уселся под колоколом и стал по одному кидать их вверх. Удары получались слабыми, «комариными», но колокол все равно отзывался на них, гудел добродушно и долго. Кинет Волчонок камешек и слушает. Колокол тихо-тихо загудит, словно поет ему неведомую песню, — она становится все тише, тоньше и, наконец, совсем замирает. Тогда Волчонок еще кинет камешек, и снова колокол поет ему неведомую песню, от которой у мальчика сильно колотилось под грязной рубашкой сердце, а на губах застывала некрасивая, странная улыбка.
Волчонок так увлекся, что не заметил, как на колхозный двор въехала подвода. На телеге сидели подростки: Федул и Жека и еще Чуркин, его ровесник. В школе Чуркин и Волчонок сидели на одной парте. С того дня как мальчишки закончили первый класс, прошло более месяца, и они все это время не виделись, поэтому Чуркин обрадованно крикнул:
— Волчок, ты чего здесь? Хочешь верхом прокатиться?
Федул и Жека тоже посмотрели на Волчонка, но ничего не сказали. Чуркин помогал ребятам распрягать лошадь, потом стал поить ее. А когда осмелевший Волчонок влез на корыто, чтобы сесть верхом, Федул хлестнул лошадь вожжами, и она рысью бросилась в сторону.
— И так устала, пусть отдохнет, — сказал он.
Подростки сели на телегу, свернули самокрутки и закурили, а Чуркин стал носить в сторожку сбрую. Волчонок стоял у корыта и молчал. Тяжелый взгляд его остановился на ребятах. Он чувствовал, что надо уходить, но не мог сдвинуться с места.
— Чего стоишь? — кинул в него окурок Федул. — Ишь как смотрит — того гляди, укусит… — подтолкнул он Жеку.
— Его и зовут Волчок. Не зря же ведь.
Федул спрыгнул с телеги и дернул Волчонка за рубаху:
— А ну отцепись от колхозного корыта! Выродок немецкий!
И тут произошло неожиданное. Волчонок упал, рука его зацепилась за обломок кирпича, он схватил его и бросился на Федула. Взгляд его был диким, губы дрожали. Федул оторопел, но увернулся и кинулся за телегу.
— Тикай, Жека, а то укусит! — закричал он в неподдельном испуге. — Бешеный, бешеный!
А Волчонок, не помня себя, гнался за обидчиками. Яростно бросил он им вдогонку кирпич, попал в колокол, и колокол протяжно всхлипнул.
Когда у них в доме появился Иван Артемыч, однорукий, но стройный, в солдатской гимнастерке, пустой рукав которой был заправлен под ремень, мать сказала Волчонку, что это его «папаня» так у нас в деревне все зовут своих отцов. И мальчишка быстро привязался к Артемычу, чутьем угадав в нем своего защитника. Теперь, если мать за какие-либо шалости ворчала на сына, а то и хваталась за хворостину, Артемыч легко отстранял ее своей огромной бугристой ручищей:
— Оставь его… ребенок ведь.
Однажды Артемыч позвал его во двор, помочь напилить дров. Волчонок с трудом таскал тяжелую поперечную пилу, она застревала в бревне, и Артемыч помогал ему, подталкивал пилу в его сторону. По сути дела, он пилил один, а Волчонок только держался за ручку пилы и не давал ей болтаться из стороны в сторону. Но дело, хотя и медленно, подвигалось. Когда отпилили несколько чурбаков, Артемыч спросил его ласково:
— Ну что, сынок, устал?
Волчонок кивнул и улыбнулся. Улыбка у него получилась такая же, как взгляд: некрасивая, мрачная. И отчим больше ничего не сказал, только погладил Волчонка по голове и о чем-то сильно задумался.
Артемыч был в нашей деревне пришлым, из каких-то дальних мест. Жену его и детишек убило бомбой, деревню немцы сожгли, и он не захотел там оставаться и прибился здесь, на Выселках, и женился на молодой, но хворой Соньке Волчковой. Человек он был хозяйственный, до войны работал по плотницкому делу, разбирался в сеялках-веялках и других машинах, поэтому его избрали бригадиром. Дома он не бывал по целым дням, а то приходил и поздно ночью, и Сонька с грустью смотрела, как все больше приходит в упадок ее хозяйство и зарастает бурьяном двор.
— Два мужика в доме, а толку чуть: малый да увечный. Даже крапиву скосить некому, — жаловалась она соседке, бабушке Федоре.
— И не грех тебе говорить такое, Соня? — отзывалась бабушка Федора. — Счастье само в руки приплыло, а ты ворчишь…
И Сонька виновато опускала глаза. Она шла домой и принималась все мыть, чистить, скрести, посыпала желтым песком земляной пол в сенцах, разметала перед домом дорожку, словно готовилась к празднику. Праздники у нас в те послевоенные годы бывали не часто, но отмечались шумно и радостно, всей деревней. Самым главным считался День Победы. К этому времени обычно уже управлялись со всеми посевными работами (разве что картошку еще не сажали) и потому могли позволить себе небольшой отдых.
Перед Днем Победы мы вместе со своей учительницей подметали школьный двор, посыпали его желтым песком, а ребята постарше влезали на крышу и укрепляли там красный флаг с золотым серпом и молотом. Полотнище флага тут же подхватывал невесть откуда взявшийся ветерок, и оно весело плескалось на фоне синего майского неба. Потом мы выносили во двор, под начинающие зеленеть тополя, школьные парты, накрывали их досками, и получался длинный стол. За этим столом на празднике сидела вся деревня, от мала до велика. Артемыч приходил, как и все, принарядившимся, в чисто выстиранной гимнастерке, с сияющими медалями на груди. А рядом с ним солидно вышагивал, стараясь не отставать, босоногий Волчонок. На нем была старая солдатская пилотка с красной звездочкой — подарок Артемыча, и глаза у мальчишки светились несказанным счастьем.
Я был старше Волчонка на год, учились мы в разных классах, и потому в школе мало обращали внимания друг на друга: у каждого были свои интересы. Познакомились поближе и подружились мы с ним летом.
Как-то в обед я понес пойло теленку, которого каждое утро отводил на луг и привязывал на длинную веревку за колышек. Колышек был на месте, и веревка тоже, а теленка не было. Пока не пришла с работы мать, я кинулся на поиски. Обошел всю деревню, все огороды и овражки, заглянул на колхозный двор — нигде нет нашего Буяна.
И ноги сами понесли меня по затравенелой проселочной дороге на Выселки. Там, возле речки, часто паслось стадо, возможно, теленок увязался за коровами. Но стада у речки не оказалось. Вконец расстроенный и уставший, опустился я на пригорок, возле зарослей лопухов и конского щавеля, и две крупные слезы шлепнулись мне на голые коленки. Меня не так пугала предстоящая взбучка от матери, как жалко было теленка, светлоглазого лопоухого Буяна. Вдруг на него напали волки или увели с собой проезжие цыгане? Ведь бывали такие случаи…
И тут я увидел в общем-то обычную для деревни картину. От крайней избы за мальчишкой в пилотке гналась разгневанная женщина. Она размахивала длинной хворостиной и визгливо причитала:
— Ах ты анчихрист, дармоед, изверг, всю душу мою ты вымотал! Люди в дом тащат, а этот — все из дома. У, вражина! Ну погоди, доберусь я до тебя…
«Не мне одному плохо», — мельком подумал я. Женщина, конечно, вскоре отстала, а Волчонок (я узнал его сразу), перебежав речку, юркнул в лопухи и исчез, словно сквозь землю провалился. Это заинтересовало меня. Вот бы научиться так прятаться! Но я удивился еще больше, когда через некоторое время услышал рядом с собой, из бурьяна, его шепот:
— Сонька ушла?
— Какая Сонька?
— Ну моя мать… Не видал, что ли, она за мной гналась?
— А… видал. Она в избу ушла, — ответил я так же шепотом.
Волчонок высунул из-под лопуха лобастую голову и настороженно осмотрелся. На лбу его вспухал багровый рубец от Сонькиной хворостины. Он, не вставая, сорвал лист подорожника, поплевал на него и приложил ко лбу.
— Ну и дерется, зараза… — беззлобно проговорил он. — А ты тут чего делаешь?
И я рассказал ему о пропавшем теленке. Наверное, вид у меня был до того убитый, что Волчонок забыл о своем рубце на лбу, покопался в кармане и протянул мне небольшое, красное с одного бока яблоко.
— Ешь вот… Грушовка, у нас их пять корней растет. Папаня говорит, можно бы еще посадить штук десять, да налоги большие. А телок твой уж дома небось… — успокаивал меня он. — Побегает-побегает, пить захочет — и придет. Наш тоже иногда убегает, а потом приходит.
Это неожиданное участие растрогало и ободрило меня. Мы долго разговаривали с ним о всякой всячине, лежа на траве лицом друг к другу. И мне казалось, что не я, а Волчонок старше (а значит, умнее и опытнее) меня на целый год. А когда я спросил, за что его гоняла мать, он задумался. Потом пытливо посмотрел мне в глаза, словно на что-то решаясь, и тихо спросил:
— Никому не скажешь?
— Никому…
— А знаешь, что за предательство бывает?
— Знаю… — как эхо, отозвался я, хотя не очень ясно представлял, что же бывает человеку за предательство. Скорее всего, убивают.
— Значит, будем дружить? — с нескрываемой радостью прошептал он.
— Да!
Волчонок растопырил пальцы, я тоже, мы переплели их и крепко, до боли, сжали друг другу руки.
— А теперь ползи за мной, — приказал он.
Вскоре мы очутились в его заветной пещере. Я был первым человеком, кому Волчонок показал ее. Мне так у него там понравилось, что я забыл и о пропавшем теленке, и обо всем на свете. Волчонок разворошил сено и достал оттуда красный лоскут, аккуратно привязанный к чисто и гладко оструганной палочке. Это был небольшой флаг, настоящий красный флаг! В уголке его были неумело вышиты желтыми нитками серп и молот.
Вот за этот флаг и влетело Волчонку сегодня от матери. Вернее, не за флаг (о нем она ничего не знала), а за красную шерстяную юбку, от которой он отрезал солидный кусок для флага. Юбка эта хранилась у Соньки еще с девичества, с довоенного времени, на самом дне сундука. Получила она ее в районе, на слете передовых вязальщиц снопов, как премию. Всего несколько раз наряжалась Сонька в эту юбку, когда бегала с подружками на деревенские вечерки. А потом неожиданно грянула война…
Откуда все это было знать Волчонку? Он видел, что юбку мать не носит, значит — ненужная, а ему до зарезу требовался красный лоскут. Не знал всех этих подробностей в тот день и я, и мы весело играли с моим новым другом, забыв о времени.
— Сегодня у нас будет праздник, День Победы, — возбужденно говорил он, прикрепляя флаг над входом в пещеру.
А потом мы сидели с ним возле плоского камня, заменявшего стол, ели кисло-сладкие, еще недозрелые яблоки, по очереди пили ледяную воду из берестяного ковшика (Волчонок набрал ее в своем потайном родничке) и, подражая взрослым, пели песни.
Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой темною, С проклятою ордой!— Это меня папаня разным песням выучил, — с гордостью признался Волчонок.
Пели мы вполголоса, чтобы не услышала Сонька и случайно не обнаружила пещеру. А о том, что Сонька могла найти пещеру по красному флагу, который развевался над ней, мы даже не подумали. И все-таки тревога за друга не покидала меня.
— Как же мать узнала про юбку?
— Одежу нынче стала сушить, вынула все из сундука. Видишь вон, на загородке развешала… А так бы она еще сто лет не догадалась. Ведь я давно уже флаг сделал, после праздника, когда в школе гуляли, помнишь?
Я кивнул и снова спросил:
— И что же тебе теперь будет?
— Что будет, то и будет… — грустно ответил Волчонок. — Я могу и тут жить, в пещере.
— А я тебе буду еду носить: и хлеба, и огурцов…
Он быстро и благодарно взглянул мне в лицо и уже веселее проговорил:
— А хороший флаг получился, правда? Как в нашей школе.
— Как настоящий! — подтвердил я.
…Домой я вернулся уже в сумерках. Буян, как и предполагал Волчонок, был дома. Он, спасаясь в жаркую пору от оводов, оборвал веревку, забрался в хлев и простоял там весь день.
На следующее утро, придерживая топорщившиеся карманы, набитые ломтями хлеба, вареной картошкой и малосольными огурцами, я помчался на Выселки. Но Волчонка в пещере не было, и я пошел разыскивать своего друга. Искать долго не пришлось: Волчонок и Артемыч были во дворе. Артемыч легко, словно играючи, колол березовые чурбаки на дрова. Я просто диву давался, как это ловко получалось у него с одной рукой! А Волчонок носил свежие поленья в избу.
— Все в порядке, — шепнул он мне, — только, смотри, про пещеру — ни гугу…
И я понимающе кивнул.
Как потом выяснилось, домой Волчонок пришел лишь поздно вечером, когда вернулся с работы Артемыч. Он показал ему свой флаг и во всем признался: и как мы пели «Вставай, страна огромная…», и как он собирался жить в лопухах (тут Волчонок немного соврал, умолчав о пещере), и как я обещал приносить ему еду. И его не стали даже ругать, только впредь велели ничего без спросу не трогать. Правда, мать долго не могла успокоиться, ворочалась всю ночь и вздыхала: очень уж ей жалко было свою шерстяную юбку.
С тех пор мы крепко подружились с Волчонком или Володей Волчковым — так было его настоящее имя. И потом, если кто-то обижал нас, особенно в школе, всегда заступались друг за друга. А всю провизию, что я принес ему в тот день, мы съели сообща, прямо на улице, за дощатым столиком под яблоней. Артемыч тоже завтракал вместе с нами. Он принес из избы махотку парного молока, сырых яиц, нарвал свежих яблок, и завтрак вышел на славу.
ПРАЗДНИКИ
Какие праздники бывали В послевоенные года! Звенят отцовские медали, Сияет Красная Звезда. Уже стараньями завхоза Кумачный флаг к шесту прибит, И у правления колхоза На всю деревню стол накрыт. А там частушки с переплясом, И костыли фронтовиков, И сытный борщ, и студень с квасом, И вместе с песней — слезы вдов… Давно настали дни иные, Но мы за праздничным столом Всё те же песни — о России, О нашей Родине поем.В избе у нас, возле дощатой перегородки, оклеенной газетами, стоит облупленный от времени зеленый сундук. В детстве мне часто стелили на нем постель. Потом я подрос, и к торцу сундука, чтобы у меня не свисали ноги, мама стала приставлять табуретку.
Я знал, что в сундуке, кроме дерюжек, рваных шерстяных носков и варежек, разных лоскутков, пучков сушеных трав да скатанного на скалке и аккуратно сложенного белья, ничего больше нет, но мне все равно казался он таинственным и загадочным. Почему-то думалось, что где-нибудь в дальнем углу или на самом дне его спрятано что-нибудь необычное и удивительное. «Иначе зачем бы его запирать?» — размышлял я. Правда, замок, похожий на сплюснутую луковицу, открывался без ключа, стоило его лишь посильнее дернуть, что я и делал не раз. А когда через день или два маме нужно было найти теплый полушалок или подходящий лоскут, чтобы пришить очередную заплату на мой пиджачок, она долго копалась в сундуке и ворчала:
— Опять в сундук лазил… Медом тебя, что ли, тут кормят, а? Все так перевернуто, как Мамай прошел. Нужной вещи не доискаться.
Сейчас я по-прежнему люблю спать на зеленом сундуке. Как-то мама, соскучившись по внучатам, уехала погостить к Марии, моей старшей сестре. Я постелил постель и долго лежал, не выключая света, слушал, как скребется за окном ветер, и перечитывал на перегородке старые газетные сообщения: об очередном снижении цен, о лесозащитных полосах, о стройке коммунизма — Волго-Донском канале. Среди них попадались на глаза мамины каракули, сделанные химическим карандашом: «У деда Ивана — два снопа сена ягнятам. У Марьи Филипповой три фунта заварного хлеба. У Пелагеи — ведро ранней картошки на семена». Это мама записывает, чтобы не забыть, у кого что берет взаймы.
Спать не хотелось. В душе неожиданно проснулась детская страсть — покопаться в сундуке. Я встал, скинул на пол постель и потянул замок-луковицу. Он тотчас щелкнул и открылся. Медленно и почему-то волнуясь, приподнял я крышку зеленого сундука, откуда пахнуло на меня знакомым запахом лежалого белья и сушеных трав.
Я сунул руку на дно, пошарил, и пальцы неожиданно наткнулись на маленький твердый сверток. Это оказались завернутые в чистую тряпочку медали и орден Красной Звезды — военные награды отца. Отец всегда надевал их в День Победы и по другим большим праздникам — на Первое мая или Седьмое ноября. Перед началом отец произносил речь (он был парторгом в колхозе), и все его внимательно слушали, даже мы, мальчишки, хотя мало что понимали. А потом был общеколхозный обед, шумные разговоры и протяжные песни, которые пели хором.
Школьники во время праздников показывали небольшие концерты: рассказывали стихи, разыгрывали сценки, строили замысловатые живые пирамиды. Колхозники смотрели на них с удовольствием и долго, не жалея ладоней, хлопали.
Даже я, шестилетний карапуз, однажды участвовал в таком концерте — рассказывал стихотворение Лермонтова «Бородино». Выучил я его незаметно для самого себя. Манюха, сестра моя, готовила уроки (она всегда зубрила вслух), а я шепотом повторял за ней. И — выучил. Потом, на людях, я не раз сбивался, но школьники хором подсказывали мне забытую строчку, и я радостно тараторил дальше:
Вот затрещали барабаны — И отступили басурманы. Тогда считать мы стали раны, Товарищей считать!..И невдомек тогда мне было, почему суровеют лица мужчин, а женщины кончиками платков вытирают глаза…
На праздниках всегда был слепой Вася со своей женой и поводырем — Мотей. Их все так и называли — «Вася с Мотей». Своего дома у этих людей нигде не было, они все время ходили из деревни в деревню и кормились тем, кто что даст. Ночевать их пускали в любую избу, не считая за побирушек. Для всех в нашей Ключевке Вася с Мотей были хорошими знакомыми, чуть ли не близкими людьми. И когда, бывало, они долго не появлялись, кто-нибудь обязательно говорил:
— Где-то Вася с Мотей запропали… Живы ли?
Но проходило некоторое время, Вася с Мотей возвращались на два-три дня в Ключевку, и тогда по вечерам на выгоне допоздна не умолкала гармошка. Вокруг собирались девушки, начинавшие женихаться подростки, молодые солдатки-вдовы и слушали Васины песни, а то и подпевали ему. Пели «Катюшу», «Ой, туманы мои» и обязательно «Тонкую рябину» — щемяще-печальную и очень близкую в то время каждому сердцу песню. Ведь у многих не вернулись с фронта отцы, братья, женихи… Песни сменялись частушками, плясками. А когда Вася уставал играть, то принимался за свои нескончаемые рассказы. Рассказы эти были какие-то домашние, невыдуманные, и потому всегда трогали сердца слушателей — то печалили, а то веселили их.
— Вот в Нагишах ночевали мы у старика Круглова. Жадён — страсть! Когда идет на покос, берет с собой ломоть хлеба и вареное яйцо. Сядут завтракать, он положит на один конец ломтя яйцо, а с другого есть начинает. И так весь ломоть умнет, запьет водичкой, а яйцо подержит в руках и опять в тряпицу завяжет. Дескать, теперь уж не к чему его есть, и так сыт.
Мы, мальчишки, смеемся, грустно улыбаются женщины, а маленькая, щуплая Мотя, прижавшись головой к широкому Васиному плечу, тоненько, нараспев, замечает:
— И-и, Вася, от жадности ли это — кто знает. Хлебнули люди горюшка, наголодовались за войну, теперь и хлебушку рады. Вчера вот Танюха на празднике всю грудь сожгла… Подали на стол кашу с бараниной, она горячая такая, вся дымится даже. Танюха кашу ест, а кусочки мяса украдкой за пазуху складывает, прямо на голое тело — для девчонок своих. И как она, мать моя, вытерпела, ведь за столом часа два просидела. Всё песни с нами играла, а у самой, гляжу, нет-нет и пробежит по щеке слеза…
— Да, жалко бабу, — крякнул Вася. — У нее девок-то сколько — трое?
— В этом году четвертую бог послал.
— Ай мужик ее вернулся?
— Какое там вернулся. Говорю тебе — бог послал девчонку. Вот бестолковый! — И Мотя шутливо ударяет по широкому Васиному плечу своим кулачком.
— Все вырастут; чай, не травка у дороги, а люди… — задумчиво замечает Вася и снова берется за гармошку.
Ах, праздники… Не так уж много было их в нашей деревне после войны. И не потому ли для нас, ребятишек, даже приезд тряпичника был настоящим праздником! Напомнила мне об этом глиняная птичка-свистулька, которую я тоже отыскал на дне старого сундука. Выменял я свистульку у тряпичника на худой медный таз и две рваные галоши. Тряпичник, горбоносый дед с сивыми усами, похвалил меня за усердие и в придачу к свистульке дал четыре конфеты-подушечки, обсыпанные сахарным песком. И я считал, да и мои товарищи тоже, что мне неслыханно повезло.
Вслед за птичкой-свистулькой я вытянул из сундука волосяной мячик, в котором когда-то хранились иголки. Он так и назывался — игольник. Иголки были разные: и тонкие, которыми нам мама вручную шила штаны и рубашки, и потолще — для подшивки валенок, и даже одна большая штопальная игла. С ней обращались особенно осторожно, потому что была она единственной в доме.
Игольник был сделан из шерсти нашей коровы Зорьки. Весной она линяла, и мы с сестрой собирали шерсть прямо клоками. Когда мы их дергали с костлявой Зорькиной спины, она стояла смирно-смирно, словно понимала, что с наступлением весны ей неудобно было появляться на людях в старом клочковатом наряде. Потом из этой шерсти мы катали мячики, которые использовались не только для игольников, но и для игры в лапту.
Зорька, Зорька… Как мы ждали, когда она отелится! Обычно это происходило ночью, а утром на кухне уже лежал теленочек, мокрый и дрожащий. Когда он вставал, копытца его разъезжались в стороны, и все мы очень боялись, как бы он не упал. Но к вечеру теленок уже самостоятельно пил молоко из чистого ведерка (правда, сначала сосал его вместе с маминым пальцем), а мы с сестрой наперегонки ели со сковородки молозиво — ароматное, душистое, похожее на яичницу из одних белков. Иногда мама варила молозиво в чугунке, и тогда мы его резали ножом, как сыр.
Проходил день-другой, и теленок уже весело прыгал в закуте за печкой, тараща на нас светлые голубые глаза. А Зорьку кормить пускали в избу, где для нее в большой широкой кадушке обдавали кипятком резаную солому, которую дергали из крыши. К весне кормов совсем не оставалось, и корову поддерживали всем, чем могли.
А как ждали мы все, когда сойдет, хотя бы на пригорках, снег! Мы, ребятишки, ждали, чтобы можно было поиграть в лапту, а наши родители — чтобы наконец-то выпустить на волю скотину.
На всю жизнь мне врезалась в память такая картина. Когда в самом конце апреля выдался теплый, почти жаркий день и снег на лугу уже совсем растаял, все стали выпускать из хлевов коров и овец. Есть им, кроме прошлогодней травы, было нечего, но все-таки… «Хоть воздухом подышат», — рассуждали хозяйки. Правда, на лугу прошлогоднюю траву-стари́ку пронизывала молодая травка, бледно-зеленая и неокрепшая. По канавам, где еще вчера стояла вода, лопушились первые листья конского щавеля, но и они были не зелеными, а красноватыми, совсем младенческими.
И вот когда Зорька вышла на луг, она от слабости упала на колени и, не поднимаясь, стала торопливо щипать прошлогоднюю траву вместе с иголочками молодой, сегодняшней. Она не спешила вставать и все щипала и щипала, пока не выщипала всю траву до самой земли, образовав возле себя черный полумесяц. Мама стояла рядом и почему-то плакала. А мне, глупому, казалось — а может, и теперь кажется? — что упала корова на колени не от слабости, а из-за благодарности перед землей, которая кормит всех живущих на свете.
…Рассвет застал меня у раскрытого сундука, перед неожиданно обнаруженными сокровищами. На душе было как-то по-особенному празднично и грустно.
КОЛЕЧКО ИЗ МЕДНОЙ КОПЕЙКИ
Тиха, спокойна в сумерки деревня. Чуть опустив бревенчатые плечи, Стоят усталые от зноя избы. Девчонка, Длинноногая как цапля, Корову гонит… Та идет не спешно И вдавливает в землю сор и щепки. Куда-то грузовик с зерном ползет. А над дорогой — месяца осколок, Как треснувшая фара, от которой Давно уж потерялось полстекла…С теткой Пелагеей жили мы через три двора. Мальчишкой я любил заходить к ней в гости, и мы беседовали о всякой всячине. Неказистая избушка ее казалась мне похожей на большую растрепанную курицу.
Но дома тетка Пелагея бывала редко, чаще ходила по дворам и грелась у чужого огня, расплачиваясь за это нехитрыми деревенскими новостями.
Была она одинокая и какая-то бесприютная. Но в деревне любили ее за бескорыстный нрав и еще за то, что отменно умела печь пироги. В доброе довоенное время ни один торжественный стол не обходился без Пелагеиных пирогов. Поджаристые, румяные, начиненные яблоками, капустой, пшенной кашей с морковью, а то и просто картошкой, пироги эти были украшением любого стола. Даже спрятанные до времени в каком-нибудь дальнем чулане, они подавали о себе весть своим ароматом.
Пытались по ее рецептам печь пироги и другие хозяйки, и неплохо пекли. Но таких, как у тетки Пелагеи, у них никогда не получалось. Поэтому в деревне говорили, что у нее — золотые руки.
— Что-то давно Пелагея не заходит, не заболела ли? — иногда озабоченно говорила мама.
Я тут же отправлялся ее проведать, но дверь избушки оказывалась завязанной на веревочку — не от недобрых людей, а от ветра и проказливых коз. Значит, тетка Пелагея жива-здорова и скоро должна к нам зайти.
Через день-другой она действительно появлялась, усаживалась на плоский зеленый сундук возле дощатой перегородки — свое излюбленное место — и неторопливо разговаривала с мамой или дремала. Ради ее прихода мама всегда зажигала висячую семилинейную лампу, и в избе у нас сразу же становилось светло и празднично. Мы ужинали все вместе горячей рассыпчатой картошкой, которую высыпали из чугунка прямо на стол, запивали ее холодным кисло-сладким свекольником. В то полуголодное время мне казалось, что ничего вкуснее свекольника на свете и быть не может.
После ужина я садился рядом с теткой Пелагеей на сундук и просил ее рассказать сказку про золотое колечко. Она знала только одну эту сказку, но мне никогда не надоедало ее слушать.
— В некотором царстви-и, в некотором государстви-и, — слегка нараспев, начинала рассказывать тетка Пелагея, — жила-была девочка со старой матерью. Жили они бедно, ели-пили несладко, да и то не каждый день. Пришло время, мать у девочки умерла, и осталась она одна-одинешенька. Никакого богатства у нее не было, кроме проворных рук да золотого колечка, подарка матери. Умирала мать, говорила:
«Береги это колечко, доченька. Оно тебе счастье принесет».
Схоронила девочка мать и пошла наниматься в работницы к богатому хозяину: есть-пить надо.
«Будешь мне печь пироги, — сказал богатый хозяин. — Вот квашня, вот ларь с мукой. Угодишь — возьму в работницы, не справишься — иди на все четыре стороны».
Взялась девочка за работу. А сама вся дрожит от страха: вдруг не получится? Ведь пирогов она никогда в жизни не пекла. Жили они с матерью так бедно, что муки у них в доме и щепотки не было.
Но взялся за гуж, не говори, что не дюж. Замесила девочка кое-как тесто, стала печь пирог. А он расползается во все стороны, словно блин. Заныло у девочки сердце: чует, что не угодит хозяину, прогонит он ее.
Ан и правда все худо вышло. Принесла она хозяину свой пирог. Откусил он кусочек, и рот у него перекосился весь. Словно кислое-прекислое яблоко съел.
«Отрава, а не пирог! — закричал хозяин и затопал на девочку ногами. — Вон из моего дома!»
Подкосились у девочки от страха ноги, и упала она на пол. Лежит, не поднимается. Долго богатый хозяин бесновался, а потом и говорит:
«Есть у меня любимая свинья. Если она съест твой пирог — твое счастья. Будешь готовить для нее».
Пошел богатый хозяин в хлев, хотел отдать пирог своей любимой свинье, да раздумал и сам съел все до крошки. Вот какой жадный был!
Приходит и говорит:
«Съела свинья пирог, твое счастье. А за то, что мне не угодила, будешь работать задаром. Марш на кухню, принимайся за дело! Да смотри старайся!»
Снова взялась девочка за работу. «Наверное, это мне мамино колечко помогает», — подумала она и надела его на палец. Месит девочка тесто, старается. И вдруг видит — нет на пальце колечка! Заплакала она горько-горько, и потекли прямо в квашню ее соленые слезыньки.
Стала искать она колечко. Перемесила тесто заново раз, другой, третий, прощупала все по горсточке — нет колечка. Ныли у девочки руки-ноги, ломило поясницу. Тесто с каждой минутой становилось все круче, а она все искала, искала…
Пришла пора печь пироги. Сажает их девочка на противни, ставит в горячую печь, а сама еле на ногах держится — так устала. А когда испекла, отнесла их хозяину.
«Мягки ли пироги?» — спросила она.
«Ох, мягки…»
«Понравятся ли они свинье?»
«Понравятся, понравятся, — отвечает ей жадный хозяин, а сам думает: «Соли ей не давал, а пироги посолены. Может, она и без муки пироги испечет. Вот тогда заживу, еще богаче буду!»
Раздобрел хозяин. Разрешил девочке оскоблить квашню и испечь себе пирожок-поскребышек. Собирает, соскабликает девочка остатки теста с квашни и вдруг видит — вот оно, ее колечко! Лежит на самом дне.
Обрадовалась девочка. Быстро испекла пирожок-поскребышек и присела в уголку у печки отдохнуть. В это время в дом зашел старик нищий и попросил милостыню. Разломила девочка пирожок и половину отдала старику. Отведал он ее пирожка и сказал:
«Золотые у тебя руки, дочка. Спасибо тебе!»
…Я замечал, что и мама старается потише греметь на кухне посудой, и сестра закрыла свой учебник, притихла в уголке — тоже слушает вместе со мной Пелагеину сказку. И невдомек мне было тогда, что это и не сказка вовсе, а самая настоящая быль: тетка Пелагея рассказывала про свое детство. Это она сама, оставшись сиротой, работала у деревенского попа прислугой. И однажды обронила в квашню колечко — подарок матери. Только было оно не золотое, а обыкновенное, самодельное, из медной копейки. Как давно это было!
И снова, второй раз в жизни, тетка Пелагея осталась сиротой. В первый же год войны она получила сразу три извещения — о смерти мужа и двух сыновей. Больше никого у нее не осталось, даже внуков. Она как-то сразу постарела, стала забывчивой и усталой. И кто знает, перенесла ли бы она это горе, если бы не было у нее зацепки на земле, любимого дела — печь пироги. Она была нужна людям — чуть ли не в каждом доме справляли поминки. А кто мог лучше нее испечь пирог, когда вместо муки — крахмал из мороженой картошки, собранной по весне в колхозном поле, а начинка — мясистые листья конского щавеля?
Умерла тетка Пелагея уже после войны. Легла однажды на свою нетопленную печь и не проснулась. Хоронили ее всем селом. И каждый, кто шел за гробом, вдруг почувствовал, что вместе с Пелагеей уходит из деревни что-то доброе и светлое, и воспринимал это как личную утрату. После себя не оставила она даже медной копейки — лишь добрую память в сердцах односельчан да сказку, которую выстрадала всей своей жизнью.
КОНИ НАШЕГО ДЕТСТВА
Рожь цветет! Над полем низко Золотая веет пыль, Здесь на лошади мальчишкой Я возил на ток снопы. Где вы, кони, еде вы, кони, Кони детства моего? Я гляжу из-под ладони — И не вижу ничего… И, пиджак на землю бросив, Невзначай моя рука Гладит теплые колосья, Словно гриву стригунка.Коней у нас в деревне осталось совсем мало. На смену им пришли тракторы, грузовики, другая техника. Умом я понимаю, что это — отлично, это — признак силы и мощи, а в сердце все-таки забирается тихая грусть. Ведь лошадь у нас всегда была не только главной тягловой силой, но и чем-то неизмеримо большим…
На раскидистых корявых ветлах с самой ранней весны перекаркивались грачи. А внизу, возле бревенчатой сторожки, где хранилась конская сбруя, обязательно мелькали стриженые ребячьи головы. Особенно много собиралось нас здесь к вечеру, когда отцы и матери возвращались с работы, и мы спешили помочь им распрячь лошадей и отвести на соседний луг, а когда совсем стемнеет, отогнать табун в ночное.
— Ножку! Ножку, Буланка! — строго покрикивал тонкий голос.
И большая грузная Буланка послушно поднимала тяжелое копыто величиной с голову семилетнего огольца, который распрягал ее.
— Дедушка, у Мальчика холка сбита! — слышалось с другого конца.
Конюх дед Иван приносил баклажку с чистым дегтем и смазывал Мальчику сбитую холку. Мерин стоял смирно, лишь изредка вздрагивал всей кожей да пофыркивал в ребячьи ладошки, которые держали его за теплый замшевый храп.
— Эх, кони-лошади… — бормотал дед Иван свою неизменную поговорку и хлопал конягу ладонью по спине. — Гуляй, Мальчик! Ночь твоя.
Управившись с делами, конюх присаживался с мужиками покурить и сидел молча. Лишь когда речь заходила о лошадях, обязательно вспоминал какой-либо примечательный случай. Так я узнал однажды о Крестьянке.
— В сорок втором это было, когда я и за бригадира, и за конюха оставался, — покашливая, говорил дед Иван. — Как сейчас помню, прибегают на конюшню бабы, шумят, галдят:
«Лошадь давай, Ефросинья Курносова помирает!»
Еле допытался у них, что же случилось. Оказывается, роды. Да что-то неладно: катается Ефросинья по избе, криком вся изошла. Вот, думаю, незадача. Ефросинью же надо скорее в больницу, а на чем? Коней, какие получше, фронт подобрал, остальные клячи на работе. В конюшне одна Крестьянка с сосуном — ночью ожеребилась. Да, видно, делать нечего, придется ее запрягать.
«Бабоньки, — говорю, — Ефросинью я сам в больницу доставлю, а вы уж отправляйтесь на работу, по своим местам».
Согласились. Только, толкуют, мы вам собраться поможем.
Собрались, поехали… А до Дедославля не ближний свет — шестнадцать верст! Ефросинья на санях стонет, я рядом с лошадью иду, в снег проваливаюсь да приговариваю: «Голубушка моя, поспешай, умрет ведь баба-то, и дитенок бела света не увидит. Ты ведь тоже мать, понимать должна…»
Крестьянка мотнет головой: дескать все понимаю, а сама шагу прибавляет, прибавляет, потом и вовсе рысью припустилась. Я уже не успеваю за ней бежать, присел на краешек саней, молчу. А Крестьянка поведет ушами, прислушается, как Ефросинья стонет, — и все ходу наддает, наддает… Чую, из последних сил уже — а бежит! К больнице вся в мыле примчалась. И — рухнула у крыльца. Думал, может, отдышится. Какое там! И не копнулась даже. А Ефросинью врачи выходили: с мальчонкой в деревню вернулась, — закончил дед Иван.
— Сосун-то куда делся? — спросил кто-то из недавних фронтовиков.
— Вырос сосун, — пыхнул козьей ножкой конюх. — Ладный был жеребчик, горячий. В Красную Армию его потом взяли.
— А с мальчишкой что? — влез я в разговор взрослых.
Мужики переглянулись и почему-то засмеялись. Конюх тоже улыбнулся.
— Вырос и мальчишка, — отвечал он. — Как раз с тебя ростом будет.
(Мне тогда и невдомек было, что я спрашиваю о самом себе. И только позже догадался, что Ефросинья Курносова в нашей деревне всего одна — это моя мать.)
О Крестьянке на колхозном дворе вспоминали часто. Может, потому, что добрую треть колхозного табуна составляли ее внуки и правнуки. Была жива и ее дочь — Чалуха.
— С ленцой кобыла и хитрая, дьявол! — говорили иногда о ней мужики. — Нет, не в мать пошла, не в Крестьянку…
Случилось так, что на этой Чалухе я и начал впервые самостоятельно работать.
— Ты чего с уздечкой шлендаешь? — строго окликнул меня дед Иван.
— За лошадью пришел, — отвечал я как можно бодрее, — бригадир послал навоз возить.
— A-а, кони-лошади, — удивленно протянул конюх, пристально разглядывая мой облупленный от весеннего солнца нос. — Запрягать-то умеешь?
— Умею, не впервой, — хорохорился я.
— Ну что ж, тогда бери Чалуху…
Чалуха была в стойле. Увидев меня с уздечкой, она прищурила один глаз и оскалила зубы. Но я уже знал, что свирепость ее — показная. С Чалухой мы были давние знакомые, на ней ребята учили меня ездить верхом. Сначала шагом, а потом завели на вспаханное поле (чтобы мягче было падать) и разогнали рысью. Но я тогда не упал: вцепился в гриву, прижался грудью к самой холке и удержался.
И все-таки однажды я с нее свалился — прямо под ноги. Во время сенокоса на Чалухе сгребали сено на конных граблях. Вечером кто-то из мужиков попросил меня отвести лошадь на конюшню. Чалуха чуть ли не с места припустилась бегом, то и дело призывно ржала. На конюшне у нее остался жеребенок, которого не пустили вместе с матерью, чтобы он случайно не попал под железные зубья конных граблей и не поранился. На мое подергиванье поводом лошадь не обращала никакого внимания и бежала не по дороге, а напрямик, через луг, перепрыгивая канавы и кочки. Об одну кочку она споткнулась, и я свалился прямо ей под ноги.
И лежать бы мне потом в больнице, а может быть, и на погосте, если бы лошадь быстро не сориентировалась. Большое тяжелое копыто ее, чуть коснувшись моего живота, чудом задержалось в воздухе и протащилось дальше волоком. Отбежав несколько метров, лошадь остановилась и повернула голову в мою сторону. Я даже не успел испугаться (испуг пришел потом), быстро вскарабкался ей на спину, и Чалуха снова припустила рысью к конюшне.
Я никому в деревне про этот случай не рассказывал, но к Чалухе проникся глубоким уважением.
…Когда женщины накидали вилами на телегу дымящийся, парной, хорошо перепревший навоз, я бросил сверху охапку лопухов, уселся на них и взял в руки вожжи.
— Н-но, милая!
Чалуха мотнула головой, воз тронулся, и мы благополучно завернули за угол. Чтобы выехать на дорогу, нужно было завернуть еще за один угол конюшни, но возле него лошадь вдруг заартачилась. Встала — и ни с места, словно ее привязали.
— Но, старая кляча! — злился я, размахивая хворостиной. — Кнута захотела?
Но кнутом я ее только пугал, у меня его не было, да и хворостиной ударить свою же спасительницу рука никак не поднималась. Лошадь все не слушалась, и я, выведенный из себя, все-таки раза два хлестнул ее, оставив на пыльной шерсти тощего крупа белые следы. Чалуха повернула голову, удивленно посмотрела на меня, словно хотела сказать: «Зачем же ты так, а? Нехорошо, брат…», затем резко рванулась в сторону, передок телеги подвернулся, и я кубарем полетел на землю. Уже падая, услышал подозрительный скрежет, словно с силой скребли железом по камню. Так оно и оказалось: задняя ось телеги зацепилась за угол конюшни и выворотила несколько больших камней. Умная лошадь почувствовала опасность раньше меня, вот и встала, чтобы не было беды. Но беда все-таки случилась — по моему недосмотру.
На шум подошел дед Иван, с первого взгляда оценил обстановку, взял лошадь под уздцы, развернул ее, и телега снова встала на колеса. Следом за конюхом подошли женщины с вилами. От стыда я не знал, куда девать глаза, покорно ожидая града попреков и насмешек. А они молча покидали свалившийся навоз на телегу и, словно пригорюнившись, так же молча облокотились на вилы.
— Эх, кони-лошади… — бормотал дед Иван, подавая мне вожжи. — Ты, малый, вперед смотри, но и назад не забывай оглядываться.
Чалуха, словно чувствуя мое состояние, сама вышла на дорогу и не торопясь, уверенно зашагала по ней.
Где-то на середине пути нам повстречалась громыхающая цепочка подвод. Это неслись, стоя на пустых телегах во весь рост, мои одноклассники — человек десять. Они уже отвезли навоз и с гиканьем возвращались назад, веселыми криками погоняя лошадей.
— Зачем ты эту клячу взял? — кричали мне ребята. — На ней только кислое молоко возить!
— И-э-эх, залетные!
Ребята умчались, а мы с Чалухой продолжали медленно тащиться по дороге. Я было пробовал ее погонять и даже пускал в ход хворостину, но лошадь лишь недовольно отмахивалась хвостом и продолжала идти, как и шла. Наконец доехали до места. И пока я сталкивал руками и ногами навоз с телеги, ругая себя за то, что не прихватил вилы, на дороге снова показались подводы: возвращались ребята, они везли уже по второму возу.
«Вот так и будет весь день: товарищи два воза привезут, а я — один», — с грустью думал я и замахнулся на свою ленивую лошадь:
— У, холера!
Но Чалуха снова удивила меня. Пристроившись в общей цепочке подвод, она не отставала от них, а сама, без понуканий бежала рысью и даже вечно понурую голову держала как-то лихо и гордо. Дескать, знай наших!
Я повеселел. А когда подъехали к конюшие, то на душе стало совсем хорошо. Дело в том, что вывороченные из угла камни кто-то снова вставил на место, только швы между ними были замазаны не глиной, а навозом. Кто за меня постарался, не знаю, скорее всего, конюх дед Иван. Но мне о моей оплошности никто не напоминал, словно ее и не было.
Всю неделю я работал на Чалухе и понял, что она не ленивая, а, скорее всего, мудрая лошадь. Когда дорога круто шла на подъем (есть такой коварный пригорочек между нашей деревней и лесом), Чалуху не нужно было подгонять. Она сама заранее прибавляла шагу, вся напрягалась, вытягивалась в струнку и быстро, с разгона вытаскивала воз на вершину пригорка. Там она останавливалась и переводила дух. Стоять, конечно, она могла сколько угодно, и тут уж требовалось подстегнуть ее вожжой, лишь после этого Чалуха не спеша двигалась дальше. Из-за почтенного возраста в ней уже не было прежней прыти, вот она и рассчитывала каждый свой шаг, берегла силы.
Когда наша «школьная бригада» (так назвал нас бригадир) перевозила на паровое поле весь навоз от конюшни, мы, как обычно, собрались на колхозном дворе. Бригадир, как взрослым, каждому крепко пожал руку.
— Не успеешь оглянуться — хлеб убирать начнем, — говорил он. — Вам, ребята, придется снопы возить на ток. Работать будете на тех же лошадях, что и сейчас. Вы уж к ним привыкли, а они — к вам, так ведь?
— А как же не так, — ответил за всех нас дед Иван, — обязательно так. На что уж Чалуха с норовом, а и та с Карабчиком (конюх кивнул на меня) подружилась. Рысью стала бегать!
Старый конюх, начав говорить о лошадях, уже не мог остановиться. Говорил он о том, что нет бескорыстнее существа, чем лошадь. Вот взять хотя бы Чалуху. Всю свою жизнь она пашет землю, служит «мотором» для жаток и сенокосилок, катает на мослатой спине деревенских ребятишек, да к тому же почти каждый год пополняет колхозный табун здоровым, крепким жеребенком.
— А что получает взамен? — прищурился конюх. — Молчите? Вот то-то и оно, кони-лошади… Такое бескорыстие не часто встретишь.
Лицо у меня радостно заполыхало румянцем, словно хвалили не Чалуху, а меня самого.
ДАЛЬНОВИДНЫЕ МУЖИКИ
I
За душой — Ни гроша… Но зато Есть душа!«Самое большое мастерство — хорошо прожить свою жизнь», — говорят наши ключевские мужики. Но каждый понимает это по-своему.
Например, кузнец Пуд Егоров живет заковыристо. Он серьезно уверяет односельчан, что во всем виновато его несуразное имя — Пуд…
Когда-то Иван Егоров, его отец, занимал у попа пуд ржи, да не отдал вовремя: ребятишек полон дом, нужда по двору ходит. А поп и затаил зло. И когда Иван пришел крестить сына, своего последышка, поп назвал его Пудом. Будешь, дескать, помнить у меня свой долг до конца дней своих. А с попом разве поспоришь? Святцы у него хранятся…
Пуд Иванович тоже пошел в отца, ребят у них с Дарьей много. Но имена они им давали уже сами и выбирали красивые, звучные — Зоя, Коммунар, Владимир, Юрий, Святослав… Первые двое родились как раз перед войной, а остальные уже после Победы.
С войны Пуд Егоров возвращался вместе с соседом, Гришкой Дрыном — повстречались на своей станции. Другие везли кто одежонку для ребятишек, кто мешок заграничных консервов, кто две-три пары хромовых сапог — пригодятся в хозяйстве. А эти — смешно сказать… Пуд где-то прихватил набор слесарных инструментов, а Гришка и того меньше: нес один-разъединственный школьный ранец. Даже свой вещмешок с сухим пайком где-то посеял, растеряха. Правда, Пуд заметил, что ранец сильно-таки отмотал Гришке руки, и поинтересовался:
— Что там у тебя?
— Так, мелочь всякая… — отвечал сосед.
Односельчане, узнав про инструмент и ранец, снисходительно говорили:
— Чудят мужики…
Но когда Пуд Егоров принес слесарный инструмент в пустую колхозную кузницу, где валялась одна кувалда да полуобгоревшие клещи, и, засучив рукава, принялся за работу: ковал коней, шиновал колеса, нарезал болты и гайки, паял ведра, даже наловчился часы ремонтировать — про него заговорили по-другому:
— Голова!
— Да, дальновидный мужик.
И все-таки по характеру кузнец остался сумасбродом. Судите сами: как-то поехал он на базар продавать козу, а домой вернулся… верхом на той же козе! Так пронесся мимо бабки Анисьи, что та чуть в обморок не упала. А когда пыль развеялась, бабка побежала по дворам сообщать новость.
— Ногами сучит вверх-вниз, вверх-вниз и за рога держится… Вот те крест! — божилась Анисья. — Если уж не продал — может, давали дешево, — так зачем же животную мучить?
Когда разобрались, в чем дело, то все долго смеялись. Оказывается, в сумерках бабка перепутала козу с велосипедом. Впрочем, перепутать было не мудрено, ведь это был первый велосипед, появившийся в нашей Ключевке после войны. Мы, ребятишки, кинулись посмотреть на диковинную машину. Нас больше всего удивляло, как это человек едет на двух колесах и не падает.
Событие это взбудоражило всю деревню. Ключевцы вспомнили, что Пуд еще в юности грезил велосипедом. Увидел на ярмарке в Епифани — и сам решил сделать такой же. Нашел в амбаре две старые пряхи, раскурочил их, что-то там еще приспособил и… все-таки сделал. Мало того, даже проехал на нем вдоль деревни! Но деревянные колеса не выдержали, развалились, и Пуд рухнул на груду обломков. И вот до седых волос дожил, всю войну прошел, но все-таки успокоил свою душеньку настоящим велосипедом. В то лето на нем научились кататься все деревенские ребятишки. Даже взрослые приходили к кузнецу попросить велосипед, если срочно требовалось куда-либо съездить — например, за ветеринаром в соседнюю деревню или на дальнее поле, чтобы разыскать бригадира. И кузнец никому не отказывал.
— Поезжай, раз надо… Да усидишь ли ты на нем? А то ведь без привычки живо в канаве очутишься, — улыбался он.
— Сам-то, наверно, и не усижу… — чесал в затылке мужик. — А я сорванца своего пошлю, Ваську… Васька, где ты там?
И из-за отцовской спины тут же появлялась сияющая Васькина мордашка. Стоит ли говорить, что для него проехаться на велосипеде, пусть даже и по делу, — самое большое удовольствие! Об этом я знаю по себе: сам с завистью смотрел на двухколесное чудо. И тоже, как и Васька (которому сейчас несказанно повезло), сначала учился на нем ездить, просовывая ногу под раму. Потом — на приспущенном седле, чтобы хоть носками доставать до педалей.
Всем этим премудростям меня обучали Кузнецовы ребята, с которыми я давно дружил. Впрочем, с ними дружили все ключевские мальчишки. В избе у Егоровых можно было делать все: и пилить, и строгать, и перевертывать вверх ногами стулья, когда играли в жмурки, и даже забраться всей оравой на печку, где в сумерках хорошо слушать и самому рассказывать веселые и страшные сказки. И никто не ругал нас, как у себя дома, что напустили холоду и намусорили в избе. Впрочем, у Егоровых мы почему-то и сами не ленились взять веник и подмести пол, нарубить сучьев на дрова, сбегать к роднику за водой.
Зимними вечерами Пуд Иванович сам пек с нами в ночке, в горячей золе, картошку и, по обыкновению, что-нибудь рассказывал, чаще о старинном житье-бытье.
— У нас в деревне исстари народ дошлый… — начинал он. — Вот отец мне говорил, когда-то на всю Ключевку были одни сапоги. Если парень женился, ему давали их на денек, чтоб обвенчаться съездить. И в округе все об этом знали. А как-то решили жениться сразу двое. Да-а… Ну, думали недолго: один надел левый сапог, другой — правый, сели рядышком на телегу — поехали! А ноги в сапогах свесили, покачивают ими. В Ольховке, откуда они невест брали, высыпали бабы посмотреть на женихов и обомлели — оба в сапогах! А они за Ольховку заехали, переобулись — один в сапоги, другой в лапти — и покатили в церковь… Вот, ребятешь, какие деды у вас были, — широко улыбался кузнец. — Ну, давайте картошку есть, поспела, кажется.
Рассказ о сапогах я слышал от кузнеца не раз. Кстати сказать, у его ребят тоже не у каждого была своя обувь. Один прибежит из школы, скинет валенки, а другой надевает их — и в школу. И вот когда Пуд Иванович купил велосипед, засудачили ключевские бабы:
— Ребяты босиком бегают, а он лисипет купил… Одно слово — сумасброд!
А кузнец только отшучивался:
— Затрещали, сороки! Тра-та-та, тра-та-та, и выходит — пустота.
…Давно уже в нашей Ключевке перестали быть редкостью и мотороллеры, и мотоциклы, а кузнец продолжает ездить на своем стареньком велосипеде. Ведь именно с этого допотопного «зисовца» началось увлечение его сыновей (да и других ключевских мальчишек) техникой. И сейчас они вытворяют такое, что мужики от удивления только головами покачивают. Например, двое его младших ребят, Юрка и Святослав, смастерили маленький трактор! И назвали его «Пудик» — в честь отца. Ростом этот «Пудик» чуть повыше табуретки, а работает как настоящий! Мотор у него от мотоцикла, а остальные детали ребята сами изготовили в кузнице. И теперь этот «Пудик» даже второклассники так освоили на пришкольном участке, что любо-дорого. И пашут, и грядки делают, и обработку междурядий проводят. Ползает «Пудик», как хлопотливый жук, между яблонями или картофельными кустами, а на нем сидит какой-нибудь сорванец с облупленным носом, и такой у него деловой и серьезный вид, что не подступись.
II
Как-то увидел Пуд Иванович возле школы своего соседа, Григория Дрынова. Облокотился Григорий о изгородь, смотрел, как мальчишки работают, смеются, и такая неизбывная печаль была в его взгляде, что кузнец забеспокоился: не случилось ли чего? Но потом понял: тоскует Григорий от одиночества.
А ведь поначалу все у него складывалось так удачно! В первые послевоенные месяцы, слушая, как односельчане нахваливают за кузнечное мастерство Пуда Егорова, он лишь загадочно усмехался. «Еще неизвестно, кто из нас дальновидней, — думал Гришка. — Вот отгрохаю новый дом, тогда посмотрим, что в деревне заговорят».
О новом доме в их семье мечтали давно. Мать и отец еще до войны, когда были единоличниками, начали постепенно прикупать кирпич, лес, гвозди. Но случилось непредвиденное. Как-то привез отец из лесу кряжистый дуб на матицу. На помощь звать никого не стал (а то попреков от жены не оберешься), решил сам разгрузить. Да сплоховал, придавило его комлем к земле. Сбежались соседи, освободили старого Дрына, а он еле дышит: позвоночник повредил. С тех пор работник из него стал никудышный, а вернее — никакой. Гордей почти не слезал с печки, а если ходил, то согнувшись, с палочкой.
Но Дрыниха рук не опустила, решила все-таки построить новый дом. Для нее он был символом благополучия и счастья. Старая изба у них тоже была еще крепкая, просторная — от деда осталась. Но все не сравнишь с новой. Прижимистая Дрыниха каменщиков и плотников наняла своих же, ключевских, чтобы поменьше взяли за работу. Она любила поплакаться на свою бедность, и все лето кормила их супом с грибами, а сало и мясо жалела. Вот каменщики ей в отместку и вмазали по углам четыре пустые бутылки горлышками наружу. И Дрыниха не то что жить, находиться одна в новой избе боялась: в ветреные ночи плачет кто-то за стеной, всхлипывает, да так жалобно, что оторопь берет… Выйдет на улицу, посмотрит — никого нет. Вернется в избу — опять кто-то всхлипывает.
— Это, тетка, у тебя домовой плачет. Прогневила ты его чем-то… — серьезно уверял ее один из каменщиков.
Так и продала Дрыниха новую избу под клуб колхозу, который тогда только что организовался. Комсомольцы быстро разгадали, в чем дело, вытащили пустые бутылки, и домовой плакать перестал. После этого жадная Дрыниха, говорят, все локти себе обкусала…
Гришке в то время было уже лет двенадцать, и он хорошо помнит всю эту историю. Обидно ему было за мать, хоть и не щадила она его неокрепших рук, нагружала непосильной работой. Как-то велела она сыну собрать все камни во дворе и вокруг избы и сложить их в кучку возле амбара: пригодятся. Когда он собрал и сложил, мать велела перетаскать камни на другой конец двора, к подвалу.
— Да какая разница, где им лежать? — взъерепенился Гришка. — Ведь ты же сама велела к амбару.
— Поговори у меня, лодырь! — прикрикнула на него Дрыниха. — Всё на речку небось мылишься улизнуть. Таскай, таскай, не развалишься!
И Гришка понял, что мать заставляет его таскать камни с места на место лишь для того, чтобы он не сидел без дела. С тех пор в его душе прочно поселилось отвращение к физической работе, и он любыми путями, пускаясь на разные хитрости, старался от нее избавиться. Вот и теперь, мечтая о новом доме, он и не думал сам браться за топор или рубанок. Другие сделают, были бы деньги. А денег у Гришки неожиданно появилось много.
Совсем не ради чудачества, как думали односельчане, привез он с войны один-разъединственный школьный ранец. Не обманывал Гришка и Пуда Егорова, говоря, что лежит в нем «всякая мелочь» — ранец до отказа был набит камушками для зажигалок и патефонными иголками. После войны достать их было очень трудно, и Гришка, отправляясь на базар с горстью камушков и иголок, возвращался с карманом денег. Он купил себе новые хромовые сапоги, синий диагоналевый костюм, кепку-восьмиклинку и ходил даже по будням франтом.
Выстроил Гришка и новую избу, которая выделялась изо всей деревни. Железная крыша, резные наличники, каких не было ни у кого в Ключевке (не до красоты было, больше заботились о хлебе насущном); просторный, хорошо ухвоенный хлев для скота и различные сараи и амбарушки, расположенные вокруг избы, говорили о том, что хозяин обедать к соседу не ходит. Жилистый, с юркими, как мышата, глазами, он все, бывало, похаживал по двору, курил дорогие папиросы «Казбек» и довольно усмехался. Все у него было честь по чести: и хозяйство, и красивая работящая жена (взял сироту в соседней деревне, совсем молоденькую девушку, хоть у самого уже седина обрызгала пушистый чуб), и синеглазая пухленькая дочь Глаша топала по теплому сосновому полу избы. Жаль, не дожили до этих дней его родители: померли в войну. И некому было порадоваться на Гришкино счастье.
И вдруг все пошло наперекосяк. Ни с того ни с сего уехала от него жена, забрав с собой маленькую дочку. Сосватал он потом одну вдову, но та прожила у него не больше недели.
— Нет, Григорий, не по мне такая жизнь, — сказала ему на прощанье. — Чтобы твои хоромы в порядке содержать, здоровье нужно лошадиное. Сам ты палец о палец не ударишь, а мне где ж одной управиться? Лучше уж я в своей избушке как-нибудь…
Одиночество быстро согнуло когда-то франтоватого Гришку Дрына. Постарел он, осунулся… Под стать хозяина стала и его изба — вросла в землю, сопрели и раскрошились резные наличники. И как светлой минуты, ждет он теперь, когда забежит к нему Сонечка, младшая дочка Пуда Егорова.
— Дядя Гриша-а, вы живы? — чуть нараспев, кличет его девочка. — А я вам парного молочка принесла, мамка только что подоила…
Девочка усаживается на лавке и принимается щебетать о своих девчоночьих делах, о школе, о том, что за погребом у них растут шампиньоны, а она сначала думала, что это поганки. Григорий слушает, сердце его начинает постепенно оттаивать, и по небритой щеке скатывается слеза…
КАК Я СТАЛ КОМСОМОЛЬЦЕМ
Как много рядом добрых глаз! И крепнут мысли час от часу: «Мой школьный класс… Рабочий класс… Везде — товарищи по классу!»В тринадцать-четырнадцать лет мне очень хотелось повзрослеть. На какие только хитрости я не пускался! И курить начинал, но от табака меня тошнило, а в глазах плыли зеленые круги.
И старой отцовской бритвой скоблил пушок на верхней губе, чтобы быстрее росли усы. И рыжие волоски действительно стали пробиваться, но не сплошь, а местами, отдельными пучочками — «квадратно-гнездовым методом», как шутили надо мной товарищи. Даже, по примеру взрослых, завел себе ухажерку — длинноногую Лидку Шмелеву, свою одноклассницу. Правда, в избе-читальне, где собирались деревенские вечерки, я не обращал на нее внимания. Зато когда расходились по домам, шел провожать. Но девчонки обычно возвращались ватагой, схватив друг друга под руки, и никакая сила не могла их расцепить. Приходилось идти рядом и поглядывать на свою ухажерку со стороны. А возле дома, когда мы оставались с Лидкой вдвоем, я совершенно не знал, о чем мне с ней разговаривать: все в школе переговорено. Да и она не задерживалась дольше двух-трех минут.
— Ну, я пойду, а то мать ругаться будет, — торопливо шептала она и хлопала калиткой.
Я не задерживал Лидку, сам спешил домой, потому что тоже мог получить от матери нагоняй.
— Гуляка выискался… — обычно ворчала она, открывая мне дверь. — Вот возьму ремень, не посмотрю, что длинный вымахал. Уроки небось не выучил?
— Да выучил я, мам… Что мне, засохнуть над книжками?
— В седьмых учишься, не забывай. Не сдашь экзамент — второй год не пущу локти протирать, работать пойдешь.
— Ну и пойду… испугала чем, — отговаривался я, уписывая за обе щеки черствый хлеб с молоком.
И вдруг все в моей жизни перевернулось (так по крайней мере считал я сам). Ребята и девчонки из нашего класса, кому уже исполнилось четырнадцать, стали подавать заявление о приеме в комсомол. Подал заявление и я. Комсомолец! Когда я мысленно произносил это слово, примеривая его к себе, то губы невольно расплывались в широкую улыбку. Мне казалось, что, став комсомольцем, я сразу же стану другим — взрослее, находчивее, разумнее. И мама на меня перестанет ворчать, а будет советоваться, как, бывало, с отцом, когда он был еще жив. И для Лидки Шмелевой у меня найдутся такие интересные разговоры, что она простоит со мной у калитки до самого рассвета и я, может быть, даже поцелую ее на прощанье. Да и вообще комсомолец есть комсомолец, это не мальчишка, которому всякий может читать нравоучения, шпынять его, а то и поднимать на смех.
Правда, смущало меня одно обстоятельство. Четырнадцать лет мне исполнялось только после Нового года, седьмого января, а сейчас был конец декабря. Целых десяти дней не хватало! Вдруг не примут? Значит, опять бегай в мальчишках…
Своими сомнениями я решил поделиться с Юркой Чесноковым. Ему уже шестнадцать, но учится он с нами в одном классе (два года пропустил из-за болезни). Длинный, в Солдатских сапогах, с широкими мужскими ладонями, Чесноков кажется среди нас, школьников, случайно зашедшим в класс чьим-нибудь старшим братом. По натуре он спокойный, даже стеснительный, и больше всего не любит драчунов. Как-то повздорил я со своим соседом по парте (из-за чего, уж и не помню), Чесноков взял нас обоих за шиворот, встряхнул легонько и вывел за дверь, в сугроб:
— Охолоньте немного… петухи.
И тем не менее за советом я решил обратиться именно к нему.
— Ты проштудируй Устав хорошенько, может, и обойдется, — выслушав мою сбивчивую речь, сказал Чесноков. — А то нарвешься на какого-нибудь буквоеда…
Пока мы с ним разговаривали, он как-то мягко и необидно поправил на мне шапку (одно ухо которой всегда торчит вверх, а другое — вниз), оторвал висевшую на ниточке пуговицу от пиджака, подал мне:
— Убери, а то потеряется.
И словно между прочим, доверительно поделился, что сам он пуговицы всегда пришивает «крестом»: может, и не совсем красиво, зато прочно, насилкой не оторвешь. «А мне пуговицы мама пришивает или сестра», — хотел я сказать Чеснокову, но почему-то промолчал.
«Зря с ним разоткровенничался, — думал я, шагая домой. — Тут речь о комсомоле идет, а он мне — про пуговицы…»
………………………
И вот все позади, я — комсомолец! Позади наш районный центр — старинная Епифань, и деревянное здание райкома комсомола, и обитая черным дерматином дверь, за которой решалась наша судьба. Юрка Чесноков (он был у нас за старшего) нырнул в эту дверь раньше всех, а когда вышел, незаметно взял меня за локоть, крепко сжал и шепнул:
— С тобой все улажено. Только ты смотри… держись! А вообще-то всех примут, дело уже решенное, — добавил он погромче, чтобы успокоить и других ребят.
Так оно и оказалось. Все мы, двенадцать семиклассников, стали комсомольцами. Ехали на двух подводах. Лошади, словно чувствуя наше радостное возбуждение, от самой Епифани припустили бодрой рысью. Впереди была хорошо накатанная дорога, новогодний праздник, каникулы, а главное — большая взрослая жизнь!
На следующий день я встал еще затемно, как, бывало, вставал отец. Потихоньку оделся, чтобы не разбудить мать и сестру, и вышел на улицу, в синий рассвет. Ночью была метель, и избу нашу по самые окна занесло снегом. Он еще не успел осесть, слежаться, и я проваливался в него выше колен, когда попробовал пройти к амбару. Пришлось взять лопату и прокопать в сугробе настоящую траншею. Потом я долго, причем с удовольствием, колол в амбаре березовые чурбаки на дрова и заранее радовался, представляя, как удивится мать моей хозяйственности. «Ну что ты, мама, — скажу я ей, — слава богу, я уже комсомолец». Я так увлекся работой и своими приятными мыслями, что даже и не заметил, как мать зашла в амбар.
— Ты чего это? — тревожно спросила она.
— Дрова колю…
— Вижу, что дрова, не слепая. Ты чего такую рань поднялся? Натворил чего-нибудь, да? Говори!
— Ничего я не натворил, просто дрова колю.
— «Просто»… А кто у Барабанихи в сугробе ловушку сделал? Она вчера шла за водой, по самые уши провалилась. Хорошо, доярки вытащили, шли мимо.
— Да я такими балушками еще в пятом классе перестал заниматься! А сейчас я уже комс… эх!
Нет, не стал я договаривать фразу и объяснять матери, что сейчас я уже комсомолец, совершенно другой человек, и предъявлять мне подобные обвинения — нелепо. «Пусть поворчит, привыкла уже», — снисходительно думал я. Но странное дело, в деревне никто не хотел замечать произошедшей со мной перемены. Все по-прежнему называли меня уличным прозвищем — Карабчик. А когда я умышленно не откликался, удивлялись: «Ты что, оглох?» Мужики, если я при встрече им протягивал руку, чтобы поздороваться, подавали и свою, но как-то снисходительно, словно мальчишке. «Может быть, люди еще не знают, что меня приняли в комсомол? — размышлял я. — Вряд ли… У нас какая-нибудь баба разобьет горшок со сметаной, и то на другой день вся деревня знает. А тут такое дело!»
Я даже пробовал ходить по деревне в распахнутом пиджаке, чтобы всем было видно мой комсомольский значок, но потом от этой затеи пришлось отказаться: чуть не слег в постель. Январь все-таки на дворе, а не май.
Но обиднее всего было то, что даже Лидка Шмелева относилась ко мне так, словно ничего и не произошло. Мало того, на смех меня подняла однажды. Каникулы есть каникулы, и дома мы особенно не засиживались. Лыжи в руки — и к оврагу, с горы кататься. Как-то приехал я туда, а там народу — как грибов в дождливое лето, весь склон усеян. И Лидка Шмелева там, с малышами возится. Сцепили вместе несколько салазок, сделали «поезд» и с визгом, писком, хохотом несутся на нем всей оравой вниз, аж до самого ручья. А ребята постарше трамплин сделали. Но кто ни поедет — обязательно в снег носом зароется. Крутой слишком.
— А ну посторонитесь! — кричу. — Посмотрите, как комсомольцы с горы съезжают!
И — вниз. Лечу, приседаю пониже, руками балансирую (в то время мы без палок катались). Ничего, думаю, гора знакомая, авось как-нибудь… И не успел я додумать до конца эту мысль, как услышал Лидкин смех — какой-то рассыпчатый, звонкий и колючий. Он так меня и пронизал всего как иголками. Опомнился, а я уже в сугробе торчу. А Лидка знай хохочет, даже за живот ухватилась. И малышня ей вторит. Шум подняли — на весь овраг! «Ну, эти ладно, мелюзга еще, а ты-то чего разошлась? — злился я на Лидку, выбираясь из сугроба. — Любимая тоже называется… Ухажерка!»
Уж кто-кто, а Лидка знала, какие я на своих самодельных лыжах умел кренделя выписывать. Ее же самое учил. Вдвоем на одних лыжах спускались с ней с самых высоких гор. Встанет она сзади меня, ухватится за пиджак, и — понеслись! Она только повизгивает от страха: «Ой, боюсь!» Но ничего, не падали. Если я только нарочно в снег не свалюсь вместе с ней, чтобы потом ей руки в своих ладонях отогревать…
Короче, разобиделся я в тот раз на свою подружку и покатил вдоль ручья вниз по оврагу. Разлиновал с досады лыжами все его склоны — и в косую линейку, и в прямую, и в клеточку, и в елочку, и как только мне хотелось. А в одном месте на краю оврага метель намела большой снежный козырек, он даже вниз загибался. Склон там был крутой, почти отвесный. Похлопал я сверху по козырьку лыжами — не обваливается, держится. И решил я скатиться с него: ведь такой трамплин славный! Метров двадцать будешь в воздухе лететь. А когда стал съезжать — козырек обрушился. Вниз летел кубарем, и вместе со мной катились глыбы снега. Не знаю, как уж это вышло, но я неожиданно ощутил, что лежу на спине, вниз головой. Левая нога у меня подвернулась, а правая лыжа вертикально воткнулась пяткой в снег. Был бы в валенках, выскочил из них — и вся недолга. Но на этот раз я был в ботинках, а лыжи — с жестким креплением! Попробовал пошевелиться, но все бесполезно: засел прочно. Кричать? Но кто тебя услышит в глухом овраге!
«Все, комсомолец Курносов, хана тебе… — билась в висках мысль. — Так и окачуришься здесь, а потом занесет снежком, и провисишь вниз головой до самой весны. Как летучая мышь». Голова от неестественного положения налилась кровью, гудела как самовар. Вдруг вверху мелькнула чья-то тень. Ворона! Уселась безбоязненно на край обрушенного козырька, смотрит на меня с любопытством: жив еще? Ах ты подлая! Думаешь, я уже готов, на мертвечину прилетела? Так нет же, нет! Нет! Рванулся я так, словно у смерти из когтей вырывался, и правая лыжа треснула, сломалась. Качусь вниз, радостно барахтаюсь в снегу и неожиданно слышу чей-то крик:
— Держись, Карабчи-ик!
Сначала думал, что почудилось. Потом гляжу — летит ко мне на лыжах Юрка Чесноков. И топор у него в руках для чего-то. Оказалось, Чесноков рубил хворост в овраге и случайно увидел меня. Жил он не в нашей деревне, а в соседней Ольховке, и мы с ним не виделись все каникулы. Когда я окончательно пришел в себя, встал на ноги и отряхнулся от снега, то поинтересовался у Чеснокова, для чего ему хворост.
— А вешки ставить, — отвечал он.
— Какие вешки, где?
— На дорогах. Я прошелся по полю на лыжах — все дороги замело, еле-еле угадываются под снегом. Вот так попадет кто в метель — заблудится. А по вешкам всегда можно дорогу найти. Нам самим же в школу ходить придется, ведь каникулы через два дня тю-тю…
— Каникулы тю-тю, — согласился я, — пролетели.
И стало мне как-то не по себе, нехорошо и стыдно за свое мальчишество, за бахвальство тем, что я комсомолец, за желание сразу, одним махом, стать большим и умным.
— Слушай, — сказал я, — а можно мне с тобой?
— Правда? — обрадовался он. — Пойдем, вдвоем веселее. Только как же ты на сломанной лыже?
— Да у нее только пятка обломилась, а так она на ноге хорошо держится.
— Ну тогда лады.
И мы отправились с Чесноковым ставить вешки.
ТЕПЛО РОДИТЕЛЬСКИХ РУК
Как соскучился я По простой крестьянской работе! Взять бы в руки топор — И дрова упоенно рубить, Иль с косою пройтись По осоке на старом болоте, А потом молока Из махотки холодной попить. Я учиться уехал, Как сотни других уезжали, И живу в общежитии, Книжки охапкой ношу, Только рвется душа В край колосьев и дымчатых далей, И все вижу во сне, Будто дома осоку кошу…Когда мы вырастаем из школьной формы, нам тесен становится и родительский дом. Манит, зовет нас огромный неизведанный мир. И невдомек нам, для чего перед расставанием отец и мать так крепко прижимают нас к сердцу, долго не выпускают из своих рук. А они просто хотят передать нам свое тепло, чтобы сердца наши не остыли до срока.
Все это поймем мы значительно позже, когда будем вдали от родного дома. Я сам это понял только сегодня, под серым сентябрьским небом, на окраине небольшого рабочего поселка, куда приехал учиться на каменщика.
Нахальный сквозняк, перемешанный с дождем, забирается за воротник, плюется в лицо. Хочется уйти в тепло, под крышу, но мы стоим по щиколотку в липкой жиже и закладываем фундамент нового дома. Утром я надел шерстяные носки, которые связала мама, и ногам моим тепло и уютно.
Во время работы хочется думать о хорошем, и я вспоминаю детство, далекое-далекое, еще дошкольное.
…Вернулся с фронта отец — незнакомый, с жесткими прокуренными усами. Вечером, когда в избу набились односельчане (у нас еще никогда не собиралось столько народу, и я радовался этому многолюдью), отец много и долго рассказывал. Слушали его с таким интересом, что даже забывали о закусках, которыми были уставлены два сдвинутых вместе стола. Но я, конечно, о них не забывал.
Из многочисленных рассказов отца мне отчетливее других помнится один — о его руках. Однажды они обороняли небольшую деревушку в Белоруссии. Отец залег в меже на огороде и оттуда отстреливался. Во время боя начался дождь, который вскоре перешел в настоящий ливень. А немец все прет и прет, по деревушке стала бить его минометная батарея. Одна мина разорвалась совсем близко, отца ранило в обе руки, он потерял сознание. После боя здесь, в меже, по которой с шумом бежала вода, его подобрали санитары и отправили в госпиталь.
— Руки у меня почернели аж по самые плечи. Врачи говорили: надо отрезать, а то помрешь… Но я не дался: какой же я работник без рук? — со смущенной улыбкой признавался отец. — И вот ничего, целы остались.
Он положил на стол два тяжелых кулака, затем разжал их и пошевелил длинными, желтоватыми от махорки пальцами. Мужики за столом качали головами, тоже что-то говорили, гремели вилками и стаканами. Мама в белом платочке беззвучно плакала, улыбалась сквозь слезы и поминутно выбегала на кухню, чтобы принести то горячей картошки, то зеленого луку, то еще чего-нибудь из съестного. А я во все глаза смотрел на отца и никак не мог представить его себе без рук.
Гости у нас засиделись далеко за полночь. Как расходились, я не помню: уснул на коленях у отца, прижавшись щекой к его теплой шершавой ладони.
На следующее утро отец подозвал меня к себе, развязал свой походный вещмешок и вынул оттуда небольшую дощечку с дырочками с одной стороны. Плоские бока дощечки были обиты блестящими железными полосками.
— Это тебе, — сказал отец, — играй.
Я повертел дощечку в руках, прикидывая, куда бы ее можно было приспособить в своих играх, но ничего придумать сразу не мог. Отец засмеялся, взял у меня дощечку и стал дуть в дырочки. И дощечка ожила: из нее вдруг посыпались, как звонкие шарики, мелодичные певучие звуки.
— Это губная гармошка, — объяснил мне отец. — В Германии на таких не только ребятишки, но и большие играют.
Вот это да! Ведь такого еще не было ни у кого из ребят во всей Ключевке!
— Ну, а теперь пойдем посмотрим наше хозяйство, пока мама завтрак готовит.
И мы пошли с отцом осматривать хозяйство. Он то тут, то там замечал непорядок, и в руках его оказывался молоток с гвоздями, или топор, или пила-ножовка. В то утро он наточил пилу, поправил дверь в сенцах, которая висела на одной петле, вытесал и положил сушить на солнышко новое топорище, заделал хворостом дыру в палисаднике, куда раньше беспрепятственно лазили куры, расколол на тонкие поленья два суковатых чурбака, валявшиеся во дворе, с незапамятных времен, вставил в окно вместо фанерки новое стекло и переделал еще множество дел, необходимых и нужных. Я, конечно, вертелся рядом и все не мог насмотреться на отцовские руки, которые то с одного-двух ударов забивали по самую шляпку гвоздь, то ловко затесывали лозиновый кол и от него брызгами разлетались щепки, то ерошили волосы на моей голове…
Мне хотелось чем-нибудь помочь отцу, и он дал мне два гнутых гвоздя:
— Ну-ка распрями их…
— Сейчас, пап.
Я положил гвоздь на камень, долго стучал по нему молотком, но гвоздь вертелся, выскальзывал, и я в конце концов угодил себе по пальцу. От боли хотелось тут же зареветь, но надо мной склонилось Похожее на солнышко отцовское лицо с рыжими усами, и я сдержался.
— Больно? — ласково говорил он. — Крепись, солдату плакать не положено. А ты ведь будущий солдат.
Я крепился, но предательские слезы сами бежали по щекам, и отец вытирал их мне горячими от работы ладонями.
— Знаешь, что всего важнее для солдата? — спрашивал он.
— Что-о?
— Котелок. Причем такой, который хорошо варит… А если у солдата котелок не варит, то он не солдат, а одно название. Смекаешь? — улыбнулся отец.
Я тоже улыбнулся, хотя не сразу понял, о каком котелке идет речь. А отец показал мне, как лучше расправиться с гвоздем: надо положить его горбом кверху, прижать за кончик, стукнуть два-три раза молотком — и вся недолга. Со вторым гвоздем я справился самостоятельно. Это мне так понравилось, что я разыскал еще несколько гнутых гвоздей и их выпрямил. Потом мы вместе с отцом сколачивали ими скворечник. А губная гармошка, привезенная из далекой Германии, уже мало интересовала меня.
В обед к нам снова пришли мужики, долго о чем-то разговаривали, и отец ушел вместе с ними в правление. С тех пор он целыми днями стал пропадать на работе, в поле, а домой приходил лишь ночевать.
Это было тяжелое время: разруха, неурожаи, голод… А для меня жизнь казалась праздником. С утра до вечера носились мы с ребятами по деревне, а то уходили в овраг собирать луговую клубнику или совершали налеты на колхозное гороховое поле. Домой я возвращался лишь в сумерках — босой, растрепанный… Если мать, бывало, уже управилась с домашними делами и сидела с бабами возле избы на лавочке, поджидая отца, я забирался к ней на колени, прижимался к теплой груди и сидел смирно-смирно. Она гладила меня по голове, потом прятала в ладонях мои озябшие ножонки. Ладони шершавые, теплые, и мне было так хорошо, что я незаметно засыпал.
…Хорошо об этом вспоминать в холодный сентябрьский день! А сквозняк все-таки умудрился засунуть мне за воротник свою мокрую лапу и заставил съежиться, потоптаться на месте. Но от ног, обутых в шерстяные носки, по всему телу расходится приятная спокойная теплота. Я снова выпрямляюсь и начинаю работать. И кажется мне, что согревают меня не шерстяные носки из грубой домашней пряжи, а все те же шершавые и теплые материнские руки…
АРТАМОН
Ты говоришь: «Людей работа кормит…» И все же Не за деньги и почет Вросли в работу люди, Словно корни. Она, как тайна, Вечно нас влечет!— Ну вот, где родился, там и пригодился, — улыбнулась мама, когда я сказал ей, что работать буду в Больших Ключах, в бригаде каменщиков из Межколхозстроя. Она зачем-то торопливо вытерла фартуком и без того чистый стол, затем осторожно взяла мое свидетельство об окончании училища, присела к столу на табуретку, стала читать.
— Ваши-то рядом живут, в Пелагеиной избе, — не дочитав, снова заговорила она. — Подправили ее, побелили, дверь новую навесили — и не узнать стало избушку. Девчатки там, парнишки вроде тебя, а ничего, хозяйственные.
— Они же строители, мам.
— Вот я и говорю — хороший народ, — отвечала она. — И за тебя я рада…
Последние ее слова я услышал уже с порога: мне не терпелось походить по деревне, поговорить с односельчанами. Ведь почти год я не был в Больших Ключах!
Домой вернулся поздно. А утром мама разбудила меня вместе с солнцем.
— Вставай, вставай, а то еще опоздаешь, — говорила она. — Неловко будет перед людьми.
На столе уже дымилась яичница, рядом лежал большой ломоть заварного хлеба. Я наскоро поел, выпил кружку парного молока, надел новенький, только вчера полученный комбинезон и отправился на пустырь. Там наша бригада строила новое зернохранилище.
Я думал, что приду первым, но по стройплощадке уже расхаживал длинный худой мужик с неправдоподобно широкими кистями рук и удивительно синими, как у девчонки, глазами. Встретил он меня с любопытством, спросил:
— Новичок?
— Да, из училища…
— Ну-ну… не робей, воробей, — буркнул он и больше уже не обращал на меня внимания, задумался о чем-то своем, попыхивая «беломориной».
Это был, как я сразу догадался, каменщик Артамонов или просто Артамон — так его называли в бригаде и в глаза и за глаза. Со своими новыми товарищами я познакомился еще вчера вечером, Артамона среди них не было, но его часто вспоминали.
— Вот придет Артамон, он устроит нам разгон! — балагурил Сашок, вертлявый черноглазый парень с чубчиком-челочкой.
— За что? — удивился я.
— Он найдет за что… Знаешь, он какой? Придет на работу пораньше, сунет два пальца в раствор, рожу вымажет — и сидит покуривает. Вроде уже наработаться успел. А тут если на минутку опоздаешь, он тебя пословицей по голове: «Что, лень раньше тебя родилась?» Не мужик, а Толковый словарь Даля!
— Хватит парню голову дурить, — оборвал Сашка бригадир Костя Циглер.
— А что, я не прав, да?
— Прав, прав… только помолчи.
Так я и не понял в тот раз, что же это за человек — Артамон. Во всяком случае, симпатии я к нему уже не испытывал, хотя еще и ни разу не видел его.
И вот теперь я во все глаза смотрел на Артамона. Лицо и спецовка его действительно уже были забрызганы свежим раствором. Выходит, Сашок говорил правду…
Вскоре собралась вся бригада. Все ожило, задвигалось — начался рабочий день. Девушки-подсобницы заполняли раствором ящики, разносили кирпич. Костя и Сашок натянули от угла к углу причальный шнур, и каменщики встали цепочкой вдоль стены. Меня бригадир поставил в середине этой цепочки, я оказался рядом с Артамоном, и это неприятно кольнуло меня. Работал он не спеша, придирчиво осматривал каждый кирпич, словно собирался купить его. Долго размешивал в ящике раствор, выкидывая из него мелкие камешки.
«Ишь сачок… — думал я с неприязнью, — на таком далеко не уедешь». И я решил ему утереть нос. Работалось мне легко, даже с некоторым восторгом, кирпичи казались игрушечными по сравнению со шлакоблоками, к которым мы привыкли на производственной практике в училище. В спешке я раза два стукнул себя мастерком по пальцу, содрал до крови кожу, но боли не чувствовал и продолжал работать, торопился.
Часа через полтора устроили перекур, я перепрыгнул через стену, чтобы посмотреть на свою кладку со стороны. То же самое, видимо, решил сделать и бригадир Костя. Потом к нам подошли другие каменщики, кое-кто из подсобниц, и собралось чуть ли не полбригады. А Артамон не подошел, точно и без того знал, что путного от меня ждать нечего.
— Да-а, ма-астер… — растягивая слова, проговорил бригадир.
Я молчал. Кладка Артамона была так идеальна, что походила на рисунок из учебника по каменному делу: кирпичики подобраны один к одному, швы словно вычерчены по линейке, все одинаковой толщины. Даже вертикальные швы перекрывались кирпичом из следующего ряда точно по центру. «Как в аптеке!» — с удовольствием подумал я, совсем забыв, что сделал это маленькое чудо не я, а Артамон.
Моя же кладка выделялась изо всей стены: она была словно грязное пятно на праздничной розовой рубахе. Вот к чему приводит ненужная спешка! И я густо, до звона в ушах, покраснел. Даже спине стало горячо.
После перекура к лицевой стороне стены я уже не касался — так распорядился Костя. Пришлось выкладывать внутренний ряд, заполнять обколотым и битым кирпичом середину. Наверное, вид у меня был неважный, потому что нашлась все-таки живая душа, которая пожалела меня. Это была подсобница Люся. В старом, но чистеньком комбинезоне, в цветастой косынке, повязанной шалашиком, она напоминала матрешку.
— Ну что приуныл? — весело спросила она, подавая мне кирпич. — Не горюй, до свадьбы заживет… Вообще-то ты молодец, парень заботливый: пришел пораньше, раствор замешал.
— Какой раствор? — удивился я.
— Какой в растворомешалке оказался…
Я ей ничего не ответил. Теперь мне стало ясно, почему Артамон уже с утра был забрызган свежим раствором — это его рук дело. Значит, Сашок просто дурачил меня, рассказывая про него всякие небылицы?
В обеденный перерыв, когда все заспешили в столовую, я нарочно замешкался и остался на стройплощадке. Воровато оглядываясь, стал соскабливать налипший на мою кладку раствор. «Только бы не узнал кто из наших деревенских — засмеют!» — думал я и так скребыхал мастерком, будто это грязное пятно было не на кирпичной стене зернохранилища, а на моей совести. Затем яростно, как мочалкой, тер кирпичи жгутом соломы. Но пятно все равно было заметно. И когда я, совсем отчаявшись, растерянно опустил руки, ко мне подошел Артамон:
— Попробуй-ка вот этой штуковиной.
Оказывается, Артамон вернулся из столовой и давно уже наблюдал за мной. Он протянул мне кусок наждачной бумаги. В лице его я не заметил и тени насмешки, оно было серьезно и доброжелательно. «Дубина ты, дубина, — мысленно ругал я себя, быстро очищая кирпич за кирпичом наждачной бумагой. — И когда только научишься разбираться в людях». Я был благодарен Артамону за его неожиданную помощь. Когда вернулась бригада, стена уже была чистой, а мы с ним сидели на подмостях, мирно беседовали. Вернее, говорил он, а я слушал.
— Я, парень, по молодости сам думал: как ни посей, все будешь Федосей, — гудел Артамон. — А потом гляжу — не-ет, ведь по работе и мастера узнают…
С этого дня мы с Артамоном стали добрыми приятелями и не раз в свободную минуту усаживались где-нибудь в сторонке, разговаривали о работе, о жизни. Говорил он складно, речь свою украшал присказками да афоризмами, и слушать его было всегда интересно.
И все-таки меня больше тянуло к моим сверстникам — к Люсе, к Сашку, к другим ребятам и девушкам. После работы мы собирались возле Пелагеиной избушки, устанавливали на подоконнике видавшую виды радиолу и танцевали прямо на траве под бесшабашные заграничные песенки. Трава вскоре была вытоптана до земли, образовался круглый, пыльный «пятачок», который в деревне вошел в поговорку. Если раньше говорили «был на вечерке», то теперь — «был на «пятачке».
Смешливые подружки, таинственные от лунного света ветлы, крик поздних петухов — все это свалилось на меня в то лето совершенно неожиданно и закружило, завертело… Домой я возвращался на рассвете, сваливался в амбаре на ворох сена, прикрытый дерюжкой, и моментально засыпал. Мама, жалея меня, будила лишь перед самой работой, так что виделись мы с ней мельком: утром да вечером, когда я забегал со стройки переодеться. «Совсем от дома отбился», — грустно обронила однажды мама, но слова эти я пропустил мимо ушей. Для меня жизнь казалась удивительно яркой, праздничной, где не было места даже самым маленьким печалям или будничным заботам.
А у мамы забот хватало. Как-то она попросила меня перекласть стенку в хлеву.
— Еле держится стенка-то, — как всегда, тихо и ненавязчиво говорила она. — Упадет ночью — корову задавит.
— Куда она денется, — беспечно отговаривался я.
— Да ведь скособочилась вся. Того гляди, рухнет…
— Не рухнет. Я уж сколько лет на свете живу, а стенка все такая же, кособокая.
Но стенка действительно вскоре рухнула — после сильного ливня, вконец размывшего ее. Правда, корова в это время была в стаде, и большой беды, как ожидала мама, не случилось. Теперь, возвращаясь с «пятачка», я каждое утро видел в темном провале стены большие, чуть мерцавшие коровьи глаза. Мне казалось, что они смотрят на меня с молчаливым укором, и я спешил поскорее нырнуть в амбар, чтобы зарыться в пахучее сено и спать, спать…
Про эту рухнувшую стенку каким-то образом узнал Артамон. Мы с ним в те дни работали вдвоем, пристраивали кирпичный тамбур к конюшне, и за работой могли разговаривать сколько угодно.
— Соседи еще над тобой не смеются? — поинтересовался он.
— Это с какой же стати? — насторожился я.
— Ну как же… Говорят, плохой сапожник всегда без сапог. Так и у тебя: каждый день небось о камни спотыкаешься, а стенку в хлеву заложить не можешь.
— Некогда все, Артамон, — отговорился я.
— Конечно, головой и руками тебе работать некогда, — степенно согласился он. — Ты все больше ногами на «пятачке» работаешь: трали-вали и так дале…
«Вот ведь привязался!» — с досадой думал я и про себя решил, что в ближайшее воскресенье обязательно заложу эту проклятую стенку. А после работы, когда, как обычно, я на минутку заскочил домой, следом во двор ввалилась вся наша бригада — с инструментом и неизменными шуточками. Оказывается, Артамон всем уже успел раззвонить!
Через какой-нибудь час коровий хлев влажно поблескивал новой стеной, горбатый плетень палисадника стоял ровно и прочно, а Артамон все рыскал по двору высматривая, что бы еще можно было подправить, привести в порядок, чем заставлял меня краснеть чуть ли не до слез.
— Без хозяина дом сирота, — в глаза издевался он надо мной. — А ты какой тут хозяин? Так, квартирант… — И, видя, что уже совсем допек меня, миролюбиво добавил: — Ну-ну, не куксись. Дружно — не трудно, а врозь — хоть брось, понял, голова садовая?
— Ты, Артамон, как скоморох, — попытался съязвить и я. — Без пословицы шагу не сделаешь.
— А что тут плохого? — не обиделся он. — Между прочим, и тебе советую: живи по народным пословицам — не ошибешься.
— Ладно, попробую.
На следующий день я на целый час опоздал на работу: хотелось хоть чем-нибудь насолить Артамону. Он недовольно взглянул на меня, но промолчал. А я разлегся в густой траве возле конюшни и стал рассказывать, как хорошо утром в лесу, откуда только что вернулся.
— Летом надо рабочий день не в восемь часов начинать, а в десять, Артамон, — разглагольствовал я. — А людей заставлять хотя бы час гулять по лесу. Какой там сейчас воздух ароматный — язык проглотишь! А земляники!..
— Хватит лясы точить, — оборвал меня Артамон. — За работу думаешь приниматься или нет?
— Работа не медведь, в лес не убежит, — отвечал я ему пословицей.
Он вскинул густые брови, прищурился, проворчал:
— Сегодня гуляшки, завтра гуляшки, так находишься и без рубашки…
— Как же так, Артамон? — удивился я. — Выходит, пословицы противоречат одна другой?
— Каждому овощу свой черед, — отвечал он. — Делу время, потехе час.
— Но ведь от работы лошади дохнут! — не сдавался я.
— Мешай дело с бездельем, и проживешь век с весельем.
— А почему же говорят: пилось бы да елось, а дельце на ум не шло?
— Да кто говорит-то? — вскипел Артамон. — Лентяй да шалопай, два родных брата!
— Все, положил ты меня на обе лопатки! — засмеялся я, доставая инструмент: надо было наверстывать упущенное, а то еще бригадиру пожалуется. Но по всему было видно, что Артамон понял мою шутку и не сердится.
А в меня будто бы вселился бесенок: захотелось еще подразнить Артамона. Но ни одной подходящей пословицы или поговорки, кроме «дураков работа любит», в голову не приходило. И тогда я подкрепил ее рассказом о нашей ключевской бабе Танюхе Смирновой.
Бывало, если ей не доставалось лошади, чтобы привезти сена или соломы на корм корове, она не ругалась, как другие, а молча брала вожжи, увязывала всю копну в вязанку, накрячивала ее на себя и волокла домой не хуже любой лошади. Причем все это в обеденный перерыв или попозже вечером, когда вернется с колхозной работы. И добро бы была она какой-то богатыршей. Ничего подобного — обыкновенная деревенская бабенка, в замызганном фартуке, с поблекшим до времени лицом. Жила она без мужа, с четырьмя дочерьми, старшая из которых училась со мной в одном классе.
— Танюха, пожалей девок, если себя не жалеешь, — говорили ей бабы. — Ведь надорвешься — сиротами останутся…
— Ничего, я двужильная! — хорохорилась она.
А однажды Танюха навьючила такую огромную вязанку, что не выдержала и метров за двести от дома упала на колени. Хотела подняться — не может. Да так ползком, вместе с вязанкой, и дотащилась до сеней. Соседка ее потом рассказывала, что даже перекрестилась от испуга: никого не видать — ни человека, ни лошади, — а вязанка соломы медленно-медленно ползет по дороге, и прямо — к Танюхиному дому…
Я ожидал, что Артамон, как и раньше, ответит мне какой-либо пословицей, а он неожиданно гаркнул:
— Чего скалишься? Не видишь — раствор кончился, бери лопату, замешивай!
Почему рассердился Артамон, я понял позже. Обидеть поспешным словом, пусть даже случайно, такую труженицу, как Танюха, — великое кощунство.
А тогда я лишь чувствовал, что сказал что-то не так, и старался загладить свою оплошность работой. Видя, как я стараюсь, Артамон постепенно смягчился и добродушно загудел:
— Дело — оно, брат, и учит, и мучит, и кормит…
БАЛАЛАЙКА
Мы рубим новую избу, Вернее — новый дом. Взлетело солнце на трубу Горластым петухом. Пила в руках у столяра Сама бежит, спешит, А под удары топора Хоть «русскую» пляши!В бригаду к нам пришли четыре новичка, тоже, как и я, из строительного училища. С одним из них, детдомовцем Витькой Кочергиным, мы вскоре стали закадычными друзьями. Бригадир из каких-то своих соображений объединил нас в одно звено, а звеньевым назначил меня.
Через несколько дней звену был выписан аккордный наряд — построить небольшой сарай из шлакоблоков возле колхозной кузницы. Пока бригадир находился рядом, работа шла дружно. Мы выкопали траншею под фундамент, закидали ее бутовым камнем, залили жидким раствором. Когда начали кладку стен, Костя похвалил нас:
— Да вы у меня совсем самостоятельные! Молодцы, я на вас надеюсь.
И ушел на другие объекты.
После его ухода мы работали с прежним азартом минут двадцать. Первым не выдержал Коля Захаркин, низенький, толстый парнишка, которого мы прозвали Колобком. Он то уходил пить, то охотился за мохнатым золотистым шмелем, затем улегся на траве под ветлой, накрыл лицо широким лопухом и захрапел. Следом за ним бросили работу Васёк Шкред и Санька Костиков: разыскали среди железного лома возле кузницы старую тачку и стали по очереди катать друг друга.
Работали теперь только мы с Кочергиным. Но и он через некоторое время куда-то исчез.
Что делать? Пригрозить, что обо всем расскажу бригадиру? Но это последнее дело — ябедничать. Уговаривать ребят тоже было бесполезно: назовут выскочкой, подлизой и даже еще похуже. Может быть, и мне бросить этот сарай к чертовой бабушке, пока бригадира нет? Развалюсь, как Колобок, в одуванчиках, позагораю… Нет, бросать нельзя. Завтра же об этом вся Ключевка узнает, а тогда хоть на улицу не показывайся — засмеют. Ребятам что — они здесь приезжие…
И я продолжал работать один. Выложил ряд, второй, третий… Из кузницы вынырнул Кочергин, посмотрел, как я ковыряюсь, усмехнулся чему-то и опять исчез. «Друг тоже называется… — думал я. — Как овца в стаде: куда все, туда и он».
Вечером я даже не стал ужинать, свалился на топчан в амбаре, где мы спали с Витькой, и сразу уснул. Ночью проснулся — на табуретке стоит кружка молока, накрытая ломтем хлеба. Кочергин небось позаботился, прохвост… Но как ни зол я был на него, все-таки поел с удовольствием.
— Как у вас там, идут дела? — спросил утром бригадир.
— Хорошо идут, — спокойно врал я, стараясь не глядеть на товарищей. — Стены уже на метр поднялись…
— Отлично, отлично… Ну, я тогда к вам не приду сегодня, тут других забот хватает. Вы уж там сами действуйте.
И мы действовали. Колобок опять нырнул в одуванчики, под свой лопух, Васек и Санька катали тачку (неужели не надоело за вчерашний день?), Кочергин, повертевшись немного, снова исчез неизвестно куда, а я принялся размешивать вчерашний раствор, раскладывать вдоль стены шлакоблоки.
— Лёха, ты дурак или слишком умный? — крикнул мне Санька. — Опять будешь вкалывать один?
Я злился, но молчал. В голосе Саньки была не только насмешка, но и искреннее удивление, и даже доля непонятной тревоги. «Ничего, голубчики, я вас измором возьму, авось совесть проснется», — думал я, с силой припечатывая один шлакоблок к другому. Но совесть у них, кажется, любила поспать не меньше, чем наш Колобок. Даже у Кочергина, о чем я раньше никогда бы не подумал. Видно, он на проделки только горазд, а не на дело.
И, словно в подтверждение моей мысли, в дверях кузницы появился Кочергин с какой-то невиданной самодельной балалайкой в руках. Он подошел к сараю, уселся на кирпичи, устроил поудобнее на коленях свой музинструмент и стал играть. Балалайка его гудела басом, пищала дискантом, звенела, дребезжала, но тем не менее прямо-таки выговаривала различные залихватские мелодии. Музыкальный дар у Витьки удивительный. В строительном училище он отлично играл на всех инструментах, какие только были в красном уголке, — и на аккордеоне, и на гитаре, и на губной гармошке.
Конечно, посмотреть и послушать невиданную балалайку сразу же собралось все звено.
— Где ты взял?
— Сам сделал. Полдня вчера в кузнице копался…
— Артист ты, Витька!
— Конечно, — соглашался он, наяривая на балалайке мелодию за мелодией.
Холодок, возникший было между мной и ребятами, мигом растаял. Мы все были равны перед Витькой, все восхищались его игрой, его мастерством, его выдумкой. Он сейчас безраздельно властвовал над нашими душами. И когда наконец он небрежно бросил свой музинструмент в угол и взялся за работу («Поразмяться, что ли, помочь немного звеньевому, а?»), все звено тоже принялось за дело.
Время до обеда пролетело мигом, и стены действительно, как я утром и говорил бригадиру, поднялись выше, чем на метр.
— Кочергин, сыграй плясовую на своей бандуре, а то Колобок сейчас уснет! — кричал Санька, быстро укладывая тяжелые шлакоблоки, словно это были обыкновенные кирпичи.
— Сам не усни… — огрызался Колобок, проверяя отвесом угол.
Я заметил: если он за что-то брался, то старался выполнить точно, без ошибок, чтобы потом не переделывать, чего из-за своей лености страшно не любил.
А Кочергин принимал Санькину шутку всерьез, брал балалайку, минут пять выдавал нам разухабистые мотивчики и снова спешил на свое рабочее место. И странное дело, после Витькиной игры вроде бы и шлакоблоки казались легче, и работалось веселее. А стены всё росли и росли, что веселило нас не меньше, и мы дружно решили работать без обеда. Лишь пожевали огурцов с хлебом и снова за дело.
К вечеру сарай был готов. Когда к нам пришел бригадир Костя (все-таки не выдержал, решил проверить), он застал такую картину: Санька и Колобок, стоя на старой тачке, делали цементную стяжку на последнем ряду, я и Васек подавали им раствор, а Кочергин стоял поодаль, наяривал на своей балалайке, поддерживая наши иссякающие силы.
За два дня мы сделали норму, которую бригадир определил нам на неделю.
«БЛАЖЕННЫЙ»
Уходит лирика из сердца, Как сок из вянущей травы. Вот-вот тоска начнет глядеться В меня глазищами совы. И я свыкаюсь с прозой этой. И мне уж, право, все равно, Что умирает молча лето, Что плачут зрители в кино. Но вдруг на позабытой полке Найду хорошие стихи — И от тоски моей осколки Летят, как будто черепки! О, буйство слов, что не прощают В глазах потухшего огня! Стихи, как рашпилем, счищают Густую ржавчину с меня…На самой окраине Ключевки стоит изба плотника Николы Баландина. Тесовая крыша ее, по которой пятнами расползся зеленый мох, сдвинута набекрень, щелястая дверь в сенцах хлопает и дребезжит на ветру, окна смотрят на мир задумчиво и печально. Под стать избе и хозяин. Неряшливый, мешковатый, он курит только махорку, и длинные тонкие пальцы его всегда покрыты желтым налетом.
Нрав у Николы тихий, мужик он безотказный, и в деревне относятся к нему снисходительно.
— Никола, может, останешься во вторую смену? — говорит иногда бригадир в конце рабочего дня. — Леса надо подремонтировать.
— Хорошо, — соглашается тот.
— А в помощники возьми кого-нибудь из ребят, вот хоть его, — указывает бригадир на меня.
И мы с Николой остаемся во вторую смену. Он посылает меня в магазин купить «тормозок», то есть хлеба и плавленых сырков, а сам усаживается в затишье, скручивает изящную козью ножку и принимается что-нибудь строгать: палочку, дощечку или подвернувшееся под руку суковатое полено. Это его страсть — что-нибудь строгать своим перочинным ножичком с двумя лезвиями, одно из которых наполовину обломано. Он строгает во время перекуров, в обеденный перерыв, даже на собраниях в правлении колхоза, за что ему всегда потом попадает от уборщицы.
— Опять намусорил! — ворчит она.
— Это не мусор, — виновато говорит Баландин, — это стружки… Я сейчас уберу.
И рукавом комбинезона принимается сгребать стружки в кучку.
— Господи, веник же рядом стоит! — оттаявшим голосом говорит уборщица.
Иногда он строгает просто так, машинально, но часто из полена или чурочки вдруг начинают прорисовываться очертания птичьей головы, какого-либо зверька или смешного человечка. Но кончается обеденный перерыв, Баландин бросает недоструганное полено куда-нибудь в угол и тут же забывает о нем. А если времени достаточно, то сосновая чурка в его руках может превратиться в какую-нибудь забавную фигурку — например, зайца или усатого старика.
Эти деревянные игрушки особенно восхищают в нашей бригаде женщин, и Никола охотно им их дарит — для ребятишек.
Так вот, когда мы оставались с ним во вторую смену, он отдавался своей страсти самозабвенно, с наслаждением: ведь никто не мешал. Я приносил хлеб и плавленые сырки, мы не торопясь ели, а ножичек в Николиных руках не останавливался, продолжал свое дело. Проходил и час, и больше, и я напоминал Баландину, не пора ли нам приниматься за ремонт лесов.
— Чего ты торопишься? — отвечал он. — Тут и работы всего на час, я уж посмотрел, прикинул.
А если мне все-таки не сиделось, нужно было уйти по своим ребячьим делам пораньше, он охотно отпускал меня.
— Только смотри, бригадиру — молчок! — предупреждал Баландин.
— Само собой!
На следующее утро я первым делом кидался к лесам. Они были в полном порядке: катальные хода заменены, оторвавшиеся доски накрепко прибиты заново, даже сделаны перила, о которых бригадир и не напоминал. «И когда только успел?» — думал я о Баландине, но потом понял: для хорошего плотника, если ему не мешают и не путаются под ногами, сделать все это — пара пустяков.
Бригадир на вполне законных основаниях разрешал нам взять по отгулу, что я и делал, но Баландин пользовался ими редко.
Вот такой он чудаковатый человек.
И случилась с Николой непоправимая беда: умерла у него жена. Он сразу как-то постарел, стал еще неряшливее, еще задумчивее. Да и было отчего задуматься. Заработок у плотника не министерский, семью в восемь человек содержать нелегко. Но пока жива была Настя, из положения выходили. Хотя она и не работала (мучили бесконечные приступы астмы, а в последнее время и сердце прихватывало так, что невмоготу), но семью содержала в порядке: и обстирает, и из школы девочек встретит (у них были одни дочери), и получкой Николиной распорядится так, что голодные не сидели. Да и одевались не хуже других; пусть иногда и в заштопанном платьишке, зато в чистеньком, аккуратно выглаженном, так что любо посмотреть. А как она умела радоваться какой-нибудь малости — например, тому, что удачно получились зеленые щи из щавеля, или очередной Николиной игрушке, которую он выстругивал между делом для дочерей!
И вот Насти не стало… На руках у Николы осталось шестеро. Старшая, правда, уже в техническое училище поступила после восьмилетки, а остальные — как горох, их до ума доводить надо. Предлагали Николе делать табуретки и продавать их на базаре, но он в ответ только усмехался. Зато строгать не перестал. Только теперь у него все игрушки выходили одинаковыми — голова женщины в платочке. И он их уже не разбрасывал и никому не дарил, а бережно убирал в карман.
— Горюет мужик… — говорили о нем старухи. — Прямо блаженный какой-то стал, как бы умом не тронулся.
Как же я удивился, когда однажды, оставшись с Николой во вторую смену, услышал от него почти то же самое!
— Знаешь, я чуть с ума не сошел, когда Настюша умерла, — говорил он, по привычке вертя в руках сосновую щепку. — Руки хотел на себя наложить, да удержал один пустячок. Вот так задумаешься, ругаешь себя последними словами, что не смог Настюшу ни разу на курорт отправить, подлечиться, а сам (ты ведь знаешь мою слабость) все какую-нибудь чурочку строгаю. Опомнишься, поглядишь — женская голова получается, и платочек на ней, как Настюша любила повязывать. И чудится мне ее, Настюшин, голос: «Коля, Коля, тебе еще жить надо, дочерей растить. Они еще глупые, ничего-то в жизни не понимают…» Вот так мы и стали с ней разговаривать. Вырежу фигурку — и разговариваю, рассказываю, как день прошел, что у нас нового. И вроде становится мне легче…
— Это и есть тот пустячок, что помог на ногах устоять? — догадался я.
— Тот самый, — застенчиво улыбнулся Баландин.
Я потом долго размышлял о Николином «пустячке». И на поверку выходило, что его невинное увлечение вырезать деревянные игрушки совсем не пустячок, если помогло ему пережить, пересилить непоправимую беду. Скорее его можно назвать зацепкой в жизни. А для Баландина эта зацепка даже переросла в призвание.
Буквально на днях все ключевцы с удовольствием смотрели передачу нашего областного телевидения, которая называлась «Второе призвание». Показывали плотника Николая Евстигнеевича Баландина и его деревянные игрушки: зайцев, медведей, болотного хмыря, детей, собирающих грибы… Были там и скульптурные портреты. Особенно выделялся и запоминался портрет женщины в платочке, повязанной, как говорят у нас в деревне, «под косячку»: платок низко спущен на лоб, шея открыта, чтобы легче было дышать, а концы платка небрежно (потому что торопливо) завязаны на затылке. Так обычно повязываются по утрам все ключевские женщины, когда на них сразу сваливается ворох неотложных дел: подоить и отогнать в стадо корову, затопить печку, напоить теленка, приготовить завтрак, накормить и проводить в школу ребятишек…
Лицо женщины в платочке было приветливым и немного печальным. В нем легко угадывались черты Насти, Николиной жены…
— Вот тебе и Блаженный, — рассуждали потом между собой ключевцы. — Молодец, одним словом. Наш мужик!
БАНКА СОЛЕНЫХ ГРИБОВ
Пригорок, излучина Дона… Эй, поезд! Скорее домчи До милого отчего дома — В деревню Большие Ключи! Там детство мое пробежало По тропкам и росным лугам… Отправлюсь я прямо с вокзала Туда, где крутые стога, Где бродит конек полудикий, Скрипят дергачи в ивняке И алое сердце клубники Качается на стебельке!I
Однажды у нас в деревне появился морячок. Идет по выгону не спеша, чуть вразвалочку, бескозырка лихо сдвинута набекрень, и черные ленты с золотыми якорьками так и плещутся на ветру за спиной.
Пригляделись люди и ахнули: ведь это же Сенька Репей, Марьи Филипповой сын! На побывку, видать, приехал. Провожали в армию полтора года назад — и взглянуть было не на что: конопатый, кожа на носу шелушится, уши здоровые в стороны торчат — ну настоящий репей, не зря же ему такое прозвище дали! В детстве все, бывало, за материну юбку держался: она в поле — и он за ней, она на стойло корову доить, — и он тащится. А не возьмет его Марья, так рев на всю деревню поднимет. И вот смотри ты… Соколом глядит!
Всю неделю только и было разговоров, что о Сеньке. Старики заходили к нему побеседовать о международном положении, и в разговоре нет-нет да и назовут его по имени-отчеству. Девушки зачастили к Марье то соли попросить, то попить квасу: дескать, квас у тебя, тетка Марья, удивительный, ни у кого в деревне такого нету… Марья понимала, какой им квас нужен, и сама смотрела на сына как-то по-новому. В мечтах она уже видела рядом с ним Клавку-медичку, первую деревенскую красавицу. А Сенька обо всем говорил обстоятельно, уверенно и на вопрос стариков о войне отчеканил, как рапорт, что русскому оружию не страшны никакие враги. И Марья все больше проникалась гордостью за сына, даже робела перед ним.
— Что ты, Мишка, топаешь, как битюг? — ворчала она на хромого старшего сына, который утром собирался на работу. — Сеня отдыхает, вчера поздно с вечерки пришел…
Мишка, усмехался каким-то своим мыслям, молча перекидывал через плечо старый прорезиненный плащ и уходил на целый день из дома: он пас колхозное стадо.
А Сенька вставал поздно, не спеша ел яичницу, которую Марья оставляла для него в печке, чтобы не остыла, запивал ее густыми сливками и отправлялся на улицу. Но народ весь на посевной, в деревне пусто, одни старухи копошились на огородах да босоногие мальчишки бегали по лужкам и канавам, отыскивая молодой сочный анис и щавель. Увидев Сеньку, мальчишки с восхищением таращили на него глаза, а самый смелый из них, шестилетний Федор, даже спросил однажды:
— Дядя, а правда морские волки бывают?
— Бывают, — снисходительно отвечал Сенька. — Зубищи у них во-от такие, и хвост метра полтора.
От скуки Сенька заглядывал в колхозную столовую, где хозяйничали повариха Дарья Акимовна и ее молодая помощница Зойка Егорова.
— Как дела на камбузе, кок? — приветствовал он повариху, а сам все поглядывал на Зойку, дожидаясь, когда она повезет в поле трактористам и сеяльщикам обед.
Он помогал Зойке запрягать Буланку («жива еще, старая кляча!»), затем они устанавливали на телегу алюминиевые бачки с горячим борщом и компотом, укрывали их брезентом. Умная Буланка дорогу знала сама, и Зойка, замотав вожжи за оглоблю, шла сзади телеги рядом с Сенькой. А морячок то и дело наклонялся к девушке и что-то говорил ей вполголоса, отчего она, запрокидывая голову, отчаянно хохотала, словно ей щекотали пятки.
Дарья Акимовна в первый день встретила Сеньку приветливо и даже угостила наваристым борщом, а потом, когда он зачастил, стала посматривать неодобрительно и даже на шутливые Сенькины приветствия перестала отвечать. Сенька догадывался, чем недовольна повариха: Зойка считалась в Ключевке невестой его брата. Но это морячка, казалось, ничуть не смущало. «А у Мишки губа не дура, — думал он, глядя на тугие Зойкины щеки, полыхавшие румянцем, точно спелые помидоры, и на всю ее ладную фигурку. — Ишь какую деваху себе высмотрел, хромой черт…»
К брату Сенька всегда относился с болезненной ревностью. Все у Мишки получалось легко и просто. Годов с семи он уже носился галопом на лошадях, лучше любого взрослого умел свистеть в два пальца, проворнее и выше всех взбирался на тополя, обсыпанные грачиными гнездами. Правда, однажды ему не повезло: тонкий тополиный сук сломался, и Мишка полетел вниз. Четыре месяца он пролежал в районной больнице, а когда его выписали, ходил на костылях, и мать купила ему для утешения гармонь. По целым днем Мишка пиликал на ней и, на удивление всем, самостоятельно выучился играть.
Костыли ему со временем стали не нужны, но одна нога срослась криво, и он навсегда остался хромым. Правда, это не мешало ему лучше многих мальчишек играть в лапту и бешено носиться по окрестным проселочным дорогам на велосипеде.
А Сенька… Но о себе морячок старался не думать. Проводив за околицу Зойку, он возвращался в деревню и на ходу любовно оправлял свою матросскую форму. В ней он чувствовал себя ловким, уверенным и красивым.
Как-то утром он увидел в окно бригадира дядю Ваню, который направлялся к их дому, — конечно же, шел проведать его, отпускника. Сенька только что умылся, насухо вытерся праздничным, расшитым петухами, полотенцем (Марья достала его со дна сундука) и садился за стол — завтракать.
— Вот и гость кстати! Заходи, дядь Вань, заходи, — по-хозяйски приглашал Сенька. — Мать, давай-ка нам твой графинчик с «живой водой».
— Здорово, матрос! — улыбнулся бригадир и даванул своей единственной заскорузлой ручищей (вторую он потерял на фронте) тонкие Сенькины пальцы. — С приездом тебя!
— Спасибо, дядь Вань. Садись вот поближе к столу.
Бригадир сел. Ловко вытянув из пачки «беломорину», закурил, спросил, как служится. Сенька особенно распространяться не стал, намекнул только, что часто приходится бывать в «загранке», а в каких портах, умолчал, будто это бог весть какая тайна.
— Повидать многое пришлось, — загадочно говорил он. — Но до поры до времени не расскажешь: расписку давал.
И, видя, что гость поскучнел лицом, слушает рассеянно и даже чуть-чуть морщит губы, словно верит и не верит, добавил внушительно:
— За плохую службу, дядь Вань, отпуск не дадут.
— Это верно, Семен, — согласился бригадир, — за плохую службу не дадут… — И продолжал доверительно: — А я ведь к тебе по делу. Прогноз погоды слыхал? Дождь обещали, а мы гречу не досеяли. И осталось-то на полдня работы, а сеяльщица, Зинка Макарова, заболела, дьявол… Зашел я сейчас к ней — зеленая вся лежит, как трава весенняя. Я уж медичку к ней послал, а сам вот к тебе. Выручай, браток… поработай на сеялке.
Но Сенька отказался. Сначала шутил: на сеялке, дескать, за день так пропылишься, что и за неделю не отмоешься, Балтийское море черным станет. А потом встал из-за стола, зачем-то надел бескозырку и пошел высказывать давнишние полудетские обиды и претензии к односельчанам.
«Ишь, раскипятился…» — машинально отметил про себя бригадир. Ему даже показалось, что бескозырка на макушке у Сеньки подпрыгивала, словно крышка на чайнике.
— Ладно, матрос, — сказал он, поднимаясь. — Не хочешь помочь — не надо. Обойдемся. Я ведь подумал, что душа у тебя хоть немножко да болит о земле. А ты — ломоть отрезанный. Бывай здоров.
К концу Сенькиного отпуска односельчане увидели, что перед ними — прежний Репей, только в красивой форме. И старики смущенно почесывали в затылках, удивляясь самим себе, что не смогли сразу разглядеть, кто перед ними есть. «Видно, мундир ослепил», — говорили они.
II
После службы Сенька Репей в Ключевку не вернулся. Говорили, будто прицепился к какой-то вдове на шахтерском поселке, ходит, как начальник, с кожаным портфелем и под ногами земли не чует. Писем он не присылал, и односельчане постепенно забыли о нем. Только постаревшая Марья, страдая бессонницей, молилась по ночам за своего непутевого сына, да и то больше по привычке.
И вот, спустя двадцать лет, Сенька снова объявился в родных краях. Встретил я его в автобусе.
Все дела, ради которых ездил я в райцентр, мне удалось выполнить быстро, даже еще успел гостинцев накупить, и домой возвращался с легкой душой. От нечего делать поглядывал за окно, на скошенную в валки рожь, прислушивался к разговорам попутчиков. Вдруг кто-то окликнул меня полузабытым детским прозвищем — Карабчик. Оглянувшись, встретился я взглядом с незнакомым человеком, пожал плечами, а тот уже двинулся ко мне, улыбался и протягивал руку для пожатия.
— Не узнаёшь? — опустился он рядом со мной на сиденье.
Я всмотрелся получше в этого приземистого, располневшего, начинающего лысеть мужчину с большими оттопыренными ушами и неуверенно произнес:
— Кажется, Сенька?
— Он… он самый, Сенька Репей! — обрадовался мой спутник, усаживаясь поудобнее. — Еду вот, понимаешь, проведать. Потянуло, брат, на родину, дело прошлое… Как она там, наша Ключевка, стоит?
И, не дожидаясь ответа, все говорил, говорил, словно хотел облегчить разговором свою огрузневшую душу.
— Помнишь, я в отпуск с флота приходил? Дело прошлое, чудно он мне тогда достался, случайно, можно сказать… Я в береговой обороне служил, а на кораблях, дело прошлое, за всю службу и не был ни разу. Только видел с берега, когда они на рейде стояли. Ну, а форма у нас была настоящая, матросская. Тельник, бескозырка с ленточками — всё чин чинарем. Ух и форсили мы перед девками, когда в увольнение ходили! А тут еще с отпуском подфартило. Стою, понимаешь, у склада на посту, а темнота — как сажа. И ни одной звездочки в небе, даже оторопь берет, дело прошлое.
Вдруг сверху шорох какой-то… Чую, на складской крыше кто-то возится. Кто там, что — поди разбери в темнотище. Ну, я орать: «Стой, кто идет?» Никакого ответа. Тогда даю предупредительную очередь в воздух; и второй очередью — по этому шороху. Через минуту прибегают дежурные из караулки, я докладываю ситуацию. Заглянули на крышу, а там наш козел Яшка, он у нас в хозвзводе жил. И зачем его, дьявола, на крышу занесло? Наповал я его срезал, даже мекнуть не успел.
Перепугался я тогда, дело прошлое, здорово. Не миновать, думаю, мне губы из-за этого козла. А вышло все наоборот — отпуск дали. За бдительное несение службы.
И Сенька, поблескивая золотым зубом, довольно расхохотался.
— Вот ведь как бывает — подфартило, — говорил он сквозь смех.
На перекрестке мы вышли из автобуса и отправились по Куликовскому большаку пешком. До Больших Ключей было километра четыре, можно бы дождаться попутную машину, но Сенька уговорил меня пройтись.
— На местность нашу взгляну, как она тут… Дело прошлое, заскучал я последнее время. Вроде что-то изнутри меня сосет и сосет, как болезнь какая.
— И давно это у тебя?
— Скажу — не поверишь. Получаю недавно посылку от матери, верней, и не посылку, а так, узелок. Приношу в общежитие (я сейчас в общаге живу, со своей каргой развелся), развязываю, а там — банка с солеными грибами. Открыл — и на меня так и дохнуло укропом да лесом. И грибы-то, дело прошлое, немудреные — волнушки, скрипухи, лисички… в общем, какие мы в детстве в нашем лесу собирали. Подцеплю я грибок вилкой, положу в рот, и — Ключевка передо мной как на ладони, как живая. Вот с тех пор и заскучал…
Я посмотрел на Сеньку с интересом. Говорил он искренне, словно бы исповедовался, и я верил ему. «Значит, душа у человека не совсем измочалилась, если обыкновенная банка с грибами смогла напомнить о родине, позвала в дорогу…» — думал я. А Сенька все поглядывал по сторонам и радовался, как друзьям детства, то деревянному мосточку, то роднику в ложбинке, то крутому изгибу полевой дороги.
— А сейчас будет Голая лощина, — угадывал он родные места. И вдруг посмотрел на меня с едва заметной тревогой: — Мы не заблудились?
— Нет, по большаку же идем…
Но Сенька, кажется, мне не поверил. И тут я догадался, в чем дело. Ведь Голой лощины давно не стало, на ее месте сейчас растет молодая сосновая роща. Выросла уже без него, колхозники посадили. Когда я сказал об этом Сеньке, он примолк, задумался.
Возле рощи догнали нас на мотоциклах Ванюшка с братом, мои соседи. Притормозили, с любопытством разглядывая незнакомого человека.
— Садитесь, подвезем, дядя Леша!
— Спасибо, ребята, мы пешочком прогуляемся.
— Правильно. Меньше народу — больше кислороду! — засмеялся младший.
И они умчались.
— Ключевские? — кивнул Сенька им вслед.
— Племянники твои…
— Ну? — удивился Сенька. — У Мишки, значит, уже такие ребята здоровые? Вот, дело прошлое, будет встреча!.. А у тебя кто есть?
— Дочка растет, Маша, — отвечал я. — В сентябре в четвертый класс пойдет.
— В России у нас так — Машки да Ваньки… — безучастно сказал он, а сам все думал о чем-то своем, глубоко спрятанном, невысказанном.
Думал и я — о Сеньке, о его озорных племянниках и о том, что они наверняка прилепят ему еще одно прозвище — «Дело прошлое…».
ШПИНГАЛЕТ
Не пойму, какая сила тянет Всю округу исходить, изъездить: Побывать у косарей на стане, Увидать полночные созвездья, Весь простор впитать в себя до капли, Кепкой из ключа воды напиться, Постоять на тихой речке с цаплей, Пошептаться вечером с пшеницей. И хотя в селе меня за это Называют часто «непутевым», Все равно дороги этим летом Я шагами мерить буду снова. Где-нибудь под елкой или кленом Буду упиваться птичьей трелью И, быть может, в ключике студеном Вдруг увижу всю родную землю.Весной, словно перелетную птицу, тянет Валерку вдаль, на просторы проселочных дорог. В школе на переменках он старается улизнуть от товарищей, забирается в заросли еще голой сирени или уходит за ближние огороды и молча стоит в одиночестве, блаженно улыбается, принюхиваясь к дразнящим весенним запахам. Даже заливистый школьный звонок, слышный на всю округу, не может оторвать его от каких-то тайных мыслей, и Валерка все чаще опаздывает на уроки.
Да и на уроках он задумчив и рассеян и охотнее смотрит за окно, чем в тетрадь.
Дома над столом, за которым он готовит уроки, висит карта Тульской области. Невелика картушка, но чего на ней только нет! Словно горсть красных горошин, рассыпаны кружочки городов и поселков — районные центры. Между ними тянутся черные ленточки большаков и железных дорог. Кудрявятся зеленые пятна лесов и перелесков. А на синие нитки речек нанизаны, словно бусы, кружочки поменьше — деревни и села.
Дивной музыкой звучат для мальчишки знакомые и незнакомые названия: Мокрая Табола, Говоренки, Лески, Иван-озеро, Пушкари, Непрядва… Свою деревню, Большие Ключи, он обвел двойным красным кружком и наметил от него в разные стороны пунктирные линии. Давно уже ночь на дворе, спит маленький братишка Славка, улеглись и отец с матерью, а Валерка все сидит за столом, включил настольную лампу-грибок, шуршит бумагами.
— Ложился бы… — говорит из-за перегородки мать. — Завтра будешь как вареный ходить.
— Сейчас, мам. Уроков стали пропасть сколько задавать, — невинно врет Валерка. — По новой программе учимся, сама знаешь.
Мать, пробормотав еще что-то, наконец засыпает, а Валерка снимает со стенки календарь и подсчитывает, сколько осталось дней до конца учебного года. Получается много, ведь сейчас только март, и он досадливо морщится. Но потом успокаивает себя тем, что дороги наверняка просохнут раньше, чем начнутся каникулы, и после Первомая можно будет сделать пробный выезд.
На следующий день, едва вернувшись из школы, Валерка кинул в угол портфель с учебниками и выволок из чулана старенький отцовский велосипед. Разобрал его, вычистил, смазал каждую гаечку, каждый шурупчик.
— «Куда ты мчишься, верный конь, и где опустишь ты копыта?» — громко распевал он, протирая маминым фартуком никелированные части. Не успел оглянуться — вечер уже, мать в сенцах загремела щеколдой, с работы вернулась. Зыркнул Валерка на дверь, хотел было спрятать разобранный велосипед под кровать, да не успел: мать уже на пороге.
— Ты что ж это, Шпингалет, Славку от бабушки не привел? — разматывая шаль, сердито заговорила она. — И железок каких-то наволок. Ты что тут творишь?
Валерка молчал. Если мать называет его по-уличному — Шпингалетом, — то добра от нее не жди. Подзатыльник-другой он готов был стерпеть молча и безропотно, лишь бы мать не вздумала выбрасывать «железки». Сгоряча закинет в снег — тогда собирай их там… К счастью, в сенцах снова звякнула щеколда, и в избу вошел отец, ведя за руку раскрасневшегося на ветру Славку.
Когда разобрались, в чем дело, отец неожиданно занял Валеркину сторону:
— Не собак же он гонял, мать. Вещь в порядок привел, а то и правда заржавеет. А ну-ка, сын, давай собирать машину.
— Я сам, пап, я быстро… — заторопился Валерка.
— Ну-ну, хозяйничай. А Славик тебе поможет.
И пока ребята собирали велосипед (Славка, правда, больше мешался, чем помогал), мать ворчала:
— Ведь какой тихий да спокойный рос, когда поменьше был. Как девочка! И играл все больше с девчонками. Другие то с синяком домой заявятся, то нос расквасят, а я и горя не знала… И вот как сглазили малого. Небось опять что-нибудь задумал, а?
Валерка понимал, что вопрос этот скорее риторический, чем конкретный, и отвечать на него не торопился. Вообще-то мать права — раньше он был другим. Самым верным его товарищем была Люська Соломина. Она даже дралась с мальчишками, когда те дразнили его Шпингалетом. Ростом он и сейчас не ахти какой, на голову ниже сверстников, так что прозвище получил не зря. А потом, когда пошли в школу, у Люськи появилось много подружек, и ей стало не до Валерки.
Сунулся он было к друзьям-первоклассникам, а те играть его не принимают. «Девчатник! — кричат. — Шпингалет, сто лет в обед!» Однажды, не выдержав, убежал он за деревню и долго ругался там вслух тяжелыми мужицкими ругательствами, которые с трудом ворочались у него во рту.
«Подожгу! — твердил он, вспоминая ухмыляющуюся ушастую голову Васьки-фокусника, главного своего обидчика. — Избу Васькину подожгу…» И кто знает, возможно, Шпингалет и выполнил бы задуманное, если бы не старая верба. Она росла на краю оврага, как раз на его пути — низенькая, горбатая, удивительно похожая на бабушку Аксинью, Васькину бабушку. «А ведь вместе с избой и бабушка сгорит, — ужаснулся Шпингалет. — Ведь она слепая у них!»
Мальчишка медленно опустился на траву и огляделся вокруг. Прямо перед ним, на золотом одуванчике, качался черно-красный шмель. Он весь перемазался цветочной пыльцой, словно карапуз манной кашей, и о чем-то добродушно гудел. Вверху, над головой, звенел невидимый жаворонок. И там, откуда лился звон, плыли ослепительно белые, похожие на гусей, облака. Легкие тени от них, догоняя друг друга, скользили по оврагу, по густым зеленям и скрывались в синей дали, за горизонтом. Мир был так велик и прекрасен!
И непонятное чувство охватило смятенную душу Шпингалета. Он прижался щекой к теплой земле, и на ресницах его задрожала светлая росинка — слеза…
С того дня он стал часто пропадать за деревней, бродить по пустынным полевым дорогам. Ему нравилось быть наедине с землей, рядом с деревьями, птицами, жуками… Нравится и сейчас, хотя он уже пятиклассник, человек вполне самостоятельный.
…Собрав велосипед, Валерка помотался из угла в угол, поиграл со Славкой в кубики с азбукой, из которых у них неожиданно получилась фраза: «Приди, весна красная». Ему не сиделось на месте. Накинув пальтецо, он шмыгнул в дверь.
— Куда это на ночь глядя? — крикнула мать вдогонку.
— Я счас, мам! — донеслось из сеней, а в следующую минуту он был уже за палисадником.
Снег под ногами напоминал мокрый тугой творог. С юга тянуло влажным ветром. Валерка сорвал с головы шапку, подставляя ему лицо, и неожиданно услышал на старых ветлах негромкое карканье. Неужели прилетели грачи? Ну конечно же! На неделю раньше вернулись… В темноте увидеть грачей Валерка не мог, но их домовитые хозяйские голоса он не спутает ни с вороньими, ни с галочьими.
Вряд ли кто в Больших Ключах ждет весну так, как Шпингалет. Он знает каждый ее шаг. Едва пригреет мартовское солнце, как начинают зреть в полях, оврагах, под оседающими сугробами полые воды. День ото дня они всё больше набирают силу, в полдень на припеке прорываются небольшими ручейками, весело звенящими по жести льда, скапливаются в канавах и низинах. Потемневший снег, покрытый хрустящей корочкой, кажется еще прочным, незыблемым, но возле самой земли, начинающей оттаивать, он уже набух.
И вот приходит день, когда вдруг вырвется из-под снега не ручеек, а ручей, за ним второй, третий… десятый, они сливаются в потоки — и запоет, зазвенит, загромыхает половодье!
Тяжелые неуклюжие льдины на разлившейся речушке царапают острыми боками берега, на лесной опушке сломало и унесло старую осину, в лощине затопило и разметало по клочкам не вывезенный вовремя стог сена… Нет удержу полой воде!
В мутных потоках вместе с остатками снега уносятся щепки, лепешки навоза, пожухлая прошлогодняя листва и всякий другой хлам, накопившийся за долгую зиму. Через несколько дней полая вода схлынет, оставив небольшие озерца в низинах да придорожных канавах, по буграм и косогорам пойдет бродить лохматый белый пар, и размякшая черная земля удивится наступившей тишине.
Удивится, вздохнет облегченно — и снова пойдет работа! Заструятся по стеблям и стволам невидимые соки, заворочаются в почве корешки и семена растений, в оврагах сквозь причесанные пряди прошлогодней травы полезут настырные молодые росточки, на расцарапанных льдинами берегах речушки зацветет мать-и-мачеха, а в лесу, еще влажном, умытом, зазвенят голоса птиц.
— Приходи, весна красная! — озорно кричит Валерка в темноту. — Приходи поскорей!
— Иду-у! — вдруг отзывается весна из-за крайних изб. — Ты подожди меня, Шпингале-еет!
Валерка прислушался к наступившей тишине и засмеялся: голос весны как две капли талой воды был похож на голос Люськи Соломиной.
ГРОЗА В НАЧАЛЕ МАЯ
Ночью — шорохи трав, И концерты лягушек, И баян, И девчоночья песня вдали… И растут вдоль канав Лопухи, будто уши, Любопытные уши Весенней земли!Из школы Филька Хрусталев возвращался поздно — выпускали с ребятами стенгазету, последнюю в этом учебном году. Вместе с ними была Татьянка, поэтому Филька и не заметил, как пролетело время. Ему всегда радостно и немного тревожно, когда рядом с ним бывает Татьянка.
Домой они шли вместе. Днем был дождик, настоящий весенний дождик, с басовито рокочущим первым громом и отдаленно сверкавшими молниями, похожими на девчоночьи ленты. После грозы умытая земля словно бы помолодела. Ласково зазеленела трава, в свежем воздухе разлился крепкий тополиный запах, а лужицы на дорогах были синими, как небо, и казались бездонными.
Школьники радовались первой грозе, как первым скворцам. В седьмом классе стоял гвалт, точно у первоклашек. Ребята и девчонки на все лады повторяли давно известные строки, в которых вдруг обнаружили скрытую прелесть:
Люблю грозу в начале мая, Когда весенний первый гром, Как бы резвяся и играя, Грохочет в небе голубом!И когда на уроке литературы учительница попросила Фильку прочитать наизусть отрывок из «Слова о полку Игореве», он быстро вышел к доске и выпалил:
Люблю грозу в начале мая, Когда весенний…Досказать строчку ему не удалось: класс взорвался хохотом, подобным только что прошедшей грозе. Смеялась и учительница, смеялся и сам Филька — так неожиданно и непроизвольно это у него вышло. Даже и после, когда все досыта насмеялись и Филька стал рассказывать отрывок из «Слова», некоторые из девчонок, вспомнив «Люблю грозу…», потихоньку прыскали в кулак. Среди этих хохотушек была и Татьянка. А сейчас, шагая рядом с Филькой, который нес ее портфель, она притихла, но глаза смотрели доверчиво и ясно. Филька тоже молчал и только возле Татьянкиного дома спросил негромко:
— Вечером выйдешь?
— Да… — выдохнула девочка и, схватив портфель, убежала.
У Фильки все запело внутри. «Люблю, люблю, люблю, — мысленно повторял он в такт своим шагам, — грозу в начале мая!» Он не замечал, что шагает размашисто, спешит. И только возле дома понял, что спешил не зря.
Во дворе бродила недоенная корова и время от времени коротко взмыкивала, призывая хозяев. Двери были нараспашку, в горницу набились куры. Ни отца, ни матери не было. «Опять, что ли, разводятся? — подумал он о родителях, выгоняя кур. — Дьяволы, навязались на мою голову!»
Разводились они часто, Филька уже привык к их фокусам. Отец работал шофером, нередко задерживался на работе, и мать подозревала, что он погуливает с приезжей продавщицей, так как несколько раз видела ее у отца в кабине. В эти дни мать обычно прибегала домой, торопливо надевала новое платье, туфли, подкрашивала ресницы и губы и спешила на Куликовский большак. Там она останавливала первую попавшуюся машину и просила подвезти. Но ехать ей было некуда, просто она старалась выпытать у шоферов, действительно ли ее Вася погуливает, а заодно пококетничать с ними, надеясь, что слух об этом дойдет до мужа и тот… «Пусть помучается, понервничает», — думала она.
Филька в такие дни злился на родителей, называл их на «вы» и по имени-отчеству: «С возвращением, Василь Михалыч!», «Вы на меня не кричите, Галина Ивановна!» Обиднее всего Фильке было за свою четырехлетнюю сестренку Ленку — про нее во время ссор забывали. Вот и сейчас ее нигде не было. Филька посмотрел под кроватями, поискал в палисаднике, заглянул в сараи — девчонка как сквозь землю провалилась. Нашел он ее в проулке. Ленка забилась в уголок между стеной и штабелем кирпича и, нахохлившись, держала на коленях щенка. У обоих мордашки были в простокваше, а рядом валялась опрокинутая махотка.
— Фи-иля! — обрадовалась девочка. — Что ты так долго не приходил? Я все одна и одна… А мамка на маца-цыкле уехала. Фыр-фыр! — и уехала. А мне дала простокваши: ешь, говорит. Мы и ели с Тузиком.
— А отец не приходил?
— Не приходил… — вздохнула Ленка.
Филька отвел сестренку в избу, вытер ей нос, затем подоил корову (к этому он тоже давно привык) и принес большую кружку пенистого молока:
— Пей, Лена.
Ленка пила молоко и все что-то щебетала, щебетала, а Филька, не слушая, гладил сестренку по голове, морщил лоб. «И чего они бесятся? — недоуменно думал он о родителях. — Ведь так хорошо быть вместе! Вот хотя бы нам… с Татьянкой…»
И он вспомнил вчерашний вечер.
Когда стали играть в прятки (партия на партию), Филька с Татьянкой забрались в старый сарай, забитый еще прошлогодним сеном. Они старались не шевелиться, чтобы не выдать себя, но Филька чувствовал, что их все равно найдут: так гулко колотилось его сердце. И Татьянкино тоже. Филька в темноте наткнулся на Татьянкины губы, они пахли молоком и медом, и он осторожно прижался к ним своими губами. Татьянка медленно, чуть-чуть, повернула голову, но сама не отодвинулась, потом повернулась обратно, и теперь уж ее губы обожгли Фильку своим прикосновением.
Они простояли друг подле друга несколько минут, а им обоим казалось, что прошла вечность.
— Пойдем, Хрусталик, — шепотом позвала Татьянка, — а то ребята небось обыскались нас…
И так это у нее ласково получилось — Хрусталик, — что Филька чуть не замычал от восторга. Никто его еще так не называл, даже родители.
…За темным окном послышался треск мотоцикла, и вскоре в избу вошли отец с матерью. Ленка уже спала, подложив под чумазую щеку кулачок. Родители перебранивались — видимо, продолжали начатую еще по дороге ссору.
— Вы прекратите когда-нибудь или нет? — взорвался Филька. — Вот женюсь к чертовой матери и уйду от вас! И Ленку с собой заберу, куролесьте тогда на здоровье!
Ошарашенные родители недоуменно переглянулись, а Филька, хлопнув дверью, выбежал на улицу.
Татьянку он нашел возле клуба, где уже толпился народ: должны были показывать французский фильм, на который, как призывно сообщала афиша на Столбе, «дети до 16-ти лет не допускаются». Улучив момент, Филька шепнул ей: «Пойдем походим…», и они незаметно скрылись в темноте.
На краю деревни были свалены сосновые бревна для нового дома, Филька с Татьянкой уселись на них и молча слушали звуки майского вечера. В соседней канаве, залитой весенней водой, оглушительно курлыкали лягушки. Сонно каркали грачи на тополях, поудобнее устраиваясь на ночлег. У клуба смеялись девушки, затем кто-то включил на полную мощность транзистор и тут же выключил его: видимо, началось кино. По Куликовскому большаку, пофыркивая, спешил грузовик. Но все эти отрывочные звуки почти не нарушали тишины теплого вечера, а лишь подчеркивали ее. И в этой тишине был слышен какой-то таинственный шорох, идущий от самой земли.
— Что это? — прошептала Татьянка.
— Трава растет, — так же тихо отвечал Филька, сразу же догадавшись о чем она спрашивает.
Он нашел ее руку и спрятал в своих горячих ладонях. Татьянкина рука чуть пошевелилась, устраиваясь поудобнее, как птенец в гнезде, и замерла. «Вот так бы сидеть и сидеть вместе, — думал Филька, — и ничего больше не надо в жизни…» Но тут он вспомнил о своих родителях, о сестренке и помрачнел.
— Татьянка, ты пойдешь за меня замуж?
— Пойду, — просто отозвалась девочка.
— Нет, ты меня не поняла. Не когда-то там в будущем, а сейчас, завтра например… Другого выхода нет, — вздохнул он.
Характер у Фильки решительный, но не сумасбродный. Прежде чем что-то сделать, он не раз и не два подумает. Татьянка знала об этом. И теперь она размышляла над Филькиными словами, девчоночьим сердцем почувствовав, что что-то у ее друга неладно в жизни. Наверно, опять родители ссорятся…
— Хрусталик, милый, ты не переживай, все обойдется…
Она гладила его по щеке, по склоненной шее, ерошила волосы на голове и все говорила, говорила простые, но очень нужные сейчас для Фильки слова:
— Не век же они будут друг друга ревновать, пожилые уже. А Ленку я буду теперь к себе забирать. Когда мы в школе, за ней наша бабушка присмотрит, я попрошу ее.
— Какая ты… все уже знаешь… — растерянно бормотал Филька.
— Да что тут такого… вся деревня знает. А у нас с тобой семья будет совсем-совсем другая, правда? — неожиданно добавила она. И, смутившись, продолжала: — Потом, конечно, в будущем…
— Знаешь что? — встрепенулся Филька. — Давай на мотоцикле покатаемся!
— Давай! — не раздумывая, согласилась Татьянка.
И они, взявшись за руки, побежали к Филькиному дому. А навстречу им, из-за темных крыш, выплывала огромная, как решето, луна.
…Впервые в жизни Филька домой вернулся за полночь. Поставил в сенцы мотоцикл, не включая света, прошел на кухню. В темноте светился огонек папиросы — это его поджидал отец.
«Неужели драться будет?» — с отвращением подумал Филька и молча стал разуваться. Но отец не двигался. Потом загремел посудой на столе и каким-то незнакомым, словно бы простуженным, голосом сказал:
— Поешь вот… ужин тебе оставили.
И когда Филька в неясном лунном свете прошел к столу, отец мягко обнял его за плечи, несильно прижал к себе.
— Ты уж, Филипп, того… прости нас с матерью, — глухо заговорил он. — Жизнь, сын, она пестренькая. Всего в ней много — и хорошего, и плохого.
От этой неожиданной отцовской ласки у Фильки защипало глаза. В знак примирения он потерся щекой об отцовское плечо, быстро поел и нырнул под одеяло. «Люблю, люблю, люблю, — снова запело в его душе, — грозу в начале мая…»
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.


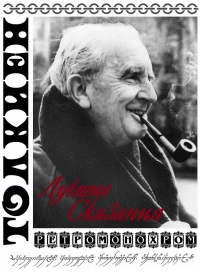

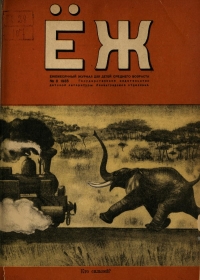



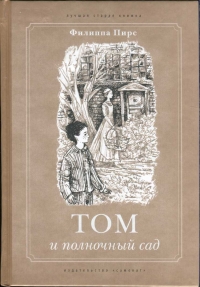




Комментарии к книге «Мой пшеничный сноп», Алексей Андреевич Логунов
Всего 0 комментариев