Юрий Стрехнин ЛЕГЕНДА О ФЛАГЕ
От автора
Святыня моряка — военно-морской флаг… Если его срывал с мачты вражеский огонь, тотчас на ней поднимали такое же полотнище, дабы враг и на минуту не счел себя победителем. Если корабль погибал в неравном бою, он уходил в пучину с гордо реющим флагом — «Погибаю, но не сдаюсь». Флаг корабля не переставал быть знаменем моряка, когда тот уходил воевать на сушу, даже если флага и не было там с матросом. С громовой «полундрой» шел матрос в атаку — и символом верности своему долгу становились для него и бескозырка, черные ленты которой рвал ветер боя, и сине-белая тельняшка, отважно открытая пулям.
В конце войны среди моряков прошел слух, что боевой флаг какого-то корабля, погибшего в сорок первом, донесен до Берлина. В этой книге рассказано о черноморцах и днепровцах, что сражались, может быть, под тем самым флагом, что прошли по многим водным и сухопутным военным дорогам вместе со своими боевыми друзьями — солдатами… Рядом с былями здесь легенды, рожденные войной. Но многое в книге и документально. Надеюсь, она поможет в поисках красным следопытам, пытливым юнармейцам. Им, юным наследникам Великой Победы, я и хотел бы посвятить эту книгу — одну из книг о подвиге их дедов и отцов.
ОДИН СРЕДИ МНОГИХ
Утром второго мая сорок пятого года была взята штурмом последняя фашистская твердыня — рейхстаг. Десятки флагов алыми маками пламенели на черной от копоти, еще дымившейся громаде. Среди множества флагов был один непохожий на остальные. На белом поле — красная пятиконечная звезда, рядом — скрещенные серп и молот, внизу — синяя полоса. Советский военно-морской флаг. Флаг боевых кораблей.
Как очутился он на здании рейхстага?
Об этом у тех, кто видел флаг, было немало догадок и предположений. Одни утверждали: флаг вывешен в знак того, что фашизм разгромлен общими усилиями армии и флота. Другие говорили, что флаг водрузил бывший матрос, который стал солдатом, поклялся дойти и дошел до Берлина. Их поправляли: флаг поставлен моряком, который в свое время спас его с погибающего корабля, был схвачен немцами, сумел в плену сберечь корабельную святыню, а в дни боев в Берлине бежал из лагеря и пришел к рейхстагу, как был, в полосатой куртке узника. Кто-то пытался убедить, что флаг укреплял матрос в полной флотской форме. Это оспаривали участники штурма: не видели они в бою за рейхстаг никого во флотской форме. Им возражали другие участники: нет, моряки были! Кто-то уверял, что своими глазами видел совсем недалеко от рейхстага, у набережной реки Шпрее, наши боевые корабли, правда небольшие.
Но как могли корабли попасть в Берлин? Водный путь есть: из Черного моря в Днепр, с Днепра в Припять и на Западный Буг, а с Буга на Вислу, с Вислы на Одер, с Одера на Шпрее.
Однако мыслимо ли было пройти таким путем? Ведь в каналах были разрушены шлюзы, а реки преграждены взорванными, сброшенными в воду мостами.
Немыслимое оказалось возможным.
В те дни в Берлине действительно можно было встретить матросов, на бескозырках которых золотом горели литеры: «Днепровская флотилия». Более пятисот километров через Польшу и по Германии прошли днепровцы на своих кораблях, помогая боевым друзьям — пехотинцам. А когда бои начались уже в самом Берлине, моряки на маленьких, быстрых как вихрь катерочках-полуглиссерах под огнем перебрасывали через Шпрее автоматчиков, тех, которые потом штурмовали рейхстаг.
Не установил ли военно-морской флаг на рейхстаге матрос с одного из этих полуглиссеров? А может быть, и впрямь это флаг корабля, сбереженный на матросской груди в самых трудных испытаниях?
Где правда, где вымысел, где догадки? Где начало истории о флаге — истории или легенды?
ПРОЩАЙ, «БУКАШКА»!
Сколько ни пришлось матросу Ивану Иванову и раньше и потом хлебнуть на войне всякого лиха, никогда не было у него так тяжко на душе, как в тот день, двадцатого сентября сорок первого года. День, который он запомнил на всю жизнь…
Это началось с минуты, когда, стоя на своем посту, в пулеметной башенке бронекатера, он увидел, что его приятель Василь Трында пробежал в командирскую рубку с листком только что полученной шифровки.
Иванов попытался себя успокоить: мало ли радиограмм принимал Василь?
Тот уже бежал обратно. Иванов крикнул:
— Что нового?
Как-то горестно махнув рукой, Василь, обычно словоохотливый, ничего не сказав, нырнул в люк радиорубки.
Недоброе предчувствие овладело Ивановым.
Стараясь избавиться от него, особо старательно следил за небом, матово-серебристым, чуть подернутым пас- мурью, с разбросанными по нему продолговатыми лохматыми облачками, всматривался в берега, меж которых полным ходом шел по течению их бронекатер и следом — второй.
Почти неподвижны облака. Ровные лесистые берега Десны едва, словно лишь на пробу, тронуты сочными красками осени… Все так спокойно с виду. Но того и жди — из-за облачка выскользнет черный силуэт фашистского самолета. Или с берега вдруг простучит пулемет, либо полыхнет вспышка орудийного выстрела. Может быть, немцы уже вышли к Десне…
Катер вдруг свернул в какую-то протоку. Застопорил ход. То же самое проделал и другой.
«Зачем?» — насторожился Иванов.
Открытая резким движением, лязгнула броневая дверь командирской рубки. Из нее, привычно нагнув при выходе голову, шагнул мичман, командир катера. Его лицо было мрачно. За ним, озабоченно говоря ему что-то, вышел капитан-лейтенант Лысенко, командир дивизиона.
Медленно подрабатывая мотором, бронекатер прижался бортом к низкому берегу, поросшему реденьким ивняком. Швартовы[1] не завели. Значит, остановка ненадолго?
Мотор катера смолк, и сразу вокруг стало тихо. Даже было слышно, как несколько раз тенькнула в кустах какая-то пичуга.
— Команде построиться по правому борту!
Живчиком выскочил на палубу Василь; неторопливо поднялся из машинного, привычно легко протиснув в люк широкое тело, Мансур Ерикеев; встали справа и слева от Иванова, как всегда. К ним пристроились кормовой пулеметчик, сигнальщик и единственный подчиненный Ерикеева — второй моторист: экипаж бронекатера не велик.
— Смирно!
Мичман оглядел строй. Все стоят не шелохнувшись, только речной ветерок легонько перебирает ленточки бескозырок. Как положено в строю, недвижны лица. А в глазах каждого тревожный вопрос…
— Товарищ капитан-лейтенант! Экипаж корабля построен. — Мичман, взяв под козырек, встал на правом фланге.
Теперь все взгляды были устремлены на командира дивизиона. Что означает остановка, построение?..
Лысенко — невысокий, плотненький, беловолосый, в туго надвинутой фуражке — стоит словно окаменев, будто и сам тоже в строю. Скорбная складка сверху вниз прорезала лоб меж прихмуренных белесых бровей. Губы стиснуты. Словно не решается начать. Но вот заговорил:
— Мы сражаемся третий месяц. Сражаемся с первого дня. Вы достойно выполняли свой долг всюду. На реке Муховец под Брестом. На Припяти. На Днепре — от Киева до Черкасс. И здесь, на Десне… Вы защищали родные реки, родные берега как только могли. Враг попробовал, что значит попасть под огонь наших катерных пулеметов. Но пока что он сильнее нас…
Лысенко сделал паузу, словно задумавшись, как же ему сказать то, что должен сказать неминуемо.
— Радио из штаба флотилии. — Голос капитан-лейтенанта стал глуховатым, что-то мешало ему говорить. — Получено радио штаба, — овладев собой, повторил он. — Впереди и сзади нас противник вышел на Десну, прорвался за Днепр. Путь нам перерезан всюду. Горючее и боеприпасы на исходе. Действовать кораблями более не можем. Но они не должны стать добычей врага.
Капитан-лейтенант помедлил секунду, как бы преодолевая что-то в себе, сказал решительно:
— Приказ командования: корабли затопить.
«Затопить…» — словно ветром колыхнуло лица.
— Другого выхода нет.
У Иванова дрогнули губы. Затопить бронекатер, родную «букашку», как шутя, ласково называли они свой крохотный корабль. Каждая заклепка на нем знакома…
Затопить…
Невольные слезы застлали глаза. Сморгнул, сжал зубы: матросы не плачут! Старался сосредоточиться на том, что продолжал говорить сейчас капитан-лейтенант:
— Мы возьмем свое оружие, сойдем на берег. Будем сражаться и на суше так, как велит наша флотская честь. Сражаться, пока враг не будет остановлен, пока не будет выброшен прочь с нашей земли!
Лысенко отступил на шаг, глянул на мичмана:
— Слушать распоряжение командира корабля.
Капитан-лейтенант повернулся, спрыгнул с борта, быстро зашагал по высокой луговой траве к другому бронекатеру.
Мичман выступил из строя, поискал глазами:
— Ерикеев! В машинном под мотор заложить тол, вывести шнур за борт!
Иванов почувствовал, как вздрогнул локоть Мансура, касавшийся его локтя, услышал негромкий, хрипловатый, какой-то растерянный ответ:
— Есть…
Скользнув по Иванову взглядом, мичман остановил его на стоявшем рядом Василе:
— Трында! Рацию разбить, кодовые таблицы[2] сжечь!
— Есть!
— Пулеметчикам…
Это касалось уже Иванова.
— Ссыпать в воду патроны, вынуть замки, пулеметы сбросить за борт.
— Есть! — выдохнул Иванов.
— Есть! — отозвался пулеметчик кормовой установки.
— Рулевому — разбить приборы.
— Есть!
— Сигнальщику — сжечь свод сигналов.
— Есть!
…И вот на бронекатере уже никого. Иванов сошел с борта одним из последних. Пришлось повозиться, чтобы снять с тумбы тяжелый крупнокалиберный пулемет. Помог Василь: у себя в радиорубке он управился быстро. Когда спустили пулемет на палубу, Иванов последним прощальным движением погладил прохладную сталь. «Прощай, друг… С тобой немало лент израсходовали по фашистам. Ствол раскалялся так, что дотронься — обожжет. А теперь — холодный…»
Осторожно, хотя беречь было уже нечего, Иванов подвинул увесистый пулемет на край борта, легонько толкнул и отвернулся. Слышал только, как всхлипнула вода.
Сейчас он стоял в луговой высокой траве среди товарищей, одетый, как и они, для похода: бушлат, брюки заправлены в сапоги, на плечевом ремне — карабин, туго надвинута на лоб бескозырка. Карманы тяжелы от патронных обойм.
Как и все, он молчаливо наблюдал за тем, что делает мичман — единственный, еще не покинувший корабль. Вот мичман прошелся вдоль палубы, от носа до кормы. Вернулся к боевой рубке. Поднялся на мостик-приступочку позади нее, где обычно стоял сигнальщик. Посмотрел вверх, на мачту: там, под гафелем[3], колеблемый легким ветерком, реял флаг. По морскому уставу его ежедневно, в строго установленные часы, подымают утром и спускают вечером. Но в боевой обстановке флаг всегда наверху. Поднятый в ночь на двадцать второе июня, он более не опускался ни на час. Сколько суждено оставаться на своих местах боевым корабельным флагам? Еще три месяца? Полгода? Год? Едва ли скоро кончится такая война…
Иванов следил: мичман потянул за фал[4], и флаг заскользил вниз. Спущен…
Неторопливым движением мичман снял флаг с фала, аккуратно сложил несколько раз. Неся его на полусогнутой руке, словно это легкое полотнище налилось тяжестью, ступил с борта на берег. Подошел к капитан-лейтенанту, который уже вернулся, передал флаг ему. Лысенко свернул флаг еще раз и, расстегнув китель, запрятал за тельняшку. Застегнувшись, сказал смотревшим на него матросам:
— Флаг корабля пойдет с нами. Через все, что придется нам испытать. Будем верны ему.
— Будем!.. — сорвалось с губ Иванова.
А может быть, он сказал это лишь про себя — сердцем.
Так сказали, наверное, и Василь, и Мансур, и все, кто рядом…
А мичман снова вспрыгнул на борт — только затем, чтобы взять там футшток[5]. Положив его на траву, он опустился на одно колено, вытащил спички, нагнулся. Из травы тугой молочной струйкой ударил белый дымок — мичман поджег запальный шнур. Дымок побежал низом травы, приближаясь к катеру. Мичман уперся футштоком в серый, со вмятинами от осколков борт. Катер медленно, как бы нехотя, отделился от береговой кромки и, разворачиваемый медлительным течением, двинулся к середине протоки. Белый тугой дымок добежал до воды, нырнул в нее, исчез. Катер развернуло по течению. Теперь он хорошо был виден весь, от носа до кормы. И весь он был теперь уже какой-то незнакомый, не свой, не обычный: над рубкой не смотрит из броневой башенки ребристый пулеметный ствол, нелепым пнем выглядит пустая тумба кормового пулемета, пусто под гафелем. Без флага, без оружия — как мертвый…
Белый дымок вынырнул из-под борта — запальный шнур горит и под водой. Дымок взбежал по серо-голубой бортовой стали, проскочил по палубе, скрылся…
Негромко и глухо где-то внутри корабля бухнул взрыв. Влекомый еле приметным течением, катер начал погружаться. Он не хотел умирать… Уходил на дно медленно-медленно… Но вот уже и весь борт под водой. Вот она покрыла палубу. Над поверхностью воды видны только надстройки, но и они уходят вниз. Лишь мачта с пустыми фалами, колеблемыми ветерком, там, где только что был корабль. Но вот и мачта, дрогнув, быстро-быстро пошла вниз. Коснулся воды, косо ушел в нее гафель. Чуть всплеснула волна.
Все…
Иванов глянул на друзей. Сдвинув густые черные брови, хмуро смотрит себе под ноги Мансур. У Василя блеснуло на щеке.
Нет, бывает, все же плачут матросы.
Словно по неслышной команде, все разом сняли бескозырки.
Прощай, наш корабль. Прощай, родная «букашка»!..
ШЕЛ КОРАБЛЬ ИЗ-ПОД БРЕСТА
И вот они шагают, вытянувшись цепочкой, через лес. Сотнями алых флажков трепещет листва осин, червонное золото горит на черных ветвях дубов, лимонной желтизной светят широкие резные листья кленов. Ритмично шуршат матросские сапоги по уже привядшей густой траве, полуприкрытой желтыми, коричневыми, багровыми листьями.
В иное время Иванов, наверное, залюбовался бы всем этим. Со сладкой грустью вспомнил бы родные уральские места, с которыми вот уже два года, как расстался. Возле Златоуста, где родился, вырос и жил до призыва на флот, осенью так же золотым и алым разукрашены леса, будто какой-то великан набрызгивает веселыми красками по склонам гор…
Уже далеко позади Десна, уже давно углубились в чащу. Где свои, где немцы? Но мичман и капитан-лейтенант наверное знают, куда идти.
Перед глазами Иванова на затылке идущего перед ним Василя, в такт шагам, шевелятся ленточки бескозырки, сдвинутой, как любит Василь, на самые брови. Словно играя, ленточки подскакивают на черной щетинке коротко остриженных волос. Василь ниже Иванова чуть не на голову, и поэтому уши Василя видны ему почти сверху. И если на них смотреть так, то особенно хорошо видно, что они не как у всех, а торчком. «По конструкции ушей тебе только и быть радистом» — на эту шутку Василь не обижается, хотя вообще — порох. Хорошо, когда дружок радист. Все новости можно узнать. Только больше уже никаких новостей Василь не сообщит. Теперь в радиорубке вместо него вахту рыбы несут.
Идет Василь, опустив голову; на правом плече, на черном сукне бушлата, серый брезентовый ремень карабина. Левый карман бушлата оттопырен. Там — вот чудак Василь — наушники. Все, что осталось от его радиохозяйства. Прихватил на память? Или верит, что еще пригодятся? Только где и когда? Мичман объявил перед походом: надо выйти лесами к железной дороге и по ней — в Киев, в штаб флотилии.
Если будут куда-нибудь назначать, хорошо бы снова в одно место с Василем и Мансуром. С Василем подружились еще новобранцами, в Севастополе, в учебном отряде на Корабельной стороне, потом служили на эсминце. А с Мансуром позже, уже на Днепре, когда на один бронекатер попали. Годами он самый старший из троих: им по двадцать два, а Мансуру двадцать шесть. Даже жениться перед призывом успел. Если б не война, в эту осень ему домой. Еще с весны начал поговаривать, как поедет к себе в Шемордан свой трактор обратно принимать. Теперь не вспоминает… Грузно, вперевалку, шагает впереди Василя, Карабин кажется меньше обычного на его широченной спине. Бушлат малость мешковат. Мансур любит все попросторнее. На нем и обычные матросские брюки выглядят татарскими шароварами — с таким напуском заправляет он их в сапоги.
«…Где теперь будем воевать, ребята? — мысленно спрашивает идущих впереди друзей Иванов. — Неужели отплавались?»
* * *
Шли целый день. На пути попались две деревеньки: в лесах близ Десны они не часты. Жители с удивлением смотрели на невесть откуда появившихся людей в черной флотской одежде. На расспросы, далеко ли фронт, в один голос отвечали: не знают. До этих деревушек, упрятанных в чащах прибрежного разнолесья, рука войны еще не успела дотянуться.
Уже поздно вечером вышли к поляне, на которой темнел стог сена. Здесь расположились на ночлег, выставив часовых. Иванову выпало стоять в первую смену.
Его товарищи зарылись в сено, повозились там, устраиваясь, и затихли. А он, подняв воротник бушлата, чтоб не так было зябко от ночной лесной сырости, стал, держа карабин наготове, прохаживаться краем поляны. Вокруг нее черной сплошной стеной стоял высокий сосняк. Едва ли здесь, в глухой чаще, могут оказаться немцы…
Медленно шагал, прислушиваясь к тишине леса. Мысли набегали невеселые: «Ну, в Киев доберемся. А там? Что там осталось от нашей флотилии?»
Флотилия…
В прошлом году, когда на нее прибыл, первое время, чего греха таить, загрустил: вместо гордо белеющего над морем Севастополя — плоский городок Пинск среди лесов и болот; вместо эсминца — крохотный катерок, не боевой корабль, а игрушка: пятнадцать шагов в длину, четыре в ширину, броня толщиной в сантиметр, не пробьет разве что пуля; вместо черноморской изумрудной волны — медлительная, будто сонная, мутноватая вода Пины.
Да, к новому месту притерпелся не сразу. Но шло время, и служба на реке не казалась уже такой скучной, как вначале. Не море, но, однако ж, походы: Пина, Припять, Днепро-Бугский канал. По каналу ходили почти до самой Брестской крепости, до места, где поперек реки Муховец в ряд торчат сваи, обозначающие границу. За сваями хозяйничали уже немецкие фашисты, в тридцать девятом захватив Польшу.
Привык к новой службе, а все же щемило, когда о Черном море вспоминал. Как мечталось вернуться! Сколько раз с Василем заводили разговор о Севастополе. Там ведь завязался их дружбы первый узелок. А второй, еще крепче, с ночи на двадцать второе июня.
Первая ночь войны…
Накануне вернулись с учений из-под Бреста. А среди ночи с коек сбросил голос вахтенного:
— Тревога!
Досадно стало: «Только с учений — и опять тревога», но утешил себя: «Через часок отбой — досплю».
Увы, доспать не пришлось. Всезнающий Василь успел шепнуть:
— Ожидается нападение немцев. Идем к границе.
Как сейчас перед глазами та ночь… Когда вышли на фарватер, оглянулся. Следом, так же затемненный, шел второй катер отряда. А там, где обычно золотилась россыпь огней Пинска, лежала глухая тьма. Будто по злому волшебству город исчез, вдруг стал небылью…
В тихий рассветный час, когда зарозовела вода, вошли в канал, ведущий к границе. Не дожидаясь времени, установленного для подъема флага, мичман дал команду:
— Флаг поднять! — И объявил: — Фашисты начали войну. Час назад.
Ошвартовались[6] возле наглухо затворенных, высоких бревенчатых ворот шлюза. Поблизости ни души. Временами погромыхивает, словно надвигается грозовая туча. Где-то в стороне Бреста…
Томительно было ждать у пулемета с задранным в небо стволом, прислушиваться — летят? На пост заглянул капитан-лейтенант Лысенко:
— Помнишь, Иванов, за что в ответе?
Еще бы не помнить. Разбомби немцы шлюз — спадет вода в канале. И тогда он станет ловушкой для всех кораблей флотилии, которые стоят по нему дальше от границы.
Под вечер по тропе, что тянется вдоль канала, прошли женщины с детьми, нагруженные узлами. Окликнул их:
— Откуда?
— Из-под Бреста! — вразнобой закричали женщины. — Немец город уже забрал! Только в крепости еще бой.
На рассвете второго дня впервые — утробный гул авиационных моторов. Два бомбардировщика. В золотистом свете зари — их длинные, как у гончих, тела. Крыло переднего сверкнуло медным блеском. Разворачивается!
Видны ли с него два маленьких серых катерка, что прижались к поросшему травой берегу канала?
«Сейчас спикирует… фашист, настоящий, живой, на меня!..»
Унять бешено колотящееся сердце, унять дрожь в пальцах, что впились в рукояти пулемета, в тот раз, по первости, было непросто. Теперь-то уже привык… Тогда заставили фашистов отвернуть: били по ним четыре крупнокалиберных пулемета с двух катеров.
И еще день. Снова налеты. Одиннадцать лент израсходовал. И не зря. Бомбы на шлюз не упали. Под вечер мимо, берегом, торопливо прошли несколько бойцов в бинтах, потемневших от пыли и крови. Кто-то из них прокричал:
— Немец жмет! Уходите!
Василь дежурил в радиорубке, готовый принять приказ об уходе. Но приказа все не было. Не было потому, что дальше по каналу стояли мониторы[7], били по танковым колоннам врага, которые ломились по дорогам от границы. Пока мониторы в канале, шлюз надо было сберечь.
А утром третьего дня из-за прибрежных кустов, оттуда, где параллельно каналу шоссе, донесся железный гул. Он рос, и сжималось сердце: немецкие танки… Отрезают от своих! Что, если свернуть к шлюзу?
Молодец Василь, не замешкался тогда. Быстро передал на мониторы, куда стрелять. Дали они по танкам!
И вот наконец радио из штаба: возвращаться.
В памяти предзакатный час, когда подходили к Пинску. Вот-вот он покажется из-за береговой излучины. Но что это? За излучиной — клочьями дым по розоватому вечернему небу. Бомбили?
Уже виден город… Пусто у причалов, где обычно стояли мониторы, бронекатера, тральщики. Подсвеченный снизу дым расползается над портовыми складами.
— Наша база горит!
Огонь вьется над огромными круглыми цистернами. Пламя пока не охватило лишь среднюю. Пылает поблизости деревянный склад боеприпасов.
Катер резко поворачивает. Курс прямо на горящие цистерны.
— Поможете, ребята? — Мансур выбрался из машинного.
— Поможем, о чем разговор…
Быстрая швартовка. Туго натянув берет на круглую, крупную голову, Мансур прыгает на причал первым. За ним остальные. Жар в лицо. Искры скачут по круглому боку цистерны.
— Где шланг? Где шланг?! Вот он! А ну, взяли!
Мансур яростно навинчивает шланг. Пошло горючее! Торжествующий крик Мансура:
— Готово! Отсоединяй!
И через минуту опять швартовка — у соседнего причала. Дверь склада заперта.
— Навались!
Дверь с треском падает внутрь. Дым грызет горло. С потолка валятся комья огня. Схватили по ящику с патронами. Вынесли. И обратно в склад. Еще раз…
Только позже, когда погрузили весь боезапас и катер ушел от опасного места, подумалось: «Ведь могло рвануть».
А часом позже, когда уже стемнело, приказ мичмана?
— Иванов, взять карабин, гранаты — и со мной. Ерикеев — тоже. Мы назначены патрулировать.
Безлюдные улицы Пинска. Где-то далеко глухо погромыхивают пушки.
— Завернем ко мне домой, — говорит мичман, — узнать, что с моими.
Распахнутая калитка. Дом в глубине сада, окна черны. На ступеньке крыльца обронено что-то белое. Мичман поднял. Детская панамка. «Дочкина», — спрятал за борт кителя.
В доме ни души, всё разбросано. Эвакуировались? Или… Ведь город бомбили. Узнать не у кого. Постояв, мичман говорит?
— Пошли…
С того времени так и не ведает мичман, что с его женой и дочкой. А каких справок ни наводил! Осталась у него только фотография. С документами в кармане держит. А панамка? Панамку, кажется, тоже хранит…
Из Пинска ушли после всех, взяв на борт саперов, взрывавших последние объекты. Сколько было потом боевых тревожных дней и ночей? Припять, Десна, Днепр… Шевченковский Канев, туда уже дошли немцы — мимо Тарасовой могилы, пробивая себе дорогу, проходили корабли. Ржищев — там огнем помогли армейцам задержать врага на пути к переправе, через которую они отходили за Днепр.
А мост за Киевом, возле села Печки, захваченный немцами? Под ним, сквозь огонь с берегов, ночью прорвались первыми, выполняя приказ кораблям идти к Киеву. Снаряд прошил катер от борта до борта. Как черти, работали тогда все, откачивая воду. Сам капитан-лейтенант ведром орудовал не хуже любого матроса.
«Эх, „букашка“ моя родная!..»
Похаживал вокруг стога, оберегая спящих товарищей, а в растревоженной памяти, словно видная вновь, проступала каждая вмятина на броне: припоминал, когда появилась, после какого боя. Да, врубила война памятки… Ушли они на дно вместе с кораблем. Но не только в броню — в душу те памятки врублены…
* * *
Наутро продолжили путь.
Перелесками, проселками и полевыми тропами в середине дня вышли к маленькой станции. Узнали: от нее до Киева около пятидесяти километров. На путях стоял длинный состав из товарных вагонов — порожняк. Он направлялся в Киев для эвакуации оборудования.
— По вагонам! — скомандовал капитан-лейтенант Лысенко.
К вечеру они были уже в Киеве.
Нерадостные вести ждали их там: вражеское кольцо вокруг города сомкнулось. Состав, в котором они ехали, оказался последним успевшим пройти с востока.
Отрезаны все пути из Киева и по суше и по воде. Моряки мониторов и канонерских лодок, находившихся на Днепре в черте города, выпустили по немцам, уже вышедшим к окраинам, весь запас снарядов и затем, подняв на кораблях сигналы: «Погибаю, но не сдаюсь», взорвали их.
Из днепровцев, сошедших на берег, срочно формировались два батальона. Эти батальоны готовились вместе с пехотой идти на прорыв. В один из них включили и всех, кого привел с Десны капитан-лейтенант Лысенко.
В ЛЕСУ БЛИЗ БОРИСПОЛЯ
Есть в окрестностях Киева, чуть западнее его, за Днепром, городок Борисполь, возле которого теперь большой аэропорт. Густой сосновый лес, раскинутый на многие километры, прилегает к Борисполю. Излюбленные места дачников и туристов, ребят из расположенных здесь пионерских лагерей… И, случается, кто-нибудь из них, бродя по лесу, скользнет взглядом по странным продолговатым буграм и углублениям, затравяневшим, заросшим кустиками, а то уже и молодыми сосенками.
Задержи свой взгляд на таком месте в лесу идущий мимо! Запомни: это окоп сорок первого года. Может быть, в этом самом окопе, мимо которого так равнодушно хотел пройти ты, стоял, прислонясь грудью к холодной осенней земле, твой дед или отец, или твой школьный учитель. Может быть, на усеянное стреляными гильзами дно этого окопа, которое теперь уже давно закрыла трава, может быть, именно на эту землю пролилась кровь твоего отца или деда. Не тут ли таится разгадка слов «пропал без вести», что написаны в давнем, пожелтевшем от времени штабном извещении, которое до сих пор хранят у вас в семье?
Но если твой дед или отец воевали совсем в других местах, если никто из твоих близких не погиб на войне или даже вовсе не был на фронте — все равно остановись и хоть минуту подумай о тех, кто отдал свою жизнь за тебя, за то, чтобы ты мог ходить по мирной зеленой земле. Остановись и подумай: право, они заслужили эту минуту, минуту твоего раздумья. Не пройди равнодушно мимо старого окопа, где бы ни встретил ты его…
В том лесу под Борисполем во второй половине сентября сорок первого, когда немцы спешили намертво замкнуть кольцо вокруг Киева, несколько суток шли жестокие бои. Здесь в окопах, наспех вырытых меж сосен в рыхлом песке, насмерть стояли рука об руку солдаты частей Юго-Западного фронта и матросы-днепровцы. Но силы были неравны. Окружение завершилось.
В этих отчаянных боях, когда отступать было уже некуда, пополнить боезапас неоткуда, в составе флотского батальона вместе со своими товарищами по кораблю сражались и уже знакомые нам три друга — Иванов, Трында и Ерикеев.
В полуночный час, когда на какое-то время угомонился враг и в лесу легла непрочная фронтовая тишина, они собрались все вместе, сели рядом, прислонясь спинами к сыпучей стенке неглубокого, наспех вырытого окопа. Только что объявили приказ: сегодня ночью — на прорыв. По команде подняться бесшумно, идти на сближение с противником без выстрела. Если немцы обнаружат, откроют огонь — броском вперед смять их, отрываться, уходить дальше. Час назад в окоп зашел капитан-лейтенант Лысенко, чтобы сказать все это. Под конец он добавил:
— Может случиться — при прорыве кое-кто потеряет друг друга. Так знайте задачу: соединиться со своими. Придется еще раз пробираться через фронт. Запомните: выходить на Харьков. Наш флаг пойдет с нами. Он у меня. Верю, друзья, мы еще подымем его на новом корабле, снова пойдем под ним в бой, на запад!
Сейчас между тремя друзьями шел вполголоса серьезный разговор.
— Условимся так, — начал Иванов. — Если что случится с кем…
— А ты не предсказывай! — перебил Трында горячась.
— Если б от моих предсказаний зависело…
— Адрес надо! — кратко, как всегда, высказался Ерикеев, поняв мысль Иванова. — Один другому. Чтобы домой написать.
— И так знаем! — отмахнулся Трында. — Не первый день вместе.
Но Иванов поддержал Ерикеева:
— Повторим — получше запомним. Давай, Василь!
— Да что? — Голос Трынды дрогнул. — К нам почта не ходит. Знаете ж — под немцем наша местность…
— Не на век. Твоим, Василь, писать: Винницкая, Табунивка, Трынде Стефаниде?
— Правильно.
— А твоим, Мансур? В Шамордан-район…
— Колхоз «Красная заря».
— Вань, а кому, если насчет тебя? — спросил Трында.
— Кому? — призадумался Иванов. — Сами знаете — в детдоме жил да в общежитиях… Родных нет.
— Все равно давай! — потребовал Ерикеев. — Куда писать? На производство, комитет комсомола. Якши?
— Якши, — согласился Иванов. — В таком случае — адрес простой: Златоуст, металлозавод, второй инструментальный цех. Или нет! Лучше — Алапаеву.
— Кто это? Секретарь комсомола?
— Нет, Мансур. Это мастер наш, Павел Иваныч. Как отец мне. Разве я вам не рассказывал?
Адреса повторены. Не забудутся.
Оставалось ждать.
Молчали. Каждый ушел мыслями в свое. Иванов ощупал карман бушлата: удобно ли достать единственную гранату, что еще осталась? Проверил, под рукой ли две обоймы, последние… Еще одна в карабине.
По-прежнему вокруг в лесу, в котором целый день металось гулкое эхо стрельбы, лежала тишина. Она не успокаивала — настораживала. Где-то вдалеке изредка невнятно тукали редкие выстрелы.
— По местам! — прошелестела по окопу переданная шепотом команда. — Приготовиться!
Без слов взяли карабины, поднялись…
Иванов шепнул:
— Помните, други: в кучу не сбиваться, друг от друга не теряться. Напоремся на фрицев — брать на «полундру»!
Осторожно, чтобы не зашуршал осыпающийся песок, не хрустнула под ногой сбитая осколками ветка, Иванов выбрался из окопа. Рядом чуть слышно шелестела трава под ногами товарищей. В лесной темноте друзья не были видны ему. Но он чувствовал их. Справа медлительно, выбирая каждый шаг, ступает Мансур. Слева — торопясь, иногда запинаясь, нетерпеливый Василь.
— Ложись! — шепотом передана команда откуда-то справа.
Долго лежали на прохладной пружинистой хвое, держа карабины наизготовку.
Вокруг по-прежнему было тихо и темно. Только где-то слева полыхнул в вышине желтоватый свет ракеты и, медленно опадая, процеженный сквозь кроны сосен, погас. Он совсем не проник под деревья; внизу ни на секунду не стало светлее.
Снова, передаваемая вполголоса, пришла команда:
— Встать! Вперед!
…Сколько прошли уже?
— Может, немцев впереди и нет? — шепотом спросил Василь.
Иванов не успел ответить.
Ха-ха-ха-ха-ха!.. — оглушил бешено торопливый дьявольский смех пулемета. В ритм ему впереди, в кустах, затрясся крохотный, словно сдавливаемый тьмой, комок тусклого багрового пламени, высветив снизу ствол сосны, край разлапистой елочки.
— Полундра! Полундра!.. — загремело, заглушая яростный клекот пулемета. Но впереди продолжало пульсировать его пламя, словно непрерывно моргал налитый кровью глаз.
Гулкий хлопок. Искры взлетели в черную тьму. Чья граната взорвалась возле пулемета?
Злобно пульсирующий глаз погас. Но там, где был он, замельтешили огоньки еще каких-то выстрелов, оттуда вынеслись, пропарывая темноту, кроваво-алые прочерки пулевых трасс.
— Полундра-а! — покатилось по лесу.
Иванов рванулся вперед, навскидку стреляя туда, откуда искрили трассы немецких пуль. Остановившись на секунду, вогнал в опустевший магазин новую обойму и снова побежал.
Под бушлатом стало жарко. Он рванул ворот, распахнул. А где Мансур, Василь?
«Не отстать бы!» — еще быстрее помчался вперед, прошибая собой густой колкий ельник. Ноги понесли куда-то под уклон, заскользили по сырой траве. Грудью врезался в пружинистый куст. Замер, прислушиваясь. Тихо… Ни выстрелов, ни голосов. Отер испарину со лба: «Где я? Отстал или вперед вырвался? А что, если поблизости никого из своих, только немцы? Подождать, послушать?» Ругнул себя: «Пересидеть хочешь? А ну, двигай! Ищи!»
Осторожно освободился от объявших его влажных упругих веток, стал огибать куст. И слушал, слушал… С надеждой и страхом.
Ничто так не гнетет в бою, как мысль, что ты отбился от своих, остался один, предоставлен сам себе. Пусть там, где твои товарищи и командиры, труднее, опаснее. Но недаром говорится: на миру и смерть красна.
Пробирался кустарником, весь настороже. Путь пошел в гору…
— Вань! — негромко окликнули слева.
— Василь?! — бросился на голос. — А я вас ищу!
— А мы тебя! По походке угадали.
Слышалось, как впереди шуршат ветви — кто-то из своих взбирается по склону. Продираясь через кусты, все трое поспешили следом. Не успели подняться наверх — в уши ударила неистовая стукотня немецких автоматов, откуда-то спереди.
Не сговариваясь, метнулись вправо.
Оголтелая пальба автоматов оборвалась так же резко, как и вспыхнула.
— Подымемся или подождем? — шепотом спросил Иванов.
— Чего сидеть! — Василь решительно шагнул вверх по склону.
Иванов не стал спорить.
Стараясь ни единым звуком не выдать себя, протискивались сквозь тугие, мокрые от росы кусты. Выше снова начался густой сосняк. Побрели через него.
Несколько раз где-то далеко позади и по сторонам вспыхивала беспорядочная стрельба. Кто-то еще прорывается из кольца? Значит, надо идти так, чтобы стрельба все время оставалась за спиной.
Прошли еще немного. И снова, еле слышные, зазвучали далекие выстрелы — на этот раз впереди.
Василь, только что бойко шагавший, обгоняя Иванова и Ерикеева, остановился:
— Немцы!
— Обожди паниковать! — Иванов поравнялся с Василем, послушал. — Не обратно ли идем? Уверен, что мы не кружим?
— Уверен!
— С твоей уверенностью, как с компасом, у которого стрелку заело.
— А с твоей осторожностью…
— Зачем спор? — неторопливо вмешался Мансур. — Советом надо.
Стрельба уже стихла. Трое стояли, сжатые непроглядной тьмищей ночного леса. Куда идти? Где свои? Где товарищи с катера? Где мичман, капитан-лейтенант Лысенко?
— Подождем, пока развиднеется! — предложил Иванов. — Утром по солнышку определимся, куда топать.
— Ждать надо! — поддержал его Мансур.
— Глядите, дождемся, — сердито сказал Василь. Но ему не оставалось ничего другого, как согласиться.
Наломали, стараясь не делать шума, лапника, улеглись на нем вплотную друг к другу, натянув на головы воротники бушлатов.
* * *
Иванов проснулся от холодка, пробравшегося через бушлат. Немножко посветлело. Не пора ли подыматься? И вдруг насторожился: шуршат ветки.
— Идет кто-то! — толкнул в бок Василя, и тот, а за ним и Мансур схватились за карабины.
Таясь за ветвями, Иванов следил. В сером полусвете между сосенками мелькнуло черное: фуражка, бушлат… Свой, флотский.
Иванов окликнул:
— Эй!
Бушлат мгновенно скрылся в хвое. Но через несколько секунд она шевельнулась. Из нее вышел круглолицый, губастый парень с новенькими, еще блескучими нашивками главстаршины на обшлагах бушлата; наизготовку он держал черный немецкий автомат. Разглядев, что перед ним матросы, главстаршина, поглядывая на них черными, чуть навыкате глазами, улыбнулся:
— А я иду, иду — ни флотских, ни армейских… Много вас тут? Кто командир?
— Много ли? — Иванов усмехнулся. — Сколько видишь — весь экипаж налицо. А командир… пока не назначали.
— Анархия — мать порядка? — усмехнулся старшина.
— Не хочешь ли занять свободную должность?
— Если потребуется… — Старшина на миг скосил взгляд на свои необношенные нашивки. Видно, всерьез принял слова Иванова. — Вы с какого корабля?
— С бэ-ка[8]. Дивизион капитан-лейтенанта Лысенко.
— Слыхал. Бычки-броняшки, гроза морей и рек. Главный и единственный калибр — один и две десятых. А я с «Верного». Знаете такой корабль? Главный калибр сто двадцать два.
— Видали твою посудину.
— Будем знакомы. Главстаршина Шкаранда.
Иванов назвал себя и товарищей.
— Садись! — пригласил он Шкаранду, показав ему рядом с собой на примятый лапник.
— Что ж, обсудим ситуацию, — солидно произнес главстаршина и обвел всех взглядом, в котором явно чувствовалось что-то начальственное. Но, очевидно, поняв, что его начальственный взгляд не внушил почтения, Шкаранда начал не с «обсуждения ситуации». Многозначительно сжав оттопыренные губы, расстегнул бушлат, вытащил из-под него сверток из плотно сложенной белой ткани, местами меченной синим и красным. Глянул на него, сунул обратно за пазуху, укладывая поудобнее, аккуратно застегнулся. Определенно ждал, какое все это произведет впечатление.
— Флаг? — заинтересовался Иванов.
Шкаранда с невозмутимой важностью на лице кивнул утвердительно.
— С твоего корабля?
— С неизвестного.
— Как это — с неизвестного?
— А вот так… — Шкаранда помолчал секундочку, очевидно для значительности, поправил свою фуражку, на которой вместо положенной ему обычной звездочки красовался золоченый командирский «краб». Явно дожидался, когда слушатели проявят нетерпение, начнут расспрашивать. Но сам не утерпел, заговорил: — Идем, слышим — стонет в кустах кто-то. Глядим — матрос раненый, бушлат нараспашку. Бредит, одно твердит: «Капитан-лейтенант убит, убит…»
— Это наш Лысенко! — перебил Василь Трында. — Никто, как он!..
— Обожди! — .остановил его Иванов. — Не мешай, пусть доскажет.
Проведя снисходительно спокойным взглядом по пылавшему нетерпением лицу Трынды, Шкаранда продолжил:
— Стали мы искать, где рана, чтоб перевязать, а он и затих. Я ему ладонь под тельняшку — может, сердце еще бьется? А там — флаг. Я и взял.
— А кто он, матрос этот? — заволновался Иванов. — Фамилия как? Документы не посмотрел?
— Документы! — усмехнулся Шкаранда. — Немцы на нас снова! Такое началось, что я потом и своих не нашел.
— Себя и флаг спасал?
— Спасал, — не уловил Шкаранда усмешечки Иванова.
— С нашего катера флаг! — уверенно заявил Трында. — Капитан-лейтенант — наш Лысенко!
Толстые губы Шкаранды тронула снисходительная улыбка:
— Мало ли на флотилии капитан-лейтенантов!
— Таких, как наш, нету! — Василь даже привскочил.
— Да постой ты! — снова сдержал его Иванов. — Еще неизвестно, наш или нет! Матрос тот каков из себя?
Шкаранда пожал плечами:
— Темно ж было. Не разглядел.
— Флаг покажи! — потребовал Трында.
— Флаги у всех кораблей одинаковые. Не знаешь?
— Все равно покажи.
— Пожалуйста! Только вы, товарищ краснофлотец, не командуйте мною! — Шкаранда не спеша снова вытянул из-за пазухи плотно сложенное полотнище, развернул на колене.
Перед матросами лежал небольшой корабельный флаг. В верхнем углу его на белом фоне темнели три-четыре красноватых пятнышка, словно искры от изображенной на полотнище пятиконечной звезды. Кровь кого-то из тех, кто нес его на груди.
Только эти капли-искры и отличали флаг от любого другого. Ведь нет на флаге корабля, как на армейском знамени, ни номера, ни названия.
Все в раздумье смотрели на флаг. На каком корабле развевался он, в каких боях? Только по его размерам можно было понять, что он принадлежал кораблю небольшому, скорее всего катеру. Но какому?
Подсевший к Шкаранде Василь пощупал флаг, словно надеясь найти отгадку. Осторожно, одним пальцем, коснулся флага и Ерикеев, все время молчавший. Последним притронулся к нему Иванов:
— Очень может быть, что наш. Капитан-лейтенанта убили, а матрос взял.
Шкаранда аккуратно сложил флаг, снова старательно спрятал:
— Чей бы ни был — все равно наш.
ХОРОША БЫЛА Б КАРТОШКА…
Наверху, в прогалинах между вершинами сосен, небо стало светлым. Теперь уже было видно — оно сплошь завалено недвижными серыми облаками.
Пора было продолжать путь. Но в какой стороне восток?
Шкаранда в раздумье сдвинул свою шикарную фуражку на затылок:
— Худо в этом сосновом море без компаса.
— Компас на каждой сосне растет. — Иванов показал: — Глянь: где на стволе ветки подлиннее — юг. Значит, левее — восток.
— Гарантируешь? — недоверчиво прищурился Шкаранда.
— Ты откуда родом?
— Из Ростова.
— Ты деревья, поди, только на бульваре видел.
— А ты из каких мест?
— Уральский.
— Ладно, веди, уральский! — милостиво согласился Шкаранда. — Под твою ответственность.
До опушки дошли довольно скоро. Впереди, почти до горизонта, лежали открытые взгляду поблекшие осенние поля. Через них тянулись рощицы и перелески. Ими удобно идти скрытно. Так и пошли.
Уже близко к полудню, пройдя стороной мимо трех деревень, но не завернув в них из опасения, что там немцы, остановились в логовинке, густо заросшей орешником. На черных ветвях его желтели еще не опавшие крупные овальные листья. Выше логовинки, по ее краям, чередой стояли молодые, еще в не разукрашенной осенью листве, березки. Место было укромное, для привала удобное. Развели, наломав сухих ореховых веток, маленький костерок, сложили в него всю картошку, набранную по пути, когда проходили мимо колхозного поля. Дожидаясь, пока испечется картошка, отдыхали, вытянув усталые ноги.
— Тихо как… — удивился Иванов. — Вроде и войны нет.
— В Шамордане зябь пашут, — вдруг проронил Ерикеев.
— Не начнись война, и ты нынче попахать успел бы.
Ерикеев ничего не ответил. Только глянул грустно.
А кругом стояла такая тишина, что и впрямь казалось — вокруг просто поля и перелески, а не земля, на которой хозяином уже враг. Правда, на всем пути с самого утра — а прошли не меньше, чем километров десять — пятнадцать, — не заметили никаких признаков немцев. Может быть, сюда, где нет больших дорог, они еще не добрались?
— Вот так потихоньку до фронта бы дотопать, — помечтал Трында. — И в распрекрасную темную ночь мимо немцев — к своим!
— В Севастополь, — добавил немногословный Мансур.
— Хотите на Черном послужить? — Шкаранда оттопырил большой палец. — Севастополь — во городок! Знали б вы…
— Знаем! — не дослушал Шкаранду Трында. — Служили.
— Так вы — с Чефэ?[9] — обрадовался Шкаранда. — Корешки, значит! Я на крейсере «Красный Кавказ» служил. А вы?
Иванов и Трында ответили. А Ерикеев снова сказал:
— В Севастополь надо.
— Правильно, Мансур! — подхватил Трында. — Наше дело на кораблях воевать. Фронт перейдем — потребуем, чтоб на Черноморский отправили.
— Ты сначала перейди, — улыбнулся пылкости друга Иванов. — До Харькова если только — и то не близок свет.
А Шкаранда добавил:
— Да не наткнуться бы на гидру фашизма.
— А если прямо на Севастополь? Все одно по немецким тылам.
— Географию надо знать, дорогой товарищ Трында! — наставительно заметил на это Шкаранда. — На восток до фронта, я тебе без карты скажу, вдвое короче, чем на юг. К тому же на восток леса по дороге, а на юг степь голая.
— Боитесь, товарищ главстаршина? — не удержался, чтобы не поддеть, Василь.
— Не боюсь, а учитываю ситуацию. И перспективу. Может быть, наши скоро в наступление перейдут. Нам навстречу.
— От Севастополя тоже могут!
— Не мудри, Василь! — встал на сторону Шкаранды Иванов. — В Севастополь попасть через Харьков больше шансов.
— В пехоту еще больше! — вздохнул Трында. — Ладно, подчиняюсь большинству, коль нет начальства. — И, как бы в знак того, что разговор окончен, стал обгорелым суком нашаривать в костре картофелины.
— Не торопись, не вороши! — посоветовал Иванов. — Быстрее Испекутся.
— Рад бы… — Трында отложил сук, — да в нутре непрерывный сигнал бедствия.
— А ты закури, — посоветовал Шкаранда, шаря у себя в кармане бушлата. — Одна затяжка уносит секунду жизни, но зато равна одной калории.
— Мне калории в натуре бы…
— Могу только дымом. Угощайтесь!
Шкаранда щедро раскрыл вытащенный из кармана кисет.
Минутку-другую молчали, наслаждаясь куревом. Потом Иванов в раздумье сказал Шкаранде:
— Я вот все гадаю — чей это флаг у тебя?
— С малютки какой-нибудь. Вроде вашей «букашки».
— Не букашка! — неожиданно обиделся Ерикеев. — Бронекатер! Мало золота — дорого, большой — дурной!
— Чего? — не понял Шкаранда. Он еще не знал, что когда Ерикеев волнуется, то начинает путать русские слова.
— Мал золотник, да дорог, — уточнил Василь. — И еще: большая голова, а дурная.
Шкаранда благоразумно сделал вид, что сказанное не может иметь никакого отношения к его голове. Миролюбиво улыбнулся Ерикееву:
— Не серчай! Я малые корабли уважаю, хотя, конечно, ваш главный калибр — пуля, не то что у нас на «Верном»…
— А ты при самом главном калибре самый главный? — постарался не улыбнуться Иванов.
— Командир орудия. — Шкаранда вскинул бровью, из-под нее черным угольком глянул выпуклый глаз. — Знаете, как мы немцам давали? Куда рога, куда копыта!
— А ну, ну, расскажите, товарищ главстаршина, просветите нас, — попросил Трында.
— Вам бы так!.. — задетый его тоном, сверкнул глазами Шкаранда. — Под Кременчугом наш «Верный» один был, а у немцев на берегу танков штук шестьдесят.
— Шестьдесят? — усомнился Трында. — А может, больше?
— Не верите? — Глаза Шкаранды сделались еще более выпуклыми. — Шестьдесят! И все — по нас. Осколки в броню — как горох: брызь, брызь! Ну, а мы, комендоры[10], знаем дело. Мой расчет пять танков расхлопал.
— Пять? А не больше? — опять самым серьезным тоном спросил Трында.
— Могли и больше. — Шкаранда сделал вид, что не заметил подвоха в вопросе. — Конечно, наковыряли и нам… Видали бы вы! Восемнадцать часов хода под огнем! Три раза нам флаг сбивали. Собьют — мы новый на гафель подымем, и дальше самый полный!
— А потом как? — полюбопытствовал Иванов. — И вы свой монитор затопили?
Шкаранда важно прищурился:
— Наш «Верный» с вашим «букариком» не равняй. Куда вам с пулеметиками против батарей? Вам одно оставалось — топиться.
— А тебе, — не стерпел Трында, — что на нашем месте осталось бы?
Шкаранда улыбнулся умиротворяюще:
— Успокой нервы. Мы раньше вас сухопутными стали. Возле Сухолучья. Немецкую переправу громили, а на нас — «юнкерсы». Фугаска, вторая! Хватило меня о пушку — дальше не помню. Пришел в разум — лежу в кустах. Надо мной наши — кто в тельняшке, кто без ничего. Спрашиваю: «А корабль?» Отвечают: «Амба». Вот как.
Шкаранда сокрушенно вздохнул:
— Эх, «Верный»! Вечная тебе слава!.. Да я вам, братцы, расскажу…
— Полундра! — привскочил Василь.
Все услышали: где-то недалеко все явственнее стучит мотоциклетный мотор.
Не сговариваясь, подхватили каждый свое оружие, бросились в глубь лощины, в гущу орешника. Когда пробежали довольно далеко, услышали в той стороне, где остался костер, две-три коротких автоматных очереди. Однако они быстро стихли. Шкаранда, бежавший впереди остальных, первым остановился, тяжело переводя дух. Его круглое лицо раскраснелось.
— Во, хлопцы! — Шкаранда отер тыльной стороной ладони пот со лба, поправил фуражку. — И откуда здесь немцы взялись?
— Лопухи мы! — сплюнул Иванов. — Заслушались тебя, не смотрели, что костер дымит.
— Здравствуйте! — Шкаранда озадаченно развел руками. — Оказывается, я виноват?
Издалека донесся глуховатый звук удаляющихся мотоциклов.
Подбежал Трында, на минуту исчезавший куда-то.
— Я смотрел! Два немца. Мотоциклы наверху оставили, а сами — к нашему костру. Уже уехали. Дорога с километр отсюда.
— Вот какая ситуация! — удивился Шкаранда.
— Нет, лопухи мы, лопухи! — не мог успокоиться Иванов. — Расселись как дома. Дороги не заметили, и наблюдателя не выставили. Дали бы нам те немцы картошки!
— Она ж сгорит, пока тут балакаем! — спохватился Трында и побежал обратно к костру. Все поспешили за ним — чувство опасности отступило перед голодом.
Костер догорал. Увы, вся картошка превратилась в уголь…
Возле костра Иванов подобрал крохотный золотисто-зеленоватый блестящий цилиндрик — гильзу от патрона немецкого автомата. Повертел в пальцах:
— Ездят, охотятся за людьми. А мы по своей земле тайком… Как зайцы бегаем! В тяжком сне такое раньше не приснилось бы! — и зло метнул гильзу в еще не остывший жар костра.
«БУДЬТЕ ЛАСКА, ПРОШУ ДО ХАТЫ»
Под вечер, пройдя один из многих попутных лесков, спустились в овражек, сплошь заросший смородинником. Подгоняемые голодом, походили по кустам в поисках ягод. Но лишь кое-где на полуобнаженных уже ветвях виднелись они — сморщенные, засохшие.
Поёживаясь, лежали на примятых пахучих смородинных ветках. Снова — в который уже раз! — вспомнили о сгоревшей в костре картошке. Где раздобыть какой-нибудь еды?
Где-то не очень далеко хрипловато пропел петух. Замолчали, вслушиваясь. Петух прокукарекал еще раз.
— Деревня! — поднялись, как по команде. Их командиром был сейчас голод.
— А если немцы там? — все же напомнил Шкаранда.
— Нет их в деревне! — уверенно заявил Трында. — Они всех пивней[11] уже пожрали бы.
— Пожалуй, так… — еще не решался Иванов.
— Да что! — Голос Трынды был полон решимости. — Пойдемте, хлопцы, на петушиный крик, попытаем счастья!
Колебания были недолги. Предложение Трынды приняли.
Выбравшись на противоположную лесу сторону овражка, увидели за полосой кустарника серые соломенные крыши.
Осторожно пробрались кустами до крайней усадьбы, присели под плетнем. Сквозь щели в плетне осмотрели двор. По нему бродило с пяток кур, предводительствуемых огненно-рыжим петухом. Они спокойно и деловито перекликались. Безмятежно чирикали в саду воробьи.
Скрипнула, открываясь, дверь хаты. На пороге показался щупленький старичок с реденькой седой бородкой. Собственно, ее даже нельзя было назвать бородкой — так, торчали вразброс несколько белых тонких волосинок. И вокруг его лысоватой головы волосы пушились белые, слегка серебристые. И рубашка на нем, надетая внапуск, длинная, тоже была белая — словом, весь он был какой- то серебристый, светленький, глядел улыбчиво — видно, радовался чему-то, может быть, просто тихому прохладному вечеру. Напевая под нос что-то протяжное, он не спеша перешагнул порог хаты, постоял, посмотрел на небо, на котором лежали чуть тронутые предзакатным золотом пухлые облака. Перекрестился и вернулся в хату. Однако вскоре снова показался оттуда. На этот раз на нем поверх рубахи была надета черная стеганка-безрукавка, а на голове — старинного фасона картуз. В руках старичок держал короткий обрезок доски, нож, пачку коричневых табачных листьев. Усевшись на порожек хаты, он положил себе на колени доску, на нее — листья и начал аккуратно, неторопливо нарезать табак, напевая себе под нос.
— Божественное исполняет! — шепнул Трында сидевшему рядом с ним Иванову.
Тот понимающе кивнул головой:
— Душевный дед, видать!..
— А ну, попробуем… — Василь приподнялся, не показываясь над плетнем. Приблизив губы к щели меж прутьями, позвал негромко: — Эй, дидусь!
Старик вздрогнул, повел головой, взглядом ища, откуда его зовут. Даже вверх глянул — уж не с неба ли голос?
— Дидусь! — снова позвал Трында и поднялся из-за плетня.
Старик вскочил, едва успев придержать посыпавшиеся с доски табачные листья. Лицо его сразу сделалось испуганным. Рысцой подбежал к плетню, остановился шагах в пяти от него:
— Господи Сусе! Та вы якие будете?
— Бачь — военные! — Василь показал на своих спутников, тоже показавшихся над плетнем, ткнул пальцем в звездочку на своей бескозырке. — Розумиешь?
— Морские? — воззрился старик на черные бушлаты. — Та як же вы сюда… И со зброей…
— Как все, папаша, — вступил в разговор Шкаранда, поднявшийся из-за плетня последним. — Наши тут не проходили?
— Ваши-то? — замялся старик, почтительно поглядывая на его командирскую фуражку и нашивки главстаршины на рукавах бушлата.
— Ну, которые из окружения.
— Ни, не бачил… — Старик растерянно поморгал глазами. — Не бачил, товарищ начальник.
— А немцы тут есть?
Старик посмотрел на Шкаранду так, словно бы и не понял вопроса или не сообразил, как ответить.
— Немцы, говорю, в селе у вас есть? — повторил Шкаранда.
— Нимцы? — словно встрепенулся старик. — Ни, ни, не бачил ни единого! А вы здесь будете чи дальше пойдете?
— Харча бы нам какого… — вместо Шкаранды ответил Василь, поворачивая разговор на главное, — а то уж второй день голодуем.
— Та чого ж! — засуетился старик, зазывающе взмахнув руками. — Та заходьте, сынки! Зараз напитаю! И на дорогу дам, а як же!
— Ты, диду, лучше вынеси нам сюда, мы подождем, — осмотрительно сказал Шкаранда.
— Та заходьте до хаты, зараз борщ разогрею, со вчора остался, поснидаете, пока вам соберу!
— Один, что ли, хозяйнуешь?
— Один, один як перст, — вздохнул старик. — За коровой сосидка доглядае, ну и постирать тож, а все остальное — сам. Старую мою господь ще до пасхи прибрал. Будьте ласка, прошу до хаты!
Видя, что Иванов и Шкаранда еще не решили, как поступить, Василь нетерпеливо махнул рукой, позвал молчаливо стоявшего позади всех Ерикеева:
— Пошли!
— А бильш никого, кроме вас? — спросил старик. — А то давайте усих.
— Нет, все здесь, — ответил Шкаранда.
Через калитку вошли во двор. На них тявкнула привязанная возле сарая собака, но старик прикрикнул на нее, и она тотчас же замолкла.
В хате старик усадил всех за стол, юркнул за ситцевую занавеску, где стояла печурка и находилось, видимо, что-то вроде кухни. Слышно было, как он торопливо ломает там лучину, чиркает спичками, двигает чугунами.
— А ведь шибко верующий дед! — шепнул Иванов, взглядом показывая товарищам на угол над головой — там было целое скопище икон, старательно обвешанных расшитыми, узористыми рушниками.
— Живет чисто, даром что без бабки, — одобрительно отозвался Шкаранда.
Действительно, хата была добротно выбелена, на окнах просвечивали занавески тонкого полотна, глиняный пол был аккуратно подмазан, широкая деревянная кровать в углу тщательно прибрана, на ней, на пестром одеяле, горкой лежали пышно взбитые подушки. Но на всем чувствовался отпечаток одинокой, холостяцкой жизни: ни зеркальца в простенке, ни цветочных горшков на подоконнике, ни семейных фотографий, какие обычно висят в хатах на стенах.
Резво, прямо-таки колобком, старик выкатился из-за занавески, таща в руках прихваченный тряпкой черный от копоти чугунок. Из чугунка валил пар, распространяя вокруг аппетитно щекочущий ноздри аромат разогретого борща.
— Я в меньший чугунок перелил, шоб разогрелся пошвыдче. — Старик суетливо поставил чугунок на стол, предварительно подсунув снизу тряпку, кинулся к шкафчику, загремел там посудой. Выложил ложки, выставил разномастные миски, кружки. Сбегал куда-то в сенцы, притащил початую буханку хлеба, большой глиняный кувшин молока. — Снидайте, товаришки, снидайте. — Старик пробежал взглядом по карабинам, по автомату Шкаранды. — Да зброю свою снимите, а то же несподручно. Кушайте на здоровьичко! А я зараз вам на дорогу трохи соберу. Хлиба ще, та сальца у меня у двори заховано, та ще кой-чего. Вам же далекий путь держать!
Старик живчиком, как он делал все, выкатился из хаты. А нежданные гости ретиво взялись за ложки.
Теперь уже было не до разговоров. Дружно ходили ложки, быстро опустошались миски с борщом. Расправившись с ним, взялись за молоко. Буханка таяла прямо на глазах — от нее осталась уже небольшая краюха. От борща всем стало жарко, расстегнули бушлаты.
Иванов поднес ко рту кружку с молоком. Но глотнуть не успел — в его пальцах осталась только обломанная глиняная ручка. Это было так неожиданно, что на какую- то неисчислимо малую долю секунды он оцепенел. Но в следующее мгновенье выскочил из-за стола, припал к полу. Яростно звенели стекла, трещало расщепливаемое пулями сухое дерево косяков, потолка. Снаружи сухо, дробно сыпались выстрелы — стреляло сразу несколько автоматов.
Что-то горячее плеснуло по щеке Иванова. Жирный запах борща: миску сбило! Под руку подвернулся ремень карабина. Схватил. А тело, словно бы действуя самостоятельно, уже несло его. Двери в сени. Вплотную — побледневшие, с расширенными глазами лица Шкаранды, Мансура, Василя, как отражение своего лица. Что делать?
Дверь из сеней на улицу была заперта, в ней странным узором светились аккуратные круглые дырочки. Ее только что прострочили из автомата.
Как обрубленная, упала тишина. Снаружи заговорили непонятные, чужие голоса, среди них выделялся один — резкий, требовательный:
— Виходит бийстро! Все четыре! Ваффен[12], винтовка бросайт! Руки верк!
— На чердак! — подтолкнул Иванов замершего рядом Ерикеева.
Тот медвежевато, но резво протопал в угол сеней, где стояла лестница. Ерикеев с неожиданной для него легкостью прямо-таки взлетел по ней, за ним — Шкаранда, Трында. Пропуская товарищей, Иванов ухватился за перекладины лестницы последним, кинув ремень карабина на плечо. В момент, когда он, чуть не ударившись головой о каблук Трынды, вбросил свое тело в квадратную дыру чердачного лаза, внизу гулко бабахнуло. Наверное, в сени бросили гранату.
На чердаке было темно, пахло дымом. Над головами, там, где плотная соломенная кровля, потрескивало, шуршало.
Товарищи подхватили Иванова, оттянули от лаза.
— Быстрей! — услышал он хрип Шкаранды. Его раскосмаченные черные волосы падали на лоб, закрывали глаза. Отмахнув их, Шкаранда крикнул: — Хана, если не успеем! — и, надернув на лоб козырек фуражки, нагнув голову, бросился в дым, куда-то под низ кровли.
Иванов понял: единственный шанс — проломить соломенную крышу, пока не вспыхнула, спрыгнуть вниз.
Задыхаясь в дыму, который заполнил уже весь чердак, они, сталкиваясь руками, бешено орудовали, спеша хоть немного, в одном месте, раздвинуть жерди, на которых держалась кровля. А жерди, как назло, не поддавались — видно, крепко ладил хозяин когда-то крышу. Дым грыз изнутри горло, не давал дышать, темнил все в глазах. Он валил уже и снизу, из сеней, в отверстие лаза.
Наконец одна из жердей подалась…
С шумом выдохнув едкий продымленный воздух, Иванов стволом карабина несколько раз ударил в слежавшуюся, тугую солому. Она уже горела снаружи, его руки жестким жарким языком прихватывал огонь. «Сгорим!» В лицо полыхнуло невыносимым жаром, он зажмурился. Кто-то рядом хватанул сапогом в кровлю. Роем метнулись красные искры. Пробиться! Нагнув голову, бросился в рвущийся навстречу огонь.
Упал на что-то упругое, жаркое. Бросился прочь, не разбирая куда, плохо видя воспаленными от жара глазами. Он бежал, а дым оставался с ним. «Горю! Горю!» По лицу хлестнуло веткой. «А где же ребята?» — оглянулся на бегу. Кругом был орешник, справа и впереди метались ветки — кто-то бежит… Окликнул:
— Ребята! Ребята!
Ему отозвался хриплый, задыхающийся голос Шкаранды. Рядом с главстаршиной бежал кто-то еще: Мансур!
— А Василь? — крикнул, догоняя, Иванов.
— Он после тебя прыгал! — ответил Шкаранда.
Под ногами зачавкало. Высокие раскидистые кусты орешника стеной смыкались вокруг.
Остановились, послушали. Похоже, погони нет. Там, где осталась хата, пучились густые, крупные клубы пепельно-серого дыма. Он валил больше вширь, чем ввысь, небо с низко нависшими, потемневшими облаками словно придавливало его.
Но где же Василь?
— Подождем! — предложил Иванов. — Кроме как сюда, некуда ему податься. В деревню не побежит.
Стояли молча, прислушивались: не прошуршат ли кусты? Шкаранда расстегнул бушлат, весь в рыжих подпалинах, озабоченно пощупал у себя под форменкой.
— Цел флаг? — спросил Иванов.
— Цел. — Шкаранда застегнулся.
И снова воцарилось молчание… Василь, Василь! Где же ты?
— Бушлат твой горит! — показал Шкаранда.
— А, где?.. — Иванов хлопнул ладонью по рукаву: на локте сукно тлело.
— Землей потри! — посоветовал Шкаранда. — Я так тушил.
Нагнувшись, Иванов запустил пальцы в холодную, вязкую почву и, выдрав оттуда ком перемешанной с корешками и травинками земли, стал натирать ею места на одежде, где тлело. И только сейчас обратил внимание на го, как выглядят его товарищи. У Шкаранды его драгоценная фуражка отсутствовала, черные волосы, крепко припаленные, казались рыжеватыми, а с правой стороны почти до корней сгорели, отчего голова казалась еще круглее. Огонь начисто смахнул и широкие темные брови Шкаранды, и глаза его теперь казались еще более выпуклыми, большой ожог алел во всю щеку. Шкаранда водил по ней ладонью, меж пальцами проступали черные потеки грязи — он лечился единственно доступным сейчас способом.
Мансур Ерикеев пострадал меньше — огонь не затронул ни волос, ни бровей, но зато от его бескозырки уцелел только околыш, от верха остались лишь побуревшие клочья. Мансур был в одной фланелевке — охваченный огнем бушлат он сбросил, когда вывалился через крышу.
— Сам себе не верю, что цел остался. — Иванов оглядел себя и товарищей. — Видик! Чем на погорельцев не похожи?
— Личным оружием! — Шкаранда взглядом показал на автомат, висящий под рукой.
Иванов и Ерикеев тоже сумели сберечь свои карабины.
— Ну проявил ваш дружок инициативу — подхарчиться! — Шкаранда продолжал размазывать по щеке целительную грязь. — Ладно, что повезло нам. Солома от дождей сырая, дыму много. И хата самая крайняя. А то перещелкали б нас фрицы. Счастье, что не оцепили всю хату кругом. Может, их немного и было? И как это они нас нащупали? — все не мог успокоиться Шкаранда. — Не иначе — дед этот благолепный навел. У, старичок божий, попадись ты мне!
Шкаранда осторожно снял ребром ладони грязь с обожженной щеки:
— Чего стоишь? Пошли!
— А Василь? — одновременно спросили Иванов и Ерикеев.
— Сховаемся — помозгуем.
Они забрались в самую гущу кустов и там стали держать совет.
— Ждать Василя надо! — заявил Мансур, на этот раз, против обыкновения, высказав свое мнение первым.
— Немцев скорее дождемся, — ответил на это Шкаранда.
— Василь — пропадай, а мы — пошли, да?
Шкаранда обиделся:
— За кого меня принимаешь, Ерикей?
— Не Ерикей!
— Ну, Ерикеев. Учитывая ситуацию…
— Вот именно! — перебил Иванов. — Немцы, коль сразу не погнались, на ночь глядя в лес не полезут.
— И что ты предлагаешь?
— Кому-то здесь оставаться, как Мансур говорит. А кому-то осторожненько в деревне разузнать про Василя.
— Пожалуйста! — с неожиданной готовностью согласился Шкаранда.
Иванов не без удивления посмотрел на него: не вместе ли с командирской фуражкой исчезли у Шкаранды начальственные нотки в голосе? Иванов уже успел приметить: при всей любви Шкаранды изображать из себя начальника он, когда приходится туго, предпочитает не отдавать распоряжения, а исполнять их, отвечать не за других, а только за себя. Впрочем, это не значит, что он трус. В этом его не упрекнешь.
— Я один схожу — меньше риск. — Иванов открыл затвор карабина, посмотрел: — Эх, патронов у меня только два.
— Дай ему! — показал Мансур Шкаранде на автомат. — Поменяйся!
Шкаранда, явно смущенный этой неожиданной просьбой или, вернее, требованием, отвел глаза, но, совладав с собой, буркнул:
— Лучше тогда сам пойду.
— Не надо! — поморщился Иванов. — Мансур, у тебя сколько патронов?
— Семь. Возьми пять.
— Трех хватит. — Получив патроны, Иванов дозарядил карабин. — Ждите здесь.
— Пойду с тобой, а? — попросился Мансур.
— Нет. Одному сподручнее.
— Смотри, пожалуйста, не попадись!
Мучительно тянулось время. Словно длиннее стали минуты, после того как ушел Иванов. Кустарник совсем затянуло синеватыми сумерками, повеяло сыростью. Шкаранда и Ерикеев молча прислушивались. «Зачем я Ивана одного отпустил?» — все сильнее упрекал себя Ерикеев.
Из деревни по-прежнему не доносилось ни звука. Но там немцы…
Уже совсем стемнело. Где же Иван? Как тихо…
В стороне чуть слышно прошуршали кусты. Кто-то идет? Или только дуновение ветерка? Нет, не ветерок!
— Гляди! — шепнул Ерикееву Шкаранда.
Меж кустами мелькнула едва приметная во тьме фигура осторожно пробирающегося человека.
— Василь! — бросился к нему Ерикеев.
— Мансур!
Друзья порывисто обнялись.
— А я с ног сбился, вас ищу. — Трында ощупывал плечи товарища, словно все еще не мог убедиться, что перед ним именно Мансур Ерикеев. — Как стемнело, так и хожу тут вокруг, блукаю… Я ж догадался — не покинете меня, будете ждать. — Василь поискал взглядом: — А Ваня где?
— Тебя ищет.
В разговор вмешался Шкаранда:
— Ты как уберегся-то?
— И сам не пойму, — улыбнулся Василь. — Вывалился с крыши в дым. Хлевушок какой-то. Я — туда. Куда еще ховаться? Солома прелая там, забился. Слышу, кто- то в хлевушок заходит. Немец! Чем я его? Карабин из рук вышибло, когда прыгал. Но две гранаты в бушлате. Вынул одну: за так не дамся. А немец только гавкнул что-то, соломы не копнул… Там я и ховался, пока не стемнело…
— Василь, пропащий! — из кустов выбежал Иванов, бросил под ноги какой-то узелок. Словно не веря своим глазам, ощупал друга за плечи: — Живой, только паленый! — хлопнул по карману его бушлата, засмеялся: — И наушники не сгорели? Добро!
Тем временем Василь обратил внимание на узел, брошенный Ивановым на траву:
— Харч?
— Харч ты сразу приметишь! — рассмеялся Иванов, — Это дядька один, колхозник, расщедрился. И знаете? Немцы считают — все мы в хате сгорели. Про этого старичка я узнал — куркуль[13] он бывший. Двух своих деревенских, партийных, немцам выдал. Тот дядька, который хлеба дал, рассказывал: старичок, хозяин наш любезный, всех соседей молил хату тушить, «рятуйте» кричал. Да никто не взялся. На деревне говорят — не уйти ему от людского суда.
— За немцев прячется! — заметил Шкаранда.
— Да их в деревне всего пятеро, пост связи.
— Значит, можем спокойно подхарчиться, — по-своему откликнулся Трында на эти слова и нетерпеливо нагнулся к принесенному Ивановым узлу. Видно было, что и без того всегда завидный аппетит Василя сейчас, после всех треволнений, еще больше возрос.
Ловко действуя на ощупь в темноте, Василь быстро исследовал содержимое узла. В нем оказались две ковриги, добрый кус крепко посоленного сала, несколько вареных картошек.
Все навалились на еду. Управились быстро. Насытившись, Шкаранда поправил пятерней волосы на голове, вздохнул огорченно:
— Из-за деда этого вредного фуражки лишился. В чем я теперь? Где такую достану? В Киеве в ателье на заказ шил!
— Сохранивши голову, по фуражке не плачь! — посоветовал Иванов и добавил: — Возьмем Киев обратно — новую сошьешь. — Оглядел всех: — Топаем! Ночью идти безопаснее. Полный ход, курс — ост!
НЕОЖИДАННАЯ ЗАДАЧА
Было, наверное, уже около полуночи. Пройдя бесконечно длинным полем, на котором под ногами шуршало упругое жнивье, Иванов, Трында, Ерикеев и Шкаранда спустились по травянистому склону и вошли в заросли, пахнущие влажным листом и прелью.
Почва становилась более податливой, корни под ногами с каждым шагом прощупывались явственнее. Впереди тихо журчала вода.
— Стой! Кто идет?
Разом присели. Но тотчас же Иванов подал голос:
— А кто спрашивает?
Куст впереди мокро прошелестел.
— Эй, друг! — снова окликнул Иванов. — Не из-под Борисполя топаете?
— Кто тут из-под Борисполя? — раздался другой, строгий, похоже — командирский голос.
— Монитор «Верный»! — резко шагнул вперед, обгоняя всех, Шкаранда. — Днепровская флотилия!
Из кустов навстречу вышел красноармеец в плащ- палатке и вслед за ним еще один человек, в фуражке, невысокий. Лица его в темноте нельзя было разглядеть, но по низковатому, с хрипотцой голосу можно было понять, что он не молод.
— В самом деле моряки? — присмотрелся он, насколько позволяла темнота. — Со светлыми пуговками гуляете? Ну, топайте со мной. А ты, — обернулся он к бойцу в плащ-палатке, — оставайся на посту.
— Есть, товарищ старшина! — отчеканил тот и, повернувшись, словно растворился в темноте.
Старшина привел на небольшую прогалину. На ней было немножко светлее, чем в гуще зарослей, и можно было разглядеть, что на траве сидят и лежат люди.
— Кто с «Верного»? — окликнул Шкаранда. — С мониторов есть?
— А кто с бронекатеров? — спросил Иванов.
— Флотские! — изумленно-радостно отозвался чей-то голос.
Увы, ни с «Верного», ни с бронекатеров никого не оказалось. Однако нашлись служившие на других кораблях.
Начались торопливые расспросы. Но разговор оборвал старшина:
— Эй, морячки! Хватит! Отдыхать всем, пока Джафаров не вернулся.
— Кто это — Джафаров? — спросил Иванов матроса, к которому подсели все четверо.
— Сержант, — пояснил матрос. — С двумя бойцами в село пошел узнать, нельзя ли на всех поесть раздобыть. Старшина послал.
Матрос рассказал, что он и еще несколько днепровцев после прорыва присоединились к артиллеристам, которых, тоже из окружения, вел старшина их батареи. Командир старшина, по всему видать, толковый, и моряки не жалеют, что встали пока под его начало.
— Ну что ж, при таком старшине можно спать спокойно, — заключил Шкаранда. — Отбой!
Иванов предложил Ерикееву:
— Давай, Мансур, садись в середину. А то проберет тебя без бушлата.
Сбились в тесную кучку, затихли.
Но вскоре прошуршали кусты, зазвучали приглушенные голоса. Было слышно, как кто-то спросил:
— Разведал насчет довольствия?
— Насчет немцев разведал! — ответил молодой голос с кавказским акцентом.
Не тревожа успевших заснуть Василя и Мансура, Иванов поднялся. От него не отстал Шкаранда. Они присоединились к тем, кто обступил вернувшихся разведчиков.
Тонкий, похожий на мальчишку Джафаров, с черными усиками, заметными даже в темноте, стоя против старшины, рассказывал:
— В крайнем доме женщина сказала: немцев много, патрули. Скорей уходи, сказала. И еще — немцы на ферме, у речки, отсюда близко. Наших пленных, двести, на ночь в коровнике заперли. С фронта гонят.
— Выпустить бы их, — шепнул Шкаранде Иванов. — Нас здесь вон сколько, и с оружием…
— Ситуация! — Шкаранда быстро протиснулся к старшине: — Предложение имею!
— Какое?
— Пленных освободить!
— Правильно предлагаешь, морячок! — одобрил старшина, — А то идем, только самих себя спасаем.
— Верно! — откликнулось несколько голосов. — Надо выручить.
— Опасно ввязываться, — нашелся некто осторожный, — самим бы выбраться.
Но его пристыдили:
— Только о своей шкуре думаешь!
Все воевали не первый день, а четвертый месяц и знали, что за враг фашист. Каждый понимал: нет ничего горше неволи. Каждый представлял, как это тяжко, когда тебя, обезоруженного, униженного, гонят на злую чужбину по родной земле, через села и города, которые ты должен был бы защитить…
Кому из тех, кто вырвался из кольца под Борисполем, не угрожало все то, что стало уже горькой долей неизвестных им товарищей? Запертые, как скот, в хлевах, томятся они сейчас совсем неподалеку в ожидании утра, когда вновь выведут их на дорогу и погонят, понукая…
Старшина предложил действовать без промедления. Но действовать осмотрительно.
— Ночь долгая, успеем, — сказал он. — Сначала разведаем. Сам пойду. Джафаров, со мной!
Старшина и Джафаров ушли.
— Порядок! — сказал Трында. — Пускай выполняют, товарищ Шкаранда идею подал. В данной ситуации…
Не дослушав, Шкаранда рванулся с места. Было слышно, как, догнав старшину, он на ходу горячо доказывает ему что-то. Вместе со старшиной и Джафаровым Шкаранду скрыли кусты.
Но вскоре главстаршина вернулся. Он не отвечал на расспросы, молчал с многозначительным видом. Только сказал Ерикееву:
— Ты человек серьезный. В случае чего — возьмешь. — И показал себе на грудь, туда, где у него под бушлатом был запрятан флаг.
— Что, особое задание получил? — поинтересовался Иванов.
Но Шкаранда промолчал — то ли таил обиду, то ли хранил тайну.
Старшина и Джафаров вернулись не скоро — минуло, пожалуй, больше часа. Едва послышались их шаги, Шкаранда тотчас же подбежал к старшине, и они о чем-то заговорили вполголоса.
Старшина собрал всех потеснее вокруг себя!
— Действовать будем по возможности без выстрела. Слушайте задачу.
…Иванов и Ерикеев с карабинами, Трында с двумя гранатами лежали возле мостика в густом лозняке, за которым позади тихо журчала речка. Это место им определил старшина.
Впереди, на фоне иссиня-черного беззвездного неба, едва заметна была длинная крыша коровника.
Где-то там сейчас к нему, чтобы без шума снять часового, крадется вместе с Джафаровым Шкаранда. Признаться, не ожидали друзья, что он проявит такую прыть и сам вызовется на опасное дело. Трында уже жалел, что подтрунивал над Шкарандой. Но, может быть, если бы он не подшучивал, Шкаранда и не пошел бы с Джафаровым?
Тишина… Слышно только, как поерзывает Мансур. В одной фланелевке ему, наверное, зябко. «Прижмись ко мне боком!» — хотел сказать ему Иванов. Но впереди, чуть правее, зачастили шаги. Кто-то быстро шел, уже бежал от коровника к мосту.
Уже топочут справа за кустом, по доскам моста, ноги, ноги, ноги — мягко хлопают босые, гулко бухают сапогами, шаркают неизвестно какой обувкой. Удалось! Освободили!
«Сейчас все переберутся за речку…» — весь напрягшись, ждал Иванов. Когда Шкаранда даст знать — можно вслед за всеми. А до этого оставаться на случай, если немцы сунутся к мосту. Прикрыть всех — такую задачу поставил старшина троим друзьям, дав им несколько винтовочных обойм.
Словно швырнуло на пол горсть горошин — где-то близ коровника полоснула очередь немецкого автомата. Ей вмиг откликнулось несколько хлестких, как удар бича, винтовочных выстрелов… «Эх, не удалось без шума!» — Иванов вскинул карабин наизготовку. Еще быстрее затопали по дощатому настилу моста ноги. Скорее, скорее!
— Вань! Не пора ли нам? — толкнул Иванова локтем Василь.
— Жди Шкаранду… — И, не успев договорить, Иванов пригнул голову: над ними совсем низко, бросая суетливый свет на вытолченную копытами землю, понеслись немецкие светящиеся пули.
Возле уха Иванова бахнул выстрел ерикеевского карабина. Он тоже дважды выстрелил туда, откуда летели зловещие светляки пуль. Рядом ругнулся Василь:
— Эх, было бы мне чем их отсюда достать!..
Его слова заглушили новые выстрелы карабинов Иванова и Ерикеева. С той стороны, куда стреляли они, донесся протяжный и испуганный крик: «О-оо! Хильфе! Хильфе!»[14] — должно быть, кого-то из немцев ранило.
— Уходим? — заторопил Трында. — Пока не поздно!..
— Команды нет! — бросил в ответ Иванов, передергивая затвор.
«Может быть Шкаранда уже за речкой?» — хотел сказать Трында, но сдержался: неужели главстаршина подведет?
Вблизи, над кустом, промелькнула чья-то тень. Хриплый, задыхающийся голос Шкаранды:
— Ребята, дуйте и вы!
— Есть! — откликнулся Иванов и обернулся к Ерикееву: — Давай!
— А вы?
— Жми первым! Отходим по одному… Ну?! — вскипел он, видя, что Мансур медлит.
Недовольно бормотнув, Ерикеев, не подымаясь, сунулся назад, и полная влаги прибрежная земля прочавкала под его ногами.
Немцы уже не стреляли. Только перекликались встревоженно. Видно, не рисковали лезть к мосту, под огонь из темноты.
«Порядок! — Иванов решил: — Теперь мы с Василем сразу!.. Но куда он делся? Ведь только что был рядом…»
Позвал:
— Василь!
И как бы в ответ спереди вновь полетели, пронизывая тьму, злые иглы пулевого пламени. И там же негромко бухнула граната, вторая.
Рядом прошумела листва, знакомый голос позвал:
— Вань! Вань!
— Что ж ты?.. — в сердцах выругался Иванов. — Ждать тебя!
— Они ж прут. Трахнул им обе напоследок.
— Уходим, быстро! Вали через мост, я прикрою.
— Бьют же по нему. Я видел.
— Тогда — вдоль берега, влево.
— Только вместе, Вань!
— Ладно.
Сбежав почти к воде, повернули влево. Ноги вязли в холодной разжиженной почве, сырая листва хлестала по лицу.
Пройдя немного, остановились. Опасно забираться дальше. В той стороне село. Пройти еще немного. Отыскать какую-нибудь переправу?
Как-то сразу смолкла стрельба.
Пробирались, осторожно раздвигая невидимые во тьме упругие сырые ветви. Вода журчала совсем рядом. Оступившись, Иванов до колен ухнул в нее, схватился за подвернувшуюся ветку, она с треском сломалась.
— Хальт!
Оба шарахнулись назад.
— Хальт!
Оглушающий грохот автоматов. Треск сбитых пулями ветвей. Иванов вдавился грудью в холодную, вязкую жижу. В щеку врезался острый жесткий лист какой-то водяной травы. Правой рукой наткнулся на плечо Василя, с силой давнул вниз.
Автоматы смолкли вдруг, как оборвало.
За лозняком, выше по берегу, слышались переговаривающиеся голоса — громкие, не таящиеся, спокойно-деловитые. Немцы…
Ищут сбежавших пленных?
«Эх, было бы чем, дал бы вам чёсу!» — Иванов пожалел, что в карабине осталась неполная обойма, а больше патронов нет.
Шелестели кусты, громко хлюпала вода под тяжелыми сапогами, перекликались чужие голоса.
Идут… Ближе… Мимо… Прошли.
— Двигаем! — чуть слышно шепнул Иванов товарищу.
По-прежнему держа направление вдоль речки, они побрели через лозняк, с трудом вытягивая ноги из тягучей жижи. Набухшие водой бушлаты отяжелели. Бил озноб: промокли насквозь, пока лежали. Да и ночь была по- осеннему холодна.
— Стой! — шепнул Иванов.
Впереди вновь послышались голоса. Немцы навстречу. Ни вправо, ни влево по берегу хода нет. Куда деваться?.. Запрятав комсомольский билет и краснофлотскую книжку под бескозырку, потуже натянул ее на голову. То же посоветовал сделать и Василю.
— Пошли! — и решительно шагнул в воду.
Иванов и Трында надеялись, что переправа займет всего минуту-другую и за это время они не успеют закоченеть. Но зыбкое, илистое дно не давало шагать быстро. Ноги вязли чуть ли не по колено, того и гляди, сдернет сапог. Сделав всего несколько шагов, друзья почувствовали, как ноги охватывает ледяная стынь, которой дышит дно. А они не достигли еще и середины речки.
Надеялись: удастся перейти вброд. Но дно уходило все глубже. Пришлось поплыть.
Держались друг с другом рядом; не быстрое, но сильное течение несло их. Коченели руки. Поглядывая на товарища, Иванов в темноте различал, что Василь плывет тяжелее, едва двигая окоченевшими руками, раза два уже окунулся с головой.
Подплыл к Василю вплотную.
— Можешь еще?
— Руки свело… — просипел Василь, сплевывая воду.
— Держись за меня!
Василь ухватился за плечо Иванова, и он погрузился почти с головой, с другого плеча соскользнул ремень карабина. Набухшие рукава бушлата сковывали руки. Изловчившись, Иванов сбросил бушлат, снова подставил плечо товарищу.
Но вот ноги почувствовали дно. Закоченевшие, без бушлатов — когда плыли, Трында сбросил и свой — выбрались на противоположный берег.
— Бегом! — скомандовал Иванов. — А то застынем!
Остановились уже далеко от берега, на лугу. Влажная обмундировка стала теплой. Выжали воду, переобулись. И только тогда снова почувствовали озноб — холодна осенняя ночь.
— Теперь нас проберет, — поежился Иванов. — Одна бескозырка не согреет.
— И оружия никакого…
— Да, не повоюешь. Ты, Василь, и наушники утопил? Как же без них? Не примут тебя в радисты обратно.
— Ой, Вань, не шуткуй! Что будем делать одни, без наших, безо всего?
Постояли, размышляя.
Нет, они не рассчитывали, что их будут ждать, и не были в обиде: всеми нельзя рисковать ради двух, а немцы, может быть, ищут уже и по эту сторону речки. Но, чтобы догнать товарищей, надо идти их путем.
Как определить направление на восток, если нет компаса, в затянутом тучами небе не видно звезд? Пошли наугад…
Торопливо пересекли сырой, кочковатый луг, какой-то лесок… На ходу прислушивались, надеялись: может быть, впереди — голоса, может быть — шаги? Ведь от фермы уходит более двухсот человек. Но молчала ночь…
Разгоряченные, задыхаясь от поспешной ходьбы, остановились перевести дух в темном поле. Нет, не догнать.
Где же вы, товарищи?..
ТЫСЯЧА КИЛОМЕТРОВ РИСКА
В конце марта сорок второго года под Севастополем, когда там стояло временное затишье, на северном участке нашей обороны по берегу речки Бельбек, где держала позиции одна из частей морской пехоты, случилось неожиданное происшествие. В середине ночи командиру части позвонили с переднего края и доложили, что задержаны двое неизвестных, пробиравшихся со стороны противника. Командир приказал доставить их к нему.
Вскоре в блиндаж командира матросы с винтовками ввели двоих. Один из них, повыше, был одет в потертую, измятую черную шинель железнодорожника. Другой, щуплый, чернявый, с оттопыренными ушами, в ватник. Головы обоих были обнажены, кудлатились давно не стриженные волосы. По изрядно заросшим лицам трудно было определить их возраст, но осанка говорила о том, что они молоды.
— Пойманные шпионы доставлены! — доложил старший из конвоиров.
— Не пойманные, и не шпионы! — с обидой заявил чернявый, тот, что в ватнике. — Мы сами пришли!
Но второй, в шинели, стоял спокойно.
— Вот, документы у них отобраны! — Конвоир протянул командиру две покоробленные книжечки с якорями на серых обложках.
— Не отобраны! Сами предъявили! — снова с горячностью поправил чернявый.
— Помолчите пока! — строго глянул командир. — Разберемся.
Взяв книжечки, командир стал их разглядывать. Краснофлотские книжки по всей форме, выданные еще до войны. Правда, записи трудновато прочесть: похоже, документы побывали в воде, чернила расплылись…
— Вот еще у них взято! — Конвоир положил на стол две черные ленты. При неярком свете коптилки, стоявшей на столе, тускло блеснуло на лентах золото букв.
— Не взято, а сами показали! — рванулся к столу чернявый.
Но товарищ удержал его, положив руку ему на плечо. Этот человек в железнодорожной шинели, видно, умел владеть собой.
Что это за люди? Командир не знал, верить или нет. Краснофлотские книжки, ленточки от бескозырок — еще не доказательство. Бывали случаи, когда фашистские лазутчики пытались проникнуть в Севастополь с безупречными на вид документами — сфабрикованными либо взятыми у пленных или убитых. Биографии лазутчиков, придуманные для них в фашистской разведке, выглядели правдоподобными. Всячески рядится враг. Может, и эти двое тоже ряженые?
— Фамилия? — спросил командир высокого, в шинели.
— Старший матрос Иванов.
Командир посмотрел в две краснофлотские книжки, лежавшие перед ним, выбрал нужную:
— Иван Семенович, год рождения девятьсот двадцатый? Из города Златоуста? Где это такой город?
— На Урале.
— Где служил?
— На Днепровской. Дивизион бронекатеров…
— Так и записано… Беспартийный?
— Комсомолец.
— А где комсомольский билет?
— Разрешите?
Человек в шинели расстегнул ее, засунул руки куда-то под одежду, долго шарил там, вытащил книжечку с ленинским силуэтом.
— Вот.
— Далеконько прятал.
— А чтоб не пропал.
Командир внимательно вглядывался в фотографию на комсомольском билете. Она тоже была, видать, тронута в свое время водой: потрескалась, чуть обшелушилась. Да если бы даже и сохранилась нетронутой… Как непохож был изображенный на ней круглолицый парнишка в рубашке с распахнутым воротом — наверное, в комсомол вступал еще до призыва — на того, что сейчас стоял перед командиром — небритый, с усталым лицом немало испытавшего человека.
— Да что нас проверять! — нарушил раздумье командира второй, пониже ростом, все время порывавшийся что-то сказать. — Мы ж с Черноморского. — Он не утерпел, порывисто шагнул с места. — Мы в Севастополь шли! Сколько месяцев, сквозь все немецкие тылы! Разрешите доложить, я — старший матрос Трында. А это — корешок мой. С тридцать восьмого служим. Можете проверить! У нас в Севастополе полно, с кем служили. И с учебного отряда, и с кораблей… Мы вам фамилии назовем. И командиры подтвердят. Наведите справки!
— Наведем, — пообещал командир. Не сказал того, что подумал: «Если даже и так, много ли ваших дружков уцелело?»
Сначала он хотел только взглянуть на задержанных и сразу же отправить их на проверку, как это всегда делалось в подобных случаях. Но что-то заинтересовало его в этих людях. Уж больно прям и открыт их взгляд… Командир давно служил и воевал, знавал многих людей, их судьбы и не однажды убедился в справедливости изречения, что глаза — зеркало души. Опыт подсказывал ему, что в данном случае это зеркало вряд ли обманывает.
— Ну, если это действительно ваши документы… — Командир еще раз посмотрел на фотокарточки и на лица. — Садитесь, рассказывайте, как вы к нам пробрались.
Он долго слушал их, благо в этот ночной час на переднем крае стояла тишина и ничто не отвлекало его.
Выслушав до конца, сдержанно улыбнулся:
— Настойчивые вы парни! Сколько протопали. И через что!
— Так в Севастополь же! — в один голос ответили оба.
Командир, пожалуй, готов был поверить этим двум. Однако война научила его не только верить людям, но и проверять даже то, в чем, казалось бы, и нет оснований сомневаться.
— На проверку пойдете, — сказал он мягко. — А я потом поинтересуюсь. — Взгляд его упал на две ленточки, лежавшие перед ним на столе. Задумчиво потрогал их, улыбнулся: — Вместо корабельного флага вам служили? — Подвинул ленточки от себя на край стола: — Возьмите. Понадобятся.
На следующий день командиру позвонили: двое присланных — действительно те, кем себя называют.
— Направьте их ко мне, — попросил командир. — Пусть за Севастополь повоюют. За тем и шли тысячу километров.
Как же она была пройдена, эта тысяча?
В ту ночь, когда при освобождении пленных Иванов и Трында ушли от моста последними, прикрывая отход товарищей, они так и не смогли присоединиться к ним. Уже только вдвоем продолжили путь на восток. В попутных селах, где не было немцев, добывали еду. Старыми ватниками заменили утопленные при переправе бушлаты. Пришлось распроститься и с бескозырками. Но ленточки сохранили, зашив в одежду. Не расстались и с тельняшками — на каждом осталась его «морская душа».
К началу ноября Иванов и Трында прошли по захваченной врагом земле, если считать от Киева, добрых четыре сотни километров. Как и прежде, они предпочитали двигаться ночами.
Однажды под утро, выйдя к железной дороге и приметив в пустынном поле путевую будку, решили заглянуть в нее: по всем признакам немцев вблизи не было, и друзья надеялись, что в будке им удастся поесть и поспать. Их встретил пожилой обходчик с женой. Вначале хозяева не очень приветливо глядели на двух, невесть откуда взявшихся, незнакомых парней. Да и те открылись им не сразу: оба крепко помнили урок, полученный от благолепного старичка. Но постепенно в разговоре все прояснилось. «Эх, ребята! — посочувствовал обходчик. — Пешком — дальше, риску — больше. Вам бы на каком попутном товарняке к фронту подкинуться… Вот что! Отсюда семь километров — станция. Там брат мой, Юхим, стрелочником. Скажете, что я послал. Глядишь, поможет».
Побыв у обходчика до вечера, они отправились на станцию, отыскали хатку Юхима. Тот принял их хотя и с опаской, но приветливо. Выслушав, задумался: «Если б на порожняке — запросто. Бабы с мешками ездят. Только к фронту порожняка не бывает. Груженые составы идут под охраной. Но уж коли хотите испытать счастья — попробуем».
Попозже вечером Юхим выдал им пару старых замасленных железнодорожных фуражек и повел с собой. Он провел их на станцию и до поры спрятал в будке, стоявшей на путях. Через некоторое время вернулся:
— Есть подходящий состав! На Лозовую, воду набирает! Швыдче, хлопцы!
Это был поезд из товарных вагонов и груженых платформ, прикрытых брезентом. Кое-где на тормозных площадках маячили фигуры немцев-часовых, зябко ежившихся в своих тонких шинелях. Никто из них не обратил особого внимания на шедших вдоль состава трех железнодорожников, один из которых нес фонарь, притемненный, как полагается при светомаскировке, а двое — инструменты.
Двое с инструментами присоединились к нескольким ремонтникам, которые возились возле колесной тележки одного из вагонов, починяя что-то. За ними лениво наблюдал ефрейтор из станционной охраны, Тот железнодорожник, что с фонарем, прошел дальше.
Через несколько минут паровоз кончил набирать воду, ремонтники завершили свою работу, собрали инструменты и ушли. Эшелон тронулся в путь. На одной из платформ, на которой не было часового, в ее переднем конце, где имелось небольшое свободное пространство, под брезентом, прикрывающим ящики, съежась, лежали рядом двое в железнодорожных фуражках. Это были Иванов и Трында.
Эшелон летел на полной скорости. Из-под брезента не было видно ничего. Да если бы и приподнять его — вдоль пути только темь да редкие искры, летящие от паровоза. Станции были по-военному затемнены. Лишь изредка мелькал еле приметный синий огонек.
…Колеса в который уже раз звонко простучали по стыкам на стрелках.
— Во рвет! — жарко дыхнул Василь в ухо товарищу. — Еще одну станцию проскочим!
Василь уже не сомневался, что теперь все пойдет отлично:
— Скоро — Лозовая! А там — поворот на Славянск, на восток. Там будем жать — утром к фронту подкатим. Как в салон-вагоне.
— Салон! — Иванов поворочался. — Ух, как задувает!
— Давай, Вань, теснее ко мне. Ой!.. — Трында, подвигаясь, ударился рукой об окованный железом угол ящика. — Вань, как думаешь — что в этих ящиках?
— Мечтаешь — консервы?
— Не худо бы.
— Напрасные мечты. Снаряды там.
— Не пожуешь…
Леденящий ветер то и дело врывался под брезент. Тесно прижимались друг к другу, пытаясь согреться. Кажется, им это удалось. Не заметили, как заснули.
Когда проснулись, поезд все еще шел. Выглянули. Уже светает. Мимо проносится присыпанная первым снегом пустынная степь. Но какие это места?
— Не туда едем! — чуть не крикнул Иванов.
— А куда ж? — Василь едва не выскочил из-под брезента.
— Гляди! Небо светлее слева по ходу. Значит, не на восток едем. Не к фронту!
— Может, только закругление, поворот?
— В голове у тебя, Василь, закругление! На юг эшелон идет. На юг! Понял? Юхим как объяснял? Дорога к фронту через Лозовую на Славянск. А нас ночью на Павлоград повернули.
— А знаешь, Вань? От Павлограда дорога на Запорожье, а оттуда на Крым.
— Кругаля через Лозовую?
— А что? Мосты везде порваны, вот и гонят составы в объезд! — Глаза Василя вспыхнули. — А вдруг этот эшелон — на Севастополь? Там, говорят, давно большие бои. Туда, наверное, снаряды везут. И мы доедем! Как с плацкартным билетом.
— Как бы немцы нам на этот билет свинцовый компостер не поставили.
— Нас же никто не видит, Вань. Глядишь, до Крыма докатим! Хотим фронт переходить? Так уж лучше — прямо в Севастополь.
— Лих ты, Василь! — Иванов помолчал, вслушиваясь в громыханье летящего состава. — Только у меня другое предложение: убраться из этого салона, пока нас в сторону от фронта еще дальше не увезли…
Иванов не договорил. Что увидел Василь в другом конце платформы? Почему такой испуг на его лице? Иванов глянул тоже — и замер: из-за ящиков виден край плеча с погоном, поднятый воротник шинели, макушка пилотки, торчит ствол винтовки. Спиной к ним, прислонясь к брезенту, сидит немец, часовой! Откуда он взялся? Перешел с соседней платформы? Или поставлен на пост во время остановки, которая, может быть, была, когда они спали? Незаметно с платформы теперь не выбраться. Спереди — глухая стена товарного вагона. Сзади — другая платформа. На пути к ней — этот немец. Что делать?
Ответ на это последовал быстрее, чем они предполагали. Часовой, которого, наверное, порядком-таки прохватывало ветром, направился в их сторону вдоль края платформы, прижимаясь к штабелю ящиков. Нет, кажется, он еще не видит их!.. Но как только дойдет до этого края платформы…
— Он — сюда, а мы — туда! — шепнул Трында Иванову. Тот юркнул к борту, противоположному тому, вдоль которого шел к ним немец.
Но Трында не успел…
— Хальт! — заметив его, испуганно рявкнул немец, откачнувшись спиной к ящикам, рванул винтовку с плеча:
— Лигст ду![15] — Он целился в Трынду.
Тот, показывая на свою железнодорожную форму, заговорил громко, чтобы немец услышал его в грохоте движения:
— Я домой, понимаешь? Бригада, паровоз. Домой. К матка…
Не слушая, немец проорал что-то и вскинул ствол винтовки, чтобы дать сигнальный выстрел. Но выстрелить не успел. На него навалился, подбежав сбоку, Иванов.
Часовой яростно пытался вырваться. Но вдвоем они одолели его, выхватили винтовку, в которую он вцепился мертвой хваткой.
Уже обезоруженный, поверженный, немец не смирялся. Вырывался, пытался кричать. Затих только тогда, когда его голову прижали к полу, и он понял, что ему свернут шею, если он не замолчит.
Теперь он смирно сидел в конце платформы, подогнув ноги и упершись спиной в ящики. Пилотка с него слетела, ветер трепал рыжеватые волосы. Опасливо поглядывая на винтовку, ствол которой Трында упирал ему в бок, немец твердил, тыча себя в грудь:
— Пролетариат! Пролетариат!..
— Да замолчи ты! — прикрикнул Трында. — Что с ним делать?
— А черт его знает! — Иванов растерянно глянул на товарища.
Немец был ни молодой, ни старый, с тощим продолговатым лицом, на котором каждая жилочка дергалась. Он заискивающе улыбался, всем видом и жестами показывая, что если и был строг, то только потому, что того требовал долг службы, а была бы его воля — пожалуйста, можете ездить на составах с военными грузами.
— Держи его под прицелом!
Иванов нагнулся к немцу, снял с него ремень со штыком в ножнах и подсумками, извлек из карманов блестящую зажигалку, губную гармошку, бумажник и плотный пакетик с фотографиями. Губную гармошку бросил, зажигалку спрятал — пригодится, спичек нет, а заглянув в бумажник, засунул под ватник и его — там деньги и документы. Пакетик с фотографиями тоже хотел выбросить, но на всякий случай заглянул в него: а может быть, там что нибудь еще. Вдруг посуровел, показал один из снимков немцу:
— Ты?
— Найн! Найн! — прижал немец ладони к груди.
— Глянь! — показал Иванов карточку товарищу.
На снимке был изображен, похоже, тот самый немец, который сидел перед ними. Он был сфотографирован вдвоем с каким-то приятелем: засученные рукава мундиров, ухмыляющиеся физиономии, пилотки набекрень, в каждой руке — ухваченный за шею гусь, позади — окно с разбитыми стеклами, беленая стена хаты с полосами копоти.
— У, гад фашистский! Может, они мою хату тоже так! — Трында недобро взглянул на немца.
— Их бин арбайтер! — выкрикнул немец. — Драй киндер! Их хабе драй киндер!
— Киндеров вспомнил! — Трында шевельнул винтовкой. — А сколько ты наших ребятишек обездолил?
«Нет! — взглядом остановил товарища Иванов. — Стрелять нельзя. Услышат».
«Время не терпит. В любой момент немец может закричать…» — Иванов нерешительно сжал рукоятку штыка, отобранного у немца. Противно… Если б в бою. А так — противно. Но как иначе?
Пересилив себя, Иванов потянул штык из ножен, немец заметил это, его глаза сразу остекленели от ужаса.
И вдруг немец махнул через невысокий борт платформы.
— Ты что?! — перехватил Иванов винтовку, приклад которой Василь уже вскинул к плечу. — Вместо часового тревогу поднять хочешь?
— А ты — что? — в свою очередь напустился на него Василь. — Фотокарточки! Их сразу надо кончать, фотографов этих!
— Не шуми! — Иванов толкнул Трынду с винтовкой под брезент и сам залез туда же. — Если этого пролетария другие такие же увидели…
— Шоб он соби шию поломав! — Трында в сердцах перешел на родной язык. — Як он нас окрутыв! Як окрутыв!..
— Тихо! — остановил его Иванов. — Прислушивайся. Как бы прыгать не пришлось…
А эшелон шел, не сбавляя хода.
Из-под брезента было видно — в сером полусвете только начинающегося дня убегают назад столбы, редкие черные, присыпанные снегом кустики под невысокой насыпью, тянется мимо ровная, пустынная беловатая степь.
— Видишь! — показал туда Трында. — На юг катим! К ночи будем в Крыму.
— Если не в раю! — хмуро пошутил Иванов. — Не хватились немцы часового сейчас, так на остановке хватятся. Мотать нам отсюда надо, пока эшелон не остановился.
— Ладно! — не стал долго спорить Василь. — Только заплатим за проезд. — Он показал рукой на ящики позади себя. — Рванем — нашим в Севастополе меньше достанется.
— Да ведь надо запалы, шнур…
— Придумаем, Вань!
Остерегаясь, чтобы их не заметили, принялись за дело. Выдвинули из-под брезента один из ящиков, отодрали штыком крышку. В ящике лежали снаряды — пять штук в деревянных гнездах сверху, пять — внизу. Один из снарядов сдвинули так, чтобы дно его местом, где взрыватель, неплотно прилегало к стенке. Затем открыли патронташ немца, выворотили из патронов пули и высыпали порох в кусок брезента. Получившийся сверток с порохом заткнули между дном снаряда и стенкой ящика. Еще один большой кусок брезента располосовали штыком на ветошь и положили сверху вместе с клочьями ваты, надерганной из ватников.
Пока занимались всем этим, уже совсем рассвело. По сторонам все чаще мелькали поселки, линии столбов с проводами. Чувствовалось приближение какого-то города. Степь вокруг была уже не вся белая от первого снега, а чуть припорошенная им, грязновато-серая — здесь, поюжнее, снега выпало меньше.
Состав замедлил ход, одолевая подъем. По сторонам потянулись ряды уже давно потерявших листья деревьев путезащитной полосы. За ними по обеим сторонам мелькали какие-то невысокие крыши, все чаще.
— Пора! — Иванов выкрутил пробку зажигалки немца, вылил почти весь бензин на завернутую в брезент вату, торчащую из ящика. — Прыгай, Василь! — Чиркнул зажигалкой и прыгнул сам.
Перевернуло на лету. С размаху врезался в тугие, пружинящие ветви. Удар всем телом о мерзлую землю.
Мимо прогромыхали последние вагоны. Огляделся: не видно ли немцев? Нет… А Василь?
Хоронясь за деревьями, пошел вдоль полотна назад, навстречу Василю. Интересно, как теперь там, на платформе? Огонь так и фукнул. Дерево сухое, да и ветер. Загорится ящик, а там, глядишь, и рванет. Должно рвануть. Чтобы не доехали снаряды до Севастополя. Хотя бы услышать, как бабахнет.
Впереди, меж тонкими черными стволами деревьев, что-то мелькнуло. А если вдоль путей патрулируют немцы? Присел за дерево. Но сразу же вскочил:
— Василь! Кости целы?
— Я не костями, чем помягче приземлялся.
Постояли, ожидая: не услышат ли взрыв? Но состав уже далеко…
— Ходу, ходу! — спохватившись, заторопил Иванов — Как бы тут, возле линии, на патруль не напороться.
В стороне сквозь деревья примыкавшей к пути рощицы — реденькой, по-зимнему прозрачной — белели какие-то хатки. Решили пойти туда — поразведать обстановку.
Шли от дерева к дереву, внимательно поглядывая по сторонам. За два месяца пути по захваченной врагом земле привыкли ходить так — каждый миг начеку.
Поселочек казался безлюдным. Может быть, просто потому, что было еще очень рано. Задворками подойдя к стоявшей на отшибе хатенке, постучали в окно. Качнулась занавеска, мелькнуло испуганное женское лицо. Вид железнодорожных фуражек, очевидно, как-то умерил страх женщины. Она крикнула из-за стекла:
— Нема! Ничого нема на менку, ни пшена, ни хлиба! Сами голодуем!
— А, часом, не слыхали, у кого в поселке е? — сразу же вошел в неожиданно предложенную ему роль Трында.
— Та у кого ж? Мы ж своего не сияли… А що у вас на менку?
— Спички.
— Сирники? Ой, хлопци! — оживилась женщина. — Мабудь продадите мени хучь один коробок? Та вы заходьте, заходьте у хату!
Через несколько секунд брякнул засов открываемой двери.
Войдя, они увидели на лавке у стены сутуловатого человека в нижней рубахе. Сосредоточенно нагнув голову, он наматывал на ногу портянку. Подняв склоненное лицо, заросшее седоватой с чернью порослью, он внимательно посмотрел на вошедших. От этого словно проникающего в душу взгляда Иванову стало немножко не по себе. А когда хозяин спросил спокойно:
— Военные? — Иванов и вовсе насторожился. Снова припомнился благолепный старичок, из-за которого они чуть не погибли. Потихоньку, предупреждая Трынду, толкнул его локтем в бок и ответил:
— Что вы, папаша! Какие мы военные? Мы — ремонтники.
— Ни! — Хозяин хитровато шевельнул седой бровью. — Мой глаз верный. Военные вы. Сам сколько служил, разбираюсь. Да вы, хлопцы, нас не бойтесь. — Голос хозяина зазвучал глуше. — Наш сынок, коли голову не сложил, тоже, может, как вы, блукает, до добрых людей стучится.
— Ой, лышенько… — вздохнула при этом хозяйка и поднесла к глазам конец платка.
«Не выдадут!» — успокоил себя Иванов. А вслух сказал:
— Насчет спичек — извините, нету. — Вытащил зажигалку: — Только вот…
— Ни, ни! — заспешила хозяйка. — Вам самим треба!.. Скажить… — В ее глазах блеснула надежда. — Вы с окружения, або с плена? Часом не бачили Онищенко Петра?
— Побачишь там! — невесело усмехнулся хозяин. — Народу тыщи… Ты, Мария, собери-ка лучше чего на стол. Хлопцы ж по аттестату не получают.
На покрытом старенькой клеенкой столе быстро появились чугунок с картошкой, сваренной в кожуре, миска квашеной капусты, а вместо хлеба — темные, невесть из чего испеченные лепешки. Но гости были рады и такому угощению и без стеснения принялись за еду. Хозяин молча смотрел на них, положив на столешницу темные морщинистые руки. Потом заговорил медленно, задумчиво, словно бы сам с собой:
— Октябрьская завтра. Был праздник…
— Почему — был? — оторвался от еды Трында. — И есть!
— Какой уж под немцем праздник! — хмуро свел седые брови хозяин. — Лихо одно.
— Нимцы кажут, они вже в Москве. В Кремле на карточки сымаются… — вздохнула хозяйка.
— Брешут! — не стерпел Трында. — А вы, тетю, разносите!
— Не кипи! — вмешался Иванов. — Нашел виноватую!
Но и ему от услышанного стало не по себе. То, что фронт близко к Москве, они слыхали и раньше. Но немцы в Кремле? Это не укладывалось в голове.
— Вы что ж, верите? — спросил Иванов хозяйку.
— Не можно в такое поверить! — ответил за нее хозяин. — Не можно, чтобы державе нашей — конец! — И коричневые, узловатые пальцы его, лежавшие на столешнице, сжались в кулаки. — И ты ж не веришь! — шевельнул он бровью, глянув на жену.
— А я что ж… Як вси… — Хозяйка скорбно поджала губы. Но вскоре бросила взгляд на ходики, тикающие в простенке между окон: — Ой, времечко ж! — и стала торопливо надевать ватник.
Очевидно заметив, как переглянулись гости, хозяин поспешил объяснить:
— На работу она. В госхоз. Хозяйство немецкого государства. Раньше совхоз был. А теперь мы откармливаем свиней, немцы жрут.
— Есть они здесь, в поселке?
— Нету. Управляющий с помощником — немцы, так они в городе живут. Только наезжают.
— А город — близко?
— Запорожье-то? Километров десять. А вы в какие места путь держите?
— До дому! — опередив товарища, ответил Трында, не переставая усердно жевать. — В Крым!
— В Крым? — протянул хозяин изумленно. — Дуже далеко. Аусвайсы[16] надо. Проверка дуже строгая.
— И без аусвайсов сколько прошли-проехали! — Трында горделиво вскинул нос. — Да мы…
Иванов перебил:
— А ты слушай, что человек говорит! Может, не ехать пока?
— Вам, ребята, здесь оставаться негоже! — забеспокоился хозяин. — У нас в поселке каждый на виду. И немцы могут наскочить. Себя загубите и нас.
— Боитесь? — Трында положил недоеденную картофелину на стол. — Враз уйдем!
— Не гомонись. Ешь, ешь! — Хозяин дождался, пока Василь снова взялся за картошку. — Я за вас страх имею. Чтоб не попали обратно туда, где были. А то и дальше.
Хозяин, очевидно, был уверен, что они бегут из плена.
— Я в ту войну в Германии сам побывал, знаю. Пригнали нас в город Пиллау, возле Балтийского моря. Заставили котлованы рыть. Лопат нехватка — выгребай землю шапкой. Чуть не так — палка! И паек плохой, сырость морская, простуда у всех. Сколько мы там своих позарывали! А нынче немец еще зверистее. Фашист. За вас, хлопцы, болею. А вы…
— Не обижайтесь, папаша! Мы ж понимаем. — Иванов встал. — Спасибо вам…
— Обожди! — Хозяин задумчиво потер большим пальцем щетинистую щеку. — Лучше я сперва схожу тут к одному человеку, распытаю. Может, чем поможет вам. Побудьте здесь, пока мы с Марией с работы не вернемся. Чтоб никто не прознал, я с улицы замок навешу. Да вы не сомневайтесь! Замок слабенький, для вида. И в любое окошко вам выход, в случае чего.
— Не продадут? — забеспокоился Трында, когда за хозяином закрылась дверь.
— Научил тебя бдительности святой старичок, — не удержался от улыбки Иванов. — То-то, я гляжу, сидел ты тут за столом, как на гвоздиках. А я этим людям, Василь, верю.
— А я проверю, открывается ли окно, если тикать… — Трында потрогал оконные шпингалеты. — Ты, Вань, в то окно смотри, на улицу, а я в это, в сад. А вдруг да…
— Ладно, встанем на вахту, — согласился Иванов.
Хозяева вернулись, когда уже густо легли сумерки. Вместе с ними пришел паренек лет пятнадцати в замызганном кожухе с подвернутыми рукавами — они ему были явно длинны. Паренек был молчалив, не говорил ни слова, стоял у порога, ждал. Хозяин показал на него:
— Хлопчик проведет.
В тот же вечер они были на окраине Запорожья, на фуражной базе местной городской управы, в сторожке. Там их встретил сторож — маленький, щуплый, с бесформенной, видимо недавно отпущенной бороденкой. Внимательно глядя острыми прищуренными глазами, он подробно расспросил их, кто они такие.
Когда они признались, что их мечта — попасть в Севастополь, он усмехнулся:
— Не попадете, а попадетесь. Лучше оставайтесь пока. Оформим законно. Дело найдем. Такие ребята, как вы, нам нужны.
Кому «нам» и зачем нужны — нетрудно было догадаться.
Иванов и Трында были зачислены в ремонтную команду, которая должна была поддерживать в исправности линии связи, идущие вдоль железной дороги.
Работали старательно. Немецкий унтер, под начальством которого находилась бригада, не раз отмечал усердие двух парней. Им было ради чего усердствовать: чем с большим рвением они работали, тем хуже действовала у немцев связь и тем труднее было им доискаться до причин. Укладывали, например, вполне правильный кабель, а действовал он так, что все передаваемое безнадежно искажалось. Поднимали кабель для проверки — немцы не обнаруживали в нем никаких видимых повреждений. Где было им догадаться, что все дело в гвоздях, загнанных в кабель без шляпок. Обнаружить эти гвозди было почти невозможно.
Так продолжали Иванов и Трында воевать с фашистами, пусть в незримой войне. Но не расставались с надеждой, что им в конце концов удастся снова надеть полную матросскую форму, бить врага под флотским флагом.
Под флотским флагом… Сколько раз вспоминали они свой бронекатер, лежащий на дне Десны, товарищей, вместе с которыми воевали на нем, а потом пробирались по захваченной врагом земле. Особенно часто вспоминали Мансура. Дошел ли с остальными до своих? И где теперь он, и Шкаранда, и мичман с дочкиной панамкой, спрятанной под кителем… Где все, с кем шли от Борисполя? Может быть, сбереженный ими флаг развевается теперь над их головами на гафеле другого корабля? Но где? На Балтике? На Севере? А может быть, на родном Черном море? Добраться бы до Севастополя!..
В середине зимы, когда бригада работала в Крыму, на линиях джанкойского железнодорожного узла, гестаповцы арестовали трех ремонтников, с которыми Иванов и Трында вместе делали свою тайную работу. Оба друга получили приказ скрыться. Их переправили в горы, в партизанский отряд.
В начале марта, когда в горах растаял последний снег, немцы, выслеживая партизан, обнаружили их базу в лесном овраге, окружили ее. Пришлось пробиваться. Суматоха боя и ночь разлучили Иванова и Трынду с остальными. Как, куда идти?
Решили посоветоваться с картой. Да, у них была карта — они приберегали ее давно, немецкую карту Крыма, найденную у офицера, убитого во время одного из налетов на машины на шоссе. Странно было читать на этой карте знакомые названия, написанные чужими колючими буквами: «Simferopol», «Schaitan-Koba», «Katscha», «Bahtschisarai» — как будто бы все эти места немцы уже насовсем считают своими. Нельзя было принять сердцем, что Крым — это «Krim», Севастополь — «Sewastopol», а Черное море — «Schwarzen See».
Вытащив карту, долго рассматривали ее. И раньше, коль выпадал спокойный час, они любили по ней прикинуть, как бы пройти в Севастополь. Теперь выходило, что, если углубиться в горы дальше на запад, можно выйти к речке Каче. За нею большой лес, почти до реки Бель- бек. А по Бельбеку — фронт. Там рядом с немцами румыны. У тех дисциплина послабее, не очень ретиво за Гитлера воюют. Их легче обвести — вот и пробраться через передовые позиции там, где румыны!
Нелегкую задачу поставили они себе. Но разве проще и безопаснее оставаться? Фашисты рыщут по лесу всюду, выслеживая партизан.
В непролазной чаще переждав до ночи, Иванов и Трында начали путь в Севастополь. Вернее, продолжили. Ведь начали они его значительно раньше — в тот сентябрьский день, когда с флагом, снятым со своего ушедшего на дно, но не сдавшегося корабля, пошли на восток.
Через несколько дней на участке обороны Севастополя, близ Бельбека, на переднем крае ночью и были задержаны двое неизвестных, которые оказались матросами.
МЫС ХЕРСОНЕС
Увидеть этот мыс, если выехать из Севастополя на Балаклаву, можно еще до того, как вновь увидишь море. На фоне неба, белесо-голубого, словно выцветший под ветром и солнцем матросский воротник, издалека приметна тонкая вертикальная черточка на горизонте. Там, где она, и есть мыс.
Чем дальше бежит дорога, тем резче эта черточка, а справа от нее — все чаще серебряные проблески моря. Чуть всхолмленная местность становится все ровнее, пустыннее. Глазу уже и зацепиться не за что. Разве промелькнут раз-другой несколько белых домиков, крытых черепицей. Теперь справа от дороги, до самого моря, синее марево которого распахнуто уже во весь горизонт, лежит беловатое поле — без деревца, без единого кустика. Вертикальная черточка, которая была видна издалека, обретает явственные очертания: это высокий, как маяк, серый четырехгранный обелиск. Краткая надпись на нем гласит: он воздвигнут в память разгрома немецко-фашистских захватчиков на мысе Херсонес в мае 1944 года. Это было за год до окончательной победы над врагом.
На поле, среди которого одиноко высится обелиск, не растет ничего, кроме крохотных, с вершок, колючих травинок. На нем и не может ничего расти. Все оно усеяно мелким щебнем, острыми камнями, некогда исторгнутыми из почвы силою взрыва, изъязвлено воронками — уже еле приметными, изрядно заглаженными временем. Воронка вплотную к воронке. Земля здесь многократно взрыта и перерыта безжалостным заступом войны, тонкий плодородный слой выворочен, перемешан с камнем и железом.
Железо… Его здесь, может быть, не меньше, чем самой земли — не оттого ли она красноватая, цвета засохшей крови. Если нагнуться и взять горсть неподатливой, сухой, жесткой почвы — пальцы обязательно ощутят меж ее шершавыми комьями угловатость осколков. Полусъеденные ржавчиной, они и совсем крохотные, и огромные, в ладонь. Тут же почти ставшие прахом клочья противогазных коробок, черные от времени патронные гильзы. Они крошатся, если к ним прикоснуться… Если приглядеться, в отдалении глаз отыщет пологие, едва заметные бесконечно длинные бугры. Будто великан пропахал когда-то через все поле множество широченных борозд, одну рядом с другой. За годы они оплыли, сгладились, поросли тощей травой.
Нет, это не борозды великаньего плуга остались на поле, а бесконечные ряды могил захватчиков.
В первые дни мая сорок четвертого года, когда наши войска штурмовали Севастополь и немцы уже поняли, что не удержат его, они, ища спасения, повалили к мысу Херсонес.
Но дальше отступать им было некуда — высокий обрыв и волны, бьющие в красноватые скалы… От возмездия не ушел ни один захватчик.
Еще и теперь, через много лет, если подойти к самому краю кручи и взглянуть вниз, где меж ноздреватых глыб плещет волна, можно увидеть кое-где среди камней помятые, обглоданные морем, черные остовы немецких машин.
Есть вблизи мыса небольшая бухта. Она окружена скалами, причудливо источенными волнами и ветром. Кто знает, в чем тут секрет, но вода в бухте имеет какую-то особенную голубизну. Не потому ли эту бухту так и называют — Голубой. В жаркие дни здесь многолюдно, манит необычной прозрачности прохладная вода, манят многочисленные сквозные промоины в скалах, словно двери, распахнутые в беспредельность моря. Мирным покоем дышит Голубая бухта. Ничто не напоминает глазу о днях войны. Глазу — да.
Но есть память сердца…
Июль сорок второго. Тяжелое время войны для нас… Немцы вели тогда свое самое яростное, третье по счету, наступление на Севастополь.
Защитники черноморской твердыни сделали все, что могли. Двести пятьдесят дней они стояли неколебимо. Но силы были слишком неравны.
Поступил приказ оставить Севастополь.
Берег на десятикилометровом пространстве между городом и мысом Херсонес стал местом, куда, выполняя приказ об эвакуации, отходили, отбиваясь от врага, тысячи бойцов с оставляемых ими рубежей.
«Это есть наш последний и решительный бой…»
Огненные слова «Интернационала» не раз вспыхивали в те часы над полем у Херсонеса, над полем, которое все дымилось от разрывов фашистских снарядов.
«Это есть наш последний…» — гремело над степью, прокаленной нещадным июльским солнцем. Подымались для отчаянных контратак матросы и солдаты. «Это есть наш последний…» — и последняя пуля, последняя граната летели во врага.
…Иванов и Василь Трында остановились: в нескольких шагах крутизна, за нею сверкает море.
— Всё, Вань! — сухими губами шепнул Василь, стянул с головы, комкая, побелевшую от пыли бескозырку и обессиленно опустился на горячую, колкую землю: его контузило с полчаса назад…
Вытянув бескозырку из стиснутых пальцев друга, Иванов надел ему ее снова. Круглое лицо Василя, его широкие, густые черные брови, ресницы, губы, оттопыренные уши — все было теперь одного, пепельно-серого цвета, смешались пот и пыль. Глаза были бессильно закрыты.
— Василь! — позвал Иванов. — Василь!
Но тот не отозвался.
Жаркий пот наплыл Иванову на глаза. Немцы идут следом. Вот-вот настигнут. Если бы пройти еще немного. До берега…
— Ты живой? — крикнул он в отчаянии. Схватил Василя за плечи, приподнял. В ремне автомата, висящего на плече Василя, запуталась рука. Перекинул автомат себе за спину. Два автомата и ни одного патрона…
Опустясь на колени, стиснув зубы от натуги, обхватил обмякшее тело, поднялся, шатаясь. Руки Василя свисали, качались, мешали, ноги волочились, скребя ботинками каменистую почву.
Остановился перевести дух. Но Василя не опустил: поднять снова будет трудно.
— Подсоби! — окликнул пробегающего мимо матроса в тельняшке и армейских галифе с обмотками.
— Живым надо спасаться! — махнул матрос рукой.
— Да он живой!
Но матрос уже промчался мимо.
— Стой, шкура! — холодея от ярости, крикнул Иванов.
— Чего лаешься? — обернулся матрос. Лицо его блестело от пота. — Давай!
Вдвоем донесли контуженного до края обрыва и спустили вниз, под скалу, туда, где штилевая крохотная волна лениво плескалась о камни. Своей бескозыркой Иванов зачерпнул воды, смочил лицо Василю. Ресницы у того медленно приподнялись.
Под обрывом было полно народа: моряки, пехотинцы, артиллеристы, какие-то мужчины в штатском, несколько женщин — вместе с военными из Севастополя уходили и жители. Кое-кто пытался смастерить плотики — в ход шли железные бочки из-под горючего, ящики от снарядов. Надеялись, что с воды, может быть, подберут свои корабли.
Но этих плотиков не могло хватить на всех: у кромки воды сгрудились сотни людей. Да если бы и на всех хватило — далеко ли удалось бы уплыть? Чуть не каждую минуту небо наполнялось зловещим вибрирующим воем — немецкие истребители и штурмовики пролетали совсем низко, их тени проносились вдоль берега по воде и камням.
Вечерней темноты ждали как спасения. Но до конца дня было далеко, во всю свою ярую силу палило безжалостное солнце. Наверху, в степи, еще слышались пулеметные очереди, разноголосица винтовок и автоматов. То бились последние заслоны, выполняя приказ: продержаться до темноты, не допустить противника к берегу. Все, кто собрался под обрывом, надеялись: когда стемнеет и перестанут летать немецкие самолеты, придут от Кавказского побережья наши корабли и заберут всех.
Иванов с тревогой смотрел на неподвижно лежащего Василя: ничего не слышит, с трудом выговаривает слова, едва может шевельнуть рукой… Врача бы… Но где тут медики? Однако надо попытаться.
— Лежи, я сейчас, — предупредил он Василя.
Пошел под кручей, вдоль кромки берега, у самой воды, присматриваясь к людям. Изможденные, черные от нещадного крымского солнца, многие в серых от пыли бинтах. Почти все с оружием, но уже бесполезным — стрелять нечем. Кто бродит, отыскивая товарищей, а кто просто сидит, глядя в пустынный сверкающий простор моря. А из-за края скалы посвистывают поверху, улетая куда-то в море, немецкие пули. Сколько немцам осталось досюда? Два километра? Километр? А может быть, и того меньше. Долго ли продержатся заслоны?
В тени между двумя выступами скалы, образующими подобие пещеры, Иванов заметил несколько раненых, лежащих тесно один к одному. Неподалеку пять-шесть армейцев ладили подобие плота. Ремнями, обмотками, бинтами они связывали несколько автомобильных камер и ящиков. Распоряжался этой работой высокий, лет тридцати пехотинец. Из-под его разодранной спереди, но аккуратно подпоясанной гимнастерки белел свежий, еще чистый бинт. «Старшина!» — приметил Иванов четыре треугольничка в петлице его воротника и направился к нему.
— Для раненых плот! Только для раненых! — увидев Иванова, сердито крикнул старшина.
— Так у меня раненый и есть…
— Мало ли! Всех на плот не забрать.
— Да он же едва живой!.. Сестра! Сестра! — окликнул Иванов девушку в синем берете и с медицинской сумкой на боку. — Помогите дружку моему, сестра!
— А где он?
— Недалеко.
Он привел ее к Василю. Тот лежал, закрыв глаза, пепельно-серое лицо его накрывала тень от скалы. Сестра положила ладонь на лоб Василю. Он даже не шевельнулся. Тогда она проверила его пульс:
— Контуженный? Тяжелая форма… Чем тут помочь?
Иванов взмолился:
— Хоть на плотик заберите!
— Не агитируй!
Она посмотрела вокруг и окликнула пожилого, дочерна заросшего солдата, который безучастно сидел, привалясь спиной к скале:
— Помоги, папаша!
Втроем они донесли Трынду до места, где строили плотик, и положили рядом с ранеными. Иванов остался тут же. Он хотел сделать все, чтобы Василь попал на этот плот непременно. Он взялся помогать тем, кто ладил плот. Но у них дело шло уже к концу: материала удалось собрать только на небольшой плотик.
День подвигался к вечеру. Звуки стрельбы приблизились, но слышались реже. Видимо, немцы считали, что прижатые к мысу Херсонес остатки севастопольского гарнизона все равно обречены.
Наконец стало тускнеть серебро воды. Тени от скал погустели, вытянулись. От горизонта по небу раскинулись легкие перистые облака, и солнце, все более наливаясь алым, медленно скатывалось к уже чуть затуманившейся грани между морем и небом. Вот оно коснулось этой грани, снизу обозначенной синим, и синее смешалось с алым. Еще секунда, две — и от солнца остался лишь золотисто-малиновый отсвет. И сразу море померкло, из серебряного стало сизо-стальным, с чуть приметным красноватым оттенком. Невысоко над водой пронесся «мессершмитт». Сейчас, в сумеречном свете, он показался совсем черным.
Стрельба за кручей в степи почти затихла. Спешить немцам некуда…
Ночная синева все больше скрадывала горизонт, заполняла его, расплывалась по всему морскому простору, еще недавно такому ясному и светлому, и сотни воспаленных глаз напряженно всматривались в этот простор. Сотни ушей пытались в монотонном шуме неторопливых волн уловить хоть какой-нибудь звук, говорящий, что приближаются корабли.
Иванов сидел возле Василя и ждал.
Совсем стемнело. Изредка из степи доносился орудийный выстрел или глуховатая дробь пулемета.
Хриплый звук, исторгшийся из уст Василя, заставил Иванова вздрогнуть. Вот опять, еле слышно. Просит пить!
Но где достать хотя бы каплю воды?
И вдруг мимо, прогремев сапогами по гальке, кто-то ринулся вниз.
— Корабли! — услышал Иванов. — Корабли!
Он вскочил и чуть не побежал к воде, куда, на ходу скидывая одежду и обувь, уже бежали люди. В синевато-серой полутьме проступало пять-шесть темных продолговатых силуэтов. «Морские охотники!»[17] — определил Иванов наметанным глазом.
Мимо к воде уже полз, скрежеща по гальке, плотик, облепленный толкавшими его людьми. Вот он уже сдвинут с берега, качнулся на первой волне, принявшей его на себя.
Тяжелораненых подхватили, чтобы положить на плотик. Распоряжался все тот же высокий старшина. Два солдата с забинтованными головами помогли Иванову втащить на плотик Трынду. Плотик тотчас же оттолкнули. Он ходко пошел, обгоняя плывущих людей.
По камням, по воде, поплескивающей меж ними, пробежал летучий отсвет. Из-за вершины скалы в сторону моря выметывались, мгновенно угасая, длинные искры. Немцы бьют трассирующими. Бьют по кораблям. Успеют ли те уйти?
Зловещие искры погасли. Это немного успокоило Иванова. Но другое скребнуло по сердцу: «Эх, Василь, дружок! За войну ни разу еще не разлучались. Бельбек, Мекензиевы горы, Северная сторона — всегда рядом. Один котелок и одна плащ-палатка были на двоих, и риск в бою один… Увидимся ли когда?..»
Опустевший плотик шел уже обратно. Его гнал, стоя на одном колене и выгребая обломком доски, все тот же старшина. Ему помогал какой-то матрос, на котором не было ничего, кроме трусов и клочьев тельняшки.
Обгоняя других, Иванов вбежал в воду, чтобы помочь подтянуть плотик.
К плотику с берега ринулись люди.
— Только раненые! — закричал старшина, заглушая все голоса.
Еще несколько тяжелораненых уложено на шаткий, от первого же рейса разболтавшийся плотик. Он снова отвалил.
К маячившим в отдалении «охотникам» плыли многие. Иванов, зашвырнув в воду бесполезные теперь автоматы, свой и Трынды, и оставив на берегу ботинки, тоже поплыл. Повсюду вокруг, на мутно-синеватой поверхности ночной воды, чернели головы и кто-то один кричал надсадно:
— Браты, не оставьте! Браты, не оставьте!
И, как бы отвечая этому наполненному отчаянием голосу, другой голос, похоже было — с катера, приказывал:
— В первую очередь раненых! Раненых сначала!
Вот уже виден ближайший из «морских охотников». Вокруг него на темной, медленно колеблемой воде полно голов — обнаженных, в бескозырках, в пилотках; чем ближе к «охотнику», тем голов больше. Под бортом катера — плотик. С него все раненые уже сняты. А к «охотнику» плывут люди — еще и еще…
Сделав несколько сильных бросков, Иванов почти доплыл, осталось метров пять… С катера тот же голос крикнул:
— От борта! Корабль перегружен!
Но люди продолжали подплывать, пытались вскарабкаться на «охотник». Иванов теперь, вблизи, хорошо видел: будь волна чуть посильнее — захлестнет палубу, на которой из-за массы людей не видно уже ни надстроек, ни пушек. Даже к борту, пожалуй, не подплыть — под ним вплотную головы, головы, руки, тянущиеся вверх.
— От борта! От борта! — снова прокричали с «охотника». — Отходим!
Глухо взревели моторы в утробе корабля. Волна, подымаемая им, качнула головы, во множестве темневшие возле борта. Добежала до Иванова, мягко толкнула его в грудь. Кто-то рядом с ним кричал:
— Не оставляйте! Как вы можете!
Но Иванов молчал. Он-то понимал: взять еще кого- либо на корабль невозможно.
«Морской охотник» удалялся медленно, как бы нехотя. Вот его неясные очертания совсем потерялись в ночной мгле. Не видны были и другие катера — загруженные людьми до предела, ушли и они.
Иванов повернул к плотику, качавшемуся там, где только что стоял «морской охотник». Продержаться! Продержаться, пока подойдут еще корабли!
Когда он подплыл ближе, то увидел: плотик облеплен людьми, его уже и не видать, а люди подплывают к нему еще и еще…
Иванов решил: «Обратно к берегу!»
Он выбрался на берег в том же месте, откуда отплывал — между двух больших острых камней, возле которых спускали плот. Сразу бросились в глаза два темных пятна на белой гальке: «Да это ж мои ботинки!»
Когда нагнулся к ботинкам, по гальке пробежал голубоватый отсвет, гоня косые тени. Немецкая ракета!
Ракеты, летевшие откуда-то из степи, падали все чаще и ближе, почти достигая обрыва. Их шаткий свет то и дело возникал за верхним краем кручи, и тогда длинные резкие тени бежали к воде, покрывая собою тех, кому не удалось уйти с «охотниками». Но ракеты гасли — и тени, словно вжимаясь, бежали обратно к обрыву и снова сдвигалась ночь.
Иванов бродил под обрывом, присоединяясь то к одной группке людей, то к другой, прислушивался к разговорам. Одни решали ждать кораблей. Другие сговаривались пробираться, пока темно, через степь в горы, к партизанам. А некоторые, уже отчаявшись, решали: порвать свои документы, чтоб не воспользовался враг, или спрятать в камнях в надежде на лучшее.
От скал, за день накаленных солнцем, веяло теплом, но все же Иванова немножко знобило. Хотя он и выжал промокшую одежду, однако она еще не высохла и неприятно холодила тело. Только сейчас вспомнил: в последний раз ели на рассвете. Банку тушенки докончили, которую с Василем на двоих получили еще в Инкермане. Сейчас бы такую баночку…
Медленно бредя под обрывом, в тени которого тревожно копошились люди, Иванов приметил впереди двоих, идущих вдоль берега. По высокой фигуре одного узнал: тот самый старшина, который отправкой раненых на плотике распоряжался. А рядом? Девушка в берете, с толстой санитарной сумкой на боку. «Конечно, та медсестра… Что ж она сама-то на „охотнике“ не ушла? Девушку уж взяли бы, тем более раненых кому-то надо сопровождать».
Он заторопился: догнать! Старшина обернулся на звук шагов:
— Помощничек! Куда путь держишь?
— Да не знаю… — откровенно признался Иванов.
— А мы с Машей решили на Балаклаву. Оттуда в горы близко. А там — партизаны.
— Примите и меня…
— Давай, матрос! — охотно согласился старшина. — Втроем веселее.
По мере того как они уходили дальше, держась в тени береговой кручи, им все меньше встречалось людей. Иванов, старшина и Маша шли сейчас от мыса Херсонес на юг, а большинство отступающих из Севастополя собралось севернее мыса, где есть бухты, удобные для захода кораблей. Южнее мыса — береговая линия ровная, удобных подходов с моря нет. На эту часть берега немцы сейчас, пожалуй, меньше всего обращают внимание. Значит, и опасностей на пути можно ожидать меньше.
Вот уже и совсем безлюдно под обрывом… Только кое- где на светлой прибрежной гальке в ночной полутьме можно заметить противогаз, сброшенную гимнастерку или матросскую робу.
Ступали осторожно, оберегаясь, чтобы не прошуршал, не стукнул под ногой ни один камешек.
Голубоватый металлический свет бесшумно упал, резко обозначил тень обрыва, он быстро укорачивал ее, словно вдавливал тень в прибрежную гальку. Вслед за старшиной и Машей Иванов метнулся к скале, прижался к ноздреватому, еще теплому камню. Поверху, в черно-синем небе осыпались, тая, голубые искры. От кручи к воде, сгущаясь и вытягиваясь, бежали, возвращаясь, вспугнутые ракетой тени.
Теперь они ступали еще осторожнее. Море им помогало: вечно неугомонное, оно и в эту тихую, безветренную ночь гнало к берегу невысокие, почти неприметные в темноте волны. Но и эти маленькие волны, набегая на прибрежный песок и шелестя по нему, скрадывали звук шагов по гремучей гальке.
Прошли, наверное, с километр и остановились: шагах в пятидесяти впереди, около воды — большое черное пятно, очень приметное на беловатом галечнике. Нет, это не глыба камня. Как будто что-то пошевеливается…
Старшина предостерегающе махнул рукой.
Все спрятались за большой, косо торчащий из галечника обломок скалы.
Напрягая зрение, Иванов вглядывался: что там шевелится?
Пошли! — негромко позвал старшина и шагнул из- за камня.
То, что издали представлялось темным пятном, оказалось лежащим на боку грузовиком-полуторкой. Наверное, водитель, чтобы машина не досталась врагу, пустил ее с обрыва.
Когда до грузовика осталось несколько шагов, из-за его покореженного корпуса вышли два солдата. Их лица скрадывала тьма, но можно было понять — один постарше, а второй, тонкий, невысокого росточка, совсем юн. Один из них, тот, что постарше, сказал смущенно хрипловатым, прокуренным баском:
— Мы вас за немцев посчитали. Везде они тут. — Солдат говорил опасливо, вполголоса. — Вот только над нами, поверху, вроде еще нету…
Солдат, видать, был не скуп на слова, и старшина нетерпеливо перебил его:
— Мы — к Балаклаве. Пойдете с нами?
— Не ходите! — сказал, после секундной заминки, солдат. — Тут матросы, тоже двое, шли, а по ним из пулемета… Обоих наповал.
— Так… — протянул старшина. — Далеко это?
— С километр отсюда… — Солдат показал вдоль берега. — За поворотом, где мысок.
Тусклый, беловатый с синью отсвет, побежавший по галечнику, заставил всех спрятаться за грузовик. Немецкая ракета опускалась там, где только что прошли Иванов, старшина и Маша. И, словно отвечая этой ракете, взлетела такая же, вея синеватым стылым светом, в той стороне, куда только что показывал солдат.
Ракеты погасли. Снова стало темно. Где-то далеко-далеко глухо простучал и замолк пулемет.
Все сидели в молчаливом раздумье. С трех сторон враг, с четвертой — море. К Балаклаве не пройти. Станет светло — и под обрывом вряд ли удастся утаиться. Без оружия не навоюешь. Одно остается — плыть, с надеждой, что в море подберет какой-нибудь свой корабль.
Старшина потрогал кузов автомашины.
— Если снять… Вроде плота получится.
— Мы уж пытались с Петей. — Пожилой солдат показал на своего молчаливого товарища. — Кузов поколотый, да должон держаться. Вот винты все открутить не можем.
— Попробуем… — Старшина поднялся. — Только бы фрицы нас не засекли. Ты, Маша, — сказал он девушке, — сядь в сторонке, поглядывай — предупредишь, в случае чего.
Принялись за дело. Старались действовать без шума.
Сброшенная с обрыва полуторка лежала с измятой кабиной и сплющенным капотом, с изогнутой рамой шасси. Деревянный кузов, на котором четко белели в темноте продольные трещины, упирался бортом в песок. От удара несколько винтов, крепящих кузов к раме, выдрало. Но на остальных он еще держался.
Еще раньше пожилой солдат — его фамилия Васюков — разыскал в кабине шоферский инструмент. Орудуя гаечными ключами, он с Петей сумел отвернуть несколько гаек. Оставшиеся никак не поддавались.
Но то, что трудно для двоих, вдвое легче для четверых. После долгих хлопот удалось отделить деревянный кузов от железного скелета машины. Еще раз, насколько позволяла темнота, обследовали кузов. Во многих местах доски были расколоты и держались на железных скрепах шатко. Если подымется волна… Но небо — ясное, звездное — не предвещает дурной погоды.
Осмотрели колеса. Из двух удалось вынуть камеры и накачать. Их, а также найденную неподалеку бочку из- под горючего кое-как прикрутили к бортам — для лучшей плавучести.
Позвали Машу. Впятером стали потихоньку стаскивать кузов к воде. Его днище заскрежетало по галечнику.
Вода впереди, только что бывшая темной, сверкнула белым металлическим блеском. Опять ракета? Все, не сговариваясь, припали к земле.
Снова сомкнулась тьма.
— Потихоньку, ползком! — шепнул старшина. — Толково!
Прохладная волна обдала ноги. Качнуло кузов.
— Слава те господи! — вздохнул Васюков. — Теперь поедем.
Кузов колыхался на воде, новая волна, набежав, несильно, со звонким плеском, ударила в доски. Всем было уже по пояс. Иванов слышал, как старшина, толкающий кузов с другого борта, — вместе с ним там была и Маша — сказал ей вполголоса:
— Залазь в середину!
— Там же все равно вода, — возразила Маша. — Лучше я возле тебя буду…
Она сказала ему что-то еще, но так тихо, что Иванов не разобрал слов. Но понял: эти слова Маши предназначены одному старшине, есть между ними то, что касается единственно их двоих.
Так же тихо старшина ответил ей. И когда она что-то возразила ему, он уже громко и сердито повторил:
— Лезь! Вода не вода, а все же твердое под ногами. — И, обращаясь уже ко всем, скомандовал негромко: — Поплыли! Главное — отвести от берега.
Иванов ухватился одной рукой за верхний край кузова и начал энергично выгребать другой.
— Плывем! Ну, Черное, не выдай!
В ОПАСНОЙ БЛИЗОСТИ
Все плыли, держась за край кузова. Только Маша сидела, вернее, лежала в нем — лишь ее голова в туго натянутом берете, из-под которого торчали короткие темные пряди, виднелась над расщепленным краем борта. Маша смотрела в воду, туда, где плыл старшина. Иванову он не был виден, но голос его был слышен хорошо.
— Давай, давай! — торопил старшина.
Внимая его приказу, Иванов старательно выгребал свободной рукой.
Еле приметный, размазанный свет скользнул по глянцевитой волне перед самым лицом. И в тот же миг — еще, еще.
Трассирующие пули летели так низко, что отсвечивали на изгибах спокойных волн. Сзади, со стороны берега, донеслась пулеметная очередь.
Желтоватые огни проплясали над головами, унеслись куда-то в темное море.
И только когда вновь установилась тишина и стал слышен лишь плеск волн да позади, у конца кузова, сопенье Васюкова — видать, не очень искусного пловца, — Иванов уловил какой-то сдавленный звук.
Он не сразу понял, что это — Маша.
Подтянувшись на руке к борту, позвал:
— Маша!
Но девушка не отвечала.
— Маша! — окликнул он вновь.
Но и на этот раз она не отозвалась. На фоне звездного неба, у противоположного Иванову борта кузова был виден ее затылок, прикрытый плотно надвинутым беретом, узкие плечи, обтянутые намокшей гимнастеркой.
Подстегнутый тревожной догадкой, Иванов оттолкнулся от борта, проплыл мимо Васюкова назад, огибая кузов. Волна с нахлеста ударила в щеку.
Позади кузова, держась обеими руками за него, старательно колотил воду ногами Петя. Видно было — парень совсем не умеет плавать. Мокрые волосы облепили его лоб. Жмурясь, Петя отплевывался, шумно фыркая.
— Не брызгай, пехота! — крикнул ему Иванов.
Заплыв на левую сторону кузова, он не нашел там старшины. Только прокатывались, чуть пошлепывая в доски, медлительные волны. Неужто одного из всех нашла старшину фашистская пуля?
Над краем борта Иванов увидел склоненное лицо Маши. Она, словно оцепенев, смотрела вниз, в воду. Хотя стояла безлунная ночь, но волны еле приметно отсвечивали, и в этих едва уловимых отсветах можно было заметить влажный отблеск на ее лице. Слезы или брызги волн?
Каким-то новым для него чутьем Иванов понял, что говорить сейчас ничего нельзя, что Маше будет от этого только больнее…
— Давайте в кузов! — крикнул Иванов Васюкову и Пете и, подождав, пока оба заберутся туда, последовал за ними.
— А где ж старшина? — удивился Петя.
— Не понимаешь? — с упреком ответил Иванов вполголоса.
— Эх, был человек, и нет человека… — заговорил Васюков. — А человек был стоящий…
Приблизив лицо к лицу Васюкова, Иванов кивком показал в сторону Маши. Васюков без слов понял его, замолчал.
Молчали все. Но в эту минуту каждый по-своему думал о старшине.
Четыре человека в разбитом кузове полуторки, плывущие в ночном море… Кузов основательно осел, хотя его и поддерживали и не дали бы потонуть две туго накачанные автомобильные камеры и бочка. Край борта теперь возвышался над водой не больше, чем на ладонь. То и дело какая-нибудь волна из тех, что порезвей, перехлестывала через него. Впрочем, в кузове и без того было полно воды — она в первые же минуты набралась через многочисленные трещины в досках и отчерпывать ее было бы бессмысленно.
Новая беда — холод, хотя и тепла черноморская вода в июле. Босые ноги стыли — приходилось постоянно шевелить ими. Особенно скверно чувствовал себя Васюков, его била крупная дрожь. Видать, не по возрасту ему было это ночное купание.
Но раньше него не выдержал Петя:
— Околеешь тут! Сколько можно в воде! Зря мы…
— Эх ты, пехота! — бросил Пете Иванов.
— Что — пехота? — вмешался Васюков. — Она не хуже тебя воевала! — И обернулся к Пете — А ты терпи, как бойцу положено!
— Да я терпел бы, Харитон Матвеич, если б на сухом…
— Терпи и тут. Найдут нас свои.
— Да где они? Бултыхаться нам здесь, пока не потопнем…
— Хватит тебе! — Васюков снизил голос до шепота. — Девушки постыдись.
Они пытались стоять в кузове, чтобы не быть все время в воде, но едва начинали подыматься, как кузов тотчас же погружался, уходя вглубь.
Единственная доска плавала в кузове, постукивая о борта. Еще на берегу ее забросил туда старшина. Иванов положил доску на угол кузова, предложил Маше:
— Садись. Все посуше.
Маша молча села. По-прежнему, чуть сгорбившись, стала смотреть вниз, в темную колыхающуюся воду.
Сколько минуло после того, как они покинули берег? Час, два, три?.. Вокруг пустынное ночное море. Ни огонька, ни звука. Только монотонный шелест волн да мерцание далеких звезд на сине-черном небе. Поглядывая на звезды, Иванов пытался определить: «Каким курсом нас несет? Туда бы, где наши корабли ходят…»
Понемногу светлело. Бледнее, расплывчатее делались звезды, приметно белел дальний край неба — коротка летняя ночь. Теперь, когда довольно ясно обозначился восток, Иванов уже точно определил: их уносит на юг, в просторы моря. Все дальше от врага. Но ближе ли к своим?
Поднявшийся перед рассветом легкий ветерок утих, волны, и без того небольшие, становились все меньше, меньше… И вот уже только чуть приметная рябь морщинит воду. Штиль…
С каждой минутой, по мере того как наливался светом восточный край неба, вода меняла свою окраску. Из синевато-серой сделалась матово-стальной. Потом на нее пал розоватый отсвет. И вдруг она заиграла золотистыми блестками — из-за горизонта выглянуло солнце. Оно подымалось быстро, сгоняя с поверхности воды последние ночные тени. И вот уже все море, от края и до края, засверкало. День…
Иванову показалось, что вода, в которой он сидел почти по пояс, сразу потеплела, как только показалось солнце. Он порядком продрог: шутка ли — провести в воде половину ночи, хотя бы и ночи короткой, летней.
Не меньше продрогли и остальные. Совсем посинел худенький Петя. Согнулся от холода терпеливый Васюков. Подрагивала зябко Маша.
«Поглядеть вокруг, теперь далеко видно…» Иванов привстал. Но едва поднялся, как кузов, почти полный воды, пошел вниз. Но и за немногие секунды, пока Иванов стоял во весь рост, он успел увидеть: со всех сторон — беспредельная гладь. Никаких признаков берега. Пустынна поверхность воды — только мириады слепящих солнечных «зайчиков» пасутся на ней.
Щурясь, он продолжал всматриваться.
Вечером от херсонесского берега многие пускались в море кто на чем. Еще раньше кое-кому удалось уйти из окраинных севастопольских бухт на немногих уцелевших катерах, баркасах, шлюпках. Где теперь все это?
…Солнце уже совсем высоко. Ни облачка. Ни дуновенья ветерка. Пересохли губы. «Эх, попить бы…» Невольно глянул вниз: возле груди плещется вода. Сколько угодно воды. Изумительно прозрачной. Прохладной. Только нагнись. Да в рот ее не возьмешь.
Издалека донесся тонкий, надрывно-ноющий звук. Он нарастал. С противоположной солнцу стороны в голубой пустоте неба невысоко над водой мелькнула черная точка. Она быстро росла, превращаясь в горизонтальную черточку. Самолет! Свой или немецкий? Если свой — посигналить ему…
— Немец! — во все горло гаркнул Иванов. — Ложись! — и припал головой к краю борта. Но увидел: Маша осталась на своей доске-поперечине, сидит безучастно, как сидела.
— Ты что?! — схватил он ее за руку. — Жить надоело?
Маша соскользнула с доски, глянула на него удивленно и, как показалось, даже гневно.
Вой самолета нарастал. Иванов глянул вверх: «мессер»!
Немецкий истребитель пролетел над ними совсем невысоко, почти на бреющем. Вой его мотора затихал. Разворачивается, возвращается, чтоб обстрелять? Нет… Ушел.
— Наше счастье! — повеселел Иванов. — Немец нас за покойников принял!
Никто не отозвался на его шутку.
Звук мотора «мессершмитта» совсем потерялся вдали. И снова тишина. Только равномерные всплески крохотных ленивых волн…
— Не бойсь, теперь не прилетит! — шутливо толкнул Иванов в бок Петю, который все еще опасливо глядел вслед исчезнувшему «мессеру».
Но сам Иванов не совсем был убежден в том, в чем хотел убедить Петю.
То, что немецкие самолеты, которых совсем не было слышно с утра, вновь появились, было тревожным признаком. Вряд ли немцы сегодня летают от берега дальше, чем вчера. А вот не ближе ли берег теперь, чем на рассвете? Может быть, плывущий кузов попал в одно из течений, которых так много в море, и оно влечет его обратно? Может быть, ветер втихомолку сыграл злую шутку… А что это за пятно на горизонте, в стороне, противоположной солнцу, — серое, расплывчатое?.. Что-то горит? Какой-нибудь наш корабль? Или дымят севастопольские пожары? Значит, берег стал ближе?
Где-то в стороне опять провыл самолет. Не разглядеть — летит со стороны солнца. Ушел…
Нет, не ушел! Нарастает зловещий, с перезвоном, вой.
Снова все прижались к бортам, опустились в воду до плеч. Но вода не броня…
В слепящем полуденном небе Иванов взглядом пытался поймать летящего врага. Пикирует? От сердца отлегло: пролетел. Наверное, и этот немец не рассмотрел, что в кузове люди.
Продержаться бы незамеченным до ночи. Она укроет. Ну, а дальше? Противник, наверное, уже по всему побережью вышел к морю. Значит, корабли не придут.
Странное состояние испытывал Иванов, наверно, такое же, как и остальные. Оттого, что он уже много часов находился в воде, все тело наполнялось ознобом. Но люто палящее солнце и невозможность хотя бы единым глотком освежить давно пересохшее горло наполняли голову сухим звоном. Хотелось и вылезти из воды, и оставаться в ней…
Он поглядел на Петю, понуро сидящего рядом. Не привык парень к морской воде. Закрыл глаза. На лице — ни кровинки. Видно, и свет ему не мил. Васюкову тоже не легче, хотя виду не подает. Маша приникла к доске, положив голову в туго натянутом берете на согнутую руку, полуприкрыты глаза, лицо не то что спокойное, а какое-то окаменевшее. Словно не чувствует, не видит она ничего — ни жары, ни того, что вода колышется вокруг ее босых ног. С той минуты, как погиб старшина, кажется, и губ не разомкнула. Да и остальные молчат. Понятно. На то, чтобы выговорить слово, силы надо. Однако молчать — еще тягостнее.
Иванов решил подбодрить товарищей.
— Считайте, друзья, нам повезло, — начал он, с трудом ворочая языком в пересохшем рту. — Фрицы списанными нас считают, а мы живы. До ночи в дрейфе пробудем, а стемнеет — парус сладим. И возьмем курс на Сочи. Курорт мировой. Ты, Петя, в Сочи бывал?
— Нет, — буркнул Петя.
— А ты, Васюков?
— Не ездили мы по Сочам.
— Эх, городок — райский! — Иванов уже вошел в роль. — Пальмы! Шашлычные! Пляж! А народу на нем, как на танцплощадке. В море войдешь, обратно — некуда. Вот так и сиди в воде, как мы сейчас.
— Врешь ведь! — улыбнулся Петя.
— Попробуй докажи, что вру! — Иванов пристально посмотрел на Петю. — Я лично наблюдал. Которые нерасторопные — факт, из моря на пляж не выберутся. Так и ждут, пока публика поразойдется.
— Лих ты травить![18] — вдруг вмешалась Маша.
«Заговорила! — обрадовался Иванов. — Первый раз за все время заговорила!»
— Откуда знаешь, что травлю?
— Да я сама сочинская.
— Вот здорово! На бережок ступим — сразу к тебе в гости!..
— Лодка! — вдруг оглушительно прокричал Петя.
— Это у вас в деревне лодки, а на море — шлюпки! — не удержался Иванов, чтобы не поправить. — Где видишь?
В той стороне, где высоко в небе стояло солнце, едва различалось на воде, в буйстве сверкающих бликов, темное пятнышко. Иванов присмотрелся: действительно, что-то плывет.
Сорвав с головы бескозырку, Иванов просигналил. С неизвестного суденышка не ответил никто. Нахлобучив бескозырку потуже, Иванов перемахнул через борт кузова.
— Куда ты, парень? — хриплым баском крикнул Васюков.
— Ждите! Пригоню!
То ли от усталости, то ли от волнения Иванову казалось, что плывет он невыносимо медленно, что проплыть предстоит не две сотни метров, как показалось вначале, а добрый километр.
Разозлился на себя: «Да я ж на заплывах первые места брал!» Сильнее заработал руками, но сразу же почувствовал, что выдыхается. Пришлось сбавить темп.
Но вот уже близок — то приподнимется над волной, то закроется ею — невысокий дощатый борт, окрашенный в зеленоватую краску, белые цифры возле носа. Не шлюпка это — небольшой, с наращенными у кормы бортами барказ[19]. Таких немало шмыгало в севастопольских бухтах. Наверное, один из тех, на которых вчера уходили от немцев в море. Но почему на нем никого нет?
До барказа осталось метров пять. Теперь уже отчетливо видно: сидит глубоко. Не будь сейчас штиль — давно захлестнуло бы.
Барказ медленно разворачивало с кормы на борт, и теперь его можно было хорошо разглядеть, особенно когда очередная волна легонько приподымала его. Он влажно поблескивал бортом на солнце, кое-где на досках обшивки из-под зеленой краски белели полоски свежего дерева, словно поклевано. Осколками или пулями?
Еще бросок, еще…
Уже под бортом. Ухватился за него:
— Эй, на барказе!
Только всплеск волны ответом.
Подтянувшись на руках, заглянул в барказ. Дно залито водой. На нем возле мотора, в корме, матросская тельняшка. Нет, не просто тельняшка — спина! Человек лежит ничком.
Рывком перевалил через борт. Барказ на миг чуть накренился. Хлюпая босыми ногами по воде, поспешил к лежавшему.
Нагнувшись, взял за плечи, повернул лицом вверх… «Одногодок мне, наверное… Года двадцать три, не больше…» Только сейчас Иванов заметил, что тельняшка порвана на боку и под нею белеет бинт с расплывчатыми бурыми пятнами. Вода не смыла крови. Убит… Впрочем, Иванов понял это сразу же.
«Наверное, с самолета обстреляли…» Иванов огляделся. Были ли на барказе еще люди? Что стало с ними? Может быть, бросились в воду, чтобы отплыть, спастись от обстрела, и не спаслись?
Воды на дне примерно по щиколотку. Иванов обратил внимание, что несколько пробоин аккуратно заделаны изнутри клочьями синей матросской фланелевки, обрывки ее лежат на днище. Там же приметил нож-штык от самозарядной винтовки, без ножен, набухшую от воды бескозырку с надписью «Черноморский флот», карабин с оборванным ремнем и дубовый, с овальными донцами бочонок — шлюпочный анкерок для питьевой воды. Не утерпел, схватился за него. В анкерке бултыхнуло. Есть вода! Присел на корточки, дернул пробку, приподнял анкерок. Глоток, другой… Вода! Вода — хоть и теплая, нагретая солнцем, в другое время не взял бы и в рот такую, — она показалась изумительно вкусной, пресная вода, которую можно пить…
Но где-то на втором или третьем глотке спохватился: «А Маше, Васюкову, Пете?» Нестерпимо хотелось глотнуть еще, но заставил себя оторваться. Бережно ввернув пробку, поставил анкерок на прежнее место.
Поискав взглядом среди зеркально сверкающих волн, нашел кузов — тот был едва заметен над водой. Было видно: Петя и Васюков орудуют доской, пытаясь подогнать кузов к барказу, а Маша размахивает беретом, что-то кричит.
Быстро еще раз пробежал глазами по барказу. Пара весел, принайтовленных[20] изнутри вдоль бортов, мотор на корме… Исправен ли? Есть ли горючее?
Помахав бескозыркой друзьям, вытащил весла, вставил их в уключины и погнал барказ навстречу кузову.
Когда кузов и барказ поравнялись бортами, Маша сразу же схватилась за свою сумку:
— Здесь раненый?
— Убитый… — пояснил Иванов.
Все помолчали. Каждый из них мог бы сейчас лежать в воде вот так…
Первым нарушил молчание Васюков:
— И схоронить негде…
— По морскому обычаю похороним, — откликнулся Иванов. — Только попейте сперва.
— Есть вода? — встрепенулись все. — Где?!
— Вот! — Иванов хлопнул ладонью по округлому боку анкерка.
Все перебрались на барказ. Утолили жажду. Анкерок с остатками воды был отдан на сохранение Маше. В корме нашелся свернутый кусок замасленного брезента, которым, наверное, накрывали мотор во время стоянок. Брезентом обернули, насколько хватило, тело погибшего моряка. Перед этим Иванов осмотрел карманы брюк погибшего в надежде обнаружить какие-либо документы. Но отыскал только самодельную зажигалку из винтовочного патрона да промокший пустой кисет, на котором голубым по коричневому было вышито «Оксана» и рядом — цветочек.
Всех огорчило отсутствие груза, который можно было бы привязать, как полагается, к ногам умершего. Без груза тело будут носить волны, и не будет ему покоя…
Но тут Васюков предложил, показав на кузов, который еще болтался на волне возле борта барказа:
— А положим этого бедолагу сюда. Вроде гроба ему послужит…
Надели на умершего намокшую бескозырку, найденную в барказе, переложили тело в кузов. Иванов оттолкнул кузов и обнажил голову. Сняли пилотки Васюков, Петя, сняла и Маша свой берет.
Прощай, неизвестный товарищ… Прости — не смогли схоронить тебя по морскому закону, чтобы глубины стали твоей могилой. Может быть, повстречается твоя плавучая гробница с каким-нибудь нашим кораблем, и тогда будет исполнен перед тобой последний долг, как положено его исполнить. А пока — пусть плещут вокруг тебя волны родного Черного моря, пусть омывает тебя его прозрачная вода. И пусть светит тебе в последний раз жаркое наше солнце…
Кузов некоторое время плыл рядом с барказом, словно не хотел отставать, потом волна стала относить его.
По всем признакам берег был недалеко — снова несколько раз слышался в стороне зловещий, с подвывом, гул авиационных моторов. Не было сомнения — летают немцы.
Самым главным сейчас было — уйти подальше в открытое море. Иванов, которого после гибели старшины все признавали как бы за командира, посадил на весла Петю и Васюкова, приказав держать наперерез волнам, катящим к еще не видному берегу. Маше поручил следить за воздухом, а сам присел к мотору: «Может, запущу?»
Хотя был он по специальности не моторист, но приходилось, когда на бронекатере служил, и с моторами дело иметь. Не то чтобы по обязанности, а так, интересовался, во время ремонта Мансуру помогал. На бронекатере моторы — звери, не то что эта кроха на барказе. Что здесь? Двухцилиндровая десятисилка, работает на соляре. Был бы здесь Мансур… Ему любой мотор — раз плюнуть. Да что ж… Придется без Мансура. Матросская смекалка поможет.
Он довольно быстро определил, что мотор исправен, только один проводок, ведущий от магнето к головке цилиндра, перебит пулей. Устранить повреждение не составляло труда. Горючее в баке имелось. Вдобавок в корме стояла непочатая канистра.
Вскоре после того как Иванов занялся мотором, тот фыркнул, фукнул из-под кормы в воду голубым дымком и бойко затутукал. Иванов скомандовал:
— Убрать весла!
Оставляя за кормой пенный след, барказ, чуть подскакивая носом на встречной волне, резво пошел вперед.
Планы Иванова были просты — уйти как можно дальше от берега, туда, куда уже не залетают немецкие самолеты. Если бы хватило горючего — напрямую, серединой моря, дойти до Кавказского побережья…
Похоже, счастье улыбнулось им. Есть на чем плыть, есть чем утолить жажду. Правда, воды мало. Передавая анкерок Маше, Иванов строго наказал ей: «До вечера — никому! И мне не давай, если потребую».
Только так, лишь жесткая экономия — бесценно дорогим может стать глоток, даже капля воды, если плавание затянется.
Иванов прикинул: при условии, что все пойдет благополучно и хватит солярки, потребуется около суток, чтобы дойти до восточного берега. Это если будет строго выдержан курс. Но на барказе нет даже компаса. Определяться придется на глаз — по солнцу, по звездам. Не мудрено и сбиться с курса… Да и с харчем худо. Возле мотора обнаружен тощий вещевой мешок. Наверное, на барказе был и кто-то из пехотинцев. В мешке, в паре запасных чистых портянок, несколько ржаных сухарей. Но мешок лежал на дне, сухари размокли в воде, набежавшей из пробоин, превратились в соленую хлебную кашицу. Маша выложила эту кашицу на солнышко подсушить. Иванов позволил взять по щепотке, но лучше бы не брать: голод не утолили, а пить от соленого захотели люто, пришлось разрешить еще по глотку из анкерка…
Звук летящего самолета прервал размышления. Иванов мгновенно застопорил мотор, успев крикнуть:
— Ложись!
Бросился между Петей и Васюковым к доскам борта, пахнущим влажным разогретым деревом и масляной краской. В уши ударил резкий свист воздуха, разрезаемого крыльями, и рассыпной грохот пулеметной очереди. Где-то возле борта пронзительно взвизгнула пуля. Стук пулемета прекратился и сразу же вверху взревел мотор, звук его стремительно удалялся. Но через несколько секунд самолет появился уже с другой стороны. Теперь Иванову было видно — «мессершмитт» делает новый заход на барказ. Немецкий летчик не выключил мотора, как сделал это в первый раз, чтобы погасить скорость и получше рассмотреть обнаруженное им суденышко. Неужели заметил, что в барказе — живые? Тогда не успокоится…
Описывая широкий круг, «мессершмитт» приближался. Надсадный вой его мотора заставлял сжиматься всем телом.
Чем защититься? Иванов увидел: Васюков приподымается, берет наизготовку карабин…
— Лежи! — крикнул ему Иванов. — Лежи! Не обнаруживайся!
Но Васюков не лег, а с колена целился вверх…
Сорвав с себя подсохшую фланелевку, Иванов плеснул в нее из канистры соляркой, поддел фланелевку концом весла, вынес за борт, чиркнул зажигалкой. Повалил дым. Он бросил на пламя пустой, еще влажный вещмешок — тот, в котором были найдены сухари. Дым повалил гуще.
А «мессершмитт» тем временем снова пронесся над барказом, прогремела пулеметная очередь…
«Мессершмитт» сделал еще один заход. Он пролетел совсем низко, но уже не стрелял. Очевидно, летчик, увидев дым, решил, что поджег барказ и больше тратить патронов не захотел.
— Отбой! — Иванов встал.
Поднялись Маша, Петя. Васюков аккуратно поставил карабин на предохранитель.
Подождав, пока совсем затих звук улетающего «мессершмитта», Иванов, шевельнув веслом, сбросил в воду чадящие обгорелые тряпки: дым, при виде которого пилот «мессершмитта» потерял интерес к барказу, теперь мог привлечь внимание других немецких летчиков.
Сдвинул бескозырку на затылок:
— Считайте, друзья, нам крупно повезло! Два налета и ни одной пробоины. Фриц этот еще без квалификации. Не успевает Гитлер кадры готовить, шибко много мы у него их перещелкали. Ты, товарищ Васюков, сколько посшибал?
— Не считал, — ответил Васюков шуткой на шутку.
— Ну, а теперь — курс зюйд, вперед до полного! — скомандовал Иванов сам себе.
Заработал мотор. Барказ, только что безвольно подставлявший борта ленивым волнам, теперь снова резал их, чуть подскакивая. На юг, на юг, пока только на юг, дальше от берега. А потом повернуть к побережью Кавказа.
ГДЕ НЕ ЛЕТАЮТ ПТИЦЫ
Солнце уже перевалило далеко за полдень, когда Иванов переложил руль влево. Теперь солнце было почти за спиной, барказ шел на восток.
Равномерно постукивал мотор, всплескивала, шелестела волна под бортом, негромко шумел бурунчик за кормой. Мотор не ахти какой сильный, барказ двигался медленно, но все-таки шел, шел к далекой, родной, свободной от врага земле.
Опустилось за кормой за дальний край подернутого прозрачной дымкой горизонта солнце. И сразу повеяло вечерней прохладой. Менее мучительной стала жажда. Зато сильно давал себя знать голод.
Море по-прежнему было спокойным. Чуть ощутимый ветерок, оживший после захода солнца, катил еле приметные волны. Стало зябко. Маша съежилась в носовой части барказа, на рундучке. Возле нее, присев на днище, прикорнул и Петя, прижав спину к внутренней стороне борта. Нахлобучив пилотку потуже до самых ушей, охватив руками колени, рядом с ним пристроился Васюков. Только Иванов по-прежнему сидел на корме, держа штурвал и следя за работой мотора.
На небе то тут, то там проступали звезды. После захода солнца только они могли служить ориентирами. Иванов посматривал на них, сверяя курс, но все время ловил себя на том, что глаза закрываются. Протянул руку за борт, окунул ладонь, смочил лоб. Может, станет полегче…
Вторая ночь в море, и снова без сна. Почти не довелось поспать и в прошлую ночь. Вдвоем с Василем держали позицию в Инкермане, высоко на скале, в полуобрушенной пещерке, где в старину была одна из монашеских келий. Внизу, в долине, в густой тьме, искры трассирующих пуль пролетали откуда-то наискось. Всматривались с Василем: не обошел ли немец? В той пещерке они только вдвоем… Василь, Василь, что с тобой сейчас?..
Как ни боролся с усталостью, она все более властно давила на веки. Надо хоть немножко поспать. Но кто сменит у штурвала? Самый надежный — Васюков. Да жаль старика. Пусть подремлет.
Позвал Петю. Посадил его на свое место, предупредил:
— Если мотор забарахлит — сразу дай знать!
Поучил минутку, как управляться со штурвалом, показал:
— Видишь вон ту звезду? На нее и держи. Не потеряй.
— Куда она денется! — ответил Петя. — С неба свалится, что ли? Не потеряю.
Едва Иванов присел к борту, на то место, где только что сидел Петя, как сразу окунулся в непроницаемый сон.
Сколько он спал? Пять минут? Час? Два? Из сна его вырвал тревожный голос Пети:
— Звезда пропала!
Иванов вскочил.
Небо было затянуто откуда-то набежавшими тучами. Кое-где сквозь их плывущую пелену проглядывала временами звездочка-другая. Но определить по ним курс было уже нельзя. А может быть, Петя сбился с курса еще раньше? Как теперь сориентироваться? Небо беззвездное, слепое…
Остановил мотор, выругал Петю:
— Раззява ты! Ложись, спи!
— Я подежурю! — виновато стал просить Петя. — Как прояснится — разбужу!
— Доверять тебе!.. — начал было Иванов.
Но в голосе Пети было столько желания исправить свою оплошность! Иванов больше не стал возражать, улегся.
Его разбудил вкрадчивый холодок — словно большая прохладная ладонь потихоньку оглаживала плечи и спину, прикрытые тельняшкой. Открыв глаза, увидел над собой ясное, без облачка, светлеющее небо, на котором уже едва-едва приметны были гаснущие, по-предрассветному тусклые звезды. В борта сонно толкались волны. Чуть потягивало ветерком.
Петя безмятежно спал.
«На вахте дрыхнет!» — рассвирепел Иванов.
Он довольно неделикатно поднял Петю. Расстроенный, тот и слова не сказал в свое оправдание. Иванов сел к мотору. Держать курс на восток, туда, где посветлело небо.
Проверил, сколько осталось солярки, долил бак из канистры. Горючего на несколько часов хода. Хватит ли дотянуть до Кавказского побережья? А что делать, когда кончится солярка? Мастерить парус? Ветра почти никакого. Идти на веслах? Но при таком харче, когда на всех осталось полгорсти сухарных крох, много не выгребешь…
Они плыли, держа курс навстречу всходящему солнцу. Снова начинался день в безбрежном море. Со всех сторон оно, только оно, окружает одинокий барказ своим равнодушным простором. Где они теперь?
Вновь сухая рука жажды сдавливала пересохшее горло. Не давал покоя и голод. Совсем сникла Маша, сидит, привалясь плечом к борту, пряча от солнца лицо. Как оно у нее осунулось!.. Веки закрыты, кажется — спит. Нет, это не сон, а забытье. А Васюков, похоже, свыкся с необычным для него положением мореплавателя. То возился с карабином — протирал, чистил. Сейчас, положив на колени гимнастерку, орудует иглой, зашивает какую-то дырку — нашел себе дело солдат. Оно понятно, когда голова и руки делом заняты, всякую тяготу легче переносить. Вот Петя, тот, похоже, совсем приуныл. Сидит понуро, как больной, глядит себе под ноги… А что ему в море смотреть, глаза слепить?
Иванову и самому очень хотелось, хотя бы ненадолго, дать отдохнуть глазам. Не мог. Надо держать курс. Только временами на минуту отводил взгляд в сторону, противоположную солнцу, — там блеск воды казался менее ослепительным. В один из таких моментов ему показалось, что среди скачущих бликов промелькнули какие-то темные пятна. Вначале он просто подумал, что устали глаза. Поморгав, посмотрел вновь — пятен уже не было. Через минуту глянул туда же — опять черные, прыгающие пятна!
— Васюков, карабин! — прокричал он.
Слева по борту — теперь уже было видно хорошо — кувыркались, то выскакивая из воды, то скрываясь в ней, дельфины. Их темные спины влажно посверкивали на солнце, показываясь на мгновение и вновь скрываясь под блескучей поверхностью воды.
— Стреляй! — Иванов подвернул барказ поближе к дельфинам. — Стреляй, это ж харч!
Бахнул выстрел, другой…
Но дельфины скрылись, словно поняв недоброе.
— Эх, — с досадой проговорил Васюков, — столько питания уплыло! Зазря два патрона стратил… — Он понуро опустил карабин.
Вдруг Петя закричал:
— Вон они, вон!
Дельфины вынырнули неожиданно с противоположной стороны. Их было шесть или семь, один за другим мелькали над водой мокрые, блестящие черные хребты. Вот дельфин весь, целиком, выскочил из воды, чтобы тотчас же скрыться в ней…
— Стреляй! — крикнул Васюкову Иванов, направляя барказ так, чтобы удобнее было целиться. — Скорее!
Поставив ногу на борт и оперев локоть о колено, Васюков выстрелил трижды. Кажется, в одного попал. Сейчас всплывет!
Но дельфин не всплыл…
Еще раз мелькнула над водой глянцевитая, сгорбленная спина. Васюков быстро приложился, нажал на спуск. Но только сухо щелкнул боек. Обойма кончилась. А в запасе патронов нет.
— Пять патронов промазал! — горестно проговорил Васюков, обернулся к Иванову — Еще не бывало такого со мной…
— Отощал, батя?
— Не потому. В море — не в поле. Блестит больно.
А дельфины, словно дразня, вновь появились. Они подпрыгивали, на какие-то секунды их большие каплевидные тела иной раз полностью вылетали из воды — и снова скрывались в ней. Может быть, оттого, что дельфины теперь то выпрыгивали, то скрывались резвее, чем минуту назад, казалось, что их сразу стало больше. А может быть, их и в самом деле прибавилось — в воде все время мельтешили блестящие, словно лакированные черные хребты.
Иванов заглушил мотор. Что еще можно предпринять?
Целое стадо дельфинов, целое стадо «морских свиней»! Достаточно было раздобыть одного, и голод отпустил бы. Иванов от кого-то слыхал, что в случае нужды можно и дельфина есть. Не в сыром виде, понятно. Но было бы мясо, а приготовить они бы сумели. Можно провялить на солнце или как-нибудь исхитриться и поджарить. Да что об этом мечтать…
Снова палящее солнце над головой. Неоглядное пустое море. Ровный монотонный стукоток мотора…
К вечеру мотор, кашлянув несколько раз, смолк: кончилась солярка. С минуту барказ шел еще по инерции, но вода, разрезаемая его корпусом, все тише и тише шелестела по бортам, и вот уже боковая волна гулко бьет о дощатый корпус, гонит бессильное суденышко куда-то вправо. Иванов прикинул по солнцу. Относит на юг, все дальше к середине моря… Одна надежда остается, только одна — на восточный ветер, если подымется. Есть два весла. Если их закрепить стоймя, а между ними натянуть парус… Только из чего этот парус сделать? Идти на веслах? Но при боковой волне, когда сил так мало… Бесполезное занятие.
— Придется загорать, — сказал он товарищам.
— Пропадем мы тут… — помрачнел Петя.
— А лучше, если бы немец тебя на берегу живым взял? — сурово спросил Иванов.
— Я ему не собирался сдаваться! — обиделся Петя. — Я до последнего патрона воевал.
— Все мы до последнего. — Иванов уже пожалел о своей резкости. — Здесь у нас еще в запасе шансы. А кончатся — так лучше морю достаться, чем фашисту на потеху. Верно говорю?
Петя промолчал. А Васюков вздохнул:
— Так-то оно так, а все-таки…
— Для поднятия духа — всем по сто грамм… воды! — распорядился Иванов. — Маша, выдай!
Последний раз по глотку из анкерка они выпили после полудня, когда зной и жажда были особенно невыносимыми. Сейчас в анкерке осталось совсем мало. Как ни экономили воду, однако небольшой бочонок не был волшебным неисчерпаемым сосудом, тем более что и достался он им уже далеко не полным.
В течение дня Иванов старался как-то приободрить себя и остальных. Требовал, чтобы по очереди следили за горизонтом: а вдруг покажется корабль? Рисовал воображаемые картины, как их обнаруживает эсминец родного Черноморского флота и какой прием будет оказан им, уцелевшим севастопольцам. Старался утешить себя и товарищей тем, что море спокойное, штилевое; сиди и загорай. А могло быть хуже, если бы разыгрался штормяга. Петя и Васюков — пехота, не пробовали, что такое шторм. Да и Маша… И вообще во всяком трудном положении следует утешаться тем, что могло быть гораздо хуже.
Все попытки поднять настроение оказывались не очень успешными. Правда, Васюков еще бодрился, всё находил себе дело — то вновь чистил уже бесполезный карабин, то шарил у себя по карманам, стараясь придумать, из чего бы вместо табака свернуть цигарку. Но остальные… Особенно трудно, видел Иванов, приходится Маше. Сидит согнувшись, словно под тяжестью. Лицо скрыто в ладонях рук, лежащих на коленях, торчат из-под посветлевшего от морской воды синего берета короткие пряди волос, почти белых — еще вчера они были темнее — неужели их за сутки так высолило море, высветлило солнце? А молодец Маша! За все время не проронила ни слова жалобы.
«Чем бы ободрить ее, чем порадовать?» Увы, на этот вопрос не мог найти ответа. Был бы у него хотя один глоток воды, которым он имел бы право распорядиться — отдал бы ей, был бы малый кусочек хлеба — отдал бы. Но нету… Слово бы найти какое особое, чтобы повеселела. Пытался. Но Маша будто и не слышит… О старшине своем все горюет? Видно, близким другом ей был…
— Давайте, други, попробуем сладить парус! — предложил Иванов.
— А зачем? — усомнился Петя. — Ветра все одно нету.
— Может, подует.
— Подует — это точно! — поддержал Васюков и для убедительности похлопал себя по коленке.
— Мой барометр перемену погоды чует.
— Какой барометр? — не понял Петя.
— Ревматизм.
— Разве он у тебя есть? Ты ж раньше не поминал!
— Раз говорю, значит, есть!
«Хитер папаша! — усмехнулся про себя Иванов, догадавшись о невинном васюковском обмане. — Пете дух подымает!» Решительно сказал:
— Большинство — «за». Строим мачту.
Иванов с Васюковым взялись за дело. К ним присоединился и Петя. Связали концом к концу два весла. Мачта получилась крепкая. Передохнули немножко и начали прикидывать: из чего же сделать парус?
В рундучке на носу барказа обнаружили оставшуюся, наверное, от прежних его хозяев спецовку — поношенные синие хлопчатобумажные штаны и такую же куртку. Разодрав, их пустили в дело. Однако для паруса этого было маловато. Иванов предложил Васюкову и Пете:
— Жертвуйте гимнастерки в фонд паруса!
Но Васюков не согласился:
— Без гимнастерки как можно — форма! Вот исподнюю рубаху — бери. И ты, Петя, свою давай!
Куски шпагата для починки сетей, найденные в рун- дучке на носу, бинты из Машиной сумки — все пошло в ход. Скрепили воедино все, собранное для паруса. Получилось довольно большое пестрое полотнище причудливой формы. С помощью тех же бинтов и трех поясных ремней, разрезанных вдоль, этот необычный парус прикрепили к связанной из весел мачте и установили ее.
— Во какая получилась! — восхитился работой Петя. — Только флага не хватает.
— Что же, — Иванов окинул взглядом мачту, — неплохо бы и флаг. Какой ни есть, а корабль.
— А знаешь, — вдруг вспомнил Петя, — вчера под обрывом три матроса флаг в скалу прятали, чтоб немцам не достался. Я слышал, как сговаривались: «Кто жив останется — найдет, с тем флагом в Севастополь вернется».
— Ты запомнил то место?
— Вроде бы…
— Не забудь. Может, не им, так тебе доведется взять.
— Кто его знает…
— А ты рассчитывай… Ну вот что, друг! — Иванов снова, прищурясь, глянул на вершину мачты. — Считай, что на нашей посудине флаг поднят. Боевой военно-морской. А тебя зачисляю в команду корабля. Поскольку ты уже к морю притерпелся.
Посадив Петю к рулю, Иванов стал пробовать, как «потянет» парус: дул слабенький ветерок, почти попутный — на юго-восток.
Когда-то, еще в первый год матросской службы, Иванову пришлось быть в составе шлюпочной команды, ходить и под парусами. Сейчас ему пригодились прежние навыки. Но с парусом, который соорудили сейчас, управляться было куда труднее, чем с обычным шлюпочным.
Однако Иванов приспособился держать парус под ветром.
Парус был маловат для барказа, однако помаленьку делал свое дело. Ориентируясь по солнцу и, когда ветер менял направление, перекладывая парус, Иванов держал суденышко на нужном курсе. Чем ближе Кавказское побережье, тем больше шансов, что их заметят свои с какого-нибудь дозорного корабля или патрульного самолета. Ну день, ну еще два — и заметят. Обязательно заметят! В это хотелось верить. И эту веру поддерживал парус, хотя и не туго, но все же наполненный ветром.
День шел к исходу, а они все плыли и плыли… Кругом не было видно ничего, кроме сверкающего под солнцем морского простора. Хотя бы птица пролетела… О, если бы пролетела! Птицы — вестницы берега.
Сколько еще до него?
Чем ниже опускалось солнце к далекой кромке горизонта, тем чаще и тревожнее поглядывали они на парус: ветер ослабевал. Вот пестрое полотнище уже совсем потеряло упругость, обвисло и только вздрагивает под едва ощутимым дуновением. Штиль…
Сколько простоит безветрие? В море оно не бывает длительным. Хотя слабенький ветерок, да шевельнется. Но когда?
Солнце зашло. Потянуло послезакатным холодком. Барказ чуть заметно покачивало на легкой, едва слышной волне. Со всех сторон сдвигалась темнота. В иссиня- черном небе одна за одной все четче проглядывали звезды.
— Вёдро завтра будет! — поглядев на них, сказал Васюков и деловито стал примащиваться на ночлег на дне барказа. Устроившись, предложил — Ложитесь, ребята.
Пристроившись рядом с Васюковым и Петей, Иванов смотрел вверх, отыскивая знакомые созвездия, и старался определить, в какую сторону волны гонят барказ. Но определить было трудно. Барказ потихоньку разворачивало из стороны в сторону. Звезды, казалось Иванову, кружились вокруг мачты то слева направо, то справа налево. Кружатся, кружатся… «А звезды везде одинаковые, — подумалось ему, — и у нас на Урале такие же, и здесь, и, наверное, у Василя на Виннищине. Приглашал Василь к себе после войны. Говорил: „Оставайся жить, в МТС в мастерской будешь работать. А девчата у нас! Наикращую тебе подберем, оженим!“ И верно, чем бы не жизнь… Только я к своим местам привычный, к городу Златоусту. Василь заманивал — фруктов у них тьма, Табунивка его — сады сплошные. Но мне у нас и без фруктов любо. Леса какие по горам вокруг Златоуста! А кто сейчас, в ночную смену, у моих тисков на сборке стоит? Писем ни от кого с той поры, как война началась… Когда с Василем фронт на Бельбеке перешли и в морскую пехоту определились — написал ребятам в цех. И Павлу Иванычу тоже. А ответа так и не дождался. Может, и не дошло — известно, как в Севастополь почта ходила. Да и ребята, наверное, все в армию ушли. А может, кого и оставили по броне? Интересно, что теперь наш цех выдает? Пожалуй, не только тот инструмент, который раньше. А и такой, которым фашистов на распыл пускают. Может, и я успел на Бельбеке или в Инкермане нашу Златоустовскую продукцию в дело употребить. Заглянуть бы сейчас в Златоуст хоть на минутку…»
Он не уловил того мига, когда закрылись глаза и внезапно надвинувшийся сон оборвал вразнобой набегавшие мысли…
ТУРКИ
Очнулся оттого, что стало зябко. Не ожил ли ветер? Но парус над головой свисал мертвым крылом. Петя рядом спал, съежившись, уткнув нос в доски борта, по- детски подложив под щеку ладонь. Не шевелясь лежал лицом кверху Васюков с надвинутой на глаза пилоткой. Он даже похрапывал. А Маша, как видно, не спала — когда поднялся Иванов, шевельнулась на носовом рундучке и она. Он поднялся, прошел под парусом и присел возле Маши… Она как лежала, сжавшись комочком, так и осталась лежать, только чуть приподняла голову.
— Поспала бы! — сказал Иванов. — Вот Васюков утверждает: сон харчи экономит.
— Экономить-то нечего… — Голос Маши был задумчиво-печален. Она повернула к Иванову матово белеющее в темноте лицо. — А ты что поднялся?
— Ветра жду. Перед утром на море почти всегда ветер.
— Но не всегда попутный?
— Не всегда… Все ж лучше уж куда-нибудь плыть, чем никуда.
— Может, лучше бы… сразу от пули, чем здесь пропадать! — с каким-то внезапным ожесточением проговорила она.
— Старшина ваш так не сказал бы.
— Не будем о нем. — Маша отчужденно сжала губы, стала глядеть куда-то в темную даль.
«И верно. — Иванов пожалел о том, что упомянул о погибшем. — Не надо бы больное место трогать…»
Так они сидели вдвоем и молчали.
Тишина… Только тихо похлопывает сонная волна под бортом.
Боясь показаться Маше назойливым, Иванов отвернулся, сделал вид, что всматривается в ночное море. И вдруг весь напружинился: слева по борту, где-то далеко-далеко, в мутно дымчатой синеве проступили расплывчатые желтоватые точечки света — мелкие, словно маковые зернышки. Их немного, они редки, разбросаны тонкой цепочкой по горизонту, кучками и врозь. Огни берега! Берега, где нет затемнения! А на всем Черном море таким может быть только турецкий — берег невоюющей страны…
«Худо… — Иванову стало даже жарко. — К туркам нас несет…»
Огни заметила и Маша:
— Ты видишь? Что это?
— Турция. Никак, мы уже в территориальных водах… Кислое наше дело.
— А что это — территориальные? Какая нам от них беда?
— Не знаешь? Полоса вдоль берега, в двадцать один километр. В открытом море — ходи, запрета никому. А в эти воды попал — считается, границу нарушил. Могут забрать.
— Неужели Турция?
— Она. Ничего другого быть не может.
— Турция? — поднял голову Васюков. — К туркам нам никак нельзя!
— А что они нам сделают? — спросил разбуженный разговором Петя.
Иванов объяснил:
— Заставят у них до конца войны отдыхать. Не мечтаешь ли?
— На кой мне этот турецкий отдых!
Неотрывно всматривались все четверо в огни, призрачно мерцающие на далеком, скрытом тьмой берегу. Огни не приближались и не удалялись, только, казалось, немного изменяли свое расположение по мере того, как барказ медленно разворачивало волной то в одну, то в другую сторону. Кажется, его все-таки гонит к берегу… И нечем предотвратить это. Парус не поможет, а грести — сил нет.
Откуда-то со стороны донесся глуховатый звук, будто кто-то равномерно и часто бубнил в пустую бочку. «Движок!»— безошибочно определил Иванов.
Звук работающего двигателя приближался. Натренированное ухо Иванова подсказало: это слышен маломощный дизелек, такой едва ли стоит на военном корабле. Впрочем, кто их, турок, знает…
Теперь уже можно было разглядеть и само судно. Очертания его все явственнее проступали в синеватой дымке со стороны открытого моря. Стал виден зеленый огонек правого борта. Неизвестное судно шло параллельно берегу, несколько дальше от него, чем находился барказ. Теперь между судном и барказом было метров полтораста, не больше. Уже хорошо различались не только ходовые огни, но и контуры судна. «Рыбацкая фелюга, одномачтовая, — определил Иванов. — Паруса не подняты — ветра-то нет. Наверное, возвращается с лова…»
Рывком вместе с парусом Иванов свалил «мачту» из двух связанных весел.
— Ты зачем? — не понял Васюков.
— Чтоб не обнаружили.
Иванов надеялся, что барказ, борта которого едва возвышаются над водой, в темноте не увидят с фелюги: она не военный корабль, с которого во все стороны неотрывно глядят впередсмотрящие. На палубе фелюги в этот ночной час, наверное, всего-навсего только рулевой, да и тот смотрит лишь вперед, по курсу. Хоть бы не заметили… Если обнаружат обязательно, когда придут в порт, сообщат. А тогда хорошего не жди… Появится корабль пограничной стражи, заберет на буксир.
Все на барказе замерли у борта, следя за фелюгой. Проходит мимо, мимо… Сбавляет ход… Замечены?
Неторопливо рокоча движком, фелюга медленно разворачивалась в направлении барказа. Теперь не уйти, даже если разорить мачту и налечь на весла, из которых она сделана.
Иванов встал, поправил бескозырку.
— Ну, друзья! Уговор: держать севастопольскую марку…
Поднялись и встали рядом плечом к плечу Петя, Маша, Васюков…
Фелюга приближалась. Уже совсем отчетливо видны красный и зеленый бортовые огни, тупой нос, широкие, пузатые борта, мачта с небрежно подвязанным, обвисшим в безветрии парусом.
С фелюги что-то прокричали, но слов на барказе никто не понял.
Между барказом и фелюгой всего несколько метров. Двигатель на ней смолк. Фелюга приближалась уже по инерции, чуть поворачивая борт к барказу. Невысокая сонливая волна, поднятая фелюгой, качнула барказ, немного оттолкнув его от нее. Чтобы не упасть, Иванов охватил руками за плечи Машу и Петю, стоявших вплотную около него справа и слева. Так они и остались стоять. Иванов скосил глаза на Васюкова, стоявшего чуть поодаль в аккуратно, по-уставному, «на правую бровь» надетой пилотке. Гимнастерка Васюкова была тщательно подпоясана чем-то. Нашел солдат чем… Ведь ремень-то отдал для оснастки мачты.
Выпуклый, дощатый борт фелюги уже вырос над барказом. Слышно было, как наверху по палубе прошлепали босые ноги. Оттуда снова крикнули, спрашивая о чем-то. Над бортом показался темный силуэт. За ним угадывался еще один. Есть ли там люди еще? На такой посудине всей команды раз-два — и обчелся.
Борт фелюги мягко толкнулся в борт барказа. Снова недоуменный голос сверху на непонятном языке спросил о чем-то.
— Севастополь! — выкрикнул в ответ Иванов.
— О! — воскликнули на фелюге изумленно. — Севастополя?
На палубе фелюги зашевелились тени, послышались голоса. Турки о чем-то оживленно переговаривались меж собою, звали кого-то, теснились по краю борта, разглядывая барказ и людей в нем. Шуму было много, но на палубе мелькало лишь три-четыре человека. Наверное, на фелюге больше и не было.
Продолжая держать Петю и Машу за плечи, Иванов быстро сказал вполголоса;
— На буксир захотят брать — не даваться!
— Не дадимся! — хрипловато откликнулся Васюков.
Голоса наверху как-то разом смолкли. Было видно, как турки, толпившиеся у края борта, расступились, уступая место кому-то. Над бортом склонился чернобородый человек в светлой рубахе, с непокрытой головой.
— Севастополя? Русске? Ходим — Севастополя? — недоверчиво и вместе с тем с оттенком уважительности спросил он.
— Из Севастополя! — подтвердил Иванов.
Чернобородый что-то скомандовал своим: на барказ, шурша, хлопнулся пеньковый трос.
— Нет! — Иванов сбросил конец троса в воду. — Мы пойдем своим курсом.
— Турецки порт! — дружелюбным голосом предложил чернобородый. — Море — плохо, мали барказ. Турецки порт ходим! Турецки порт.
— Нет, нет! — решительно отказался Иванов.
Но чернобородый продолжал настаивать. Невообразимо коверкая русские слова, мешая их с турецкими, он говорил, что знает русскую крепость Севастополь, которую немцы так долго не могли взять, что перейти через все море под таким плохим парусом на барказе могут только очень искусные моряки, он сам сорок лет плавает по Черному морю и уважает умелых мореходов. Почему русские не хотят дойти на буксире до порта, куда возвращается фелюга?
— Трабзон! Трабзон! — твердил чернобородый, показывая на огни.
— Трапезунд там! — шепнул своим Иванов. — Значит, и наш Батуми недалеко.
А чернобородый продолжал уговаривать: может быть, русские моряки опасаются турок? Но он — не враг русским. Он много лет служил матросом на торговом судне, бывал в Одессе, Мариуполе. В двадцатом году, когда великий Кемаль призвал турок сражаться за свободу, их судно возило из России оружие. Оружие для турок. С русскими надо дружить — так завещал Кемаль.
Из слов чернобородого можно было понять, что он — шкипер, и владелец фелюги, или, как он называл себя сам, «капитан-хозяин», вместе с ним три его сына и племянник, и все они думают так, как он.
Как ни уговаривал «капитан-хозяин» отбуксироваться в Трапезунд и переждать в Турции до конца войны, Иванов снова за всех ответил решительным отказом: они военные и обязаны прибыть к месту назначения. Чернобородый начал сочувственно ахать: а как же они поплывут дальше? Есть ли у них горючее, продовольствие? Иванов ответил. Чернобородый что-то крикнул своим, те засуетились.
Пустая канистра, подвязанная к тросу, спущенному с фелюги, быстро скользнула вверх. Через пару минут она вернулась отяжелевшая, наполненная соляркой. Залили ее в бак и, по предложению «капитан-хозяина», еще раз подали канистру наверх. На том же тросе с фелюги спустили большой бурдюк воды, мешок сушеных фиников и притороченную к нему связку вяленой рыбы.
— Моряк… моряк — рука! — заявил чернобородый, когда Иванов от имени товарищей стал благодарить его.
Узнав, что на барказе нет компаса, «капитан-хозяин» стал сочувственно объяснять: в этой беде помочь не может, на фелюге один-единственный старый компас.
— Ничего, по звездам пойдем! — сказал на это Иванов.
Мотор барказа уже был готов к действию. Иванов запустил его. Веселое тарахтенье мотора сразу заглушило голоса наверху и звонкие всплески волны между барказом и бортом фелюги.
— Спасибо! — крикнул Иванов.
Круто переложив руль, он направил барказ в сторону от фелюги. Четверо на ее борту кричали какие-то напутствия. Некоторое время еще можно было различать белое пятно рубашки чернобородого капитана. Но в конце концов фелюгу поглотил синеватый ночной сумрак. Только еще долго маячил позади зеленый бортовой фонарь, словно семафор, дающий сигнал доброго пути. Но вот скрылся и зеленый добрый огонек и мерцавшие справа по борту далекие смутные огни Трапезунда. Иванов взял курс резко мористее, спеша скорее вывести барказ из чужих вод.
Снова вокруг было ночное море, только море и ни огонька вокруг.
Поглядывая на звезды, Иванов держал направление вновь туда, где далеко за просторами моря лежал родной берег. От Трапезунда следует взять направление на северо-восток, и тогда, пройдя около сотни миль, или, иными словами, немногим менее двухсот километров, можно будет достичь своего берега возле Батуми. Иванов решил держать барказ курсом несколько севернее, чтобы снова не оказаться в турецких водах. Обидно, если уже на подходе к родному берегу барказ попадется какому-нибудь дозорному турецкому судну и будет задержан. Лучше прийти в Батуми позже, но наверняка.
Едва отошли от фелюги, как на барказе начался пир: сушеные финики, рыба и, главное, вода! Маша предупредила:
— Не очень на пищу наваливайтесь, с голоду для здоровья вредно.
На что Иванов ответил:
— Самое вредное для здоровья — голод. — Но все-таки распорядился: — Ты, Маша, выдай нам паек и себе возьми, а остальное спрячь. Путь не близкий, больше никто нас не снабдит.
— Дивно! — Все еще был полон удивления Васюков. — Никак не думал, что турки нас выручат. Пропадать бы нам без них.
Иванов не согласился:
— Может, и нет. Кожей чувствую — ветер намечается.
— У тебя кожа особая, морская?
— Она самая, — серьезным тоном ответил Иванов. — Высшей чувствительности. Глядишь, и под парусом выбрались бы. А туркам все равно — спасибо.
— Я думал, они все за Гитлера, — сказал Петя. — А нам даже капиталист помог.
— Какой капиталист? — рассмеялся Васюков. — Так, единоличник.
— Нет, капиталист! — стоял Петя на своем. — А как же? Целым кораблем владеет.
— Тоже мне корабль! — вмешался в спор Иванов со своего места у штурвала. — Фелюга одномачтовая! Он да сыновья — четыре мужика, уж могли за всю свою жизнь на такую «грозу морей» сколотиться! Ты видал — борт весь латаный. Ей уж, наверное, сто лет.
— Да я что… Побольше бы таких турок сознательных! — Петя запустил себе в рот сразу целую горсть фиников и тем лишил себя возможности продолжать дискуссию.
…Весело постукивал мотор, ходко шел барказ, чуть покачиваясь с борта на борт — во второй половине ночи немножко разгулялась волна, и в самом деле, как предполагал Иванов, поднялся небольшой ветерок. Но небо по-прежнему было ясным, звезды оставались яркими, словно вычеканенными. Сидевшему у руля Иванову было легко следить за Полярной звездой. Он старался направлять барказ так, чтобы звезда все время оставалась слева по ходу: слева север, впереди восток, курс на Батуми!
* * *
В начале следующего дня перед барказом далеко на горизонте проступила неясная, синеватая, в дымке, полоса родного берега.
Часа через два после этого с барказа увидели идущий навстречу наш сторожевой корабль. А уже к вечеру друзья прощались: Иванова посылали в Поти, где базировались корабли, на одном из которых ему предстояло теперь служить; Машу откомандировывали в госпиталь, причем ей повезло: госпиталь находился в ее родном городе Сочи, а Васюкова и Петю послали на пересыльный пункт, где собирали всех бойцов, направляемых на пополнение, и они еще не знали, в какую часть их определят.
Расставаясь, все четверо записали один у другого адреса, условились:
— Встретимся в Севастополе.
Каждый из них верил, что встреча состоится.
«ВХОД В ПОРТ СВОБОДЕН»
Через смотровую щель рубки едва различим во тьме беловатый пенный бурун впереди идущего корабля. Только по этому буруну и можно определить направление, чтобы удержать «морской охотник» точно в кильватерной колонне[21]. Других ориентиров нет. Корабли идут без огней.
Уже заполночь. В рубке выключено освещение — так виднее все снаружи. Лишь от картушки компаса, освещенной изнутри, сочится желтоватый отраженный свет, ложась на два молодых лица — командира корабля, капитан- лейтенанта и старшины первой статьи, который, низко надвинув бескозырку на лоб, стоит рядом с ним у штурвала.
Сквозь ровный гул моторов и доносящийся снаружи шелест волны, отбегающей от борта, ухо иногда улавливает далекий раскатистый гул — он слышен справа, со стороны невидного в ночи берега, вдоль которого, километрах в десяти от него, идут сейчас корабли. Далекий гул… Словно раскаты грома где-то над прибрежными горами… Но уже давно миновала пора летних гроз. Не гром над побережьем — это грозный голос «бога войны»: нашей артиллерии.
В эту ночь большая колонна кораблей с десантниками на борту идет вдоль Кавказского побережья курсом норд-вест, от Туапсе к Новороссийску, где засели гитлеровцы. Чувствуют они себя там очень неуютно. Захватив город в сорок втором, они так и не сумели овладеть им полностью и за все время ни один немецкий корабль не смог войти в его порт. Восточная окраина Новороссийска— район цементных заводов — с частью берега так и осталась в наших руках. А вплотную к южной подступает плацдарм, еще в феврале захваченный нашими десантниками возле прибрежного поселка Мысхако. Десятки тысяч немецких снарядов и авиабомб перепахивают его почву изо дня в день, из месяца в месяц. В ясный день издали, с моря, кажется — берег Мысхако непрестанно дымится.
Те, кто на плацдарме Мысхако, верят: настанет день, ради которого они вот уже восьмой месяц держатся на голой, открытой вражескому глазу равнине под снарядами и бомбами, в траншеях, выдолбленных в каменистой земле, — день, когда они пойдут вперед, в Новороссийск.
И этот день настал.
Вчера, девятого сентября сорок третьего года, корабли Черноморского флота получили приказ: этой ночью высадить десанты в Новороссийск, один из них — прямо на причалы порта. В те же ночные часы штурм должна начать пехота. Ее поддержат десятки бомбардировщиков, сотни орудийных стволов.
С лета прошлого года, с того времени, как Иванов с Васюковым, Петей и Машей добрался до Батуми, служит он на этом «морском охотнике». За четырнадцать месяцев, что минули, немало было у него вот таких ночей, когда шел он в неизвестность, к берегу, занятому врагом. Сегодня снова, как той февральской ночью, когда корабль высаживал десантников на Мысхако, на борту — морские пехотинцы. Как и тогда, курс норд-вест, к Новороссийску. Но тогда подходили с открытого моря, к пустынному берегу. А сейчас надо пройти Цемесской бухтой, на берегах которой лежит город, и высадить десант в самое сердце его. Вся бухта под прицелом немцев. Идти в порт — лезть в дышащую смертью пасть…
До Цемесской бухты осталось не менее часа хода. Есть еще время собраться с мыслями…
Начнется бой и поглотит все чувства и помыслы. Но пока он не начат, мысли, как бы разжимая до поры пружину предбоевого напряжения, уводят далеко, далеко… Почему так получается — Иванов не знал, но уже не впервые перед боем память возвращает к первой военной ночи. Тогда за бортом не бурлила крутая черноморская волна, как сейчас, а шелестела тихая вода Пины. И рядом были Мансур, Василь… Где вы теперь, други? Разыскивал по разным адресам, да напрасно. Писал матери Мансура — ответа почему-то нет. Удалось ли Мансуру пройти через фронт, донес ли со Шкарандой флаг, жив ли? Василь от Херсонеса, наверное, добрался благополучно, — слышно было, все те катера вернулись в базу. Если так, то Василь давно вылечился, снова в строю. Очень даже возможно, он где-нибудь поблизости. А вдруг в этой же колонне, на таком же «охотнике»? А почему бы нет? По своей же специальности, радистом. А где теперь Васюков, Петя, Маша? Про Машу особенно хочется узнать. Да попробуй отыщи. Ответила коротеньким письмецом. А потом, сколько писем ни слал — нет ответа. А может быть, Маша теперь не в Сочи, а где-нибудь на фронте? Свободно может оказаться Маша даже здесь сейчас, на корабле. Грузились пехотинцы в темноте, мог и не заметить девушку среди них. А до Маши — только спуститься по трапу…
Отдаваясь таким мечтам, Иванов продолжал следить за мутно-белым в ночной тьме буруном впереди и сверяться с компасом. Курс все тот же — норд-вест. Но вот идущий впереди корабль начал забирать правее. Иванов переложил штурвал.
— Поворачиваем в Цемесскую бухту, — сказал ему капитан-лейтенант. — До Новороссийска — сорок минут.
Сквозь однообразное пение корабельных моторов слышнее стали громовые раскаты. Голос наступления…
Возле капитан-лейтенанта возникла фигура поднявшегося в рубку радиста. Он что-то коротко шепнул командиру, тот кивком отпустил его, резко повернул ручку машинного телеграфа. Тотчас же моторы загудели громче. По всему корпусу корабля, отдаваясь от палубы в ноги, пошла железная дрожь. Громче забурлила волна под бортом.
— Вход в порт свободен! — негромко, но с какой-то особой торжественностью в голосе проговорил капитан- лейтенант. — Держать строго по мателоту[22].
— Есть! — Иванов, прищурясь, стал особенно внимательно следить за буруном впереди.
Сейчас не в открытом море. В бухте, на фарватере, только что пройденном передовыми кораблями, опасно отклониться от курса даже на метр, если по сторонам остались под водой необезвреженные мины.
«Вход в порт свободен…»
В тот час ни сам Иванов, ни его командир, ни кто- либо на их «охотнике», как и на других кораблях в колонне, не знал, что предшествовало этому сигналу.
Незадолго перед тем как корабли, идущие с десантом, получили по радио это сообщение, торпедные катера Черноморского флота внезапно для врага на самой большой скорости вихрем промчались через бухту к порту. Вход в него стерегли крупнокалиберные пулеметы и пушки, установленные немцами на молу, ограждающем гавань от моря, а также опущенная в воду стальная сеть, подвешенная на поплавках-бонах.
В минуту, когда торпедные катера подлетали к воротам порта, немцы с мола и причалов не стреляли. Они прятались в блиндажах, спасаясь от снарядов: наша артиллерия обрушила огонь на порт. Оглушаемые разрывами, немцы обнаружили торпедные катера в тот момент, когда те были уже возле мола. Немцы начали стрелять по ним с опозданием. Помогла морякам и темная осенняя ночь.
Несколько катеров, промчавшись под перекрестным огнем к самым воротам порта, с хода выпустили торпеды по огневым точкам на молу, а также по бонам, преграждавшим вход. Мощные взрывы торпед разворотили мол в нескольких местах и погребли под глыбами бетона немцев с их пушками и пулеметами. Упала на дно, освобождая дорогу в гавань, сеть, сорванная с поплавков силой взрывчатки. И тотчас же торпедные катера ворвались в акваторию[23] порта.
К этому времени враг несколько пришел в себя. С берега, тысячекратно пронзая тьму ночи, навстречу катерам устремились светящиеся трассы. Вода перед ними вздыбилась от немецких снарядов. Но торпедные катера, не сбавляя хода, неслись напролом, нацеливаясь на стенки портовых причалов.
Взрыв! Взрыв! Взрыв!..
Перед катерами в ночное небо, подсвеченное разгорающимся боем, взметнулись багрово-дымные гроздья. Выпущенные с короткой дистанции торпеды нашли, как и перед этим на молу, каждая свою цель на причалах — бетонные укрытия, из которых немецкие пушки и пулеметы стреляли по катерам. Выпустив торпеды, катера, прежде чем лечь на обратный курс, разворачиваясь, проносились вдоль причалов, стреляя по метавшимся там фашистам из крупнокалиберных пулеметов.
Путь десанту был пробит. Вот после этого и был дан десантным кораблям по радио сигнал: «Вход в порт свободен».
С берега немцы продолжали стрелять — там уцелело еще немало огневых точек. Но это не остановило отважных.
Было начало четвертого часа утра, когда в озаряемой вспышками выстрелов тьме мимо разрушенного мола самым полным ходом, чтобы не дать противнику пристреляться, в порт прошли первые десантные корабли — «морские охотники», катера, мотобарказы. Одним из этих кораблей был «морской охотник», у штурвала которого стоял старшина первой статьи Иванов.
* * *
Промелькнула слева темная угловатая громада мола. За нею где-то на берегу вздрагивали, озаряя ночное небо, багровые отсветы. В подсвеченном ими сумраке впереди прямо по ходу угадывались горизонтальные линии портовых причалов, какие-то лишенные крыш строения. На темном фоне их непрерывно возникали желтоватые огоньки, пронизывали растревоженную темь, пересекая путь кораблю.
Прямо в лицо — неистовый удар водяной струи. На секунду Иванов перестал видеть. За переборкой рубки на палубе вскрикнул кто-то из десантников. Иванов моргнул несколько раз, чтоб согнать с глаз воду. В слабом свете компаса видно — внутри рубки все блестит от воды: вздыбленная снарядом, она хлестнула в смотровую щель.
Капитан-лейтенант, смахнув ладонью с лица брызги, крикнул Иванову:
— Левее по курсу обгорелый причал…
— Вижу!
— Держать на него!
— Есть!
Рванув дверь рубки, командир крикнул на палубу:
— Приготовиться к высадке! — и снова припал лицом к смотровой щели.
Гулко застучал крупнокалиберный пулемет с палубы — пулеметчики нашли цель на причале? Или стреляют наугад, чтобы навести на немцев страх?
Ночь уже отступала, теснимая огнями боя. В смотровую щель Иванову было видно — по темной взбаламученной воде пробегают отсветы, на блестящем от влаги железе палубы пульсируют красноватые отблески выстрелов носового пулемета. Снова ухнул снаряд близ борта, осколки черканули снаружи по броне. Каждой клеточкой кожи чувствовал Иванов сейчас любую из смертей, летевших в него. Но мысль была лишь одна — довести корабль до обгорелого причала. Обычный, как всегда в бою, страх погибнуть не давал забыть о себе — ведь только двадцать три года прожито на свете, рановато помирать. Но главное — желание исполнить свой долг — в самую глубину сознания оттесняло страх, заставляло забывать о нем.
До причала с черными обгорелыми сваями, причала, на который всем своим корпусом был нацелен стремительно идущий корабль, оставалось уже немного, каких- нибудь двести — триста метров…
Капитан-лейтенант резко повернул рукоять машинного телеграфа. «Охотник» сбавил ход до среднего, чтобы с разгона не врезаться в сваи.
Не выпуская рукояти машинного телеграфа, капитан- лейтенант приоткрыл дверь рубки, осторожно выглянул, очевидно примериваясь, как лучше подойти к причалу…
Багровая вспышка за дверью, оглушительно звонкий удар. Едкий запах мгновенно сгоревшей взрывчатки. Командира бросило обратно, прямо на Иванова, и он едва удержал штурвал.
— Товарищ капитан-лейтенант! — Иванов хотел поддержать падающего командира.
Но в этот миг катер рванулся вперед: капитан-лейтенант, так и не выпускавший рукояти машинного телеграфа, конвульсивно сжал ее, упал на нее грудью. Уже мертвым он дал «самый полный» своему кораблю.
Полный ход был дан вовремя: чувствовалось, как с каждой секундой оседает корпус и корабль движется все тяжелее, хотя моторы еще работают в полную силу. Видимо, одновременно со снарядом, что разорвался возле рубки, другой снаряд попал куда-то ниже ватерлинии[24] хлынула, наверное, сразу вода.
В три-четыре секунды выправив курс, Иванов вновь нацелил корабль на причал, обугленные столбы которого, пятнаемые прыгающим красноватым светом вспышек, виднелись уже совсем близко.
Смолк носовой пулемет. Замолчали моторы. Попадание в машинное?
Сквозь грохот боя слышались встревоженные голоса, гулкий топот по железу палубы.
Еще несколько секунд шедший по инерции корабль окончательно потерял ход. Иванов глянул в последний раз на капитан-лейтенанта. Окаменевшая рука его все еще держит рукоять телеграфа. «Прощай, командир…» Выбежал из рубки. Прижался к ней: рядом, словно клацнули стальные зубы, злобно щелкнули по броне не то осколки, не то пули.
Иванов видел: палуба кренится, уходит из-под ног, солдаты-десантники прыгают за борт, держа над головами автоматы. Подымаясь правым бортом, краем левого «морской охотник» уже почти касался воды. К ней по палубе медленно сдвигались несколько тел в матросских робах и солдатских гимнастерках. Навалившись на замолкший носовой пулемет, укрепленный на тумбе, висел, опустив голову, убитый пулеметчик. Ноги его чертили по кренящейся палубе.
Иванов еще раз обежал палубу взглядом. На ней не было уже никого. «А внизу? Кто из наших уцелел?»
Удар! Палуба под ногами содрогнулась, гремя, покатился мимо ног Иванова чей-то автомат. Он подхватил его. Но тут же, проскользив подошвами ботинок по косо опускающейся палубе, не удержавшись, оказался за бортом.
В первые секунды даже не ощутил, холодна ли вода. Намокшая фланелевка, сразу облепив тело, сковывала движения. Автомат, оттягивая руку, тащил вниз. Бросить? Нет! Перекинул на шею мигом набухший брезентовый ремень автомата. Теперь обе руки были свободны, плыть стало легче.
Кажется, он плывет совсем не к тому месту, до которого почти довел корабль. Перед глазами не сваи, а бетонная стенка. В нескольких местах она разворочена, черными ребрами торчат шпангоуты какого-то давно разбитого судна. А обгорелый причал? Он чуть правее, до него дальше.
Иванов оглянулся. Его корабль еще держался на плаву, хотя и ушел одним бортом в воду. На палубе ни души. Только на носовом пулемете все еще висит, держась за его рукояти, наводчик — он и убитым не покинул своего поста. Так же, как капитан-лейтенант…
Рядом слышались отрывистые, глуховатые, возбужденные голоса. Неподалеку, в разноцветных отсветах, пробегающих по воде, виднелись головы в пилотках, в касках и совсем непокрытые. Десантники… Сколько их? Шесть-семь. А на борт было взято не меньше сорока. Может быть, плывет больше? А из своих ребят… Где все, кто был на палубе? Успели ли выйти наверх мотористы? Ага, вон чья-то голова в бескозырке. Кто-то из экипажа. Кто?
До бетонной стенки всего метров пять… Рывок, рывок, еще рывок. Скорее бы дно! Автомат тянет за шею вниз. Скорее бы дно. Но здесь не мелко. В мирное время прямо к стенке швартовались большие суда.
Попробовал ногами. Нет еще дна… А руки уже коченеют, автомат с каждой секундой тяжелее. Сбросить? Как тогда, в сорок первом, когда с Василем переплывали речку. Иначе не выплыть. Сбросить? Нет! Теперь уже нет. Еще взмах, еще… Перед глазами серые угловатые глыбы, выпавшие из разбитой стенки причала, торчат из воды.
Дно под ногами, дно!
Отдышаться…
Снова оглянулся. «Охотник» еще на плаву. Мутно-тусклые трассы полосуют его: немцы яростно стреляют по кораблю, потерявшему ход, хотя он ничем уже не опасен для них.
Корабль погибал, сделав свое дело: рядом с Ивановым, перекликаясь хриплыми, простуженными голосами, солдаты-десантники выбирались на скользкие камни, гремя по ним подошвами и оружием. Никого из товарищей по кораблю он так и не приметил. Неужели из всей команды уцелел только он? Не может быть, кто-нибудь да выплыл. Но где их искать?
Выбравшись из воды, припал к шершавому, косо торчащему камню, еще раз обернулся к своему кораблю. В бликах летящего огня светлым пламенем струился флаг на гафеле. Развеваемый ветром в сторону берега, он словно показывал: вперед! вперед!
Яркая желтоватая вспышка на борту «охотника» заставила Иванова на миг зажмуриться. Вспышку затмил серый, смешанный с искрами дым, — он вырвался откуда-то изнутри корабля. «Прямое попадание. В боезапас угодило… — Болью толкнуло в сердце. — Прощай…» Молнией промелькнуло в памяти: серый осенний день, тихая протока Десны, белый дымок запального шнура взбегает по борту родной «букашки»…
Дым смахнуло ветром. Там, где секунду назад еще был виден «морской охотник», лишь белеет пена на колеблемой взрывами воде да вскакивают рассыпчатые фонтанчики. Немцы еще стреляют туда, где был корабль. Словно страшатся, что он вновь возникнет из поглотившей его глубины…
Немного дальше, позади места, где погиб «морской охотник», промелькнул силуэт катера-сторожевика, входящего в порт. За сторожевиком проглянули в подсвеченном огнями боя предрассветном полусумраке очертания нескольких мотоботов. Идут, идут еще корабли!
Намокшая обмундировка связывала движения. Ботинки отяжелели от воды. Над головой посвистывало. Но он, цепляясь за бесформенно нагроможденные камни, упрямо карабкался по ним вверх. Рядом, пыхтя, лез большерукий, плотный парень в темной от воды гимнастерке и пилотке, напяленной по самые уши на круглую, как арбуз, голову. Поодаль взбирались по расколотым бетонным глыбам еще какие-то солдаты и матросы. Среди них взгляд Иванова так и не отыскал никого из команды корабля. Сваи обгорелого причала чернели правее, метрах в двухстах. Может быть, друзья выбрались там? Да, надо проверить автомат: в воде побывал. Прилег за угловатой бетонной глыбой, вынул магазин, дернул раз- другой затвором, вставил диск обратно. Рядом тот плотный круглоголовый парень, с которым они выплыли вместе, тоже торопливо проверял свой автомат. Поверху, не утихая, вспарывали воздух пули. Но эти не опасны — не достанут за камнями.
Автомат в порядке. Иванов с завистью глянул на соседа: пара дисков на ремне, сумка с гранатами. Добрый запас. Как только он с таким грузом, да в полной обмундировке, в ботинках с обмотками, выплыл? Здоровило!
Окликнул:
— Сосед, как звать тебя?
— Музыченко, — ответил тот охотно. — Филей кличут. А тебя?
— Иван Иванов.
— Иван в квадрате, значит? — Филя, прищурясь, взглянул в посветлевшее небо, на фоне которого теперь уже бледными казались летучие искры пулевых трасс. — Вперед подаваться надо. А то дождемся — накроют здесь!.. Ты как, пехотному делу обучен?
— Севастополь обучил.
— Тогда — порядок…
Филя, заметив, что Иванов с завистью глядит на его туго набитую брезентовую сумку, спросил:
— Гранаты имеешь?
— Ни одной.
— Бери! — Филя вытащил из сумки пару гранат. — У фрицев разживешься — отдашь…
— Слушай мою команду! — перекрыл и голос Фили, и все громыхание боя зычный бас.
— Наш старшина! — встрепенулся Филя. — Значит, лейтенанта сшибло… Гляди! — показал он из-за камня. — Фрицы там!
До закопченной стены, зияющей черными оконными глазницами, через набережную — шагов пятьдесят. Пятьдесят шагов по открытому месту. На пути, на мостовой — только поваленный телефонный столб да несколько камней, заброшенных взрывом. За этим не укроешься. По брусчатке мостовой то и дело скачут искры, высекаемые пулями. Потуже натянув влажную, торчащую колом пилотку, Музыченко поправил сумку с гранатами, крякнул озабоченно:
— Воду прошли, теперь огонь…
— Только медных труб не хватает, — без улыбки пошутил Иванов.
— Пусть трубы, лишь бы не труба.
— Приготовиться к атаке! — донеслось слева.
Иванов и Музыченко переглянулись: вот он, миг…
— Вперед!
Оба одновременно вскочили, выбежали из-за камней. Рядом, пересекая набережную, замелькали гимнастерки, брезентовые робы… Кто-то в синей фланелевке, не добежав, с разгона упал на усеянную битым камнем мостовую. «Наш, с корабля?..» — Иванов не успел присмотреться. Филя, обгоняя, прокричал:
— Давай, Иван в квадрате!
* * *
Бой за Новороссийск… Засевший в нем враг давно ждал штурма. Вначале немцы были ошеломлены артиллерийским обстрелом, бомбежкой и отчаянно-дерзкой высадкой десанта: еще никогда и нигде торпедные катера не атаковали береговых укреплений и еще ни в какой войне не бывало, чтобы отряды первого броска высаживались так далеко в глубину вражеских позиций.
Однако немцы довольно скоро пришли в себя. Их огонь стал плотнее.
Было уже совсем светло.
Когда Иванов, Музыченко и все, над кем принял команду старшина, собирались пересечь первую на их пути улочку, всю ее перед ними покрыло густым дымом разрывов мин. Пришлось отбежать назад в полуразбитое здание. Залегли на колком каменном крошеве, под перекошенным бетонным перекрытием, которое одним концом упиралось в землю. В щель под ним, сквозь пролом в стене, была хорошо видна улица.
Минометный налет кончился. Но высунься попробуй!..
Всматриваясь в противоположную сторону улицы, Иванов увидел: там, в развалинах, прошмыгнула согнутая тень, еще одна…
Рядом коротко рыкнул автомат: Музыченко, не утерпев, пальнул в немцев, мелькнувших внутри развалин. Иванов тоже вскинул приклад к плечу — и опустил: патронов-то чуть, только те, что в диске.
— Э-эй, матрозен! — донеслось с другой стороны улицы. — Сда-вай-са плен! На-зад не-ку-да!
— Ах вы, черви зеленые! — ругнулся Музыченко.
Словно в ответ улюлюкнула мина, рванула где-то над перекрытием. По спине Иванова больно простучали куски отскочившей штукатурки.
Мина. Еще мина. Еще!..
Грохот давил в уши. Горло забила поднятая взрывами сухая каменная пыль. В носу щипало от запаха сожженной взрывчатки.
Мины рвались где-то наверху, на искалеченных перекрытиях, рвались и впереди, на мостовой перед домом. Пылью запорошило глаза. Протерев их, Иванов увидел: с противоположной стороны улицы прямо на него бегут немцы — налегке, в одних мундирах.
Тщательно прицелившись в переднего, полоснул по нему скупой очередью. Еще по одному…
Но из развалин напротив снова выбегают немцы. Уже на середине улицы…
— Гранатами — огонь! — Голос старшины.
Отложив автомат, Иванов выхватил гранаты, метнул, одну за другой, обе. Рядом Музыченко, рывком перекинув сумку на живот и встав на одно колено, что-то покрикивая, бросал свои.
Косо летящий дым от разрывов гранат закрыл подбегающих врагов. Дым развеялся. Немцев уже не видно. Только один — не тот ли самый, передний — лежит, упершись макушкой каски в расколотые кирпичи.
Тишина… Лишь где-то в стороне не утихает стрельба. Но что это?.. Еле слышный, однако с каждой секундой все более внятный звук мотора. И тяжелый железный лязг. Танк?..
Лязгает и урчит все ближе… Вот он! На той стороне улицы, из-за углового дома, высунулся серый пушечный ствол с уродливой шишкой дульного тормоза на конце. Следом осторожно выдвинулась махина танка. Иванову показалось — черный зрак ствола глядит ему прямо в лицо. Невольно зажмурился: «Сейчас даст…»
Прежде чем припасть к земле, на долю секунды открыл глаза и успел увидеть рыжее косматое пламя, полыхнувшее из пушки танка.
Дробный перестук валящихся кирпичей. Чей-то короткий крик неподалеку. Как не закричать от ярости — ярости бессилия?
Оставалось одно: припасть грудью к острому щебню и ждать, ждать, каждую секунду ждать: «Сейчас в меня».
О, как длинна такая секунда!
Танк продолжал долбить здание снарядами. Они проламывали стены, рвались где-то внутри, заполняя все вокруг пылью и дымом. В ушах звенело. После каждого разрыва их словно забивало ватой.
Улучив миг тишины, Иванов глянул в пролом: что на улице? Не поднялись ли немцы за танком в атаку?
Увидеть ничего не успел. Перед глазами сверху хлынул поток кирпича и бетонного крошева, взбивая клубы пыли.
Пыль расходилась медленно — каменный короб здания держал ее, все вокруг заволок серый колыхающийся сумрак. «А куда делся Музыченко? — спохватился Иванов. — Ведь только что был рядом».
— Филя! Музыченко! — крикнул он, но не услышал своего голоса — его заглушил новый разрыв.
Мимо, невидимый в пыли, полз кто-то из десантников, кирпичи, раскатываясь, гремели под ним.
Сквозь пыль Иванов увидел чью-то голову в пилотке.
Человек в пилотке как слепой ткнулся в него, зашарил руками, ощупывая. В оседающей пыли Иванов разглядел: лоб ползущего залит кровью. И вдруг узнал:
— Филя! Да куда ж тебя? Постой, перевяжу!
Нащупав в кармане брюк раненого пакет, Иванов начал бинтовать ему голову. Но Музыченко в полубеспамятстве все порывался встать, кричал, захлебываясь клокочущей во рту кровью:
— Пустите! За мной!
Грохот нового взрыва потряс здание. На руки Иванова хлынул крошеный камень. Только что распечатанный белоснежный бинт мгновенно посерел. Отряхнув его и кое-как наложив повязку на лоб Музыченко, Иванов оттащил товарища назад, в полузаваленный обломками угол подвального помещения — там безопаснее, — и оставил лежать. Как-то сразу Музыченко затих — не потерял ли сознание? Побыть бы с ним. Но если немцы подымутся в атаку?
Вернуться на свою позицию, к наружной стене, не успел: тугая горячая волна отбросила его на железные прутья арматуры, торчащие из раскрошенного бетона. К счастью, не напоролся, только больно ушибся.
Едва успел встать — опять все содрогнулось от грома, Иванова снова швырнуло на перекрученную арматуру. «Чем ждать, пока тут завалит, — на улицу, вперед!.. Но что ж я, в одиночку? А Филю как оставить?..»
В полутьме подвала, наполненного не успевающей оседать пылью, его взгляд не отыскал никого. Прокричал:
— Эй, кто тут есть?
Словно в ответ громыхнуло наверху, перекрытие над головой дрогнуло. Сейчас рухнет!.. Метнулся в сторону. «Уцелел…» Только в голове знакомый звон.
Снаружи прогремело еще несколько разрывов. Танк? Нет, посильнее… Да это ведь свои стреляют! Выручили артиллеристы! Спасибо, боги войны!
Все тише скрежещут гусеницы, урчит, удаляясь, танк.
Поблизости где-то в глубине здания послышались голоса. Десантники, во время обстрела укрывшиеся кто где, собирались вновь. Меж стен еще не улеглась пыль, она мешалась с дымом — что-то горело. Поднявшись, чтобы отыскать Музыченко, Иванов не успел сделать и двух шагов, как увидел, что тот из-за простенка сам идет ему навстречу. Идет пошатываясь, весь — от повязки на лбу до ботинок — серый от пыли.
Иванов бросился к нему:
— Отдышался, Филя?
— Порядок! — прохрипел тот в ответ. — Еще дам фрицам жизни!
Филя тяжело, как-то осторожно, присел, потрогал запасные диски на поясе, пустую гранатную сумку, задержал ладонь на ней:
— Придется теперь мне гранат подзанять. У фрицев…
По команде старшины десантники, уцелевшие после обстрела, выбежали из дымящихся стен и устремились через улицу. Иванов и Музыченко держались рядом.
Из развалин напротив, где несколько минут назад были немцы, не раздалось ни одного выстрела.
Перемахнули улицу. Музыченко не отставал — видно, собрался с силами, здоровяк. Бежит, только покряхтывает.
Кругом бесформенные груды камней, каменный пустырь. Куда делись немцы?.. Вперед!
— Полундра! — Иванов пригнулся, услышав зловеще-знакомый посвист летящей мины.
Перед глазами железная дверь, вся во вмятинах от осколков. С нее пустыми глазницами глядит пронзенный молнией череп. Трансформаторная будка…
— Филя, сюда!
Протиснувшись в чуть приоткрытую дверь, хотели захлопнуть ее, но она не поддалась.
В будке было темновато. Свет, падавший через узкие горизонтальные окна-щели под потолком, процеженный сквозь железные жалюзи, едва достигал пола. На нем почти до окон громоздились исковерканные остатки трансформаторов.
Разрывы мин стихли. Иванов выглянул в дверь:
— Пошли, Филя!
Музыченко не ответил. Иванов оглянулся:
— Опять сомлел? Вот беда!..
Он растерянно стоял перед Филей: тот сидит на полу, прислонясь спиной к измятому железу, болезненно морщится, держась за повязку на голове.
— Вот что! — не стал задумываться Иванов. — Отдышись да топай потихоньку назад. А диски с патронами мне оставь.
— И самому сгодятся! — Филя снял руку с повязки на голове. — Обожди, сейчас пойдем. Накатило на меня…
— А если опять накатит? И так от своих отстали. Как с тобой-то я?..
— Боишься — обременю?
— Да я не потому… — смутился Иванов. — Тебе в санчасть надо.
— Город возьмем — тогда. Где ее сейчас искать?
— И то верно. Скорее немца найдешь, чем доктора. Ладно, Филя, топаем вместе до победного.
Они спешили. Их подталкивал в спины страх. Нет, не страх перед врагом. Страх, что они, пока Филя приходил в себя, потеряли своих.
В незнакомых дворах, за глухими оградами, сложенными из камня, где они пробегали, трудно было понять, как разворачивается бой. Он гремел россыпью очередей где-то неподалеку, и было похоже — бой, только что катившийся от порта в город, теперь клокочет где-то на одном рубеже, не в силах перехлестнуть через него.
— Поднажмем! — торопил Музыченко, хотя сам едва поспевал за Ивановым.
— Боишься, твой старшина с довольствия спишет? — пошутил тот, как шутил когда-то над Василем.
Еще один разбитый дом на пути.
Проломы в стенах. Груды камней. Искривленные балки, ржавые водопроводные трубы, торчащие из каменного крошева. Это был нелегкий путь, особенно для Музыченко. Он не хотел признаваться, что опять ослабел. Все же пришлось сделать передышку. Но едва успели присесть, как где-то совсем близко послышалось многоголосое:
— A-а… Полундра-а-а! Ура-а!
— Полун…
Резкий, совсем близкий стук пулемета заглушил голоса.
— Наши! — вскочил Музыченко. — Наши атакуют. Давай к ним!
Вот и пройден весь дом. Угловая комната. Без потолка, вместо окон — бесформенные дыры. Присели возле одной из них, что зияла у самого пола. Осторожно выглянули. Глазам открылась улица, вся в ярком утреннем солнце. На противоположной стороне ее три-четыре белых домика. Стропила крыш обнажены, лишь кое-где чудом держится черепица. Шагах в двадцати от дома, на залитой солнцем мостовой, тело в полосатой тельняшке, бескозырка на голове. Вытянуты вперед руки, словно летел матрос да так и застыл, с грозной врагу «полундрой» на устах.
— Ваш? — шепотом спросил Музыченко.
Иванов всмотрелся:
— Лица не разгляжу… Может, и с нашего «охотника».
И вдруг матрос шевельнулся, не поднимая головы, подтянул руки к груди, как бы собираясь приподняться.
— Живой! — изумленно выдохнул Музыченко в ухо Иванову.
Тем временем лежавший на мостовой приподнял голову, глянул в их сторону и, тяжело повернувшись, пополз к дому, волоча ногу.
— Филя, поможем! — позвал Иванов и первым высунулся из пролома. Но в ту же секунду отпрянул обратно: по мостовой возле ползущего проплясали искры, высекаемые из камня пулями.
Матрос дернулся, ткнулся лицом в землю, затих.
— Вот гады, по раненому! — Иванов в ярости тряхнул автоматом.
— Может, не убили? — спросил Филя. — Вытащим?
Вместо ответа Иванов, пригнувшись, первым скользнул в дыру.
В тот момент, когда они, подхватив тяжело обвисшее тело, втянули его через пролом внутрь дома, позади них, по мостовой, снова прощелкали пули. Но пули уже не могли достать их.
Матрос не шевелился. Повернули его лицом вверх. Филя тронул лежавшего за руку:
— Пульса нет.
— А ты что, доктор? — усмехнулся Иванов. — Умеешь определить? Сердце надо послушать, — и припал ухом к груди лежавшего.
Но их надежды оказались напрасными.
Заправляя тельняшку убитого снова под ремень, Иванов пальцами натолкнулся на тугой, плоский матерчатый сверток. Флаг?
Да, это был флотский флаг — совсем небольшой, со шлюпки или с катера. Иванов потрогал его:
— Мечтал парень над городом поднять…
— Такой обычай у нас в морпехоте, — глянул на флаг Филя. — Дошел — поставил!
Иванов сунул свернутый флаг себе под фланелевку:
— Мы за него донесем. А он пусть здесь пока полежит.
Тело оттянули к стене. Бескозыркой накрыли лицо.
Тишина… Только где-то в отдалении перекатывается стрельба.
— Откуда срезали его? — взглядом показал Музыченко на убитого.
— Где немцы, где наши? Во нам задачка… Ой! — снова схватился за голову. — Дает знать, проклятая!
— Я подымусь, разведаю, — встал Иванов. — А ты посиди, отдохни.
— Посижу… — согласился Музыченко нехотя, покосившись на лежащее у стены неподвижное тело.
Через дверь с обугленными косяками Иванов вышел обратно в едва освещенный коридор. Прошел по нему, прислонился к стене, присматриваясь: где тут ход на второй этаж?
И вдруг совсем явственно где-то над потолком двумя короткими очередями простучал пулемет. «Наш или немецкий?»
Пулемет коротко простучал снова. «Немецкий станкач! — по звуку определил Иванов. — Или наши гвоздят из трофейного?..»
Снова тихо.
— Давай! — донеслось с улицы. — Вперед, това…
Го-го-го-го-го-го!.. — зашелся пулемет наверху, длинной очередью зачеркивая голоса.
«Немцы стреляют. Немцы в доме! Эх, Филю оставил… Вернуться! Или прежде отыскать наверху пулемет и по нему сзади?»
Где-то близко, позади, шаркнули шаги. Кто? Кто это?..
Попятился в ближнюю из дверей. Прижался спиной к косяку. Перехватил автомат за ствол: лучше без выстрела, чтобы там, на втором этаже, раньше времени пулеметчиков не спугнуть.
Шаги — медленные, все ближе… Ждал, до боли в пальцах Стиснув ствол автомата.
Почему немец остановился? Опять идет!
По следу крадется… Вот он, фашист, шагах в пяти, не больше. Сейчас получит. Только бы не промахнуться, свалить с первого удара.
Уже занес автомат, поджидая, пока преследующий поравняется с дверным косяком.
— Эй, Иван в квадрате! — окликнул его знакомый голос.
— Филя? — Иванов шагнул обратно в коридор. — Не сиделось тебе! — Он уже не стал говорить, что чуть не стукнул Музыченко, приняв за фашиста.
Угол, поворот коридора… Снова наверху заливистая пулеметная очередь.
Еще несколько шагов вдоль стены. Проем. Тут! Выщербленные ступеньки вверх.
Сзади баском охнул, видно рана дала себя знать, Филя.
— Сядь, отдышись! — оглянулся Иванов на ходу. — Потом догонишь!
Музыченко обессиленно опустился на ступеньку:
— Кажись, котелок у меня треснутый. Паять надо…
Шаг, два, три… Иванов крался по ступеням вверх бесшумно, даже сам не слыша собственных шагов. Пулемет молчит. Но теперь и без того понятно, где он. «Не стреляете?.. Ждете, пока наши снова покажутся?.. Ну, дождетесь!..»
Еще ступенька вверх. Последняя!
Лестница вывела на второй этаж. Такой же коридор, как на первом. Две-три двери, в которых не осталось даже косяков, торчат углы оббитых кирпичей.
«В которой?»
За одной из дверей близ лестницы слышался слабый шорох.
Прижимаясь к стене, вплотную подобрался к двери. Осторожно, одним глазом, выглянул из-за косяка и сразу же бесшумно отпрянул. Успел увидеть: три спины в немецких шинелях, три каски, за ними тупорылый пулемет на четырехногом станке нацелен на улицу из окна, в котором не осталось и следов рамы.
«Поджидаете наших?.. Дождались! Мы уже здесь».
Под ногой хрустнул какой-то камешек. Но немцы не успели оглянуться: Иванов нажал на спуск…
Он хотел подбежать к пулемету, возле которого, теперь уже недвижные, лежали три фашиста. Но снизу, оттуда, где остался Музыченко, докатилась гулкая автоматная очередь.
Скорее к Филе!
В два прыжка достиг лестницы, сбежал по ней. Увидел: Музыченко, полулежа на нижних ступеньках, короткими очередями бьет вдоль полутемного коридора. Дал очередь туда же, присев рядом.
— Быстро, Филя!
Подхватил Музыченко под руку, потащил вверх по ступеням, по которым только что сбегал. А Филя снова стал грузный, пошатывался — видать, на него опять навалилась слабость, временами отпускавшая его.
Второй этаж… Подтолкнул Музыченко в первый же дверной проем на пути, вбежал за ним — и только тогда увидел: от комнаты, что когда-то была за этой дверью, остался лишь пол да часть внутренних стен. Почти со всех сторон открыто… Эх, не сюда бы!
В дальнем конце коридора гулко затопали кованые сапоги. Немцы бегут следом по лестнице!
Толкнул Филю в угол к стене. Бросил взгляд вниз. Не прыгнешь на камни со второго этажа… Да и как с Филей? На ногах не держится…
Но Музыченко, перемогаясь, поднялся. Топот немецких сапог за стеной. Рядом!
Может быть, не заметят? Оба замерли, прижавшись к стене.
Топот и голоса у двери. Сейчас немцы увидят…
Не сговариваясь, оба разом из автоматов ударили в дверной проем, наискосок, чтобы пули летели вдоль коридора.
Тихо за дверями… Немцы убежали или притаились?
Музыченко заменил опорожненный диск, другой, снаряженный, из своего запаса, молча протянул Иванову.
Сменили опорожненные магазины. В коридоре со стороны лестницы слышалось какое-то шуршание. Подкрадываются… Из автомата за стеной их не достать. Была бы хоть одна граната…
— Рванем! — шепнул Музыченко. — Единственный шанс. Наши близко!.. Проскочим…
— А сможешь?
— Смогу.
Иванов поднял с пола кирпич:
— Брошу и давай. Оба враз. — Шагнув к двери, гаркнул: —Полундра!
Кирпич вылетел в дверной проем.
Выиграть секунду, пока враги не поняли, что брошена вовсе не граната.
Выскочив в коридор, Иванов чуть не споткнулся о двух немцев. Оба, раскинув полы шинелей, пятнистых от пыли, лежали ничком, охватив головы руками. Ждут разрыва…
Ствол автомата вниз, короткая, наскоро, очередь по обоим.
— Филя, жми!
И вдруг один из лежавших немцев, вскочив, бросился на Иванова. Это оказался здоровенный и ловкий фашист. Ударом в грудь он сбил Иванова с ног, да так, что у того вылетел автомат. Но и у немца в руках не было оружия — наверное, уронил, когда кидался на пол, спасаясь от кирпичной «гранаты».
Пальцы немца, словно железные, вонзились в шею Иванова. Он попытался освободиться от них, но не смог. Перехватило дыхание, перед глазами все стало багровым. Сквозь эту кровавую пелену разглядел: второй немец наставляет на него винтовку, что-то кричит тому, который вцепился в горло. Пока этот вцепившийся немец вплотную — тот из винтовки не выстрелит, чтобы не попасть в своего. Но если не оторвать железных пальцев от горла — конец! В глазах уже все потемнело, воздуха нет… Воздуха! Воздуха!
Отчаянным рывком Иванов крутнулся из-под немца, но тот вновь прижал его к полу. Прямо перед своими глазами, через пелену красного тумана, застлавшую их, Иванов увидел: по кускам штукатурки суетливо топочут два рыжих немецких сапога, припудренных известковой пылью. И рядом, сшибаясь с ними, так же яростно топочут солдатские ботинки с обмотками. Филя! Ослабевший от раны Филя и здоровенный немец.
«Одолеет Филю — нам обоим конец!»
Сознание этого увеличило силы, и ему удалось вывернуться. Вскакивая, увидел: Филя, свирепо ругаясь, пытается вырвать винтовку у второго немца. Но тот силен…
Страшный удар в челюсть. Иванов рухнул на бугристый от обломков пол и покатился куда-то вниз…
Придя в себя, схватился за щеку: «Ух, как меня этот немец… Со второго этажа!.. А что с Филей? Он ведь там остался…»
Хотел подняться, но резкая боль в лодыжке правой ноги бросила обратно на землю. От этой боли, а главное — от неожиданности ее у него пот выступил на лбу: «Вывихнул? Сломал? Только этого не хватает… А Филя, Филя где?»
Стиснув зубы, поднялся. Держась за стену, побрел к лестнице, при каждом шаге вздрагивая от боли в ноге.
Мимо по коридору и вверх по лестнице, по ступенькам которой он только что свалился, пробегали бойцы в темных от пота и пыли гимнастерках.
«Эх, досадно! — вспомнил Иванов о спрятанном под фланелевкой флаге. — Сам хотел…»
— Ставь наверху! — крикнул он пробегавшему мимо солдату.
— А ты что, ранен? — не останавливаясь, спросил солдат, подхватив флаг. — Поставим!
Уже все бойцы пробежали по лестнице вверх, а Иванов медленно преодолевал ступеньку за ступенькой. Было больно, но, прислушиваясь к этой боли, он говорил себе: «Ничего, разомнется!»
Кое-как взобравшись на второй этаж, он сразу же, неподалеку от лестницы, увидел Музыченко и обрадовался: «Жив Филя!» Над Музыченко, сосредоточенно накручивая ему на голову свежий бинт, хлопотала девушка-санинструктор в синем берете и с якорьком — знаком морской пехоты на рукаве гимнастерки.
Иванов задержал взгляд на девушке: не Маша ли? Если бы она!
— Все в порядочке! — засиял Музыченко, увидев Иванова. — Старшине доложился… А я уж загоревал по тебе! Как тебя тот фриц шибанул!.. Ты что, хромаешь?
— Ничего, пройдет. — Иванов сел, чтобы перевести дух.
— Смотри, ставят! — вдруг закричал Филя.
Там, где голубело небо сквозь перекошенные обломки стропил, два парня в солдатских гимнастерках, но с матросскими бескозырками на головах, помогая друг другу, карабкались все выше. Они тащили с собой длинный шест. Вот они добрались до места, выше которого лезть уже некуда — там прямо в небо упирались две сходящиеся углом балки. Уцепившись за них, оба бойца подняли шест — и на верхнем конце его полыхнуло бело-голубое с красным. Легкий ветерок, летящий откуда-то с моря, развернул его. В памяти Иванова промелькнуло недавнее: бурлящая от осколков и пуль, темная, с багровыми отблесками вспышек, вода, на ней — головы в пилотках, касках, бескозырках, впереди — серые камни причала, развороченного торпедами, позади — мачта его «морского охотника», его корабля с перебитыми обвисшими фалами. Она медленно уходит в воду. Под гафелем колышется бело-голубое полотнище. Еще мгновение, и оно коснется воды… Боевые корабли погибают, не спуская флага. Но корабль — это не только железо. Это и люди. Флаг ведет тех, кто, расставаясь с кораблем, продолжает бой. Ведет, даже если с ними и нет флага…
В коридоре останавливались солдаты и матросы, запрокидывая запыленные, довольные лица, смотрели на флаг, плещущий в прозрачном сентябрьском небе.
— А наш-то, наш поставить! — засуетился Филя, чуть не вырвал бинтуемую голову из рук сестры. — Что ж ты? — показал он на фланелевку Иванова. — Доставай скорее!
— А это наш и поставлен! — улыбнулся Иванов.
Кто-то из бойцов, смотревших на флаг, проговорил:
— И над Севастополем так подымем!
— И над Берлином клятым! — отозвался другой.
Откуда-то из глубины здания раскатисто прогремел властный голос:
— Всем — вниз!
Бойцы, топоча, пробежали мимо. Музыченко улыбнулся Иванову:
— Слышал — наш старшина команду дал? Жми! А я — на текущий ремонт.
— Сейчас добинтую — и в медпункт его, — подтвердила девушка.
Иванов попросил:
— Да уж постарайтесь! Герой!
Девушка улыбнулась:
— Знаю… У нашего Музыченко и черепная кость геройская. Повышенной прочности.
Уже все бойцы сбежали по лестнице.
— Кончим бой — наведаю тебя, Филя! — пообещал Иванов. — Сегодня к вечеру разыщу! — И, хотя боль в ноге еще не утихла, заторопился вниз — не отстать бы снова!
Не знал он, что еще четверо суток продлится бой, пока из города не выбьют последних фашистов, что к тому времени Филя будет уже далеко, в госпитале.
БЕСКОЗЫРКА НАД ГРАФСКОЙ
Торпедный катер шел полным ходом, чуть подпрыгивая на встречной волне. В лицо Иванова, стоящего у турели с двумя крупнокалиберными пулеметами, вихрем летели брызги, подхваченные боковым ветром. Они мешали видеть: водяная солоноватая пыль била в глаза, в щеки, проникала под плотно застегнутый кожаный штормовой шлем, под брезентовую куртку. Немного познабливало.
Был тот час, когда ночь еще неотторжима от утра. Еще несколько минут назад трудно было различить впереди, где проходит черта, отделяющая небо от моря. Сейчас же эта граница определялась все более ясно. Небо было уже совсем светлым, хотя солнце еще не показалось. Но его скорое появление угадывалось в части горизонта, лежащей справа по ходу корабля, — там, где за туманной далью скрыт крымский берег. Где-то там, справа по борту — Севастополь. Ночью, когда катер вместе с другими находился в дрейфе — в засаде, поджидая немецкие транспорты, в той стороне, в нижней части ночного неба, временами были заметны красноватые отсветы. Что-то горело в Севастополе, который вот уже несколько дней наши войска штурмуют со всех сторон.
Почти все эти дни и ночи отряд торпедных катеров, к которому принадлежал катер Иванова, нес патрульную службу на путях от румынского побережья к Севастополю. Этими путями гитлеровцы сначала подбрасывали подкрепления, а позже, когда их положение в Севастополе стало совершенно безнадежным, начали вывозить оттуда свои войска. Катера отряда то часами лежали в дрейфе, заглушив моторы, то курсировали в заданных квадратах моря, подкарауливая транспорты и самоходные баржи врага.
Вчера катера наконец дождались крупной добычи. Они обнаружили два транспорта, идущие от Севастополя. Транспорты шли под охраной сторожевиков, те встретили вышедшие в атаку торпедные катера огнем пулеметов и пушек. Мало того — на помощь каравану прилетели, очевидно вызванные по радио, «мессершмитты». Но к тому времени один из транспортов был уже потоплен торпедой, второй тонул, один из сторожевых кораблей горел, подожженный реактивными снарядами, выпущенными с катерных установок. Остальные сторожевики вышли из боя, избегая риска попасть под удар «морских катюш».
Отряд остался продолжать дозорную службу. Но катеру Иванова пришлось вернуться в базу: крупнокалиберные пули «мессершмитта», прошив палубу, вывели из строя один из моторов.
Повреждение устранили за короткие часы, катер получил приказ вновь выйти в море, присоединиться к отряду.
До квадрата, где они должны были найти отряд, оставалось с полчаса хода. День еще не наступил, однако ночь уже ушла, и видно было далеко. С привычной настороженностью Иванов поглядывал на небо, готовый немедленно направить стволы пулеметов туда, где покажется вражеский самолет. Но еще не прояснилось. В такую рань немцы едва ли прилетят. Все чаще Иванов поглядывал вперед, на еще туманный горизонт: не покажутся ли знакомые силуэты катеров отряда? А может быть, еще раньше встретится какая-нибудь немецкая посудина? Ну, тогда держитесь, фашисты! Два года назад плыл он где-то здесь со своими нечаянными спутниками от мыса Херсонес, держась за кузов разбитого грузовика, а потом в найденном, на счастье, барказе. Тогда тоже смотрел во все глаза: не покажется ли враг? Но в том положении они были беззащитны и боялись, что он их увидит. Сейчас же Иванов жаждал встречи с врагом.
Не выпустить ни одного фашиста из Севастополя, обезвредить их всех и насовсем!
Два года назад Иванов и Василь Трында уходили из Севастополя с сердцами, полными горечи. А теперь? Позади освобожденные Новороссийск, Керчь, Феодосия, Ялта — города, в которые он с моря уже вошел освободителем. Сейчас он — на быстроходном катере с грозным оружием. Две торпеды, установка с реактивными снарядами, крупнокалиберные пулеметы — все наготове. Только бы увидеть врага!
Севастополь… Вернуться в него. Вернуться победителем. Об этом мечталось давно. Может быть, еще с того дня, когда плыли вчетвером — с Васюковым, Петей и Машей — от севастопольского берега, плыли в неизвестность. Где-то вы сейчас, друзья? В каких местах воюете? Живы ли? Почему, почему все-таки от Маши не пришло ответного письма?.. Но что это?!
— Слева по борту самолет! — крикнул Иванов и взялся за рукояти пулеметов.
Стоявший рядом лейтенант — командир катера — вскинул к глазам бинокль.
Но уже и без бинокля видна в розовеющем утреннем небе стремительная черная точка. Не точка — черточка.
Все ближе, крупнее… Иванов повернул навстречу ей турель с двумя ребристыми стволами.
Но лейтенант, опустив бинокль, спокойно сказал:
— Наш.
Теперь и без бинокля ясно: точно, свой! Штурмовик. Что же он заприметил в море? На кого заходит?..
Ага, теперь видно: повернул на длинную самоходную баржу. До этого она, сидящая низко, с приземистой надстройкой на корме, не была заметна — открылась взгляду только что, по ходу катера слева.
Но катер не изменил курса, не идет на сближение с баржей. Только сбавил ход. Что ж, правильно решил командир. Не надо мешать штурмовику. Он один разделается с этой длинной посудиной, наверное напичканной фашистами, не придется катеру тратить на нее драгоценной торпеды.
Пикирует!
Штурмовик коршуном ринулся на баржу. Но тотчас же взмыл вверх, отвалил в сторону. Почему не обстрелял? Баржа идет по-прежнему. Теперь, когда катер еще сблизился с нею, отчетливо виден беловатый бурун за кормой. Прибавила хода! «Курс норд-вест», — привычно определил Иванов. Баржа спешит к румынскому берегу. Наверное, в Констанцу, где немцы еще полные хозяева.
Все на катере сейчас следили за самолетом и баржей. Штурмовик сделал новый заход, низко, чуть не задев надстройку, промчался над баржей. Еще заход… Может быть, у летчика кончился боезапас? Нет, нет… Новый заход — и перед крыльями самолета, пронесшегося над баржей; проискрили желтоватые огоньки. Стреляет! Но почему не по барже, а мимо, поверху?
Прекратил огонь. Набрал высоту. Делает круг, другой… Улетел.
В чем же дело? Иванов глянул на командира. Тот через бинокль внимательно всматривается в баржу. Ход катера сбавлен до малого. До баржи еще далековато. Но можно различить: на палубе полно народу. Не уместились все внизу? Нет, не то…
Что-то сказав рулевому, лейтенант сам встал к штурвалу и нажал кнопку машинного телеграфа. Рассерженно взревели моторы. Корабль рванулся вперед.
Растет, растет впереди длинный темный корпус баржи… Но почему лейтенант, когда уже почти вышли на боевой курс, вдруг отвернул, повел катер параллельно ей?
Ага, теперь, кажется, понятно… Люди на палубе баржи — да ведь это женщины с грудными детьми! Суетливо мечутся, подымают детишек на руках, показывают: «Не стреляйте!» Так вот почему штурмовик, посновав над баржей и постреляв для острастки, не стал топить ее и улетел! Иванов в ярости стиснул пальцы на пулеметных рукоятках: «Гады фашистские, нашими людьми прикрываются!»
Теперь баржу и шедший параллельно ей катер разделяло расстояние не более чем в триста — четыреста метров. Отчетливо можно разглядеть женщин, у каждой грудной ребенок на руках. А немцев на палубе не видно. Даже возле задранного стволом в небо зенитного пулемета, установленного на треноге на крыше рубки, — никого. «Попрятались. Трусите!» — усмехнулся Иванов.
Лейтенант скомандовал сигнальщику:
— Просемафорь фрицам: стоп!
Замелькали рядом вспышки сигнального фонаря.
— Передано! — доложил сигнальщик.
Однако баржа продолжала идти прежним курсом. Даже, кажется, прибавила ход.
«Что же решит командир?» — Иванов внимательно вглядывался в баржу, на палубе которой продолжали метаться женщины, подымая на руках детей. Из-за них командир не прикажет открыть огня по барже, пусть она внизу битком набита немцами. Но и оставить в их власти наших людей — тоже нельзя. Уйдут, прикрываясь ими, а потом загубят и матерей и ребят. Известно — фашисты…
— Быстро вниз! — крикнул лейтенант стоявшему рядом радисту. — Вызвать боцмана, с собой сюда — два автомата!
— Есть! — прошмыгнул мимо Иванова радист, пулей слетел под палубу по крутому узенькому трапу.
Вот уже и радист и боцман — он же старшина мотористов, оба с автоматами, появились наверху.
На миг остановив взгляд на боцмане, лейтенант показал тому на Иванова:
— Автомат — ему. А вы — к пулеметам.
Взяв автомат, Иванов сунул в карман куртки длинную кривую, тяжелую от патронов обойму — запасной магазин, поданный ему боцманом.
— На левый борт! — приказал лейтенант Иванову и радисту. — Спрыгнуть на баржу, захватить рубку — обезвредить команду! Стрелять только в случае крайней необходимости и наверняка. Да не попадите в женщин! Немцев на палубу снизу не выпускать. Иванов — старший!
— Есть!
Повесив автомат на шею так, чтобы он держался понадежнее и в любую секунду был готов к стрельбе, Иванов выбрался из рубки налево, на покатую, скользкую от воды палубу и попрочнее, чтобы не сбросило, встал на ней, уцепившись рукой за ограждение рубки. Радист выбрался следом.
Иванов ожидал, что сейчас катер начнет сближаться с баржей, постепенно сбавляя ход. Но катер вдруг набрал скорость, круто отвернул от баржи вправо.
«В чем дело? Почему уходим?» — сначала удивился Иванов. Но когда через минуту, описав по воде петлю, катер вновь ринулся к барже, заходя ей теперь с кормы, Иванов понял: правильно решил командир, ведь с баржи могут открыть огонь, и притом безнаказанно. Заходить к ней с кормы, не подставляя борт, все-таки безопаснее.
Прямо по носу — белый бурун позади баржи. Все отчетливее видна кормовая надстройка. Иллюминаторы ее тускло блеснули в мягком свете раннего утра. Катер взял чуточку правее. Вот-вот пройдет впритирку, борт к борту.
Еще мгновение…
На надстройке, возле зенитного пулемета, мелькнула скрюченная черная фигура, слилась с ним. Воздух над катером рванули пули.
За спиной Иванова загремели оба его пулемета, у которых стоял сейчас боцман. Ярко-белые огоньки их пуль пролетели над баржей, обогнав ее, угасли далеко за нею. Но пули, кажется, не задели ни фашистского пулеметчика, ни пулемета на рубке: катер на быстром ходу подбрасывало на волне, и боцман, понятно, побоялся взять ниже, чтобы не попасть в женщин с детьми.
Огонь с катера, может быть, и не вывел из строя пулемета на барже, но все же заставил его замолчать — хотя бы на несколько секунд.
Чуть сбавляя ход, катер уже равнялся с баржей. Промелькнула слева рубка, на ней, прячась за треногой с пулеметом, горбился немец в черном.
Высокий серый борт баржи, оплескиваемый белой пеной, был уже рядом. Иванов теперь совсем близко видел встревоженно снующих по палубе женщин, до глаз закутанных в шали и платки, с младенцами на руках — они их поднимали вверх, что-то крича.
Между бортом баржи и бортом торпедного катера — не больше трех метров, двух метров…
«Прыгаю!» С силой оттолкнувшись ногой от палубы, Иванов вдруг услышал за спиной голос лейтенанта:
— Отставить!
Но остановиться не успел — уже прыгнул.
Катер проходил мимо баржи на довольно большой скорости, и поэтому Иванов, летя по инерции, с силой ударился подошвами о палубу. Не устоял, упал. Перед глазами мелькнули топочущие по железу палубы рыжеватые сапоги немецкого армейского образца — с широкими, твердыми голенищами, серо-зеленые солдатские штаны, над ними — подол темного женского платья.
Так вот почему лейтенант крикнул «отставить»!
Иванов вскочил на ноги через секунду после того, как упал. К нему со всех сторон бежали немцы, в шалях, платках, женских пальто.
Еще не успев выпрямиться, он, не целясь, куда попало, веером дал длинную, на полобоймы, очередь по ряженым. Те бросились врассыпную. На палубе перед Ивановым осталось только два или три свертка, которые лишь минуту назад в руках немцев изображали младенцев.
В нескольких шагах впереди темнел широкий квадрат раскрытого люка. Туда попрыгали переодетые женщинами немцы. Он хотел подбежать к люку, дать туда очередь и, может быть, успеть захлопнуть крышку. Но, услышав сзади гулкий топот, обернулся. От рубки к нему бежал немец в распахнутой синей морской шинели, вскидывая пистолет. За ним бежали еще трое-четверо.
Не поднимая автомата к плечу — некогда! — нажал на спуск.
Он не успел до конца израсходовать патроны, оставшиеся в магазине, хотя на это требовалось бы еще лишь две-три секунды. Резкий, словно током, удар в запястье правой руки. Оружие какой-то непонятной силой вырвало из пальцев. Не устоял, рухнул.
Топот немецких сапог по железу палубы, на которое Иванов упал головой, звучал громом. Может быть, это гремели не сапоги немцев, а выстрелы, выстрелы в него?
Не взглядом — чутьем понял: совсем рядом край борта — пахнуло морем, прошумела волна…
Оттолкнувшись здоровой рукой, сделал рывок, бросил тело за борт. «Лучше в море погибнуть, чем немцам…» Мысль затемнило болью в раненом запястье.
Очнулся от холода воды, от того, что задыхается, охваченный ею со всех сторон. Шумящая, наполненная гулом винтов, она властно держала его, кружила, затягивала. Превозмогая боль в ране, сделал несколько отчаянных гребков, бешено действуя руками и ногами. Наконец вода исторгла его из своей глуби. Наверное помогло то, что под брезентовой «штормовой» обмундировкой — курткой и брюками — удержалось немало воздуха в момент падения.
Едва вынырнул и раскрыл рот, чтобы вдохнуть свежего воздуха, как соленая вода ударила в лицо. Повернул голову по ходу волны, чтобы не ударило снова. Отмахнул со лба прилипшие волосы — шлем потерял, наверное, когда падал, — и огляделся.
Волна качала его позади баржи, чуть левее ее курса. Совсем рядом вода была еще полна взбитой винтами пены. Может быть, его и спасло то, что сразу после падения он попал в бурун, исчез из поля зрения немцев. Они, наверное, не отказали бы себе в удовольствии расстрелять матроса, так дерзко атаковавшего их.
«Где же наши? — повел взглядом вокруг. — Не видят меня! Пропаду…»
Непрерывно накатываясь, обдавая голову, волны мешали смотреть. В моменты, когда волна подымала его, он старался найти катер. Ведь если не подберут — долго не продержаться. Вода еще не летняя. Да и рана…
Торпедного катера, родного корабля, не было видно нигде. Неужели ушел? Но почему не топит баржу? Ведь уже ясно: на ней только переодетые фашисты.
Очередная волна подняла его. Увидел: баржа по- прежнему идет своим путем.
«Ушли… Неужели ушли? И не искали меня? Не может быть».
Сзади — ближе, ближе, оглушительно близко — гром моторов, шелест, шум, рев круто поднятой волны. С головой накрыло гремящим валом, кинуло куда-то в сторону. В те секунды, пока еще не вынырнул, в уши ударил неистовый гул винтов, с огромной скоростью рубящих воду. Мимо, мимо проносится его корабль…
«Ищут?»
Наконец-то голова на поверхности. Еще близок звон винтов, рев моторов. Но виден только стремительно расходящийся бурун, облако вздыбленной пены и брызг, уносящееся по волнам. Прочь, прочь уходит катер…
«Не заметили?»
Крикнул во всю силу, но голос заглушила вода, ударив в рот. Хотел взмахнуть рукой — но вал опустился, его зеленоватый гребень с россыпью пены поверху закрыл от взгляда удаляющийся корабль.
Волна подкинула вновь. В короткие мгновения, пока еще держала на гребне, успел увидеть и свой корабль, и немецкую баржу одновременно. Торпедный катер делал широкий разворот, заходил в атаку.
«Не остановились бы, если б и заметили меня». Он не был сейчас в обиде на командира, на товарищей. Известно суровое правило морского устава: если корабль в бою, идет на врага — корабль не остановится для спасения погибающих.
Но болью сжало сердце: «Неужели так и останусь?..»
Снова качнуло вниз, в провал между двумя гребнями, и снова зеленоватые валы закрыли все, кроме неба над головой.
Стужей охватывало руки и ноги. Одежда, уже намокшая, теперь не помогала держаться, как вначале, наоборот — тянула вниз. Нестерпимо ныло, наливалось льдом простреленное запястье. С трудом превозмогал боль, приходилось действовать обеими руками, чтобы хоть как-нибудь удержаться, не погрузиться с головой. Удалось, орудуя здоровой рукой, сбросить отяжелевшую от воды куртку, хотел снять ботинки, но только нахлебался.
Надо держаться, держаться, держаться… Но долго так не пробыть. Правая, раненая, рука уже почти отказала. Сведет левую — и конец.
До ушей донесся громовой удар.
И снова — равнодушный, монотонный плеск беспрерывно катящихся волн.
Когда вновь подкинуло выше, баржи не увидел. Но не увидел и катера. «Все, пропаду… Сколько минут еще смогу продержаться?»
Но что это?
…Идет, идет!
Успел уловить взглядом: среди волн быстро движется пенное облако.
— Я здесь! — прокричал, как показалось, во все горло.
Но в гуле моторов и шуме волн услышат ли товарищи его голос?
Мимо, проходят мимо!
На миг, за мохнатым от пены зеленовато-сизым валом, разглядел корпус катера — серый, с приподнятым над водой форштевнем, длинный, как тело гончей. Рубка, над ее обрезом чернеет несколько голов. Кто-то привстал, опершись о плечи других, всматривается.
«Ищут! Сейчас увидят!»
Забывшись, взмахнул правой рукой. От резкой боли в ране потемнело в глазах. С головой ушел под воду.
Когда вынырнул, увидел: катер уже далеко, но идет не по прямой, а разворачивается, резко сбавляя ход. Значит, заметили?
Сил сразу словно прибыло. Занемевшие руки, казалось, вновь обрели прежнюю подвижность. Но едва попытался взмахнуть раненой рукой, чтобы дать знак своим, как она бессильно упала, — вновь погрузился с головой. Вынырнул.
«Видят! Видят!..»
Замедляя ход — уже опали пенные «усы» по бортам, — катер шел прямо на него.
Те две-три минуты, пока блестящий от воды борт не навис над головой, показались часом.
Перед глазами мелькнул тонкий, крутой дугой изогнувшийся трос, врезался в стеклянную крутизну волны совсем близко — только протянуть руку. Протянул — но онемевшие пальцы не смогли ухватить спасительной нити.
Сверху, с борта, ободряюще закричали сразу несколько голосов. Что-то рвануло его за пояс, потянуло вверх. Зацепили багром?
Через несколько секунд он был на палубе, с него снимали намокшее обмундирование, вели вниз, в тепло тесной катерной каюты. Дружеские руки укладывали на койку, растирали окоченевшее тело, перевязывали рану. Как-то сразу ослаб. Словно сквозь вату доносились голоса.
Спросил:
— Баржу потопили?
— Торпеду всадили — точно в борт! — услышал в ответ. — Фашистов пятьсот к рыбам пошло. Не успели из трюма вылезть.
Ну что ж, он свое исполнил… Глаза закрывались. После спиртного, влитого ему в рот, чтобы согреть, приятная истома разливалась по всему телу. Он был счастлив: «Жив, снова на своем корабле. Рана? Зато дело сделано. Пятьсот фашистов на счету команды катера. Больше эти немцы не повоюют. А рука? Что ж, перевязано — порядок. Быстро заживет. С катера не уйду…»
Накатившееся забытье прервало мысли.
Сколько времени прошло, пока очнулся? Первое, что ощутил, еще не открыв глаз, — мерную частую дрожь вокруг, глуховатый рев моторов и посвист волны за тонким катерным бортом, вплотную к которому лежал головой. Определил: «Идем полным».
Раненая рука почти не болела, знобило совсем немного. «Пустяки, я здоров!» Открыл глаза, сдвинул с груди наваленные горой одеяла и бушлаты. В тесной каютке, где едва умещались одна над другой две узкие койки — он лежал на нижней, — никого не было. Подрагивал в мутном плафоне на переборке тускловатый свет. С верхней койки свисал рукав брезентовой робы. «Моя?» Поднялся, пощупал — сухая. «Моя. Молодцы, ребята! В машинном быстро высушили».
Вместе с робой на верхней койке, оказалось, лежит и все остальное его обмундирование, а на полу — хорошо просушенные ботинки. Стараясь не расшевелить боли в ране и поэтому действуя очень медленно, оделся полностью, как положено для боевой вахты. Правда, не было уверенности, что сможет управляться с пулеметами: чуть посильнее шевельнешь рукой — и боль, острая, как укол.
Хотел повесить на шею ремень и в нем устроить, для покоя, раненую руку. Но раздумал: «Зачем внимание обращать? Потерплю».
Поднялся наверх, доложил командиру, что готов исполнять свои обязанности.
— Обязанность у вас сейчас одна — лечиться! — ответил на это лейтенант. — Высадим в Севастополе.
Чуть не остолбенел от изумления:
— Разве мы идем туда? Ведь там еще немцы.
— Получено радио: кончено там с ними. Вас в госпиталь сдадим — и опять в море. Еще плавают там фашисты недобитые.
— Из-за меня — назад? Потерплю. Я ж не сильно раненный.
— Допустим, не сильно, товарищ Иванов. — Лейтенант озабоченно сдвинул брови. — Да вот радист, который за вами, на счастье, прыгнуть не успел, пулю с баржи в бедро получил. Большая потеря крови. Каждая минута промедления опасна.
— А где он?
— В кубрике. Нам разрешено вернуться, чтобы сдать его врачам как можно скорее. В Севастополе нас уже ждут.
— Понятно, товарищ лейтенант.
Иванов спустился в крохотный кубрик команды, где на нижней койке лежал раненый, укрытый несколькими бушлатами. Он был бледен, глаза полузакрыты. Не надо тревожить его. С досадой подумал: «Чертовы фрицы! Провели нас своим маскарадом!»
…Держась здоровой рукой за планшир[25] рубки, Иванов пристально вглядывался в приближающийся берег. Все, кто был наверху, смотрели туда же. Об этой минуте — снова увидеть Севастополь, увидеть освобожденным от врага — кто не мечтал так давно и так страстно?
«Мы еще вернемся, Севастополь!» Иванову вспомнилось: так поклялись они с Василем, так поклялись все, кто был с ними в то горькое июльское утро два года назад. В то утро, когда, бросив прощальный взгляд на оставленный город, по белой от пыли каменистой дороге уходили к мысу Херсонес. До сих пор в памяти: раскатистый гром взрывов, ослепительно голубое небо, к нему медленно всползают тяжелые тучи черного дыма, пучатся над белокаменными кварталами сплошных развалин.
Да ведь и сейчас впереди, по курсу катера, такие же тяжкие черные тучи медленно всплывают в небесную голубизну от горизонта. Там Севастополь…
Город приближался слева, постепенно проступая из сизоватой морской дали. Открылась неровная полоса желтоватого берега, становясь все отчетливее. Уже угадывал глаз знакомые места: длинная желтоватая лента учкуевского пляжа, где-то левее впадает в море Бельбек. Невелика речка, а есть что вспомнить — на Бельбеке с Василем через фронт пробрались, там же не один месяц оборону держали. Сколько там атак отбито, под сколькими бомбежками пересидели! Обошлось, не нащупала тогда их безглазая… А потом от Бельбека — трудно было против силищи фашистской устоять — отходили, отходили… Мекензиевы горы, Инкерманские пещеры, Малахов курган, Корабельная сторона. С рубежа на рубеж. На каждом из них оставался навеки кто-то из боевых друзей.
…Севастополь еще не открылся из-за пологой возвышенности Северной стороны, но по дыму уже можно определить: самый большой пожар где-то в Южной бухте. Что горит?
Северная коса… На конце ее, как страж ворот Севастополя, Константиновский равелин. Уже после того как город был оставлен, рассказывали: когда немцы вышли к равелину, оттуда их встретила огнем горстка черноморцев во главе с комиссаром. Почти все погибли, а те, кто уцелел, оставили равелин лишь по приказу. Переплывая Северную бухту — другого пути для отступления не было, — погиб в воде от фашистской пули и комиссар… А сколько полегло на белых севастопольских камнях других флотских ребят…
Сбавив ход, торпедный катер огибал Северную косу, проходил уже мимо равелина. И как не боится лейтенант вести этим курсом? А если немцы напоследок мин понакидали?
Проходят назад, слева по борту, совсем близко, стены равелина, желтовато-бурые, сложенные из ноздреватых глыб. Черные квадраты старинных пушечных амбразур глядят в море. Стены сплошь иссечены осколками, кое- где обвалились. Камень не выдерживал… А люди держались.
Вот он, справа, — открылся город! Привет, братишка!.. Гордо вздымается из воды угловатая скала памятника затопленным нахимовским кораблям, увенчанная белой колонной, на вершине которой во всю ширь разметнул крылья бронзовый орел… «Диво! — поразился Иванов. — Камня на камне поблизости не осталось, а памятник этот все бомбежки обошли…»
Жадным взглядом смотрел на все вокруг, пока катер, миновав равелин, входил в бухту. Почти километровая ширь ее была пуста — даже маленького суденышка не видно. Не верилось: «Неужели наш корабль — самый первый?»
Пересекая Северную бухту, катер прошел мимо Приморского бульвара, на котором торчало лишь несколько обгорелых изломанных мертвых деревьев, мимо дотла выжженных зданий штаба флота и водной станции.
Показалась темная от копоти, когда-то белоснежная колоннада ворот Графской пристани.
Сладкой грустью тронуло сердце Иванова. Как это было давно! Матросом-первогодком, получив долгожданное увольнение, нетерпеливо взбегал с корабельного катера по ступеням пристани, спеша в город.
Графская пристань… Первый после палубы шаг по твердой земле, радость возвращения в Севастополь и близкой встречи с той, что ждет тебя, — вот что такое эта пристань для черноморца!..
Мирное время… Мир вернется. А то беспечное время, когда тебе всего девятнадцать и в жизни твоей еще нет никаких утрат?..
— Бескозырка! — воскликнул стоящий впереди Иванова лейтенант, который смотрел на пристань в бинокль.
— Разрешите? — заинтересовался Иванов. Здоровой рукой взял бинокль, протянутый ему. В окуляры явственно увидел: над портиком пристани, на покосившемся флагштоке, где когда-то по праздникам вывешивали флаг, — шевелятся на ветерке черные ленты.
«Повесил кто-то из морпехоты, кто первым до Графской дошел? Не было под рукой флага, вот бескозыркой и заменил», — и вспомнилось неожиданно: ночь на Бель- беке, блиндаж, две ленточки на столе, добрая улыбка командира и его слова: «Вместо корабельного флага вам служили». Что ж, правильно. Ленточка, флаг, бескозырка ли — суть-то одна… Вспомнилось и другое: барказ с самодельным парусом, рассказ Пети о том, как три матроса на Херсонесе прятали под скалой свой флаг. Вернулся ли с ним хоть кто-нибудь из них в Севастополь?..
Катер ошвартовался на Корабельной стороне, у причала, от которого остались только развороченные камни. Там уже ждали медсестра и два пожилых усатых санитара. Раненого матроса осторожно уложили на носилки и понесли к ожидавшей на берегу санитарной машине.
— А вы почему не сходите? — спросил Иванова командир.
— Я могу свое исполнять, товарищ лейтенант!
— Ничего вы не можете. У вас же серьезное ранение!
— Но, товарищ лейтенант…
— Немедленно отправляйтесь в госпиталь.
— Машина уже ушла.
— По дороге на Инкерман найдете попутную. Выполняйте!
— Есть…
С грустью смотрел Иванов, как отходит от причала его корабль. Что-то кричат на прощанье товарищи… Вот катер развернулся, увеличил ход. Заклокотал за кормой бурун, побежали по спокойной воде, не взборожденной пока что никаким другим кораблем, крутые волны. Словно на огромных, волнообразных переливчатых крыльях полетел торпедный катер к выходу из гавани. Прошел мимо равелина. Скрылся…
Поглядев вслед кораблю, Иванов нехотя стал подниматься по берегу. По сторонам громоздились бесформенные груды беловатого камня. Из него когда-то были сложены одноэтажные домики Корабельной стороны. Теперь даже трудно понять, какая здесь улица была. А ведь знаком был каждый закоулок. Еще бы! Здесь, на Корабельной, в казармах учебного отряда провел первые месяцы матросской жизни.
А четвертого июля, отступив уже и от Малахова, вышли через Корабельную сторону к Южной бухте — непривычно пустынной. И дальше кварталами сплошных развалин мимо собора, в котором покоятся Корнилов и Нахимов. Вот и сейчас по ту сторону бухты виден серебристо-серый купол, похожий на богатырский шелом. Смотри-ка ты — невредим!
Побывать бы там, в центре, на Большой Морской. Выйти на площадь, где стоял на постаменте Ильич с простертой к морю рукой. Ступить на памятные ступени Графской.
Да вот рука разбаливается…
Приспособил ремень на шею, вложил в него раненую руку — теперь можно и не делать вид, что ранение пустяковое.
На перевязи руке стало спокойнее, боль поутихла. Но в госпиталь идти, пожалуй, надо.
Зашагал через Корабельную сторону.
Корабельная сторона. Белые домики и ограды из тесаного камня, черепичные крыши, виноградные лозы по стенам… Сохранилось это только в памяти. Вокруг — груды камня да лишь кое-где уцелевшие стены.
Дома были мертвы. Но улицы уже ожили. Катили куда-то армейские машины, обозные повозки, проходили солдаты — запыленные, с вещмешками и скатками, только что из боя.
Вот уже и берег Северной бухты. По нему, вдоль воды — дорога к Инкерману. Справа, вплотную к дороге, скалы — сероватые, сверху поросшие чахлой травкой.
Остановился в изумлении. Ниже дороги, по отмели, волны поталкивали гробы, — новенькие, желтеющие свежим струганым деревом — без крышек, пустые. Некоторые были связаны по два-три вместе. Гробы десятками лепились возле кромки берега. Как они попали сюда?..
Пошел дальше. Знакомое место, а выглядит необычно: скалы близ дороги изломаны, осели, словно земля под ними не выдержала их тяжести.
«Остановись!» — властно сказала память.
Когда-то здесь к дороге выходили ворота штолен — глубоких туннелей, вырезанных в толще камня. До войны здесь годами хранились, для выдержки, миллионы бутылок шампанского. Когда фашисты разбомбили водопроводную станцию, приходилось, пока не наладили добычу воды, замешивать хлеб в пекарнях и на шампанском. В этих штольнях размещались мастерские по ремонту оружия. Однажды он с Василем и еще несколькими матросами получал здесь починенные пулеметы. В подземном цеху видели только стариков, мальчишек- подростков да женщин — все мужчины были на передовой. Где-то тут же в штольнях был и госпиталь, в них же — мастерские, в которых шили обмундирование, делали минометы. Люди жили там же, в подземельях, где и работали. Даже школы, говорят, там действовали. Это был целый город, толщей скал скрытый от фашистских бомб и снарядов. А сейчас… Где были входы в штольни? Не отыскать. Только торчат глыбы расколотых взрывом скал.
Память, память…
Мимо этих скал проходили в тот знойный день, когда покидали Севастополь. Шли вот оттуда — от беловатых круч, что видны впереди. Там кончается Северная бухта и где-то за нею — пещеры-кельи, в одной из них держали последнюю позицию вдвоем с Василем. А ближе на круче — почерневшая за века, полуразвалившаяся башня. Древняя русская крепость Каламита… В ее дворе, на старинном кладбище, хоронили в последние дни обороны товарищей. Где-то там лежат они — среди давнишних грубо вытесанных каменных крестов и надгробных плит с полустертыми надписями. Не до того было, чтобы поставить хотя бы простой столбик со звездочкой. На холмик могилы, выдолбленной в жесткой инкерманской почве, клали бескозырку погребенного или плоский камень с наспех выцарапанной штыком фамилией. Немцы, наверное, и это поуничтожили.
Вспомнил друзей из морпехоты, тех, что лежат на кладбище Каламиты. «И я бы там мог… Ну ладно же! Придет время, всем вам, ребята, памятники поставим. Такие, чтобы аж с моря были видны…»
— Иванов! — окликнули его.
Обернулся — и не поверил глазам:
— Петя, ты?
Точно, это был Петя, тот самый Петя! Только он теперь совсем не походил на того щуплого паренька, солдата-новичка, с которым два года назад плыли они от мыса Херсонес через все Черное море. Петя возмужал, округлился лицом, и даже что-то вроде усов наметилось под носом. На его гимнастерке посверкивали медали, на погонах краснели широкие лычки — старший сержант!
— Вот здорово! И не гадал, что встретимся! — В восторге Петя протянул Иванову обе руки.
— Не гадал? А разве наш уговор не помнишь? — Иванов хотел обнять Петю. Резкая боль напомнила о ране. Спросил, крепко пожав здоровой рукой Петину руку: — А где Маша, Васюков?
— Васюков… — На сияющее лицо Пети словно внезапная тучка набежала. — Убили Харитона Матвеича. Когда в Керчь высаживались. Только на берег ступили — тут его и настигло.
— Жаль… — вздохнул Иванов. — Хороший человек был.
— Мне как отец родной…
Оба помолчали. Первым нарушил молчание Иванов, ему не терпелось:
— Ну, а Маша?
— Ты же знаешь — ее с пересыльного в госпиталь в Сочи направили.
— Знаю. Только нет ее там теперь.
Петя не заметил огорчения Иванова, поинтересовался:
— Откуда ты здесь?
— Откуда моряку положено — с корабля. А ты откуда?
— И я с корабля! — Петя проговорил это не без гордости.
— С какого же? Десанта в Севастополь не было.
— Был! — Петя показал в сторону бухты. — Константиновский равелин знаешь?
— Ха! Ты спроси, чего я в Севастополе не знаю?
— Так вот — мы за равелином высаживались! Где коса такая…
— Северная.
— Во, во! Там. Не веришь? С катеров ночью. Весь наш батальон. Немцы пока спохватились — мы уже Северную сторону насквозь, по улицам — тарарам!
— Послушать тебя — не война, а прогулочка, — улыбнулся Иванов. — Что ж ты столько дней Севастополь взять не мог?
— Попробовал бы взять! Погляди, какие тут немец укрепления имел! Каменный фронт! Легко сказать — прогулочка!
— Ладно, гвардия, не лезь в пузырь! Ты на Северной и отвоевался?
— Больно ты скор! — Петя, видно, обрадовался возможности порассказать о своих подвигах. — Мы еще и бухту под огнем форсировали на гробах, которые немцы своим приготовили.
— А, видел! Те гробы, что у берега дрейфуют?
— Те самые. Мы из них плотики вязали…
— Сержант! Чего ж ты оторвался? Давай сюда! И кореша веди!
Только сейчас Иванов заметил неподалеку от дороги, у подножия скалы, мичмана и троих матросов в синих робах. Они сидели на земле, усеянной серым щебнем, сквозь который пробилась весенняя травка. Возле них лежали миноискатели и длинные щупы.
— Дружки мои! — на ходу объяснил Петя. — Вместе с нами высаживались. Немецкие мины ищут. Уже сто штук в городе вытащили.
— Привет черноморцу! — шумно приветствовали минеры Иванова, когда тот подошел с Петей.
— Ого! Шампанское! — изумился Иванов, увидев, что перед моряками на земле стоят три большие черные бутылки с пробками, оплетенными проволокой, рыжей от ржавчины. — Где раздобыли?
— Здесь нас дожидалось! — показал мичман на разрытую землю.
— Повезло вам с такой находочкой.
— Никакого везенья. Сами прятали.
— Когда?
— В сорок втором, четвертого июля.
— Эх, не знал! Я ведь в тот день мимо проходил…
— Да ну? — Мичман засиял. — Значит, друг наш боевой! Мы ведь тоже последними уходили, как нам, минерам, положено.
Мичман взял одну из бутылок, начал осторожно раскручивать проволоку на горлышке.
— А что вы тут делали четвертого? — спросил Иванов мичмана.
— Приказ имели — штольни подорвать, — охотно объяснил тот. — Закладываем заряды, глядь, в отсеке — шампанского штабель! Решили: гитлеровым детям той шампанеи не оставим, подорвем. А для себя зароем, чтобы распить в честь возвращения. Вернулись сегодня — порядок, шампанея ждет!
— Хорошо вам! — порадовался Иванов за минеров. — Как были — вместе. А я вот только одного Петю встретил. Раскидывает война…
— Раскидывает… — Мичман продолжал с поистине минерской осторожностью снимать проволоку с горлышка. — А нас могла и закидать, когда штольни рвали. А что? Пока шнуры тянули — немцы уж вот они, на скале. Ну, говорю, сейчас мы вас доставим прямиком к вашему немецкому богу, с горы вам ближе. Как рвануло — дым до неба, и фрицы в нем. Так и не пришлось тем фрицам Севастополем полюбоваться.
Мичман наконец раскрутил проволоку. Лихо взлетела пенная струя.
— За победу! — поднялся мичман. — За наш Севастополь!
ЧЕРЕЗ ГОДЫ
Трынде Василию Остаповичу
Василь, дружище!
Двадцать лет ни слуха, и вдруг — твое письмо! Я прямо ошалел. Кто не знал, в чем дело, — спрашивал: орденом награжден? «Волгу» выиграл? Что — «Волга»! Тебя нашел!
Как здорово, что твой глаз зацепился за мою фамилию в газете. Спрашиваешь, не тот ли самый Иванов? Тот самый!
Уже вторично отыскиваешь меня раньше, чем я тебя. Помнишь — 24 июня сорок пятого, в Москве? Прямо с Парада Победы ты заявился ко мне в госпиталь. До сих пор злюсь: чертовы фашисты всадили-таки мне пулю напоследок. На память о берлинской речке Шпрее и о том, как я через нее перебрасывал на полуглиссере автоматчиков. Тех самых, что предлагали: «Дай, моряк, флажок со своей посудинки, заодно на рейхстаге поставим!»
Никак не думал, что после той встречи снова потеряем друг друга, в мирное-то время! А все ж верил — встретимся! Согласен — друзья военные не забываются. Вот Мансура — разве можем позабыть? Как-то был я в командировке в Волгограде. Осенью, когда на Волге уже ледок. Как раз в такую пору, в сорок втором, Мансур там со своим кораблем погиб. Не сообщи товарищи тогда его матери, а она тебе — и не узнать бы… Видел я там над берегом на постаменте бронекатер. В память моряков, которые у Сталинграда воевали. Выходит — и Мансуру этот памятник, и нашему капитан-лейтенанту Лысенко. Ведь пишешь — теперь доподлинно известно: Лысенко, как и Мансур, через немецкие тылы и фронт к Сталинграду вышел и там воевал.
Жаль, не дожил Мансур до конца войны, не увидел того, что мы. С ветерком прошлись по Европе, когда фашизму кол загоняли, есть что вспомнить. Ты по Дунаю через шесть держав до Германии, и я туда же, только с другого края. Жаль, не вместе. Будь ты у нас на Днепровской — вместо меня к рейхстагу прогулялся бы, глянул, верно ли, что на нем среди флагов — наш военно- морской? Говорят, видели. Интересно, с какого корабля? Ходил слух, что бронекатер с флагом, который днепровцы из окружения вынесли, под Сталинградом воевал, а потом до Германии дошел. А что, свободно мог быть и флаг нашей броняшки, которая лежит в Десне.
Эх, как хочу поскорее встретиться, Василь, взглянуть, каким ты стал! В сорок пятом погоны имел ты всего главстаршинские. А теперь знай наших — капитан второго ранга. Не пишешь, в какие моря-океаны ходишь. Но догадываюсь, коль тебя жена по три месяца не видит. А помнится, ты не собирался оставаться в моряках, хотел сразу после войны к себе в Табунивку и меня приглашал. Даже оженить обещал, на «самой наикращей». Почему ж планы изменил? Когда мы с тобой виделись в день Парада, ты говорил, тебя направляют на Тихий. Я так и считал, что ты там послужил и вернулся домой. Потому и писал тебе на Табунивку. Но письма вернулись за отсутствием адресата. А сельсовет ответил, что мать твоя выехала на жительство к родным, а куда — так я и не добился. Как это я не догадался искать тебя по военному ведомству! А ты мне писал на Златоуст. Но я после демобилизации почти сразу уехал в Свердловск, в институт, а кончил — меня сюда, в Кузбасс.
Ты спрашиваешь о Маше? Когда ты приходил ко мне в госпиталь, я действительно мечтал поехать в Сочи и отыскать ее там. Нашел и виделся. Да только к тому времени она уже вышла замуж. С нею иногда переписываемся — по праздникам, открытки. У нее сын. Назвала Николаем, как того старшину на Херсонесе. Вот так получилось… Теперь и я уже давно семейный, сыну Сережке четырнадцать. Ровесник твоему старшему — ведь у тебя, как я понял, двое?
А знаешь, в прошлом году мы всем семейством ездили в Крым, и я показал Сережке Севастополь — давно обещал. Обошли все места, где с тобой в обороне стояли. Нашли место под скалой, откуда мы с Машей и старшиной погибшим тебя на плотике на корабль переправили. Все Сережке рассказал, все вспомнилось… Серега мой после того задумался, долго в море всматривался, словно хотел тот наш разбитый кузов увидеть. А я смотрел на Сережку и думал: не пощади меня война — не было бы и его. А скольких она не пощадила…
Ну ладно, Василь, всего в письме не выскажешь. Спасибо за приглашение в твой заполярный город. Но, может быть, навестишь наши сибирские края? Или — подгоним отпуска и съедемся на севастопольской земле. Побываем на Херсонесе…
Жму руку. До встречи!
Твой боевой друг Иван Иванов.
Примечания
1
Швартовы — канаты, которыми корабль крепится к берегу.
(обратно)2
Кодовые таблицы — таблицы секретного шифра.
(обратно)3
Гафель — рей (брус) на мачте, на который поднимается на фале (канатике) флаг.
(обратно)4
Фал — тонкий канат, на котором держится флаг.
(обратно)5
Футшток — шест для измерения глубины и отталкивания от берега.
(обратно)6
Ошвартовались (морск.) — закрепили корабль у берега.
(обратно)7
Мониторы — речные броненосцы, вооруженные дальнобойными орудиями.
(обратно)8
То есть с бронекатера.
(обратно)9
ЧФ — Черноморский флот.
(обратно)10
Комендоры — артиллеристы корабля.
(обратно)11
Пивней (укр.) — петух.
(обратно)12
Оружие (нем.).
(обратно)13
Куркуль (укр.) — кулак.
(обратно)14
Помогите! (нем.).
(обратно)15
Ложись! (нем.).
(обратно)16
Удостоверения (нем.).
(обратно)17
Морские охотники — небольшие корабли, предназначенные для уничтожения подводных лодок.
(обратно)18
Травить — здесь: рассказывать небылицы (матросское выражение).
(обратно)19
Барказ — небольшое самоходное судно (морское), баркас — небольшая деревянная речная баржа, не имеющая своего хода.
(обратно)20
Принайтовленных (морск.) — закрепленных.
(обратно)21
Кильватерная колонна — строй кильватера, когда корабли идут вслед один другому.
(обратно)22
Мателот — впереди идущий корабль.
(обратно)23
Акватория — водное пространство.
(обратно)24
Ватерлиния — проведенная снаружи вдоль борта линия, обозначающая осадку корабля до допустимых пределов.
(обратно)25
Планшир — ограждение.
(обратно)






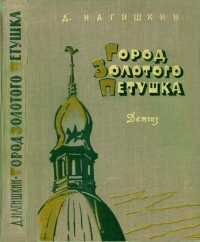
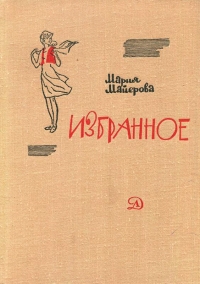



Комментарии к книге «Легенда о флаге», Юрий Федорович Стрехнин
Всего 0 комментариев