ЗА ВСЕХ МАЛЕНЬКИХ В МИРЕ Рассказы и очерки о Великой Отечественной войне
А. Толстой
РОДИНА
За эти месяцы тяжелой борьбы, решающей нашу судьбу, мы все глубже познаем кровную связь с тобой и все мучительнее любим тебя, Родина.
В мирные годы человек, в довольстве и счастье, как птица, купающаяся в небе, может далеко отлететь от гнезда и даже покажется ему, будто весь мир его родина. Иной человек, озлобленный горькой нуждой, скажет: «Что вы твердите мне: родина! Что видел я хорошего от нее, что она мне дала?»
Надвинулась общая беда. Враг разоряет нашу землю и все наше вековечное хочет назвать своим.
Тогда и счастливый и несчастный собираются у своего гнезда. Даже и тот, кто хотел бы укрыться, как сверчок, в темную щель и посвистывать там до лучших времен, и тот понимает, что теперь нельзя спастись в одиночку.
Гнездо наше, родина возобладала над всеми нашими чувствами. И все, что мы видим вокруг, что раньше, быть может, мы и не замечали, не оценили, как пахнущий ржаным хлебом дымок из занесенной снегом избы, — пронзительно дорого нам. Человеческие лица, ставшие такими серьезными, и глаза всех — такими похожими на глаза людей с одной всепоглощающей мыслью, и говор русского языка — все это наше, родное, и мы, живущие в это лихолетье, — хранители и сторожа родины нашей.
Все наши мысли о ней, весь наш гнев и ярость — за ее поругание, и вся наша готовность — умереть за нее. Так юноша говорит своей возлюбленной: «Дай мне умереть за тебя!»
Родина — это движение народа по своей земле из глубин веков к желанному будущему, в которое он верит и создает своими руками для себя и своих поколений. Это — вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, несущих свой язык, свою духовную и материальную культуру и непоколебимую веру в законность и неразрушимость своего места на земле.
Когда-нибудь, наверно, национальные потоки сольются в одно безбурное море — в единое человечество. Но для нашего века это — за пределами мечты. Наш век — это суровая, железная борьба за свою независимость, за свою свободу и за право строить по своим законам свое общество и свое счастье.
Фашизм враждебен всякой национальной культуре, в том числе и немецкой. Всякую национальную культуру он стремится разгромить, уничтожить, стереть самую память о ней. По существу фашизм — интернационален в худшем смысле этого понятия. Его пангерманская идея: «Весь мир — для немцев» — лишь ловкий прием большой финансовой игры, где страны, города и люди — лишь особый вид безликих биржевых ценностей, брошенных в тотальную войну. Немецкие солдаты так же обезличены, потрепаны и грязны, как бумажные деньги в руках аферистов и прочей международной сволочи.
Они жестоки и распущены, потому что в них вытравлено все человеческое; они чудовищно прожорливы, потому что всегда голодны и потому еще, что жрать — это единственная цель жизни: так им сказал Гитлер. Фашистское командование валит и валит, как из мешка, эту отупевшую человеческую массу на красноармейские пушки и штыки. Они идут, ни во что уже больше не веря, — ни в то, что жили когда-то у себя на родине, ни в то, что когда-нибудь туда вернутся. Германия — это только фабрика военных машин и место формирования пушечного мяса. Впереди — смерть, позади — террор и чудовищный обман.
Эти люди намерены нас победить, бросить себе под ноги, наступить нам сапогом на шею, нашу родину назвать Германией, изгнать нас навсегда из нашей земли «оттич и дедич», как говорили предки наши.
Земля оттич и дедич — это те берега полноводных рек и лесные поляны, куда пришел наш пращур жить навечно. Он был силен и бородат, в посконной длинной рубахе, соленой на лопатках, смышлен и нетороплив, как вся дремучая природа вокруг него. На бугре над рекою он огородил тыном свое жилище и поглядел по пути солнца в даль веков.
И ему померещилось многое — тяжелые и трудные времена: красные щиты Игоря в половецких степях, и стоны русских на Калке, и установленные под хоругвями Дмитрия мужицкие копья на Куликовом поле, и кровью залитый лед Чудского озера, и Грозный-царь, раздвинувший единые, отныне нерушимые, пределы земли от Сибири до Варяжского моря; и снова — дымы и пепелища великого разорения… Но нет такого лиха, которое уселось бы прочно на плечи русского человека. Из разорения, Смуты государство вышло и устроилось и окрепло сильнее прежнего. Народный бунт, прокатившийся вслед за тем по всему государству, утвердил народ в том, что сил у него хватит, чтобы стать хозяином земли своей. Народ сообразил свои выгоды и пошел за Медным всадником, поднявшим коня на берегу Невы, указывая путь в великое будущее.
Многое мог увидеть пращур, из-под ладони глядя по солнцу… «Ничего, мы сдюжим», — сказал он и начал жить. Росли и множились позади его могилы отцов и дедов, рос и множился его народ. Дивной вязью он плел невидимую сеть русского языка — яркого, как радуга вслед весеннему ливню, меткого, как стрела, задушевного, как песня над колыбелью, певучего и богатого. Он назвал все вещи именами, и воспел все, что видел и о чем думал, и воспел свой труд. И дремучий мир, на который он накинул волшебную сеть слова, покорился ему, как обузданный конь, и стал его достоянием и для потомков его стал родиной — землей оттич и дедич.
Русский народ создал огромную изустную литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, врачевания, сопровождающиеся заговорами, веселые и печальные обрядовые песни, торжественные былины, — говорившиеся нараспев под звон струн, — о славных подвигах богатырей, защитников земли и народа, героические, волшебные, бытовые и пересмешные сказки.
Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она ставила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов.
Народы Западной Европы получили в наследство римскую цивилизацию. России достался в удел пустынный лес да дикая степь. Вплоть до XVIII века Россия жила по курным избам и все будущее богатство свое и счастье создавала и носила в мечтах, как скатерть-самобранку за пазухой.
Народ верил в свой талант, знал, что настанет его черед и другие народы потеснятся, давая ему почетное место в красном углу. Но путь к этому был долог и извилист. Византийская культура древнего Киева погибла под копытами татарских коней, Владимиро-Суздальской Руси пришлось почти четыре столетия бороться и с Золотой Ордой, и с Тверью, и с Рязанью, с Новгородом, собирая и укрепляя землю. Во главе этой борьбы стала Москва.
Началась Москва с небольшого городища в том месте, где речонка Яуза впадает в Москву-реку. В этом месте заворачивал на клязьминский волок зимний торговый путь по льду, по рекам — из Новгорода и с Балтийского моря — в Болгары на Волге и далее — в Персию.
Младший Мономахович — удельный князь Юрий — поставил при устье Яузы мытный двор, чтобы брать дань с купеческих обозов, поставил другой мытный двор в Мытищах на Клязьме и поставил деревянный город — Кремль — на бугре над Москвой-рекой. Место было бойкое, торговое, с удобными во все стороны зимними и летними путями. И в Москву стал тянуться народ из Переяславля-Залесского, из Суздаля и Владимира и других мест. Москва обрастала слободами. По всей Руси прогремела слава ее, когда московский князь Дмитрий, собрав ополчение, пошатнул татарское иго на Куликовом поле. Москва становилась средоточием, сердцем всей русской земли, которую иноземцы уже стали называть Московией.
Иван Грозный завершил дело, начатое его дедом и отцом, — со страстной настойчивостью и жестокостью он разломал обветшавший застой удельной Руси, разгромил вотчинников-князей и самовластное боярство и основал единое русское государство и единую государственность с новыми порядками и новыми задачами огромного размаха. Таково было постоянное стремление всей Руси — взлет в непомерность. Москва мыслилась как хранительница и поборница незапятнанной правды: был Рим, была Византия, теперь — Москва.
Москва при Грозном обстраивается и украшается. Огромные богатства стекаются в нее из Европы, Персии, Средней Азии, Индии. Она оживляет торговлю и промыслы во всей стране и бьется за морские торговые пути.
Число жителей в Москве переваливает за миллион. С Поклонной горы она казалась сказочным городом — среди садов и рощ. Центр всей народной жизни был на Красной площади: здесь шел торг, сюда стекался народ во время смут и волнений, здесь вершились казни, отсюда цари и митрополиты говорили с народом, здесь произошла знаменитая, шекспировской силы, гениальная по замыслу и эффекту сцена между Иваном Грозным и народом — опричный переворот. Здесь, через четверть века, на Лобном месте лежал убитый Лжедмитрий в овечьей маске и с дудкой, сунутой ему в руки; отсюда нижегородское ополчение пошло штурмом на засевших в Кремле поляков. С этих стен на пылающую Москву хмуро глядел обреченный Наполеон.
Не раз сгорая дотла и восставая из пепла, Москва, — даже оставшись после Петра Великого «порфироносной вдовой», — не утратила своего значения, она продолжала быть сердцем русской национальности, сокровищницей русского языка и искусства, источником просвещения и свободомыслия даже в самые мрачные времена, узлом торговли и промышленности.
Настало время, когда европейским державам пришлось потесниться и дать место России в красном углу. Сделать это их заставил русский народ, разгромивший, не щадя жизней своих, непобедимую армию Наполеона. Русскому низко кланялись короли и принцы всей Европы, хвалили его доблесть, и парижские девицы гуляли под ручку с усатыми гренадерами и чубатыми донскими казаками по Булонскому лесу.
Но не такой славы, не такого себе места хотел русский народ — время сидеть ему в красном углу было еще впереди. Все же огромный национальный подъем всколыхнул все наше государство. Творческие силы рванулись на поверхность с мутного дна крепостнического болота, и наступил блистательный век русской литературы и искусства, открытый звездой Пушкина.
Недаром пращур плел волшебную сеть русского языка, недаром его поколения слагали песни и плясали под солнцем на весенних буграх, недаром московские люди сиживали по вечерам при восковой свече над книгами, а иные, как неистовый протопоп Аввакум, — в яме, в Пустозерске, и размышляли о правде человеческой и записывали уставом и полууставом мысли свои. Недаром буйная казачья вольница разметывала переизбыток своих сил в набегах и битвах, недаром старушки задворенки и бродящие меж дворов старички за ночлег и ломоть хлеба рассказывали волшебные сказки — все, все, вся широкая, творческая, страстная, взыскующая душа народа русского нашла отражение в нашем искусстве XIX века. Оно стало мировым и во многом повело, за собой искусство Европы и Америки.
Русская наука дала миру великих химиков, физиков и математиков. Первая паровая машина была изобретена в России, так же как вольтова дуга, беспроволочный телеграф и многое другое. Людям науки, и в особенности изобретателям, приходилось с неимоверными трудами пробивать себе дорогу, и много гениальных людей так и погибло для науки, не пробившись. Свободная мысль и научная дерзость ломали свои крылья о невежество и косность царского политического строя. Россия медленно тащила колеса по трясине. А век был такой, что отставание — «смерти подобно». Назревал решительный и окончательный удар по всей преступной системе, кренившей Россию в пропасть и гибель. И удар произошел, отозвавшись раскатами по всему миру. Народ стал хозяином своей родины.
Пращур наш, глядя посолонь, наверно, различил в дали веков эти дела народа своего и сказал тогда на это: «Ничего, мы сдюжим…»
И вот смертельный враг загораживает нашей родине путь в будущее. Как будто тени минувших поколений, тех, кто погиб в бесчисленных боях за честь и славу родины, и тех, кто положил свои тяжкие труды на устроение ее, обступили Москву и ждут от нас величия души и велят нам: «Свершайте!»
На нас всей тяжестью легла ответственность перед историей нашей родины. Позади нас — великая русская культура, впереди — наши необъятные богатства и возможности, которыми хочет завладеть навсегда фашистская Германия. Но эти богатства и возможности: бескрайние земли и леса, неистощимые земные недра, широкие реки, моря и океаны, гигантские заводы и фабрики, все тучные нивы, которые заколосятся, все бесчисленные стада, которые лягут под красным солнцем на склонах гор, все изобилие жизни, которого мы добьемся, вся наша воля к счастью, которое будет, — все это — неотъемлемое наше навек, все это наследство нашего народа, сильного, свободолюбивого, правдолюбивого, умного и необиженного талантом.
Так неужели можно даже помыслить, что мы не победим! Мы сильнее немцев. Черт с ними! Их миллионы, нас миллионы вдвойне. Все опытнее, увереннее и хладнокровнее наша армия делает свое дело — истребления фашистских армий. Они сломали себе шею под Москвой, потому что Москва — это больше, чем стратегическая точка, больше, чем столица государства. Москва — это идея, охватывающая нашу культуру во всем ее национальном движении. Через Москву — наш путь в будущее.
Как Иван в сказке, схватился весь русский народ с Чудом-юдом двенадцатиглавым на Калиновом мосту. «Разъехались они на три прыска лошадиных и ударились так, что земля застонала, и сбил Иван Чуду-юду все двенадцать голов и покидал их под мост».
Наша земля немало поглотила полчищ наезжавших на нее насильников. На Западе возникали империи и гибли. Из великих становились малыми, из богатых — нищими. Наша родина ширилась и крепла, и никакая вражья сила не могла пошатнуть ее. Так же без следа поглотит она и эти немецкие орды. Так было, так будет.
Ничего, мы сдюжим!..
«Правда», 1941, 7 ноября.
НА РЕПЕТИЦИИ СЕДЬМОЙ СИМФОНИИ ШОСТАКОВИЧА
В большом фойе, между колонн, расположился оркестр Московского Большого театра, один из самых совершенных музыкальных коллективов в мире. За пультом — Самосуд — по-рабочему — в жилетке. Позади него на стуле — Шостакович, похожий на злого мальчика. Наверху, высоко на хорах, облокотись о дубовые перила, застыли очарованные слушатели. Сейчас — после корректур — будут проиграны все четыре части. Взмахивает мокрыми волосами Самосуд, пронзает палочкой пространство, скрипки запевают о безбурной жизни счастливого человека.
Седьмая симфония посвящена торжеству человеческого в человеке. Постараемся (хотя бы отчасти) проникнуть в путь музыкального мышления Шостаковича — в грозные темные ночи Ленинграда, под грохот разрывов, в зареве пожаров, оно привело его к написанию этого вдохновенного произведения.
В начале войны один мой знакомый сказал: «В человечестве скрыты саморазрушающие силы, и еще неизвестно, будет ли и в дальнейшем человек стоять во главе живого мира, не обернется ли так, что людской род будет истреблен и на смену ему придут более совершенные существа — муравьи какие-нибудь необыкновенной величины».
Вот что фашизм может сделать с иным человеком! Несомненно, это — паника, ужасная, капитулянтская. Мой знакомый окинул взором блистательный путь двуногого животного — от палеолитической пещеры, где оно сидело на обглоданных костях, до завоевания им воздуха и эфира, до присвоения двуногому звания гомо сапиенс… И вот поник головой мой знакомый, вот и конец пути: Гитлер вернул человека из храмов музыки, из величественной тишины библиотек и лабораторий — назад, на обглоданные кости. Но Шостаковича Гитлер не напугал. Шостакович — русский человек, значит — сердитый человек, и если его рассердить как следует, то способен на поступки фантастические. На угрозу фашизма — обесчеловечить человека — он ответил симфонией о победном торжестве всего высокого и прекрасного, созданного гуманитарной культурой, — она устремила человеческий гений к заветным далям, где полно и безгранично раскрывается восторг.
Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебаний смертный бой с черными силами. Написанная в Ленинграде, она выросла до размеров большого мирового искусства, понятного на всех широтах и меридианах, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний. Симфония прозрачна в своей огромной сложности, она и сурова, и по-мужски лирична, и вся летит в будущее, раскрывающееся за рубежом победы человека над зверем.
…Скрипки рассказывают о безбурном счастьице — в нем таится беда, оно еще слепое и ограниченное, как у той птички, что «ходит весело по тропинке бедствий». В этом благополучии из темной глубины неразрешенных противоречий возникает тема войны — короткая, сухая, четкая, похожая на стальной крючок. Оговариваемся, человек Седьмой симфонии — это некто типичный, обобщенный в некто — любимый автором. Национален в симфонии сам Шостакович, национальна его русская рассвирепевшая совесть, обрушившая седьмое небо симфонии на головы разрушителей.
Тема войны возникает отдаленно и вначале похожа на какую-то простенькую и жутковатую пляску, на приплясывание ученых крыс под дудку крысолова. Как усиливающийся ветер, эта тема начинает колыхать оркестр, она овладевает им, вырастает, крепнет. Крысолов со своими железными крысами поднимается из-за холма… Это движется война. Она торжествует в литаврах и барабанах, воплем боли и отчаяния отвечают скрипки. И вам, стиснувшему пальцами дубовые перила, кажется: неужели, неужели все уже смято и растерзано? В оркестре — смятение, хаос.
Нет, человек сильнее стихии. Струнные инструменты начинают бороться. Гармония скрипок и человеческие голоса фаготов могущественнее грохота ослиной кожи, натянутой на барабаны. Отчаянным биением сердца вы помогаете торжеству гармонии. И скрипки гармонизируют хаос войны, заставляют замолкнуть ее пещерный рев. Проклятого крысолова больше нет, он унесен в черную пропасть времени. Смычки опущены — у скрипачей, у многих, на глазах слезы. Слышен только раздумчивый и суровый — после стольких потерь и бедствий — человеческий голос фагота. Возврата нет к безбурному счастьицу. Перед умудренным в страданиях взором человека — пройденный путь, где он ищет оправдания жизни.
За красоту мира льется кровь. Красота — это не забава, не услада и не праздничные одежды, красота — это пересоздание и устроение дикой природы руками и гением человека. Симфония как будто прикасается легкими дуновениями к великому наследию человеческого пути, и оно оживает. Средняя часть симфонии — это ренессанс, возрождение красоты из праха и пепла. Как будто перед глазами нового Данте силой сурового и лирического раздумья вызваны тени великого искусства, великого добра.
Заключительная часть симфонии летит в будущее. Перед слушателями, облокотившимися о перила, прислонившимися к высоким белым колоннам, раскрывается величественный мир идей и страстей. Ради этого стоит жить и стоит бороться. Не о счастьице, но о счастье теперь рассказывает могущественная тема человека. Вот — вы подхвачены светом, вы словно в вихре его… И снова покачиваетесь на лазурных волнах океана будущего. С возрастающим напряжением вы ожидаете финала, завершения огромного музыкального переживания. Вас подхватывают скрипки, вам нечем дышать, как на горных высотах, и вместе с гармонической бурей оркестра, в немыслимом напряжении вы устремляетесь в прорыв, в будущее, к голубым городам высшего устроения.
Гитлеру не удалось взять Ленинград и Москву. Проклятый крысолов, кривляясь, напрасно приплясывал со своими крысами по шею в крови, ему не удалось повернуть русский народ на обглоданные кости пещерного жития. Красная Армия создала грозную симфонию мировой победы. Шостакович прильнул ухом к сердцу Родины и сыграл песнь торжества.
Такие чувства и такие мысли владели нами, когда мы слушали в Куйбышеве, в Большом театре СССР, репетицию Седьмой симфонии.
«Правда», 1942, 16 февраля.
М. Шолохов НА ДОНУ
На станичную площадь спешат провожающие и призванные в Красную Армию. Впереди меня бегут, взявшись за руки, двое ребят в возрасте семи — десяти лет. Родители их обгоняют меня. Он — дюжий парень, по виду тракторист, в аккуратно заштопанном синем комбинезоне, в чисто выстиранной рубашке. Она — молодая, смуглая женщина. Губы ее строго поджаты, глаза заплаканы. Равняясь со мной, она тихо, только мужу, говорит:
— Вот и опять… лезут на нас. Не дали они нам с тобой мирно пожить… Ты же, Федя, гляди там, не давай им спуску!
Медвежковатый Федя на ходу вытирает черным промасленным платком потеющие ладони, снисходительно, покровительственно улыбается, басит:
— Всю ночь ты меня учила, и все тебе мало. Хватит! Без тебя ученый и свое дело знаю. Ты вот лучше, как приедешь домой, скажи бригадиру вашему, что если они будут такие копны класть, какие мы видали дорогой, возле Гнилого лога, так мы с него шкуру спустим. Так ему и скажи! Понятно?
Женщина пытается еще что-то сказать, но муж досадливо отмахивается от нее, совсем низким, рокочущим баском говорит:
— Да хватит же тебе, уймись, ради бога! Вот придем на площадь, там все одно лучше тебя скажут.
На — станичной площади возле трибуны — строгие ряды мобилизованных. Кругом — огромная толпа провожающих. На трибуне — высокий, с могучей грудью, казак Земляков Яков.
— Я — бывший батареец, красный партизан. Прошел всю гражданскую войну. Я вырастил сына. Он теперь, как и я, артиллерист, в рядах Красной Армии… Я, как отличный артиллерист-наводчик, не мог вынести предательства фашистов и подал в военкомат заявление, чтобы зачислили меня добровольцем в ряды Красной Армии, в одну часть с сыном, чтобы нам вместе громить фашистскую сволочь, так же, как двадцать лет назад громили мы сволочь белогвардейскую! Я хочу идти в бой коммунистом и прошу партийную организацию принять меня в кандидаты партии.
<…>
Старый рабочий Правденко говорит:
— У меня два сына в Красной Армии. Один — в авиации, другой — в пехоте. Мой отцовский наказ им: бить врага беспощадно, до полного уничтожения, и в воздухе, и на земле. А если понадобится им подспорье, то и я, старик, возьму винтовку в руки и тряхну стариной!
Доцветающая озимая пшеница — густая, сочно-зеленая, высокая — стоит стеной, как молодой камыш. Рожь выше человеческого роста. Сизые литые колосья тяжело клонятся, покачиваются под ветром.
Сторонясь от встречной машины, всадник сворачивает в рожь и тотчас исчезает: не видно лошади, не видно белой рубашки всадника, только околыш казачьей фуражки краснеет над зеленым разливом, словно головка цветущего татарника.
Останавливаем машину. Всадник выезжает на дорогу и, указывая на рожь, говорит:
— Вот она какая раскрасавица уродилась, а тут этот Гитлер, язви его в душу! Зря он лезет. Ох, зря!.. Вторые сутки не был дома, угостите закурить — из курева выбился — и расскажите, что слышно с фронта.
Мы рассказываем содержание последних сводок. Разглаживая тронутые сединой белесые усы, он говорит:
— Молодежь наша и то гляди, как лихо сражается, а что будет, когда покличут на фронт нас — бывалых, какие три войны сломали? Рубить будем до самых узелков, какие им, сукиным сынам, повитухи завязывали! Я же говорю, что зря они лезут!
Казак спешивается, садится на корточки и закуривает, поворачиваясь на ветер спиной, не выпуская из рук повода.
— Как у вас в хуторе? Что поговаривают пожилые казаки насчет войны? — спрашиваем мы.
— Есть одна мысля: управиться с сенокосом и по-хорошему убрать хлеб. Но ежели понадобимся Красной Армии скорее — готовы хоть зараз. Бабы и без нас управятся. Вам же известно, что мы из них загодя и трактористов, и комбайнеров понаделали. — Казак лукаво подмигивает, смеется: — Советская власть, она тоже не дремлет, ей некогда дремать. Тут, конечно, в степи, жить затишнее, но ить казаки сроду затишку не искали и ухоронов не хотели. А в этой войне пойдем охотой. Великая в народе злость против этого Гитлера. Что ему, тошно жить без войны? И куда он лезет?
Некоторое время наш собеседник молча курит, искоса посматривая на мирно пасущегося коня, потом раздумчиво говорит:
— Прослыхал я в воскресенье про войну, и все во мне перевернулось. Ночью никак не могу уснуть, все думаю: в прошлом году черепашка нас одолевала, сейчас Гитлер приступает, все какое-то народу неудовольствие. И опять же думаю: что это есть за Гитлер, за такая вредная насекомая, что он на всех натыкается и всем покою не дает? А потом вспоминал за германскую войну, а мне довелось на ней до конца прослужить, вспомнил про то, как врагов рубил… восьмерых вот этой рукой пришлось уложить, и все в атаках. — Казак смущенно улыбается, вполголоса говорит: — Теперь об этом можно вслух сказать, раньше-то все стеснялся… Двух Георгиев и три медали заслужил. Не зря же мне их вешали? То-то и оно! И вот лежу ночью, об прошлой войне вспоминаю, и пришло на ум: когда-то давно в газетке читал, что Гитлер будто тоже на войне германской был. И такая горькая досада меня за сердце взяла, что я ажник привстал на кровати и вслух говорю: «Что же он мне тогда из этих восьмерых под руку не попался?! Раз махнуть — и свернулся бы надвое!» А жена спросонок спрашивает: «Ты об ком это горюешь?» — «Об Гитлере, — говорю ей, — будь он трижды проклят! Спи, Настасья, не твоего это ума дело».
Казак тушит в пальцах окурок и, уже садясь в седло, роняет:
— Ну, да он, вражина, своего дождется! — И, помолчав, натягивая поводья, строго обращается ко мне: — Доведется тебе, Александрыч, быть в Москве, — передай, что донские казаки всех возрастов к службе готовы. Ну, прощайте. Поспешаю на травокосный участок гражданкам-бабам подсоблять!
Через минуту всадник скрывается, и только легкие, плывущие по ветру комочки пыли, сорванные лошадиными копытами с суглинистого склона балки, отмечают его путь.
Вечером на крыльце Моховского сельсовета собралась группа колхозников. Немолодой, со впалыми щеками, колхозник Кузнецов говорит спокойно, и его натруженные огромные руки спокойно лежат на коленях.
— …Раненный попал я к ним в плен. Чуть поправился — послали на работу. Запрягали нас по восемь человек в плуг. Пахали немецкую землю. Потом отправили на шахты. Норма — восемь тонн угля погрузить, а грузили от силы две. Не выполнишь — бьют. Становят лицом к стене и бьют в затылок так, чтобы лицом стукался об стену. Потом сажали в клетку из колючей проволоки. Клетка низкая, сидеть можно только на корточках. Два часа просидишь, а после этого тебя оттуда кочергой выгребают, сам не выползешь… — Кузнецов оглядывает слушателей тихими глазами, все так же спокойно продолжает: — Поглядите на меня: я сейчас и худой, и хворый, а вешу семьдесят килограммов, а у них в плену за все два с половиной года сорок килограммов я не важил. Вот к чему они меня произвели!
Считанные секунды молчания — и все тот же спокойный голос колхозника Кузнецова:
— Два моих сына сейчас сражаются с немецкими фашистами. Я тоже думаю, что пришла пора пойти поквитаться. Но только, извините, граждане, я их брать в плен не буду. Не могу.
Стоит глубокая, настороженная тишина. Кузнецов, не поднимая глаз, смотрит на свои коричневые вздрагивающие руки, сбавив голос, говорит:
— Я, конечно, извиняюсь, граждане. Но здоровье мое они всё до дна выпили… И ежели придется воевать, солдатов ихних я, может быть, и буду брать в плен, а офицеров не могу. Не могу — и все! Самое страшное я перенес там от ихних господ офицеров. Так что тут уж извиняйте… — И встает, большой, худой, с неожиданно посветлевшими и помолодевшими в ненависти глазами.
В колхозе хутора Ващаевского на второй день войны в поле вышли все от мала до велика. Вышли даже те, кто по старости давным-давно был освобожден от работы. На расчистке гумна неподалеку от хутора работали исключительно старики и старухи. Древний, позеленевший от старости дед счищал траву лопатой сидя, широко расставив трясущиеся ноги.
— Что же это ты, дедушка, работаешь сидя?
— Спину сгинать трудно, кормилец, а сидя мне способней.
Но когда одна из работавших там же старух сказала: «Шел бы домой, дед, без тебя тут управимся», старик поднял на нее младенчески бесцветные глаза, строго ответил:
— У меня три внука на войне бьются, и я им должен хоть чем-нибудь пособлять. А ты молода меня учить. Доживешь до моих лет, тогда и учи. Так-то!
Два чувства живут в сердцах донского казачества: любовь к родине и ненависть к фашистским захватчикам. Любовь будет жить вечно, а ненависть пусть поживет до окончательного разгрома врагов.
Великое горе будет тому, что разбудил эту ненависть и холодную ярость народного гнева!
1941 г.
Л. Леонов
ТВОЙ БРАТ ВОЛОДЯ КУРИЛЕНКО
Набатный колокол бьет на Руси. Свирепое лихо ползет по родной стране. Безмолвная пустыня остается позади него. Там кружит ворон, да скулит ветер, пропахший горечью пожарищ, да шарит по развалинам многорукий иноземный вор…
Второй год от моря до моря, не смолкая ни на минуту, гремит стократное Бородино Отечественной войны. Утром шелестит газета в твоей руке, мой безвестный читатель. И вместе с тобою вся страна узнает о событиях дня, с грохотом отошедшего в историю. Еще один день, еще одна ночь беспримерной схватки с врагом миновала. С благоговейной нежностью ты читаешь про людей, которые вчера сложили свои жизни к приножью великой матери. Кажется, самые тени великих предков наших обнажают головы и склоняют свои святые знамена пред ними. Какой могучий призыв к подвигу, мужеству и мщенью заключен в громовом шелесте газетного листа!
И еще громче орудийных раскатов звучит в нем тихое и строгое, как молитва, слово героя: «За свободу, честь и достояние твое… в любое мгновение возьми меня, Родина. Все мое: последний жар дыхания, и пламя мысли, и биение сердца — тебе одной!»
Многие из них уже отошли навеки к немеркнущим вершинам славы — воины, девушки и дети, женщины и старцы, принявшие на себя благородное звание воина. Нет, не устыдятся своих внуков суровые и непреклонные пращуры наши, оборонявшие родную землю в годы былых лихолетий. Никогда не поредеет это племя богатырей, потому что самый слух о герое родит героев. Там, в аду несмолкающего боя, стоят они плотным строем, один к одному, как звенья на стальной кольчуге Невского Александра. Весь свет дивится нынче закалке и прочности этой брони, о которую разбиваются свирепые валы вражеского нашествия. Нет такой человеческой стали нигде на Западе. И в мире нет такой. Она изготовляется только у нас.
Слава вам, сыны великой матери!
Нам знакомы тысячи знаменитых имен современников наших во всех областях мирной человеческой деятельности. Мы гордимся ими и каждого знаем в лицо. Славные машинисты и шахтеры, хирурги и сталевары, строители материальных очагов нашего счастья, изобретатели умнейших машин, мастера неслыханных рекордов, музыканты, художники, певцы… Ими, как ковром пестрых и благоуханных цветов, усеяны наши необъятные пространства. И вот мы услышали новые имена людей, которые в огне сражений или в бессонной партизанской ночи отдали себя родине. Они стоят перед нами во весь свой исполинский рост, светлее солнца, без которого никогда — ни в прошлом, ни в будущем нашем — не цвели бы такие цветы на благодатной русской земле. Воистину непобедим народ, который родил их!
Сверкающей вереницей они проходят перед лицом отечества. Опаляют разум картины их нечеловеческой отваги. Вот юноша-красноармеец заслоняет собою амбразуру пулеметного гнезда, чтоб преградить дорогу смерти и обезопасить идущих в бой товарищей. Вот сапер, когда разбило осколком его миноискатель, голыми руками, на ощупь, и в сыпучих сугробах по пояс, расчищает перед штурмом минированное поле. Вот, приколов как реликвию поверх бушлатов клочки нахимовского мундира, идет в последнюю атаку севастопольская морская пехота…
Кто вырастил тебя, гордое и мужественное племя? Где ты нашло такую силу гнева и ярость такую?
Родина скорбит о павших, но забвенье никогда не поглотит памяти об этих лучших из ее детей. Грозен и прекрасен летчик Гастелло, который крылатым телом своим, как кинжалом, ударил в гущу вражеской колонны. Легендой прозвучал подвиг двадцати восьми братьев, которых сроднила смерть на подмосковном шоссе. Бессмертен образ комсомолки Зои, которую мы впервые увидели на белом снегу газетной страницы в траурной рамке. Вся страна пытливо вглядывалась в это красивое лицо русской девушки. Ни смертные муки, ни ледяная могила не смогли стереть с него выражение бесконечной решимости и прощальной улыбки милой родине… Созвездия надо бы называть именами этих людей, смертью поправших смерть!
Память народа громадная книга, где записано все. Народ наш хорошо помнит причиненное ему горе. Не забудем ничего, ни даже сломленного в поле колоска. Есть у нас кому мстить, завоеватели!
Когда стихнет военная непогода, и громадная победа озарит дымные развалины мира, и восстановится биение жизни в его перебитых артериях, лучшие площади наших городов будут украшены памятниками бессмертным. И дети будут играть среди цветов у их гранитных подножий и грамоте учиться по великой заповеди, начертанной на камне: «Любите родину свою, как мы ее любили!..»
Но еще прежде, чем историки, скульпторы и поэты найдут достойные формы для воплощения беззаветных свершений героев, а отечество оденет в бронзу их образы, следует любыми средствами сохранить в памяти хотя бы самые незначительные их живые черты. Запомни их лица, друг! Запомни навсегда эту гордую, по-орлиному склоненную к земле голову Гастелло, и хмурые, опаленные пламенем неравного боя лица двадцати восьми, и строгий профиль Зои, и честный, простой, как небо родины, взор партизана Володи Куриленко.
Мы не знали его в лицо, хотя он жил среди нас, скромно выполняя повседневную свою работу. Это обыкновенный человек наших героических будней. Трудно начертить спокойный его портрет нашими обиходными словами. Могучие воины, его овеянные славой соратники, не много рассказали о нем. Еще гремят поля войны, дорого каждое мгновенье, и скупо цедятся нежные слова. Знакомься же с ним, современник!
Вот он стоит перед тобой, Владимир Тимофеевич Куриленко, голубоглазый, русоволосый русский парень, совсем юный. Он родился 25 декабря 1924 года. Семнадцать лет ему исполнилось в партизанском отряде, когда он умел уже не только стрелять, но и попадать в самое сердце немца. Природа одарила всем этого юношу. Он был как тот, павший за родину в битве на Калке, великолепный Даниил, о котором с предельной и сердечной ясностью сообщил летописец: «…был он молод, и не было на нем порока с головы до пят». И если любой, наугад взятый молодой гитлеровец — законченный пример средневековой низости, Владимир Куриленко — отличный образец честного, деятельного юноши нашей эпохи.
Итак, он сын учителя на Смоленщине. Восемь лет провел он в школе. В нем рано проснулся дар организатора: он руководил ученическим комитетом, пионерским отрядом, потом комсомольской ячейкой. С малых лет его влекло к себе широкое океанское раздолье, где человек меряется со стихией волей и выдержкой своими. Но природа не поместила на Смоленщине седого и грозного океана, который грезился Володе. Все же Володя создал отряд «юных моряков», и уж, наверно, армады детских корабликов ходили по тамошней речке, и уж, конечно, адмиралом среди товарищей своих был этот статный и крепкий паренек.
Позже его в особенности влекла романтика военного дела. Хотелось ему также строить и изобретать. Он даже сердился на свою молодость, мешавшую ему поступить в Ленинградскую военно-инженерную школу. Он был принят туда 6 июня 1941 года — все, даже самые мелкие даты важны в этой краткой и такой емкой биографии. Уже сбывалась мечта… и не сбылась, разрушенная, как и миллионы других молодых мечтаний, вторжением фашистских громил. Ленинград был отрезан фронтом. Гитлеровская орда потекла на Русь. Юношеская склонность Володи к военным занятиям пригодилась; больше того — она стала потребностью дня. Такова первая страница в анкете героя.
Как быстро в военное время растут и мужают наши дети!.. Когда первые немцы появились в Володиных местах, где каждый кустик, каждую полянку он любил с неосознанной еще детской привязанностью, он сразу занял свое место рядом со взрослыми. Видимо, и отец Володи принадлежал к той замечательной категории народных учителей, которые собственным примером своим учат молодых граждан поведению в жизни. Тимофей Куриленко встретил гитлеровских посланцев пулеметным огнем, и два сына его, Владимир и пятнадцатилетний Геннадий, помогали ему при этом.
— Учитесь, учитесь, детки, этой азбуке войны, без которой пока нельзя быть спокойным за свое счастье на земле…
Это был новый вариант старинной и любимой песни — о Трансваале, о родине, горящей в огне, и об отце, который повел своих юных сыновей бороться за свободу. Засада Тимофея Куриленко изменила направление неприятельского удара. Свернув с намеченного пути, немцы наткнулись на регулярные части Красной Армии и были искрошены. Полтораста вражеских трупов и десятки разбитых машин — вот первое наглядное пособие, которое народный учитель показал своим сыновьям.
Несколько позже, в августе 1941 года, Володя самостоятельно организует партизанский отряд из ребят своего селения. Он сам становится педагогом в этой боевой школе. И вот наступает первый скромный урок — первая встреча с завоевателями, покорившими пол-Европы. Мальчики мужественно ложатся в засаду у дороги. Грузовая машина, громыхая железной посудой, проходит совсем близко. И вровень с нею стволы винтовок движутся в высокой траве. Ребятки хорошо знают незваных гостей: это «доильцы», сборщики молока для германской армии. Кроме молока они отбирают яйца, хлеб, мясо, вилки и ножи, сарафаны и ведра: доброму вору все впору!.. В особенности вон тот, что сидит поверх бидонов, знаком и ненавистен Володе. Этот выдающийся мастер гитлеровского разбоя, отлично изучивший русский язык в пределах своей грабительской деятельности, давно заслужил добрую порцию партизанского свинца.
— Огонь! — сурово произносит мальчик.
Гремит нестройный залп.
Хрипят тормоза, машина останавливается. Володя сердито кусает губы: ох, сколько промахов враз, да еще по такой мишени! Выскочив, немцы залегли под откосом — все, кроме того, белесого, который медленно, оскалив зубы, сползает с бидонов. Какое розовое молоко хлещет сквозь щели автомобильного кузова!.. Жаркая перепалка. Необстрелянные Володины юнцы разбегаются с поля боя. Значит, это дается но сразу… Хорошо! Оставшись один, Володя припадает к пулемету: «Вот я их!» Одиночный выстрел, очереди не последовало. Второпях растерялся и сам командир: что это, поломка пулемета? Он же сам чистил и разбирал его накануне… Полудетское замешательство: в мгновенье ока надо припомнить все, что проходили на специальных занятиях в школе.
— Так почему же, почему же он не стреляет? Забыл, забыл… — шепчут губы.
Это похоже на экзамен, на грозный экзамен, где экзаменаторами — жизнь и смерть… В минуту затишья немцы вскакивают на машину. Володя снова хватается за винтовку: это проще. Ага, еще один свалился, точно нырнул в зеленую некошеную траву! А вот и вражеский офицер, согнувшись, хватается за живот.
— Смотри, не обожги себе утробы горячим русским молочком, майор!
Немецкий шофер успевает завести мотор. И только теперь Володя понял свою ошибку: он просто забыл нажать предохранитель. Машина пускается наутек. Гитлеровцев гонит животный страх перед русскими партизанами. Закусив безусую губу, Володя посылает вдогонку длинную не очень меткую очередь.
А вечером, в укромном месте, где-нибудь в уцелевшем овине, состоялись, наверно, занятия в отряде. Никто не глядел в лицо друг другу, и с недетской серьезностью звучал басок Володи:
— Ничего, товарищи! Учимся. Однако рассмотрим все-таки причины этой неудачной операции…
Конечно, он не бранил их; он всматривался в смущенные добрые лица крестьянских детей, искал слова поддержки, чтоб разбудить в них сноровку, стойкость и великую силу к сопротивлению. В конце концов немудрено, что случилась неудача. То была пора, когда вся страна лишь училась давать отпор внезапному врагу. Прославленная германская организованность, помноженная на массовый опыт всеевропейских убийств, примененная в гнусном деле: разбоя и террора на нашей земле, казалась тогда черной и грозной силой. И Володя Куриленко знал, что этот первый урок еще пригодится им впоследствии.
Рано закончилась юность у поколенья русской молодежи времен Отечественной войны. Родина поставила их в самое горячее место боя и приказала стоять насмерть. Кто бы узнал теперь в молодом и строгом командире с незастегнутой кобурой и гранатой у пояса мальчика Володю Куриленко, мечтателя и адмирала несуществующих морей? Хозяйская ответственность за судьбу страны легла на его плечи и как бы придавила их слегка. Суровая морщинка прочертилась меж бровей, тоньше и жестче стали возмужавшие губы и еще тверже сердце, познавшее радость мщенья и горечь разлуки с павшими друзьями.
В сентябре враг высылает уже крупные карательные отряды против партизанских сил, к которым присоединилась и группка Володи Куриленко. Началась лютая охота нацистов на непокорное и непокоренное население. Отряд Куриленко был окружен в деревне. Уже каратели идут по избам, но командиру удалось проскользнуть сквозь самые пальцы ночной облавы. Несколько человек из отряда попадают в плен к фашистам. Приговор им вынесен заранее. Подобно прославленным восьми волоколамским комсомольцам-мученикам, они погибают на виселице.
Прощайте, юные мореплаватели, познавшие море жизни в самую грозную штормовую ночь! Может быть, вы стали бы капитанами дальних плаваний и прокладывали новые трассы в ледяных пространствах севера… Веревка иноземных палачей оборвала вашу мечту. Запомним: они заплатят вдесятеро. И на стальных бортах новехоньких кораблей ваши имена много раз еще обойдут все моря родины!
Каратели трудятся. Питекантропы в гестаповских мундирах убивают и жгут. Пепел и слезы, слезы и пепел — вот удел занятых врагом областей. Ничего, они — как споры ненависти, эти серые пепелинки: из каждой родится по герою. Дню всегда предшествует ночь… Партизанское движение в этом крае, кажется, совсем подавлено. Наступила черная осень 1941 года. Отступление красных армий. Первый снег кружится над поруганной землей. Знойко и тихо в этой искусственно созданной пустыне, отгороженной от мира огневой завесой разрывов. Куриленко возвращается к отцу и снова на некоторое время становится прежним Володей. Он отбивается от усталости и разочарования, что невольно крадутся в сердце: «Ничего, выстоим, выдюжим! Не для того мы рождались на свет… и еще не допеты наши песни!»
Тайком он устанавливает радиоприемник — пригодилась детская любознательность. Вместе с родными в темные ночи он слушает передачи из такой близкой и такой далекой теперь, осажденной Москвы. Громче, громче бейте, часы на Спасской башне: миллионы преданных сердец слушают вас в эту ночь! А чуть забрезжит утро, Володя отправляется в путь с ломтем хлеба за пазухой. Он разносит слова правды, которые узнал ночью, по всем отдаленным местностям района. В селах знают, любят и ждут его. Куриленко становится живой газетой. Трудное и почетное дело в условиях глубокого немецкого тыла и зверских законов оккупации.
Идут месяцы. Декабрь. Могучие удары сибирских дивизий под Москвою. Эхо их разносится по всему миру, добивая глупый миф о непобедимости германских армий. Фронт снова приближается к родным Володиным местам. Скоро, совсем скоро взметнется под ногами поработителей эта измученная, расковырянная земля. А пока таись и жди своего часа, гордый мститель Смоленщины! И часто, отправляясь с добрыми вестями по тайным тропкам в самые глухие углы, к друзьям, он останавливался где-нибудь на опушке леса, этот коробейник новостей, и, прищурясь, глядел на железнодорожное полотно.
Дни прибывали. Слепил глаза крепнущий снежный наст.
Шел очередной поезд с гитлеровскими убийцами. Усердно пыхтели паровозные поршни, и то ли зимний ветерок подвывал в ветвях, то ли постылая вражеская песня сочилась сквозь железную обшивку вагонов. Вражеские рожи прильнули к окнам изнутри. Любопытно было поглядеть, среди каких таких восточных просторов и немеренных русских лесов придется им сгнивать в недалеком будущем…
И наверно, улыбался Володя, думая про себя: «Вот новая партия немецких покойников своим ходом, в живом виде, направляется к своим предназначенным могилам. Не вернется ни один, ни один! Что же, спешите, бравые подлецы!..»
И кстати считал вагоны с живым и платформы с мертвым инвентарем, чтобы рассказать потом кому следует об этой встрече. Всякое знание полезно партизану.
…В январе не выдержало сердце. Володя уводит отца и брата в лес, в жгучую морозную неизвестность. Оказалось, там кочевал тогда отряд славного партизана товарища Ш.
Часть февраля уходит на разведку, на установление правильной связи с Красной Армией. Приходится много раз пересекать огневую линию фронта. У Владимира Куриленко накапливается богатый опыт диверсий, шлифуется мастерство партизанского действия. Ненависть к врагу — вот всенародная академия, где он получил свое военное образование. Теперь уже никакая внезапность не застанет его врасплох. Зрелость входит в его трудную и чреватую опасностями юность. Партизан всегда бьется с численно превосходящими силами противника. «Четверо против шестидесяти восьми? Ничего. Великая мать смотрит на нас. Вперед!» И отступали, только израсходовав весь огневой запас.
Какое пламя гнева нужно было хранить в себе, чтобы не закоченеть в такие бездомные, метельные партизанские ночи!
Молодой Куриленко поспевает везде. Ему хватает времени на все, точно он сторукий. Все партизанские специальности знакомы ему. Вот дополз слух о том, что в одной деревне организован полицейский отряд для борьбы с партизанами. Володе дается поручение превратить в падаль изменников родины, и он с друзьями выполняет приказ. Это он за каких-нибудь полтора месяца сообща с товарищами спускает под откос пять вражеских поездов с боеприпасами и живым солдатским грузом. Это он взрывает мосты на магистралях и сообщает нашему командованию о заторах, образовавшихся на путях. И стаи наших краснокрылых птиц расклевывают дочиста скопления вражеских эшелонов.
Порою кажется: юноша дразнит судьбу, как будто не одну, а сотню жизней подарила ему родина. И тут начинается широкая, как река, несенная слава партизана.
Умей расшифровать, увидеть в недосказанных подробностях сухую газетную сводку, современник! Это стенограмма народной войны. Сердцем патриота почувствуй, глазами брата прочти эти скудные записи в партизанском дневнике. Вот некоторые из них, скромная повесть о буднях партизана:
«2.3.1942. Владимир Куриленко с товарищем А. при возвращении в лагерь наткнулся на немецкую батарею. Пулеметным огнем скошено 2 артиллерийских расчета. Товарищ А. убит.
5.3.1942. Четверо, среди которых Владимир Куриленко, вступили в бой с 68 фашистами. Убито три оккупанта, один ранен.
30.3.1942. Партизаны нашего отряда, Владимир Куриленко и бойцы отряда особого назначения, скинули под откос поезд между станциями Л. и К. Убито 250 фашистов.
10.4.1942. Крушение товарного состава на дороге С.-Л. Одновременно подорвано соседнее железнодорожное полотно. Владимир К.
13.4.1942. Подбита машина. Уничтожено 4 немца. Куриленко с товарищами.
14.4.1942. На комсомольском собрании ответственным секретарем президиума ВЛКСМ избран Владимир Куриленко.
26.4.1942. Еще один эшелон на перегоне К.-Л. спущен под откос Владимиром К. Погибло 270 немцев. Взорван паровоз и железнодорожное полотно на О. направлении».
В этих скупо обозначенных эпизодах ничего нет о стремительной дерзости, о высоком искусстве преодоления, казалось бы, непреодолимых препятствий, об особенностях партизанской жизни. Каждую минуту бодрствования или тревожного, урывками, сна находиться в окружении! И в самом кратком, почти бесцветном эпизоде от 13 апреля ничего не сказано про обстоятельства очередной схватки с противником. Приблизь к глазам эту скромную запись, современник!
Ранняя шла в том краю весна. Талая кашица стояла под снегом, почернелым и источенным, хрупким, как стеклянное кружево. Уже на возвышенностях, где днем пригревало солнышко, глубоко увязали ноги. Трое, во главе с Володей Куриленко, шли на выполнение боевой задачи. О, сколько раз описанное в литературе предприятие и ни разу не описанное до конца: мост. Река встала на их пути. Слабо мерцал в сумерках синий, истончавший ледок, кое-где уже залитый водою. На задней кулисе туманного леска тревожно чернел силуэт самой цели. По зыбкому, гибельному льду, чуть схваченному вечерним морозцем, подрывники перешли реку. Оставался еще ручей; он клокотал и шумел всеми голосами весны. Пришлось перебираться вброд. К мосту подошли уже мокрые по пояс… Спокойно и деловито закладывали кегли, когда Миша, товарищ Куриленко, сигнализировал о приближении вражеской автомашины. Жалко было упускать и эту, маленькую, цель. Здесь было достаточно удобное место для засады, в глубоком затоне ручья. Трое залегли в воду, только глаза, злые и зоркие глаза их, остались над поверхностью.
Мы не знаем, как тянулись эти минуты ожидания. Те, которые еще бьются с врагом на Смоленщине, расскажут потом подробнее про этот вечер. Наверно, пронзительная тишина стояла в воздухе. И может быть, Володя спросил шепотом, чтобы шуткой поддержать товарища:
— Что, не промок, хлопец?
— Кажется, коленку замочил ненароком, — шуткой же ответил тот. — А что?
— Ничего… Смотри, не остудись. Этак и насморк можно заработать.
Ближе стеклянный хруст ледка в подмерзших колеях. Вот и свет фар показался на дороге. Кто-то шевельнулся в засаде. Желтые латунные блесни пробежали зыбью по воде.
— Начнем с гранаты, хлопцы!
Трудно кидать эту чугунную игрушку закоченевшей рукой. Но не промахнись, партизан: их больше. Взрыв — и мгновение спустя басовитое одобрительное эхо вернулось от леска к засаде Куриленко. Машину почти сошвырнуло с дороги, но она еще двигалась. «Теперь стрелять»… Четырех убили, пятерых ранили; безотказно действовал ППД. Из строений ближней МТС, где расположились немцы, уже бежали, галдя и стреляя наугад, полуодетые фигуры солдат. Обшарили, прострочили всякий кустик, черневший на берегу, но все было неподвижно: и вода, и мертвые солдаты на завоеванной ими земле, и дальний лесок, охваченный чутким безмолвием весны…
Она вступала в свои права, весна. Повеселели лужки на припеках; тонким, почти бесплотным туманцем окутались рощи. И птицы, каких еще не разогнал орудийный грохот, шумели иногда в лесных вершинках. Подступала пора великих работ на земле, и не было их: мешали фашисты. Злее становились удары исподтишка, в затылок врага. И ровно месяц спустя после памятной операции наступил отличный вечер, уже проникнутый тончайшим ароматом целомудренной русской флоры. Снова отправлялись в путь партизаны, и опять их было трое, с Куриленко Володей во главе. Теперь они свою взрывчатку заложили под железнодорожное полотно и терпеливо ждали, как ждет рыболов своей добычи на громадной и безветренной реке.
Сбивчивые стуки пошли по рельсам; земля подсказала на ухо партизану: «Пора!»
Володя выждал положенное время и крутнул рукоятку заветной машинки. И тихий русский вечер по-медвежьи, раскоряко, встал на дыбы и черную когтистую лапу взрыва обрушил на вражеский эшелон. Гаркнула тишина; вагоны с их живой начинкой посыпались под откос, вдвигаясь один в другой, как спичечные коробки… И где-то невдалеке трое юношей, исполнители казни, сурово наблюдали эту страшную окрошку из трехсот фрицев.
— Люблю большую и чистую работу, — сквозь зубы процедил Владимир Куриленко и повернулся уходить.
Он был веселый в тот вечер. Легко и вольно дышалось в майском воздухе. И хорошо было чувствовать, что родина опирается о твое надежное комсомольское плечо… Они шли молча, и необъятная жизнь лежала перед ними в дымке юношеских мечтаний. На ночь они расположились в деревне С., и никто не знал, что это была последняя ночь Володи.
В полночь деревня была охвачена кольцом карательного отряда. Началось избиение людей, не пожелавших выдать спрятанных партизан. В перестрелке был насмерть сражен друг и соратник Володи комсомолец К. Сам Куриленко, раненный в голову и живот, продолжал отстреливаться. Каратели подожгли дом. Пламя хлестнуло в окна, зазвенело стекло, черная бензиновая копоть заструилась в нежнейшем дыхании ночи. Тогда товарищ Володи, владевший языком врага, крикнул по-немецки в окно:
— В своих стреляете, негодяи! Кто, кто стреляет?
Пальба прекратилась, и в этот краткий миг передышки Куриленко и его товарищ выскочили из избы на огород, не забывая при этом унести и оружие убитого товарища.
Кое-как они дотащились до соседней деревни. Незнакомая Володе смертная слабость овладела его телом. Так вот как это бывает!.. «Ничего, крепись, партизан! Чапаю было еще труднее, когда он боролся один на один со смертью и воды Урала тянули его вниз…»
Крови становилось меньше, он уже не мог стоять, когда добрались до деревни. Неизвестный друг запряг лошадь и положил, сколько влезет, соломы на дно телеги. Двинулись в путь медленно, чтоб не увеличивать муки раненого. Лошадь шла шагом.
— Крепись, кренись… Еще немного, Володя, — шептал А.
Откинув голову, ослабев от потери крови, Куриленко лежал в телеге. Тысяча самых красивых, самых здоровых девушек в стране без раздумья отдали бы кровь этому герою и всю жизнь потом гордились бы этой честью. Но не было никого кругом, кроме друга, бессильного помочь ему, да еще великого утреннего безмолвия. Затылок с непокорными юношескими вихрами, смоченными кровью, бился о задок телеги, и голубой взор был устремлен в бесконечно доброе небо родины, едва начинавшее голубеть в рассвете.
Он слышал все в этот час: всякий шорох утра, каждый запах, веявший с поля, треск сучка, шелест земли, разминаемой колесом, просвист птичьего крыла над самым ухом… И уже бессильный повернуть голову, он узнавал по этим бесценным мелочам облик того, что так беззаветно и страстно любил… Боль уже прошла, но это означало приближение смерти. Только легкая и острая тоска по родине, покидаемой навсегда, теплилась в этом молодом и холодеющем теле. Вот оборвалась и она…
Такова последняя строка в анкете героя.
«Не долго жил, да славно умер», — говорит русская древняя пословица. Он умер за семь месяцев до своего совершеннолетия. Для того ли родина любовно растила тебя, Володя Куриленко, чтоб сразила тебя пуля гитлеровского подлеца? Прощай! Отряд твоего имени мстит сейчас за тебя на Смоленщине.
Не плачь о нем, современник. Копи в себе святую злобу. Но вспомни Володю Куриленко, когда ты будешь идти в атаку или почувствуешь усталость, стоя долгую военную смену у станка. Это придаст тебе ярости и силы… На великой и страшной тризне по нашим павшим братьям мы еще вспомним, вспомним, вспомним тебя, Володя Куриленко!
1942 г. НЕИЗВЕСТНОМУ АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ
Письмо первое
Мой добрый друг!
Я не знаю твоего имени. Наверно, мы не встретимся с тобой никогда. Пустыни, более непроходимые, чем во времена Цезаря и Колумба, разделяют нас. Завеса сплошного огня и стального ливня стоит сегодня на главных магистралях земли. Завтра, когда схлынет эта большая ночь, нам долго придется восстанавливать разбитые очаги цивилизации. Мы начнем стареть. Необъятные пространства, которыми мы владели в мечтах юности, будут постепенно мельчать, ограничиваться пределами родного города, потом дома и сада, где резвятся наши внуки, и, наконец, могилы.
Но мы не чужие. Капли воды в Волге, Темзе и Миссисипи сродни друг другу. Они соприкасаются в небе. Кто бы ты ни был — врач, инженер, ученый, литератор, как я, — мы вместе крутим могучее колесо прогресса. Сам Геракл не сдвинет его в одиночку. Я слышу твое дыхание рядом с собою, я вижу умную работу твоих рук и мысли. Одни и те же звезды смотрят на нас. В громадном океане вечности нас разделяют лишь секунды. Мы — современники.
Грозное несчастье вломилось в наши стены. Оглянись, милый друг. Искусственно созданные пустыни лежат на месте знаменитых садов земли. Черная птица кружит в небе, как тысячи лет назад, и садится на лоб поверженного человека. Она клюет глаз, читавший Данте и Шекспира. Бездомные дети бродят на этих гиблых просторах и жуют лебеду, выросшую на крови их матерей. Все гуще горелой человечиной пахнет в мире. Пожар в разгаре. Небо, в которое ты смотришь, пища, которую ты ешь, цветы, которых ты касаешься, — все покрыто ядовитой копотью. Основательны опасенья, что человеческая культура будет погребена, как Геркуланум, под этим черным пеплом. Война.
Бывают даты, которых не празднуют. Вдовы надевают траур в такие дни, и листья на деревьях выглядят жестяными, как на кладбищенском венке. Прошло три года этой войны. Облика ее не могли представить себе даже самые мрачные фантасты — им материалом для воображения служила наивная потасовка 1914 года. С тех пор была изобретена тотальная война, и дело истребления поставлено на прочную материальную основу. Немыслимо перечислить черные достижения этих лет. Обесчещено все, чего веками страдания и труда добился род людской. Затоптаны все заповеди земли, охранявшие моральную гигиену мира. Война еще не кончена.
В такую пору надо говорить прямо и грубо, — это умнее и честнее перед нашими детьми. Речь идет о главном. Мы позволили возникнуть Гитлеру на земле… Будущий историк с суровостью следователя назовет вслух виновников происходящих злодеяний. Ты думаешь, там будут только имена Гитлера и его помощников, замысливших порабощенье мира? Петитом там будут обозначены тысячи имен его вольных и невольных пособников — красноречивых молчальников, изысканных скептиков, государственных эгоистов и пилатов всех оттенков. Там будут приведены и некоторые географические названия — Испания и Женева, Абиссиния и Мюнхен. Там будут фонетически расшифрованы грязные имена Петэна и Лаваля, омывающих руки в крови своей страны. Может быть, даже целый фильм будет приложен к этому обвинительному акту — фильм о последовательном возвышении Гитлера: как возникал убийца, и как неторопливо точил он топор на глазах у почтенной публики, и как он взмахнул топором над Европой в первый раз, и как непонятные капли красного вещества полетели во все стороны от удара, и как мир вытер эти брызги с лица и постарался не догадаться, что это была за жидкость.
Люди, когда они идут в одну сторону, — попутчики и друзья. Когда они отдают силы, жизнь и достояние за великое дело, — становятся братьями. И если громадное преступление безнаказанно совершается перед ними, — они сообщники. Протестовать против этого неминуемого приговора можно только сегодня, пока судья не сел за стол, — протестовать только делом и только сообща.
Милый друг, со школьной скамьи мы со страхом поглядывали на седую древность, где, кажется, самые чернила летописцев были разведены кровью. Наш детский разум подавляли образы хотя бы Тимура, Александра, Каракаллы…
Позже детский страх смягчился почтенностью расстояния и романтическим великодушием поэтов. Наш юношеский гнев и взрослую осторожность парализовала мнимая безопасность нынешнего существования. Ужас запечатленного факта окутывался легкой дымкой мифа. Ведь это было так давно, еще до Галилея и Дарвина, до Менделеева и Эдисона. Мы даже немножко презирали их, этих провинциальных вояк, ближайших правнуков неандертальца и кроманьонца!..
Так вот, все эти бородатые мужчины с зазубренным мечом в руке, эти миропотрясители, джихангиры, как их называли на Востоке, — все они были только кустари, самоучки истребления. Что Тимур, растоптавший конницей семь тысяч детей, выставленных в открытом поле; или Александр, распявший две тысячи человек при взятии Нового Тира; или Василий Болгароктон, ослепивший в поученье побежденным пятнадцать тысяч болгар; или Каракалла, осудивший на смерть всю Александрию? Сколько жителей было в этой большой старинной деревне?
Мир услышал имя Гитлера. Рекорды Диоклетиана, Альбы, Чингиса биты. На смену неумелым простакам, вымазанным в крови, пришли новые варвары, с университетскими дипломами, докторанты военного разбоя, академики массовых убийств. В стране, где однажды на горькое благо человечества был изобретен порох (во Фрейбурге, верно, еще стоит монумент черному Бартольду!), теперь родилась идея, которую трудно определить вполне корректными словами. Отныне им принадлежат, вопят они, земля и небо, наши города и машины, наши дома и семьи, наши дети, наше будущее, наше — все. Поработить людей, забыть все, долой homo sapiens’a, да здравствует покорное человеческое существо, которое отныне будет разводить рыжий арийский пастух. Этот новый вид двуногого домашнего животного будет работать, взирая на бич хозяина, драться за его интересы — с теми, кто еще не лег добровольно под ярмо, уныло жрать свой травяной корм и спать в обширном хлеву, в который должна обратиться Европа. И пусть ему не хватит времени на любовь, на познание, на мышленье — эти неиссякаемые источники его радости, его горя, его божественных трагедий. В этом и будет заключаться «счастье» преобразованной нордической Европы.
Была пора — русский поэт Александр Блок в 1918-м кричал о времени —
…когда свирепый гунн в карманах трупов, станет шарить, жечь города, и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить,мы принимали этот пророческий образ за поэтическую метафору. «Этого не бывает…» Нет, бывает! Мертвые Шекспир и Данте не смогут нас защитить от живого Гитлера. И время это пришло.
Хоругви предков — какие бы величественные слова ни были начертаны на их ветхих полотнищах — не защитят тебя от пикирующего бомбардировщика. Смотри, красномордые гитлеровские апостолы, с руками по локоть в сукровице, уже взялись за переустройство Европы. И не такими уж неприступными оказались наши прославленные цитадели гуманизма. Политые лигроином, книги горят отлично, а толуол неплохо действует под фундаментами наших храмов. Гитлер идет на штурм мира. Вена и Прага, Варшава и Белград, Афины и Париж… вот уже преодоленные ступени штурмовой лестницы, по которой варвар лезет на наши стены. Он уже приблизился на расстояние руки: смотри ему в глаза, в них нет пощады. Топор с пропеллерной скоростью свистит и вьется в его руке… Холодок этого вращенья ложится на твое лицо. И если бы не Россия, он был бы уже на самом верху цитадели.
Прости мне эти мрачные картины незнакомой тебе действительности. Мне приятнее было бы рассказать тебе, как еще несколько лет назад мы без устали строили у себя материальные базы человеческого благосостояния. Наши юноши и девушки хотели прокладывать дороги, воздвигать заводы и театры, проникать в тайны мироздания, побеждать неизлечимые болезни, изобретать механизмы и создавать ценности, из которых образуются стройные коралловые острова цивилизаций. Они стремились обогатить и расширить великое культурное наследство, подаренное нам предками. Они мечтали о золотом веке мира… Их мечта разбилась под дубиной дикаря. Военная непогода заволокла безоблачное небо нашей родины. В самое пекло войны была поставлена наша молодежь и даже там не утратила своей гордой и прекрасной веры в Человека.
Они-то крепко знают, что в этой схватке победят правда и добро. Орлиная русская слава парит над молодежью моей страны. Какими великанами оказались наши, вчера еще незаметные люди! Они возмужали за эти годы — страдания умножают мудрость. Они постигли необъятное значение этой воистину Народной войны. Они дерутся за родину так, как никто, нигде и никогда не дрался: вспомните черную осень 1941 года!.. Они ненавидят врага ненавистью, которой можно плавить сталь, — ненавистью, когда уже не чувствуются ни боль, ни лишенья. Пламя гнева их растет ежеминутно — все новое горючее доставляют для него гитлеровские прохвосты, ибо безмерны злодеяния этих громил. Все меркнет перед ними: утонченная жестокость европейского средневековья и свирепая изобретательность заплечных мастеров Азии. Нет такого мученья, какое не было бы причинено нашим людям этими нелюдьми.
Может быть, тебе не видно всего этого издалека? Чужое горе всегда маленькое. Может быть, ты все-таки думаешь, что воды в Темзе и Миссисипи протекает больше за единицу времени, чем крови и слез в Европе? Может быть, ты не слышал про Лидице? Может быть, тебе кажутся преувеличенными газетные описания всех этих палаческих ухищрений?.. Я помогу тебе поверить. Сообщи мне адрес, и я пошлю тебе фотографии расстрелянных, замученных, сожженных. Ты увидишь ребятишек с расколотыми черепами, женщин с разорванной утробой, девственниц с вырезанной после надругательства грудью, обугленных стариков, никому не причинивших зла, спины раненых, где упражнялись на досуге резчики по человеческому мясу.
Ты увидишь испепеленные деревни и раскрошенные города, маленькие братские могилы, где под каждым крестиком лежат сотни, пирамиды исковерканных безумием трупов… Керченский ров, наконец, если выдержат твои очи, увидишь ты! Ты увидишь самое милое на свете, самое человеческое лицо Зои Космодемьянской после того, как она, вынутая из петли, целый месяц пролежала в своей ледяной могиле. Ты увидишь, как вешают гирляндой молодых и славных русских парней, которые дрались и за тебя, мой добрый друг, как порют русских крестьян, не пожелавших склонить своей гордой славянской головы перед завоевателями, как выглядит девушка, которую осквернила гитлеровская рота… Оставь у себя эти документы. Сложи их вместе с. теми выцветшими за четверть века снимками героев Ютландского боя и Марнской битвы. Сохрани их как наглядное пособие для твоих детей, когда станешь учить их любви к родине, вере в Человека и готовности погибнуть за них любой гибелью.
Не жалости и не сочувствия мы ждем от тебя. Только справедливости. И еще: чтоб ты хорошо подумал над всем этим в наступившую крайнюю минуту.
После разрушения Тира Навуходоносором (573 год до нашей эры) было высечено там на камне, что «осталась только голая скала, где рыбаки сушили свои сети». Иероним горько сказал о своей родине, Паннонии, что после войны «не осталось там ничего, кроме земли да неба». Теперь эти описания пригодны для областей, стократно больших. Гостем или туристом приезжая к нам, ты посетил, конечно, и Ясную Поляну с могилой великого старика, и киевские соборы; ты щелкал своим кодаком, наверно, и Новоиерусалимский храм на Истре, и прозрачные рощи петергофских фонтанов. Их больше нет. Все, что не влезло в объемистый карман этих фашистских туристов, было уничтожено на месте яростью нового Аттилы.
Нерадиво берегли нашу цивилизацию: не сумели даже обезопасить ее от падающих бомб. Слишком верили в ее святость и прочность. Когда наши радио передавали легкую, порою — легчайшую музыку, с нацистских станций откровенно гремела медь грубых солдатских маршей. Бог войны примерял свои доспехи, которые мы слишком рано сочли за утиль. Сталин говорил об этом не раз — мир не умел или не хотел слышать. Не ссылайтесь же впоследствии, что никто не предупредил вас о грядущих несчастьях!
Есть такие граждане мира, которые полагают, что если они местожительствуют далеко от вулкана, то до них не доползет беда. В стремлении изолироваться от всеобщего горя они подвергают риску не только жизнь свою, но и репутацию. Самые хитроумные пройдохи юриспруденции не придумали пока оправданий джентльмену, равнодушно созерцающему, как топчут ребенка или насилуют женщину… Условно, из вежливости, назовем это пока выжидательной осторожностью. Однако не сомнительная ли это мудрость — ждать, пока утомится убийца, или притупится его топор, или иссякнут его жертвы? Больше того — пока на протяжении двух с половиной тысяч километров длится жесточайший Верден, уснащенный новейшими орудиями истребления, эти почтенные умы подсчитывают количества танков, какими они будут располагать летом сорок пятого года и осенью пятьдесят шестого. Прогнозы вселяют в них животворящий оптимизм, как будто врага могут устрашить или остановить подобные математические декларации. Наши эксперты не сомневаются, кстати, что к зиме 1997 года количество этих железных ящеров достигнет гомерических чисел. Армады старых железных птиц, поржавевших от безделья и не снесших ни одного яйца на вражеские арсеналы, закроют своими крыльями целые материки. Но не случится ли что-нибудь неожиданное и чрезвычайное до наступления той обманчиво-благоразумной даты?
Пьяному море по колено, а безумцу не страшен и океан. Никто не превосходил в хитрости безумца. Береги своих детей, милый друг. Послушай, как они плачут в Европе. Все дети мира плачут на одном языке. Великие беды легко перешагивают через любые проливы. Французы тоже надеялись, что их спасет знаменитая железобетонная канава на северо-восточной границе, оборудованная всеми военными удобствами!
Я люблю моих современников, тружеников земли! Я благодарен им уже за то, что не один я перед лицом врага, который и им не может быть другом. Я уважаю их деятельную, искательную мысль, их творческое беспокойство, их прошлое, полное героев и мудрецов. Мне дороги их отличные театры, их обсерватории, где пальцами лучей они считают светила, их университеты, где по граммам выплавляется бесценное знание человека, их стадионы, парки, лаборатории, самые города их. Они умеют все — делать чудовищные машины, послушные легчайшему прикосновению руки, создавать великолепные произведения искусства, которые — как цветы, что роняет, шествуя по вечности, Человек! Все это под ударом сейчас.
Скажи тем, которые думают пересидеть в своих убежищах, что они не уцелеют. Война взойдет к ним и возьмет их за горло, как и тебя. Она превратит в щебень все, чем ты гордился в твоих городах, развеет пеплом созидания твоих искусств, в каменную муку обратит твои святыни. Едкая гарь Европы еще не ест тебе глаза?.. Гитлер вступит в твою страну, как в громадный универмаг, где можно не платить и даже получать воздаяние за произведенную им работку! Если он на Смоленщине отбирал скудный ширпотреб у русского мужика, почему бы ему не поживиться сокровищами американских музеев? Его первейшая мечта — победителем побывать на британских островах. Новый Иов, ты сядешь посреди смрадных развалин, в гноище раскаяния, с единой душой да с телом!
Скажи тому, кто не верит, что война ворвется к нему, выволочет за волосы жену его и детей его передушит у него на глазах. Оглянись на Белоруссию, Югославию, Украину. Если там девушек, не достигших совершеннолетия, гонят кнутом в солдатские бордели, почему же они думают, что Гитлер пощадит их мать, сестру или дочь? Если русских и еврейских детей он кидает в печь или пробует на них остроту штыка и проверяет меткость своего автомата, какая сила сможет защитить твоего ребенка от зверей? Война — безглазое и сторукое чудовище, и каждая рука шарит свою добычу. Прежде чем они заплачут слезами Иеремии, посоветуй им купить «Мейн кампф»: там начертана их участь.
В этой войне, в которую рано или поздно ты вольешь свою гневную мощь, нужно победить любым усилием. Безумец не страшен, если вовремя взяться за него. Непобедимых нет.
Русские солдаты под Москвой видели: этих каналий в декабре. прошлого года: они бежали с нормальной для застигнутого вора резвостью… Победу нужно начинать немедля и с главного: убивать убийц, поднявших руку на священные, права Человека. Потом нужно истребить и самый микроб, войны, который еще гнездятся. кое-где в древних фанабериях европейских народов. С некоторого времени перерывы между войнами существуют только для того, чтобы народы поострей отточили сабли. Развитие промышленности все более укорачивает эти антракты между великими вселенскими бойнями. Их размеры; возрастают в геометрических прогрессиях, обусловленных расширением технических возможностей. Александр Македонский, идя на завоевание мира, перевел через Геллеспонт тридцать пять тысяч воинов в трусиках и с короткими мечами. Нынешняя война начинается с вторжения десятков миллионов людей, многих тысяч боевых машин, с бомбежек и истребления: самого неприкосновенного фонда, наших матерей и малюток. Нужно заглянуть в самый корень этого основного недуга Земли. Нужно клинически проследить кровавую родословную последних войн и найти их первую праматерь, имя которой Несправедливость, и убить ее в ее гнездовье.
Мой добрый друг, подумай о происходящем вокруг тебя. Сыновья героев 1914–1918 годов ложатся на кости своих отцов, не успевшие истлеть на полях сражений. Какие гарантии у тебя, что и твой голубоглазый мальчик, соскользнув с злодейского штыка, не упадет на кости деда?..
Цивилизации гибнут, как и люди. Бездне нет предела. Падать можно бесконечно. Помни, потухают и звезды.
Учитель мой, Горький, назвал тебя мастером культуры. Думай же, мастер культуры!
Мы, Россия, произнесли свое слово: Освобождение. Мы отдаем все, что имеем, делу победы. Наш красноармеец, который принял на свою грудь тягчайший удар громилы, — великий мудрец, который смотрит вперед и видит отдаленное будущее своих потомков. Еще не родилось искусство, чтобы соразмерно рассказать об отваге наших армий. Они отдают жизнь за самое главное, чему и ты себя считаешь другом.
Ho… amicus cognoscitur amore, more, ore, re[1]. Я опускаю это письмо в почтовый ящик мира.
Дойдет ли оно?
2 августа 1942 г.
Письмо второе
Мой добрый друг!
Здесь заключено публичное признание моего бессилия. Я никогда не создам этого рассказа. Скорбную мою повесть надо писать на меди: бумагу прожигали бы слова об этих двух безвестных женщинах. Я не знаю ни национальности их, ни имен. Верное, я теряюсь, какие из семи тысяч я должен выбрать, чтобы не оскорбить памяти остальных членов этого страшного братства.
Ты без труда представишь себе этих двух героинь ненаписанной повести, мой неизвестный американский друг: пятилетнюю девочку и ее мать. Маленькая была совсем как твои дочка, которую ты ласкал еще сегодня утром, отправляясь на работу. Ее жать также очень похожа на твою милую и красивую жену, только одета беднее и у нее очень усталое лицо, потому что жить в городе, занятом немецкой армией, несколько труднее, чем под безоблачным небом Америки. Они помещались в крохотном, с бальзаминами на окнах, домике, у которого отстрелили снарядом угол в недавнем городском бою. Починить его было некому, так как отец, рядовой русский солдат, ушел со своим полком, чтобы где-то, на далеком рубеже, без сна и устали бить в костистую морду смерти, поднявшейся ныне над всем цивилизованным человечеством.
Фронт был отодвинут в глубь страны, и грохот русских пушек, этот гневный голос родины, перестал быть слышен в тихом городке. Наступила великая тоска и в ней один предзимний еще бесснежный денек. Мороз скрепил землю, и лужицы подернулись стрельчатым ледком. Всем нам в детстве одинаково нравилось ступать по этому хрусткому стеклышку и вслушиваться в веселую музыку зимы. Когда в одно бессолнечное утро девочка попросилась на улицу, мать одела ее потеплее, в рваненькое и уцелевшее, и выпустила с наказом не отходить далеко от дома; сама она собиралась тем временем заделать пробоину в стене.
Ставши у ворот, маленькая боязливо улыбалась всему, что видела. Она бессознательно хотела задобрить громадную недобрую тишину, обступившую городок. Никто не замечал присмиревшего ребенка: все были заняты своим делом. Порхали воробьи, и шумел за облаками самолет. Сменные немецкие караулы чеканно направлялись к своим постам. Изредка робкая снежинка падала из пасмурного неба, и, подставив ей ладонь, девочка следила, как та превращалась сперва в прозрачную капельку, потом — в ничто. У маленькой не было ее пестрых, любовно связанных бабушкой перчаток. Ночью случился обыск, а у немецкого солдата, приходившего за трофеями, видимо, имелась девочка такого же возраста в Германии.
Шум в конце улицы привлек внимание ребенка. Объемистый автобус, с фальшивыми нарисованными окнами, остановился невдалеке. Сняв рукавицы и подняв капот, шофер мирно копался в моторе. Шеренга немецких пехотинцев, как бы скучая и с примкнутыми штыками, двигалась сюда, и в центре полукольца плелись безоружные местные жители, человек сорок, с узелками, старые и малые. Некоторые застегивались на ходу, потому что их внезапно выгнали из дому. Годных к войне между ними не было, грудных несли на руках. Это походило на невод, который по мелкой реке тянут рыбаки. Шествие приблизилось, впереди шли дети.
Все выглядело вполне обыденно. И хотя все понемножку о чем-то догадывались, никто не плакал из страха вызвать добавочную злобу у этих равнодушных солдат. Видимо, всем этим людям предстояло ехать куда-то во имя жизненных германских интересов — и нашей маленькой — в том числе! Ей очень нравилось ездить в автомобилях, хотя только раз в жизни она испытывала это наслаждение. Установился обычай в нынешней России катать детей по первомайским улицам в грузовиках, разукрашенных цветами и флагами; обычно при этом дети пели тоненькими голосками… Кстати, девочка поискала глазами в кучке ребят свою старинную подружку. Маленькая еще не знала, что ее, контуженную при занятии городка, закопали прошлым вечером в вишеннике, за соседским амбаром.
Скоро мертвая петля облавы захлестнула и домик с бальзаминами, возле которого стояла моя пятилетняя героиня. Комплект был набран, и раздалась команда. Козырнув, шофер обошел сзади и открыл высоко над колесами толстую двустворчатую дверь. Людей стали поочередно сажать внутрь фургона; слабым или неловким охотно помогали немецкие солдаты. Одна древняя русская старушка, не шибко доверяя машинам и прочим изобретениям антихриста, украдкой покрестилась при этом. Девочка удивилась не тому, что внутренность машины была обшита гладким металлом; ее огорчило отсутствие окон, без которых ребенку немыслимо удовольствие прогулки. Она ничего не поняла и потом, когда худой и ужасно длинный солдат — под руки, как русские носят самовар, — понес ее к остальным, уже погруженным детям; она только улыбнулась ему на всякий случай, чтобы не уронил. В ту же минуту на крыльцо выскочила, с руками по локоть в глине, ее простоволосая мать.
Она вырвала ребенка и закричала, потому что видела накануне этот знаменитый автобус в работе. Она кричала, неистово распахнув рот, во всю силу материнской боли, и я очень удивлюсь, если не был слышен в Америке этот несказанный вопль. Она так кричала, что ни один из патрульных даже не посмел ударить ее прикладом, когда она рванулась и побежала с дочкой наугад, и запнулась, и упала, и лежала в чудовищной надежде, что ее почтут за мертвую или не заметят в суматохе. Но маленькая не знала: она силилась поднять мать за руку и все твердила: «Мамочка, ты не бойся… я поеду с тобой, мамочка». Она повторяла это и тогда, когда ее вторично понесли в цинковую коробку фургона. Но тогда вдруг заплакали и закричали все от жалости к маленькой, а громче всех — дети. Это был беспорядок, противный нацистскому духу, и, чтоб прекратить скандал в зародыше, в автобус поднялся хорошо выбритый ефрейтор с большим фабричным тюбиком, что хранился в его походной сумке. Одновременно в его правой руке появилась узкая, на тонком стержне, кисть, вроде тех, что употребляют для гуммиарабика. Из тюбика выползла черная змейка пасты, несколько густой, но, видимо, более удобной в перевозке. Солидно протискиваясь в тесноте среди детей, военный смазывал этим лекарством против крика губы затихавших ребят. Порой, для верности, он без промаха вводил свой помазок в ноздри ребенка, этот косец смерти, и, как скошенная трава, дети клонились и опускались на ноги обезумевших взрослых. Наверно, у него имелось специальное образование, так ловко он совершал свою черную процедуру. Крики затихли, и солдатам уже не составило труда отнести и вдвинуть на пол камеры, в этот людской штабель, потерявшую сознание мать.
Двери закрыли на автоматический запор; шофер поднялся на сиденье и завел мотор, но машина не сразу отправилась на место назначенья. Офицер стал закуривать, солдаты стояли вольно. Все опять выглядело крайне мирно, ничто не нарушало тишины: ни шумливые краснодарские воробьи, ни — почему бы это? — даже треск выхлопной трубы. И хотя машина по-прежнему стояла на месте, время от времени как-то странно кренился кузов, точно самый металл содрогался от роли, пред назначенной ему дьяволом. Когда папироска докурилась и прекратились эти судорожные колыханья, офицер дал знак, и машина поплыла по подмерзшим грязям за город. Там имелся глубокий противотанковый ров, куда германские городские власти ежедневно сваливали свою продукцию… Теперь, после возвращения Красной Армии на временно покинутые места, эти длинные могилы раскопаны, и любители сильных ощущений могут осмотреть фотографии завоевательских успехов Гитлера.
Это краткое либретто темы, способной целые материки поднять в атаку, я безвозмездно дарю Голливуду. Несомненно, он получится сильнее обычных гангстерских фильмов, этот впечатляющий кинодокумент. Жаль, что его не успели поместить в той вместительной железной коробке-посылке в века, что закопана под нью-йоркской Всемирной выставкой. Любовную интригу, если понадобится, можно присочинить по ходу действия. Хорошо было бы также показать этот боевик многочисленным свободолюбивым армиям, которые терпеливо — и который уж год! — ждут приказа о генеральном наступлении против главного изверга всех веков и поколений.
Конечно, встретятся неминуемые трудности при постановке. Вашей актрисе, Америка, трудно будет воспроизвести смертный крик матери, да и вряд ли пленка выдержит его. Режиссеру и зрителю покажутся экзотически невероятными как самый инвентарь происшествия, так и перечисленные мною вкратце детали. И хотя я вовсе не собирался писать корреспонденцию из ада, я полагаю необходимым, однако, перевести на англосаксонские наречия название этого невиданного транспортного средства, изобретенного в Германии для отправки в вечность: душегубка… Это дизельный восьмитонный грузовик с камерой, обложенной внутри листами надежного металла, который невозможно ни прокусить, ни процарапать ногтями. Отработанные газы мотора нагнетаются в это герметически закупоренное пространство непосредственно через трубку с защитной от засорения решеткой. Горячая сгущенная окись углерода, СО, немедленно наполняет кабину и быстро поглощается гемоглобином крови заключенных там жертв. Отравление начинается с удушья и головокружения; не стоит приводить остальных симптомов при смертельных случаях, а это приспособление создано специально для смерти. Это вряд ли и потребуется в проектируемом нами фильме. Впрочем, в классических немецких исследованиях по токсикологии Винца, Шмидеберга и Кункеля подробно разработана симптоматика этого дела.
Как видно, достижения германской науки пригодились сегодня негодяям, которым Германия вверила свою национальную судьбу и жизни. И когда Геббельс вопит со своих радиостанций о немецкой культуре, он, видимо, требует от своих будущих жертв, чтобы они до последнего дыхания сохраняли почтительное изумление перед сверкающей аппаратурой палача. Рационализация человекоистребления и дешевизна его доведены до баснословного предела. Знаменитые яды истории: демонский напиток Борджиа, или «лейстеровский насморк» елизаветинского министра, или изящная, как музыка Моцарта, отрава маркизы Бренвилъе, и сама бледная аква тоффана, что продавалась в средние века в пузырьках с изображением святого Николая, — все это дорогостоящие забавы для мелкого, индивидуального пользования. Сама Локуста, которую тоже с запозданием догадались казнить только при Гальбе, чернеет от профессиональной зависти к Гитлеру, который отбросы дизель-мотора включил на вооружение германской армии. Не добывать же окись углерода, например, разложением щавелевой с помощью крепкой серной, слегка подогретой кислоты!
Эта механическая колымага гибели, что путешествует по просторам оккупированных областей России, обслуживается специальным отрядом, зондеркомандой, из двухсот человек. Должность они свою исполняют не в патологическом исступлении боя, а с трезво обдуманной полнотой большого, государственного мероприятия. У них ведется учетный журнал с точными графами, куда заносится как дата и способ уничтожения, так и пол, национальность, возраст и количество уничтоженных за сутки жертв. Не верится, что у этих черных бухгалтеров смерти тоже были мамы, которые ласкали их в детстве и, пряча свои лица, достойные Гойи, просили у неба счастьишка для своих рычащих ублюдков… Обширным штат зондеркоманды вполне окупается размерами ее деятельности. И верно, при максимальной емкости кузова в восемьдесят живых единиц, при дозировке смертной порции в десять минут, дольше которой не выдерживает самый прочный молотобоец, плюс двадцать минут на обратный рейс, включая разгрузку — а машина действует и на ходу! — пропускную способность одного такого автобуса можно довести до полутора тысяч покойников в сутки. Таким образом, дивизион подобных агрегатов даже при умеренной, но бесперебойной работе может в месяц опустошить цветущую площадь с двухмиллионным населением.
Представь себе этих людей хозяевами земли, мой добрый друг, и содрогнись за своих любимых!
Народ мой словом и делом проклял этот подлейший замысел дьявола. Народу моему ясно, что, если бы не было пушек мира, следовало бы голыми руками расшвырять это бронированное гнездо убийц. И я люблю мать мою, Россию, за то, что ум и сердце ее не разъединены с ее волей и силой; за то, что, гордая своей правотой, она идет впереди всех народов на штурм пристанища зла. Видишь ли ты ее, когда она без устали сокрушает обвившего ее ноги дракона? Святая кровь всемирного подвига катится по ее лицу, и кто в мире назовет мне лицо красивей? Вот почему сегодня родина моя становится духовной родиной всех, кто верит в торжество правды на земле!
К вечным звездам люди всегда приходили через суровые испытания, но в такую бездну еще никогда не заглядывал человек. Уже мы не замечаем ни весны, ни полдня. Реки расплавленной стали текут навстречу рекам крови. Никто не удивится, если хлеб, смолотый из завтрашнего урожая, окажется красным и горьким, как порох, на вкус. Самая сталь корчится от боли на нолях России, но не русский человек. При равных условиях, в библейские времена, Иезекиили с огненным обличеньем на устах нарождались в народе. Во все времена появлялись они и благовестили людям, эти колокола подлинного гуманизма. Ты помнишь исполина Льва Толстого, который крикнул миру «не могу молчать», или Золя с его пламенным «j’accuse!»[2], или Барбюса, Горького. Миллионноголосое эхо подхватывало их призыв, и подлая коммерция себялюбия уступала дорогу совести, и надолго становился чище воздух мира… Ты помнишь и чтишь русского человека, Федора Достоевского, чьи книги в раззолоченных ризах стоят на твоих книжных полках! Этот человек нетерпеливо замахивался на самое Провидение, однажды заприметив слезинку обиженного ребенка. Что же сказали бы они теперь, эти непреклонные правдоносцы, зайдя в детские лазареты, где лежат наши маленькие, тельцем своим познавшие неустройство земли, пряча культяпки под одеялом, стыдясь за взрослых, не сумевших оберечь их от ярости громилы? Они подивились бы человеческой породе, в которой и горячечное пламя тысяч детских глаз не выплавило гневной набатной меди!
Каждый отец есть отец всех детей земли, и наоборот. Ты отвечаешь за ребенка, живущего на чужом материке… Вот правда, без усвоения которой никогда не выздороветь нашей планете. Остановить в размахе быструю и решительную руку убийцы — вот неотложный долг отцов на земле. Иначе к чему наши академии и могучие заводы, седины праведников и глубокомыслие государственных мудрецов? Или мы затем храпим все это, чтоб пощекотать больное и осторожное тщеславие наше? Фашизм, эта страшная язва Европы, так же гнусно зияет среди обманчивых утех нашей цивилизации, как если бы длинный витой хвост пращура просунулся между фалдами профессорского сюртука. Можно ли смотреть на звезды из обсерваторий, пол которых затоплен кровью? Тогда признаемся в великой лжи всего, что с такой двуличной и надменной важностью человечество творило до сегодня. Может быть, и сами мы только размалеванные обрубки в сравнении с теми красивыми и совершенными людьми, что завтра осудят моих современников за допущение на землю страшнейшей из болезней.
Нет, неправда это! Прекрасна жизнь вопреки сквернящим ее злодеям. Прекрасны дети и женщины наши, сады и книги, чистой мудростью налитые до краев. Человек еще подымется во весь рост, и это будет содержанием поэм, более значительных, чем сказания о Давиде и Геракле. Народ мой верит в это, ценит локоть и близость друзей — и тех, что пойдут вместе с ним наказать дикаря в его логове, и тех, кто с опасностью для жизни подносит патроны к месту боя. И никакой клевете не разъединить этих соратников, благородных в своих исторических устремлениях и спаянных кровью совместного подвига. Их породнили племена Варшавы и Белграда, руины Сталинграда и Ковентри… Термитным составом выжжены на пространствах Европы имена изобретателей тотальной войны. Когда один из них, перечислив преимущество ночных рейдов на мирные города, предупреждал народы, если бы они посмели ответить тем же оружием: «Горе тому, кто проиграет тотальную войну!» — в тот день подсудимый сам произнес себе приговор.
И вот он начинает приводиться в исполнение. Мы проникнуты нетерпеливым ожиданием победы. Самый колос старается расти быстрее, чтоб сократить сроки ужасного кровопролития. Цвет наций одевается в хаки. Железные ящеры, урча, сползают с конвейеров: уже им не хватает стойл на родных материках. Владыки океанов неторопливо сходят со стапелей во мглу ночи. Стаи железных птиц, более грозных, чем птицы Апокалипсиса, крыло к крылу покрывают равнины. И когда мысленно созерцаешь сумму стали, людей и резервов у стран-свободолюбцев, глубоко веришь, что и горы не устоят перед натиском этого материализированного гнева.
Я не умею разгадать логику зреющего в недрах ваших генеральных штабов великого плана разрушения фашизма. Я простой человек, который пишет черным по белому для миллионов своего народа. Может быть, я не прав, но только мне всегда казалось, что совершеннолетний мужчина, который в цинковой коробке травит пятилетнюю девочку, заслуживает немедленного удара не в пятку, а в грудь или, по крайней мере, в лицо. Они совсем не Ахиллесы, эти берлинские господа. Конечно, все дороги ведут в Рим, но все же кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая…
Итак, теперь дело за вами, американские друзья! Честная дружба, которою отныне будет жить планета, создается сегодня — на полях совместного боя. Именно здесь познается величие характера и историческая поступь передовых наций.
И в затемненной Москвы я отчетливо вижу твое жилище и стол, за которым ты сидишь. Тебе подает ужин милая твоя жена, и пятилетняя девчоночка на твоих коленях торопится рассказать отцу сложные дневные происшествия своей и Куклиной жизни. Ночь движет стрелки на циферблате, и красивый, ярко освещенный город шумит за твоим окном… Покойной ночи, мой неизвестный американский друг! Поцелуй свою милую дочку и расскажи ей про русского солдата, который в эту самую ночь, сквозь смерть и грохот, в одиночку и по эвклидовой прямой, движется на запад — за всех маленьких в мире!
15 июля 1943 г.
ПРИМЕЧАНИЕ К ПАРАГРАФУ
Детей в возрасте от шести до двенадцати лет гонят конвейером к глубокому песчаному карьеру. Никто: ни мать, ни бабушка — не сопровождает их, они одни здесь, под синим равнодушным небом. Там, на краю карьера, трудится долговязый детина в эсэсовской пилотке. Он строит лестницу, по которой поднимается гитлеровская Германия к своему мировому господству. Каждый ребенок — ступенька. Их пройдено миллион, миллиард их лежит впереди. Надо рационально расходовать нацистскую силу, чтобы ее хватило на всех… Сей молодец здорово приноровился к своей работе, он действует одновременно всем телом, как добрый аугсбургский станок, где ни одно движение не пропадает даром, — даже взгляд, как удар молотом, на мгновенье цепенящий ребенка. Пачка выстрелов, удар коленом в плечико, и, запрокинув голову, ребятки сами валятся, как дрова, в детскую братскую яму.
У этого труженика еще остается время перезарядить магазин автомата, пока подходит на разгрузку следующий фургон с детьми. Работа не трудная и безопасная: дети безоружны. Фюрер повесит ему за это на шею медаль на муаровой ленте. «Дяденька, не надо меня, не надо, — кричит девчоночка на высокой ноте. — Я боюсь, дяденька». Впрочем, все они кричат так, уже такое их дело, и он продолжает кропить их смертной свинцовой росой.
Тебе не кажется, читатель, что детской кровью отпечатаны эти строки о процессе? И если только ты делаешь не ружье, не пушку, не снаряд, тогда отложи в сторону свою работу и, вооружась мужеством, не жмурясь, взгляни в лицо вот этой девчоночки, которую только что сбросили в карьер смерти. И повтори про себя ее слова: «Дяденька, я боюсь…»
И если не увлажнятся твои глаза, не сожмется кулак от боли, повтори дважды этот предсмертный вопль безвинной девочки. И ты увидишь как наяву ее распахнутые ужасом глаза, ее худенькую, пробитую пулей шейку. И ты увидишь, что у нее лицо твоей милой дочки. И ты поймешь, что еще много надо не спать ночей, стрелять, жертвовать кровью и потом. И если ничего не окажется у тебя под руками, ты вырвешь сердце из себя, чтоб кинуть его в мерзавца с автоматом. Ибо можно убить и сердцем, когда оно окаменеет от ненависти.
Все здесь рассказанное — не беллетристическая вольность, все это — правда. Она случилась в августе 1942 года в станице Нижне-Чирской: именно так происходила там «разгрузка» детской больницы, и по этому образцу хотели завоеватели произвести разгрузку мира от всех ненемецких детей. Всего там было девятьсот ребят. Их отвез к месту казни шофер, предатель своего народа Михаил Буланов, пока еще — живая падаль. Он сделал много рейсов в тот день, ему приходилось самому подтаскивать и ставить детей под дуло эсэсовца. Вот он суеверно поглядывает на свои руки, может быть, припоминая, как были они тогда исцарапаны детскими ноготками, потому что вообще они шли неохотно, — так выразился сегодня в заседании суда офицер германской армии Лангхельд. Он, наверное, очень утомился в тот жаркий денек, Буланов. Но детский крик: «Дяденька, я боюсь!» — он запомнил. Значит, это громче автоматной пальбы — это раздирает уши ему и теперь, когда он платком утирает орошенные слезой глаза. Значит, это заглушить нечем; оно будет преследовать его до минуты, пока не захлестнется на его шее спасительная петля. Но какой, ни с чем не сравнимой силы должен быть факт, чтобы исторгнуть слезу у палача!
Представляется чудовищным, что обо всем этом подсудимые говорят спокойно, без волнения, серым, обыденным голосом, — кажется, пролитое пиво огорчило бы их в большей степени. Вот, к примеру, допрос Лангхельда. Это злое пятидесятидвухлетнее насекомое выглядит довольно моложаво. У него имеются внуки в Германии, и, видимо, он еще надеется в старости, у тихого домашнего камелька, рассказать им кое-что из своих боевых приключений в России. Он откашливается, чтобы свежее звучал голос, когда тоном ученого, сообщающего на корпоративном заседании о научной новинке, он повествует о душегубке — «газенвагене», его пропускной способности, его устройстве, о занимательности расстрела пленных из мелкокалиберных винтовок, — так как одной жертвы при этом хватало им надолго, — и о прочем. Кстати, это было изобретение одного штурмбанфюрера, некоего доктора Ханебиттера, видимо, также изрядного стрелка по живым мишеням.
Вообще бросается в глаза, что в роли организаторов массового истребления мирного населения очень часто подвизаются немцы с медицинским образованием: медфельдшера, доктора. Видимо, палачами в гитлеровской Германии назначаются преимущественно граждане с врачебными дипломами. Такие действуют тоньше, больней и искусней. На скамье подсудимых оный Ханебиттер пока не сидит, а жаль, было бы любопытно взглянуть на него в висячем положении. Лангхельд упоминает имя Ханебиттера спокойно, без оттенка порицания. Впрочем, эту скотину не волнует ничто. У него даже не хватает догадки сообразить, что матери и вдовы расстрелянных и забитых его палкою людей сидят в том же самом зале.
Вот партнер Лангхельда по расправам и, надеемся, по предстоящей участи — Риц, заместитель командира карательной роты. Юрист, он изучал римское право в паршивом городке у себя, пока фюрер не призвал его к «великим делам». Вдовы и сироты Таганрога, как и других городов, должны хорошо знать этого служаку германской юстиции с физиономией бибабо. О своих достижениях Риц повествует тоном нашалившего мальчугана, рассчитывающего, впрочем, что и на этот раз ему сойдет с рук. Вместе с тем же доктором смерти Ханебиттером, которого, будем верить, Красная Армия еще изловит где-нибудь в украинских степях, он ездил — из любознательности, по его словам, — под Харьков, где производился расстрел трех тысяч человек — русских, украинцев, евреев. Дело происходило 2 июня прошлого года на красивой лужайке у ХТЗ, вид которой был несколько испорчен уже вырытыми могилами. Работавшие тогда три грузовика успели доставить на место около трехсот человек. Солдаты разделили их на небольшие группы и, докурив скверные немецкие папиросы, принялись за работу.
«Ну-ка, вы… — сказал, протягивая Рицу автомат, все тот же Ханебиттер. — Ну-ка, покажите, на что вы способны, молодой человек».
И мальчуган Риц взял автомат и выпустил несколько очередей в ожидавших своей участи харьковчан… Риц морщится: они были такие растерянные, полуголые, с обезумевшими глазами. Это несколько омрачало ему удовольствие расправы. Впрочем, он сделал это якобы только потому, что в противном случае Ханебиттер, старший в чине, мог дурно подумать о нем. И тогда оказалось, что это — совсем быстро и легко. Только пришлось задержаться на одной женщине, которая пыталась собственным телом заслонить свою девочку. Но машинка действовала исправно, времени было много, день стоял отличный, все кончилось хорошо.
У этого тихого немецкого кнабе был приятель Якобе, тоже сукин сын. Однажды Риц посочувствовал ему в смысле обширности замыслов его палаческой деятельности и недостаточности средств: дескать, Россия так велика, черт возьми, и так много в ней живет людей. «О, ничего, у нас есть специальные машины», — похвастал Якобе. (В эту минуту, в который уже раз на протяжении процесса, опять знаменитая душегубка, урча и воняя окисью углерода, как бы въехала в зал судебного заседания.) Риц заинтересовался. И тогда Якобе свез его на другую площадку харьковского ада. Этот гид показал Рицу разгрузку машины, привезшей трупы отравленных. Кстати они обошли и другие ямы. «А вот пассажиры вчерашней поездки», — сострил Якобе, подводя друга к плохо засыпанной яме, где уже никто не шевелился.
Риц произносит это просто, ибо все это только деталь, маленькое примечание к одному параграфу в разработанном фашистском плане завоевания мира. Зал безмолвствует, и слышно только, как потрескивают юпитеры кинохроники.
— И что ж, пригодились вам при этом нормы римского права? — спрашивает военный прокурор.
— Нет, нам было приказано руководствоваться германоарийским чувством.
Тут же он сообщает, что недавно разочаровался в тезисах национал-социалистской партии, и вопросительно поглядывает то на судей, то в зал, точно ждет, что ему дадут за это шоколадку.
…Там, на самом дне нижнечирской ямы, под скорченными детскими телами, лежит великая истина, которую обязан извлечь оттуда и понять мир. Так жить больше нельзя, нельзя есть и спать спокойно, пока безымянная девчоночка, к которой никто не пришел на помощь, кричит у песчаного карьера: «Дяденька, я боюсь». Если бы не тысячи, а только сто, даже десять, даже три таких убийства совершались на глазах у мира и промолчал бы мир эту оплеуху подлецов, он не имел бы права на самое свое дыхание. Тогда дозволено все и нет правды, а есть только злой первобытный ящер, ставший на дыбы и кощунственно присвоивший себе звание человека… Но нет! Есть правда, и есть кому защищать ее, и есть железо, чтобы отомстить за нее. Не муаровая лента фашистской медали сомкнется у тебя на шее, убийца, а нечто другое, прочное, пеньковое и более приличное подлецу. Слушай нас, маленькая, из братской ямы в. Нижне-Чирской станице. Мир поднялся на твое отмщение. О, негодяи еще слезами отмоют планету, забрызганную кровью из твоей простреленной шейки!
Харьков.
«Известия», 1943, 18 декабря.
И. Эренбург ЛЕТОПИСЬ МУЖЕСТВА
10 октября 1941 года
Москва — город моего детства. Я хорошо помню Москву прошлого века. Я вырос в тихом Хамовническом переулке. Зимой он был загроможден сугробами. Летом из палисадников выглядывала душистая сирень. В соседнем доме жил старик Когда он проходил сутулясь, городовой на углу переулка подозрительно хмурился. А студенты и рабочие часто заходили в наш переулок, пели «Марсельезу», что-то кричали перед соседним домом: они приветствовали Льва Толстого. Это была сонная, деревянная уютная Москва с извозчиками, с чайными, с садами.
Я помню баррикады в 1905 году — я был мальчишкой, я помогал — таскал мешки… Я помню бои в семнадцатом. Все это мне кажется далекой стариной.
Москва менялась с каждым годом. Вырастали новые кварталы. Зимой снег жгли, как покойника. Автомобиль сменил санки. Обозначились новые площади. Дома переезжали, как люди, улицы путешествовали. Город казался гигантской стройкой… Его заселяла молодежь, и только воробьи казались мне старожилами, сверстниками моего детства.
Я знал Москву в горе и в счастье, в лени и в лихорадке. Она сохранила свою душу — не дома, не уклад жизни, но особую повадку, речь с развалкой, добродушие, мечтательность, пестроту. Она не похожа ни на один город. Прежде говорили о ней «огромная деревня». Я скажу «маленький материк» — отдельный, особый мир.
Вот узнала Москва еще одно испытание. За нее теперь идут страшные бои. Если пройти по московским улицам, ничего не заметишь: они выглядят, как всегда. Те же переполненные трамваи и троллейбусы, те же театральные афиши, те же женщины с кошелками. Но лица стали другими: глаза печальней и строже, реже улыбки. Есть старая поговорка: «Москва слезам не верит». Москва верит только делу — не словам, не жестам, даже не слезам.
В первые недели войны Москва многого не понимала. Тогда были слезы на глазах. Тогда были женщины, которые суетились, куда-то тащили узелки с добром, тогда были тревожные вопросы. Не то теперь. Москва, как многие люди, может волноваться перед опасностью. Но когда опасность настает, Москва становится спокойной.
Вчера я был на военном заводе. Я видел почерневшие от усталости лица: работают сколько могут. По нескольку суток не уходят с завода. Каждая женщина понимает, что она сражается, как ее муж или брат у Вязьмы сражается за Москву. Она знает, что именно она изготовляет. Чуть усмехаясь, говорит: «Для фашиста…» Это не жестокость, это скрытая и потому вдвойне страстная любовь: защитить Москву. Когда над кварталом, где находится завод, стоит жужжание моторов, когда грохот станков покрывают зенитки и тот свист, который стал языком, понятным в Москве, как в Лондоне, — ни на одну минуту не останавливается работа. Я спросил одну работницу, сколько она спит, она глухо ответила: «Грех теперь спать. Я что же — сплю, а они — на фронте?..» От работы отрываются только для военных занятий. Как друга, рассматривают пулемет — доверчиво, внимательно, ласково.
Вчера в институте керамики, как всегда, шли занятия: девушки рисовали на фарфоре цветы. Вдруг одна встала: «Нужно учиться кидать гранаты, бутылки с горючим…» Ее все поддержали. Милая курносая Галя говорит мне: «Каждая из нас, если до того дойдет, убьет хоть одного фашиста». Это не бахвальство. Каждый человек волен выбирать судьбу. Москва, как Галя, свою судьбу выбрала: если ей будет суждено, она встретит смерть с одной мыслью — убить врага.
Актеры Камерного театра разбирают станковый пулемет, а два часа спустя гримируются, играют, повторяют торжественные монологи. Студентки литературного факультета, влюбленные в Ронсара или в Шелли, роют противотанковые рвы. Все это без патетических слов, без криков, без жестов. Героизм Москвы на вид будничен. Москва любила яркие хламиды — для масленицы, для театра, для праздника. Она веселилась в звонкой одежде рыцаря. Она идет навстречу смертельной опасности в шинели защитного цвета.
Сколько испытаний для женских сердец: от утра, когда ждет старуха мать почтальона — у нее четверо на фронте, — до вечера, когда молодая мать, прижимая к себе младенца, прислушивается к голосам зениток. Москва всегда представлялась русским женщиной. За Москву, за мать, за жену сейчас сражаются люди от Орла до Гжатска… И женщина Москва подает бойцу боеприпасы, готовая, если придется, схватить ружье и пойти в бой.
Врагу не найти своей, второй Москвы: Москва одна. Я видел, как читали подростки статью Ленина из «Правды» 1919 года «Москва в опасности». Они слушали угрюмо, потом загудели: «На фронт!» А в это время в московских церквах служили молебны за защитников Москвы и старушки несли в фонд обороны обручальные кольца и нательные кресты.
Врагу не вызвать паники. Я слышал, как немцы по радио говорили: «Удирают красноармейцы, комиссары, жители». Это мечта Берлина. А Москва молчит. Она опровергает ложь немцев молчанием, выдержкой, суровым трудом. Идут на фронт новые дивизии. Везут боеприпасы. И город, древний город, моя Москва, учится новому делу: стрелять или кидать гранаты. И каждый день на фронтах, не только под Вязьмой, на далеких фронтах — у Мурманска, в Крыму, — слышится голос диктора: «Слушай, фронт! Говорит Москва». Это коротко и полно значения. Пушкин писал: «Москва… как много в этом звуке для сердца русского слилось!» Не только под Вязьмой, от Мурманска до Севастополя миллионы людей сражаются за Москву.
Люди столпились, молча читают сводку. Все понимают: настали суровые дни. Что будет с Москвой?..
Сейчас мне рассказывали о судьбе связиста Печонкина. Он был на наблюдательном пункте возле Гжатска, продолжал работать. Израсходовав все патроны и гранаты, он передал по проводу: «Работать дольше нет возможности. Немцы напирают со всех сторон. Иду врукопашную. Живым не сдамся».
25 октября 1941 года
Еще недавно я ехал по Можайскому шоссе. Голубоглазая девочка пасла гусей и пела взрослую песню о чужой любви. Тускло посвечивали купола Можайска. Теперь там немцы. Теперь там говорят наши орудия, они говорят об ярости мирного народа, который защищает Москву.
Еще недавно я писал в моей комнате. Надо мной висел пейзаж Марке — Париж, Сена. В окне, золотая и розовая, виднелась Москва. Этой комнаты больше нет. Моя корреспонденция не ушла вовремя, она устарела. Я пишу теперь новую. Пишущая машинка стоит на ящике.
Большая беда стряслась над миром. Я знал это давно: в августе 1939 года, когда беспечный летний Париж вдруг загудел, как развороченный улей. Каждому народу, каждому человеку суждено в этой беде потерять уют, добро, счастье. Мы многое потеряли. Мы сохранили одно: надежду.
Надевая солдатскую шинель, человек оставляет теплую, косматую, сложную жизнь. Все, что его волновало вчера, становится призрачным. Неужто он еще не давно думал, возле какой стены поставить диван, собирал гравюры или трубки? Россия теперь в солдатской шинели. Она трясется на грузовиках, шагает по дорогам, громыхает на телегах, спит в блиндажах и в теплушках. Она ничего не жалеет.
Взорван Днепрогэс, взорваны прекрасные заводы, мосты, плотины, вражеские бомбы сожгли Новгород, они терзают изумительные дворцы Ленинграда, они ранят нежное сердце Москвы. Миллионы людей остались без крова. Ради права дышать мы отказались от самого дорогого — каждый из нас и все мы, народ.
На восток идут длинные составы: станки и поэты, дети и архивы, лаборатории и актеры, наркоматы и телескопы. В 1914 году французское правительство было в Бордо, а парижские такси спешили навстречу марнской победе. В ноябре 1936 года правительство испанской республики уехало из Мадрида в Валенсию. Я пережил горечь этого поспешного отъезда. Но армия тогда удержала Мадрид. Она держала его и потом, два года, под бомбами и под снарядами. Не сила взяла Мадрид — измена. Москва теперь превратилась в военный лагерь: она освобождена от гражданской ответственности. Она может защищаться, как крепость. Она получила высокое право: рисковать собой. В этом значение последних событий.
Я видел защитников Москвы. Они хорошо дерутся… Земля становится вязкой, когда позади Москва, — трудно отступить на шаг. Враг напрягает все силы. За последние дни он кинул в Можайск и в Калинин новые дивизии: из Бретани, из Бордо, из Голландии. Каждый день Москва отбивает массированные налеты немецкой авиации. Много домов разрушено.
На юге немцы подходят к Ростову. Они мечтают прорваться на Кавказ. В эти солнечные дни поздней осени Гитлер торопится. И тихо-тихо в Европе. Только чешские герои и пятьдесят нантских заложников пали на бранном поле рядом с защитниками Москвы…
Я пережил исход из Парижа. Тогда во Франции уходила душа. Отчаянье французской армии, горе десяти миллионов беженцев могли бы родить сопротивление. Они родили равнодушие и старческий лепет Петэна. Гитлер надеется найти в России Лаваля? Вздорная мечта. У нас есть злые старички, у нас нет Петэнов. И воры у нас есть, но нет у нас Лавалей. Россия, вспугнутая с места, Россия, пошедшая по дорогам, страшнее России оседлой. Горе нашего народа обратится на врага.
Я ничего не хочу приукрашивать. Русские никогда не отличались аккуратностью и методичностью немцев. Но вот в эти грозные часы наши скорее бесшабашные, скорее беспечные люди сжимаются, закаляются.
Я с неделю глядел на разные города, станции, дороги. Наши железнодорожники показали себя героями: сотни поездов под бомбардировкой врага вывезли из столицы все, что нужно было везти. За Волгой, на Урале уже работают эвакуированные заводы. Ночью устанавливают машины. Рабочие зачастую спят в морозных теплушках и, отогревшись у костра, начинают работу. В десятках авиашкол учатся юноши — через несколько месяцев они станут на место погибших. В глубоком тылу формируются новые армии.
Народ понял, что эта война надолго, что нельзя ее мерить месяцами, что впереди годы испытаний. Народ помрачнел, но не поддался. Он готов к пещерной жизни, к кочевью, к самым страшным лишениям. Война сейчас меняет свою природу: из политической схватки, из боев, за которыми мерещилась близкая развязка, она становится воистину отечественной, длинной, как жизнь, эпопеей народа, судьбой каждого, судьбой поколения. Впервые встало перед всеми, что дело идет о судьбе России на многие века. «Долго будем воевать, — говорят солдаты, уходя на запад, — очень долго». И в этих горьких словах наша надежда.
Нельзя оккупировать Россию. Этого не было и не будет. Не только потому, что далеко от Можайска до Байкала. Россия всегда засасывала врагов. Русский обычно беззлобен, гостеприимен, но он умеет быть злым. Он умеет мстить, и в месть он вносит смекалку, даже хозяйственность. Мы знаем, что гитлеровцев теперь убивают под Москвой. Но они знают и другое: их убивают в Киеве, в Минске, в тысячах деревень. Слов нет, Гудериан хорошо маневрирует, но как усмирять крестьян от Новгорода до Мелитополя? Германская армия ничего не завоевывает: она только продвигается из города в город. У нее десятки, сотни фронтов.
Россия особая страна, трудно ее понять на Кайзердамме или на Вильгельмштрассе. Россия может от всего отказаться. Люди привыкли у нас к суровой жизни. Может быть, за границей Магнитогорск и выглядел как картинка. На самом деле он был тяжелой войной. Неудачи нас не обескураживают. Издавна наши полководцы учились и росли на неудачах. Издавна наш народ закалялся в бедствиях. Вероятно, мы сумеем исправить наши недостатки. Но и со всеми нашими недостатками мы выстоим и отобьемся. Тому порукой не только история России, но и защита Москвы.
Уэллс недавно написал: «Мы слишком мало помогаем вам». Мне хочется ответить: «Нет. Вы, может быть, слишком мало помогаете себе».
А наша личная судьба?.. Может быть, врагу удастся глубже врезаться в нашу страну. Мы готовы и к этому. Мы перестали жить эфемерным счетом — от утренней сводки до вечерней. Мы перевели дыхание на другой счет. Мы глядим навстречу трудным годам. Фраза «Победа будет за нами» еще четыре месяца тому назад была газетной фразой. Она превратилась теперь в гул русских лесов, в вой русских метелей, в голос русской земли.
21 июня 1942 года
Это было год тому назад. Короткая июньская ночь казалась Москве обычной. Люди, засыпая, мечтали о летних каникулах, о горах Кавказа или о голубом море Крыма. Это была ночь на воскресенье, в клубах молодежь танцевала. На подмосковных дачах, среди сирени и жасмина, влюбленные тихо говорили о том, о чем говорят влюбленные всех стран и всех времен, Москва поздно проснулась.
Люди завтракали, когда в густой медовый полдень лета вмешался взволнованный голос диктора. Мы узнали, какой ночью была та ночь. Мы узнали, как немецкие бомбардировщики налетели на залитые светом города, как ползли гитлеровцы среди высокой некошеной травы. Война… Это слово прозвучало, как труба архангела. Прошел год. Это слово стало жизнью.
Помню зимний вьюжный день. На стене висел плакат: «Что ты сделал для победы?». К стене подошел человек в солдатской шинели. Мне показалось, что он разглядывает плакат. Я подошел ближе и увидел, что у человека нет глаз: свои глаза он отдал победе. Почему передо мной сейчас эта черная повязка среди серебряного снега? Я хочу сказать английским друзьям о самом простом — о наших жертвах.
Все знают, как был взорван Днепрогэс. Об этом писали газеты всего мира. Изба крестьянки Прасковьи Филипповны была обыкновенной избой. Нужно ли говорить о привязанности крестьян к своему дому? Это было недавно в небольшом селе Ленинградской области. По размытой дождем дороге подошел к околице отряд партизан. И Прасковья Филипповна, выбежав навстречу партизанам, закричала: «Скорей сюда! Вот мой дом. В нем спят четырнадцать фашистов. Не жалейте дом — жгите, кидайте гранаты!»
Сколько домов сожгли наши люди, чтобы дома не достались немцам? В сухие знойные дни люди жгли как спички свои дома и свое добро. А что не сожгли хозяева, сожгли потом гитлеровцы. Пожар был прежде катастрофой, божьим гневом народных легенд. В этот год пепел стал бытом, и под пеплом поседела Россия. Но у нее молодые глаза и молодое сердце.
Человек, привыкший сызмальства к избытку, не знает цены вещам. Новая Россия родилась в годы разрухи. Богатство прежде было достоянием немногих. Нельзя говорить о домнах Кузнецка, не напомнив, что в России накануне революции еще были курные избы — без труб. Крестьяне ходили в лаптях. Миллионы и миллионы неграмотных вместо подписи покорно ставили крестики. Легко понять, как дорожила Советская Россия началам достатка. Посаженные деревья только-только начинали приносить плоды, когда нагрянул враг. Мы уничтожали не просто добро — мы уничтожали добро, оплаченное героическим трудом, жертвами целого поколения. В Витебске горели склады сукна. Крым дышал запахом пороха и муската: старое вино впитала сухая земля.
Люди жертвовали всем.
Прошлым летом и осенью Россия кочевала. Кто видел эти караваны беженцев, никогда их не забудет. Люди молча уходили на восток. Шли украинские крестьяне, шли старые евреи из Белоруссии, шли актрисы по вязкой грязи дорог на высоких каблучках… Уходили за Волгу вагоны с машинами. Переезжали заводы. Переезжали города. Сложные станки оказывались в степи среди снега. Камерный театр, один из самых изысканных театров мира, ставил спектакли в пустыне возле Аральского моря. Ученые дописывали книги в теплушках. Киевляне распылились среди сел Средней Азии. Башкирия приютила школы Одессы.
Сколько скрыто за этими словами горя, разъединенных семей, суровой жизни на бивуаках, самоотверженного труда!
Враг уничтожал самое дорогое русскому сердцу. Немецкие бомбы искалечили северную Флоренцию — Новгород. Немецкие орудия калечат дворцы Ленинграда. Старые усадьбы и церкви, музеи и школы сожжены немцами.
Гитлеровцы хотят умертвить самосознание русского народа, заставить его забыть свою историю: они уничтожают наши реликвии — от дома в Ясной Поляне до Бородинского музея. Они оскорбляют нас, превратив Одессу в захолустный румынский город и посадив наместником в Остланде балтийского проходимца Розенберга.
На Западе гитлеровцы расстреливают, у нас они вешают. В Пушкине (так называется теперь Царское Село) в аллее, которую когда-то любил начинающий поэт, лицеист Пушкин, зимой висели русские люди, повешенные немцами. Я видел виселицу Волоколамска, я хочу забыть про нее— с такими воспоминаниями трудно жить, — и я не могу забыть. Женщины в освобожденных селах бесслезно рассказывали мне, как у них на глазах убивали детей. Я ехал с товарищем по проселочной дороге. Товарищ вдруг сказал мне: «Не смотрите». Я посмотрел: возле обочины лежал труп женщины, одна грудь была отрезана. Мы пережили и это…
Вокруг меня семьи со страшным зиянием: убит муж, сын, брат. Это никогда не зарастет. Так лет десять вокруг Вердена не росла трава: был снесен верхний покров земли.
Женщины работают. У них сухие глаза. Ни одна вам не скажет о своем горе. А горе это простое и непоправимое: ее Вася или Петя убит.
В этом горе сблизились люди всех языков. Я был на фронте, когда в роту пришло письмо от семидесятилетнего еврея Мордуха Шлемовича. Его сын, веселый и смелый Лейб Шлемович, был убит в начале мая — он гранатой подбил танк и пошел на второй, но здесь его убили. Старик писал: «Мне 70 лет. Возраст и здоровье не позволяют мне быть в рядах бойцов, но я горжусь, что мой Лейб, как и старшие мои сыновья, сражается в рядах Красной Армии. Если мой сын здравствует, то мне, как отцу, хотелось бы поддерживать с ним письменную связь. Но вот уже месяц, как я не получаю от него известий. Если же мой сын погиб в бою, то моя обязанность передать его двухлетнему ребенку любовь к родине и ненависть к фашизму, с которыми Лейб уходил на фронт. Прошу сообщить мне о моем сыне». Бойцы молча выслушали письмо, ничего не сказали. Но в тот же вечер шесть писем было написано старику. Русский ефрейтор Грачев писал: «Ваш сын умер как герой, и я хочу обнять вас и сказать вам спасибо от нашей роты и от нашей родины, что вы вырастили такого человека». А грузин Ираклий Мурадели написал трогательно, по-своему: «Кончится война — поедем жить к нам, в горы. У нас хорошо, будешь родным человеком».
Нет жертв, перед которыми остановилась бы Россия, чтобы отстоять свою свободу. Прекрасен был День флага Объединенных Наций. Но как не напомнить, что в этот день флаг свободы развевался над истерзанным Севастополем, где люди в кромешном аду отбивались от десяти немецких дивизий и пятисот немецких самолетов? Как не напомнить о судьбе Ленинграда, пережившего жестокую зиму, об испытании голодом и холодом, о снаряде, падающем на детские дома, о великом городе Пушкина, Гоголя, Достоевского, который финские наемники, прикидывающиеся «борцами за независимость маленьких наций», клянутся снести с лица земли — немецкими снарядами?
Год жертв. Год испытаний. Сегодня я был на заседании Верховного Совета. Я видел Сталина. Решимость в его глазах, уверенность в победе и боль за родной народ, за страну. Приехали делегаты отовсюду. Среди них много людей, которых я знаю. Они изменились — за сколько десятилетий будет зачтен один такой год? Но никогда Россия не была такой крепкой, как теперь: испытания ее закалили.
Воюет поколение, твердо верившее в дружбу народов. Воюют люди, в свое время с волнением читавшие роман Ремарка, болевшие за лишения немецкого народа. Нелегко им было понять, кто перед ними. Не в нравах нашего народа ненавидеть противника. Наши молодые бойцы сначала верили, что перед ними обманутые люди, которые прозреют от первой листовки. Год войны все изменил. Ненависть, как уголь, жжет сердце каждого русского. Недавно в трамвае ехал боец-снайпер. Товарищ сказал про него: «Он застрелил семьдесят фашистов». И тогда старая женщина, вся седенькая, морщинистая, подошла к снайперу и с необычайной человеческой лаской сказала: «Спасибо!»
Конечно, наши люди и до войны были патриотами. Но нелегко человеку понять, что такое воздух, — для этого его нужно кинуть в глубокую шахту. Русский народ не знал национального гнета, никто никогда не унижал русского за то, что он русский. Гитлеровцы помогли нашему народу осознать до конца, что такое национальное достоинство, что такое взыскательный, всепоглощающий патриотизм. Вся Россия теперь идет на Гитлера, и, если этот сумасшедший честолюбец способен задуматься, он должен устрашиться совершенного: он пробудил роковую для него силу.
Жизнь до войны была трудной и легкой: трудной, потому что приходилось преодолевать бедность и техническую отсталость старой России, легкой, потому что все дороги были открыты любому юноше. Я помню, как лет восемь тому назад подростки, кончившие среднюю школу, говорили мне о своей детской «драме»: кем стать — инженером, летчиком, писателем? Люди, которым теперь двадцать — двадцать пять лет, были неженками. Отцы говорили: «Мы выстрадали для них жизнь, пусть живут». Молодым не приходилось прокладывать путь, они шли по годам, как по шоссе. Не человек искал работу, работа искала человека. Прошел год. Наши юноши стали суровыми солдатами. Они идут с бутылками на танки и таранят вражеские самолеты.
Мы многое потеряли за этот год: мир, уют, близких. Мы многое за этот год обрели: ясность мысли, плодотворную ненависть, огонь патриотизма, завершенность, зрелость каждого человека.
Россия в гимнастерке, обветренная, обстрелянная — это все та же бессмертная Россия и это новая Россия: она заглянула в глаза победе.
Прошел год с той июньской ночи. Мы были одни. Мы выдержали на себе весь удар германской армии. Мы дали возможность англичанам собраться с силами, достроить армию, усилить военное производство. Вся наша эпопея, от подвига Гастелло до обороны Севастополя, позволила Америке продумать мировую трагедию, продумать ее в еще не затемненных городах и послать через океан те транспорты, которые завтра станут вторым фронтом. Все наши жертвы, от развалин Новгорода до осиротевшего дома колхозницы Марии Сундуковой, потерявшей на войне семерых сыновей, позволили англичанам подготовить операции на континенте тщательно, во всех деталях.
Немецкие плоты, угрожавшие Англии, теперь на Азовском море. Прошел год. Мы выстояли. Мы ждем боевых друзей.
22 июня 1942 года
Недавно на Калининском фронте произошло следующее невероятное происшествие. Немецкие танки подошли к советским блиндажам, но, услышав собачий лай, танки повернули назад. Это случилось вскоре после того, как бойцы майора Лебедева отбили танковую атаку. Немцы тогда пустили шесть танков, которые, несмотря на сильный огонь, подошли к переднему краю. Здесь-то на танки бросились собаки. Головной танк был взорван овчаркой по кличке Том. Другие танки поспешно развернулись. Собаки долго их преследовали.
В мае месяце на Изюмском направлении красноармейцы под командой старшего лейтенанта Конькова остановили танковую атаку. В отряде Конькова были военные собаки, и собаки взорвали десять танков, две бронированные машины.
Человек идет на поединок с танком. Иногда вместе с человеком идет его четвероногий друг. У красноармейца Чуркина была собака Малыш, дворняжка с ушами сеттера, с силой дога и с сердцем пуделя. Малыш бросился на танк. Разрыв снаряда на полминуты остановил собаку. Тогда Чуркин сам кинулся навстречу машине. Но Малыш его опередил. С тоской рассказывает Чуркин о конце Малыша: «Это была собака…»
Ум собаки и терпение ее воспитателя создают чудеса. Я видел собак, которые взорвали немецкие танки и уцелели. Настанет время, я расскажу, как дрессировали собак, как они уничтожали железные чудовища. Сейчас об этом преждевременно говорить. Можно сказать одно: собака, прежде спасавшая человека от морской волны, от снежных заносов, от пули преступника, теперь спасает его от танка.
Ответственна и разнообразна роль собаки в современной войне. Зимой не раз я видал нартовых собак — хороших русских лаек. Эти пушистые добрые псы спасли тысячи и тысячи жизней. В лесу, при глубоком снеге четыре собаки быстро и заботливо везли лодочку, в которой лежал раненый.
Было это возле Гжатска. В лесу машины не могли проехать, да и лошади, выбившись из сил, не шли дальше. Тогда-то я увидел четверку лаек. Они бодро неслись вперед. Вот только Шарик иногда тихо ворчал: он поссорился накануне с Красавчиком. В лодке лежал раненый лейтенант, любимец роты: осколок мины разбил ему колено. Один из бойцов подошел, погладил собак, серьезно сказал: «Молодцы, собаки».
На одном участке Западного фронта отряд нартовых собак перевез за пять недель 1239 раненых и доставил на передний край 327 тонн боеприпасов. В гвардейском корпусе отряд собак перевез 1683 раненых. Передо мной записка, написанная наспех карандашом: «Наша дивизия, наступая, несет потери. В церкви скопилось много раненых. Вывезти не на чем. Если можно, пришлите нартовых собак сейчас или завтра утром. Положение серьезное. Командир медсанбата». Собаки поспели вовремя и спасли раненых.
Собаки выручали и в заносы, и в распутицу. Теперь собаки тащат упряжки на колесах. Зимой на лайках были белые маскировочные халаты, теперь пятнистые лайки незаметны издали. Артиллерийский огонь, мины, пули их не пугают. Они несутся по лесу, по траве, по болоту. Я знаю лайку Жучку: осколок мины оторвал у нее одно ухо. Это обстрелянная собака. При сильном огне она не останавливается, но падает на землю и ползет. Молодые собаки ее явно уважают. Она вывезла сотню раненых. Недавно один боец принес ей свою порцию мяса и сказал: «Как будто она… а может, и не она… похожая… Вот такая собака меня спасла возле Ржева…»
Есть собаки по природе доверчивые, ласковые, и есть собаки-мизантропы. Первые — друзья санитаров, вторые — друзья снайперов. Барс открыл трех немецких автоматчиков, из тех, что прячутся на деревьях и стреляют. Таких автоматчиков зовут у нас «кукушками». За тридевять земель Барс чуял «кукушку». Четвертый автоматчик застрелил Барса, но тем самым выдал себя и был тотчас застрелен снайпером. Видал я и другого охотника за «кукушками» — Аякса: это большая и отнюдь не приветливая овчарка, Аякс не выносил немецкой формы. Серо-зеленая шинель приводила его в ярость. Кроме того, Аякс твердо убежден, что человеку лазить на деревья неприлично. Он быстро прочесывает лес. Расскажу еще об одном несколько неожиданном охотнике за «кукушками», об овчарке, недавно носившей кличку Харш, а ныне именуемой Фрицем. Этот аккуратный и несколько флегматичный пес прибыл из Германии. Он работал в полицейском отряде гитлеровцев и занимался поисками партизан. Низкое дело, но за него отвечает не пес Фриц, а его бывшие хозяева. Поймали Харша вместе с документами штаба… Фриц теперь не тронет честного партизана: Фриц теперь гоняет «кукушек». Его сумел привязать к себе, обласкал его красноармеец Панченко. Они теперь неразлучны: человек и собака.
Все знают роль собаки-санитара. Было это возле Думиничей. Шотландская овчарка Боб в белом халатике ползла по полянке. Короткая пауза между атакой и контратакой. Раненые спрятались, залезли в воронки от снарядов, в ямы. Боб отыскал шестнадцать раненых. Найдя раненого, Боб ложится рядом и громко, взволнованно дышит. Он ждет, не возьмет ли раненый перевязку: у Боба на спине походная аптечка. А Бобу не терпится — поскорее взять в рот брендель и поползти к санитару, позвать: иди сюда… Боб полз за санитаром, начался обстрел леса из минометов. Осколок мины оторвал Бобу переднюю лапу. Он все же дополз до хозяина и не выпустил изо рта бренделя. Санитар хотел перевязать собаку, но Боб торопил: скорей к раненому.
В январе месяце гвардейский стрелковый полк оказался в тылу у немцев. Было это под Вереей. Проволочная связь была порвана, радиостанции разбиты. Связь поддерживали четырнадцать связных собак. Собаки ползли по открытому полю под ураганным минометным огнем. Здесь погибла овчарка Аста. Она несла из батальона на командный пункт полка донесение: «Откройте огонь по березовой роще». Аста, раненная в живот, доползла с запиской до своего вожатого Жаркова. Положение было восстановлено. В тот же день был ранен Жарков.
Однажды собака Тор принесла сообщение: «Залегли, не можем поднять головы — сильный обстрел». Тор понес назад ответ: «Людей поднять — вести наступление». Через два часа гвардейцы вошли в Верею. Комиссар полка Орлов сказал мне: «Собаки нас выручили под Вереей».
Как не вспомнить эрдельтерьера Альфу? Раненная в голову, с разорванным ухом, истекая кровью, Альфа подползла к вожатому: доставила донесение в батальон. Ее забинтовали, и час спустя она поползла назад: другой связи не было. Две недели, раненная, она поддерживала связь с резервом. Это было возле Наро-Фоминска. Альфа погибла от снаряда. В тот день бойцы хмурились: на войне люди ценят верность и на войне люди как никогда привязываются к собакам.
Красноармеец Козубовский достиг того, что его собака поддерживала связь между двумя пунктами, расположенными на линии огня и отстоящими друг от друга на шесть километров.
Когда русские защищали высоту Крест, эрдельтерьер Фрея проделала тридцать три рейса — семьдесят километров. Собака помогала бойцам удержать высоту. В последний раз Фрея принесла донесение смертельно раненная: осколок мины разбил ей челюсть. Как о большом горе рассказывал мне вожатый о смерти Фреи: «Она очень мучилась. Мне пришлось ее застрелить. Это был верный друг нашего батальона, и все мы знали, что потеряли».
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Лелюшенко высоко ставит работу собак на фронте — и нартовых, и связных, и противотанковых. Генерал говорит: «В армии собаки пользуются большой популярностью». Мнение генерала разделяют командиры и бойцы.
Знаменитый русский поэт Маяковский писал: «Хорошие люди — собаки». Этими словами можно закончить корреспонденцию о роли собак на фронте.
7 октября 1942 года
Судя по карте, здесь была деревня. В это трудно поверить. Немецкие блиндажи. Воронки. Свист: противник обстреливает дорогу. Заходит холодное яркое солнце осени. Ветер кружится на месте. Бойцы, скручивая самокрутки, лениво повторяют: «Перелет… Ближе… Опять перелет…» У них красные припухшие глаза: бой длится не первый день. Когда на минуту воцаряется тишина, всем не по себе. Вдруг непонятные для этого пейзажа фигуры: крестьянка в платке, девочка с жидкой косицей, белая собачонка. Они пробрались сюда за своим добром, зарытым в землю: самовар, мешок картошки, сковорода. Ведь неделю тому назад здесь еще были немцы. Свист снаряда. Женщина послушно сгибается, собачонка ползет на животе, а девочка равнодушно рассказывает: «Вот в том блиндаже жил главный… Он приказал сделать блиндаж поглубже, пугливый. Это раньше колодец был, из колодца сделали ему блиндаж. А когда наши подошли, он выскочил оттуда в трусах и на велосипед, но его наши стукнули, а велосипед вон там лежит, негодный он…»
С бугра хорошо виден Ржев, вернее сказать, то, что осталось от Ржева. Отдельные развалины больших каменных домов придают ему видимость города. Налево два корпуса — один повыше, другой пониже. Наши солдаты их прозвали «полковник» и «подполковник». На бугре нельзя различить воронки: одна переходит в другую.
Немцы начали стрелять из своих тяжелых минометов.
Наши части занимают северную окраину Ржева, около тридцати кварталов. Здесь нет ни одного уцелевшего дома. Но немцы укрепили каждый метр земли. Дзоты и окопы в городе. Долгие и жестокие бои идут за квартал, за десяток квадратных метров, за каждый блиндаж.
Вражеские бомбардировщики пикируют. Дым. Артиллерийская гроза растет. Не часто, слышишь такое. Маленький, весь расщепленный лесок перед городом — место боя. Немцы атакуют: они пытаются отрезать наши части, которые держат северную окраину. Сегодня это уже шестая атака. Немцы сейчас бросили около тридцати танков. Они продвинулись на триста метров. Идет немецкая пехота. Ее откидывают назад. Танки разворачиваются. Четыре машины остались подбиты.
В блиндаже у полевого телефона связист, пытаясь покрыть грохот, упрямо повторяет позывные:
— «Долина»… «Долина»… Здесь «Дунай»… Здесь «Дунай»…
Потом к телефону подходит полковник и кричит:
— Положение восстановлено!..
Быстро навалилась осенняя ночь. Ракеты, оранжевые и зеленые, прорезают небо. Грохот не замолкает. Наши перешли в контратаку. Захвачен еще один квартал.
У раненых глаза людей, разбуженных среди ночи, еще не совсем проснувшихся. Один не хочет идти на санпункт: «Назад хочу…» Он показывает на юг. Там теперь бушует море огня: Ржев горит. Что может гореть в этом десятки раз горевшем городе? Пленный немец объясняет: «Привезли фанеру. Потом — вагоны…»
Поздно показывается огрызок ущербной луны. На вездеходе по трясине возвращается с переднего края генерал-лейтенант Лелюшенко. Молод, прост, энергичен. При тусклом свете коптилки над истерзанной цветными карандашами картой он объясняет битву за Ржев.
Это не локальный бой, это большая и длительная битва. Конечно, не развалинами второразрядного города дорожат немцы. Ржев — это ворота. Они могут раскрыться на восток и на запад. Один пленный сказал мне: «При чем тут Ржев?.. Это начинается с пустяков, это может кончиться Берлином…»
В Ржеве немцы сконцентрировали крупные силы: 9-я армия, которой командует генерал-полковник Модель. В начале битвы здесь находились 6-я, 87-я и 256-я пехотные дивизии. Потом немцы подвели 102-ю, 251-ю, 129-ю, 206-ю и часть 162-й дивизии. Наконец, сегодня генерал Модель бросил в бой две новых дивизии — 110-ю пехотную и 5-ю танковую. Передо мной пленные, которые пробыли в Ржеве один — десять часов, другой — всего четыре часа, — их с ходу бросили в бой.
Генерал Лелюшенко — танкист. Он хорошо понимает роль танков, но он и не фетишист: он знает, как бьют танки наши артиллеристы и бронебойщики. Он говорит мне, что за сегодняшний день немцы потеряли двадцать один танк.
На щербатом столе свеча и кипа немецких писем. Открытки — виды Нюрнберга, портреты фюрера, сомнительные красавицы. Я разбираю готические каракули: «Мы очень рады, что получили от тебя письмо, так как многие, находившиеся с тобой, погибли под Ржевом и сейчас газеты переполнены объявлениями…» Это писали родители ефрейтору Фердинанду Обергофу. А вот неотправленные письма солдат. Обер-ефрейтор Карл Хригс пишет в Варбург: «Поверь, Энне, подобного тому, что мы переживаем в последнее время, я еще не видел на войне. Русские танки нас буквально утюжат. От страха волосы становятся дыбом». А ефрейтор Вильгельм Гейнрих сообщает своей матери: «Здесь ад. Русские атакуют как дикие. Если так будет продолжаться, ни один из нас не выживет. Нервы разбиты». Я приведу еще отрывок из письма обер-ефрейтора Роберта Клопфа его брату, летчику в Торне: «Это нужно пережить самому, чтобы понять, что такое настоящая война. Здесь идет жесточайшая борьба — быть или не быть. Количество оружия, введенного в бой обеими сторонами, превосходит все пределы. В настоящее время русским удалось прорваться. Им, разумеется, не так важен город, их цели идут дальше. Они хотят уничтожить наши армии. К сожалению, в нашем полку потери больше, чем прежде в этой кампании. Ржев несколько дней горел. Сгорело много складов, более двух миллионов порций продовольствия погибло. Вообще дела плохи…»
Показания пленных говорят о тяжелых потерях немцев. Вот 256-я пехотная дивизия. У меня приказ ее командира от 14 июля. Генерал-майор Вебер в этот день напоминал своей солдатне о «блестящих победах» в Дюнкерке и Бретани. Не прошло и трех месяцев — от 256-й дивизии остались номер и могильные кресты. Врач этой дивизии Крегер Вольфганг, захваченный в плен, говорит: «Мы потеряли убитыми и ранеными свыше двух третей».
Пленный ефрейтор Карл Шрек 125-го зенитного полка рассказывает: «С продовольствием у нас стало, прямо скажу, замечательно. Выдают на роту, а в роте почти никого не осталось. Так что желудки наполнить есть чем». Он говорит безо всякой иронии: это неисправимый оптимист.
Нужно ли говорить о том, что велики и наши потери? Развалины Ржева стали полем воистину грандиозного сражения. Я гляжу на Волгу и невольно думаю о Сталинграде. Понимают ли американцы, как воюет Россия? Или еще и поныне они приравнивают к этим битвам стычки в Египте или на Соломоновых островах?
Несколько дней тому назад я ехал ночью к Ржеву. В моей машине был американский корреспондент Леланд Стоу. Мы промерзли, и я постучался в избу, чтобы отогреться. Старая крестьянка не хотела нас пускать: уж не немцы ли (в деревне немцы похозяйничали)? Увидав мою шинель, она нас впустила, но, услышав разговор на иностранном языке, в страхе воскликнула: «Немец, ей-богу, немец!» — показывая на Стоу. Я объяснил ей, что это американец. Тогда она простодушно сказала Стоу: «Голубчик, что же вы так плохо нам помогаете? Заждались мы вас!» В избе было пусто: немцы все сожгли или увезли. В углу на койке лежал спящий ребенок, и крестьянка сказала: «Это внучек мой из Ржева. Мать его убили, гады…» Мальчик что-то шептал со сна, и я увидел, как Леланд Стоу в тоске отвернулся.
Я снова возвращаюсь к Ржеву. Притихшая было артиллерия опять разбушевалась. Контуженный боец Даниил Прытков, в прошлом уральский сталевар, человек тридцати лет, с тонким изможденным лицом и с глазами лунатика, рассказывает мне, как он убил шестьдесят восемь гитлеровцев: «Не хочу я немецких автоматов, шестнадцать забрал, все роздал. Противно мне из немецких стрелять…» И вдруг, обрывая рассказ, говорит: «Пойду туда…» Он показывает рукой на Ржев — зарево пожара в утреннем свете кажется свечой, которую забыли погасить.
21 октября 1943 года
Деревня, где я нахожусь, — на правом берегу Днепра, в самом сердце Украины. Теплая ясная осень. Юг во всем: в тополях и каштанах, в листьях табака, который сушится, в тыквенной каше с молоком. Чудом уцелела эта деревня: партизаны помешали немцам ее сжечь. Здесь междуречье, повсюду пески. От них громче музыка войны. Она несется и с востока, где немцы бомбят переправы, и с запада, где наши, утром отбив контратаку, в свою очередь атакуют. День и ночь идут суровые бои. О размерах их можно судить по тому, что на фронте в двенадцать километров длиной немцы сосредоточили пять дивизий. Были дни — по полторы тысячи неприятельских самолето-вылетов. В августе и в сентябре немцы почти не пускали в бой крупных соединений танков. Здесь снова появились и «тигры», и «фердинанды».
Почему германское командование так яростно цепляется за Киев? Ведь город потерял для немцев значение: это — передний край. Вчера я был на левом берегу напротив Киева. Я хорошо знаю эти места: здесь прошло мое детство. Здесь на пляже купались киевляне. Видны отчетливо киевские дома на высоком берегу. Из Лавры немцы ведут минометный огонь. По словам пленных, Киев опустел. Еще недавно лучшие кварталы, Липки и Печерск, были заселены немцами и немками, которые спасались там от английских бомбардировок. Эти «дачники» убрались прочь. Гитлеровцы вывели часть киевлян, а оставшихся угнали на земляные работы — рыть противотанковые рвы. Нет, не большой город стараются удержать немцы, а ворота на юг Украины. Они опасаются за судьбу своих армий, которые еще находятся в Крыму и в степях между Мелитополем и Днепром.
Немцы прошли от Орла до Гомеля и от Белгорода до предместий Киева. О настроении пехоты можно судить по различным письмам и дневникам: былые конквистадоры больше всего жалуются на мозоли. Ветеранам невдомек: еще год тому назад они неслись вперед на машинах, теперь им приходится нестись назад на своих собственных, проделывая тридцать — сорок километров в сутки.
Отходя, гитлеровцы уничтожают все. Я проехал сотни километров среди разрушенных городов и сожженных сел. Чем яснее для фашистов неминуемый разгром Германии, тем ожесточеннее они взрывают дома, больницы, театры, школы, жгут хаты крестьян и скирды хлеба, рубят фруктовые сады. Они пытались задержаться на Десне. Это достаточно широкая река. Ее западный берег крут. Но Красная Армия быстро осилила эту преграду. Из приказов германского командования явствует, что немцы предвидели выход русских к Днепру не ранее середины ноября. Еще раз Гитлера подвела недооценка противника.
О переправе через Днепр, наверное, напишут замечательную книгу. Это широкая река — пятьсот метров. Тылы не поспевали за пехотой. В первые дни не было понтонов. Характер переправы ошеломил немцев. Пленные офицеры мне жаловались, что русские переправлялись «не по правилам». Конечно, плащ-палатка, набитая камышом, или плот, сделанный из бочек для горючего, не идеальные средства переправы, но именно так переправлялись передовые отряды, да еще на воротах уцелевших изб, на рыбацких лодках, на бревнах. Темпы решили все: когда немцы опомнились, Красная Армия крепко стояла на правом берегу.
Нужно было перекинуть артиллерию, танки. Началась эпопея саперов. Мосты наводили под огнем. Немцы били по ним из орудий, бомбили их днем и ночью, но мосты два-три часа спустя воскресали. Мне кажется, что для такой работы нужно еще больше мужества, чем для атак. Скажу также об отваге железнодорожников: в течение какой-нибудь недели они восстановили и перешили пути до самого Днепра.
Отступая, Гитлер пытался сберечь свои силы. На правом берегу Днепра ему пришлось принять крупный бой, бросив в него свои резервы. Вчера я говорил с пленными одной дивизии, которая недавно прибыла на фронт: она числилась в резерве ставки. Большинство пленных еще в начале сентября были во Франции или в Германии: это пополнение. Три месяца немцы пытались уверить мир, что они отступают, сохраняя живую силу и технику. Не раз Красная Армия опровергала эти утверждения. Быстрый выход Красной Армии на правый берег Днепра нанес самый сильный удар расчетам немцев. Они думали, что их выручат водные преграды. Днепр их подвел, приходится выкладывать резервы, которые они надеялись сохранить про «черный день».
Мы менее всего склонны преуменьшать силы противника. Германская армия еще сохранила многие боевые качества: опыт генералов, маневренность, дисциплину. Однако с каждым месяцем уровень этой армии понижается. Недавно в наши руки попал секретный приказ № 15, подписанный Гитлером.
22 июня — четыре месяца тому назад — Гитлер жаловался, что офицеры оправдывают свои неудачи, говоря: «Пехота уже не та, какой была раньше». Офицеры не лгали Гитлеру. А немецкая пехота октября еще хуже, чем пехота июня: между ними пятьсот километров отступления — не только мозоли на ногах, но и отчаянье в сердце. Пополнение состоит из юнцов, которые верят Гитлеру, но необстреляны и физически слабы, и из продуктов тотальной мобилизации, которые открыто говорят: «Все равно как кончится, лишь бы кончилось». Механическая дисциплина, присущая немецкой армии, еще выручает Гитлера, но на правом берегу Днепра мы чувствуем приближение развязки. «Эх, дали бы им союзники с запада», — говорят офицеры и солдаты, и это — правда. Сейчас с гитлеровцами можно кончить. Я должен добавить: с ними время кончить.
Неужели развязка будет длительной? Неужели Гитлеру дадут сделать с Европой то, что он сделал с Черниговщиной или Орловщиной? Неужели фашистам позволят заминировать Париж и Брюссель, сжечь деревни Бургундии и Моравии? Вот уже три недели, как я вижу одно: руины и пепел. Моя шинель пропиталась запахом гари, сердце переполнилось горем Украины.
Эти чувства ведут вперед бойцов. Разве не чудесна эпопея танкистов на западном берегу Днепра? Они переправились ночью. Они прошли в тыл врага. Они дошли до дачных мест Киева. Они разгромили немецкие обозы. Они позволили пехоте расширить плацдарм. Эти танкисты год тому назад сражались у Волги. Они видели всю меру народного горя. Что их может остановить? Я не хочу, чтобы наши друзья подумали, будто мы легко наступаем и празднично воюем: бесконечно труден путь Красной Армии. Он стоит многих жертв. За свободу Киева отдают свою жизнь и сибиряки, и узбеки, и москвичи. Неужели их подвиги не вдохновят мир?
28 ноября 1944 года
Герои «Нормандии»
Узнав о присвоении двум молодым французам самого почетного звания, существующего теперь в России, Героя Советского Союза, многие призадумаются. Дело не только в орденах на груди храбрецов, дело в морали истории. Я не стану спрашивать: думал ли виконт де ля Пуап, что его сын будет именоваться Героем Советского Союза? Но я спрошу: думали ли в дни Мюнхена рядовые французы, что дружба двух народов, казалось, разъеденная ржой клеветы и недоверия, будет скреплена кровью и станет неодолимой? Присвоение двум французским летчикам высокого звания не только справедливая награда двум отважным летчикам, это символ дружбы двух великих народов.
Я хочу еще раз напомнить о том, когда именно к нам приехала первая группа летчиков «Нормандии», среди которых были Марсель Альбер и Роллан де ля Пуап. Это было осенью 1942 года. Теперь мы в Венгрии и Восточной Пруссии, а тогда немцы были на Волге и на Кавказе. Решение о создании французской авиачасти, которая должна сражаться в России, было принято незадолго до того — летом 1942 года. Тогда немцы стремительно продвигались на восток. О, разумеется, теперь у Советской России нет недостатка в друзьях, ведь Сталинград позади, все уже проверено и взвешено. За столом победителей всегда тесно. Но мы умеем отличать друзей в беде от людей, пришедших «на огонек» победных салютов. Сражающаяся Франция была с нами в лето и в осень 1942 года — до Балкан, до Немана, до Днепра и до Сталинграда. Тогда-то приехали к нам летчики «Нормандии», и я помню, как с ними я слушал по радио первые сводки нашего зимнего наступления на Дону. Потом «Нормандия» принимала участие в крупнейших операциях у Орла, у Смоленска, у Березины, у Немана. Дело, конечно, не в арифметике: что значила группа даже самых умелых и самых отчаянных летчиков в гигантских битвах, где миллионы столкнулись с миллионами? Дело в дружбе, в том душевном движении, которое дороже народам всех речей и всех деклараций, дело в этой крови, которая была пролита на русской земле. И никогда Россия не забудет, что французы, летчики «Нормандии», пришли к нам до Сталинграда.
И никогда не забудет Франция, что мы ее оценили и признали от Страсбурга до Парижа, в те дни, когда многие на свете говорили: «Франция кончена». Не было таких неверящих среди нас. Мы верили во Францию, когда еще не было ни партизан, ни армии. Мы знали, что Франции возродится, что она будет большой и свободной. Мы не экзаменовали Францию, не рядили Марианну в детское платьице, не подвергали ее испытаниям. Мы молоды, но мы знаем историю, мы знаем, например, что такое Вальми. Мы верили во Францию, как мы верили в свободу. И Франция этого не забудет.
Мы радуемся блестящим победам французской армии, освободившей Эльзас. Мы радуемся единству французского народа, его душевному подъему и здравому смыслу, которые сказались еще раз теперь. Я люблю Бельгию, ценю трудолюбие и упорство бельгийцев, преклоняюсь перед смелостью бельгийского народа в годы оккупации. Но Бельгия — маленькая страна, ей нелегко отстоять свою самостоятельность. А Франция — великая держава. У нее были тюремщики, у нее никогда не было опекунов. И французы отбили контратаки пятой колонны, которая пыталась разбить единство французского народа, тем самым посягая на независимость страны. Мы ничего не хотим от Франции. Мы не стремимся навязать французам наши идеи, наши порядки. Мы жаждем одного: чтобы Франция была Францией. И люди, которые посягают на нашу дружбу, — не французы, это воскресшие Боннэ, это «Матен» или «Жё сюи парту», превратившиеся в «устные газеты» парижских салонов, это клеветники, которым немецкие марки дороже французского достоинства. Франция их выметет, как «иллюстрирте» или коробки из-под сигарет, оставленные захватчиками в парижских домах. Франция — это Марсель Альбер и Роллан де ля Пуап, а не те поставщики немцев, которые теперь, прикидываясь патриотами, мечтают о днях Виши или хотя бы на худой конец о свинце брюссельских жандармов.
Я верю в крепость нашей дружбы, потому что Герои Советского Союза — это герои Франции, потому что слюна клеветы не смывает крови самопожертвования.
27 апреля 1945 года
Легко сейчас писать, легче, чем в октябре сорок первого: ведь если горе молчаливо, то радость не скупится на слова. А в наших сердцах великая радость — трагедия XX века подходит к концу: мы в Берлине!
Это началось с малого — горел рейхстаг, подожженный фашистами. Это кончается на том же месте — пожаром Берлина.
Медленно шагает справедливость, извилисты ее пути. Нужны были годы жестоких испытаний, пепел Варшавы, Роттердама, Смоленска, чтобы поджигатели наконец-то узнали возмездие.
Есть нечто тупое и отвратительное в конце третьего рейха: чванливые надписи на стенах и белые тряпки, истошные вопли гаулейтеров и подобострастные улыбки, волки-оборотни с ножами и волки в овечьих шкурах. Напрасно гангстеры, недавно правившие чуть ли не всей Европой, именовали себя «министрами» или «фельдмаршалами», они оставались и остаются гангстерами. Не о сохранении немецких городов они думают, а о своей шкуре: каждый час их жизни оплачивается жизнями тысяч их соотечественников. Но ничто уже не в силах отодвинуть развязку. Гитлеровская Германия расползается, как гнилая ткань. Союзники стремительно продвигаются по Баварии к Берхтесгадену, к убежищу отшельника-людоеда. Тем временем Красная Армия в Саксонии и на улицах Берлина уничтожает последние армии Гитлера. Если Германия не капитулирует, то только потому, что некому капитулировать: главари озабочены своим спасением, а обыватели, брошенные на произвол судьбы, способны сдать лишь свой дом, в лучшем случае свой переулок.
Справедливо, закономерно, человечно, что именно Красная Армия укрощает Берлин: мы начали разгром гитлеровской Германии — мы его кончаем. Мы начали на Волге, и мы кончаем на Шпрее. Может быть, когда бои шли в неведомых иностранцам местах: в Касторном, или в Корсуни, или в Синявине, — мир еще не понимал, чем он обязан Красной Армии. Теперь и слепые видят, чьи ноги прошли от Сальских степей до Эльбы, чьи руки разбили броню Германии.
На улицы Берлина пришли воины, много испытавшие. Иные уже пролили свою кровь на родной земле; как Антей, они приподнялись и пришли в Берлин. С ними пришли и тени павших героев. Вспомним все: зной первого лета, лязг вражеских танков и скрип крестьянских телег. Вспомним степи сорок второго, горький дух полыни и сжатые зубы. Вспомним клятву тех лет: выстоять! Мы пришли в Берлин, потому что крепкие советские люди, когда судьба искушала их малодушным спасением, умирали, но не сдавались. Мир теперь видит сияющее лицо победы, но пусть мир помнит, как рождалась эта победа: в русской крови, на русской земле.
Красная Армия идет по улицам Берлина. Уже недалеко до Бранденбургских ворот и аллеи Побед. Возвысимся на минуту над событиями часа, задумаемся над значением происходящего. С тех пор как Берлин стал столицей хищной империи, ни один чужестранный солдат не проходил по его улицам. Расчет был прост: немцы воевали на чужой земле. Они сжали горло крохотной Дании. Они повалили Австро-Венгрию. Потом они затеяли первую мировую войну и, проиграв ее, но не уплатив проигрыша, стали готовиться ко второй. Если в Нюрнберге, в Веймаре, в Дрездене есть старые памятники подлинного величия немецкого духа, то Берлин — это памятник заносчивости прусских генералов…
Мы в Берлине: конец прусской военщине, конец разбойным набегам! Если все свободолюбивые народы могут теперь за длинным столом Сан-Франциско в безопасности говорить о международной безопасности, то это потому, что русский пехотинец, хлебнувший горя где-нибудь на Дону или у Великих Лук, углем пометил под укрощенной валькирией: «Я в Берлине. Сидоров».
Мы в Берлине: конец фашизму! Я помню, как много лет назад на улицах вокруг Александерплац упражнялись в стрельбе молодые людоеды: они стреляли тогда в строптивых сограждан. Потом они прошли по Праге, по Парижу, по Киеву. Теперь они расстреливают свои последние патроны на тех же улицах. Один английский журналист пишет: «Когда нам говорили о немецких зверствах, мы считали это преувеличением. В Бухенвальде, в Орадуре мы поняли, на что способны нацисты…» Что к этому добавить? Да, может быть, одно: что Бухенвальд или Орадур — это миниатюрные макеты Майданека, Треблинки, Освенцима. Я знаю, что горе нельзя измерить цифрами, и все же я приведу одну цифру — в Освенциме заснят кинооператорами склад: шесть тонн женских волос, срезанных с замученных. Мир видит, от какой судьбы мы спасли женщин всех стран, наших далеких сестер из Гаскони, Шотландии, Огайо.
Страшная цепь! Мирный Берлин наслаждался невинными забавами: бюргер, покупая ботинки, требовал, чтобы предварительно поглядели с помощью радиоскопии, хорошо ли сидит на нем обувь. Потом он шел в ресторан и, прежде чем проглотить бифштекс, справлялся, сколько в нем калорий — четыреста или пятьсот. А в соседнем доме специалисты чертили планы печей Майданека, Освенцима, Бухенвальда. И вот цифра: шесть тонн женских волос… Что было бы с детьми канадского фермера и австралийского пастуха, если бы товарищ Сидоров не дошел до Берлина?
Мы никогда не были расистами. Руководитель нашего государства сказал миру: не за то бьют волка, что он сер, а за то, что он овцу съел. Победители, мы не говорим о масти волка. Но об овцах мы говорим и будем говорить: это — длин нее, чем жизнь, это — горе каждого из нас.
Я еще раз хочу напомнить, что никогда и не думал о низкой мести. В самые страшные дни, когда враг топтал нашу землю, я знал, что не опустится наш боец до расправы. «Мы не мечтаем о мести. Ведь никогда советские люди не уподобятся фашистам, не станут пытать детей или мучить раненых. Мы ищем другого: только справедливость способна смягчить нашу боль. Мы хотим уничтожить фашистов: этого требует справедливость… Если немецкий солдат опустит оружие и сдастся в плен, мы его не тронем, он будет жить. Может быть, грядущая Германия его перевоспитает, сделает из тупого убийцы труженика и человека. Пускай об этом думают немецкие педагоги. Мы думаем о другом: о нашей земле, о нашем труде, о наших семьях. Мы научились ненавидеть, потому что мы научились любить».
Когда я писал это, немцы были в Ржеве. Я повторяю это и теперь, когда мы в Берлине. Много говорили о ключах страшного города. Мы вошли в него без ключей. А может быть, был ключ у каждого бойца в сердце: большая любовь и большая ненависть. Издавна говорят, что победители великодушны. Если можно в чем-то попрекнуть наш народ, то только не в недостатке великодушия. Мы не воюем с безоружными, не мстим неповинным. Но мы помним обо всем, и не остыла и не остынет наша ненависть к палачам Майданека, к вешателям и поджигателям. Скорее отрублю свою руку, чем напишу о прощении злодеев, которые закапывали в землю живых детей, и я знаю, что так думают, так чувствуют все граждане нашей Родины, все честные люди мира.
Мы в Берлине: конец затмению века, затмению стран, совести, сознания. Берлин был символом зла, гнездом смерти, питомником насилия. Из Берлина налетали хищники на Гернику, на Мадрид, на Барселону. Из Берлина двинулись колонны, растоптавшие сады Франции, искалечившие древности Греции, терзавшие Норвегию и Югославию, Польшу и Голландию. Придя в Берлин, мы спасли не только нашу страну, мы спасли культуру. Если суждено Англии породить нового Шекспира, если будет во Франции новый Делакруа, если воплотятся мечты лучших умов человечества о золотом веке, то это потому, что Сидоров сейчас ступает по улицам Берлина, мимо пивнушек и казарм, мимо застенков, мимо тех мастерских, где плели из волос мучениц усовершенствованные гамаки.
Прислушиваясь к грому орудий, который каждый вечер заполняет улицы нашей столицы, вспомним тишину трудного июньского утра. Отступая среди пылавших сел Белоруссии и Смоленщины, мы знали, что будем в Берлине. Как много можно об этом говорить, а может быть, и не нужны здесь слова, кроме одного: Берлин, Берлин! Это было самое темное слово, и оно сейчас для нас прекраснее всех: там, среди развалин и пожаров города, откуда пришла война, рождается счастье — Родины, ребенка, мира.
А. Платонов
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОФИЦЕРА
Красноармеец передал мне для прочтения записную книжку, истертую об одежду и пропахшую телом человека, которому она принадлежала. Красноармеец сказал при этом, что он был ординарцем у владельца записной книжки, подполковника Ф. На первой странице книжки я прочитал вводное указание.
«Размышления, которые я считал полезным записать, не всегда являются лишь интимными настроениями, выраженными в мыслях, — только поэтому я их и записывал. Они могут стать достоянием любого советского военного человека, который пожелает ими воспользоваться, как ему нужно, — для себя и для других. Со мной может случиться смертельное несчастье, оно входит в мою профессиональную судьбу. Но я бы хотел, чтобы некоторые мысли, рожденные войной и долгим опытом жизни и, может быть, имеющие общую важность, не обратились в забвение вместе с моим прахом и послужили, как особого рода оружие, тому же делу, которому служил и я. А я служил и служу делу защиты нашего общего отчего крова, называемого Отчизной, я работаю всем своим духом, телом и орудием на оборону живой целости нашей земли, которую я полюбил еще в детстве наивным чувством, а позже — осмысленно, как солдат, который согласен отдать обратно жизнь за эту землю, потому что солдат понимает: жизнь ему одолжается Родиной лишь временно. Вся честь солдата заключается в этом понимании; жизнь человека есть дар, полученный им от Родины, и при нужде следует уметь возвратить этот дар обратно».
Я спросил у ординарца, где теперь находится подполковник Ф.
— Он скончался от ран в полевом госпитале, — сказал ординарец. — А я еду к его родителям, везу его вещи, ордена, награды, благодарную грамоту и похоронную… Я знаю место, где его положили, а теперь надо сказать родным. Его сгубили с воздуха, а то бы он цел был… Его сгубили, а я вот живым остался, хоть и при нем же был, когда нас бомбили. Лучше б было мне скончаться, да не вышло случайности…
Я прочитал всю книжку покойного офицера и возвратил книжку ординарцу; однако я запомнил из нее, что мне показалось наиболее существенным или сохраняющим образ погибшего за нас человека.
«1943 год. 10 апреля. Жена мне говорила когда-то давно, что я пишу ничего, но непоследовательно. А я думаю, что непоследовательность может быть удобной формой для искренности, и тогда этот недостаток является полезным. Я часто вспоминаю, что мне говорила жена, когда мы жили вместе в Луге, и как будто заново читаю свою жизнь и опять переживаю свою привязанность, к жене, но в воспоминании мое чувство состоит только из грусти. Плохо, что наши чувства являются часто в форме грусти, но это потому, что война — разлука; однако я думаю, что и разлука, эта тяжкая грусть наших разъединенных сердец, может быть полезной, потому что я не уверен в постоянном счастье вечно добрых сердец, привязанных друг к другу и удовлетворенных своей близостью. Но чувство мое идет вразрез с моей мыслью, и я бы хотел сейчас увидеть близко мою жену и хоть немного поговорить с ней. А потом я опять был бы здесь, опять, в труде, в напряжении войны, в постоянной заботе о тысяче предметов: о свежей картошке, о накоплении боеприпасов, о воспитании младших офицеров, о военторге, об этом проклятом автотранспорте, где непрерывно летят задние мосты, кончики, какие-то подвески или опоры Гука, которые мне снятся в. бреду живыми фигурками, причем они сами называют себя „локальными делегатами мирной конференции“. Я артиллерист, но все предметы, составляющие Вселенную вблизи меня, входят в мое ведение — и овощи, и души людей.
На нашем участке пока тихо. Против меня стоят на глубину двенадцать германских батарей, из? них четыре тяжелые.
И они, и мы безмолвны. Пушкари наши учатся, и все мы, от нашего генерала до обозного солдата, — ученики. Мы учимся по 14 часов в сутки, даем себе духу. С разрешения командования я ввел в занятия своего дивизиона один час „общих занятий“. Под этим разумеются невоенные знания: русская литература, история родины, география мира, жизнь великих людей. Я и другие старшие офицеры читаем личному составу доклады и лекции по этим дисциплинам; я читаю русскую литературу и историю родины. Я не зря ввел этот гуманитарный час в нашу военную учебу: теперь я точно установил, что военные знания лучше, охотнее и глубже усваиваются, когда военные занятия немного разбавлены или прослоены преподаванием общих знаний. Мы даем мало этих общих знаний, но их преподавание играет роль катализатора для лучшего усвоения общевоенной и артиллерийской науки. Всякое однообразие, даже однообразие великого явления, утомляет человека. Я хочу, чтобы этот мой опыт был замечен.
1943. 8 мая. Тишина. Изредка в психозе бьют минометы немцев, когда им что-либо почудится на нашей стороне. Потом опять молчание. Бойцы любят солнце и, когда можно, снимают одежду и загорают, говоря что-то солнцу, как старому родственнику… Я думаю, что сдержим немцев и даже осадим их назад. Мои пушки будут работать жарко, добра для огня у меня много. Я отойти не могу, я буду вести огонь, пока не станут плавиться пушки, и останусь возле них один, если лягут все мои расчеты, но отойти назад я не могу; во мне, если я дрогну, погибнет самая моя сущность, потому что я офицер не по званию только и погонам… Я стою здесь на переднем крае всей цепи народной обороны, мое дело одно — совершать победу, но зачинается победа не здесь, а в тылу, в глубине Родины. Крепче тыл! И крепость тыла зависит от меня: тыловую землю надо увеличивать за собою, то есть наступать.
1943. 10 июня. Ты уже заготовил для нас победу — я говорю о технике и снабжении, — нам осталось ее совершить. „Крепче правый фланг!“ — даже умирая, повторял когда-то Шлиффен; эта фраза, как известно, кратко определяла общую тактическую идею одной запланированной немцами войны, Крепче тыл! — вот общая стратегическая идея нашей Отечественной войны. Крепче тыл! — это означает, что в ходе войны наша Родина во имя победы не должна расшатываться и истощаться, что военная, а также моральная мощь ее должна возрастать. Особенность нынешней войны в том, что ее нельзя закончить с падающими силами, ее надо вести до конца с постоянно обновляющейся духовной свежестью народа. Наше правительство знает тайну тыла как первоисточника нашей победы и духовной уверенности в святости нашего дела.
1943. 23 июня. Весь наш Центральный фронт объят тиши ной. Стоит прекрасное русское степное лето, зреют хлеба, вечная жизнь волнами идет по Вселенной, но сердце наше напряжено ожиданием битвы… Во мне живет страстное желание не один раз умереть, не один раз подарить свою жизнь Родине, а несколько раз, и в этом смысле хочется жить дольше, чтобы часто иметь возможности дарить себя Отчизне целиком и каждый раз, поразив врага, спасаться самому непораженным. Я заметил, что и у других наших офицеров и солдат есть это счастливое желание, но говорить о нем никто не любит. И не надо говорить. Самое важное: крепче тыл! Эта идея владеет мною. Что она означает? Что нужно сделать, чтобы крепкая наша Родина утвердилась еще более? Народ, нация, общество устроены сложно. Отдельный человек не может быть соединен сразу, непосредственно со всем своим народом. Человек соединяется с народом через многие звенья. В этих звеньях и содержится сущность дела, в них именно находится духовная и материальная мощь народа, в том числе и военная мощь.
Первое звено — семья, в ней живет среди всех любимых людей народа самое любимое существо каждого человека: его мать, его ребенок, его жена… Среди дорогих людей это существо самое драгоценное, оно тесно, жестко привязывает человека к жизни, к долгу и обязанностям. Вокруг этого одного или нескольких наиболее любимых людей находится священное место человека: его жилище, его имущество, дерево деда, нажитое добро. Это добро дорого не только как полезная собственность, а как живой след жизни родителей, как материальное продолжение их любви к детям и после смерти. Но смысл семьи — в любви и верности, а без них не бывает ни человека, ни солдата. Ребенок познает в семье любовь и верность сначала инстинктом, позже сознанием. Народ же и его государство ради своего спасения, ради военной мощи должны непрестанно заботиться о семье, как о начальном очаге национальной культуры, первоисточнике военной силы, — о семье и обо всем, что материально скрепляет ее: о жилище семьи, о ее родном материальном месте. Здесь не пустяки, а очень нежное — материальные предметы могут быть священными, и тогда они питают и возбуждают дух человека. Я помню армяк деда, сохранившийся в нашей семье восемьдесят лет; мой дед был николаевским солдатом, погибшим на войне, и я трогал и даже нюхал его старый армяк, с наслаждением предаваясь своему живому воображению о геройском деде. Возможно, что эта семейная реликвия была одной из причин, по которой я сам стал солдатом. Малыми, незаметными причинами может возбуждаться большой дух.
Второе звено, второй круг более широкий. Человек работает в коллективе людей: на предприятии, в колхозе, в учреждении. Семейная школа любви и верности здесь дополняется школой долга и чести. В труде, в окружении товарищей человек находит исход своей творческой энергии и удовлетворяет в создании общественной пользы своей деятельности естественное честолюбие. Трудовое же честолюбие при правильном воспитании его легко обращается в воинскую честь. А честь — мать смелости, она и робкого делает отважным. Следовательно, истинная культура труда является также школой чести, школой солдата. У нас в стране это звено воспитания человека было сильным местом, и в том заключается одна из причин отваги и стойкости наших войск.
Третье звено — это общество, то есть все связи человека: семейные, производственные, политические, а главное — прочие, кроме этих первых трех, связи, основанные на симпатиях, дружбе, общем мышлении, на интересе к будущему народа, к науке и искусству, на необходимости отдыха, на случайности, наконец. Через общество человек встречается со своим народом в лице его отдельных представителей, здесь он попадает на скрещение больших дорог, во взаимодействие с разнообразными людьми. Здесь человек претерпевает великое обучение: он учится сочетанию свободы своей личности со свободою всех, в нем воспитывается мышление и инициатива в соревновании с другими людьми. Искусство взаимодействия и маневра, искусство инициативы и соревнования здесь, в общении, человеком постигается практически.
Дух общественной свободы, высокое чувство личной независимости и одновременно впечатлительное, страстное уважение к личности другого человека есть необходимое условие для успеха общественного воспитания. Тогда оно, такое воспитание, подготовит в человеке тот характер личности, который необходим для квалифицированного воина, разумного солдата своего Отечества.
За обществом простирается океан народа, общее отцовство, понятие которого для нас священно, потому что отсюда начинается наше служение. Солдат служит лишь всему народу, но не части его — ни себе, ни семейству, и солдат умирает за нетленность всего своего народа.
Три эти звена, о которых я столь думаю, и есть точное определение тыла. От них зависит качество нашего человека и воина. В них, в этих звеньях, в их добром действии, скрыта тайна бессмертия народа, то есть сила его непобедимости, его устойчивости против смерти, против зла и разложения.
1943. 26 июня. Война — проза, а мир и тишина — поэзия. Прозы больше в истории, чем поэзии. Зло еще ни разу не забивалось навеки, безвозвратно. Может быть, лишь в удаленном будущем на место солдата явится великий труженик другого рода оружия, смиряющий врагов не посредством смерти… И еще нужно нам одно — пример офицера. Без любви к своему офицеру солдат — сирота, а сирота плохой солдат. Офицер должен заслужить любовь своих солдат действительным превосходством своих человеческих и воинских качеств; лишь тогда, когда солдат убежден в превосходстве офицера, убежден до сердца, убежден своею любовью, ему легко страдать вместе с офицером и умереть возле него, когда потребует долг. Солдат здраво понимает, что несправедливо допускать гибель лучшего человека и бесчестно жить после него. Есть в нашем русском советском человеке благородное начало, унаследованное от предков, воспитанное на протяжении исторической жизни народа; это начало надо не расточать, а умножать.
1943. 30 июня. Я измучился безмолвием войны. Кроме сигнальных ракет, „демонов глухонемых“, мы давно не видели и не слышали никакого огня. Вдали по ночам нам слышен бывает „воздух“ — небольшие бомбежки; и это все. Стволы моих пушек дремлют в чехлах. Я весь день в заботах; нам всем известно, что в тишине накапливается гроза против нас, и мы в ответ врагу также собираем молнии для контрудара… Но я хочу узнать, что нужно еще дополнительно сделать для нашего успеха. Я довольно хорошо знаю своих, однако я понимаю также, насколько глубок человек, и поэтому ценю свое знание солдата все же невысоко. Но я уверен, что именно в солдате более открыто проявляются все лучшие качества его народа и скорее обнажаются его недостатки. Меня более интересуют недостатки, потому что они определяют боевую слабость духа. Для меня, как офицера, военная ценность человека является главным его измерением. Удельное значение человеческого духа в нашу войну весьма увеличилось. Дух, этот род оружия, вечен. Он действовал при катапультах и переживет танки. В него я постоянно всматриваюсь, — это моя обязанность, а не пристрастие. Прежде я писал о звеньях, посредством которых человек соединен и сращен со своим народом. Но есть еще одно средство, и оно имеет интегральное значение, оно объединяет каждого человека с его народом напрямую, объединяет с живыми и умершими поколениями его Родины. Это коммунистическое мировоззрение и мироощущение народа — когда мысль человека знает общую задушевную истину, чувство любит ее, а вооруженная рука защищает.
Народ называет свое мировоззрение правдой и смыслом жизни. Традиционное русское историческое правдоискательство соединилось в Октябрьской революции с большевизмом — для реального осуществления народной правды на земле. Тогда наш корабль вышел в открытую бесконечную даль истории, в сияющее пространство. Теперь встречный шторм войны треплет наш корабль. Наша общая вера, правда и смысл жизни из умозрения, из мысли обратились в чувство, в отрасль ненависти к враждебной силе, в воинское дело, в подвиг сражения. Я думаю над тем, как нужно еще лучше, во всенародном и все-солдатском измерении, превратить нашу общую мысль, нашу философию, владеющую исторической истиной, превратить в простое, доступное всем, страстное, святое чувство, подобно молитве, чтобы оно постоянно укрепляло воина и подымало на врага его руку. Это великое, нужное нам оружие, которым мы еще не овладели, как следует им владеть, чтобы скорее сдвинуть противника с нашей земли. В этом деле большую силу имеет наше искусство. Ленин думал когда-то об увеличении значения театра, который может стать для народа тем же, чем были храмы. Он говорил о значении радио, кино и о призвании писателей как инженеров, устроителей человеческих душ. В этом вся суть: душа человека должна быть устроена, душа солдата в первую очередь. Мы многое сделали в этом отношении, но вооружать человека духом надо непрерывно, чтобы в боевом действии наш воин имел великое совершенство сердца и ума.
1943. 4 июля. В солдате есть одна особая тайна. Он, лишенный на войне семьи и привычных любимых людей, невольно, в силу свойства человеческого сердца, желает видеть в офицере замену всех тех, кого он любил, кого оставил на родине. Он хочет, чтоб и на фронте- его сердце питалось чувством привязанности, а не оставалось грустным и пустым. Это естественно. Сколь многое может сделать офицер, понимая это обстоятельство, если он способен утвердить в себе высокие качества человека и образованного воина и не обманет своих солдат, готовых верить ему и любить его… Я живу в своем дивизионе как старший в большом семействе, я не могу жаловаться. Однако мне все же бывает трудно. Я привык любить свою жену, и часто забываю о ней среди многих забот и обязанностей, но и без памяти о ней душа мои молча страдает, что нет ее со мной, что, может быть, нет ее в живых на свете. Не все, оказывается, можно заменить. Есть в жизни незаменимое.
1943. 6 июля. Вторые сутки мы сдерживаем противника. Давит он серьезно. Все мои солдаты, все офицеры, все расчеты и батареи работают спокойно и точно. Я им сказал, что мы должны сдержать смертельный удар врага, направленный на всю нашу Родину, мы должны именно здесь и теперь утомить врага и расточить его силы своей обороной. В нас теперь живет тихая радость от долго длящегося подвига. Мы все понимаем, в чем дело. Принять на себя удар смерти, направленный в народ, — этого достаточно, чтобы быть счастливым и в огне. Многие из нас получили сейчас впервые свободную возможность обнаружить все свои способности — в борьбе со смертью, рвущейся в глубину страны… Наводчик на батарее Скорикова, пока техники проверяли пушку, переобувался под огнем. „Укройся пока, — приказал я ему. — Чего ты не боишься?“ Я думал, он глуп. „Я ихних погремушек не боюсь, товарищ подполковник, — сказал наводчик. — Это громко и страшно только для нас, а муравьи по земле ползают, и бабочки летают, им ничего“. Он сразу понял, что и ужас — дело относительное и зависит от точки зрения. Такая философия тоже идет в помощь солдату. Бабочки, правда, летают, словно вокруг стоит вековая тишина, и муравьи работают в почве с обыкновенным усердием… Генерал нами доволен. Приказано не жалеть „угля“. Однако зря, ради одного шума, я снаряды тратить не буду. Мы не погремушки.
1943. 8 июля. Мое хозяйство работает день и ночь. Люди держатся духом, не хватает сил. Капитан Богатырев тяжело ранен, пятый раз за войну. Пятый раз он дарит Отечеству одну свою жизнь. Мне передали личное письмо в общем служебном пакете. Я стал его читать, оно от жены, но меня оторвали от чтения, и я его дочитал позже. Богатыреву после ранения стало сразу плохо. Он вызвал меня. Я пришел к нему в блиндаж, он велел фельдшеру выйти. „Мне страшно, подполковник, — сказал мне Богатырев. — Страшно от скуки, что я один там буду, на всю вечность один. Пройдет ли вечность? А вам было когда-нибудь так страшно, так мучительно, как мне сейчас?“ Я ему сказал, что мне и сейчас страшно и мучительно. Богатырев заинтересовался, и от этой заинтересованности облегчилась немного его предсмертная мука. Я ему сказал как есть. Я получил письмо от жены; ее немцы застали в Луге, она, неловкая, не сумела уехать. Письмо шло ко мне год, его доставили на нашу сторону партизаны, и оно долго искало меня. Жена мне пишет, что все люди у них умирают с голоду, а она умирает от любви ко мне…
Богатырев чуть улыбнулся. Я понял его: мне сорок два года, я лысый, какая женщина может любить меня и за что особенное? „Где же теперь ваша жена?“ — спросил Богатырев. Я этого не знаю сам, но я догадываюсь по намеку в письме, что она хотела. Я сказал Богатыреву, что жена, видимо, ушла к партизанам, желая вместе с ними выйти к нам и найти меня, и в пути она погибла. Прошло уже много времени, она бы уже нашла меня. Она умерла от немецкой пули, она упала мертвой в мокрую холодную траву, исхудавшая от голода, любящая меня… „Плохо вам теперь“, — сказал Богатырев успокоенно. Я оставил его, мне нужно было работать в бою. Через час мне доложили, что Богатырев скончался „с тихим духом“. Вечная память всем мертвым, их смерть дарит жизнь нашему народу…»
— А как умер сам подполковник? — спросил я у ординарца покойного офицера.
— Спокойно, — ответил ординарец. — Рана была в живот, это место у человека слабое, беспокойное, крови оттуда много вышло… Я говорю: «Товарищ подполковник, крови есть потеря, а так вы весь целый, чистый…»
— А он что?
— А он все допрашивал меня: «А еще что вышло из меня? Кровь — пустяк, еще что вышло из меня, изнутри?» Я говорю: «Боле ничего, товарищ подполковник, что может быть такого, что из человека выходит…» А он: «Нет, врешь, — говорит, — из меня важное вышло, главное, — говорит, — вышло: чем я жил, чем держался, а теперь я весь пустой, дешевый стал» — и умер скоро, умер смирно…
— Что ж это было важное, что ушло из него при смерти? — спросил я.
Ординарец подумал.
— Кто ж его знает? Помирать будем — из нас тоже изнутри выйдет что-нибудь главное, тогда узнаем. Обождем пока.
— Хороший был человек подполковник?
— Ничего, он нам всем помнится…
1943 г.
О СОВЕТСКОМ СОЛДАТЕ (Три солдата)
Россия обильна людьми, и не числом их, — потому что Китай или Индия еще многолюднее и многосемейнее русского народа, — а разнохарактерностью и своеобразием каждого человека, особенностью его ума и сердца. Фома и Ерема, по сказке, братья, но вся их жизнь занята заботой, чтобы ни в чем не походить один на другого. Русский человек любит разнообразие: даже свои деревни он иногда сознательно строил непрочно и ненавечно, дабы не жалко их было переменить на другие, когда они погорят… Может быть, именно этим своеобразием национального характера объясняется такое странное и словно неразумное явление, как любовь нашего народа к пожарам, бурям, грозам, наводнениям, то есть к стихиям страшным, разрушительным и убыточным. Привлекающая тайна этих явлений для человека заключается в том, что после них он ждет для себя перемены жизни. Сюда же относится исторический процесс, в котором участвовала часть нашего народа, так называемое «землепроходство»: движение за Волгу, за Урал, через таежные дебри Сибири, — не движение, а проход с топором и огнем пожарища, не путешествие, а тяжкий вековой труд, — в сторону Дальнего Востока и Великого океана. Это отнюдь не легче подвига Магеллана, но с тою разницей, что в «землепроходстве» участвовала не маленькая группа людей, а целый крестьянский «мир». Конечно, здесь руководил народом экономический интерес, но экономический интерес, разрешаемый такими средствами, предполагает и зарождает в народе психологическое соответствие его хозяйственной цели — особый порядок чувств и свое представление о действительности.
Поэтому столь трудно по большому количеству работы бывает описать, создать в словах образ основного героя Отечественной войны, его «главного генерала», — образ советского солдата, если желать описать его истинно, точно, индивидуально, не сберегая своих сил в обобщении, ибо в обобщении всегда скрывается умерщвление образа живого, отдельного человека, родственного каждому существу во всем сонме человечества, но не подобного, не равного ни одному из них.
К войне, раз уж она случилась, русский человек относится не со страхом, а тоже со страстным чувством заинтересованности, стремясь обратить ее катастрофическую силу в творческую энергию для преобразования своей мучительной судьбы, как было в прошлую войну, или для сокрушения всемирно-исторического зла фашизма, как происходит дело в нынешнюю войну.
Даже наше мирное население в прифронтовой полосе скоро утрачивает всякий страх к войне и обживает ее. Летом нынешнего года часто можно было наблюдать, как старик крестьянин обкашивает траву на зимний корм корове вокруг подбитого «тигра», а его хозяйка вешает рядно для просушки на буксирный крюк «фердинанда». А другой дед, не стерпев своего сердца при виде осыпающегося хлеба, косит ржаную ниву, с которой еще не убраны мины, действуя спокойно и уверенно, как бессмертный. Так можно «обжить» войну, свыкнуться с нею, пережив на опыте, что гул артиллерии, близкие разрывы снарядов и вопли авиационных бомб — не всегда смерть, а чаще всего лишь устрашение: но непрерывно устрашаться нельзя — надо жить, а живому надо кормиться и, следовательно, работать.
Изо всех этих свойств натуры и характера русского человека, из особенностей его исторического развития рождается отношение к войне как к творческому труду, создающему судьбу народа. При этом человек не предается восторгу от труда войны, он терпит его лишь как необходимость, но и того бывает достаточно, чтобы испытывать постоянное спокойное счастье от сознания исполняемой необходимости.
Нам приходилось видеть красноармейцев и офицеров нашей армии, в которых это качество — творческое чувство войны — было основной сущностью их натуры и воинского поведения. И по нашим наблюдениям это новое, великое свойство советского солдата и офицера все более распространяется в нашей армии, являя миру образ нового воина. В нем, в этом человеческом свойстве, и содержится конкретное объяснение стойкости наших солдат в обороне и их настойчивость и терпение в наступлении. Ничего не совершается без подготовленности в душе, особенно на войне. По этой внутренней подготовленности нашего воина к битвам можно судить и о силе его органической привязанности к родине, и о его мировоззрении, образованном в нем историей его страны.
В августовское утро, когда солнце освещает землю словно через опустевший воздух и поля уже золотятся сединой осени, возле фронтовой дороги стоял красноармеец Минаков Иван Ефимович. Правая рука у него была раненная, он держал ее на перевязке. Он без просьбы посмотрел на обгонявшую его попутную машину, и мы пригласили его, чтобы подвезти до госпиталя.
Согнувшись, красноармеец пролез в машину и бросил на пол шинель и вещевой мешок, чтобы его вещи не стеснили офицера. Красноармеец был молод, лет двадцати пяти — семи на вид, с обычным солдатским лицом, обдутым ветром, обмытым дождями и высушенным зноем, и со свежими, ясными глазами, не испитыми страданием. Должно быть, постоянно довольная, крепкая душа была у этого бойца, если и ранение, и долгая тягость войны еще не истомила его.
— Вы который раз ранены — первый? — спросил я у красноармейца.
— Четвертый, — улыбнулся Минаков. — Два осколка от мины во мне живут: один в шее, другой в бедре… А сам я за войну пятерых уложил да подранил несколько… Это — ничего!
Он считал поэтому свои раны вполне оправданными и свое положение по сравнению с неприятелем выгодным.
— В эту руку уж второй раз попадают! — сказал Минаков.
— Срастется? — спросил я.
— Ну конечно, срастется! — убедительно произнес Мина-ков. — Место уже битое, оно привыкло заживать… Через месяц опять дома буду — в своей части.
— Когда же вы из боя вышли?
— Да нынче… Уж солнце встало, как мы населенный пункт взяли…
— Какие потери были в вашем подразделении?
— Потерь в людях не было, товарищ капитан… Один я подранен, да еще одного бойца оглушило. А немцев там тоже мало было, мы их хотели перебить, а потом взяли всех в плен живьем — в «языках» нужда была, в разведку ходить не надо…
— Что ж, у вас большой перевес был?
Минаков смутился и застеснялся чего-то.
— Да нет, одним сводным батальоном в атаку пошли… Воевали теперь с расчетом и умыслом, давно ведь уж воюем, и делом интересоваться стали, да и к врагу привыкли…
Я понял солдатскую совесть Минакова: ему неудобно было сознаться, что его батальон истощился людьми и пришлось брать деревню сводным батальоном, с бойцами, сведенными из других подразделений. В этом, однако, не было ничего, что бесчестило бы солдата, потому что вся та часть, в которой служил Минаков, с 5 июля, с первого часа немецкого наступления, была в боях без выхода. Она приняла на свою грудь, на свое оружие ураганное давление германской армии, затомила на себе силу немцев и затем перешла в сокрушающее, упорное наступление, уничтожая вросшую в землю оборону противника.
И все же Минаков втайне постыдился, что его батальон был сводным, а не состоял, как прежде, сплошь из своих привыкших друг к другу кадровых бойцов.
— Упираются немцы? — спросил я у Минакова.
— Сила у них есть…
— Что ж они не стоят?
— Веры у них не стало. А без веры солдат как былинка — он умереть еще может, а одолеть ему неприятеля уже трудно бывает… А что смерть без дела?
— Была же у них вера…
— Была, конечно, а теперь она об нас истерлась. Теперь томиться немцы стали. Мыло у них есть, в поселках они бани-стационары и души с теплой водой устраивают, а все одно все они, до самых полковников, вшивые и чешутся все. Зануда их берет, тело без веры плошает и гниде сдается…
Госпиталь помещался в приспособленной руине поселка. Минаков сказал, чтоб остановили машину, улыбнулся на прощанье и поблагодарил за доставку. А потом, чтобы не задерживать нас, быстро отворил дверцу целой рукой, выбросил на землю вещевой мешок, шинель и пошел выздоравливать. Он был сущий солдат.
Через несколько дней я посетил тот батальон, в котором служил Минаков. Батальон в то время был отведен на отдых во второй эшелон.
В этом батальоне среди прочих людей служили два человека; один был старослужащий, сорокалетний старший сержант Прохоров, в начале войны бывший рядовым, а другой был солдат Алеев, родом татарин, пришедший в армию полгода назад. В армии есть скучные, повторяющиеся, но необходимые дела: уход за оружием, содержание в порядке своей одежды и личных вещей, исполнение нарядов по охране и обслуживанию общевоинского добра и прочее. И сержант, и рядовой боец выполняли эту работу, однако, с удовольствием, с тихим рачительным усердием, что могло означать скудость человеческой души.
Я подумал, что они — люди обыденной мирной жизни, воюют по натуге, а не по долгу и сражаются, должно быть, худо.
Это наблюдение и привлекло меня к ним. Я хотел увидеть плохих солдат, чтобы узнать, почему они плохие, когда плохим быть трудно. Рябой и сосредоточенный Прохоров, как я услышал, к тому же был и скупой человек, и скупость его имела уже как будто неразумное значение. Он мог, склонившись на дороге, поднять комок земли и кинуть его в поле, — чтобы и этот комок тоже мог рожать зерно, а не растаптываться без пользы в прах ногами. Поверх головок своих сапог он обувал лапти, чтобы сапоги не снашивались столь скоро и народ как можно дольше не беднел от войны, обувая своих солдат в дорогую кожу. Вначале я решил, что в Прохорове действует то же самое больное свойство человека, что было в гоголевском Плюшкине. Позже я увидел, что ошибся, и понял, что скупость ко всем предметам, составляющим тело нашей родины, есть постоянное, скромное выражение страстной любви к ней и являлась здоровьем души человека.
Аккуратно-исполнительный, всегда точно напуганный Алеев любил чистить и смазывать винтовки и автоматы, и он мог даже производить им небольшой полевой ремонт, работая со старческим терпением и оставляя без внимания кинокартины на полотне, когда привозили кино. До войны Алеев работал в машинно-тракторной мастерской по плужному делу и прицепному инвентарю.
Я спросил у Алеева, что его интересует в жизни.
— Хлебопашество, — сказал Алеев. — Я хлеб в поле любил.
— А война? На войне хлеб не сеют…
— Война лучше хлебопашества, — ответил Алеев. — Зачем будет хлеб, когда народ от немца помрет, — кто будет кушать? Смерть будет, хлеба тогда не нужно. Война лучше хлебопашества, она людей в народе бережет.
Я не понял Алеева.
— На войне и погибают люди. Может, и ты и я погибнем…
— Может, — согласился Алеев, — Я солдат; когда я помру — немцу жалко будет, что я помер, лучше для немца — пусть я живу долго… Я злу от фашистов научился, убью десять врагов, может, и сам тогда от них помру. Зато в тылу народ целым останется. Ты считай сам: я убью десять, а они убили бы тысячу нашего народа, если б жить стали и по нашей земле пошли. Ты считай, сколько я людей уберегу! А кого уберегу, тех, значит, я посеял, я родил, я вырастил, как отец, чтоб они жили на старость лет. А сам помру — не жалко, от меня польза останется. Опять хлебопашество будет, народ рожаться будет — лучше меня будут люди и хуже меня. Пусть они все будут, их солдат Алеев жить посеял. Солдат умирает, а народ у него на могиле расти остается, это лучше хлеба. Я вижу — это хорошо, солдат Алеев не глупый человек…
— Ум и глупость в первом эшелоне видней, чем во втором, — сказал я.
— Правда твоя, — согласно сказал солдат. — Там видно лучше.
И с терпеливым усердием Алеев склонился над своей работой: он сейчас ремонтировал расстроенный, изработавшийся автомат. Причем работал он с тем же удовольствием, с каким в былое время настраивал плужную систему для трактора. Он верил, он был убежден, что плуг и автомат — родственные машины; одна машина работает хлеб, другая работает на спасение жизни народа. Пахарь и солдат, по мнению Алеева, один и тот же человек, у них похожее занятие, но солдатское дело выше — оно подобно отцовству и даже еще важнее отцовства. Отцу достаточно родить человека, а солдат обязан его уберечь ото всех гибельных вражеских сил нашего страшного мира. В рождении есть счастье, а в сохранении рожденного — труд и смертная опасность.
Через два дня батальон, отдышавшись в ближнем тылу, был перемещен в первый эшелон и вступил в дело.
Прохоров, Алеев и младший лейтенант Сухих назначены были идти в ближнюю разведку. Им дали задачу — разведать дорогу в дебрях минных полей, на подходах к укрепленному рубежу противника. Нужно было пройти немного расстояния, однако пройти его следовало ночью, на ощупь, пересчитав и высмотрев каждую былинку и каждый попутный предмет.
Но в ту же ночь немцы, предчувствуя наш удар, затемно открыли огонь по нашей стороне, а затем пустили свои танки в атаку. Машины врага были встречены нашим пушечным и бронебойным огнем. Сухих, Прохоров и Алеев остались одни, как сироты, в промежуточном поле, накрываемом нашим огнем. Кроме отсветов от разрывов поле осветилось ракетами, досланными сюда нашими войсками, чтобы поставить машины врага под свет. Сухих, Прохоров и Алеев вжались в землю, но это их положение было малополезным для боя и не обещало им самим надежного спасения. Алеев, полежав немного, сказал на ухо младшему лейтенанту Сухих:
— Так лежать — я буду изменник, давай воевать…
— Сейчас, — ответил Сухих; он следил, как, маневрируя среди собственного минного поля, проходят немецкие танки, и старался запомнить безопасные проходы.
Под светом ракеты Алеев ясно увидел заблестевшие взрыватели трех противотанковых мин.
— Прохоров, — сказал Алеев, — товарищ сержант… Бояться будем без работы, умрем нехорошо…
Два танка с тяжкой стремительностью прошли мимо троих наших солдат.
— Нам чужого добра не жалко! — крикнул Прохоров.
Он подполз к одной мине и стал отрывать ее. Алеев догадался, в чем был смысл работы Прохорова, и подполз к соседней мине. Отрывши ее, он сказал Прохорову, чтобы сержант положил обе мины — свою и его — ему на спину, а он их повезет, ползя на животе, куда нужно. Прохоров погрузил мины на Алеева и пополз с ним рядом, следя, чтобы груз лежал в покое.
С немецкого рубежа вышла новая группа танков; теперь уже оттуда шло много машин, и за ними должна быть пехота.
— Уходи! — сказал Алеев Прохорову. — А я мало побуду здесь, мне хорошо.
Они выбрались на чистый проход, по которому до того прошли танки. Алеев лежал ничком с минами на спина, задумав сгрузить с себя мины, когда первый же танк подойдет поближе и ясно станет его направление.
— Нету! — крикнул Прохоров. — Рыск не расчет! Ты нам тоже недешевый — живи!.. Соображай за мной!
К ним подполз Сухих.
— Сгружайте мины здесь! — приказал офицер. — Потом давай сразу в сторону! — И еще добавил одно неизвестное слово: — Афрайя! — В бою и волнении он любил добавлять какое-нибудь слово, не имеющее смысла, однако необходимое.
Близкий разрыв кинул на них шипящие комья земли, а от второго, более мощного разрыва они оглохли.
Сгрузив мины на грунт, все трое отползли, насколько успели, подалее. «Оглохшему не так страшно, — подумал Прохоров. — А если еще и ослепнуть, то совсем покойно станет!»
Они увидели, как засветился во мгновенном взрыве немецкий танк и даже приподнялся немного над землей, точно хотел взлететь; затем добавочно сверкнул из отверстий корпуса машины внутренний взрыв, и весь танк изувечился в безвозвратного калеку.
Сухих вскочил и крикнул, не помня, что он и его солдаты ничего не слышат:
— Давай за мной внутрь врага! Там нас свой огонь не возьмет!..
Все трое залезли в развалину танка, где все-таки было безопасней, чем в чистом поле. Прохоров сейчас же озаботился, чтоб не было у них за броней ничего постороннего и ненужного: он высадил наружу через отверстый люк трупы танкистов, и они пали там наземь, а затем Прохоров хотел спустить от греха горючее из бака, но бак был уже сплющен и пуст. Освоившись и разобравшись немного в стальной теснине корпуса, сжатого увечьем, трое людей опять стали слышать битву, потому что уши у них отдохнули в безмолвии. Танки неприятеля до последнего прошли мимо них по полю, озаренному светом ракет, и за ними мчалась пехота, припадая к земле от света и разрывов и снова стремясь вперед.
— Ссечь их, Нулимбатуйя! — крикнул младший лейтенант Сухих и ударил из автомата по пехотинцам, бегущим вслед машинам.
Прохоров и Алеев также пустили в дело свои автоматы, и ближние враги стали припадать к охлажденной земле, уже орошенной ночною росой.
— Живее бей! — ускорял огонь Сухих. — Спускай им душу в дырку через сердце, не бойся гончих псов!..
Прохоров и Алеев, сосредоточившись в работе, чувствовали себя спокойно. Немцы, умирая возле своего мертвого танка, не успевали понять в сиянии трепещущего света и в гуле русской артиллерии источника своей гибели. Сухих стрелял непрерывно; он мало верил, что удастся дожить до рассвета, и не хотел, чтобы бесполезно остался при нем боезапас.
Постепенно бой ушел за танками в сторону, и тогда трое русских солдат опомнились и передохнули.
— Ничего, — сказал Сухих. — Неликвидные фонды!
— Ничего, — согласились с ним Прохоров и Алеев.
На них тихо, без стрельбы, надвинулся из тьмы одинокий немецкий танк и остановился у буксирного крюка подбитой машины.
— За своим добром приехали, — сказал Прохоров. — Это правильно.
Люк прибывшего танка открылся, и из машины вылезли два немца, чтобы наладить сцепку больного танка.
Алеев хотел посечь врагов огнем, но Сухих не велел.
— У них пушка в машине, и пушкарь внутри сидит, — сказал офицер. — Нам толку не будет. Афрайя ты моя…
Сцепив танки тросами, немцы подобрали трупы своих танкистов и положили их на броню здорового танка-тягача. Потом они вернулись и полезли через люк внутрь увечной машины, но здесь они остались молчать замертво в руках советских солдат, которые потеснились, чтобы сразу принять на руки и оставить меж собой неприятеля неподвижно.
Сцепленный танк-тягач теперь стоял близко, и пушка его была неопасна на такой дистанции. Живые немцы в здоровом танке обождали немного своих товарищей, а затем потянули больной танк в свою сторону. Пройдя небольшое расстояние, танк-тягач остановился, потому что трупы свалились с его брони на землю. Теперь ракет уже давно не было в небе, и было темно, но советские солдаты приноровились глазами ко мраку и чутко следили, что будет далее впереди них. Двое немцев показались сверху из тягача и спрыгнули вниз. Они вновь подняли своих мертвых с земли и положили их обратно на машину, как было. Затем один из них, бормоча неудовольствие, пошел к больному танку.
— Кончай! — сказал Сухих; он сам дал краткую очередь, и враги его пали мертвыми.
Прохоров и Алеев бросились во тьме к здоровому танку и забрались в него. Но гром боя опять стал возвращаться сюда, на прежнее место. Наши части контратаковали неприятеля и повернули его обратно, откуда он вышел. Немецкая колонна танков шла теперь назад щербатая: из нее выбили много машин и они омертвели на поле сражения. Прохоров и Алеев, равно и Сухих, остерегаясь огня, остались сидеть за броней немецких танков, полагая, что красноармейцы разглядят, в чем тут дело, и не станут тратить прицельного огня по умолкшим машинам. Сухих сидел один с двумя мертвыми немцами, а Прохоров и Алеев были вдвоем в здоровой машине, и они нашли себе там еще третьего товарища…
На рассвете в здоровый немецкий танк влез для проверки механизма советский танкист и, дав мотору обороты, повел всю сцепленную систему в русскую сторону…
На русской стороне мы вновь встретились с Прохоровым, Алеевым и офицером Сухих. Алеев явился в штаб части с ребенком на руках, цыганским мальчиком лет восьми на вид. А Прохоров тоже был не пустой: он принес мешочек семян многолетнего клевера.
Цыганского мальчика они обнаружили внутри немецкого танка. Напуганный ребенок не мог объяснить, зачем его взяли в машину, а немцы, что были с ним, все теперь умерли, и спросить было не у кого. Может быть, немцы возили ребенка с собой как амулет, как заклятие пролив своей смерти. А может быть, тут был расчет: дескать, когда погибнем мы, погибнешь и ты, маленький грустный звереныш, и нам легче оттого, что и тебя после нас не будет на свете. Для человека смерть красна на миру, потому что мир по нем тоскует; для фашиста смерть красна, когда и мир или хоть малая живая доля его погибает вместе с ним.
Прохоров нашел мешочек с семенами внутри танка, в вещевом ящике, и решил взять его на родину в хозяйство, потому что поля войны зарастают жестким бурьяном, с листьями как железная стружка, несъедобными для скотины, а в мешке все же были семена сладкого клевера.
Сухих отобрал цыганского, мальчика от Алеева к себе на руки, осмотрел и освидетельствовал подробно тело ребенка — все ли оно было цело и невредимо после сражения — и сказал красноармейцу высшее благородное слово, которое он вспомнил сейчас:
— Джамбул! Это хороший мальчуган: он весь теплый и живой!
1944 г.
А. Твардовский
МАЙОР ВАСИЛИЙ АРХИПОВ
Ему едва за тридцать. И этого человека необычайной воинской доблести, участника многих и жестоких боев, по его вдумчивому, спокойно приветливому лицу, по мягкому и сосредоточенному взгляду, даже по голосу — легче всего вообразить сельским учителем, агрономом, молодым ученым.
В нем нет ничего нарочито «воинственного», никакой напряженности и резкости. Он скромен, но скромность его естественна и лишена «самоприбеднения», как говорят у нас. <…>
Великая Отечественная война застала бывшего пастуха и батрака, ныне майора, Василия Сергеевича Архипова в одном из юго-западных украинских городов. С первых боев до недавнего времени он командовал разведывательным батальоном. Батальон своими умелыми и дерзкими действиями причинил немцам немало серьезных неприятностей. Достаточно назвать разведчика лейтенанта Захарова, который, пробравшись во вражеский тыл, буквально выкрал немецкого подполковника, везшего на фронт чемодан с железными крестами для раздачи особо отличившимся фашистским громилам.
Другой архиповский разведчик — младший лейтенант Губа со своим взводом мотоциклистов трое суток наводил панику в немецком тылу и возвратился в батальон, потеряв лишь шесть человек убитыми и ранеными.
Но все это уже история. С того дня, как майор Архипов назначен командиром полка, ему приходится выполнять неизмеримо более сложные и ответственные задачи.
В труднейшей обстановке, какая сложилась на участке обороны города П., майору Архипову довелось драться с во много раз превосходящим численно противником.
Город горел. Танковые части Архипова сражались за каждый дом, за каждый переулок, не уступая без боя ни одной пяди. Командир взвода лейтенант Журавлев уничтожил две пушки и три фашистских танка на одной из улиц города. Бои шли «грудь на грудь». Командир батальона капитан Богачев столкнулся с немецким танком почти вплотную, так что стрелять уже было поздно. Тогда он на полном ходу рванулся вперед и раздавил гусеницами своей машины танк противника вместе с его экипажем.
Вражескую пехоту архиповцы буквально косили. Население города с подлинной самоотверженностью помогало танкистам отбивать врага. В горячке боев не были записаны имена горожан-героев, в том числе женщин и детей, но волнующие рассказы об их подвигах передаются из уст в уста.
Кто он, как имя того старичка, что подносил к нашим танкам воду и был по виду не то дворником, не то сторожем? Он, рискуя жизнью, пробрался к саду, где накапливалась немецкая пехота, и указал это место Архипову. Немцы были перебиты. А старичок, забрав ведра, снова пошел за водой для истомленных духотой и жаждой танкистов.
Неизвестно имя мальчика, обнаружившего в одном из укромных двориков окраины семидесятишестимиллиметровую немецкую пушку и не только сообщившего об этом красным бойцам, но и сопровождавшего танк на то место.
Когда-нибудь фигура этого мальчика в раздувающейся пузырем рубашонке, держащегося одной рукой за башню танка, идущего в бой, будет изваяна скульптором.
Бои шли круглые сутки. Майор Архипов находился на самых ответственных участках. У этого человека с лицом педагога или ученого было достаточно воли и мужества, чтобы в таком неравном бою оказывать врагу долгое и яростное сопротивление.
<…> Майор знал, что слишком численно неравны силы и что исход боя предрешен. Но каждый лишний час сопротивления на рубежах обеспечивал эвакуацию раненых, населения, военного имущества.
В тот момент, когда часть советских танков уже перешла на другой берег, центральный мост был взорван.
Немцы уже считали своими трофеями оставшиеся на заречной стороне советские боевые машины. Майор Архипов вместе с батальоном танков продолжал вести бой, не теряясь и ни на минуту не допуская мысли о том, чтобы оставить машины противнику.
Он приказал разведать реку, найти брод с твердым дном.
И произошло то, что не предусмотрено ни уставом, ни какими-либо техническими нормами и во что трудно было бы поверить, если бы это не стало фактом.
Обыкновенные наземные танки форсировали реку на глубине двух-трех метров. Машина капитана Богачева, развив высшую скорость, первой вошла в реку и, мощным конусом раздвигая воду, без остановок достигла другого берега. За ней, как бы в ее кильватере, пошла другая, третья, четвертая… Ошеломленные немцы даже прекратили огонь, и машины благополучно достигли противоположного берега.
В одном из этих танков переехал реку командир танкистов Василий Архипов.
Танки противника даже не сделали попытки форсировать таким способом водную преграду, которая теперь отделяла нас от врага.
Сентябрь 1941 г.
ИЗ УТРАЧЕННЫХ ЗАПИСЕЙ
В первое лето войны у меня не было никакого письменного «хозяйства», кроме небольшой записной книжки в черной клеенчатой обложке. Книжка эта вместе с кожаной полевой сумкой, служившей мне еще на Карельском перешейке, пропала: я имел дурную привычку носить сумку в руке, как носят их штатские люди. Мне жаль тех коротких и отрывочных заметок, в которых, по крайней мере, была ценность записей, сделанных тогда.
На первой странице книжки, помнится, я записал поразившую меня картину начала войны и первую встречу с теми, на кого тяжкий груз ее свалился в первый же день.
Поезд Москва — Киев остановился на станции, кажется, Хутор Михайловский. Выглянув в окно, я увидел нечто до того странное и ужасающее, что до сих пор не могу отстранить это впечатление. Я увидел поле, огромное поле, но был ли это луг, пар, озимый или яровой клин — понять было невозможно: поле было покрыто лежавшими, сидевшими, копошившимися на нем людьми с узелками, котомками, чемоданами, тележками, детишками. Я никогда не видел такого количества чемоданов, узлов, всевозможного городского домашнего скарба, наспех прихваченного людьми в дорогу. На этом поле располагалось, может быть, пять, может быть, десять тысяч людей. Здесь был уже лагерь, вокзал, базар, привал, цыганская пестрота беженского бедствия. Поле гудело. И в этом гудении слышалась еще возбужденность, горячность недавнего потрясения и уже глубокая, тоскливая усталость, онемение, полусон, как раз как в зале забитого до отказа вокзала ночью на большой узловой.
Поле поднялось, зашевелилось, тронулось к полотну дороги, к поезду, застучало в стены и окна вагонов, и казалось — оно в силах свалить состав с рельсов. Поезд тронулся. Мы, люди в военном, нарушая жестокий и необходимый порядок, втянули в вагон одну женщину, обвешанную узелками, перехватив с рук на руки ее двух детишек — лет трех и пяти. Она была минчанка, жена командира и, войдя в вагон, спешила подтвердить это документами — маленькая, замученная, ничем не красивая, кроме, может быть, глаз, сиявших счастьем внезапной удачи. Ей нужно было в Белую Церковь, к родным мужа. Вряд ли она добралась туда: всего через несколько дней я увидел Белую Церковь, оставляемую нами.
Но удивительным и незабываемым было вот что. Женщина, бежавшая из Минска с детьми в ночь первой жестокой бомбежки, не успевшая проститься с мужем, находившимся теперь бог весть где, не только не жаловалась на судьбу, но всячески старалась, чтобы люди, не видевшие, не испытавшие того, что уже довелось ей, не были слишком потрясены, не считали бы ее положение совершенно ужасным. Приткнув детишек в уголок нижней полки нашего купе, она строго, скромно присела там же на краешек, обдернула мгновенно уснувшим детишкам рубашечки, вытерла им вспотевшие личики, незаметно прибралась сама и, кажется, более всего была озабочена тем, чтоб не выглядеть слишком усталой, потрясенной и растерянной. Достоинство хозяйки, матери, женщины, у которой должно быть все в дому не как-нибудь, а хорошо и опрятно, сквозило во всей ее повадке, в сдержанной, экономной хлопотливости.
«Ничего, ничего, — говорила с грустной и самоотверженно счастливой улыбкой, — это еще ничего: дети целы, доберусь как-нибудь. А он напишет туда, старикам. Вот мы и спишемся».
Какие-то еще она говорила слова, в которых была такая самозабвенная готовность все вытерпеть, вынести, не пасть духом и не удручать, не пугать никого своим горем, никому не жаловаться. Как будто в образе этой маленькой матери-беженки первых дней войны дано было увидеть нам все величие женского материнского подвига в этой войне…
Было в той книжке записано еще впечатление природной красоты Украины, от самого своего западного края уходившей у нас из-под ног и колес в отступлении. Я ее впервые увидел, Украину, если не считать двух — четырех концов пути в поездах Москва — Севастополь, Москва — Сочи. И увидел в такую медово-цветущую пору — в последние дни июня. Как поразил меня запах в открытом поле, вдалеке от каких-либо садов или пчельников, — густой медовый запах, исподволь сдобренный еще чем-то вроде мяты. Я спросил у товарища, украинца, чем это так пахнет. Оказалось — пшеницей. Это было по дороге из Западной Украины, когда колонна наша стояла по какой-то причине в степи, на рассвете — еще солнце не показалось. Росный, чистый медовый рассвет, когда еще пыль, густая, сизая пыль чернозема, похожая на каменноугольный дым из трубы, неохотно поднимается за колесами, как бы стесняясь ложиться на чистые, мокрые с ночи хлеба и травы. Это самый тот час, когда особенно сильно хлеб пахнет медом…
Еще была запись о Каневе, который был передним краем нашей обороны на правобережье Днепра. Тогда еще был цел каневский мост, железнодорожный, но по нему был сделан настил для автотранспорта. Помню тревожно-чистое, голубое, с легкой дымкой и золотистостью небо раннего полдня, нытье автомобильных моторов в пробке, образовавшейся у моста, невозможность податься взад или вперед или выскочишь в сторону: к мосту подводила высокая железнодорожная насыпь, с которой не свернешь. И ожидание, ожидание чего-то, чего обязательно должно вот-вот произойти. Небо, решетки и переплетения моста, и внизу широкая, густая, отчасти стальная синева Днепра.
«О!» — сказал кто-то коротко и, пожалуй, даже раньше, чем белый столб возник из синей воды и послышался тяжелый чох разорвавшегося в воде снаряда.
Машины тронулись, как бы не замечая ничего на свете, кроме своей колеи, неторопливо нащупываемой колесами. Движение было изнурительно медленное, и уже совсем некуда было деться, в случае чего, с этого конвейера. Перейдя мост, машины пошли по правому срезу у насыпи, по узкому — как проехать одной машине — уступчику. Это была сторона насыпи, обращенная туда, откуда бил немец. Мы уже были совсем недалеко от места, где колонна заворачивала под котлован насыпи, чтобы выйти на другую ее сторону, когда снаряд разорвался у самого входа в котлован. Из наших товарищей тогда был легко ранен в ногу один. Но это была почти для всех нас первая настоящая близость к войне, если не считать уже пережитых бомбежек…
Еще запись. Люди прошли с боями, со всеми муками отступления чуть не тысячу верст, воевали уже не один месяц, оставили позади большую часть Украины. И, расположившись теперь на одну из ночевок в уже холодающей к ночи степи, полной запахов поздней печальной страды — запах картофель-ника, свежей яровой соломы, — запели. Запели простую русскую песню, из тех, что подтянуть может всякий. И в той песне не было даже ни слова про войну. Ни слова в песне не было о войне, зато были слова о жизни, любви, родной русской природе, давних деревенских радостях и печалях. И странно: показалось, что ничего этого нет — ни немцев, ни великого горя, — а есть и будет жизнь, любовь, родина и песня, в которой только и место горю, но горю уже пережитому, отошедшему, давнему. Все пройдет. Все еще будет. Мать обнимет сына. Воин подхватит на руки подросшего без него ребенка.
НАДЯ КУТАЕВА
Вот сидит она на санитарной подводе, девчонка в подростковой шинели, пытается заснуть на минутку и, несмотря на большую усталость, никак не может. Бой уже совсем недалеко. Ездовой Шерабурко почмокивает на лошадь, подергивает вожжами и как будто бы даже спешит до места, в батальон. Но всякий раз, как наискосок, через дорогу, свистя и пришепетывая, проносится снаряд, голова бойца уходит в плечи и он всем корпусом подается вперед, кланяясь крупу лошади. Когда же слышится глухой, неблизкий разрыв, Шерабурко вновь выпрямляется и продолжает еще деловитее почмокивать и подергивать. И старается как можно развязнее сказать, с улыбкой оглядываясь на медсестру:
— Подбрасывает…
— Ладно, ладно, подбрасывает! — неласково отзывается она, передразнивая его слово. — Давай смотри, куда лучше с подводой подъехать, чтоб мне не три версты раненого таскать.
Ездовой обиженно умолкает. Поле боя уже на виду. Дымные кусты разрывов встают внезапно, как из-под земли, то там, то здесь, то врозь, то парами. Надя всматривается в какой-то черный предмет справа от дороги — не то строение какое, не то автомашина, брошенная в снегу. Нет, комбайн, оставшийся здесь с лета. А место подходящее поставить повозку. И носить не так далеко.
— Шерабурко, подворачивай!
И вдруг отдельно от грохота боя, тоньше, тревожнее и тоскливее, чем снаряд либо мина, над самой головой свистят пули, и оттуда, от комбайна, доносится треск автомата. Шерабурко роняет вожжи и кулем валится под повозку.
— Шерабурко, что с тобой? («Не ранен ли?» — думает Надя, кидаясь к нему и ловя на снегу вожжи.) Шерабурко, миленький…
Нет, он не ранен, этот добрый, простецкий парень, не обвыкший еще на фронте. Но ему так стыдно подняться, что, удлиняя свой позор, он лежит, будто бы ничего не слыша.
— Садись, правь лошадью, — приказывает она в полную меру своего старшинства над ним. — Раненые ждут, а ты под повозкой прятаться? Садись, а то я тебя сейчас… — Она соображает, чем бы таким пригрозить. — А то я тебя сейчас гранатой подорву, Шерабурко. Сейчас!
Ездовой вскакивает и забирает у нее вожжи. Бедняге в голову не приходит, что и гранаты здесь нет никакой и что угроза эта, в сущности, неосуществимая. Он только чувствует властный тон этой девчонки, которая ничего сама не боится и другим бояться не позволяет. Комбайн остается в стороне, Шерабурко правит еще ближе к месту боя, но бой и справа, и слева, и, кажется, уже за спиной у него.
Через полчаса по этой же дороге боец благополучно отвозит двух раненых, уложенных на повозку Надей. А сама Надя остается в батальоне.
В дыму подожженной во время боя деревни она натолкнулась на тяжело раненного лейтенанта. Его уже уложили в сани, первая помощь была оказана, но он лежал на перемешанной со снегом соломе в одной гимнастерке — шинель, должно быть, сбросил в горячке боя. Надя быстро сняла свою шинельку-маломерку, укрыла лейтенанта, а сама осталась в одной стеганке.
Из этой деревни она, может, и не выбралась бы. Немцы оттеснили наших на самую окраину. Автоматчики подошли уже так близко, что нужно было убегать. А ноги ее уже не слушались — так она была измучена, — а тут еще остается боец с залитым кровью лицом, пуля прошла у него по надбровью, и он ничего не видел и был слаб от потери крови. Тогда их заметил другой лейтенант, подхватил обоих за руки и потащил обходным путем из деревни. На выходе из деревни по дороге уже бил немецкий станковый пулемет, и пришлось там долго лежать на снегу, а Надя была вся в поту, разгоряченная и в одной своей стеганке.
Потрясения и муки этого дня сломили ее. Она была отправлена в тыл дивизии, в госпиталь. Вернулась Надя на работу остриженная и оттого ставшая как будто еще меньше ростом.
И снова она встретила на поле боя своего спасителя — лейтенанта. Теперь он был ранен в голову. И он узнал ее.
— Уходи, уходи, Надя! Дела мои плохие, беги.
— Нет, уже теперь я над вами хозяйка, товарищ лейтенант.
Она перевязала и вынесла его, но остался ли он жив, слышать ей не случилось.
Она уже так надорвалась, изнурилась, что просто глядеть больно, — худышка, бледненькая, с наивно и как будто печально вздернутым носиком. И говорит о себе, осторожно покашливая, с грустью и жалостью не к себе, а к тому, что так ненадолго ее хватило:
— Перевязать я еще, конечно, перевяжу, но вынести уже не вынесу. Знаю, не вынесу.
Рассказ ее как-то сам собою связался у меня с одним воспоминанием.
Июль это был или уже август — не помню. Ехал я, сидя спиной к кабине, на открытом грузовике. Заходило солнце. Помню даже, что поразительно правильно был перерезан красный диск солнца пополам тоненьким, как ниточка, светло-синим облачком. Лежала огромная тень от леса, к которому мы подъезжали, обгоняя колонну бойцов, головой уже вошедшую в тень. Вне строя, по обочине, шла девушка в военном, с санитарной сумкой. И такая она была молоденькая, недавняя, серьезная и скромная.
Я залюбовался ею в те секунды, покамест позволяло расстояние, и успел невольно улыбнуться ей или даже кивнуть. И она улыбнулась чуть-чуть, но так хорошо, дружески и доверчиво, что и запомнилось это. Может быть, ее уже нет на свете. Может быть, она все еще в батальоне, на своей скромной и тяжкой должности санинструктора. Во всяком случае, она уже на десять лет старше, чем была, когда входила в ту огромную тень от леса и смотрела прямо на красный закат разделенного облачком солнца.
А. Гайдар
БЕРИСЬ ЗА ОРУЖИЕ, КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ!
Война!
Ты говоришь: я ненавижу врага. Я презираю смерть. Дайте винтовку, и я пулей и штыком пойду защищать Родину.
Все тебе кажется простым и ясным. Приклад к плечу, нажал спуск — загремел выстрел.
Лицом к лицу, с глазу на глаз — сверкнул яростно выброшенный вперед клинок, и с пропоротой грудью враг рухнул.
Все это верно. Но если ты не сумеешь поставить правильно прицел, то твоя пуля бесцельно, совсем не пугая и даже ободряя врага, пролетит мимо.
Ты бестолково бросишь гранату, она не разорвется.
В гневе, стиснув зубы, ты ринешься на врага в атаку. Прорвешься через огонь, занесешь штык. Но если ты не привык бегать, твой удар будет слаб и бессилен.
И тебе правильно говорят: учись, пока не поздно. Когда тебя призовут под боевые знамена, командиры будут учить тебя, но твой долг — знать военное дело, быть всегда готовым к боям.
Тебе дадут винтовку, автомат, ручной пулемет, разных образцов гранаты. В умелых руках, при горячем преданном Родине сердце это сила грозная и страшная. Без умения, без сноровки твое горячее сердце вспыхнет на поле боя, как яркая сигнальная ракета, выпущенная без цели и смысла, и тотчас же погаснет, ничего не показав, истраченная зря.
Комсомолец, школьник, пионер, юный патриот, война еще только начинается, и знай, что ты еще нужен будешь в бою.
Приходи к нам на помощь не только смелым, но и умелым. Приходи к нам таким, чтобы ты сразу, вот тут же рядом, быстро отрыл себе надежный окоп, хлопнул по рыхлой груде земли лопатой, обнял ладонью ямку для патронов, закрыл от песка лопухом гранату, метнул глазом — поставил прицел. Потом закурил и сказал: «Здравствуйте все, кто есть слева и справа».
Поняв, что ты начал не с того, чтобы сразу просить помощи, что тебе не нужно ни военных нянек, ни мамок, тебя полюбят и слева и справа.
И знай, что даже где-то на далеком фланге подносчик патронов, связной или перевязывающий раны санитар кому-то непременно скажет: «Прислали пополнение. Видел одного. Молодой и, наверное, комсомолец». — «Ну! Прыгает?» — «Ничего не прыгает. Сел на место, окопался, молчит и работает».
Двадцать два года тому назад, в эти же августовские дни, я, тогда еще мальчишка, комсомолец, был с комсомольцами на фронтах Украины в этих же местах.
Какие были среди нас политики! Какие стратеги! Как свободно и просто разрешали мы проблемы европейского и мирового масштаба. Но увы! Учились мы военному делу тогда мало. Дисциплина хромала. Стреляли неважно и искренне думали, что обрезать напильником ствол у винтовки нам не разрешают только из-за косности военспецов главного штаба.
Но нас в армии было тогда еще немного. За молодость бородатые дяди нас любили. Многое нам прощали и относились к нам покровительственно, благодушно.
Теперь время совсем не то. Сейчас комсомол — большая сила в армии.
В грозные для одного большого города дни встали недавно у сложных орудийных расчетов студенты-математики, комсомольцы.
За баррикадами из мешков песка, возле тяжелых противотанковых пулеметов стояли запасными номерами наводчики-комсомольцы.
На окраинах города уже шел бой, а они все еще спешно и жадно, как перед самым важным в жизни экзаменом, заглядывали в стрелковые таблицы.
Вот и ты приходишь с учебы, с работы. Ты знаешь, что тебе ночью еще нужно дежурить на чердаке, на крыше, и все-таки, наверное, ты берешь боевой устав. Ты идешь в военный кружок. Ты становишься в строй.
Жжет ли солнце, льет ли дождь, покрыты ли суровой тьмой улицы твоего родного города, люди слышат твои твердые шаги, слова команды и стук винтовочного приклада, опущенного на гулкую мостовую.
А ночью за черной маскировочной шторой ты, наверное, сидишь, изучая тяжелую ручную гранату, огонь которой вместе с огнем твоих глаз и твоего сердца взорвет и испепелит тех, кого мы все так клятвенно и непримиримо ненавидим.
Берись за оружие, комсомольское племя!
1941 г.
МОСТ
Прямой и узкий, как лезвие штыка, лег через реку железный мост. И на нем высоко, между водой и небом, через каждые двадцать — тридцать метров стоят наши часовые.
Вправо по берегу за камышами — а где точно, знают только болотные кулики да длинноногие цапли — спрятан прикрывающий мост батальон пехоты. На другом берегу на горе, в кустарнике, — артиллеристы-зенитчики.
По мосту к линиям боя беспрерывно движутся машины с войсками, оружием и боеприпасами. По мосту проводят и проезжают в город на рынок окрестные колхозники.
Внизу по реке снуют в челнах рыбаки, вылавливая оглушенную бомбами немецких «хейнкелей» рыбу.
По песчаной косе маленький колесный трактор, зацепив веревкой за ногу, тянет, оставляя глубокий след, случайно убитого осколком вола.
Перед изъеденной, как оспой, осколками избой-караулкой со сдвинутой набекрень крышей возникает связной от батальонной пехоты красноармеец Федор Ефимкин. Он пробрался напрямик, осокой и топью. Поэтому нижняя половина его почти до пояса мокро-черная, гимнастерка же и пилотка на солнце выгорели и покрылись сухой светло-серой пылью. Рыжий ремень до того густо увешан ручными гранатами, что при быстрых поворотах Ефимкина они отходят и топорщатся во все стороны.
Он останавливается возле старшины Дворникова, который пугливо исследует рваные дыры смятого, пробитого котелка, и, козырнув, спрашивает:
— Разрешите, товарищ старшина, обратиться по вопросу неофициальному? Котелок, который имеет все попадания от полутонной фугасной бомбы, вследствие сжатия образует трещины, а также различные дыры, и его можно выбросить через перила в реку. Но если вы, товарищ старшина, на час-два одолжите мне вон ту плетеную корзинку, то, вот мое слово, пойду назад, принесу вам котелок новый, трофейный, крашенный во все голубое.
Старшина Дворников оборачивается:
— На что тебе корзина?
— Не могу сказать, товарищ старшина: военная тайна.
— Не дам корзины, — заявляет старшина. — Вы у нас мешок взяли и не вернули.
— Мешок, товарищ старшина, готов был к возврату. Но тут случился факт, что наши захватили в плен трех немцев, а в сумках у них был обнаружен грабленый материал: четыре колоды игральных карт, трусы для обоего пола, полотенца, кофты, какао и кружевные пододеяльники. Все означенное, кроме какао, было сложено в ваш мешок и отправлено как доказательство в штаб дивизии, откуда вполне можно мешок истребовать по закону.
— Ты мне зубы не заговаривай, — невольно улыбнувшись, сказал старшина. — Ты мне лучше скажи, зачем столько гранат на пояс навесил. Что у тебя тут — арсенал, цейхгауз?
— Ходил вчера в разведку, товарищ старшина, шесть бросил, двух даже не хватило. У меня еще пара круглых «лимонов» лежит в кармане. Хорошая это штука для ночной разведки: огонь яркий, звук резкий; который немец не помрет, так все равно от страха обалдеет. Дайте, товарищ старшина, корзину. Вот нужно! Иначе срывается вся моя операция.
— Какая операция? — недоумевает старшина. — Ты, друг, что-то заболтался.
Старшина смотрит на Ефимкина.
Ох, и хитер, задорен! Но молодец этот парень. Всегда он мокрый или пыльный, промасленный, но глянешь на его прямые, угловатые плечи, на его добродушную, лукавую улыбку, на то, как он стоит, как ловко скручивает тугую махорочную цигарку, — сразу скажешь: «Это боевой парень».
— Возьми, — говорит старшина, — да скажи вашему лейтенанту: что же, мол, нас бомбят, а вы на самом деле внизу себе рыбу промышляете, и попроси у него — пусть пришлет на уху щурят или ершей и на нашу долю.
— Вот еще! Из-за каких-то там ершей буду я лейтенанта беспокоить, — поспешно забирая корзинку, говорит Ефимкин. — Вас, наверное, сегодня опять бомбить будут, так я к вечеру за пропуском приду — целую корзину свежих лещей принесу. Высокий у вас пост, товарищ старшина, — со вздохом добавляет Ефимкин. — Мы что — у нас трава, канавы, земля, кустарник. А вы… стоите на глазах у всего света.
Ефимкин берет корзинку и, грязно-сизый, пыльный сверху, побрякивая своими нацепленными гранатами, идет через мост мимо ряда часовых, которые молча провожают его любопытными взглядами. Многих из них он знает уже по фамилиям. Вот Нестеренко, Курбатов. Молча, сощурив узкие глаза, стоит туркмен Бекетов. Этого человека вначале назначили было в разведку. Ночью в лесу он отстал, растерялся, запутался. На следующий раз то же самое. Уже решили было, что он трус. Командование хотело наложить дисциплинарное взыскание. Но комиссар быстро понял, в чем дело. Бекетов вырос и жил в бескрайних песках Туркмении. Леса он никогда не видел и ориентировался в нем плохо. А сейчас он гордо стоит на самом опасном посту. Тридцать метров над водой! На самой середине моста. На той самой точке, куда с воем и ревом вот уже три недели ожесточенно, но неудачно бьют бомбами фашистские самолеты.
Ефимкину нравится спокойное, невозмутимое лицо этого часового. Он хотел бы сказать ему что-нибудь приятное по-туркменски, но, кроме русского языка и нужных в разведке немецких слов: «хальт» — «стой», «хэндэ хох» — «руки вверх», «вафэн хинлэгэн» — «бросай оружие», Ефимкин ничего не знает, и поэтому он, прищелкнув языком, подмигнув, хлопает одобрительно рука об руку и, оставив туркмена в полном недоумении, хватает на руки маленькую девчурку, сажает ее в корзину и мимо улыбающихся часовых, покачивая, несет ее до самого конца моста.
Там он отдает ребенка на руки матери, а сам, осторожно оглядываясь, лезет под крутой откос, к болоту.
Старшине Дворникову, который наблюдает за Ефимкиным в бинокль, теперь ясна и военная тайна, и вся операция Ефимкина. Утром снарядом разбило фургон со сливами. По дороге шли бойцы и подобрали, но часть слив осталась, и Ефимкин набирает в корзину, чтобы отнести их своим товарищам и командирам. Старшина оглядывается. Кругом ширь и покой. Правда, за холмами где-то идет война, гудят взрывы, но это далекая и неопасная для моста музыка.
Старшина еще раз смотрит на помятый, продырявленный котелок и решительно швыряет его через перила.
Но прежде чем котелок успевает пролететь и бухнуться в теплую сонную воду, раздается отрывистый, хватающий за сердце вой ручной сирены, и от конца к концу моста летит тревожный окрик: «Воздух!»
Стремительно мчатся прочь застигнутые на мосту машины, повозки, люди. Они прячутся под насыпь, в канавы, сворачивают на луга, к стогам сена, ползут в ямы, скрываются в кустарнике.
Еще одна, две… три минуты! И вот он, как сверкающий клинок, острый, прямой, безмолвно зажат над водой, у земли в ладонях, грозный железный мост.
Честь и слава смелым, мужественным часовым всех военных дорог нашего великого Советского края — и тем, что стоят в дремучих лесах, и тем, что на высоких горах, и тем, что в селениях, в селах, в больших городах, у ворот, на углах и перекрестках, — но ярче всех горит суровая слава часового, стоящего на том мосту, через который идут груженные патронами и снарядами поезда и шагают запыленные мужественные войска, направляясь к решительному бою.
Он стоит на узкой и длинной полоске железа, и над его головой открытое, ревущее гулом моторов и грозящее смертью небо. Под его ногами тридцать метров пустоты, под которыми блещут темные волны. В волнах ревут сброшенные с самолетов бомбы, по небу грохочут взрывы зениток, и с визгом, скрежетом и лязгом, ударяясь о туго натянутые металлические фермы, вкривь и вкось летят раскаленные осколки.
Два шага направо, два шага налево.
Вот и весь ход у часового.
Луга — пехота — молчат и напряженно наблюдают за боем.
Но гора — зенитчики — в гневе. Гора защищает мост всей мощью и силой своего огромного шквала.
Протяжно воют «мессершмитты». Тяжело ревут бомбардировщики. Они бросаются на мост стаями. Их много — тридцать, сорок. Вот они один за другим ложатся на боевой курс. И кажется, что уже нет силы, которая помешает им броситься вниз и швырять бомбы на самый центр моста, туда, где, прислонившись спиной к железу и сдвинув на лоб тяжелую каску, молча стоит часовой Бекетов, но гора яростно вздымает к небу грозную завесу из огня и стали.
Один вражеский самолет покачнулся, подпрыгнул, зашатался и как-то тяжело пошел вниз, на луг, а там обрадованно его подхватила на свой станковый пулемет пехота.
И тотчас же соседний самолет, который стремительно ринулся на цель книзу, поспешно бросив бомбы, раньше, чем надо, выравнивается, ложится на крыло и уходит.
Бомбы летят, как каменный дождь, но они падают в воду, в песок, в болото, потому что строй самолетов разбит и разорван.
Несколько десятков ярко светящих «зажигалок» падает на настил моста, но, не дожидаясь пожарников, ударом тяжелого, окованного железом носка, прикладом винтовки часовые сшибают их с моста в воду.
Преследуемые подоспевшим «ястребком», самолеты противника беспорядочно отходят.
И вот, прежде чем связисты успевают наладить порванный воздушной волной полевой провод, прежде чем начальник охраны поста лейтенант Меркулов донесет по телефону в штаб о результатах бомбежки, много-много людей, заслонив ладонью глаза от солнца, напряженно смотрят сейчас в сторону моста.
Семьсот «самолетоналетов» сделал уже противник и больше пяти тысяч бомб бросил за неделю в районе моста.
Проходят долгие, томительные минуты… пять, десять, и вдруг…
Сверху вниз, с крыш, из окон, с деревьев, с заборов, несутся радостные крики:
— Пошли, пошли!
— Наши тронулись!
Это обрадованные люди увидели, что тронулись и двинулись через мост наши машины.
— Значит, все в порядке!
К старшине Дворникову, который стоит возле группы красноармейцев, подходит связной Ефимкин. Он протягивает старшине новый железный котелок. Ставит на землю корзину со свежей, оглушенной немецкими бомбами рыбой и говорит:
— Добрый вечер! Все целы?
Ему наперебой сообщают:
— Акимов ранен. Емельянов толкал бомбу, прожег сапог, обжег ногу.
Старшина берет корзину, ведет Ефимкина в помещение и получает у лейтенанта ночной пропуск.
Перед тем как спуститься под насыпь, оба они оборачиваются. Через железный, кажущийся сейчас ажурным переплет моста светит луна.
Далеко на горизонте вспыхивает и медленно плывет по небу голубая ракета.
Налево из деревушки доносится хоровая песня. Да, песня. Да, здесь, вскоре после огня и гула, громко поют девчата.
Ефимкин удерживает старшину за рукав.
— Высокий у вас пост, товарищ старшина! — опять повторяет он. — Днем на двадцать километров вокруг видно, ночью — на десять все слышно…
Действующая армия.
1941 г.
ВОЙНА И ДЕТИ
Тыловая железнодорожная станция на пути к фронту. Водонапорная башня. Два прямых старых тополя. Низкий кирпичный вокзал, опоясанный густыми акациями.
Воинский эшелон останавливается. К вагону с кошелкой в руках подбегают двое поселковых ребятишек.
Лейтенант Мартынов спрашивает:
— Почем смородина?
Старший отвечает:
— С вас денег не берем, товарищ командир.
Мальчишка добросовестно наполняет стакан верхом, так что смородина сыплется на горячую пыль между шпал. Он опрокидывает стакан в подставленный котелок, задирает голову и, прислушиваясь к далекому гуду, объявляет:
— «Хенкель» гудит… ух!., ух! Задохнулся. Вы не бойтесь, товарищ лейтенант, вон они наши пошли истребители. Здесь немцам по небу прохода нет.
Он подхватывает кошелку и мчится дальше. У вагона остается его белобрысый, босоногий братишка лет семи от роду. Он сосредоточенно прислушивается к далекому гуду зениток и серьезно объясняет:
— Ось! Там вона бухает…
Лейтенанта Мартынова это сообщение заинтересовывает. Он садится на пол у дверей и, свесив ноги наружу, поедая смородину, спрашивает:
— Гм! А что же, хлопец, на той войне люди делают?
— Стрыляют, — объясняет мальчишка, — берут ружье или пушку, наводют… и бах! И готово.
— Что готово?
— Вот чего! — с досадой восклицает мальчишка. — Наведут курок, нажмут, вот и смерть будет.
— Кому смерть — мне? — И Мартынов невозмутимо тычет пальцем себе в грудь.
— Да ни! — огорченно вскрикивает удивленный непонятливостью командира мальчишка. — Пришел якийсь-то злыдень, бомбы на хаты швыряет, на сараи. Вот там бабку убили, двух коров разорвало. О то чего, — насмешливо пристыдил он лейтенанта, — наган нацепил, а как воевать, не знает.
Лейтенант Мартынов сконфужен. Окружающие его командиры хохочут.
Паровоз дает гудок.
Мальчишка, тот, что разносил смородину, берет рассерженного братишку за руку и, шагая к тронувшимся вагонам, протяжно и снисходительно ему объясняет:
— Они знают! Они шутят! Это такой народ едет… веселый, отчаянный! Мне один командир за стакан смородины бумажку трехрублевую на ходу подал. Ну, я за вагоном бежал, бежал. Но все-таки бумажку в вагон сунул.
— Вот!.. — одобрительно кивает головой мальчишка. — Тебе что! А он там на войне пусть квасу или ситра купит.
— Вот дурной! — ускоряя шаг и держась вровень с вагоном, снисходительно говорит старший. — Разве на войне это пьют? Да не жмись ты мне к боку! Не крути головой! Это наш «И-шестнадцать» — истребитель, а немецкий гудит тяжко, с передыхом. Война идет на второй месяц, а ты своих самолетов не знаешь.
Фронтовая полоса. Пропуская гурты колхозного скота, который уходит к спокойным пастбищам на восток, к перекрестку села, машина останавливается.
На ступеньку вскакивает хлопчик лет пятнадцати. Он чего-то просит. Скотина мычит, в клубах пыли щелкает длинный бич. Тарахтит мотор, шофер отчаянно сигналит, отгоняя бестолковую скотину, которая не свернет до тех пор, пока не стукнется лбом о радиатор. Что мальчишке надо? Нам непонятно. Денег? Хлеба?
Потом вдруг оказывается:
— Дяденька, дайте два патрона.
— На что тебе патроны?
— А так… на память.
— На память патронов не дают.
Сую ему решетчатую оболочку от ручной гранаты и стреляную блестящую гильзу.
Губы мальчишки презрительно кривятся:
— Ну вот! Что с них толку?
— Ах, дорогой! Так тебе нужна такая память, с которой можно взять толку? Может быть, тебе дать вот эту зеленую бутылку или эту черную яйцом гранату? Может быть, тебе отцепить от тягача вот ту небольшую противотанковую пушку? Лезь в машину, не ври и говори все прямо.
И вот начинается рассказ, полный тайных недомолвок, уверток, хотя, в общем, нам уже все давно ясно.
Сурово сомкнулся вокруг густой лес, легли поперек дороги глубокие овраги, распластались по берегам реки топкие камышовые болота. Уходят отцы, дяди и старшие братья в партизаны. А он еще молод, но ловок, смел. Он знает все лощинки, последние тропинки на сорок километров в округе.
Боясь, что ему не поверят, он вытягивает из-за пазухи завернутый в клеенку комсомольский билет. И, не будучи вправе рассказать что-либо больше, облизывая потрескавшиеся, запыленные губы, он ждет жадно и нетерпеливо.
Я смотрю ему в глаза. Я кладу ему в горячую руку обойму. Это — обойма от моей винтовки. Она записана на мне. Я беру на себя ответ за то, что каждая выпущенная из этих пяти патронов пуля полетит точно в ту, куда надо, сторону.
— Как тебя зовут?
— Яков.
— Послушай, Яков, ну зачем тебе патроны, если у тебя нет винтовки? Что же ты, из пустой кринки стрелять будешь?
…Грузовик трогается. Яков спрыгивает с подножки, он подскакивает и весело кричит что-то несуразное, бестолковое. Он смеется и загадочно грозит мне вдогонку пальцем. Потом, двинув кулаком по морде вертевшуюся около корову, он исчезает в клубах пыли.
Ой, нет! Этот паренек заложит обойму не в пустую кринку.
Дети! На десятки тысяч из них война обрушилась точно так же, как и на взрослых, уже хотя бы потому, что сброшенные над мирными городами фашистские бомбы имеют для всех одинаковую силу.
Остро, чаще острее, чем взрослые, подростки — мальчуганы, девочки — переживают события Великой Отечественной войны.
Они жадно, до последней точки, слушают сообщения Информбюро, запоминают все детали героических поступков, выписывают имена героев, их звания, их фамилии.
Они с беспредельным уважением провожают уходящие на фронт эшелоны, с безграничной любовью встречают прибывающих с фронта раненых.
Я видел наших детей в глубоком тылу, в тревожной прифронтовой полосе и даже на линии самого фронта. И повсюду я видел у них огромную жажду дела, работы и даже подвига.
Перед боем на берегу одной речки встретил я недавно парнишку.
Разыскивая пропавшую корову, чтобы сократить путь, он переплыл реку и неожиданно очутился в расположении немцев. Спрятавшись в кустах, он сидел в трех шагах от фашистских командиров, которые долго разговаривали о чем-то, держа перед собой карту.
Он вернулся к нам и рассказал о том, что видел.
Я у него спросил:
— Погоди! Но ведь ты слышал, что говорили их начальники, это же для нас очень важно.
Паренек удивился:
— Так они же, товарищ командир, говорили по-немецки!
— Знаю, что не по-турецки. Ты сколько окончил классов?
Девять? Так ты же должен был хоть что-нибудь понять из их разговора!
Он уныло и огорченно развел руками:
— Эх, товарищ командир! Кабы я про эту встречу знал раньше…
Пройдут годы. Вы станете взрослыми. И тогда в хороший час отдыха после большой и мирной работы вы будете с радостью вспоминать о том, что когда-то, в грозные дни для Родины, вы не болтались под ногами, не сидели сложа руки, а чем могли помогали своей стране в ее тяжелой и очень важной борьбе с человеконенавистным фашизмом.
Действующая армия.
1941 г.
А. Серафимович РЕБЕНОК
Мы проехали железнодорожный мост через реку Иловлю.
У нас был громадный эшелон: тысяча эвакуируемых из детдомов ребят и около трехсот красноармейцев.
Солнце невысоко стояло над голой степью. По вагонам собирались завтракать. Раздался сдвоенный взрыв. Потом еще и еще. Поезд остановили. Дети, крича, посыпались, как горох, из вагонов. Дальше выскакивали красноармейцы. Все залегли по степи.
Белый дым зловеще стлался над железнодорожным мостом. Пятнадцать вражеских самолетов громили мост. Заговорили наши зенитки. Шрапнель падала с высоты трех-четырех километров. Попадись ей — насмерть уложит.
Я старался отбежать возможно дальше от вагонов, по крышам которых тарахтела сыпавшаяся шрапнель. Маленькая девочка лет пяти с половиной, нагнув головенку, крепко держась за мою руку, торопливо мелькала босыми ножками. На ней были только трусики: выскочили из вагонов в чем были.
Мы прижались к земле. Взрыв несказанной силы потряс всю степь. Было секундное ощущение, что вывернуло грудь. Если бы стояли, нас бы с силой ударило о землю воздушной волной. Громадно протянулся через речку, зловеще крутясь, волнисто-дымчатый вал. Моста в нем не видно было. Лежавший недалеко красноармеец поднял голову, посмотрел на белый вал и сказал: — Не иначе как больше тонны бомба, неимоверной силы. Мост как слизнуло!
Били зенитки. Большинство стервятников кинулось в сторону и вверх и улетело. Штук пять бросились на мирный рабочий поселок, и там сдвоенно стали взрываться бомбы. Черные густые клубы дыма все застилали, и огненные языки, прорезывая, вырывались вверх. Улетели и эти. Только один, черно дымя, штопором пошел книзу.
— По ва-го-нам!
Вся степь зашевелилась, быстро потекла к эшелону. Я тоже бежал, крепко держа за руку Светлану. Она, нагнув головенку, изо всех детских сил мелькала босыми ножками. Добежали до полотна. Поезд шел уже полным ходом. Подымил вдали и пропал. Кругом — пустая степь. Мы одни. Слишком далеко забежали от эшелона. Черный дым густо клубился над поселком, разрастаясь, и огненные языки все чаще высовывались, пожирая крытые соломой избушки.
Делать нечего. Мы пешком пошли по полотну на другую станцию, расположенную в одиннадцати километрах. В Иловле бушевал пожар, и было не до нас. Нестерпимым зноем дышал песок. Мучительно блестели рельсы. Вдруг Светлана села на обжигающий песок, и крупные, как дождевые капли, слезы прозрачно повисли на ее выгнутых ресницах. Она зарыдала, смачивая мою руку горячими слезами.
— Что ты? Что с тобой?
Я ее гладил по головке, вытирал слезы, а она плакала навзрыд.
— Да что с тобой?
Сквозь рыданья она едва выговорила:
— У нее головы нету…
— У кого, дружок мой?
— У нее, у девочки…
— Постой, что ты, где?
— Когда бомбили, знаешь, на Медведице мост? Дети потом, как улетели немцы, побежали смотреть, и я побежала. Мост крепко стоит, а где жили рабочие, все сгорело. А детишки в проулке играли; немцы бросили на них бомбы. А у детишек полетели руки, ноги, а у одной девочки нет головы. А мама ее прибежала, упала, обняла ее, а головы нет, одна шея. Маму хотели поднять, а она забилась, вырвалась, упала на нее, а у нее только шея, а головы нету. А другие мамы искали от своих деток руки, ноги, кусочки платьица…
Она перестала плакать. Вытерла тыльной частью руки слезы и сказала:
— Дедушка, я кушать хочу.
— Милая моя, да у меня ничего нету. Давай пойдем скорее, может, на станции буфет есть, что-нибудь достанем.
Мы торопливо шли, и она опять семенила босыми ножками, нагнув в напряжении голову. Зной заливал степь. Показался разъезд. Одиннадцать километров прошли. Несколько красноармейцев с винтовками, сменившись с поста, сидели в тени. Светлана, с искаженным лицом, вся затрепетала от ужаса, схватилась за красноармейца и обняла его и винтовку:
— Он опять, он летит!
— Где ты видишь? Небо — чистое.
— Я слышу: гу-у-у… гу-у…
Да, он летел очень высоко, вероятно разведчик, посмотреть — что с мостом. Она верно передала тот мертвенно-траурный волнообразный звук, который враг тяжко влечет за собой. Чтобы как-нибудь ее успокоить, я повторял:
— Да нет же, никого нет. Небо — чистое.
— Фу ты! Ты, дедушка, глухой. Ты, дедушка, не велишь мне говорить неправду, а сам обманываешь. Он летит, чтобы сбросить на этот домик бомбу, и у меня головы не будет.
Она исступленно рыдала.
— Вот пожар, детишки валяются…
Красноармеец гладил ее головку, и она заснула, все так же обняв красноармейца и винтовку, по-детски жалобно всхлипывая во сне.
Красноармейцу было неудобно сидеть, но он не шевелился, чтобы не потревожить ребенка. Тени стали короче. Красноармейцы, согнувшись, сидели молча, держа винтовки между колен. Постарше — у него на висках уже пробивалась седина — сказал:
— Вот что страшно: мы начинаем привыкать, ко всему привыкать, — дескать, война, и что ребята валяются — тоже, мол, война.
— Ну, к этому не привыкнешь.
— То-то, не привыкнешь… Думаешь, только те дети несчастны, что в крови валяются? Нет, брат, немецкие зверюги ранили все нынешнее поколение, ранили в душу, у них в сердце рана. Понимаешь ты, все эти немцы вместе с Гитлером сгниют в червях, и все. А у детишек наших, у целого поколения, рана останется.
— Ну, так что же делать-то?
— Как чего делать! Горло рвать зубами, не давать ему передыху. Их сегодня штук пятнадцать было, а сбили только один. Это как?
— Зенитки на то есть.
— Зенитки есть… Сопли у тебя под носом есть… Из винтовки бей, приучись, приучи глаз. Что же, мало, что ли, наши их из винтовок сбивают?.. Есть у тебя злость — собьешь. Вот малышка маленькая учит тебя, прибежала, а ты: «Зенитки».
У всех глаза были жестко прищурены и губы сжаты, точно железом их стянуло. Помертвело. Один красноармеец привстал, замахал рукой. Конный патрульный, ехавший по степи, привернул к переезду. Еще он не подъехал, а красноармеец закричал:
— Здорово мост разбомбили?
Патрульный молча слез с лошади и, кинув поводья на столбик, присел в тени, повозился в шароварах, достал мятую бумажку, расправил на коленях и молча протянул соседу. Сосед с готовностью насыпал ему табачку. Он с наслаждением затянулся и сказал:
— Мост целехонек. Давеча из-за дыма его не видать было. Самый пустяк колупнули при въезде. А вечером поезд пойдет.
— Ого-го, здорово!
Глаза повеселели.
— Я говорю: они, сволочи, и бомбить не умеют.
Патрульный сдунул пепел.
— Мост-то они не умеют бомбить, а вот поселок рабочий весь дочиста сожгли. Народу погибло, ребятишек… Сейчас все ковыряют в углях. Обгорелые трупы тягают. Кур, гусей, коров.
— Чего не разбежались?
— Они, зверюги, чего делают: все самолеты летают по краю поселка и зажигают, а потом — середину. Крыши соломенные, везде солома, сено, плетни — как порох, вспыхнет, и бежать некуда. В конце и посреди — огонь.
Девочка проснулась, протерла глазки и сказала:
— А пожар?
— Пожар сгас.
— А детишки?
Патрульный только было рот раскрыл, красноармейцы разом загалдели:
— Никого не тронули, все в вербы убежали, к речке.
Девочка шлепнула в ладоши и сказала:
— Дедушка, я кушать хочу.
Красноармейцы завозились, раскрыли свои мешки. Кто протянул ей белый сухарь, кто — кусочек сахару. У одного конфетка нашлась. Маленькая сидела на скамейке, болтала ножками и по-мышиному похрустывала белым сухарем. Красноармеец сказал, ни к кому не обращаясь:
— Теперь бы в атаку пойти!
Все молчали.
Составитель махал нам флажком.
— Никитин, садитесь во второй от хвоста вагон, на сене выспитесь.
О. Берггольц
ЛЕНИНГРАД — ФРОНТ
Я расскажу вам, товарищи, о нашем Ленинградском фронте.
С неделю назад я была на одном из ближних подступов к Ленинграду, в полку, которому военный совет вручал в тот день гвардейское Знамя.
Мы ехали по весеннему утреннему Ленинграду. Он весь был озарен теплым солнцем, он был, к счастью, очень тихий, совсем безлюдный и неизменно красивый.
У моста, рядом с большим недымившим заводом, наши документы попросил первый пикет. Пока красноармейцы проверяли документы моих товарищей, я разглядывала высокий заводской забор: он был кое-где пробит осколками снарядов и весь сплошь покрыт плакатами, воззваниями и листовками. Мне подумалось, что, может быть, уже сейчас этот забор надо бережно, так, весь целиком, и перенести в музей, а люди будущего с благоговением будут останавливаться перед ним, как перед вечно живым куском истории.
Наши стены шепчут, бормочут, кричат: да, прямо на стенах пишется то, что должны знать граждане, в чем нужно их предупредить, чему нужно научить их.
Повсюду натрафаречены некрупными буквами правила, как уберечься от гриппа; стены Невского проспекта советуют: «Держите ноги в тепле и сухими…», «При повышенной температуре немедленно идите к врачу…».
Но больше всего надписей о том, как надо обращаться с огнем, о борьбе с пожарами, о предотвращении их. Уже по одним только надписям этим человек, приехавший в Ленинград, может понять, как грозен был огонь городу в эти годы. Наверное, когда-нибудь эти надписи будут не очень понятны приезжим, наверное, когда-нибудь мы сами удивимся, увидев, что на Литейном, на доме, где когда-то жил Некрасов, начертано: «Не ходите по лестницам с горящей лучиной, с бумажными жгутами и тряпками».
Одна кирпичная стена на Международном огромными буквами кричит почти гекзаметром:
«Не оставляйте детей возле горящих коптилок!»
Сколько бедствий сразу встает за этими строчками, начертанными прямо на стенах огромного, цивилизованного, прекрасного современного города?
А частные объявления на деревянных укрытиях?
Довольно долго на щите, закрывающем витрину одного когда-то богатого магазина на площади Льва Толстого, висело такое объявление: «Всем гражданам! Отвожу ихних покойников на саночках до кладбища и другие бытовые перевозки…»
«За ненадобностью продается легкий гроб…»
Целая драматическая, необычная повесть кроется за этим бытовым объявлением.
Да, стены наших домов — это как бы открытый каменный дневник, дневник всего города, дневник каждого из нас, ленинградцев, Мы, конечно, еще не в состоянии оценить и даже просто прочесть его. Но давайте прочтем хотя бы две его страницы.
Подойдя к стене своего дома, товарищ, где рядом наклеены прошлогодние и сегодняшние листовки и плакаты, — пробеги их глазами, и сколько чувств заговорит в тебе!
Ты непременно увидишь на стене своего дома уже слегка пожелтевшее от осенних дождей, покоробленное от зимних морозов воззвание. Женщины и подростки торопливо, расклеивали его в сентябре 1941 года. Суровые, трепетные слова на этом желтом листе:
«Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!
Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть в Ленинград… Ленинград стал фронтом. Враг у ворот».
А рядом с этим воззванием — другие, наклеенные с неделю назад: «Ленинградцы — на огороды!», «Ленинградец, помни: если ты обработаешь и засеешь 15 сотых га, ты получишь капусту, ты получишь редиску, лук, морковь… Этого вполне хватит, чтобы обеспечить свою семью овощами на весь год».
Вот- две страницы твоего дневника, ленинградец. Между ними год войны, из них десять месяцев блокады.
И первая страница — первое воззвание — напомнит о том, какими был мы все в августе — сентябре 1941 года, когда враги бешено рвались в Ленинград.
Мы жили тогда напряженной, почти неистовой жизнью. Кто мог поручиться, что будет с ним завтра, что будет со всем городом? Быть может, завтра, быть может, через час придется драться с врагом на этих самых улицах возле этого плаката — «Враг у ворот»; быть может, придется пасть под ним.
И мы жили только этим. Никто не думал о своем завтрашнем дне, никто не заглядывал в будущее. Все силы были отданы тому, чтоб сегодня, сейчас остановить врага, не пустить его в город.
И враг был остановлен.
Рядом с этим пожелтевшим воззванием — вторая страница дневника — листовка об огородничестве. Она говорит о том, что ты не боишься близкого и свирепого врага. Выстояв в сентябре, теперь-то ты наверняка знаешь, что никогда немцы города не возьмут. И ты живешь будущим. Ты работаешь не только для сегодняшнего дня, но и впрок. Ты стал другим: увереннее, выносливее, храбрее. А главное — ты заново научился жить обычной человеческой жизнью в городе, который десять месяцев назад стал фронтом и по сей день остается фронтом.
…В то утро, когда мы ехали на передний край Ленинградского фронта, наши командировки первая военная застава проверяла у ворот большого завода еще в черте города. Это был «мой» завод. Я проработала здесь в комитете комсомола несколько лет подряд. Глядя на знакомые корпуса и здания, я вдруг совсем по-новому вспомнила молодость, горячие дни первой пятилетки. Товарищи, помните, ведь мы все тогда называли по-военному. Заводские ночи, исполненные мирного созидательного труда, мы почему-то называли «штурмовыми ночами»; комсомольские группы, торопившие заказ, именовали «боевыми постами» и непрестанно повторяли: «Мы боремся на фронте индустриализации… Наш завод — форпост фронта социалистического строительства».
Отсюда начинается теперь настоящий фронт.
«И вечный бой! Покой нам только снится, — сквозь мглу и пыль…»
А сразу от завода по обе стороны шоссе под просторным небом возвышаются высокие новые дома. Они красивы, огромны, они соединены арками, их украшают стройные колонны и статуи на крышах. Каменщики и штукатуры, возводившие их, говорили о себе:
«Мы боремся на фронте жилищного строительства».
«Фронт быта», — называли мы эти арки, эти широкие, мирные дворы с фонтанами и клумбами. «Фронт культуры».
Теперь от дома к дому, пересекая улицу, возведены баррикады, надолбы, ежи, завалы. Вторая застава проверяет наши командировки.
Да. Этот завод, эти недостроенные дома, этот садик в августе прошлого года стали фронтом не в переносном, как в мирное время, а в буквальном — в грозном, бедственном и мужественном — значении этого слова. Это все еще город, городские улицы, — и это уже фронт. Мы ехали менее часа, и вот мы почти на передовой линии фронта, в полку, которому будут вручать сейчас гвардейское Знамя, завоеванное им здесь, на этом фронте, этой зимой.
Тяжелое, огромное испытание стояло перед полком, и он с честью вышел из него. Он не пустил врага в Ленинград, удержал свои рубежи.
Суровую зиму перенесли все ленинградцы и, так же как гвардейцы, с честью вышли из испытания, потому что удержали все свои рубежи. Это особые рубежи. Это рубежи жизни.
И когда наступила весна, всей стране, всему миру и, главное, нам самим стало ясно, что Ленинград, коченевший от стужи, жаждавший, голодавший, видевший на улицах своих бесчисленные гробы, город, где объявления о перевозках трупов на саночках — быт, — этот Ленинград — город неугасимой, торжествующей жизни.
Разве не торжество жизни, что именно в Ленинграде только одно ремесленное училище обучило этой зимой и отправило за кольцо на предприятия страны более пятисот молодых умелых мастеров? Пожалуй, лишь мы сами сумеем вполне оценить то, как учились работать голодающие, зябнущие ребята, в то время как руки их примерзали к металлу и зубы шатались во рту, как у стариков… Но они выучились мастерству за зиму, и этой весной Ленинград снова дал стране питерские, ленинградские кадры рабочего класса.
А одна табачная фабрика освоила за зиму четырнадцать совершенно различных и несвойственных ей производств, и в том числе научилась изготовлять превосходный сульфидин, красный и белый стрептоцид…
Да, смерть глядела этой зимой в самые наши зрачки, глядела долго и неотрывно. Но она не смогла загипнотизировать нас, как гипнотизирует удав намеченную жертву, обезволивая ее и покоряя. Фашисты, заславшие к нам смерть, опять просчитались. Мы люди, а не кролики. Мы гордые люди, люди, любящие жизнь, мы не уступали смерти без боя ни одной пяди: вот в разгар ее безумия мы даже изобретали лекарства, мы лечились и лечили друг друга и отвоевали тысячи и тысячи людей, уже обреченных на гибель.
И это есть торжество жизни, хотя жертвы наши и очень велики.
А разве не торжество жизни, что Публичная библиотека наша — одно из величайших книгохранилищ мира — работала в Ленинграде всю эту зиму?!
Да, в библиотеке на абонементе было всего два фонаря «летучая мышь», и от книг веяло смертным холодом. Но в этой тьме работники библиотеки подбирали книги для госпиталей и библиотек-передвижек. В библиотеку приходили запросы на узбекские книги, на грузинские, татарские — для бойцов грузин, татар и узбеков, для бойцов многих других национальностей, которые защищают Ленинград.
Какие только запросы не приходили в Публичную библиотеку!
Ведь в осаде стали проблемой простейшие вещи, например добывание огня. Раньше спички привозили к нам из области, а теперь… И вот в Публичную библиотеку поступает запрос: как организовать производство кремешков для зажигалок? Как наладить производство спичек? Свечей? Белковых дрожжей? И множество, множество таких же необходимых для обороны, для жизни города вещей… И сотрудники библиотеки тщательно, по-военному оперативно подбирали литературу — по спичкам, по свечам, по дрожжам…
Сплошь и рядом оказывалось, что новейшие пособия не годятся для Ленинграда — просто нет возможности поставить производство в блокаде по-современному. Тогда подыскивались старинные книги, книги XVIII века, обучавшие примитивному изготовлению хотя бы тех же свечей — «как катать свещи», — и это-то как раз и подходило к нашим блокадным условиям и немедленно применялось. Что ж, лучше XVIII век, чем каменный! Оказывалось, например, что такая вещь, как современная спичка, требует для своего изготовления до семидесяти одной различной химикалии. Нет такого количества химикалий в осаде! Тогда разыскивалась старая литература, литература эпохи рождения самой первой спички, и производство ставилось по ней; мы знаем наши спички — зажигаются они, конечно, с применением физического труда, но уж лучше такие, чем совсем никаких. А на книжечке с такими спичками нарисовано даже здание Адмиралтейства и напечатаны стихи!
Так мирное книгохранилище участвовало в обороне города, в защите основ цивилизации, ни на один день не прекращая главной своей работы.
За эту зиму много частных библиотек осталось без хозяев, осиротело… Казалось бы, не до книг в городе, терпящем такое бедствие. Но работники Публичной библиотеки не дали погибнуть осиротевшим, оставшимся без защиты книгам: на саночках, а весной на детских мальпостах, совершая огромные концы пешком, качаясь от слабости и тяжелого груза, возили они выморочные библиотеки в свой фонд и спасли для будущих поколений сотни, тысячи книг, рукописей, архивов…
Ленинградцы мыслили, творили, дерзали, то есть дрались за жизнь на всех ее рубежах.
Это было очень тяжело, но ни с единого рубежа жизни мы не отступили. Мы совсем по-новому поняли, что жизнь — это деятельность и что, как говорят у нас, «раньше смерти помрешь», если перестанешь трудиться.
И в те же дни, когда гвардейцы принимали Знамя, тысячи ленинградцев, подобно им, принимали из рук Родины награды, которые мы вправе считать наградами фронтовыми…
Полк принимал Знамя в бою.
Гвардейцы стояли на маленькой поляне среди бедных, еще почти не одетых травою бугров, под холодным северным ветром, а за ними, в синеватой дымке, виднелись нежные контуры Ленинграда.
Каким отсюда строгим и спокойным казался он! Покой и тишина…
— Что в городе? — спросил меня полковник.
И я ему ответила:
— Война!
И вот командир полка берет из рук члена военного совета багряное гвардейское Знамя. Командир высоко поднимает его над головой и показывает всему полку: смотрите, гвардейское Знамя в наших руках; это Знамя — знак великого доверия Родины. И командир опускается перед Знаменем на колено и благоговейно целует край его.
Вместе с ним преклоняет колена весь полк.
— Мы клянемся, — говорит командир.
И гвардейцы одним голосом повторяют за ним:
— Клянемся!..
Гвардейцы клянутся Знамени и стоящему за ними Ленинграду в незыблемой верности, в священной ненависти к врагу. Немцы еще у ворот Ленинграда. Но они не войдут в город. В этом клянутся гвардейцы, и клятву их подтверждает орудийный салют; это не простой салют, а огневой залп по заранее разведанной цели — по вражеским батареям. Еще несколько варварских батарей, швыряющих снаряды в наш город, уничтожены этим гвардейским салютом.
Много нового труда пришло с весною.
Тысячи ленинградцев трудятся на огородах, возделывают и засеивают землю, ждут от нее благодарного и обильного урожая и знают, что этот урожай они обязательно снимут, — это будет осенью, в августе — сентябре 1942 года. Этот урожай поможет нам также справиться с цингой. Надо думать, к осени мы добьем цингу.
Оркестр радиокомитета начал репетировать Седьмую симфонию Шостаковича. Через месяц-полтора в открытом дневнике города, на его стенах, появится новая страница — афиша, извещающая о первом исполнении Седьмой симфонии в Ленинграде. Эта афиша будет висеть рядом с пожелтевшим прошлогодним воззванием «Враг у ворот»… Прошлогодним? Нет, сегодняшним! Ведь враг все еще у ворот — враг на улице Стачек, рядом! Больше того — мы знаем, что он не оставил своей бредовой идеи взять Ленинград… Мы должны быть готовы к тому, что, может быть, нам предстоят новые тяжелые испытания…
Поэтому с тою же силой звучат слова прошлогоднего воззвания: «Пусть каждый ленинградец ясно осознает, что от него самого, от его поведения, от его работы, от его готовности жертвовать собою, от его мужества зависит во многом судьба города — наша судьба. Враг у ворот! Ленинград стал фронтом!»
3 июня 1942 г.
НАША ПОБЕДА
Дорогие товарищи, послезавтра мы будем встречать новый, 1943 год. Второй Новый год встречаем мы в блокаде.
Воспоминание о той, прошлогодней, встрече, то есть о ленинградском декабре сорок первого года, — это воспоминание еще так жгуче болит, что к нему тяжело и страшно прикасаться. Не надо же сегодня вспоминать сумрачные подробности тех дней. Вспомним, товарищи, только одну подробность: вспомним, что мы, несмотря ни на что, и тот Новый год встречали с поднятой головой, не хныча и не ноя и, главное, ни на минуту не теряя веры в нашу победу.
И вот прошел год. Не просто год времени, а год Отечественной войны, год 1942-й, а для нас еще триста шестьдесят пять дней блокады.
Но совсем по-иному встречаем мы этот новый, 1943 год.
Наш быт, конечно, очень суров и беден, полон походных лишений и тягот. Но разве можно сравнить его с бытом декабря прошлого года? В декабре прошлого года на улицах наших замерло всякое движение, исчез в городе свет, иссякла вода, да… много чего исчезло и много чего появилось тогда на наших улицах…
А сейчас все-таки ходят трамваи — целых пять маршрутов! Сейчас поет и говорит радио, в два наши театра и в кино не пробьешься, целых три тысячи ленинградских квартир получили электрический свет. И, несмотря на то что нашему городу за этот год нанесено много новых ран, весь облик его совсем иной, чем в прошлом году, — несравненно оживленнее, бодрее. Это живой, напряженно трудящийся и даже веселящийся в часы отдыха город, а ведь блокада-то все еще та же, что и в прошлом году, враг все так же близок, мы по-прежнему в кольце, в окружении.
Да, за год изнурительной блокады наш город и все мы вместе с ним не ослабли духом, не изверились, а стали сильнее и уверенней в себе.
С точки зрения наших врагов, произошла вещь абсолютно невероятная, невозможная, и причины этого они понять не в состоянии.
Еще 30 января 1942 года, то есть почти год назад, выступая перед своей шайкой, Гитлер заявил: «Ленинград мы не штурмуем сейчас сознательно. Ленинград выжрет самого себя». В новогоднем своем приказе, к 1 января 1942 года, в приказе по войскам, блокирующим Ленинград, он благодарил своих солдат «за создание невиданной в истории человечества блокады» и нагло заявлял, что «не не позднее, чем через три-четыре недели, Ленинград, как спелое яблоко, упадет к нашим ногам…»
Подвергая город страшнейшим лишениям и пыткам, враг рассчитывал, что пробудит в нас самые низменные, животные инстинкты. Враг рассчитывал, что голодающие, мерзнущие, жаждущие люди вцепятся друг другу в горло из-за куска хлеба, из-за глотка воды, возненавидят друг друга, начнут роптать, перестанут работать — и в конце концов сдадут город. «Ленинград выжрет самого себя». Но мы не только выдержали все эти пытки — мы окрепли морально. Они не понимают: в чем же дело? Они не понимают, что мы русские люди, мужавшие при Советской власти, люди, уважающие и любящие труд. За двадцать четыре года Советской власти мы накопили огромный опыт коллективной жизни и коллективного труда. Этот творческий коллективный труд называем мы строительством социализма. И весь наш народ, от детей до стариков, был одержим одной мечтой, был захвачен строительством социализма, и мы работали, отдавая ему все свои силы; да, мы ошибались, мы перегибали иногда, но как прекрасен и велик был этот наш труд и как в процессе его рос и хорошел человек! И вот в Ленинграде, в тяжелейших условиях блокады, под пытками фашистских палачей, русский, советский человек не утратил своих навыков и черт, а наоборот, эти черты, черты социалистического человека, труженика, стали еще четче, окрепли, как бы вычеканились на благородном металле.
Нередко приходится слышать жалобы: «Ох, ну и народ у нас стал — черствый, жадный, злой». Неправда. Это неправда! Конечно, не все выдержали испытание; конечно, есть люди очерствевшие, впавшие в мелкий, себялюбивый эгоизм, но их ничтожное меньшинство. Если б их было много, мы бы просто не выдержали, расчеты врага оправдались бы.
Взгляни себе в сердце, товарищ, посмотри попристальней на своих друзей и знакомых, и ты увидишь, что и ты, и твои друзья за трудный год лишений и блокады стали сердечнее, человеколюбивее, проще. Вспомни хотя бы то, сколько раз ты сам делился последним своим куском с другим, и сколько раз делились с тобой, и как вовремя приходила эта дружеская поддержка.
Вот в январе этого года одна ленинградка, Зинаида Епифановна Карякина, слегла. Соседка по квартире зашла к ней в комнату, поглядела на нее и сказала:
— А ведь ты умираешь, Зинаида Епифановна.
— Умираю, — согласилась Карякина. — И знаешь, Аннушка, чего мне хочется, так хочется, — предсмертное желание, наверное, последнее: сахарного песочку мне хочется. Даже смешно, так ужасно хочется.
Соседка постояла над Зинаидой Епифановной, подумала, вышла и вернулась через пять минут с маленьким стаканчиком сахарного песку.
— На, Зинаида Епифановна, — сказала она. — Раз твое такое последнее желание перед смертью — нельзя тебе отказать. Это когда нам по шестьсот граммов давали, так я сберегла. На, скушай.
Зинаида Епифановна только глазами поблагодарила соседку и медленно, с наслаждением стала есть. Съела, закрыла глаза, сказала: «Вот и полегче на душе» — и уснула. Проснулась утром и… встала.
Верно, еле-еле ходила, но ходила.
А на другой день вечером вдруг раздался в дверь стук.
— Кто там? — спросила Карякина.
— Свои, — сказал за дверью чужой голос. — Свои, откройте.
Она открыла. Перед ней стоял совсем незнакомый летчик с пакетом в руках.
— Возьмите, — сказал он и сунул пакет ей в руки. — Вот, возьмите, пожалуйста.
— Да что это? От кого? Вам кого надо, товарищ?
Лицо у летчика было страшное, и говорил он с трудом.
— Ну, что тут объяснять… Ну, приехал к родным, к семье, привез вот, а их уже нет никого… Они уже… они умерли! Я стучался тут в доме в разные квартиры — не отпирает никто, пусто там, что ли, — наверное, тоже… как мои… Вот вы открыли. Возьмите… Мне не надо, я обратно на фронт…
В пакете была мука, хлеб, банка консервов. Огромное богатство свалилось в руки Зинаиды Епифановны. На неделю хватит одной, на целую неделю!.. Но подумала она: съесть это одной — нехорошо. Жалко, конечно, муки, но нехорошо есть одной, грех. Вот именно грех — по-новому, как-то впервые прозвучало для нее это почти забытое слово. И позвала она Анну Федоровну, и мальчика из другой комнаты, сироту, и еще одну старушку, ютившуюся в той же квартире, и устроили они целый пир — суп, лепешки и хлеб. Всем хватило, на один раз, правда, но порядочно на каждого. И так бодро себя все после этого ужина почувствовали.
— А ведь я не умру, — сказала Зинаида Епифановна. — Зря твой песок съела, уж ты извини, Анна Федоровна.
— Ну и живи! Живи!. — сказала соседка. — Чего ты… извиняешься? Может, это мой песок тебя на ноги-то и поставил. Полезный он: сладкий.
И выжили и Зинаида Епифановна, и Анна Федоровна, и мальчик. Всю зиму делились — и все выжили.
Я могу рассказывать о таких случаях еще и еще и знаю, что и мне могут долго рассказывать об этом, и мы наберем тысячи примеров братской поддержки людей. И каждый, я знаю, насчитает в своей жизни не один такой пример.
Мы поняли: выжить мы сможем только держась друг за друга, только помогая друг другу. И вот в чернейшие месяцы блокады в Ленинграде по инициативе комсомолок Приморского района рождается благороднейшее, человеколюбивейшее движение, которое скромно именует себя «бытовым движением»; тысяча комсомолок совершенно бескорыстно идут по квартирам к наиболее ослабевшим людям с посильной помощью и возвращают к жизни десятки тысяч женщин, детей, стариков, уже обреченных врагом на гибель.
Ты знаешь их, товарищ, этих бесстрашных, простых великодушных девушек, быть может, и тебе они помогли, как множеству других… Но об этом прекрасном подвиге нужно говорить особо и много…
Я сказала, что мы стали человеколюбивее. Но это вовсе не значит, что стали мы этакими добренькими, сладенькими, всепрощающими. Сурово и взыскательно ленинградское человеколюбие.
Этим летом на Невском я видела такую картину: лежит на панели, закрыв лицо шапкой, подросток и навзрыд плачет. А рядом стоят две женщины. У одной из них он хотел стащить карточки, но вторая заметила это, задержала его и вот сейчас, стоя над ним, стыдит его:
— Ты что же, зверь, хотел сделать? Ты ее хотел жизни лишить! Ты о себе подумал, а о ней? Нет, как ты смел об одном себе думать!
— Отстань, ты! — корчась от стыда, кричит из-под шапки парнишка. — Я вот пойду под трамвай брошусь, умру…
— Ну и умирай! — крикнула ему женщина. — Умирай, если ты один жить хочешь!
Так, вопреки попыткам врага посредством страшных испытаний разобщить нас, поссорить, бросить друг на друга, мы, наоборот, сплотились, стали единым трудовым коллективом, единой семьею. Потому-то и встречаем мы этот Новый год в тепле и при свете, потому-то и смотрим в будущее уверенно и трезво.
Враг стремился пробудить в нас зверей, разжечь в нас животную жадность к существованию и в то же самое время хотел убить в нас любовь к жизни, волю к ней.
Но, оставшись людьми, мы не разлюбили, а еще больше полюбили жизнь. Мы полюбили ее до высшего предела этой любви, до презрения к смерти.
В городе, обстреливаемом и бомбардируемом, во вражеском окружении мы научились любить и ценить каждую минуту жизни, каждую ее, даже самую простую, радость. О, как оценили мы, что значит домашнее гнездо, что значит уют и тепло, как мы стремимся к нему, как, несмотря ни на какие разрушения, хозяйственно и основательно переселялись и устраивались в эту осень ленинградцы — даже вставляли стекла, даже оклеивали комнаты новыми обоями! Но в то же время сознание ленинградца свободно от жалкого страха за свои вещи: над ленинградцем нет деспотической власти вещей, и с пренебрежением говорит он о людях, трясущихся над своим добром. Был бы жив город, был бы трудоспособен и боеспособен весь его коллектив, а отдельный человек в этом хорошем, дружном коллективе найдет себе место. Остаться бы человеком, достойным города; хорошо, если бы повезло — и не покалечило снарядом, а вещи — дело наживное.
Враг думал, что у нас опустятся руки, что мы перестанем трудиться — и все развалится и рухнет. Но у нас появилась какая-то невиданная неутомимость в труде. Ведь это же факт, что почти каждый ленинградец кроме основной своей профессии освоил еще и ряд других — не только на производстве, но и в быту. Тысячи и тысячи из нас стали квалифицированными огородниками, печниками, стекольщиками, лесорубами, водопроводчиками, трубочистами, не гнушаясь никаким трудом, раз это нужно для жизни. А главное — во всем этом наша огромная победа над врагом, наше торжество над человеконенавистниками, стяжателями, палачами фашистами. Мы победили их, победили морально — мы, осажденные ими!
Потому и подходим мы к встрече сорок третьего года более сильными, чем в прошлом году. А радостные вести об ударах, которые наносит наша славная армия немецким захватчикам, гоня их от Сталинграда, наполняют сердца счастьем, и легче становится переносить нам наши трудности, и легче работается, и так хочется самому, физически, своими руками помочь далеким от нас армиям скорее вернуть многострадальной нашей Родине мир и покой.
Дорогие товарищи, послезавтра мы будем встречать новый, 1943 год. Многих из тех, кто встречал с нами прошлый новый год, родных и близких нам людей, не будет с нами на этой встрече. Священен для нас их облик, незабвенна прекрасная их память. И все же давайте сядем за наш небогатый праздничный стол со светлым сердцем, радостно поздравим друг друга с Новым годом и пожелаем друг другу нового счастья — счастья полной победы над проклятым Гитлером…
29 декабря 1942 г.
Л. Пантелеев
ЖИВЫЕ ПАМЯТНИКИ
Володя
Когда я познакомился с ним, ему еще не исполнилось полных девятнадцати лет. А может быть, и исполнилось. Сейчас я не помню. Выглядел он действительно совсем мальчиком.
Довоенная биография его ничем не примечательна. Учился. Увлекался и шахматами, и радио, и спортом, конечно. Был, как полагается, ярым болельщиком, не пропустил ни одного мало-мальски значительного матча, «обожал» поочередно Ильина, Бутусова, Пеку Дементьева. В дошкольные годы гонял с товарищами по двору набитый бумажками тряпичный мяч, потом узнал радость удара по настоящему кожаному мячу, а с шестого класса и до последнего стоял бессменно в воротах школьной команды, заслужив в результате славу лучшего голкипера района… Были и другие увлечения. Бокс. Лыжи. Последнее время — велосипед. Конечно, машина, которой он владел, была — опять-таки как полагается — сборная: колеса — пензенские, рама и руль — украинские, звонок и фонарик — BSA[3].
Весной сорок первого года он перешел в десятый, последний класс. Война застигла его на даче, в Кавголове. Он переживал очередное увлечение: продал в комиссионном приемник, купил за четыреста двадцать рублей старую, полуразбитую лайбу, отремонтировал ее, оснастил самодельным парусом и, переименовав свое судно в яхту, с утра до ночи бороздил на ней бурные воды маленького чухонского озера. На бортах лодки белым по синему было выведено ее название: «Лида». Тайну этого посвящения молодой человек мне открыл, но обнародовать ее я не был уполномочен.
Этим летом в тихом и буколическом Кавголове было, против обыкновения, очень шумно. Здесь проводили свой очередной учебный сбор лесгафтовцы, студенты Ленинградского института физической культуры. Сначала молодой человек не без зависти поглядывал на быстроходные, шикарно оснащенные гоночные яхты, откуда ему кричали: «Эй, на калоше, бери право руля!», потом даже поссорился с несколькими студентами, потом помирился, а под конец завязалось у него с некоторыми из них даже что-то вроде дружбы.
Студенты проходили обычную летнюю практику, но в воздухе уже пахло порохом, и в этом году занятия были максимально военизированы, сбор проводился под оборонным лозунгом: «Если завтра война — будь сегодня к походу готов!».
Лето поначалу было холодное, пасмурное и дождливое. Наконец наступил первый по-настоящему летний день — воскресенье 22 июня. Оказалось, что это уже и есть «завтра».
Началась война.
Володя вернулся в город. Брат его ушел в ополчение. Пытался и Володя со своим школьным товарищем записаться — их не взяли. Мальчикам пришлось удовольствоваться скромным званием бойцов домовой группы самозащиты. Целыми днями просиживали они на крыше и, нечего греха таить, ждали и дождаться не могли появления первого вражеского самолета.
А потом, когда вражеских самолетов в ленинградском небе стало немножко больше, чем это требовалось для утоления мальчишеского любопытства, когда начались бомбежки и пожары, отыскалась и для ребят работа: Володя один потушил и обезвредил одиннадцать зажигательных бомб. Нет, в этом не было ничего выдающегося и героического — это было занятие, которым «болели» теперь все ленинградские ребята.
Впрочем, и все дальнейшее в Володиной судьбе тоже очень обыденное, — конечно, на нашу, ленинградскую, блокадную мерку.
Немцы стояли у стен города.
Занятия в школах прекратились. Володя с тем же своим школьным товарищем пошел работать на завод медицинского оборудования. Теперь это оборудование стреляло и убивало — завод переменил профиль. Однако блокада уже замкнулась. В городе иссякло топливо. Через полтора месяца завод, как и многие другие предприятия, был законсервирован.
Если можно об этом говорить коротко, все, что выпало на долю каждого из нас, выпало и на Володину долю. Умер от голода отец. Умерла сестренка. Умер товарищ его. И, может быть, самое горькое — умерла Лида.
Тянулась бесконечная черная ленинградская блокадная ночь, холодная и голодная, и не было бы в ней ни проблеска, ни просвета, если бы не вера в победу, которая, кажется, одна согревала и поддерживала изнуренных, обескровленных, потерявших облик человеческий людей…
Человек умирает
Володя уже давно из мальчика превратился в мужчину. Но что это был за мужчина — худой, изможденный, «Кащей», как подумал он сам, увидев себя случайно в магазинном зеркале. За два месяца он потерял четырнадцать кило. Он получал сто двадцать пять граммов хлеба в день, ел дуранду, студень из сыромятной кожи, столярный клей. От цинги у него распухали попеременно то ноги, то лицо, гноились и кровоточили десны.
С утра до ночи и с ночи до утра лежал он, укрытый двумя одеялами, своим пальто и пальто покойного отца. Он чувствовал, что умирает, и мысль эта его уже не пугала, а пугало только то, что это медленное умирание может продлиться еще долго.
О том, что происходит за стенами его комнаты, за глухими забитыми фанерой окнами, он уже не знал. Слышал, как воют вражеские бомбы, как трещат соседние дома и звенят осколки стекол, и ни о чем не думал, а только морщился и закрывал глаза.
Мать держалась дольше других, но в середине января слегла и она.
На четвертый день пришел врач, такой же, как и все, бледный и худущий, и сказал, что ничего особенного, самая обыкновенная сердечная слабость на почве общего истощения. Для поддержания деятельности сердца неплохо бы пить крепкий чай.
Хорошо сказано — чай! А где его взять, этот чай?
У Володи на Петроградской стороне жила тетка. И вот он решился на подвиг: восстал с одра и отправился на Большую Посадскую — разыскивать тетку, чтобы узнать, не найдется ли у нее щепотки чаю.
Это путешествие, которое в прежнее время заняло бы двадцать — тридцать минут, превратилось теперь в настоящую одиссею.
Он шел медленно, не узнавая обезлюдевших улиц, часто останавливался, тяжело дышал.
Руки и лицо у него, как никогда раньше, мерзли. Сделав сотню шагов, он присаживался отдохнуть на ступеньку подъезда или заходил в полутемные опустевшие магазины погреться.
Через два с половиной часа он добрался до Петропавловской крепости, в парке у памятника «Стерегущему» присел на скамейку и понял, что дальше идти не может.
Встреча у «Стерегущего»
Он не помнит, как долго он просидел на этой скамейке: может быть, час, может быть, больше…
Он был уверен, что это уже конец, что если не суждено ему было умереть дома, в постели, то, значит, он умрет здесь, под открытым небом. Так бы, конечно, и случилось, если бы не добрый гений, который явился к нему в облике высокого и сухопарого парня в стеганом армейском ватнике и выцветших лыжных шароварах.
Этот добрый дух не принес Володе скатерти-самобранки, не накормил его хлебом и мясом; он сделал, пожалуй, гораздо больше…
Поминутно останавливаясь и переводя дыхание, парень брел по парковой дорожке.
Мельком взглянув на Володю, он прошел мимо, потом оглянулся, вгляделся и, подойдя к скамейке, назвал мальчика по фамилии.
Володя не узнал его.
— Ты что, уж забыл? Ведь это ты в Кавголове на «Лиде» с простынкой вместо паруса ходил?
Володя напряг память и узнал молодого человека. Это был один из студентов-лесгафтовцев.
Узнать его было трудно: из-под кожаного летчицкого шлема торчал длинный костлявый нос, глаза завалились, лицо потемнело и осунулось.
Присев на скамейку, парень спросил у Володи, где он сейчас работает.
Володя ответил, что нигде не работает.
— Учишься?
— Нет.
— А что делаешь?
Володя пожал плечами.
— Спортом-то хоть занимаешься? На лыжах стоять можешь?
— Смеешься? — обиделся Володя. — Я ноги еле таскаю. Пятый день одним клеем питаюсь.
— Клеем! Вот это интересно! А я, ты думаешь, что — бифштексы кушаю?
Володя искоса взглянул на собеседника. Нет, пожалуй, можно было поспорить, что бифштексов он не кушает.
— Ты комсомолец? — спросил студент.
— Комсомолец, — ответил Володя.
— Спортсмен?
— Был, — ответил Володя.
— Так вот что я тебе скажу: стыдно, парень! Очень даже стыдно. Скажите, пожалуйста: «Ноги еле таскаю». Таскаешь еще все-таки? А таскаешь — значит, таскай с пользой!
Володя с удивлением и даже с испугом посмотрел на студента: не спятил ли он?
— Как это — с пользой?
— А вот так… Очень просто. Ты же спортсмен. Между прочим, ты знаешь, чем ты обязан спорту? Своей жизнью! Да, да… Не смотри на меня так. Именно жизнью… Дома у тебя что, все живы?
— Отец погиб… и сестренка.
— Ну вот. Скажи, пожалуйста, ты что, лучше их питался?
— Почему лучше?
— А ведь ты жив. Они умерли, а ты — жив. Ты не задумывался, почему это так? Ты не думаешь, что велосипед, лыжи, футбол и даже твоя паршивая лайба помогают тебе сейчас жить и бороться?
— С кем бороться?
— Вот именно — с кем?
Володя опять посмотрел на студента и вдруг странно покраснел. Он сам удивился, он уже давно не краснел, ему казалось, что краснеть ему просто нечем — крови не осталось.
Лесгафтовец поднялся.
— Я работаю в городском комитете физкультуры, — сказал он. — Нам до зарезу нужны инструктора-лыжники обучать бойцов всеобуча. Приходи, я возьму тебя.
— Инструктором?
— Да. Запиши адрес.
Володя был уверен, что не пойдет в комитет.
— Ладно, и так запомню, — пробурчал он.
Студент попрощался, тряхнул Володину руку и ушел. А Володя посидел немного, поднялся, размял ноги и заковылял на Большую Посадскую, к тетке.
«Явился по вашему приказанию»
В большой коммунальной квартире он нашел только одну обитаемую комнату. Хозяин ее, человек неопределенного возраста, обросший густой черной щетиной, лежал, укрывшись шубами и одеялами, на диване. На полу, у его изголовья, лежала раскрытая книга. На дымящейся печке булькало какое-то пахнущее аптекой варево.
Человек этот слабым голосом сообщил Володе, что тетка его еще полтора месяца назад умерла. И вообще — все умерли. В квартире остался он один.
Стоя в дверях, Володя огляделся. Человек был еще не старый. В углу комнаты, под потолком, колесами вверх, висела хорошая дорожная машина.
«Эге, — подумал Володя. — Тоже колесики вертел».
— Послушайте, — проговорил он вдруг неожиданно для самого себя. — Вы чего тут валяетесь, как тюлень? В самом деле, вы же еще сравнительно молодой человек. Стыдно…
— Да? — удивился тот. — А что же ты мне прикажешь делать?
— Ну… как что? Дела много. Вы же, я вижу, физкультурник.
— Ах, вот как? Физкультурой заниматься? Я, братец мой, два дня одну морскую капусту ем.
— Это интересно! — сказал Володя. — А я, по-вашему, что — бифштексами питаюсь?
Он вышел из этой опустошенной коммунальной квартиры, спустился с пятого этажа и пошел домой. Голова у него по-прежнему кружилась, в глазах плыли круги, но шел он, как он уверял меня, бодро и до самого Невского не останавливался.
Переходя Невский, он взглянул на Думскую башню. Часы были разбиты взрывной волной, показывали какую-то несусветицу: половину первого, но было еще светло, и Володя подумал, что, пожалуй, и в самом деле еще не так поздно…
Он дошел до Аничкова моста, где когда-то стояли милые клодтовские кони, а теперь оставались лишь следы от чугунных копыт на постаменте, и свернул на Фонтанку.
Городской комитет физкультуры, как и большинство ленинградских учреждений, ютился в ту зиму в нескольких самых маленьких комнатах. Там было и холодно, и темно, и дымно от неисправной буржуйки, но было и еще что-то, что сразу бросилось Володе в глаза. Коротко говоря, это была жизнь, может быть, не такая шумная и полнокровная, какой ей полагается быть, но все-таки жизнь, а не смерть и не умирание…
Володя спросил знакомого лесгафтовца. Тот вышел, удивился, обрадовался.
— Вот это да! — воскликнул он. — Вот это я понимаю: темпы!
Володя покраснел и, чтобы не показать смущения, усмехнулся и, шутливо откозыряв, ответил:
— Явился по вашему приказанию, товарищ начальник!..
Где ты, Володя?
В феврале 1942 года Володя был зачислен в инструкторскую группу, которой руководил тогда заслуженный мастер спорта, рекордсмен Советского Союза по метанию копья Виктор Алексеев.
Володя стал «тысячником». Это значит, что он воспитал и обучил не менее тысячи бойцов-лыжников.
Обучая других, он не забывал и о собственной тренировке. В декабре сорок первого года, участвуя в трехкилометровой лыжной гонке, Володя прошел дистанцию за 14 минут 58 секунд, заняв третье место среди лыжников своего спортивного общества. Очень хорошие результаты показал он и в метании ядра, копья и диска — все эти способности обнаружились в нем неожиданно уже во время войны и блокады.
Откуда же он взял силы для всего этого?
Может быть, он стал больше есть? Да, честно говоря, чуть-чуть больше. Он получал теперь не сто двадцать пять, а двести пятьдесят граммов хлеба в день. Потом его зачислили на воинское довольствие, которое тоже не было у нас в Ленинграде таким уж шикарным.
Вот, собственно, и вся история этого ленинградского мальчика. Большего я не знаю и даже не могу, к сожалению, предпринять никаких шагов, чтобы выяснить дальнейшую Володину судьбу: по непростительной оплошности я не записал тогда его фамилии.
Во время войны я писал о Володе в одной не очень распространенной газете — он не откликнулся. Если он жив и вспомнит нашу встречу и наш тогдашний разговор, может быть, откликнется сейчас?
Напомню ему, что было это в конце января 1944 года, в очень яркий, солнечный зимний день. Мы сидели с ним на каких-то бревнах или щитах на набережной Большой Невки, недалеко от здания Сельскохозяйственного института. Тогда там стояла какая-то воинская часть, солдаты выбивали на снегу свои матрацы.
Да, я понимаю, что впереди было еще полтора года войны и всякое могло случиться.
Но как-то не верится, что этот человек, о котором мой знакомый офицер сказал — «живой памятник», этот мальчик, который был приговорен к смерти, умирал и не умер, — что он погиб и что его нет!
Не хочу и не могу поверить в это.
Где ты, Володя? Отзовись, подай голос!..
В ОСАЖДЕННОМ ГОРОДЕ (Из записных книжек 1941–1944 годов)
Первое слово
Это было ночью, в убежище. После бесконечно долгой, томительной и одуряющей тишины, оживляемой лишь тяжкими старческими вздохами, кашлем и зловещим постукиванием метронома, — вдруг весело и победительно запели фанфары, объявляя конец воздушной тревоги. И маленькая девочка, задремавшая на коленях у матери, откликнулась на эту благую весть и вымолвила слово, означавшее для нее и выход из этого мрачного холодного подземелья, и возвращение в теплую постельку, и сладкий безмятежный сон…
— Отбой! — сказала Ириночка Т.
В этот день ей исполнилось полтора года. И слово, которое она сейчас сказала, — первое слово, произнесенное ею в ее маленькой, но уже такой неудобной жизни.
1941, сентябрь.
Тотальная война
Воздушная тревога застала меня сегодня в трамвае.
Резко затормозив, вагон остановился, не доезжая остановки.
На улице, во дворах, на крышах, на балконах — безжизненно-тревожно, навязчиво и нудно, не совпадая во времени, но все на один голос — выли сирены.
Понукаемый кондукторшей, пробираюсь вместе с другими пассажирами к выходу. У выхода сидит девушка — некрасивая и ничем не примечательная ленинградская девушка в ватных штанах и в стеганом красноармейском ватнике. На выцветшем синем беретике у нее — пятиконечная красная звездочка.
Девушка читает книгу. Читает захлебываясь, переживая, с тем упоением и азартом, какой бывает лишь у детей и у немногих взрослых, сохранивших детскую восприимчивость и детскую непосредственность.
— Граждане, поторопитесь, — кричит кондукторша.
Девушка уже привстала над скамейкой, но оторваться от книги не может. Ее толкают, выталкивают на площадку, но и тут она продолжает читать и даже слюнявит машинально палец, чтобы перевернуть страницу.
Через плечо соседа заглядываю в книгу:
«Клянусь честью! — воскликнул герцог. — На вашем месте, ваше величество, я бы запретил этим коварным…»
А на соседней площади уже работают наши зенитки, уже звенят стекла, и где-то уже гудит и стонет земля под ударами вражеских фугасок.
1941, октябрь.
Дети
Центральные газеты не всегда доходят до нас, еще реже удается нам слушать московское радио; бывали дни, когда вообще радио в городе молчало: не хватало даже тех жалких гектоватт электрической энергии, без которых не может работать трансляционная сеть.
Но бывает, и до нас добирается печатное слово, и тогда мы узнаем о том, что думают и говорят о нас на Большой земле. Говорят с уважением, а часто и с восторгом, и это, конечно, приятно, лестно, вызывает подъем, придает сил и бодрости.
Однако кое-что в этих откликах и телеграммах удивляет и даже раздражает. Что же именно? А именно — чрезмерная легкость корреспондентского пера, замазывание тех трудностей, которые нас окружают и с которыми нам приходится бороться — бороться всерьез, по-военному, очень часто не на жизнь, а на смерть.
В сообщениях о нашем городе то и дело встречаешь такие фразы: «Город живет полнокровной жизнью…», «Расширяется сеть столовых и ресторанов…», «Такое-то научное общество подготовило к печати…» и так далее, и тому подобное.
А в то время когда москвичи, саратовцы, куйбышевцы, ярославцы и свердловцы читали эти бодрые строчки, в нашем огромном городе работала всего одна баня, притом не вся баня, а только мужское отделение, и мылись там мужчины и женщины вместе.
В то же время Ленинградский Совет и Совет фронта строжайшим образом обязывали каждое домоуправление установить в помещении жакта кипятильник и продавать населению кипяток по три копейки за литр.
В эти же дни у подъездов столовых и ресторанов выстраивались длиннейшие очереди, трещал мороз, над головами свистели снаряды, и под их свист люди несли в котелках и бидонах обед и ужин, приготовленные из дуранды, которая в меню и в прейскурантах именуется почему-то жмыховой массой: суп из жмыхмассы, каша из жмыхмассы, котлеты из жмыхмассы…
В городе живут вместе с нами наши дети. Их меньше, чем до войны, но все-таки много.
Город заботится о детях, город отдает им все: последнюю каплю молока, последнюю конфету.
Но молоко это суррогатное, соевое, а конфеты приготовляются из той же спасительной жмыхмассы с прибавлением некоторого количества клюквы и некоторого количества сахарина.
Детям очень трудно, гораздо труднее, чем нам, старым обстрелянным воробьям. И все-таки как хорошо, что они с нами! Что ни на одну минуту не смолкал их милый щебет, не угасала детская улыбка. Уже одним присутствием своим они украшают и согревают нашу суровую фронтовую жизнь и как бы подчеркивают — ежеминутно, на каждом шагу — великий человеческий смысл нашей борьбы.
Так в гомеровской «Илиаде» незаметный штрих — появление ребенка в эпизоде прощания Гектора с сыном у стен Илиона — превращает борьбу осажденных троянцев, из простой баталии в глубокую и волнующую человеческую, трагедию.
1942, январь.
Ежики
Рассказывала санитарка в госпитале.
Жили они всю зиму на кухне — комнату «волной разбомбило». Муж в ноябре погиб под Кингисеппом.
— Детей выходила, обогрела. Они, как ежики, около огонька сожмутся, сидят и не шевелятся.
Валя
Утром мы с ней познакомились, совершенно, как говорится, нежданно-негаданно, а после обеда были уже друзьями и гуляли рука об руку по заснеженным аллеям Каменного острова.
Ей шесть лет без двух месяцев. Зовут ее Валя.
Ленинградская девочка, почти половина жизни которой прошла в осажденном городе. В городе, где бомбы и снаряды падали на улицах чаще, чем снег или дождь. Где в зимние месяцы 1941/42 года не было ни дров, ни воды, ни электрического света. Где вымерли все кошки и собаки. Где вымерли даже мыши и птицы. Где люди не вымерли только потому, что у них была цель и надежда: дожить до победы.
Звучит это немножко выспренне, но это именно так: смерть и денно и нощно стояла у колыбели этой девочки.
Что же из нее выросло? Хилое, заморенное существо? Маленький неврастеник? Замухрышка с преждевременно потухшим взглядом, апатичная, вялая, или, наоборот, истеричная, изломанная, вздрагивающая от каждого шороха?
Да нет, ничего подобного! Девочка Валя — совершенно здоровый, живой, полнокровный и даже розовеющий ребенок.
И не только физически, но и душевно здоровый.
Это кажется странным? Неужели же эти страшные годы никакого следа не оставили в ее маленькой душе? Ну как не оставить, еще бы не оставить — оставили, конечно.
Однако не нужно забывать, что эти годы были не только страшными. Мир, в котором жила девочка Валя, был наполнен не только звоном стекла, орудийными залпами, стонами раненых и вздохами умирающих. Воздух, которым она дышала, был насыщен, как электричеством, духом великого подвига. Отвага, доблесть и героизм входили в него составной частью — вместе с азотом и кислородом.
Да! Смерть стояла у колыбели девочки Вали. Но смерти пришлось отступить, победила жизнь.
И вот эта жизнь-победительница топает в маленьких серых валеночках по тропинкам и дорожкам, без умолку тараторит, жадно горит в больших черных глазах, буйно, через край клокочет в этом крохотном, веселом и вместе с тем необыкновенно серьезном существе.
Не знаю, как для нее, а для меня это было праздником — бродить с нею по этим печальным, заброшенным и разоренным местам, слушать ее неумолкающий щебет и чувствовать в своей руке маленькую, живую, доверчивую и горячую — даже сквозь толстую варежку горячую — руку.
Все радует ее, все занимает. И скользкое бревно, по которому можно пройти, вытаращив от страха глаза и балансируя руками. И осколок зенитного снаряда. И прошлогодний кленовый лист, «как орден» распластанный на снегу. Все у нее живет, все дышит, все выглядит именно так, как ей хочется.
Поэтическое видение мира — это свойство здоровой детской души — ни на секунду ее не покидает.
Вот два тощих высоких вяза сплелись ветвями:
— Смотрите, они здороваются… обнимаются!..
— А вот раненый стоит!..
Действительно, дерево ранено. Немецкий снаряд срезал ему вершину, на сухой надломившейся ветке повисла разбитая скворечница.
Делаем еще несколько шагов и — новое событие:
— Смотрите — все равно как пуговицы на платье!..
И правда, очень похоже: на толстом животе дерева один над другим — три белых фаянсовых ролика-изолятора.
Свернули в боковую аллею. Руины. Остатки кирпичной стены. Дырки. Черепки. И ничего больше.
— Ой, посмотрите! Дом разбит — все равно как бутылка…
Кто из нас, литераторов, отважился бы на такое смелое сравнение? А ведь лучше не скажешь, не выдумаешь.
Валя поет
А вечером я был у Пластининых. Была там и девочка Валя. Таня играла, пела. Потом попросили спеть Валю.
Начался обстрел. Слышно было, как над крышей госпиталя, над нашими головами, курлыкая, летят снаряды. Слышны были близкие разрывы. Но никто не обращал на них внимания. И девочка Валя продолжала петь: «Бьется в тесной печурке огонь».
Не берусь, не под силу мне рассказать, что чувствовал и о чем думал я, когда шестилетняя девочка в серых валеночках, слегка наклонив голову и положив руку на черную полированную кромку пианино, нахмурившись, смотрела в угол и тоненьким-тоненьким голоском задумчиво, нежно, серьезно, по-русски, по-бабьи тянула:
До тебя мне дойти нелегко-о-о, А до смерти четыре шага-а-а…Вероятно, это очень грустно и очень трогательно звучало бы и в далеком тылу, и где-нибудь даже на другом континенте. Здесь же, где люди и в самом деле живут и работают впритык со смертью, слушать это без острой боли было нельзя.
Никогда не забуду этот вечер, и никогда не разлюблю эту нежную и жестокую солдатскую песню.
1944, январь.
К. Чуковский УЗБЕКИСТАН И ДЕТИ
Осанистая женщина торопливо вошла в 44-ю школу и, словно в лавке, ни к кому не обращаясь, сказала:
— Здесь выдают детей?
Как будто дети — керосин или мыло.
Это было месяц назад, в Ташкенте. Мне понравилось ее нетерпение. Видно было, что ребеночек нужен ей до зарезу, — не завтра, а сегодня, сейчас! Она даже рассердилась, когда ей сказали, что здесь, в школе, детей для нее не имеется, что она должна пойти в Наркомпрос, получить какую-то бумажку, побывать в детском доме и вообще потерпеть с этим делом до завтра.
— Не могу я, — сказала она. — Ведь я уже и воду вскипятила.
(Очевидно, для того, чтобы выкупать маленького.)
Эта чисто женская радость, непонятная многим мужчинам — искупать в корыте ребеночка, намылить его тельце и облить его теплой водой, и снова намылить, и снова облить, и поцеловать, и завернуть в простыню, — эта радость, очевидно, давно уже манила ее, она, должно быть, давно уже изголодалась по этому женскому счастью и потому так поспешно, ни с кем не попрощавшись, ушла в Наркомпрос и взбежала на третий этаж, в кабинет товарища Владимировой, где выдаются бумаги, по которым можно получить в детском доме ребенка.
Впоследствии здесь же, в Ташкенте, мне случалось не раз наблюдать эту страстную женскую тягу к ребенку.
К сожалению, я не помню фамилии той женщины (она несомненно в Наркомпросе записана), которая приехала в Ташкент из Термеза специально затем, чтобы получить здесь, в карантинном детском доме, двух четырехлетних детей — «если можно, мальчика и девочку», — и как она была огорчена, когда ей сообщили, что ей придется подождать до понедельника, ибо четырехлетних детей уже расхватали другие.
— Так долго! — вздохнула она. — Ведь сегодня всего лишь суббота.
Как будто от субботы до понедельника по крайней мере год или два.
— Я хотела купить им в универмаге костюмчики и, знаете, пуховые береты… а завтра, боюсь, этого товара уж не будет.
Скажут: все это — в порядке вещей. Скажут: это — древний, могучий материнский инстинкт. Но что заставило пожилого учителя Акилхана Шарафутдинова прийти туда же, в Наркомпрос, и заявить, что он, Акилхан Шарафутдинов, тоже намерен взять на воспитание ребенка, все равно какого, будь это украинец, узбек или русский.
— Но у вас огромная семья.
— Не такая уж огромная! — ответил учитель. — Всего десять человек. Да и то двое ушли на войну: один — командир, другой — доктор. Так что место для ребенка найдется.
Ведь нельзя же заподозрить в нем неистраченных запасов материнской любви, ведь купание трехлетнего младенца в корыте вряд ли кажется ему такой заманчивой сладостью, какой оно казалось той женщине. Его семья состоит из десяти человек. В другое время ему и в голову не пришло бы брать себе в дом одиннадцатого. Но он — заслуженный учитель республики, он — испытанный друг народа, и теперь, когда народ несет на себе бремя войны, он чувствует душевную потребность разделить это бремя с народом.
Однако сильно ошибся бы тот, кто подумал бы, что две женщины, о которых я сейчас говорил, руководились в своем поведении лишь слепым материнским инстинктом.
Никто не мешал им взять к себе на воспитание какого-нибудь сироту и раньше. Тяга к ребенку была у них и в 1938-м и в 1939 году. Но только в конце 1941 года, едва это понадобилось нашей стране, они решили приютить в своем доме маленьких граждан прифронтовой полосы.
В них, как и в Шарафутдинове, раньше всего говорит жаркий патриотизм советских людей, желающих облегчить нашей родине, по мере своих человеческих сил и возможностей, тяжелую ношу войны.
Сочетание в советских женщинах этих двух величайших чувств — патриотизма и материнской любви — и должно обеспечить эвакуированным детям ту ласку, без которой из ребенка почти всегда вырастает нравственный урод или калека. И характерно: усыновляют детей главным образом небогатые, многодетные женщины, знающие мудрое правило всех малоимущих людей, что там, где сыты пятеро, будет сыт и шестой. Здесь уж Патриотизм самой чистой воды, без всякой примеси неиспользованных материнских инстинктов.
Работница Анна Ивановна Рябушкина так и заявила в карантинном детдоме:
— А мне какого хочешь давай, хоть косого, хоть рыжего, лишь бы помочь моему государству…
В декабре 1941 года Совнаркомом Узбекской ССР была создана Республиканская комиссия по устройству и воспитанию эвакуированных детей под председательством товарища Абдурахманова. При этой комиссии — пять подкомиссий: первая — по учету и устройству детей, вторая — по организации шефства над детскими домами, третья — по культобслуживанию детских домов и так далее.
2 января 1942 года в театре имени Горького состоялось собрание женского актива города Ташкента. Актив обратился с воззванием «Ко всем женщинам Узбекистана». В этом воззвании между прочим говорится:
«Пусть не будет среди нас людей черствых и равнодушных к детскому горю. Шире общественную помощь эвакуированным детям! Выполним наш братский долг перед великим русским народом, перед народами Украины, Белоруссии! Еще выше поднимем знамя интернационализма и братской дружбы Советского Союза!»
Многие из эвакуированных детей видели своими глазами, как изуверы фашисты убивали их матерей и отцов. Они и сейчас еще вздрагивают, заслышав на улице шум: им кажется, что это бомбежка.
Если бы взрослые не вывезли их, все они стали бы жертвами Гитлера.
Недавно мне довелось посетить 14-й детдом, где живут эвакуированные дети дошкольного возраста. Только что кончился у них «мертвый час», они просыпались один за другим, и вместо «здравствуйте» каждый из них, увидев меня, говорил:
— А мой папа на фронте!
Это было самое важное, что каждый из них считал нужным сообщить постороннему.
И в этом — их особое право на то, чтобы жители тыла встретили их как желанных гостей.
Замечательно, какое пылкое участие принимают узбекистанские дети в своих прибывших издалека товарищах.
— Что ты будешь делать с моим Митькой! — говорит уборщица 44-й школы Егорова директору той же школы — Зарядил одно: «Возьми ребеночка!..» Видно, придется взять…
Сколько таких Митек в настоящее время агитирует в домашнем быту за то, чтобы их родители возможно скорее приютили ребят, спасенных от гитлеровских пожаров и бомб!
Я был в детском саду Текстилькомбината — на улице Стахановцев — с неделю назад. Там есть воспитательница, Мария Ефимовна Брамбергер, усыновившая трехлетнего Сашу, украинца. Она нарядила его в военный костюм, так что Сашу там называют «полковником».
— Боюсь, — говорит она мне, — что у моего «полковника» разболится живот, столько наши дети дают ему лакомств. Каждый приносит ему из дому что-нибудь сладкое: «Ешь, „полковник“!» — и суют ему в рот кто изюм, кто карамельку, кто пряник.
Маленькие дети отказались от своего любимого сладкого в пользу другого ребенка! — этого почти никогда не бывает. Это — такой альтруизм, который в обычное время совершенно несвойствен душевной природе трехлетних-четырехлетних детей.
— Его в по-езде раз-бом-били фа-шисты! — говорят дети про «полковника» Сашу и именно за это, за то, что он пострадал от ненавистного Гитлера, жертвуют «полковнику» свои леденцы.
А десятилетняя Аля, дочь этой Марии Ефимовны, когда мать дала ей на них двоих яблоко, чтобы они разделили его пополам, отрезала себе крошечный ломтик, остальное же предоставила в распоряжение «полковника»:
— Сегодня мне, мама, что-то не хочется яблока.
И это — буквально на каждом шагу. Так своеобразно выражается патриотическая нежность детей нашего глубокого тыла к детям, спасенным от фашистских свирепостей.
То и дело вбегают к директору 44-й школы (имени Коминтерна) возбужденные школьники, и каждый, задыхаясь от счастья, сообщает с торжеством победителя:
— Мама позволила! Мама согласна! Мы завтра же идем в детский дом и приносим оттуда маленького!
Причем выясняется, что мать по тысяче разных причин не решалась взять к себе в дом малыша, но ее дочь или сын — или оба — убеждали ее с такой страстной настойчивостью, что в конце концов она уступила.
Эта внутрисемейная агитация ведется школьниками с большим увлечением.
Как они волнуются в тот день, когда в их доме должен наконец водвориться неведомый гость из прифронтовой полосы.
Одиннадцатилетняя Валя, дочь наркомпросовской служащей В. А. Громотович, встала в этот день до зари и сейчас же разбудила свою мать:
— Пора за ребеночком!
— Что ты! Что ты! Спи, пожалуйста! Еще нет половины седьмого.
— Но, мама, ведь может же случиться, что наши часы отстают?! Скорее, а то разберут всех ребят, и нам ни одного не достанется!
Эта торопливость кажется как будто излишней: в Узбекистан эвакуировано восемьдесят пять тысяч детей.
Но вскоре обнаруживается, что Валя права.
Спрос на приезжих малышей оказался здесь, в Ташкенте, так велик, что во многих пунктах не хватило четырехлетних ребят. Их разобрали за неделю.
Товарищ Владимирова, ведающая в Наркомпросе распределением детей, принуждена утешать многих граждан, обращающихся к ней за малышами:
— Вы наведайтесь опять… через день… через два. Кто же знал, что их так скоро расхватают!
А в канцелярии 14-го детского дома на Асакинской улице несколько дней с утра до вечера звонил телефон и секретарь терпеливо повторял в телефонную трубку:
— Эвакуированных четырехлетних детей больше нет! Все разобраны. Позвоните на будущей неделе. Ожидается новая партия.
Теперь эта «новая партия» прибыла, и ташкентцы расхватывают ее с такой же быстротой, как и прежнюю. Берут главным образом маленьких девочек — до пятилетнего возраста.
Многих приезжих детей разобрали детские сады городских учреждений; детский сад Союзунивермага взял шесть, детский сад Узбекбрляшу — десять, а детсад Сельмашзавода — пятнадцать ребят. «Ташкентский Заготхлоптрест организовал в помещении своего клуба интернат для 25 эвакуированных ребят. Воспитанники обеспечены всем необходимым. Ребята посещают школу. Детский сад Наркомзема воспитывает у себя 11 эвакуированных ребят. В одном только Ташкенте 643 семьи и 69 коллективов взяли на воспитание эвакуированных детей», — сообщала «Правда Востока» 6 января 1942 года.
В настоящее время эти цифры нужно помножить по крайней мере на шесть или семь.
Люди самых разнообразных профессий приняли участие в патриотической заботе о детях. Тут и научный сотрудник Среднеазиатского института шелководства, товарищ Жирблис, и комсомолка вагоновожатая Нюша Забойкина, и учитель Meщихин, и бухгалтер Егоров, и аспирантка университета Голованова, и инженер Васильев, и работница пошивочной мастерской Карпова, и секретарь ЦК Коммунистической партии (большевиков) Узбекистана товарищ Усман Юсупов и так далее, и так далее, и так далее — словом, нет такой группы советских людей, представители которой не приняли бы этих детей в свои семьи.
Казалось бы, если ты вводишь к себе в дом чужого ребенка, ты вправе желать, чтобы этот ребенок был тебе мил и приятен. Ведь до конца твоих дней тебе придется отдавать ему всю душу.
Поэтому вполне естественно, что, прежде чем взять к себе в дом приемную дочь или сына, многие не раз и не два посещают те пункты, где живут малыши, присматриваются к каждому ребенку, пытаясь выбрать себе самого лучшего.
Ничего зазорного здесь нет. Было бы странно, если бы было иначе.
Тем изумительнее, что в последнее время появилась довольно большая категория людей, которые отказываются брать к себе в дом миловидных, здоровых и приятных ребят, а, напротив, из патриотических побуждений настаивают, чтобы им дали таких, которые, казалось бы, не доставят им радости.
В том же 14-м детдоме, что на Асакинской улице, есть мальчик с бельмом на глазу. Елизавета Ефимовна, жена инженера, изъявила желание взять именно этого мальчика.
А профессор Зельманович, известный дерматолог, когда ему показали в этом доме десятки ребят, выбрал себе самого хилого — такого, у которого вся голова была в язвах.
Ребенок этот захворал еще дома и, не успев излечиться, приехал сюда с запущенной накожной болезнью.
— Дайте мне вот этого… с язвами, — сказал профессор. — Здоровых у вас и без меня расхватают. А этот… он у меня живо поправится. Уверен, что я его вылечу.
И так же поступил инженер Бурдин.
— Я хочу, — заявил он в детдоме, — взять у вас самого анемичного, самого худого ребенка и попытаюсь сделать его крепышом.
Так же поступила и товарищ Муминова, начальник отдела кадров прокуратуры Ташкента. Так же поступила учительница Кроль (110-я школа). Так поступили и продолжают поступать ежедневно многие граждане Узбекской республики.
Желая возможно плодотворнее послужить своей родине, эти типично советские люди берут у нее самых изнуренных и слабых ребят и взваливают на себя все заботы о них, чтобы вернуть их ей здоровыми и сильными гражданами, вполне пригодными для будущих работ.
Через детский эвакопункт (здесь, в Ташкенте) прошло несколько тысяч ребят. Из них большинство поступило в школы ФЗО, распределено по ремесленным и железнодорожным училищам, а прочие получили направления на работу и являются, по местному выражению, «трудоустроенными».
Причем Горметаллтранссоюз взял на работу одиннадцать человек, Горкожпром — четырнадцать человек, колхоз имени Карла Маркса — двадцать человек, Облхлебтрест — восемь человек, Наркомлегпром — тридцать одного человека и так далее, и так далее, и так далее.
Движение это ширится и растет с каждым днем. Можно не сомневаться, что при таких темпах общественной помощи с бесприютностью эвакуированных детей будет покончено в ближайшие же месяцы…
«Учащиеся 115-й школы в Ташкенте принесли из дому самовары, медные кумганы, тазы, подсвечники, — читаем в „Правде Востока“. — Затем они отправились по махаллям. За несколько дней ребята собрали около тысячи предметов домашнего обихода из меди, олова, цинка, бронзы… За грудами металлического лома живое детское воображение видит танки, самолеты, бронемашины, снаряды, обрушивающиеся на врага».
Большинство этих школьников — тимуровцы. Тимуровское движение возникло здесь с самого начала войны.
Увидев во Дворце пионеров кинокартину «Тимур и его команда», Илюша Соловейчик, ученик седьмого класса 121-й школы, основал в июле 1941 года первую в Ташкенте команду тимуровцев. Первая семья, которую он посетил со своей бригадой, была семья красноармейца Логинова, ушедшего на фронт в самом начале войны. Поработав в этой семье (вместе с Витей Щербаковым и Юрой Кацманом), он послал Логинову письмо, кончавшееся такими словами: «О семье не заботьтесь! О ней позаботимся мы!»
И подписался: «Командир тимуровской бригады Илья Соловейчик».
На одном из тимуровских вечеров во Дворце пионеров жена Логинова вспоминала впоследствии:
«Когда мобилизовали моего мужа, я на первых порах растерялась, так как на руках у меня было двое детей: один — трехлетний, другой — четырехлетний. Но вот приходит Илюша со своей бригадой — такие заботливые, такие внимательные! — и тотчас же начинают убирать мою комнату, мыть полы, носить воду (а вода очень далеко от квартиры), пошли за моим мальчиком и привели его из детского сада. Я почувствовала, что я не одна, и чуть не разревелась от радости».
Видел я и узбечку Даню Шакирову, семиклассницу 147-й школы, с такой же любовью обслуживающую семью красноармейца Григория Гришина. Жена Гришина недавно родила. Даня Шакирова принесла ей в подарок одеяло для ее новорожденной дочери, приколов к одеялу записку: «Привет от тимуровцев», и стала с той поры отдавать малышу каждую свободную минуту.
Таких случаев здесь несметное множество. Люди дореволюционной эпохи изумились бы, если бы увидели, что рожденные при советском режиме дети и внуки свирепо угнетавшихся царским правительством народов Узбекистана теперь окружают такою нежностью русских бойцов и их семьи, демонстрируя этим вновь и вновь великое социалистическое братство народов Советского Союза…
Нарком просвещения УзССР товарищ Разаков имел полное право сказать в своей речи, обращенной к ташкентским отличникам:
«Весь наш народ, наши рабочие, колхозники и наша трудовая интеллигенция работают не покладая рук, чтобы снабдить нашу любимую Красную Армию всем необходимым. В этот поток патриотических дел включилась и наша школа, и миллионная армия наших учащихся».
Пусть же помнят советские дети, что они — сила и что каждый из них может облегчить и ускорить нашу победу над Гитлером.
Деятельную заботу об эвакуированных детях проявляет Наркомпрос УзССР.
В одной из комнат этого наркомата, в комнате 38-й, хранится некая драгоценная книга, на которую невозможно смотреть без волнения.
С виду — это самая заурядная канцелярская книга.
На ее синих страницах — скучный перечень каких-то имен и фамилий. Но я никогда не видал, чтобы какая-нибудь другая книга вызывала у людей столько сильнейших эмоций.
Угрюмо перелистывала ее усталая женщина и вдруг вскрикнула, всплеснув руками, засмеялась, заплакала, вскочила на ноги и всем своим измученным телом рухнула без чувств на стол…
Придя в себя, она снова заплакала и, указывая на книгу, прошептала с восторгом:
— Тут мой Володя.
И набожно целовала ее, канцелярскую книгу в измызганном шершавом переплете.
И опять заплакала от счастья.
Это не мелодрама, не кинокартина, это — подлинный случай, происшедший на днях в Наркомпросе. Женщина несколько месяцев тщетно разыскивала своего потерянного сына Володю в разных городах и колхозах Союза. И наконец добралась до Ташкента и здесь, в этой книге, среди прочих записей, вдруг увидела такую строку:
«Кардонский Владимир, 13 лет. Передан на воспитание в 149 ташкентскую школу».
Мудрено ли, что эта бедная книга показалась ей прекраснее и умнее всех книг, какие она когда-либо читала за всю свою жизнь.
В книге — список детей и подростков, эвакуированных из прифронтовой полосы и не знающих, где находятся их родные.
Эта книга у нас на глазах принесла человеку величайшее счастье: благодаря ей, осиротелая мать нашла своего осиротелого сына.
Тут же, в комнате, была другая осиротелая мать.
— Вот уж я бы не стала плакать, — сказала она матери Володи Кардонского. — Если б я нашла своих детей, да я бы хохотала весь день.
Ей дали ту же канцелярскую книгу, и вскоре она закричала:
— Вот моя Соня!.. Сонечка! Боже мой! Вот моя Соня! И Мотя… Боже мой! Соня и Мотя!
И зарыдала.
— Вы же обещали смеяться! — сказала ей сквозь слезы гражданка Кардонская.
Фамилия этой новой счастливицы — Левина. Она узнала из книги, что ее дети, Соня и Мотя, находятся в ташкентском карантинном детдоме, и тотчас помчалась туда.
— Тридцать шестая! — тихо сказала мне одна из сотрудниц. (Значит, за последнее время тридцать шесть женщин разыскали своих ребят при помощи наркомпросовских списков.)
Я люблю эту тесную комнату. Хотя на официальном наречье та работа, которую делают здесь, называется весьма прозаически: «учет и регистрация эвакуированных детей», но гуманная советская общественность придала ей столько задушевности, что эта комната кажется мне самой поэтичной и обаятельной во всем трехэтажном наркомпросовском здании.
К сожалению, кое-где в детдомах учет детей, прибывших из прифронтовой полосы, велся вначале спустя рукава. Например, карантинный детдом составлял такие торопливые неточные записи о прибывших детях, словно его руководители были не способны понять, что от каждой записи зависит порою судьба вверенного их попечению ребенка. Пришлось заставить этих небрежных людей перестроить всю систему работы, и результаты уже налицо.
Тридцать шесть матерей, нашедших здесь (в течение такого короткого времени!) своих детей, являются неопровержимым свидетельством, что та работа, которая ведется здесь Е. А. Пешковой и другими энтузиастами, есть огромное общественное дело.
Если бы какой-нибудь гитлеровец хоть часок посидел в этой комнате, он убедился бы своими глазами, как спаян наш тыл с нашим фронтом. Враг заскрежетал бы зубами, если бы увидел, какие выстраиваются перед этим столом длинные очереди работниц, колхозниц, артисток, милиционеров, профессоров, домохозяек, жен комсостава, инженеров, вагоновожатых, изъявляющих готовность немедленно взять к себе в дом в качестве членов семьи эвакуированных детей.
То и дело приходят сюда представители различных коллективов и заявляют о своем желании пожертвовать детям груды разнообразных вещей. На днях, например, были здесь работники селекционной станции НИХИ (Научно-исследовательского хлопкового института) и принесли для ребят двести пятьдесят три драгоценных предмета: теплые пальто, матрацы, книги, сапожки, чулки, игрушки и так далее, и так далее — и это стало уже заурядным явлением. Нет, кажется, такого коллектива в республике, который не внес бы своей — иногда очень крупной — лепты для улучшения быта этих осиротевших ребят.
Если бы я попытался рассказать лишь о том, что сделали в этой области одни только жены командиров и бойцов Среднеазиатского военного округа, моя статья удлинилась бы вдесятеро.
Можно ли сомневаться, что находящиеся на фронте мужья всей душой одобряют патриотический порыв своих жен.
Передо мною письмо из действующей армии — красноармейца Андрея Измайлова к его жене Марии Харлампьевне, взявшей на воспитание эвакуированную девочку (улица Островского, 4).
«Если у тебя мало денег, — пишет товарищ Измайлов жене в январе нынешнего года, — не нужно, не посылай, я подожду. Не забудь, Мусек, что у нас теперь есть дочь, для которой мы должны жить, а придет время, она будет жить для нас…»
Другое письмо:
«Мусенок, как я рад, что получил карточку Лилечки. Мы будем любить ее, как своего родного ребенка…»
Письма эти до такой степени переполнены Лилей, что порою Измайлов забывает писать о себе. Он никогда не видал этой Лили, он отделен от нее тысячами километров, но он вникает во все подробности ее бытия, он советует, как одевать ее, как причесывать: видно, что он думает о ней целые дни.
Узнав о легком недомогании Лили, он пишет:
«Передай врачу от меня горячий красноармейский привет с просьбой поддержать здоровье нашей дочки. Береги ее и себя, потому что ваше здоровье — это мое здоровье…»
Одна из бесчеловечных задач, которые ставили себе осатанелые гитлеровцы, заключалась именно в том, чтобы обездолить и уничтожить возможно больше советских детей и тем лишить нашу родину ее великого будущего.
Та беспримерная забота о детях, которую мы наблюдаем буквально на каждом шагу в Узбекистане и в других наших республиках и областях, разрушила вконец эти черные замыслы. Гитлеровцы потерпели поражение и здесь.
С. Маршак РОДНЫЕ ДЕТИ
Недавно я был в Москве на одном замечательном собрании.
Это было «двухэтажное собрание». Наверху, в зале Московского отдела народного образования, собрались взрослые, а этажом ниже — в детской комнате — ребята четырех, пяти, шести лет.
Взрослые наверху говорили и слушали речи, как это обычно бывает на собраниях, а маленькие сидели на низеньких стульях или на ковре, смотрели картинки, строили что-то из кубиков и только иногда прерывали игру нетерпеливым и встревоженным зовом:
— Мама! Отчего моя мама так долго не идет!
— Подожди немножко, сейчас придет, — успокаивала их заведующая детской комнатой.
Но вот матери и в самом деле пришли, закончив свое собрание.
Светловолосая женщина подошла к такой же белокурой маленькой девочке.
— На ручки! — скомандовала девочка.
Мать подняла ее.
— А ведь дочка-то похожа на вас, — сказал кто-то.
— Еще бы! — со смехом ответила молодая женщина. — На то она и дочка!
Во всем этом не было бы ничего удивительного, если бы светловолосая женщина и вправду была матерью своей беленькой дочки. На самом же деле эта девочка — круглая сирота. Родителей ее — и отца, и мать — всего лишь несколько месяцев назад убили немцы.
Девочка еще очень мала, но в памяти у нее осталось что-то страшное. Когда ее спросили однажды: «Где твой папа?» — она ответила: «Ручки завязали и бросили в яму».
Конечно, больше ее никто ни о чем не стал расспрашивать. Свою родную мать девочка никогда не вспоминает. Может быть, здоровый инстинкт жизни подсказывает ей, что лучше забыть непоправимую утрату и целиком довериться новой семье, новой матери.
А новая мать стоит доверия ребенка.
Это она — Овчинникова, работница завода «Богатырь», — первая предложила советским людям усыновить детей, потерявших в этой войне своих родителей. Множество женщин и мужчин в городах и селах откликнулось на ее призыв.
Берут на воспитание детей не только бездетные или уже вырастившие своих собственных ребят женщины, но и такие, у которых на руках по четверо, по пятеро дочек и сыновей.
Глядя на хорошенькую белокурую Надю Овчинникову, невольно думаешь: «А ведь, пожалуй, всякому было бы приятно взять к себе в дом такого веселого, красивого и нарядного ребенка!»
А между тем, когда фабричная работница Овчинникова впервые принесла свою приемную дочку к себе домой, ее собственная дочь с ужасом воскликнула:
— Мама, это — урод!
Девочка казалась страшной — так распухли от голода и мороза ее лицо, ручки, ножки.
Во многих случаях приемные родители, чтобы не разлучать между собой братьев и сестер, берут в дом сразу двоих или троих детей.
А там, где это оказывается им не под силу, где братьев и сестер приходится разъединять, брать в разные семьи, — там эти семьи вступают между собой в новые родственные отношения.
Об этом трогательно рассказывает одна из новых матерей — учительница Вишняковской сельской школы Егерева:
— И вот мы, две учительницы, живущие недалеко друг от друга, сроднились и стали близкими из-за наших ребят. Мы взяли двух братьев: я — старшего Аркадия, она — младшего, пятилетнего Вовочку. Теперь я чувствую, что она мне как родная сестра, такие мы близкие!..
Эта связь, возникающая между отдельными семьями, как бы сливает их в одну огромную семью, объединенную отцовской, материнской, братской любовью.
Дети перестают быть сиротами, переступая через порог незнакомого, чужого дома.
Впрочем, и самое слово «сирота» теряет у нас право на существование.
— Давайте выкинем это слово из нашего обихода, — говорит учительница Егерева. — Не может быть сирот в стране, где мы все — матери… Давайте говорить о наших родных детях, а не о сиротах!
Все, кто слышал эту простую, глубоко сердечную речь учительницы Егеревой, не могли не почувствовать счастливой гордости за человека, за наш народ.
Нет, фашистам не удастся отнять у наших детей будущее, разрушить наши семьи, наши дома.
Люди у нас сильны и на фронте, и в тылу. Бесконечны жизненные силы нашего народа, а жизнь всегда побеждает смерть!
«Правда», 1942, 18 июня.
Л. Раскин ДЕТИ ВЕЛИКОГО ГОРОДА (Ленинградские дети в дни Отечественной войны)
Дети Ленинграда, ленинградские школьники, пионеры…
У каждого из них, проживших здесь эти три года войны, — богатая личная биография. Многие из них активно участвовали в борьбе города с ненавистным врагом. Они рыли траншеи, тушили зажигательные бомбы, дежурили на вышках.
Только что оправившись после тяжелой зимы 1941/42 года, они помогали очищать город от мусора и грязи, они вместе со старшими разбирали деревянные дома, чтобы сразить леденящий холод, они работали в госпиталях и помогали семьям фронтовиков, они славно потрудились на полях летом 1943 года, и лучшие из них достойно заслужили высокую награду защитников нашего города — медаль «За оборону Ленинграда». И в эти суровые дни они учились в школах, жадно читали книги. Чуть окрепнув, занимались спортом, пели и плясали. В студиях Дворца пионеров и в кружках детского творчества не замирала жизнь.
Дети редко возвращаются в своих воспоминаниях к тяжелым дням пережитого, но каждый из них хранит в себе неугасимое чувство мести к фашистским варварам.
В пантеоне славы нашего замечательного города почетное место займут и маленькие ленинградцы…
Ученица Нина Жизневская рассказывает:
«Шесть месяцев работала я на стройке оборонительных рубежей вместе с мамой. Я помогала гнать немца своей работой. Я работала с мыслью о мести за погибшего отца. Выполняла норму взрослых. Помню, 28 июня был тяжелый день. Вот уже два дня хлеба нет; где-то застряла продуктовая машина. Трудно было работать, пот градом катился по моему лицу, рубашка прилипла. В этот день работали как-то особенно. Яростно врезывались лопаты в землю. Я не отставала от взрослых, хотя совсем обессилела — мне ведь как-никак только тринадцать лет. Задача моя — перевыполнить в два раза норму. Только вечером на митинге я остро ощутила все пережитое, и, когда комдив объявил мне благодарность и назначил связистом, я заплакала. Мне не стыдно было слез…
Я очень устала, но отдохнуть- не пришлось. В семь часов, под проливным дождем, я месила по дороге грязь, бережно прижимая драгоценный пакет — срочное донесение. Шла почти бегом.
Надо было пройти тридцать восемь километров в четыре с половиной часа. Незаметно прошла я половину пути. Уже виден лес, там дорога лучше. Вдруг окрик. Обернулась — часовой. „Детка, идти дальше нельзя. Там обстреливают участок леса“. Но я знаю, что пакет должен быть доставлен в срок. Не спавши, без единого куска хлеба, нелегко было идти в обход. Но я пошла. Это был мой долг. Было очень трудно: места болотистые, глухо, ни души. Но в десять ноль-ноль донесение было сдано. В ПСД (пункт срочных донесений) бойцы дали мне ватник. Я была по пояс мокрая. Накормили. И уже в начале одиннадцатого была дома. Меня доставила обратно машина, которую вызвали в эшелон».
«В дзотах, сделанных нашими руками, — пишет в своем сочинении ученик девятого класса 105-й школы Черемушников, — красноармейцы устанавливали противотанковые орудия, пулеметы, закладывали мины. Мы были рады, что наши укрепления помогли нашей Красной Армии уничтожать фашистских солдат и офицеров, что мы послужили делу защиты нашего родного Ленинграда».
Школьная группа Колпино (так назвали в штабе строительства укрепленного района группу в составе тридцати пяти учителей и двухсот семидесяти шести учащихся) работала на «отлично» и в срок выполняла задание командования, создавая укрепления протяженностью в один и две десятых километра. На этой линии славный батальон ижорцев задержал немецкие полчища, рвавшиеся к городу. Эта же группа выполнила затем и второе задание по сооружению линии обороны протяженностью в два километра. Школьную группу, как лучшую на стройке, перебрасывают на отстающие участки, а руководителя группы, учителя Богомолова, назначают комиссаром всей трассы.
Начиная с сентября 1941 года Ленинград подвергается систематическим бомбардировкам врага. На город обрушиваются тысячи фугасных и зажигательных бомб. Для наших школьников, как и для ленинградцев вообще, это было в буквальном смысле слова испытание огнем. Учащиеся проявляют исключительную самоотверженность и мужество. В темные, холодные осенние ночи они дежурят на чердаках, зорко всматриваясь в свинцовое небо. И когда враг прорывался к району школы, они всегда оказывались на боевом посту.
Семнадцать бомб потушила в одну ночь дежурная команда учащихся, которой руководила пионервожатая Муся Сигова. Школьники Кондратьев и Сорокин потушили шестнадцать бомб, упавших на школу, девятилетний Олег Мегов погасил четырнадцать бомб, двенадцати летний Геня Толстой — девятнадцать. Коля Авдеев с двумя товарищами потушил сорок три бомбы, семилетний Витя Тихонов потушил зажигательную бомбу, упавшую на улице. У него спросили: «Как ты это сделал?» Витя спокойно ответил: «Я бомбу за хвост и ее в песок, в песок». Ученица Валя Барковская, раненная во время бомбежки, не пошла в больницу, пока не оказала помощи другим раненым.
В районе 120-й школы враг сбросил около десяти фугасных и сотни зажигательных бомб. Ученица десятого класса Мария Титова не только оказывает помощь пострадавшим, но по своей инициативе направляется в прилегающие к школе деревянные дома проверить, не остались ли там дети без родителей. В одной из квартир она обнаружила годовалого ребенка, бережно принесла его в школу, а в квартире оставила родителям записку: «Не беспокойтесь, ваш ребенок в школе».
Ученица 47-й школы Нина Рычкова, дежурившая на крыше своего дома, увидела, что зажигательная бомба пробила крышу здания ее школы, расположенной напротив. Она заметила, что пожарное звено школьной команды занято тушением пожара во дворе, «зажигалка» на чердаке оставалась незамеченной. Мужественная девушка мгновенно принимает решение: она спускается с крыши своего пятиэтажного дома, перебегает улицу, поднимается на чердак и ликвидирует начавшийся было пожар.
Десятиклассники Игорь Быховский и Амосов работают в комсомольском противопожарном полку. Ночью они дежурят, тушат пожары, днем учатся. Игорь получил денежную премию от райкома комсомола, ценный подарок от полка, именные часы от Ленсовета.
Эра Булычева в морозный февральский день, мужественно карабкаясь по карнизу второго этажа, поднялась, чтобы забрать у стоящего на верхнем этаже пожарника двухлетнего ребенка, которого спасал боец. Ребенок рвался из рук, спускаться было невозможно, кирпичи осыпались под тяжестью взрослого человека. Это настоящий подвиг, о котором скромно умалчивает Эра, когда рассказывает о своем участии в обороне города…
Уже с сентября 1941 года город становится фронтом. Гражданское население, взрослое и детское, испытывает тяжелые лишения. Занятия учащихся старших классов шли в школах с большими перебоями, ученики младших классов, с осени начавшие заниматься в бомбоубежищах и домохозяйствах, к декабрю, из-за холода и отсутствия света, полностью прекратили занятия и там.
Здоровые крепкие ленинградские дети и подростки худели, их силы начинали падать. Заболевали и умирали взрослые, сначала больше мужчины, потом — к весне — женщины.
Многие дети оставались одни, без надзора, без ухода, голодные и истощенные. Они судорожно цеплялись за жизнь, после смерти родных искали родственников, переходили жить к ним или пытались как-то прожить сами, покупая то небольшое количество продуктов, которое полагалось по карточкам, и что-то для себя готовили.
Невыносимо стало положение малышей. Маленький дошкольник у трупа матери, беспомощно озираясь, спрашивал: «Мама, почему ты молчишь?»
Умолкли веселые детские голоса, которыми оглашались улицы Ленинграда весной и летом, осенью и зимой; исчез детский смех, пропала куда-то детская улыбка. Детская безнадзорность увеличивалась с каждым днем.
Когда в феврале были организованы детские приемники-распределители, когда заботливые и чуткие воспитатели, помыв, накормив и обогрев детей, усаживали их вокруг себя и вели с ними задушевные разговоры, дети рассказывали о пережитых тяжелых днях. Эти детские воспоминания — жестокая летопись детского горя, причиненного фашистскими варварами.
Вот несколько таких рассказов, записанных самими детьми или — с их слов — воспитателями.
«Мама моя умерла в больнице. Папа умер тоже. Брат в Красной Армии. Когда я остался один, мне жить стало очень плохо». (Мальчик десяти лет.)
«В 1936 году в геологоразведывательной экспедиции погиб мой папа — инженер, и я осталась с мамой жить одна. Зимой 1942 года умерла моя мама. Мне было очень тяжело, и я осталась у тети. Теперь она ушла в Красную Армию, и я снова осталась одна во всем городе». (Девочка одиннадцати лет.)
«Папа работал на заводе, мама ухаживала дома за маленькой сестренкой, я училась в школе и окончила пять классов. Война застала меня в деревне на отдыхе, я вернулась в Ленинград. С января начался голод, папа ослабел и 16 января умер от истощения. Мы с мамой на саночках свезли его на кладбище. После папиной смерти были перебои с хлебом, нам пришлось три дня просидеть на одной дуранде. Мы все очень истощились. Мама и сестренка не могли вставать с кровати. Мне пришлось два месяца ухаживать за ними. Вставала я в шесть часов утра, ходила за хлебом, топила чугунку бумагой, дров у нас не было. За водой нужно было ходить очень далеко. Заканчивала я свою работу в двенадцать часов вечера и засыпала сразу, как убитая. Ночью приходилось часто вставать и приготовлять маме грелки. Проболев два месяца, мама умерла 29 марта, и я отвезла ее в морг. Теперь я осталась одна со своей маленькой сестренкой». (Нина Петрова, четырнадцати лет.)
«Я вспомнил, как у нас мама умерла. Мне жалко ее. Она ушла рано утром за хлебом и целый день до ночи не возвращалась, а дома было холодно, мы лежали в кровати вместе с братом и все слушали, не придет ли мама. Как только хлопала дверь, так мы думали, что это наша мамочка идет. Стало темно, а мама наша все не шла, а когда она вошла, то упала на пол. Я испугался, побежал воды просить у соседей. Они не дали воды, воду трудно было привозить. Я побежал через дом и там достал воды. Дал маме, а она не пьет. Я ее на кровать притащил, она была очень тяжелая, а потом соседка сказала, что она умерла. Я так испугался, что даже не плакал». (Эрик, шести лет.)
«Папу своего я не помню. Я постоянно жила с мамой. Мама работала, и я еще маленькой девочкой оставалась одна дома. Я очень любила свою маму. Мне все хотелось ей сделать что-нибудь хорошее. Я видела, как чисто мама в свободное время убирает комнату, и я решила помогать ей. Так я лет с шести стала мыть посуду и убирать комнату. Когда мама усталая приходила и видела все это, ее благодарная улыбка и поцелуй так вознаграждали меня! Ах, как я любила свою маму! И мы были дружны. Я никуда не ходила, когда мама была дома. Мама делилась со мной всем — и радостью и горем, мы все делили пополам. Но вот со мной случилось большое несчастье: у меня вытащили карточки. Это было в магазине. Мама ни словом не упрекнула меня, наоборот, начала утешать, но я видела, как изменилось ее лицо. У мамы была карточка служащей, у меня — иждивенческая. Мама как-то что-то доставала, но почти все отдавала мне. Я не хотела брать, но брала и ела, а мама голодала. Я видела, как она сначала все худела, а потом начала пухнуть. Она уже не вставала с постели, мы спали с ней на одной кровати. Однажды ночью я проснулась. Было тихо. Мне стало страшно. Мама лежала рядом такая молчаливая, страшная. Слегка светила луна. „Мама!“ — тихо позвала я ее. Она молчит. Я протянула руку, а она уже холодная. (У нее было слабое сердце, и она умерла внезапно.) Я никому ничего не сказала, так и лежала с мертвой мамой до самого утра, все не веря в ее смерть, все не представляя, что у меня нет больше мамы. Что было дальше — не помню. Я сильно заболела сама. Потом меня доставили в приемник». (Рита Бельман.)
«Во время бомбежки наша квартира была повреждена, мы перешли в другую. Вскоре я слег в кровать, а потом заболела и мама. Мама не могла убирать комнату, появилась грязь. У нас было так холодно, что стакан, наполненный горячей водой, через минуту примерзал к блюдечку. Я спал в пиджаке, в брюках и в сапогах. Сверху был покрыт двумя пальто и все же замерзал. Света не было, и мы жгли лучину. Я был грязный, обросший волосами, длинными, как у женщины… Мама последнюю крошку хлеба отрывала от себя и отдавала мне. Меня забрала к себе соседка по квартире, вымыла меня в корыте, обстригла волосы, одела в чистое белье. В феврале 1942 года умерла мама, мне не верилось, что я ее больше никогда не увижу». (Андронов.)
Эти отрывки из детских воспоминаний о пережитом можно было бы значительно умножить, но и приведенных достаточно, чтобы в сердце каждого, кто прочтет их, воспылала жажда отмщения фашистским разбойникам за детские муки.
Дети, приходившие в приемники в первые дни после их открытия в начале 1942 года, ужасали своим видом. Оборванные, с руками тонкими, как былиночки, с щеками, втянутыми от голода, с телом, покрытым ранками, с челюстями, сочащимися кровью от цинги, с блуждающим взглядом, эти дети напоминали маленьких старичков. В их глазах был застывший ужас пережитого.
Выше мы приводили отрывки из относящихся к первой блокадной зиме воспоминаний ребят.
Послушаем теперь воспитателей. В их дневниках много записей, рисующих жуткий вид первых обитателей приемников. Эти дневники написаны кровью сердца и потрясают своей чудовищной правдой.
Вот несколько записей из этих дневников.
«Крошечная, крошечная девочка. И большие, большие по-взрослому серьезные глаза. Вот что прежде всего встает передо мною, когда я восстанавливаю в памяти первые дни работы в приемнике, — пишет воспитательница Т. А. Комарова. — Кирочка Васильева была так слаба, что ходить совсем не могла. В столовую ее носили на руках. Почему так слаба эта крошка? Почему у нее такие серьезные глаза? Такой задумчивый взгляд? Трое суток просидела она, запертая в комнате, где лежал труп ее матери. У нас в приемнике девочка немного окрепла. Она бегала, играла, смеялась. Как-то Кируша увидала принесенную к нам кем-то из сотрудников кошку. Она восторженно закричала: „Смотрите, бежит нескушанная кошка!“ Этот возглас многое нам объяснил».
«Спускаюсь в дезинфекторскую, — вспоминает Т. И. Успенская. — На стульях, расставленных вдоль стен, сидят дети. На их измученных, истощенных личиках один вопрос: скоро ли? В этом „скоро ли“ — все: и чистое тело, и свежая рубашка, и перевязанные раны, и главное — еда».
Это не единичные картины. Таких детей было много.
«Валю Лабезова, — рассказывает начальник Куйбышевского приемника Н. О Трунина, — принес дворник одного из домов. Мальчик почти умирал. Страшную картину представлял собой этот крохотный комочек косточек, туго обтянутых кожей, с большими черными нереагирующими глазами, беспрерывно раскачивавший головой и не издававший ни одного слова. Два месяца никто не думал, что его можно будет превратить в нормального ребенка. Это был маленький звереныш, никого к себе не подпускавший во время еды, хватавший пищу руками и дико завывавший при прикосновении к ней ложкой или вилкой воспитателя. Целые дни он бессмысленно качал головой из стороны в сторону, делал все под себя, никого не узнавал. Врач и большинство работников приемника не сомневались в том, что перед ними маленький идиот. Но хотелось сделать все возможное, чтобы восстановить в нем человека. Мало-помалу Валя стал привыкать ко мне, шел на руки. Врач, сестры и другие работники терпеливо ухаживали за ним, кормили, лечили его. Никогда не забуду, как однажды в комнату буквально влетела дежурившая медсестра с криком: „Лабезов заговорил!“ Поднимаюсь наверх и узнаю, что молчавший три месяца мальчик вдруг совершенно четко произнес: „Я несладкого чаю не пью“. Фраза эта повторялась во всех уголках приемника. Многие плакали от радости, и все готовы были отдать Вале не только свои конфеты, но все, что угодно. Валя преобразился. Быстро шла поправка. Он стал делать первые шаги, много и четко говорил. Из лазарета его перевели в палату дошкольников, где он прекрасно освоился в коллективе здоровых детей. Через три-четыре недели Валю отправили в детский дом, и оттуда нам сообщали о нем как об умном, здоровом, живом мальчике».
Воспитательница Октябрьского приемника Г. И. Маркова записывает в своем дневнике:
«25 марта. Сегодня прибыл мальчик — Валя Пенкин, ему три года. Мать его умерла от истощения. Отец — на фронте. Даже на нас, людей, уже повидавших виды в нашем приемнике, этот мальчик произвел жуткое впечатление. Внешность его красноречиво говорит о пережитых им страданиях. У него опухшее лицо, закрытые глаза, ручки висят, как плети, на ногах открытые ранки. Доктор нашел у него крайнее истощение и цингу. Надежды на выздоровление почти нет.
10 апреля. У нас радостный день. Доктор сказал, что Валя все-таки будет жить. Опухоль у него сошла, и он превратился в маленького сухого старичка, обтянутого желтой кожей. Ничего детского в нем не осталось.
21 апреля. Вале Пенкину сегодня одели шерстяные носочки, поставили его на пол и стали водить его за руки. Малыш заново учится ходить и говорить.
3 мая. Выдался неплохой день. Валя сидит в кресле во дворе и с огромной завистью смотрит на ребят, которые копошатся в песке. Больно смотреть, как этот ребенок совсем по-взрослому радуется, что к нему вновь возвращаются силы. Лежа в кроватке, он часто разглядывает свои руки, трогает шею, гладит лицо и говорит: „Тетя Тамара, посмотри, у меня щечки мягкие стали“.
25 мая. Сегодня долго стреляли наши орудия. При каждом выстреле Валя хлопал в ладоши и кричал: „Наши немцев бьют, наши немцев бьют!“ Потом он стал серьезным и добавил: „Когда всех немцев убьют, у меня опять будет папа“.
Бедный ребенок! Сколько горя причинили его детской душе эти проклятые варвары со свастикой.
15 июня. Валя Пенкин с каждым днем крепнет и хорошеет. Радости и веселью его нет конца. Он целый день на ногах. Ласковый и общительный, он быстро завоевал всеобщую любовь. Жаль будет с ним расставаться.
22 июля. Сегодня отправили в детдом Валю Пенкина. Как жаль было расставаться с ним! Но ничего не поделаешь: рисковать жизнью ребенка, с таким трудом вырванной у смерти, нельзя. На Большой земле ему будет лучше. Это мы старались ему внушить в течение двух недель. Первое время он и слышать не хотел о своем уходе. Он горько плакал и твердил: „Вы меня не любите!“ Постепенно он начал поддаваться нашим уговорам, его прельщало то, что он будет жить на даче и кушать много-много фруктов, собирать цветы, ловить бабочек.
Милый мальчик, Советская страна сберегла тебя. Она построит тебе счастливую и радостную жизнь».
Таковы будни приемников, где все, от начальника до няни, честно и самоотверженно служат делу спасения детей.
В трудных условиях блокированного города наши дети не переставали учиться в школах. Привычный ритм учебных занятий вскоре пришлось изменять.
Воздушные тревоги иногда следовали одна за другой и с перерывом в десять — пятнадцать минут, а за один учебный день учащимся с учителями приходилось по пяти раз спускаться в бомбоубежище.
Ученики усаживались вокруг учителя, и тот вполголоса, чтобы не мешать соседям, продолжал объяснение, или проводил какую-нибудь беседу, или, наконец, спрашивал учеников по заданному на дом.
В городе тревога, а в убежище ученица спокойно читает величавые, полные гордости за наш народ слова замечательной «Песни о купце Калашникове» или учительница рассказывает о доблести Суворова или читает заранее приготовленную интересную книгу.
«Вой сирены прервал мой рассказ о Белинском. Учащиеся с огорчением вздохнули. „Я продолжу рассказ в бомбоубежище“, — успокоила я их. Спустились вниз, и урюк продолжается. Кругом стонала земля от зениток и воя самолетов, но мы не слышали ничего. Увлеченные образом „неистового Виссариона“, мы забыли о тревоге, не услыхали отбоя. Урок прервался только тогда, когда нам предложили подняться наверх, так как тревога давно окончилась». (Из воспоминаний учительницы 114-й школы Никитиной.)
Вот другой эпизод (из дневника учительницы 222-й школы Сухоруковой):
«Урок в десятом классе. Холод, чернила замерзли, на окнах иней в сантиметр толщиной. Мне еще жарко- после девятикилометрового пути, ребята жмутся, прячут лица в воротники. Но вот начинается работа, ученики забывают на время о трудностях и неудобствах. Уверенно, громко рассказывает Фомин, о творчестве Блока, в морозную туманную тишину холодного класса падают музыкальные слова стихотворения о Прекрасной даме. Вера Мореншильдт спокойно и толково говорит о романтических произведениях молодого Горького, и моментами кажется, что все остальное — тяжелый сон и когда от него очнешься, то окажется, что и мерзлый класс, и иззябшие ученики, и сама ты, постепенно леденеющая в классе, — все осталось позади».
У учителей было два плана уроков на день: один — для работы в условиях нормального дня, другой — на случай бомбежки или обстрела, для занятий в бомбоубежище.
Ночные тревоги лишают нормального сна. Многие ученики старших классов несут службу в группах самозащиты домов. А наутро, вздремнув на два-три часа, усталые, они являются в школу.
Как-то раз десятиклассники Игорь Быховский и Амосов пришли в школу не в спецовке, как обычно, а в штатском платье. «Почему вы сегодня такими франтами?» — спрашивает учительница. «Да так, захотели». Потом оказалось: всю ночь работали на пожаре, а сейчас сушат спецодежду. После бессонной ночи они пришли на занятия.
Перестал ходить трамвай. Преподаватели и ученики приходили в школу пешком. И те и другие голодали, выглядели плохо. Но занятия и теперь не прекращались. От площади Труда приходила наш старый педагог Александра Михайловна. Садилась за стол и начинала рассказывать о великих русских поэтах…
В школе нет электрического света, не хватает керосина. Нельзя проводить занятия и в убежищах. А тут еще холод — ужасающий холод, от которого стынет кровь.
С каждым днем в классах — все меньше и меньше учеников. Вот их в седьмом классе было пятьдесят четыре, а потом тридцать, через месяц уже двадцать. Это — следствие трудностей в семье учеников, болезни и смерти близких, голода, поисков заработка.
Стало тише в школе. Сколько бы ни было учащихся — сорок, пятьдесят, семьдесят человек, — в коридорах царила тишина: ученики разговаривали мало.
Школам разрешено было временно прекратить занятия. Но в тридцати девяти школах мужественные ученики и учителя не сдаются. «Будем преодолевать трудности, будем поддерживать дыхание школы», — заявляли учителя. «Сделаем все, чтобы перейти в следующий класс, чтоб окончить школу» — так говорили сами ученики. И в школах продолжались занятия.
Школы нуждаются в топливе, и ученики привлекаются к заготовке дров. Вместе с учителями они разбирают деревянные дома, подвозят бревна к школе.
Нельзя заниматься в нескольких классных комнатах — устанавливаются времянки в двух-трех, и там, вокруг печки, занимается группа учеников. Они записывают карандашом, держа тетрадку на коленях. Дым разъедает глаза, залезает в горло, вызывает кашель. Пахнет горелыми валенками, иногда страдает и одежда. Но занятия не прекращаются.
В одной комнате, рассаживаясь по углам, занимались сразу два-три класса. Так было теплее. Дыханием людей согревалось помещение. В одном углу шел урок истории, в другом — физики.
Учиться тогда было подвигом.
Урок продолжался двадцать пять минут. Больше в таком холоде выдержать нельзя было. Все записи, диктовки, конспекты приходилось писать карандашом, так как чернила замерзали, но и записи карандашом требовали большого упорства. Руки коченели. Школьникам приходилось прибегать к различным ухищрениям: дуть на пальцы, прижимать руки к щекам, прятать их под пальто…
Сколько нежности и любви в отношениях наших детей, проживших эти годы здесь, в Ленинграде, к своим родным! Они делились с ними последними граммами хлеба, они заботливо ухаживали за ними, они облегчали, чем могли, их бытовые нужды.
Пятилетний Юра сжимает в руках конфету. На настоятельные просьбы съесть ее отвечает отказом. «У нас дома нет, это для мамы».
Уходящий на фронт девятиклассник пишет своей матери:
Прощай, моя дорогая, Не знаю, увидимся ль вновь… Есть ли на свете иная, Крепче нашей, любовь?Широкий размах получило среди школьников тимуровское движение — оказание помощи семьям фронтовиков. Словами большой благодарности отвечали бойцы на эту заботу об их семьях.
Воля ученика закалялась не только в учебных занятиях, но и в напряженном физическом труде. Школа в эти годы целиком обслуживается учениками и учителями — от топки печей до откачивания воды из бомбоубежища. Они не гнушались ни самой трудной работы (в жестокие морозы переносили окоченевшими руками обледенелые плахи), ни самой неприятной (выносили ведра из уборных: канализация не действовала).
Нужно спасти город от угрожающей ему эпидемии, убрать грязь, расчистить улицы, чтобы можно было пустить трамвай. И ученики вместе с учителями на посту. Ни пронизывающий ветер, ни холод, ни тяжесть физической работы не останавливают их.
В числе восьми тысяч девятисот ленинградцев, награжденных Ленинградским Советом за очистку города, десятки и сотни учителей и учащихся…
Л. Чуковская, Л. Жукова СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДЕТЯМ (Рассказы детей о войне)
Нас интересовали биографии рядовых, обыкновенных детей. Героев мы не искали. Мы ходили из одного детского дома в другой и стенографировали рассказы ребят, эвакуированных в Узбекистан.
Обрабатывали мы материал в весьма незначительной степени. Это не очерки о детях, это рассказы самих детей. Уклонения от норм литературного русского языка не смущали нас: наоборот, мы тщательно берегли все местные и индивидуальные особенности речи каждого.
Мы стремились не только возможно точнее сохранить описание фактов, но и довести до читателя самый голос, подлинную интонацию рассказчиков.
За водой
У нас на первое был суп с макаронами. Мать уже налила всем по тарелке: отцу, сестренке — четыре года, пятый — и двум братишкам, а меня вдруг послала во двор за водой: чайник налить.
Я взял чайник, спустился — вижу: самолеты летят. У них и на крыльях, и на хвостах всюду были наши звезды. Я только дошел до крана, как засвистело что-то, а потом шипение, грохот, а потом я подбежал — одни камни и черный дым, и нет ли мамы, ни братишек, ни девочки…
Папу я нашел под камнями. Но только у него не было головы и одной руки.
Витя Якушевич, 14 лет, из Минска.
Записано 4/IV-42 г. в карантинном детдоме, в Ташкенте.
Третий взрыв
…В один ужасный день загудели сирены, фабрики, заводы, поезда. Над городом появились фашисты. Я был один дома. Я кинулся бежать ко Днепру, чтоб спрятаться в скалистых берегах. Вижу, по другой стороне улицы бежит моя мать. И вдруг промежду нами взорвалась бомба. Моя мать упала, но поднялась и побежала снова. Возле нее взорвались еще две бомбы. Мать опять упала, и гляжу — на этот раз ее ранило: кровь льется по лицу и по боку. Но она встала и побежала опять. Я был уже близко от нее, она мне кричала.
И тут опять третий взрыв. Я упал, и мама тоже. Потом подошел, вижу — она уже мертвая лежит.
Петя Коняев, 13 лет, из Могилева.
Записано 10/11-42 г. в детдоме № 1, в Ташкенте.
В четыре часа на рассвете
В четыре часа на рассвете мы вдруг услыхали стрельбу. Мы выбежали во двор и увидели со всех сторон дым. Тогда мы начали укладывать вещи. На нашей улице шла стрельба, рвались гранаты, падали бомбы. Отец мой запряг пролетку — он был извозчик, — а к пролетке прицепил воз. Мы выносили из дому одежу и бросали ее на воз. Но некогда было собирать вещи: соседние дома уже горели. Мы все уселись в пролетку и на воз и поехали — папа и мама и все девять детей: один брат парикмахер, один брат портной, Роза, Зуска, я, сестры Геня, Эйда, Шейна и братик Сролик. Город был в дыму. Сквозь дым на улицах метались люди с детьми на руках и с узлами на спинах. Молодые бежали быстро, а старики и дети падали.
Мы доехали до шоссе, которое ведет в Латвию. Там стояли грузовики для беженцев. Их обступила большая толпа народа. Мать закричала нам: «Идите, дети, в грузовики и спасайте себя поскорее, а мы с отцом поедем на возу». И мать стала помогать детям взбираться на грузовик. Тут ее опрокинула чья-то лошадь, мчавшаяся галопом. Мы все заплакали, а мать поднялась и, желая нас успокоить, сказала: «Это ничего, мне не больно».
Я стояла возле грузовика последней. Я ни за что не хотела лезть в грузовик, а хотела остаться с мамой. Но мама сказала: «Идите, дети мои, и спасайте свою жизнь. Вы еще молоды, вы должны еще жить. А мы с отцом уже прожили больше половины жизни». Грузовик трогался, мама кричала «садись!», и я быстро вскарабкалась в машину.
Так мы и уехали, не попрощавшись ни с матерью, ни с отцом.
Больше мы их не видали.
Рокха Озеp, 15 лет, из Таурога.
Записано 8/II-42 г. в детдоме № 1, в Ташкенте.
Сказка
Когда наш детдом эвакуировался, немцы нас обстреляли. Конечно, им отлично видно было, что это дети едут, если только они не пьяные были и не близорукие, но им ведь это все равно: они когда видят движущую точку, то они уже не могут не стрелять.
Только они в нас не попали.
Впереди на подводе ехал дедушка-кучер. Его подвода была вожатая. А потом, на второй, правил Миша Власов — его подвода была подчиненная. Я ехала с дедушкой-кучером на первой подводе. Мы его все любили. Мы его любили потому, что он нам часто рассказывал сказки и военные приключения — он в ту войну был у австрийцев пленным… Он нам говорил: «Где той войне до этой!» И лошадей нам давал из своих рук угащивать.
Вот мы едем и вспоминаем нашу жизнь. Мы в последнее время часто ходили выступать в госпиталь. Нас каждую прикрепили к своему раненному бойцу, и мы своему раненному бойцу читали вслух и дарили подарки: одеколон, папиросы, карандаши, очиночки или еще что… Мой боец был старший лейтенант, его звали Николай, он мне показывал осколок, который у него вынули из груди.
И вдруг мы слышим: летит не наш самолет. Гул у вражеских самолетов страшный, ревущий, завывающий, не такой, как у наших, — у наших гул легкий. Мы, конечно, испугались, но не очень испугались, потому что у нас все, даже маленькие ребята, уже привыкли к бомбежке и к другим событиям. Самолет спустился пониже и начал строчить по нашим подводам — хряс! хряс! — пули некоторые ишли гостряком, а другие рикошетом; покрутится, покрутится — и в землю. Ребята закричали: «Ложиться нам? Или как?» А дедушка-кучер говорит: «Станем мы еще перед ним ложиться! Давайте ехать, все целы будем!» И ударил по лошадям. И Миша Власов ударил. Мы едем, а дедушка-кучер нам криком сказку рассказывает, чтобы мы не боялись.
И верно: он в нас не попал, а скоро прилетели наши истребители, и немецкий самолет начал тикать, как дикий тигренок.
Валя Ильяшенко, 14 лет, из Мариуполя.
Записано 19/III-42 г. в детдоме № 31, в Ташкенте.
Со злости
Красивее всего было ехать по узенькому каналу. Там каждая елочка видна. Я сидела наверху и срисовывала елочки.
Мы выехали из Ленинграда только в августе, потому что мы ждали нашу бабушку. Мама боялась ехать поездами, которые сильно бомбили, и мы поехали баржой. На полки постлали матрасы и одеяла и сделали как отдельную квартирку. Мы на полке и жили.
Нас было три баржи и два катера. Катера побольше, чем пароходики на Неве. Один большой катер тащил две баржи, а другой, маленький, — одну, нашу. Вы бы поглядели, какие у нас были ловкие матросы: они переходили к нам на баржу с катера прямо по канату, как одна гражданка в цирке, которую мы видели с мамой еще до войны.
Потом настала Волга. Я срисовывала горы и позади облака. Мы подъезжали к Рыбинску — там уже вода сделалась мутная, водорослевая. Это было днем, мы только собирались обедать. Вдруг из-за облаков с большим жужжанием вылетели самолеты. Они летели к шлюзу, а за ними гнались наши «ястребки». Они до шлюза не долетели, испугались и со злости сбросили бомбы на наши баржи. Завыли гудки, и еще громче закричали люди. Я увидела крошечные точечки, они в воздухе делались все больше и больше, а когда они упали, я их не видела и только услыхала взрывы.
Две баржи сразу ушли под воду и потянули за собой свой катер. На каждой барже было семьсот человек. Мы кричали, и многие дети топали ногами. Наш катер отцепился от нас и пошел спасать тот, но вода качалась воронками, и шлюпки не могли плыть. И баржи утянули свой катер за собой под воду.
Ни единой тряпочки, ни щепочки но всплыло.
Оля Гусельникова, 10 лет, из Ленинграда.
Записано 28/III-42 г. в г. Ташкенте.
Серебряный нож
…Всяко бывало. Вот один немец заскочил в домик, подошел к женщине, говорит: «Скажи, находятся ли здесь, в вашем доме, красноармейцы? Где вы их спрятали?» Она говорит: «Никто не находится, мой муж уже убитый на войне, и больше я не знаю». А эта женщина не русская была, а татарка или кавказка. У них был четырнадцатилетний мальчик, и вот когда немец схватил мать за шею и притиснул ее к стене, то она что-то сказала мальчику по-кавказски. А у них было три ножа: один — которым хлеб резали, другой нож — брата (брат в Красную Армию ушел), а третий — отца, с серебряной ручкой. Мальчик схватил серебряный нож, подошел сзади и сюда вот, под левую лопатку, ткнул. Немец только сказал: «Ой!» — и повалился.
Всяко у нас бывало. Было — и я немецкого офицера убил.
Немцы ворвались в привокзальную часть, и там у нас целую неделю шли на улицах бои. Мама меня не пускала уходить из дому, говорит: «Если тебя кто-нибудь убьет и отца на войне убьют, то с кем же я буду. Не ходит». Я ей всегда помогал, по воду сбегаю, дров наколю или еще что. Но я не слушался, уходил на улицу. С кирпича на улицах были сделаны укрепления, и там такие дырки, для винтовок. Бывает, там здоровая идет перестрелка и нашим патронов не хватает, так мы с другими мальчиками подтаскиваем.
Нам бойцы или собаку пошлют, или камень бросят с записочкой от командира — мы и бежим на склад. Конечно, без ничего нам на складу ничего и не выдадут, но с записочкой командира и патроны, и гранаты давали. Собаку если неученая, то приманишь, а если ученая — сама прибежит. У нее тут такая сумочка на шее и там записка.
Кто из бойцов или гражданского населения попросит, тому и поможешь. Ведь у нас тогда все бились, которые в армию не ушли. И женщины, и мужчины. Кто меня покличет, я тому и помогаю. Доски носил, таскал кирпичи, укрепления залаживал. Так и так — кирпичи, а потом, так и так, доски.
Конечна, я больше всего хотел стрелять, но мне, конечно, не давали: маленький, говорят, да и все. А я ходил искать хоть наган. Там был один дом в шесть этажей: три этажа воздухом снесло при взрыве, а три осталось. Я был забравши на третий этаж: хожу, смотрю, вдруг посчастливит, найду себе наган! А там на втором этажу балкон и на балконе стоит нагнувшись немецкий офицер и глядит вниз. Я взял из стенки кирпич и кинул ему прямо в затылок. Перил там не было. Он и полетел. Я не знаю, хорошо ли он со второго этажу разбился нет ли, потому что я скорее убежал.
Камни подходящие, плоские, мы с ребятами бегали набирать на Дон, на ту сторону. Потом тащишься назад, груженный, что верблюд. Карманы рвутся. Один раз мы туда прибежали — еще привокзальная часть не была занята — и, здравствуйте, нарвались: там немецкая разведка пришедши. И вот я видал, как они вошли в одну избу, стянули одеяло с кровати и все туда швыряют: часы, чашки, ложки, шторки, детскую пушку, разные куклы-человечки, машину детскую легковую — такая ключиком заводится. Стали спрашивать у старика и старухи: «Где стоят красные части?» Старика наповал убили и ребеночка, чья машина, а старухе отрубили руки. Но она и на это им ничего не сказала.
…Всякое было. Один раз ранили меня. Я бежал по военному делу. Немецкая бомба взорвалась метров от меня за сто. Я, конечно, лег. Сначала вдарило, как из пушки, потом — вж! вж! — потом осколки посыпались: это осколочная была бомба. Маленький тонкий осколочек разрезал мне на ноге палец ровненько пополам. Меня одна тетенька подняла и принесла на руках в медпункт. Крови набежало в ботинок — полная лужа.
Вася Бохан, 12 лет, из Ростова.
Записано 4/IV-42 г. в карантинном детдоме, в Ташкенте.
М. Шкапская ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ (Книга фактов)
Черная ночь
Когда Зоя Феоктистова из Спасо-Помазкина под Волоколамском вышла из родного села, откуда их выгнали немцы, их было пятеро. Мать несла малышей двух и трех лет. Десятилетняя Зоя взяла грудного: он легче.
Мороз был около пятидесяти градусов. Если на таком морозе плюнуть, то плевок застывает и, падая на землю, стучит, как камешек. И земля становится тоже подобна камню. Все живое прячется в берлоги, в дупла, зарывается в снег. Человек в такие ночи сидит дома у печи.
У Зои тоже была жарко истопленная печь. Дети уже спали. Немцы вошли неожиданно и сразу приказали им покинуть избу.
Зоя и ее мать знали, что просьбы бесполезны, и вышли. Небо разрезали молнии снарядов, ветер сбивал с ног. Мать тяжело ступала, сгибаясь под двойной ношей. У Зои стыли ручонки, маленький как-то странно затих.
«Мамочка, мне больно рукам!..» — стонала Зоя.
Мать молчала и шла. Она понимала, что это значит. «Мамочка, он падает, я не могу больше!» — кричала в отчаянии Зоя.
И мать сказала ей глухо и хрипло; «Брось его в снег». «Мамочка, он умрет!» — кричал в тоске ребенок.
«Брось его в снег», — повторяла мать, шагая все тише, все тяжелее. Ей надо было выбирать между двумя детьми. Она выбрала.
Пусть бросит в нее камнем тот, кого жизнь не заставляла делать такой выбор!
— И я положила его в снег, — говорит девочка, задыхаясь от слез. — Нет, нет, я его не бросила, я его положила тихонько.
Ребенок давно умолк, но ей казалось, что он кричит все громче и громче. Может быть, это только звенело в ушах, но она схватилась за голову и бежала вперед. За ней тяжело ступала мать.
Снаряд разорвался так близко, что убиты они были все трое сразу: и мать, и оба мальчика. Смерть была к ней добрее, чем гитлеровцы, она взяла ее с обоими сыновьями, чтобы не пришлось выбирать еще раз. Зоя осталась одна в безмолвии ночи.
— Отрезали мне пальчики, которые его бросили, — говорит она, как взрослая, глядя на свои культяпки.
Последнее слово
Деревня Вани Громова, Новинки Волоколамского района, в начале зимы оказалась на линии фронта.
Ваня видел первую немецкую атаку. Они шли в рост, пытаясь внести панику в ряды наших бойцов. Ваня отнесся к атаке так же спокойно, как и бойцы.
Когда подбило ноги двум связным, Ваня волоком вытащил их из огня, перевязал, отвез в лазарет и опять вернулся.
Наши прикрывали отход на новые позиции. Когда они стали отходить, Ваня нашел еще раненого. Пока он его перевязывал, в деревню вошли немцы. Ваню как пленного отправили в штаб.
Его ввели в избу, где были два офицера, переводчик и еще трое военных. В углу у печки сидела старушка хозяйка.
Его спрашивали, не солдат ли он, не коммунист ли. Ваня, улыбаясь, ответил, что у нас ни в армию, ни в партию не берут малолетних.
После краткого допроса старушку выгнали. Офицер выдвинул на середину избы стол. Ваня решил, что его будут вешать. Но офицер сказал ему: «Шпать, шпать» — и положил голову на руку.
«Ну, значит, не повесят», — подумал Ваня и лег.
Офицер снял с себя ремни, раздвинул Ване ноги и привязал их к ножкам стола. Ремней не хватило, сняли их у переводчика и еще у одного. Затянули руки ремнями и сели курить. Если мальчик шевелился, кричали на него.
Он лежал и смотрел на мучителей. Взгляд его был, видимо, ужасен: один из фашистов прикрыл ему глаза рукой и еще пальцем погрозил: «Но гляди!» — и ушел во двор.
Через несколько минут вернулся, в руках у него была слесарная ножовочная пила. Опять крикнул: «Рус, не гляди!»
Но он глядел не отрываясь. Мальчишеская гордость не позволяла закрыть глаза. Голова у него свесилась за край стола, руки затекли, но он все смотрел.
Все шестеро, пересмеиваясь, столпились возле связанного ребенка, оттянули ему раненую правую руку. Мальчик вдруг почувствовал на руке острый холодок стали.
— Уже начали пилить, а я все не верю, — говорит Ваня, — не верю, что могут такое сделать.
Они могут все: шесть взрослых мужчин, покуривая и смеясь, пилили руку ребенку.
Ваня не помнит, кричал ли он. Может быть, даже не кричал.
— Как перепилили кожу, так я стал без памяти.
Когда Ваня пришел в себя, изба была пуста, он лежал на полу, залитом кровью, подле него стоял на коленях русский санитар и бережно гладил его по взмокшей голове, приговаривая участливо: «Ничего, паренек, не робей, я крепко перевязал».
Ваня думал, что он уже у своих, что его отбили. Оказалось, санитар, тоже пленный, остался в селе с тяжелоранеными. Его вызвали, чтобы перевязать Ване руку. Кисть была отпилена начисто.
«Знаешь, они смеялись, — рассказывал Ване санитар, — говорили: „Ты больше зольдат никс, стрелять никс“ — воевать никогда не сможешь».
«Ну, это мы посмотрим — никс или как! Мое слово последнее», — ответил мальчик, снова теряя сознание.
Ваня через три недели убежал от фашистов к матери. Живя в деревне, с гноящейся рукой он ухитрялся помогать партизанам. Когда вошла Красная Армия, его отвезли в госпиталь. Сейчас рука уже подживает.
— Как новая кожа у меня нарастет, уйду на фронт, — говорит он твердо. — Я уже левой рукой стрелять научился, а в разведку и тем более гожусь. Пусть посмотрят — никс или как.
НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ НИКОГДА!
Книга, которую читатель держит в руках, написана прозой, но разговор о ней хочется начать стихами. Анна Андреевна Ахматова сказала в самые страшные дни войны, в 1942 году:
Мы знаем, что ныне лежит на весах И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах. И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова,— И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, и от плена спасем Навеки!Великое русское слово мужественно вело свои битвы в Великую Отечественную войну, есть и его доля в победах нашей Родины.
В раздумьях и суждениях писателей этих лет встают вопросы жизни и смерти. Война заставляла посмотреть на все иными глазами, отбросить незначительное, мелкое, увидеть решающее. И прежде всего — война была открытием ценности правды. В «Василии Теркине», размышляя о том, что всего нужнее на войне, Твардовский писал:
А всего иного пуще Не прожить наверняка — Без чего? Без правды сущей, Правды, прямо в душу бьющей, Да была б она погуще, Как бы ни была горька.Правда и память, слитые воедино, — страницы этой книги. Суровая правда, горькая память. Писатели создали свою историю войны — обжигающую. Это были не только мастера, владеющие пером, но и люди с чуткой совестью. Все ближе и смелее, с болью сердечной они всматривались в судьбы народа, в детские судьбы. Каждый из них писал о войне по-своему. Но, собранные вместе, эти голоса из воины и сейчас — пульсирующий и живой сгусток мысли и воли, памяти и страдания, это — частица воюющего духа народа, который не сдался и не опустил глаз перед страшным пережитым и увиденным, не забыл красоту, силу человека, великого людского братства и милосердия.
Ядро этого сборника, самое лучшее, пронзительное и раскаленное в нем, — строки Л. Леонова, А. Платонова, А. Толстого…
Это — подлинные шедевры русской военной публицистики, а лучше сказать — антивоенной. Это — Слово в защиту Родины и Народа, в защиту Детства и Мира. Тут призыв и заклинание, ораторская лирика и напутствие, клятва и обет, искренняя исповедь и мудрая проповедь. Мой вам совет: прочитайте очерки А. Платонова не один раз, прочитайте медленно, вдумчиво, отвлекаясь, углубляясь в свое, возвращаясь к иным местам и мыслям. Строки эти принадлежат к лучшему в нашей прозе о войне и воюющем человеке, о детской трагедии военных лет.
Такого же внимательного чтения заслуживает и Леонид Леонов. «Твой брат Володя Куриленко» — назвал он свой очерк.
Все мы тогда были братья и сестры, дети великой матери — земли нашей, Родины нашей. Сквозь возвышенную интонацию леоновского слова вслушайтесь в звуки времени: это ведь не риторика, это бьется сильный и учащенный пульс эпохи.
«Умей расшифровать, увидеть в недосказанных подробностях сухую газетную сводку, современник!» — писал Леонов. Теперь эту расшифровку делаем мы, восстанавливая по звукам голоса, по краскам слова дух того времени. И тогда, в самые трудные и страшные времена, все равно жива была уверенность в победе. И эта уверенность питалась не только верой в великого Сталина, как продолжают и до сего дня считать и думать многие, а, может, больше всего надеждой на таких, как Володя Куриленко, «обыкновенный человек наших героических будней», как его товарищи со «смущенными добрыми лицами крестьянских детей».
«Память народа — громадная книга, где записано все», — говорит Леонов. В самый разгар войны написаны им два письма «Неизвестному американскому другу». С огромной силой и тревогой предостерегает писатель против тотального насилия, против убийства, возведенного в привычный порядок жизни, против воспитания «нового вида двуногого домашнего животного», которое, «взирая на бич хозяина», будет «драться за его интересы». Вот цель всесветного фашизма. Это новое животное будет лишено «времени на любовь, на познание, на мышленье — эти неиссякаемые источники его радости, его горя, его божественных трагедий».
И прежде всего тотальное насилие грозит детям. Сокрушение фашизма — это всегда защита детства, обращение к ценностям, которые не имеют замены, которые равны самой жизни, ее продолжению.
Именно в годы Великой Отечественной войны возникло особое качество сознания, которое сегодня, почти полвека спустя, называется «новым мышлением». Человечество осознает себя единым, и общечеловеческие заботы: о мире, о жизни, о детях, о природе — это и есть его главные заботы. «Нынешняя война начинается с вторжения десятков миллионов людей… с… истребления самого неприкосновенного фонда, наших матерей и малюток. Нужно, — призывает Леонов, — заглянуть в самый корень этого основного недуга Земли». В муках и подвижничестве военного времени рождались главные истины, которые могли сохранить — и сохраняют сегодня — будущее.
Война в глазах казаков-хлеборобов у Шолохова помеха извечному делу землепашца. И шолоховские земляки-донцы встают против ворога с гневом и силой, чтобы согнать его со своей земли, убрать злую помеху делу.
И. Эренбург привлекает репортажной стороной. Впечатляет картина всенародной беды, кочевой жизни, набросанная им в дневнике военных лет, рассказы о воюющей Европе. И здесь выявляется еще одно важнейшее качество публицистики военных лет — ее информативность. Очерки, статьи, рассказы сообщают простыми словами, как это было. Поэтому столь важна для нас главная тема творчества А. Твардовского, автора «Василия Теркина»: рядовой войны. Не знаменитые маршалы, генералы, не выдающиеся герои, известные всей стране, — ему была близка народная многоликая стихия: майоры и рядовые, капитаны и старшины, сражавшиеся в самой гуще боев..
Но горше всего видеть бедствия мирного населения. Твардовский не хочет, а скорее, просто не может скрыть от себя и нас, читателей, как тяжко он поражен увиденным: «Поезд Москва — Киев остановился на станции, кажется, Хутор Михайловский. Выглянув в окно, я увидел нечто до того страшное и ужасающее, что до сих пор не могу отстранить это впечатление… поле было покрыто лежавшими, сидевшими, копошившимися на нем людьми с узелками, котомками, чемоданами, тележками, детишками. Я никогда не видел такого…».
Не стану продолжать дальше. И как говорится, не дай бог нам увидеть такое: дети, старики, женщины, брошенные под открытым небом на произвол судьбы, зачастую совершенно беззащитные.
Но, забегая вперед, хочу сказать: отбирая из многого написанного в те годы немногое и самое существенное для этой книги, много переживая и передумывая над страницами фронтовой, военной публицистики тех лет: и горького, и страшного, и жгучего, и даже стыдного, — скажу, чего в ней не было: не было звериной ненависти и жажды крови… Не было призывов к человеконенавистничеству. Да, много писали о мести и ненависти там, где невозможно более вытерпеть поругание и насилие. Это так! Но всегда хранило человеческую душу — и писателя и читателя, солдата тех лет, — хранит и нашу сегодняшнюю душу чувство справедливости и правды, которое всегда живет в глубине народной, в нашей культуре, в нашей совести.
Думаешь об этом, читая страницы Твардовского о том, какую сердечную боль вызывает у него покидаемая, несжатая, изуродованная боями нива, колосящийся неубранный хлеб… Думаешь об этом, читая страницы, на которых видишь невыразимые муки и терпение женщин, их молчаливый трудный и страдный путь — с детьми, без всякой надежды — через войну. Их тяжкий путь на самой войне — санитаркой, санинструктором, медсестрой, партизанкой…
Хорошо сказано: «У войны — не женское лицо…»
И тем более — не детское.
Что и говорить, дети, вывезенные из фронтовых областей в глубокий тыл, очень часто встречали заботу, помощь, внимание. Их приняли в свои семьи незнакомые люди, спасли, обогрели и накормили. Это судьба десятков и сотен тысяч детей. А сколько было детдомов с такими детьми, в том числе и ленинградскими, по всей стране — от ближней Ярославской области до Средней Азии и Сибири! О таких судьбах рассказывают К. Чуковский в книге «Узбекистан и дети», С. Маршак в очерке «Родные дети».
И все же — какой страшной была действительность, каким жестоким и смертельно опасным стал мир для иных сотен тысяч, для миллионов детей: и в блокадном Ленинграде, и на земле, захваченной фашистами, и в чудовищных лагерях уничтожения!..
Никакие хорошие слова и добрые дела, которые не должны быть забыты, не могут заслонить этого страшного факта.
Перечитайте, что пишут дети о себе в очерке Л. Раскина, прочитайте, что рассказывают они о пережитом в документальных записях Л. Чуковской и Л. Жуковой «Слово предоставляется детям» и М. Шкапской «Это было на самом деле»… Какое море страданий, боли, горя, какие перекореженные тела и души детей! «Мы, — пишут Л. Чуковская и Л. Жукова, — стремились не только возможно точнее сохранить описание фактов, но и довести до читателя самый голос, подлинную интонацию рассказчиков».
Вслушаемся же сегодня в эти голоса! И пусть у нынешних читателей хватит духа — прочитать все это и хватит воображения — представить: как все было на самом дело.
…Как девочка-подросток оставила в снегу своего брата, потому что не было сил нести его дальше в бесконечном бегстве от врага; как на глазах у ребенка третья бомба убила его мать, как отпилили пилой кисть у подростка фашистские палачи, чтобы он не стрелял в них; как на глазах у детой, плывущих на барже, бомбят и топят две другие баржи с детьми («На каждой барже было семьсот человек. Мы кричали, и многие дети топали ногами». Но что они могли сделать?! «Ни единой тряпочки, ни щепочки не всплыло».)
В рассказе старейшего писателя А. Серафимовича «Ребенок» пятилетняя Светлана попадает в бомбежку
«…Детишки в проулке играли; немцы бросили на них бомбы. А у детишек полетели руки, ноги, а у одной девочки нет головы. А мама ее прибежала, упала, обняла со, а головы нет, одна шея… А другие мамы искали от своих деток руки, ноги, кусочки платьица…»
И старый писатель Серафимович слушает этот надрывный рассказ своей внучки с душевной мукой… Что он может сделать, чем помочь, как спасти?..
Красноармеец, один из тех, к кому за спасением вышли старик и девочка, говорит: «Вот что страшно: мы начинаем привыкать, ко всему привыкать, — дескать, война, и что ребята валяются — тоже, мол, война».
К этому нельзя привыкнуть никогда!
И стыд взрослого вооруженного человека, его бессилие защитить детей это один из главных уроков прошлой страшной войны. Поэтому и сборник, который ты закрыл, мы назвали «За всех маленьких в мире». За всех. Потому что, как говорил Л. Леонов, «все дети мира плачут одинаково».
И еще одна тема — ленинградская блокада.
В эту книгу введены документы из первых рук — то, что писалось тогда и там. Стоило поднять глаза от рукописи, и видел воочию все, о чем пишется, вокруг себя, чувствовал в себе самом: это была собственная судьба, разделенная миллионом блокадников-ленинградцев — детей, женщин, стариков.
С таким чувством читаются сегодня строки Л. Пантелеева, О. Берггольц. И уже тогда они требовали: не нужно приукрашивать подвиги, нужна более всего правда, «да была б она погуще, как бы ни была горька».
Л. Пантелеев записывает в блокадном дневнике: в центральной печати о жизни блокадного города говорят «с уважением, а часто и с восторгом, и это, конечно, приятно, лестно, вызывает подъем, придаст сил и бодрости. Однако, — продолжает он, — кое-что в этих откликах и телеграммах удивляет и даже раздражает. Что же именно? А именно — чрезмерная легкость корреспондентского пера, замазывание тех трудностей, которые нас окружают и с которыми нам приходится бороться — бороться всерьез, по-военному, очень часто не на жизнь, а на смерть».
Такого по большей части невольного «замазывания» трудностей — при всех восторгах и уважении — было не так уж мало, особенно в первые месяцы войны, когда размах и бедствия войны еще не были осознаны и прочувствованы, когда еще сохранялась инерция предвоенного самоослепления и «шапкозакидательства».
Известно, что на войну ушло множество писателей, многие из них и сложили свои головы на войне. Среди них был и Аркадий Гайдар. Осенью сорок первого года он еще допускал, что дети могут быть на войне ее удачливыми участниками.
«Пройдут годы. Вы станете взрослыми, — писал он с искренним подъемом. — И тогда в хороший час отдыха после большой и мирной работы вы будете с радостью вспоминать о том, что когда-то, в грозные дни для Родины, вы не болтались под ногами, по сидели сложа руки, а чем могли помогали своей стране в ее тяжелой и очень важной борьбе с человеконенавистным фашизмом».
Сегодня эти строки читать как-то неловко: настолько иной была реальная судьба детей на войне. Да, они не «болтались под ногами», но во множестве были затоптаны страшным солдатским сапогом войны — безоружные, слабые, больше всех неподготовленные к тому, что на них обрушилось.
Да и могут ли дети быть подготовленными к войне?! Дети, даже если они оказались на войне с оружием в руках, все равно ее жертвы, самое уязвимое место народной жизни.
Конечно, военные очерки А. Гайдара тоже документ, свидетельство того, как не сразу и порою очень трудно прозревали тогда многие пишущие люди реальность войны; как нелегко менялось общественное сознание.
Заблуждения мысли и чувства в те годы, самовнушения, желание представить жизнь в стране до войны в одном лишь радостном свете — как счастливую, полную свободы и человеческого достоинства. Нужно ли сохранить эти места в книге? Но вместо них не поставишь отточий, поскольку это не личные ошибки и заблуждения того или иного автора, а наши общие заблуждения и самообманы, наши настроения и предрассудки, миф о «величии и мудрости» Сталина.
И все же в публицистике военных лет сильное и правдивое слово было найдено и сказано так, что услышали все! Это было «огненное обличение на устах», как говорил Леонов. Мы снова возвращаемся к произведениям этого писателя, потому что в них перекидывается мост из тех лет и тех мыслей в день сегодняшний. Сохранилось ли в нас то чувство военного родства? Братья ли и сестры мы сегодня? Живо ли в нас чувство Родины? Избежим соблазнов отвечать на этот вопрос поспешно и не задумываясь. Немало тут накопилось вопросов за долгие годы после войны.
Но есть сегодня доказательства сохранившейся связи, внутреннего неистребимого родства наших душ с судьбой и душой Родины. Это то, что делает и делала большая литература: возвращение честных имен, запятнанных лжецами и очищенных нашим временем, поднимающаяся всеобщая молодая тревога, не дающая лишить Родину ее природных богатств, движение юных душ и сердец в защиту нашего прошлого и его прекрасных памятников, самой памяти…
Но и тогда, и сегодня мы не можем обойти этой больно переносимой темы детства на войне. Дети не виноваты! Нельзя допустить, чтобы они стали добычей смертельного насилия. Леонов пишет о детях-инвалидах, которые «тельцем своим познали неустройство земли». Они прячут «свои культяпки под одеялом, стыдясь за взрослых, не сумевших оберечь их от ярости громил».
Этот стыд и боль вошли в наше сознание в годы Великой Отечественной войны. Мы, взрослые, все отвечаем за судьбу детства. Иначе станет невозможной преемственность поколений, доверие детей к отцам. «Каждый отец есть отец всех детей земли, и наоборот, — писал в годы войны Леонов. — Вот правда, без усвоения которой никогда не выздороветь нашей планете».
В репортаже из Харькова, где проходил первый суд над палачами («Тебе не кажется, читатель, что детской кровью отпечатаны эти строки о процессе?..»), Леонов пишет и о том, что будущее может и не простить невинную детскую кровь: «Завтра осудят моих современников за допущение на земле страшнейшей из болезней».
Суд над преступниками не излечивает раны, но тем более требует осмысления уроков. «…Там, на самом дне нижнечирской ямы, под скорченными детскими телами, лежит великая истина, которую обязан извлечь оттуда и понять мир».
Какая же истина?
Все, что мы сделали тогда, в военные годы, все, что делаем сегодня, имеет смысл лишь при условии, что есть кому передать сделанное, что есть наследники, которые захотят войти в права наследования, согласясь с пройденным путем. И в их глазах зигзаг пути, который привел нас к этой «нижнечирской яме», будет преступным отклонением от верного пути. Если же ход событий приводит к этой яме, если найдутся люди, которые сочтут ее, эту яму, и скорченные тела детей допустимым «промежуточным» этапом на пути к счастью, то не хотим мы сегодня принять за истину такой ход событий! И не удивимся, если тех «отцов», которые допустили его, потомок будет вправе «оскорбить презрительным стихом».
Понять эту великую истину и не повторять ошибок прошлого, — вот о чем неустанно звонят колокола памяти, колокола Великой Отечественной войны.
А. Акимова,
кандидат филологических наук
Примечания
1
Друг познается по любви, по нраву, по лицу, по делам. (Лат.)
(обратно)2
Я обвиняю. (Франц.)
(обратно)3
Английская велосипедная фирма.
(обратно)




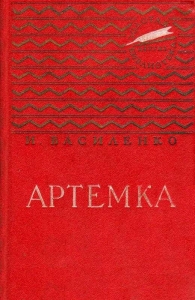






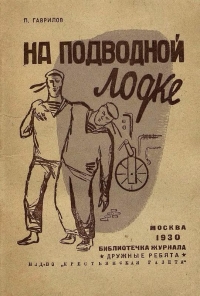

Комментарии к книге «За всех маленьких в мире», Алла Николаевна Акимова
Всего 0 комментариев