Смольников Алексей Степанович МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУЧЕЙ Рассказы
СОСНЫ ШУМЯТ
Мне, наверное, и не сказать, отчего я тогда проснулся. Может быть, тень отодвинулась и солнце нашло меня под сосной и защекотало мне веки. Оно всё время подсматривало из-за веток: сплю ли я. А может, по лицу пробежал муравей — это тоже щекотно.
Весь лес был прострелян лучами. Ветви искрились от света. Казалось, они не зелёные, а синеватые. Они вспыхивали, качаясь, и отбрасывали вниз дымчатые снопики тени. Я зажмурился. Когда я посмотрел снова, прямо передо мной на поваленном сосновом стволе сидел бурундук: пушистая, обведённая горячим лучом спинка и глаза — две чёрные бусинки, устремлённые на меня. Бурундук не успел даже опустить передние лапки, и только глаза сразу остановились на мне, и мы минуту глядели друг на друга, ничего не понимая. Он, наверное, что-то делал и вдруг почувствовал, что не один здесь, и застыл от неожиданности: откуда, мол, я-то тут взялся!
Я лежал на спине, не смея ни встать, ни пошевелиться. Мне казалось, если встану, всё исчезнет сразу: и застигнутый врасплох бурундук, и кисточки хвои, сквозящей на солнце, и эти неподвижные, зацепившиеся за ветки облака там, наверху.
Смешной бурундук: всё-таки испугался. Он пискнул и взбежал на сосну и уселся там, повыше, не сводя с меня своих бусинок.
Сосна стояла чуть сзади и сбоку; она была видна мне не вся, только уходящий вверх медный с чернью ствол да литые толстые сучья, раскачивающиеся на ветру. На меня осыпа́лись золотистые чешуйки коры и высохшие иголки — земля вокруг была усыпана горячей хвоей. Я ведь и облюбовал эту сосну потому, что под ней удобно: и тень, и постель, и даже кочка под голову. Она покрыта сухим белёсым ягелем, эта кочка, а на ягеле чернеют капельки шикши[1] — лежат, как на подушке. И прямо к щеке свешивается кисточка брусники.
Я лежал там, где и прилёг, разморённый, час или два тому назад, возвращаясь с ягодами, и смотрел на этот умостившийся на кочке кустик брусничника. Листья большие, лаковые, кажется, покрыты проступившим от зноя воском. А ягоды уже не красные, а тёмные, туго налившиеся. Они даже светятся, если всмотреться, как тлеющие угольки.
Брусника вкусная в эту пору, я знаю, но мне не хочется срывать её ни губами, ни руками — пусть ещё растёт. У меня ведь её полный туесок, он стоит сзади, за кочкой.
Когда лежишь на земле, всё вокруг совсем по-другому пахнет. Наверное, потому, что всё близко. Воздух будто замешан на этих запахах: в нём сразу и сырость, и хвоя, и разогретая сосновая смола… Катышки смолы, побелевшие и крупные, как дробины, рассыпаны вокруг по хвое, и к ним то и дело подбегают рыжие муравьи и ощупывают их усиками. Но не берут — им почему-то нужны только сосновые иголки и прутики. Наверное, строят муравейник. Они всё лето строят, каждый день, даже когда жарко, как вот сейчас. Должно быть, торопятся успеть до осени — там ведь дожди пойдут.
Говорят: вот суетятся, как муравьи. Это когда кто-нибудь без толку носится. А они совсем не суетятся, они таскают себе прутики — и в одиночку, и вместе, вдвоём или втроём, если тяжёлый на что-нибудь нужен.
Тут же работают и какие-то другие муравьи — чёрные и крупнее. Они даже не смотрят на этих рыжих мурашек, а пробегают дальше, один за другим, будто у них тут дорога. Может, и в самом деле дорога: её не видно, но ни один с неё не сворачивает. Бегут и бегут — вперёд пустые, а обратно обязательно с ношей. Таскают они в свой муравейник или в норы — я не знаю, где они живут, чёрные, — не хвою. Может, эти не строители, а может, отстроились уже. Я видел, как они тащили кузнечика. Он уже неживой был, и они тащили его вчетвером, волоком. Кузнечик задевает за всё своими ножками, муравьям трудно. Конечно, лучше перевернуть его на спину, чтобы ноги оказались сверху, чтобы не цепляли, но они не переворачивали его. Наверное, им недалеко.
А те, маленькие мураши, живут не близко. Я видел их муравейник, нарочно прилёг подальше, чтобы они не мешали мне, а они вот и сюда добрались.
Может, здесь иголки и прутики лучше? Что, если попробовать подтащить им пригоршню этих иголок прямо к муравейнику?
А хвоя горячая-горячая. И вообще жарко. Рядом со мной высунулась из хвои сыроежка — шляпка, растрескавшаяся с краёв, ножка тоненькая, хрупкая. Даже вон палые сосновые шишки растопорщились, будто просят пить. Сухо.
Я подгребаю к себе груду хвои для муравьёв, потом уж приподнимаюсь. Голова даже закружилась. Сажусь, а лес повело, повело куда-то. Листочки трепещут, и ветви раскачиваются, будто деревья руками всплёскивают: встал, встал! А я ещё не встал, я просто сел, опираюсь ладонями на прогретую хвою и смотрю, где мой туесок с брусникой.
Идти к муравейнику не хочется, всё-таки иду — очень хорошо ступать по горячей хвое!
Муравейник прилепился под елью. Дремучая, обросшая мохом, она его совсем прикрыла тёмными лапами. Муравьи устроили всё так, чтобы дождём их не доставало. А хвоя на муравейнике еловая, короткая. Выходит, эту, из-под сосны, муравьи не сюда таскали?
Я смотрю, что они станут делать с ней. Я положил её прямо сверху. Конечно, не так, как они положили бы сами, но разве тут разберёшься, где какая иголочка должна лечь! Муравьи — откуда они только повыползали! — так и облепили новую хвою. Может быть, им надо осмотреть её, а может, их и не хвоя интересует: они ведь тут, наверху, достраивали что-то, а я завалил.
Возле муравейника стоит тоненькая рябина — всего-то прутик да несколько листиков. Она пригибается под ветром, будто головой качает: что наделал, что наделал? Наверное, я всё-таки положил эту хвою не так — муравьи побегали и принялись её растаскивать. Жаль, конечно, помешал только. Мне хочется снять эту хвою, но я боюсь, поломаю у них что-нибудь. Однако и уходить теперь просто так тоже не хочется. У меня есть сахар, один кусочек. Муравьи любят сахар. Я кладу его поверх хвои.
Тропинка ведёт просекой. Идти по солнцу ещё жарко, я сворачиваю в лес. Он только там, наверху, густой — там ветки переплелись, а здесь, внизу, одни стволы. Редкие.
Когда-то в лесу сделали прорубки. Может быть, от пожара, чтобы через них не мог перескочить огонь, а может быть, отводили делянки под вырубку. Лес разделён этими просеками на участки, и на перекрёстках просек поставлены столбики с какими-то надписями на затёсах. Потом каждый участок прореживали и чистили, так что когда идёшь лесом, всё время попадаются высохшие кучи сучьев, а где-нибудь рядом обязательно сложены и сами сосенки, и ёлочки — те, что слишком густо росли, мешали друг другу. А ещё встречаются — почему-то их не вывезли — тоже очищенные, без сучьев и даже распиленные на кряжи совсем уж толстые стволы. Эти сосны, когда была прорубка, наверное, уже перестояли, и их свалили. Собирались что-нибудь сделать из них, пока они ещё крепкие, да вот забыли здесь, с тех пор они и лежат. Кора на них вся высохла, отставать стала, а на потемневших распилах проступили капельки смолы. Это живица. Говорят, она полезная, её собирают. Только в этом лесу про неё, видно, тоже забыли: и подсочка сделана — кора на соснах местами снята, и желобки для стока нарезаны ёлочкой, уголком вниз, а живица течёт прямо на землю — никому не нужна…
От ручья мне сворачивать направо — так ближе к дому. Я уже вижу, он недалеко, этот ручей: там, возле него, зелень темнее — смородинник, черёмуха, ольха. Но мне не хочется сворачивать сразу, мне хочется сперва подойти к ручью. Я всегда подхожу к нему, когда возвращаюсь из лесу, — в нём вода вкусная. Над самой водой — её не видно, если не подойдёшь близко, — летают стрекозы. Их зовут зиньки. Это, наверное, потому, что они так крылышками делают: зиннь, зиннь, зиннь.
Вода тёмная, в дымчатых пятнах солнца. И спокойная-спокойная, её даже трогать не хочется. Но я не могу, чтобы не напиться. Я оставляю свой туесок наверху, спускаюсь вниз. Здесь тень и сыро.
Я опираюсь руками на донные камушки, тянусь губами к воде и вдруг вижу в ней своё лицо: оно выставляется прямо из облака. Смешное, когда вот так вытянешь губы. На носу и на лбу капельки пота. Я пью, потом провожу по лицу мокрыми ладонями. Ладони холодные.
Мимо меня проплывает оса. Она не плывёт, конечно, её ручей несёт. Чёрно-золотое полосатое брюшко часто дышит. Воды она им не касается, она просто опирается на неё лапками. Тоже, наверное, напиться прилетела.
Я смотрю на воду. Рядом в заводи снуют тяжёлые жуки-плавунцы, свешиваются с берега кисточки красной смородины. Зиньки садятся на смородинник отдыхать, и ветер раскачивает их вместе с листьями. Эти листья для зинек, наверное, как качели. И ручей — он только для нас маленький — для них река. И для плавунцов тоже река. И они живут тут всю жизнь, как мы живём возле своих рек, не обращая на это никакого внимания. Просто живём рядом, сами по себе, и всё. Разве что зиньки по улице пролетят, а мы по их ручью пройдём. Как вот сквозь тень пройдёшь, а она остаётся такая же — ничего не изменилось.
Интересно всё устроено: вот эти плавунцы или рыбы живут в воде, мы — на суше, а выше нас — птицы. И мы только в гости заходим, когда нам искупаться нужно или полететь на самолёте. Теперь мы, конечно, высоко залетаем. И там, ещё дальше, наверное, тоже кто-нибудь живёт — не одна же наша земля во всём свете!
День уже переломился, солнце пошло книзу, и мне пора домой. Но я жду, когда мне захочется пойти домой, а мне всё не хочется и не хочется. Я ещё рву смородиновых листьев — это чтобы заварить чай. Вкусно со смородинником, пригодится.
У ручья тихо. Мне слышно, как всплёскивается иногда, пощёлкивает на ветру листва и неторопливые, большие шумят над головой сосны — будто машут солнцу или уплывающим куда-то там по синему-синему небу белым облачкам. Я смотрю на эти облака долго-долго. И слушаю сосны, и молчу: так больше услышишь, когда молчишь.
СОЛОВЕЙ
Так звали лошадь — Соловей. Старого, с негнущимися, будто они были деревянные, ногами смиренного мерина. Был он отменно бел и крупен, на нём бы впору полководцу гарцевать, въезжая в поверженный город, но Соловей наш, как видно, не дождался своего полководца. Полководцы теперешние всё больше на машинах ездят, а он, коняга, уже много лет возит воду. Мы и взяли его в экспедицию прямо от водовозной бочки.
Честь эта — привести Соловья в отряд — выпала мне. Конюх надел на него принесённую мной уздечку и, оглядев меня критически, спросил: верхом поеду или поведу? И когда я пожелал ехать верхом, сказал: «Мудрый конь вам достался, артист…»
Соловей подождал, пока я влез ему на спину, уселся, и сразу же тронулся, будто и сам знал, что ему нужно делать. Потом, когда дорога за посёлком раздвоилась, он, опять-таки сам, выбрал нужную и направился по ней.
Тропинка в наш лагерь вела то берегом, у самой воды, то мшистым, в прозрачных лужах яром. Соловей, прежде чем ступить в лужу, останавливался, нюхал воду, а я рассматривал бурую, в цветных ковриках мха тундру, голые окрестные сопки.
Перед нашими палатками начинался спуск. Я решил, что везти меня под гору легче и что пристойнее было бы для коня, да и для седока тоже, въехать в лагерь хотя бы лёгкой рысью. Я выбрал момент и потянул повод. Но Соловей, кажется, и не думал о том, чтобы покрасоваться. Он только обернулся ко мне, скосил большой спокойный глаз, будто хотел узнать, что меня там, на спине у него, так беспокоит, и зашагал дальше ни быстрее, ни медленнее.
В лагерь мы въехали не так, как хотел я, а так, как считал нужным Соловей. Соловья тут же угостили овсом и хлебом, принялись осматривать. Начальник отряда растопырил ему губы: «Кажется, зубы у старика ещё есть». Потом — конь наш, признаться, был как необшитая баржа на стапелях: весь каркас наружу, — потом провёл по рёбрам кулаком, как палкой по штакетнику, и сказал неизбежное: «Берём…»
Мы запасались продуктами перед выходом, и Соловей наш сразу же включился в работу. Сначала я перевёз на нём со склада макароны. Ящики связывали и вьючили на коня: один справа, другой слева. Я вёл Соловья в поводу. Он медленно, с какой-то подчёркнутой плавностью, шагал сзади, понимая, очевидно, что рысить тут ни к чему. В лагере, возле кухни, ящики снимали. Соловей ждал, пока их снимут, передёргивался, будто сгонял назойливого овода, и косил глазом на свой притрушенный опилками бок. После макарон я перевозил муку. Соловей не ждал, пока я поведу его. Как только мешки, два мешка, оказывались на спине, он тут же трогался с места. Я догонял его. Впрочем, конь прекрасно шёл и один и даже останавливался там, где положено: у кухни.
На ночь я напоил Соловья, привязал к плетню возле своей палатки, чтобы не ушёл в тундру, задал корм. Я лежал и слушал, как хрумает он овёс, фыркает иногда, будто кашляет по-стариковски, грузно переступает с ноги на ногу. Потом всё утихло. «Уснул, — подумал я, — устал, наверное…»
На рассвете лагерь разбудило неистовое конское ржание. Возле самых палаток метались лошади, заливался истошным лаем наш пёс Эвахаль. Кто-то опрокинул стол с кастрюлями и вёдрами, кто-то отчаянно ломал плетень, к которому был привязан Соловей. Спросонок я долго выбирался из палатки и, когда выбрался, не сразу понял, что произошло: стол сломан, вёдра и миски валяются в золе, из разорванного мешка рассы́пался по траве овёс. А у разбитого плетня грустно белел обрывок фала — Соловья вместе с новенькой экспедиционной уздечкой не было… Всё ясно: к нам приходил табун, пасшийся на отгоне.
Соловья разыскали уже днём, в тундре. Он понуро стоял в кочкарнике, отбиваясь хвостом от досадливых комаров и слепней. Но какой вид был у нашего коня! Вместо правого глаза — кровавый ошмёток мяса. Добрая белая морда в потёках крови. На ноге глубокая, величиной с ладонь, рваная рана…
Конюх, пришедший в лагерь посмотреть Соловья, сокрушённо заметил: «Окривела, знать, лошадь…»
По мере того как мы обрабатывали марганцовкой раны Соловья, начальник отряда всё более мрачнел: чужой этот конь едва ли годился теперь для работы в полевых условиях. Оставить его здесь? На кого? Взять с собой в сопки? Это ведь не на прогулку. А завтра нам уезжать.
Вечером приехали наши проводники. Приехали радостные: кроме пары жеребцов-трёхлеток, им удалось выпросить двух бывших в работе кобыл. Были они, правда, с жеребятами, но зато бывалые. Старший проводник осмотрел Соловья, покачал головой, сказал: «Ковать надо». Начальник отряда взорвался даже: «Что ты мне „ковать“! Мы тут думаем — брать или не брать?» — «Я думаю, ковать надо», — повторил проводник.
* * *
Два дня, то и дело скребя железным днищем на бесчисленных мелях и перекатах, везла нас в сопки маленькая самоходная баржа. Лошади — их было теперь уже пять, не считая двух жеребят, — беспокойно топтались в трюме, храпели, когда баржу заносило течением. Жеребята жались к матерям, цокотали копытцами по уходящему из-под ног тесовому настилу. Лишь Соловей стоял в своём углу отрешённый, одинокий, не обращая ни на что внимания. Он только переступал иногда с ноги на ногу, чтобы поддержать равновесие, а потом опять забывался — то ли дремал, когда боль утихала, то ли вспоминал что-то из нелёгкой и долгой своей жизни. Это, как рассказал нам шкипер, была не первая экспедиция нашего Соловья. На нём ведь только зимой да весной возили в посёлке воду, а летом он всегда ходил с геологами.
Пока мы оборудовали наш лагерь, кони паслись в тундре. Кроме Соловья, конечно: он остался возле палаток. Мы все подлечивали его как могли: где мазью, где словом. Кто-то давал ему хлеба, и конь тыкался доброй мордой в ладони, а кто-то, показав пустые руки, трепал коня по шее: «Ничего нету, брат. Ты уж не серчай…» Только Эвахаль, пёс, знающий своё дело, ворчал на коня, когда тот подходил к столу или к кухне: изжуёт у повара мешочек с солью, потом ходи ластись, оправдывайся… Но Соловей просто не замечал, не хотел замечать хлопотливого пса.
Мы прожили в лагере три дня. На четвёртый, на рассвете, навьючили лошадей, попрощались с остающимся на базе проводником, пожелали Соловью скорого выздоровления и отправились в сопки. Соловей некоторое время плёлся за нами берегом, очевидно провожая, потом остановился и, повернув голову, чтобы ловчее, подслеповато смотрел вслед единственным своим глазом, пока мы не скрылись за поворотом…
Шкипер много рассказывал нам на барже всякой всячины о Соловье. Как-то геологов, с которыми ходил в ту пору Соловей, застала в сопках ранняя зима. Еле добрались они до какого-то посёлочка да там и остались. Бескормица была — лошадей в тундре не держат, там нужны олени, — и Соловью нашему пришлось несладко. Прутья ему запаривали, мох кое-как добывали, а сено коню только снилось.
Была там, в посёлке, крошечная пекаренка. Каждое утро к открытию магазина пекарь выпекал мешок хлеба и отправлялся сдавать продавцу. Соловей шёл следом за пекарем то сзади, то сбоку, и мягкосердый пекарь угощал его иногда тёплым пахучим куском. Соловей провожал пекаря до магазина и не уходил, а ждал там. Но пекарь не всегда был добр дважды в утро, чаще он был забывчив. А есть Соловью хотелось, и он стоял на улице у скрипучей обмёрзшей двери, там ещё и после ухода пекаря долго пахло хлебом. Из магазина выходили люди с сумками и пакетами и тоже иногда угощали конягу довесками. Но кусочки были маленькие, а Соловей большой, чуть поменьше, чем его аппетит, чем назойливый его голод.
Однажды он так торопливо, с такой надеждой кинулся к вышедшей из магазина женщине, что та бросила с перепугу сумку и убежала. Соловей обнюхал сумку, зубами вытащил из неё каравай серого хлеба и съел его тут же, возле сумки.
Весть об этом происшествии — о нападении! — распространилась по всему посёлку. Иные пугливые покупательницы, завидев коня, бросались теперь наутёк сразу же, от дверей магазина. Соловей, удивлённый и голодный Соловей, трусил следом за ними по тропинке, не отставая и не догоняя, и хлеб нет-нет и доставался ему. Соловья порой отгоняли мальчишки, его бранил продавец, но магазин ведь работал по восемь часов в сутки, и у Соловья хватало терпения дежурить все восемь часов, потому что зима, голодная зима длилась здесь долго — девять месяцев, которые нужно ведь было как-то прожить…
* * *
Мы пробыли в сопках две недели. Когда мы вернулись на базу, первый наш вопрос был: «Как Соловей?» — «А что с ним! — нехотя ответил проводник. — Раздобрел, шкура стала шёлковая, и ни единой дырочки на ней». — «А глаз, глаз у него как?» — «Лучше, чем у меня: очки до самой смерти не потребуются!»
Соловей стоял на обычном своём месте — у костра. Раздобревший, с белой лоснящейся шерстью, он, казалось, не замечал ни шума, ни суеты, поднявшихся в лагере с нашим возвращением. Лишь покосился на подбежавшего Эвахаля, тряхнул хвостом и опять замер, подставив свою добрую стариковскую морду под блёклую прядку дыма: отдыхал от комаров. Глаз у Соловья и в самом деле оказался цел. Веки хорошо зажили, только стянулись как-то более прежнего, отчего глаз этот стал меньше другого, неболевшего.
У Соловья и у Эвахаля — так уж повелось с самого начала — были свои места возле стола. Это были две территории, два государства. Свободные для прохода весь день и всю ночь, они запирали свои границы, как только мы садились за стол. Справа от стола грыз гусиные или рыбьи кости Эвахаль, слева жевал хлеб Соловей — каждый своё, каждый на своём месте.
За ужином по неосмотрительности повар вывалил не справа от стола — Эвахалю, и не слева — Соловью, а на ничейную землю оставшиеся макароны. Никто из нас не обратил на это никакого внимания. Эвахаль подбежал к ним первый и торопливо принялся за дело. Соловей стоял поодаль, смиренно вытягивая шею, нюхая и изредка подбирая то, что лежало с краю. Но груда макарон всё уменьшалась, головы соперников сближались, и Соловей не выдержал. Он хладнокровно поднял переднее копыто, чтобы опустить его на голову пса. Эвахаль успел отскочить. Растерянный, вздыбив шерсть, он смотрел мгновение на Соловья из-за куста, через который ему так внезапно пришлось перемахнуть. Мы засмеялись. С лаем и рычанием, пружинисто припадая на передние лапы — этого нельзя было оставить безнаказанным! — Эвахаль двинулся на Соловья. На этот раз старик без обиняков стал в боевое положение: задними сильными ногами к противнику. Не приведись кому попасть под удар заднего копыта — лошадь может убить наповал матёрого волка. С куста, за которым мгновение назад был Эвахаль, полетели листья. Соловей тотчас подошёл к кусту, развернулся снова. Эвахаль отпрыгнул ещё раз. Но уже не в сторону, не дальше — теперь он оказался у макарон. Соловей не сразу заметил, куда бежал противник. Но пока он повернулся, чтобы воспользоваться победой, макарон уже не было. Он лишь недоуменно обнюхал землю, где они только что лежали, и медленно вернулся на своё место, к столу.
* * *
Я уже говорил, что, кроме взрослых лошадей, в отряде были жеребята. Два похожих друг на друга карих голенастых попрыгунчика. Одного из них я ещё там, в посёлке, назвал Кузькой. Шустрый, как кузнечик, он всё прыгал возле матери — серой в яблоках кобылицы, по имени Орша, — то требовал молока в самое неподходящее время, то пытался играть с ней, навьюченной. И всё мельтешил у нас перед глазами, так что когда кто-нибудь видел одного из жеребят, думал, что это он, Кузька, хотя на глаза попадался и не он вовсе, а его товарищ. Так и получилось — и того, и другого стали звать Кузькой. Потом уж обнаружилось, что Кузькой мог называться только один из них, потому что товарища его правильнее было бы назвать каким-нибудь женским именем. А каким? Не отзовётся ведь на другое! Посмеялись мы и условились, что тот, второй жеребёнок, будет у нас называться Мисс Кузькой. Вот так и порешили: Кузька и Мисс Кузька.
Не знаю уж почему, но оба жеребёнка привязались к Соловью. Старый добряк, он им дедушкой приходился. Они всё резвились около него, шерсть его белую обихаживали, да и он тоже не оставлял их своими милостями. Но чаще всего присматривали за стариком они, жеребята. Соловей стоял, по обыкновению, где-нибудь возле кухни, блаженно — не помахивая даже, а только едва пошевеливая хвостом, пока они в два розовых язычка расчёсывали ему седую гриву. Казалось, он дремал или слушал. Глаза его совсем закрыты, а голова низко опущена — вероятно, для того, чтобы малышам было сподручнее вылизывать из гривы колючки. Бывало, только они его прихорошат, он ложится на землю, в мох, и начинает кататься. Ноги он задирает кверху, смешно дрыгает ими, чтобы перевалиться с боку на бок. Потом принимается прихорашивать жеребят. Но их двое, а язык у Соловья один, и они помогают ему. Сперва Соловей и Кузька вдвоём вылизывают Мисс Кузьку, и она смешно топчется на месте, подставляя им свои бока, свою коротенькую ещё гриву, а затем Соловей и Мисс Кузька принимаются за Кузьку.
Жеребята тянулись к Соловью, а за жеребятами шли и матери. Так сложился косяк. Странный он был: Кузька, Мисс Кузька, старый мерин Соловей и две кобылицы. А взрослые мужчины, которым бы — так уж заведено у лошадей — хороводить в косяке, остались в стороне. Это их, конечно, обидело.
Как-то вечером — мы сидели у костра, отдыхали — оттуда, из косяка, послышался шум. Лошади — мы стреножили их, чтобы они не уходили далеко, — паслись на мысу. Там хотя и было множество медвежьих следов, но зато росла редкостная трава. От медведей же мы избавлялись просто. Вечером кто-нибудь выстрелит в воздух, и делу конец: медведь не скоро отважится прийти. Вот вечером — мы ещё не успели сходить к лошадям — и поднялся шум. Если бы я рассказывал о людях, я без колебаний написал бы, что это был крик, зов на помощь. Но лошади не кричат, и я не знаю, как назвать это. Начальник отряда, почувствовав недоброе, схватил карабин и — туда, на мыс, и даже выстрелил по дороге. А дело оказалось простое: лошади подрались. На Соловья накинулся наш буйный Монгол, и Соловей забил тревогу. Когда мы прибежали, бой за власть в косяке — хотя Соловей никогда и не пытался верховодить там — бой уже кончался. Соловей не сразу дождался нас. И он оборонялся как мог. Едва разбушевавшийся Монгол разворачивался для удара, Соловей непостижимо прыткой рысцой ускользал за меланхоличную Оршу, так что лягнуть его было невозможно, и немедля поднимал крик. Монгол забегал с другой стороны, но и Соловей не стоял на месте. Так взбешённый Монгол суетился, бегал вокруг Орши, роняя с губ пену ярости, и демонстрировал, таким образом, перед дамой не силу уже, а беспомощность. В конце концов, он покинул поле боя посрамлённый.
* * *
Утром мы уходили в сопки. Соловей, по всеобщему мнению, был уже здоров, и мы решили взять его с собой. Он покорно дал заседлать себя, навьючить и столь же спокойно, я бы даже сказал бережно, потащил свою ношу.
Переход наш на этот раз оказался сложным. То каменистый, то глинистый крутой берег, по которому нам долго пришлось идти, к тому же густо зарос ольховником и стлаником. Вода порой подступала к самому обрыву, нам надо было прорубать дорогу в обход затопленных участков.
В одном месте далеко в реку врезалась скала. Её можно было миновать только кружным путём. Мы проложили дорогу с помощью топоров и лопат, начали поочерёдно, поддерживая вьюки, выводить лошадей наверх, на уступ. С берега там сполз толстый, поросший травой и кустарником пласт глины. Этот пласт был как бы трамплином, с которого начинался подъём. Однако лошади стали вязнуть в глине, и мы решили не рисковать вьюками. Следующую лошадь — это была Орша — мы развьючили внизу, вьюки втащили наверх на себе, а Орше предоставили проделать этот подъём налегке, самой. Конечно, это было тяжело и долго — так вот втаскивать на гору тяжёлые сумы, но другого выхода у нас не было.
Следом за Оршей повели Монгола. Молодой, сильный, этот жеребец, подойдя к трамплину, не остановился, а вырвался у проводника, вскочил на трамплин и тут же, с вьюками, бросился было выше, но задние ноги его сразу увязли в глине. Он начал биться, дёргаться и свалился в воду. Река была глубокая, бурливая перед этой скалой, Монгола подхватило течение. Мы побросали всё, кинулись за ним берегом, держась за кустарник, потом вброд, потому что пройти посуху было негде, но помочь ему не могли. Конь пытался подплыть к берегу ещё до того, как течение вынесет его на перекат, где ему несдобровать бы, конечно, но течение было слишком сильным и увлекало его вглубь. Монгол начал тонуть. Мы видели, что он напрягается, борется, но вьюки его стали совсем уж погружаться, и вскоре на поверхности остались только глаза да ноздри Монгола…
Коню всё-таки повезло. Около самого переката он коснулся ногами дна. Мы увидели это, стали звать его, но он не мог сразу зацепиться — течение всё сбивало его, тянуло. Когда он, наконец, стал твёрдо, он не пошёл на берег. Он остановился и долго стоял в ледяной воде, пока не почувствовал, что сможет сделать ещё несколько шагов.
Старший проводник стал развьючивать его, а мы вернулись к трамплину, чтобы помочь Соловью. Но нашли мы старика не там, не внизу, где оставили одного, когда с Монголом случилось это несчастье, а наверху. Он спокойно пасся на лужайке вместе с Кузькой и Мисс Кузькой! Как он туда взобрался с вьюками, осталось тайной. Мы увидели только, что он уже там и что Мисс Кузька вылизывает ему из гривы колючки. У него даже ноги были не в глине — он сумел пройти, не запачкав их.
* * *
За скалой нам надо было расставаться: отряд разбивался на две группы — и люди и лошади.
Я до сих пор отчётливо помню это прощание. Когда мы обсушили у костра одежду и вьюки и могли снова увязать всё и отправляться, повеселевший начальник отряда шутливо приказал нам построиться в две шеренги, одна против другой. Начальники групп церемонно пожали друг другу руки, затем начальник отряда скомандовал: «Смирно!» — и в наступившей тишине произнёс речь: «Прощайтесь, страннички, расходимся…»
Трогательнее всех прощались жеребята. Пока мы стояли в строю, Кузька всё вылизывал своей подруге гриву, не обращая на нас внимания. Но вот мы стали расходиться. Соловей и мать Кузьки — Орша пошли с нами, а те, другие лошади, со второй группой, и жеребята заметались. Они бегали парой, задрав куцые хвостики, то туда, то сюда. Орша останавливалась, звала сына к себе, а там, в другой группе, встревоженная, далёкая, ржала мать Мисс Кузьки.
В конце концов, жеребята остановились на распутье. Они бестолково метались, ржали тоненько, откликаясь на зов удаляющихся по двум разным тропам лошадей, своих матерей, и не могли решить, с кем идти, да и не хотели, по-видимому, идти с кем-то одним, не понимали, зачем это нужно — разделяться, и ржали, и метались, пытаясь, очевидно, втолковать взрослым, что лучше быть вместе, что вместе — это хорошо.
Лишь старый, многоопытный Соловей, который понимал во всём происходящем больше жеребят и больше их встревоженных матерей, шёл спокойно. Он только останавливался иногда и поглядывал на жеребят, смотрел, когда же они выберут себе дорогу — нужно ведь сделать выбор им самим, — и терпеливо ждал и присматривал за ними спокойными, много повидавшими стариковскими глазами. Но это уж так, на всякий случай — ведь жеребята впервые вступали на дорогу взрослых…
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУЧЕЙ
Был у меня в тундре один весёлый знакомый. Не человек — мало ли весёлых людей на свете! — и не зверь даже, медвежонок какой-нибудь, а ручей.
Палатки у нас стояли в узенькой, заросшей где стлаником, где мелким тополем, сухой, укрытой от ветра лощине, возле маленькой речки с большущим названием Ивчивинтехливаям. Но не на самой речке, а на ручье, её притоке. Ночью, когда всё стихнет, слышно, как они переговариваются: ручей булькает тоненько, словно ясеневыми палочками перебирает по ксилофону, а речка вторит ему баском — зовёт. На рассвете выйдешь умываться, ручей журчит — свежий, прозрачный, будто хорошо выспался, будто ждёт уже.
Я привязался к этому ручью, как к живому. И был-то он невесть какой приметный — такой же болтливый и студёный, как все они в сопках, в тундре, — а приглянулся. День и ночь торопился мимо палаток, перебирал и без того чистые свои камушки, копался в глине: где берег подроет — спрямит себе дорогу, где к ольхе подбежит вприпрыжку, корни её напоит. И всё со скороговорочкой, с песенкой.
А вода в этом ручье была светлая: наклонишься над затишком, а её как и нет вовсе, только видно — лежат на дне, точь-в-точь голубиные яички в гнезде, камушки.
Близились дожди, мы торопились с работой и однажды вернулись в лагерь совсем уж поздно, по темноте. Устали, так бы и упасть тут, у костра, рядом с мерцающими его головешками и синей, пошатывающейся прядкой дыма. Но нам ещё надо было разобрать находки, пометить, где что нашли. А то привезёшь потом в город, попробуй вспомни, какой камень откуда. После ужина принялись за работу. Кто эти камни — их зовут образцы — раскладывает по брезенту, кто марочки тушью на лейкопластыре выводит, чтобы приклеить потом, или упаковкой занимается. Даже повар смотрел, смотрел — видит, к утру не управимся, свалил свои миски и кастрюли в ручей и стал помогать нам. Начальник отряда запротестовал было — повару ведь раньше всех утром подыматься, а у него посуда не мыта. Но тот улыбнулся: ручей, мол, вымоет, ему всё равно делать нечего.
Ручей и в самом деле помог. Всю ночь позвякивал он ложками и кружками, и утром, когда мы пришли умываться, посуда наша сияла. «Ну, что я вам говорил!» — смеялся повар.
С тех пор и пошло: мы вечером разбираем образцы, а ручей моет посуду — с песочком, до солнечного сияния. Всю ночь трудится.
Повар наш до того привык к своему помощнику, что со временем всю посуду перепоручил ему — и вечернюю, и утреннюю. Мы уходим в маршрут, а повар сложит миски в ручей и пристраивается следом за нами. Ему ведь тоскливо одному в лагере сидеть: долго ли суп да кашу сварить! Вот он и затеял: посуду в ручей, а сам то за маслятами, то за жимолостью да за морошкой. А то и спать. Ляжет под полог и спит, пока солнце за сопки не покатится.
Как-то застал нас в маршруте дождь. Мы попробовали отсидеться в ольховнике, переждать, да пришлось возвращаться — ни просвета на небе, одни тучи. Возвращались ручьём. Пробираться руслом трудно — ручей вздулся, порыжел, кидается на берега. Но бредём: кустарник кругом густой, нечёсаный — не пролезешь. Начальник отряда впереди — ходок он был хороший, лёгкий на ногу, — закинул карабин за плечо, стволом книзу, капюшон по самые брови надвинул, идёт и мурлыкает:
Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы У жителей страны Мя-Лекасын…Мя-Лекасын — это речка такая. Она далеко, жителей там никаких нет, он только так поёт, чтоб веселее. Но какое уж тут веселье, когда мы все мокрые.
Вечером мы свой лагерь угадывали ещё издали, по костру, а тут подходим уже — ни дыма не видно, ни повара не слышно. Спит, поди. Не ждёт ведь нас в эту пору. Мы так и решили: спит.
Уже у самых палаток начальник отряда замолчал, остановился: что за странность? — палатка у повара застёгнута на все пуговки, костёр погас, и тишина такая, будто здесь уже неделю никто не жил. Только ручей чавкает да слышно, как с листка на листок падают, щёлкая, капли. Пусто.
Дождь уже перестал. Мы поворчали немного на нашего повара, развели костёр, зачерпнули рыжей, хоть не заваривай, воды на чай. Сидим вокруг огня, сушим мокрые штормовки и портянки.
Повар появился не скоро. Вымокший и тихий. За спиной рюкзак. Не снимает. «Жимолость собирал?» — спрашиваем. «Какая жимолость! — говорит. — Так, по мелочи…» — «Грибы, наверное?» — «Какой сейчас гриб!» — мнётся повар. «Ну, иди обсушись», — говорит начальник. Повар осторожно поставил на стол рюкзак, сел не у костра, а там, возле рюкзака. «Ты хоть чаем нас попотчуй», — просит начальник. Он уже догадался, что там, в рюкзаке. «Сейчас соберу», — отвечает повар. «Ну, так собирай же, чай у нас готов».
Повару ничего не оставалось, как развязать свой рюкзак Мы так и покатились со смеху: там, в рюкзаке, были не грибы и не ягоды, там была наша посуда — миски, кружки, половник. Та самая, которую мыл ручей. Наш ручей, маленький наш старатель, проучил-таки повара — чуть не до самого Ивчивинтехливаяма гонял его собирать ложки.
К утру погода наладилась. Из-за сопок приветливое, красное, будто заспанная щека, выглядывало солнце. Провисшая, в мелком бисере дождинок, серебрилась в кустах паутина. Тёплый ветер путался в посвежевшей, насквозь просвечивающей листве, бегал по умытому ольховнику, раскачивая влажные, глянцевитые ветки.
Ручей наш тоже успокоился. Вода в омуте, у которого мы умывались, опять была светлая-светлая, кажется: сунь руку — и зачерпнёшь облако. А рядом, на перекате, кто-то снова перебирал звонкие пластинки ксилофона — ручеёк невинно выстукивал лёгкую и прозрачную свою песенку.
Сегодня у него был честно завоёванный отдых — посуду мыл повар.
НЕРПЁНОК
Маленькая плоскодонная баржа, негромко тарахтя мотором, делала последние прихотливые повороты в извилистом устье Таловки. Я стоял на борту, смотрел на низкие, теперь уже голые берега. А там, за кормой, то скрываясь за поворотом, то вновь появляясь, чтобы ещё раз взглянуть нам вслед, оставались далёкие, побелевшие с вершин сопки.
Пять дней наш отряд пешком, тяжело навьючив лошадей, выбирался из тундры, уходя от настигающей зимы. Потом нас взяла на борт баржа, и теперь мы стоим и смотрим туда, где проработали всё лето и откуда снялись вот, чтобы возвратиться в посёлок. Нам как-то немного грустно: баржа тарахтит и тарахтит, и сопки всё отстают, туманятся, лёгкие и маленькие, и не остановиться уже, чтобы хоть минуту ещё побыть здесь молча и затем уж уйти — может быть, на зиму только, а может быть, навсегда…
С нами ехал пассажир, которому было куда грустнее, чем нам: он покидал родные места. Это был всего час-полтора тому назад пойманный нашим проводником нерпёнок. Проводник пристроил его в открытом трюме среди вьючных сёдел, ящиков с образцами. Подёргал его, чтобы разглядеть как следует, и ушёл, забыл.
Кто-то бросил зверьку охапку пожухлой травы, кто-то положил перед ним рыбы, но нерпёнок не интересовался ничем. Он лишь задирал свою, похожую на собачью, голову и смотрел на единственное, что он мог ещё увидеть из того, что всегда окружало его здесь, на воле, — на серое камчатское небо. Он уезжал не по своей воле.
Неуклюже перебирая коротенькими передними лапками, отталкиваясь ластами, нерпёнок барахтался в трюме, и его круглые, тёмные, как влажный чернослив, глаза были устремлены только туда, вверх. Да ему больше и смотреть было некуда. Перед ним был высокий ржавый борт, и он скрёб его, не зная, что борт железный, крепкий. А небо, серое, с низкими тучами небо над ним, всё уходило и уходило…
— Гляди ты, как суетится наш шашлычок!
Слова прозвучали неожиданно и не вязались с тем, о чём я только что думал, глядя на зверька. Я оглянулся. Сзади стоял проводник. Он широко заулыбался и доверительно пояснил:
— Под молодую картошечку — первый сорт будет.
— Ты бы лучше сапог заклеил, пока едем! — сказал я ему первое, что пришло в голову.
Резиновый сапог этот порвал проводнику нерпёнок сегодня утром, когда проводник пытался схватить его, зазевавшегося на берегу, за ласты. Нерпёнок выполз, очевидно, погреться и оплошал. То ли задремал там, то ли не думал, что люди вот так обойдутся с ним.
Он оборонялся. Он хорхал, думая, что это страшно, раскрывал свою маленькую острозубую пасть, старался не подпускать к себе проводника и всё отползал к воде, где бы его не поймать, конечно, но не успел. Его схватил за ласты наш проводник, оторвал от земли и притащил на баржу.
Теперь проводник чувствовал себя хозяином зверька, и разговор этот о шашлыке доставлял ему удовольствие.
— Да какой же шашлык из нерпятины! — попробовал вступиться за нерпёнка подошедший повар Саня Астафьев.
Но это не произвело на проводника никакого впечатления.
— Детёныш малый, пожалеть не грех! — добавил Саня и отошёл от проводника.
Я тоже отошёл, стал рядом с Саней Астафьевым.
Когда люди вот так отходят от тебя и ты оказываешься один — это ведь плохо, подумай, в чём ты неправ. Но проводник об этом не думал. Он спрыгнул в трюм, посидел возле нерпёнка, позабавлялся, тыкая его длинной рукояткой геологического молотка и заставляя отползать, огрызаться, а потом улёгся на какой-то ящик, натянул на глаза кепку — решил поспать.
Баржа между тем обогнула стрелку, вышла в Пенжинскую губу. Тяжёлые волны гулко били в металлический борт, рассыпались каскадами брызг. Нерпёнок задирал голову и ползал вдоль борта, слыша близкий плеск, не умея выйти к воде, — вырваться из трюма было невозможно.
…Мы перевалили губу к началу отлива. Ткнувшаяся в берег баржа вскоре обсохла, так что и сходни не потребовались. Все тотчас занялись выгрузкой снаряжения, трюм постепенно освободился, и нерпёнок, оставшись один, неуклюже ползал по тесовому настилу и всё скрёб железную обшивку.
Через час, когда уложили вещи, поставили палатки, проводник притащил к костру ведро купленной где-то в посёлке картошки, сказал Саньке:
— Чисти, я шашлык приведу.
Картошка была молодая, желтобокая, с тонкой, ещё не окрепшей кожурой. В сопках мы ели только сушёную картошку и сейчас брали эту в руки и рассматривали, как, может быть, рассматривают где-нибудь в Арктике редкие фрукты.
Проводник приволок сопротивляющегося нерпёнка, удивлённо спросил:
— Чего же не чистите-то?
— Не хочу я шашлыка, — буркнул Саня Астафьев и начал разделывать рыбу.
Проводник поглядел на молчавших своих товарищей, сплюнул:
— Ну и чёрт с вами! Обдеру его завтра: шкура у него — валюта.
Шкура у нерпёнка и в самом деле была красивая. Дымчато-стального цвета, с тёмными лоснящимися разводами, она влажно переливалась всякий раз, когда проводник изловчался ухватить зверька за ласты, а тот юрко поворачивался к нему, чтобы укусить.
— Топай, топай со своей валютой! — сказал Санька. — Утро вечера мудренее.
* * *
Костёр перед палатками горел в ту ночь долго. Пламя его то выплёскивалось вдруг, поднимаясь высоко в темноту, и тогда в открытую дверь палатки был виден вдали чёрный бок баржи, то уползало, будто улитка в раковину, в груду малиновых углей. Было слышно лишь, как по временам одиноко возится с дровами оставшийся там зачем-то проводник, пытаясь выманить задремавший огонь.
— Далась ему эта шкурка! — ворчал Санька. — Не уснёт ведь, живодёр, дежурит…
Утром, едва развиднелось, проводник отправился на баржу. Сидя у костра, я смотрел ему в спину и думал, что зря мы всё-таки не выпустили нерпёнка. Подумаешь, собственность!
Проводник влез на борт, с минуту стоял, осматриваясь, потом начал с грохотом передвигать оставшиеся в трюме порожние бочки. Голова проводника то показывалась над бортом, то снова исчезала, и только гулкий звон отодвигаемых бочек стоял над баржей. Затем из трюма вылетел какой-то ящик с ветошью, потом брезент, и следом, описав стремительную дугу, шлёпнулся в глину мотористов топор.
— Во разошёлся! — озорно взглянул на меня Санька и направился к барже.
За ним поднялись ребята. Я тоже пошёл посмотреть, что там происходит.
Красный от натуги, бормоча про себя что-то неразборчивое, наш проводник с ломом в руках ползал по трюму, заглядывал во все закоулки. Заметив нас, поднялся, зло спросил:
— Кому тут надо было хозяйничать?
Мы так и прыснули.
— Кто выпустил нерпу? — заорал проводник.
— Ну, ты не очень кричи! — буркнул Санька.
Все замолчали, предвидя надвигающуюся ссору. И в эту минуту, где-то далеко, в самой утробе баржи послышалось приглушённое скрежетание. Проводник какое-то мгновение недоверчиво прислушивался, потом, не выпуская лома, бросился к рубке и, лёжа на животе, полез вдоль борта куда-то под неё, к перегородке, которой трюм был отгорожен от машинного отделения.
«Вот дуралей, — подумал я о нерпёнке, — ну что бы тебе ещё потерпеть…»
Все стояли на борту, возле поручней, хмуро ждали, что будет. Из закутка торчали только резиновые сапоги проводника. Сапоги дёргались, елозили по настилу, а проводник раздражённо кричал что-то, не зная, как подступиться к зверьку.
Я отвернулся от ветра, чтобы прикурить. В эту минуту послышался смех. Хохотали весело, заливисто, и только Санька пытался остановиться, не мог и лишь выговаривал сквозь хохот:
— Ай да зверюга! Ай да у-умница!..
Проводник стоял взъерошенный и оглядывал всех колючими глазами.
— Что произошло? — спросил я, подходя.
— А ничего, — ответил он. — Измазалась нерпа в мазуте, как чёрт, а они ржут…
Нерпёнок был неузнаваем. Его красивая шкурка вся была в бурых маслянистых пятнах. И только глаза — усталые и затравленные — смотрели знакомо ещё, но уже как-то безразлично.
Санька наконец перестал смеяться, озорно подмигнул нам и предложил проводнику:
— Хочешь, мыла дам?
— Зачем? — не понял проводник.
— Помоешь ему шкуру, а то его матка не узнает…
Все опять засмеялись. Проводник обвёл нас недобрым взглядом, не выдержал — взял нерпёнка за ласты, раскачал и сердито швырнул в воду, которую прилив опять уже подогнал к самому борту. Нерпёнок скрылся в волнах.
Вынырнул он метрах в ста от берега, чтобы набрать воздуху, осмотреться. Его красивая усатая голова дважды повернулась над жёлто-серой волной, как будто зверёк хотел ещё раз поглядеть на всех нас, затем скрылась.
— Ну, вот и лады, — заметил Санька, протягивая мне спички. — Прикуривайте.
И тут только я увидел, что рука, в которой он держал спички, что эта рука запачкана в мазуте. Я сделал вид, что ничего не заметил.
ЗАЯЧИЙ АРХИПЕЛАГ
Неделя сплошного дождя — это было слишком много даже для терпеливой Пенжины. Река побурела, стала заливать берега, смывая оставшиеся от паводка коряги, выворачивая деревья. Они плыли по стремнине ещё зелёные, с неестественно задранными в небо скрюченными корнями. Временами плавник по-овечьи пугливо сбивался где-нибудь в заводях в тесные стайки, и тогда Пенжина несла мимо наших палаток не коряги уже, а целые острова. На них белели нарядные чайки, степенно прогуливались толстые ленивые вороны. А однажды к нашим палаткам поднесло совсем уж неожиданного туриста. Его коряга остановилась вдруг на рейде, видно, села на мель, развернулась на течении, и пассажир уставился на нас, высоко подняв длинные уши. Это был заяц.
— Вот так подарочек! — засмеялся повар, берясь за вёсла.
Увидев приближающуюся лодку, заяц забеспокоился. Он привстал на задних ногах, уши его зашевелились, будто он стриг ими воздух. Потом забегал по коряге. Повар неловко перебирал по ней руками, подтягивая лодку, пока, наконец, не схватил зайца за уши. Лодка направилась к берегу.
Я не заметил, что произошло раньше: успел ли повар вылезти из лодки, чтобы подтащить её, или прежде почувствовал близость берега заяц. Во всяком случае, ещё до того как лодка ткнулась в берег, пассажир совершил вдруг такой акробатический прыжок, что повар выронил вёсла от неожиданности. Он так и застыл там с глупой, растерянной улыбкой, пока мы хохотали над ним.
Впрочем, бежать зайцу было некуда: мы сами уже двое суток были островитянами. Косу затопило, и теперь там, за палатками, куда он шмыгнул, в кустарнике покачивались охапки намокшего хвороста, кружились рыжие хлопья пены. Сконфуженный повар поискал его с мелкокалиберкой, но заяц был не так прост, чтобы, спрыгнув со сковороды, тут же попасть на мушку.
Коса наша, ещё недавно большая и ровная — мы специально нашли такую, чтобы удобнее сесть вертолёту, — становилась с каждым днём меньше и меньше. Сначала она, как я уже говорил, превратилась в остров, а потом и остров этот распался на множество едва выступающих над водой каменистых или песчаных бугорков. Мы стали кочевать с бугорка на бугорок. Каждое утро складывали палатки и спальники в резиновые лодки и где вброд, где на вёслах отправлялись искать новое убежище. О зайце подумали: утонул, где там спастись бедняге. Бугорки были низкие, маленькие, и какой из них надёжнее, знала одна Пенжина. Но у неё ведь не спросишь.
Однажды мы проснулись и не узнали своего острова. Когда мы ставили палатки, это был ещё вполне приличный остров, на нём даже кустик зеленел. Но за ночь вода поднялась, и на том месте, где с вечера домовито горел наш костёр, утром голубела лагуна. Посреди лагуны нелепо торчали колья с чумазым чайником и кастрюлей на перекладине, возле них, длинные, как туземные пироги, кружились головешки.
На вертолёт мы уже не надеялись, всё равно ведь ему сесть было бы теперь негде, но и косу оставлять не хотелось: не век же будут дожди.
Так мы кочевали от острова к острову, пока не отыскали тот, который уж наверняка был самый высокий: он остался один, последний — груда песка посреди реденьких, дрожащих на быстрине кустиков.
Мы занялись устройством лагеря. Кто перетаскивал снаряжение, кто ставил палатки, а повар пошел за дровами. Остров наш оказался не таким уж заброшенным — у самой воды и выше повсюду на песке были следы: торопливые, в ёлочку, по самой кромке разбегались дорожки куликов; выше — солидные, впришлёпку, треугольники — их оставили гуси.
На ночь установили дежурства. Было ещё темно, когда я вышел на пост присматривать за прибывающей водой.
Лодки наши, спокойно плававшие вечером в уютной гавани, прибило к берегу. Я проверил, не надо ли подкачать их, но они были тугие, как мячи. Возле костра лежала мелкокалиберка. Это повар положил её здесь для дежурного, чтобы была под руками, если покажется какая живность.
Я подбросил дров в огонь, согрел чаю, уселся с кружкой у костра. Было тихо. Только потрескивали в огне дрова, пищали сонные комары да где-то на заломе глухо шумела река. Её почти не было видно. Она лишь угадывалась в редеющих сумерках — не река даже, а что-то большое и безостановочное хлюпало там, в тумане, встряхивало затопленный ивняк и ольховник, тащило пену.
Я сидел и наблюдал, как начинается утро. Далеко вверх по реке, там, где, расплываясь во мраке, темнел мыс, и потом выше и, наверное, ещё дальше уже начала желтеть, просветляться над мысом узенькая полоска. Я сходил за плавником для своего огня, а когда вернулся к костру, полоска там, над мысом, совсем прояснилась. Будто приподнял кто-то штору, и заструился свет. Уже тлели кромки ночных облаков, совсем не мутных и бесформенных, как полчаса назад, а чётко обведённых чем-то горячим. Пока я рассматривал их, помаленьку начала наливаться красным, прорисовываться и кромка мыса — зубчатые купы тёмного тальника, а потом над мысом налилась малиновым заря. И жёлтая моя полоска стала уже не жёлтой, а зеленоватой, и облака над ней, как непогасшие угли на ветру, замерцали ало, рассыпались жаркие и дробные.
Было так хорошо, что я забыл разбудить повара. Наступила его смена, но я решил — спать мне уже не хотелось — пусть он поспит. Натаскаю ещё дров про запас, а потом уж и разбужу.
Остров наш за ночь основательно уменьшился. Ещё вчера сухая тропка, по которой мы ходили за дровами, оказалась в нескольких местах под водой.
Я переходил вброд лужи и думал не о дровах уже, а об этом рассвете — таком щедром и красивом.
Над кустарниками кружились, купались в воздухе чайки, копошились в ветвях какие-то хлопотливые птахи, семенили по корягам трясогузки. И кругом одна зелёная между тоненькими тростинками тальника акварельно отливала вода, омывая последние жёлтые пятачки суши.
Я наткнулся на нашего зайца, когда уже шёл обратно, с дровами. Там, в стороне, чуть видный за кустарником, был ещё один пятачок. Я бы и не заметил его, если бы не чайки. Они белели там, на солнечной отмели, точно куры выклёвывая суетившихся у них под ногами в прозрачной воде мальков. Чайки шумно поднялись, а он, заяц, засуетился, заметался на своём островке: ему бежать было некуда.
Заячье сердце, оно билось, оно прямо-таки выпрыгивало из груди — я чувствовал его сквозь штормовку, маленький, ещё живой и беспомощный комочек страха… Я вспомнил о мелкокалиберке, на которую так рассчитывал повар, я даже улыбнулся: чудак! И мне стало весело, оттого что он, наш заботливый повар, совсем не учёл, что утро будет такое хорошее и доброе.
Коряга нашлась сама собой — далеко где-то и давно вывороченный ствол тополя с обломанными кряжистыми сучьями, уже бескорыми. Я вывел его на течение, оттолкнул подальше, вглубь. Заяц беспокойно завертелся на нём, прядая ушами. Он ничего не понимал, длинноухий, вероятно приготовившийся уже к самому худшему. Он только видел, должно быть, как шевелилась, плескалась бурая — у самого ствола — вода, как поворачивался с палатками, с лодками, с костром и уходил всё дальше, дальше берег: корягу развёртывало течение. Он увидел это и привстал там, на коряге, шевеля высоко вскинутыми ушами и веря и не веря ещё, что дорога его продолжается.
ЛИСТОК ПЛАТАНА
Несколько лет тому назад я нашёл на Охотском побережье обломок алевролита. Серовато-зелёный, плоский сверху и снизу мелкозернистый камень, он был похож на плиту, какими мостят дороги. Мы на нём точили топоры, как на оселке, потрошили рыбу или просто сидели у огня. А потом, когда собрались уходить, кто-то бросил его в костёр. Костёр залили водой, и разогревшийся камень раскололся. Внутри этого камня оказался листок. Палый осенний листок. Он лежал там, как в гербарии, — сухой и выпрямившийся. Я даже наклонился, чтобы поднять его, и не поднял — горячо. Конечно, это был не сам листок, если говорить точно, а только отпечаток листка, слепок. Мы рассматривали его, передавая из рук в руки, пока кто-то не воскликнул: «Да ведь это платан! В Ялте такие растут — на Платановой аллее…»
Осколок камня я привёз в Москву, водрузил на почётное место — в книжный шкаф. Отпечаток сохранился так хорошо, будто вчера из типографии: каждая чёрточка, каждая жилка оттиснулась. Я любовался им, показывал друзьям, а прочесть эту каменную страничку не умел: не буквы там, не слова, — только этот оттиск, только след.
Платан, наверное, стоял на берегу Охотского моря — там, где я нашёл камень. Впрочем, я не знаю даже, было ли тогда там само это море, потому что листок мой и вырос, и пожелтел, и опал давно. Моря и материки тогда совсем не походили на теперешние. Они ведь много раз отступали и наступали. Но когда платан зеленел, там тоже была суша, земля. Как вот сейчас. И ещё можно было сказать точно: когда-то там, в нынешней тундре, был тёплый климат, вроде нашего крымского. Не занесло же туда листок с Черноморского побережья!
И всё-таки удивительно: болота, карликовый березняк, оленьи мхи — и этот, в каменном футляре, платановый листок!
Позднее один мой товарищ, геоботаник, определил возраст листка. Оказалось, зеленел он на своей веточке так давно, что и людей в ту пору не было. Одни какие-нибудь динозавры, может быть, видели его. Как-то осенью его сорвало ветром, засыпало пылью, песком или занесло илом, запрессовало так, что ни воздуху, ни воде не попасть, и лежал он в своём камне до тех пор, пока этот камень не попал в наш костёр и не раскололся. Конечно, сам листок истлел к тому времени. А отпечаток остался. С ним уже ничего не могло случиться. И он сохранял не только форму, но и цвет — коричневый, осенний, какой и должен быть у опавших листьев. Когда я рассматривал его впервые, мне всё хотелось повернуть его и поглядеть обратную сторону…
Но самое удивительное открывается всё-таки не тогда, когда смотришь на камень. Надо закрыть глаза и ощупывать его кончиками пальцев. Поверхность камня будто оживает под пальцами. Чуть шершавая, бархатистая, она всё ещё, кажется, покрыта серебристыми ворсинками — нежная-нежная, опасаешься, как бы не помять ненароком.
У меня даже мурашки бегают по спине, когда я осязаю, вижу этот листок вот так: миллионы лет пролежал! Самый обыкновенный — даже ведь и не скажешь, сколько их там ветер разбросал по берегу, и всё-таки необычный — перед ним молчать хочется…
ПЕРЕПРАВА
Это был живой поток: маленькие, чёрные, как капельки гудрона, муравьи текли, катились в лесу, будто выстроившись в колонну, в два, в пять, в десять, и кто знает, во сколько ещё рядов, все в одном направлении и всё вперёд, вперёд, карабкаясь по рыжей хвое, перекатываясь бойко через какие-то прутики, обтекая сухие, громадные для них кисточки травы, жёсткие кустики брусничника. Ни дороги, ни тропки не было, но они торопились куда-то своим муравьиным путём, словно там было для них спасение.
Сперва над ними остановился пёс. Он замер как-то вдруг, ещё на бегу, и я не сразу понял, что́ его там остановило. Он только обнюхал что-то под ногами перед собой, помахал хвостом и тявкнул. Я подошёл и тоже остановился. Никогда я не видел сразу столько муравьёв! Они торопились. Они двигались плотно, и задние всё доставали передних своими щупальцами, будто подгоняя, боясь отстать, потеряться.
Не знаю, что их выгнало в дорогу, — может быть, и в самом деле они от чего-то спасались.
Мне случалось видеть таких же, похожих, которые гнездились в земле, по крайней мере, все они таскали что-то в щели или в норы. Может быть, и эти тоже выползли из таких вот нор, застигнутые страшным бедствием? Я ещё потому так подумал про это бедствие, что, уходя, они несли с собою то, что хранится пуще глаза: они уносили свои белые личинки.
Я окликнул пса, и мы двинулись вдоль колонны. Мы шли рядом, в двух шагах от неё, и пёс то и дело останавливался, обнюхивал их, вилял хвостом и поглядывал на меня и на них и опять отбегал, никого не тронув. Они не видели нас. Я думаю, что не видели, — они вели себя так, будто нас тут не было.
Так мы вышли к ручью. У воды колонна сбилась. На берегу желтела узенькая песчаная полоска, и на ней образовалась уже толчея. Одни спускались, скатывались к реке, возвращались, сбегались вместе, торопливо шевеля щупальцами, и расходились вновь. А задние — они ни о чём не догадывались: ни о воде, ни о толчее этой на берегу — всё подходили, подпирали. Один какой-то попытался взобраться на палый листок. Жёлтый берёзовый листок прибило к берегу течением. Муравей взобрался на него, но был тотчас же унесён водой. Он всё суетился, бегал на своём ненадёжном, вынесенном уже на стремнину плоту, пока не исчез из виду.
Почти сразу же, будто брошены приказом, несколько отчаянных мурашек кинулись к поваленной, лежащей поперёк ручья ёлке. Они её обе́гали мгновенно. Она была маленькая — всего-то два-три шага — мой пёс перепрыгнул ручей и без неё. Они её обегали и возвратились на берег, на песок, с донесением: «Внизу вода, а на коре смола!» Кора и в самом деле была в смоле. Всего в одном месте, будто перехвачена узеньким пояском. Конечно, они его увидели, этот клейкий поясок, они от него и вернулись со своим донесением. А может, не с донесением, а просто с сигналом: нужно переправляться по еловому стволу.
Я был солдатом, я знаю: малейшая заминка на переправе — преступление. Конечно, они успели только подать сигнал, только сообщить что-то, потому что, едва добежав до своих, опять бросились к этой ёлке.
Головной медлил всего мгновение. Вбежав в смолу, он сразу же стал, как будто впаян. Ещё не успели увязнуть его щупальца, как перебежал по его спине, а потом сошёл в смолу и тоже остановился, увяз, но уже впереди, дальше — второй.
Их улеглось там с десяток, образовав сухую чёрную дорожку в непроходимой еловой смоле. У них только долго вздрагивали щупальца. Может, от боли и от тяжести, а может, оттого, что они уже задыхались, погружаясь всё глубже, когда по их оцепеневшим хитиновым спинам шли и шли, сперва на безопасную кору, потом на влажный песок, а потом уже — на сухую хвою того, другого берега их живые товарищи, торопливо уносящие в жвалах спасённые белые личинки…
Смолы этой на ёлке, через которую они переходили, была всего полоска. Да и ручей, я уже говорил, был узенький — для пса с берега на берег один прыжок. Я переходил ручей не по еловому стволу даже, а вброд — там было три шага…
СОБАКА
Посёлок у нас маленький, рыбацкий да охотницкий, я знал в нём всех поимённо. Знал даже, какая у кого собака. Когда у нас собирались в тайгу — на медведя, на белку, или за дичью, или шишковать (осенью поспевали кедровые шишки, и шишковали тоже все), каждый брал с собой собаку. Собак вели на берег, к лодкам, на поводках, чтобы не погрызлись, не покалечили друг друга. А если какая и была без поводка, за ней присматривали.
Эту никто не окликал. Я увидел её на берегу, она ела рыбу. Наверное, ей бросили с катера. Собака была облезлая, тощая, кажется: подуй ветер — свалит. Вот матросы, должно, и пожалели, бросили ей щуку, солонину. Пёс был голоден и принялся за неё так, будто не ел целую неделю. Может, и вправду не ел. Это бывает: заболеет и не ест ничего, пока не станет поправляться. Было странно только, что он ел лёжа. Грызёт-грызёт, остановится, передохнёт и опять начинает. А матросы на катере хохочут: «Торопись, мол, пока мы тут, а то пропадёшь без нас!»
Когда от щуки осталась одна голова, собака подошла к реке и стала пить. Кто-то из матросов увидел это, засмеялся: «Никак, наелась?» Все опять загоготали: «А ты кинь ещё!»
Рыбина шлёпнулась в воду. Собака подняла голову, посмотрела туда, на катер, потом ещё раз-два лакнула воды и тогда только взяла эту вторую щуку зубами и волоком потащила на сухое. Видно, у неё не хватило силы, — едва она выволокла щуку на гальку, сразу же положила.
Я всё время ходил на берег за вещами. Возвращусь с ношей к лодке, взгляну — ест. Думаю: сколько же в неё, бедную, может влезть рыбы? Но собака всё ела и ела. Я пробовал её отогнать — не пошла. Она на меня посмотрела как-то долго, будто пристыдила, и я махнул рукой.
Всё-таки она эту вторую щуку не осилила. Посидела немного около неё и опять пошла к воде — пить. Бока её клокастые раздулись, рёбра выпятились, как клёпка у рассохшегося бочонка, а она всё лакала и лакала. Несколько раз так: перейдёт на другое место, постоит, покосится на воду и опять начинает лакать. Один матрос даже палкой запустил в неё с катера: уходи, мол, обопьёшься! А она и не посторонилась, когда её обрызгало. Потом уже не пила, только смотрела на воду — жадно, непонимающе — да нюхала волны. Видно, соль распалила её здорово.
Когда я притащил сверху последнюю ношу — палатку и ружья, за собакой пришёл мальчик. Маленький, в рыжей малице, в торбасах, без шапки. Он хотел увести собаку от воды, а та никак не шла. Она опять порывалась пить и не могла уже. А матросы смотрели на них с борта и потешались: «Ты ей чайку, малой, тащи! Видишь, воды не хочет?» Мальчишка обнял её за шею, уговаривает: «Снежок, Снежок, пойдём домой…» А те, с катера, опять про чай. И тут мальчишка горько заплакал. Он уже не тянул свою собаку от воды, от хохочущих этих матросов, а только всхлипывал и грязными кулачками размазывал по смуглым щекам слёзы.
Собака тем временем опять повернулась к воде. Но пить не стала, наверное, не смогла больше — глядела и не могла. И тогда она завыла: понюхает воду, поднимет голову и завоет. А мальчик тот и мы все на берегу остановились и смотрели — то на собаку его, то на катер — и молчали. Мне показалось, все на берегу вдруг замолчали. И на катере тоже притихли, а потом стали расходиться. Торопливо как-то, оглядываясь, спускались по одному в кубрик, будто что-то забыли там доделать. Всё время не помнили, а тут вдруг спохватились, надо стало…
УЛИТКА
В этот день я ходил по грибы, вернулся усталый. Я достал из ямы кувшин молока, чтобы напиться. На глиняной крышке кувшина лежала улитка. Я не сразу и заметил её — маленькая, серым завитком раковина среди прозрачных капелек: крышка запотела.
Я поставил кувшин на стол и уже совсем изготовился дать улитке щелчка — пить очень хотелось, но что-то остановило меня: она сейчас уйдёт сама. Я только облизал сухие губы, взглянул на неё ещё раз и пошёл за стаканом.
Еловый стол был вкопан во дворе под черёмухой. Когда я вернулся, сквозь поредевшую её крону на потрескавшуюся столешницу и на кувшин упал солнечный лучик, и улитка забеспокоилась. Сперва из раковины, из её устьица, выставились рожки — два маленьких усика. Не знаю, хотела ли она оглядеться или послушать, но усики её зашевелились. А может быть, ей не понравилось солнце. Я поставил стакан рядом с кувшином и стал смотреть.
Рожки были чёрненькие с какими-то крошечными чёрными горошинками на кончиках, хотя вся-то она была размером с горошину. Она ещё немного поводила своими усиками, потом из раковины показалось тельце. Лишь самый кончик. Быть может, голова: там даже были этакие точки — два глаза, что ли. А усики поднялись кверху и замерли. Тогда, высвободив всё тело из домика, плашмя лежащего на крышке, она вдруг стала ставить этот домик. Ей всё хотелось взять его на спину, чтобы потом удобнее нести. Поставила. И медленно поползла. Серенькое, в мельчайших, видных на просвет крапинках тельце её всё подбиралось и расправлялось, и домик на спине покачивался.
Ещё на минуту остановилась она у самой кромки, где начинался спуск. Поползла и вниз, под уклон. А домик на весу держать ей трудно, он всё запрокидывался, грозя свалиться, потащить её за собой. Тогда она опять положила раковину набок — там же, у себя на спине. Так доползла до краешка. А дальше дороги нет, спуск кончился. Крышка на кувшине была как шляпка у гриба — навесом. Придётся, видно, спрыгивать.
Всё тело вобрала улитка в домик: и голову, и усики. Только хвостик, чтобы до времени держаться, остался. Потом, упрятав так всю себя в прочную раковину, отцепилась, отклеила и хвостик. И упала. Упала неудобно. Там неровность — на еловой доске выкрошился сучок, — и домик перевернулся. Она опять долго осматривалась, вывернув из раковины всё тельце, чтобы усики выставились наверх. Потом, судорожно цепляясь за доску, принялась раскачивать свой домик и выбралась. И, постояв минуту, наверное, чтобы расслабить мускулы, опять поставила раковину на спину, и опять поползла, теперь уже на край стола. Лишь усики её всё пошевеливались, поворачивались время от времени, поднятые кверху, да грузно покачивался на спине маленький известковый завиток — её домик…
Мне уже не хотелось пить. Я всё смотрел на неё, всё хотел найти ошибку — могла же выбрать плохую дорогу, не самую короткую, а может, решила бы не сползать на край крышки, а скатиться с неё ещё с высоты, с того места, где только начинался уклон…
Мне кажется, я сделал бы всё так же.
ПОСЕЛЕНЦЫ НЕОБИТАЕМОГО ОСТРОВА
Уже перед самым морем затерялся в дельте Дона небольшой островок. Морской берег у него порос непролазным камышом, по речному тянется сухая зелёная гривка — ивы, ольховник, разлапые осокори да ещё толстые, старой бронзы тополя. Остров частенько заливает, поэтому никто на нём не селится. Разве сейнер какой забежит с моря, приткнётся перестоять непогоду. А так, едешь мимо — там только кони пасутся в глубокой, нечёсаной траве да бродят по мелководью цапли. Подымут головы из камыша, посмотрят, кто тут тарахтит, лягушек пугает, и опять займутся своим делом.
Постоянно живут на острове только черепахи и вороны. Почему черепахи — понятно: тут им и горячий песок, и вода. А вороны обычно жмутся ближе к людям, к хуторам или станицам. Тем не менее деревья на острове прямо-таки перегружены охапками чёрных высохших прутьев — гнёздами. А в гнёздах — птенцы: горластые, растрёпанные. Только и видно, высовываются и рты разевают: «Брось чер-рвя!» Я пробовал утихомирить птиц, запустил палкой, и не рад был: вся воронья орава поднялась в воздух. Даже потемнело. В старину слово «тьма» значило десять тысяч. Вот их тьма и была.
Я всё думал тогда, чем они кормятся? Червей тут, на острове, мало, мы сами с трудом накапывали для рыбалки. Черепахи в счёт не идут. Раки ещё есть. Но что-то я не слышал, чтобы вороны ловили раков. Остаются моллюски — улитки там разные, двухстворки. Конечно, их по отмелям много. Но ведь они в воде.
Вороны с утра до вечера шныряли над островом, в камыше, залетали даже за реку и всё носили и носили что-то в свои гнёзда, а что носили — не поймёшь. Вечером базар этот затихал. Птенцы — они уже, верно, были сытые — не кричали, успокаивались и взрослые. Обычно, когда мы садились за вечернюю уху, они уже все слетались. Поглядывают на нас сверху, с деревьев, и каркают — должно быть, перемывают нам косточки: «Вот, мол, чудаки. Едят перед самым сном!»
Нас было двое на острове — товарищ мой и я. У нас был отпуск, мы приехали порыбачить в уединении и долго считали, что мы одни здесь рыбаки. Но однажды обнаружилось, что рыболовов тут, на острове, гораздо больше.
Бывают такие дни в мае, когда в реке появляется вдруг множество верхоплавки. Мелкая, с перочинник величиной, серебристая рыбёшка ходит стайками, да так близко к поверхности, что кажется — ещё немного, и спинки обсохнут. То ли она резвится, то ли это обряд у неё какой-то, но рыба жмётся к берегам и устраивает такую развесёлую возню, что вода просто бурлит. Вот эту верхоплавку, а иногда и другую какую-то рыбу покрупнее и ловили вороны. Они разворачивались вдруг на плеск и быстро снижались. Неуклюжие, тяжёлые, они были, конечно, не столь ловки, чтобы хватать рыбу без промаха, но всё-таки рыба им попадалась. Снижаясь, вороны нелепо махали растопыренными — каждое перо в сторону — крыльями и изо всех сил вытягивали к воде когтистые лапы. Кажется, вот-вот сцапают. Но выхватывали добычу всё-таки клювом.
Я даже поплавки свои забыл, когда впервые увидел это: не чайки ведь, вороны! Конечно, чайки были сноровистей. Уже через час-два, сытые и довольные, они собирались где-нибудь на отлогой косе прихорашивать беленькие пёрышки или подремать. А вороны всё ещё летали над водой. Им приходилось трудно. Даже ведь рыбу на лету не проглотишь — вот и летали каждый раз на берег. Оставлять там добычу, чтобы сейчас же продолжать лов, тоже нельзя: соседки всякие бывают. Иная даже на лету норовит отнять верхоплавку — где уж там оставить её без присмотра! Так и мотаешься: поймаешь, улетишь на берег, подальше от завистников, съешь её там в одиночку, а потом уж возвращаешься на ловлю.
Рабочий день у ворон начинался рано, перед восходом солнца. С высоты, с деревьев, они, наверно, видели солнце раньше. Во всяком случае, они там, сидя на крылечках, начинали вдруг перекликаться, очевидно, обсуждая предстоящую погоду, а может, договаривались, кому где промышлять. Поднимались и мы: разве улежишь, когда делятся наши общие угодья! Затем птицы разлетались — кто в камыши, кто на отмели за мальками или моллюсками. Мы ехали в какой-нибудь сонный заливчик.
Однажды нас застала на острове сильная низовка — ветер такой подул с моря. Море потемнело, стало сперва синее, а потом по синему — будто кто рубанком по крашеной доске зашаркал — покатились белые стружки, и остров стало затоплять. Мы перетаскали всё в лодку, привязали её к дереву. Дерево наше раскачивается, шумит, а мы сидим в лодке и думаем, что делать. До вороньих гнёзд вода, конечно, не достала — высоко. Однако потоп этот не понравился птицам тоже. Кормиться нечем и слетать никуда нельзя — унесёт ветер. В общем, утром и у них состоялось собрание: как быть дальше? Председателя у них, наверное, не было, в колокольчик звонить некому, и они высказывались все сразу, кто кого перекричит. Не знаю, на чём они порешили, — наше собрание закончилось раньше. Всё-таки у нас была лодка — посочувствовали мы нашим соседям и отчалили: удить не удить — постоять, где потише.
Когда мы вернулись, вода уже спала. Усталые и промокшие, мы, конечно, занялись палаткой, костром — надо ведь было обсушиться да чаю согреть, раз уж не повезло с рыбалкой. Мы не сразу заметили, что на острове стало как-то тихо. Рябая, в чёрных кляксах гнёзд роща была пуста. Странно даже: кипит в котелке чистенькая, без единой рыбки вода, и никто не заглядывает сверху — чем там рыбаки промывают желудки. Неужели всё-таки улетели птицы?
После чая мы залезли в палатку. Стучали на речке редкие катера, однообразно шумела над головой роща, одинокие, покинутые, попискивали где-то в гнёздах воронята. Так мы и уснули с товарищем, рано, ещё до заката, тесно прижавшись друг к другу на охапке зелёных веток, постланных прямо на непросохшую землю.
Утром нас разбудили вороньи крики. Я не знаю, когда птицы вернулись в гнездовье, но они уже работали, когда мы проснулись. Они летали не как всегда, кто куда вздумает, а все в одну сторону — к морю и обратно, так что на этой их воздушной дороге образовались как бы два встречных потока, и было удивительно, что птицы не сшибаются в этой толчее.
Я не дождался, пока вскипит чай, пошёл прогуляться по не просохшей ещё луговине, посмотреть, что стало.
Море вокруг острова мелкое, берег отлогий, и, когда вода уходит, далеко обнажается дно. Огромная, влажно поблёскивающая отмель, куда спешили вороны, кишела разной живностью: ползали черепахи, бороздили ил подсыхающие двухстворки, валялись водоросли, а в лужах мелькала, суетилась не успевшая вовремя уйти рыбёшка. Выбирай, что душе угодно! Вороны пировали. Они прыгали вокруг луж, пикировали сверху на копошащихся жучков и рачков, долбили что-то кремнёвыми своими клювами. Это был богатый пир. Море будто подобрело и теперь одаряло птиц за доставленные накануне неприятности.
Конечно, подарки делаются не каждый день, даже если их дарит море, но всё-таки я позавидовал: мы в это утро пили только чай…
СЕРДОЛИКИ
В то утро мы с отцом уезжали к себе, в Сибирь, и решили ещё раз, пораньше, пойти к морю, чтобы походить возле него вдвоём, пока никого нет на берегу. Солнце ещё не поднялось. Далёкая гора там, на берегу, из-за которой оно должно было появиться, едва проступала сквозь синеющую дымку. Только вершина чуть обозначилась светлым и как будто плыла над этим синим, ничего не касаясь.
Отец шёл впереди, ступая по вымытому похрустывающему галечнику, и смотрел на воду, на рассыпанные там, на дне, камушки. Вода была спокойная, прозрачная — даже не сразу увидишь, где кончается берег и начинается дно. Только когда волна приподнимает воду, оно, всё сразу, будто сдвинется, покачнётся вдруг и опять станет на место.
Мы прошли до конца пляжа. Дальше начинался обрыв, со скал обвалились глыбы потрескавшегося песчаника. Они лежали и на берегу, и в воде. Отец остановился, сказал:
— Дальше пойдём?
Мне хотелось посмотреть на крабов — они жили под этими камнями.
— Давай не будем ловить их, — попросил отец. — Просто сядем и посмотрим.
— Я сяду на моём камне, — сказал я.
— Хорошо. Я — на моём, — согласился отец.
Наши камни — их два — наверное, тоже упали в воду со скалы. На них можно даже лежать в тихую погоду, смотреть на небо.
Возле моего камня покачивалась медуза. Медузы неловкие, они, наверное, не могут плавать, куда хотят, они просто не тонут, а носит их само море, волны. Эту как раз скоро вынесет на берег. Мне не хочется, чтобы она высохла на галечнике.
Какое же море без медуз?
Отец лёг на камне. Он приподнимается, смотрит на меня и на медузу.
— Лучше оттолкни камнем: она может обжечь руку.
Медузы бывают большие, красивые. Эта просто белая, как клейстер, и маленькая — с чайное блюдце. Я хочу перевернуть её — там, снизу, у неё щупальца, — но она не перевёртывается. Я толкаю её камнем перед собой и замечаю под ногами краба. Он боком, боком юркнул куда-то, будто его там, на дне, качнуло волной. Я остановился. Ноги мои тоже качает. Кажется, они гнутся в воде — не мои, какие-то короткие.
Я тоже улёгся и, свесив голову, смотрю в воду. Камушки на дне совсем близко. Коричневые, белые, красные — хоть трогай рукой.
По дну суетятся жёлтые зайчики. Это уже поднялось из-за горы солнце. Вершину теперь видно хорошо, а склон ещё в тени. Но если всмотреться, там, на склоне, можно различить скалы — бараньи лбы, зелень — должно быть, держидерево, а ниже — белые домики и кипарисы.
Я сажусь и опускаю ноги. Волны прикасаются к ним снизу, тёплые-тёплые. Это только когда первый раз входишь в воду, они кажутся прохладными.
— Правда, волны тёплые? — спрашиваю я отца.
Он не отвечает. Не слышит, что ли? Мне не очень хочется разговаривать, я просто так спросил, потому что мы уже долго молчим.
А времени, наверное, много, скоро нам уходить. И уезжать тоже скоро…
Интересное море — всё время меняется, и хочется увидеть, где и что переменилось. И никак нельзя увидеть всё сразу — большое. Я гляжу то себе под ноги, то дальше, то совсем уж далеко-далеко, пока не забываю и про берег этот с нашими камнями, и даже про себя, и не перестаю уже чувствовать, где я и что я — сижу, плыву или лечу. Как будто меня уже и нет, а только оно есть — море.
На реке так не бывает. Даже у нас, на Оби, хотя она и большая.
Вода в море сразу и прозрачная, и разноцветная, и тёплая. И море будто зовёт к себе. Нельзя стоять на берегу и не подойти к воде, а подойдёшь, оно опять зовёт — дальше. Я не знаю, не умею сказать, как оно это делает, но меня всегда тянет к нему в воду. Даже голова кружится. И ещё мне кажется, я здесь давно-давно. Может быть, потому, что я и раньше всегда знал его, а теперь только нашёл? Мне хочется лечь вот так, спиной на горячий камень, раскинуть руки, зажмурить глаза, и пусть меня кружит тогда и несёт вместе с этим камнем, и с морем, и со всей землёй…
Голова в самом деле кружится.
Отец слез со своего камня. Он зачерпывает воду ладонями, переливает её с ладони на ладонь, смотрит, потом натирает себе грудь, руки. Потом набирает воды в рот, запрокидывает голову и так стоит, будто слушает, как она булькает. Это уже в самый последний раз. Сейчас он окунётся и тогда позовёт меня: пора собираться. И я не знаю, что бы мне такое сделать в эту последнюю минуту. Я бы унёс это море с собой к нам, в Сибирь, чтобы уже не ездить к нему.
— Море с собой не возьмёшь, оно большое… — говорю я.
Отец кладёт мне на плечо мокрую ладонь, тоже смотрит на море. Вода там, дальше, чуть зелёная, как днём, а у горизонта ещё белёсая.
— С морем встречаются только один раз, самый первый, — говорит отец. — Ты унесёшь его в памяти…
Он ничего не понимает: как же я тогда покажу его ребятам? Там, в Сибири.
Мы уже идём по пляжу. Море, когда дует ветер, всё время перекатывает камушки. Они скругляются, становятся совсем маленькими, особенно у воды. Это чтобы нам идти было удобно? Выше, где никто не ходит, галька крупная, её море не трогает…
Сейчас мы повернём туда, наверх, и уже не возвратимся. И я опять думаю — что бы такое сделать? Вот сейчас. И вдруг вижу камушек. Он лежит в воде, он вспыхивает, когда над ним проходит волна.
— Янтарь, — определяет отец.
Он оранжевый, огнистый — весь просвечивает, мокрый на мокрой ладони. Я знаю теперь, что надо сделать.
— Я догоню тебя, — говорю я отцу.
Камни качаются в прозрачной воде. Солнце нащупывает их, высвечивает, словно показывает, какой надо взять. Я уже не вижу воду, я вижу только их — яркие, как капельки рубина, горошины киновари, крупитчатые сахарные кварцы, зелёные, затаённо светящиеся изнутри сердолики. Как эта вода там, вдали.
Больше всего мне хочется взять сердоликов. Я вхожу в воду поглубже, стою минуту, чтобы она успокоилась, осматриваю дно. Их трудно заметить. Как же я раньше не догадался, что нужно сделать!.. Я пересыпаю их, мокрые, с ладони на ладонь, затем складываю в платок — узелок получился тяжёлый — и бегу наверх, в посёлок. Они пересыпаются в потемневшем влажном платке, и мне кажется, они шумят. Совсем так, как там, на берегу, когда бывает прибой. Я даже не думал, что они ещё и шуметь будут.
Отец уже вынес наши чемоданы. Он показывает мне коробку, говорит:
— Укладывай камни. Нас ждут.
— Ничего, ничего, — улыбается шофёр, — не торопитесь.
Все пассажиры в автобусе смотрят, как мы — сперва в коробку, потом вместе с коробкой в чемодан — укладываем камушки, и все тоже улыбаются, как будто и им приятно, что мы повезём в Сибирь эту коробку.
— Помнишь, — говорю я отцу, — когда мы приехали сюда, был вечер. Ветер дул. И что-то внизу шумело. Я спросил нашу хозяйку: «Что это?» Она не поняла: «Где — что?» — «Шумит…» — «А-а, это волны там гальку катают». Но мне слышался там ещё голос. Как будто далеко-далеко. И — один. Она послушала и опять сказала, что там только волны.
— Она просто привыкла, — сказал отец, — когда привыкнешь, не слышно.
Автобус уже поднялся в горы; море осталось внизу, невидное; пассажиры разговаривали кто о чём, а я всё думал про свои сердолики, и мне казалось, я слышал, как они шумят, — как шумит там, внизу, уже никому не слышное море…
* * *
Дома, в Сибири, я сразу же достал свою коробку, чтобы показать ребятам море. Но я не развязал её, я сначала тряхнул ею перед ними и спросил:
— Вы слышите?
— Орехи! — закричали ребята.
Я открыл коробку. Я до сих пор помню, что я там увидел. Сердолики погасли. Они лежали там, в коробке, белые, будто вываленные в муке…
Оставшись один, я мыл их водой, но они снова тускнели. И даже шумели уже не так. Наверное, потому, что в коробке. Я помню, как шумел прибой в тот, в первый вечер. Я даже помню тот голос — далёкий-далёкий. Но он приходит только ко мне, ни к кому больше, и всегда сам собой: сердолики тут ни при чём…
Они и сейчас лежат у меня в той же коробке. Я всё хочу вернуть их при случае туда, где взял. А случая нет и нет. Не попросишь же кого-нибудь везти с собой несколько тысяч километров камни! А объяснять, что́ они такое, — кто поверит…
ЧИРУШКИН ВЫВОДОК
Не знаю, что так привязало чирушку к этому неспокойному ручью. Мы поставили на берегу шалаш, жгли возле него костёр, то и дело стучали на гривке, отбивая косы, — мы ведь сено косить приехали, но утка никак не хотела оставлять своё место. Может, она просто привыкла тут к мелководной, поросшей осокой излучине, где всегда удобно укрыться от случайных гостей, а может, ей нравился донный ил. Не часто ведь находишь его на быстром ручье.
У чирушки были дети — стайка пушистых жёлтых утят. Утка, что ни минута, не ныряла даже — здесь это было не нужно, — а просто запрокидывалась в чёрную от тени воду, так что из ручья торчал только куцый хвост, и зачерпывала ил. Она проделывала это десятки раз кряду, даже когда наполнившийся её зоб округлялся — пусть смотрят, пусть учатся. И утята тоже доставали ил. Правда, нырять им в тёмную воду не хотелось — это ведь всегда немножко страшно, они брали ил у берега. Но маленькие лаковые их носики работали вовсю.
Мешал им там, на ручье, только ветер. Нам на сенокосе ничего — сено лучше сохнет да и комаров меньше, когда он дует. Но он налетал внезапно, стлал осоку, и тогда утят катило по воде, как сухие листья, — не удержаться. Чирушка скликала всех, торопилась куда-нибудь в затишек. Это был как бы перерыв, переменка — пора, в конце концов, и отдохнуть; да и перебрать намокшие пёрышки — тоже дело нужное.
Ночевала чирушка в осоке. Уже тени загустеют и успокоится поблёскивающая на чёрной воде луна, а оттуда всё слышится тихое чирушкино бормотание — мало ли что нужно успеть рассказать до осени ничего не видевшим утятам!
Так они и жили в своей укромной излучине. С утра до вечера плавали да ныряли. Съедят какого-нибудь зазевавшегося водяного жука или червяка и тут же топорщат беспёрые крылышки: подросли ли, можно ли подлётывать.
Однажды чирушка так увлеклась охотой за каким-то шустрым жуком, что не заметила, как из осоки на берегу выбежала собака. Это был наш пёс Барабас — лохматый, с острыми ушами, хвост кренделем. Вечно он бегал и лаял и потому уток вблизи не видел, наверное, ни разу. Когда он выбежал на берег, чирушка ещё носом по дну водила, над водой торчал только куцый хвост. Барабас и внимания на него не обратил — подумаешь, какая-то закорючка! — и хотел вернуться, но этот хвост вдруг дёрнулся, и на воде перед Барабасом оказалась птица! У Барабаса даже крендель распрямился от удивления — был нулём, стал единицей. Чирушка вскрикнула и бросилась вместе с утятами к другому берегу. Барабас оторопел. Он замешкался всего на мгновение, но этого оказалось достаточно: когда он прыгнул в воду, выводок был уже на середине ручья, улепётывал к обрыву. Там есть и коряги, и трава, можно поднырнуть куда-нибудь, спрятаться.
Барабас плыл, шумно фыркая и повизгивая от нетерпения. Чирушка торопилась, всё крякала, встревоженная, и всё отставала от своих быстрых утят, и Барабас видел, как она — потеряла их, что ли, от страха? — поплыла вдруг куда-то не к обрыву, не в траву вовсе, а на открытую воду. Потом нырнула, вынырнула уже возле поворота. Барабас кинулся туда. Я выбежал на берег, стал звать Барабаса, но он меня не слушал.
Барабас вернулся не скоро. Он пришёл тихий и грязный, виновато виляя не успевшим обсохнуть хвостом, лёг у костра. «Конечно, что она ему, — подумал я про чирушку, — добыча, и только…»
Я несколько раз выходил к излучине, потом прошёл осокой, но там было пусто. Только в заводи кружились два пёрышка. Но что узнаешь по перьям? Ясно, что не с утят — те ведь ещё совсем маленькие, в пушке.
Вечером, когда стало смеркаться, утята вернулись. Я сперва услышал там попискиванье, подумал даже, что какой-нибудь поздний кулик, но это были они. Я чуть не расцеловал нашего Барабаса: живы! Потом там, в осоке, стало слышно и чирушку. Утка крякала так, будто уговаривала их или успокаивала, и Барабас — он услышал их раньше меня — всё порывался сбегать туда, но я привязал его на ночь к шалашу.
Как-то Барабас всё-таки отбил чирушкиного утёнка от выводка. Выводок успел скрыться, а этот растеряха отстал. Собака загнала его в зелёные ещё ветки подмытой, повалившейся в воду ольхи, и он пищал там, одинокий и беззащитный. Вода была быстрая, глубокая. Барабас не смел броситься на течение, бегал по берегу и скулил, не сводя глаз с утёнка.
Чирушка кружилась над ручьём, садилась на воду, перелетала с места на место и крякала — надсадно, беспрерывно. Казалось, она то жаловалась, то звала своего утёнка, то бранила Барабаса, отвлекая его на себя — пусть-ка попробует опять поймать её, если такой сильный! Барабас не выдержал, наконец, и прыгнул в ручей. Даже не прыгнул, он просто забыл на мгновение об осторожности, потянувшись за утёнком, глина под лапами обрушилась, и пёс плюхнулся в воду. Течение тут же подхватило его, он отчаянно зашлёпал по воде лапами. В ту же минуту чирушка опустилась рядом с утёнком. Он не плыл, он скользил по воде, как глиссер, отчаянно работая лапками, помогая себе маленькими быстрыми крылышками. Когда мокрый, ничего не понимающий Барабас выбрался на берег, их уже не было.
Всё-таки и после этого случая чирушка не покинула излучину. Наверное, уходить по ручью с маленькими ещё утятами было рискованно. Кто знает, какие беды могли подстерегать их в незнакомых местах. Там, может, и укрыться-то будет негде…
Барабас, казалось, не надеялся уже полакомиться утятиной. Лёжа на солнцепёке перед шалашом, он слышал иногда, как где-то в осоке плещутся утята. Он весь подбирался в эту минуту, хищный и насторожённый — вот-вот вскочит и побежит. Но ещё минута-другая, он опускал голову на лапы и безразлично опускал глаза: так, мол, показалось — ветер, наверное, шелестит.
Однажды там, на ручье, всё-таки случилось что-то такое, что едва не положило конец всей истории. Не было ни всплеска, ни лая, я не заметил даже, откуда именно пришёл Барабас, но в зубах у него была утка. Чирушка! Он держал её в громадной своей пасти — казалось, вся она вошла туда, — свесились только одно крыло да голова. Голова безжизненно болталась, так что чирушкин нос задевал траву.
Пёс принёс утку к шалашу и завилял хвостом. «Ах ты злодей, — набросился я на него, — разбойник! У неё же дети!» Я даже тиснул Барабаса за ухо, наверное, больно, потому что пёс взвизгнул и попятился. Я взял утку, расправил ей крылья, чтобы рассмотреть. Я решил тут же, перед чирушкой, наказать Барабаса, потянулся сломить прут, положил утку на землю, и в эту минуту чирушка взлетела! Это было неожиданно — будто её подбросило что, как выбрасывает из пращи камень. Барабас с громким лаем кинулся следом — он перепрыгнул через корягу, подмял какой-то куст, поднял тучу брызг над осокой, но было поздно: чирушка улетела.
Барабаса посадили на привязь. Он всё рвался туда, к ручью, всё прислушивался, не всплеснёт ли в осоке, там ли ещё они, принесшие ему, матёрому псу, столько позора и унижения. Но ни утят, ни самой чирушки слышно не было…
Весь вечер я просидел у шалаша. Уже увяло, отлетело от прогоревших дров пламя, уже тронул уголья белёсый пепел — а там, в заводи, было тихо. Лишь в осоке, как в заброшенном дому, шарил от скуки ветер да тонко попискивали где-то на отмели залётные кулички. Пусто. Это всегда так: тихо и пусто, когда улетят птицы…
Чирушка увела-таки свой выводок. Утром я спустился к воде. Неестественно звонко булькал где-то на перекате ручей. Одинокий, сиротливый маленький юркий ручей, на котором, наверное, до самого устья не было больше ни заводи, ни осоки. Одни валуны, одни голые камни, под которыми даже водяные жуки не водятся, не то что ил…
ПОСТ № 1
1
Мы с Гулькой живём у бакенщика. Домик стоит на самом берегу. Он по крышу прикрыт рослыми тополями, акациями, а вокруг степь. Только горячий ветер да травы. Пусто.
Бакенщик — Гулькин дедушка. Домик этот ему пароходство построило. Акации и тополи Ерофей Платонович сам посадил, ещё до войны, а ивы и осокори по берегу так выросли.
— Растут и растут, — объясняет дедушка, — кто ж их знает, откуда они пошли…
Ерофей Платонович старенький. Лицо у него коричневое, в морщинках — наверное, ещё оттого, что дедушка часто улыбается. А вот борода и брови — даже не поймёшь какого цвета. Они кажутся белыми, но это когда дедушка наденет китель и фуражку, а вообще они, наверное, как тополиные листья в ветреную погоду. Лет ему много, это сразу видно, только он не говорит сколько.
— Все мои, никому не отдам.
Интересно, почему так устроено, что один человек не может отбавить немного другому? Мы бы с Гулькой взяли. Я, например, взял бы столько, чтобы сразу можно было пойти учиться на капитана парохода. И Гулька бы взял.
— А какие вы годы хотите? — улыбается дедушка.
— Хоть какие! — отвечает Гулька. — Тебе же лучше, если их будет не столько, сколько сейчас. Ведь лучше же?
— Может, лучше, может, лучше… — качает головой дедушка. — Несмышлёные вы оба…
— Дедушка, а какие бы ты сам отдал? — Глаза у Гульки хитрющие, он ждёт, что скажет Ерофей Платонович.
— А вот сиротой я остался, когда таким же, как вы теперь, был, — улыбается дедушка. — Может, сиротство моё возьмёте?
Мы молчим. Дедушка тоже на минуту умолкает, вспоминает.
— А конную Будённого! — вдруг выпаливает Гулька.
Ерофей Платонович был эскадронным в Первой конной армии. Его белые саблей даже рубанули. Мы не сводим с него глаз, ждём.
— Ишь ты! — Под белыми дедушкиными бровями загораются огоньки. Но он смотрит на нас серьёзно, говорит: — Конная Будённого — это мне прибавка досталась к жизни, её я не отдам.
Так мы и не можем ничего выпросить — дальше всё одни прибавки идут.
— Ну, вот, — говорит дедушка, — придётся вам самим наживать всё. Ваши-то годы лучше будут…
Весь день делать нам нечего. Мы томимся на берегу, жуём полевой лук или кислицу — тут много растёт в траве. Ерофею Платоновичу нас жалко, он предлагает:
— Шли бы раков пещеровать.
Пещеровать это ловить руками в воде, в норах. Но мы уже «пещеровали»: вчера Гульке в палец вцепился рачище. Гульку будто выдуло из воды! Хочет стряхнуть, а рак висит — зелёный, шероховатый, как рашпиль, хвостом дрыгает, а палец не отпускает. Мы потом проверили: этой клешнёй рак перекусил спичку.
— Не-ет, — тянет Гулька, — я не люблю раков.
— А то мяты нарвите, чаю с мятой попьём, — советует Ерофей Платонович.
Гулька молчит. Ерофей Платонович сворачивает козью ножку, долго смотрит на воду, на вершины корявых осокорей, на белые, заголённые ветром тополя, говорит:
— Меняется ветер-то. Гляди, к ночи рыба придёт. Ждёт, поди, икру ей вымётывать подоспело…
Дедушка обещал нам показать Ерик — протоку такую, куда весной рыба заходит с самого моря. В Ерике мы ещё не были, в нём сейчас нет воды, потому что все эти дни был верховой ветер. А здесь, в реке, вода есть, но нет рыбы. Мы ловили — одни бычки да малюсенькие селявки. Почему-то ей, этой рыбе, обязательно нужно ждать, когда вот там, в Ерике, будет вода. Река же есть? Пароходы по ней ходят, а рыбе будто нельзя!
— А может, на ночь и поехать? Посмотрим, как она придёт. А?
— Поезжай, комары там тебе все веснушки перетасуют, — добродушно смеётся Ерофей Платонович.
Мы сидим на скамейке. Ерофей Платонович любит сидеть здесь. Чтобы всю реку видно было. Вечером вода переливается, играет на солнце, и мы с Гулькой смотрим на воду и молчим.
— Ну-ко, взгляните, какой пароход идёт, — просит дедушка.
Мы оба срываемся, бежим на мыс — оттуда дальше видно. Но пароход ещё не вышел из-за поворота, слышно только радио: «Пип-пип-пи-пи-пи-пи…» Это голос спутника записан. Сейчас, наверное, будут последние известия. Так и есть.
Пароход белый, двухпалубный. Мы не можем узнать его — он при нас ни разу ещё не проходил… Мы возвращаемся, говорим дедушке:
— Пассажирский. А какой, не узнать — далеко.
Дедушка сам идёт на мыс. Мы видим, как он останавливается там, смотрит. Мы тоже ждём. Но сперва мимо нас проходит не пароход, а «Ракета». Она обогнала его, она на подводных крыльях. Она вся над водой, как девчонка на шпильках, — не поймёшь, на чём и стоит. Потом уж приближается пароход.
— А этот будет гудеть? — почему-то вполголоса спрашиваю я Гульку.
— Должен, — отвечает Гулька, — они все гудят дедушке.
Я знаю, что все пароходы гудят Ерофею Платоновичу. Даже катера — у них гудков нет — дают сирену. Этот пароход большой, новый, теперь мне уже видно его и отсюда, и мне хочется, чтобы он дал гудок. Неужели капитан позабудет? Может, он новенький и не знает дедушку?
Пароход уже совсем близко, скоро поравняется с чёрным бакеном, первым от моря. Мы бежим на сеновал: оттуда виднее, кроме того, там у нас бинокль.
Ниже чёрного бакена в камыше стоит ива. Если переехать к иве и спуститься ещё немножко вниз, там и будет Ерик. Устье Ерика не различить, оно всё заросло камышом, но мы знаем, что оно там. Вот сейчас пароход пройдёт мимо, накатит волну на камыш, и тогда можно точно сказать, где это устье. Мы заметили: волна ведь бежит следом за пароходом и пригибает камыш по всему берегу. Только в одном месте она обрывается на минуту, будто перескакивает, потом, дальше, опять кладёт камыш набок. Вот там, где волна перескакивает, и начинается Ерик.
А пароход большой. Мне видно, как там, возле Ерика, сначала оголяется дно — сильно тянет воду, а потом уж набегает крутая, с белым всплеском по гребню волна.
— Бежим, — кричу я Гульке, — лодку сорвёт!
Лодка на якоре. Мы подбегаем к ней, хватаемся за уключины. Ещё до того, как пароход поравнялся с нами, лодку начинает поднимать, разворачивать — никак не удержать. Потом вода всё быстрее и быстрее бежит навстречу пароходу, и лодка, и мы с Гулькой уже не в воде, а на суше — видно, как торопливо стекают по илистому дну мутные ручейки, перевёртываются улитки. Такого никогда ещё не было. Мы выпускаем уключины и смотрим на пароход: вот это сила!
Пароход начинает гудеть — трубно, близко, так что закладывает уши. И мы смотрим на него и хохочем, и кричим, и не замечаем, как накатывается на нас волна. Лодка сбивает меня с ног, я падаю в неё, минуту меня отчаянно бросает по настилу, а когда всё успокаивается, я вижу мокрого Гульку — его выбросило на берег, и он кричит оттуда:
— Слышал? Слышал? Всё-таки дал гудок!
Мы бежим на мыс, мокрый Гулька кричит:
— Дал! Ты слышал, дед, как гудело!
Но Ерофей Платонович не смотрит на нас. Он стоит в камыше, у воды, глядит вслед пароходу и кому-то сердито выговаривает:
— Ах ты ж лихач, ты лихач! Ах ты ж балаболка…
Гулька умолкает на полуслове. «Кому это он?» — успеваю подумать я о дедушке и вижу, как он наклоняется, шарит руками в камыше и, размахнувшись, кидает в воду большущую рыбину.
— Сула! — удивляется Гулька.
В руках у дедушки уже новый судак, и Гулька не выдерживает.
— Дед, не кидай, дедушка! — кричит он, подбегая к Ерофею Платоновичу.
Но Ерофей Платонович идёт, с шумом раздвигая руками мокрый камыш, то и дело доставая из него извивающихся рыбин. Над берегом кружат вороны, они садятся где-то впереди, кричат. Что же они слетелись — рыба ведь живая! Но вот дедушка вытаскивает из камыша ещё одного судака и, осмотрев, бросает его не в воду уже, а на берег. Мы с Гулькой подбегаем к рыбине — жабры у неё вскидываются, живая, а глаз уже нету. Это их вороны выклевали.
— Ах ты форсун! — опять вздыхает Ерофей Платонович.
Я только теперь понимаю, что случилось. Судаки, наверное, пришли к берегу выметать икру — они нерестятся в камыше, по отмелям, — а тут этот пароход, волна. Вода стекла, а они — камыш ведь частый, как гребёнка, — они, конечно, остались…
Я смотрю на реку. Вода возле камыша рыжая, она всё ещё не может успокоиться, будто кто всё время качает берег. А по волнам тоже качается, кружится речной мусор, и над ним кричат, суетятся вороны.
— Дедушка, а на том берегу тоже осталась рыба? — спрашиваю я.
Ерофей Платонович не отвечает.
2
Солнце ещё не взошло, не притеплило влажный, застойный ночной воздух, и неосвещённая вода в Ерике матово-белая, как небо, и неподвижная. Тихо. Только в камыше, будто потеряв друг друга, время от времени нехотя перекликаются просыпающиеся пичуги.
— Поспать бы ещё! — зевает Гулька. — Ра-ано…
Ерофей Платонович проводил нас в Ерик ещё до свету, наказал ждать, а сам поехал гасить бакены. Мы сидим в лодке, чуть поёживаясь от прохлады, поглядывая на воду, но рыба, видно, ещё не пришла. Она будет вскидываться, когда придёт, а сейчас всё тихо. Мимо лодки, медленно поворачиваясь, проплывает охапка чакана. Плывёт с моря в Ерик, значит, вода прибывает.
— Давай заметим по камышинке, как прибывает вода, — говорю я Гульке.
— Давай лучше поедим, есть хочу, — отвечает Гулька.
Я достаю хлеб, и, когда разламываю, сзади что-то тяжело плюхается в воду. Я оглядываюсь: что же упало? Вёсла на месте, из мешка я ничего не выронил…
Всплеск повторяется. Теперь уже дальше, где-то в камыше.
— Лошади, наверное. Осока там, — говорит Гулька.
Хлеб мы макаем в воду. Вода тёплая и чуть солоноватая. Я опускаю руку за борт, хочу подержать хлеб там, чтобы напитался, и в эту минуту прямо перед лодкой опять что-то бултыхается. Я не успеваю заметить что, я вижу только круги, только как вздрогнули там камышинки.
— Понял? — шёпотом говорит Гулька. — Понял? Это же рыба…
Круги большие. Какая же она должна быть сама? Я перестаю есть и смотрю теперь на камыш: он-то почему дёргается? А вот одна камышинка просто качается. Но это не ветер — ветра нет. Я смотрю на неё — так и есть, птица. Серая, с хохолком на голове, она раскачивается там, над нами. Я хотел сказать Гульке, чтобы и он увидел, кто раскачивает камыш, но не успел: камышинка резко дёрнулась и птаху стряхнуло.
— И теперь не веришь? — опять шепчет Гулька.
Прокалывая камыш ослепительными искрами, на востоке занимается заря. Потом тяжело громоздится, повисает над ивняком большое малиновое солнце, и Ерик сразу оживает. Камыш наполняется свистом и стрёкотом, где-то над речкой в приземистом ивняке кричат вороны, и все разом, будто только и ждали солнца, хором горланят лягушки:
«Как вам, как вам?»
— Хорошо! — смеётся Гулька, разматывая леску.
Я не знаю, почему мы до сих пор не рыбачили! Я тоже разматываю леску, цепляю на крючок ленивого сизо-красного червя.
«Раз-зява, раз-зява!» — дразнится лягушка.
Зелёная, пупырчатая, с выпученными глазами, она сидит в трёх метрах от лодки на куче проплывающего чакана, я вижу, как надуваются и опадают у неё пузыри — это она щёки раздувает. Мне хочется вдруг шлёпнуть её удилищем, но я не бью её, я расправляю леску и закидываю поплавок прямо туда, к этому чакану.
«Вот так! Вот так!» — слышится откуда-то сзади.
Когда возвращается Ерофей Платонович, рыбная ловля у нас в самом разгаре.
— Ну, пошла рыба-то или ещё собирается? — спрашивает он.
— Пошла! — отвечает Гулька, вытаскивая тарань.
— Успеете наловить. Давайте-ка ближе к чакану станем.
Чакан прошлогодний, побуревший. Он толстым матом перекрыл поперёк почти весь Ерик, и зеленоватую воду тяжело выворачивает из-под него, неподвижного.
— Вот туда и забрасывайте, — советует дедушка.
Мы ещё немного удим, а потом начинается такое, что сразу забываем про поплавки. Камыш вокруг зашевелился, заходил, задёргался, как живой, будто кто привязал под водой по нитке к каждой тростинке и дёргает их без разбору. Рыба то и дело вскидывается, и мы чувствуем — её там много, она пришла. А порой в Ерике происходит что-то совсем уж необыкновенное: рыбы прыгают, прыгает каждая, когда захочет, и вдруг все, сколько их там есть, разом метнутся в одну сторону, в камыш, так что он зайдётся весь. Кажется, встань на дороге — повалят. И когда они метнутся так, с чакана в воду, будто их стряхнули, осыпаются ошалелые лягушки!
«Смотри ты каково! Смотри ты каково!» — кричат те, что подальше.
«Прорва, прорва!» — восхищённо поддакивают с другой стороны.
Перед лодкой опять высунулась одна какая-то ехидная. Что бы там ни тараторили другие, она всё время вставляет:
«Врушки врут, врушки врут!»
«Сама-то ты какова!» — корят её с чакана сразу двое.
Но ту, видно, не отучишь — дурной характер.
— А рыбы, наверное, понимают друг друга? — спрашиваю я Гульку.
— Конечно, понимают! — убеждённо говорит он. — Как бы они сразу все пришли и сразу все в камыш кидались!
И ещё я думаю: плавают, плавают рыбы в море, далеко уплывают, а потом вдруг возвращаются в ту речку, где вывелись. Как же они узнают, куда плыть?
— Вот шалая! — неожиданно ворчит сзади дедушка и добродушно, про себя, смеётся.
Это он с таранью разговаривает — та чуть не выплеснула его поплавок на чакан. Или сам с собой. Он частенько так, сам с собой говорит: один живёт дедушка.
Над чаканом кружатся вороны. Некоторые садятся, ходят по нему — толстые, серогрудые, будто в фартуках, — высматривают добычу. А рыбы то и дело выпрыгивают на чакан и бьются, бьются. Пока икру не вытряхнут, что ли? Зачем им надо выпрыгивать?
Я смотрю на Ерофея Платоновича. Он не удит. Глядит на воду и молчит. Борода у него большая, серебристая, а на голове только пушок. И ещё рубец виден на темени. Это его немцы прикладом, Ерофея Платоновича. Гулька говорит, что дедушка оставался в своём домике и у него при немцах бакены всё время оказывались не на своих местах. Стоят, а не там. И у немцев буксир на мель наскочил и затонул. Где-то здесь, у поста. Пост первый с моря. Он так и называется: «Пост № 1».
Гулька разделся. Это он обещание выполняет: мы сказали дома, что приедем загорелые. А нам уезжать скоро. В лагерь. Он сидит, свесив ноги за борт, побалтывает ими в тёплой воде и только жмурится — то ли от солнца, то ли от удовольствия.
А рыбы плещутся и плещутся. И несёт мимо чакан, и облака там, в воде, тоже несёт — белые-белые. И кажется уже, это не облака бегут, летят, а наша лодка — с горячими от солнца стланями, с дымящимися тёмными вёслами плывёт по тёплому Ерику, по камышу, сквозь птичий гомон и рыбьи всплески, сквозь этот ослепительный день. И мне хочется, чтобы она так плыла долго-долго и чтобы Ерофей Платонович так же вот удивлялся: «Вот шалая!» И чтобы лягушки (пусть лягушки!) спрашивали: «Как вам, как вам?» И чтобы Гулька отвечал: «Да хорошо же, хорошо! Самим-то каково?» — и смеялся.
После рыбалки мы чистим на берегу полосатых, как окуни, подсулков, матовую тарань, краснопёрок. Чешуя выстреливает из-под ножей, вцепляется в руки, в щёки. Гулька лезет в садок за новой рыбиной и вдруг вскрикивает:
— А это кто?
В руке у него извивается тоненькая, как веретено, длинная рыбка. Бока полосатые, плавников не видно, маленькие. Как червяк, только на носу шишечка.
— Кто это, дедушка? — кричит Гулька.
— Игла, должно, — отвечает из лодки Ерофей Платонович.
— И правда — игла! — смеётся Гулька. — А как она называется?
— Так и называется — игла.
Ерофей Платонович идёт с котелками к костру. В один кладёт мокрую, вымытую мяту — чаю попьём. В другом будет уха. Потом начинает потрошить рыбу, которую мы начистили. Каждой надрезает бока — карбует. Это чтобы крупная сварилась одновременно с мелкой.
В котелок дедушка сперва ссыпает картошку. Мы уже знаем: рыбу положит после, когда картошка прокипит, — так вкуснее. Он всё делает по-своему: солит, когда закипит картошка, а когда закипит рыба, счерпает деревянной ложкой пену, положит лук, перец, укроп и ещё томат. Я только здесь, у дедушки, первый раз ел такую уху. Гулька тоже не ел такой раньше. Дедушка всё кладёт, как надо, затем раздвигает головешки, опускает котелок на угли — томиться. Потом прикуривает — не от спички, от головешки — это тоже «так надо», чтобы от головешки.
Уха вкусная. Мы едим её здесь же, у костра, обжигающую, наперченную. Её много, и я думал, нам не съесть столько, но дедушка всё угощает нас, и мы едим. И вот уже ложки скребут по звонкому донышку, а кажется, можно бы и ещё съесть. Я знаю, сейчас дедушка заглянет в котелок, скажет: «Ишь вы, съели, как за плечо кинули!» — и улыбнётся довольный. Но он ничего не успевает сказать, потому что Гулька спрашивает его о том немецком буксире, где он теперь.
— Затонул, — отвечает Ерофей Платонович. — В малую воду ещё бывает видно нос да трубу. Засосало ведь…
— А фашисты, которые на нём были?
— А где им быть? Там их наши, хуторские, в камыше ждали. Астапенков дед, да ещё…
Гулька встаёт, чтобы снять с огня чай, и вдруг кричит:
— Пароход! Дедушка, пароход идёт!
Пароход ещё далеко, за поворотом. Огромный, высветленный вечерним солнцем корпус его высоко выдаётся над низким мысом, отчего кажется, что пароход идёт не по реке, а парит там над берегом. Ерофей Платонович вглядывается, ждёт, пока пароход обогнёт этот мыс, потом спрашивает:
— Уж не тот ли, вчерашний, обратно идёт? Ну-ко, у вас глаза поострее…
Конечно, это тот самый.
Дедушка надевает фуражку, говорит нам:
— Вот что, матросы, — быстро вёсла в лодку, канистру!..
Мотор застучал, лодка дрожит, будто в нетерпении, выруливает навстречу пароходу. Мы идём сперва возле берега, потом дедушка поворачивает речнее. Пароход уже близко. С мостика кто-то машет белым.
— Это нам, чтобы свернули, — дышит мне в ухо Гулька.
Но лодка по-прежнему держится фарватера.
— Гулька, возьми флажок, маши ему, чтобы стал! — командует дедушка.
Сам он тоже поднимается с сиденья, машет руками. Над широкой, с голубым ободком трубой парохода выпархивают одно за другим два белых облачка, сразу же до нас доносятся басовитые короткие гудки.
— Ишь ты торопливый какой! — ворчит дедушка и опять приказывает Гульке: — Маши, подождёт!
Наверное, там, на пароходе, всё-таки поняли, что мы хотим остановить его. Но пароход останавливается не сразу — он большой, шёл быстро. Сначала он проходит мимо нас — нам видно, как на палубе перебегают с носа на корму люди, — потом только останавливается. И тогда с мостика кто-то в белой фуражке кричит нам в рупор:
— Эй, на лодке, чего надо?
Дедушка молча подруливает к борту. Лодка наша возле этого борта, как ореховая скорлупа: кажется, стукнется раз — и сразу на две половинки. По борту иллюминаторы, будто пароход смотрит: стукнемся или нет. Дедушка глушит мотор — сразу же слышно, как шипит, вздрагивает что-то внутри парохода — и, глядя наверх, на мостик, кричит:
— Зовите капитана!
— Я штурман, — отвечает сверху тот, что в фуражке, — говорите, чего надо?
— Капитана, говорю, давайте! — опять требует дедушка.
— Да чего надо-то, отец? — упрямится тот, на мостике.
Но дедушка не отвечает. Он цепляется багром за бортовую лесенку, ждёт. Наконец на мостике появляется кто-то высокий, в белом, с блестящими пуговицами кителе, наклоняется над поручнями.
— Ты, что ли, капитан? — строго спрашивает дедушка.
Тот не успевает ответить.
— Никак Александр! — другим уже, будто не верит себе, голосом говорит дедушка. — Старшой Семёна Астапенкова сын?..
— Я самый и есть! — улыбается капитан.
— Вот как привелось… Ты, значит, на нём ходишь теперь, — заторопился дедушка. — Ругаться ведь я пришёл. Тебя ругать.
— Что так?
— А вот что, — опять строгим голосом заговорил Ерофей Платонович. — Сам вчера тут правил или орлы твои просвистали?
На борту, на палубе, стали собираться пассажиры.
— Ты дело говори, Ерофей Платонович, — насторожился капитан.
— Дело? Дело и говорю. Знаешь, сколько ты тут вчера судака воронам вывалил?
— Так ведь рано бы ещё судаку нереститься…
— Он нас не спрашивает… Смотри сам, Александр Семёнович. И не мой ты сын, и в чинах ходишь, а скажу: негоже это — родной реке урон чинить, вот что!
Сказав это, дедушка оттолкнулся от борта, вырулил подальше. Капитан там, на мостике, постоял, крикнул что-то в трубку, замахал нам фуражкой. Дедушка поглядел на него хмуро: «Дело говори, дело говори… Вот тебе и дело!» Вслух сказал:
— Ногами Семён-от мучается. Знаешь?
— Знаю, Ерофей Платонович, знаю, — сложив руки рупором, ответил капитан.
— Скажу: видел тебя!.. — опять крикнул дедушка.
— Скажи: побываю, мол, скоро. Вот обратным рейсом пойдём, и побываю…
Под кормой парохода забурлило. Лодка наша стала отходить назад, назад, будто это не пароход пошёл, а мы. Но отходил пароход. Только шёл он тихо, будто нащупывал узкий для него, великана, фарватер, будто боялся повернуться неосторожно, зацепить дедушкины бакены.
— А послушался! — шепнул мне Гулька.
Я кивнул головой.
Лодку нашу развернуло бортом к течению, но дедушка всё не заводит мотор. Он снял фуражку, прищурился, смотрит на пароход. Лицо у него красное от низкого уже солнца и морщинистое, как печёное яблоко. Всё-таки он много прожил, Ерофей Платонович… И зачем люди стареют?
Мне хочется расспросить дедушку о Семёне Астапенкове, который тот немецкий буксир в камышах караулил, и о немцах тоже — что они здесь делали. И ещё о судаках. Как это мне раньше не приходило в голову! Но я вижу, он молчит, думает о чём-то, совсем не шевелится, и не спрашиваю…
Примечания
1
Шикша — сибирское и камчатское название ягод и растения водяницы.
(обратно)
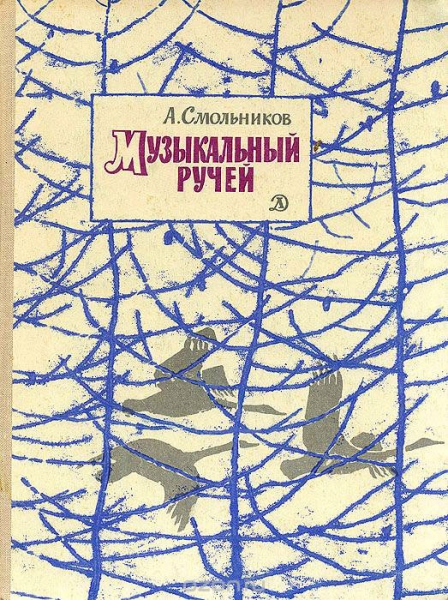












Комментарии к книге «Музыкальный ручей», Алексей Степанович Смольников
Всего 0 комментариев