Михаил Глазков ГОРЮЧ-КАМЕНЬ Повесть и рассказы
Дочери Оксане —
с верой в чистое, мирное
небо над ее головой
ГОРЮЧ-КАМЕНЬ Повесть
Часть первая
Глава первая
КТО БУДЕТ МЫТЬ ТАНК?
Утром по Афанасьевскому большаку въехали в село танки. Они шли на средних скоростях, снисходительно позволяя обгонять себя юрким мотоциклам. Башенные люки были открыты, и танкисты, высунувшись по пояс, ехали без шлемов, подставляя встречному ветру бронзовые от загара лица.
Вслед за танками, подпрыгивая на ухабах, двигались грузные «студебеккеры». Они везли за собой, будто игрушечные, кухни.
Село вобрало в себя весь этот лязгающий и громыхающий поток, наполнилось веселой разноголосицей и усталым рокотом заглушаемых моторов. На лугу повара разводили огонь в походных кухнях. Серые, пепельные хлопья, вылетая из труб, мягко оседали на зеленые лозинки. Вкусно запахло солдатским варевом.
Раньше всех обстановка стала ясна мальчишкам.
— Танки ночевать у нас будут! Эгей! Эгей! — кричали они, пробегая по улице.
А если попадался навстречу офицер, то, как вкопанные, останавливались и умолкали. Раскрыв рты, во все глаза благоговейно глядели на скрипучие ремни, на прилепившуюся к боку пистолетную кобуру — предмет их сокровенных мечтаний. Какими жалкими стали в тот миг на ребячьих плечиках лыковые «портупеи» и деревянные сабли! Кое-кто даже забросил свое снаряжение в речку. Такие самоделки носить-то стыдно!
Но не было среди мальчишек Мишки Богданова. Только его в этот день томила скука — отбывал домашний арест. За что? Бабушка говорит, за дело, а если толком разобраться, так зазря. Захотелось луку, а своего нет, вот и надергал немного в соседкином огороде. Подумаешь, беда какая!
Мишкина хата притулилась на самом краю высокого обрыва, смотря на солнце широкими окнами. Наличники украшены тонкой резьбой, похожи на кокошники.
Мишке прискучило глядеть на мир, открывавшийся ему из окошка в виде рыжих, как у собаки, глинистых боков оврага да узенькой ленты речки Гаточки.
«Эх, махнуть бы сейчас в лес!» — думает он.
В душе у Мишки вскипает новая волна обиды, и он с досадой плюет на головастого кота, развалившегося на солнечном полу.
Но вдруг до слуха донесся необычный гул. Он все нарастал, нарастал. За ним уже не стало слышно говора бабушкиных коклюшек.
Что бы это значило?
Гул доносился со стороны большака, а он-то, как назло, не был виден из окна. Несколько минут оставался Мишка в неведеньи. Но вот за Гаточкой появилась серая громадина. Танк! И направляется к Мишкиному дому. Ура!
Перебираясь через речку, танк едва замочил свои железные башмаки. Перед подъемом он громко взревел и, яростно отстреливаясь синими дымками, устремился а гору. Вот до него уже рукой подать. Мишка сразу смекнул, куда он идет, — за их домом стояла березовая роща, хорошее место для укрытия от немецких самолетов.
— Баушк! Я больше не буду, — начал издалека Мишка.
Бабушка даже головы от кружева не подняла.
Мишка повторил свое «не буду», прибавив жалости в голосе.
Бабушка сверкнула очками и снова уткнулась глазами в кружево.
Тогда Мишка перешел от слов к делу. Для начала он свесил босые ноги по ту сторону окна. Потом бесшумно подтянул на руках тело ближе к краю и уже хотел шмыгнуть в палисадник. Но бабушка была начеку. В один момент подол Мишкиной рубахи очутился в ее не по-старчески крепкой руке.
— Иди-ка, милок, в сенцах курей покорми! — сказала бабушка.
Мишкины глаза — не на мокром месте, но в ту минуту из них горячо брызнули слезы.
Кур кормить он, конечно, не пошел. За него отправилась это делать бабушка. Ну и правильно! Он вообще ей теперь помогать не будет. Пусть себе стареет. Мучить его, так это она умеет, а пожалеть и некому. Вот если бы не был отец на фронте, а мама — не на окопах…
Душевные терзания так растравили Мишку, что он позабыл и про танк, и про счастливых друзей. Он плакал. Плакал с какой-то сладостью, не вытирая слез и не отворачиваясь.
В уличную дверь вдруг постучали. В сенях прошлепали бабушкины чунки, звякнул засов, и в избу шагнул солдат. Большой и приятно пахнущий бензином.
Мишка мазнул кулаком по мокрым глазам и отвернулся к стене.
— Ну, как дела, герой? — пробасил гость. Потом повернул Мишкину голову и бесцеремонно нажал ему большим пальцем нос.
— А вот плакать-то, мы, кажется, не договаривались. Схлопочи-ка лучше холодненькой водички. Жара!
Сняв пилотку, он кинул ее на табуретку.
Мишка зачерпнул из кадки кружку ключевой воды и подал солдату. Тот мигом опорожнил ее и попросил еще. Мишке аж самому захотелось напиться.
А потом состоялось знакомство. Сев рядом, гость дружелюбно похлопал Мишку по плечу и пророкотал:
— Двадцать пять лет звали меня Леонидом. Зови и ты, коли хошь, так. А фамилия моя Начинкин. Если обожаешь на машине кататься — держи со мной дружбу. Договорились?
— Ага! — возликовал Мишка.
Вскоре вернулась бабушка с махоткой в руках.
— Попей, служивый, молочка! — сказала.
— А меня уж Миша водичкой напоил.
— С воды, милок, сыт не будешь.
Вторичного приглашения гостю не потребовалось. Напившись молока, он надел пилотку.
— Так я, бабушка, приду на ночевку-то?!
— Не на улице, чай, ночевать.
У двери солдат обернулся:
— Ну, что, Миша, может, со мной? Я сейчас за продуктами еду.
И не успела бабушка рта раскрыть, как Мишка пулей впереди солдата вылетел в дверь. Домашнему аресту был положен конец…
Село Казачье надвое переделено рекой Воргол, быстрой на перекатах, со множеством глухих соминых омутов. Левобережье зовется Горневкой, правобережье — Чубарями.
Пять веков назад по указу царя на пологом лесном берегу поселилась сотня чубатых запорожцев-сечевиков, образовав сторожевой кордон, для отражения татарских набегов.
С той поры и стало зваться то поселение Казачьим.
Со временем сюда начал стекаться беглый крестьянский люд. Казаки, разбогатевшие на привольной царевой службе, пренебрегли таким соседством и дозволили ему селиться на противоположном каменистом берегу реки. Так появилась Горневка. А казачью сторону мужики прозвали Чубарями.
Испокон веку казаки с превосходством смотрели на бедных заречных соседей. До самой коллективизации в селе бытовали кулачные бои. Дрались стенка на стенку по церковным праздникам и просто так, при случае.
Потом Казачье получило еще одно имя — колхоз «Искра». Люди начали работать сообща и драться стало как-то неудобно.
Уходили из жизни люди, уносили с собой последний дух вражды. И теперь, если и вспыхнет когда на Миро-новом мосту потасовка между мальчишками Горневки и Чубарей, то причина тут, конечно, не передел земли, а врожденная потребность померяться силами, показать свою удаль.
Петька Рябцев считался признанным кулачником. Это и определило его место среди сверстников. По негласному уговору чубарские мальчишки избрали его своим атаманом.
Тот чувствовал силу, но носа не задирал, не задавался. Правда, независим он был только на улице, а дома попадал под власть отца, человека спокойного и доброго в трезвом виде и жестокого — в подпитии. Если Петька подвертывался под горячую руку Захара, то редко бывал за малую провинность небитым. Скользя по полу деревяшкой — ногу потерял на гражданской войне — Захар ловил мальца за ворот рубахи и давал ему затрещину. Заступиться за Петьку было некому — мать умерла, а старшие братья воевали.
Сердобольные соседи хотели было определить паренька в детдом, но Захар так турнул их из хаты, что тех словно ветром сдуло.
Бесприютность, частая необходимость уверток от побоев сделали Петьку расторопным до дерзости, из любой беды вьюном вывернется. Он и друзей приучил драться, бить «кумполом», курить турецкую махорку-лапшу, по-кошачьи лазить на яблони в соседних садах.
Вот и сейчас у всей Петькиной ватажки карманы топырились, доверху набитые красными грушовками.
— Берите, дяденька, яблоки, ешьте! — угощал Петька усатого танкиста.
Подставили свои карманы и горневские мальчишки.
— Не берите, у них одни зелепуки, — сказал Петька.
— Хоть зелепуки, да из своего сада. А у вас краденые, — отпарировал главарь горневцев Валек Дыня.
Усач насторожился:
— Так вин правду каже — ворованные?
Петька запетушился:
— Врешь ты, дыня прелая! Не верьте ему, дяденька!
Усач поверил и благосклонно принял Петькины дары.
— А танка-то, гляди, как замазалась, — закинул удочку Петька.
— Тай, не к кумови на вареники издылы.
— Мыть, небось, думаете?
— А як же.
— Мы тоже умеем мыть танки, — подъезжал исподволь Петька.
— Оце и гарно, пидсобляты мени будете.
— А мы? — просяще смотря танкисту в глаза, заикнулся было Валек.
Но у Петьки ухо востро.
— Не подмазывайтесь — не на вашей стороне танки, — обдал он холодным взглядом Валька и добавил:
— Хошь, давай поборемся? Одолеешь — вам мыть.
Танкист с интересом следил за развертывающимися событиями. То ли представил себе в ту минуту оставленных на далекой Полтавщине таких же огольцов, а может, вспомнил и свое далекое детство. Часто ли на войне выпадают минуты такого вот безмятежного отдыха!
Валек Дыня смело принял вызов. Сложив яблоки в картуз и отдав его друзьям, он отошел подальше от танка, на мягкий ковер подорожника.
И вот противники сошлись. С сердитыми лицами, шумно сопя и отчаянно работая руками, они минут пять взрывали землю босыми пятками. Каждый думал только о победе.
Вдруг Петька сделал выпад ногой и с силой толкнул Валька кулаком в грудь. Тот хватнул руками воздух и спикировал носом в муравьиную кочку.
— С подножками не договаривались! — загалдели горневцы.
И не успел Петька рта раскрыть, как получил с тыла здоровенную плюху по шее. Валек, оказывается, тоже жил не в ладу с рыцарскими правилами.
Семка, не раздумывая, вступился за своего командира. И вот уже на глазах у танкиста безобидная ребячья возня переросла в драку.
Усач только руками всплеснул, не зная, как прекратить баталию.
— Брек! — прогремел вдруг над дерущимися чей-то строгий голос.
Ребята расцепились. Перед ними стоял высокий командир, со шпалой на петлице.
— Ай-яй-яй! Как некрасиво! Дудник! — обратился он к танкисту. — А ну-ка, воспитай их!
— Слухаюсь, товарищ капитан! — отозвался боец и споро затрусил к канаве, густо заросшей крапивой-жгучкой.
Ребятишки, не имея никакого желания воспитываться, прыснули во все стороны…
Мишка шел с достоинством, тихо, боясь расплескать суп. Время от времени он украдкой заглядывал в котелок и тоскливо сглатывал слюнки.
— Мишка! — послышалось вдруг позади.
Тот обернулся. Это был Петька.
— Ты что несешь? — спросил он, хотя явно видел содержимое котелка.
— Обед солдату, нашему постояльцу, с кухни.
— Вкусный, небось?
— У-у, еще какой!
— А ты пробовал?
— Нет.
— Вот бы попробовать! — и Петька вожделенно посмотрел на котелок. — Мишка, давай чуть-чуть отхлебнем.
— Не-е, дядя Леня узнает!
— Какой дядя Леня?
— Ну так постоялец же наш.
— Не узнает, мы немножечко.
— Ну уж если немножко, тогда… Только я первый.
— Ладно.
Они свернули с пыльной дороги к зеленому валу у чьего-то сада и сели на траву. Петька ткнул пальцем в суп.
— Горячий, зараза!
— Подождем немного, — предложил Мишка.
Пока суп остывал, Мишка рассказал о своей поездке с шофером. Петька не без зависти слушал: надо же, на военной машине ездил. А ему, Петьке, только на драки и везет.
Наконец суп остыл.
Мишка взял котелок обеими руками и несмело отхлебнул. На губах осталась желтая каемка.
Затем котелок перекочевал в нетерпеливые Петькины руки. После первого глотка уровень супа заметно снизился.
— Хорош!
Искоса посмотрев на приятеля, Петька еще раз основательно приложился к котелку. Судя по его виду, он не торопился расставаться с ним.
— Хватит! — заволновался Мишка.
Вдруг из-за вала вынырнула рыжая Семкина голова.
— А я, Петька, тебя ищу, — начал Семка, но, увидев, чем тот занят, умолк и недвусмысленно подсел ближе.
— Дадим ему? — обратился к Мишке Петька.
— А с чем же я домой?..
— Я немножечко, — заверил Семка.
Мишка недовольно засопел, а Петька щедро протянул посудину Семке.
Уровень супа настолько стал низок, что при наклоне котелка зловеще показывалось дно.
— Хватит! — решительно сказал Мишка и потянул котелок к себе.
— А ты сбреши, — посоветовал Петька. — Скажи, бежал от собаки и расплескал. Вот еще, не знает, что сказать. Послушал бы, как я заливаю папашке. Пошлет за водкой, а я сдачу в карман, глаза луком натру и хнычу: ребята по дороге деньги отняли!
Мишке Петькина выдумка не то чтобы пришлась по нраву, но на худой конец он решил ею воспользоваться.
Подняв с травы почти пустой котелок, он поплелся к дому…
В сенях Мишку обступила разморенная жарой тишина. Даже мухи и те еле жужжали от лени. Мишке захотелось подольше постоять вот так, не прикасаясь к дверной ручке. На душе его было тоскливо и плохо.
— Кто там? — послышалось из хаты.
— Это я, баушк, — робко открывая дверь, отозвался Мишка.
— А кто, голубчик, тебя отпускал? — не отрывая глаз от кружева, спросила бабушка.
Над Мишкой явно сгущались тучи.
Но не успел он собраться с ответом, как в растворенное окно донесся густой, с неприятным завыванием гул самолета. Вслед за тем раздалась резкая очередь зенитного пулемета. Немец!
Бабушка с удивительной проворностью вскочила с табуретки, схватила Мишку за руку и бросилась во двор.
«В погреб», — мелькнуло в Мишкином сознании.
Под открытым небом пулеметные очереди были еще резче. Они стегали, раскалывали знойный полуденный воздух.
Ду-ду-ду-ду!..
Бабушка мигом распахнула дверь в погреб и увлекла за собой Мишку. Дверь захлопнулась, и темнота обступила со всех сторон, повязкой прилипла к глазам. Стало страшно.
Теперь зенитный пулемет неистовствовал где-то над самой головой.
Ду-ду-ду!
Бабах! — ухнуло где-то невдалеке. И еще раз:
Бабах!
Рвались сброшенные самолетом бомбы. Мишка уже слышал такие разрывы, когда бомбили станцию.
Жуткая темень. За шею холодными струйками течет песок. Он сыплется и в котелок с остатками супа. Мишке кажется, что еще немного и каменные своды обвалятся на них. От этой мысли на лбу выступила липкая испарина.
Успокаивала близость бабушки. По торопливому движению ее руки Мишка догадался — она молилась,
Глава вторая
ОТРЯД БЕЗ НАЗВАНИЯ
Фронт все ближе придвигался к селу. По утрам, когда люди в домах досматривали последние сны, из-за Хомутовского леса особенно отчетливо доносилась орудийная канонада. Она катилась волнами, то утихая, то вновь нарастая. Где-то под Орлом шли кровопролитные бои.
С приближением фронта над Казачьим чаще стали появляться чужие самолеты со зловещими крестами на крыльях. Одни летели дальше, на город, другие отваливали от черной стаи, круто разворачивались и пикировали на железнодорожную станцию. От них отделялись бомбы, а немного погодя в домах лопались стекла и мелко-мелко дребезжала посуда.
Село фашисты больше не бомбили. Танковый полк, прибывший после горячих боев на отдых, перебрался в лес. Но часть бойцов по-прежнему оставалась в селе. Начинкин также жил в Мишкином доме. Капонир — вырытое в овраге углубление для стоянки машин — был надежно укрыт ветлами.
В березовой роще было несколько пустых блиндажей. В одном из них собрались Петька и его друзья. У всех топырились карманы — но не от яблок и груш.
— Выкладывай, кто что принес! — скомандовал Петька и первым положил на дощатый топчан две немецкие ручные гранаты. При этом он с победным видом оглядел ребят, словно бы говоря: а ну, кто имеет что поважнее?! Гранаты он нашел в лесу. Месяц назад немцы сбросили туда парашютистов. Десант был обнаружен и после непродолжительной, но жестокой схватки уничтожен нашими бойцами. На месте боя Петька-то и подобрал гранаты.
Подошел Семка, высыпал из карманов десяток охотничьих патронов.
— А на что они нам без ружья? — заметил Петька.
— Если из них порох высыпать, может, на что пригодятся, — пояснил Семка и затараторил, обращаясь к Мишке: — Мишк, а помнишь, мы им чуть глаза себе не выжгли. К-а-ак фукнет! Ну, помнишь?
У Семки оживилось лицо, будто вспоминал он о чем-то очень приятном и неповторимом.
Ребята по очереди опоражнивали свои карманы, и на топчане рос ворох всевозможного вооружения. Тут были и ракеты с красными и зелеными ободками, и штык-трехгранник, и пустой патронташ, и даже чудом сохранившийся, потускневший, с обломанным концом буденовский клинок. Его принес Севка.
Вместе с клинком он отдал Петьке и обыкновенную рогатку, сделанную из противогазной маски. Подавал ее Севка с таким видом, словно это была не рогатка, а по меньшей мере пулемет «максим».
Петька еще раз окинул собранное богатство оценивающим взглядом и заключил:
— С таким оружием и одного немца не убьешь. Но отряд у нас будет. Как назовем его?
— Красные дьяволята, — предложил Семка.
— Это уже было!
Но лучше никто так и не придумал.
— Ладно! Будем пока без названия, — заключил Петька.
Бабку Коновалиху мальчишки недолюбливали, а Мишка особенно. Однажды ему была устроена дома порка за то, что он разбил окно в Коновалихином доме. Ненароком разбил — в лапту с Семкой играл на выгоне, и мячик угодил прямо в верхнее стекло горничного окошка. Вот крику-то было!
Коновалиха сначала погналась за лаптошниками, но где уж ей, толстой и неповоротливой, — те задали такого деру, что и собакам-то не угнаться!
Тогда Коновалиха направилась прямехонько к Машкиному дому. А вечером Мишку взгрели крапивой. Не столько больно, сколько обидно! Ну, ладно, Коновалиха, ладно!
И вот Мишка с Семкой лежат на меже Коновалихиного огорода и выжидают удобный момент. До подсолнухов— рукой подать, надо только картофельные грядки перескочить. Стоят они, низко склоненные под тяжестью желтых решет. Сейчас свернут по одному, по самому что ни на есть большому решету и пройдутся мимо Коновалихиных окон — пусть побесится.
…И вот ребята нарочито медленно идут по пустынному проулку, на ходу вышелушивают из ячеек и лузгают семечки. Подходя к Коновалихиной хате, замедляют шаги и смотрят на окна — знают, что Коновалиха, как всегда, сидит в эту пору перед раскрытым окном и пьет чай.
Окно и впрямь отворено. Но где же Коновалиха? И что это за плач слышится из окна? Мишка недоуменно взглянул на Семку, тот — на него, непонятно!
Забыв про подсолнечные решета и про месть, они остановились, прислушались. В хате Коновалихи было много женщин, они успокаивали причитающую в горьком плаче Коновалиху.
Вышла на порог соседка, утирая косынкой слезы.
— Тетя Поля, что это с ней? — спросил Мишка.
— Сына ее, Леньку, на фронте убили. Похоронка пришла.
…Что творилось в душе у ребят в ту минуту! Готовы были провалиться от стыда и зла на себя. У человека такое горе, а они!.. Каждый невольно представил себе безутешно плачущую старую женщину, потерявшую единственного сына. Шляпы подсолнухов полетели в придорожную крапиву, и ребята поспешили разойтись поодиночке, чтобы забиться куда-нибудь в густарь.
Мишка пришел к Гаточке, серебряным колокольцем журчавшей по чистым донным камешкам. Резвая и беспечальная, она успокоила, настроила на мечту. Если пойти за речкой, то она приведет к Ворголу, а там, коли следовать за ее струями, слившимися с многоводьем, непременно выйдешь к широкому, овеянному казачьей славой, Дону. А уж Дон выведет тебя к морю, где шторма качают большие корабли. Надо же, в том море есть и вода вот этой узенькой речушки! Такая кроха, а не теряется в огромном мире. Вот тебе и Гаточка!
Но, достигнув далекого моря, мечта мигом покинула Мишку — ее немилосердно вытеснило неумолимое чувство стыда за недавний поступок. И как они с Семкой теперь на люди покажутся, соседям, Коновалихе в глаза посмотрят. В мыслях невольно возник прошлогодний позорный случай, после которого он с Петькой не меньше, чем сейчас, казнился и мучился. А было так.
Ездил по Казачьему и по окрестным деревням Уварушка-гунник, старый человек, с прокуренными до желтизны усами. Прозвище он нажил себе потому, что гуни, старое тряпье, по дворам собирал. Едет вдоль по улице на скрипучей подводе, лошадку лениво понукает да поминутно хриплым голосом покрикивает:
— Тряпки, кости, старые калоши собираю!
И люди, все больше женщины, заслышав Уварушкин голос, тащат из ворот — кто корзину изношенного платья, кто связку истоптанной обуви.
Уварушка останавливает лошадь, берет у женщин и ребятишек рухлядь, прикидывает на вес руками и, небрежно кинув тряпье на телегу, открывает заветный сундучок, в передке телеги пристроенный. Сундучок, словно волшебный ларец, всегда недосягаемо завораживал ребятишек, они не отрываясь глядели внутрь на щедро рассыпанное богатство и замирали в ожидании: что на этот раз даст им Уварушка за собранное старье? Глиняные свистки, конфеты, разноцветные роговые гребешки, красочные книжки, переводные картинки. Чего только не было в чудесном Уварушкином сундучке!
И однажды шли Мишка с Петькой по пустому переулку. Была такая полдневная жара, что не только люди, а и куры, обычно купающиеся в пыли, попрятались в тень. Вдруг видят: стоит под придорожной черемухой привязанная к плетню лошадь, а в тенечке, под телегой, спит-посыпохивает Уварушка.
Не сговариваясь, ребята крадучись приблизились к телеге. Петька потянул за чепку сундука — не заперт! Переглянулись понимающе и ближе подступили к заветному сундучку. Вдвоем потянули дубовую крышку. И — вот они свистки да пряники! — бери сколько хочешь и безо всякого тряпья!
Оглядываясь на спящего Уварушку, ребятишки мигом набили карманы всякой всячиной, бросили еще по пригоршне конфет за пазуху и припустили по стожке к речке, забыв даже крышку сундучка захлопнуть.
У Гаточки на Петькином огороде, стояла дуплистая лозина. В дупло и спрятали ребята свои трофеи.
— Петь! Пойдем глянем — не проснулся ли Уварушка, — сказал Мишка. — А то ведь мы сундучок-то не закрыли.
— Ладно, пойдем, — нехотя согласился Петька, которого так и распирало нетерпение поскорей пожевать пряников и свистком натешиться.
Пригнувшись, подкрались к плетню, выглянули и обомлели. Уварушка сидел на телеге и тихо плакал, утирая грязной ладонью слезы. Словно ножом полоснула ребячьи сердца жалость. Стыд опалил щеки полыхнувшим жаром. С минуту ребята сидели на корточках, словно придавленные невидимой тяжестью. Потом бросились со всех ног к речке, к своему тайнику…
— Дядя Увар! Нате вот, мы взяли… из сундучка, — несмело подходя к подводе, через силу выдавил Петька.
Уварушка, к удивлению ребят, незлобиво взглянул на них, сполз с телеги и с какой-то непонятной им осторожностью и любовью, словно он обращался с живыми существами, молча стал складывать высыпанные ребятишками глиняные свистки и прочую всячину в сундучок. Правда, после этого случая Уварушка с месяц не показывался в Казачьем и в проулках долго не раздавалось его хрипловатого и такого жданного всеми зова: «Тряпки, кости, старые калоши собираю!..»
Посидев на берегу речки, перебрав в памяти недавние события — похищение подсолнухов, горький плач Коновалихи и слова соседки о том, что Леньку, сына ее, на войне убило, — Мишка поднялся с твердым намерением немедля искупить свою вину перед несчастной старушкой. Он пока еще не представлял себе ясно, что сделает, но что сделает ей добро, он знал точно.
Пока шел к дому — надумал: натрясу-ка я ей анисовки — у нее ведь сада своего нету, значит, нет и яблок. Лучше бы грушовки — она слаще, но грушовка уже сошла.
Залезть на яблоню и тряхнуть пару огрузлых веток — минутное дело. На траву посыпались с гулким стуком краснобокие плоды. Мишка снял рубаху и, связав рукава, стал подбирать в нее яблоки.
В хату Коновалихи он идти побоялся. Шагнув осторожно в сени, Мишка высыпал яблоки на земляной пол возле рундука и вышмыгнул обратно на улицу. На душе стало как-то свободнее и легче.
Ребята целыми днями пропадали в роще. Опоясанные разномастным оружием, они разыгрывали такие баталии, что за версту были слышны их воинственные крики.
Клинок Петька на правах командира взял себе. Севка от обиды захныкал было: ведь это он принес клинок, ему он и должен принадлежать. Но Петька, парадно держась за эфес, сказал:
— Где ты видал, чтобы командир был без сабли? Может быть, скажешь, Чапаев? Да у него, хочешь знать, их штук пять было. Пока он одною белякам головы срубал, ему на голыше другую точили. Понял?! Про это мне палатка рассказывал.
Последнее Петька просто-напросто выдумал. Но тому, что Чапаев имел пять сабель, сам он твердо верил и тем оправдывал в душе присвоение Севкиного клинка.
Чтобы в какой-то мере смягчить обиду друга, он расщедрился и вручил ему одну гранату. Настоящую, с запалом. Севка робко потрогал ее металлический кожух, таящий в себе сто смертей, и, боясь показаться друзьям трусом, небрежно заткнул гранату деревянной ручкой за пояс.
— Вот бы рвануть? — вслух помечтал кто-то.
— А что? — подхватил Петька. — Может, и правда бросим одну в Воргол? Для тренировки.
Петькина идея пришлась всем по душе.
…У излучины реки, где один берег был высокий, густо поросший лозняком, а другой — пологий, с песчаной отмелью, над водой вились зеленокрылые стрекозы. Где-то в пышных зарослях рощи заливалась иволга. Царила знойная тишина, какая бывает перед грозой. Воргол лениво катил к югу свои прохладные воды.
Сюда-то и пришли мальчишки. Они как-то сразу вдруг посерьезнели.
Петька обследовал местность, ища укрытие для товарищей.
— Всем сюда! — властно скомандовал он, указав на большую воронку от бомбы.
Ребята мигом исполнили его команду.
Петька достал из кармана гранату, зачем-то повертел ее в руках и оглядел реку. По-прежнему спокойно и деловито порхали над водой стрекозы, тишину дня нарушало лишь кваканье лягушек.
«Сейчас вы у меня, голубчики, понюхаете пороху, — подумал Петька. — А то сидите себе под корягами и не знаете, что на земле война».
Петька прижал большим пальцем правой руки предохранитель, а левой — раз! — с силой рванул чеку. Размахнувшись, он, насколько хватило сил, бросил гранату и ничком упал в траву.
Над водой ахнуло, и троекратно повторенное эхо покатилось вверх и вниз по течению. Осколки крупным горохом секанули по лозинкам. Видно, граната взорвалась, не долетев до воды.
Первым из воронки колобком выкатился Семка. В его глазах еще таился легкий испуг, но была в них и зависть к вожаку. Как это он ловко!
— Петька! Ну что, ничего? Не задело? Ух и долго ты возился! Мы уж решили, ты передумал. А потом слышим, как жжахнет, мы все аж зажмурились. Вот это здорово!
Петька вскочил с травы. Отряхивая штаны, с победной улыбкой слушал Семкины откровения, И не удержался, чтобы не похвастать:
— Да я их на своем веку перешвырял пропасть! Спорим, никто больше не бросит?
Это уже пахло неприкрытым бахвальством. Петькин вызов больно задел самые тонкие струны ребячьих сердец: выходит, один он и смельчак, а остальные трусы!
— На что будем спорить? — не утерпел Севка и решительно шагнул к Петьке.
— Давай на ножички, — отозвался тот. — Бросишь гранату — бери мой, сдрейфишь — свой выкладывай.
Все знали, что за ножичек был у Севки: с белой-пребелой костяной ручкой, с тремя лезвиями, разными шильцами и даже с крохотными ножничками. Загляденье! В общем, трофейный кож, солдатом подаренный. Неужто Севке не жалко будет отдавать его?
Севка молча, дрожащими руками вытащил из-за пояса гранату, отданную ему Петькой взамен буденовского клинка.
— Ну, я готов.
Ребята, словно по уговору, мигом скрылись в бомбовой воронке. Над ее краями торчала только вихрастая Петькина голова…
— Р-р-рах!
Над воронкой дробно раскололся воздух. На спины уткнувшихся в землю ребят градом сыпанули комья дернины…
И сразу жуткая тишина, словно ватой, заложила уши, затем зазвенела тоненько-тоненько, по-комариному: «З-зинь!»
Ребята все, как по команде, вскочили и глянули на то место, где только что стоял Севка. Он лежал неподвижно на опаленном взрывом берегу, уткнувшись лицом в подорожник.
Граната взорвалась у него в руках, зацепившись чекой за обтрепанные рукава отцовского пиджака. На измочаленном тряпье чернела кровь.
Рядом, вывалившись из кармана, белел трофейный ножичек с костяной ручкой.
Через день Севку похоронили. Петька и его друзья долго не расходились от свежего могильного холмика на погосте. Они стояли молча, как-то посуровев и словно бы сразу повзрослев: война впервые явственно дохнула в их лица смертельным холодом. Был погожий, ясный день, и ребятам казалось, что все это произошло не с их другом, и что не его, а кого-то другого только что зарыли в землю.
Глава третья
ХЛЕБ НАДО ЗАРАБОТАТЬ
Ночью Мишка болезненно стонал сквозь сон и бредил. Бабушка часто вставала с постели, тревожно крестясь, склонялась над спящим, поправляла подушку.
Начинкин слышал, глядя во тьму, как она то шепотом, то вполголоса приговаривала:
— Спи, спи, родимый! Господи! Ведь до чего непутевые додумались — гранатами пуляться! И когда ж это все угомонятся на белом свете?!
В полуоткрытое окошко с улицы влетали ночные звуки: сытое фырканье пасущегося где-то рядом коня, скрип коростеля. Временами ясно различалась орудийная канонада.
Начинкин за всю ночь не сомкнул глаз: одолевали невеселые мысли. Да, война не обходит и детей. Мало того, что сиротами остаются, сна еще и жестоко испытывает их огнем.
Начинкин невольно вспомнил свои детские годы, с ночными пожарами и выстрелами из кулацких обрезов.
Да было ли у какого поколения безмятежное, не опаленное огнем, детство?! Революция, бои с интервентами и белогвардейцами, а теперь вот эта война. Тяжелое испытание, не только для взрослых…
К утру у Начинкина созрел заманчивый план, и он решил, не откладывая, побывать у ребят.
…Когда Начинкин, пригнувшись у входа, ступил в землянку, то увидел любопытную картину. За дощатым столом сидел — ни дать ни взять командарм! — Петька, Перед ним лежал буденовский клинок и был расстелен лист картона, весь исчерченный карандашом. А вокруг сгрудились с серьезными лицами ребята.
Неожиданное появление Мишкиного постояльца смутило хозяев землянки.
— Здравствуйте, хлопчики! Штаб у вас тут, что ли?
— Штаб, — с достоинством и настороженностью отозвался Петька.
— Может, я в чем пригожусь?
— Не, мы сами! — снова отозвался Петька. — Мы лучше знаем местность.
— А зачем это вам?
— Немец скоро придет сюда, партизанить будем. Фронт, небось, сами слышали, приближается.
— Ну это вы задумали хорошее дело! А что если мы сюда немца не допустим?
Петька не нашел, что ответить, ребята же в разговор не встревали.
— Вот что, хлопчики! Если вы и впрямь хотите воевать с врагом, то у меня есть одно предложение. А точнее, задание. Сейчас живо по домам, берите у кого что есть — грабли и вилы, и собирайтесь к Мишиной хате. Со мной на машине поедете. Ваши отцы на фронте, а матери трудом помогают нам бить фашистов. Давайте-ка и мы пособим колхозу сено скопнить, очень оно нужно кавалерии, без него коням, что машинам без бензина.
— А что, мы всё можем! — не раздумывая, за всех сказал Петька, что означало полное согласие с предложением солдата.
— А за командира будет вот он…
— Петька! — подсказали ребята.
…В Климакином логу, привольно раскинувшемся по обе стороны реки, кипела работа. Колхозницы копнили сено, оно шуршало под граблями и вилами, кругом стоял тонкий неповторимый запах. Было что-то праздничное в этой картине. И в то же время что-то неуловимо-грустное— не было видно ни одной фуражки, только одни белью косынки степными чайками порхали по разлужью.
Бригадирка Лукерья Стребкова, с коричневыми от загара лицом и руками, работала наравне со всеми. Ее одолевала тревога: рабочих рук мало, мужчины все до одного на фронте, много женщин ушло на рытье окопов— успеет ли бригада до дождей убрать в стога сено. В полдень на горизонте угрожающе заходили черные тучи…
— Принимайте пополнение! — гаркнул Начинкин, подрулив на грузовике прямо к работающим. На стерню из кузова резво попрыгала ребятня, целый десант.
— Милые вы мои! Помощнички вы наши золотые! — запричитала Лукерья. — Да как же это вы придумали-то! Таскайте, хлопчики, сено в одно место, к стогу. И служивый поможет?
— Затем и прибыли! — улыбнулся Начинкин и взял в руки длинные вилы. — Полезайте на стог да только успевайте— не то сеном завалю!
Мишка и раньше бывал на сенокосе. Тогда его брал отец не как работника, — мал еще, придет время, наработается, говаривала мать. Правда, когда копнили сено, отец закидывал его сильными руками на духмяную копну, и Мишка уминал, утаптывал босыми ногами непослушное сено. Но то было совсем не трудно и даже весело.
Теперь же Мишка работал, как и все взрослые. Уже через полчаса рубашонка взмокла, прилипла к телу. Клеверные лапушки залезали за пазуху, тело чесалось. Хотелось снять рубаху, и Мишка сбросил ее, стало лучше-легкий ветерок опахнул, прибавил силы. Грабли ловчее заходили в окрепших руках.
Временами Мишка оглядывался— смотрят ли Петька, Семка, а главное, тетя Луша. Ему хотелось, чтобы они видели, как у него хорошо получается, спорится дело. Он и сам видел, как увлекла его друзей работа, и ему стало радостно от мысли, что оправдали они веру в них, и у солдата, и у тети Луши. Вот и они помогают фронту, как умеют.
Начинкин сначала подавал на стог сено, потом возил на грузовике копешки. И стог рос на глазах.
Время до обеда пролетело, как один час, ребята даже удивились, когда тетя Луша позвала всех обедать.
Как заправские работники, рассаживались в тенечке от стога мальчишки у расстеленного рядна, на котором лежали хлеб, яйца, лук и стояло несколько махоток с молоком.
— Ох, вы, наши мужички! — ласково ворковала бригадирка, протягивая ребятам ломти мягкого хлеба и первым наливая в кружки топленое молоко с пенками. И ребята, не ожидая особого приглашения, уминали за обе щеки вкусный, впервые ими заработанный, хлеб…
Ночью Мишке приснился чудный сон.
Утро. Солнце только выкатывается из-за дальнего поля. А он, Мишка, сидит на высоком возу с сеном, позади отца. Тот легонько пошевеливает вожжами и причмокивает— но!
Дорога ровная, накатанная и гладкая, и телега катится легко. Лошадь всхрапывает и помахивает — вверх, вниз — головой, уздечкой позвякивает.
Мишке хорошо и покойно за спиной отца. Ехать еще долго, и он успеет и наглядеться на просторные, розово освещенные солнцем ржаные поля, и намечтаться вволю. А мечтает он о том, чтобы поскорее вырасти и научиться косить, как отец, чтобы встать рядом с ним и вести прокос так же широко и вольно. И чтобы увидели его на покосе и сосед дядя Митроха, и тетя Поля, мамина сестра, и чтобы все говорили: поглядите, какой у Ивана сын растет работящий!
Вот отец оборачивается и протягивает Мишке яловые сапоги, такие же, как у него самого — косить-то приходится спозаранку, когда большая роса на траве, и без обувки никак не обойтись. И гадюка не укусит. Но где он их взял, сапоги, здесь-то, на возу?
Мишка хочет спросить отца, но телега на выбоинах начинает качаться. Мишка крепко держится за веревку, стягивающую воз, но качка все сильнее и сильнее. И он просыпается.
— Вставай, Мишатка! Вставай! — легонько трясет его рукой бабушка. — Пора в колхоз. Я уж завтрак сварила, вставай, золотко.
Утренняя прохлада охватила Мишку, лишь только он ступил с крыльца на влажную от росы, мягкую, густо поросшую подорожником, тропку. Выйдя за угол дома, откуда просматривается весь проулок, Мишка заложил в рот четыре пальца и громко свистнул. Проулок молчал. Мишка повторил свист. На этот раз отозвались таким же свистом, и на дорогу выбежал Семка — с кнутом и мешочком с харчами. Вот с дальнего конца улицы раздался еще свист, и показался Петька. У того тоже кнут в руках, сам свил из ремешков. У Мишки кнут лучше всех — отцов еще, сплетенный из мягкого, сыромятного ремня и тоже с конской волосяной плеточкой на конце — это уж Мишка сам добавил.
— Ох, как вставать не хотелось! — зевая, сказал Петька.
— А я раньше матери поднялся, еще до стада, корову успел согнать со двора, — похвалился Семка.
— Так мы тебе и поверили, — лениво проговорил Петька.
На конном дворе, куда пришли ребята, колхозницы уже разбирали и запрягали лошадей.
— Идите, мальчики, сперва хлеб получите, — встретила их ласково тетя Луша.
Кладовщик дед Веденей свешал им на безмене по полкило свежего ржаного хлеба, с румяной корочкой с исподу, зеленого от капустных листьев — так пекут, чтобы не подгорел — и раздал ребятам. Петька тут же откусил от краюхи — хороша! — и сунул ее за пазуху. Мишка с Семкой положили хлеб в мешочки, к бутылкам с молоком. И пошли запрягать лошадей.
Петька управился со сбруей мигом, а Мишка все не мог стянуть клещи хомута супонью, с дугой и гужами управился, а с хомутом никак — силенок маловато. Выручил Петька, он на полголовы выше и в плечах шире.
— Вот как надо! — упершись ногой в клещи, ловко засупонил хомут Петька. Потом помог и Семке.
На каждой телеге лежали вилы, оставленные тут со вчерашнего вечера, и ребята, не задерживаясь, выехали с конного двора. Мешочки с харчами привязали к передкам телег.
Возили от Большого верха к телятнику зеленый горох. Женщины косили его крюками — косами с приделанными к ним длинными деревянными зубьями. Зеленые сочные стебли путались, с трудом поддавались вилам, и ребята, навьючив возы, насилу поднимали руки.
С лица обильно катился пот. Но виду не подавали, что устали. Завершив воз, втыкали в него стоймя вилы и с гиканьем трогали с места. Лошади, наевшись вкусной зелени, споро перебирали ногами, но сколько седоки ни хлопали кнутами, бежать рысью не хотели, словно зная, кто сидит на возах.
Выкатив на большак, ребята полностью доверялись лошадям, а сами начинали лущить полные гороховые стручки. Объеденье! Мишка еще и в мешочки стручков наобрывал — бабушка пусть полакомится.
Дорога до бригадного стана длинная, и ребята, наевшись гороха, успевают напеться до хрипоты.
…Пусть их тысячи там, Нас одиннадцать здесь. —запевал Петька. А Мишка с Семкой дружно подхватывали бодрую строевую песню, которой научились у бойцов:
Не сдадим мы врагам Нашу землю и честь…Помнится, те шли селом в новеньких гимнастерках, с длинными винтовками за спиной — сделали полдневный перевал и ушли за Хомутовский лес, на фронт.
Потом еще много воинских частей проходило через Казачье, одни стояли в селе по неделе, расквартированные по хатам, другие, отдохнув часок, снова строились и уходили. И все — на запад, на запад. Туда же ушел и Мишкин отец. Далеко, наверное, ушел. Посмотрел бы сейчас на Мишку, как он по-мужицки, небрежно держа вожжи, правит лошадью, — похвалил бы. Пусть не вслух, про себя, но похвалил бы, точно. Как-никак, а все же помощником стал в семье… И фронту вот помогают!
Глава четвертая
БОЕВАЯ ОПЕРАЦИЯ
В былые времена Кукуевская мельница, стоящая на отшибе села, славилась на всю округу — нигде так хорошо не мололи жито, как здесь. И приезжали сюда крестьяне на лошадях за тридцать верст. Днем и ночью, в любую погоду гудели жернова, и от их незримого мощного круженья дрожало бревенчатое мельничное строение.
Весело бывало здесь тогда и уютно. То и дело, сворачивая с большой дороги, подъезжали возы, из дверей первого этажа мужики сноровисто таскали на телеги мешки с мукой. Мельник, кряжистый, белый с головы до ног, степенно похаживал у ящиков, куда по деревянным желобам беспрестанно текла мука, и время от времени постукивал гаечным ключом по дубовому столбу: на второй этаж знак давал— засыпай! И там, наверху, бабы, давно уже держащие наготове мешки, дружно спускали зерно в ковши. И жернова принимались еще надсаднее гудеть, сполна получив работу.
А Воргол обрушивал и обрушивал из створа плотины на лопасти приводного колеса маслянистые массы воды. Над колесом, над темным бучилом в туче мельчайших брызг сверкала на солнце радуга…
Но перед самой войной мельница заглохла, обезлюдела. Обветшалое здание не починялось, не латалась прорванная полой водой плотина. А причиной тому была новая, механическая, мельница, построенная колхозом, — в селе появился ток. Видно, посчитали селяне, что накладно содержать вторую мельницу, чинить ее каждую весну.
Не стало больше за плотиной широкого разлива воды, отцвела, угасла навсегда радуга над замершим колесом и над еще более потемневшим бучилом, поросла подорожником дорога — осиротела, опустела Кукуевская мельница.
Одни только рыболовы приходили теперь к мельничному омуту, чтобы на утренней ли, на вечерней ли зорьке посидеть с удочками, подсечь окунька, а то и сома.
Петька слыл заядлым рыболовом, и Кукуевский омут был его любимым местом. Вот и сегодняшний вечер, погожий и тихий, он никак не мог пропустить. Искупавшись для начала на быстрине, смыв с себя пот и дневную усталость от полевой работы, он уселся у омута под лозинкой и размотал удочки.
Ловил Петька «на темную» — без поплавков, так глубинная рыба клюет лучше. Только смотри в оба, не спускай глаз с лески. Опыт у Петьки богатый, и он не сомневался, что к ужину принесет домой если не окуней, то плотвичек. И думал он еще о своих друзьях, с кем вот уже целый месяц работает в поле. Он и не знал, что Мишка, к примеру, так любит лошадей. Когда неделю назад бригадирка хотела было послать его пособить пастухам, а лошадь передать Авдюшке-инвалиду, Мишка так реванул, что тетя Луша еле успокоила его и напрочь отступилась — ладно уж, вози картошку.
Не знал Петька, что таким выносливым окажется Семка, хлипкий с виду, с ручонками, как тыквенные плети. Венька Багор и Сашок Гуля по пять ездок в день делали, а Семка — семь. Думали ребята угнаться за ним, по семь ездок стали делать, а Семка и тут впереди оказался— восемь сделал. Такое у парня самолюбие. Чтобы кто-то обогнал его — да ни за что на свете!
«Хорошие у меня товарищи!» — размышлял Петька. И неизвестно, по какому бы руслу потекли его мысли дальше, если б от мельницы до его слуха не донесся странный звук. Словно что-то тяжелое упало, или кто спрыгнул на дощатый пол. Что это?
И тут, как на грех, задергалась, заокуналась леска у одной удочки. Петька схватил удилище и сделал подсечку, И сразу же ощутил привычное глубинное сопротивление добычи. «Окунь — граммов на четыреста!» — определил Петька и повел леску к берегу. На зазубрик и впрямь попался окунь.
Сняв рыбу и наживив червяка, Петька снова закинул леску. «Что же это стукнуло на мельнице? — не выходило у него из головы. — Сходить, что ли, посмотреть?»
Уже смеркалось, Петька передумал идти на мельницу— темно и одному страшновато немного. И вдруг в проеме окна почудился свет.
Позабыв про удочки и пересилив робость, Петька, прогнувшись под лозиновым навесом, двинулся к мельничному строению. К дверям не пошел, а подкрался со стороны колеса к стене и по замшелым бревнам вскарабкался, подтянулся к крошечному окошку…
Сперва Петька услышал приглушенный, невнятный разговор, потом уж разглядел смутные фигуры людей, склонившихся над чем-то и подсвечивающих себе временами карманным фонариком.
Петька замер, прислушался. Говорили не по-нашему. «Не из того ли десанта, что в лесу разгромили?»
Осторожно, рискуя сорваться, Петька по-кошачьи спустился вниз, нырнул в зеленую гущу лозинок и без оглядки припустил к селу.
До Мишкиной хаты он добежал за какие-нибудь четверть часа. Нетерпеливо постучался в окошко. Выглянул Мишка.
— Чего тебе?
— Постоялец ваш, дядя Леня, дома?
— Только что приехал. В горнице он, небось не уснул еще.
— Буди быстро и сам выходи. На мельнице — немцы.
— Что?
— Буди, говорю, дядю Леню, а я — за Семкой.
…Начинкин, не совсем поверивший Петьке, и трое ребят бежали к мельничному зданию по Петькиным следам. У солдата был автомат, а у Петьки — буденовский клинок: успел заскочить домой, прихватить.
У самой мельницы отряд по договоренности разделился— Петька с Семкой покарабкались по бревнам к тому самому окошечку, Начинкин же с Мишкой — прокрались ближе к двери. План был прост: Петька бросит в окошко булыжник, вместе с Семкой поднимет шум. А Начинкин с Мишкой — в засаде, на перехват.
Увесистый голыш, брошенный Петькой внутрь здания, сделал свое дело. Незнакомцы затопали каблуками по лестнице, на второй этаж. Раздались пистолетные выстрелы. Пули расщепили раму недалеко от ребят, тут же попрыгавших в кусты. Петькин клинок загремел по фундаменту.
— Дядя Леня! Их двое, они наверху!
— Сдавайтесь! Вы окружены! — крикнул Начинкин.
Со второго этажа из полуоткрытой двери полоснули два выстрела — стреляли на голос.
— Ребята! Мигом — за плотину! — скомандовал солдат и выстрелил по двери.
Мальчишки шмыгнули за земляное укрытие и затаились.
— Не стреляйт! — донеслось сверху. — Ми сдаюсь!
Дверь распахнулась, и на деревянном помосте появились две фигуры с поднятыми руками.
Начинкин громко клацнул затвором, прицелился. И вдруг оба незнакомца резко опустили руки и выстрелили на звук затвора. Солдат почти одновременно нажал на спусковой крючок и выбежал из укрытия. Один незнакомец покачнулся и полетел с помоста на старые жернова.
Начинкин птицей взлетел по лесенке и обрушил приклад на другого противника, раненного автоматной очередью.
— Дуйте теперь кто-нибудь к тете Луше, пусть пришлет подводу. Этому теперь до утра не очухаться, — устало присев на ступеньку, сказал Начинкин.
— Дядя Лень, как вы их здорово! — восхищенно протянул Петька. — Один с двумя! Вот это да!
— Не один, а четверо, — поправил Начинкин и болезненно поморщился. — Попали все-таки гады!
Гимнастерка намокла от крови — пуля задела бок.
— Давайте мы перевяжем, дядь Лень! — предложил Семка и потянул с себя рубашонку.
— Ничего, ребята, я сам, кажется, не сильно. А вы бегите лучше за подводой — не ночевать же тут.
Семка с Мишкой побежали к селу. В домах зажигались огни: людей встревожили выстрелы у мельницы.
…Оставшийся в живых немецкий диверсант на допросе в штабе танкового полка признался, что был заброшен сюда на парашюте с особым заданием — навести «юнкерсы-88» на железнодорожный мост. Самолеты прилетят следующей ночью, ровно через двое суток после выброски диверсионной группы. Условный сигнал летчикам для бомбежки — две зеленые и одна красная ракеты.
Воргольский мост недаром отмечен на изъятой у задержанного карте: он был важным стратегическим объектом— днем и ночью с короткими промежутками шли по нему с востока к фронту воинские эшелоны.
С наступлением вечера из села в сторону железнодорожного моста отправилась группа бойцов во главе с Начинкиным. Как ни просили ребята взять их с собой, Мишкин постоялец остался неприступным.
— Нет, хлопцы, вы свое дело сделали — да еще как! Теперь наш черед.
И бойцы ушли.
— Петь, а Петь! Я, кажись, придумал, — тронул плечо друга Мишка.
— Чего ты там придумал? — нехотя отозвался огорченный Петька.
— Вспомни Казачий курган! С него ведь мост виден, как на ладони.
— О! Точно! Бежим туда! — встрепенулся Петька.
— Погоди, я только подсолнух сломлю, — сказал Мишка…
И вот лежит ребячья ватажка на самой вершине полынного кургана, ро преданию, насыпанного запорожцами над прахом павших в боях побратимов, и подсолнухи из решета шелушат да погрызывают. Верстах в полутора от них в сумраке проглядывается мост, время от времени доносится гул проходящих по нему составов.
— Миш, — прервал молчание Семка. — Повтори, что дядя Леня тебе сказал.
— Да чего повторять? Нынче ночью немцы прилетят мост бомбить.
— И все?
— Интересно, а зачем же они пошли?
— Чудак! Зенитчиков-то должен кто-то предупредить аль нет! — не утерпел Петька.
— Да, это ты верно… только зачем все же их столько пошло? — не унимался Семка.
— Вот прилип, как репей! — вспылил Петька. — А ты что же, не один здесь, вон нас сколько слушает твои дурацкие «почему»?!
— Ну все-таки, — не согласился с этим доводом Семка и надолго умолк…
— А где-нибудь сейчас и наши отцы лежат в засаде, а может, в разведку пошли, — нарушил затянувшееся молчание Мишка.
— А у меня папка — летчик, он только на самолете летает, да еще… — начал было Венька.
— Ну и что ж, что летчик! Подумаешь, все воюют: и летчики и нелетчики, — оборвал его Петька. Он был явно не в духе, что бойцы не взяли его с собой на ночное задание, о сути которого теперь остается только гадать.
В душе Петька глубоко уверовал, что после удачного боя с диверсантами он и его друзья имеют право на участие и в очередной, на сей раз загадочной, операции.
Время тянулось томительно и долго. Сперва ребята поиграли в ножички — от звезд на кургане было светло— но скоро игра прискучила, и они стали считать проходящие составы. Ночь хоть и была безветренная, однако под рубахами холодило, и все начали поеживаться.
— Костер бы разжечь, — тихо сказал Семка.
— А по шее не хочешь? — пресек Петька его невинное, но такое неуместное сейчас желание.
— Тише, ребята! — приподнялся вдруг с травы Мишка. — Слышите?
В отдалении вырастал тягучий, монотонный гул — так гудят немецкие самолеты.
— Летят!
Гул приближался, становился зловещим. «Юнкерсы» шли на большой высоте. Казалось, они идут мимо, в глубокий тыл и здесь их ровным счетом ничего не интересует.
— Эх, что же прожектора-то зевают! — в досаде хлопнул себя по колену Петька.
И зенитки молчат! — подхватил Мишка. — Может, думают, что это наши?
И в этот миг вдалеке от моста, у каменного карьера, в небо одна за другой взлетели две зеленые ракеты, а вслед за ними — красная.
Ребята недоуменно переглянулись.
Самолеты развернулись на сигнал и стали быстро снижаться.
У каменного карьера ракеты снова взметнулись, озарив окрестность мертвенным светом, в той же очередности— две зеленые и одна красная.
И тут до слуха донесся жуткий, резко нарастающий вой сброшенных бомб.
Затем сильные взрывы так сотрясли землю, что ребята в испуге уткнулись лицом в траву. Грохоту, казалось, не будет конца…
Мгновенно он утих, и ребята оторвали головы от земли. Самолеты еле угадывались в небе, от грохота бомб их гул стал тихим и не таким зловещим.
Прожекторы, как и зенитки, по-прежнему помалкивали, Но ребятам все было ясно — немецкие летчики мост не обнаружили и бомбили пустой каменный карьер.
В это время снова взметнулись ракеты, и самолеты пошли на разворот. Через минуту опять завыли бомбы и воздух качнулся от грянувших взрывов, упруго толкнул ребят в траву…
Глава пятая
ТЫ НЕ ОДИНОК, ВЕНЬКА!
До села докатилась тревожная весть: части Красной Армии оставили Орел. Линия фронта грозно подвигалась к Казачьему.
Женщины, уехавшие на рытье окопов, среди которых была и Мишкина мать, до сих пор не вернулись домой. Говорили, что их «отрезал фронт» и они оказались в тылу у немцев. Мишка смутно представлял себе, как это их отрезал фронт, а по матери часто скучал.
Почтальон Танюха все чаще стала приносить в дома похоронки, и женщины, завидев ее, понуро идущую по проулку, с нарастающей боязнью думали: к кому же сегодня? Господи, пронеси!
Пришла похоронка и Венькиной матери: смертью храбрых пал под Воронежем отец Веньки. Погиб в неравной схватке с «мессершмиттами». Ребята только что приехали с поля на колхозный двор и начали распрягать лошадей, когда к ним подошел кладовщик дед Веденей. Он положил на белобрысую голову Веньки сухонькую ладонь и сказал, как-то неестественно глядя вбок:
— Ты, Вениамин, подь-ка скореича домой, мать надобно успокоить…
— Чегой-то? — насторожился Венька.
— Плачет Федосья — отца твоего… на фронте…
Понял Венька, и все внутри его как-то оборвалось, опустилось куда-то, в глазах запорхали мурашки.
— Иди, иди, Вениамин! Ты теперь за большого в семье, кроме тебя не на кого Федосье опереться. Я распрягу, ступай.
Еле сдвинулся с места Венька, пошел, сгорбленный, придавленный неожиданно свалившимся горем, ни дать ни взять — маленький мужичок…
— Ребя, надо бы Веньке помочь, — несмело проронил Семка. — Пойдемте сейчас все к нему, может, что по дому требуется приделать.
Молчаливым согласием ответили ему друзья, враз притихшие и посуровевшие.
…Мишкина бабушка заохала, захлопотала, лишь внук ступил на порог.
— Что, баушк, аль и нам принесли? — испугался тот.
— Бог пока миловал, касатик. А Федосью-то Багрову не обошел горем, каково-то ей. И наш ни одного письмеца не прислал.
— Не до писем ему там, — успокоил ее, а больше себя, Мишка и пошел на крыльцо умываться.
Вечером он рано лег спать — сморила усталость, даже в горницу к постояльцу не наведался. Последнее время он часто разговаривал с солдатом. Ляжет с ним рядом, прикорнет к сильному плечу и так-то покойно и хорошо на душе.
— Главное, чтоб человек не переставал мечтать, — говорит Начинкин. — Мечтаешь — значит, к цели тянешься, живешь — значит, не коптишь, как головешка. Перестал мечтать — пиши пропало, начал медленно умирать. Запомни, Миша, это раз навсегда. В трудное время люди мечтают еще больше.
— А ты о чем мечтаешь, дядя Лень?
— Перво-наперво немца скорей прогнать с нашей земли — много горя он народу принес. А потом, когда немца прогоним, — пойду учиться. Стану, как отец, горновым на заводе. Он меня уже было начал приучать к доменному делу, прочил себе на замену. По вечерам я еще в радиокружок ходил. А тут вдруг — война…
И Мишке вспомнился день проводов отца на войну. Стоял август — пора, когда в садах царит запах ранней антоновки, в полях пахнет спелым житом, а по дорогам не умолкает даже по ночам скрип телег с тяжелыми снопами.
Помнится, отец, в чистой, выглаженной рубахе, вышел на крыльцо, держа за лямки набитый еще теплыми пышками из новины вещмешок, окинул враз погрустневшим взглядом гумно, огород, привлек к себе Мишку:
— Ну, ты, парень, помогай тут матери, бабушку береги— она уже старенькая. Работы не бойся, пусть она тебя боится. В общем, за хозяина остаешься. Понял?
Мишка не в силах ответить, что-то сдавило горло, он только молча кивнул головой.
Мать, стоявшая тут же, на пороге, поднесла платок к глазам, зачем-то взяла из рук отца вещмешок.
И они пошли к сельсовету, куда сходились уже со всего села призывники. Бабушка с порога перекрестила в спину уходящего отца…
Так с грустными воспоминаниями и уснул Мишка.
Проснулся он, когда бабушка, подоив корову, гремела в сенцах доенкой, процеживала в махотки молоко.
— Ну ты и спал — без задних ног! — заулыбалась бабушка. — Я уж Леониду говорю, да не буди ты малого — пусть поспит, вон как за день в поле наморился.
— А что дядя Леня? Зачем думал будить?
— Проститься, видно, с тобой хотел. Уехала его часть, со вторыми петухами по тревоге подняли.
— Куда уехала? — никак не мог вникнуть в бабушкины слова Мишка.
— На фронт, небось, куда ж еще.
Остатки сна мигом улетучились из головы: дядя Леня уехал! Больше он никогда его не увидит. Не с кем теперь ни поговорить о жизни, ни покататься на машине…
До березовой рощи, до оврага, где был отрыт капонир для машины, Мишка добежал мигом. Пустынно и сиротливо было вокруг. На дне капонира валялись обрывки масляной ветоши. Все здесь напоминало дорогого ему человека, все говорило о солдате, подарившем ему настоящую мужскую дружбу.
Мишка сел на бруствер и безутешно заплакал…
Федосья Багрова, мать Веньки, тяжело заболела с горя. Утром Семка, зайдя за другом на работу, застал его печальным, осунувшимся.
— Не пойду я нынче, Сема, на картошку — мамка захворала.
— Понятно, — участливо кивнул головой Семка.
У Веньки была младшая сестренка, Варька. Она стала главной хозяйкой по дому, перед Венькой же была не менее сложная задача: выкопать и убрать с огорода в погреб картофель. Двадцать соток — это не мало, и Венька сознавал, что один он провозится до белых мух, ведь от Варьки помощи, как от воробья.
Позавтракав, он оделся, наточил на лежащем у крыльца голыше лопату, и немедля отправился в огород.
Копал он с каким-то неведомым ему ранее ожесточением: проклятые фашисты, отца убили да еще мать свалили в постель! Попробуй-ка теперь один успей! Будь он постарше, ушел бы на фронт, ох и бил бы их, гадов!..
Картошка уродилась хорошая — лопата вываливала из земли крупные клубни, и они чистой россыпью лежали и подсыхали на солнышке, ярком и по-осеннему нежарком. Это, конечно, хорошо, что такая выросла, зима будет не страшна с едой. Но вон же ее сколько — когда он один обиходит-то! — рассуждал сам с собой Венька.
В памяти вдруг возникла давняя картина, когда Веньке было года три. Вот на этом же самом огороде отец с матерью сажали под лопату картошку. Тут же вертелся и он, Венька, только мешал родителям. То ведерко с семенами опрокинет, и мать даст ему шлепка, то зацепится за бечевку, туго натягиваемую поперек огорода для ровности грядок. Бечевка была привязана с обоих концов к белым, вымытым дождями, камням, и отец, посадив грядку, неторопливо переставлял эти камни, начинал новую.
— Веня, хочешь нам помогать? — спрашивал отец. — А за это тебе лисичка рыбки принесет!
— Хочу, — отвечал Венька. И семенил за матерью, лез ручонкой в кошелку за клубнями-половинками.
— А теперь полезай под камень, и бери Лисичкин гостинец! — дойдя до конца борозды, говорил отец. Венька нагибался, с трудом перевертывал камень и к неописуемому удивлению и радости находил сухую рыбешку, соленую, такую вкусную.
— Ну, а теперь она положит рыбку под другой камень, — смеясь, подзадоривал отец. И Венька снова семенил за матерью, старательно бросал клубни в землю…
«Была и лисичка, и отец был — веселый, ласковый, — горько думает Венька, — и нет уже ничего, и не будет больше…»
На следующий день Венька не пошел в колхоз — тетя Луша, небось, знает, в чем дело, и не будет ругать. Он опять после завтрака отправился в огород. Выкапывал картошку до ломоты в спине, только перед обедом дал себе отдых.
Он сидел на меже, под черемухой, и вдруг услыхал за собой пофыркивание лошади. Обернулся. Дед Веденей вел на картофляник лошадь с сохою. За ним шли Петька, Мишка и Семка. Ого! Вот это подмога! — затрепыхалось Венькино сердчишко.
— Найдутся, Вениамин, ведерки для хлопцев? Давай-ка быстро! Да бросай лопату-то и сам бери какую ни то посудину.
У Веньки чуть было предательски не брызнули слезы из глаз. Не оставили одного!
Венька сбегал домой, принес доенку, две кошелки, подал друзьям. Не утерпела — пришла на огород и Варька с прутяным кузовком в руке.
— Тетя Луша послала нас, — пояснил Мишка. — Идите, говорит, подсобите товарищу… Мы и рады!
— Ну, держись, картошка! — дурашливо взбрыкнул Петька и побежал к деду Веденею, неспешно заводившему лошадь на грядку. — Но, милая!
Дело пошло спорее.
…Ничего так не любит Мишка, как ездить с друзьями в ночное. Перед войной его часто брал с собой пасти лошадей отец — колхозный конюх. Мать, бывало, соберет мешочек с едой, огурцов малосольных положит, яиц всмятку, соли в бумажку завернуть не забудет, запихнет хлеба полковриги. Привяжет Мишка мешочек через плечо и скачет на Казбеке рядом с отцом. Впереди пылит по дороге табунок, а как по Миронову мосту протопочет — поворачивают его отец с Мишкой в луга.
Широко раскинулась пойма Воргола, с сочной травой по колено, с иволговым свистом в густо обрамляющем берега лозняке.
Кони разбредаются, пофыркивая, расплываются в сумеречной темени. В небесной вышине посверкивают звездочки, а из села доносятся всхлипы гармони и девичьи «страданья».
Невдалеке темной громадой над водой нависает Горюч-камень, высоченная отвесная скала. Мишка знает, что с него видно далеко окрест — и дорогу, ведущую в город, и соседние деревеньки. Со стороны реки на скалу не взобраться, голову задерешь — картуз валится.
А с поля тропа подходит прямо к самой каменистой круче, и тут уж гляди в оба, не зазевайся — загремишь, костей не соберешь.
Дорога в город проходит недалеко от скалы, внизу по луговой пойме, и люди, провожая, кто мужей, кто сыновей, на службу, долго простаивали на круче и махали платками вслед уезжающим до тех пор, пока подводы не становились крошечными, еле видимыми…
Отец, расседлав и пустив пастись лошадь, собирает в прибрежном лозняке сушняк и разжигает костерок. От него становится веселее, хотя темень еще более сгущается и лошади угадываются лишь по спокойному, сытому пофыркиванию.
А Мишка, постелив близ костра на землю сенца, ложится на живот и смотрит на огонь, на корежащиеся в нем лозиновые прутья…
Да, давно это было, а вот поди ж ты, вспоминается так явственно, и горько становится Мишке от того, что все это ушло безвозвратно. А может, еще доведется поездить с отцом, ведь не может он не вернуться с войны, если его так ждут дома…
И вот Мишка снова скачет в ночное. Рядом едут Петька и Семка, а чуть поодаль трусит на меринке дед Веденей. Едет старик в луга не потому, что тетя Луша не доверяет ребятам одним пасти лошадей, — самому захотелось вспомнить молодые годы, взглянуть на ночные приворгольские луга.
— Дедушка! А правда, что у тебя свои лошади были? — спрашивает Петька, придерживая шуструю лошадку.
— Двух кобылок держал, в извоз нанимался. А как сорганизовали колхоз — записался и я с Григорьем, а лошадей свел на обчественную конюшню.
Григорий, сын деда Веденея, как и все, — на фронте, моряк, где-то на севере воюет. Дед Веденей часто его вспоминает. Вот и сейчас при упоминании сына он горестно вздохнул и сказал, больше себе, чем ребятам:
— Давно что-то не пишет Григорей-то, охо-хо! Жив ли?
— Должно быть, жив, дедушка, — успокоил Мишка. — Просто на войне писать некогда. Если бы убили, похоронку бы принесли, как вон Коновалихе.
Ничего не сказал больше за всю дорогу дед Веденей, только вздыхал громко.
Табунок, как только свернул в луга, так сразу и разбрелся, растаял в сумеречной округе.
По привычке перво-наперво стали ладить костер. Ребята сбегали в лозняк, сломили сухостойную лозинку, сучьев на растопку насобирали. И вот уже огонь пляшет перед глазами, жарко обдает лица, делая все вокруг таинственным. И недалекое всхрапывание пасущихся лошадей тоже приобретает загадочный, тревожный смысл.
— Деда, а почему Горюч-камень так зовется? — нарушает тишину Семка.
Дед Веденей с минуту молчит, посапывая, раскуривает от костра погасшую цигарку. Потом пытливо взглядывает на обращенные к нему мальчишечьи лица, отзывается:
— Есть, стало быть, причина. Слыхивал я от своего отца, а тот — от своего деда, одну легенду про Горюч-камень.
— Расскажи, дедушка! — почти хором встрепенулись ребята.
Дед Веденей снова затих, усердно посасывая цигарку и, видимо, собираясь с мыслями.
— Давно это было, не одну сотню лет тому, когда еще князья на нашей земле народом правили. Было и тутотко княжество, Воргольским называлось. И был, стало быть, князь, главный надо всеми…
— Верно, мы в школе проходили, — встрял Мишка. Но Петька толкнул его локтем: — Не мешай!
— И была тогда война с Батыем, Поналетело ворогов на Русь-матушку несть числа. Да только не согнулся русский народ, не стал на колени. Тогда все мечами да копьями воевали, орудиев, как сейчас, не было. Брали мужики мечи да копья и гуртом шли с ворогом силой меряться. Ну а поскольку ордынцев была тьма-тьмущая, то тяжелехонько приходилось русским, бывало, что до единого погибали. Вот и на том поле, что за Горюч-камнем, в битве полегла вся дружина, один князь и остался. Бился, бился он в одиночку-то, да рука устала мечом взмахивать. И в ту пору видит князь — взлетел черный ворон и камнем бросился в пропасть. И вспомнил тут князь то место, где берег круто к реке обрывается. Дал он шпоры своему коню и к самой круче на всем скаку правит. А ордынцы на своих лошадях — за ним, не хотят его живым из рук выпустить. Не подвел конь князя, не дрогнул — рухнул с обрыва на верную погибель, и князь вместе с ним. А вослед — вороги в пропасть загремели— видимо-невидимо их поразбивалось. Те, что в живых остались, глянули вниз, и страшно им стало. Поняли они, что не победить им русских, если один сам себя на смерть обрек, лишь бы в руки не даться, и стольких с собой в могилу свел. Повернули они коней и умчали восвояси.
— Ух, здорово! — воскликнул Мишка. — С такой высоты, и не побоялся! Вот какие смелые были!
— Родину любили очень, — уточнил Петька.
— А Горюч-камнем назвали, как стали потом люди приходить сюда и оплакивать князя и его дружину, — закончил свой рассказ дед Веденей.
Ребята долго сидели молча, не шелохнувшись. Каким-то другим, героическим, стал видеться им темнеющий под звездным небом Горюч-камень. Из-за его громады выглянула, озарив все вокруг желтым светом, полная луна.
Глава шестая
ВОЗЬМИТЕ НАС НА ВОЙНУ!
Через Казачье, в сторону глухо погромыхивающего фронта, проследовала воинская часть. Шли со скатками на плечах, с винтовками за спиной бойцы, ехали грузовики с пушками и дымящимися кухнями, фургоны с красными крестами на боках, обочь большака скакали всадники, в красноверхих кубанках.
Передние роты уже приближались а Хомутовскому лесу, а хвост колонны только еще втягивался в село — солдаты шли на запад, навстречу рвущемуся в глубь страны врагу.
— Вот это да! — восхищенно воскликнул Мишка. — Петь, как ты думаешь, сколько тут — тыща?
— Дивизия — не меньше, — авторитетно определил Петька и добавил: — В Чернаве будут ночевать, если у нас не остановились.
Ребята ехали на подводе в ту же, что и воинская часть, сторону — их послали в лес за орешником на обрешетку крыши коровника.
Вдруг ребята примолкли и уставились на едущего верхом на коне мальчишку в солдатской гимнастерке, в кирзовых сапогах и в кубанке. Завидев едущих на подводе, тот приосанился в седле и дал коню шпоры.
— Смотрите! Да он с нас, а то и меньше! Вот счастливчик! — не удержался Семка.
Петька отвернулся, пораженный, как и его друзья, невыносимой завистью к маленькому солдату в кубанке, и ударил лошадь кнутом — телега затарахтела по рытвинам. Ребята крепко уцепились за передок подводы…
К вечеру они все были в землянке. Мишка сидел за столом на командирском месте и выводил на тетрадном листке карандашом, повторяя вслух:
«Заявление командиру дивизии. Просим взять нас с собою на фронт, бить немца. Мы умеем стрелять и даже рвать гранаты…»
— Ну про гранаты вычеркни — не поверят еще, — перебил Петька.
— Ладно, «…умеем стрелять и будем ходить в разведку». Что еще?
— Да хватит, небось. Давай распишемся.
Через полчаса ребята резво шагали по Афанасьевскому большаку. До Чернавы — пятнадцать верст и надо было спешить.
К рассвету они уже подходили к Чернаве, большому селу, привольно раскинувшемуся по берегам Быстрой Сосны. Семка набил на пятке мозоль и прихрамывал.
— Подведешь ты нас, тюха, со своей ногой! — сердился Петька. — Нельзя тебе на глаза командиру показываться, понял?
— Это я здесь хромаю, а там не буду, — заверил Семка. — Я чунки сниму.
Наметанным глазом Петька безошибочно определил, где находится штаб. К школе то и дело подъезжали всадники, не расседлывая коней, привязывали их к палисаднику и взбегали по ступеням лестницы парадного подъезда.
Заняли удобную позицию под раскидистым вязом и решили ждать. Семка сорвал лист подорожника, привернул его к больной пятке и снова, морщась и сопя, натянул чунок.
— Говорю тебе, не суйся, сиди здесь и сопи в две дырки, — приказал недовольный Петька.
— Ладно, — виновато отозвался Семка.
У каждого на уме было одно и то же: вдруг повезет— и они станут, в таких же гимнастерках и кубанках, равными вон с теми бойцами, что деловито спешат с пакетами по проулкам села. А потом фронт, настоящий бой — вот там-то уж они не подкачают, покажут свою храбрость. Конечно, в бою оно пострашнее, чем красться вечером в чужой сад, но на то она и война, чтобы страшно…
Вдруг Петька навострил взгляд: из школы в окружении военных вышел командир с четырьмя шпалами на петлицах гимнастерки, высокий, подтянутый.
— Полковник! — вполголоса сообщил Петька. — Пойдем! А ты сиди здесь, — строго зыркнул он глазами в сторону Семки.
Заметив подходивших ребят, командир с четырьмя шпалами на петлицах с интересом остановился.
— Товарищ полковник! — смело обратился к нему Петька. — У нас вот заявление.
И протянул сложенный вдвое тетрадный листок.
— Заявление? Что ж, давай почитаем, — беря листок, улыбнулся командир.
— Возьмите нас, дяденька, на войну, — не утерпел Мишка.
Петька сильно поддел друга плечом, Мишка прикусил язык.
— Ну-ка, пойдемте, хлопцы, посидим, проясним обстановку, — сказал командир и опять осветил их располагающей и обнадеживающей улыбкой.
Ребята повеселели — значит, возьмет, если хочет поговорить с ними. Из-под дерева выбежал Семка.
Командир сел на скамейку и усадил подле себя ребят.
— Воевать, значит, хотите?
— Хотим, — готовно кивнул головой Петька.
— У, еще как! — подхватил Семка.
— Возьмите, дяденька! — скова не удержался Мишка.
— Ладно, — помолчав, отозвался командир. — Ну, положим, возьмем мы вас, а теперь давайте вместе прикинем, что из этого получится. Вот у тебя кто дома?
— Отец, — ответил Петька. — Он инвалид, в гражданскую ногу оторвало брезентным снарядом…
— Бризантным, — поправил командир и оборотил лицо к Мишке. — А ты, малец, с кем живешь?
— С бабушкой. Она отпустит меня! Обязательно отпустит!
— Отпустит, говоришь? А с кем же она останется, если тебя дома не будет? И ты старого ветерана гражданской войны думаешь бросить на произвол судьбы? В такое-то трудное время.
Ребята разом погрустнели: надежды их рушились.
— Вот что, хлопцы! От лица службы выношу вам благодарность за то, что готовы защищать Родину. А теперь ноги — в руки и живо по домам, помогайте своим родным, нам здесь в тылу помогайте. Это сейчас для вас садкое главное задание.
Командир ласково потрепал рукой ребячьи вихры и пошел к ожидавшим его военным.
— Так бы сразу и сказал, что не возьмет, — упавшим голосом проронил Петька. — Это все из-за тебя, — накинулся он на Мишку. — Дяденька, дяденька! Какой он дяденька, лопух ты придорожный! И ты тоже хорош — расхромался! Вояка!
А впереди ребят ждало наказание за то, что не ночевали дома. Да еще кто-то рассказал родным, что ушли в Чернаву, к военным, на фронт проситься.
Домой сразу идти побоялись. Только было расположились на ночевку в Петькином амбаре, как дверь скрипнула и в проеме показалась голова Захара, Петькиного отца. А из-за его плеча выглянула и Мишкина бабушка.
— Я вот тебе сейчас дам фронт! — снимая ремень, шагнул деревяшкой Захар.
В амбаре был потайной лаз, и ребята, с воробьиной живостью юркнув по одному в огород, бросились во все лопатки к речке…
Домой Мишка заявился лишь под утро. Хотел было шмыгнуть из сеней в чулан, хлебца взять, но на пути его неожиданно выросла бабушка. Она уловила его за брючину и, сняв со стены чулана льняное полотенце; начала хлестать по спине. Было совсем не больно, и Мишка даже не пытался вырваться.
Запыхавшись, бабушка прижала Мишку к груди и тихо затряслась, заплакала:
— Господи! Ну что мне с тобой, с неслухом окаянным, делать?
Глава седьмая
НЕПРИМИРИМОСТЬ
Немцы входили в село пасмурным декабрьским вечером. По скользкому, покрытому гололедицей, большаку вползали серо-зеленые солдатские колонны. Мчались мотоциклы, ехали бронетранспортеры, растекались по проулкам. Временами раздавались выстрелы, в темень хмурого неба взмывали ракеты — немцы подбадривали себя их зыбким светом. Слышалась непривычно громкая, лающая речь.
В Мишкину хату ввалилось до десятка гитлеровцев.
— Матка! Яйки, млеко, картошка! Давай, давай! — загалдели они, сбрасывая с себя нелепые ранцы и составляя в углу под иконами оружие.
Мишка сидел на печке и со страхом глядел на чужеземцев, распоряжавшихся как в своем доме.
Двое из них вышли и вскоре вернулись, таща огромные охапки ржаной соломы — из скирды. Стали стлать на полу, покрывая ее вытащенными из ранцев одеялами.
Видя, что «матка» не спешит подавать «яйки и млеко», рыжий немец поперся сам в чулан. Грубо оттер плечом бабушку и стал накладывать из деревянного ларя картошку в чугун, в котором летом и осенью готовилось месиво поросенку.
— Матка! Шнель, шнель! Картошка! — совал рыжий солдат чугун под нос бабушке.
Та растопила соломой печь и двинула чугун к огню. Когда картошка в мундире сварилась, немец нетерпеливо выхватил из бабушкиных рук рогач и сам выволок чугун из печи.
Ели солдаты картошку со шпиком и мелко нарезанным хлебом, пили шнапс, громко гогоча и похлопывая себя по животам:
— Гут картошка! Гут!
Бабушка, бормоча под нос то ли молитву, то ли проклятия, забралась на печку. Подложила под голову фуфайку, легла, обняв Мишку дрожащей рукой.
Долго не давали Мишке заснуть крики подвыпивших солдат. Он смотрел перед собой во тьму и думал, что не дают сейчас чужие, наглые и злые пришельцы покоя в каждом доме. И неужто это надолго?..
Утром Мишка проснулся от громких голосов постояльцев. Они натягивали шинели, ранцы, разбирали оружие и по одному торопливо выходили наружу. На полу, как в конюшне, осталась истоптанная грязными сапогами солома.
— Анчихристы — не люди! — ворчала бабушка, рогачом сгребая к порогу солому. — И кто их только породил! Нет на них, идолов, погибели!..
Мишка вышел на улицу. По дороге на восток, по направлению к городу, двигалась вражеская колонна. Черные дымки вылетали из глушителей бронетранспортеров, набитых солдатами, грузовики буксовали на льду, сползали на обочину, и немцы саранчой обступали их, вытаскивали на полотно дороги.
А со стороны Хомутовского леса в село вступала новая вражеская колонна, со множеством штабных машин и мотоциклов с колясками.
Четверо дюжих солдат втянули в хату какой-то железный станок и тяжелые пачки бумаги. Установив станок на месте стола, выпихнутого в сени, двое солдат начали по очереди крутить педали. Откуда-то сбоку полетели листки с оттиснутыми чужими буквами. «Печатная машина», — догадался Мишка.
Пока один немец вертел ногами педали, другой не терял времени даром: стащив с себя мундир, расторопно шарил по швам и орудовал ногтями. Мишку и бабушку солдаты не замечали, словно их и не было.
…А в Семкиной хате в это время чуть было не случилось несчастье. Сюда тоже набилось много немецких солдат. Они пили шнапс, ели хозяйскую картошку, забавлялись картами, играли на губной гармошке.
Семка полеживал на печке и с двухгодовалым братишкой Ваняткой листал книгу «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Мать была в чулане, варила завтрак. Ванятка проголодался и, сев на край печки, канючил;
— Мам, дай катоски! Мам!..
— Подожди, сынок, сейчас дам, — ответила мать, подкладывая в огонь пуки соломы.
Один солдат подошел к краю печки и стал передразнивать мальчика:
— Мам, дай котоски! Мам, дай котоски!
Ванятке это явно не понравилось. Он перестал просить и недобро косил глазом в сторону немца. Тут-то и подала мать дымящуюся киселистую картофелину — прямо из кипящего чугунка.
— Мам, дай котоски! Мам, дай котоски! — не унимался немец.
И вдруг Ванятка размахнулся и залепил горячую картофелину прямо в лицо обидчику. Картофелина, прочертив липкий след на багровой щеке солдата, плюхнулась на пол. Немец взвыл от боли, схватился за щеку и, отшатнувшись от печки, заметался по хате под хохот игравших в карты солдат. Громко ругаясь, бросился к стоявшему под святым углом оружию.
Побледневшая от страха мать, почуяв недоброе, мигом схватила Ванятку на руки и выбежала из хаты. За ней, прыгнув с печки, устремился и Семка.
…По утрам глухо погромыхивало на востоке — фронт, как и месяцем раньше на западе, то отдалялся, то вновь приближался. И Мишка, просыпаясь, всякий раз думал, что где-то там бьется с врагами и его отец, и когда канонада приближалась, слышалась явственнее, радовался — гонят, значит, наши немцев.
Вражеские воинские части, проходя через село, так очистили крестьянские дворы и подворья, что из скотины остались только кошки да собаки. В Мишкином доме солдаты переловили всех кур: «Матка, кура — сюп, сюп!», забрали мед в кувшинах — с лета стоял в погребе на случай простуды. Бабушка попыталась было усовестить фрицев, но куда там.
— Грабители и есть, нехристи! — в сердцах заключила она, пряча в закутке дежку с ветчиной — авось не найдут, окаянные.
Однажды утром Мишка сидел на конике и чистил картошку в мундире. Картошка только что из печи, горячая, и он, дуя на пальцы, думал, что хорошо еще не всю картошку немцы взяли, а то есть было бы нечего.
Вдруг Мишка услышал чьи-то встревоженные голоса на улице. Выглянув в окошко, увидел бегущих по проулку людей — спешили зачем-то к Гаточке. Вошла бабушка, крестясь и бормоча молитву.
— Что там, бабушка? — спросил Мишка.
— Пленных ведут наших. По большаку. Немцы-то с собаками!
Мишка схватил фуфайку, на ходу одеваясь, бросился к двери. От порога вернулся и набрал из чугунка в карманы нечищенных картофелин.
— Гляди, не суйся близко! — бросила вдогон бабушка.
Ночью выпал снежок и подморозило, и первое, что услышал Мишка, выбежав за угол дома, это звонкий скрип снега. Казалось, он визжал, а не скрипел под множеством сапог, громким эхом отдаваясь в переулках.
Колонна пленных — человек тридцать — шла по шоссе через мост в сторону сельской церкви. Хмурые, израненные люди, кто в шинелях, кто в фуфайках, шли друг за другом в колонне по три. У кого рука на перевязи, у кого забинтована голова, некоторых, раненных в ногу, товарищи вели под руки.
По сторонам колонны, сдерживая на коротких поводках оскаленных овчарок, следовали немцы с автоматами на шее.
— Шнеллер! Шнеллер! — раздавалось в морозном воздухе.
Подбежавшие к обочине большака женщины страдальчески глядели на пленных и плакали, утирая глаза концами полушалков.
— Родные вы наши!
— Господи, порази их, немых иродов! Свалились на нашу голову, мучители!
Конвоиры резко и зло покрикивали на женщин, замахивались автоматами, теснили их в кювет.
Мишка стоял тут же и пристально всматривался в лица идущих. Что он ждал увидеть? Отца, который — все может быть — вдруг покажется сейчас в колонне, глянет в Мишкину сторону и заметит его, Мишку? Нет, только не это! Только не это!..
Мишка поискал в толпе сельчан Петьку — не нашел. Вдруг он увидел Веньку. По всему видать, тот только прибежал и что-то торопливо шарил за пазухой, в фуфайке, подпоясанной ремешком, взволнованный. Мишка увидел, как он вытащил из-за пазухи краюху хлеба и, протолкавшись вперед женщин, бросил в колонну. Ее на лету схватил кто-то из пленных — лицо его показалось до боли знакомым. На какое-то время в колонне возникла заминка. И тут один из конвоиров сорвал с груди автомат и двинул им Веньку. Тот, как стоял в снегу по колено, так и ткнулся в него лицом.
Вдруг Мишка увидел, что кто-то из колонны бросился к стрелявшему немцу и в мгновение ока вцепился ему в горло. Два тела в смертельной схватке покатились по снегу. Конвоиры спустили овчарок…
Женщины закричали, бросились, увязая в сугробах, к плетням. Веньку кто-то успел схватить и унести к домам.
Мишка тоже кинулся бежать. Сзади гремели автоматные очереди, раздавались крики немцев:
— Хальт! Хальт! Цурюк!..
Колонна продолжала путь, а на большаке остались недвижно лежать несколько пленных.
Глава восьмая
ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЕТ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Убежав с большака, Мишка не пошел домой, а отправился к Петьке. Но того дома не было.
— В лес уехал Петрак, за дровами, — сказал Захар. — Топить нечем. Скирд соломы на гумне стоял — в печи сполотнили да битюгам на подстилку немые порастащили.
Захар лежал на печи, слегка постанывая.
— Что с тобой, дядь Захар? — спросил Мишка.
— Ономедни костыли подвели, шел по гололедке и загремел, — болит бок и тепло не помогает. К фершалу бы, да где он теперь…
— Ну, я пойду, дядь Захар!
— Пленных, слышно, гнали нонче?
— О! Что там было! Веньку Багра чуть не убили — он им хлеба бросил.
— Вот каты! Ну иди, Минька, я скажу Петраку, что ты был.
Петька пришел к Мишке только под вечер, усталый, с красным от ветра и мороза лицом.
— Целые салазки привез, еле приволок. Ты чего приходил?
— Немцы наших пленных сегодня гнали. Веньку чуть не убили, как автоматом дали! Сейчас пленные в церкви, немцы охрану с пулеметом поставили.
Петьку словно придавило целым градом тяжелых новостей, он сидел, широко раскрыв глаза, и не мог ничего сказать.
— Как… как автоматом? Немцы в церковь загнали?
— В церковь, понимаешь! И Начинкин там, я больше чем уверен — это он был.
— Может, тебе показалось?
— Да он, он!
Помолчали оба.
— Венька-то смелее всех оказался — не струсил, — подал голос Мишка.
— Меня не было, я бы тоже не испугался, — отозвался немного задетый за живое Петька. — Миш! А что, если…
— Что? — уставился на друга Мишка.
— Попытаться спасти пленных?
— Из церкви?
— Из церкви. Ты помнишь потайной ход?
— Помню. И правда. Как это мне не пришло в голову. Идем к Семке!
— А может, мы без Семки, вдвоем?
— Ну, гляди сам, не обиделся бы.
— Ладно, пойдем к Семке.
…Церковь когда-то в старину была монастырской, вокруг нее и монашеских келий стояли высокие каменные стены. Стен теперь нет и в помине, как нет и монашеских келий. Но потайной ход, служивший некогда оборонительным целям, сохранился. Он выходил к скалистому берегу Воргола, близ Горюч-камня, и мальчишки не раз лазали по нему — добираясь аж до самой церкви. Вход в потайное подземелье был искусно устроен в нише придела и закрывался массивной чугунной дверью.
Ребята стали готовиться к задуманной операции. Петька сбегал на лыжах к скалистому берегу реки, разведал подходы к лазу в подземный ход — он был немного завален снегом. Пришлось с полчаса поорудовать лыжей. Семка нашел в амбаре керосиновый фонарь, заправил его, зажег — опробовал.
Вечером решено было выходить, по одному, чтобы не привлечь к себе внимание немецких патрулей.
Когда начало смеркаться, Мишка надел фуфайку, подпоясался отцовским ремнем.
— Ты куда это на ночь глядя? — насторожилась бабушка.
— К Петьке я, помочь дров напилить, — соврал Мишка. Получилось правдоподобно — бабушка знала, что Захар лежит больной.
— Дня вам мало, сидел бы уж от греха подальше, — не унималась бабушка.
— Да нет, баушк, пойду — обещал ведь.
И Мишка — пятом-пятом в дверь.
…Вечер был безветренный, но морозный. От реки на быстрине шел пар. Ребята собрались к назначенному месту и друг за дружкой засуляли по сугробам к подземному ходу. В валенки набивался снег, но вытряхивать было некогда, да и не обращали внимания на такие мелочи.
Войдя в каменистую пещеру, откуда им предстояло опасное путешествие, ребята зажгли фонарь, натянули поглубже шапки и молча двинулись в глубь хода. Каменные своды заиндевели, и холодные иглы, задеваемые ушанками, сыпались за воротник, холодили тело, прибавляли влаги и без того взмокшей от пота одежде.
Древняя кладка подземелья хорошо сохранилась, и ребята шли беспрепятственно, правда, часто спотыкаясь о вывалившиеся из стен камни. Свет фонаря выхватывал из темноты то чугунное ядро, то какие-то неопределенные замшелые предметы — то ли валуны, то ли обломки бревен. Подземный ход шел немного в гору, и ребята вскоре почувствовали усталость.
— Может, посидим немного? — проговорил Семка.
— Потом, — коротко отрезал, часто дыша, Петька.
И они продолжали путь…
Вдруг Семка, шедший с фонарем впереди, остановился.
— Что там? — почти разом встревожились Петька С Мишкой.
— Завал! — упавшим голосом ответил Семка и обессиленный опустился на пол.
Фонарь осветил черную груду земли. Боковая кладка стены когда-то рухнула и земля вперемешку с камнями завалила тоннель до самого сводчатого верха. Что делать?
У ребят опустились руки — не пройти.
Петька вытер ладонью пот со лба, нагнулся, взяв фонарь у Семки:
— Может, там просвет остался? — прошелестел Мишка.
— Сейчас посмотрим, — ухватился за мысль друга Петька и полез по завалу наверх.
Просвета не оказалось.
— Что будем делать? — вопрошающе оглядел товарищей Петька.
— За лопатой бы сбегать, — подал еще мысль Мишка.
— Пока бегаешь — светать начнет. Да и патруль — забыл? — не согласился Петька.
— Зря мы все это затеяли, — простонал Семка.
Петьку Семкин голос словно бы подтолкнул на действия.
— Ну вот что! — угрожающе сказал он. — Если ты будешь панику наводить — получишь! Понял?
Семка ничего не ответил, но робко встал с земли.
— Приказываю обоим: идите назад и несите сюда лыжи. Я здесь останусь, камни оттаскивать буду. Мы должны пройти. Должны, поняли? Берите фонарь и идите.
Решительный голос вожака встряхнул, приободрил ребят.
Семка взял из Петькиных рук фонарь и двинулся назад, к выходу. За ним — Мишка. Петька остался один в кромешной темноте…
Когда ребята вернулись с лыжами, Петька продолжал работу. Ворох земли и несколько камней из обвалившейся кладки были отодвинуты к стене. В темноте?! Голыми руками?!
Вооружившись лыжами, ребята начали упорно раскапывать ход.
Сколько они проработали — неизвестно, время для них словно бы остановилось. Появилась уверенность, но глаза точило от керосинового чада, першило в горле.
— Стойте! — насторожился Мишка.
— Что? — испуганно спросил Семка.
— Слышите?
— Нет.
— Вот-вот опять!
По ту сторону завала послышались приглушенные голоса, резкие стуки.
— Кто это? — встревожился Петька.
— Не знаю, — отозвался Мишка.
— Это, наверно, пленные. Ход в церкви нашли.
— А вдруг немцы?! — сказал Семка.
— Давайте постучим лыжами в стену.
Постучали.
Послышался ответный стук.
— Наши!
Ребята с удвоенной силой взялись откапывать ход. Робость прошла, они прониклись уверенностью, что это пленные. Глаза слезились больше прежнего, поташнивало, казалось, утомительной работе не будет конца…
И завал был побежден. В неверном, туманном свете фонаря открылся проход, по ту сторону завала показались неясные человеческие фигуры.
И вот уже толпа изможденных, израненных людей обступает своих спасителей. Руки недавних пленных судорожно обнимают ребячьи головы.
— Молодцы, хлопчики, — говорит кто-то из них, и Мишка узнает знакомый голос: Начинкин!
— Дядь Лень! Это мы! Не узнаёте? — воскликнул Мишка, и от волнения у него перехватило дыхание.
— Мишатка, хлопчики, молодцы! Какие же вы герои! — приговаривал, обнимая Мишку одной рукой, Начинкин. Другая рука, забинтованная тряпьем, висела на перевязи.
Обрадованные удачей, ребята суетились, смеялись, однако тревога не покидала их.
— Дядя Лень, мы вас выведем отсюда! На лесном кордоне спрячетесь. Пойдемте! — торопил Петька.
Он с фонарем впереди, ребята и спасенные следом двинулись к выходу. До рассвета надо было уйти подальше…
Глава девятая
ПОДВИГ ПЕТЬКИ
По Большому верху, глубокому оврагу, беглецы выбрались на наезженную полевую дорогу. На востоке занималась заря. Дорога была припорошена снежком, и Начинкин тревожился — как бы с рассветом по их следам не увязалась погоня. Кто-то догадался сломить большую березовую ветку — заметать следы.
Хозяином кордона в Хомутовском лесу был хорошо знакомый ребятам Евстигней Косорукий. Вообще-то Косорукий— это прозвище, лесник потерял руку на финской, а фамилия его — Савушкин. Сельские мужики уважали его за степенную рассудительность и справедливость. Летом при дележе покосов нередко возникали споры, а то и ссоры, и никто не мог искуснее примирить спорщиков, чем Евстигней Савушкин. Его почитали и побаивались.
С рыжей окладистой бородой, Евстигней походил на прожившего долгую жизнь старика, тогда как ему еще не перевалило за пятьдесят. Семьи у него не было, и жил он круглый год на кордоне один. Хотя не совсем один — был у него добрый меринок по кличке Храбрый и собака Динка. С ними леснику сам черт не страшен. Рассказывают, что он на своем Храбром и в сопровождении верной Динки однажды обратил в бегство целую стаю волков.
От Казачьего кордон был на порядочном расстоянии, и немцы еще не наткнулись на него.
Петька и его друзья раньше не раз бывали на кордоне. Хаживая за орехами, когда на полях поспевал овес, они на часок-другой заворачивали к леснику. Если он оказывался дома — ребята бывали вдвойне вознагражденными. Евстигней всегда угощал их свежим медом с липового или гречишного цвета. Пасека приютилась невдалеке, на укромной солнечной полянке, и ребята втихомолку диву давались, как только Евстигней управляется с ней с одной-то рукой.
А главное, хозяин кордона неизменно вел гостей к ульям и рассказывал им о повадках и странностях крылатых работников.
— Пчелка живет недолго, но, знаете, роднуши, сколько ока труда видит на своем веку! О-о, много! — восхищенно, с любовью к пчелам говаривал Евстигней Косорукий. — А как она ласку понимает, если бы вы знали! Придешь чем-то расстроенный, сердитый на что-то — обязательно учуют. Лучше сразу уходи — нажалят. А придешь к ним с добром — милые вы мои — ни за что не тронут, даже без сетки. Все живое на земле добро понимает. Добро-то око, роднуши, посильнее зла…
На кордон Петька и его спутники пришли, когда уже совсем рассвело. Двигались цепочкой по узенькой тропочке меж ореховых кустов. Иней сыпался с ветвей на головы, где-то тупо постукивал о сухостойное дерево дятел. благодать-то какая! Словно и войны нет.
От кордона, почуяв чужих, с угрожающим лаем бросилась навстречу идущим Динка.
— Динка, Динка! — позвал Петька.
Собака умолкла, остановилась, но вскоре снова забеспокоилась— хоть Петькин голос был ей знаком, но шли и чужие люди.
Вышел Евстигней Косорукий.
Вгляделся, узнал ребят, подозвал к себе собаку.
— Гости пожаловали? — сказал неопределенно — то ли довольный, то ли нет.
— Здравствуйте, дядя Сигней! — приветствовал первым Петька.
— Здорово были!
— Пленные от немцев убежали. Вот мы и решили к вам… — начал пояснять Петька.
— Вижу, что ко мне, проходите в избу — замерзли, небось, — прервал его Евстигней и, повернувшись, шагнул к двери.
…Ребята возвращались в Казачье к вечеру. Они отогрелись, отдохнули у лесника и шли теперь довольные, что операция удалась, как и не думали поначалу.
— Петька, а Петька! А сюда немцы не нагрянут? — спросил Мишка.
— Если даже и нагрянут, дядя Сигней что-нибудь придумает. Я знаю, у него зимник для пчел есть в лесу, там можно целый взвод спрятать — шиш найдешь.
— Петь, а что бы мы стали делать, если бы там оказались немцы, а не пленные? — не унимался Мишка.
— А вот — не видели? — Петька запустил руку за пазуху и достал пистолет. Настоящий немецкий парабеллум!
Мишка с Семкой рты пораскрывали.
— Откуда он у тебя?
— У наших постояльцев стянул, — с напускным равнодушием ответил Петька и добавил опешившим друзьям — Я еще хотел парочку гранат с деревянными ручками прихватить, да раздумал — запалы из них вывинчены, а где спрятаны, не знаю.
— Вот здорово! — воскликнул Семка. — И с патронами? Дай посмотреть.
Петька снисходительно протянул парабеллум.
Не думал и даже не предчувствовал Петька, что ждет его дома. Знал бы он, какую беду навлек на седую голову отца и на свою тоже…
Под покровом сумерек ребята прокрались к окраине села и разошлись поодиночке, в разные переулки. Темнота окутала Казачье, тишина зловеще пугала, настораживала — всюду чудились враги. Не слышно было даже собачьего лая. Только изредка с церковной площади раздавались резкие выкрики немецких часовых — там был расположен артиллерийский склад.
Петька потихоньку подкрался к огородному плетню, обогнул погреб и глянул на избяные окна — они были освещены. «Дома ли постояльцы, а может, там только отец?» — подумал он. Внутренний голос подсказал ему меру предосторожности: парабеллум теплый от долгого лежания за пазухой, мигом был засунут под стреху сараюшки. Можно теперь идти в дом.
Уличная дверь была не заперта на засов, по обыкновению, немцы, с наступлением вечера, закрывали ее, боясь партизан. Петькино сердце гулко колотилось под фуфайкой, когда он, не стукнув щеколдой, шагнул в сени. Ощупкой нашел ручку избяной двери, осторожно потянул на себя.
Свет от керосиновой лампы на миг ослепил его, но через секунду цепкий взгляд моментально охватил всю картину в избе. Трое немцев сидели за столом, ели консервы, четвертого постояльца не было. Не увидел Петька и отца.
Немцы на легкий скрип двери обернулись и молча уставились на мальчика. Отступать было поздно. Из-за печки донесся голос Захара:
— Петька, Петька! Что же ты наделал!
Петька шагнул к отцу.
— Ну что ты натворил, паршивец! Зачем ты у них наган взял?
Отец лежал на полу, на соломе. Петька с содроганием увидел его лицо, все в кровоподтеках, волосы были всклокочены и тоже в крови.
— Папа! — бросился к нему Петька.
В это время резко хлопнула уличная дверь, взвизгнула избяная, и в хату ступил немец, четвертый постоялец. В руке у него был парабеллум — тот самый, что Петька минуту назад спрятал под стрехой.
— Кляйнес руссишес швайн! — проскрипел он сквозь зубы и бросил парабеллум на стол.
Сидевшие за столом немцы загалдели, встали. Петька весь сжался. Старший чином, унтер-офицер подошел к мальчику.
— Партизанен?
И он жестом показал, что его вздернут на виселицу.
— Ти сказать, где руссише зольдат! Ти партизанен!
— Найн — партизанен! — выкрикнул в отчаянии Петька и повторил вспомнившееся ему немецкое слово.
Отец страдальчески моргал слезящимися глазами, силился подняться, но единственная нога не слушалась.
— Сынок! Повинись, может, простят!
Петька, прижавшись, как затравленный волчонок, к простенку, молчал. Он судорожно искал выхода из создавшегося положения и не находил. Врать, что не брал пистолет, бесполезно — как видно, его ждали у дома и видели, как он прятал оружие. О спасенных же военнопленных, которые очень интересовали немцев, пусть хоть режут его на куски, он ни за что не скажет.
— Партизанен! Партизанен! — истерично выкрикивая, унтер-офицер принялся ногами избивать мальчика.
— Пан солдат! Не бей ты его! Погоди! Он все вам скажет! — взмолился отец.
Немец угомонился. Петька, скорчившись, по-прежнему затравленно молчал. Живот болел от ударов сапога, Петька от подступившей обиды и боли чуть было не заплакал. Но тут же сдержался — чтобы эти звери слезы увидели! Ни за что! На кулачках тоже бывало больно — терпел же.
Немцы о чем-то поколготали у стола. Потом один из них подошел к Петьке и ловко связал ему ремнем руки— решив, видимо, до утра подождать с допросом.
Отец всю ночь ворочался на соломе, всхлипывал, сокрушался. В полночь тихонько позвал:
— Петя! Подползи ближе, я развяжу. Беги, ради бога!
— Никуда я не побегу, — решительно отверг тот. — Чтобы тебя насмерть забили?
…Утром, когда немцы встали и оделись, Петька вдруг обратился к ним:
— Пан солдат! Я знаю, где партизаны! Я, я знаю партизанен!
— О, о! Гут-гут, мальшик! Партизанен? Гут!
Петьке крепче связали руки, двое повели его в штаб, что был на соседней улице, в бывшем здании кружевной артели. Над селом разыгрывалась метель.
За столом, куда ввели Петьку, сидел тощий немец в очках, но по погонам видно было, что он большой начальник. Немцы, приведшие мальчика, сухо щелкнули каблуками, вскинули руки: «Хайль Гитлер!»
Оставив Петьку у двери, они прошли к столу и стоя долго докладывали по-своему. Потом немцы вывели Петьку в коридор, под охрану часового, а сами удалились куда-то.
Горько было на душе у Петьки, но голова стала ясной, мысль работала четко и от этого словно прибавилось сил. Да, выхода нет. Да, он не мог убежать из хаты ночью, не подводить же еще раз отца под удар. Но он может, он должен еще сказать последнее слово, чтобы ни Начинкин, ни друзья, ни тетя Луша не думали бы о нем плохо, не заклеймили бы его позорнейшим словом— трус. Нет, он еще не сбит на колени!..
Вернулись те два немца, развязали Петьке руки и приказали идти за ними. На дороге стояла, потрескивая моторами, большая колонна мотоциклов — в колясках сидели вооруженные немцы. Все ясно!
Петьку усадили в пустую коляску переднего мотоцикла. Сидевший позади водителя немец в каске тяжело опустил ладонь на Петькино плечо:
— Мальшик, ехать партизанен!
Петька рукой показал, пусть-де едут вперед. Мотоцикл взревел и рванулся с места, за ним — вся колонна. Ладно, он им покажет «партизанен!»
Колонна мотоциклов, по знаку Петьки, проследовала через площадь, повернула в проулок и устремилась к окраине села. Сквозь снежную круговерть смутно проглянула излучина Воргола, просторный белый луг, где не так давно Петька с друзьями и дедом Веденеем пас в ночном лошадей. А там вон где-то и Горюч-камень, с полевой дороги совершенно не видный. Гордый, неприступный и никакими врагами не поверженный. Туда-то и ведет Петька фашистов, что искорежили родное село, избили его, обидели отца. Он хорошо продумал все ночью, времени для этого было много. Он ясно представлял, что ему делать. На ум пришла песня:
Пусть их тысячи там, Нас одиннадцать здесь, — Не сдадим мы врагам Нашу землю и честь…Мотоциклы вырвались на полевую дорогу, прибавили скорость. Недалеко теперь и Горюч-камень с отвесно обрывающейся кручей.
На открытом месте сдуло весь снег и рыжие метелки ковыль-травы то пригибались, то выпрямлялись под порывистым ветром. Снег больно хлестал в лицо. Петька резко указал рукой по направлению к Горюч-камню. Мотоциклы свернули и, взревев, двинулись по бездорожью.
Петька весь напрягся, сжался в комок — ну, давай скорее! Ну!
Вдруг передний мотоцикл, споткнувшись, завалился набок. Петька вылетел из коляски, водителя придавило мотоциклом.
— Хальт! Хальт! — истошно заорали сзади.
Колонна остановилась.
Мотоцикл наехал на засыпанную снегом промоину, когда до берегового обрыва было рукой подать.
Петька попытался встать, но не смог — колено прострелила такая боль, что на лбу выступила испарина. В голове забилась мысль: все пропало!
Фашисты, ругаясь, сгрудились у лежащего мотоцикла, высвободили из-под него водителя. Двое зачем-то побежали вперед. Вскоре вернулись и начали что-то громко говорить остальным. Все разом поворотились к лежащему мальчику…
Петька стоял на краю обрыва, спиной к ледяному простору, лицом — к разъяренным врагам. Что думал он в предсмертную минуту? Какие картины проносились перед его взором? Может, видел он лесной кордон, друзей своих и партизан? Может, думал с горечью, что не дождался он того часа, когда село станет снова свободным?
Фашисты вскинули автоматы…
Внизу под Горюч-камнем гневно кипел на незамерзающей от родников быстрине Воргол.
Глава десятая
ИСПЫТАНИЕ
Казачье ахнуло, пораженное подвигом Петьки Рябцева.
Не успели улечься толки об этом событии, как другая новость потрясла село: ночью, облив керосином пол и стены, заперев ставни и закрутив изнутри дверь проволокой, Захар подпалил хату. Сгорели немцы, все четверо, что схватили Петьку. Погиб в огне и сам Захар.
Немцы озверели. Они факелами подожгли несколько соседних хат и из автоматов постреляли их жителей. Ледяной ужас сковал село.
…Мишка исхудал, осунулся от недоедания и постоянных тревог. Картошка подошла к концу, правда было ее еще немного спрятано в деревянном сундуке, но бабушка повесила на него замок — избави бог трогать, на семена только и хватит.
Варили кормовую свеклу и ели с испеченными из отрубей лепешками. Но кончились и отруби, и Мишка с тоской думал, что до весны еще не скоро и чем они будут кормиться — неизвестно.
— Вот скоро, голубок, поля оттают — картошку гнилую будем собирать, лепешки печь — не погибнем, бог даст! — утешала его бабушка. А сама по утрам насилу поднималась с постели. Согбенная, усохшая вся, она удивляла Мишку крепостью духа. Она и в него вселяла силы и терпение.
— Ты бы полежала, бабушка! Я сам сварю, — говорил Мишка, отбирая из ее дрожащих рук чугунок с намытой свеклой.
— Ничего, голубок, ничего. Доживем до весны, поля оттают…
Она забывчиво повторяла то, о чем говорила минуту назад. И у Мишки больно сжалось сердце от жалости к ней.
— Баушк! А что если мне сходить в Афанасьево и обменять мамино пальто на картошку? А то и мои ботинки…
— Куда ты пойдешь! Немцы по дороге отберут, — слабым голосом возражала бабушка. У нее уже не было сил добавлять привычное слово — анчихристы.
И Мишка замолкал, он мысленно соглашался с ней— и впрямь немцы отнимут вещи. Ведь уволокли же они из хаты ватное косиковое одеяло и плетеную постилку. Приходится теперь с бабушкой укрываться стареньким чекменем да фуфайкой. Как-то прибегал Семка — и у них фашисты пограбили, даже подшитыми валенками не погнушались…
Однажды в полдень, когда скупое зимнее солнце светило в чуланное окно, бабушка, уже несколько дней не встававшая с постели, как-то неестественно тихо позвала Мишку. Тот подошел с встревоженным взглядом.
— Плохо мне, Миша… Видно, черед мой пришел… сходи сейчас к Фекле…
Помолчала, перевела трудное дыхание.
— Если что случится, к ним перебирайся… Голубок ты мой!
Страдальческие глаза ее повлажнели, и Мишка ладонью провел по ним, отер слезы. Не в силах был ничего сказать.
— А картошку на семена береги… Не век тут немым быть… к весне, бог даст, прогонят… Огород посадишь.
Мишка не выдержал, заплакал. Выбежал, боясь разреветься, на улицу. Постоял за углом, трясясь от рыдания. Мороз прохватил холодом, и он немного успокоился, пошел по переулку.
Тетка Фекла, Семкина мать, была дома, крутила ручную мельницу с Семкой. Всполошилась, увидев заплаканного Мишку.
— Аль что случилось?
— Бабушка умирает…
И Мишка, уткнувшись в теплый фартук тетки Феклы, заплакал навзрыд.
Когда они втроем пришли в Мишкину хату, бабушка уже была недвижная, лежала, словно сморенная сном. Сморщенное личико ее выражало успокоенность и неведомую доселе Мишке отчужденность.
Тетка Фекла молча перекрестилась и накрыла бабушку простыней.
— Упокой, господи, душу рабы твоей Парасковьи.
Мишка остро почувствовал свое одиночество, даже все в хате показалось ему каким-то чужим и стылым.
— Сема, идите с Мишаткой к нам, я скоро приду, — сказала тетка Фекла. — Да не плачь, ей хорошо — отмучилась, бедная, больше не увидит этих проклятых извергов… Ступайте, ступайте, сыночки мои!
…И началась у Мишки новая жизнь, в чужом доме, сирота не сирота — приемыш. И все же не один — в семье, хоть и в соседской. Сначала никак не мог привыкнуть, проснется утром, глазами — луп-луп! — где это он: свет в окнах такой же, а все кругом не так. И матица над головой не в таких трещинах, и трубка не на месте. Потом уж проморгается, оглядится — вспомнит, что не в своей он хате, а в Семкиной. Да вот он и Семка рядышком, под полушубком ежится — к утру кирпичи на печке остывают и становится зябко.
И еще плохо — голоднее стало. Бабушка всегда находила что-нибудь сварить. Хоть раз в день, но находила. А здесь и картошка раньше, чем у них, кончилась, питались жидким киселем из овсяной отмашки, да выменивала тетка Фекла кое у кого мороженую — блюдами— барду, по лепешке на каждого в день давала.
Однажды Мишка пошел в свой дом, нового дружка проведать — там теперь жила семья эвакуированных из Залегощи. Был в той семье Мишкин ровесник — Витек Дышка. Так его прозвали за то, что лепешки из барды называл по-своему — дышками. Прилипло это прозвище к нему, как репей к телку.
Немцы, когда заболела Мишкина бабушка, в дом не заглядывали, боялись тифа. И сейчас его стороной обходили на радость эвакуированным. Но сразу же за домом в переулке ставили грузовые машины.
Пока бежал Мишка, портки, из плащ-палатки сшитые, встали колом, коленки замерзли, и Мишке не терпелось скорее вскочить в хату. Как вдруг замечает: стоит в переулке грузовик и из-под брезента виднеются буханки. Гора хлеба! Настоящего хлеба, которого не ел, кажется, вечность!
Мишка позабыл и про холод, и про зябнущие коленки. Воровато оглядевшись по сторонам, он подбежал к машине и зашарил глазами: на что бы встать — не дотянуться до буханок. Нашел. Встав на выдавшуюся из-под борта скобу, Мишка подтянулся и, жадно ухватив пятерней буханку, спрыгнул. И тут же весь похолодел от неожиданности и страха.
Позади него стоял немец в черном комбинезоне. Стоял и, как определил Мишка, недобро улыбался.
Первым желанием было броситься в сторону, в обход немца. Но тут же Мишка сообразил, что от такого долговязого не уйти. Тогда он, сам не понимая, как додумался до этого, протянул ему хлеб:
— Нате вот — упал из машины…
И тут немец, как и Мишка с минуту назад, озирнулся по сторонам, подошел к кузову, достал буханку и поспешно сунул ее Мишке под фуфайку:
— Форт, форт, кнабе! Бистро, мальшик! — и подтолкнул в спину.
Две буханки, чудом раздобытые Мишкой, тетка Фекла растянула на неделю — отрезала по тоненькому ломтику только ребятам, сама же сметала со стола просыпанные крошки и благоговейно клала в рот, как невиданное лакомство.
Забытый вкус хлеба бередил Мишкину память, вызывал из недавнего прошлого дорогие сердцу картины. Бот дед Веденей выносит из амбара и подает ему и друзьям перед выездом в поле по большой краюхе духовитого ржаного хлеба, с прилипшими с исподу капустными листьями. Хлеб словно дышит в руке — мягкий, с тоненькой румяной корочкой, как тут удержишься, чтобы не откусить.
Хлеб начал сниться Мишке. Приснилось ему раз, что возвратилась с окопов мать и вывалила из мешка на стол целый ворох ковриг.
— Мам, а почему на нижней корке нет капустных листьев? — притворяясь, что не очень голоден, интересуется Мишка и, не ожидая ответа, отламывает от ковриги кусок, жадно подносит ко рту. Но, странное дело, откусить ему ни разу не удавалось — всякий раз он просыпался то ли от Семкиного ерзанья под полушубком, то ли от лающего окрика немецкого патруля за окном…
…Скорей бы приходила весна. Обычно ей радовались— наступала пора перехода от долгого зимнего сидения и затишья к деятельному движению. Все сущее в селе тянулось на простор, к солнцу, в поле и на пастбища. Но нынешняя весна вряд ли принесет радость — село наводнено врагами, ими забиты все хаты и подворья, огороды и околицы. Смерть и разорение сеяли они вокруг.
Морозы сменила оттепель. Оттаяли в поле пригорки, на бывших картофляниках появились черные проталины. И люди, с кошелками в руках, брели туда за мороженой картошкой — последней надеждой на спасение. Голод притупил осторожность. Поговаривали, что где-то за селом немцы наставили мин на случай отступления, но люди шли, не задумываясь, что под снегом таится опасность: там, на оттаявших буграх, их ждала пища.
— Миш, пойдем в поле, — предложил Семка, увидев, как по улице Коновалиха пронесла кошелку с прелой картошкой.
— Ладно. Только я сбегаю за Дышкой — он тоже пойдет, — быстро согласился Мишка.
И вот они втроем, с ведрами, а Семка еще и с санками— мать навязала — идут по прогону на дальнее поле, к самому Хомутовскому лесу. Семка с Мишкой хорошо помнят, где осенью была картошка. Там наверняка еще никто не был, и они обязательно принесут по ведру.
У обочины снег набух водой и потемнел, вверху светит и греет спины солнышко, на душе у ребят весело. Принялись дурачиться, на ходу сталкивать друг дружку с дороги. Витек Дышка оступился, сунулся по колено, зачерпнул снегу в кирзовый сапог. Ойкнул, сел, принялся вытряхивать из голенища.
— Ну я шешаш вам жадам! — сидя, погрозил он кулаком. — Дай только шапог взждеть!
Мишка с Семкой пришпорили по дороге, за ними— рассерженный Витек.
Незаметно так дошли до картофельного поля.
Семка, волоча салазки, свернул с дороги первый: черная проплешина неудержимо влекла к себе, сулила удачу. Оставив салазки снегу, Семка начал споро ковырять землю палкой.
— Есть! — крикнул он через минуту. — Во какие крупные!
И показал три прелые картофелины.
Стали попадаться клубни и Мишке. Витек не догадался захватить с собой палку и разрывал землю руками. Холодная и липкая, она быстро студила ладони, и Витек часто дул на них. Картошки он собрал меньше всех. И Мишка, набрав за час почти полное ведро черных сверху и кипенно-белых внутри клубней, отдал палку другу.
— Ребя! — сказал вдруг Семка. — Постойте, я добегу вон до той проталины! Глядишь, наберем еще по ведру.
— Брось ты! Ну куда мы их будем класть? — воспротивился было Мишка.
Но Семку поддержал Дышка:
— Давай, Шема, беги. Шложим у дороги и еще раж придем иж дому.
Семка прихватил салазки и побежал по снегу. Ребята продолжали собирать клубни.
Вдруг воздух потряс недальний взрыв. Мишка с Витьком повалились на землю. В недоумении подняли головы— самолеты? Но небо было чистое. И тогда в их сознании вспыхнула страшная догадка…
Семка лежал на грязном снегу, не добежав несколько метров до талой земли. Под ним расплывалась кровь. Салазок рядом не было — отлетели, видно, ими он зацепил противопехотную мину. Мишка с Витьком бросились к другу. Опустившись на колени, повернули его лицом к солнцу. Семка застонал. Жив!
Бросив в поле ведра с картошкой, ребята мигом соорудили из палок и двух фуфаек подобие носилок, положили на них Семку и, сгибаясь от тяжести, медленно пошли в село со своей горестной ношей.
Глава одиннадцатая
ЗАСАДА В ХОМУТОВСКОМ ЛЕСУ
Дождавшись темноты, Мишка вышел из дома и прокрался задворками на околицу. Выломал в плетне последнего огорода палку, вышел на большак и заспешил к Хомутовскому лесу. Там была единственная надежда на Семкино спасение. Он шел на кордон, к Евстигнею Савушкину. Уж он-то что-нибудь придумает.
Поля были окутаны мраком, во время оттепели ночи всегда становятся темными, хоть глаз коли. Но Мишка хорошо знал дорогу, да ее и запоминать-то нечего — в любое время года наезженная, она пролегла прямо и немного наизволок. Кромешная темень ничуть не пугала, Мишка знал, что волков нет, война повыгоняла их отсюда, а немцы боятся и полей, и лесов, и их он тоже не должен встретить.
Временами нащупывая палкой дорогу, чтобы не оступиться в снег и не начерпать в сапоги талой воды, Мишка шел и вспоминал последнюю предвоенную весну. Широко тогда разлился Воргол, подпирая напористыми водами и Хомутец, и в обычное время метровой ширины Гаточку. И обе речки тоже вышли из берегов, затопили прибрежные сады и огороды, скрыли под водой деревянный, без перил, мосток. И он, Мишка, с отцом весь день ездит через этот мосток — людей с берега на берег перевозит. Вода лошади по брюхо, а на телеге сухо и солома укромно подстелена. Подковы приглушенно постукивают под водой по камням шоссе. Запнется лошадка о вымытый водой из земли булыжник, и сидящие на телеге женщины так и охнут в испуге. «Ничего, ничего, девки! Держитесь за землю — не упадете!» — смеется отец и легонько стегнет по мокрому от брызг крупу лошади.
А ближе к вечеру, когда возить уже становится некого, отец поворачивает к дому и говорит: «Ну, сынок, а теперь пора и рыбки половить!» Сеть, растянутая на лозиновом полукружье, с утра стоит, прислоненная шестом к погребу, просыхает на вешнем солнышке от амбарной плесени. «Бери ведерко!» — командует отец, а сам взваливает шест сети на плечо, и они вдвоем идут к лодке. Потом отец гребет веслами, а Мишка, погромыхивая о ребра лодки жестяной кружкой, вычерпывает воду. Все ему по нраву, даже эта, отвлекающая от вечереющего разлужья, работа.
Отец знает, где ловить рыбу, он правит на залитый полою водой Тарасов луг и, передав Мишке весла, с озорным кряхтеньем заводит сеть. Мишка наверняка знает, что сейчас в ней затрепыхается плотва, а то и щучка попадется. Так и есть — в переплетении прошлогодней травы и лозиновых прутьев посверкивают чистенькие серебряные плотвицы. Рыба полна вешней пробудившейся энергии и ее трудно ухватить. Ведро с каждым заводом сети полнится уловом. «Ну, хватит», — устало выдыхает отец, кидает мокрую сеть на дно лодки и берет весла.
…Мишка вздохнул и прибавил шаг. На горизонте взошла луна, когда он подходил к лесу. Голые темные деревья, словно настороженные, стояли неподвижной стеной, расступившись перед дорогой.
Хомутовский лес. Он, как и люди, сполна познал войну. Вдоль и поперек искромсанный шрамами от колес, поредел под безжалостной секирой врага: немцы без разбора валили деревья, гатили мочажинные места, втаптывали их танковыми гусеницами в землю. Подлесок тоже весь изрезан окопами и траншеями.
Давно ли Хомутовский лес был другим — веселым, полным звонкого ауканья и краткого кукованья! Мишка любил с друзьями ходить сюда поздней весной за баранчиками— на полянах были целые россыпи этого вкусного растения с желтым венчиком и на сочной ножке. Кончатся баранчики — земляника на просеках высыпет— собирай — не ленись, объедайся пахучими ягодами. А там грибы пойдут — толстенькие боровички, изящные лисички-сестрички да с липкой пленочкой дружные маслята, вкусные-превкусные, когда их на сковородке мама изжарит.
Мысль о маме Мишка оборвал на самом начале — не время размягчаться, надо скорей дойти до Евстигнея, и тот что-нибудь придумает, чтобы спасти Семку. Страдальческое С ем кино лицо с самодельной — из меркалетовой занавески — повязкой на глазах, наложенной теткой Феклой, вытеснило из головы все воспоминания, словно подхлестнуло Мишку. Он уже не шел, почти бежал теперь по лесной неширокой дороге.
Кордон встретил неожиданным молчанием, ни лая Динки, ни воркованья голубей. Только подойдя ближе Мишка увидел то, от чего весь содрогнулся: на месте бревенчатого дома лесника стоял зияющий провалом остов печи и обугленная труба. Холодом и жутью дохнуло на него в этом нежилом теперь месте…
«Что же делать? Куда идти? Неужели так и возвращаться домой, где тетка Фекла, зареванная и пришибленная бедой, ждет от него ниточку к спасению сына? А где эта ниточка, куда должна повести?»
Мысли затолклись в сумятице, завспыхивали и тут же погасли, не получив ответа. Мишка был в отчаянии. Такого исхода он не предвидел. С трудом оторвал непослушные ноги от земли, двинулся к пожарищу. По не сдутой ветром сырой золе было видно — дом сожгли недавно. Кто? Немцы, кто ж еще, как не они! А жив ли Евстигней? Успел ли увести Начинкина и других беглецов? И где, если они живы, искать их?
Мишка поднял с земли уцелевшее от пожара, с одного конца обгоревшее перильце от крылечка, сам не зная зачем, стал отрешенно ковырять золу. Невольно подумал, что так вот терпко пахло горелыми кирпичами, когда отец перекладывал дома печь. Палка наткнулась на что-то жестяное — под золой глухо звякнуло. Это оказался знакомый Мишке медный корец, из которого он с друзьями столько раз едал душистый мед, поднесенный дядей Евстигнеем в милую пору медосбора. Корец от огня стал мягким, местами прогнулся, деревянной ручки не было — сгорела. И этот маленький безгласный предмет, сказавший о всей огромности случившейся беды, о невозвратности былого, вызвал в душе такую волну невыносимой горечи и тоски, что Мишка бессильно опустился коленями на золу.
Сколько он оставался в такой безысходности, Мишка не мог сказать. Отерев лицо рукавом фуфайки, он поднялся с пепелища и обошел кругом останки дома. Уже совсем рассвело. Розовый отсвет холодной зари ложился на черные подтеки на обгоревшей трубе и остове печи, и от этого казалось, что огонь еще не дотлел и готов вспыхнуть с новой силой.
«Зимник! — вдруг возникло в Мишкином сознании. — Петька говорил же о каком-то зимнике для пчел!
Где он, этот зимник?» Тело напряглось при вспыхнувшей надежде, глаза обрели зоркость, а мысли — ясность. «Если зимники нужны, чтобы сохранить пчел от холодов, то их и строят в теплом месте. Не на поляне же, где ветер гуляет. Скорее всего, в овраге. А ближний овраг отсюда — Климакин лог. Ну-ка туда!»
Мишку словно мчали крылья, будто не было ни страшных переживаний, ни многочасовой ходьбы по неспорой вешней дороге. Он должен найти Евстигнея! Он обязан спасти друга!..
Начинкин с двумя бежавшими из плена бойцами — Гнатом Байдебурой, великаньего роста украинцем, и пожилым немногословным Иваном Семенихиным, возвращался с диверсионной операции на свою лесную базу. Не имея взрывчатки, они под покровом ночи взломали рельсы на ведущей в Орел железнодорожной ветке и пустили под откос вражеский состав. Ушли благополучно: немцы постреляли вокруг из автоматов, а в лес сунуться побоялись.
Отряд Косорукого — Евстигней Савушкин сам взял себе такую кличку, бывшую когда-то для него обидной— насчитывал до пяти десятков партизан. Костяк его составили бежавшие из церкви военнопленные. Действовали пока как удастся, не дерзая на крупные операции. Мечтали, что когда-нибудь обзаведутся рацией и тогда развернутся шире.
— Трошки вчиныли им переполоху, — нарушил молчание Байдебура, шагающий позади с немецким автоматом в руке. — Краше було б толом, да де его взяты. А шо, коли на Казачье нагрянуть? Там толу позычили б тай нимцев пощекотали? Шо вы на то скажете?
— Силы у нас не те, Гнат, — отозвался Начинкин. — Взводом на полк не пойдешь.
— Ладно шо взвод, а шороху б нагналы. Так, Иван, чи ни?
— А! — неопределенно отмахнулся Семенихин и продолжал шагать молча.
Партизаны подходили к Климакиному логу. Уже был виден глубокий овраг, где рядом с зимником под хвойным пологом дремучих елей отряд Косорукого отрыл две землянки.
Вдруг Байдебура тронул плечо командира группы:
— Стойте! Бачьте сюды!
И он показал пальцем на противоположный склон оврага. Там, отводя руками голые сучья орешника, шел к логу мальчик. Снег со склона сдуло ветром, и тому ничто не мешало идти быстро.
— Мальчишка вроде! — пристально вглядываясь в орешник, удивился Начинкин.
— А бачьте ось там!
Начинкин пригнул еловую ветку, посмотрел левее, вверх по склону, и присел от неожиданности: обходя мальчика по кромке оврага, быстро поодиночке двигались серо-зеленые фигуры. На груди — автоматы. Вон в просвете между дубами мелькнула собака. Немцы!
— Байдебура! Семенихин! Идите в обход, отсекайте их от мальчика. А я вон там, лощиной, зайду во фланг.
Через несколько минут дружно с двух сторон ударили партизанские автоматы. Фашисты не ожидали встречного огня, и, рассыпавшись по склону оврага, залегли. Пули зацвинькали над головой Начинкина, ссекая дубовые сучья. Весь огонь немцы сосредоточили на нем — по редкой стрельбе они поняли, где слабое место…
Мишка, как только услышал выстрелы, неосознанно, в мгновенно охватившем его испуге кувыркнулся в можжевеловую заросль. Отдышавшись, он понял, что попал в трудный переплет, не зная только, по оплошке ли вляпался в засаду, или очутился в самом пекле неожиданно разгоревшегося помимо него боя.
Однако тут же сообразил: значит, неподалеку партизаны, и он не напрасно шел сюда, к Климакиному логу. А если здесь партизаны — Семка будет спасен.
— Форвертс! Форвертс! — загорланили где-то рядом немцы. Мишка догадался — пошли в атаку. Огонь усилился, казалось, автоматные очереди распарывают воздух прямо над ухом. Мишка выполз из можжевельника и покатился по крутому склону на дно оврага, подальше от грохота, от пуль…
Стрельба откатывалась в глубь леса, автоматные очереди становились все реже и реже и наконец совсем смолкли. Кто кого? — сверлила голову мысль. Но выкарабкаться из оврага не решался. И тут на фоне дубов и неба Мишка увидел фигуры людей. Вгляделся — не немцы. А рядом собака — не Динка ли?
— Эй, малец, жив ли ты там? — окликнул один, и Мишке голос показался знакомым.
— Жив! — отозвался Мишка.
Собака первой скатилась по склону и радостно завертелась у Мишкиных ног. Динка! Незнакомые люди сбежали в овраг, и тут Мишке захотелось даже глаза протереть: перед ним был… дядя Леня Начинкин.
— Дядя Леня! Я так и знал, что вас найду, дядь Лень!
Динка радостно терлась о Мишкины кирзовые сапоги, вызывая еще большее волнение.
Глава двенадцатая
СПАСЕНИЕ
Партизанская землянка, куда пришел Мишка со своими спасителями, была так искусно укрыта, что ее трудно обнаружить и в двух шагах. Разлапистые хмурые ели плотно заслонили вход со стороны глубокого оврага, с тыла же простиралась непроходимая чащоба — ели вперемежку с березами. Партизаны, возбужденные недавним боем, подходили к землянке, громко переговариваясь.
Начинкин отворил заиндевевшую снаружи дверь, пропустил Мишку вперед. Глазам предстало просторное помещение с бревенчатым, внакат, потолком. С одной стороны — дощатые нары с набросанными на них фуфайками, с другой — стол и длинная скамья, врытая прямо в земляной пол. На столе горел фонарь, стояли котелки.
— Ну, проходи, проходи, парень! — услышал Мишка и увидел вышедшего вдруг откуда-то из боковушки лесника Евстигнея Савушкина.
— Здравствуйте, дядя Сигней!
— Здоров, здоров, герой! Что же это ты один по лесу шляешься? Врагов за собой водишь!
— Дядя Сигней, я к вам по делу, по очень важному делу! Семка — помните его? — при смерти лежит. Собирал в поле картошку и на мину наткнулся, Он умрет, если не поможете, дядя Сигней!
Савушкин сел, продолжая смотреть на мальчика.
— Да-а, — неопределенно сказал он, видимо, обдумывая услышанное.
— Разрешите, товарищ командир, я с Поливановым схожу в Казачье? — обратился Начинкин.
— С Поливановым… в Казачье, — опять каким-то отсутствующим голосом проговорил Савушкин.
— Да, с доктором Поливановым, — повторил Начинкин. — Не то умрет парнишка.
Савушкин поднялся со скамьи.
— Хорошо. Поливанов пойдет в село, поможет мальчику. Ты, Миша, проводишь его. А тебе, — он обратился к Начинкину, — будет другое задание.
— Есть проводить в село! — обрадовался Мишка.
— А сейчас до вечера отдыхать. Покормите мальца и пусть на нарах поспит. Начинкин и Поливанов, пройдите ко мне!
…Темный пасмурный вечер черным пологом опустился на лес и на поля, придавил их гнетущим мраком. Мишка и Поливанов подходили к Казачьему. У Поливанова— за спиной вещмешок с медикаментами. У Мишки — в руках палка, чтобы сподручнее идти. Шагали молча. У Поливанова было тревожно на душе — шел в незнакомое село. Он был не из местных, пристал к партизанскому отряду при выходе из окружения. У Мишки чувство двоилось: ему было и страшно — вдруг нарвутся на засаду или на случайный патруль, и радостно — теперь-то уж Семка наверняка будет спасен. В последнее время, как пожили в одной хате, Семка стал для него словно брат родной, делились и мечтами и тревогами.
От села доносилось урчанье моторов, по Домовинской дороге, шаря в черном мраке светом фар, двигалась в сторону фронта колонна танков. «Подкрепление, — решил Мишка и тут же подумал об отце. — Трудно ему там, вон какая силища прет и прет».
Недалеко от околицы свернули с большака, пошли полем. Мишка и во тьме хорошо ориентировался.
— Сейчас будут плетни, держите за мной, — шепнул он.
Вскоре и в самом деле наткнулись на плетень, перелезли через него, набрав за голенища мокрого снегу — ладно, дома вытряхнем! Держались середины огородов, близко к дворам не подходили — подальше от беды.
В одном месте, перелезая через плетень, Поливанов обломил трухлявый кол — треск в ночной тишине раздался особенно громко. Залаяла чья-то собака. С проулка щелкнул сухой выстрел и в небо взмыла зеленая ракета. Это немецкий патруль отозвался на внезапный собачий лай — просто на всякий случай. Поливанов и Мишка свалились в снег, притаились. Другой ракеты не последовало да и лай смолк.
Пошли дальше, осторожнее перелезая через плетни, Вот и огород тетки Феклы. Мишка узнал его по двум стоявшим за амбарами грушам-тонковеткам, с дощатыми скворечниками и дуплянками — Семкина работа.
Мишка повернул к двору, Поливанов за ним. Собаки у Семки не было, и опасность быть обнаруженными не грозила.
Мальчик подкрался к чуланному окошку, осторожно стукнул раз-другой, подождал немного. Еще постучал. В хате вспыхнул огонек — зажгли коптилку. Мишка увидел тетку Феклу, идущую в чулан с коптилкой в руке.
— Тетка Фекла! Это я, Мишка! Отвори.
— Господи! — скорее догадался по ее шепчущим губам, чем услышал, Мишка и ощупью пошел к дворной двери. Вскоре она открылась и впустила ночных пришельцев…
Попросив тетку Феклу занавесить чем-нибудь окна и вывернув до отказа фитиль коптилки, Поливанов надел халат и принялся за операцию. Время от времени он покачивал головой и что-то неслышно бормотал. Тетка Фекла не мешала ему, уставившись горестным взглядом на сына. Она часто переводила его на Поливанова, мысленно вопрошая: ну как, будет жить? Но тот словно не замечал страдальческого взгляда, брал из рюкзака то пинцет, то вату. Будучи опытным врачом, он сразу же определил степень ранения мальчика: да, жить он будет, раны на теле неопасные, осколки можно удалить, но глаза… Не видеть больше мальчишке света. От этого у Поливанова больно сжималось сердце — много ему пришлось повидать раненых, но то были взрослые.
Семка во время длительной операции тихо постанывал, часто просил пить. Мать, сняв с себя платок и смочив в ключевой воде, подносила к жадным запекшимся губам Семки. Она не плакала, сделалась словно каменная, а может, боялась слезами причинить сыну еще большую муку.
— Пить… — снова попросил Семка, и Мишка, взяв из рук тетки Феклы горячий платок, поспешил в чулан к кадке с водой.
Наконец Поливанов встал, распрямился, помахал затекшими руками, выдохнул: — Все.
Минуту спустя добавил:
— Теперь парень будет спать, я ему лекарство ввел, не тревожьте его. Не волнуйтесь, мамаша. Все будет хорошо. А ты, Миша, подежурь полчасика, я вздремну и пойдем обратно.
Спал Поливанов целых два часа, Мишка не стал будить его, да и время до рассвета еще было. Вместе с мальчиком не сомкнула глаз и тетка Фекла. Коптилка была потушена, и в комнате стоял мрак.
По одной ей понятным признакам тетка Фекла определила, что скоро начнет светать, и она сказала об этом Мишке. Тот растолкал спящего Поливанова:
— Пора, дядь Вань!
— Хорошо, хорошо! — быстро, словно не спал, отозвался Поливанов и взялся за рюкзак…
Возвращались в лес тем же путем.
За околицей села, когда миновали последний плетень, Мишка с Поливановым вдруг заметили в сумраке смутные фигуры. Первым желанием обоих было бежать к лесу, но тут же сообразили: лучше затаиться. Легли на подталый снег. Услышали приглушенный голос:
— Поливанов! Не бойся, это я, Начинкин!
Подошли трое партизан во главе с Начинкиным: командир отряда, оказывается, посылал на всякий случай группу прикрытия.
Близился рассвет, и партизаны поспешили к лесу.
Глава тринадцатая
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ
Мишка остался в партизанском отряде. Евстигней Савушкин сказал, что возвращаться ему в Казачье опасно, да и немца скоро потурят. Партизаны окружили мальчика теплом и заботой, но на просьбы хоть разок взять его на боевое задание, упорно отвечали отказом.
— Еще навоюешься, — неопределенно бурчал Начинкин, а командир отряда Евстигней Савушкин в тон ему добавил: — Нагуливай тело, малец, ишь как усох — кожа да кости.
И Мишка смирился. Он помогал старшим варить обед, мыл и чистил песком котелки.
Однажды, сразу же после того, как партизаны, какие-то озабоченные и молчаливые, вернулись с очередного задания, командир отряда вызвал Мишку к себе.
— Ну, вот, Миша, ты и дождался своего часа, — сказал он. — Сегодня ночью поведешь группу в Казачье. Помнишь дорогу к подземному ходу?
— Еще бы! — обрадованно отозвался Мишка.
— Вот и хорошо, — заключил командир, давая понять, что больше он ничего к сказанному добавить не может — военная тайна.
…Вечером партизаны во главе с Начинкиным, вышли из землянки. Шагали по лесу только им ведомой тропой. На опушке постояли, посовещались с минуту-другую, и двинулись дальше, к селу.
У Начинкина за спиной была катушка с телефонным проводом. Мишка шел за ним и думал о Семке — как он там, зажили, нет ли его раны? Прошло уже около месяца после ночного рейда с партизанским врачом. Странное дело, об отце и матери он в последнее время вспоминал все реже. То ли потому, что сам стал ближе к боевой обстановке, то ли время делало свое. Вот и он тоже воюет. Может, не совсем так, как отец, но все же воюет. И оружие личное имеет — трофейный парабеллум, стрелять из которого его научил дядя Леня. Точно такой же парабеллум, каким так и не удалось попользоваться Петьке. Петька… С почти святым благоговением всякий раз вспоминает Мишка своего геройски погибшего друга. Он не посрамит дорогого имени отважного вожака, и если придется погибнуть в бою с врагом, то, как и он, тоже не дрогнет…
На подступах к селу отряд разделился: трое партизан свернули на обочину, взяв правее большака. Начинкин с Мишкой резко забрали влево, к излучине реки. Где-то там, в темноте, глыбится Горюч-камень, свидетель Петькиного подвига. До слуха доносился шум воды. Под горой ворочался на незамерзающих перекатах Воргол. Он нес к югу вереницы льдин, упрямо сбрасывая с себя оковы.
Путники осторожно обошли стороной уцелевшие колхозные амбары, миновали выгон и вышли к отвесному берегу реки.
— Найдешь лаз в подземелье? — спросил Начинкин.
— Постараюсь, — ответил Мишка.
Двинулись дальше к Горюч-камню, держась кромки берега и рискуя сорваться вниз с крутого обрыва.
Не меньше часа потребовалось Мишке, чтобы отыскать в склоне берега лаз в подземный ход. Ноги разъезжались по скользкому льду, руки были исколоты колючим шиповником — приходилось цепляться за малейший кустик.
— Сюда, дядя Лень! — вполголоса сказал Мишка.
Лаз неизвестно кем был наполовину завален камнями, пришлось расчищать.
О немцах как-то и не думалось: если у околицы не напоролись, то уж здесь-то, под кручей, да в такой темени их никто не обнаружит.
И вот наконец лаз в подземелье свободен. Партизаны ступили в кромешную темноту. Начинкин зажег карманный фонарик и споро, вслед за лучом, двинулся вперед. За ним, по одному, партизаны. Мишка шел в середине, и ему было нисколечко не страшно. Он шел и вспоминал, как пробирался здесь с друзьями, чтобы вызволить пленных, а сейчас один из спасенных, дядя Леня, шагает впереди него — ведет бойцов на какое-то важное боевое задание. И если бы тогда он, Петька и Семка побоялись пойти в церковь, чтобы спасти пленных, то не было бы сейчас в живых ни дяди Лени, ни его друзей, не было бы и никакого задания. А теперь вот они идут, чтобы ускорить освобождение родного Казачьего…
Из раздумья Мишку вывел шепот резко остановившегося Начинкина.
— Побудьте тут, а я схожу разведаю.
И Начинкин пошел один, освещая себе путь фонариком. Тьма обступила оставшихся. Мишка прислонился к стене и удивился, что камни теплые. А может, это спина взмокла от пота? Ну, конечно же, так оно и есть, вон сколько протопали да по круче поползали.
Впереди, из глубины подземного хода, появился луч света, а вскоре послышался и приглушенный голос Начинкина:
— Давайте за мной!
Массивная чугунная дверь, ведущая в церковь, была притворена, но не заперта. Начинкин погасил фонарик и первым проскользнул в церковь. За ним — остальные. Прислушались, привыкая к темноте. Кругом было тихо и пусто. Тишина нарушалась лишь глухим погромыхиванием на крыше — весенний порывистый ветер трепал оторванный лист жести.
— А теперь слушайте меня внимательно, — сказал командир группы. — Сейчас, пока не наступил рассвет, переходите линию фронта, а мы с Мишей останемся здесь. Завтра наши войска перейдут в наступление, и нам приказано корректировать огонь батарей. Нужна связь… Ну, успешного вам возвращения?
Партизаны обняли друг друга на прощанье, трое пошли назад по подземному ходу, оставляя за собой нитку провода, а Начинкин с Мишкой остались. Времени до рассвета было немного.
Немцы превратили Казачье, стоящее на большой шоссейной дороге, в важный оборонительный пункт. Из села хорошо просматривались и простреливались подступы с востока. Взять село было непросто.
Начинкин, притаившийся с Мишкой на церковной колокольне, определил это сразу. Лишь только рассвело, он без труда обнаружил несколько замаскированных немецких батарей: две стояли на бугре, у Кукуевской мельницы, и еще одна на церковной площади.
Колокольня была высокая, с ажурными решетками в оконных проемах, и разведчики не боялись, что их обнаружат. Да и сами они были осторожны.
Начинкин склонился над телефонным аппаратом, а Мишка тем временем наблюдал за большаком, проходившим в полуверсте. Вот по нему на северную окраину села проехали два бронетранспортера с пехотой. Мишка сказал об этом Начинкину.
— Все понятно, укрепляют левый фланг, — не отрываясь от дела, отозвался тот.
Вскоре Мишка заметил, что батарея у Кукуевской мельницы снялась с места и двинулась к гнездящимся на возвышенности Королевским выселкам.
— Примечай, Миша, все примечай, — поощрял Начинкин.
И Мишка глядел в оба, временами оборачиваясь в сторону Нижней Дерновки, где стояла его хата. Мишка знал, что она давне уже перестала пустовать. После смерти бабушки немцы, боясь тифа, долгое время обходили хату стороной, и в ней жила Дышкина семья. Но сменилась воинская часть, и фашисты, не церемонясь, выгнали эвакуированных. В доме разместился штаб полевой жандармерии. Отсюда отъезжали на машинах каратели в близлежащие деревни и там жестоко расправлялись с населением за связь с партизанами…
Покинула свою позицию и батарея, что стояла на церковной площади. Мишка не спускал с нее глаз. Каково же было удивление, когда тягачи с пушками повернули к березовой рощице, что была рядом с его хатой, Мишка подумал: «Да, оттуда видна, как на ладони, вся балка, что тянется к селу от Богомоловского сада!»
Сказал об этом Начинкину, умолчал только о близости своей хаты к вражеской батарее.
— Хорошо, Миша, учтем и это, — ответил Начинкин.
Вдруг утреннюю тишину разорвали орудийные залпы, и в селе грохнули взрывы снарядов. Наши части начали артподготовку. С колокольни было хорошо видно, что орудия били от Богомоловского сада.
— Ну, началось, Миша! — возбужденно прокричал Начинкин и закрутил ручку аппарата — связь была налажена. Пришла пора корректировать огонь наших батарей.
Немецкие орудия молчали. Но прислуга была на боевых местах — немцы знали, что за артподготовкой последует наступление пехоты.
И атака началась.
Мишка заметил, как со стороны Богомоловского сада в широкую балку стекла густая цепь бойцов. Фигурки медленно, но неотвратимо приближались к окраине села.
И тут у рощицы ожила немецкая батарея. Первые снаряды разорвались в балке, в самой гуще наступавших.
— Дядь Лень! Дядь Лень! — закричал Мишка. — Видишь, откуда батарея бьет?
И он пальцем указал на рощицу, что стояла за его хатой. Знал он, что сейчас Начинкин передаст координаты вражеской позиции, и от его хаты ничего не останется — все сметет огневой вал. Но до хаты ли тут, если на глазах гибнут наши солдаты. Может, в той цепи бежит, и его отец?!
— Дядя Леня! Ну, скорей же, скорей! Перебьют всех!
И по проводу понеслись торопливые спасительные слова. Вот у рощицы взметнулись два-три фонтана — наши артиллеристы нащупывали вражескую батарею. Начинкин не отрывался от аппарата.
А через несколько минут и рощица, и Мишкин дом скрылись за черной завесой. Сплошной гул разрывов оглушил разведчиков…
В балку скатывались все новые и новые цепи пехоты. Бойцы врывались в переулки, поливая автоматным огнем убегающих немцев. В селе закипал бой.
Фашисты обнаружили корректировщиков на церковной колокольне. Начинкин в тревоге заметил, как до взвода солдат бросилось от дороги к паперти. Через две-три минуты они откроют железную дверь и еще через две будут на колокольне. Надо спешить!
Начинкин схватил автомат, крикнул Мишке:
— За мной!
И оба они бегом устремились вниз по каменной винтовой лестнице. Чугунная дверь, ведущая в подземелье, была полуоткрыта. Начинкин подтолкнул Мишку в подземелье.
— Беги! Я задержу их!
И в это время в церкви загремели автоматные очереди. Начинкин быстро захлопнул за Мишкой дверь и, сорвав автомат с плеча, повернулся к бегущим фашистам…
Глава четырнадцатая
ДОРОГА НА ЗАПАД
Над освобожденным от врага селом стояла гарь от пороха и пожарищ. Гул откатывающегося на запад боя доносился все глуше и глуше, напоминая вешний гром.
Улицы и переулки были забиты трофейной техникой, орудиями, грузовиками, легковушками. По большаку бойцы вели колонну пленных гитлеровцев.
Мишка, усталый и измученный, шел по Нижней Дерновке, узнавая и не узнавая ее. На месте ряда домов, воздев к небу черные трубы и зияя провалами топок, стояли печи: фашисты, отступая, подожгли для прикрытия десятка три крестьянских хат.
На дороге Мишка увидел подводу, а на ней раненого немца. Видимо, возница, боясь попасть в плен, обрубил постромки, сел на лошадь и ускакал, оставив раненого на произвол судьбы. Раненый истошно кричал, то ли от боли, то ли от страха.
Мишка с волнением подходил к своей хате. Вот он у погреба, старый вяз, к которому ребятишки привязывали веревочные качели. Мишка еле узнал его: сучья были обрублены, ствол расщеплен и испещрен осколками.
На месте хаты громоздились груды кирпича, даже печь не уцелела, из-под обломков стены торчала деревянная кровать. Снаряд угодил в хату прямым попаданием. Раскинувшаяся за двором березовая рощица тоже была вся искалечена.
На опушке рощицы валялись колесами кверху немецкие орудия — огненный смерч искорежил, измочалил казавшийся всемогущим вражеский металл. Мишка с удовлетворением подумал, что в этом есть и его участие. «Знал бы отец, что и я освобождал Казачье — похвалил бы непременно».
Обойдя вокруг пепелище, Мишка не спеша двинулся в сторону церкви. У Семкиного дома остановился, в каком-то тумане подумал: как же это он чуть было не прошел его. Повернул к крыльцу, взошел по шатким ступенькам и перешагнул порог.
Вслед за скрипом избяной двери из хаты донесся слабый голос:
— Мама! Кто это пришел?
— Миша, сынок, Миша к нам пришел! Живой, невредимый, вот радость-то! Проходи, проходи, партизанил ты наш!
Тетка Фекла обняла Мишку. Тот неловко отстранился, увидел Семку. Он сидел на печи, уставившись сверху незрячими глазами. Лицо, осунувшееся, какое-то страдальческое. Мишку больно резанула жалость к другу.
— Здравствуй, Сема!
— Я знал, Мишка, что ты скоро придешь. Как немца потурили, так я и подумал: ну, скоро увижу Мишку. И правда, ты пришел!
При слове «увижу» тетка Фекла не удержалась, всхлипнула.
— Не плачь, мама, — сказал Семка. — Теперь все будет хорошо. Работать будем, да, Миш?
— Да, Сема, да, — отозвался, еле сдерживая слезы, Мишка и выбежал на улицу.
Торопливо пошел к церкви. На площади заметил небольшой строй бойцов с автоматами. Мишка подошел ближе и увидел свежевырытую могилу и тела павших в бою солдат. Здесь же лежал и Начинкин. Мишка всмотрелся в лицо старшего друга, в дорогие ему черты, нахлынули воспоминания совсем недавнего прошлого, и мальчишеское сердчишко не выдержало: он заплакал. Подошел какой-то боец, привлек голову мальчика к жесткой шинели, сказал хрипловатым голосом:
— Ну, поплачь, малец, трошки, поплачь…
Грянул прощальный залп над могильным холмиком. Бойцы покинули площадь, уводя с собой Мишку. Каково же было Мишкино удивление, когда в бойце с хрипловатым голосом он узнал партизана Байдебуру, а в другом, шагавшем рядом, — его товарища Ивана Семенихина.
— Мы тут свою часть встретили, и ты тоже пойдешь с нами, — похлопывая Мишку по плечу, рокотал Семенихин. — Сыном полка у нас будешь! Хочешь?
— Хочу, — чуть было не крикнул обрадованный Мишка. Вот и сбывается его давнишняя мечта!
— Мы з тебе такого солдата зробим — батька не угадае! — вторил своему другу великан Байдебура.
Утром полк, в который был зачислен Мишка, Михаил Богданов, выступил из Казачьего.
Фекла проводила Мишку до околицы села. Смахивая рукой слезы с лица, по-матерински привлекла его к себе:
— Ну, до свиданья, Миша!.. Береги себя, под пули не лезь… Вот ведь как получилось, всю семью война разметала…
— Я вернусь обязательно! Как немца прогоним, так и вернемся вместе с папой…
И Мишка, часто оглядываясь и махая рукой, побежал догонять солдатскую колонну. А женщина еще долго стояла на обочине большака с поднятой рукой, как бы благословляя маленького солдата.
Часть вторая
Глава первая
«ОВЛАДЕЛИ РЯДОМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ…»
Под Ельцом 13-я армия Юго-Западного фронта нанесла сокрушительный удар второй полевой армии генерала Вейхса. Провалился замысел немецкого командования обойти Москву на правом фланге. Потрепанные немецкие части в беспорядке отступали. Оставив Казачье, Верховье, Ливны и другие крупные населенные пункты к западу от Ельца, они все же сумели закрепиться на линии Залегощь — Русский Брод.
…Батальон стрелкового полка, с которым Мишка Богданов ушел из Казачьего, окопался в заснеженном дубовом перелеске под Русским Бродом. Получив свежее подкрепление, немцы готовились перейти в контрнаступление. Позиция батальона была удобной: с господствующей над полем возвышенности большое старинное село, где сосредоточились крупные силы противника, просматривалось, как на ладони, даже без бинокля.
— Бачь, Миша, ось сюды! Видишь, нимцы технику пидтягивають — треба видсиля ждать атаки, — приподняв над щитком пулемета голову, Гнат Байдебура показал на левую окраину села.
— Вижу, дядя Гнат.
— Та скильки ж тебе учить, шо я теперь тебе не дядя Гнат, а товарищ младший сержант! Ты солдат чи ни?
— Солдат.
— Ну так и я ж кажу… Накось пидстели пид себе мешковыну, бо змерзнешь.
Байдебура лишь на первый взгляд такой суровый, в душе же — добрый и по-отцовски заботливый. Мишку он взял к себе в расчет третьим номером, вторым был неразговорчивый рядовой Иван Семенихин, также знакомый по партизанскому отряду Косорукого. По правде говоря, третьего номера при пулемете «Максим» иметь не положено, но ведь есть же исключения из правил. Выйдет когда-нибудь и из смышленого, цепкого подростка второй номер — Гнат в этом нисколько не сомневается и терпеливо, при каждой возможности учит его разбирать и собирать «кулемет», заряжать и стрелять из него.
Во время боя третий номер становился обыкновенным подносчиком патронных лент. А Мишка и этому несказанно рад: в настоящем бою будет участвовать! Видели бы казацкие ребята — Семка, Петька… Да, Петька, если бы его фашисты не убили, тоже наверняка ушел бы на фронт.
— Шо, Михайло, размечтався? Бачь знов сюды! — топнул локтем младший сержант. — Пишлы перебижкамы. Ховайсь в окоп и сиди там, пока не позовем. Та головы не высовувай, ще самому згодыться…
Мишка отполз по снегу назад и спрыгнул в свою, самим отрытую, ячейку. Его, третьего номера, места — здесь, в пяти метрах от пулеметчиков. Байдебура и Семенихин приникли к щитку, следя за несмелым продвижением гитлеровцев по неглубокой балке. Впереди настороженно, на малых скоростях ползли танки.
По окопам передали команду: не стрелять, подпустить врага ближе.
С околицы села ударили немецкие орудия. Осколки снарядов с воем летели над траншеями и ячейками, калечили незащищенные деревья. Танки перешли на быстрые скорости и понеслись на позиции батальона.
— Пропустить танки, стрелять по пехоте! — прокатилось по переднему краю. — Бутылки с горючим к бою!
— Та-та-та-та-та! — заработал пулемет Байдебуры. Неистовое татаканье отозвалось ему с флангов. Дружно ударили автоматы, отсекая вражескую пехоту от танков. От метко брошенных гранат споткнулись первые два танка, завертелись на месте, волоча по снегу разорванные гусеницы.
Мишка сидел в ячейке, вжавшись телом в холодную глинистую стенку, и напряженно ждал зова младшего сержанта, чтобы бежать за патронами. Страшно ли ему было? Кого обманывать, конечно, страшновато, ведь это его первый бой. Будь у него автомат, иное дело, а то сидишь себе, безоружный, и ждешь, когда другие отобьют атаку. В партизанском отряде у него хоть трофейный парабеллум был, а тут, считай, с голыми руками. Третий номер и все тут! Вот кончится бой, и он обязательно сходит к комбату, пусть дает ППШ. Что он не солдат что ль! А если не дадут — с убитого немца шмайсер снимет…
Стрельба нарастала. Где-то неподалеку разорвался снаряд, и в ячейку прямо на голову, за воротник, посыпались комки мерзлой земли со снегом. Под шинелькой захолодило. И в этот миг Мишка услышал Гнатов голос: младший сержант звал его. Он пружинисто вытолкнул тело из ячейки и — ползком к пулемету.
— Что, дядя Гнат?
— Ложись на Иваново мисто, пидправляй ленту, як учил!
И только тогда Мишка увидел чуть поодаль лежащего Семенихина: его насмерть сразил осколок вражеского снаряда. Спрашивать было некогда: фашисты снова поднялись в атаку. И Мишка, лежа за щитком, взялся за ленту, руки у него дрожали. Пулемет зашелся в хриплой скороговорке, настойчиво потянул из рук ленту. Враг, подтянув подкрепление, с остервенением рвался к окопам батальона. Горели танки, смердящий дым полз по дубраве, застилал стрелкам глаза.
Байдебура без шапки, с расстегнутым воротом шинели, сжав рукоятки, зло водил стволом пулемета, поливая свинцом наседавших гитлеровцев:
— Пидходьте, сволочи, получайте свое!
Мишка поддался настроению командира, потный и разгоряченный, едва успевал заправлять новые ленты— от дрожи в руках и следа не осталось.
— Бегут, дядя Гнат!..
С командного пункта полка передали приказ: немедля контратаковать и на плечах противника ворваться в село.
И поднялись из траншей бойцы, яростно устремились вперед с криком «ура». Со всеми вместе по развороченному танковыми траками снежному полю бежал, таща с Гнатом тяжелый пулемет, и Мишка Богданов — второй номер расчета.
— Ура-а-а! — неслось отовсюду.
Мишку обгоняли бойцы, стреляя на ходу из автоматов и бросая гранаты. Первая цепь ворвалась в окраинные проулки. Фашисты, не выдержав натиска, оставили село…
На следующий день Советское информбюро передаст в эфир скупые слова сводки боевых действий: «…наши войска овладели рядом населенных пунктов». А сейчас в одном из этих населенных пунктов — в селе Русский Брод — бойцы хоронили павших в бою товарищей, с кем до этого дня делили и хлеб и патроны.
Троекратный залп прозвучал над свежей братской могилой. Стоял в строю своего взвода и Мишка Богданов: автомат Семенихина Гнат самолично вручил ему со словами: «Не пидводи Ивана, Михайло, бей оккупантив, як вин бив…»
Заняв село, батальон начал успешно укреплять западную окраину. Младший сержант Байдебура принялся один отрывать ячейки, а второго номера послал за пулеметными лентами. Мишка перекинул автомат за спину и пошагал в центр села, где, по его разумению, должна была находиться хозчасть полка. И хоть приказал ему Гнат побыстрее слетать туда и обратно, он не очень-то спешил, шел, наслаждаясь выдавшейся передышкой и тишиной. Шел и смотрел на жуткие остовы печей, с воздетыми к небу черными трубами, на поваленные взрывной волной телефонные столбы — и все это до того ж напомнило разоренное врагом его Казачье. Как оно там? Как мама? Вернулась ли с окопов и где живет — ведь от дома ни кола, ни двора не осталось…
Навстречу попадались только бойцы — сельские жители то ли еще отсиживались в погребах, то ли до начала боя покинули село. Но вот Мишка увидел выбежавшего из-за пепелища мальчишку, одетого в фуфайку не по росту и в немецких эрзацваленках. На голове неуклюже торчала немецкая пилотка.
— Эй, дядя! Сюда! Сюда! — кричал он, заприметив издали идущего солдата. Мишка ускорил шаг навстречу мальчишке. Тот сперва опешил, увидев перед собой не взрослого бойца, а такого же, как он, подростка, но тут же согнал с лица удивление и сразу посерьезнел:
— Бегим за мной! Там, в риге, немец! Ну, чо разинул рот, бегим, а то утекет!..
Мишка рванул из-за спины автомат, бросился за мальчишкой.
Обежав пепелище, увидел впереди на пустыре одиноко стоящую, приземистую ригу. До нее доходила каменная стена, и ребята, согнувшись в три погибели, побежали вдоль нее к риге.
— Вот что, ты беги к воротам, стань и следи в оба, — приказал мальчишка. — А я — вон туда: там, я знаю, на крыше лаз есть, шугану камнем. Понял?
— Понял.
Мальчишка побежал за угол, а Мишка, держа автомат наизготовку, прокрался к воротам и затаился. Рига безмолвствовала.
Но вот в глубине ее что-то загромыхало: это, видимо, мальчишка швырнул в лаз камень. И в тот же миг рига огласилась длинной автоматной очередью. Мишка отскочил от ворот, и в это время из риги выбежал долговязый гитлеровец и бросился саженными скачками к густым зарослям вишенника.
Мишка зачем-то встал на колено, вскинул ППШ и нажал на спусковой крючок. От неожиданно прогремевшей очереди закрыл глаза, тут же открыл и увидел, что немец продолжает бежать, по-заячьи петляя и оглядываясь. Вон он выстрелил навскидку из автомата и прибавил ходу. Мишка упал на снег, положил ствол автомата на кстати подвернувшийся булыжник, прицелился и дал очередь. Фашист нелепо хватнул руками воздух и рухнул, не успев добежать до вишенника. Попал! Мишка вскочил и бросился было к упавшему гитлеровцу, но тут же спохватился: а где же мальчишка? Побежал за ригу.
Тот сидел на снегу, привалившись к соломенной стрехе, и тщетно пытался стащить с ноги эрзацваленок.
— Что, ранило?
— Кажется, да, — тихо промолвил мальчишка.
— Держись за меня, — Мишка ухватился за эрзацваленок и осторожно потянул. Мальчишка застонал.
— Полегче! Ты думаешь, это так себе…
— Хорошо, хорошо — терпи!
— Ой! Полегче, говорю, а то сейчас, как двину!..
Мишка еще раз потянул, на этот раз успешно. Портянка вся намокла кровью, видно, ранило сильно.
— Ты сможешь потерпеть, я сбегаю за нашими?
— Давай, беги.
И Мишка поспешил, придерживая автомат, чтобы не очень бил по спине. Но бежать далеко не пришлось: бойцы, услышав стрельбу в огородах, сами торопились сюда.
— Что, хлопец, случилось?
— Мальчишка там… лежит раненый. Помогите, дяденьки.
Бойцы взяли раненого мальчишку, положили на снятую кем-то шинель и понесли к медсанбату. Мишка сначала пошел следом, но потом вспомнил про немца — захотелось посмотреть: как-никак, первый им убитый враг!
Нашел его у самого вишенника — еще немного и убежал бы, вражина. Тот лежал с открытыми глазами и оскаленным ртом, и у Мишки по спине поползли мурашки. А вдруг живой! Он несмело толкнул его носком сапога. Нет, убит, конечно! Заросшее рыжей щетиной обличье фашиста выражало звериную злобу.
Вот он, Мишка, перед тобой враг, пришедший в твою страну жечь и убивать. Вглядись в него хорошенько, запомни на всю жизнь. Запомни и бей без жалости и промаха, мсти за поруганную Родину, за расстрелянного на Горюч-камне Петьку, за слепого Семку, за погибшего в сегодняшнем бою Семенихина…
Мишка вдруг вспомнил, что его, должно быть, уже заждался с патронами младший сержант, резко повернулся и побежал искать хозчасть.
Глава вторая
В РАЗВЕДКЕ
Наступила затяжная полоса оборонительных боев. Противник, оправившись от нанесенного ему под Ельцом и Ливнами сокрушительного поражения, подтянув свежие силы, судорожно, но довольно прочно вцепился в орловский чернозем. Весенняя распутица сковывала передвижение войск, особенно техники, пугала немцев не менее, чем недавние жуткие морозы.
Наши разведчики, возвращаясь из ночной вылазки в занятую фашистами деревню, подорвали гранатой автомашину с почтой. Сотни солдатских и офицерских писем, так и не дошедших в далекий «фатерлянд», легли на дощатый стол в блиндаже командира стрелкового полка. Отрезвевшие от первых успехов гитлеровцы писали женам и матерям о своих неимоверных злоключениях и страданиях. в России. «Молись за меня, милая Гретхен, — писал какой-то обер-лейтенант. — В этом аду не знаешь, будешь ли ты жив через час. Месяц назад под Русским Бродом от моего взвода осталось пять человек, я тоже чудом уцелел. И это не первый такой бой. Русский Иван оказался не таким слабым, как мы представляли его себе в Германии. Я слышал тут одну поговорку: „Не зная броду — не суйся в воду“. А мы сунулись и теперь не выбраться из него целым…»
После горячего боя под Русским Бродом младший сержант Байдебура видел в Мишке Богданове уже не зеленого подростка, а обстрелянного, равного себе, воина. Мишка чувствовал перемену в отношении к нему старшего товарища, и это было для него лучшей наградой.
А этот необычный день он будет помнить всю жизнь. После обеда, когда термоса с пшенной кашей были дружно опорожнены бойцами, поступила команда: личному составу батальона собраться в березовой роще. Мишка мыл котелки — свой и Гнатов.
— Кончай розмуваты, пишлы! — выскочив из окопа, бросил на ходу Байдебура. Мишка поспешил за ним…
— Батальон, сми-ирно! — зычно скомандовал комбат, когда все роты построились. И стал докладывать стоявшему здесь, на полянке, полковому начальству. Мишка впервые видел командира с тремя шпалами на петлицах комполка, «батю». Потом последовала команда «вольно!», и комбат начал вызывать из строя бойцов: отличившимся в последних боях вручались боевые награды. Бойцы четким шагом подходили к комбату, докладывали, и командир полка прикреплял к гимнастерке орден или медаль.
Мишка с волнением глядел на эту торжественную церемонию, в некоторых из награжденных узнавал знакомых солдат. И вдруг комбат назвал его, Мишкину, фамилию! «Может, в батальоне еще есть Богданов?» На младший сержант, стоявший рядом, подтолкнул его:
— Иди, иди, це тебе выкликають.
И Мишка пошел на негнущихся ногах к комбату. Из шеренги тот виделся совсем недалеко, а тут вдруг как-то разом отдалился.
— Рядовой Богданов за проявленную храбрость при взятии населенного пункта Русский Брод награждается медалью «За отвагу».
И комбат ловко прикрепил к гимнастерке юного пулеметчика сверкающую на солнце медаль.
— Служу Советскому Союзу! — выпалил Мишка.
Но получилось негромко, и Мишка смутился, затоптался на месте. Командир полка обнял его и поцеловал:
— Молодец, сынок…
Странное дело, у Мишки отчего-то подкатил к горлу комок, но он тут же с большим усилием проглотил его.
Да что он, мальчишка что ль! Раскис! Дурень! Четко повернулся и пошел в строй. Байдебура ободряюще похлопал его по плечу.
Вручение наград продолжалось. Гнат получил орден Красной Звезды, посмертно наградили орденом Боевого Красного Знамени Ивана Семенихина. Но до Мишкиного слуха уже смутно доходили называемые фамилии. Он был далеко отсюда — в родном Казачьем.
…Метет, беснуется на улице пурга, а он, первоклассник, с тряпичной сумкой за спиною, упрямо пробирается в сугробах к школе. До нее не так уж и далеко: вон маячит у церкви в разгулявшейся метельной кутерьме. Но настырный ветер валит с ног, снежная крупка больно сечет лицо — и холод нестерпимый. Руки окоченели, глаза от слез еле видят. Но идти надо, ведь уроков не отменяли.
В класс пришли только три ученика — Шурка Лукьянова, круглая отличница, Минька Тихонов, тихим поведением оправдывавший свою фамилию, и он, Мишка Богданов. Учительница, Наталья Михайловна, встретила ребят ласково, погладила по головам — молодцы, не побоялись пурги! — помогла им раздеться. Уроков в этот день не было — Наталья Михайловна часа два читала им интересные волшебные сказки — про Синдбада-морехода, про Али-бабу и разбойников. Потом отпустила домой.
В начале войны учительница куда-то уехала из села: прошел слух, что ее, знающую немецкий язык, послали учиться на разведчицу, но точно никто не знал. Школа с приходом немцев сгорела. Много воды утекло в Вор-голе с того незабываемого метельного дня, а вот же до мельчайших подробностей припомнился он сейчас, в солдатском строю. Знать, командирово слово «молодец!» навело его на это сладкое воспоминание, напомнило ту далекую похвалу учительницы: да, похвала — не хула, на всю жизнь остается с человеком, потому что придает ему крылья…
— Батальон, разойдись!
Команда резко вывела Мишку из далекого и невозвратного времени.
На другой день Байдебуру вызвали в штаб батальона. Вернулся он через час, загадочно улыбаясь.
— Ну что, товарищ младший сержант? — не удержался от вопроса Мишка.
— Я теперь тебе не младший сержант!
Мишка непонимающе воззрился на Гната.
— А ось побачь сюды! — И Байдебура ткнул пальцем на петлицы: на них красовалось по два треугольника. Ого, повышение!
— Поздравляю, товарищ сержант! А что ты улыбаешься?
— Та хиба ж мени и улыбатись нельзя! Шо-шо, покыдаю я тебе…
— Как покидаешь?
— В полковую розведку переводять.
— А я? Как же я?..
Мишка враз сник: он успел привыкнуть к Байдебуре, как к родному брату. И вот-те на — раздружают!
— Первым номером будешь, Михайло. Приймай кулемет и ще дуще бей хрицев!
— Дядя Гнат, можно, я с тобой в разведку?
Сержант перестал улыбаться, посерьезнел:
— Та мени шо, я не против. А як выщее начальство дозволить, чи ни…
— А ты сходи, дядя Гнат… товарищ сержант!
Байдебура, к радости Мишки, молча выпрыгнул из окопа и зашагал к штабу…
Вернулся он скоро, без прежней улыбки на лице.
— Ну, что?
Байдебура пожал плечами:
— Та говорять, шо мал в розвидку…
Мишка в отчаянии понурил голову.
Гнат быстро наклонился над ним, схватил за дрожащие плечи и приподнял с земли:
— Та пошутковал я, бодай тебе грець! Прости мене, хлопче! Трошки розыграть хотив. Собирай монатки, пойдешь и ты в полковую розвидку! Сечас прийдуть приймать у нас кулемет… Сказалы, шо ты — местный, може, и сгодышься для якого-нибудь заданья. Требуют все отправлять тебя в тыл, насилу уговорыв.
Разведвзвод размещался в просторном блиндаже. Старшина, помкомвзвода, казах Шакен Клычев встретил новичков необычным образом — с бутылкой шнапса.
— Вчера ребята с той стороны принесли, — широко улыбаясь, показывая ровный ряд ослепительно белых зубов, сказал старшина, наливая в солдатские кружки. — Ну, с прибытием! Да и награды, кстати, обмоем, У нас тоже полвзвода — с орденами и медалями.
Он стукнул кружкой об их кружки и выпил до дна. Байдебура не стал жеманиться, тоже опорожнил посудину. Мишка же держал кружку в нерешительности, вопросительно поглядывая на Гната: с одной стороны, не опозориться бы перед старшиной, видать, бывалым разведчиком— ведь ни разу до этого вина в рот не брал, с другой стороны, как же он, подчиненный, может так вот сразу взять и выпить, не подумал бы чего плохого старшина! В то же время и отказаться — еще усмотрит в нем труса. А еще, скажет, в разведку напросился! Вот задача!..
Выручил Гнат:
— Ну, шо отстал, хлопець? Одному несподручно, давай пиддержу! — и он, взяв из Мишкиных рук кружку, отлил больше половины содержимого в свою, стукнулся — Давай, щоб дома не журылись!
Мишка лихо хватнул из кружки и чуть не задохнулся. Закашлялся, вытирая слезы кулаком.
— О, да ты с характером! Молодец, разведчик из тебя получится, — засмеялся Клычев, — Кладите свои вещички, располагайтесь. Вернутся ребята — представлю вас им, познакомитесь. Взвод у нас что надо! Один за всех, все за одного.
Мишке совет старшины располагаться был очень кстати: в глазах у него все пошло кругом, в голове зашумело. И он, бросив в угол вещмешок и зачем-то протянув Гнату автомат, пошатываясь, двинулся к нарам…
Сколько он проспал, Мишка не мог бы ответить. Но, когда открыл глаза и приподнял с соломы тяжелую голову, увидел, что в блиндаже многолюдно. Солдаты — кто чистил оружие у входа, кто чинил гимнастерки — сидели на нарах, весело перебрасывались словами и хохотали.
— Ну и придавил ты, хлопец, по триста минут на каждое ухо! Причастился, говоришь, и ни в одном глазу?
— Насилу оба открыл. Вдоволь послушал, как солома растет.
— Ха-ха-ха!..
До Мишкиного сознания не сразу дошло, что шутки — в его адрес. Насмехаются что ль? Он сполз с нар и, не глядя ни на кого, пошел к выходу.
На свежем воздухе сразу стало легче. Немного привыкнув к солнечному свету, он вдруг увидел сидевшего неподалеку, на бревне, старшину. На коленях — развернутая карта. Заметив новенького, старшина поднялся и пошел навстречу. Мишка сердито угнул голову, видя в нем виновника только что услышанных солдатских подковырок.
— Ну ты чего набычился? — миролюбиво промолвил Клычев. — Нехорошо получилось, ты уж прости меня! Мы еще подружимся. Ты знаешь, как меня в детстве дедушка Нутфулла к лошадям приучал? Посадил пятилетнего на неоседланного скакуна и пустил в степь. Ухватился я, говорят, за косматую гриву и мчусь. Потом, когда старший брат заарканил скакуна, меня насилу от гривы оторвали. И таким, знаешь, потом наездником стал! А вино больше не пей — от него батыром не станешь…
И старшина увлек все еще хмуро молчащего юного разведчика к бревну. Снова развернул на коленях карту-трехверстку:
— Начнем, Миша, учиться топографической мудрости…
В разведку Мишку Богданова посылать не спешили: учили все понемногу секретам своего рискованного ремесла. Он умел теперь резать ножницами колючую проволоку, ловко метать финку, ходить с компасом по азимуту и читать военную карту. Научился даже кое-каким немецким словам: хенде хох, форвертс, шнель, цурюк, хальт… Небогатый, правда, лексикон, но на первый случай и этого будет достаточно. Главный аргумент в общении с врагом, как считал Байдебура, это безотказный, с полным диском патронов, ППШ. А старшина добавлял еще смелость и выдержку плюс находчивость. Это вскоре продемонстрировал Гнату сам Мишка — напарник по ночной вылазке на передний край врага…
Командованию стало известно, что немцы подтягивают к их участку фронта танки и другую боевую технику— что-то, значит, замышляют. Но что? Разведвзвод получил приказ добыть «языка».
— Пойдут сегодня ночью сержант Байдебура и рядовой Богданов, — объявил командир взвода лейтенант Макаревич, рослый и красивый белорус, и добавил, глядя на недоверчиво воззрившегося Мишку: — Да-да, ты, Михась! Прикрывать будут Арнаутов и Щекин. Готовьтесь, товарищи.
…Темнота, хоть глаза выколи. Группа разведчиков идет по заросшей кустарником лощине, ведущей во вражеский тыл. Успеть бы проскочить передний край до восхода луны!
Пробираются гуськом, не столько видя впереди идущего, сколько слыша и чувствуя. Мишка идет вслед за сержантом, непонятно по каким приметам угадывающим правильный путь. В том месте, где лощина разветвлялась на два рукава-оврага, разведчики на минуту остановились: группа прикрытия оставалась здесь дожидаться возвращения охотников за «языком».
Гнат торопился: вот-вот выглянет луна, и тогда опасность оказаться обнаруженным удвоится. Он ускорил и без того быстрый ход, и Мишке пришлось бежать трусцой. Спина взмокла, ноги дрожали от напряжения. Мишка знал, что они уже идут по немецкой стороне, знал и то, что гитлеровцы боятся соваться по ночам как в леса, так и в овраги.
Байдебура остановился, коснулся тихонько Мишкиной руки, давая знать, чтоб и тот остановился. Постояли, прислушиваясь. И вдруг прянули наземь: взлетела, озаряя округу мертвенным светом, ракета. Лежали, пока не погасла. Ракета позволила Гнату оглядеться: метрах в двухстах темнело какое-то строение.
— Ползи за мной! — шепнул он.
И разведчики ужами юркнули по склону оврага, держась кустарника.
Строение оказалось полуразрушенным сараем. Разведчики ощупью отыскали вход и проникли в сарай. Здесь было еще темнее.
— Дождемся еще ракеты и сориентируемся, — шепнул на ухо Гнат, и Мишка согласно кивнул головой, словно бы тот мог его видеть.
Но ракеты так и не было. А взошла вскоре луна, полная, без ущербинки. Сержант подполз к двери и выглянул. От неожиданности вздрогнул и замер: метрах в пятидесяти, привалившись спиной к штабелю каких-то ящиков — снарядные, видно! — стоял немецкий часовой. Вот он оставил свое укрытие и, поддернув на груди шмайсер, медленно, не без робости, пошел по тропке, к другому углу сарая. Значит, и здесь тоже склад боеприпасов, иначе зачем бы ему идти сюда, к обрыву.
Луна поднялась выше, стало совсем светло: досадно усложнялась задача по захвату «языка». Теперь просто невозможно подкрасться к часовому незамеченным: прежде чем добежишь до него, он успеет поднять панику и — пиши пропало. Что делать?
Мишка тоже лихорадочно думал, как быть, и ничего дельного не приходило в голову. Неужели придется возвращаться с пустыми руками! И это в первый-то его поиск!.. И вдруг у него мелькнула мысль. А что если?..
— Дядя Гнат! Я, кажется, придумал, — шепнул Мишка.
— Ну?
— Я умею кричать филином. Ты будь здесь и следи в оба, а я мигом — за угол и там заухаю. Понял?
— Ну ты и шкет! — восхищенно отозвался Гнат, сообразив, что к чему.
Мишка уполз.
Прошло немного времени и из-за угла сарая донеслось:
— У-у-ух!..
Шедший по тропе часовой мгновенно остановился, замер на месте и стал прислушиваться. Тишина. Может быть, почудилось? И вдруг снова протяжно и жутко:
— У-у-ух!..
Немец взял наизготовку автомат и осторожно двинулся к тому месту, откуда раздавался крик невидимой птицы. Он прошел в двух-трех шагах от дверного проема, оказавшись теперь спиной к притаившемуся во тьме сарая Гнату Байдебуре. И тут сержант коршуном метнулся из двери и подмял под себя не успевшего ничего сообразить гитлеровца. Шмайсер в мгновенье ока был отобран, а в рот всунут кляп…
С трудом взвалив глухо мычащего немца на спину, Гнат поспешил к оврагу. Мишка за ним. У развилки лощины их встретили заждавшиеся Щекин и Арнаутов.
— Ого! Ну и аиста сцапали!
— Аист не аист, а на филина клюнул! — рассмеялся Гнат, передавая шедшего впереди со связанными руками «языка» товарищам: надо было торопиться затемно перейти нейтральную полосу.
…На допросе немецкий солдат рассказал, что в расположение их стрелкового полка только что прибыли свежие силы — танковый корпус и три дивизиона тяжелых орудий. Есть вроде приказ самого фюрера: любой ценой снова овладеть Ельцом и Ливнами…
Командование фронта срочно перебросило сюда с других участков несколько дивизионов противотанковых пушек, укрепило оборону живой силой. Замысел врага был сорван до начала его осуществления.
А за Мишкой Богдановым в полку прочно укрепилась слава бывалого разведчика.
Глава третья
НОВОЕ ЗАДАНИЕ
С наступлением тепла на участке полка установилось затишье. Укрепившись на новых позициях, противник зловеще помалкивал, снова что-то затевая. Бойцы приводили себя в порядок: стирали гимнастерки, портянки, брились…
Мишка покинул сумрачную землянку и направился в прибрежный лесок. Здесь еще было топко, но тропа позволила добраться до самой воды. Речка была неширокая, вроде Гаточки в Казачьем, и так же побулькивала на быстринке, перекатывая с места на место промытую добела гальку.
— Ты чего тут делаешь? — раздалось почти над самым ухом. Мишка вздрогнул от неожиданности, быстро обернулся: перед ним стоял мальчишка. Постой, да это же тот самый, с кем он немца из риги выкуривал!
— А ты как здесь очутился? — удивился Мишка.
— При санбате я. С неделю провалялся и заросло, как на собаке.
— Вон что!
Мишка подошел к мальчишке, хлопнул его по плечу:
— Ты молодец, смелый — не побоялся тогда фашиста!
— А чего его было бояться! Я их нагляделся по завязку, они у нас долго стояли.
— И у нас, в Казачьем, немец был, только поменьше, чем у вас. А тебя как звать?
— Ленька.
— А меня — Мишка. Ты приходи ко мне, в разведвзвод, познакомлю тебя с моим другом Гнатом Байдебурой. Вон в той стороне наша землянка. Спросишь, где тут разведчики, любой покажет. Может, со мной и пойдем?
— Не, я сейчас не могу: бинты сушить развесил, поди уж высохли.
И Ленька не спеша, вразвалку, пошел по тропе. Мишка же остался на берегу.
…В землянке Мишку ждала новость: их взводу поставлена задача — провести глубокую разведку во вражеский тыл, прощупать оборону противника. На этом участке фронта предстояла крупная наступательная операция.
Лейтенант сидел с сержантом Байдебурой над развернутой картой.
— Серьезное тут дело, Миша, — завидев юного разведчика, сказал Макаревич. — Подсаживайся сюда, слушай…
С первых слов командира стала понятна вся сложность предстоящей разведки. Следовало пройти по меньшей мере километров двадцать в глубь вражеской обороны. Тут ночной вылазкой ничего не сделать, надо что-то придумывать иное. Мишке вдруг вспомнилась недавняя встреча с мальчишкой из Русского Брода, и в голове зароились мысли…
— Товарищ лейтенант! У меня есть предложение. Давайте мы с Ленькой сходим в эту разведку?
— С каким Ленькой?
— А помните, я рассказывал про того пораненного из Русского Брода? Он сейчас, оказывается, в санбате, медсестрам помогает.
— Так-так-так! — затакал лейтенант, обдумывая неожиданное предложение. — А что, давай поразмыслим, может, ты и впрямь дело говоришь…
В штабе полка согласились с планом командира разведвзвода: решено было послать в тыл врага ребят.
Для Мишки нашли потрепанный кургузый пиджачишко, залатанные портки, на ноги — калоши, а на голову — картуз. Переоделся он во все это, и не узнать бравого солдатика — пастушок да и только. В одеянии Леньки не стали ничего менять: та же немецкая пилотка на вихрастой голове, та же фуфайка не по росту, только вместо прежних эрзацваленок на ногах теперь были видавшие, виды солдатские ботинки с обмотками.
Переходить линию фронта решено было в ночное время, а сейчас ребята, получив нужные советы, завалились на нары: лейтенант приказал им выспаться перед дальней и трудной дорогой…
Опустились сумерки. Мишка и Ленька в сопровождении Гната Байдебуры и еще одного разведчика вышли из землянки и растворились во тьме. Направились к лесу, который тянулся в глубь немецкой обороны.
В лесу было сыро, и Мишка вскоре начерпал полные калоши воды. Но от быстрой ходьбы холода не чувствовал, а калоши, привязанные медной проволокой, надежно сидели на ногах.
Через два часа спорой ходьбы лес кончился, пошли кочковатым полем. Гнату с напарником надо было возвращаться, и он, обняв ребят, сказал:
— Берегите себя, хлопци! Через три дня встречаемось тут — будемо вас ждать…
Оставшись одни, юные разведчики двинулись вперед, по прямой от леса. Все теперь зависело не от них: повезет— незамеченными выйдут к деревне.
От усталости ломило ноги, хотелось присесть, прилечь, уснуть прямо на земле. Но они шли молча, иногда касаясь друг друга руками. Надо было затемно добраться до намеченной деревни, где на первых порах можно будет укрыться в чьей-либо хате. Там легче будет сориентироваться, как быть дальше.
Впереди замаячили строения. Ребята легли на землю и поползли вперед, временами останавливаясь и прислушиваясь. Вдруг до их слуха донеслись непонятные металлические звуки и немецкая речь. Вот тебе и деревня! Разведчики взяли правее и поползли, не теряя из виду темнеющие строения: только подальше от них.
Наткнулись на скирду соломы, удивились, как это она уцелела! Ну да бог с ней — уцелела и ладно. Укрытие-то какое, лучше не придумаешь! Скоро начнет светать и двигаться дальше опасно. Решили остаток ночи скоротать в скирде. Вскарабкались наверх, зарылись в пахнущую прелью солому и не заметили, как уснули…
Утром их разбудило солнце: огромное и яркое, оно выкатилось на безоблачное небо и щедро залило землю золотым светом и теплом.
Осторожно приподнявшись, ребята огляделись вокруг, В полуверсте увидели деревню и тянувшуюся от ее околицы косую линию траншей. Еще немного и они угодили бы ночью на огневые позиции врага.
В противоположной стороне заметили одиноко стоящую в поле хату — хутор какой-то. Решили понаблюдать. Часа два по очереди не спускали с хутора глаз: никакого признака жизни, в то время, как траншеи у деревни с восходом солнца ожили — по ним туда-сюда сновали вражеские солдаты, разносили, видимо, завтрак.
Ленька первым заметил, как от деревенской околицы отъехал и помчался в их сторону бронетранспортер.
— Пригнись! — крикнул он другу.
Разведчики плотнее вжались в солому, продолжая наблюдать за бронетранспортером. Не доехав метров сто до скирды, он остановился, и из него высыпало до десятка гитлеровцев. Старший подал какую-то команду, и солдаты принялись копать лопатами землю. «Отрывают новую огневую», — решил про себя Мишка. Близость врага очень встревожила ребят: требовалась еще большая осторожность, о продолжении пути до наступления темноты не могло уже быть и речи.
Юные разведчики услышали новую команду и солдаты, отставив в сторону лопаты, заходили возле огневой, заколготали — перекур. Вдруг от толпы отделились трое и направились к скирде. Ну, влипли! Попались! Будь что будет!..
Ребята втиснули головы в солому, замерли. Голоса приближались. Кто-то из солдат запиликал на губной гармошке. Другой что-то громко сказал, раздался смех. Гармошка смолкла.
Вот ребята услышали, как зашуршала солома. Ну, все, конец! Но шуршанье все продолжалось, а на скирде никто не появлялся. Солдаты, надергав соломы, пошли с охапками обратно. Ребята потихонечку выглянули из своего укрытия. Гитлеровцы, раструсив солому, уселись и принялись за еду. Разведчикам видно было, как они открывают консервные банки, режут крошечные буханки, тщательно намазывая хлебные ломтики маслом. Тоже захотелось есть, засосало под ложечкой. Но какая тут может быть еда!..
Солнце поднималось все выше, здорово припекало. Говорить боялись — вдруг услышат. Время словно остановилось…
Наконец гитлеровцы закончили работу. Сложили в бронетранспортер лопаты, сели в него и уехали. Разведчики вздохнули свободнее. Они достали из карманов хлеб, сало и с аппетитом поели. Нестерпимо захотелось пить, но надо было терпеть до сумерек. А пока еще солнце только-только закатилось за горизонт. Чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей о воде, стали рассказывать друг другу интересные истории из своей жизни. Мишка поведал о том, как он чуть было не угодил в лапы фашистских карателей в Хомутовском лесу, как корректировал с церковной колокольни огонь наших батарей при освобождении Казачьего, Потом настала Ленькина очередь рассказывать.
— К нам немец пришел в декабре, — начал он. — В то время по полям столько бродило беспризорных лошадей! Мы ловили их и приводили домой.
— И мы ловили в поле лошадей, колхоз не успел угнать в тыл, — вставил Мишка.
— У меня, помню, была такая шустрая кобылка, — продолжал Ленька. — Я и сани с колхозного двора приволок. Папашка у меня с первых дней — на фронте, так я за него был в семье. Приходилось ездить и за сеном и за топкой, лесов у нас нет почти — годной соломой да навозом топим. И вот однажды, когда в селе уже были немцы, подъехал я к копнам, а в поле — ветер, продрог весь. Гляжу, а за копной боец наш лежит. Подрылся под солому и лежит себе. «Ты чего, дяденька?» — спрашиваю. «Ранен я», — отвечает, а сам весь серый с лица-то. Ну я его кое-как на сани, соломой сверху завалил и домой. Еду по проулку, навстречу патруль. Ну, думаю, крышка! «Хальт!» — приказывают. Остановился я. Обошли они вокруг воза, автоматами в него раза три поныряли и велят, чтоб я вез солому к школе — они там казарму себе устроили. Я как заревлю: матка, говорю, у меня больная, а в хате холодно, не забирайте, мол, солому! Потараторили они меж собой и отпустили. Приехал я к дому, сам не свой от страху, посбросал солому с саней, а бойца скорее на чердак. Тулуп ему папашкин туда закинул… Ох и натерпелся я тогда жути!..
— Ну и что же дальше? — нетерпеливо заторопил Мишка.
— Поджила у него нога и как-то ночью слез он с чердака и говорит: «Спасибо вам» — это мне и матери, она его и кормила тайком и рану перевязывала. «Пойду, — говорит, — в лес, может, к нашим пробьюсь, а, может, к партизанам пристану». И ушел. Пробился ли, не знаю…
Ленька умолк. Каждый думал о своем. Потом Мишка нарушил молчание: — Лень, а почему твое село зовется Русским Бродом? Наверно, это никто не знает.
— Ну почему ж никто! Я знаю, нам учитель сказывал. Это еще когда ордынцы на нас нападали из степей, тут бой с ними страшный приключился. Они хотели обойти наших с тыла, а река Любовша возьми да помешай им: берега у нее гиблые, болотистые, коням не пройти. И был поблизости только один брод. Враги-то и захотели тут пробраться и всем войском навалились. А наша дружина как стала на их пути — дубок к дубку — и ни с места. Много наши воины порубили степняков, но и самих немало полегло от их стрел и мечей. Вода, сказывают, в реке была красной от крови. Лезли, лезли враги, так и не пробили себе пути к броду. Перешли они потом Любовшу где-то дальше. Тот брод и сейчас Татарским зовется. А наши-то поднакопили силы, сами зашли с тыла да как вдарят по врагам — в щебенку разнесли! С той поры и зовут наше село Русским Бродом. Понял?
— Понял.
— Вот увидишь, и фашиста скоро потурим с нашей земли, русской она была, русской и век будет.
…Сумерки сгущались. К скирде неслышно подлетела какая-то большая птица, хотела было сесть, но тут же, суматошно захлопав крыльями, взлетела и канула во мгле. Немецкие траншей безмолвствовали. Изредка лишь ракета вспарывала темень и вскоре гасла, отчего сумерки становились еще гуще.
— Запомнил, где хутор? — спросил Мишка друга.
— Почему ж не запомнить — вон там.
— Ну пойдем. Пора!
Ребята съехали по боку скирды на землю и, обрадовавшись, что можно, наконец, размять затекшие ноги, направились в сторону невидимого во тьме хутора. Курс был взят безошибочный: через час юные разведчики уже подходили к одиноко стоявшей хате.
— Побудь здесь, я схожу один, — приказал Мишка.
Потихоньку подкравшись к окну, он притаился, вслушиваясь. Ни звука. Стукнул в косяк — в хате кто-то завозился, через минуту хлопнула дверь и на пороге появился человек. Приглядевшись, Мишка определил, что это была старуха.
— Кто тут? — прозвучал ее строгий голос.
Мишка оторвался от стены, подошел ближе.
— Свои мы, бабушка. Немцев нет?
— Нету. Старый у меня сыпняком болен — боятся они приходить. А ты кто такой? — спросила старуха и, увидев еще подходившего Леньку, добавила: —Да ты тут не один!
— Свои мы, свои, говорю. Ты, бабушка, не бойся.
— Мне, касатик, бояться-то нечего. Вот вы бы поостереглись, чай, кругом они, анчихристы! И куда ж вы теперь?
— Нам бы переночевать, бабушка, а утром уйдем, — намекнул Мишка.
— Старик мой, сказываю, сыпняком хвор, прилипчивая она, болесь-то, вот что. Нельзя вас в хату… Уж если на чердак?
— Да нам хоть куда-нибудь до утра.
— Проходите.
Ребята живо шмыгнули в сенцы. Старуха повозилась в углу, нашла лестницу, придвинула ее к стене и сказала:
— Полезайте, там сено нащупаете.
Ребята мигом взобрались на чердак, нашли во тьме сено и привычно угнездились в нем. Уснули как убитые…
Глава четвертая
НЕУДАЧА
Сквозь сон Мишка услышал, как в сенцах скрежетнула лестница, потом зашуршало у ног сено и раздался голос старухи:
— Эй, вояки, просыпайтесь! Хватит вам дрыхнуть!
Мишка толкнул локтем друга. Тот вскочил, как ужаленный:
— Что? Что? Где мы?..
— Ты чего испужался? Не чердаке мы, вот где. Вставать надо, бабка вон будит.
— A-а. Вставать так вставать, в чем дело. А мне страшный сон приснился. Будто немец, тот из риги, за нами гонится и никак поймать не может. А нам все никак от него не скрыться… Уф, хорошо, что проснулся!
В два счета сползли с чердака, отряхнули с себя сено.
— Ну, бабушка, мы пошли.
— Погодите, — сказала та. — Возьмите вот пышку, разломите на двоих.
И протянула лепешку, темную-претемную, из прелой картошки.
— Спасибо, — поблагодарили ребята.
— Ох, глядите, сцапают вас по дороге! Большаком то и дело мотоциклы да машины ихние ездиют, — засокрушалась старуха.
— Ничего, как-нибудь прошмыгнем, — ответил Мишка. — Нам бы в Крутец пробраться, а там…
— Да уж чую… До Крутца-то оно не мудрено дойти, но там ведь немец на немце, схватят вас. А после Крутца пойдут деревня за деревней — там легше вам будет, тутошние, мол, мы, деревенские.
— Как нам до этого Крутца-то дойти?
Старуха помолчала немного, потом сказала:
— Пойдемте со мной в закуту, берите козу и ступайте с нею прямо до самого Крутца. Скажете, козу свою искали в лесу, вот ведем. А как перейдете большак козу-то и отпустите — сама домой дорогу сыщет.
— Ну, бабушка, у тебя и голова! Вон как здорово придумала! А козу мы отпустим, на что она нам дальше нужна.
Старуха покопалась за рундуком, достала поводок и подала Мишке: — Идите с богом!
Ребята пришли в закуту, набросили на шею белой косматой козе поводок и вывели свою новую спутницу на стежку.
— Вы только прутинкой у ней перед глазами не махайте — не любит она, сразу брухаться лезет, — посоветовала старуха.
— Хорошо, бабушка!
…Тропка вилась по мокрому от росы лугу, вела к большаку, который угадывался впереди по доносившемуся надсадному гуду машин. Солнце уже успело оторваться от земли и его лучи подсушивали траву — от луга шел пар.
— Миш, а Миш! Давай съедим пышку, — предложил Ленька.
Тот молча достал из кармана лепешку, разломил пополам и протянул половинку другу. Мишка отломил кусочек и протянул козе, та без церемонии цапнула его и зажевала, потрясывая бородкой.
Пройдя густой лозняк, ребята увидели перед собой большак, а за ним в полуверсте селение. Крутец. По большаку временами проезжали, порыкивая на ухабах грузовики и мотоциклы.
Разведчики, с часто бьющимися сердцами, подошли к большаку: удастся ли пересечь его незамеченными?
Когда перепрыгивали кювет, волоча за собой козу, дорога была пуста. Ребята уже не шли, а бежали. Вот и большак за спиной! Кювет с противоположной стороны перелетели с поистине козьей прыткостью. Кажется, везет!
И вдруг позади раздался треск мотоцикла. Разведчики невольно обернулись и сердчишки их ёкнули: мотоцикл с коляской свернул к обочине и остановился. Из коляски выпрыгнул немец, со шмайсером на груди:
— Киндер! Киндер! Комм! Комм! Шюда!
И стал ждать, раскорячив ноги в коротких, словно обрезанных, сапогах.
Ребята, побледнев, поволокли козу обратно к дороге. Коза заблеяла, вырываясь из Ленькиных рук.
— Ну куда ты, паразитка! Замучила совсем! И как только тебя волки в лесу не слопали, проклятую! Пошла, пошла!..
Но коза решила до конца проявить свой норовистый характер, она мотала рогатой головой, упиралась ногами, стараясь вырвать поводок. И Ленька, размазывая свободной рукой слезы по щекам, захныкал:
— Пан солдат, отпустите нас! Мы козу свою искали, в лес убежала, насилушки нашли ее, заразу… Отпустите, пан солдат!
— Пук-пук коза! Пук-пук, погибель! — и немец взялся за автомат.
— Не убивайте козу! У нас семья большая! Где мы тогда молока возьмем!
— Млеко — гут! Карашо!..
Солдаты опять поговорили между собой. Тот, что стоял у обочины, повернулся и пошел к мотоциклу. Сел в коляску, и мотоцикл, стрельнув вонючим дымом, помчался по большаку…
Ребята облегченно вздохнули. Не теряя времени, они побежали напрямки к селу. В горячке забыли и про бабкин наказ — вернуть козу.
К окраинным домам подбежали! запыхавшиеся и взмокшие. На их счастье, на этой околице села немцев не оказалось, и ребята беспрепятственно прошли по огородной меже к самым домам. Во дворе одного из них встретился древний старик: он стоял на коленках у колоды и рубил хворост.
— Вы откель такие? — увидев перед собой незнакомых мальчишек, да еще с козой, спросил он.
— Из… Из Моногарова мы, дедушка, — ответил Ленька.
— Из Моногарова? А чего ж вы отселева топаете? Моногарово-то совсем в иную сторону будет.
— А мы тут… в обход… заходили тут, большаком, — заливал Ленька. — Немцев у вас много?
— На что они тебе немцы-то сдались?
— Да вот боимся, как бы они козу не отняли.
— И отнимут, как пить дать, отнимут. Они, пралич их расшиби, совсем, меня-то, старика, замучили — вари да вари им картохи в мундирах. Всю, почесть, из погреба вытаскали, на семена не осталось.
— А вы бы их спрятали, картохи-то, они бы и не нашли, — посоветовал Мишка.
— Спрячешь от них, как же! Везде сыщут. Да бес с ними, с семенами, сажать-то ишшо не придется.
— Придется, дедушка, придется! — встрял в разговор Ленька. — Скоро и отсюда выгонят фашиста. Попомните мое слово!
— Дал бы бог! Дал бы бог! — заладил дед, и его маленькие глазки часто заморгали. — Оставили б козу у меня, ведь отберут, окаянные. Потом возьмете.
Ленька вопросительно взглянул на друга: ну, как, мол, оставим?
— Нет, — отрезал тот. — Мы с ней по Крутцу пройдем, а потом, как было сказано, вернем ее бабке.
— Ну ладно, — согласился Ленька с неожиданным планом. — До свиданья, дедушка!..
Ребята вышли на улицу и их глазам открылась невеселая картина. Домов через пять стояло на пригорке тяжелое орудие. Тут же солдаты выгружали из машины ящики. «Снаряды!» Пока разведчики подходили к этому месту, машина была разгружена и водитель стал выруливать на дорогу.
Ребята, робко двигаясь по обочине, поравнялись с орудием. Огромный хобот его был пригнут к земле, «Дуло, пожалуй, раза в три поболе нашей полковой пушки», — определил Мишка; ни о каких калибрах он пока еще не имел представления.
Если бы солдаты были заняты работой, может быть, и не обратили бы внимания на мальчишек с козой. Но сейчас они были без дела. Гитлеровцы все как один воззрились на необычную кавалькаду, начали дурашливо потешаться. Ребята продолжали идти, стараясь не глядеть на хохочущих солдат.
— Рус! Коза воеваль будет! — выкрикнул один из них. — Э-э! Хальт! Киндер!..
Разведчики продолжали идти, словно бы не понимая ничего. Тогда кричавший немец сорвался с пригорка и бросился наперерез:
— Хальт! Хальт! Стоять!..
Подбежав, он вырвал из Ленькиных рук поводок и потащил козу в обратную сторону.
— Пан солдат! Отдайте козу! — заплакал Ленька. — Пан! У нас семья большая! Киндер много. Где мы возьмем молока…
— Млеко! Млеко! — загорланили, не переставая смеяться, солдаты.
Гитлеровец, крепко держа поводок, что-то крикнул и вскоре один из солдат подбежал к нему и протянул котелок. Тот подсел на корточках к козе и взялся за соски. Струйки молока со звоном чиркнули по донышку котелка. И вдруг коза, вырвав поводок, проворно метнулась в сторону, развернулась и, наклонив голову, поддела обидчика рогами под тощий зад. Гитлеровец кувыркнулся на землю, котелок, громыхая, покатился с пригорка. Солдаты захохотали еще громче, хлопая себя по ляжкам.
Незадачливый солдат поднялся с земли и, придерживая рукой разорванные штаны, побежал в ближайшую хату. Коза кинулась было за ним, но у дверей остановилась и ждала, наклонив рогатую голову.
Гитлеровец прямо с порога дал очередь из шмайсера, и животное завалилось набок.
А ребята уже удирали во все лопатки вдоль улицы. Пробежав метров сто, они увидели переулочек и свернули в него. Заскочили в первую попавшуюся хату, не успев даже подумать, что и в ней могут оказаться фашисты.
На лавке сидел чумазый мальчишка и что-то мастерил.
— Дверь-то закройте за собой, — спокойно сказал он вбежавшим, — Это не по вам стреляли?
— Нет, — только и смогли сказать ребята! еле переводя дыхание.
Глава пятая
ДОПРОС
Под окнами оглушительно затрещал мотоцикл и вдруг смолк.
Мальчишка подскочил к окну: у дома стоял мотоцикл с коляской, а к крыльцу бежали двое солдат.
— Вас ищут! Спрячьтесь за печку!..
Мишка с Ленькой метнулись в темный закуток за русской печью, прижались к висевшему на стене тулупу, затаились.
С грохотом распахнулась дверь, и в хату ввалились гитлеровцы. Один из них подскочил к мальчишке, ухватил его за волосы и прорычал в лицо:
— Маленький швинья! Ты шпряталь два разведшик!..
— Найн, найн! Никого я не прятал!
Фашист молча с силой толкнул мальчишку, и тот, ударившись головой о железную грядушку кровати, упал на пол, зажав рукой затылок: меж пальцев проступила кровь…
Солдаты зашныряли по хате. Заглядывали в чулан, под кровать и на печь. За печкой обнаружили беглецов. В мгновенье ока они были вытащены на середину хаты. Гитлеровцы набросились на них с кулаками. Ребята не успевали увертываться. Наконец удары прекратились. Ребят, в том числе и мальчишку, повели на улицу. Втолкнули всех в коляску, и мотоцикл устремился по улице.
У того места, где стояло орудие, водитель остановился, и пленников, грубо вытащив из коляски, повели в хату. «Видимо, штаб», — подумали ребята. Но это был не штаб — здесь жил на постое командир расположенной в Крутце части. Толстый, с бабьим, одутловатым лицом и с глазами навыкате, он сидел на табурете и смотрел, как вталкивают в хату ребятишек, Те, остановившись на середине комнаты, уставились на него, словно загипнотизированные.
— Кто вас послал сюда? — проговорил наконец офицер.
И тут Ленька упал на колени и заблажил заученным тоном:
— Пан офицер! Отпустите нас! Мы козу свою в лесу искали — сбежала, проклятая… Отпустите! Дома сестренки маленькие, мать больная… Отпустите!..
— Вы — разведчики! — напирал на своем офицер.
— Нет, нет, пан офицер! Кто вам это сказал, тому в рожу плюньте… Мы козу искали…
Офицер, не поднимаясь, пролаял что-то стоявшему у дверного косяка солдату. Щелкнув каблуками и козырнув, солдат подскочил к пленникам, подтолкнул их к выходу.
И снова — грубый толчок в коляску, и мотоцикл, отфыркиваясь дымками, мчит их к окраине села. Ушибленные от недавних побоев места болели при подпрыгивании коляски на ухабах — ребята сидели, сцепив зубы. «Куда везут?..»
Мотоцикл миновал сельскую околицу, вылетел на большак, тянувшийся вдоль линии фронта, и понесся вперед.
— Запоминай все, что увидишь, — шепнул Мишка Леньке, а потом незнакомому мальчишке: — А ты подсказывай нам названия деревень…
Тот понимающе кивнул головой.
Влетели в соседнее селение.
— Моногарово, — шепнул мальчишка на ухо Мишке.
Ребята глядели по сторонам, примечая и запоминая, что надо. Вот врытые в землю танки — только башни С орудийными хоботами торчат, прикрытые зелеными ветками. Одна, две… пять… ого! — семь танков! А вон и склад боеприпасов, ишь как под дубняком спрятали — с самолета не увидать! Запомним! Мишка толкнул локтем друга, тот отозвался ему легким толчком.
Моногарово осталось позади. Снова помчались открытым полем. Большак то устремлялся в гору, то сбегал в низину, и когда мотоцикл взлетал на возвышенность, взгляду открывалась широкая панорама. Цепкий ребячий глаз фиксировал и прилепившуюся к опушке рощицы батарею противотанковых пушек, и длинные ряды траншей за огородами, и какие-то земляные сооружения— похоже, дзоты. Ребята чутьем угадывали, где наши позиции, и смотрели в ту сторону с таким чувством недосягаемости, что щемило сердце и хотелось заплакать…
С ходу проскочили еще один населенный пункт.
— Лутошино, — не забыл шепнуть своим друзьям по несчастью мальчишка.
И здесь было большое скопление немцев: по трем дымящимся походным кухням Мишка определил, что в деревне размещен по меньшей мере батальон.
Промчались и через Лутошино. «Куда ж это все-таки нас везут?»
Мотоцикл обогнал двигавшуюся по большаку колонну автомашин, груженных огромными ящиками — не иначе крупнокалиберные снаряды. Большак снова влетел на возвышенность, с которой, как на ладони, открылось большое село.
— Агарково это, — шепнул мальчишка.
Агарково тоже было забито солдатами. Стали попадаться легковые машины и множество мотоциклов. По всему было видно: здесь располагался штаб какого-то крупного соединения.
В центре села мотоцикл остановился. Водитель побежал к какому-то, похожему на школу, каменному зданию. Минут через пять вернулся, и мотоцикл снова помчал, завернув вскоре в боковой переулок. Проехав метров триста, остановился у деревянного амбара, возле которого топтался часовой. Пленников выволокли из коляски и втолкнули в амбар. Дверь, жалобно скрипнув, наглухо захлопнулась за ними…
Ребята слышали, как взревел мотоцикл и его тарахтенье стало удаляться. Оглядевшись, увидели в углу чью-то фигуру — кто-то сидел. Вздрогнули от испуга, попятились к двери.
— Не бойтесь меня, хлопцы! — прозвучал хриплый мужской голос. — Летчик я. Сбили, сволочи… не дотянул до своих…
Ребята побороли робость, подошли к говорившему. В амбарной полутьме разглядели его небритое лицо, разорванную гимнастерку и как-то неестественно согнутую ногу.
— Если б не ранило, ни за что не дался бы им… Всю ногу зенитным разворотило. Никуда я теперь… Крышка…
И человек то ли от отчаяния, то ли от боли заскрипел зубами, резко отвернулся к бревенчатой стене.
— Вам, может, что помочь, дяденька! — вконец осмелев, обратился Ленька.
Летчик снова повернул к ним страдальческое лицо, с трудом приподнял на вытянутых руках грузное тело, пододвинулся поближе к стене.
— Мне теперь ничем не помочь…
Только уселись ребята возле летчика, как снаружи загремел замок, и в амбар шагнул немец:
— Киндер! Айн, цвай, драй — все виходить! Шнель!
Ребята поднялись с пола и двинулись к двери…
Шли по улице, и ноги наливались свинцовой тяжестью — невеселые предчувствия овладели каждым…
Немец привел их к тому каменному зданию, возле которого останавливался мотоцикл и которое они назвали мысленно школой. Прошли длинным коридором: они — впереди, немец позади. У одной из дверей стоял часовой. Он распахнул ее, и ребята вошли в большой кабинет.
За столом сидел офицер и курил папиросу. А невдалеке, у окна, стоял другой, видно, что пониже рангом. Конвоир остался за дверью, а ребята, переступив порог, остановились, как вкопанные. Офицер что-то сказал тому, что у окна, и он, видимо, переводчик, обратился к пленникам:
— Господин штурмбаннфюрер интересуется, откуда вы и как попали в расположение наших войск?
— Пан офицер! Не виноваты мы ни в чем! Просто коза наша сбежала из дому в лес, и мы искали ее, заразу… Отпустите нас, пан офицер!
И Ленька заплакал, размазывая слезы по щекам.
Гитлеровцы помолчали с минуту. Штурмбаннфюрер снова сказал что-то, и переводчик обратился к ребятам:
— Господин штурмбаннфюрер сказал, что обязательно отпустит всех, если откровенно признаетесь, кто и с какими целями послал вас сюда. Мы верим, что вы ни в чем не виноваты. Ну?
Штурмбаннфюрер растянул на лице улыбку.
— Не верьте их словам! Не верьте! Они же фашисты!.. — не выдержал мальчишка.
Офицер перестал улыбаться и вопрошающе уставился на переводчика, который тотчас же перевел сказанное мальчиком.
Штурмбаннфюрер тяжело поднялся со стула. Не спеша подошел к пленникам, так же не торопясь вытащил из кобуры пистолет и рукоятью ударил мальчишку по голове. Тот, как подкошенный, рухнул на пол: под ноги ошеломленным ребятам потек алый ручеек крови…
Офицер спокойно всунул пистолет в кобуру и что-то зло пролаял переводчику.
— Вот что ждет и вас, если не скажете правду! — обратился переводчик к ребятам. Затем выскочил за дверь и крикнул — Курт!
Вошел тот же немец-конвоир и подтолкнул ребят автоматным прикладом к выходу.
Глава шестая
ПОБЕГ
Ребят снова втолкнули в амбар.
— А где же третий? — встревоженно спросил летчик, когда за ними захлопнулась дверь.
— Убили они его, — тяжело ответил Мишка.
Воцарилось молчание.
— Надо что-то делать, — сказал то ли ребятам, то ли себе летчик.
— Что делать? — почти одновременно спросили те.
— Бежать надо, хлопцы.
— Как?
— Вот я и говорю, надо что-то делать…
Долго совещались пленники, сгрудившись в углу сарая. План был разработан до мельчайших деталей.
Потом летчик достал из-за пазухи свернутую бумагу.
— Возьмите эту карту, тут нанесены огневые точки противника. Если повезет вам уйти отсюда, передайте ее поскорее в штаб. Перейдете ли вот только линию фронта…
Мишка взял из рук летчика карту и спрятал под рубаху.
— Хорошо, дяденька, мы обязательно сделаем!..
Поздним вечером, когда в густых сумерках перестали различаться дыры в крыше, ребята громко заколотили в дверь амбара:
— Пан солдат! Откройте! Пан солдат!..
Часовой крикнул из-за двери:
— Мольшать!
— Откройте же! — не унимались пленники. — Нам надо к пану офицеру, сказать хотим что-то!
Загрохотал отпираемый замок. Дверь распахнулась, и часовой заглянул в амбар:
— Виходи, киндер! Шнель!..
И тут же упал на земляной пол: летчик взмахнул обрубком вытащенного из стены бревна и с силой обрушил его на голову фашиста.
Мишка быстро снял с него автомат, закинул себе за спину.
— Бежим, дяденька! Мы вас потащим!
— Нет, хлопцы, я останусь тут. Куда мне с перебитыми ногами! А вы бегите! Пробирайтесь к нашим. Да карту не потеряйте…
— Никуда мы без вас не пойдем! — сказал он.
Мишка ощупал рубаху, под которой лежала карта.
— Я приказываю вам идти! — твердым, не допускающим возражения тоном отрезал летчик… — А вот автомат мне отдайте, вам он ни к чему, а я подороже отдам свою жизнь…
Ребята бросились к лежавшему летчику, прижались к нему, на глазах выступили слезы.
— Прощайте, дяденька! Мы все-все расскажем в штабе. Прощайте!..
— Прощайте, хлопчики! Будьте осторожнее…
И юные разведчики выскользнули из амбара.
Темень черной повязкой облепила глаза. Куда идти?
В памяти смутно возникла узкая дорожка, ведущая вдоль огородов к околице села. Двинулись по ней, держась за руки. Через несколько минут уперлись в плетень. Перелезать через него или нет? Перелезли, помогая друг другу. Пощупали под ногами — сырые прошлогодние грядки. Значит, огород. Пошли наугад, поперек грядок. Сообразили, что если идти вдоль них, то упрешься в чей-либо дом, а там обязательно немцы.
Снова уперлись в плетень, перемахнули и его. Ногами ощутили жесткую, сухую траву — значит, огороды кончились, околица. Но что впереди?
Опустились на землю, прислушались: ни звука. Хоть бы ракета что ль осветила! Хотя нет, зачем она — ведь рядом враги. Продолжали лежать, не зная, как быть дальше…
Вдруг впереди вспыхнул и зашарил по земле узкий снопик света. Фонарик! Одновременно возникли точки света и по бокам, метрах в ста от первой вспышки.
— Это, кажется, траншеи, — прошептал на ухо другу Мишка. — Друг друга подбадривают.
Поползли вдоль линии невидимых траншей. Долго ползли, взмокли от напряжения. Остановились, прислушались. Издали донесся гул моторов: шла колонна танков. Гул то приближался, то удалялся.
— Большак! — догадался Мишка.
Стало ясно, куда держать путь. Надо пересечь большак, а там рукой подать до наших позиций.
— Ну, поползли! — шепнул Мишка.
— Давай!
— Ты не очень-то дрейфь: немцы ночью боятся вылезать из окопов.
— А я и не дрейфлю…
Вот наконец и большак: догадались по кювету. Танковая колонна давно проехала, и сейчас здесь было тихо. Только было приготовились перебегать дорогу, как до слуха донеслись приглушенные голоса. Разведчики притаились. Немецкая речь звучала где-то рядом. Ребята осторожно двинулись ползком в том направлении. Наткнулись на земляной бугор. Разговор был слышен, как будто из-под земли. «Дзот!» Мишка тронул рукой друга, давая знак следовать за ним. Ящерицами юркнули обратно, к кювету. Большак перемахнули мигом. Пошагали прямиком по полю, утирая с лиц обильно катившийся пот. Где-то впереди должен быть лес, по которому они с Гнатом Байдебурой пробирались в тыл врага. Сколько же с тех пор прошло времени? Должно быть, много! Стали вспоминать, оказалось, не так уж много: один день они отлеживались на скирде. Ночевали на хуторе у старухи, потом — встреча с мотоциклистами на большаке, злополучная история с козой, плен, допрос, смерть мальчишки, побег — двух суток даже не прошло. А кажется, целая вечность! Значит, их еще не ждут наши разведчики. Только завтрашней ночью придут их встречать. Ну что ж, они сами доберутся. И не с пустыми руками!..
Мишка ощупал карту за пазухой — на месте. Не измять бы!
Долго шли ребята, выбились из сил, а леса все не было. Впереди забрезжила бледная полоска зари: значит, правильно идут, на восток.
— Миш, а что если мы не успеем засветло дойти до леса? Что будем делать? — забеспокоился Ленька.
— Должны успеть, он уж где-то недалеко…
— Я больше не могу… ногу растер, наверно, до крови…
— Кончай ныть! А то брошу, сиди тут один, жди фрицев! — пригрозил Мишка.
— Ну и иди! — сорвался Ленька. — Товарищ мне называется…
— Ну что ты разошелся, — помягчал Мишка. — Я ведь еще тебя не бросил. Крепись, Лень, верь мне — осталось немного…
Тот засопел от непрошедшей обиды, но шаг ускорил.
Было еще темно, а уже от полоски проклюнувшейся зари стали различать, что впереди. И вот показался спасительный лес. Собрав последние силенки, ребята почти бежали. Хоть лес был на ничейной полосе и опасность еще не миновала, ребята сознавали, что они уже почти дома.
Но лес был не ничейный: только вошли в него, как тут же услышали грозный окрик:
— Стой, кто идет?
Оказывается, наши, готовясь к наступлению, под прикрытием ночи продвинулись вперед и заняли лес.
— Стой, говорят! Стрелять буду! — еще более погрознел голос.
— Мы свои! Разведчики! — прокричал что было сил Мишка, а крика-то и не получилось.
Подошел к ним солдат с автоматом наизготовку.
— О, мальчишки! — удивился. — Вы откуда взялись?
— Свои мы, разведчики, — повторил Мишка.
— В штаб нас ведите, — вставил Ленька. — Мы оттуда, от немцев…
— От немце-ев! — еще больше удивился солдат. — Ну что ж, поверим. Топайте за мной.
У какой-то землянки приказал остановиться, а сам побежал по ступенькам. Вскоре появился, но не один, а с усатым офицером.
— Товарищ лейтенант, — не дожидаясь, пока офицер заговорит, обратился Мишка. — Рядовой Богданов, и вот мой друг Ленька, прибыли из разведки. Нужно поскорее в штаб, сведения имеем и карту.
— Хорошо, ребятки! — сказал тот и прижал их к своей груди. — Молодцы! Сейчас вас проводят в штаб полка…
В штабе ребята отдали карту летчика и попросили, в свою очередь, чистую карту, на которую нанесли по памяти огневые точки врага и места расположения его войск.
— Да вы знаете, какие ценные сведения доставили! — восхищенно сказал командир полка, ознакомившись с разрисованной ребятами картой. — От лица службы объявляю вам благодарность!
— Служим Советскому Союзу! — дружно, в один голос, ответили разведчики.
Глава седьмая
В ОТПУСК
Разведвзвод расположился в полуверсте от передней линии окопов, в кленовой лесопосадке. Она далеко тянулась по обеим сторонам разбитого большака и скрывала скопившиеся здесь разношерстные вспомогательные подразделения и полковой штаб.
Землянок не рыли, но окопы командир взвода Макаревич заставил разведчиков отрывать сразу же: враг может в любую минуту контратаковать. Да и от осколков они — одно спасение: до лесопосадки изредка долетали вражеские слепые, как их называли, снаряды. Слепые-то слепые, а жахают-то и разят осколками так, что только держись — не хуже прицельных.
Юные разведчики двое суток подряд отсыпались в прежней взводной землянке: нервное перенапряжение последних дней было так велико, что они все никак не могли прийти в форму.
— Вы, хлопци, не спешить, дрыхните, нимци от вас далеко не уйдуть, — по-отечески заботился о ребятах приставленный к ним Гнат Байдебура.
— Да стыдно, товарищ сержант, все воюют, а мы тут валяемся.
— Стыдно, у кого видно, — шутил тот. — Почивайте на здоровьечко, ще навоюетесь! Вот я вам сейчас расскажу, як со мною через той самый сон приключилась чудасия. В начале войны нашу часть готовили к отправке на фронт и так муштрувалы, что на нас ледь штани держались: днем — учения до седьмого пота, а ночью — в караул. Это шоб по-суворовски: тяжело в ученьи, легко в бою. Есть так не хотили, як спаты. Раз назначили мени в караул, продовольственный склад охоронять, помню, под утро то було. Хожу я и не можу со сном совладаты. Так я приноровився — поки иду до ворит, минуту, две на ходу посплю, упрусь лбом в ворота, поворачиваюсь и знов сплю до склада. А разводящий подследил да и открыл ворота. Я и попер за ворота и дали. Чую сквозь сон — шо це не те, не стукаюсь лбом о ворота, а проснуться никак не можу. Иду соби, хай мени грець, тай ще хропака задаю. А разводящий як гаркнеть нади мною, я аж присив от переляку. От так влип! Пять суток гауптвахты, — говорит разводящий. А я и рад тому: хочь, думаю, высплюсь. Но тут не повезло мени: в той же день часть подняли по тревоге и — на фронт. Так доси и ни як не высплюсь. Ну ничого, вот хриця прогоним — тоди уж отоспимось! Ох и отоспимось!..
На третьи сутки в землянку вошел приехавший на открытом «додже» посыльный из штаба и передал распоряжение: разведчикам явиться к командиру полка. Явиться так явиться. Много ли времени надо солдату на сборы: обулся, подпоясался, пятерней причесался и — готов!
Едут себе трое разведчиков по раскисшей полевой дороге и беззаботно глазеют по сторонам, перелесками да полями любуются. «Додж» изрядно потрепанный по военному бездорожью, пофыркивает на рытвинах, потрясывает седоков, не дает им размечтаться. По обочинам виднелись оставленные немцами траншеи и дзоты, на брустверах валялись распухшие на солнце вражеские трупы, кое-где — автоматы, а то и пулеметы: видно, еще тут не прошла трофейная команда.
— Ну, як там, на позыции? — интересуется Байдебура у водителя. Тот, не поворачивая головы, бросает:
— Застряли.
Сержант тоже замолкает, не желая портить себе хорошее расположение духа неприятным разговором. Застряли— это значит для разведчиков по горло работы: иди за «языком» или прощупывай слабые места во вражеской обороне. О-хо-хо! Ладно, не привыкать.
…Комполка встретил разведчиков у штабного НП, оборудованного на поросшей дубняком высотке.
— А ну, дайте-ка я вас обниму, ребятки! — сказал он и привлек Мишку и Леньку к широкой груди. — Молодцы! Благодаря вашим разведданным мы вон как потеснили противника! Спасибо!
И еще раз прижал разведчиков к себе.
— Мы тут подумали и решили отпустить вас на недельку домой: силенок там поднаберетесь, с родными повидаетесь.
Все, что угодно ожидали услышать ребята, но чтобы отпуск!..
— Товарищ командир, да как же… — начал было Мишка.
— Только не возражать. Я знаю, что вы сейчас скажете, мол, все воюют, а мы… Сержант, снабдите их сухим пайком на дорогу и помогите им отправиться домой. Счастливой вам дороги, хлопцы!
— Слухаюсь! — отчеканил Байдебура.
Получили Мишка с Ленькой сухарей и консервов, сложили провиант в вещмешки, простились с разведчиками и направились в том же «додже» к большаку. Едут себе два юных солдата, — Леньку тоже по возвращении из разведки обмундировали, — домой, оба честно заслужили этот краткий и неожиданный для них отпуск. Шофер подкинул их до большака, ведущего в Елец, и, оставив их, тронул в обратный путь, пожелав им попутного ветра. Тут уж не сложно было уехать: в обе стороны двигались «студебеккеры» и «форды», с полуторками вперемежку: на восток — с ранеными, на запад — с боеприпасами и живой силой.
«Проголосовали» перед одной колонной автомашин. Передний «форд» затормозил и остановился. Шофер, усатый солдат, на вопрос: «Куда?» — бросил: «В Елец» — и кивком головы указал на кузов, мол, полезайте, если по пути. Ребята сноровисто вскарабкались в крытый брезентом уютный кузов. Он был наполовину заставлен пустыми ящиками из-под снарядов: ясно, ехали за очередной партией боеприпасов. Машина тронулась, ребят начало потряхивать, и они, подстелив под себя какую-то стеганую попону, видно, зимою мотор ею укрывают, плотно прижались друг к дружке на ящиках и стали подремывать. Вскоре их окончательно укачало — глаза не было сил разлепить…
Очнулись они от сильного толчка: машина шла по совершенно разбитой дороге. Недоуменно уставились друг на друга: сколько же проехали и где находятся?
— Мне же в Русский Брод! Не проехать бы! — всполошился Ленька.
Вместо ответа Мишка поспешно вскарабкался по ящикам к кабине. Замолотил по заднему стеклу. «Форд» резко остановился, и Мишка больно ушиб плечо о железную стойку кузова, а Ленька во весь рост растянулся на ящиках.
В кузов заглянул встревоженный шофер:
— Ну, чего там?
— Мне в Русский Брод! Не проехали еще? — поднимаясь с ящиков, спросил Ленька.
— Вона хватился! Мы уж к Ливнам подъезжаем.
— Проехали? Что же мне делать?
— Да начихай ты на все, поедем со мной в Казачье! — встрял Мишка. — Подумаешь, не все равно, где неделю поживешь. Поедем, а?
— Ну, быстрей решайте, а то колонна стоит! — поторопил водитель.
— А, в Казачье, так в Казачье! Едем! — махнул рукою Ленька.
— В Казачьем остановитесь, дяденька, — попросил Мишка. Водитель молча скрылся, хлопнула дверца кабины, взревел мотор, и машина двинулась дальше…
До Казачьего было еще верст семь, а Мишка уже с часто бьющимся сердцем, с волнением угадывал по только ему известным приметам родные места. Вот поплыли за бортом беленые хаты и беленые известкой же яблони села Афанасьева. Вон та школа, где он со своими дружками — Петькой и Семкой с трепетом ждал появления командира, чтобы тот взял их в свою часть. Не вышло тогда. Теперь уже он не новичок в армии, вон уж и медаль на гимнастерке. Только вот Петька с Семкой… Эх, ребята, ребята!..
А машина накручивала и накручивала на колеса шоссейные версты, за бортом мелькали знакомые Мишке лесопосадки, железнодорожный переезд, а в версте от большака затемнела опушка Хомутовского леса. Словно бы целую вечность не был тут Мишка, как же соскучился он по этому лесу, по Казачьему!..
— Не проедем? — забеспокоился Ленька, взглядывая на притихшего друга.
— Ну что ты!
Вот и Казачье. Машина накренилась вперед: тут дорога шла под уклон, сбегая к Ворголу. У моста водитель остановился, и ребята живо попрыгали на землю, держа за лямки вещмешки.
— Спасибо, вам, дяденька!
Автомашины двинулись дальше, а ребята, так и держа вещмешки на весу, пошагали вниз, к самому берегу реки, где петляла по лознику стежка.
— Вот увидишь, какое наше Казачье красивое! — захлебываясь от переполнявшей его радости и толкая Леньку в бок, говорил Мишка.
— А наш Русский Брод, думаешь, хуже! — несколько обиженный отозвался тот.
Мишка понимающе умолк, сдерживая распиравший грудь восторг.
Перескочили по камням звонко журчавший на быстринке ручеек.
— Гаточка! — пояснил на ходу Мишка.
— Понятно.
— О-с! Ты еще не то увидишь! — опять начал было Мишка, но тут же прикусил язык, боясь задеть самолюбие друга…
Ребята тем временем вышли из лозника, и их взору открылась сельская улица: дома, кое-где без крыш, стояли и так и сяк — не по порядку.
— Вон там мой дом, — указал рукой Мишка и тут же поправился. — Был мой дом, сейчас его нет — снарядом разбило… Да я тебе рассказывал…
На ближайшем огороде, за прутяным плетнем стояла какая-то женщина. Вот она заметила идущих по лугу, поднесла козырьком ладонь к глазам и стала вглядываться.
— Мама-а! — в нетерпенье крикнул Мишка и, забыв о друге, побежал к огороду.
— Сынок! Сыночек мой! — подойдя к плетню, запричитала мать, раскрывая навстречу сыну объятья.
Глава восьмая
ВАЛЁК ОТКРЫВАЕТ ТАЙНУ
Сколько раз, бывало, на фронте вспоминал Мишка мать! Виделась она ему всегда в вечных хлопотах и в делах то по дому, то по огороду, а то спешащей на колхозный луг, с граблями на плече и с привязанным к ним мешочком с харчами. И ни разу не вспомнилась она праздной, потому что никогда ее без работы не видел. И еще думалось ему там, на передовой, что вернется он с войны, попросит ее присесть на коник, сам подсядет к ней, притулит голову, и будут они говорить, говорить— не наговорятся, наверное.
А вот пришел он домой и говорить с матерью вроде бы и не о чем. Хотел было рассказать ей о боевых друзьях разведчиках, о последней вылазке в тыл врага, но только подумал о том, как мысленно спросил себя: ну а зачем? Ты же не какой-то там похвальбишка, а солдат! И на вопрос матери: «Ну, как ты, сынок, воевал-то там? Не страшно?» — Мишка лишь коротко ответил: «Ну, скажешь еще, страшно…»
Жила мать после возвращения с окопов у тетки Феклы, Семкиной матери, но не в самой хате, а в небольшой, в одно окно, горенке через сенцы. Ранней весной, когда было холодно и сыро, в горенке топилась печь-времянка, вмазанный в кирпичную кладку, перевернутый кверху донышком чугунок, с выведенной в окно жестяной трубой. Сейчас же этой времянки не было и на ее место в углу поставили дощатый топчан, настлали на него соломы, и Мишка с Ленькой спали на нем, укрываясь на ночь одним грубошерстным одеялом.
В первый же день Мишка, паря, как на крыльях, от радости свидания с родным Казачьим, показал другу все свои любимые места — и Кукуевскую мельницу, с развороченной снарядом бревенчатой стеной, и Воргол, все такой же спокойный и величавый, и Большой верх, по которому он когда-то уходил в лес, в партизанский отряд. Здесь, на озаренном солнцем склоне Большого верха, Мишка нарвал прошлогоднего чабреца. Низкорослая, невзрачная травка с маленькими розоватыми цветочками была ему дороже всех ярких цветов земли. От нее веяло тихим сдержанно-терпким и до слез волнующим запахом, что невольно сжималось мальчишечье сердчишко и к горлу подступал горький комок. Это был неувядаемый и незабываемый нигде и никогда запах родины. Стоит только раз вдохнуть его и пред тобой встанут и прямые дымки из печных труб родного села, и поросшие запыленным подорожником тележные колеи проселочной Кирюхиной дороги, ведущей в Хомутовский лес, и послышится, как наяву, грустная и светлая песнь иволги в лознике, вперемежку с тягучим скрипом колодезного журавля. До ухода на фронт Мишка не тек обостренно чувствовал родину, он даже ни разу не задумывался над этим словом. Впервые к нему пришло раздумье о родине, тревога за нее перед первым боем у Русского Брода. Ему подумалось тогда, до дрожи в теле, что вдруг не выдюжат наши, и снова покатится вражеская серо-зеленая, как саранча, волна по земле к его Казачьему, вытаптывая и испепеляя на своем пути все живое. Сейчас он может себе признаться, что глядел тогда на остервенело рвущихся фашистов со страхом — вон их сколько! Но позже, когда сам взялся за пулеметную ленту и стал подправлять ее, нетерпеливо бегущую из рук, страх как будто выдуло студеным ветром. На смену ему пришла злость и неведомая доселе удаль: да разве же одолеть кому таких вот людей, как рядом лежащий за пулеметом Гнат Байдебура!..
— Миш, а Миш! Ты знаешь, о чем я сейчас подумал? — вывел Мишку из раздумья Ленька.
— А? Чего ты?..
— Мысль тут одна пришла в голову. Знаешь, какая?
— Ну?
— Зима придет, где вы будете жить? Ведь у вас своего дома нету.
Мишка ничего не ответил. Ленька неожиданным житейским вопросом как будто спустил его с высоких небес.
— Ну что молчишь? Где жить-то будешь?
— Так я ж опять на фронт…
— А мать?
Мишка опять приумолк: да, друг верно говорит! Не век же матери у соседей околачиваться… А Ленька уже новую мысль додумал:
— Давай ей землянку выроем!
— А что, и правда.
Бригадирка Лукерья Стребкова, узнав о намерении ребят заняться строительством жилья, послала к ним на помощь Веньку с Вальком и Дышку. Не утерпел, пришел сюда и Семка. Шестеро — это уже сила!
Вооружившись трофейными штыковыми лопатами, острыми и удобными, с закругленными на концах ручками, ребята начертили неподалеку от расщепленной взрывной волной груши-тонковетки четырехугольник и начали рыть землю. Работа спорилась. К полудню углубились на пять штыков лопаты. Этак еще пару-тройку деньков и все будет готово, останется лишь крыша. Но и мозоли не задолжили появиться на ладонях — они саднили, мешали копать в полную силу. И Мишка подал команду заканчивать. Воткнули в свежевырытую землю лопаты.
— А у нас, в Русском Броде, дом сохранился, хотя бой был что надо, — подал голос Ленька. — Помнишь, Миш, какой был бой?
— Еще бы!
— А помнишь, как мы с тобой немца из риги турнули? Ну и удирал же он! Но ты его мощнецки тогда срезал! Правда, и он, зараза, мне на всю жизнь зарубку сделал. — И Ленька, завернув штанину, показал пулевую отметину на икре. — Во как!..
— Да-а! — восхищенно отозвался Венька, втайне завидуя, что этому пареньку и Мишке посчастливилось быть в настоящем сражении. А тут только коровам хвосты крути! Везет же людям!
— Жря я иж Жалегощи вакуировалши, может, и мне бы пришлошь повоевать, — мечтательно изрек Дышка. Молчал только Валек Дыня.
— Валь! А ты чего это смурной такой? — спросил Мишка. — Дома что случилось? Или какую тайну хранишь?
Валек уткнул глаза в землю и продолжал молчать, думая о чем-то своем. Потом взглянул на друзей и тихо сказал:
— Вчера вышел я ночью на двор, сходил к плетню и только было хотел идти обратно в хату, глядь, а в амбаре, знаете, он у нас за гумном, будто кто фонарем засветил, в дверные щели свет-то виден. Погорел немного и погас. Я думал, мать зачем-то туда ходила, посмотрел, а она спит…
— Вот это да-а! — почти в один голос удивились ребята. — Кто бы это мог быть?
— А может, это тебе шпрошонок привиделошь? — заметил Витек.
— Что я тебе лунатик! — обиделся Дыня.
Решили: сегодня же вечером покараулить в саду, последить за амбаром.
После ужина ребята осторожно прокрались в Валькин сад и, расстелив на земле пиджачки, улеглись на виду у амбара. Переговаривались только вполголоса.
— А может, здесь, как тогда на мельнице, опять шпионы?! — предположил Мишка.
— Ну откуда теперь им взяться, фронт-то вон куда ушел! — отмел это предположение Венька.
— Нешиштая шила, видать, пошелилашь, вот што! — подкинул Витек.
— Сам ты — нешиштая шила! — передразнил его Венька.
Витек Дышка засопел от обиды и больно толкнул Веньку локтем в бок.
— Ну ты, сморчок выковыренный! Что руки распускаешь! Смотри, получишь, — вскинулся тот, но драться не стал.
— Перестаньте сейчас же! — приказал на правах старшего Мишка. — Боевую операцию хотите сорвать?
Притихли. Невольно уставились на темнеющий невдалеке деревянный амбар. В безлунном небе дрожала крупная звезда. Она была так близко, что казалось — кто-то подвесил ее на ниточке, чтобы не так тоскливо и угрюмо было на ночной безмолвной земле. Она светила, как надежда на лучшие дни, на возврат прежнего веселого времени, когда в такую же вечернюю пору по всему селу разливались голосистые гармошки, а парни с девчатами пели «страданье». Сейчас же село словно вымерло. Где, на каких фронтах воюют те парни? Хранит ли их вдали от родного Казачьего вот эта звезда надежды?
Первым уснул Витек Дышка. Уткнув лицо в подогнутые колени, он сладко засопел, и ребятам не захотелось его будить.
— Ушнул друг любежный! — сострил Венька.
А вскоре и его потяжелевшая голова приникла к траве и больше не поднималась. Через какое-то время ребята, умаянные дневной работой, спали, привалившись друг к дружке.
Разбудило их выкатившееся из-за косогора солнце. Уставившись друг на друга, не удержались от смеха: на помятых лицах от длительного лежания на жестких былинках пырея остались диковинные узоры.
— Как в ширковых машках, хоть на выштавку! — залился хохотом Дышка.
— Нечего сказать, выполнили боевое задание… — ухмыльнулся недовольный Мишка. — Ну, вояки, по домам!
Глава девятая
НОЧНАЯ СХВАТКА
— И охота вам дурью маяться! Кому-то что-то почудилось, а они уж сразу — шпионы!.. Тебя командиры зачем отпустили? Отдыхать. А ты что?..
Мишкина мать варит завтрак, готовясь идти на работу. Бригада возила в поле навоз от коровника. Бригадирка попросила и ребят отложить на время рытье землянки и помочь женщинам.
Распределились по два человека на подводу. Запрягли коров, женщины вилами нагрузили телеги слежавшимся перегноем, и ребята выехали со двора. Мишка с Ленькой ехали на первой подводе. Венька с Семкой, которым досталась медлительная Домнухина корова, начали сразу же отставать, и друзьям пришлось их дожидаться.
— А ты ей, Вень, шештую шкорошть вклюши! — не преминул поддразнить Дышка, ехавший на третьей подводе.
— Ладно там, развякался! Посмотрим, кто обратно с возом быстрее поедет!
— Да уж ты швой паровож ражкочегаришь — не угонимши! — не унимался Витек.
Так с шутками и доехали до Прогона. Здесь их уже ждали колхозницы. Взяв вилы, они мигом разгрузили возы. На сей раз впереди ехали Венька с Семкой. Дорога вела под изволок, и Домнухина корова шла споро, чуя, что идет домой. И Мишка с Ленькой вскоре заметно отстали.
— Ну что, кролики! На буксир что ль взять? — потешался Венька.
— На буксир? Ни за что! Поглядим еще, кто кого! — крикнул Мишка и дернул за вожжи. Коровенка обиженно помотала рогатой головой, но ход прибавила. Венька с Семкой, как ни понукали свою корову, снова оказались позади…
Над селом опустился вечер. Ребята, несмотря на дневную усталость, опять собрались все в Валькином саду. Но только на пырей уже пиджачков не стлали и не ложились. Венька принес с собой отцовскую двустволку, сохраненную матерью на чердаке, он еще днем зарядил ее — патроны тоже оказались в целости и сохранности.
— Сегодня не спать никому! — строго приказал Мишка. — И не разговаривать.
Сидели молча, глядя то на амбар, то на небо, на вчерашнюю звезду.
Каждый думал о своем. Мишка вспомнил отца, довоенное лето, когда они косили в лесу. Это было, пожалуй, самое яркое воспоминание, и к нему он часто возвращался. Отец тогда впервые сказал ему, что человек рождается на земле для того, чтобы работать весь свой век, и судят о нем люди по тому, как он относится к работе. Человек может быть и молчаливым и несимпатичным с виду, но если он трудолюбив, то все это не замечается. Того же, кто и красив с лица и красноречив, но сторонится работы, бежит от нее, как черт от ладана, в народе не то чтобы не любят — презирают, не считают за человека. «У нас в роду не было белоручек!» — с гордостью говаривал отец. У него самого с рук не сходили мозоли. Руки у отца были жестче коры дуба, но когда он брал за плечи Мишку и, прижимая к груди, ласково гладил по голове, не было ничего мягче его рук.
— Гляди, гляди! Швет! — зашептал, толкнув Мишку в бок, Витек Дышка.
Мишка глянул на амбар: щели в двери изнутри осветились таинственным, жутким светом…
Ребята сидели, не шелохнувшись, словно завороженные загадочным видением в ночи. Что бы это значило? Кто там?..
— Ну что будем делать? — вполголоса спросил Мишка у настороженных ребят.
— Шами не жнаем, — ответил Витек.
— Давайте подкрадемся к амбару и крикнем: «Сдавайся!» — предложил Венька.
— Так тебе он и сдался, держи карман шире! — возразил Ленька.
Валек молчал, словно бы предчувствуя что-то недоброе для себя.
— Вот что! — решительно сказал Венька. — Я слежу за дверью, а вы осторожно заходите с обеих сторон амбара и бейте по стенам камнями.
Ребята живо шмыгнули во тьму. Через минуту раздались частые глухие стуки: камни замолотили по бревенчатым стенам. И вдруг тишину ночи вспорола приглушенная стенами длинная очередь автомата. Венька, не заботясь об осторожности, бросился вперед. Мгновенно распахнулась амбарная дверь и из нее рванулась человеческая фигура. Венька нажал на спусковые крючки и полохнул из обоих стволов по метнувшейся тени. Кто-то тяжело рухнул на землю и захрипел.
Валек мигом выдернул из стрехи амбара пучок соломы и зажег его. Темнота раздвинулась, и огонь осветил навзничь лежащего у стены человека, с немецким автоматом, зажатым в скрюченных пальцах. Он уже был мертв.
— Пашка! — вскрикнул Валек: он узнал в убитом старшего брата.
И тут же из-за амбара раздался отчаянный ребячий крик:
— Скорей сюда: Ленька убит!..
Валек метнулся туда и зажег еще один пучок соломы. На траве, разбросав руки, лежал окровавленный Ленька. Пуля настигла его бегущим, он так и распластался, словно птица в неожиданно прерванном полете.
Ребята оцепенели от горя, а Венька в ярости и бессилии сжал цевье ненужной уже двустволки…
На другой день Леньку хоронили на сельской площади, рядом с братской могилой воинов-освободителей.
Когда все молча разошлись по домам, Мишка один остался у свежего холмика. Он положил на могилу пучок чабреца, недавно собранный вместе с Ленькой в поле…
Глава десятая
СНОВА НА ФРОНТЕ
— Товарищ командир! Рядовой Богданов прибыл из отпуска! — доложил Мишка, явившись в полковой штаб. Комполка встал из-за дощатого стола, бросив на расстеленную карту карандаш.
— Прибыл, говоришь? Это хорошо, что прибыл. Значит, будем дальше воевать. Да, а ты почему один? Где же твой товарищ?
Мишка потупил взгляд и сказал тихо:
— Убили его, товарищ командир, в нашем Казачьем… Нету больше Леньки…
И он поведал все, как было. Командир полка ходил взад-вперед по землянке, колюче сдвинув у переносил брови. Потом сказал своему адъютанту:
— Распорядитесь, чтобы погибшего представили к награде. Он пал в бою, как подобает солдату и его боевые заслуги перед Родиной должны быть отмечены по достоинству… Ну, а ты, Миша, отправляйся в свой взвод, небось, там уже соскучились по тебе.
— Да и я по ним тоже, — отозвался тот. — Есть идти в свой взвод, товарищ командир!
…Разведчики встретили своего юного друга с распростертыми объятьями.
— Повернись-ка, сынку! Дай побачиты, яким ты став, як отъився на домашних харчах! — гудел больше всех обрадованный появлением товарища Гнат Байдебура, похлопывая ручищами по мальчишечьим плечам. Но, видя, что тот какой-то хмурый и молчаливый, забеспокоился — Да ты як будто не рад, шо зустрились?!
— Ну что вы, дядя Гнат! Скажете тоже!
— Так чого ж журытысь?
— Леньку я похоронил, дядя Гнат. Убили его…
— Як убили?
— Из автомата. Полицай один бывший, которого мы хотели живьем взять в нашем селе, убил его.
— Ну и як, взялы, паразита?
— Нет, его Венька, дружок мой, из двустволки срезал.
— Ну-ну, рассказывай все подробно…
А потом Мишка, устав с дороги, спал.
На переднем крае было тихо. Противник цепко вкогтился в оборонительный рубеж, укрепляя его новыми огневыми точками и в то же время пытаясь атаковать наши позиции.
На следующий день случилось одно занятное событие. Вернувшиеся из боевого охранения бойцы рассказали разведчикам, что утром на ничейной полосе опустился раненый журавль.
— Ну и что ж вы смотрели! Надо было спасти его! — возмутился старшина Клычев, выслушав спокойный рассказ бойцов.
— А что мы могли сделать. Не лезть же на рожон из-за какой-то птицы, — тем же невозмутимым тоном оправдывались пехотинцы.
— Из-за какой-то птицы! Эх вы! А еще пилотки с красной звездочкой носите!..
Шакен взял с бруствера ППШ и, не глядя на обидевшихся бойцов, зашагал к передовой. Вслед за ним бросился Мишка, поддергивая на плече сползающий ремень автомата.
— Дядя Шакен! Товарищ старшина! И я с вами! Можно?..
Тот молча кивнул головой, продолжая шагать по березовому перелеску. Вот и передний край. До немецких окопов, если прикинуть на глаз, — полкилометра, не больше. Вся ничейная полоса была как на ладони, лишь кое-где стояли низкорослые, посеченные осколками, березы. Птицу Шакен заметил в бинокль без труда: в ложбинке серело временами шевелящееся пятно.
— Пошли? — то ли предлагая, то ли приказывая Мишке, бросил старшина и, не оборачиваясь на мальчика, пополз вперед. Пополз за ним и Мишка.
— Товарищ старшина! Дайте я один пойду? А? Я маленький — меня не заметят…
Старшина остановился, взглянул на Мишку, с минуту подумал, потом спросил:
— А не боязно?
— Ну что вы, дядя Шакен!
— Ну, хорошо. Ползи, а я тебя, в случае чего, огнем прикрою…
И Мишка, стянув автомат со спины, взяв его, как учили, в руку, ужом заскользил по траве.
— Держись ложбинок! — напутствовал его старшина.
Мишка полз и полз, не поднимая головы. Раза два он даже паханул носом по муравьиным кочкам. «Только бы не заметили! Тогда птицу распугают», — думал он, на ходу вытирая лицо рукавом гимнастерки.
Вот наконец и журавль. Он лежал на боку, нелепо растопырив одно крыло — в него, наверное, и угодила шальная пуля. Мишка сообразил, что надо подбираться сзади, не то чего доброго, птица поднимет панику. И он пополз, обходя ее с тыла. И вот осталось только руку протянуть, чтобы коснуться серых перьев.
Мишка осторожно закинул автомат за спину, встал на колени и обеими руками ухватил сильное тело журавля. Тот истошно закричал, захлопал крылами, забился, норовя вырваться из рук. Но Мишка ловко перехватил руками и подмял здоровое крыло под себя, — раненое же крыло било вяло и бессильно. Осталось связать ему ноги. С трудом сняв брючный ремень, он скрутил длинные и жесткие ноги журавля.
И тут птица, почуяв на здоровом крыле слабинку, снова попыталась освободиться от неожиданного плена. Она напружинилась, встала во весь рост на связанных ногах и замолотила крыльями по воздуху.
С немецкой стороны ударил пулемет. Пули срезали верхушки ближних березок. Мишка растерялся было и выпустил из рук птицу. Но в тот же миг с новой силой навалился на нее, подмяв своим телом к спасительной земле.
— Ку-ик! Ку-ик! Ку-ик! — испуганно кричал журавль, присмирев немного в цепких Мишкиных объятьях.
— Подожди, дурак! Не ори! Ну не ори же! — упрашивал Мишка. И пополз в сторону нашего переднего края, с трудом волоча за собой птицу.
Вражеский пулемет снова заговорил: пули секли деревца совсем рядом. И тут Мишка услышал яростное татаканье с нашей стороны: пулеметчики прикрывали их огнем.
На полпути к окопам на помощь Мишке приполз Шакен. Он забрал в свои сильные руки птицу и быстро заработал локтями, уползая из зоны обстрела. Мишка, поминутно отирая пот с лица, еле поспевал за старшиной.
В первую попавшуюся траншею свалились оба, вконец обессиленные и тяжело дышащие.
— Ну, благодари вот этого парня! Не видать бы тебе больше неба! — обращаясь к присмиревшей птице, сказал улыбающийся старшина: — А ты, Миша, — батыр! Смелый батыр!..
Журавля притащили в разведвзвод, и Арнаутов, не ожидая приказания, пулей слетал в санбат и вскоре привел с собой медсестру. Та промыла птице крыло, смазала рану йодом и забинтовала.
— А теперь тебя на довольствие примем, — сказал старшина Клычев и поставил перед птицей полный котелок пшенной каши, принесенный тем же Арнаутовым. — Ешь, поправляйся и лети в свою часть!
Глава одиннадцатая
БАТАЛЬОН ВЫХОДИТ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ
Первый батальон, а вместе с ним и разведвзвод полка, настолько вклинились во вражескую оборону, что образовался опасный выступ: над флангами нависла угроза окружения. Видели ли эту опасность в штабе? Не только видели, но и тревожились. Вначале хотели отвести батальон на линию обороны полка, но было жалко оставлять удобную, такой ценой отвоеванную у врага, позицию. И решили готовить новое наступление с целью выравнивания линии обороны.
Но гитлеровцы опередили. Сколотив ударный кулак, они при поддержке танков навалились на левый фланг батальона и прорвали нашу оборону. Кольцо за спиной бойцов сомкнулось. Несколько раз роты поднимались в атаку, стремясь пробиться к своим, но тщетно: враг подтянул пушки и бил в упор по атакующим. Не принесли успеха и атаки наших извне кольца.
Комбат приказал окопаться и с приближением ночи выставить круговое боевое охранение.
Ночью противник не посмел подступиться к окопам батальона и лишь пускал в небо осветительные ракеты, боясь, как бы окруженные не ускользнули из ловушки.
…Разведвзвод окопался близ окраины небольшой деревеньки. Лейтенант Макаревич собрал разведчиков.
— От нас во многом зависит спасение батальона, — сказал он. — Приказываю трем поисковым группам совершить вылазку: надо найти слабое место в немецкой обороне. Неплохо бы взять языка.
Лейтенант помолчал немного, потом продолжил: — И еще я вот что должен сказать: не исключена возможность скорого прорыва с боем. Я тут подумал и решил: Миша Богданов останется в деревне. В любой избе, я уверен, примут и дадут во что переодеться — мальчишка да мальчишка…
Мишка не сразу осознал, что сказанное командиром относится к нему. Он глядел на лейтенанта и непонимающе моргал глазами. Потом до сознания дошел смысл его слов и Мишка весь вспыхнул: вот те на! — воевал, воевал и выходит, в глазах разведчиков он все еще мальчишка, которого нельзя брать с собой в прорыв. Здорово!
— Ступайте сами в деревню и переодевайтесь, а я не пойду! Я не мальчишка!..
Теперь наступила очередь лейтенанту опешить:
— Ого! А еще, называется, разведчик! Если бы все так выполняли приказания командиров, то что бы это была за армия!
— А я все равно никуда отсюда не пойду, — стоял на своем Мишка.
— Товарищ лейтенант! — вступился за юного друга Гнат Байдебура. — Я бы тоже так поступыв, як Миша. Вин вже солдат обстрелянный, за него боятысь не треба…
Макаревич ничего не ответил, а немного помолчав, приказал:
— Поисковым группам пора идти. Все. Разойтись…
Мишка лежал на бруствере отрытой им ячейки.
«Вот так всю жизнь — мальчишка да мальчишка!» — с горечью подумал он.
Припомнилось, как ему однажды пришлось доказывать более старшим подросткам с их улицы, что он не трус. «Докажешь, что не дрейфишь, будешь всюду ходить с нами, как Петька». Тому уже довелось доказывать свою смелость, сходив ночью в одиночку на сельское кладбище, по-казачьему, погост. «Сходишь один на погост?» «Схожу», — не задумываясь ответил тогда Мишка.
Дело, помнится, было осенью. Ночи стояли темные-претемные, в двух шагах ничего не видно. Условились, что Мишка пойдет из дому прямо на погост один без провожатых. С наступлением темноты Мишка, прихватив на всякий случай в карман тяжелую, налитую свинцом биту-лодышку от коровьей ноги, пошел к погосту. Пока шел, в голову некстати полезли слышанные им когда-то жуткие истории. Одного будто бы тоже так послали на кладбище вбить гвоздь в деревянный крест на крайней могиле в доказательство того, что он там был. Добрался тот до креста, вколотил гвоздь и бросился бежать обратно, ан не тут-то было: кто-то держит его за полу пиджака. Он так и обмер, так и сел на могилу. Заикаться вроде после этого стал. А оказалось, что он сам себе нечаянно полу к кресту приколотил… А еще будто в жаркое летнее время над могилами в воздухе видят силуэты покойников… Уф! А однажды какой-то дядька, выпив изрядно на свадьбе самогона, забрел ночью на погост. Не обошлось, наверное, и тут без нечистой силы! Брел он брел мимо могил и бух! — свалился в какую-то яму. Сразу протрезвел сердешный, когда понял, что загремел-то в свежевырытую могилу. Стал он шарить руками по стенкам, норовя выкарабкаться, и вдруг одна рука наткнулась на что-то волосатое, длинное — борода! — а другая ощутила рога. Черт! Мигом выскочил дядька наверх и дёру! А наутро вроде бы вытащили из той могилы нивесть как угодившего туда обыкновенного козла… А еще… Нет, хватит! Что это он на самом деле!..
Вот и кладбищенский вал. Сердце Мишки колотилось так, что он явственно слышал его стук. Вот и первая могила. Рука наткнулась на деревянный крест, поросший мохом. Он покачнулся под рукой, и Мишка аж похолодел от страха. Но тут же преодолел его и уверенно двинулся дальше. Надо теперь наломать веток сирени в знак подтверждения, что он был на погосте.
Только начал Мишка ломать сирень, как вдруг темные кусты задвигались, листва зашумела и чьи-то страшные тени в мгновение ока обступили его со всех сторон, затеребили рубаху. Инстинктивно ухватился Мишка за крайнюю тень и вмиг ощутил знакомую пряжку матросского ремня. Петька! Ах вы бестии! Напугать кого хотели!.. С той поры и приняли подростки в свою ватагу Мишку…
К рассвету возвратились из поиска разведчики. Без потерь, но и без успеха: ни одна группа не привела «языка». Эта неудача вконец вывела из себя Макаревича:
— Ну с какими глазами я приду теперь к комбату. У тебя, скажет, не разведчики, а тюхи-матюхи! Даже языка взять и то не способны…
— Та куда ни сунемось, всюду усиленная охрана. От, чертяки! Ни з якой стороны к ним не подобратысь… — оправдывался сержант Байдебура.
«Вот и не мальчишки, а пришли с пустыми руками!»— все еще спорил мысленно с лейтенантом Мишка. А в голове у него между тем зрел свой план.
— Товарищ лейтенант! Я согласен пойти в деревню, — обратился он к командиру взвода.
Тот недоверчиво уставился на него и только буркнул — Ну вот и добре!
А Гнат Байдебура, как показалось Мишке, взглянул на него с презрением. «И поделом!» — Мишка поддернул на плече ремень автомата и пошел к хатам.
Первая оказалась с зияющими провалами выбитых окон — явно не жилая. Во второй, по всему видать, жили, и Мишка несмело взялся за щеколду. На стук не сразу вышла женщина в какой-то нелепой кацавейке и в платке, повязанном по-старушечьи.
— Что тебе, касатик?
— Я, тетенька, ненадолго, только спросить хочу.
— Ну, проходи…
Половицы в хате жалобно застонали, словно жалуясь новому человеку на лихое время.
— Угостить-то тебя нечем: всех окаянные оголодили.
— Я сыт, тетенька.
— А я знаю, где у них склад остался! — неожиданно для Мишки раздалось вдруг с печки. — Может, там что из еды есть!
Мишка поднял голову и увидел вихрастую голову паренька лет восьми.
— Молчи уж, сиди! Язык-то распустил! — прикрикнула на него мать. — Еще не известно, надолго ли нас освободили. Как бы не вернулись опять эти ироды! Пожгут хаты…
— Мам, мы только сходим туда поглядим. Ладно?
— Ох, Санька, Санька! Ремня на тебя нету!
Тому только того и надо было — шмыг! — с печки и в сенцы. На ходу уже бросил Мишке: «Пошли что ль, чего стоишь!»
На другом конце деревни стояло большое каменное строение, под черепицу крытое. Туда-то и подбежали ребята.
— До войны туточко у нас кооперация была, — пояснил Санька и, видимо, боясь, что Мишка не поймет это слово, добавил — Магазин, понял?
— Понял, понял, и у нас такой же был, — отозвался Мишка.
Дверь строения была приперта пудовой гирей, и ребятам не составило большого труда открыть ее. Внутри стоял затхлый полумрак, но вошедшие сразу же разглядели, что это был никак не продовольственный склад, а скорее вещевой. У стен лежали в большом количестве огромные, аккуратно сбитые тюки немецкого обмундирования. Отдельно, целыми снизками, лежали сапоги.
— Эх ты, зараза! Не повезло! Ничем тут не поживишься! — с огорчением проговорил Санька, ожидавший увидеть кучи буханок и еще что-нибудь съедобное.
— Погоди, погоди! — призадумался между тем Мишка. — Тут надо покумекать… Пойдем-ка, Саня! А то мать еще ругаться будет…
И они покинули вражеский склад каждый со своим чувством: Санька, явно разочарованный, что не удалось чего-нибудь поесть, а Мишка — с тайным замыслом использовать неожиданную находку в сложившейся ситуации.
Лейтенант Макаревич удивленно вскинул брови, когда Мишка снова появился в расположении разведвзвода:
— Ты чего? Никто что ль не принял?
— Товарищ лейтенант! Там, в сарае, немецкое обмундирование!..
— Какое еще обмундирование? В каком складе?
— Ну, там, в деревне. Сапоги, мундиры разные…
— Ну и что?
— На целый батальон хватит!..
Лейтенант примолк, что-то, видимо, прикидывая. Потом сказал:
— Батальон, может, и не надо — не такие дураки немцы, чтобы обмануть их. А вот для нас, разведчиков, твои сапоги и мундиры наверняка сгодятся.
…В тот же вечер трое разведчиков, во главе с Макаревичем, переодетые в немецкое обмундирование, ушли на поиск.
В полночь возвратились, ведя с собой «языка». Последний оказался разговорчивый и всезнающий. Было выявлено слабое место в обороне противника — топкое пойменное мелколесье на левом фланге.
Батальон пошел на прорыв… Мишка Богданов в этом бою получил легкое ранение в плечо.
Глава двенадцатая
ПРОЩАЙ, РОДНОЙ ВЗВОД!
Стрелковый полк, понесший в последних наступательных операциях большие потери, отвели с передовой на отдых и переформирование в Ливны. Городок над Быстрой Сосной, недавно освобожденный от фашистов и несколько раз переходивший из рук в руки, был очень разбит. В сплошных развалинах трудно угадывались бывшие улицы. Булыжные мостовые, искореженные танками, превратились в месиво, повсюду виднелись еще неубранные обгоревшие остовы вражеских машин…
Полк проследовал через разрушенный город, спустился по крутому берегу к реке, перешел ее и остановился в большой слободе Беломестной. Отсюда, с пологого левого берега, город являл собой иной, более мужественный, вид: на высоком обрыве стояли, как непокоренные воины, разбитые снарядами каменные дома и чудом уцелевшая в огненной круговерти белокаменная церковь. Много лишений выпало на долю этого города-воина!..
В Беломестной рядовому Богданову вручили еще одну медаль «За отвагу». Отметили его боевой наградой за смелую вылазку в тыл противника и добычу ценных разведданных. Ленька, его погибший друг, был награжден такой же медалью посмертно.
Бойцы отдыхали после продолжительных боев, ждали пополнения.
У Мишки за неделю окончательно зажила рана. Вскоре его вызвал к себе командир полка.
— Ну как, герой, дела? — заулыбался он при виде Мишки.
— Хорошо, товарищ полковник!
— Хорошо, говоришь? Это похвально. А у меня к тебе, Миша, серьезный разговор.
Мишка с интересом уставился на командира.
— Немца мы, как видишь, потихонечку погнали и, думаю, что бесповоротно. И рисковать тобой мы больше не можем, не имеем права… Так что тебе надо, очень надо ехать домой, помогать колхозникам — им сейчас тяжело. Сам понимаешь, фронту нужно много хлеба. Считай это боевым заданием!..
У Мишки на глаза навернулись слезы. Все ожидал он услышать от командира, только не это. Выходит, он больше не нужен, лишний?..
— Рядовой Богданов, не раскисать! — строго сказал командир и тут же привлек к себе Мишку: — Я, брат, тебя хорошо понимаю. И нам жалко с тобой расставаться, Миша. Но пойми и ты: дети на войне — это противоестественно, как противоестественна сама война… Ну, а теперь вытри слезы, они не к лицу мужчинам.
Мишка, с трудом подавив желание разрыдаться, встал по стойке «смирно»:
— Разрешите идти?
— Иди… А за службу в разведке объявляю тебе солдатскую благодарность!..
Мишка от волнения не смог ничего ответить, повернулся и выбежал из штаба. Он шел в разведвзвод, а из головы не выходили слова командира:
«Считай это боевым заданием!..» А может, и прав командир? В селе и в самом деле сейчас трудно, одни женщины и в поле и на ферме. Он на минуту представил родное село, дружков своих, мать, наверное, на части разрывающуюся — одна ведь: и огород на ней и в колхозе дел невпроворот. Да еще землянка недостроена… Ну что ж, ладно, придется ехать, повоевал и хватит.
В разведвзводе по-разному отнеслись к неожиданной новости: одни поддерживали командира полка — «нечего мальца под пули посылать», — другие расценили командирское решение явной несправедливостью. Но приказы, известное дело, не обсуждаются и вскоре все поутихли, стали собирать Мишку к отъезду. Набили вещмешок хлебом, консервами и сахаром. А Гнат Байдебура отстегнул от ремня «финку» с наборной рукояткой и протянул ее своему другу:
— Держи, Миша, вспоминай Гната, що любыв тебе як свою дытыну…
…Через час Мишка уже стоял на большаке и «голосовал» идущим в сторону Ельца машинам. Ему повезло: вскоре «студебеккер», едущий с каким-то грузом, остановился. Водитель, пожилой, плотный солдат, открыл дверцу кабины и, высунувшись из нее, кивнул головой, приглашая садиться рядом. Мишка вспрыгнул на подножку и юркнул в кабину.
— Отвоевался что ль? — поинтересовался шофер.
— Да, домой еду. Казачье тут недалеко, под Ельцом.
— Это хорошо, домой… А мне вот в свой дом ни за что не попасть. Под немцем он, в Белоруссии. Не знаю, живы ли кто дома-то…
— Небось, живы… — сказал Мишка, жалея солдата.
— Тебя-то зачем понесло в такое пекло? — спросил, помолчав с минуту, солдат.
— Как зачем! Воевать. Все ж воюют…
— Это ты верно говоришь: нынче все воюют — и старики, и дети… Я ведь сам был по чистой, мне уж за шестьдесят, а вот не усидел — воюю тоже. Не сразу, правда, пошел. Когда к нам на Могилевщину немцы привалили, я еще дома был. На другой же день собрали они нас, стариков, и сказали, что будем все до одного расстреляны, если завтра же не поедем оборону им строить. Погнали они нас к передовой. Она проходила в аккурат за соседним селом. Там дали нам в руки лопаты и заставили рыть ходы сообщения. Троих с автоматами стеречь нас приставили. Улучили мы момент, напали на тех приставленных и угрохали их лопатами. Лес-то мы окрестный хорошо знаем, ну и подались прямехонько в сторону наших. Все как один пришли, без жертв. «Давайте, — говорим, — оружие, хотим воевать». Я до войны-то в колхозе шоферил на полуторке. И тут на машину сразу же посадили, видишь вот, на американскую…
Так, за разговорами да воспоминаниями незаметно доехали до Казачьего. Как и в прошлый раз, Мишка сошел с машины у моста через Воргол. Не заметил, как добрался до своего огорода. Перелез через плетень и пошел по стежке к пепелищу, где была теперь недостроенная землянка. Матери не застал и пошел по проулку.
Увидел стоящую на пороге своей хаты Коновалиху. Она совсем постарела: похоронка на сына вконец подкосила старую женщину.
— О! Да это никак ты, Мишутка! Вот Настёнка-то обрадуется! — вглядевшись слезящимися глазами в подошедшего, запричитала Коновалиха.
— Я, бабушка, я, — топтался возле порога Мишка, не зная, что сказать старушке. — А где мама?
— На конном дворе она, дитятко, где же ей быть. Да ты зайди в хату, подожди малость, она придет.
…Вечером в доме тетки Феклы, где все еще жила Мишкина мать, было празднично. Настенка, надев по случаю приезда сына новую, василькового цвета, кофту, суетилась у стола, устанавливала немудреную снедь.
Мишка сидел на конике рядом с незрячим Семкой, и душа у него сладко млела от такого, давно не испытываемого домашнего уюта. Если на минуту забыть, что ты не в чужом доме и представить, что отец не на войне, а вот-вот появится на пороге, высокий и улыбчивый, с русым, нависшим на лоб, чубом, то словно бы и не было ни разлук, ни горя, и войны нет, а сидят они, как в доброе мирное время, за будничным застольем…
— Миш, а эти медали у тебя насовсем? — спросил Семка друга, нащупав и теребя на его гимнастерке награды.
— Насовсем, Сема. Сам Калинин указ об этих медалях подписывал. Понял?
— Прямо про тебя указ?
— Про меня! А что?
— Это тебя сам Калинин знает?
— Выходит, знает.
— Вот это да-а!..
— Миш! — помолчав с минуту, обратился он снова к другу. — А интересно, если бы нас, ну помнишь, тогда взяли на фронт, и у меня была бы сейчас медаль?
— Была бы непременно. Ты ведь, я знаю, не трус.
Семка умолк и надолго.
Мишкина мать и тетка Фекла закончили, наконец, приготовления и тоже сели за стол.
— За приезд-то не грешно бы и чарочку поднять! — улыбнулась тетка Фекла. — Ну, мы уж потом, когда все вернутся, наверстаем.
— Ох, вернутся ли только все-то! — подала голос Мишкина мать. — Ну, ешьте, ребятки! Ешь, Мишенька, наверное, соскучился по домашнему: все из котелка да наскорях. Не наедался, небось?
— Когда как, мама. Всякое там бывало…
Минут пять ели молча, каждый думал о чем-то своем.
— Мам! Я хочу завтра в лес с Венькой сходить, бревна напилить для землянки.
— Гляди сам, сынок… может, погодил бы денек-другой, отдохнул немного.
— Нет, мам, пойдем.
…Мишка давно уже не был в Хомутовском лесу и сейчас с Венькой приближался к опушке, волнуясь перед встречей со старым другом детства.
Здравствуй, лес! Ты тоже участвовал в войне с захватчиками — вон как поредели твои ряды! Ты носишь снарядные осколки и вражеские пули в своем теле. Не скоро залечишь раны, не скоро восполнишь понесенные жертвы — много потребуется времени. Но ты полон мужества и жажды к жизни и осилишь беду. Когда-нибудь люди, придя сюда, и не узнают о твоих былых ранах, время зарубцует шрамы, сровняет с землей траншеи на твоих полянах и просеках. Но мы-то знаем, каких сил и мук стоила тебе свобода. И никогда не забудем!..
А дорога от опушки уводила ребят в глубь весеннего леса, наполненного звонкой птичьей перекличкой.
Часть третья
Глава первая
ИСЦЕЛЁННОЕ ПОЛЕ
Фронт откатился от Казачьего более чем на сотню верст, угрожающе погромыхивая по утрам. С наступлением тепла поля быстро подсыхали. Яркое солнце парило. Чубарская бригада готовилась выезжать в поле.
Бригадирка Лукерья Стребкова, осунувшаяся не столько от недоедания, сколько от мучительных дум о посевной — кому и на чем пахать землю? — ходила пасмурная, как тень, от двора к двору: подсчитывала, сколько наберется в бригаде пахарей и тягла. «У Домнухи Гороховой сохранилась коровенка, у Лобынцевых да у Багровых… Свою еще впрягу, вот уже четыре — по две на плужок. С семенами, сказали, райцентр поможет. Будем пахать. Целы ли только плужки?..» — размышляла Лукерья, шагая по стежке к кузнице, чернеющей на выгоне обгоревшими стропилами.
Подойдя к кузнице, она, к своему удивлению, увидела деда Веденея. Тот немецкой штыковой лопатой выколупывал из слежавшейся кучи навоза борону. Треух сбился на бок, на морщинистых впалых щеках дрожали капли пота. Увлеченный работой, он не заметил подошедшую бригадирку. От ее здоровканья вздрогнул, с трудом распрямил спину.
— Здравствуй, Луша! — отозвался. — Ишь как подкралась, я и не услышал. Э-хе-хе! Стар стал… Инвентарь, стало быть, добываю, днями понадобится. Как ты думаешь? А?
— Сам-то как мыслишь?
— Тут и спрашивать нечего — весна свое стребует. Лишь бы немец обратно не попер.
— Не должен. А пахать будем на коровах. Надо бы, дедуня, посмотреть, целы ли плужки.
— Целы, Луша, целы, я уж глядел. На коровах, говоришь? — и дед Веденей, хитро сощурив глаза, загадочно заулыбался: — Кто на коровах, а кто и на лошади…
— Что ты плетешь! Где у нас лошади?
— А вот и не плету. У меня, Лушенька-душенька, в закуте стоит во какой меренина! Не веришь? Приходи — посмотришь.
И, видя, что бригадирка не верит его словам, рассказал:
— Когда наши-то палить начали, немцы, стало быть, все из хаты повыбегали в лозник — оборону держать. А я, не будь дурак, взял амбарный замок и запер закуту: там их битюг стоял. Постреляли они из лозника, видят, дурны шутки, надо давать лататы. Вспомнили, видать, про битюга и — к закуте. А дверь-то на таком вот замчище. Они автоматом сгоряча по замку, да куда там — такой и ломом не одолеть, слабы в коленках. Наши, стало быть, по огороду бегут, вот-вот за штаны хватят, — немцы и удрали. А трофей мне остался — добрая лошадь, гладкая…
Лукерья от души расхохоталась. Потом обняла деда Веденея и расцеловала его не просохшее от пота лицо:
— Ну и молодец же ты, дедунюшка! Тебе прямо медаль за это надо.
— Ты скажешь, Луша! Медали мне не надобно, а с кормом след бы пособить. Он, битюг-то, стало быть, такой съестной оказался: пуда два клевера за один присест, окаянный, смолачивает. Меня, того гляди, сожрет. А сена на гумне с гулькин нос осталось — все немчура, пралич ее расшиби, разволокла.
— Ладно, придумаем что-нибудь, — отсмеявшись пообещала бригадирка.
Раньше всех поспела земля за Косым верхом. Туда-то Лукерья Стребкова и послала колхозниц — готовить клин под ячмень.
Отправились на четырех коровах: Ульяна Лобынцева с Федосьей Багровой да Настенка Богданова с Домнухой Гороховой. Настенке, не имеющей коровы, бригадирка дала свою.
Коровы, с великим трудом впряженные в плужки, не слушались, рвались из постромок, норовисто били копытами по деревянным валькам. Плужки поминутно заносило в сторону, лемеха выскакивали из борозд. Женщины то сердито прикрикивали на животных, то принимались ласково уговаривать их, гладить ладонями по костлявым потным бокам.
— Ну, Буренушка, ну иди-иди, милая! Еще немного и отдохнешь. Ох, господи, опять в постромках запуталась! Мученье одно, а не пахота! Глаза б не глядели на такую работу… Ну, пошли, пошли, милые!..
За плужками тянулись неровные, рваные борозды; вспаханный клин, хоть и медленно, расширялся. Солнце припекало, в поднебесье безмятежно распевали жаворонки.
К полудню коровенки вконец вышли из повиновения. Ульянина легла в борозду и, уронив лобастую голову на сырые комья земли, по-человечески скорбно глядела перед собой большими, мутными от слез глазами, запаленно дышала. Ребра так и ходили на ее впалых боках.
Ульяна в сердцах зашвырнула лозиновый прут, подбежала к корове, опустилась на колени и, взяв в руки ее рогатую голову, заплакала навзрыд:
— Да за что ж на вас-то, бедных, такой крест непосильный! Ну, прости меня, Зоренька, прости — сейчас распрягу! Чтоб тебе, фашист проклятый, после смерти не было места в земле!..
Подошла Федосья, тронула Ульянино плечо:
— Ну ладно, будет тебе травить душу. Не время раскисать. Вставай, распряжем и дадим отдохнуть малость.
С непривычки это они. Пообвыкнут, втянутся — куда деваться…
Женщины стали поспешно снимать с коров упряжь. В это время с другого конца загона донеслись тревожные крики: что-то случилось у Настенки с Домнухой.
Ульяна и Федосья бросили распряженных коров и побежали туда.
То, что они увидели шагах в пяти от свежей борозды, заставило невольно вздрогнуть: из-за серых кустов полыни зловеще выглядывал хвост неразорвавшейся бомбы.
— Иду себе, корову за повод волоку, гляжу, торчит что-то за полыном, — сбивчиво поясняла взволнованная Домнуха. — Я— туда, а там вон какое страшилище! Еще бы немного и…
— Бог миловал, — перебила Настенка. — А пахать дальше нельзя. Поедем, бабы, домой, скажем про бомбу Лукерье.
…Бригадирку нашли в хате деда Веденея, пособляла ему ладить пахотную сбрую для трофейного битюга. Его решили выводить завтра, на другое, Засвинское, поле — там тоже земля на подходе.
— Вы что, как бешеные? — неласково встретила Лукерья влетевших в хату женщин. — Почему так рано кончили?
— Моли бога, что не поздно, — обиженная такой встречей, сердито ответила Ульяна. — Там бомба. Во какая!
— Где?
— Где, где! За Косым, на поле, вот где! Прогляди Домка и — поминай как звали…
Лукерья удивленно и озадаченно переглянулась с посерьезневшим дедом Веденеем.
— Чья бомба-то, немецкая?
— А черт ее знает, чья она. Резнет, так не разберешься, чья.
— Ну, хорошо, бабоньки, идите отдыхайте. Будем думать, что делать с этим нежданным гостинцем.
И бригадирка, огорченная тем, что так некстати прервались с трудом начатые полевые работы, вышла вместе с колхозницами из веденеевой хаты…
Всю ночь напролет не спал дед Веденей: все обмозговывал, как быть с треклятой бомбой. По сути и думать то было нечего: как услыхал о ней, так сразу и решил, что это не бабьего, а его, мужичьего, ума забота. Ведь он — единственный мужик в бригаде, ему и освобождать поле от этой чужеземной пакости.
Дед Веденей ясно осознал всю меру смертельной опасности предстоящего дела, но он окончательно укрепился в мысли действовать немедля и с рассветом решительно принялся за подготовку.
Стараясь не разбудить бабку Секлетею, он споро оделся и, не скрипнув избяной дверью, вышел во двор. В амбарушке отыскал пеньковую веревку, прихватил моток провода — по-хозяйски отмотал когда-то у постояльцев-немцев от телефонной катушки. Взял лопату и пошел к закуте, где стоял, шумно дыша, битюг. Надеть на него хомут с постромками и вывести на гумно, было минутным делом.
У крыльца дед Веденей вдруг вспомнил что-то и, привязав лошадь к баляснику, поспешил в хату. Прокрался на цыпочках к святому углу, снял с гвоздика образок с ликом Николая Чудотворца и, сунув его за пазуху, направился к двери.
Но тут подняла голову спавшая на печке бабка Секлетея:
— Ты куда это, Ведеш, ни свет ни заря?
— Да вот… надо тут, съездить кое-куда… Ты спи, спи! Я скоро вернусь…
— А зачем это тебе понадобилась иконка?
— Иконка?.. Да-да, конечно, иконка… Я ведь с ней, стало быть, всю империалистическую прошел. Просто так… Ну ты ж и глазастая!..
— Хватит тень на плетень наводить! Куда собрался такую рань?
Пришлось все рассказать…
— Ну ты гляди там, Ведеша, близко к ней, заразе, не подходи, — слезши с печки и зачем-то поправляя у него ворот фуфайки, напутствовала бабка.
— Скажешь тоже! Зачем же мне близко! Конечно, не подойду. Ложись, ложись, не волнуйся, — дед Веденей неумело коснулся заскорузлой ладонью ее простоволосой головы, двинулся к выходу.
У дверей остановился:
— Ты тут Григорею-то, если что, ничего на фронт не отписывай. Не волнуй его, пущай воюет спокойно — у него там дела посурьезней…
— Да ты что, Ведеш, аль чуешь что?
— Это я так, про всякий случай. Ложись, говорю, еще рано.
И шагнул через порог.
На улице не было ни души, и дед Веденей, втайне радуясь этому, прибавил шаг, понукая спокойно переваливающуюся лошадь. Из калитки Федосьиного двора выглянул заспанный Венька!
— Ты куда, деда?
— А что тебе? В лес я, за жердями, — нехотя солгал тот. — Ты-то чего ни свет ни заря?
— Корову под закопом попасти до работы. Возьми меня с собой!
Дед сперва подумал, что, может быть, и впрямь взять парня, глядишь, что-нибудь и пособит. Но тут же погасил эту мысль: случись что, я-то хоть старый, свое отжил, а мальцу еще жить да жить. Нет, незачем рисковать!
— Иди, Веня, паси корову, недосуг мне с тобой.
И пошел дальше, ведя в поводу медлительного битюга.
До Косого верха дошел, когда солнце выкатилось из-за горизонта и озарило всю округу веселым розовым светом. Вешнее поле ожило, заиграло разными цветами.
Дед Веденей огляделся кругом. Сколько раз за свою долгую жизнь приезжал он сюда — еще мальчишкой с отцом, а позже сам — пахать, скородить, сеять, а потом косить хлеб и свозить его в снопах на ток! Можно ли представить себя без этого поля? Невозможно, как нельзя допустить мысль, что оно могло быть порабощенным. Вон как искорежили, изранили землю оккупанты! Снарядные воронки, словно оспины, обезобразили ее. Изувеченное поле! Изувеченное, но не покоренное, живое, ставшее после стольких, вместе перенесенных испытаний еще более родным. Он, человек, должен залечить раны кормилицы-земли. Кто же, как не он, хозяин, это сделает!
…Бомбу дед Веденей отыскал сразу: прошел по кромке вспаханного клина и без труда обнаружил ее торчащий из земли хвост.
Он стреножил обрывком немецкого провода битюга и без опаски пустил пастись, знал: никуда не уйдет этот пентюх.
Лопатой стал откапывать корпус бомбы, стараясь быть как можно осторожнее, почти не прикасаясь к коварному металлу. Бомба оказалась большой, и было непонятно, почему она не взорвалась. «Наверное, в мочажину угодила, вот и не сработала», — решил дед Веденей, не больно-то разбирающийся в тонкостях чуждого ему дела. Главное, побыстрей, до приезда баб, откопать ее, сатану, и оттащить в провал, пусть там лежит себе до поры до времени.
Провал — глубоченная карстовая ямина, куда в половодье с гудом стекает вода с полей. Говаривали, что, если спуститься в этот каменный колодец и пойти по подземелью, то можно выйти к самому Ворголу, у Горюч-камня. Дед Веденей помнит, как он мальчишкой с ребятами хотел было спуститься в провал. Обвязали его веревкой и начали спускать, до половины уж добрался, но тут из темноты как шарахнутся жуткие летучие мыши, и он благим матом заорал, чтобы тащили наверх…
Дед Веденей уморился от быстрой, торопливой работы, снял фуфайку. И только тут подумал, что копает без отдыха, должно быть, больше часа. Но и работа, стало быть, подошла к концу: бомбу, по его прикидке, уже можно было с помощью лошади вытянуть из земли. Он несколько раз обмотал веревкой корпус под стабилизатором и крепко-накрепко завязал ее. Затем растреножил так никуда и не ушедшего битюга и подвел к бомбе. Сноровисто связал постромки с концами веревки, взял лошадь под уздцы и легонько потянул за собой:
— Ну, давай, милок, давай, выручай! Видишь, твой германец напакостил… Но-но!..
Дед Веденей почмокивал, понукал битюга, и тот, натужившись, подался вперед. Постромки натянулись. «Не лопнули бы!» — забеспокоился он. Но упряжь выдержала. А бомба, качнувшись в своем ложе, с хлюпом легла на бок. «Во, какой боров!»
Дед Веденей ласково потрепал рукой по шее сильную лошадь и снова потянул за уздечку. Битюг без труда поволок бомбу по влажной, скользкой земле, оставляя глубокий глянцевый след.
Вот наконец и провал, поросший по краям кустарником. Края его круто обрывались, и деду Веденею стоило больших усилий подъехать к яме как можно ближе и чтобы лошадь не оступилась. Он отвязал веревку от постромков, затем и от бомбы, свернул ее по обыкновению кольцами и положил на сухую муравьиную кочку, заметив при этом, как деловито снуют по ней коричневые мураши — вечные труженики!
Битюга отогнал подальше от ямы, даже не стреноживая. Потом достал кисет и, свернув цигарку, закурил. Никогда вроде бы еще не был так сладок дым от самосада. Он отдыхал, преисполненный удовлетворением от только что оконченной работы. Осталась самая малость: спихнуть, проклятую, в провал и дело с концом.
Рука невольно потянулась за пазуху и благодарно погладила теплый образок.
Докурив цигарку, дед Веденей поплевал на ладони и взялся за бомбу. До обрыва было полметра и требовалось напрячь силы, чтобы столкнуть такую махину. Хорошо еще, что земля здесь с покатом — все будет легче.
Ухватившись одной рукой за куст терновника, он другой уперся в корпус бомбы, поднатужился, и та подалась вперед. А ну еще разок!
Вдруг подмытый дождями земляной козырек от тяжести обвалился, и бомба скользнула вниз. Неожиданно потерявшая опору рука вмиг ощутила пугающую пустоту. Дед Веденей, не успев ничего сообразить, чуть было не рухнул вслед за бомбой, но удержал терновый куст. Тут земля вздрогнула, колыхнулась под ним, и его швырнуло мощной волной воздуха на непаханное поле…
Взрыв докатился до Казачьего, всполошил село.
…Хоронили деда Веденея всей бригадой. Стоял солнечный день. В чистом бездонном небе пели жаворонки. А по большаку женщины несли на полотенцах гроб. На крутом берегу Воргола, где сразу же за Горюч-камнем широко распахнулся внизу луг, на котором покойный в мирное время пас лошадей в ночном, женщины бережно подняли гроб над головами, и он поплыл в голубом мареве. Дед Веденей навсегда прощался с родным Казачьим.
Глава вторая
ТАЙНА ЛЕСНОЙ ЗЕМЛЯНКИ
На Коновалихином огороде вечером солдатам расквартированной в селе части показывали кино. Белое полотно натянули на лозинки, на верхушках которых тревожно и надоедливо гомонили вспугнутые с гнезд грачи.
Поросший пыреем огород круто сбегал к речке, так что зрители — бойцы, женщины и ребятишки — сидели на возвышении, как в заправдашном кинотеатре. Даже лучше: свежий ветерок от Гаточки подувает, над головой в сумеречном небе помигивают звезды, а за спиной уютно и умиротворенно стрекочет аппарат.
Кино было очень интересное: про гражданскую войну и легендарного Пархоменко да про атамана Махно. Длинноволосый скидух-атаман надрывно пел тягучую песню:
Как первая пуля Срезала меня, А вторая пуля Ранила коня…Потом поднялась стрельба, и со вздрогнувших лозинок с суматошным карканьем взлетели грачи, сея от испуга на головы зрителей белые капли. У, чтоб вам было пусто!
Венька со своей сестренкой Варькой, Мишка, Семка, Витек Дышка да Сашок Гуля сидели кучкой, то и дело толкая друг дружку локтями и показывая на полотно:
— Гляди, гляди — догоняет беляка!
— Шешаш ка-ак шеканет шаблей! Вот так тебе, шобака!
— А Махно-то на Гитлера похож, такой же припадочный!
— Точно, усы приделать, ну прямо окапанный Гитлерюка!..
— Да тише вы, анчихрята! Нигде от них спасу нет, поглядеть не дадут! — сердито ворчали и цыкали на разошедшихся в воинственном пылу ребятишек бабы. Да куда там! Приумолкнут те на минутку и опять за свое.
Кино подошло к концу, аппарат умолк, погасло полотно, и люди нехотя стали расходиться. Довольные грачи слетались к деревьям, спеша угнездиться на ночь в своих воздушных жилищах.
Ребята уходить домой не торопились, хоть матери и пристрожили, чтоб не задерживались после кино. Они встали в кружок и продолжали живо обсуждать картину.
— Знаете что, — прервал вдруг всех Мишка. — Завтра мама посылает меня в лес за хворостом, что если заодно сходить за грачиными яйцами? Такой яишни нажарим!
— Вот здорово! Пойдем! — не раздумывая поддержал Венька, мгновенно успев нарисовать в своем воображении вкусную еду.
— Можно и мне с вами, Вень? — попросилась Варька.
— Если мама отпустит, почему ж нельзя.
А Мишка вдруг почувствовал робкое теребление рубахи: теребил Семка.
— Ты чего, Сема?
— А меня с собой в лес возьмете?
— Во, чудик! — хмыкнул Сашок Гуля. — Да что мы там с тобой, слепым, будем делать!
Семкины незрячие глаза от обиды вмиг наполнились жгучими слезами. Он выпустил из кулачка Мишкину рубаху и пошел по пырею во тьму.
— Куда ты, Сема? Упадешь! — кинулась вслед Варька и взяла его за руку. — Ну пойдем, пойдем домой! Я отведу.
Мишка, не ожидавший такой подлости от Сашка, вначале опешил: что? что он сказал? Ах ты, гадство!.. Он ухватил Гулю за грудки и с размаху залепил ему кулаком в лицо. Тот упал и, размазывая под носом кровь, завыл:
— Ладно, ладно! Погоди, братка с войны придет, он тебе отомстит! Он тебе не так сопатку расквасит!..
Утром Венька растолкал сладко спавшую сестренку:
— Вставай, Варька, одевайся, скоро выходим.
Накануне, перед сном, Варька выпросилась у матери в лес.
Быстро собравшись и перекусив лепешками из прелой картошки — питались только ими да еще крапивными щами, забеленными молоком, больше ничего не было— ребята, не забыв прихватить спички и сковородку, вышли на улицу. Дышка уже сам шел навстречу, подпоясанный веревкой — тоже дрова не лишние.
— Зайдем за Мишкой и за Семкой, — сказал Венька.
— Зайдем.
Мишка уже собрался, а Семка лежал на печи, хоть и не спал.
— А ты чего не собираешься?
— Куда?
— Как куда, в лес. Забыл что ль?
Семка молча сполз с печки и принялся шарить руками под лавкой.
— Ты чего хоть ищешь? — спросил Мишка.
— Веревку.
— Да вон она лежит, на конике.
Солнце уже высоко поднялось в небе, здорово припекало, когда ребята вышли из села. Они сняли рубахи и завязали их на животе — так загорят быстрее. Только Варька шла в ситчиковом платьишке, стесняясь что ли снять при мальчишках, хотя ей тоже очень хотелось загореть.
— А мы сковородку взяли, — приподняв мешочек и постучав по нему пальцем, сказала она Мишке и Семке с Дышкой. — И спички.
— А соли?
— Соль нет, не брали…
— Ну нишего, беж шоли шлопаем, — заключил Витек.
Любо, братцы, любо, Любо, братцы, жить. С нашим атаманом Не приходится тужить,— запел от избытка чувств Мишка песню из вчерашнего кинофильма.
…Лес встретил их звонкой птичьей разноголосицей. Березки, с проклюнувшимися первыми листочками, стояли, как именинницы, в легких косынках. Зазеленели черемуховые заросли по лощинам. И только дубы, казалось, не замечали весны — громадные, с какой-то величавой независимостью, высились они над мелколесьем, без единой зеленинки, с морщинистой кожей на мосластых стволах и сучьях. Вершины их были в несколько этажей усеяны грачиными гнездами.
— Ну, братцы, и яичница будет! — в восторге воскликнул Мишка и тут же приказал Варьке:
— Ты с Семкой собирай хворост для костра. А мы с Витькой полезем.
Потом, спохватившись, передумал:
— Нет, сидите-ка лучше тут, а то еще заблудитесь.
— Хорошо, — ответила согласная на все Варька, счастливая, что ее взяли в лес.
Мишка, Венька и Витек натянули на себя рубашонки, чтоб не ободрать пузо, и покарабкались на ближайший дуб. Мишка был посноровистей, и первым добрался до гнезда. Грачи, почуяв недоброе, снялись с дерева и черной тучей, с гамом, нависли над головой.
Как первая пуля Срезала меня. А вторая пуля Ранила коня…Мишка дотянулся рукой до гнезда и пошарил:
— Есть!
Стал складывать яйца в картуз, взяв его в зубы. Опустошив гнездо, полез выше. Дорвался до яиц и Витек Дышка:
— Ой, школько их тут. Объедимши!..
Картузы были наполнены мигом. Дышка пожадничал и стал было класть яйца в карманы штанов, но вскоре бросил это занятие: яйца раздавились и потекли по ногам. Витек с досады хрипло завыл — говорить мешал зажатый в зубах картуз — и резво полез вниз.
— Во школько! — похвастался он, спрыгнув на землю и показывая содержимое картуза Варьке, а Семке дал пощупать руками.
— Да-а!..
Решили пока больше не лазать — сначала поесть те, что набрали, там видно будет. Все равно на сковородку много не войдет.
Насобирать хвороста было нетрудным делом. И вот уже затрещал костерок, весело заплясало пламя, вкусно запахло дымом, предвещающим хорошее угощение.
Маленькие, сероватые яички были разбиты над раскаленной сковородкой в мгновение ока — три пары расторопных рук споро управились с этим приятным делом. И — вот она, долгожданная яишня, с дразнящим парком и соблазнительной желтой корочкой. То-то попируем! Эх, еще бы хлебушка сюда настоящего, ржаного, каким, бывало, дед Веденей в колхозной кладовой оделял перед выездом в поле! Ну да, на худой конец, можно и без хлеба. Ребята, обжигаясь, брали руками и смачно уплетали куски разрезанной ножичком яичницы. Опорожнили сковороду в два счета. И про кричащих в верху обиженных грачей на время забыли. Но когда поели, невольно подумали о них.
— Оно, правда, немного жалко грачей-то! — сказал Мишка.
А Варька сразу погрустнела: да, нехорошо они все-таки сделали из тех яичек граченятки могли получиться, а они их полопали…
— Нишего, они еще нанешут! — попробовал успокоить Витек проснувшуюся совесть и тут же сам подлил масла в огонь — Мы ш вами навроде энтих фашиштов — пришли и жабрали не швое…
— Я сейчас тебе такого фашиста приварю, сам себя в зеркале не узнаешь! — вспылил непонятно с чего Венька. — Развякался тут!
— Я шего… я нишего, — испуганно забормотал Дышка.
И хотя никто досыта не наелся, больше ни словечком не заикнулись о яичнице. Пошли собирать дрова.
Глубоко от опушки не забирались: сухого хвороста и здесь было навалом, каждый за десять минут собрал по полвязанки, еще по столько же и можно домой.
На пути попадались притрушенные прелой листвой окопы, с тусклыми гильзами на брустверах, видели две-три землянки. Правда, заходить в них не рискнули: мало ли что, а вдруг в какой-нибудь волки зимовали и сейчас там сидят.
Вот и собраны вязанки, осталось лишь увязать покрепче веревками и — в путь. Тем более, что от Афанасьева надвигалась темнющая туча.
— А ведь мы, братцы, не успеем до дома дойти — скоро дождь пойдет, — поглядев на грозную тучу, определил Мишка, — Давайте лучше в землянке пересидим.
— А не штрашно в жемлянку-то лежть? — забеспокоился Дышка.
— Так и сделаем, — словно не слыша Витька, заключил Мишка… — А дождь кончится и пойдем.
Взвалив на спины вязанки, ребята пошли в ту сторону, где только что видели землянки. Нашли их скоро: безлиственный лес далеко и легко просматривался. Сбросив хворост недалеко от входа в землянку, Венька с Мишкой понимающе переглянулись между собой, словно спрашивая: ну, кто из нас двоих войдет первым? Не Семку же и не Варьку посылать! Мишка прочел в глазах друга не только вопрос, но и просьбу пожалеть его — что поделаешь, если коленки начали предательски дрожать при одной только мысли о пугающей темноте пустой землянки! И Мишка понял его, пожалел:
— Стойте здесь все, я сначала один загляну.
И нарочито твердой походкой двинулся к почерневшей от сырости дощатой двери, больше похожей на подвальный лаз. Дверь неприятно заскрипела, и Мишка ступил в темноту. Оставшиеся снаружи затаили дыхание…
Вдруг из землянки донесся приглушенный крик:
— А-а-а!..
Дверь со стуком распахнулась, и пулей вылетел испуганный Мишка. Цепко ухватив за руку Варьку, он увлек ее за собой, истошно крича:
— Тикайте! Тикайте!.. Там кто-то есть!..
Семка тоже бросился бежать, но тут же больно ударился головой о дерево и упал. Венька подхватил его под мышки, поднял и потащил за руку вслед за убегающими ребятами. За спиной раздалось:
— Стойте! Постреляю!..
Прогремел выстрел.
Беглецы припустили еще шибче. В эту минуту в лесу потемнело и хлынул проливной дождь. Полыхнула молния, гуданул, раскатываясь по лесу, гром.
Ребята без оглядки бежали к опушке, натыкаясь на пни, падая и снова поднимаясь. Позади и над ними сверкало, громыхало и бухало. И было трудно понять: то ли это гром, то ли продолжает, стреляя, гнаться за ними по пятам ужасный жилец заброшенной землянки…
Вот наконец и спасительная опушка! Быстрее из лесу, на голое поле! Пусть дождь хлещет, как из ведра, и негде укрыться, зато здесь нет таинственного лесного незнакомца.
Выскочили на раскисший от дождя большак — мокрые, грязные, в разорванной одежде, со ссадинами на лицах и без вязанок — в страхе бросили их у землянки. Оглянулись на черный лес, мельком оглядели друг друга и, дрожа неизвестно от чего больше — от холода или от страха, — приударили к видневшемуся за сеткой дождя селу…
Первая встретила их на улице Коновалиха. Завидев грязных и оборванных ребятишек, она быстро закрестилась, как при наваждении: «Свят! Свят! Свят!» — и засеменила в хату.
Мишка первый подбежал к ближайшему блиндажу и загромыхал кулаком. На пороге вырос высокий сержант:
— Что тебе, хлопец?
— Товарищ сержант! В Хомутовском лесу враг прячется! В землянке! Прямо недалеко от опушки, у большака…
— Враг, говоришь? А кто тебе сказал?
— Сами видели! — выдохнул подбежавший Венька. — Он стрелял в нас, да не попал. Мы только что оттуда.
— Хорошо! Молодцы, что сказали! А теперь идите домой, да живо, матери, небось, ждут, волнуются. Ишь как разукрасились!
…Бойцы в тот же час прочесали опушку леса, обшарили все землянки, но так никого и не обнаружили.
Глава третья
ВЕНЬКА ПАШЕТ НА КОРОВАХ
Варька слегла. Всю ночь металась на постели, временами то шепча, то выкрикивая обрывочные слова:
— Черный, черный… Веня… тикайте… вязанку…
Мать, ни на минуту не сомкнувшая глаз, не отходила от девочки: прикладывала к ее горячему лбу холодную мокрую тряпку, поправляла одеяло.
К утру Варька притихла. Свернувшись комочком, уснула, тяжко и часто дыша.
Едва лишь взошло солнце, Федосья разбудила тоже неспокойно спавшего ночью Веньку:
— Вставай, сынок! Вставай, дитятко, поедешь за меня в поле… Да поднимайся же, вечером пораньше ляжешь, доспишь.
Венька ожесточенно протер кулаками неразлипающиеся глаза, сидя потянулся напоследок и спрыгнул с печки.
— Уснула?
— Только что.
У Веньки у самого с вечера кружилась голова — простыл, видно, от проливного дождя. Но что поделаешь, это Варьке вон можно болеть — она маленькая…
Нехотя позавтракав холодными лепешками с молоком, он вышел в сенцы. Подобрал с пола сбрую, отправился в закуту выводить корову. Та на скрип двери повернула голову, уставилась на Веньку умными глазами.
— Ну что глядишь, пойдем! Плужок тебя ждет. Ты теперь у нас и за кормилицу и за трактор…
На улице за Венькой увязалась соседская собака с потешной кличкой — Цурюк. Прилипло к ней это иноземное слово, когда еще в селе были оккупанты. А дело происходило так. Немцы не очень-то церемонились с населением: цапали, где что попадется и что могло мало-мальски сгодиться. Вот и в дом соседки как-то ввалились двое, позыркали глазищами по хате и один из них, заприметивший сохнувший после стирки пуховый платок, потянул его с веревки. Тут-то и метнулся из чулана настороженно и зло следивший за чужаками хозяйский пес. Второй гитлеровец только и успел крикнуть: «Цурюк!», а уже тот в мгновение ока располосовал первому брючину и добрался до ляжки. Завопив благим матом, немец рванул из хаты, волоча за собой разъяренную собаку. И лишь на крыльце каким-то образом сумел избавиться от нее, суматошно сорвав с шеи автомат и хряснув им четвероногого врага. Тот завизжал от боли и скрылся за амбаром, что и уберегло его от пули. Гитлеровцы-таки вернулись в хату, избили хозяйку и, кроме пухового платка, забрали еще валенки из печурки и банку соленых грибов с окошка.
А собаку с той поры так и стали звать — Цурюк да Цурюк. Та поначалу дыбила шерсть и рычала при звуке этого ненавистного слова, потом понемногу свыклась с позорной кличкой…
Отломив половину лепешки и дав псу, Венька потянул за повод корову — деревянный валек на постромках загрохотал по дороге.
В поле уже были женщины-пахари и с ними — Лукерья Стребкова.
— Вот вам и еще один пахарь, — встретила с улыбкой Веньку бригадирка. — А говорят, у нас мужиков нету!.. Или что случилось с матерью?
— Да нет, Варька заболела. Всю ночь металась — жар у нее.
— Чего же ты молчишь! — вспылила Лукерья. — Надо в город, за доктором съездить.
И ходко пошла в сторону села.
Венька с помощью напарницы — тетки Ульяны впряг коров в плужок и взялся за рукоятки. За лемехом потянулась свежая борозда. Нивесть откуда налетели черные, как чернозем, грачи и сноровисто заработали длинными носами.
Венька шел за плужком и думал невеселую думу. Вот и немца из Казачьего прогнали, а все трудно, и не скоро, наверно, полегчает. Может, когда картошка вырастет да хлеб поспеет? Но ведь их еще сажать, сеять надо!.. Когда-то они вырастут! А интересно, бывает ли, что похоронки ошибаются? Может, и к ним ошибочная пришла? И отец жив? Как это так: он был и уже никогда больше не вернется? Эх, хорошо бы ошиблась!..
Венька очень любил отца. Как сейчас помнит последний сенокос с ним в Хомутовском лесу. Понабирали тогда с собой всякой всячины — и ветчины, и пшена, и картошки— на весь месяц ведь уезжали. Постой, где же это они тогда косили? В Климакином логу? Нет. В Правороти? Да на Острове, за кордоном, вот где. Помнится, он, Остров-то, еще не был засажен сосняком — просторище, а кругом орешнику полно, по осени мешками носили орехи — и выщелкнутые и в гранях.
Прежде всего сделали с отцом шалаш для сна. У двух молоденьких березок макушки пригнули, связали, а сверху наклали жердей с наклоном, а на них — травы. Ох и жилище получилось! Днем жарища, от солнца не знаешь, куда деться, а в шалаше, как в погребе, — холодок. Завалишься на мягкое, духовитое сенцо, ну, чем тебе не барин! Правда, валяться особо-то не приходилось: косить вставали до солнца и махали косами до тех пор, пока роса на траве не высыхала. На ладонях — мозоли, все суставы болят, ноги — стопудовые. Но зато идешь к шалашу такой гордый, что будто ты нивесть какое диво сотворил: вон сколько травы навалял! «Ну, а теперь будем кулеш варить», — говорил отец. Он доставал ножик, точил его о монтачку и сам принимался чистить картошку, а его посылал хворост собирать и костер разводить. А кулеш получался! Одно объеденье! Ешь, ешь и все не наешься, только пузо пальцем щупаешь — не лопнуло бы, как барабан! «Еще, Веня, сальца съешь», — подсовывал отец смачные ломтики окорока. А тебе уж и не до сала, ни до чего, поскорей бы в шалаш нырнуть да на сено завалиться…
— Венька! Да ты куда глядишь, ослеп что ль! Плугом по траве елозишь! — раздался громкий голос Ульяны. — То-то, я чую, легко пошли! Задремал, что ль?
— Да не-е, — смущенно отозвался Венька и оглянулся: вместо борозды за ним тянулся тонкий, еле срезанный поверху, пластик земли. Ну и работничек!
— Иди отдохни чуток, — пытливо вглядываясь в лицо напарника, предложила Ульяна.
— Да я еще не устал, теть Уль. Просто замечтался.
— Ну гляди, коли так…
И коровы снова поплелись, волоча за собой враз потяжелевший плужок…
Федосья, радуясь, что девочка спит — сон лучше любого лекарства — прибралась в хате, затопила печь, поставила вариться крапивные щи. Ну, ничего! Лукерья вон пообещала доктора привезти, бог даст, отдышит. Надо бы о летней одежонке для нее что-то подумать, совсем девчонка обносилась.
Федосья открыла сундук, порылась в тряпье и достала свой давнишний сарафан. Развернула его, посмотрела на свет — вроде бы еще ничего. Вот и сошью из него платьице.
И, взяв иголку с нитками и ножницы, села за стол, задумалась. Выдюжит ли мальчонка в такой-то недетской работе? В каждый след его — и за дровами, и на огороде, и в поле… Не рано ли впрягла? Ну ничего, только один денек попашет. Был бы дома сам, все бы шло своим чередом. Сам… Да, муж у нее везде успевал: и огород, бывало, лошадью вспашет, лопатой ковыряться ей не дозволял. Хороший он у нее был, заботливый. Был… Неужели навсегда все это ушло из ее жизни? Неужто вот так все время теперь и будет? И что это к ней судьба такая немилосердная? Только ведь и пожила какой-то десяток лет. А то всю жизнь какая-то невезучая. И сиротой рано осталась — отец спьяну в поле замерз, а мать все животом маялась-маялась да тоже долго не зажилась. Оставила их пятерых, мал-мала меньше, и она — старшая. Сама-то еще девчонка, ну что там — семнадцать лет, а пришлось и кормить, и обстирывать ребятню. Хорошо еще, братишка Сергунька — он на три годочка млаже — помогал по дому. Так и тянула изо всех жил… И сейчас вот — раз и на тебе — вдова да еще с двумя на руках. Но куда ж деваться, у других-то тоже не мед, надо жить, ребят поднимать, фронту подсоблять…
Тяжелые думы прервал нетерпеливый стук в окно. Федосья аж вздрогнула. Отложила работу, бросила взгляд на Варьку — спит! — и вышла на крыльцо.
— Новость-то слышала? — затараторила соседка. — Григорий Веденеев пришел из госпиталя, пораненый — одной ноги вот по это самое нету. Гляжу в окошко, прыгает кто-то по проулку на костылях. Выскочила, а это он, Гришка. Постарел как! Бородища, как у Веденея.
— Хоть такой да пришел, — посмурнев, отозвалась Федосья.
Соседка помчалась с новостью к другим, а Федосья повернулась и пошла в хату. Достала зачем-то из-за иконы похоронку и, глядя на успевшую уже пожелтеть четвертушку казенной бумаги, горько заплакала…
Пахари довершили оставшийся клин к полудню — дружно подналегли!
— Лукерья наказала, как кончим здесь, переезжать вон туда, — сказала Настенка Богданова и ткнула кнутовищем в сторону Малого верха.
— А может, пообедаем сперва? Передохнем часок и поедем, — предложила Домнуха.
— Это наша воля, как сами решим, так и будет, — согласилась Настенка.
Отпрягли коров и пустили попастись, благо, рядом оказалась лощина. Она была устлана желтым, словно войлочным, ковром слежавшейся прошлогодней травы. Кое-где виднелись зеленые проплешины: молодая растительность набирала силу.
Расстелили жакетки, сели на траву, развязали мешочки и стали есть прихваченную с собой снедь. Не щедр был их стол: несколько яиц, бутылки с молоком да черные лепешки из гнилых картох. Но и их ели с аппетитом— наработались, наломались с плужками…
Цурюк вертелся тут же, подхватывая бросаемый щипок лепешки. Венька быстрее всех управился с едой и сидел, томясь от безделья.
— Беги, что ль, поиграй с Цурюком, а мы вздремнем полчасика, — сказала Ульяна. — А то он, обормот, будет тут носиться, глаз закрыть не даст.
Венька поднялся, свистнул собаке, и они побежали по склону лощины, к лесопосадке. Молоденькие тополя, посаженные перед самой войной, вытянулись и уже зеленели. Венька прикоснулся к одному топольку — ладонь стала сразу клейкой — и подумал: когда-то он вырастет большим? А ведь вырастет! Не будет уж, конечно, войны, все домой повозвращаются. И папа… Эх ты, опять!..
Он со зла поддал ногой сухой ком травы и тот разлетелся, соря трухой на молодые листочки топольков. Чем бы заняться? Машинально сунул руку в карман, наткнулся на коробок спичек. О! Постой-ка, Цурюк! Сейчас мы повеселимся!
Он вприпрыжку побежал обратно, туда, где, положив под головы пустые мешочки, уже спали утомленные женщины. Удостоверившись, что они спят, Венька зашел с наветренной стороны и начал поджигать спичками прошлогоднюю траву. Она мигом вспыхнула, как порох, и огонь пошел на спящих женщин. Венька сперва от восторга подпрыгнул, но потом, видя, как огонь неудержимо рвется к женщинам, похолодел от ужаса. Да что ж это он делает! И стал суматошно бить картузом по пламени, надеясь погасить его сам. Но огонь, раздуваемый свежим ветром, уже добрался до спящих. Вот он лизнул Ульянины голые ноги, жигнул Домнуху, и те, почуяв боль и ничего не понимая спросонья, видя только огонь, закричали благим матом:
— Ой! Горим! Батюшки! Горим!..
Подхватилась с земли и Настенка — пламя коснулось и ее. Побросав жакетки, женщины припустились бежать. Цурюк с лаем — за ними, решив, что те захотели вдруг поиграть с ним. И только пробежав с полсотни метров, остановились.
А Венька, не ожидая от своей затеи ничего хорошего, удирал в другую сторону, к селу. «Вот повеселился! — хватаясь за голову, думал он. — Ну, будет мне лупка!..»
Лупка ему вечером и впрямь была: широкий отцовский ремень походил по Веньке — попал под горячую материну руку.
Глава четвертая
В КУЗНИЦЕ
Побыл пришедший с фронта Григорий дома несколько деньков и пошел к бригадирке.
— Давай мне наряд на работу, Лукерья, — сказал он. — Время такое, что сидеть не позволено.
Помолчала с минуту бригадирка, взглянула на его костыли и ответила:
— Право, не думала я, Григорь Веденеич, что тебя так быстро к колхозной работе потянет, считала, что имеешь полное право и дома посидеть — инвалид ведь. Но коль пришел, выбирай сам, что под силу.
— Право-то я имею, верно говоришь. Но у каждого из нас и долг ныне великий… А я уж выбрал себе работенку, хоть и пыльна да не денежна.
— Ну-ну?
— Я ведь когда-то подростком у Максима Сотскова в молотобойцах ходил. Так вот попробую покузнечить: нужда, я вижу, в этом немалая.
— Еще бы, — вставила Лукерья. — Все бороны развихлялись, того гляди, рассыплются. Косы поклепать некому. Картошку нечем перепахивать: ни одной сохи — все сгорели в сарае. Ой, да куда ни кинь — один клин…
— То-то и оно! А ты говоришь, имею право сидеть дома!
— А где струмент-то возьмем?
— Похожу по домам, может, что и наскребу.
— Ну, благодарствую тебе, Григорь Веденеич!
— За что?
— Вот за все это и превеликое тебе от нас, баб, спасибо.
…Выйдя от бригадирки, Григорий покостылял к кузнице. Уцелела она в отгудевшей здесь огненной крутоверти, хоть и стояла без крыши: то ли бурей сдуло, то ль взрывной волной снесло. Но это полбеды, главное, целы и горн, и наковальня, а самое ценное — мехи.
Григорий взялся за подвешенный к закопченному потолку шест и разок-другой качнул им: мехи шумно и тяжко вздохнули, и из горка фукнула серая угольная пыль, заточило в косу. В мыслях тут же возникли давние картины…
Вот он, Григорий, тогда еще Гринька, коренастый и жилистый подросток, молотобойничает в этой кузне. Кузнец Максим, крупный и стройный, с красным от постоянного стояния у огня лицом, словно врос у наковальни, в фартуке, с клещами в одной руке и с молоточком-ручником— в другой. Держит горячую поковку, ручником в такт постукивает и наставляет:
— Ты молот-то не задерживай, не рви мускулы: ударил и сразу заводи его на новый удар. Иначе быстро пуп надорвешь. Так! Так! Путем, путем!..
Путем означает хорошо, и это подбадривает Гриньку. Бух! Бух! Бух! — мерно бухает послушная кувалда по гулкой наковальне. И это не кто-нибудь, а он, Гринька, кует!
Когда Максим пустым ударом по наковальне дает знак остановиться и ловко сует поковку в пышущие жаром уголья, Гринька живо отставляет молот в сторону и бросает нетерпеливый взгляд на широко распахнутую дверь: не идет ли по дороге Нюрка, Максимова дочка? О на каждый день ходит сюда, обед отцу носит. Гриньке же мать дает с собой еду. И эти минуты, когда Нюрка появляется в кузне, бывают для Гриньки самыми желанными. Увидит ее еще издали, ладненькую такую и недосягаемую, сердечко враз и екнет, забьется сладко. А потом глядит на нее украдочкой и не наглядится: ну всем-то она ему в душу запала — и золотистыми волосами, и пухлыми губками, и курносым, с задиринкой, носом — все-то в ней ему мило. Он почему-то всегда стеснялся есть при Нюрке и ждал, когда она, сложив в сумку опорожненную отцом посуду, уйдет, зыркнув в его сторону, глазами. Тогда он снимал с гвоздя мешочек, садился на верстак и мигом управлялся со своим обедом. Максим понимающе молчал и улыбался в жесткие усы…
Однажды Нюрка пришла с заплаканными глазами. Отдала обед отцу и, даже не взглянув на Гриньку, заторопилась домой.
— Ты что, дочка? — обеспокоенно спросил Максим.
— Да ничего… — уклонилась та и выпорхнула в дверь.
Гринька не утерпел — выскочил за ней.
— Ну чего пристал? — сердито обернулась Нюрка.
— А я…. я и не пристаю, — покраснел тот. — Узнать даже нельзя, почему плакала!
— Почему, почему — по кочану! Тебя не спросилась.
— Я думал, тебя обидел кто.
— Ну и что, если обидел?.. Пашка Горлов сейчас встретил и говорит, что это ты каждый день заладила на кузню — не в Гриньку ли втрескалась? А когда я ему в ответ сказала пару теплых словечек, он как развернется да…
— Ну я ему, Горлé слюнтявому, дам теперича! — вскипел Гринька…
Максиму он не хотел было ничего говорить, но тот уж очень заинтересовался их разговором и пришлось рассказать.
— За свою честь, Гриня, всегда умей постоять, — только и сказал кузнец и взялся за ручник. Гринька яростно взмахивал молотом и упорно думал, как проучить Пашку, ставшего непримиримым врагом. Нет, он не станет, как тот, подкарауливать его в глухом месте, а отплатит ему при народе.
Случай представился очень скоро: подошла пасха, а с нею — целая неделя кулачных боев на выгоне, по-казачьи, кулачек.
Широченный зеленый выгон кипит от гуляющего, празднично разряженного люда. Там наяривают «страданья» гармони, тут бабы пляшут «колчака», по всему выгону ходят, взявшись под ручку, парами и рядами с веселыми песнями девчата и парни. А вон у земляного вала и кулачки назревают! Здесь один только мужской пол — мальчишки, подростки да мужики — ни единой женской души. Это сугубо мужское дело — принародное испытание сил и удали, ловкости и бесстрашия, без чего нет мужчины.
Стоят друг против друга, лицом к лицу две живые стенки, ждут зачина, затравки. Начинают, затравляют, как правило, ребятишки. Приняв позу заправских кулачных бойцов, они звонко похлопывают ладонь о ладонь: вызывают сверстников на бой. Ну, давай, давай! Налетай, кто смел! И пошла потасовка! Кулачишки только знай постукивают по головам и бокам. С тыла заходить нельзя, лежащих не бьют, в кулак ничего не брать: нарушишь веками сложившийся обычай — свои же отколотят. Наскакивают и отскакивают ребята, словно петушки. Взрослые одобрительно покрикивают, подбадривают, сами постепенно входя в кулачный азарт.
Вдруг впереди одной из стенок встает рослый парень, в расстегнутой рубахе, с засученными по локоть рукавами. Лихо ударяет в ладони, солидно похаживая, выжидает себе равного, любца. И тот появляется. Вот яростно схватились, кулаки мелькают в воздухе… На помощь с обеих сторон выскакивают другие бойцы. Бой принимает грозный вид, от его накатывающегося вала гуляющие с криком и визгом шарахаются врассыпную. А стенка ломит стенку…
И когда стенка послабее рассыпается и бой вот-вот угаснет, выходит на середину, лицом к наступающим, высокий и широкоплечий мужик: хватит отступать! Он ждет поединка. И налетает равный ему кулачник: либо сбивает того с ног, либо сам от сильного удара вяло подгибает колени и пластом ложится на вешнюю землю. А тут уж встают новые бойцы, не дай бог, очутиться вблизи: моментом попадешь в страшный людской водоворот— сомнут под каблуками. Посторонних кулачный бой не любит, как не любит их и бой настоящий!
Гринька как подошел к назревающим кулачкам, так сразу и заприметил в стоящей напротив стенке Пашку. Коломесились пока еще мальчишки, но уже чувствовалось, что вот-вот выйдут и парни. К радости Гриньки, первым-то и выметнулся из толпы Пашка. Похлопывая ладонью о ладонь, он напористо пошел вперед, не встречая пока сопротивления. Гриньке того и надо было: коршуном вылетел он на середину и встал супротив Нюркиного обидчика. Пашка растерялся было, но тут же, сбычившись, ринулся на противника. И Гринька занес кулак. Всю злость вложил в свой первый удар, всю силу. Пашка снопом рухнул на зелень выгона, заливая кровью из носа сатиновую рубаху. Гринька даже не глянул на поверженного врага, побежал вместе с годками вперед, ломя чужую стенку. Боковым зрением он видел, как ловко бьется, сбивая с ног коротким ударом кулака противников, его друг Сашка, по-уличному Санчук, признанный среди парней кулачник. А сам невольно думал о побежденном Пашке: «Будешь знать, как лезть не к своим девчонкам!..»
Ох, как же давно это было! Где сейчас Нюрка, Аннушка Сотскова? Пока служил на действительной, она выучилась на агронома и уехала работать в соседнее Афанасьево. Говорят, вскоре там и вышла замуж…
Ого! Ну и развспоминался! Этак можно и весь день простоять! Да что же это он прохлаждается, словно бы и дел никаких нет. И Григорий, отставив к стене один костыль, взял прислоненную к верстаку совковую лопату и начал выгребать пепел и желтые уголья из горна.
В деревянном ларе обнаружил немного курного угля, а за кузней откопал в хламе вполне пригодное полосовое железо. На первый случай есть хоть чем косы поклепать. Осталось дело за инструментом и молотобойцем.
К вечеру, когда все уже приехали с поля, Григорий пошел по домам. Как и думал, у одних сыскался молоток, у других — зубило или клещи. А вскоре и вовсе повезло. В село после жарких боев прибыл на краткий отдых казачий корпус Белова. Кавалеристы надавали Григорию столько всякого инструмента, подков и ухналей, что тот радовался, как мальчишка. Ничего, что подковы и гвозди пока будут лежать без надобности — появятся скоро и у них в колхозе лошади, не век же на коровах пахать да скородить.
Что же до молотобойца, то и он нашелся. Однажды, когда Григорий, раздув огонь в горне, клепал собранные Лукерьей косы, в кузницу шагнул Мишка.
— Одному-то, небось, несподручно, дядь Гриш? — сказал он, поздоровавшись.
Григорий промолчал, потом спросил парня:
— Ну и с какой ты заботой ко мне?
— Можно я у вас помощником буду, молотом бить?
— Бить молотом — одно, а молотобойничать, брат, другое дело! Посерьезнее.
— Научусь, дядя Гриша! Давайте попробую!
И остался с того дня Мишка в кузне — понравился он Григорию.
А вскоре пришел к нему еще один помощник — Семка. Привел его в кузню Мишка.
— Вот он у нас будет горн раздувать.
Григорий при виде незрячего подростка глубоко вздохнул, но ничего не сказал, а только молча кивнул головой…
В распахнутую дверь кузни широким потоком льется вешний солнечный свет, озаряя даже темные углы и закоулки. Семка сидит на ларе и, держась за шест, качает мехи. Григорий и Мишка чинят сошники. Уютно, по-домашнему пышет невидимым на солнце жаром горн, позванивает по наковальне ручник.
Ожила кузня, наполнилась живыми голосами, веселыми звуками металла. Словно и не было у нее тоскливой поры запустения, не стыл от мороза и безлюдья горн, не безмолвствовала наковальня. Человеческие руки вдохнули в ее душу тепло, пробудили от кошмарного забытья. И село огласилось извечным, радующим людские сердца, звоном.
Глава пятая
ЗАГОВОР В ЧАСОВНЕ
Покидая Казачье, кавалеристы оставили колхозникам семь выбракованных коней. Лукерья Стребкова рада была без памяти: теперь можно и отставку давать коровенкам. Инвентаря кузнецы наготовили вдоволь, сбруя, хоть и плохонькая, но есть. Повеселее пошли дела в бригаде.
Венька с вечера получил наряд — скородить за Таборами только что вспаханное под картошку поле. Табора — это место так называется, там когда-то в старину цыгане любили раскидывать свои шатры. Широкая, поросшая шиповником лощина весною вся в цвету, а неподалеку, в большом овраге, по долине Хомутец течет, — вот и облюбовали они это местечко.
Мать чуть свет разбудила Веньку. Тот послушно встал было, но стоило Федосье отойти в чулан, как он снова лег и уснул. Подошла Федосья, глянула на сынишку, свернувшегося калачиком, и, сокрушенно покачав головой, махнула рукой: пусть еще хоть полчасика поспит…
А Варька была уж на ногах — не спится стрекозе. Взяв ведерко, она упорхнула за водой.
— Гляди, половинку черпай! — крикнула ей вдогонку мать.
Варька вернулась мигом: принесла полное, по ушки, ведро. Мать пожурила:
— Я ж тебе, неслуху, сказала — половинку! А ты что? Не смей больше по полной носить!
— Ладно, мам, ладно. А Веня еще не встал?
— Жалко будить.
— Да ведь он строго-настрого наказывал, чтоб разбудили в шесть. Ему на Табора ехать, я слышала.
И Варька решительно пошла расталкивать брата. Тот сердито замычал, но все же встал. Пошлепал в сенцы, умылся студеной ключевой водой, вошел в хату совсем проснувшийся.
— Поешь молочка, сынок, — сказала Федосья.
— Не хочу, мам, я лучше с собой бутылочку возьму.
— Да и туда хватит, садись поешь.
— Правда, еще не хочу…
Мать быстро собрала мешочек с харчами, и Венька, прихватив кнут, вышел из хаты.
На бригадном дворе он взял из деревянного амбара, где когда-то, до войны, хозяйничал дед Веденей, сбрую и пошел запрягать каурого меринка. Надел и засупонил хомут, прицепил постромки к валькам, а к ним— бороны. И тронул лошадь, бороны кверху зубьями поволоклись, застучали по неровной дороге.
С околицы села открылось широкое поле, пролегшее до Хомутовского леса, видневшегося на горизонте. Вон — Прогон, справа — Косой верх, слева — Малый, а за ним, чуть подальше, — и Большой верх. Еще недавно гут повсюду шли жаркие бои. Крепко досталось фашистам от наших: до сих пор по обочинам дороги стоят брошенные ими машины и пушки.
Веньке вспомнилось, как наши наступали на село от Богомолова сада. Он тогда смотрел в окно. Бежали по Дубровскому верху, который немцы заранее пристреляли из орудий. Венька видел, как в гуще атакующей цепи то и дело рвались снаряды. Он только зубами скрипел от бессильной ярости: как на полигоне, проклятые, расстреливают! Хотелось крикнуть бойцам: ну куда ж вы лезете! Правее, правее забирайте, в обход — там снаряды не достанут! Но до верха — добрых две версты, разве ж они услышат, разве ж им помочь! Позже стало известно, что шли наши бойцы в лобовую атаку неспроста, сознательно шли под снаряды: отвлекая огонь противника на себя, пока батальоны обходили Казачье с флангов.
А потом в хату ворвались гитлеровцы, выбили оконную раму, стали пулемет втискивать. Но он не влезал, и солдаты зло ругались. Они с силой вытолкали мать и Веньку с Варькой наружу. Пули впиваются в снег почти у самых босых ног, кругом громыхает, рвется — что делать? Мать схватила их за руки и — в погреб. Там и отсиделись, пока немца не прогнали…
Венька не заметил, как подъехал к Таборам. Завел лошадь на пашню и стал боронить. Земля была глудковатая, борона запрыгала по комьям, еле-еле рыхля почву. Пришлось поискать камень и навалить его на борону. Дело пошло лучше. Земля холодила босые ноги, застревала меж пальцами. Но на такие мелочи Венька не обращал внимания. Он только быстрее стал погонять мерина.
Скородил долго, пока не заломило в пояснице. Пекло солнце, стало поташнивать. Вспомнил, что он еще не завтракал. Остановил лошадь, окинул взглядом поле и возрадовался: гектара два, пожалуй, смахнул! Можно и поесть.
Венька отпряг лошадь и отвел ее в овраг, на траву — пусть тоже подкрепится. А сам взял мешочек с харчами и отправился к часовне, что стояла у большака. Это древнее строеньице, нивесть кем и когда поставленное, укрывалось в густых зарослях сирени. Сюда-то и пришел Венька. Уселся в тенечек, быстро опорожнил бутылку с молоком, лег, подложив пустой мешочек под голову. Легкая истома охватила наломавшееся в работе тело.
Сколько проспал — сказать трудно. Пробудил же его чей-то разговор, приглушенно доносившийся из часовни. Что бы это значило? Венька навострил ухо. Разговор было слышно, а слов не разобрать.
Тогда он осторожно подполз к часовне, к самой стене. Из неплотно прикрытой двери с противоположной стороны явственно донеслись слова сперва одного, потом и другого человека — значит, в часовне двое…
— Я говорю, до лета вы тут продержитесь. А дальше что?
— Немцы опять сюда придут. На днях их самолет листовки разбрасывал, сам читал: будет большое наступление. Обязательно вернутся.
— Бабка надвое гадала. Вам надо запасаться патронами, провизией и править по ночам к передовой. Там не трудно будет и к немцам пробраться.
— А где мы возьмем патронов?
— Есть у меня одна мыслишка: что если прощупать партизанские землянки за Праворотью? Наверняка там что-то осталось.
— Это ты дело говоришь! Сегодня же вечером и наведаемся.
— Только учти, там Косорукий живет. Помнишь, небось, его?
— Как не помнить, по нему давно пуля плачет… Как-нибудь справимся с ним…
Голоса смолкли.
Венька отпрянул от стены и нырнул в сирень.
Через минуту скрипнула дверь, и из часовни вышли двое. Они озирались по сторонам и крадучись двинулись в лесопосадки, тянувшиеся вдоль всего большака.
Венька подождал немного и побежал лощинкой к оврагу, где паслась лошадь. Быстро поймал ее, вскочил на спину и помчался к селу.
Дорогой сообразил: надо ехать сразу к кузнецу Григорию, тот что-нибудь придумает — солдат ведь. Надо спасать дядю Евстигнея. Его партизанский отряд прекратил свое существование: по сути, от него остался один командир — бойцы сразу же влились в действующую армию. Евстигней хотел было тоже уйти на фронт, но куда ему с одной-единственной рукой — не разрешили. Так и остался один жить в партизанской землянке, бывшем их штабе, кордон-то фашисты спалили. Стал приглядывать за лесом, на то он и лесник. Все оружие отряда Косорукий передал нашим частям, себе же оставил автомат, несколько дисков с патронами да троечку гранат— так, на всякий случай.
И вот сидит он сейчас, дядя Сигней, в своей землянке и не знает, что над ним нависла смертельная опасность…
— А ты это, братец, не придумал? — усомнился Григорий, услышав от разгоряченного быстрой ездой парня сбивчивый рассказ.
— Да провались я на этом месте! — заклялся Венька. — Чтоб мне на свете отца-матери не видать!..
— Ну, ладно, ладно. Если уж отца с матерью помянул, как тут не поверить. Иди с Мишей за лошадьми — верхом поедем.
Венька с Мишкой пулей слетали на конюшню, вывели свободных лошадей и примчались к кузнице.
— Подсобите-ка, мне, — попросил Григорий.
Ребята помогли кузнецу вскарабкаться в седло, сами тоже вскочили на лошадей, и все помчались к лесу.
Евстигнея нашли недалеко от землянок. Он рыхлил междурядья саженцев.
— Здорово, Сигней! — приветствовал его Григорий. — Ты уж тут, гляжу, во всю своим хозяйством занялся.
— Хватит, повоевал — о лесе пора теперь думать, вон как его изуродовали, — ответил тот. — С каким делом-то?
— Дело-то есть, и серьезное. А ну рассказывай, малец!
И Венька, торопясь и волнуясь, пересказал то, что увидел и услышал в заброшенной часовне.
— Ну и ну! — удивился лесник. — Выходит, не совсем еще я отвоевался…
Выработали план: дожидаться «гостей» не в землянке, а поодаль, в можжевеловых зарослях.
…Как только начало смеркаться, лесник взял автомат, запасный диск и увел Григория с ребятами в можжевельник. Кузнецу подал две лимонки. Еще дал им полушубок и те, расстелив его, улеглись рядом, не спуская взгляда с землянок.
Лесник залег с противоположной стороны землянок, в кустах бересклета.
Прошел час — никого. Взошла луна, осветив окрестность: высоченные дубы, тропу, ведущую от опушки к землянкам.
Григорий снова было засомневался: не приснилось ли парню? Как вдруг вдали на тропе замаячили тени. Ближе, ближе. Подкрадывались двое. Кузнец, Мишка и Венька прильнули к земле, наблюдая за незнакомцами.
Не доходя до землянок, те остановились, минут пять стояли не шелохнувшись — прислушивались. Посовещавшись, они снова осторожно двинулись вперед. Вот уже подошли к двери передней землянки, еще немного постояли. Один из них потянул дверь на себя, и вскоре оба скрылись в землянке.
Из бересклета в мгновение ока метнулся Евстигней. Схватил заранее приготовленное бревно и припер им дверь землянки. В ту же минуту изнутри грохнул выстрел! Лесник кошкой прыгнул от двери — не задело!
Григорий с ребятами подскочили к нему.
— Все! Сидят субчики! Никуда им теперь не деться! — возбужденно заговорил Евстигней и, подойдя поближе к землянке, крикнул: — Оружие — в окно! Иначе бросаю гранату!
Землянка зловеще безмолвствовала.
— Слышите! Бросайте оружие!.. Григорий, дай-ка сюда гранату!..
В дверь тотчас же замолотили кулаками. Раздался голос:
— Сдаемся…
— Повторяю, оружие — в окно! Живо! — еще раз приказал лесник.
Звякнуло стекло, и из окна на траву полетели два немецких шмайсера.
Евстигней подобрал автоматы и наказал Григорию быть наготове, отодвинул бревно от двери. Из землянки, держа руки над головой, вышли два верзилы. Кузнец ощупал у них карманы, в то время, как лесник стоял напротив с наведенным на них автоматом. Оружия больше не оказалось.
Григорий ловко связал незнакомцам руки и приказал идти вперед.
Мишка с Венькой сбегали к Кошкину колодцу за оставленными там конями и вскоре верхом догнали Евстигнея и Григория, шагающих позади пленников.
…На допросе выяснилось, что это были полицаи, но не из Казачьего, а из соседней деревни. Не успели почему-то уйти со своими хозяевами. Хотели пересидеть до лета в пустом блиндаже — это на них нарвались тогда ребятишки в походе за грачиными яйцами.
Глава шестая
УБИЙСТВО ЛЕСНИКА
Лукерья Стребкова обходила поля. Душа у нее радовалась при виде зеленеющего клина яровой пшеницы.
— Если все и дальше так пойдет, — будет добрый урожай. И фронту помогут и самим колхозникам толика останется. Только бы дождичек прошел!..
Бригадирка не заметила, как вышла к Большому верху. На его склонах буйствовала разноцветьем густая трава: высились островки вьющегося мышиного горошка, пламенел мохнатыми папушками сочный клевер, тянулся вверх конский щавель и желтели метелочки пахучего донника.
«Красота-то какая! — думала Лукерья. — Сколько корму! А косить не для кого — скота ни в бригаде, ни на дворах колхозников. Но не погибать же траве. Надо будет косцов набрать и начинать косить. Может, к осени район коровенок выделит…»
Лукерья нагнулась, сорвала пучок травы и поднесла к лицу: пахнуло медом и прохладой. «Косцов, косцов сюда!..» Так, с пучком зелени в руке, и направилась к селу…
А вечером у хат звонко застучали молотки: бабы отбивали косы. Григорий закрыл кузницу, пришел домой, достал с сеновала косу и тоже стал отбивать ее. А куда кузнец, туда и его подручный — Мишка тоже засобирался на сенокос.
На следующее утро Большой верх запестрел от бабьих платков, вышли все, кто умел держать косу в руках.
Первый прокос делал Григорий Веденеевич. Крепко держа косу, он уверенно и умело повел широкий ряд.
— Ну, с богом, девки, и мы пошли! — скомандовала Лукерья и встала в затылок кузнецу. Трава покорно легла к ее ногам. Завжикали, заходили косы по густому травостою: вжик! вжик! вжик! Зазвенели весело о жала кос расторопные монтачки…
Самыми последними шли юные косари — Мишка, Валек и Венька. И не потому что они были неопытны в этом мужском деле, нет, они косили и до войны с отцами, просто взрослые решили пощадить их детские силенки— пусть потихоньку тянутся за всеми. Это негласное снисхождение немного обидело ребят, и они, напрягаясь изо всей мочи, старались не отстать. Мишка чувствовал, что еще полчаса такой бешеной косьбы и он сдаст. На майке не было сухого места, глаза застилал едкий пот, приходилось часто моргать, сдувать ртом капли с кончика носа. Но отставать не отставал. Изредка взглядывал на ребят и видел, что и у них силенки на исходе. Нет, мы еще потягаемся! И косы в ребячьих руках, змейками сверкая в траве, валили и валили в рядки сочную зелень.
— Шабаш! — крикнул где-то впереди кузнец Григорий. Отерев лезвие косы пучком травы, он закинул косье на плечо и устало пошагал к кустам жимолости, где лежали мешочки с харчами.
Женщины одна за другой тоже заканчивали свои ряды и шли обедать. Последними пришли ребята. Потуже не капал, а ручейками стекал с их разгоряченных лиц. Подойдя к обедающим, они рухнули на пышный валок травы и раскинули руки — блаженствовали.
— Ну что, мужички, умаялись? — подсела к ним бригадирка.
— Немного, теть Луш, — слабым голосишком ответил Валек.
— Так, самую малость! — проявил полную солидарность с другом Мишка.
— Ну, отдыхайте, а потом дадим вам поручение: принесете водички из Кошкина колодца.
— Хорошо, тетя Луша! — готовно подхватил Венька. — Тогда мы пошли.
— Да отдохнули бы, непоседы!
Ребята взяли по два цинковых ведерка и направились в сторону леса.
Вот и Хомутовский лес. Словно бы и не проходила тут со зловещей разрушительной машиной война: молодью деревца, вытянувшись, зеленели, шелестя листвой, трава, вымахавшая по пояс, скрыла от глаз окопы и воронки, отовсюду доносилось нестройное птичье пенье. Природа торжествовала над войной.
— Хорошо, ребята! — восторженно заулыбался Мишка.
Вдали приглушенно и грустно куковала кукушка. Она словно бы искала, кликала кого-то, а тот, только лишь ей ведомый, все никак не отзывался, и птица, перелетев на другое место, продолжала звать настойчивым кукованьем.
— Кукушка, кукушка, сколько мне лет осталось жить? — крикнул изо всей силы Мишка.
То ли от внезапного крика, то ли еще отчего, кукушка перестала куковать. Но через минуту снова раздалось ее неприкаянное «ку-ку».
— Ишь ты, мне не захотела предсказывать! — сказал Мишка, нимало не огорчаясь тем. — А ну-ка ты, Вень, спроси.
— Кукушка, кукушка, сколько мне осталось жить? — прокричал Венька.
Прозвучало краткое «ку-ку». Потом еще и еще… Птица куковала долго и у Веньки на губах засветилась радостная улыбка.
— Спасибо тебе, кукушка!.. Миш, а ты веришь в это?
— А почему же не верить! Верю. Еще в старину так загадывали, значит, и тогда люди верили. Все хотят долго жить…
— Хорошо бы дожить до победы, когда на нашей земле ни одного фашиста не останется, — мечтательно произнес молчавший до этого Валек и добавил: — Нет, до того времени, когда на всей земле не будет фашистов!..
И друзья продолжали шагать по траве, любуясь цветным ковром леса, слушая самозабвенные песни пернатых певцов. Разговаривать не хотелось. Думали об одном: если бы не было войны, они бы сейчас косили тут со своими отцами. А теперь вот заботы вдвойне легли на их плечи. Только бы выдержать, выдюжить…
Незаметно подошли к Кошкину колодцу. Поставив ведра на траву, ребята, не сговариваясь, сели, глядя на коричневую, настоянную на прошлогодних листьях, воду колодца.
— А правда, что здесь ведьмы в старину собирались? — спросил Валек.
— Правда, — сказал Мишка. — А думаешь, отчего же колодец называется — Кошкин! Здесь, говорят, на черных кошках колдовали, темные дела разные против людей замышляли. Злые люди, они завсегда не могут видеть спокойно, как радуется кто-то…
— И откуда они только берутся!
— А им, ведьмам, тоже доставалось за их зло, — продолжал Мишка. — Мне бабушка, когда была жива, рассказывала, как один дядька шел по улице ночью, а навстречу ему колесо катится. Он — в сторону, а колесо — и нему. Дядька, не будь дурак, взял то колесо сцапал, раскрутил с себя веревку, он был ею подпоясан, да и продел ее через ступицу… А наутро люди узнали, что одна бабка дома на печи лежит и корчится: изо рта у нее веревка торчит узлом завязанная. Так и узнали, что она ведьма…
— Ух, ты!
Помолчали.
— Братцы, давайте навестим дядю Сигнея! — предложил Мишка. — Он, я знаю, тут недалеко.
— Давай! — охотно согласились ребята.
Оставили ведра у колодца и полезли вверх по крутому склону глубокого оврага. Вот и землянки.
— Дядя Сигней! — громко позвал Венька. Видя, что из землянки никто не выходит, повторил еще громче: — Дядя Сигней!
Землянки безмолвствовали.
— Наверно, ушел в обход, — предположил Мишка.
— А может, спит, не слышит нас? — сказал Валек.
— Давай зайдем.
Вошли в одну землянку — пусто, во вторую — и в ней лесника не оказалось. Но почему же он оставил землянки открытыми?
И тут Валек, приглядевшись, заметил на пороге капли крови.
— Ой, гляди, и тут кровь! — испуганно вскрикнул Венька, разглядывая траву снаружи: кровавая дорожка вела от землянки к кустам можжевельника… Ребята насторожились, мороз прошел по коже.
— А может, это дядя Сигней какую дичь убил? — предположил Мишка. — Может…
Двинулись к можжевельнику, не спуская глаз с цепочки кровавых пятен. Зловещий след вел все дальше и дальше. Наткнулись на окровавленный немецкий тесак. Брать его не стали. Однако у Валька мелькнула пугающая мысль: тесак ему знаком! Такой же Валек подобрал на огороде после ухода немцев из села — мать им рубила лебеду да крапиву на щи… Вон и зазубрина посередине такая же…
И вдруг ребятам открылась страшная картина: под большим можжевеловым кустом, изогнув голову, лежал с открытыми глазами человек — лицо его было в крови. Даже не подходя близко, узнали лесника Евстигнея — лежащий человек был одноруким…
Забыв про ведра у колодца, ребята опрометью побежали к Большому верху.
…Весть о гибели лесника взбудоражила косцов. Кузнец Григорий вскочил на лошадь и поскакал в лес, к землянкам. А бригадирка велела двум женщинам быстро запрячь в телегу еще одну лошадку и ехать вслед: не понадобится ли там их помощь…
В тот же день из райцентра спешно прикатил на бричке следователь и с ним милиционер с собакой-ищейкой. След собаке взять не удалось: убийца искусно замел его, посыпав траву табаком. Было установлено, что неизвестный прокрался под утро к землянке, где спал лесник, с помощью того же тесака сумел отодвинуть внутренний засов и проник в землянку. Лесник, по-видимому, заслышал шум, но поздно. Схватить автомат ему не удалось, и завязалась рукопашная схватка. Но что мог сделать застигнутый врасплох, безоружный, к тому же однорукий человек! Убийца нанес ему смертельный удар тесаком под лопатку. Затем оттащил убитого в можжевельник, при этом обронив окровавленный тесак. Это была одна-единственная ниточка к разгадке страшной ночной тайны…
Вечером ребята собрались на берегу Гаточки. Их потрясла неожиданная, таинственная смерть лесника, бывшего партизанского командира.
— А что если это немцы сбросили диверсантов и они убили? — высказал догадку Семка.
— Тогда бы самолеты мы услышали, — отверг Семкину мысль Мишка.
— Может, они ночью прилетали, а ночью все спят…
— Не-е, по-моему никаких диверсантов не было. Тут кто-то из местных, — стоял на своем Мишка.
— Я бы ни за что не стала жить одна в лесу, — вставила свой голосок Варька.
— Все бабы, известно, трусихи! — отрезал Семка.
— А вот и не трусиха я! — обиделась Варька. — Я, если хочешь знать, одна ночью на двор хожу, без мамы.
Только Валек не проронил ни слова, думая о чем-то своем. А думать ему было о чем. По возвращении из леса он первым делом бросился в чулан, посмотреть, лежит ли тесак в печурке. Тесака не оказалось…
Ребята договорились пойти к оставшемуся в селе следователю и предложить ему свою помощь в разыскивании таинственного убийцы.
…Придя домой, Валек спросил у матери:
— Мам, а ты не знаешь, куда подевался тесак, каким ты крапиву тяпала?
— Нет. А что?
— Да нет его что-то нигде.
— А в печурке-то не глядел? Да на что он тебе?
— Надо…
И пред глазами Валька встала виденная им днем картина: убитый лесник под кустом можжевельника, а на траве — окровавленный тесак. Их тесак!.. Значит, брат его, застреленный на огороде, был связан с убийцами партизанского командира. Единственная ниточка, ведущая к разгадке тайны, обрывалась.
Глава седьмая
НЕРАВНЫЙ ПОЕДИНОК
В это утро Венька встал, едва лишь заалел восток. Накануне он решил пойти к Кукуевской мельнице порыбачить. Сказывали, что в омуте развелось много щук. Рыболовная снасть — удочки, самодельный подсачек, приманка, пустое ведерко для добычи — была подготовлена с вечера и дожидалась в сенцах.
Венька сладко потянулся напоследок и, предвкушая приятное занятие, вышел из хаты. Стараясь не шуметь, осторожно взял рыболовную снасть и вышмыгнул из сенец на улицу. Огородами до Кукуевской мельницы рукой подать, и вскоре он стоял под старым вязом и разматывал удочку. Ту, что с тонкой леской и маленьким зазубриком. Требовалось сперва поймать рыбешку, чтобы потом на живца выловить щуку.
Первой попалась на крючок селявка — крошечная, с серебристо-желтыми боками рыбка. Венька бережно, боясь порвать жабры, снял ее с крючка. Раскрутив другую удочку с более крепкой леской и крупным зазубриком, нацепил живца и закинул леску на самую середину омута. Сам сел на трухлявый пень и стал ждать клева…
Утро было чудесное. Безветреное и предвещавшее солнечный день. Теплый воздух не холодил тела, а приятно освежал его. Спать не хотелось ни капельки, несмотря на такую рань. С проулков доносилось дружное разноголосое пенье петухов, то там, то тут над крышами из печных труб поднимались в небо дымки: люди просыпались, начиная свой новый рабочий день. Венька невольно перенесся мысленно в свою хату. Мать сейчас тоже, конечно, встала и тихонько, чтобы не разбудить Варьку, собирается на пастьбу: колхозных коров пасли поочередно и нынче была их очередь. А между сборами затапливает мать печку, готовит завтрак, варит молодую картошку. Хорошо, что она уже появилась, все теперь не так голодно: оплетешь полчугунка, пусть даже без хлеба, со свежими огурчиками, молока полмахотки выпьешь и до вечера сытехонек. С картошкой жить можно!..
Поплавок резко ушел под воду, и леску потянуло вбок. Венька мигом выдернул удилище из земли и ухватил ее обеими руками. Почувствовал, что на крючке крупная рыбина. Щука!
Удочка заходила в руках, и Венька на первых порах растерялся: не удержит! Но тут же справился с собой и стал навязывать добыче свою волю. Он потянул рыбину к мели и дал ей глотнуть воздуха. Щука разинула зубастую пасть и рванулась с мели в глубину. Венька поотпустил леску, боясь, как бы она не оборвалась. Потом снова поволок щуку на мелководье. Подтащил и изо всех сил стал держать рыбину на месте. Щука, наглотавшись воздуха, умерила прыть и стала слабее. Но не настолько, чтобы ее можно было взять голыми руками. Она снова попыталась было уйти в глубину, однако Венька не дал ей воли. А потянул к берегу, и рыбина перестала сопротивляться, пошлепывая лишь хвостом по темной воде. Подсачек оказался как нельзя кстати: щука вскоре уже была на берегу. «Ого! Килограмма на три будет!».
Высвобождать крючок Венька не стал, боясь, как бы щука не тяпнула за палец. Пусть немного полежит, присмиреет, тогда не трудно будет снять ее с крючка. И он оставил рыбину лежать на траве…
В это время послышался чей-то голос. Глянул вверх, на бугор, и увидел мать.
— Веня! Да ты что, оглох? Зову, зову, а он не слышит!
— Мам! Погляди, какую я щуку сцапал! — воскликнул Венька.
— Вижу, вижу! Но ты кончай ловить, тебе придется сейчас коров на пастьбу гнать…
— Почему? Ты ведь собиралась.
— У меня другие дела. Кончай, пошли домой.
Венька нехотя стал свертывать снасть, запихивать снятую с крючка щуку в ведерко. Надо же! Такой везучий день было начался…
…Стадо коров, а с ними и бык Чемберлен, стояло на Киндиновом дворе. Венька, прихватив из дому ременный кнут и мешочек с едой, открыл жердевые ворота, выпустил скотину и погнал стадо за околицу. Пасли последнее время в Большом верху.
Венька пригнал стадо в елань — широкую приречную долину, поросшую буйной травой, и пустил его пастись. А сам развалился на солнцепеке и стал глядеть в небо. Высоко-высоко, в дрожащем мареве, трепетали на одном месте поющие без умолку жаворонки, голубизна неба настраивала на раздумчиво-мечтательный лад. Интересно, если полететь прямо и прямо, попадешь ли на какую-нибудь планету? Да и неужели они есть там, эти планеты! Если есть, то тогда почему же они не видны — вон кругом одно небо. Но раз учительница говорит, что они есть, значит, есть. Она зря не скажет. А вот интересно, воюют ли там, на планетах? Если б воевали, то опять же было бы слышно, как стреляют… Нет, там, наверное, не воюют, дружно живут. Это на нашу страну то одни, то другие лезут, все им хочется нас завоевать. Теперь вон немцы приперлись, мало им своей земли… Сунулись да не вышло. Захотелось кошке чужого сала — получила по мысалам…
Так размышляя, Венька и не ведал, что приближается беда. И она нагрянула, да с той стороны, откуда ее и не ждали. Приподнявшись, Венька увидел, что несколько коров и бык Чемберлен отделились от стада и уходят в сторону села. Видимо, допекли оводы. Венька бросился наперерез, волоча за собой кнут. Добежав, он резко щелкнул перед носом передней коровы. Та взбрыкнула задними ногами и приударила назад, к стаду. За ней — другие коровы. Но Чемберлен и не думал подчиняться. Сколько Венька ни хлопал кнутом, он даже ухом не повел. Тогда Венька больно стегнул неслуха. Глаза у Чемберлена от злости налились кровью, и он угрожающе двинулся на Веньку. Тот струхнул и бросился бежать, часто оглядываясь назад. Однако и Чемберлен прибавил ход и настигал беглеца.
Венька увидел полузасыпанный окоп и бросился к нему, пытаясь укрыться в нем от разъяренного животного. Но, добежав, с ужасом понял, что это укрытие не спасет. Времени на дальнейшее размышление уже не было, и Венька повернулся лицом к настигающему его быку. И тут же сильным ударом был сбит с ног. Чемберлен по инерции пробежал еще немного и, взрывая копытами пыль на старом бруствере, круто развернувшись, пошел в новую атаку. На этот раз Венька, даже не успевший вскочить, оказался прижатым между рогами к земле.
Как ни странно, страх покинул Веньку, в нем теперь было одно чувство: не поддаться Чемберлену, иначе крышка! Он собрал все силы, руками и ногами оттолкнул от себя ненавистную рогатую голову и ухватился за кольцо в широко раздувающихся бычьих ноздрях. Бык опешил, так по крайней мере показалось Веньке. Он дернулся башкой, пытаясь освободиться от неожиданно пронзившей ноздри боли, но Венькина рука вцепилась мертвой хваткой.
И Чемберлен присмирел. Он стоял, уставившись на полулежавшего пастушка красными от крови глазищами. Венька осознавал, что отпусти он кольцо и бык снова припрет его рожищами к траве. Только бы хватило силы! Пальцы занемели, рука дрожала, во рту пересохло от волнения, пот заливал глаза…
Венька попытался приподняться на ноги, и это ему удалось: к его удивлению, бык даже не попытался двинуться с места. Рука продолжала крепко держать кольцо. Бегло огляделся — ни души. Что делать?
И тут все его существо охватил холодный страх: неужели ему суждено погибнуть!
И Венька в отчаянии закричал.
Чемберлен в испуге дернулся мордой назад, но Венька был на страже и не выпустил кольца. На смену страху пришла ненависть, злость на Чемберлена, так и ждущего, чтобы растерзать его. Венька вспомнил про кнут, который, выпав из рук, валялся неподалеку. Хотел дотянуться до него ногой, но тут же подумал, что кнут не спасет: ведь не побоялся же бык, когда он стегал его.
И такое охватило Веньку отчаяние, что он закричал прямо в морду быку:
— Ну что тебе, фашист проклятый, от меня надо! У-у-у!..
Чемберлен мотнул головой, но боль в ноздрях снова пронзила его.
— Не отпушкай его! Шмотри, не отпушкай! — раздалось за Венькиной спиной. Он обернулся и увидел несмело подкрадывающегося к месту неравной схватки Витька Дышку.
— Витек, помоги мне! Витек! — проговорил Венька.
— А што я должен шделать? Прикажывай! — спросил немного осмелевший Дышка. — Я его щас как штегану кнутом!
— Погоди! Не бери кнут! У тебя спички есть?
— Нету.
— У меня есть. Набирай скорее сухой травы. Да живее! Больше набирай.
Витек бросился на колени и стал судорожно сгребать пятернями прошлогоднюю траву.
— Хватит! Тащи сюда и сворачивай в жгут!
— Понял! — отозвался Витек и стал крутить жгут.
Венька пошарил свободной рукой в кармане брюк и, вытащив коробок, бросил его Витьку.
— Поджигай!..
Обламывая от волнения спички, Дышка наконец зажег жгут: сухая трава вспыхнула, как порох.
— Суй быку в морду! — приказал Венька.
Витек бросился вперед и бесстрашно ткнул горящим жгутом в бычью морду. Венька выпустил кольцо, и Чемберлен, в испуге сделав стойку, развернулся и бросился вспять.
Венька в изнеможении опустился на траву.
— Вень! Ждорово он тебя, да? Больно?..
— Не-е, — только и смог вымолвить обессиленный Венька…
Глава восьмая
ЖАТВА НА ВЕДЕНЕЕВОМ ПОЛЕ
Перед вечером Лукерья Стребкова обошла все дома в бригаде и дала наряд:
— Ладьте крюки, завтра выезжаем косить рожь на Веденеевом поле.
Люди назвали поле за Косым верхом, где погиб дед Веденей, его именем.
И застучали в каждом дворе молотки, зазвенели застоявшиеся без дела отбиваемые косы.
Мишка и Венька ладили сразу по два крюка — себе и матерям. Варька тоже упросила брата взять ее с собой на поле: «Буду воду вам носить», — сказала. И он согласился, вспомнив, как на недавнем сенокосе сам таскал косцам воду из Кошкина колодца. Крюк — это косье с длинными деревянными зубьями внизу. Когда косишь, зубья не дают стеблям ложиться под косой на землю, а доносят их в валок. Не всякий сможет косить крюком, тут нужна сноровка и сила, ведь почва под хлебами неровная, и коса должна ходить не по земле, как при косьбе травы, а на весу. Но Венька накануне поучился работать с крюком на зарослях крапивы. Он столько ее навалял за гумном, что соседка — Аринка Кубышка съязвила:
— Что, Вениамин, аль на зиму для щей запасаешь?
Вреднющая баба эта Кубышка! От колхозной работы воротит нос, как черт от ладана, а на железнодорожную станцию чуть ли не каждый день шастает: носит лепешки на продажу проезжающим. И где она муку берет, не понятно? Поговаривают, что Кубышка ходит по ночам в поле и стрижет колоски. Обмолотит, смелет зерно на самодельной меленке и стряпает лепешки. Ну, погоди! Когда-нибудь мы до тебя доберемся, — заключил Венька, добивая крюком последние скопления крапивы-жгучки…
Рано утром по улице двигалась подвода, и сидевший на ней кузнец Григорий останавливался под окнами домов, кричал:
— Эй! Выносите крюки на телегу! Выезжаем за Косой верх!
Колхозницы выходили из хат, складывали косы на подводу и сами шли за ней, с мешочками в руках — с харчами на обед.
Начало жатвы! Испокон веку это был для крестьянина торжественный праздник. Ради долгожданного дня, когда на хлебном поле сверкнут косы и стебли с тугими колосьями лягут в ряды, а потом появятся на словно бы остриженном клину первые крестцы снопов, было столько пролито пота и недоспано ночей.
Нынешняя жатва для жителей Казачьего, как и для всех советских людей, была особой: фронт ждал хлеба. Солдаты, изгоняющие врага с родной поруганной земли, оставили косы своим женам, матерям и сестрам да еще детям. Вот и тут, за Косым верхом, были одни женщины да дети, да еще увечный кузнец Григорий, который, раздав крюки, сам встал во главе косцов.
— Ну, бабоньки, начнем! — сказал он, и лицо его словно бы помолодело. Он сделал шаг вперед деревянной ногой, и коса, описав полукруг в воздухе, срезала стебли желтой ржи; они покорно легли на стерню, словно золотые от солнца. И пошли за Григорием косцы, держа интервал, взмахивая в такт крюками: сначала бригадирка, за ней Настенка Богданова, следом Ульяна Лобынцева, Федосья Багрова с сыном да Домнуха Горохова. За взрослыми — ребята… Ряды выходили плотными — добрый уродился хлеб! Будет что и фронту отправить, и на семена засыпать, и людям на трудодни дать.
Над Веденеевым полем — ни облачка. Солнце, как начищенный медный таз, сияет, палит над головой. Косцы, разгоряченные и потные, стараются не замечать его, взмахивают и взмахивают крюками, временами отирая ладонями пот со лба.
Мишка уверенно шел, не отставая от взрослых ни на шаг. Правда, прокос у него получался уже, чем у них. Косу он отбил на славу, и стебли легко и неслышно валились на крюк, а с него в валок. Гоны были длинные, и Мишка, пока шел из конца в конец, успевал намечтаться вволю.
А вспомнилось ему последнее предвоенное лето, такая же уборочная пора, когда он с отцом ездил за Большой верх косить рожь. Косил-то отец вот таким же крюком, а Мишке он давал его лишь изредка — учил исподволь. Думалось ли тогда отцу, что совсем скоро его заменит вот на этом поле он, Мишка! И заменит с честью: если бы он увидел сына, то не устыдился бы за него. Венькиному отцу уже никогда не придется держать в руках косу, не ощущать тяжести литых колосьев на ладони. Да только ли ему не придется увидеть это хлебное поле и вон то яркое знойное солнце! И дед Веденей навсегда ушел из жизни, оставив свое имя полю, и Ленька, Мишкин дружок, и Петька… Многих своих хозяев ты уже не дождешься, родное поле!
…В то предвоенное лето уродилась хорошая рожь, и косцы, чтобы не тратить попусту время, ночевали прямо в поле. Намахавшись за день крюками, они спали под открытым небом, на ворохе свежей соломы. Мишка помнит, как отец ложился навзничь и, прежде чем уснуть, беседовал с ним. Там Мишка и узнал от отца всю его, а следовательно, и свою родословную.
— В нашем роду, Мишатка, все были земледельцы: и дед твой, мой отец, и мой дед, а твой, выходит, прадед сеяли хлеб, — говорил отец. — Тогда колхозов не было, наделы земельные имели, правда, не бог весть какие. Но землю все Богдановы любили, от нее не отрывались. И она за эту любовь кормила весь род…
А Мишка, слушая и прижимаясь к сильному плечу отца, думал, что и сам он тоже будет землепашцем, как все в его роду. Он научится и косить рожь, и молотить цепом. И вот он, Мишка, уже косит хлеба наравне со всеми, а отец незримо наблюдает за его работой. И наверняка доволен сыном — не срамит он богдановский род.
За день бригада смахнула большой клин ржи. Если так и дальше пойдет, то за неделю все Веденеево поле будет убрано. А там надо еще снопы вязать, в крестцы ставить, а потом свозить на ток и молотить. Работы непочатый край.
Такие беспокойные мысли одолевали Лукерью Стребкову. Сумеют ли они успеть и сжать и обмолотить хлеба до сентябрьских дождей? Цепами-то молотить не больно споро, промолотишь до «белых мух». «Завтра надо будет съездить в район, может, какую-нито молотилку выделят»…
Поездка Лукерьи в райцентр была удачной: через два дня в бригаду приехал потрепанный и часто чихающий ХТЗ и привез на прицепной тележке сложную молотилку. Тракторист немедля стал с помощью кузнеца Григория устанавливать ее на току. И вскоре молотилка была готова. Приводить ее в движение должны были пять лошадей, припряженных к длинным деревянным дышлам-водилам.
С косовицы были сняты несколько женщин и ребята. И вот настал день пуска молотилки. Свезенные с поля снопы высились скирдой рядом с молотилкой. Мишка взобрался на кожух шестереночной передачи в середине круга и, встав во весь рост, взмахнул кнутом:
— А ну пошли, гнедые и каурые! Но!
И лошади, натянув постромки, пошли по кругу, вращая вал. Ремень привел в движение барабан молотилки. Григорий развязал свясло, бросил первый сноп на приемную доску, и барабан, получив работу, натужно и громко загудел, отфыркиваясь соломой напополам с половой. Из желоба на землю потекла струйка зерна.
— Но, пошевеливайся! — погонял лошадей Мишка.
Молотилка ускорила темп, глотая сноп за снопом, ржаной ручеек превратился в сильную струю. Григорий едва успевал подавать снопы в жадно глотавший зев молотилки. Быстро росла груда соломы, медленно вырастал ворох зерна.
Мишка крутился в кругу, как бес, крутя над головой кнутом. Он то свистел и покрикивал на уже притомившихся лошадей, то начинал ласково их уговаривать:
— Но! Но! Залетные! Веселей ходи! Давай, давай, милые, живей!
Струнами натянуты ременные постромки, летит пыль из-под копыт, запаленно дышат животами лошади, яростно гудит и гудит ненасытная железная машина.
Мишка сбросил рубаху и швырнул на солому. Тело его налилось силой, душа переполнялась неизъяснимым азартом. Ему было любо видеть: и это веселое круговращение, и вихрем летящую из барабана солому, и на глазах растущий ворох золотистого зерна.
До обеда обмолотили полскирды. Выпрягли лошадей, и Мишка с Венькой и Григорием погнали их на Воргол, к Миронову мосту.
— Искупнемся, потом пообедаем. Хоть пот малость смоем, — сказал Григорий.
Лошадей загонять в Воргол не было надобности: завидев широкий плес реки, они сами устремились к воде. Зайдя в нее по репицу хвоста, они остановились, блаженно пофыркивая и мотая головами.
Григорий и ребята разделись не спеша и тоже ухнули с коряги в прохладную воду. Мишка и Венька сразу же выскочили из глубины, а кузнец вынырнул аж на середине реки и поплыл по-матросски, сильно загребая воду сразу обеими руками.
— Плывем на тот берег! — крикнул он ребятам.
Те часто завзмахивали руками и бросились догонять Григория.
А потом они лежали на траве, наслаждаясь тишиной и любуясь рекой и купающимися в ней конями.
— А здорово ты плаваешь! И ныряешь глубоко! — восхищенно промолвил Мишка.
— Море всему научит, — отозвался кузнец. — Случилось однажды со мной такое, что и вспомнить-то страшно. Служил я тогда на действительной, еще до войны. Возвращался как-то на свой корабль ночью — ходил на базу с донесением. Корабль стоял у причальной стенки, а ночь была темная, я и оступись и полети в воду. А дело было поздней осенью. Вода холодная. Плыву вдоль стенки и чувствую — сводит ноги. Догадался снять с форменки значок, стал колоть ноги булавкой. Бушлат снял, но все равно ботинки мешают, а их просто так не снимешь. Плыву, а стенке конца краю нет. Пытаюсь дотянуться до верха руками — не тут-то было, стенка высокая. Ну, думаю, каюк пришел! А кричать толку мало, не докличешься в такую пору: кругом темень и ни души… Не знаю, что со мной было бы, не случись по счастью один рыбак рядом — он на своей шаланде с фонарем домой с моря возвращался. Увидел меня и выволок, как кутенка, из воды…
Григорий умолк. Венька невольно вспомнил о своем недавнем поединке с Чемберленом, когда смерть вот так же заглянула ему в глаза, — не подоспей тогда на помощь Витек Дышка, тоже бы, считай, каюк…
Переплыв Воргол, Мишка, Венька и кузнец оделись, выгнали лошадей из воды и — снова на ток. К вечеру вся скирда снопов была обмолочена. А на току между тем выросла новая скирда ржи, колхозницы подвозили снопы на четырех подводах.
…На третий день молотьбы ночная сторожиха бабка Устя пожаловалась бригадирке, когда та пришла утром на ток:
— Сыскивай-ка, Лушенька, другого караульщика, а меня уволь. Я еще пожить хочу…
— Ты чего это, бабка Устя? Аль что тебе тут угрожает — сиди себе да постукивай в колотушку.
— Угрожает не угрожает, а скажу я тебе, кто-то на ток шастает. Нонече вот явственно слыхала, кто-то как шмыгнет от вороха на Конов огород! Вот те Христос! Я так вся и перепужалась. Стучу колотушкой, а у самой зубы что тебе колотушка выстукивают…
— Приходили, говоришь, на ток? — насторожилась Лукерья.
— Приходили, золотко мое, приходили. А кто — во тьме-то рази ж углядишь!..
Бабка Устя покопала палкой солому под ногами и опять за свое:
— Уволь меня все-таки, Лушенька, за ради бога от этого дела!
— Ну, а кто ж караулить-то будет, бабка Устя? Ведь все при деле.
— Ну дай мне тогда какое-нито ружьишко! Все не так боязно будет. А то что я сделаю с одной-то колотушкой…
— Нету у меня ружья, где я его возьму. А насчет вора что-нибудь подумаем. Только замену не проси и не жди, некем тебя заменять — каждый человек на счету.
— Ну да ить чего поделаешь, придется, видно, караулить. Я ить понимаю, Лушенька, все понимаю…
— Слыхали, кто-то на ток по ночам похаживает, зерно ворует, — сказал друзьям Мишка.
— Ну и што иж того! — нисколько не удивился Дышка.
— Как что! — возмутился Венька. — А разве же это нас с тобой не касается! Мы землю пашем, сеем, молотим вот, паримся, а какой-то паразит его растаскивать будет! А мы, по-твоему, должны глаза закрыть — пусть себе волокут. Нетушки! За это зерно, брат, дед Веденей жизнь отдал, понял!
— Да я ш вами шеликом шоглашен, — отозвался Витек. — Но што мы шделаем?
— После работы что-нибудь вместе придумаем, — заключил Мишка.
Когда на село опустились сумерки, Мишка открутил в огороде от плетей огромную тыкву, выковырнул из нее середину и сделал ножичком сквозные прорези глаз, носа и рта. А Веньку попросил принести простыню и поискать дома огарок свечи. Прихватив с загнетки спички, Мишка забежал за друзьями, и они отправились на ток.
Бабка Устя, завидев ребячьи фигуры в сгустившихся сумерках, громко заколотила колотушкой.
— Бабка Устя! — донесся до нее голос. — Не бойся, это мы.
— Чего вам, окаянные, тут надобно! — заворчала та. — Пошто не спите, честной народ пужаете?! Вот как тресну колотушкой, будете знать!..
Мишка быстро ввел сторожиху в свой замысел, и та помягчела. Условились, как только она заслышит вора, подаст знак — часто заколотит колотушкой.
Ребята присели на солому и, прижавшись друг к другу, стали ждать. Молчали. Мишке вспомнились фронтовые друзья. Венька думал о Варьке, своей младшей сестренке: последнее время та стала часто грустить, вспоминать отца, а то, глядишь, и тихонько заплачет. Скажешь ей: ну чего ты? — а она еще пуще зайдется. Зря ей тогда сказали про похоронку…
А Витек Дышка вспоминал родную Залегощь, куда его тянет всегда-всегда. Можно бы, наверное, и ехать туда, ведь немца, говорят, прогнали. Но мама что-то медлит, прознала, что дом их спалили фашисты — маскировали свое отступление дымом. А что на пепелище делать! Но не только поэтому тянет мать с переездом: фронт ушел недалеко от Залегощи, могут еще и вернуться немцы-то…
Чу! От молотилки донеслось частое стуканье колотушки — бабка Устя знак подает. Ребята навострили уши: у ржаного вороха кто-то возился, слышалось шуршание зерна.
— Пошли, — шепнул Мишка. Ребята присели на корточки, зажгли, закрываясь полой пиджачка, огарок свечки, сунули его в пустотелую тыквину. Венька взял ее в руки, мигом взобрался на шею присевшего Мишки и накрылся с головой простыней. Мишка распрямился и медленно пошел вперед. По току двигалось страшное привидение, в белом, с горящим изнутри черепом. Оно безмолвно приближалось к вороху зерна, где затаился кто-то… И тут тишину вечера прорезал истошный крик:
— А-а-а! Помогите! Помогите! Свят, свят, свят!..
Ребята без труда узнали голос Аринки Кубышки и ее толстую низенькую фигуру, бросившуюся наутек с тока. Преследовать ее не стали. Зачем? Знали, что ее ноги уже больше не будет здесь…
— Ну и придумщики! Ну и мастаки! — восхищенно покачивала головой караульщица. — Такое, спаси Христос, отчебучили, что и у меня-то мурашки по спине пошли!
— Все, бабка Устя! Теперь тебе и ружья не потребуется! Сторожи себе спокойно, колоти в свою колотушку!
И Мишка, забросив ненужную больше тыкву, пошел с друзьями с тока.
Глава девятая
В НОЧНОМ У ГОРЮЧ-КАМНЯ
Григорий позвал Мишку и Веньку в ночное.
— Как смеркнется, приходите на Киндинов двор: погоним табун к Горюч-камню. Накопайте картошки — печь будем.
…Над угрюмой глыбой Горюч-камня повисла тонюсенькая серьга молодого месяца. Она озаряет скупым, безжизненным светом и раскинувшуюся внизу луговину, и тусклые воды Воргола, и небольшой холмик на самой вершине Горюч-камня — Петькину могилу.
Тишина. Слышно, как на недальнем лугу пофыркивают пасущиеся кони, шумит на быстрине речка, да иногда где-то жутко прокричит незнакомая ночная птица…
Григорий остался внизу на лугу ладить костер, а Мишка с Венькой, вскарабкавшись по каменному склону на кручу Горюч-камня, молча стоят у могилы друга.
Мишка попытался представить себе, как погибал их вожак вот здесь на открытом ветрам крутояре. Отсюда видно все Казачье, и Петька, под дулами вражеских автоматов, как бы держал перед земляками свой последний тяжелый экзамен.
— Миш, а вот тут немецкие мотоциклы стояли, — сказал Венька, отойдя немного от кручи. — Отсюда они стреляли в него…
Венька наклонился и зашарил рукой в траве.
— Ого, вот гильза! Другая!
Мишка подошел и, опустившись на колени, тоже стал искать. Нашел такую же заржавевшую немецкую гильзу. Подбросил ее на ладони: может, из нее вылетела пуля, пробившая Петькино сердце!.. В траве что-то блеснуло. Мишка поднял ножичек, трофейный, с белой костяной ручкой! Севкин ножичек, который Петька тогда, в день гибели друга, взял себе. И Мишка положил неожиданную находку в карман.
Внизу, на разлужье, загорелся костер. Он засветился в беспредельном ночном пространстве красной негасимой точкой, и ночь была бессильна пред ним, таким маленьким и упорным.
— Пошли! — позвал Мишка Веньку. И они заскользили по каменной круче к Ворголу.
Лошади разбрелись по лугу.
— Не убегут, дядь Гриш? — забеспокоился Венька.
— Зачем им бежать от такой благодати…
Ребята постлали на траву пиджачки, легли и стали смотреть на жаркое пламя костра. Сухие ивовые сучья горели дружно, потрескивая и постреливая по сторонам искрами. Мишка до мельчайших подробностей вспомнил другую, предвоенную ночь тут же в ночном. Тогда вот так же у полыхавшего костра сидел седоусый дед Веденей и рассказывал о Горюч-камне. Знать бы ему тогда, что его красивая и гордая легенда вдохновит Петьку на не менее прекрасный подвиг! А разве совершенное самим дедом Веденеем — не подвиг? И вот теперь сидит у точно такого же костра сын его, бывший моряк, изувеченный в сражении за Родину. И он, Мишка, тоже пришел сюда с поля боя…
Пламя костра между тем угасло, лишь ярко и паляще светились в подступившей мгле головешки.
— Пора класть картошку, — сказал Григорий.
Мишка и Венька раскопали палками головешки и побросали на них картофелины, укрыв их горячей золой.
— Пока она печется, хотите, я расскажу вам про свой последний бой? — предложил Григорий.
— Хотим, дядя Гриш!
— Эсминец наш в первые же дни войны был потоплен, — начал тот. — Воевали мы на земле, слыхали, небось, про морскую пехоту! На Севере это было, в Заполярье. Батальон наш получил приказ выбить противника с берегового мыса: там он поставил орудия и бил по нашим кораблям, ходу им не давал. С моря к нему подступиться и думать было нечего, решили — с суши. Думали-думали и придумали. Решили взять шашки дымовые и ночью подползти как можно ближе к их позициям и затаиться до утра. А утром мы должны были те шашки зажечь и тогда батальон под дымовой завесой пойдет в атаку. Пошел наш взвод, вернее, пополз — часа два ползли, а потом до рассвета лежали у немцев под носом. По условному сигналу зажгли шашки, а фрицы как влупят из минометов, — не знали мы, что у них еще и минометы есть. От дыма ничего не видно, мины рвутся, спасения нет! Видим, дело труба! Мы — полундра! — и вперед, не дожидаясь батальона. Погибать, так с музыкой! Навалились на огневые позиции и — врукопашную! Бьем прикладами, колем, руками голыми давим, проклятых, но нас-то горстка — почти весь взвод полег на том мысу, пока батальон подоспел. Сбросили мы все-таки немчуру в море. А я вот… ногу там потерял… Жалко, рано отвоевался…
Поспела картошка. Григорий палкой повыкатывал ее из золы, и все стали есть, соскребая горелую кожуру Севкиным ножичком. Вкусно-то как!
Григорий положил на тлеющие уголья хворост и принялся раздувать пламя. Вскоре оно вспыхнуло, озарив выпачканные печеной картошкой лица ребят.
— А теперь ложитесь спать, — приказал Григорий. — Часочек-другой вздремнете — погоним лошадей на двор.
Ребята прижались друг к дружке и вскоре заснули. Григорий снял с себя пиджак и заботливо укрыл их. Сам сел к огню и задумался. Жестока, безжалостна, война! Даже детей не щадит, бьет без разбора. А все потому, что жесток и беспощаден тот, кто ее начинает. Забывает, что и у самого есть дети, что и они могут испытать такие же муки и лишения. И какой же непосильный груз лег на плечи нашего народа.
Григорий не заметил, как задремал, сидя у догоревшего костра. Очнулся он от тревожного ржания лошадей, донесшегося от реки. Что бы это значило? Лошади не переставали ржать и бить копытами…
— Ребята! Ребята! — позвал Григорий, и те мигом вскочили, непонимающе протирая глаза, — Кто-то коней напугал!
И все разом бросились к Ворголу. В дымке предрассветного тумана они увидели сгрудившихся у берега коней и пытающегося подобраться к ним зверя. Волк! Григорий зычно крикнул:
— У-лю-лю-лю! Ату! Ату! Пошел, дьявол! У-лю-лю-лю!..
— Ату! Ату! — подхватили ребята.
Волк оглянулся и трусцой побежал к ближайшему оврагу.
— Вот, черт! Конинки захотел отведать! Видно, плохи его дела, если на целый табун в одиночку напасть надумал…
— Эх, ружье бы сейчас! Мы бы его срезали! — сожалел Венька.
— Зачем людей лишний раз булгачить, они уж и без того пуганы. А волк вон и так убежал… Ну, ребятки, погоним табун!
Взяв у костра уздечки, стали ловить коней.
Вскоре по предрассветному лугу разнесся дробный стук конских копыт — табун мчал из ночного.
…В этот день бригадирка велела Григорию делать с ребятами накат на Мишкину землянку. А у молотильного барабана решила денек постоять сама. И те, не мешкая, принялись за дело: топоры весело застучали по бревнам.
— Не горюй, не навек строим: придет батька с войны, кирпичную хату сложит, — сказал Григорий Мишке, видя, как тот невесело оглядывает земляное жилище.
Мишка ничего не ответил и с ожесточением заработал штыковой лопатой, набрасывая землю на уложенные бревна. Григорий оторвался от работы и, сложив ладонь козырьком, вгляделся в идущего по проулку человека:
— Вроде как солдат топает! Кто бы это мог быть? Постой, да это ведь, кажись, Алексей Коновалов! Он и есть! Алеха! Да ты уж не с того ли света заявился?!..
Подошедший солдат поприветствовал работающих. Вгляделся в лицо Григория:
— Никак, Григорий Ведехин?
— Он самый.
— Давненько с тобой не виделись! Ты ведь как ушел на действительную, так больше и не приезжал? А меня в июле сорок первого призвали. Тогда почти все Казачье оголили.
— Могли б и вовсе не увидеться. Ты хоть знаешь, что на тебя похоронная пришла?
— Какая похоронная?!
— Обыкновенная, по всей форме: такой-то и такой-то пал смертью храбрых…
— Ну, брат, задача! И когда ж ее принесли?
— Да порядочно уже.
— И как же мать?
— Известно, как: убивалась порядком по первости, а потом малость попритихла. Как бы ты ее не доконал своим приходом.
— Задача так задача!.. — закручинился солдат. — Не думал я о такой встрече… А похоронке не мудрено появиться: я ведь, Гришуха, и в самом деле одной ногой на том свету побывал. Проход мы на ничейной полосе разминировали, и попалась мне мина с секретом, — рванула почти рядом — руки напрочь и голову осколками всю исклевало. Не знаю, как и остался жив, крови с ведро потерял, пока с ничейной выволокли. Все в госпитале думали, что не жилец уж я… А я вот… дома…
И тут только Григорий разглядел, что у Алексея нет обеих рук по локти и все лицо испещрено мелкой фиолетовой рябью.
— Да, брат, рано нас фриц пометил, быстро отвоевались… А мать надобно подготовить к встрече, не ровен час не выдержит старая. Посиди-ка тут, я схожу.
И кузнец направился к Коновалихиному дому.
Ребята видели, как у солдата ходили на скулах бугристые желваки — волновался.
— Дядя Лень! — обратился к нему Мишка. — Не переживай очень, все уладится, главное, вернулся.
— А твой отец, Мишутка, воюет? Жив-здоров?
— Ага. Только давно что-то не пишет — мать беспокоится.
— И у тебя батька все летает? — спросил солдат Веньку.
Вместо ответа тот молча опустил голову.
— Понятно… — заключил солдат.
— Убит он, дядя Лень. Похоронку прислали…
Солдат хотел было сказать, что, может, тоже ошибочная, но промолчал, зная, что с похоронками редко ошибаются.
В это время в проулке появился Григорий и рядом — Коновалиха. Она беспорядочно семенила ногами, держась за кузнеца слабыми руками, а сама все тревожно и нетерпеливо всматривалась в тех, кто стоял у строящейся землянки.
Алексей не выдержал; кое-как поддернув на плече вещмешок, он быстро зашагал навстречу, а дошагав, бросился к матери, неуклюже обхватил ее дрожащее от безмолвных рыданий тело культяпками и уткнулся лицом в седые волосы.
— Мамушка! Родная моя! Вот я и опять с тобой. Ну, не плачь, не плачь!..
А сам весь содрогался от еле сдерживаемого плача, жгучие слезы орошали пряди материнских волос. У Мишки запершило в горле.
А у Веньки появилась надежда на возвращение отца.
Глава десятая
В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ
Мишка, не раздумывая, откликнулся на просьбу бабки Коновалихи сходить с ее сыном Алексеем в Елец заказать протезы.
— Уж ты, Мишунька, сходи. Куды ему, такому-то калеке, одному, по нужде и то без помочи не управиться…
— Ладно, бабушка, ладно — схожу!
Вышли рано — до города пятнадцать верст и все их надо отмерить ногами. Хотя, конечно, для солдат это— не расстояние.
— А здорово село изуродовали! — сокрушенно сказал Алексей, когда вышли на окраину села. С горы было видно все Казачье, с церковью посередине, с обугленными остовами обеих школ, сельсовета и многих хат. У обочины большака все еще валялись бесформенные останки вражеских машин — след панического бегства гитлеровцев от Ельца, на поле зияли глубокие снарядные воронки.
— Большой бой был, когда освобождали Казачье? — поинтересовался Алексей.
— О, еще какой! — ответил Мишка. — Я на колокольне в то время был…
— Это зачем же тебя туда занесло? — удивился Алексей.
— Не занесло, а мы с одним солдатом огонь наших батарей корректировали. А потом я тоже на фронте был…
— О-о! Да ты герой, оказывается!
Мишка хотел было рассказать, как он навел орудийный огонь даже на свою хату, близ которой стояли немецкие пушки, как ходил в разведку, но раздумал: обидело недоверие собеседника, видевшего в нем обычного мальчишку. Резкую перемену в настроении юного спутника почувствовал и тот:
— Ну, чего насупился! Я ведь ничего такого тебе не сказал… А знаешь, и в нашей части был один паренек: подобрали его в белорусской деревне, еле живого. Немцы сожгли там все до одной избы и людей поубивали, говорят, за связь с партизанами. А парнишка уцелел, спрятался в подвале. Сырой картошкой питался, нечем больше. Там мы его и нашли. Взяли сперва в обоз, а потом, когда выправился, стал посыльным при штабе. Ты-то был не посыльным?
— В разведке.
— Ну ты, братец, даешь! Опять меня срезал.
Это откровенное признание примирило Мишку с Алексеем.
Так с разговорами они и дошли до города. Прямо на самой окраине его, по обе стороны дороги, увидели широченный противотанковый ров и «ежи» из сваренных рельсов.
Елец тоже был изрядно разбит: взгляд часто натыкался на развалины каменных, с подтеками копоти, зданий. На одной из улиц высилась громадная куча кирпичей, щебня и бетона. Им сказали, что здесь фашистские стервятники разбомбили наш госпиталь: ни один раненый не спасся. Прямым попаданием в ночное время ударили: кто-то ракетами навел самолеты.
Прежде всего надо было побывать в военкомате. Однако там не оказалось нужного начальника, и Алексей остался ждать его, а Мишку отпустил поглядеть город.
Елец! Мужественный и многострадальный город — южная окраина русского подстепья. Не раз налетали на него с Дикого поля тучи степных кочевников и осыпали стрелами крепостные стены. Тамерлан, дорогой ценой выиграв кровавую битву, предал огню и опустошению этот маленький несгибаемый городок, смело вставший со своей немногочисленной дружиной на пути его несметных полчищ. Вот и для гитлеровских орд древний город стал последней роковой чертой.
Мишка шел по улицам города и всюду видел разрушения. И подумалось ему, что хоть и в малой мере, но и он причастен к освобождению родных мест.
Пришел Мишка к высокому речному обрыву за величественным собором, откуда открывался широкий вид на заречную часть города. От железнодорожного узла долетали частые гудки паровозов, а по мосту то и дело гулко громыхали товарняки: на платформах — накрытые брезентом орудия, танки. Шли поезда на запад, по направлению к Орлу.
Еще раз окинув взором привольно раскинувшееся заречье, он повернулся и пошел в военкомат.
Алексей уже ждал его, пора было возвращаться домой. В военкомате выдали нужный документ на срочное изготовление протезов рук.
Перекусили в чайной на Торговой улице и пошли по сквозной улице, носящей имя славных коммунаров, вступивших в неравный бой с белогвардейцами. Перейдя на окраине города Ефремовскую дорогу, они увидели стоящий у обочины большака «виллис». Около него был только шофер в замасленной гимнастерке — накачивал колесо.
— Не подкинешь нас, браток, до Казачьего? — обратился к нему Алексей.
Тот оторвался от дела и посмотрел на подошедших:
— Чего же не подвезти! Подождите немного, накачаю— поедем.
Шофер, видать, устал: чернявые волосы мокрыми прядями прилипли ко лбу.
— Я бы тебе помог, да видишь… — извиняюще пожал плечами Алексей.
— Как не видать, — отозвался тот.
— Давайте я, дяденька, покачаю? — вмешался Мишка.
— Ну, потренируйся, — уступил ему насос шофер.
Мишка заработал быстро-быстро, но вскоре сбавил темп.
— Ты не спеши, малец. Тише едешь — дальше будешь! — подсказал шофер, закуривая. — Сальник что-то пропускает, оттого и долго качаем.
Покурив, шофер подошел к колесу, пнул его сапогом и бросил Мишке: — Шабаш! Поехали.
«Виллис» помчался по разбитому большаку, подбрасывая седоков на ухабах.
— На фронт? — поинтересовался Алексей.
— Куда ж еще… А ты, гляжу, насовсем отвоевался!
— Не дали больше повоевать, гады.
— Не знаешь, где ждет тебя погибель, — продолжал шофер, — недавно под Верховьем ихний истребитель так прищучил меня, что насилу ноги унес. Поле чистое, ни кустика, а он, паразит, на бреющем за мной да как вжарит из пулемета! Я командира своего вез, ну, думаю, убьют, как пить дать! Замедляю ход и кричу ему, чтоб прыгал из машины. Тот так и сделал. А сам я дальше помчал, чтоб от командира пулеметный огонь отвести. Отъехал метров сто и сам из кабины да в кювет. Лежу ни жив ни мертв, а пули полынь секут. И ведь запалил, окаянный, машину-то. Удостоверился, что горит и улетел восвояси… А это у меня уже новый «виллис».
Машина ехала по Казачьему.
— Ну, где вам остановить?
— Вон, сразу же за мостом, — ответил Алексей, а выйдя из машины, поблагодарил шофера: — Ну, спасибо, брат, за то, что подбросил. А то бы мы все еще топали. Счастливо тебе отвоеваться!
Шофер молча кивнул головой, и «виллис» поехал дальше.
А дома ждала нехорошая весть: Лукерье Стребковой затянуло под молотильный барабан руку и оторвало пальцы.
— Слышим, как закричит Луша-то не своим голосом, ну мы давай скорей лошадей окорачивать, — рассказывала возбужденная Домнуха Горохова. — Глянули, а у нее вся рука в крови и без пальцев. Уложили мы ее на солому, а на ней лица нет. Догадались платком перетянуть руку, а я кофту с плеч и давай обматывать рану.
— Ну и где ж она? — спросил Алексей нетерпеливо.
— Дома сейчас. Позвонили в город — машину оттуда ждем, в больницу надобно везти…
Алексей с Мишкой побежали к бригадиркиному дому. У порога встретили Настенку Богданову, Мишкину мать.
— Ох, сыночек, горе-то какое!..
— Как там она? — спросил Алексей.
— Плачет. Говорит, не ко времени такое приключилось, хоть бы хлеб убрали…
Лукерья лежала на кровати, с мокрым от слез лицом.
— Ну, как же это ты не убереглась! — начал Алексей.
Лукерья не отозвалась, только чаще заморгала глазами.
— А Григорий-то где ж был?
— Кончал вон у них землянку ладить, — и Лукерья указала глазами на Мишку.
— Понятно. Ну, ничего, до свадьбы заживет.
— До свадьбы-то, может, и заживет, а хлеба только начали убирать: пойдут дожди — сгноим… Судьба, видно, тебе, Алексей, побригадирствовать. Тебя как сам бог сюда послал.
— Ну что ты, Луша! У меня ведь почище твоего — обеих рук нет…
— Ничего, ты — мужик!..
Мишка за все время не проронил ни слова. Смотрел на мучающуюся не столько от физических, сколько от душевных страданий бригадирку и сочувствовал ей. Он мысленно поддержал ее, когда та предложила Алексею бригадирство. Кому ж, как не ему, руководить бригадой! Григорий? Он специалист, его нельзя занимать другим делом: иначе и кузница и техника вся без хозяина останутся.
— Дядь Лень! Тетя Луша права — тебе надо брать бригаду, — подал голос Мишка.
С улицы донесся гул мотора: приехала из города машина.
В хату вошел мужчина, видимо, санитар, и помог Лукерье выйти и сесть в кабину. Машина уехала.
— Ну и дела! Как говорится, с корабля на бал, — сказал Алексей. — Видимо, придется и в самом деле запрягаться, — и, не заходя домой, отправился с Мишкой на ток…
Беда в одиночку не ходит. В этот же день бык Чемберлен закатал в поле до смерти бабку Секлетею, был ее черед пасти колхозное стадо.
Григорий, узнав о гибели матери, пришел в ярость. Схватив дома кувалду, он покостылял на Киндинов двор, куда женщины пригнали стадо.
— Ты куда? — встретил его Алексей.
— Пусти, убью гада!..
— А ну стой! Ты чего нервы распустил, как баба! Ну, убьешь ты быка и кого удивишь! Остынь, брат. Злость— плохой советчик. Сами и виноваты: зачем такую старую послали на пастбище!
— Кто ж ее посылал! Сама и настояла: все, говорит, на молотьбе, кому-то надо и скотину пасти…
Похоронили бабку Секлетею рядом с дедом Веденеем…
Глава одиннадцатая
ОПЕРАЦИЯ «ПЫШКА»
Ночью прошел дождь с грозой. Молотьба приостановилась. Мишка с Венькой, пришлепавшие было по грязи на ток, встретили там только сторожиху бабку Устю.
— Какая уж теперь молотьба! За весь день, пожалуй, не просохнет, — посетовала она, а когда ребята стали уходить, добавила: — Кубышка-то опять за свое принялась! Бабы вчера стадо с поля гнали — видели, как она по верху кралась с мешком колосьев. Пшеничку стригла. Мало, видно, ее тогда проучили…
— Это точно, бабка Устя? — переспросил Венька.
— За что купила, за то и продаю…
Дорогой прикидывали, как наказать неунимающуюся в своей жадности Кубышку. В голову не приходило ничего путного.
— Надо сперва рекогносцировку произвести на местности, — сказал Мишка.
— Что, что? Какую концировку? — непонимающе уставился Венька.
— Ну, по-военному, разведку.
— А-а!..
Решили: в хату к Кубышке зайдет Мишка. Надо только придумать, зачем. Венька остался на улице, а Мишка пошел.
Кубышка сидела на лавке и крутила ручную мельницу. Пот тек с нее градом. Увидев на пороге Мишку, она попыталась загородить мельницу дебелым телом, но тот смиренно глядел себе под ноги, словно его ничего здесь не интересовало.
— Теть Ариш! У вас не будет немного серников?
— С чего это ты взял, что у меня есть серники! Сама огнивом высекаю. Нету, нету — зря пришел…
— Что ж, ладно… — и Мишка вышел из хаты.
— Ну, что делает? — встретил вопросом Венька.
— Пшеничку сидит мелет.
— Значит, вечером будет ставить тесто, а спозаранку— печь пышки на продажу.
— Надо сорвать ей это дело! Итак, назовем операцию — «Пышка»…
Вечером, подкравшись к чуланному окну, ребята еще раз провели рекогносцировку на местности. Их догадка подтвердилась: Кубышка, поставив деревянную дежку на табуретку, увлеченно месила в ней мясистыми руками тесто. Потом она поставит дежку поближе к печному теплу, тесто к рассвету подоспеет, и останется лишь растрепать в муке пышки и поставить их на горячий под. Все это ребята знали: до войны их матери часто пекли такие вкусные пышки. Ну, что ж, вороватая Кубышка, мы тебе устроим растрепки!
Когда совсем стемнело и в низеньких Кубышкиных окнах погас свет керосиновой лампы, заговорщики стали осторожно подтаскивать сюда заранее наготовленные снопы обмолоченной соломы. Стараясь не шуметь, плотно заложили ими окна, не забыв даже чуланное.
— А теперь пошли спать. Будет потеха!.. — потирая руки, засмеялся Венька, довольный успешным ходом операции «Пышка»…
Ни свет ни заря Мишка забежал за другом:
— Ну, пойдем посмотрим, не сорвалось ли у нас.
Люди уже дотапливали печи, дымки из труб курились еле-еле. И лишь над крышей Кубышки — ни дымка.
— Все в порядке: дрыхнет! — заключил Венька. — Идем на ток, через часик еще раз глянем.
Снопы на току малость обветрило, но еще ненастолько, чтобы они годились к обмолоту. Потому для ребят еще не было дела, и они снова покинули ток. Обежали всех друзей — Семку, Сашка Гулю, Витька Дышку:
— Пойдемте концерт глядеть!
Увязалась и Варька: — Концерт! Это здорово!
Всей ватагой подкрались к Кубышкиной хате и легли за плетнем.
— Ну, где же концерт? — скривила губы Варька. — Обманщики!
— Потерпи, сейчас увидишь, — заговорщицки моргнул Венька.
Лежали долго, хотели уж уходить, как вдруг Венька тихо цыкнул:
— Тс-с! Глядите!..
Из шумно распахнувшейся избяной двери выскочила, как ошпаренная, в белой ночной сорочке Кубышка. Ругаясь на чем свет стоит, она бросилась к снопам, закрывающим окна, и стала с остервенением раскидывать их:
— Ах, ироды! Чтоб вас громом расшибло! Чтоб вас всех лихоманка взяла! У-у-у!..
— Во коштерит! Во штрочит, как шорока! — воскликнул Дышка.
— Это и есть концерт! — разочарованно сказала Варька.
— Это только начало, сейчас увидишь продолжение, — уверил Мишка.
Расшвыряв снопы, Кубышка опрометью кинулась обратно в хату. Ребята тоже выскочили из укрытия и прилипли к стеклам, уже не осторожничая. То, что они увидели, было почище самого смешного концерта. Кубышка, с растрепанными волосами, ползала по полу и пригоршнями сгребала расползающееся из дежки тесто. Она со злом шваркала его обратно в дежку, но тщетно— тесто непослушно вылезало оттуда и белыми наплывами текло на грязный пол.
— Тетка Ариша! Аль проспала! Ай-я-яй! А ты возьми лопату! — крикнул Венька.
И ватага прыснула во все стороны от Кубышкиной хаты.
— Операция «Пышка» удалась на славу! — восторгался Мишка.
— А ты говорила, концерта не будет, — сказал Венька сестренке.
— Ой, как бы жа этот коншерт не вшыпали! — забоялся Дышка. — А жа што вы ее?
— Жа дело, — передразнил Венька. — Ничего не знаешь, так не вякай.
— Пусть не ворует колхозное зерно! — заключил Мишка.
…Молотить в тот день так и не пришлось. Налетела еще тучка, покрапал «слепой» дождик, и снопы снова стали сырыми. Ребята отправились в Хомутовский лес за орехами. Забежали только домой — взяли мешочки и клеенки на случай грозы.
Дорога к лесу раскисла, идти было трудно, ноги разъезжались. Шли и дурачились. В одной низинке, за прогоном, стали, засучив штаны, месить грязь: «Кисель, кисель, дай водицы, а я тебе — хомутицы!..» А под конец, когда месиво превратилось в черную жижу, Венька ка-ак чвакнет ногой: обдал все Дышкино лицо. Все захохотали.
— Ну, жаража! Шешаш полушишь! — разозлился тот и бросился на обидчика с кулаками. И быть бы драке, если бы не раздался вдруг сзади нарастающий гул. Оглянулись: от села в их сторону шла танковая колонна. Ого!
Вскоре танки поравнялись с ними и передний остановился. Башенный люк был открыт, и командир крикнул:
— Эй, хлопцы! Как на Измалково ехать?
— Давайте покажем, — предложил Мишка.
— Полезайте!
Ребята ловко вскочили на броню переднего танка и прижались к его разгоряченным бокам. Колонна продолжила путь. Дорога в лесу все время шла прямо, но за Праворотью разветвлялась на три стороны. Мишка попросил командира остановиться, когда все спрыгнули на землю, пояснил:
— Езжайте средней, она выведет к Пироговке, а там все время держитесь железной дороги. Верст двадцать до Измалкова.
— Спасибо, хлопцы!..
Взревели моторы и колонна двинулась дальше. А ребята свернули с обочины в лес и пошли прямехонько на Остров — там было много орешника.
Остров — просторная пустошь в середине Хомутовского леса, окаймленная с одной стороны громадными дубами, с другой — зарослями орешника.
Орехи еще не совсем поспели, не выщелкивались, но ядра уже были в «рубашках» — в желтых волокнистых пленках. Тяжелые грани висели, оттягивая ветки: в каждой— по пять-шесть блестящих орехов. «Как патроны в обоймах», — невольно сравнил Мишка.
Ребята разбрелись по орешнику, аукаясь и перекликаясь.
Мишка наклонял кусты и, срывая грани, складывал их в мешочек. С этим холщовым мешочком связана интересная довоенная история. Помнится, школьники только что ушли на летние каникулы, и Петька, учившийся классом старше, предложил Мишке с Севкой:
— Давайте на лето устроимся в сапожную мастерскую. Заработаем денег и купим на троих велосипед. Ну?
На Зацерковке была сапожная, где работали мастер и несколько учеников. Ребята любили изредка приходить сюда, посмотреть, как сапожники натирают черным куском смолы дратву, прошивают подметки ботинок в две иглы, послушать ладный перестук молотков, ловко вгоняющих деревянные гвоздочки в подошву ялового сапога. Мастер и им давал несложную работу: то наколоть из готовой березовой плашки гвозди, то посмолить дратву. А за это им потом дозволялось по очереди брать наушники и слушать радио. Настоящее радио! Чего только не слышали они в наушниках: и про то, как в нашей стране строят какие-то домны и мартены, и про далекую Америку и другие заморские страны. В тех наушниках Мишка впервые услышал не совсем понятное слово «фашизм», зато он хорошо уразумел, что этот фашизм несет людям одно лишь горе.
И вот ребята, выпросив у родителей мешочки, взяли молотки, клещи и направились в мастерскую с твердым намерением стать сапожниками. Мастер удивился, когда они разложили перед ним свой инструмент, и Петька за всех сказал: «Дяденька, возьмите нас в ученики!» Погладил мастер каждого по вихрам и ответил: «Молодцы, что работать желаете! Но вот вам еще рановато, — он указал на Мишку с Севкой. — А тебя, Петька, могу взять…» Мишка с Севкой аж всхлипнули от огорчения и стали складывать инструмент в мешочки. Петька тоже, ничего не говоря, забрал инструмент и пошел к двери. Друзья за ним. Он, Петька, всегда был верным товариществу и придерживался одного правила: один за всех, все за одного.
А вскоре началась война, мастер ушел на фронт, и сапожную закрыли. Остался, как память о том грустном событии, вот этот из льняного холста мешочек.
Мишка не заметил, как и орехов нагрызся и полный мешочек насобирал.
— Ребята, — услышал он невдалеке Варькин голос. — Посмотрите, что я нашла-а!..
«Наверно, гнездо какое-нибудь», — подумал Мишка и двинулся на голос. То, что он увидел в двух шагах от Варьки, заставило его холодно вздрогнуть: в траве виднелась немецкая противопехотная мина.
— Стой, не подходи! — крикнул он девочке.
В это время на поляну выбежал Венька:
— Ты чего кричала?
— Какая-то тарелка…
— Это мина! — перебил ее Мишка. — Стой, говорю, на месте!
Та и без того стояла в недоумении на месте, не сознавая опасности.
Мишка опустился на колени и стал осторожно шарить пальцами в траве — искал проволочку. Ага, вот она!..
— А теперь отходи да ноги поднимай выше! — приказал Мишка.
Варька послушалась.
Так! Теперь надо найти бечевку. У тебя, Венька, есть? Сюда ее! Сейчас мы тихонечко привяжем ее к проволочке. Вот так! Хорошо…
— Разбегайтесь подальше! — приказал всем Мишка. Ребят как ветром сдуло.
Мишка тоже стал отходить, разматывая бечевку. Спрыгнул в заросший травою окоп. Дернул за бечевку, и тут же ухнуло, земля вздрогнула и мелко-мелко затрепетали кусты орешника.
Когда все собрались, Мишка сказал:
— Ну, Варюшка-зарюшка, тебе повезло! Еще бы чуть и твоя тарелочка рванула бы и — поминай, как звали!..
— Это такая-то маленькая! — недоверчиво отозвалась девочка.
— Ребята, — сказал Венька. — А ведь тут недалеко могила дяди Сигнея.
Мишка сразу же представил себе то место, где были партизанские землянки. Ему вдруг очень захотелось побывать там, на могиле своего бывшего командира.
— Пойдемте!..
И молча зашагал по орешниковым зарослям, по направлению к Кошкину колодцу. Ребята — за ним.
Вон и землянки — партизанская база! А где-то неподалеку могила убитого врагами Евстигнея Косорукого. Немного не дойдя до землянок, услышали глухое, угрожающее ворчанье. Что за наваждение! Осторожно подошли ближе и увидели собаку — шерсть дыбом, зубы оскалены…
— Да это же Динка! — воскликнул Мишка и крикнул громко: — Динка! Динка!..
Собака перестала рычать, но все еще недобро глядела на пришельцев.
— Динка! Диночка! — опять позвал Мишка. — Ну что ты, аль не узнаешь! Да Мишка я, Мишка, помнишь.
Собака, видимо, вспомнила голос мальчика и дружелюбно вильнула раз-другой хвостом, но с места не сходила. Тогда Мишка направился сам к собаке и, подойдя, погладил ее по грязной, неухоженной шерсти: «Динка! Милая! Жива!..»
Собака заскулила жалобно и потерлась о Мишкины ноги, узнала-таки.
— Как же это мы совсем забыли о ней! — засокрушался Венька. — Дядю Сигнея схоронили, а собаку-то из головы вон. Нехорошо-то как вышло! А она, оказывается, никуда от хозяина и не ушла. Но чем же кормилась?
— Значит, чем-то питалась, если жива, — сказала Варька, тоже поглаживая собаку.
— Ну, веди нас, Динушка, к своему хозяину! — приказал Мишка. — Где твой хозяин?
Собака понимающе завиляла хвостом и бросилась в молодой березняк. Пошли за ней.
Вот и могила партизанского командира: зеленый холмик, дощатый обелиск с фанерной красной звездой. Где всю жизнь работал, а потом воевал, там и нашел он свой последний вечный приют.
Ребята молча постояли у могильного холмика и, не заходя в землянки, пошли к дороге. Позвали собаку, чтобы шла с ними, но та, пробежав немного следом, остановилась, задумчиво поглядела на них. Мишка попытался вернуться к ней.
— Динка! Ну пойдем же с нами! У меня будешь жить.
Однако собака, дав себя еще раз погладить, повернулась и решительно побежала назад к землянкам. У Мишки больно сжалось сердце.
— Не стóит, ребята, все равно не пойдет.
Глава двенадцатая
ГРОЗА НАД ХЛЕБНЫМ ПОЛЕМ
Распогодилось. Поля быстро просохли, и Алексей Коновалов вывел бригаду на косовицу ячменя. Клин его протянулся до самой опушки Хомутовского леса. Косцы сложили в тень молодых дубков харчи, встали в ряд, и первые валки легли на колкое жнивье. Ячмень уродился высокий, а прошедшим дождем и ветром немного прибило и спутало стебли — косить было трудно, Стебли застревали в зубьях крюков, сорились на прокосах. Но косить надо, иначе пройдет день-другой, и зерно потечет на землю. И люди, кончив длинный гон, не отдыхая, начинали другой.
Мишка с Венькой шли рядом, ревниво взглядывая временами, у кого лучше получается валок. Над полем— ни ветерка. Жарко, душно. Бригадир тревожно посматривал на небо: вдали, за Таборами, собиралась туча.
— Парит перед дождем, — не вытерпел, поделился он с косцами своим опасением. Алексей не знал, куда себя деть. До войны он также вот шел в ногу с косцами— любил эту мужскую нелегкую работу. «Чудно! А сейчас вон бабы косят, а я, мужик, хожу, неприкаянный, как журавль по болоту. Может быть, когда протезы приделают, и я смогу работать!..»
Не прошло и часу, как с запада потянул свежий ветерок. Туча, еще недавно бывшая просто большим облаком, фиолетово густела, медленно и неотвратимо надвигаясь в их сторону. Вот на разгоряченные спины косцов упали первые прохладные капли. А вскоре на поле опустился косой проливень. Люди, оставив крюки на прокосах — в грозу стальные косы опасны вблизи, могут притянуть молнию — со всех ног бросились под деревья.
Мишка с Венькой прижались к шершавому боку дубка, и стало вроде спокойнее и уютнее.
Дождь хлестал, завихряясь крепчающим ветром, молнии грозно высвечивали клонящийся до земли ячмень, сшибаясь и перекрещиваясь в небе яростными кавалерийскими клинками. С треском раскалывалась над головами черная хмарь. Люди промокли до нитки, все продрогли от холода. Домнуха Горохова крестилась и шептала молитву.
Вдруг на глазах у косцов ослепительный клинок молнии вонзился в стоящий посреди некошенного ячменя могучий дуб и раскроил его надвое. Дерево вспыхнуло гигантским костром, и огонь, поддуваемый ветром, перекинулся на клонящийся до земли ячмень.
— Хлеб горит! — крикнул кто-то. И все, не сговариваясь, ринулись туда, где трещало пожираемое огнем дерево. Сбросили с себя пиджачки, кофты и стали ожесточенно сбивать пламя с колосьев.
— Держитесь подальше от дерева! — остерег Алексей, затаптывая ползающие по земле языки пламени…
Не заметили, как утих дождь. Гром рокотал уже где-то за Домовинами. Дуб догорал, обугленные сучья вздымались вверх, словно обрубки искалеченных человеческих рук. Аспидко-черным прогалом зияла вокруг него выгоревшая в хлебах проплешина.
— Ну, братцы, быть бы беде, не случись мы тут! — сказал измученный борьбой с огнем бригадир. Возбужденные и утомленные косцы брели к опушке леса, стряхивали с веток обильные дождевые капли себе на лицо, смывали пепел.
— Видно, мы чем-то прогневали бога, — проговорила Домнуха Горохова. — Никак не везет нам…
Умывшись, собрали косы и тронулись в обратный путь, к Казачьему…
А в село в это время въехала на постой новая, механизированная часть. На улицах и в проулках стояли, остывая от похода, вездеходы, автомашины, мотоциклы. Сновали бойцы с котелками.
Мишку и Веньку встретил на улице Дышка, в закатанных до колен штанах.
— Ну и шила понаехала! Дивижия, а может, и шелый полк!
— Чудак! — засмеялся Мишка. — Полк-то меньше дивизии!
— А шего это вы такие гряжные, как жамажуры?
— Пожар, Витек, тушили: хлеба от молнии загорелись.
Тот лишь молча покачал головой, огорчившись то ли от того, что хлеба горели, то ли потому, что его не было там, на поле.
Расквартированная в Казачьем часть направлялась на фронт. Несмотря на краткость отдыха, командир решил помочь колхозникам в жатве. Десятка два бойцов вышли наутро на просохшее от вчерашнего дождя ячменное поле, — женщины уступили им свои крюки, а сами стали вязать снопы и ставить их в крестцы. Столько же бойцов работало и на току. Раздевшись до пояса, они, истосковавшиеся по любимой работе, так подкидывали снопы к молотилке, что только свясла трещали. Зерно провеивали на ветру деревянными лопатами и тут же сыпали его в осьминные мешки. К обеду на току уже возвышалась целая баррикада из мешков.
Алексей летал, как на крыльях: он радовался, словно дитя, такому неожиданному обороту дела и уже примеривался к тому, чтобы воспользоваться еще и военными машинами для вывозки хлеба по госпоставкам на ссыпной пункт. «То-то Луша порадуется! Надо как-то съездить в город, проведать ее. Заодно и о протезах узнать…»
А вечером на Крестах, где дороги расходятся на четыре стороны, захороводилась, как в былые времена, «матаня», простенький деревенский танец. Боец-гармонист бесшабашно наяривал на принесенной кем-то из женщин мужниной гармошке. А девчата, положив загорелые руки на желанные плечи кавалеров, упоенно танцевали. Кланька Голосёнка, прозванная так за звонкий голос, запела:
Я пою, пою, пою, Пою по-соловьиному. Я днем по вечеру скучаю, Вечером — по милому.Ей тут же отозвалась подруга — Шурочка Афонина:
Я иду, а милый пашет Черную земелюшку. Подошла я и сказала: «Запаши изменушку!..»Красива она была, Кланька Голосенка! Многие парни заглядывались на ее волнистые русые волосы, на статную фигурку. И сейчас не один боец провожал ее взволнованным взглядом. До войны она дружила с Алексеем Коноваловым, а когда он ушел на фронт, долго не унывала и завела себе ухажера — тракториста из соседней деревни, пахавшего в их бригаде зябь. Но и тот вскорости ушел на войну, и Кланька, как говаривали бабы, осталась на бобах. Когда пришел Алексей из госпиталя, ему все рассказали о неверности Голосенки.
…Бередила души заливистая гармоника, летела пыль из-под ног танцующих пар. Давно не было на Крестах такого гульбища. И старухи, опираясь на палки, пришли поглядеть на «матаню», вспомнить свою невозвратную молодость.
— Сходил бы тоже на улицу, — уговаривала Коновалиха сына. Но тот молча сидел за непочатой кружкой молока, не ел и не вылезал из-за стола. Что думал этот искалеченный войной человек, встретивший всего лишь двадцать первую весну! Может, видел он себя, довоенного — с обеими руками, полного сил и веселья! А может, вспомнил своих боевых друзей, кому уже никогда не услышать ни гармони, ни девичьих частушек!
А «матаня» шумела в полном разгаре. Заиграли веселого «колчака», и бойцы пустились в пляс, вытягивая из толпы упирающихся для вида девчат. Первого гармониста сменил другой — среди бойцов их было немало. Плясуны выделывали такие коленца, что девушки покатывались со смеху, а старушки только покачивали головами.
— Мишк, а Мишк! Пойдем к дяде Алексею. Что-то его не видно, — сказал другу Венька.
Ребята вылезли из толпы и пошли к Коновалихиному дому. С крыльца увидели в освещенное окно сидящего за столом бригадира.
— Дядь Лень! — тихонько стукнув в окно, позвал Мишка.
Тот обернулся на стук.
— Дядь Лень! Это я с Венькой.
— Заходите.
Те вошли в хату.
— Ну, чего вам?
— Пришли за тобой. Пойдем на «матаню».
— Не хочется, ребята. Нечего мне там делать…
— А знаете что? — встрепенулся Венька. — Пойдемте к нам на сеновал, а?
— Пройдись, пройдись, Лексей, хоть куда-нибудь! Ну что ты душу себе рвешь, — поддержала ребят Коновалиха. — Не такие еще бывают калеки. Жить-то надо! Ты ж еще молодой…
Алексей нехотя поднялся из-за стола: «Идемте».
Они лежали на сеновале и молчали. В открытую дверь отчетливо и чисто доносились звуки гармони и девичьи припевки. Ребята жалели бригадира, им было понятно его чувство: доведись и до них такое — затоскуют.
— Я ведь, хлопчики, любил ее, — нарушил молчание Алексей. — Но, видно, не судьба мы друг другу: на что я ей теперь нужен такой!
Ребята знали, о ком говорил он: только что они видели ее на «матане», танцующую как ни в чем не бывало с бойцами.
— Дядь Лень! А разве нет других девчат? — сказал Мишка. — Да плюнь ты на нее!
— Эх, ты несмышленыш! — с горечью улыбнулся тот. — Не на все можно плюнуть… Рад бы, да…
И снова все замолчали. Лежали и слушали звуки летнего вечера. Можно подумать, что и войны нет: разливается ливенка, «страдают» девчата, слышится веселый молодой смех. Но вот в уши вполз чужеродный монотонный звук: высоко в небе над селом пролетали немецкие бомбовозы.
Алексей и ребята слезли с сеновала и вышли наружу. Немного погодя на востоке вспыхнули осветительные «люстры» и раздались глухие взрывы — немцы бомбили в городе железнодорожный узел.
— Вот, сволочи! — сказал Мишка.
— Погоди, накопят наши силенок — отлетаются, — отозвался Алексей. — Ну, пойдемте на сеновал, спать будем.
Залезли снова на сено, тесно прижались друг к другу. На Крестах смолкла гармонь.
…Едва забрезжил рассвет, Венька потихоньку сполз с сеновала и крадучись вышмыгнул за дверь. Все у него было продумано еще с вечера. Придя на конный двор, он разыскал у амбара дегтярку и припустился по пустынному проулку к дому Кланьки Голосенки. Когда-то он слышал, что если девушка изменяет парню, то мажут дегтем ворота ее дома, навечно покрывают ее черным позором.
Венька взял дегтярку и плеснул из нее на ворота: вот тебе, предательница, за Алексея! Тут же зашвырнул дегтярку в густую крапиву…
В тот день Кланька не вышла на ток. Люди посудачили по поводу измазанных ворот да утихомирились. И только Алексей все ходил пасмурный и осунувшийся с лица. Завидев на току Мишку с Венькой, укоризненно покачал головой:
— Эх, ребята, ребята!..
В бригаду привезли из района локомобиль — паровую машину, похожую на маленький паровозик. Он должен был заменить лошадей, приводящих в движение молотилку. Ребята были в восторге от невиданной доселе новинки. Пока приезжий специалист, седоусый дядька, в замасленном комбинезоне, устанавливал на току и налаживал локомобиль, они успели потрогать и пощупать все: и блестящие медные трубочки, и привинченный к паровому котлу манометр, и лоснящиеся от масла округлые бока машины, заглянули и в толку с чугунными колосниками.
Седоусый машинист надел на шкив ремень, соединив им машину с молотилкой, и подал ребятам команду:
— Таскайте, пострелы, солому!
Те принялись за работу. И вскоре у локомобиля высилась большая куча соломы.
— Ну, хватит, дяденька?
— Хватит… на три лошадиных силы, а в машине их тридцать, сил-то!
— Как это?
— А вот так! За тридцать лошадей она сработает и овса ей не надо. Поняли?
— Ждорово! — воскликнул Витек Дышка.
Машинист затолкал в топку охапку соломы и поджег.
Пламя вспыхнуло и стало жадно пожирать ее, прося новой порции.
— Ребятки, за дело!
Те засновали от скирды к машине, поняв, что трудно им будет тягаться с этим железным прожорой. То ли дело — лошадки — погоняй, знай, не ленись, кнутом! Однако они вскоре поняли и другое: никакие лошади не угонятся за вот этими двигающимися механизмами. Когда мелко дрожащая стрелка манометра дошла до верха, машинист прикрыл дверцу топки и стал крутить какие-то многочисленные колесики. Раздался оглушительный, свистящий гудок, у людей аж уши позакладывало. Зашипел пар, и маховик со шкивом быстро завращались, приведя в движение через ремень молотильный барабан.
— Начали! — скомандовал машинист стоящему наготове Григорию. И тот бросил в зев молотилки первый растрепанный сноп. Еще, еще… И пошло! Женщины едва поспевали подбрасывать снопы.
Жарко попыхивал паром локомобиль, шелестела ременная передача, надсадно гудела молотилка. Ворох зерна рос на глазах, а обмолоченная солома летела нескончаемым вихрем. Ну, куда тут лошадям до машины!
До обеда намолотили столько, что веять не успевали. Пришлось таскать непровеянное зерно в ригу, под крышу — на случай дождя.
— Эх, и выручил ты нас, дядя! — восхищался бригадир, влюбленно глядя на седого машиниста. А тот только улыбался в свои роскошные усы, вытирая ветошкой потные бока локомобиля.
Глава тринадцатая
ХЛЕБ ДЛЯ ФРОНТА
Этот августовский день останется в памяти ребят на всю жизнь. С утра бригадир Алексей Коновалов распорядился тщательно почистить лошадей, и Мишка с Венькой, Витьком Дышкой, Вальком и Сашком Гулей нивесть где откопали скребницы и принялись усердно скоблить непривычных к такому вниманию лошадей.
Мишке достался трофейный битюг, и, чтобы отчистить такую громадину, ему порядком пришлось попотеть. Хотя битюг стоял покорно, изредка лишь вздрагивая от прикосновения железа, Мишка покрикивал на него:
— Ну, стой, германская скотина! Небось, у какого-нибудь фрица смирно стояла!..
— Миш! А ты ш нею по-немешки побалакай, она еще будет шмирней! — поддразнил Дышка.
Лошадей почистили, запрягли и, стоя во весь рост на полках телег, лихо прикатили на ток.
— Ваше приказание выполнено, товарищ бригадир! — улыбаясь доложил Мишка.
Пока нагружали подводы, Мишка сбегал домой и принес заранее написанный им на белом полотнище простыни плакат: «Больше хлеба фронту — ближе победа!»
— О, да ты, я гляжу, не дремал! — удивился бригадир. — Ну, комиссар, приделывай его к подводе!
Мишка отыскал на конном дворе две жерди и приколотил к ним гвоздями полотнище. Получилось неплохо. Так! Какая подвода поедет первой? Вот эта? Хорошо. Еще несколько ударов молотком и жерди как приросли к грядушке уже нагруженной мешками телеги.
Обоз получился немалый — двенадцать подвод были навьючены мешками с чистым зерном. На переднюю подводу сели Мишка с Григорием — битюг выдюжит. На другой — Венька с Семкой, на третьей — Витек Дышка с Сашком, а остальными сели управлять Алексей, Валек и женщины. На Мишкиной подводе трепетал под ветром написанный красными буквами плакат, придавая обозу праздничную торжественность.
Когда уже все было готово и бригадир намеревался дать команду трогаться, к обозу румяным колобком подкатила с торбой за плечами Аришка Кубышка:
— Миленькие, погодите! Нет ли местечка, подъехать с вами до станции?…
— Есть, да не про твою честь! — отрезал Алексей.
А Венька спрыгнул с подводы, схватил лежавшую у вороха метлу и протянул ее Кубышке:
— На, теть Ариш! Окорячивай метлу и дуй, как баба Яга, — быстрее нас приедешь!
Грохнул смех, а Кубышка, пятясь с тока, принялась костерить Веньку на чем свет стоит.
— Гляди, как бы от твоей руготни пышки в торбе не прогоркли! — крикнул ей вслед бригадир. А кто-то из женщин бросил вдогонку:
— Барыга!..
Обоз тронулся. Он ехал по улицам, и старушки, подойдя поближе к обочине дороги, глядели просветленными глазами.
— С богом, роднуши! Счастливой дороги! — истово перекрестила едущих прослезившаяся бабка Коновалиха.
Обоз двигался мимо луга, мимо Воргола, где вдали темнел Горюч-камень. И Мишка, завидев его, хмуро темнеющего в знойном мареве дня, невольно подумал о Петьке. Ехать бы тебе, Петька, сейчас с нами на возу, ощущая всем существом своим теплоту взращенного и собранного нами зерна! Но пусть и не косил ты с нами хлеба, не потел на току и не едешь сейчас сдавать зерно Родине, ты ценою своей жизни приблизил к нам этот светлый торжественный час.
Давно не видели на приемном пункте такого большого и такого интересного обоза. Поэтому все рабочие высыпали из склада полюбоваться впечатляющим зрелищем.
— Ну и зерна приволокли! — раздавались голоса. — Прямо целый вагон!
— А плакат-то, плакат! Не иначе ребячья придумка! Ну и молодцы!
— Вот так же мы когда-то в коллективизацию езживали!..
Разгрузив подводы и получив квитанции за сданное зерно, колхозники тронулись в обратный путь…
А в это время расквартированная в Казачьем механизированная часть получила приказ выступать под Мценск.
В селе отовсюду доносился рокот заведенных моторов, Бронетранспортеры, тягачи, автомашины, мотоциклы — вся эта гудящая и рокочущая техника выруливала в узких проулках к большаку, выстраиваясь в колонну.
— По машина-ам! — докатилось от головы колонны.
Бойцы с автоматами и вещмешками со скатками за спиной тяжело вскакивали в кузова грузовиков.
Колонна тронулась по большаку в сторону Хомутовского леса. Бойцы на грузовиках громко запели:
Пала темная ночь У приморских границ. Лишь дозор боевой Не смыкает ресниц…Мишке вдруг вспомнилось, как когда-то они с Петькой пели эту песню на поле. Петькина песня! Мужественная и сильная! С нею он, наверняка, и умирал, непокоренный и гордый. Мы не посрамим, Петька, нашей дружбы, мы так же ненавидим врага, как ты его ненавидел. Мы все сделаем для того, чтобы скорее прогнать его с нашей родимой земли. И Мишка, а за ним и его друзья, дружно подхватили солдатский мотив:
Пусть их тысячи там, Нас одиннадцать здесь, — Не сдадим мы врагам Нашу землю и честь…* * *
Горюч-камень! Ты стоишь над быстротечными водами Воргола, поросший пепельной полынь-травой, словно убеленный сединами воин. Сурово и строго вглядываешься в нынешний день и в века. Много на твоей памяти полегло тут верных сынов в жестоких битвах за Родину! И по-отечески равно оплакиваешь ты и древнего князя с его дружиной, обильно оросивших кровью твои камни, и Петьку, чью краснозвездную могилу бережно охраняешь ты и днем и ночью… Ты знаешь, Горюч-камень, какой ценою добыты для нынешних и грядущих поколений и этот вот поющий над просторами вольный ветер, и эти, широко и волнующе раскинувшиеся по твоим берегам, луга, леса и пажити — все, что зовется одним, дорогим каждому, словом — Родина! И, благословляя мирный труд людей, ты по праву безмолвно спрашиваешь: а все ли деяния их достойны былого, бессмертного Подвига? Слава же тебе в веках, неодолимый и гордый Горюч-камень!
РАССКАЗЫ
Обида
Поезд подкатил к станции ранним утром, когда солнце только собиралось выплыть из-за горизонта, и Захар Купавцев, сойдя с вагонной подножки и поставив на дощатый перрон чемодан, подумал, что так оно даже лучше— можно будет спокойно, никого не встретив, пройтись до дому пешком. И перед его мысленным взором встала во всей трехкилометровой протяженности дорога, по которой он не хаживал без малого сорок лет. Ведь его, Захара, призвали в действующую армию в июле сорок первого. И сейчас стоит июль.
Никто больше не сошел с поезда, который тихонько, будто крадучись — паровоз даже не свистнул — отошел от станции. Захар взял чемодан и двинулся к выходу с перрона — на полевую дорогу. Еще раз втайне порадовался, что никто больше не пойдет по дороге и не помешает предаться сладким воспоминаниям и столь запоздалому свиданию с родимыми местами.
По этой самой дороге он уходил на фронт. Вон на той лужайке призывники, подвыпивши на прощанье, а больше для куражу, бесшабашно плясали под заливистую ливенку Семена Култышки, остающегося дома по причине врожденной хромоты. И он, Захар, тоже плясал.
Помнится, под этим вот дубом стояла зареванная вся, с какой-то неестественной улыбочкой, Ольга, его молодая жена. Только три годочка успели они пожить вместе, правда, и двумя детишками обзавестись.
С одним, грудничком Ленькой, в тот день осталась дома Захарова мать Евлампия Финогеновна. А другой — Димка, первенец их, значит, был тут же, на станции — ползал у материнских ног божьей коровкой по мягкому подорожничку. Вот она и трава все та же, словно проводы только вчера были.
На станции ему довелось побывать еще раз, через месяц, когда проезжал на фронт. С дороги дал знать семье, и Ольга с братишкой успели прибежать. Только обнял и поцеловал их — воинский эшелон стоял всего три минуты.
Шел он медленно — на большее не были способны простреленные ниже колен ноги. В Норильске, где жил и откуда только что приехал, он ходил с тростью, но, собираясь на родину, не захотел ее брать, то ли не желая показаться землякам инвалидом, то ли понадеявшись на свои силы. Да и куда спешить-то, успеет дойдет, ведь не ждет его здесь никто. Сорок проскочивших лет, за которые он был в родной Луганке лишь во сне да в мечтах, сделали свое: словно непроходимым, плотно пристрелянным, ничейным полем пролегли они между ним и родным домом. Сколько раз за эти долгие-предолгие годы Захар мысленно прокручивал перед собой горестную ленту предвоенной и военной жизни. И что ни крутил — обрывалась она всякий раз на сорок третьем, когда он в саратовском госпитале, ослепленный невыносимой обидой, с жгучими слезами на глазах отправил последнее письмо сюда, в родной дом, писал, что больше ноги его там не будет.
Он, может быть, тогда и не стал бы писать, перескулил бы, перескрипел бы зубами не столько от физической боли — лежал с перебитыми очередью из немецкого пулемета ногами — сколько от душевных мук, от нанесенной ему обиды.
В августе сорок третьего привезли его из-под Понырей, с Орловско-Курской дуги, в этот приволжский тыловой госпиталь, а через месяц, когда миновала опасность остаться безногим, Захар написал в Луганку, Ольге, чтобы приехала она к нему в госпиталь, проведать — к другим-то раненым приезжали жены или матери. Ему нестерпимо хотелось увидеть свою Ольгу, сил и духа что ли набраться для окончательного выздоровления.
Но Ольга не приехала. Через неделю с небольшим ему принесли треугольничек — Захар разворачивал его дрожащими руками, это он как сейчас помнит. Лучше бы он его не получал! Да вот оно, это роковое письмо, в бумажнике, сохранил он его зачем-то и непонятно зачем бережет.
Захар Купавцев незаметно для себя остановился посреди дороги, вынул из бокового кармана пиджака бумажник, достал желтый, вчетверо сложенный листок, с выцветшими от времени написанными химическим карандашом строчками… «А приехать я к тебе, Захарушка, не могу, — писала Ольга. — И ты уж не обижайся, поверь мне, не могу. У нас все хорошо, все живы-здоровы…»
«Лучше бы уж она совсем тогда не писала — не приехала бы и все, а то, — „у нас все хорошо“, приехать же не сочла нужным. Значит, и я им всем не очень-то нужен был!» — растравлял душу Захар, торопливо сворачивая листок и пряча снова в бумажник.
Не стал бы он тогда отвечать на письмо жены, да соседи по палате подзудили, раззадорили: обязательно отпиши ей все, что ты думаешь о ней. Самолюбка она у тебя бессердечная. Разве так истинная жена поступает, — подливали масла в огонь Захаровой души раненые. И он написал ей. Он даже не назвал ее в письме по имени, просто так, безлично, и написал: пусть не считает больше мужем и не ждет домой — ноги его отныне в Луганке не будет. В сердцах ни детям, ни матери своей привета не передал — могла бы хоть мать-то если не приехать к нему, так весточку передать. Значит, и ей безразлично, что с сыном…
На дороге, которую так медленно, с остановками, одолевал Захар, в отдалении появились две быстро движущиеся фигуры. Захар отогнал от себя воспоминания, внутренне подтянулся, тверже заступал по накатанной земле. Встречные приближались — это были средних лет мужчины, рослые, в белых, с расстегнутыми воротничками, рубашках. Видно, что спешили на станцию, наверно, на пригородный поезд.
«Вот таким и я был, когда уходил на фронт, — подумалось Захару. — Интересно, что у них за судьба? Женаты ли? Счастливы? У меня уже в таком возрасте двое ребятишек было. Вот именно, было! А что если один из них мой сын? Ведь он совсем не знает, как выглядят его взрослые сыновья. Даже детской фотографии и той у него нет».
Захар снова остановился, раздумчиво поглядел вслед прохожим, которые даже не поздоровались с ним, прошли мимо, будто его и не видели. И все ж что-то волнующе-теплое ворохнулось в груди. Если бы не то злосчастное письмо, он бы еще в начале сорок четвертого был дома, а то… Выписавшись по излечении из госпиталя, Захар заказал билет не в родное село, а в далекий незнакомый ему заполярный город Норильск. Сосед по палате, тоже выздоровевший, сагитировал его в свой город. Вместе они и махнули туда.
Поначалу жил Захар у того друга, поступил на работу в автоколонну, сперва мойщиком машин, потом в слесари пошел. А лет семь назад на шофера выучился, порулил на грузовиках с изыскательскими партиями, потом, когда надоело мотаться по тундре, перешел на такси. Работа ему нравилась, город — не очень: красивый, но холодный, неуютный какой-то. За долгие годы так и не привык к нему, все время скучал по родине. А тут еще и семейная жизнь не заладилась. Женился он на работнице пищеторга, без особой любви, даже, если честно сказать, вовсе без любви. Просто надоело холостяковать, питаться всухомятку. Всухомятку жевать перестал— всякой еды навалом было, не оказалось главного— душевного взаимопонимания. Жена все больше о тряпках да о жратве пеклась, весь разговор у нее только об этом. Детей у них не было, вначале жена не хотела иметь — работу с жирным приварком из-за них оставлять? — а потом вроде бы и не прочь, да уж не выходило. А что дом без ребятишек, без их лепета и баловства — темница беспросветная, вот что.
Осточертела такая бессмысленная жизнь Захару, попивать начал втихомолку. Правда, вовремя спохватился, образумился — кому все это нужно, кого удивишь этим, только здоровье и ум потеряешь. Но стал все чаще подумывать о возвращении домой, от которого война его увела. Магнитом манило родное село.
Но лишь вспомнит Саратов, госпиталь, женино письмо, и обида с неутихающей силой захлестнет все его существо, враз отвратит от мысли о доме.
Всего лишь одно письмо и написал Захар на родину, но не семье, а другу юности Семену Култышке. Поведал ему о своей новой жизни, поинтересовался детишками. Но ответа не получил…
Так и жил все долгие заполярные годы Захар, пока однажды не произошел у него с тем самым госпитальным другом разговор. Он тоже в автоколонне работал диспетчером.
— Гляжу я уж давно на тебя, Захар, и чем больше приглядываюсь, тем больше себя казню. Ей-богу, виноват я перед тобой, зачем сманил тебя сюда. Не прижился ты тут нисколечко. Как яблонька с поврежденными корнями — вроде и зеленеешь, а изнутри чахнешь… Съездил бы ты домой, а?
Никогда не срывался Захар на людях, а тут побагровел весь и сердито выпалил:
— Знаешь что, иди-ка ты…
Но разговор тот не давал ему покоя, И вот на днях, получив отпуск, он решительно заявил жене, что немедленно поедет на родину.
И вот он тут, на родной земле. Идет по забытой и незабытой дороге, домой идет. Сколько же он топает? Ого, уже полтора часа! Раньше, в молодости, этот путь он за полчаса промахивал.
А вот и дом завиднелся. Интересно, заметят ли его из окон, поди уж не спят? Да что заметят — узнает ли кто его после такой отлучки? Мать, уж наверное, старым-стара…
С такими растрепанными мыслями и приближался Захар к дому. Солнце давно уже поднялось и здорово припекало. Пришлось снять пиджак.
Захар, волнуясь, тяжело взошел по ступенькам на выщербленное крыльцо. Дом был все тот же, не перестраивали, и Захар привычно, не глядя, потянулся к щеколде, постучал.
Прислушался — нет ли шагов в сенцах. Не послышалось. Постучал еще, скова тихо.
Поставив чемодан на пороге, Захар с занывшим сердцем сошел с крыльца, глянул вдоль улицы. Интересное дело, и тут, как на полевой дороге, ни души! Потом догадался: сенокос в разгаре. Вон и у их дома — копешки сена, Подошел к одной, выдернул пучок духовитого разнотравья, поднес к лицу. И пахнуло далеким детством, лесом и степным простором с жавороночьим песенным журчаньем в поднебесье. На глаза навернулись слезы. Смахнул их ладонью, устыдился, даже обернулся — не заметил ли кто его слабости. Увидел медленно подходившего к нему старика.
— Здравствуй, молодой человек! К Купавцевым, что ль? Чей будешь-то? — забросал он Захара вопросами.
— Как чей? Купавцев и буду! — ответил Захар с ноткой недовольства. Приглядевшись пристальнее, признал в старике деда Алексана — за два дома от них живет — совсем древний, немощный стал, но узнать все же можно.
— Захар Купавцев я, Алексан Егорыч. Неужели не узнал?
— Нет, не признал, — отозвался тот и уже с большим интересом воззрился на Захара выцветшими глазами.
Помолчали оба.
— Сорок лет не был, разве ж узнать.
— Да-а. Далеко, слышно, живешь.
— Стучу вот — кет никого. Где наши, не знаешь ли? Мать где?
— Финогевна, что ль?
— Ну да, конечно!
— Так ведь схоронили мы Финогевну.
— Как схоронили?
— Лет, почитай, десять тому. А я вот все скриплю, как старая лесина, пора бы уж и на покой. Финогевна-та, мать твоя, не хотела помирать, все тебя ждала, вдруг объявишься… Не объявился.
Захар сел на порог крыльца, забыв на время про стоявшего рядом старика. Силы покинули его, надсадно заныли раны.
Дед Алексан не уходил, глядел на сидящего не то с жалостью, не то с укоризной.
— А Ольга-то твоя в лесу — косят они с Алешкой, — подал голос старик. — Почитай, уж неделю. Там и ночуют. Меня попросили за домом приглядеть.
— С ночевкой, говоришь? — обрел наконец в себе способность говорить Захар.
— Обыденкой такую даль много ли сделаешь. Ну ты погоди горевать, я сейчас Нюшку за нею пошлю, внучку свою. Шурку-то мово помнишь? Дочка это его младшая будет.
— Как не помнить. Жив-здоров?
— Что ему подеется — на тракторе он, тоже днюет и ночует в поле. Нынче грех сидеть по хатам — сезон.
Двенадцатилетняя Алексанова внучка расторопна на ногу: через пять минут уже бежала по улице в сторону леса. Что ей, вострушке, четыре версты — мигом промахнет.
Жди, Захар, свою Ольгу, скоро придет! А придет ли? Нужен я ей, как в сорок третьем, жди-пожди. Пока девчонка бегает в лес, пойти что ли посмотреть на огород?
Захар обогнул амбар, каменную стену и через калитку, еле державшуюся на скрипучих петлях, прошел в огород.
Цепко тянулся к солнцу по жердочкам горох, упруго топырились елочки моркови, заполонив добрую сотку земли сочными плетями, теплясь, словно свечечки, желтыми огоньками, цвели огурцы.
Захар осторожно раздвинул жесткие и шершавые листья, и из-под них выглянули пупырчатые ребристые огурчики. Давно не испытывал такой радости Захар. С чувством хозяина, а не случайного захожего, сорвал парочку и тут же с аппетитом захрустел. Хорошо! Такая благодать разве есть в Норильске!
Незаметно для себя Захар прошел по меже до края огорода, где росла черемуха. Она тут с незапамятных времен растет, ничего с ней не делается — живучая. Вот только старого дерева не было, даже пенька не видно. Но молодая поросль так вымахала над плетнем, что если бы захотел дотянуться до ягод, ни за что бы не дотянулся— надо влезать по гладким стволам, черемуха еще не поспела, но ягоды уже были с боков коричневые.
Приятные воспоминания нахлынули волной, закружили мысли, взбудоражили. Смелым он был парнем, уже на третий вечер поцеловал упиравшуюся Ольгуньку, а еще через пару вечеров привел ее под эту черемуху, где они долго, до вторых петухов, слушали заливающегося соловья…
Захар настолько ушел в воспоминания, что явственно услышал девичий голосок. Оглянулся. За плетнем, на соседнем огороде, стояла девушка-подросток, в ситчиковом платьишке в горошек, и глядела на него то ли с любопытством, то ли с подозрением.
— Дяденька, ты чей?
Захара невинный вопрос поставил в тупик. Да, чей я в самом деле? Чужой человек на чужом огороде…
Ничего не ответил он девочке, круто повернул к стежке и споро зашагал к калитке.
…Ольга с сыном Алексеем и невесткой Таней копнили в лесу, на своей делянке, сено. Травостой выдался богатый — почти на каждой поляне торчал островерхий стожок. Корове на зиму за глаза хватит, прикупать не придется.
Настроение у Ольги было хорошее, пока прибежавшая из села девочка Нюша не принесла неожиданное, сразу же вызвавшее сумятицу в душе, известие.
— Сидит на крыльце, курит, тетя Оль, — переводя дух, завершила известие Нюша.
Но Ольга уже не слушала, стояла, пришибленная новостью. «Ну зачем приехал? Зачем? Не было печали… Все уже давно отболело, перегорело, нет же…»
Взяв себя в руки, разыскала на просеке сына, сказала ему о приезде отца. Алексей насупил брови — точь-в-точь Захаровы — ничего не ответил, снова взял воткнутые было в землю вилы, медленно пошел к валкам сена.
«А мне-то идти домой иль нет?» — захотелось ей спросить сына, но не спросила. Затянула потуже на голове косынку и нехотя в село пошагала…
К дому подходила, чувствуя в ногах свинцовую тяжесть.
Захар сидел на крыльце, дожидался. Завидев приближавшуюся Ольгу, нервно встал, двинулся навстречу.
— Здравствуй, Ольга, — еле вытолкнул из себя тихо.
— Здравствуй, — тоже негромко ответила Ольга.
— Не ждала?
— Ждала… в сорок третьем, из Саратова.
— Понятно.
Постояли молча.
На какое-то мгновение в Ольгином сердце шевельнулась жалость к этому, бывшему когда-то родным, человеку. Нестерпимо захотелось подойти и припасть к его впалой груди… Но последним усилием воли сдержалась, обрела прежнюю суровость.
— Проходи, что ль, в избу, — отчужденно проговорила она.
Вошли в хату — Ольга впереди, Захар — за нею. «Это мы с ней с сенокоса пришли», — подумалось ему, но он тут же отогнал мысль.
Странное дело, у Ольги само собой улеглось волнение, будто вовсе и не муж ее, некогда любимый, переступил порог вдовьего дома, а совсем посторонний человек. «Да он чужее чужого теперь для меня, дом родной, детей променял на какую-то… Нет ему больше места ни в сердце, ни в доме».
Захар живо огляделся. Уютом, волнующе знакомым повеяло изо всех углов. Вот печь, где он мальчонком грелся в зимние дни после школы и где слушал по вечерам материны страшные сказки. Вот чулан, с неизменными ведрами, корцами да посудой. А это уже новое: телевизор, кружевной накидкой занавешенный, картины на стене, книги в шкафу под стеклом. От этого, доселе ему не известного, пахнуло чем-то настороженно-неприязненным. Это новое безмолвно напомнило ему, что он только гость и никто более.
— Садись, — таким же отчужденным голосом вывела его из созерцания и раздумья Ольга.
Захар сел.
— Ну, сказывай, зачем пожаловал?
Захару Ольгин вопрос придал решимость, снова всколыхнул в нем приглушенную было обиду.
— Я вроде бы еще не совсем тут чужой! Это ты тогда не удосужилась в госпиталь пожаловать. Оно и правильно — кому же нужны увечные…
Лицо Ольги покрыла бледность: больно ранило Захарово обвинение.
— Если у тебя не осталось ни капли стыда и совести, то вот тебе бог, а вот и порог!
— Я не за тем приехал, чтобы ругаться. На детей, на мать хотел посмотреть. Или я не имею права? В родном-то доме.
— Почему. На детей посмотри, если они захотят тебя видеть. А на мать как бы ты ни хотел, уже не посмотришь. Спровадил ты ее до времени на тот свет.
Захар бессильно опустил голову, помолчав, спросил:
— Ждала она меня?
— Все мы ждали…
— Тогда чего же ты не приехала в сорок третьем? — резко встав со стула, неожиданно взорвался он.
— Ты не кричи! На свою там, в Норильске, покрикивай, — отрезала Ольга. Помолчала.
— А приехать к тебе тогда не могла, я уже тебе писала. Не могла, понимаешь?
— Нет, не понимаю. Может, хоть теперь объяснишь.
Ольга села, с минуту собиралась с мыслями, глядя мимо Захара, в окно.
— Тем летом на нас напасть за напастью, как на проклятых. Вспоминать-то одно мученье. Ты небось, не забыл, с какими меня оставил, уходя на войну? Так вот и без того было трудно, а тут еще свекровку угораздило с чердака упасть. Сено мы туда, сам помнишь, бывало, складывали на зиму. Полезла она, а лестница и поехала по стене. Три ребра себе и высадила, до самого рождества головы с подушки не поднимала. И кормить, и поить, и посудину подавать — все одна. Побежишь в колхоз, на поле, картошку выбирать, накажешь дедке Алексану приглядеть за ней и весь день неспокойна, как она там. Все не свой глаз. А ребят с собой брала, одену кое во что и веду — и в жару и в холод, оставить-то не на кого. Ты помнишь хоть, сколько им было в ту пору?
— Как же не помнить, — глухо отозвался Захар. — Димке — пять, а Алешке, выходит, три…
— То-то и око. Потаскала я их по полям, слезыньками поумывала. И не уберегла младшенького, простудила, Надорвался весь, бедненький, от кашля, в жару неделю целую метался. Думала, богу душу отдаст. И тут получили от тебя письмо из Саратова… Не знаю, как сама-то тогда жива осталась. Гляжу, мать лежит, Алешка — на печи мечется, никого не узнает, и к тебе-то сердце рвется — не камень. Уж было собираться начала в госпиталь-то, да матушка твоя застонала: куда, говорит, ты поедешь, мне дескать, все одно помирать, а ребятишек на кого оставишь?..
Ольга поднесла к повлажневшим глазам концы косынки, перевела дух и продолжала:
— Поревела, погоревала в сенцах, чтобы Димка не увидел — он, бедняжечка, тоже весь извелся на такое глядючи, — и не поехала.
— Но ведь ты же писала, что все живы-здоровы?
— А как же бы я тебе, раненому, написала иначе. Сам подумай.
— Выходит, я во всем и виноват?
— Вини кого хошь, а я перед тобой, как перед богом, неповинна.
— Да-а, — глубоко вздохнул Захар и еще ниже опустил голову.
Долго молчал. Молчала и Ольга.
Каждый думал свое. Слышно лишь было бесстрастное потикивание часов-ходиков.
— Знаешь что, Ольга, — нарушил тягостное молчание Захар. — Ты уж простила бы меня! А?
Взволнованное Ольгино сердце ворохнулось было от покаянных слов, но обида, давняя и застарелая, не дала ему размягчиться — слишком уж много пережито! С трудом проговорила:
— Такое, Захар, не вытравить из себя, не выжечь ничем до гробовой доски. А зла я на тебя не имею — живи, как знаешь…
— Давай я тут останусь… не поеду никуда?
— Нет, незачем тебе тут оставаться. Прежнее уже не вернуть. Все перегорело. Видно, ты мне на роду не написан. Живи, говорю, как сам захотел. А о нас тебе незачем беспокоиться.
Захар снова потупил голову. Надолго умолк. В тишине размеренно и четко тикали ходики, словно подтверждая необратимость времени и событий.
— Ну, я пошел, на станцию. Ребят бы еще повидать… — сказал, не вставая, Захар.
— Как хочешь. Димка на Зацерковке живет, своей семьей. Найдешь, если надо. А Алешка — в лесу, со мной косит. Сказала я ему о твоем приезде — не обрадовался что-то.
Захар вздохнул.
— Да-а… Ну, ладно, прощай что ль…
— В час добрый, — отрешенно ответила Ольга, не вставая с места.
Захар поднял вдвое потяжелевший чемодан, еще раз жадным взглядом окинул хату, через силу шагнул к порогу.
Морской канат
Город горел. «Юнкерсы» налетали из-за гор оголтелыми стаями, сыпали бомбы на беззащитные, искореженные кварталы и безнаказанно улетали. Зенитные пулеметы стояли только в порту — там шла спешная эвакуация детей и раненых. Фашистские стервятники несколько раз пытались прорваться к молу, но заградительный пулеметный огонь сбил с них спесь: три бомбовоза, волоча за собой чернью шлейфы дыма, нашли свой конец в пучинах моря.
Батальон морской пехоты, а вернее две оставшиеся роты, — одна полностью полегла на подступах к городу, — окопался в полуверсте от причала. Каменистая земля стала для моряков рубежом, за которым никому не было места. Войска под напором врага ночью оставили город, и морским пехотинцам предстояло удерживать порт еще целые сутки, пока не закончится эвакуация…
Комбат Ефанов, осунувшийся и нервный от боев и недосыпания, обходил позицию, окидывая придирчивым глазом наспех отрытые окопчики. Скоро с гор повалят гитлеровцы, будет очень жарко. Способен ли его потрепанный и поредевший батальон выстоять на голом, каменистом пятачке?
Подбежал ординарец.
— Товарищ капитан! Радиограмма.
Комбат взял из его рук листок бумаги, стал читать. Вдруг резко остановился.
— Ты знаешь, что тут написано? — спросил он у ординарца.
— Никак нет, товарищ капитан!
— Никак нет… никак нет, — обратив на моряка отсутствующий взгляд, с непонятной сердитостью проговорил комбат. — В таком пекле… с одной-единственной ротой!..
Штаб бригады приказывал командиру батальона: одной роте погрузиться на транспорт и прибыть в распоряжение командира бригады для получения особого боевого задания. Оставшейся роте, подтверждалось в радиограмме, любой ценой удерживать порт до отплытия последнего корабля с детьми и ранеными.
Любой ценой! Комбат Ефанов хорошо знал истинный смысл этих беспощадных слов. Он ясно понимал и усложнившуюся задачу, которая потребует от него и от его бойцов неимоверных усилий.
Однако как же можно удержать порт силами одной роты измотанных, усталых моряков? Неужели там, в тылу, не нашлось сотни бойцов для особого боевого задания? Но приказ есть приказ. Его не обсуждают, даже мысленно, а выполняют четко и неукоснительно. Иначе чего бы они стоили, приказы!
Командиры рот, узнав о только что полученном приказе, тоже сначала, как и комбат, выразили недоумение, а потом сожаление, что придется раздружать роты в такой тяжелый момент. Но ничего не поделать.
Об одном лишь не говорили вслух ни оба комроты, ни комбат Ефанов, но про себя каждый подумал, что рота, которая останется здесь, на каменистом берегу, поляжет вся. Помощи ниоткуда не будет, отход исключен, а враг не должен пройти.
— Ваши предложения? — глухим голосом обратился Ефанов к стоящим рядом командирам. — Кто останется?
— Я! — решительно сказал комроты-два Богатиков.
— Моя рота первая, мне и оставаться, — не менее решительно отозвался комроты-один Куреев.
— Так кто останется? — словно бы не слыша, в раздумчивости переспросил комбат и тут же самому себе ответил — Я мог бы и приказать, кому остаться, но лучше пойдите сами к морякам и поговорите с ними. Тут нужно больше чем приказ. Жизнь отдавать придется… сознательно отдавать.
— Есть пойти к ротам! — почти одновременно отозвались командиры.
Как первая, так и вторая роты настойчиво и единодушно заявили, что их место здесь, на последнем рубеже. Комбат Ефанов собирался уже сам решить, какой роте отдать предпочтение, как вдруг матрос Сагайдачный из первой роты, широкоплечий украинец, с непокорно выбивающимся из-под бескозырки чубом, подал неожиданный совет:
— Товарищ капитан, разрешите обратиться!
— Слушаю.
— Пусть нас морской канат рассудит.
— Что еще за канат? — недоуменно буркнул Ефанов.
— Чья рота канат перетянет, та здесь и останется.
Комбат удивленно вскинул брови:
— Кто это тебя надоумил, Сагайдачный?
— Да сам, товарищ капитан!..
Тот же Сагайдачный, взяв с собой троих моряков, немедля отправился к причалу, где швартовался к стенке очередной транспорт.
Через полчаса моряки возвратились к окопам, таща на плечах, с помощью обломка лодочной мачты, бухту морского каната. Как раз выдалось затишье, не было в небе «юнкерсов», молчали в порту пулеметы.
Ефанов приказал полуротам остаться в окопах на случай внезапности вражеского появления, а первым взводам — быстро собраться, чтобы беспристрастно самим решить свою дальнейшую судьбу. Сагайдачный, вместе с ходившими в порт моряками, мигом раскатал притащенную бухту. И длинный-предлинный канат, посеревший от воды, ветров и солнца, лег на редкую, выцветшую от ветров же и солнца траву роковой чертей. Все теперь должна решить сила — сила мышц и духа, сила самоотверженной любви к боевым побратимам и клокочущей в сердцах ненависти к рвущимся в глубь Родины поработителям.
Капитан Ефанов, еще более нервный, то и дело тревожно поглядывал в небо, торопил командиров рот:
— Время! Время! Приступайте скорее!..
И вот матросы, по взводу с каждой стороны, сбросив бушлаты и оставшись в тельняшках, по команде ухватились за канат. Молодые, сильные тела напряглись в едином порыве, в страстном стремлении — победить.
Разве можно измерить глубину и силу духа советского человека, с таким упорством добивающегося права на смерть во имя Родины! Да есть ли что на свете выше их совестливой любви к земле отцов, их неистребимого чувства сыновнего долга пред нею!
Канатными узлами вздулись мускулы на руках, пот ручьями тек с бронзовых лиц, клубами вздымалась из-под ног белесая пыль.
Комбат Ефанов был весь в напряженном ожидании: кто же выйдет победителем из столь необычного, сурового состязания? Ему равно были дороги обе роты, с ними он не раз бывал в таких переплетах, что самому не верилось, как только они выдерживали.
Звонкой струной напрягся канат, моряки словно слились с ним. Но ни та, ни другая сторона не подалась ни на шаг. Время как бы остановилось. Каждой роте не хотелось уступать право на последний, смертный бой.
Словно бы не доносился из-за гор глухой гул накатывающейся вражеской лавины, не шла в порту эвакуация и не сидели поблизости в окопах, ожидая финала— кто кого? — остальные моряки батальона…
Но вот дрогнул взвод первой роты, еле заметное смятение передалось по изнуренной цепочке, а еще через минуту наметился явный перевес на стороне его соперника. У комроты-один заходили желваки на потускневшем лице.
Взвод второй роты перетянул канат.
Все решилось просто и вовремя: в небе появились «мессершмитты», готовые вот-вот броситься в пике.
— По окопам! — подал команду Ефанов.
После налета немецких штурмовиков комроты-один Куреев построил своих моряков и, откозыряв, глухим голосом доложил комбату:
— Первая рота готова к выходу в порт!
Комбат Ефанов молча оглядел ряды моряков и сказал скупо:
— Ведите.
Рота ушла.
А полчаса спустя с горных отрогов сползли на каменистую равнину и устремились вперед вражеские бронетранспортеры с пехотой на бортах.
Моряки готовились к бою.
Подснежники
Егор Кудинов в кои веки решился провести отпуск не дома, а на юге, в санатории. И не сам до такого додумался, а друзья по литейке надоумили, насели, как сговорились: езжай да езжай, сколько ж можно отказываться от путевки! Иные, посмотришь, только весной запахнет — все пороги завкомовские обобьют: вынь да положь им путевку. А он, Егор, всяк раз от нее отмахивался, просто не видел особой надобности лететь куда-то сломя голову, да и здоровьем не обделен. Ну а чем не курорт своя дача! Хоть и небольшой участочек в коллективном саду, зато есть где отвести душу на природе. Тут тебе и овощ да фрукт всякий, если отпуск под осень случится, и речка, как слеза, чистенькая под боком.
Работать на участке — одно тебе удовольствие. Каждый отпуск Егор увозит туда все семейство: сам с женой на грядках в охотку копается, огурчики и помидоры растит, а внуки клубнику из шланга поливают. Тут же, на даче, в свою пору и варенье варят, соленье на зиму готовят. Зима долгонька — все подберет. В магазин за каждой баночкой не набегаешься при такой-то, как у него, ораве. Да и разве сравнишь покупное со своим соленьем! Тут ты сам себе кулинар: понапихаешь чесноку, петрушки с хреном, листа смородинного для духу и дубового— для крепости. Сам ли ешь, гостей ли потчуешь— за уши не оттянуть.
…Скорый поезд мчал, как угорелый: за окном, как в довоенном немом кино, шустро проносились какие-то станции, полустанки, разъезды. Смотреть на это мельтешение было муторно, и Егор снова уткнулся в разложенную на столе карту европейской части страны, купленную им специально перед поездкой. Занятно следить, через какие города они с женой едут. И еще одно влекло его к карте, может быть, из-за этого он и купил ее: на пути следования значился городишко, который ему и в снах часто приходит и наяву. Глядя на карту, Егор соображал, когда они будут там, по всему видать, скоро при такой езде. Он уже знал у проводницы время стоянки на станции — семь минут.
Не будь того городка, а точнее, одного человека, живущего там, не ехать бы ему сейчас на курорт, да что на курорт! — не жить бы ему вовсе…
Было это давно, в сорок третьем, в конце зимы. Порядком поредевший в непрерывных боях стрелковый батальон, в коем Егор Кудинов был рядовым, держал оборону на окраине степного городка. Приказ требовал стоять насмерть, и фашисты при численном превосходстве семь раз откатывались назад, устилая трупами мерзлую землю.
Немецкому командованию позарез был нужен этот населенный пункт, являвшийся железнодорожным узлом. Поэтому оно подкинуло сюда десятка два самоходок. Гитлеровцы пытались развить наступление, пока их не остановили верстах в тридцати. Это-то обстоятельство и сказалось на дальнейшей судьбе раненых. Жители окраинных улиц, осмелев, пошли по траншеям и стали подбирать, казалось бы, обреченных на смерть бойцов. Троих, в том числе и Егора Кудинова, укрыла в своем доме, недалеко от школы, учительница, молодая и строгая на вид женщина. Звали ее Елена Ивановна. Перевезла она их с помощью одной своей ученицы на салазках.
В просторном подвале, под полом, Елена Ивановна настлала соломы и затащила туда спасенных. Разрезав чистую простыню, она, как могла, перевязала раны, с наступлением сумерек привела в дом знакомую фельдшерицу.
А утром следующего дня в городок вползла вражеская колонна: мотоциклы, автомашины и танки заполонили улицы, засновали по домам солдаты. К дому учительницы подъехал «оппель», и из него в сопровождении двух солдат вышел долговязый офицер.
— Гутен морген, фрау! — сказал он с галантной улыбкой, войдя в комнату. — Мы хотейль осмотреть ваш дом…
Елена Ивановна, стоя у этажерки с книгами, внутренне сжалась, но тут же постаралась взять себя в руки.
— Пожалуйста, осматривайте, — ответила она, смело глядя в глаза гитлеровцу. — Вон там еще одна комната, нежилая.
Офицер двинулся вслед за хозяйкой. Придирчиво оглядел оклеенные обоями стены, окна с кружевными шторами, обшарил цепким взглядом пол, по которому после кончины матери Елены Ивановны не ступала ни одна нога.
— Гут! — довольный видом комнаты, изрек немец. — Здесь ми будет жить!
И отдал какое-то распоряжение стоявшим у дверей солдатам.
— Яволь! — готовно щелкнули те каблуками и вышли. Вскоре вернулись с огромным тюком. С кровати бесцеремонно были сброшены на пол подушки, одеяло и простыни. У Елены Ивановны больно сжалось сердце.
Так в доме учительницы поселился фашистский офицер. «Это даже лучше, чем солдаты, все же один, а их много, — думала она. — И хорошо, что немец выбрал ту, нежилую, комнату. А выбери он эту, под полом которой спрятаны раненые — что тогда?»
Между тем Егор Кудинов и два его товарища, слыша все, что происходило наверху, мысленно прикидывали, сколько времени отпустила им судьба на жизнь.
Думала и Елена Ивановна, как быть. Не только думала, но и действовала. Когда офицер ушел, она втащила в подвал плетеный короб с черными сухарями, впрок заготовленными перед приходом немцев. Мало ли как обернется, вдруг нельзя будет в подвал сунуться. Спустила туда же ведерко с водой, а также постель, сброшенную гитлеровцами с кровати.
— Так вот и будем жить, — ободряюще улыбнувшись, сказала она.
Труднее всего было оказывать раненым медицинскую помощь: фельдшерица уже не могла приходить, боясь вызвать подозрение. Но дала медикаменты учительнице, и та сама делала перевязки, закапывая тут же, в подвале, старые бинты. Офицер уходил утром и возвращался с наступлением темноты. Это позволяло женщине свободно управляться с ранеными. Те ожили, раны понемногу затягивались, появилась надежда на спасение.
Однажды всем пришлось пережить особенно тяжелые минуты. Как всегда, под вечер вернулся офицер. Он был навеселе. Не заходя в свою половину, прошел прямо в комнату учительницы и, многозначительно улыбаясь, поставил на стол картонную коробку, в которой оказались бутылка рома и закуска.
— Битте! — пригласил он. — Фрау должен пить за победу Германии. Завтра мы уходить дальше…
Елена Ивановна, почуяв недоброе, поблагодарила дрогнувшим голосом и отказалась от угощения.
— Фрау обижайт немецкий офицер?! Гут! — и немец сел за стол один. Налил в стаканчик рома и выпил, время от времени зло поглядывая на хозяйку.
Раненые, стиснув зубы, прислушивались к разговору наверху, и их бесила собственная беспомощность. Егор Кудинов, несмотря на больную ногу, рванулся было, намереваясь выскочить из подвала, но Николай Парменов с силой придавил его рукой:
— Ты что, сдурел?!
А Елена Ивановна больше всего боялась именно этого и, чтобы предотвратить беду, пошла на хитрость:
— Герр офицер, я не пью такого крепкого вина. Вот чаю я охотно выпью с вами. Я сейчас быстро вскипячу…
— О яволь, яволь. Карашо!..
Елена Ивановна мигом выбежала из комнаты. В коридоре она столкнулась с денщиком, который спешил с улицы. А вскоре офицер спешно покинул дом, вызванный, видимо, начальством по срочному делу.
Наутро вражеская часть выступила из городка.
И вот наступил день, когда Егор Кудинов и его боевые товарищи вылезли из подвала и по-братски обняли Елену Ивановну.
— Спасибо за все, сестричка!
Спустя некоторое время они распрощались и вышли. Направились к недальнему лесу, который, как узнали, тянется верст на сорок, может, до самой линии фронта.
Вошли в лес.
Был полдень, но под ярким вешним солнцем оставшиеся островки снега сверкали слепящим перламутром.
Шли молча. Вдруг Егор заметил на оттаявшем взлобке какие-то хрупкие, жалкие на фоне снега растения.
— Смотрите, цветы!
— Подснежники, — нагнувшись над изящной находкой, сказал Николай. — У моей Лизы день рождения в апреле, так я всегда приносил их…
— А вот еще!
Кудинов с какой-то неизъяснимой радостью стал собирать цветы. Получался букетик. Увлеклись поисками подснежников и его товарищи.
— Знаете что, ребята, подождите меня здесь, я недолго, — молвил Егор.
И те поняли его.
— Иди.
…Елена Ивановна, увидев в дверях бойца, испуганно всплеснула руками:
— Что, немцы? А где остальные?..
— Там, в лесу, — ответил Егор. — Да вы успокойтесь, Елена Ивановна, ничего не случилось. Просто набрали подснежников. Возьмите. За все, что вы для нас сделали…
…Поезд шел по расписанию, до городка оставалось часа два ходу.
Егор еще дома решил, что обязательно выбежит на станции из вагона и позвонит в школу, справится о здоровье теперь уже старенькой учительницы. Она давно не работает, но учителя, наверное, видят ее и должны ему ответить. После войны Кудинов все собирался съездить туда, но как-то не выходило. С Новым годом он поздравлял ее часто, только в последнее время что-то заленился. А от Елены Ивановны неизменно получал поздравительные открытки и лишь перед нынешним Новогодьем почему-то не получил.
Решение возникло сразу: он сойдет с поезда и навестит учительницу. Подумаешь, какой-то день-другой задержится — успеет еще наотдыхается. А билет не пропадет, оформит на станции остановку.
Егор тут же растолкал спавшую на нижней полке супругу и сказал, что скоро будет станция, где живет учительница, спасшая его в войну, — он не раз рассказывал о ней, — и что он решил остановиться и проведать ее. Навестит и сразу же приедет в санаторий.
…И вот Егор Кудинов снова в знакомом ему городке. Стайка девчат-школьниц объяснила, как пройти к двадцать третьей школе. Цифра эта в ту военную пору врезалась в память сразу и накрепко: она совпадала с его тогдашним возрастом. А когда подошел к школе, то без труда отыскал глазами и тот памятный дом.
На стук вышла незнакомая пожилая женщина.
— Здравствуйте! Живет здесь Елена Ивановна?
Женщина пристально поглядела на незнакомца, помолчала немного и сказала:
— Жила…
— А теперь?
— Нет больше Елены Ивановны, гражданин, умерла она… в декабре схоронили.
Егор, медленно сойдя с порога, бессильно опустился на вкопанную под окном скамейку. «Вот тебе и проведал! Да как же это я так?.. За столько лет не смог приехать…»
Женщина, участливо глядя на Кудинова, несмело спросила:
— Родней, что ль ей будете?
— Да, — кратко ответил он. Помолчав с минуту, спросил в свою очередь: — Вы не могли бы показать ее могилу?
— Отчего не показать.
…Дорога на кладбище шла мимо леса, так памятного Егору. Здесь они собирали подснежники. Тогда тоже был апрель.
— Вы не против, если я поищу цветов? — обратился Кудинов к женщине.
— Цветов? — удивилась та. Потом, видимо, сообразив, что цветы в эту пору вполне могут быть, сказала:
— Да-да, конечно, поищите.
Егор благодарно улыбнулся ей.
Он углубился в лес и вскоре без труда нашел первые подснежники, тянувшие ввысь свои дымчато-белые головки. И у него от волнения перехватило горло. Пред ним до мельчайших подробностей встал вдруг тот далекий-далекий день, точнее, полдень, когда они, слабые от незаживших ран, шли по этому лесу напрямик к линии фронта…
— Извините, заставил вас ждать, — сказал Егор женщине, выходя на опушку.
— Ничего, ничего, — понимающе отозвалась та.
…Могильный бугорок был уже чист от снега, и бурая от глины земля кое-где оттаяла. На эту-то, обогретую скупым апрельским солнцем горестную землю и положил Егор Кудинов свои запоздалые подснежники.
О книге «Горюч-камень»
Есть особый вид человеческой памяти, сложившейся у поколения, молодость которого была озарена пламенем Великой Отечественной войны. У нее, как у раскаленных снарядных осколков, горячие, режущие края. Время не властно над памятью тех, кто вышел живым из военного пекла. Не смягчится в ней горечь утрат, не ослабнет протест сердца к страшному слову — война. И поэтому вновь и вновь писатели обращаются к военной теме. Она неослабно волнует и тех, кто помнит жестокую пору по горестным впечатлениям опаленного детства.
Не мог не написать военную повесть и Михаил Глазков, мальчишкой познавший ужасы фашистского нашествия в родном селе Казаки на Орловщине. В этом его первом прозаическом произведении реальные факты переплетаются с художественным домыслом, с приключенческими элементами, без чего не может быть интересного сюжета. Однако основа повести реальна. Казалось бы, и немного сказано о деревенской жизни, о ее естественном течении, ко видишь и крестьянский труд, и быт деревни, и жизнь деревенской детворы, а позже и суровую фронтовую обстановку.
Повесть «Горюч-камень» посвящена нелегкому детству тех, кому в сорок первом было по десять-двенадцать лет. Таков примерно возраст и главного героя повести Мишки Богданова. Мы не случайно обращаем внимание на возраст Мишки и его друзей — Петьки Рябцева, геройски погибшего на легендарном Горюч-камне, где некогда в дни Батыева нашествия погиб и русский князь, Веньки, Семки, Леньки… Дело в том, что эти герои, во многом, конечно, автобиографические, помогли писателю по-своему, не повторяя никого, рассказать о военком лихолетье. События в жизни героев раскрываются во всем их реальном содержании: небольшие эпизоды слагаются в единую книгу борьбы непокоренного народа. В повести, по признанию критиков, после ее первого выхода в свет, есть добрый идейный и нравственный заряд, такой необходимый в деле патриотического воспитания нашей молодежи.
Известный советский писатель Иван Стаднюк писал: «Повесть прочитал с интересом и с довернем к написанному. Подтверждается моя точка зрения, что писательская молодежь сумеет достойно продолжить военную тематику в литературе…»
В повести особо звучит героико-патриотическая струна. Вспомните хотя бы разговор деревенских ребятишек с дедом:
«— Деда, а почему Горюч-камень так зовется? — нарушает тишину Семка.
Дед Веденей с минуту молчит, посапывая, раскуривает от костра погасшую цигарку. Потом пытливо взглядывает на обращенные к нему мальчишечьи лица.
— Есть, стало быть, причина. Слыхивал я от своего отца, а тот от своего деда одну легенду про Горюч-камень…»
И повел дед ночной разговор о том, как давным-давно поналетело на Русь-матушку ордынцев несть числа. И бывало туго приходилось нашим воинам, до единого погибали, но не смогли согнуть русский народ вороги. Вот и на том поле, что за Горюч-камнем, в битве полегла как-то вся дружина, один князь остался. Бился-бился он, да рука устала мечом взмахивать. И вспомнил тут князь место, где берег круто к реке обрывается. Дал он шпоры своему коню, и на всем скаку рухнул с обрыва на верную гибель. А вослед вороги в пропасть загремели — видимо-невидимо их поразбивалось…
«— Ух, здорово! — воскликнул Мишка. — С такой высоты, и не побоялся! Вот какие смелые были!
— Родину любили очень — уточнил Петька».
Эта, услышанная в ночном, легенда о гордом, непримиримом и никакими врагами не поверженном Горюч-камне поведет Петьку Рябцева к бесстрашному поступку — он, по сути, повторит княжеский подвиг. Осознанная любовь к Родине уведет и Мишку Богданова на фронт — он станет сыном полка и будет наравне со взрослыми бить ненавистного врага. Неистребимая любовь к жизни позовет на смерть во имя жизни и старого деда Веденея…
Рассказы в данной книге по своей военной тематике примыкают к повести. Герои их — люди с нелегкой судьбой, люди вполне реальные. Пожалуй, эта близость к жизни является отличительной чертой произведений Михаила Глазкова.


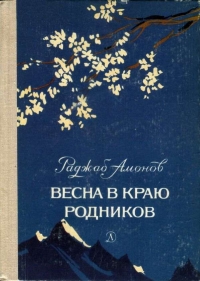



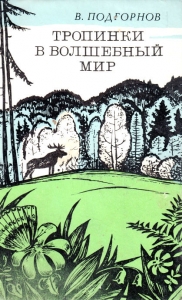



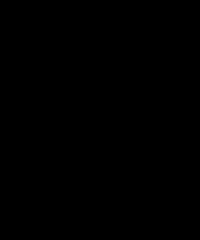


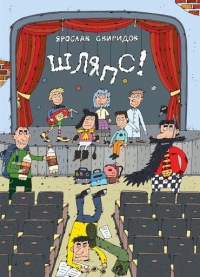
Комментарии к книге «Горюч-камень», Михаил Иванович Глазков
Всего 0 комментариев