Владимир Андреевич Добряков Одиннадцать бестолковых
Одиннадцать бестолковых (повесть)
Глава 1. У третьего звена
На щеках у Елены Аркадьевны — ямочки. Это когда она улыбается. А если серьезна или на что-то сердится, ямочек не видно. Но стоит ей улыбнуться — они тут как тут! Маленькие, веселые.
Вот и сегодня. Пока Елена Аркадьевна говорила о ребятах первого звена, ямочки так и светились на ее щеках. Она была довольна первым звеном. Молодцы ребята! Аккуратно ведут альбом интересных встреч, шефствуют над малышами из детского сада — мастерят им игрушки, читают сказки.
И второе звено — то, что сидит в среднем ряду, — не вызывало у нее беспокойства. Тоже активные пионеры. Собрали классную библиотечку, ходили на экскурсию в лес.
Но что это? Почему со смуглых щек молоденькой учительницы вдруг исчезли ямочки?
А-а, понятно — третье звено. Вон они, сидят в длинном ряду парт друг за дружкой, все одиннадцать человек, с левой стороны классной комнаты.
Туда-то как раз и смотрит Елена Аркадьевна. Несколько секунд смотрит. Молча. В классе так тихо, что все слышат ее вздох.
— Ну, а что же с вами мне делать?..
Вслед за учительницей вздыхает и Валя Галкина или просто Валя-вторая, как называют ее ребята. Еще бы ей не вздыхать! Ведь она звеньевая в этом самом разнесчастном звене. Весь ее жалкий вид, потупленные в парту глаза словно бы говорят: «Конечно, вы сейчас будете ругать и стыдить нас. Правильно. Но, честное слово, я не виновата. Сколько упрашивала их, предлагала всякого — и слушать не хотят!»
Лица у остальных ребят третьего звена тоже сконфуженные. Очень это неприятно, когда Елена Аркадьевна вот так молча, с укором и немного даже сердито смотрит на них.
Ну ничего, посердится и перестанет. А толку в их звене всё равно не будет. Такие уж они подобрались — неудачные. Каждый в свою сторону смотрит.
Начать хотя бы с первой парты. На ней сидят близнецы — Мишка и Лешка. Это Елена Аркадьевна специально посадила их здесь, чтобы всегда перед глазами были. Иначе такого могут натворить, что и урок сорвется. В прошлом году этих беспокойных братьев, кажется, со всеми девочками и мальчиками пробовали сажать. Ничего не получалось. Хоть каждый день с урока выгоняй. Мало того, что сами баловались, еще и соседям никакого покоя от них не было. Лишь под конец года удалось найти способ успокоить их. Причем получилось это случайно. В один из дней вконец выведенная из себя проделками шалунов Елена Аркадьевна приказала им сесть вместе за первую парту.
И случилось непонятное: братья успокоились. Может быть, они так надоели друг другу, что и шалить им стало уже неинтересно? А может, причина заключалась в чем-то другом. Но как бы там ни было, а в классе с того дня воцарилось относительное спокойствие.
В шестом классе Елена Аркадьевна с первого дня водворила их на то же место.
И вот уже целый месяц Мишка и Лешка — одинаково круглолицые, вихрастые и быстроглазые, в одинаковых клетчатых рубашках — сидят за первой партой. Сидят, в общем, тихо. Конечно, если бы впереди были ребята… Но впереди — никого. А соседи за спиной, занимавшие вторую парту, близнецов не интересовали. Там, по их мнению, сидели скучные люди — Валя-первая и очкарик Юра.
Валя-первая, или Зайцева, мнила себя артисткой. У нее был маленький носик, под прямыми стрелками бровей — удлиненные зеленоватые глаза, а возле ушей двумя пружинками свисали золотистые завитки волос. Она утверждала, что завитки вьются сами собой, но девочки не верили ей. Валя-первая вечно таскала в портфеле карточки киноартистов. Она знала их всех по именам и кто в каком фильме снимался. Ничем другим на свете она, кажется, не интересовалась.
Близорукий Юра считался зубрилкой и пай-мальчиком. На всех уроках он, не отрываясь, смотрел сквозь толстые очки в рот учителю и шевелился лишь в том случае, если надо было что-то написать, или когда его вызывали к доске.
На следующей парте сидели наиболее выдающиеся личности третьего звена. Галкина, она же Валя-вторая, облеченная высокой властью звеньевой, и Борька Червяков. Фамилия Борьки вполне соответствовала его виду: он был худой и длинный, точно червяк. И все же никто из ребят даже не пытался приклеить ему фамильную кличку — Червяк. Это потому, что в классе его называли не иначе как «Профессор». В пятом «В» не было другого человека, кто бы прочел книжек больше, чем Борька. И не только книжек. Он и техническими журналами интересовался. Даже толстую «Экономическую газету», которую получал его отец, Борька не оставлял без внимания. По мнению ребят, он знал решительно все. В его голове то и дело рождались всевозможные идеи. Эти идеи, наверное, мешали ему в учебе. Уроков он почти не учил. Поэтому иной раз умудрялся «схватить трояк». Однако это нисколько не влияло на его профессорскую репутацию.
И вот такого человека его соседка по парте Валя-вторая готова была обвинять в развале всей пионерской работы звена.
Однажды она так ему и сказала:
— Это из-за тебя у нас ничего не получается. Болтун ты, а не профессор. Предлагала собирать по магазинам макулатуру, а ты…
— И снова скажу, — перебил ее Борька, — такая чепуха не для нас. Бумагу и первоклашки могут таскать. А мы должны настоящим делом заняться.
— Должны, должны! — рассердилась звеньевая. — Болтун ты, и все! Только ребят сбиваешь!
Но напрасно Галкина так нападала на Борьку, говоря, что он во всем виноват. Нет, такое уж звено у них подобралось бестолковое. Вот следующая парта. Тут сидят Валя-третья и Андрюшка по прозвищу Пачка. Эта Валя — кругленькая, толстенькая и вечно что-то жует. А лентяйка — жуть! И еще она всегда опаздывает. От Андрюшки проку не больше. Только и знает, что хвастается своими мускулами и каждому обещает дать «пачек». Попробуй, затей с такими какое-нибудь полезное дело!
Пятая парта, как и первая, на сто процентов мужская. Серега Шубин и Димка Окунев. Друзья. И живут вместе, в одном дворе. Серега почти всегда угрюм. Слово у него вытянуть так же трудно, как увидеть на лице улыбку. Ушастый Димка с черными раскосыми глазами немножко задира. Любит дергать девчонок за косы, и очень доволен, когда они пищат и хнычут. Только одну девочку он не решается задевать. И не потому, что вместо кос у нее короткая прическа. Нет. Просто взгляд у этой девочки какой-то особенный — внимательный и глубокий, будто она видит что-то такое, чего не видят другие. И еще у нее необычное имя — Сабина. И она занимается в секции фехтования. Кроме того, она самая высокая в классе. Сабина сидит на последней парте. Сидит одна. Учится она очень хорошо. Но нисколько не гордится своими пятерками.
Димка иной раз обернется к ней, взглянет в серые, спокойные глаза и не знает, что сказать.
— Тебе промокашку? — словно бы удивленно спросит она.
А он не может понять, смеется она или не смеется. Он хочет рассердиться и не может.
На предложения звеньевой собирать в магазинах макулатуру или устроить культпоход в кино Сабина обычно недовольно пожимает плечами.
— Не могу. У меня занятие в секции…
Да, не клеится работа у третьего звена. Никак не клеится…
— Так что же мне с вами делать? — горестно повторила классная руководительница, глядя на понурившихся ребят.
И на прошлом воспитательном часе она пробирала третье звено. В тот раз они пообещали, что уж обязательно начнут работать, сделают то-то и то-то… Начнут, сделают! Все осталось по-прежнему, палец о палец не ударили. «Эх, и бестолковые же вы! — подумала Елена Аркадьевна. — А ведь есть интересные ребята. Коллектива только нет, каждый сам по себе…»
— Может быть, прикрепить вас к первому звену? — Елена Аркадьевна повернула голову направо, где в полном составе, гордые и уверенные в себе, сидели дружные пионеры первого звена. — Ну, как, ребята, — задорно, так что на щеках вновь показались ямочки, спросила Елена Аркадьевна, — возьмете на буксир третье звено? Не надорветесь?
Мальчики и девочки, к которым обратилась учительница, заулыбались. А их звеньевой, Лерчик Пуговкин, упитанный, синеглазый крепыш, сказал:
— Не беспокойтесь, Елена Аркадьевна, не надорвемся! — И снисходительно глянул на ребят с третьего ряда. — Так и быть, подцепим их на буксир.
Какими они ни считались бестолковыми, эти ребята третьего звена, но пережить такое унижение было нелегко. А что в ту минуту сделалось с Профессором! Он так вдруг прикусил губу, что скривился от боли.
— А мы не нуждаемся ни в каком буксире! — неожиданно с вызовом выпалил Борька и, вставая, словно для большей убедительности, хлопнул крышкой парты. — И вообще, Елена Аркадьевна, вы напрасно ругаете нас. Мы такое, между прочим, задумали дело, что если сказать, то вы и не поверите.
— Ну, ты все-таки скажи, — с улыбкой проговорила учительница. — Это любопытно.
Профессор поскреб длинным пальцем в затылке и отрицательно помотал головой.
— Не можем мы, Елена Аркадьевна, сказать… Не можем… В общем, это тайна. Понимаете, наша тайна…
Тут Профессор почувствовал, как звеньевая что есть силы жмет своим башмаком на его ногу. Это могло означать лишь одно: перестань пороть чушь! Но не тут-то было! Борька сам наступил на Валину ногу:
— Ведь правда, Валя, мы пока не можем сказать о нашей тайне?
Валя Галкина покраснела, словно морковка, и опустила в парту глаза.
— Ну что ж, — подождав несколько секунд, с веселым лукавством сказала Елена Аркадьевна, — если у вас, действительно, такая важная тайна, то я не буду настаивать — не говорите… А теперь, — учительница придвинула к себе классный журнал и раскрыла его. — Теперь давайте посмотрим, как у нас обстоят дела с успеваемостью…
Вторая половина воспитательного часа прошла шумно. Однако не двойки неуспевающих волновали на этот раз ребят. Всех интересовало другое — тайна третьего звена. Что они задумали? Какое такое дело?
Разумеется, ребята первого и второго звеньев старались не подавать виду, что их разбирает любопытство. Но это им плохо удавалось. То и дело они о чем-то перешептывались, передавали друг другу записки. А то вдруг украдкой настороженно взглядывали направо, на хранителей тайны.
Но что они могли определить по их лицам, если те и сами ничего не знали! К Профессору уже поступили три записки с просьбой открыть секрет. А крепкий Андрюшкин кулак каждую минуту больно упирался ему в спину. И все же Борька хранил, как говорится, гробовое молчание. Тайна продолжала для всех оставаться тайной.
Елена Аркадьевна, хорошо понимая, что волнует ребят, поскорее закончила воспитательный час и разрешила всем выйти в коридор.
Вокруг Профессора тотчас образовалась толпа.
— Атас! Тут полно шпионов! — предупредил Андрюшка.
Через минуту третье звено, как по команде, в полном составе собралось в конце школьного коридора, у окна. Такого единодушия Валя-вторая в своем звене еще никогда не видела. На что уж Валя Зайцева ничего не признает, кроме своих киноактеров, но и она горела нетерпением узнать тайну.
— Ну, говори! — кое-как отогнав крутившихся поблизости чужаков, потребовали ребята.
— Понимаете… — чуть замялся Профессор и потер пальцами тонкий нос. — Понимаете, эта идея пришла мне в голову вчера. Сильнейшая идея! Вы все попадаете, когда узнаете…
— Да ладно, не тяни! — нетерпеливо перебил черноглазый Димка. — Говори, что за идея?
— Понимаете, — Борька опять взялся за свой нос, — я не все еще продумал. Кое-что пока неясно…
— Ну-у, — протянули братья-близнецы. — А уж расхвастался!
— Тоже мне — принц Гамлет! — подняв носик, фыркнула Валя-первая. — Думает!
— Бессовестный! — накинулась на Борьку звеньевая. — Обманщик! Что теперь скажем Елене Аркадьевне? Все ребята нас засмеют!
— Тише ты! — оглядываясь, прошипел Андрюшка. — Раскудахталась! Пачек захотела? Раз Профессор сказал, значит, придумал что-то. А если обманул, — Андрюшка свирепо выдвинул нижнюю челюсть, — тогда держись, Профессор!
— А что лежит в основе твоей идеи? — наставив на Борьку блестящие стекла очков, будто по учебнику, спросил серьезный Юра.
Борька значительно пожевал губами.
— Пока ничего не стану вам говорить… Понимаете, кое-какие детали мне еще не совсем ясны.
Высокая сероглазая Сабина чуть насмешливо взглянула на Борьку. Димка перехватил ее взгляд и тотчас нахмурился.
— А может, выдумал все? Треплешься?
Борька обвел взглядом стоявших кругом ребят.
— Не верите?.. Ну, хорошо. Завтра — воскресенье. Приходите все ко мне. Тогда узнаете. В одиннадцать часов приходите…
Валя-вторая так про себя решила: если с идеей Профессора ничего и не получится, то все равно будет здорово — собраться всем вместе. Тогда-то уж наверняка что-нибудь сообща придумают. Да, надо непременно собраться у Бориса. Квартира у него большая, удобная. Можно устроить настоящее собрание звена.
Глава 2. Почему не пришел Серега
С того момента, когда настенные часы пробили одиннадцать ударов, прошло минут пятнадцать. А собрались еще не все. Не было Сереги с Димкой и Вали-толстенькой. Насчет Вали и удивляться было нечему. Она и в школу каждый день приходила минут на пять после звонка. Но почему до сих пор нет Сереги и Димки? Ведь обещали обязательно прийти.
Конечно, восемь человек тоже неплохо. Но если б собрались все, было бы совсем хорошо.
— Обождем еще немножко и начнем, — поглядывая в окно, откуда открывался вид на залитую солнцем и по-воскресному оживленную улицу, сказала Валя Галкина.
Действительно, через минуту послышался короткий, торопливый звонок. Наконец-то! Звеньевая, а за ней и Борька поспешили в переднюю. Нет, это были не двое друзей с предпоследней парты. Явилась толстушка Валя.
Красная, запыхавшаяся, словно всю дорогу бежала, Валя по обыкновению виноватым голосом пропищала:
— Я чуточку опоздала, да? Наверно, все собрались?
— Да где там! — выполняя обязанности гостеприимного хозяина, пошутил Борька. — Ты сегодня почти чемпионка. Двух марафонцев опередила. — И, помогая смущенной девочке снять пальто, добавил: — Прошу в зал заседания ООН.
Толстенькая Валя, одернув коротенькое платьице, уже и в комнату прошла, где собрались ребята, и отдышалась, и, осмелев, взяла из вазы яблоко и успела съесть его, а Серега и Димка все не приходили.
Будь это в школе — у ребят давно бы лопнуло терпение. А тут, в просторной комнате с красивым полированным столом, на котором возвышалась ваза, еще полная румяных яблок, со шкафом, пестрым от множества книжных корешков, и удобными креслами ожидание было ничуть не в тягость. Мальчишки сгрудились возле «Спидолы». Замечательный транзистор! Только коротких волн пять диапазонов! Вытянув блестящую стрелку антенны, они с увлечением крутили ручку настройки. Серьезная и молчаливая Сабина, одетая в школьную форму с белым воротничком и простые чулки, сидела на тахте — углубилась в толстый том «Английской живописи XVIII века». А Валя Зайцева вырядилась, как на бал. Остроносые туфельки, голубая кофточка, на тонкой руке — часики. Нога закинута на ногу. Чуть передвинув кресло, чтобы видеть себя в зеркале, она с деланно равнодушным видом листала знакомые номера «Советского экрана». Валя-толстенькая доедала второе яблоко и с любопытством рассматривала круглыми глазами и саму комнату и вещи в ней — словно собиралась жить здесь.
Всем было интересно у Борьки, и, похоже, они даже забыли, зачем пришли сюда. Лишь звеньевая помнила. Она нетерпеливо поглядывала то на часы, то в окно.
Сам хозяин комнаты все это время задумчиво похаживал от окна к двери и обратно, а то вдруг доставал из кармана записную книжку и, хмуря высокий лоб, смотрел в нее.
— Может быть, начнем? — спросила его Валя-вторая. — Ждать больше нечего. Видно, не придут.
— Что ж, пожалуйста, — важно ответил Борька. — Я готов изложить свою идею.
— Ребята, внимание! — хлопнула в ладоши звеньевая. — Начинаем… Андрей, выключи приемник.
Борька вышел на середину комнаты и для солидности покашлял в кулак.
— Я так считаю, — начал он, — сбор макулатуры — дело не для нас. Неинтересно и так же старо, как изобретение Стивенсоном первого паровоза. Согласны?
— Точно! — сказал за всех Андрюшка. — Бумагу собирать каждый дурак может!
— Поэтому, — сделав короткую паузу, значительно продолжал Профессор, — я хочу предложить такое дело, которое навечно прославит наши имена. А уж о школе и говорить нечего. Здесь наверняка откроют музей, посвященный нашим личностям.
— Ого! — братья-близнецы, разинув рты, подались вперед.
Даже Валя-первая, собиравшаяся поправить упругий завиток волос, вдруг забыла о нем и с удивлением уставилась на Борьку. Это он что, всерьез? Не шутит?
Нет, Борька не собирался шутить. На лице его не было и тени улыбки.
— Идея моя заключается в следующем… Впрочем, сначала несколько цифр, — Борька вынул из кармана штанов записную книжку. — Знаете ли вы, сколько потребуется времени для полета космического корабля на Марс и обратно?
— Месяц, — сказал Мишка.
— Нет, намного больше, — заметил Юра. — Кажется, пять лет.
— Ты еще скажи — пятьдесят лет! — засмеялся Мишка.
— Не собираешься ли ты лететь на Марс? — улыбнулась Сабина.
Борька пропустил ее слова мимо ушей.
— Никто не угадал. Для полета к Марсу и обратно ракете понадобится около пятнадцати месяцев, то есть четыреста пятьдесят дней. А знаете, как в таком полете будет решена проблема питания экипажа?..
Ребята и этого не знали. Борька объяснил. Покончив с проблемой питания, он принялся рассказывать о радиационных поясах, о степени вероятности столкновения с крупными метеоритами. Он приводил цифры, даже делал какие-то подсчеты. Слушать его было интересно. Только ребята никак не могли понять, для чего он все это говорит.
— А теперь подхожу к самому главному. — Борька снова покашлял в кулак. — Недавно в статье одного ученого я прочитал о том, что полеты в космос скоро будут совершать самые обыкновенные люди. И вот мне пришла идея… Вы, пожалуйста, не смейтесь, выслушайте до конца. Идея такая. В будущих длительных путешествиях к Марсу или Венере экипажи должны быть большими по своему составу. Прежде всего — командир. Затем — астроном, биолог, химик, врач, механик, радист, водитель вездехода, кинооператор, журналист и повар. Видите, всего одиннадцать человек. И у нас в звене тоже одиннадцать человек. Вот я и придумал, чтобы мы, то есть наше звено, составили экипаж космического корабля.
Заметив, как недоверчиво вытянулись у всех лица, Борька с жаром сказал:
— Поймите, это будет экспериментальный экипаж. То есть опытный. Чтобы доказать всем, что в космосе могут жить и работать самые обыкновенные люди. Мы напишем письмо Главному конструктору и Гагарину и объясним все. Пусть они, когда будут планировать новые дальние полеты, имеют нас в виду. Ну, а мы в это время не будем сидеть сложа руки. Начнем всерьез заниматься спортом, знакомиться со всякой специальной литературой, затем еще надо распределить между собой все эти должности и уже по-настоящему осваивать их. В общем, сделать своей профессией. Кто станет радистом, кто — водителем вездехода, кто кинооператором или поваром…
— Для себя ты, конечно, оставляешь должность командира?
Это сказала из своего угла Сабина. Сказала с явной насмешкой.
Борька пренебрежительно покосился в ее сторону. На такой выпад он даже не посчитал нужным что-либо ответить. Он ожидал, что ребята сами зашикают на нее. Они же не такие скептики, как эта длинная зазнайка и круглая отличница… Однако почему никто не радуется, не кричит и не хлопает в ладоши? Они что, не понимают, сомневаются? Или онемели? Языки у них отсохли?.. Ага, звеньевая что-то хочет сказать.
С досадой дернув себя за косу, Валя-вторая со вздохом проговорила:
— А я-то, глупая, поверила, что ты и в самом деле что-то настоящее придумал. Эх, фантазер!
И пошла критика! Ни в какой, мол, экипаж их не возьмут! Если ученым нужно поставить опыт, то и без них обойдутся. И вообще смешно: они всем звеном летят к Марсу! Ой, уморил! И откуда он взял, что в экипаже должно быть одиннадцать человек? Экипаж лучше составить из трех или в крайнем случае из пяти человек, но которые бы все умели делать. А Валя Зайцева заявила, что не испытывает ни малейшего желания лететь на Марс. И толстушка совсем не мечтала подняться в космос. Еще бы! Кто ей там будет печь такие ватрушки и пампушки, какие печет мама? Да и все равно она бы обязательно умудрилась опоздать к старту ракеты.
Вот вам и Вали, Валентины! Никакие вы не Терешковы, а так — одна серость.
И ребята тоже хороши: «Не возьмут! Смешно! Умора!» Слушать противно!
Но долго сердиться Борька не хотел. Спрятал записную книжку в карман. Вообще-то идея его сомнительна. Чего уж тут спорить! Вряд ли ученые отнеслись бы серьезно к такому предложению. Он и сам понимал это. Но ведь надо было что-то предложить. Вот и выдумал сегодня утром про космический экипаж из одиннадцати человек. Ну ладно, раз такое дело им не нравится, раскритиковали, можно придумать что-нибудь и другое… Вот, пожалуйста…
И «великий изобретатель» тут же, одну за другой, выложил две новые идеи.
Это были интересные, великолепные идеи. Но… опять же не для них. Ну разве могут они, например, сконструировать механического робота, который по их команде ходил бы по школе и выговаривал всякие слова! Или другое Борькино предложение: сделать на фруктовом дереве какие-то специальные прививки, чтобы на нем сразу росли яблоки, груши, сливы и вишни. Если такое чудо и возможно, то кто им покажет, как делаются эти прививки, и сколько лет надо ждать результатов? Этого Борька и сам не знает.
Да, хороши Борькины идеи, и все же ребятам стало казаться, что и сегодня они разойдутся по домам ни с чем. И опять будет огорчаться Елена Аркадьевна, и опять будет ругать их бестолковое третье звено.
А может, и права была звеньевая, когда уверяла, что Борька лишь сбивает ребят с толку. В самом деле, после его «великих» идей как-то и неудобно говорить о сборе макулатуры или о шефстве над ребятишками из детского сада… Звеньевая нахмурилась.
А у Профессора уже родилась какая-то новая идея. Выпучив глаза, он вскинул над головой руку.
— Эврика! Придумал! Это будет такое дело…
Только не успел он поведать, что собой представляет это самое «дело», — из передней послышался звонок.
— Наверное, ребята! — с надеждой сказала Валя.
Опозданию Валя не удивилась: мало ли что могло помешать им прийти вовремя. Но то, что в дверях стоял один Димка, без Сереги, было странно. Закадычные друзья, живут вместе, в школу приходят вместе, за партой сидят вместе. А тут перед ней — лишь ушастый Димка. Звеньевая машинально выглянула за дверь — не прячется ли Серега на лестничной площадке? Никого нет.
— А где Шубин? — даже забыв поздороваться, спросила Валя.
Угрюмо глядя мимо нее, Димка в ответ пожал плечами. И на вопросы ребят о Сереге он только пожимал плечами и так же молча, недовольно хмурился. Лишь на Андрюшку огрызнулся, когда тот хихикнул и понимающе подмигнул ему:
— Все ясно: после трех раундов Серега победил тебя по очкам.
Вот тут Димка и огрызнулся.
— Пошел ты… боксер!
— Ребята, спокойно! — Борька растопырил в воздухе пальцы, прося тишины, и добавил, обращаясь к Димке: — Садись к столу, наворачивай яблоки и слушай. Итак, продолжаю… Да, это великая мысль! Предлагаю снимать художественный фильм. Сами будем играть роли, снимать, монтировать. Работы всем хватит. Я недавно в журнале статью читал «В помощь кинолюбителю». Чепухня! Ничего сложного. Справимся.
— А где аппарат возьмешь? — сразу поинтересовался практичный Андрюшка.
— Достанем! — отмахнулся Борька. — Кинокамеры стоят недорого, тридцать-сорок рублей.
Андрюшка выпучил глаза.
— Ого!
— Что — ого! Зато настоящие фильмы можно снимать! Правильно я говорю, Брижжит Бардо?
Борька специально обратился к Вале Зайцевой — уж она-то поймет и поддержит его! Валя и в самом деле с любопытством прислушивалась к разговору. Настоящий фильм можно снять? Она могла бы сыграть главную роль.
— Я не против. Это интересно. — Грациозным движением она положила сплетенные пальцы рук на колено — точь-в-точь кинозвезда на обложке журнала. — Но ведь нужен сценарий. И чтобы подходящая роль была.
— И без сценария обойдемся, — небрежно сказал Борька. — А то возьмем да сами составим сценарий. Подумаешь, какая кибернетика!
Легкость, с какой Борька собирался начинать такое сложное дело, даже Валю-первую несколько смутила. Склонив голову чуть набок, она собиралась сказать, что придумать сценарий, наверное, нелегко, но тут с дивана, где сидели братья-близнецы, послышался голос Мишки:
— Кончай, Профессор, трёп! Ничего у нас не выйдет. Это уж точно. — И Мишка толкнул брата. — Верно?
— Ясное дело, — безнадежно махнул рукой Лешка. — Уж если дядя Костя отступился…
— Вот и я о дяде Косте хочу сказать, — продолжал Мишка. — Это наш сосед, инженер дядя Костя. Он тоже фильмы хотел снимать. Купил аппарат «Экран-3». Красивый, маленький! Три объектива! Вот купил, помучился месяц, а теперь продавать хочет. Никакого, говорит, времени не хватит. Только чтобы пленку проявить, нужно двенадцать операций сделать. А знаешь, сколько еще всего нужно к аппарату! Дядя Костя нам рассказывал. Значит, бачок нужен, моталка, сушилка…
— Еще какой-то прессик да специальный нож, — добавил Лешка.
— А самое главное, кинопроектор, чтобы кино показывать. А он семьдесят рублей стоит. Ого!
Борька помрачнел. Выходит, и эту идею ребята собираются похоронить? Так и есть. Даже артистка скисла. Димка, кажется, вообще ничего не слышит. Сидит, как сыч. И к яблокам не притронулся. Ну, а эта что думает — умница, неразгаданный ребус?
Обернувшись к Сабине, Борька заставил себя улыбнуться.
— Что ты думаешь о моем предложении?
Сабина подняла на него свои большие серые глаза.
— Смешно, — обронила она.
— Что ж не смеешься? — холодно спросил Борька.
— Потому что грустно. — Она взглянула на часы. — Время теряем.
Валя Галкина вскочила со стула. Она испугалась, что сейчас ребята начнут собираться домой.
— Я с тобой не согласна! — накинулась она на Сабину. — Мы пришли сюда, чтобы обсудить важное дело. И потому все должны думать и что-нибудь предлагать. Вот ты что предлагаешь? Лично ты?
Сабина задумалась, подняла плечи.
— Не знаю.
— Вот так! — злорадно подхватила звеньевая. — Ты не знаешь, она не знает, он не знает, никто не знает. А что же Елене Аркадьевне скажем? Нахвастали, наобещали! Тайна! Секрет! Теперь уж как хотите, а что-то надо придумывать… Валя, а ты что молчишь?
Толстушка, протянувшая было руку, чтобы взять еще одно яблоко, растерянно заморгала.
— Может быть, макулатуру…
— Опять двадцать пять! — вскипел Андрюшка. — Ведь объяснили тебе: бумагу каждый дурак может собирать.
— Тогда… не знаю, — пропищала толстенькая Валя.
— А вы? — с надеждой обратилась звеньевая к Мишке и Лешке.
Братья-разбойники, всегда такие быстрые и находчивые, в полном недоумении уставились друг на друга.
— Ну, а ты, Дима? — не унималась звеньевая.
— Отстань! — буркнул тот.
— Видите, как получается! — возмущенно воскликнула Галкина. — Опять никто ничего не знает! Тогда уж давайте, как и второе звено, устроим культпоход в парк. Или в кино. А еще попробуем найти каких-нибудь совсем стареньких пенсионеров и будем помогать им. И от сбора макулатуры, я считаю, не надо отказываться. Это же очень нужное дело. Знаете, сколько получается ученических тетрадей из одного только центнера макулатуры?..
И понеслась! Уселась на своего конька! Сколько из центнера получается тетрадей, да из тонны… Скучища!
— Пережеванное невкусно! — словно от зубной боли, скривился Андрюшка.
Сабина опять посмотрела на часы. Димка проследил за ее взглядом и помрачнел еще больше.
— Я думал, какое дело у вас! — дернув бровью, сказал он. — Трепотня одна. Пошел я…
Ух, и рассердилась звеньевая! Наотмашь кинула за спину косу. На щеках — красные пятна.
— Ты хорош! На других кататься! Кто-то придумает, кто-то сделает. А ты?.. Даже прийти не мог вовремя. А дружку твоему и совсем наплевать на все. Какой занятый человек! Сознательный! Все звено ждет его, ждет…
— Серегу не цепляй! — тихо и будто с угрозой сказал Димка. — Не знаешь ничего, так молчи!
— Молчать? И не подумаю! Где угодно буду говорить, что он самый равнодушный и что наши пионерские дела нисколечко его не интересуют.
— Говорю, не цепляй Серегу! — Димка сверкнул раскосыми глазами. — Раскричалась, как сорока! Небось ты бы на его месте тоже наплевала! Разве ему сейчас до того…
Димка еще что-то хотел сказать — было видно, что это так и вертелось у него на языке, но все-таки не сказал. Сжав губы и опустив голову, не мигая, смотрел в пол.
Всем, конечно, захотелось узнать — что такое стряслось с Серегой. Может, под машину попал? Или угодил в милицию?.. Однако Димка вдруг словно воды в рот набрал. Он уже, казалось, жалел, что нечаянно проговорился о своем друге.
А ребятам от его загадочного молчания совсем невмоготу стало — наверняка в какую-нибудь историю влип Серега. Ну чего Димка молчит? Будто они не товарищи Сереге, а враги.
— Пожалуйста, можешь не говорить! — вконец оскорбилась Валя Галкина. — Вот возьмем сейчас и сходим к Шубину домой. Сами все узнаем. Правда, ребята, сходим?
Димка вздрогнул. Медленно поднял голову.
— Ну, чего пристали? Скажи, скажи… Ну, избитый он. Здорово. Синячище вот такой. — Димка обвел под глазом круг. — Отец приложился.
— Отец? — В этом Борькином восклицании послышалось такое удивление и недоверие, что Димка с неожиданной злостью выпалил:
— А ты думал! Вчера вечером нахлестался, а утром опохмеляться начал. И пошел буянить! Тарелки побил, орать начал. А тут как раз соседка прибежала — на Серегу жаловаться. Мы в футбол играли, ну Серега и сбил чистую наволочку в грязь. Понавешивали белья — играть негде. Вот отец и врезал Сереге. Весь глаз кровью затек. Чуть ребра не поломал.
— Какое же он имеет право? — вырвалось у звеньевой.
— Спрашивать будет! — недобро усмехнулся Димка. — Говорю, напился. А пьяный что соображает? Ничего. Это уж Серега притерпелся. А то хоть из дому беги. Как напьется отец, так… Эх, что говорить! — Димка сокрушенно помотал головой. — Житье у Сереги — не позавидуешь.
В комнате наступила гнетущая тишина.
— Варварство какое-то! — Борька вдруг быстро заходил по комнате. — Феодализм! Рабовладельческий строй! В наше время бить человека?!
— А нас отец никогда не бьет, — сказал Мишка. — Бывает, такого натворим! А все равно не бьет.
— Мне-то один раз досталось, — уточнил Лешка. — Это еще когда в школу не ходили. Помнишь, я чай на тебя вылил?..
— А меня в прошлом году мать полотенцем нахлестала, — словно желая похвастаться, сказал Андрюшка. — Умора! И ничуть не больно…
Через минуту выяснилось, что с домашними экзекуциями ребята лично знакомы чуть больше, чем с папой римским. А о девочках и говорить нечего. Они просто в ужас пришли, услышав, что Серегу дома избивают. Это казалось невероятным. Особенно Валя Галкина возмущалась. Даже ленточка на ее косе развязалась — до того она трясла и вертела головой.
Лишь Сабина молчала. Пока все кричали и размахивали руками, она смотрела прямо перед собой, сжав твердые губы. Затем, подняв на Димку большие, словно стеклянные, глаза, Сабина тихо спросила:
— Неужели это все правда?
— Зачем мне врать?
— Но почему он позволяет себя бить?
— Чего? — Димка от такого неожиданного вопроса сначала оторопел. И только потом сообразил, о чем она говорит. — Чудачка! Серега же пацан. А отец его, знаешь какой — ого! Силища — будь здоров!
— Дело разве в силе? — обронила Сабина.
Димка не придумал, что на это ответить. Не поймешь ее… И вообще, напрасно рассказал он ребятам. Если теперь эти разговоры дойдут до Сереги, тот здорово обидится. Еще бы, раньше никто ничего не знал, а теперь — целому звену известно. А то и весь класс заговорит об этом. Конечно, девчонки обязательно разболтают. Может, попросить, чтобы все осталось в тайне? Клятву с них взять…
Размышления его прервал взволнованный голос Борьки:
— Ребята, ребята! Я что-то придумал. Послушайте! Мы друзья Сереге или не друзья? Ну, говорите!
— Чего спрашиваешь! — закричал Мишка. — Факт, друзья!
— Правильно! — энергичным взмахом руки подтвердил Борька. — А что делают, когда с другом несчастье?
— Ясно что, — догадался Мишка, — помогают. — Но тут же сделал кислое лицо. — Только как тут поможешь?
— Тут ничего не сделаешь, — вздохнул и Андрюшка. — Был бы это какой мальчишка — тогда конечно. Надавали бы пачек, и порядок! Или даже парень. Налетели бы все вместе… А то — отец.
— Все равно помочь можно! — упрямо сказал Борька. — Предлагаю пойти сейчас всем звеном к Серегиному отцу и поговорить с ним.
Димка опять вздрогнул.
— Чепуха! Так он и будет с вами разговаривать!
— Будет!
— Дожидайся!
— Какой с пьяным разговор…
— Так мы же всем звеном!..
Снова поднялся шум. Одни доказывали, что Серегин отец испугается и не станет больше драться, другие не верили в это и не хотели никуда идти. Сильнее всех упирался Димка. Только от одной мысли, что Серега узнает о его предательстве, Димку бросало в жар. Он бы и дальше изо всех сил продолжал упрашивать ребят не идти к Сереге домой, но вдруг Сабина, тронув его за плечо, понимающе сказала:
— Все о себе беспокоишься. А о друге?
Ее чистые серые глаза смотрели на него с укором. Димка почувствовал, что краснеет. Как рак, даже оттопыренные уши начали пылать. Может быть, это оттого, что она сказала правду? Ерунда! Разве они могут помочь Сереге? Отец его и слушать не станет. Выгонит их. И все же в словах девочки, в самом ее голосе была какая-то обидная правда. Димка отвернулся, сердито буркнул под нос:
— Идите. Ваше дело.
— А ты не пойдешь? — спросила Сабина. — Трусишь?
Вот какие странные дела творятся на свете. Другой бы девчонке он такое на это сказанул, что надолго прикусила бы язык. А ей ничего не смог ответить. И его молчание можно было понять так: что ж, если все пойдут, я тоже не отстану.
Пойдут ли все? Здесь последнее слово должна была сказать Валя Галкина — все-таки звеньевая! А Валя колебалась. Ведь звено собралось здесь решать пионерские дела. А конкретно еще ничего не решили. Но попробовать помочь Сереже Шубину — тоже важное дело. Вот и ребята сразу заволновались, заспорили, а то сидели, как сонные мухи.
— Я считаю: голосовать не будем. Пойдем к отцу Шубина всем звеном.
Это Галкина сказала таким категорическим тоном, что Валя-первая, собиравшаяся было успеть в половине второго на новый польский фильм, лишь тихонько вздохнула и посмотрела на свои золоченые часики: «Ладно, пойду на следующий сеанс».
Глава 3. Что случилось на лестнице
Со двора вновь послышались суматошные крики ребят.
— Петух — на меня! Эх, мазила! Говорю, на меня…
Серега узнал пронзительный, как сирена, голос Витьки Машкина из второго подъезда. «Неужели опять в футбол режутся?» Серега отнял от глаза примочку и, осторожно потеснив в сторонку немытые чашки и блюдца на кухонном подоконнике, примостился у окна. Нет, играли не в футбол. Крича и толкаясь, ребята носились возле столба с самодельным баскетбольным щитом. Витька Машкин лишь орать был мастер, а чтобы толково паснуть или заложить в корзину мяч — на это он не способен! Вот опять — эх! В каком положении был! Да где там! Хорошо хоть по щиту попал. Мазила!
Глядя на игравших ребят, Серега даже как-то забыл о своих неприятностях. Но ненадолго. Из комнаты снова донесся ворчливый голос отца, и Серега с обостренной обидой и тоской подумал, что сегодня и во двор не выйдешь. Как с таким синячищем покажешься? Уж этих-то ребят, со своего двора, не обманешь — не скажешь, что с лестницы сверзился или обо что-то в темноте треснулся на чердаке. Правда, никто не видел, как отец лупил его. Только насчет чердака здесь вряд ли кто поверит.
Серега вынул из кармана осколок зеркальца, которым пускал в школе зайчики, и стал рассматривать сизый синяк под глазом. «Нет, никто не поверит», — печально подумал он. И примочка не помогла, и монета. Видно, опоздал приложить монету… Опоздаешь! Как принялся дубасить!.. И за что, главное? Какое он имеет право? Подумаешь, отец! Все равно не имеет права. Совсем ненормальный сделался от своей водки. Особенно в последний год стал драться. Чуть что — с кулаками лезет.
Есть же счастливые ребята! Вот Димка. Без отца живет — красота!.. Сбежать бы на Кубу. Или в Сибирь куда-нибудь… Но как убежишь? Осень, холода скоро. И мать жалко. И ребят. Хорошие ребята… И школу жалко.
Школа… Завтра идти в школу… Худощавое лицо Сереги напряглось, глаз — в темном полукружье синяка — неподвижно замер. Что же придумать? О лестнице он уже раньше говорил. О чердаке?.. А если просто сказать, что во дворе подрался? Хотя и про это, кажется, врал… Ничего, можно еще раз…
А внизу, у баскетбольного щита, все кричали и носились ребята. В окно светило солнышко, перед самым стеклом качалась тонкая веточка клена с золочеными резными листьями. Сереге захотелось подразнить ребят солнечным зайчиком, но не решился. Ему сделалось очень грустно — даже такой малости не может себе позволить. Избитый, оскорбленный, униженный. За что?.. Он отвернулся от окна и со злостью посмотрел на закрытую дверь в комнату. «Обожди, вот подрасту — тогда не ударишь! Побоишься! И маму обижать не дам…»
Ах, как не вовремя отвернулся он от окна! Просмотрел самое главное. В последнюю секунду успел заметить лишь высокую Сабину, очкарика Юру и вроде бы клетчатая рубашка кого-то из братьев-близнецов мелькнула… Может быть, там еще кто-нибудь был? Ветка клена помешала, закрыла. Серега похолодел от страха. Ребята из школы! Почему они здесь? Куда идут?.. Он вскочил на подоконник, чтобы выглянуть в форточку, и тут же на полу что-то со звоном разбилось. Чашка! Он испуганно отдернул ногу, и только хуже сделал — на полу разлетелись осколки второй чашки. С треском распахнулась дверь, метнулось искривленное гневом лицо, большая и цепкая рука крепко схватила Серегу за шиворот, сбросила с подоконника.
Крики и ругань отца, удары по спине, боль в сдавленном плече — все это не в состоянии было заглушить того первого страха, вызванного появлением ребят из его класса. Куда они шли? Неужели сюда, к нему?..
Стук в дверь был совсем негромкий. Но Серега сразу услышал его. Так и есть — они! Вот уже мать тенью скользнула к двери. А отец еще не слышал.
— Щенок! — шипел он сыну в лицо. — Добра не жалеешь! Одно баловство на уме…
И лишь когда в передней щелкнул замок и донесся незнакомый девчоночий голос, Иван Алексеевич отпустил плечо сына и вышел из кухни. А Серега остался — жалкий, насмерть перепуганный, с разинутым ртом, весь превратившийся в слух.
На лестничной площадке перед раскрытой дверью толпилась группа смущенных мальчишек и девчонок.
— Кто такие? — отстранив жену, с раздражением спросил Иван Алексеевич.
— Здравствуйте. Мы из школы. Учимся вместе с вашим сыном, — дрожащим голосом сказала звеньевая.
— А чего надо?
На отечном, небритом лице стоявшего перед ними человека было написано такое недружелюбие, что у Вали Галкиной едва хватило смелости тоненько пискнуть:
— Мы хотели видеть Сережу.
— Нету его! — Иван Алексеевич уже собирался захлопнуть дверь, как вдруг высокий худой мальчишка с отчаянной решимостью воскликнул:
— Неправда! Сережа дома. Мы знаем.
Иван Алексеевич несколько секунд в упор рассматривал вызывающе злое Борькино лицо. Но сдержался. Взгляд его потух.
— Говорю, нету его. Нету дома.
Но опять не успел закрыть дверь.
— Неправда! Вы избили его, мы знаем! А теперь боитесь признаться!
Тогда и звеньевая осмелела. Тряхнула косой.
— Вы не имеете никакого права…
И тут же замолчала. Багровея, Серегин отец шагнул через порог прямо на них. По всем этажам загремел его голос:
— А ну, сопливые! Вон отсюда! Катись, пока целы! — Он широко замахнулся, словно собираясь на кого-то обрушить свой кулак, и ребята, наскакивая друг на друга, в панике посыпались вниз по лестнице.
Опомнились только на улице. Погони не было слышно. Они обогнули дом и вышли на бульвар. Это Димка их вел. Он торопливо шагал впереди, будто дорогу показывал. Очень не хотелось ему идти опять через двор — Серега из окна мог увидеть.
— Ну куда ты так бежишь? — спросила его звеньевая.
— Да он и на лестнице первый побежал, — ехидно заметил Андрюшка. — Как сорвался! Ну, и все за ним.
— Храбрый рыцарь! — усмехнулась Валя Зайцева. — Даже девочек не обождал.
Димка не защищался. Словно не слышал. Гвоздем сверлила мысль; что теперь скажет Серега? Предал!..
— Чего вы на него напали, — вступился за Димку Борька. — Рыцарь! Побежал! Просто он последним стоял на лестнице, внизу.
Сам Борька был доволен собой. Держался достойно. Если бы не дрогнули тылы, он бы так просто не оставил поле сражения.
— Вообще-то, напрасно поддались панике, — сказал Борька. — Я думаю, ударить он не посмел бы.
Братья-близнецы переглянулись. Им было стыдно за позорное бегство. Мишка замедлил шаг.
— Ну что же, давайте вернемся.
— Скажешь тоже! — встрепенулся Димка. — Вы не знаете его отца! Хорошо, что успели убраться. Так бы накостылял — будь здоров! Ведь предупреждал вас, не послушались.
Валя Зайцева вспомнила о новом фильме и посмотрела на свои часики.
— Ну, мальчики-девочки, я пошла.
— Обожди, — сказал Борька. — Как же так? Надо обсудить ситуацию.
— О боже! — театрально повела глазами Валя. — Снова собрание! Ну зачем совать свой нос куда не просят. Чего еще обсуждать!
— А может быть, все-таки посидим? — с робкой надеждой предложила звеньевая и остановилась возле свободной лавочки. — А то что завтра Елене Аркадьевне скажем? Дела интересного не придумали, с Шубиным ничего не выходит.
— Почему не выходит? Надо бороться.
Валя Зайцева искоса насмешливо взглянула на Борьку.
— О боже! Дон Кихот! Он будет бороться! Глупости! Отец Сережки пьяница, опустившийся тип, и ничто его не исправит. Ты же видел его лицо! Страшное. С таким лицом можно сыграть в фильме роль грабителя и убийцы.
— Ого, загнула! — восторженно хохотнул Андрюшка и плюхнулся на скамейку.
Воспитанный Борька обождал, пока усядутся девочки. А когда все сели, места ему не оказалось. Но Борьке и не понадобилось места. Он собирался держать речь.
— Итак, — сжав поднятый кулак, сказал он, — теперь я на сто процентов уверен, что мы должны действовать. Действовать решительно, твердо и немедленно. Нам нанесено коллективное оскорбление…
Сабина, сидевшая с краю, вдруг сердито вскинула на него большие глаза.
— Борис! Ну зачем ты?
— Что зачем?
— При чем тут оскорбление? — На матовых щеках Сабины выступили красные пятна. А ведь всегда была такая спокойная и выдержанная! — Знаете, я представила Сережину жизнь, — сказала она тихо, будто самой себе. — Это страшно… Мы что-то должны сделать для него. Я не знаю что, но обязательно должны.
Димкино сердце наполнилось благодарным теплом. А разве он не мечтает помочь другу! Но как? Что они могут?
— Мой папа рассказывал, — послышался пискливый голос Вали-толстенькой, — что у них на стройке одного пьяницу обсуждали на профсоюзном собрании.
— И мы можем сходить к нему на работу, — тотчас сказала Валя Галкина. — Узнаем, где он работает, и сходим. Попросим, чтобы его тоже обсудили на собрании. Это хорошо. А какие еще будут предложения?
— Снова пойти к нему всем звеном, — храбро сказал Мишка.
— Нет уж, дудки! — поджала губки Валя Зайцева. — Выслушивать ругательства и оскорбления? Не желаю! А если говорить по правде, то я не верю, что мы что-то можем сделать. Напрасно все это.
— Ах, вот как! — воскликнул Борька. — Значит, ты будешь спокойно наблюдать, как у нас на глазах гибнет наш друг?
Борька был заводной, зажигался, как спичка. И голос у него в такие минуты звенел, будто; струна.
— Пожалуйста, если ты можешь на это спокойно смотреть, не держим. Уходи! Без тебя обойдемся!
Но и Валя оказалась с характером. Вскочила и секунду сквозь прищуренные веки с презреньем; глядела на Борьку.
— Болтун! Дон Кихот! — И пошла, не оборачиваясь, как на пружинках, по бульвару, усыпанному желтыми листьями.
— Кто еще не желает оставаться? — проводив ее взглядом, мрачно спросил Борька.
Больше, конечно, никто не тронулся с места. Однако после ухода Вали Зайцевой разговор как-то не клеился. Все были вялые, подавленные, и ничего по-настоящему толкового для облегчения Серегиной участи никто предложить не мог. Тогда так договорились: дома еще каждый хорошенько помозгует, а завтра придут к школе за час до занятий, обсудят все и, может быть, удастся выработать какой-то план действий.
Валя Галкина и этим была довольна: все-таки время не пропало даром, хоть о чем-то договорились. Только одно плохо — Елене Аркадьевне ничего нельзя сказать. Борька всех убедил, что это должно делаться в полнейшей тайне, даже учительница ничего не должна знать. «А может быть, это и хорошо, — в конце концов решила звеньевая. — Так намного интересней, дружней, да и тайна будет настоящая».
Глава 4. Листок, спрятанный под клеенкой
Димка не находил себе места. От переживаний у него пропал аппетит. Он так лениво и рассеянно тыкал вилкой в котлету, что мать подозрительно спросила:
— Ты, случаем, не подрался? Или неприятность какая?
— Да нет. С чего ты взяла? — Димка запихнул в рот чуть ли не всю котлету и энергично заработал челюстями. Но едва прожевал, как снова задумался. Неприятность. Это бы ничего. А тут целая беда вышла. Друга предал. О самой его большой тайне разболтал. И как это с языка сорвалось? Все из-за Борьки да этой Галкиной! Ну, не пришел человек — подумаешь, какое дело! И чего упрекать, стыдить, несознательностью в глаза тыкать? Вот и сорвался, не утерпел… А потом уж поздно было — прижали. Все равно бы пошли к нему домой. Эта Галкина не отступится. Как же, начальство, звеньевая!
Димка понимал, что надо бы пойти к Сереге и объяснить все, но никак не мог себя заставить сделать это. Только к вечеру собрался. Да и то лишь после того, как увидел Серегиного отца, нетвердой походкой прошагавшего через двор на улицу.
Серега встретил его молча, без упреков. Димка даже растерялся — никак не ожидал такого. Он с удивлением глядел, как приятель прошел в комнату и, не сказав ни слова, сел к столу. Сел и задумался. Косая челка свесилась над бровью. Димка обернулся на кухонную дверь. Спросил тихонько:
— Мать дома?
Серега отрицательно мотнул головой.
— Наверно, сердишься на меня? — нерешительно молвил Димка и, не ожидая подтверждения, виноватым голосом заговорил: — Понимаешь, как все получилось…
Он объяснял долго, в подробностях. И получалось, кажется, убедительно — вроде не так уж он и виноват. Ясно, не виноват! Что ему оставалось делать?.. Однако по хмурому, неподвижному лицу Сереги нельзя было определить — как тот ко всему этому относится. Левой рукой прикрывал синяк у глаза, а правой — с чернильным пятном на пальце — чуть постукивал по столу.
Молчание приятеля начинало сердить Димку. «Будто стенке рассказываю!»
— А в общем-то это даже хорошо, что сказал ребятам! — с вызовом бросил Димка.
Фиолетовый палец Сереги замер над столом.
— А что он, в самом деле, житья тебе не дает! Знаешь, ребята как разозлились, когда я сказал. К директору завода собираются идти. А что думаешь, не поможет?
— Мне теперь все равно, — мрачно проговорил Серега.
— Как это — все равно? — Димка с недоумением уставился на друга.
Серега помолчал, подумал, а потом отвернул на столе клеенку и достал оттуда исписанный листок.
— На, прочти.
По мере того как Димка пробегал глазами написанное, рот у него раскрывался все шире и шире.
— О-о! — кончив читать, только и смог испуганно выдохнуть он.
Глава 5. Совещание на школьном дворе
Против Юриной фамилии Валя Галкина сделала такую запись в блокнотике: «Лечение в больнице».
Это Юра предложил.
— Если он алкоголик, — сказал Юра, — то дело совершенно ясное: его заставят лечиться. Даже б принудительном порядке. Мне дедушка так объяснил, он раньше в поликлинике работал.
— А как это, алкоголик? — спросил Димка. — Это когда все время пьяный?
— Наверно, — потрогав на носу очки, неопределенно ответил Юра.
Остальные ребята промолчали. В этот вопрос никто из них не мог внести полную ясность. Даже Профессор пожал плечами.
— Тогда с больницей ничего не выйдет, — безнадежно сказал Димка. — Бывает, что его отец по нескольку дней не пьет.
— Ничего, — звеньевая глянула в блокнотик, — обойдемся и без больницы.
А разве не обойдутся! Вон сколько напридумывали! Профессор принес две статьи — из какой-то газеты и журнала «Здоровье». Положат их в почтовый ящик Серегиной квартиры или сам Серега передаст — пусть отец почитает. Борька сказал, что там о всяких страшных болезнях говорится, которыми пьяницы могут заболеть. Мишка и Лешка предложили идти в редакцию — пусть фельетон там напишут. И чтобы про Серегиного отца там было. Хотя бы первую букву его фамилии поставили. Догадается! И еще надо обязательно сходить на завод. До механического завода, где он работает, недалеко. Всего пятнадцать минут на трамвае. Вот прийти на завод и поговорить с директором, чтобы он знал всю правду и принял какие-нибудь меры. И Димка считает, что это будет здорово, — испугается Серегин отец. А уж Димка-то знает его. Да и само собой понятно: директор! Его все должны слушаться и бояться. Вот у них в школе директор Вера Петровна. Как вызовет к себе в кабинет, поставит по стойке смирно, да так пропесочит, что самый отъявленный хулиган вылетает от нее будто ошпаренный.
Кроме того, Сабина сказала, что написала Серегиному отцу какое-то письмо. Ладно, письмо так письмо, тоже пригодится. Ну, Андрюшка есть Андрюшка! Выдумал же — на дверях Серегиной квартиры каждый день вывешивать плакат: «Здесь живет пьяница!» Чудак Андрюшка!
И еще Валя-толстенькая должна подойти. Опять опаздывает. Она обещала узнать у своего отца, как на стройке дела с тем пьяницей, которого обсуждали на собрании. Ну и самое главное: надо посоветоваться с Серегой. Он-то наверняка подскажет что-нибудь дельное.
Ребята тесной кучкой стояли в дальнем углу школьного двора. До начала занятий оставалось минут двадцать. К школе уже понемногу подтягивались ученики. Вон и Лерчик Пуговкин из первого звена показался. Сюда зачем-то идет. Андрюшка сразу заметил его.
— Атас! — предупредил он ребят и крикнул приближавшемуся к ним Лерчику: — Ну чего, чего надо? Пачек захотел? Поворачивай обратно! Не видишь — совещание у нас.
Конечно, можно было бы и не дразнить Пуговкина, но Андрюшке вдруг до смерти захотелось показать этому задаваке, что и они не лыком шиты. А то надоело: первое звено! Первое звено!
И маневр удался. Услышав такие слова, Лерчик будто о камень споткнулся. Улыбнулся через силу:
— Эх, добры молодцы, уж и поздороваться нельзя!
— Почему нельзя, — сказал за всех Мишка. — Здравствуй, привет, салям и до свидания!
А Лешка добавил:
— Отчаливай, капитан! Лево руля!
— Пожа-а-алуйста! — каким-то сдавленным петушиным голосом пропел звеньевой первого звена. — Тоже мне, заговорщики! — Лерчик подкинул вверх портфель, ловко поймал его за ручку и независимой походкой, насвистывая, зашагал от них прочь.
Только напрасно он притворялся: каждому было ясно, что Пуговкин сгорает от любопытства.
Не успел скрыться Пуговкин — семенит толстушка. Как всегда, запыхавшаяся, красная.
— Опоздала, да? Здравствуйте! А я так спешила, так спешила…
— Поделиться хорошей идеей? — весело спросил Борька.
Валя растерянно вытаращила круглые глаза.
— Я думала. Да. Все утро думала. Честное слово. И вчера вечером думала…
— И…
— И ничего не придумала, — печально вздохнула Валя-толстенькая. — И у папы на работе ничего не получается. Они того пьяницу ругают-ругают, два раза обсуждали на собрании. Он обещает, клянется, а все равно пьет и прогуливает. Теперь совсем не знают, что с ним делать. Наверно, со стройки выгонят.
После такого рассказа все как-то растерялись: если у взрослых не получается, то что они могут?
— И все-таки мы должны помочь Сереже, — нарушила молчание Сабина.
— Обсуждения, уговоры! — презрительно фыркнул Андрюшка. — Говорю, плакаты — это сила! Пяток таких ударов — и будет лежать в нокдауне. Точно!
— А в фельетоне пропечатать, скажешь, плохо! — воскликнул Мишка.
— Не падать духом! — заключил Борька. — Повоюем! — Он посмотрел на окна их класса, за которыми уже мелькали фигурки ребят, и сказал: — Может, Серега уже пришел? Сейчас расспросим его.
И Сабина посмотрела на окна класса.
— Представляю его состояние, — задумчиво и с тревогой проговорила она. — Ужасно!.. Я бы на ею месте, наверное, не пришла в школу.
Димка быстро взглянул на Сабину и покраснел. И она в ту минуту оглянулась на него.
— Ты больше не заходил к Сереже?
Димка смутился еще сильнее, хотя прекрасно понимал, что смущаться ему сейчас никак нельзя.
— Нет… — с трудом выдавил он. И тут же подумал: «Эх, дурак! Лучше бы сказать, что заходил и видел его большущий синяк. С таким, мол, синяком в школу не сунешься…» Да, это обязательно „надо сказать.
— А может, он сегодня и не придет. — Димка ни на кого не смотрел, просто не хватало смелости поднять глаза. — Все же синяк…
— Чепуха! — отмахнулся Андрюшка. — Будто ему первый раз с синяками приходить.
— Надо как-то по-особенному встретить его, — сказала Сабина. — Понимаете, ему очень тяжело.
— Это мы можем! — тряхнул вихрастой головой Мишка. — Проявим чуткость. Верно, Леш?
— Я подарю ему свою авторучку.
— С ума спятили! — На худом интеллигентном лице Профессора застыла презрительная гримаса. — Глупейшая политика! Никакой чуткости проявлять не надо. Это только сильнее будет колоть его. Неужели не понимаете? Надо относиться к нему как всегда. Будто ничего особенного не произошло.
— Ты неправ, — возразила Сабина. — Наше внимание и чуткость не должны обидеть его.
— Глупости! Разве ты не читала, что жалость унижает человека?
— Жалость, но не чуткость…
— Будет вам спорить! — перебил Андрюшка. — Лучше туда посмотрите. — Он показал на школьную дверь, к которой, держа под мышкой желтую папку на молнии, торопливо направлялась Валя Зайцева. — Вот к этой артистке я бы проявил чуткость — накидал бы пачек за измену.
— Однако нам тоже пора, — забеспокоилась Валя Галкина. — Скоро звонок…
Глава 6. Димка ведет себя подозрительно
К началу первого урока Серега не пришел. Несколько минут ребята еще надеялись: вот сейчас откроется дверь и покажется сконфуженная физиономия Шубина — с Серегой, как и с Валей-толстенькой, такое случалось, опаздывал. Однако скоро стало ясно: не придет. А тут еще математичка Лидия Григорьевна, просматривая журнал, неожиданно сказала:
— Нет, говорите, Шубина? А я собиралась спросить его — ни одной оценки не имеет. Что с ним, не знаете?
Все ребята в классе повернулись в Димкину сторону — ведь точнее Димки никто на такой вопрос не ответит.
Димка тяжело поднялся из-за парты и, глядя на кляксу в своей тетради, произнес:
— Заболел он.
Произнес таким голосом, будто у самого температура градусов сорок была…
Едва прозвучал звонок на переменку, как ребята третьего звена сразу же сбились в одну кучу. Это получилось как-то само собой, без всякого сговора. То обычно равнодушно разбредались в разные стороны, а тут потянуло друг к другу. Вот как бывает, когда появляется общее дело, тайна. Вдобавок ко всему события принимали загадочный характер. Почему все-таки не пришел Серега? Болезнь — это, конечно, вранье. Неужели их застыдился, ребят? Или из-за синяка? А что если отец так избил его, что Серега теперь и ходить не может?
Борька заговорщицки кивнул на дверь, шепнул:
— Пошли в коридор. Надо обсудить ситуацию…
Лишь Валя Зайцева не знала, что делать и как вести себя. Близко подойти к ребятам или о чем-либо спросить она не решалась, но и совсем отойти, сделать вид, будто ничуть не интересуется их делами, ей было жалко. Вчера из-за кино она ушла от ребят, а сегодня они так недобро смотрят на нее, словно она какая-то преступница. Даже Юра — вот бы уж никогда не подумала! — этот тихоня и безвольный человек вдруг показал характер. Попросила на уроке резинку — он и глазом не повел, будто не слышал. А резинка у него наверняка есть. Просто не захотел дать. Пришлось попросить у девочки с соседнего ряда.
Да, избегают ее, сторонятся. Это совершенно ясно. Вот о чем-то зашептались, всей гурьбой двинулись из класса. И хоть бы один взгляд в ее сторону! Что ж, не надо, пожалуйста! Валя, конечно, и не собиралась идти за ними, а нахальный Андрюшка вдруг оттеснил ее в сторону и прошипел в самое ухо:
— А ты не подходи к нам, слышишь? И не болтай! А то пачек знаешь каких накидаю! Вот так!
Ей ничего не оставалось, как обиженно передернуть плечиками.
— И вовсе я в вас не нуждаюсь!
В коридоре Валя остановилась у сатирической газеты «Шприц». Она с минуту читала какую-то заметку, но если бы ее спросили, что в ней написано, — не смогла бы ответить. Мысли были о другом…
— О чем грустишь, Валя?
За ее спиной стоял улыбающийся, синеглазый звеньевой первого звена. Он улыбался приветливо и так понимающе, что Валя испугалась: не догадался ли Пуговкин о ее мыслях?
— Грущу? — Она с деланным удивлением изогнула брови. — Нисколько! Посмотри, как хорошо нарисована карикатура.
— Еще бы! — сказал Лерчик. — Вася Греков рисовал, из 8 «А». Школьный Бидструп… Так почему же все-таки ты грустила?
Он пытливо смотрел ей в лицо. И она вдруг нашлась.
— Ты видел новый польский фильм «Прерванный полет»?
— Нет еще.
— Вот когда посмотришь, может быть, и тебе станет грустно.
Это она хорошо придумала, как ответить. Просто здорово! Сбитый с толку, Лерчик стоял, разинув рот. Он и верил и не верил ей.
— Ладно, посмотрю, — растерянно сказал он.
На третьем уроке снова пришлось вспомнить о Сереге Шубине. И не только вспомнить. По понедельникам третий урок в 5 «В» — география. А ее ведет Елена Аркадьевна. Она, конечно, поинтересовалась, чем заболел Шубин, и в какой день, и был ли Дима у него дома. Бедный Димка едва не взмок, отвечая на ее вопросы. И все же классная руководительница осталась недовольна им: ничего толком не знает, а еще друг, в одном дворе живет!
Валя Галкина, не сводившая глаз с Елены Аркадьевны, казалось, читала ее мысли. Вот учительница, разрешив Диме сесть, на секунду задумалась. «Уж не хочет ли сама побывать у Сережи?» Звеньевая беспокойно заерзала на парте.
— Елена Аркадьевна, — подняв руку, сказала она, — я сегодня схожу к Шубину и все узнаю. Мне как раз надо в ту сторону — взять папин пиджак из химчистки.
О пиджаке она сказала нарочно. Он еще, наверно, не готов. Но ей ничего не стоит узнать — может быть, его почистили раньше срока.
— Что ж, прекрасно! — одобрила Елена Аркадьевна, и на ее смуглых щеках появились ямочки.
Зато Димка ничего прекрасного в этом не находил. Насупившись, он сердито глядел через плечо Вали-толстенькой в спину не в меру услужливой звеньевой.
Едва дождавшись конца урока, Димка подошел к Галкиной.
— Ты к Сереге сегодня не ходи. Я сам узнаю.
— Но мне же все равно по пути, — возразила Галкина. — Химчистка рядом с вашими домами.
— Рядом! Почти целый квартал…
Димка не договорил, потому что в этот момент к ним подошла Сабина. Она тихонько сказала:
— Валя, к Шубину пойдем вместе.
Этого еще не хватало! Димка сердито засопел.
— Не верите, что ли, мне? Говорю: сам все узнаю.
— А ты почему так отговариваешь? — Галкина подозрительно сощурила глаза.
— Почему, почему! Для вашей же пользы. Опять хотите нарваться?
Сабина сверху внимательно заглянула в Димкино лицо.
— Скажи, Дима, ты утром был все-таки у Сережи?
Димка не выдержал ее взгляда.
— Ну… был. А что?
— Значит, нам сказал неправду. Зачем?
— Зачем? — Димка подумал, пожевал губами. — Ну, просто…
Окончания фразы девочки так и не дождались.
— Сегодня после уроков, — спокойно и твердо сказала Сабина, — мы с Валей идем к Сереже.
— Кстати, — заметила звеньевая, — для начала положим в его почтовый ящик статью из Борькиного журнала. Как и договорились.
— Я, что ли, не могу положить! — буркнул Димка.
— Кроме того, — добавила Сабина, — я хочу передать свое письмо.
— Ну, смотрите, не пожалейте, — проговорил Димка.
Глава 7. Димка вынужден сказать правду
Солнце скатилось за крыши. Даже редкие желтые листья на верхушках деревьев не золотились его лучами. Небо с востока укрывала темная пелена.
Шурша по накатанному асфальту, мимо проносились «Волги» и «Москвичи», потускневшие и не такие нарядные в этот предвечерний час, когда и тени уже гуще и даль туманней, а фонари еще не зажигали и в окнах не видно света.
Валя Галкина и Сабина шли к Серегиному дому, негромко разговаривая.
— Так тебе ничуть-ничуть не страшно? — спрашивала Валя, с любопытством заглядывая в лицо рослой Сабины.
— Страшно? Нет. Хотя я немного волнуюсь.
— Но ведь он ничего не может нам сделать. Мы только спросим, почему Сережа не был в школе.
— Да, конечно… — рассеянно подтвердила Сабина.
— А что ты в своем письме написала?
Сабина грустными глазами проводила красные огоньки промчавшейся мимо «Волги».
— Написала о себе… Еще о своем отце. В общем, о жизни.
— А почему не захотела прочесть его нам?
— Не знаю… Это очень личное письмо. И оно для взрослого.
— Большое письмо?
— Я до часу ночи писала… Я сейчас очень волнуюсь. Поймет ли отец Сережи…
— Да… — не зная, что сказать, вздохнула Галкина. И вдруг оживилась: — Смотри, как раз буквы зажглись: «Химчистка». Но мы не будем туда заходить. Все равно у меня нет с собой квитанции. Пойдем сразу к Шубину.
Едва они миновали химчистку, как на их пути неожиданно выросла фигура Димки. Откуда он только вывернулся? Не иначе как шел за ними по пятам.
— Что же в мастерскую не зашла? — с недоброй усмешкой обратился он к звеньевой.
— Не захотела и не зашла!
— Тогда топайте домой, — глухо сказал Димка. — Вам же лучше будет.
— Посмотрите, пожалуйста! — удивилась Галкина. — Угрожает!
— Ничего не угрожаю. Серегиного отца сейчас встретил. С работы шел — пьяный, на ногах не стоит.
— Врешь! — уколола его взглядом звеньевая. — Механический завод — на Канатной, в другой стороне. А ты все время за нами шпионил. Нет, скажешь? Ведь из школы все вместе вышли. И мы нигде не задерживались… Ну, что молчишь? Сказать нечего?
— Дима, в чем дело? — мягко спросила Сабина. — Чего ты боишься? Что скрываешь?
Он сразу как-то сник, опустил ушастую голову.
— Все равно Серегу не застанете.
— Понятно. Он убежал из дому. Когда?
У Димки отвалилась челюсть. С испугом уставился на Сабину.
— Откуда знаешь?
— Ты сам рассказал.
— Я?! — изумился Димка. — Да я никому ни слова…
— Не словами, а поведением рассказал. А вообще можно было предположить.
У Галкиной от изумления перехватило дыхание.
— Ах! — наконец выдохнула она воздух. — Неужели правда убежал? А куда?
Димка покосился на звеньевую и отвел глаза.
— Рассказывай, Дима, все, — сказала Сабина. — Раз уж звено решило помогать Сереже, то от нас не должно быть тайн.
— Но он просил никому не говорить… — растерянно произнес Димка. — Вчера вот пристали: скажи, скажи, и только хуже получилось — совсем убежал из дому.
Да, на деле получилось так: из-за них убежал. Но в чем их вина? Разве они не хотели ему добра? Нет, виноват Дима. Почему он не отговорил Сережу от этого малодушного шага?
— Если бы ты был настоящий друг, — строго сказала Сабина, — ты бы не позволил ему бежать.
— Вот именно, — подхватила Галкина. — Мы обдумали все, обсудили, начинаем борьбу с его отцом, и теперь, пожалуйста, — сюрприз, все кверху ногами!
— Ты обязан был задержать Сережу, — повторила Сабина. — С его стороны это малодушие, глупый шаг.
— Думаете, я не говорил ему, да? — с обидой сказал Димка. — Еще как уговаривал! А он свое: «Не хочу больше с этим пропойцей и мучителем жить! Сбегу из города. Все равно теперь вся школа будет знать!» Я его целый час уговаривал. Если бы не я, Серега, может, и в самом деле удрал бы куда-нибудь в Сибирь или на Кубу. А так…
Димка вдруг замолчал, не договорив чего-то самого главного.
— Что — а так? — разом спросили Сабина и Валя.
Он исподлобья взглянул на застывшие в ожидании лица девочек и тяжко, безнадежно вздохнул, словно бы говоря этим вздохом: разве от вас что утаишь!
— А так на чердаке прячется. Дома ни одного дня не захотел больше оставаться. Вот и упросил я его переждать несколько дней на чердаке. А я за это время должен продать самокат, добыть компас, рюкзак, еще там что потребуется. Потом уж окончательно решим, куда ему подаваться.
— И ты бы стал все это делать? — расширив и без того большие глаза, спросила Сабина.
— Откуда я знаю, — теребя лохматую ручку портфеля, сказал Димка и добавил: — Надо же как-то помогать. Сказал, что ни домой, ни в школу теперь не вернется.
Какое-то время все трое молчали. Не замечали ни людей, шагавших рядом по тротуару, ни их разноголосого говора, ни машин.
Галкина первая нарушила молчание:
— Но ты ему говорил, что наше звено решило дать бой его отцу?
— Конечно, говорил.
— И он что?
— Ничего. Будто не слышит. Твердит свое: «Убегу, убегу. Мне теперь все равно». Уже и прощальное письмо написал: не ищите, не ждите. Больше, мол, так не могу. Не хотел отец быть человеком, так теперь пусть забудет, что у него есть сын. А мать просит не плакать, когда-нибудь заберет ее… Видите, разве ему теперь до нас?
— Просто не верится… — прошептала Сабина.
— Он и сейчас на чердаке? — спросила Валя Галкина, невольно оглядывая мрачно выделявшуюся на полутемном небе крышу ближайшего четырехэтажного дома.
— Где же ему еще быть! — мрачно ответил Димка. — Вчера потихоньку принес ему на чердак старое одеяло, резиновый круг вместо подушки, две бутылки воды. Утром купил батон, кефиру, а из дому мисочку супа отнес и картошки. Сейчас, — Димка озабоченно вздохнул, — снова пойду кормить. И еще надо разыскать, чем укрыться. Под одним байковым одеялом холодно. Говорит, продрог ночью. Если бы матрац был. А то настелили газет…
— Это невозможно! — Сабина взволнованно перебросила из руки в руку портфель. — Он же там простудится! Валя, надо что-то придумать. Ты понимаешь…
— Обожди! — воскликнула звеньевая. — Кажется, придумала! Наши близнецы, Мишка и Лешка! Недавно я видела, как санитары ругали Мишку за грязные руки. А он сказал: «Вот почистите три дня подряд картошку, тогда посмотрю, какие у вас будут руки!» Оказывается, у них мать и отец сейчас в экспедиции. Они же геологи. А Мишка и Лешка сами хозяйствуют. Вдруг их родители еще не приехали. Вот было бы здорово!
— А что, это идея! — оживленно сказал Димка, но тут же спохватился: — Только как я ему скажу? Ведь обещал молчать.
— Дима, — с укором проговорила Сабина, — ты опять больше о себе заботишься. Пойми: мы тоже переживаем за Сережу и должны сделать так, чтобы ему было хорошо.
— Да я что! — виновато сказал Димка. — Я поговорю с ним.
— Итак, — распорядилась Галкина, — мы с Сабиной сейчас идем к близнецам — все разузнаем, а ты положи в почтовый ящик Шубиных конверт со статьей из журнала. Твоя квартира двенадцатая?.. Ну, ожидай. Мы скоро вернемся…
Глава 8. Мечта о далеком острове
Очень хотелось есть. Бутылка из-под кефира уже давно была пуста, хлеб съеден, даже воды не осталось. Еще бы, разве это обед — холодную картошку кефиром запил. И все. А супу так и не пришлось попробовать — споткнулся обо что-то во тьме и полетела кастрюлька. Хорошо хоть не на одеяло вылил.
И еще было холодно. Днем-то ничего, терпимо. Солнце немного нагревало крышу, а вот к вечеру без одеяла пропал бы.
Серега лежал у дымоходной трубы, грустно смотрел в фиолетовый, словно залитый чернилами, прямоугольничек чердачного окна с тремя бледными, чуть мерцавшими звездочками.
Нет, долго здесь не высидишь. Да и какой толк сидеть? Зачем он сдался на Димкины уговоры? Чего ждать? Что изменится? Разве только синяк пройдет. Так то не беда. Можно было бы и с синяком отправиться в путь. Плохо вот, денег маловато — четыре рубля. Конечно, если бы Димке удалось продать самокат, то ждать имеет смысл. С десятью рублями можно запросто две недели прожить. А до Одессы как-нибудь доехал бы зайцем. А там, если повезет, пробрался бы на пароход, спрятался бы где-нибудь в трюме, и порядок — здравствуй, Куба! Вот где жизнь! Почти круглый год солнце, жара! Красавицы пальмы, сахарный тростник, теплое синее море!
Вообще-то тут много неясного. Очень много. Где будет жить? Что будет делать? Учиться или работать? Не посадят ли его снова на пароход, чтобы отправить обратно? Но почему-то верилось, что все обойдется, все будет хорошо. Потом он вырастет, станет взрослым, сильным и вернется в Советский Союз. Тогда уж отец пальцем не посмеет его тронуть. А мама-то как обрадуется! Он привезет ей всяких подарков. И ребятам привезет. Хотя к тому времени они уже будут не ребята. Но это даже интересней — встретиться после стольких лет разлуки. Борька, наверно, станет ученым. Димка — каким-нибудь инженером. Валя Зайцева — артисткой. А может, получится так, что кто-то из ребят приедет на Кубу — туда же много ездит наших людей — и они встретятся. Он подойдет сзади и — хлоп по плечу: «Здорово, Профессор!» Или: «Привет, Валюха!»
Серега даже заулыбался, представляя эту возможную радостную встречу. Но в следующую секунду улыбка на его лице погасла — где-то внизу, на лестнице, хлопнула дверь. Серега приподнялся на локте, замер… Но нет, ни близких шагов не слышно, ни дребезжания железной лестницы, ведущей на чердак.
Почему, однако, не идет Димка? Давно бы пора. Уже часа два прошло, как закончились в школе уроки.
До чего же есть хочется! Корочка хотя бы какая завалялась. Серега сглотнул слюну, облизнулся. Нет, распускаться нельзя. И он тут же приказал себе не думать о еде. Серега был сильный человек, с выдержкой и волей, и умел приказывать себе. Да и что здесь такого — поголодал пяток часов! Недавно Елена Аркадьевна рассказывала, как несколько лет тому назад четверо наших советских моряков блуждали по океану на оторвавшейся в шторм барже целых сорок девять дней. Кожу от сапог ели, клей, исхудали, как скелеты, а духом все-таки не падали. Потому, наверно, и в живых остались. Да, главное, не падать духом. Не унывать! Впереди — солнечная Куба!
Конечно, как ни хороша Куба, он с удовольствием продолжал бы жить здесь, никуда бы не уезжал. Но что поделаешь, если приходится покидать дом, мать, друзей, школу. Он не виноват. Просто теперь у него нет другого выхода. Нет…
Неожиданно чуткое ухо Сереги уловило чьи-то осторожные шаги. Димка?.. Или не он?.. Похоже, шаги не одного человека… Серега сжался под одеялом. Беда, если это не Димка. Что как увидят его? Вполне могут. Они наверняка с фонариком. Но кто они? Что им нужно здесь вечером? Может, милиция? Или у кого-то замкнул провод телеантенны? А почему не видно света?.. Точно, не один. Шепчутся… Шаги сюда… Бежать? Или не заметят?..
— Серега, — явственно донеслось до его ушей. — Это я — Димка. Не бойся.
Серега ощутил, как упругими толчками бьется сердце. Испуг прошел, однако он не подавал голоса. Выжидал. Что за ерундовина — кто это еще с ним?
— Где ты, Серега? — Голос Димки дрожал. Наверно, ему самому было страшно.
Скрываться дальше не имело смысла: вот-вот Димка наступит на него.
— Кто с тобой? — сердитым шепотом спросил Серега.
— А-а, ты здесь! — обрадовался Димка, склоняясь над другом.
— Кто там? Говори!
Димка секунду помедлил и сказал заискивающим голосом:
— Это ребята из нашего звена — Миша и Леша.
Серега захватил в горсть Димкину куртку и потянул к себе.
— Не хватай! — вдруг озлился Димка. — Стараешься, беспокоишься за человека, а он, как зверь, бросается. Схватишь здесь воспаление легких и — конец. А братья сейчас одни живут. У них тебе как на курорте будет.
— Ага, Сережа. Точно! — горячо зашептал из темноты Мишка. — Будешь у нас жить. Мирово! Так втроем заживем! Мама только через десяти дней приедет, а отец еще позже.
— Мы и готовим сами, — вмешался Лешкин голос. — Три дня Мишка, три дня я. Идем, у нас суп с тушенкой наварен, картошки пожарим. Я только что начистил, собирались жарить.
— Спать будешь на моей кровати, — перебил Мишка. — А здесь — бр-р! Закоченеть можно!
— Кто еще из ребят знает? — хоть и не так сердито, но все же недовольным голосом спросил Серега.
Димка понял, что этот вопрос адресован ему. Он страдальчески вздохнул.
— Ну, Галкина знает. Сабина.
— Растрепал?
— А что я мог сделать? Они после уроков к тебе шли, Елена Аркадьевна послала. Все равно узнали бы… И, вообще, не шипи на меня. Князь какой! Ребята из звена только и говорят о нем, беспокоятся, думают, как помочь, а он психует! — Димка совсем разошелся. — В самом деле, слугу себе нашел — то не так, это плохо. И хватит! — сердитым шепотом прикрикнул он. — Собирайся!
Димка со злостью сдернул с Сереги одеяло, и тот уже не протестовал. Покорно поднялся, нащупал в темноте резиновый круг и вытащил из него затычку. В душе он был рад, что ему не придется снова провести ночь на этом холодном чердаке, где пугает каждый случайный шорох, где пищат мыши, где чувствуешь себя таким несчастным и одиноким.
Да, втайне Серега был рад этому и очень благодарен ребятам, помнившим о нем, только не мог показать своих чувств, потому что стыдился.
Круг, мисочку и бутылки Димка завернул в одеяло и спрятал под стропилами крыши.
— Завтра утром возьму, — сказал он. — Теперь пошли.
С чердака спускались с великими предосторожностями: сразу из четырех квартир двери выходили на лестничную площадку. Это совсем ни к чему, если их кто-то увидит здесь. Мало ли что могут подумать.
Однако все обошлось благополучно. И уже совсем свободно вздохнули, когда вышли из подъезда на улицу. Тут их поджидали Сабина и Валя Галкина.
— Вы еще здесь? — удивился Димка.
— Ждали, как закончится операция, — улыбнулась Галкина.
А Сабина взволнованно проговорила:
— Добрый вечер, Сережа.
— Здравствуйте, — растерянно ответил тот.
— Ну, теперь мы видим, что все в порядке, и можем вас оставить. До завтра, ребята!
Звеньевая помахала на прощание рукой, и девочки удалились.
— Я тоже пойду домой, — сказал Димка. — Устраивайтесь. Завтра утром приду, посмотрю…
Давно Серега не ел с таким аппетитом. Суп, приготовленный Лешкой, показался ему необыкновенно вкусным, а второе — и того лучше. Масла Лешка не жалел, румяные кружки картофеля так вкусно пахли, были так прозрачны, что, как Серега ни сдерживал себя, тарелка его в две минуты оказалась пустой. А потом пили чай, и Мишка нарочно покрикивал, заставив Серегу съесть два блюдца варенья.
— Не стесняйся, наворачивай! У нас его сорок банок. Три дня вишню в саду обирали. Мама из-за этого варенья чуть в экспедицию не опоздала.
Мишка вообще все время покрикивал.
Только Серега, попив чаю, вытер с лица пот, а Мишка уже кричит из ванной комнаты:
— Давай, скидывай штаны и рубаху! Прогревайся!
Серега начал было возражать, но Мишка погрозил кулаком.
— Лешка, правда, разденем его, если не станет слушаться?
И рассердиться на них было совершенно невозможно. Пришлось Сереге раздеваться и лезть в горячую ванну.
Сытый, пропаренный, он уснул сразу же, и в ту ночь ему ничего не снилось.
А утром было столько шума, разговоров, что у Сереги совсем не нашлось времени подумать о далекой и солнечной Кубе.
Едва они успели позавтракать — прибежал Димка. Вскоре явились девочки, а с ними и Борька-профессор. Валя Галкина позвонила ему из дому по телефону — не могла она не поделиться такой волнующей новостью!
Все находили, что Серега теперь устроен отлично. Две большие комнаты, кухня с газовой плитой, горячая вода, ванна. Продовольственный магазин в этом же доме, овощная лавка в тридцати метрах. А главное, сами себе хозяева. Чем Сереге здесь не жизнь? Чудо! О том, что делать дальше Сереге, когда через десять дней приедет мать Мишки и Лешки, об этом не говорили. Никто не спрашивал Серегу и о его дальнейших планах. Просто пока поживет здесь, а потом будет видно. В школу, если не желает, пусть пока не ходит. Да и куда, в самом деле, с таким синяком покажешься! А уроки будет готовить вместе с братьями. Значит, и в учебе не отстанет.
От Елены Аркадьевны придется некоторое время скрывать правду — болеет, мол, ангиной, лежит в постели.
Всему нашлось место в этих планах, кроме его тайного решения бежать на Кубу. Но такое ли уж твердое это решение? Думать об этом Сереге не хотелось.
Сейчас его больше всего волновала мать. Как она там? Не пошла ли заявлять в милицию — все-таки вторую ночь не ночует. Надо ее как-то успокоить.
Серега взял листок бумаги и, подумав, написал коротенькую записку. Он свернул ее и отдал Димке.
— Это для мамы. Положи в наш почтовый ящик.
Глава 9. Тревожные думы уснуть не дают
Уже надевая в передней пальто, Иван Алексеевич случайно увидел в зеркале свое лицо. Глаза будто не его — темные, ввалились, на щеках серая щетина. Забыл побриться. «Э, черт, тут все на свете забудешь!» Натянув на голову кепку, он приоткрыл дверь в комнату и глухо сказал:
— Ты это, Клавдия, брось — убиваться так. Не иголка в сене — не пропадет. Куда ему деваться? Походит, помыкается, да и воротится… Слышишь?
Иван Алексеевич обождал с минуту, придерживая ручку двери, но вместо голоса жены услышал лишь ее всхлипывания.
«Взяла ее нелегкая! Ревет и ревет!» — Иван Алексеевич всердцах захлопнул дверь, глубже надвинул на глаза кепку и вышел на лестницу.
Внизу, у коллективного почтового ящика, он задержал шаг и под цифрой 33 (номер своей квартиры) в узкой щели увидел что-то белое. Газетой это не могло быть. Их приносят позднее. Что ж тогда — письмо? Странно. Вечером ящик был пустой. Никак от Сережки?
Иван Алексеевич провел вспотевшей вдруг рукой по шершавому подбородку. Возвращаться наверх за ключом не хотел: зачем жену тревожить. Сначала самому надо прочесть. Вспомнив о металлическом складном метре, он достал его из кармана, просунул в щель и долго приноравливался — как бы ухватить конверт. Наконец это ему удалось. Он вытащил письмо. Ни марки, ни штемпеля. Посредине крупными буквами было выведено: «Тов. Шубину».
Это от кого же? И толстое какое. Он торопливо надорвал конверт. Нет, это было не письмо. Иван Алексеевич держал в руках два больших листа, вырванных из какого-то журнала. На одном чернел заголовок «До поры, до времени», на другом напечатан рисунок: валяется пьяный, а рядом стоит свинья и будто бы удивляется.
Иван Алексеевич сжал губы, шумно засопел носом. «Шантрапа! Слюнявки! Ишь, подсунули что!» Он хотел смять и выбросить листки, но подумал, что здесь их могут поднять. Сунул в карман.
Всю дорогу до трамвая Иван Алексеевич думал о сыне. Вернется. Подурит и вернется. Ишь, фокусник! С характером! Не тронь его. Был бы золото — понятно. А то ж сорванец, шалопай, занимается из-под палки. Как тут не поучить его уму-разуму! Так уж заведено. И ему самому доставалось в свое время. Отец, бывало, такого деру пропишет, что и на стул неделю не присядешь. И ничего, терпел. Куда денешься — отец. А этот защитников себе завел… Неужели сам нажаловался? Вроде, не похоже на него. Как же тогда узнали? Ах, нехорошо вышло. До учителей в школе может дойти, до милиции…
И, стоя в битком набитом трамвае, он продолжал думать о том же. Крепко, правда, в последний раз прихватил Сережку. Если бы не Клавдия, могло случиться, что и покалечил бы. Не в себе был. Сильно не в себе. И с чего? Ведь вроде бы и нормы даже не добрал — всего полтора стакана. Раньше крепче держался. Теперь иной раз проснешься — голову ломит, тяжесть под ложечкой.
Трамвай затормозил. Внизу, с подножки, послышался молодой смешливый голос:
— Братцы, ужмись!
Чей-то локоть уперся Ивану Алексеевичу в бок, и опять он ощутил ту же противную, тупую боль — будто кирпич внутри давит.
Не ладилась в этот день у Ивана Алексеевича работа. Размечая деталь, грубо ошибся, и целых два часа вылетели в трубу. Еще и материал понапрасну загубил.
Белозубый Колюха — сосед по рабочему месту — покрутил кудрявой головой.
— Так, Иван Алексеич, и детишкам на молочишко не заработаешь. Не забыл — через два дня получка.
Сам Колюха работал споро, с азартом, и к обеденному перерыву чуть ли не закончил дневную норму. Возвращаясь из столовой, он внимательно взглянул на Ивана Алексеевича.
— Что-то серый ты. Не заболел?
— Не побрился, вот и серый, — принудил себя улыбнуться Иван Алексеевич.
— Это точно! — охотно согласился Колюха. Ему, молодому и здоровому, приятней было вести разговор легкий, шутливый. — Это точно! — повторил он. — Почему волк серый? Нестриженый. У меня на днях электробритва сгорела. Тоже два дня не брился. Утром дочка и говорит: «Папа, у тебя лицо в занозах. Ты их будешь вытаскивать?»
Колюха захохотал.
— До чего же приметливые они! И всего-то четыре года. Твоему сколько, Иван Алексеич?
— Тринадцать скоро.
— И-их, ты! Хотя, верно, помню — здоровый парень. В прошлом году на первомайской демонстрации шел с нами. Плакат нес. Все не хотел отдавать. Как же, помню, отличный парень! В шестой ходит?
— В шестой.
— И как успехи?
— Всяко случается, — уклончиво ответил Иван Алексеевич и направился к бачку с водой. Пить ему не хотелось. Просто как-то неприятно было вести этот разговор.
А Колюха уже разворачивал газету.
— Посмотрим, что сегодня на шарике творится.
Иван Алексеевич пощупал в кармане конверт. Так и не решился выбросить. И правильно. Надо почитать, что они там прислали. Но достать из кармана листки Иван Алексеевич постеснялся. «Дома прочту», — подумал он.
Подходя после работы к дому, Иван Алексеевич заметно волновался: вернулся Сережка или не вернулся? По красным, заплаканным глазам жены тотчас понял — не вернулся.
Он разделся, молча прошел в комнату.
Прямые лучи низкого солнца желтым светом заливали диван. На этом диване по утрам он видел спящего сына. Так было много лет, с тех самых пор, как продали его детскую кровать с блестящими шариками и веревочными сетками по бокам. Где теперь он ночует?
— В школе не была?
Не ответив, Клавдия Васильевна протянула ему листок.
— В ящике, вместе с газетой лежала.
«Мама, обо мне не беспокойся. (Иван Алексеевич узнал почерк сына.) Мне хорошо. Домой возвращаться не хочу. Из-за отца. Меня не ругай, по-другому я не мог. В школу не ходи, не справляйся. И так стыда не оберешься. Твой сын Сергей».
— Ну, где теперь искать его? Скажи? — У Клавдии Васильевны дрожали губы.
— Не реви! Запричитала! Вернется. Знаю я этих беглецов! Ему, видишь, хорошо там! А дома — отец. Изверг. Да меня в его годы разве так драли! Терпел… Защитников себе нашел! На квартиру явились! Письма пишут! Картинки всякие! — Выворачивая подкладку кармана, Иван Алексеевич рывком вытащил журнальные листки. — Ишь, подкинули! Свинья над человеком смеется! — Он скомкал листки и швырнул в угол. Потом прошел к буфету, открыл дверцу и, звеня посудой, принялся шарить там.
— Не ищи, — сердито сказала жена. — Все выпил, нету. Иди-ка лучше, ешь винегрет.
Когда Иван Алексеевич ушел на кухню, она подняла с полу смятые листки, разгладила их ладонью и стала читать…
Весь вечер Иван Алексеевич не находил себе места. В обычные дни он спускался во двор и под сильной лампочкой, укрепленной на столбе, играл с приятелями в «козла». А сегодня выйти во двор побоялся. Слух о том, что у него сбежал сын, наверно, уже разнесся. Намеки, сплетни, расспросы — это было противно, это его пугало.
Он пробовал читать газету, крутил ручку приемника, но мысли неизменно возвращались к сыну. «Из-за меня ушел… Стыда, говорит, не оберешься… Приятного, конечно, мало… Да-а, раньше было как-то все иначе. И разговаривали частенько, на футбол, бывало, вместе ходили, в кино. Вот и Колюха вспомнил, точно — прошлый год на первомайскую демонстрацию брал его с собой. Радовался, доволен был. Всю дорогу плакат тащил. Тяжелый плакат, а тащил. А теперь… Теперь иначе все — вместе не ходят, почти не разговаривают. Неужто стыдится меня? А другие разве не пьют? Не все, конечно, но пьют. Чего же ему стыдиться отца? Ну, если когда и перепадет на орехи, так за дело! И от кого? От родного отца. Можно и стерпеть… А он не стерпел. Убежал… Эх, Серега, Серега! Куда же ты подался? Где ночуешь? Сыт ли?»
— Клава, — расслабленным голосом позвал Иван Алексеевич, — ты у Димки не спрашивала? Друзья они, в одном классе учатся. Должен знать.
— Ходила, спрашивала, — отозвалась из другой комнаты жена. — Говорит, ничего не знаю.
— Врет, поди. Кто же записку в ящик подложил?
— Сама голову ломаю… Ох, страшно. Что как в дурную компанию попал, с хулиганами связался?
Иван Алексеевич промолчал. В компании, конечно, могли пригреть. Худо, худо.
Спать Иван Алексеевич лег рано. Долго не мог уснуть — вспоминал отца, мать, нелегкое военное время. Воспоминания расстроили его. Если и было в жизни хорошее, то давно. Все заслонили последние годы — с частыми домашними ссорами, тяжелым похмельем. А теперь вдобавок ко всему — сын сбежал…
Проснулся он среди ночи от жуткого кошмара, будто кто-то душит его. Схватил цепкими пальцами за горло и душит. Иван Алексеевич с испугом открыл глаза. Дрожащий свет уличного фонаря бледно освещал стену, кусок потолка.
«Ф-фу, дьявольщина! Надо же такому привидеться! Лежал, видно, неловко». Он приподнялся, поправил подушку. Дышать стало легче, однако теперь внимание его занимал противный медный вкус во рту. Поташнивало. «А вчера и капли в рот не брал. Слаб стал. Раньше такого не было. Пойти воды выпить».
Иван Алексеевич включил у изголовья настольную лампу и сразу увидел на стуле журнальные листы. Те самые. Вот и карикатура дурацкая, и заголовок. Только листы теперь были совсем как новые, без морщинок.
«Никак утюгом гладила? — без раздражения к даже с некоторым удивлением подумал Иван Алексеевич. — «До поры, до времени». Не поймешь по заголовку. О чем же это, интересно?»
В статье доктора медицинских наук рассказывалось о различных случаях заболевания печени у людей, пристрастных к спиртным напиткам. Хмурясь, Иван Алексеевич внимательно, до самого конца прочитал статью. Вот еще незадача! Похоже, что и у него печень не в полном порядке: и отрыжка тебе, и горечь во рту, слабость стал ощущать. Ох, беда, беда! Это в тридцать-то девять лет! Худо. Все водка, она. А как от нее, проклятой, отстанешь? В могилу, видно, сведет…
Глава 10. Лерчик терпит поражение
Лерчик Пуговкин возвращался домой расстроенный. По вторникам ребята его звена приходили к своим подшефным в детский сад. Малыши встречали их радостно. И пионерам нравилось бывать у них. Среди этих малявок приятно было чувствовать себя такими сильными, большими, почти взрослыми. Да и забавные эти малыши! Визжат, кричат, а когда слушают сказку про Бабу-ягу или Серого волка, рты разинут, замрут — боятся. А уж как радуются, когда шефы заводят с ними веселую игру!
Но сегодня шефов в детский сад не пустили — карантин. Сказали, что они могут заболеть корью. Это, значит, недели три не смогут туда показаться.
Так ни с чем и разошлись ребята первого звена. Вот поэтому Лерчик Пуговкин и возвращался домой расстроенный. Вообще-то не только поэтому. Верно говорила Валя Зайцева, что польская кино картина «Прерванный полет» очень тяжелая. Посмотрел он сейчас этот фильм, и чуть ли не плакать хочется. Не удивительно, что и Валя вчера, как побитая, ходила по школе. А вдобавок и с ребятами рассорилась. Уж это он точно заметил — рассорилась. Они всем звеном пошли в конец коридора шептаться, а Валя не пошла. Отдельно стояла. Отшили. Андрюшка даже кулаком ей грозил. Ясно, что дело совсем не в фильме. Хотя картина, конечно…
Лерчик снова начал было вспоминать только что виденный фильм, но тут заметил новый газетный киоск. Киоск был красивый — почти весь из стекла, с длинным красным козырьком. Киоск поставили всего три дня тому назад, в субботу. Он сразу оживил и украсил улицу. Теперь Вале Зайцевой хорошо: вон сколько карточек артистов выставлено! Хоть каждую минуту приходи и любуйся. Киоск — у самого ее дома.
«Из-за чего ей все-таки бойкот в звене объявили? — Лерчик помял свою круглую, как надутый мяч, щеку. — И какое такое дело они задумали? Ведь недаром все переменки о чем-то шепчутся. Вот узнать бы. Вдруг такое придумали, что его первое звено за пояс заткнут. Этот Профессор у них голова…»
Лерчик вспомнил вчерашний разговор с Зайцевой и подумал: «Хитрая. Ничего не захотела сказать». Он в нерешительности остановился у газетного киоска и с минуту разглядывал фотографии киноартистов. Больше всех ему понравилась Людмила Касаткина. Это она так здорово сыграла роль партизанки Ани Морозовой в телевизионном фильме «Вызываем огонь на себя». «Подарю ей открытку», — решил Лерчик.
Расплатившись, он завернул за угол дома. Во дворе играли в мяч три девочки, но Вали среди них не было. Пуговкин одернул куртку и решительно направился ко второму подъезду. Он знал, где живет Зайцева. В прошлом году, когда Валя долго болела, он вместе с другими учениками два раза приходил к ней домой.
Лерчик смело нажал кнопку звонка.
Валя удивилась, увидев на пороге звеньевого первого звена. Если бы это пришла Валя Галкина, она бы очень обрадовалась. Она все почему-то надеялась, что звеньевая хоть на минутку да забежит. Но нет, вместо Галкиной, на пороге — Лерчик Пуговкин. Как всегда, румяный и улыбается.
— Здравствуй! — протягивая руку, весело сказал Пуговкин. — Шел мимо — решил забежать…
Они сидели на зеленом диванчике у круглого, низкого столика, заваленного журналами, и разговаривали. Сначала поговорили о новом польском фильме, вспоминали эпизоды из него. И Вале нравилось, что Лерчик, всегда такой шумный и самоуверенный, сейчас как-то утих и глаза у него стали грустными. А когда Лерчик достал из кармана открытку и сказал, что это самая любимая его артистка и потому он дарит фотографию Вале — может быть, и она когда-нибудь станет такой же известной, то Валя от радости и смущения совсем растаяла. «Вот какой внимательный. Настоящий друг. Нашел время зайти. Открытку подарил. Не то что наша Галкина. Забыла. На минуточку забежать не могла!»
— Я Касаткину тоже очень люблю, — сказала Валя. — Ты помнишь ее голос? Необыкновенный! Прямо слезы навертываются. Правда?
— Даже в горле щиплет, — вполне искренне поддакнул Лерчик, хотя, кажется, и не замечал в голосе артистки ничего особенного. Просто он страшно волновался, когда на протяжении четырех серий фильма Аня Морозова то и дело оказывалась на волосок от гибели.
«Лучше бы я в его звене была, — подумала Валя. — А то все сторонятся, отворачиваются, будто я прокаженная».
И вдруг Лерчик сказал:
— Хочешь, попросим Елену Аркадьевну, чтобы она пересадила длинного Сашку Лямина с четвертой парты на последнюю, а ты сядешь на его место?
Валя изумленно уставилась на Пуговкина — как он смог угадать ее мысли?
— Почему ты думаешь, что я хочу сидеть в вашем ряду?
Лерчик замялся.
— Просто мне так показалось. Ты ведь, кажется, не очень ладишь с ребятами своего звена.
«Пожалуй, верно, — отметила про себя Валя. — Это нетрудно было заметить».
Ободренный ее молчаливым согласием, Лерчик решил идти к цели кратчайшей дорогой.
— Ведь не станешь спорить, что ребята избегают тебя? Не станешь! Я знаю: этот фантазер Борька выдумал какое-нибудь пустяковое, глупое дело, а ты, наверно, не согласилась. Или критиковать стала. Точно?
Она случайно перехватила его взгляд. И поразилась — столько в нем было ожидания и нетерпеливого любопытства! Лерчик ждал ответа. А что можно было ответить на его слова? Только одно — рассказать все как есть. Но разве она имеет право? И разве это пустяковое, глупое дело? Судьба человека. Судьба Сережи Шубина, его отца, всей семьи!
А что, если Пуговкин только ради этого и пришел к ней? И открытку подарил, чтобы задобрить, чтобы она все рассказала? Конечно, это неспроста. Целый год не заходил, а тут — пожалуйста!
— Напрасно ты думаешь, что я хочу пересаживаться на ваш ряд, — холодно сказала она.
— Но ведь ты поссорилась со своими? — упрямо настаивал Лерчик.
— Это не твое дело. И, пожалуйста, не допытывайся про нашу тайну. Все равно ничего не скажу.
Она попала точно в цель. Лерчик обиженно закусил губу, отвернулся.
— Карточку можешь взять обратно.
Пуговкин окончательно понял: хитрость его не удалась. Он поднялся с уютного зеленого диванчика.
— Спасибо! Оставь себе!
Когда за ним захлопнулась дверь, Валя снова опустилась на диванчик и задумалась. Почему они такие жестокие? Неужели и сегодня не захотят разговаривать? Совсем неумно с их стороны. Ведь она могла со зла все рассказать Пуговкину. И Андрюшкиных пачек не испугалась бы. Но она ни словечка не сказала, ни одного словечка… Ладно, пусть дуются. Валя послюнявила завиток волос и накрутила его на палец. Пусть. Но и она первая ни за что теперь не подойдет. Что, у нее гордости, что ли, нет!
И действительно, на уроках она сидела с неподвижным, будто каменным лицом, а после звонка на переменку сама старалась поскорее уйти из класса.
Но как трудно все же было играть эту роль! По многим признакам она угадывала, что ребята чем-то возбуждены. У них безусловно что-то случилось. Вале так хотелось узнать! Однако о ней словно забыли, словно ее не было в классе. И, оскорбленная невниманием, она молча переживала обиду.
На последней переменке в коридоре ей встретилась Валя-толстенькая. Она с аппетитом уплетала грушу. Толстушка неожиданно улыбнулась, и Вале показалось, что она хочет подойти к ней. Но Зайцева прошла мимо, сделав вид, будто не заметила ее.
А потом она ругала себя и называла «гордячкой». Не «гордой» — как еще недавно с уважением думала о себе, а «гордячкой». Слова похожие, а какая разница!
Домой она шла одна. В лицо дул прохладный осенний ветер, под ногами шуршали ржавые, ломкие листья.
«Я ее, наверно, обидела. Конечно, разве не оскорбительно: человеку улыбаются, а он проходит мимо. Гордячка!»
Это холодное, надменное и резкое, как хлыст, слово все-таки доконало ее. Валя остановилась, нахмурила брови и наконец решилась — повернула обратно. Она шла все быстрей и быстрей, и через несколько минут уже звонила у высоких, обитых клеенкой дверей.
— Валя! Валечка! Прости меня, не сердись! Я так ругала себя!
Эти слова, произнесенные горячим шепотом еще в передней, у самых дверей, вырвались невольно. Они переполняли Валю Зайцеву, рвались наружу.
Толстушка лишь растерянно хлопала глазами. Да она и не сердится вовсе! Но как хорошо, что Валя Зайцева пришла! Мама как раз напекла пирожков с яблоками и нажарила хворосту.
И Вале пришлось отведать и пирожков и румяного хворосту, обсыпанного сахарной пудрой. Не отведать было никак нельзя — иначе Валя-толстенькая и ее добрая мама наверняка бы обиделись.
После ужина девочки уединились, и тут уж могли шептаться сколько им хотелось.
— Ты даже не представляешь, какие страшные-престрашные несчастья бывают от пьянства! — испуганно округляя глаза, тараторила Валя-толстенькая. — Сегодня Юра рассказывал такие случаи. Он сам в какой-то книжке читал. Вот одному пьянице стало мерещиться, что кто-то хочет погубить его семью. Бред, значит, у него такой от водки начался. Он на все замки запирал дверь, никому не открывал. И все равно ему казалось, что кто-то обязательно должен убить их. Он так боялся, что стал уговаривать жену броситься вместе с ним и ребенком под поезд… А вот другой случай…
Подобных случаев в запасе у толстушки оказалось несколько. Один страшнее другого. Слушая ее, Валя подумала, что ночью ей, наверно, приснится что-нибудь ужасное. Неужели и в Сережиной семье может стрястись такая беда? А разве не может? Если Сережа даже из дому убежал, значит, дело совсем плохо.
— Мы решили к директору завода пойти и в редакцию. Еще всякие статьи будем посылать его отцу, книжки, если найдем. Ты завтра приходи к братьям.
— А удобно это? — Валя Зайцева потупила глаза. — Не прогонят?
— Что ты! Конечно, нет! Может быть, ты что-нибудь интересное придумаешь. Мы теперь все думаем. Обязательно приходи. Я тоже там буду. Никогда вечером уроков не делала. А сегодня сделаю.
Глава 11. Восемь серебряных рублей
Все-таки великим фантазером и выдумщиком был Профессор. Большую комнату в квартире братьев-близнецов, где на следующее утро собрались все — за исключением Вали Зайцевой — члены звена, он предложил именовать штаб-квартирой. Здорово! Звучит-то как! Это всем понравилось.
А Борька пошел еще дальше. Разговоры, которые они сейчас ведут, — это, оказывается, не просто разговоры, а «выработка и определение главного направления атаки».
Сила! Совсем как на фронте! Даже Серега немного оживился. То держался как-то особняком, явно смущаясь ребят, а тут подсел к столу, губы его тронула улыбка.
— Внимание! — сказал Борька. — Предлагаю послушать доклад разведки. — Он подтолкнул Димку. — Давай.
— Я, что ли? — спросил тот.
— Тебе же вчера поручили следить.
— Ну, следил я… — Димка растерянно шмыгнул носом. — Ничего не увидел. Свет весь вечер горел в окнах. В «козла» играть он не вышел. Вот и все.
Борька в глубокой задумчивости почесал в затылке. Вопросительно взглянул на Серегу.
— Знаешь, Сережа, ты вроде как главный советник будешь при штабе. Ладно? Как думаешь, что это значит — не вышел играть в «козла»?
Серега поднял брови под косой челкой.
— Сам не знаю… Может, с матерью ругался.
И Борька не мог придумать, как истолковать данный факт.
— Ладно, — наконец сказал он. — Как бы там ни было, я считаю, настала пора вводить в действие главные силы! — Эти слова он сопроводил поистине генеральским жестом длинной худой руки.
— Именно? — Юра повернул голову и, будто подзорную трубу, наставил на Борьку выпуклые стекла очков. — Что ты имеешь в виду?
— На завод надо идти, к директору. Чего откладывать? Только надо посоветоваться — всем идти или делегацию выбрать?
Тут мнения разделились. Если явиться всем, утверждали одни, то будет надежней. Попробуй не принять меры, когда сразу столько народу пришло жаловаться! Это верно. Но пропустят ли всех? Ведь надо пропуска выписывать. И не рассердится ли директор? Например, директор их школы Вера Петровна, ни за что бы не пустила в кабинет всех сразу. Это уж точно.
Решили послать делегацию из трех человек — Борьку, звеньевую и Сабину.
— А статьи сегодня посылать будем? — спросил Юра. — Я в прошлогодней газете фельетон нашел о пьяницах. «В плену зеленого змия» называется. Вырезал.
— Давай сюда, — сказал Борька и достал из портфеля толстый конверт. — Теперь у нас на очереди две статьи, фельетон, карикатуры. Ты, Сабина, письмо свое будешь отсылать?
— Боря, не надо о письме, — попросила она. — Лучше посмотрим карикатуры.
Их было больше десятка — из всевозможных газет и журналов. Маленькие и с целый тетрадный лист, смешные и совсем не смешные. Сабина долго рассматривала их.
— А нужно ли посылать? — подумала она вслух. — Очень грубо. Я вчера прочитала в книге: «Пьяница — это несчастный человек». Конечно, он сам виноват, но все равно — он очень несчастный.
Серега медленно, с тревогой поднял на нее глаза. Казалось, он что-то хотел сказать.
— Ты что, Сережа? — спросила Сабина.
Он сильно-сильно нахмурил брови — почти в одну черту сошлись у переносья. Глухо произнес:
— Домой отец приходил сам. В лужах не валялся.
— Чего проще! — не желая углубляться в эту туманную тему, согласился Борька. — Выбросим, и все. И вообще карикатуры можем не посылать. Главная ударная сила — статьи. Послушайте, я специально некоторые места карандашом подчеркнул. Статья называется «Об этом забывать нельзя».
Борька читал не спеша, нарочито страшным голосом. Какие только, оказывается, не подстерегают пьяницу болезни! И язвы всякие, и нервные расстройства, и тяжелые заболевания печени, и какие-то «белые горячки».
— Ух, и сила! — сказал Андрюшка. — Не статья, а удар Попенченко! Димка, сегодня же сунь ее в ящик! И как они не боятся пить эту отраву? А я, дурак, ничего не знал и недавно у дяди на именинах целых две рюмки вина выдул. Да еще из бутылки потихоньку допил. И верно: голова потом болела…
Тихий стук в дверь прервал Андрюшкин рассказ.
— Тсс! — Мишка поднес палец к губам. — Кто-то стучит…
— Может быть, шпионы из первого звена? — шепотом спросил Андрюшка.
— Открой, — покраснев, сказала Валя-толстенькая. — Никакие это не шпионы.
— А ты откуда знаешь? Лерчик глаз не спускает с нашего звена. Слышите — опять…
— Я сама открою, — Толстушка решительно шагнула в переднюю. — Это Зайцева. Я ее пригласила.
— Нечего ей тут делать! — Андрюшка схватил Валю за руку.
— Пусти! — вдруг с силой рванулась та. — Дурак! Она же из нашего звена! Знали бы, как переживает!
Вот так толстушка! Не ожидали от нее такого. Андрюшка не нашелся, что и сказать.
А Валя уже распахнула дверь.
— Входи, входи! Раздевайся! — слышался ее звонкий от волнения голос.
Звеньевая и Сабина тотчас поспешили туда.
Нет, девочки ничего не имели против Зайцевой. Наоборот, даже почувствовали вдруг угрызения совести. Ну, конечно, она переживает. Как же они об этом не подумали? Любая из них переживала бы на ее месте.
У мальчишек сердца оказались пожестче. Во всяком случае, Андрюшка продолжал хмуриться, Борька с отчужденным видом собирал со стола карикатуры и статьи, засовывал их в конверт.
И на ее смущенное «здравствуйте» Профессор ответил лишь холодным кивком головы.
Но не прошло и десяти минут, как все переменилось. Тот же Борька, забыв о своем командирском положении, во все глаза смотрел на Зайцеву. Смотрел так, будто никогда в жизни до этого ее не видел. Валя-первая предлагала интереснейший план. В каком-то журнале она прочитала о том, как борются с пьянством в столице Мексики. Стоит там только появиться на улице пьяному, как специальная группа кинооператоров начинает снимать его на пленку. Все снимают — как он идет и шатается из стороны в сторону, пристает к прохожим или валяется под забором. А потом его вызывают в полицию и прокручивают этот фильм. И человеку, оказывается, до того стыдно смотреть на свои безобразия, что он искренне обещает больше не пить вина. А если обещание все-таки не сдержит, то фильм показывают его семье, родным и знакомым. Если и на этот раз не действует, то начинают демонстрировать в кинотеатрах, и тогда над ним смеется весь город.
Ловко придумано! Действительно, задумаешься, прежде чем нальешь рюмку.
Вот Валя Зайцева и предлагала снять на кинопленку Серегиного отца.
— Я только что была в универмаге, — сказала она, — и прочитала руководство к кинокамере «Спорт». Вполне приличная камера. Написано, что обеспечивает очень четкое изображение, скорость съемки шестнадцать кадров в секунду. Работает от обыкновенной батарейки для карманного фонарика. Стоит двадцать рублей.
С этими словами Валя Зайцева достала из кармана зеленый кошелечек и без всякого сожаления выложила на стол восемь блестящих серебряных рублей.
— С нового года копила. А зачем — сама не знаю. Тут почти на половину камеры хватит. И пленка в универмаге продается. Я взяла одну. Как раз для этого аппарата.
Из того же кармана Валя вытащила желтого цвета коробочку с красной полосой.
— Видите, тут как раз и написано: «Кинопленка. Обратимая. Два на восемь». Специальным ножичком на две половины разрезается. Мне продавщица так объяснила.
Все молчали, удивленные. Вот это да! А еще не хотели пускать ее! Андрюшка осторожно, будто какую-то драгоценность, взял бумажную коробочку и медленно, по складам, прочитал:
— Изо-пан-хром. Негорючая. Ух ты!
Валин план поражал новизной, размахом и смелостью. А сколько в нем таинственного! Ожидания, выслеживания, незаметные съемки…
Серега в волнении закусил губы. Он вдруг впервые так глубоко ощутил ребячью дружбу. Прибежали чуть свет, забыли об играх, гулянье, секциях, а Зайцева даже такую кучу денег не пожалела… Интересно, что бы отец почувствовал, когда увидел бы себя, пьяного, в кино? Лицо красное. Лохматый, шатается. Особенно, в день получки… Неужели ему не стало бы стыдно? А еще лучше на работе у него показать, в заводском клубе. Вдруг и правда бросил бы пить? И маму не стал бы тогда мучить. Она бы так обрадовалась! А то все глаза выплакала из-за него.
— У меня есть четыре рубля, — тихо произнес Серега.
И тогда сразу заговорили и Борька, и Димка, и Андрюшка, и девочки. А Валя-толстенькая чуть не захлопала от радости в ладоши. Лишь хозяева квартиры, Мишка и Лешка, о чем-то шептались между собой.
И наконец Мишка вскочил из-за стола. Громко, чтобы все слышали, воскликнул:
— Ребята! Деньги нам, может, и не понадобятся. Мы с Лешкой попробуем уговорить нашего соседа дядю Костю — поснимать его аппаратом. Все равно без дела лежит.
— Он позволит! — убежденно тряхнул круглой вихрастой головой Лешка. — Дядя Костя добрый. А камера у него — класс! «Экран-3». С телевичком! Ну, вроде как бинокль, чтобы издали снимать. И все принадлежности у него есть.
Сузив глаза, Серега с горькой усмешкой сказал:
— Завтра получка у отца. Уж такого дня ни за что не пропустит. Вот бы снять его после работы….
— Эх, дяди Кости нет! — сокрушенно вздохнул Лешка. — Только вечером придет. А то бы сейчас попросили.
Глава 12. Кинооператоры за работой
Вахтера будто подменили. Еще издали увидев делегатов, он предупредительно распахнул дверь, захватанную масляными руками, и показал в улыбке прокуренные зубы.
А какой-то час назад он и смотреть не хотел в их сторону. «Без пропусков никого пущать не велено! Освободите, молодежь, проходную!» Еле-еле удалось упросить его, чтобы позволил им позвонить к директору. Вместо директора трубку взяла какая-то женщина. Она опросила, по какому делу они пришли, а Борька не растерялся и ответил, что дело очень и очень важное и без самого директора никто решить его не может. И тогда, после паузы, в трубке раздался густой бас директора. Борька и объяснить-то не успел толком. Лишь сказал, что они пионеры, пришли из-за своего товарища, отец его работает здесь на заводе… Тут бас директора оборвал его и велел передать трубку вахтеру.
После этого строгий страж сразу подобрел. А сейчас, когда они возвращались от директора, он распахнул перед ними дверь.
— Все обсказали Пал Семенычу? Помог?
— Спасибо, товарищ сторож! — радостно засмеялась Валя Галкина. — Директор у вас просто замечательный!
Что верно, то верно! Директор и в кабинет их пригласил, и усадил в мягкие кресла, и выслушал все очень внимательно, кое-что даже записал на листочке. А самое главное, он пообещал, что на заводе обязательно примут меры. И сказал, что они молодцы, поступают как настоящие пионеры. Так, мол, и надо бороться со всяким злом — никогда не проходить мимо.
Делегаты возвращались довольные. Колесо раскрутилось вовсю — не остановишь! Теперь на заводе Серегиного отца крепко возьмут за бока. Раз директор обещал, то слово сдержит. Сам, наверно, отругает да на собрании жару дадут. А как же! Он думал, так это ему сойдет. Не выйдет! Сейчас бить детей никому не позволяется. Вот и придется ему задуматься. Хочешь не хочешь, а придется. А если им посчастливится сегодня заснять его на кинопленку — совсем здорово будет. Удалось ли только Мишке и Лешке достать кинокамеру?
А в это время в штаб-квартире у братьев-близнецов царило не меньшее оживление, чем на киностудии имени Горького. Шла генеральная репетиция сегодняшней съемки. Пьяного изображал Димка. Разлохматив волосы и кривя рот, он то ходил по комнате, шатаясь во все стороны, то садился на стул и что-то мычал себе под нос. А Мишка, стоя на одном колене, целился в него новенькой черной кинокамерой с тремя глазастыми объективами.
— Довольно! — кричал Андрюшка. — Теперь телевиком снимай. Крупный план.
— Ага, хватит! — подскакивал к брату Лешка. — Теперь моя очередь! Крупный план я снимаю…
Валя-первая и Валя-третья листали руководство к кинокамере «Экран-3» и время от времени давали: полезные советы.
— Тут сказано: средняя продолжительность съемки — четыре-пять секунд. А то будет сплошное мелькание кадров и ничего не поймешь.
Юра ходил с экспонометром в руках по комнате и, щуря под очками глаза, что-то вычислял в уме.
Серега сидел в углу на диване и посмеивался. Синяк у него почти прошел — лишь чуть-чуть синева проступала под глазом.
Репетиция была прервана приходом Борьки, звеньевой и Сабины.
Тут все смешалось — рассказы, восторженные восклицания, вопросы, вопли братьев-близнецов!
Мишка и Лешка чуть ли не силой вырывали друг у друга, камеру. Просто удивительно, как она еще оставалась цела, и как инженер дядя Костя не побоялся доверить такую дорогую вещь этим ненормальным. Братья никак не могли договориться — кто же из них сегодня будет вести настоящую съемку. Им обоим идти нельзя — это ясно. Ведь кроме оператора должен идти и Димка. Он хорошо знает Серегиного отца в лицо. Значит, в школе из их звена будут сразу отсутствовать трое. Ого! Не покажется ли это подозрительным Елене Аркадьевне?
Впрочем, Димка-то может прийти в школу. Посидит один урок и уйдет. Скажет, что зуб разболелся, Елена Аркадьевна и отпустит. Все не так подозрительно.
А вот что с братьями делать? Мишка кричит: «Я пойду!», а Лешка еще громче: «Нет, я!» Вот и попробуй договориться! Но известное дело — криком спора не решишь.
— Давайте, — предложил Андрюшка, — пятак крутнем?
— Эге! — сказал Мишка. — Хитрый! Я первый у дяди Кости камеру попросил.
— А я, — тут же вставил Лешка, — зато раньше тебя понял, как диафрагму правильно ставить!
Тут Профессор блеснул своей эрудицией:
— Не понимаю: о чем спор! Жребий — самое справедливое. Однажды на Олимпийских играх даже судьбу золотой медали по футболу решали жребием. Сколько ни назначали дополнительного времени — все ничья. Тогда пришлось бросить монету.
Против этого исторического факта Мишка оказался безоружным.
— Только хорошо бросай, — сказал он Андрюшке.
Андрюшка такие вещи умел делать. Крутясь, пятачок взлетел к самому потолку. Мишка, как говорится, родился в рубашке. Круглое лицо его расплылось в блаженной улыбке. Он подмигнул брату.
— Елене Аркадьевне скажешь, что у меня гланды распухли. Как в прошлом году, помнишь!
— Ладно, скажу, — вздохнул Лешка.
Итак, оператор выбран. Помощник есть. Оставшиеся полчаса ребята пичкали их всевозможными полезными сведениями, почерпнутыми из руководства.
На первом уроке была география. Как только Елена Аркадьевна вошла в класс, она тотчас увидела — Леша Дунаев в одиночестве. Это сразу бросалось в глаза — первая парта, всегда за ней сидят два одинаковых, как снегири, братца, а тут — один. Никак нельзя этого не заметить!
— А где же Миша? — еще не раскрыв журнала, спросила учительница.
— У него горло распухло, — соврал Лешка. — Гланды. Как в прошлом году. Но он завтра, наверно, придет.
— И Шубина до сих пор нет. — Елена Аркадьевна посмотрела на пустое место рядом с Димкой.
Тот поднялся и голосом очень тихим и слабым сказал:
— Он уже выздоравливает.
— Да ты сам-то не болен? — удивилась Елена Аркадьевна. — Говоришь так, словно три дня не ел.
— Зуб болит, — жалобно скривился Димка.
— Зубы надо лечить вовремя. Не запускать.
— Вот я и хочу пойти…
— Чудесно! В переменку отведу тебя к нашему школьному зубному врачу. А то еще раздумаешь сам.
Димка от неожиданности растерялся. Что же теперь делать? Он обследовал языком все зубы и лишь в одном, коренном, нащупал какую-то ямочку. Но может, там и не было ничего. К зубному врачу он еще ни разу в жизни не ходил и про зубную боль знал только понаслышке. И что самое обидное — не отпустят со второго урока. Как же быть?..
Рука сидевшего впереди Андрюшки положила: ему на парту свернутую записку.
«Ничего, порядок! — прочитал Димка. — Начинай стонать. Мне один раз сверлили зуб, а потом еще сильней болело».
Хорошенькое дело, сверлить здоровый зуб! Да чтобы потом еще и болело. Но никакого выхода Димка придумать не мог. Все же и стонать ему было страшно. Он так разволновался, что не заметил, как и урок кончился.
— Ну, болит еще зуб? — спросила Елена Аркадьевна.
— Болит, — чуть не плача, ответил Димка.
— Тогда идем к врачу. У меня второй урок как раз свободный, посижу у вас на геометрии.
Час от часу не легче! Теперь совсем не уйдешь. Может, и к врачу не ходить? Но надо же что-то делать. Обязательно! Мишка уже, наверно, ждет с аппаратом. Ведь сам он не пойдет к заводу, да и что толку — вряд ли он узнает Серегиного отца.
— Ну, что же ты остановился? — Елена Аркадьевна взяла Димку за руку. — Ведь лучше потерпеть минутку, чем мучиться весь день.
Будто на электрический стул, садился Димка в черное кожаное кресло. У него был вид совершенно несчастного и больного человека.
Врач — полная, неторопливая, в белом халате — записала в карточку Димкину фамилию и ласково сказала:
— Открой, пожалуйста, рот.
Димка по ее лицу понял, что она удивлена.
— О, да у тебя великолепные зубы! Взгляните, Елена Аркадьевна.
Димке совсем нехорошо стало, когда над ним склонилась белокурая голова учительницы.
— Как сахарные! — сказала она. — Так какой же зуб у тебя болит, Дима?
— Этот, — Димка ткнул пальцем в коренной зуб.
— Странно, — сказала врач. — Совершенно чистый зуб. — Она взяла какую-то металлическую палочку и постучала по зубу.
С перепугу он немножко опоздал закричать, но все-таки опомнился и закричал:
— Больно! Ой, больно!
— Странно… — повторила врач. — Хорошо, я тебе сегодня ничего делать не стану. Дам таблетку анальгина, и через пятнадцать минут боль утихнет. А завтра ко мне еще зайдешь.
Димка покорно проглотил таблетку. Он даже не обрадовался, что ему не стали сверлить зуб. Значит, сорвется съемка? Не отпустит его Елена Аркадьевна. Конечно.
— Дима, обожди меня за дверью, — сказала учительница. Когда он вышел, Елена Аркадьевна спросила: — Вы уверены, что зуб у него здоровый?
— Совершенно уверена. Мне кажется, это чистейшая симуляция…
На урок геометрии они опоздали. Елена Аркадьевна извинилась перед Виктором Афанасьевичем и прошла к последней парте, где сидела Сабина. А несчастный и бледный Димка уселся на свое место.
С учениками в третьем ряду творилось что-то необычное. Они шептались, вертелись, тревожно переглядывались, то и дело мешали учителю. А в довершение ко всему по классу вдруг явственно разнесся стон. Жалобный и протяжный, как вздох подстреленного оленя. Димка замотал из стороны в сторону головой и снова отчаянно застонал.
— Что с тобой, Окунев? — всполошился математик.
— Виктор Афанасьевич, — сказала с последней парты Елена Аркадьевна, — я прошу отпустить Диму домой. У него очень сильно болит зуб.
— Да-да, конечно, пусть идет, — разрешил Виктор Афанасьевич.
Димка немного обалдел от радости. И едва не выдал себя этим. Вовремя спохватился и вновь страдальчески скривил лицо и даже застонал в третий раз.
— Это все от простуды, — сказал Виктор Афанасьевич. — Остерегайся, Окунев, не простужай, ноги…
Учитель еще что-то сказал ему, но Димка уже не слышал. Схватив портфель, он поспешил к двери.
А спешить надо было. Дневная смена на заводе кончается в четыре часа. Пока доберутся до трамвая, дождутся его, да приедут — ой, как бы не опоздать! Но хорошо, что Елена Аркадьевна все-таки сжалилась над ним и отпустила.
Мишка, как и было условлено, ждал его возле нового магазина «Синтетика». Он чуть не с кулаками набросился на Димку:
— Уже половина четвертого! Где ты пропадал?..
Отношения выясняли по дороге к трамвайной остановке. Им повезло: трамвая ожидали не больше минуты.
Нет, не опоздали. Люди спешили к проходной завода, на смену. А оттуда, из проходной, пока никто не выходил.
— Все в порядке! — удовлетворенно сказал Мишка. — Теперь надо выбрать эту… как ее… точку съемки.
— Может быть, там? — Димка показал на высокий щит с какими-то диаграммами и цифрами, стоявший немного в стороне от проходной.
— Точно! — одобрил Мишка. — Оттуда будет хорошо видно. Пошли.
И правда: часть кирпичной стены, проходная и асфальтированная дорога к ней были как на ладони.
— Сначала общий план дадим, — почему-то зашептал Мишка, хотя рядом с ними никого не было. — Фильмы всегда с общего плана начинаются.
— Давай с общего, — согласился Димка.
— Нет, сначала лучше покажем часы. Правильно! Телевиком снимем. Ух! — Мишка едва не задохнулся от радости. — Представляешь, как в настоящем фильме будет: крупным планом — часы. Потом общий план — со смены идут рабочие. Ну, здорово?
— Конечно! — снова согласился Димка. — Тогда начинай. Вон, ровно четыре часа.
Оператор дрожащими руками достал из портфеля кинокамеру. Затем они сообща определили с помощью экспонометра величину диафрагмы, и Мишка повернул кольцо до нужной отметки. Оставалось только завести пружину. Но это уж легче легкого!
Итак, все готово. Мишка сделал несколько шагов вперед и нацелился камерой на большие круглые часы, висевшие над проходной.
Сердце его билось, как колокол. Вот она, заветная минута! То вхолостую все жужжал, а теперь в аппарате — пленка. Он снимает первый кадр настоящего кинофильма!
От проходной послышались задорные девичьи голоса:
— Глянь-ка, девчонки, кинохроника к нам приехала!
— Эй, режиссер, зачем небо снимаешь? Лучше — нас…
Радостный и смущенный, Мишка вернулся к Димке.
— Слышал — режиссер!
Димка недовольно сказал:
— Надо незаметно снимать. А та встал, будто на выставке. Так меня Серегин отец сразу увидит…
Вскоре из проходной один за другим потянулись люди.
Мишка уже дважды общим планом отснял выходивших рабочих, а Иван Алексеевич все не показывался.
Но вот Димкины пальцы сжали локоть оператора.
— Идет. Вон, в серой кепке. Видишь?
— Вижу, — хрипло выдохнул Мишка и навел кинокамеру на худощавого человека в серой поношенной кепке.
Глава 13. Просмотр фильма
— Отлично, Людмилка! Ровно через двадцать минут у твоего подъезда вырастет стройная фигура молодого шатена в плаще «болонья». Жди, лечу!
Константин Петрович бросил на рычаг трубку телефона и, насвистывая, поспешил к зеркалу.
Только он успел затянуть на шее узенький модный галстук, как в дверь часто и громко застучали.
Конечно, это были соседские мальчишки. Кто же еще может так барабанить!
— Дядя Костя! — выпалил Мишка. — Мы пленку засняли!
— Отлично! — накидывая на плечи пиджак, сказал инженер.
— А вы уходите? Да? — На Константина Петровича смотрели четыре круглых, немигающих, испуганных глаза. Он даже пошутил, грозя пальцем: — Осторожней, ребята, застрелите! — А потом озабоченно добавил: — Понимаю — хотите проявить. Потом, потом…
— Дядя Костя, вы только дайте бачок для проявления. Мы сами все сделаем. Мы и химикаты купили.
Инженер почему-то рассердился:
— Купили! Сами! Думаете, это так просто! Без навыка только напортачите… Ну, до завтра вы можете подождать?
Однако и без слов было ясно, что до завтра, целые сутки, они ждать не могут. Совершенно не могут!
— Но вы понимаете, что меня девушка ждет? Невеста, в конце концов!
Они и этого не понимали. Стояли в дверях, такие жалкие, убитые, молящие.
Константин Петрович взглянул на часы и вдруг прикрикнул:
— Ну, чего там застряли? Проходите!
Он торопливо вернулся в комнату и набрал номер телефона.
— Людочка, это ты?.. — Голос у него был уже совсем другой — виноватый и просительный. — Людочка, я, видимо, немного задержусь… Да. Тут пришли товарищи. У них очень важное дело. Это совсем ненадолго… Нет-нет, билеты в кино не пропадут.
Через минуту все трое, нагруженные широкими литровыми бутылками, бачком и сушильным барабаном, они входили в квартиру близнецов.
— Это что, все артисты? — увидев в комнате столько незнакомых мальчиков и девочек, спросил удивленный инженер.
Впрочем, пускаться в разговоры было некогда. Константин Петрович распорядился, чтобы на газовую плиту поставили побольше воды. Затем принялся объяснять, как разводить химикаты, проявлять в бачке пленку и как сушить ее на барабане.
— Ну, в остальном сами разберетесь. Вон сколько светлых голов! — засмеялся Константин Петрович. — Главное, смотрите в наставление, тут все по минутам расписано. А теперь давайте пленку — заправлю ее в бачок. Самим без тренировки вам не справиться.
Взяв у Мишки черненькую кассету, инженер с улыбкой спросил:
— Что хоть снимали-то, не секрет? Драма или комедия?
Все как-то потупились и не знали, что сказать. Тогда Мишка понял, что на такой вопрос все-таки он должен ответить.
— Это, дядя Костя, не комедия… Вообще, это не художественный фильм…
— Понятно, — стерев с губ улыбку, кивнул инженер. — Документальная съемка. Что ж, быть может, со временем этот ролик встанет рядом с замечательными документальными лентами Романа Кармена! Бегу заправлять пленку!
Ребята, конечно, понимали, что дядя Костя шутит, и все же это было приятно слышать. Валя Зайцева проводила инженера сияющими глазами.
— Какой он хороший и веселый. Немножко на Стриженова похож.
Сабина, потрогав рукой кастрюлю на плите, хотела было заметить, что какое-то сходство, действительно, есть, но ее перебила звеньевая.
— Знаете, — расстроенным голосом сказала она, — мне вот что не нравится: мы все эти дни без конца врем. Сегодня на уроке так стыдно было. Лешка Елене Аркадьевне наврал, с Димкой еще хуже — сплошная комедия и вранье. А мы сидим, как побитые, и молчим. Тоже, значит, врем.
— Тут уж ничего не поделаешь, — развел длинными руками Профессор. — Когда из подлости обманывают — это плохо. А мы совсем не из-за этого.
— Я понимаю, — согласилась Валя Галкина. — Но все равно неприятно. Меня мама спрашивает, чего я стала как ненормальная, и дома только по вечерам бываю, а я вместо правды всякие небылицы выдумываю. Вот сейчас тоже: дядя Костя спрашивает, а мы крутим, крутим.
— Где крутим? Чего крутим? — Андрюшка оттопырил губы. — Ну, чего наврали? Документальная съемка? Документальная! А что там Мишка с Димкой наснимали — мы и сами не знаем. Может, ничего и не сняли.
— Не волнуйся, — сказал Мишка. — Все сняли, что нужно. Верно, Дим?
— Факт, — подтвердил тот. — Сами скоро увидите. Вы пока не спрашивайте — потом смотреть будет интересней.
— Если получилось что. Может, так снимали!..
В этом и Мишка не был уверен. Снимали и при солнце, и когда набегали тучи, — наверное, что-нибудь не так вышло. И вообще, первый раз в жизни камеру в руках держат. Хоть бы скорей проявить да посмотреть!
Быстрым шагом в комнату вошел инженер. В руках он держал круглый бачок с завернутыми вверх резиновыми шлангами и термометр для воды.
— За работу, мастера! — бодро сказал Константин Петрович. — Только смотрите, бачок до шестой операции не открывайте! Засветку поняли как делать? Отлично. Ну, а пока разведете, проявите, высушите — я к тому времени вернусь. Тогда и прокрутим. Или вход после шестнадцати лет не разрешается?
— Ой, что вы! — Зардевшись, Валя Зайцева затрясла пружинистыми завитками волос. — Пожалуйста! Мы вас будем ждать! Приходите скорей!
— Тогда бегу! Желаю успеха! Растворы из бачка старайтесь выливать до последней капли, — уже из передней предупредил Константин Петрович. — И не перепутайте растворы. На бутылках — номера. Температуру выдерживайте.
— Не беспокойтесь. Все сделаем по правилам! — крикнул Борька, но инженер вряд ли это услышал — дверь за ним захлопнулась.
Борька раньше немного занимался фотографией, доводилось ему и разводить проявители, фиксажи. Поэтому ребята безоговорочно признали за ним право руководить всем этим сложным хозяйством.
А хозяйство и в самом деле оказалось очень сложным. Недаром дядя Костя решил продавать кинокамеру. Когда вода вскипела, пришлось остужать ее до определенной температуры. С первым раствором возились минут двадцать. Чуть не разбили мензурку, раз пять измеряли температуру, фильтровали через марлю. А таких растворов надо было наготовить целых пять! Спасибо Сабине: подала хорошую идею. Приготовили первый раствор — сразу залить его в бачок. А пока пленка проявляется в нем, развести следующий. Не меньше часа сэкономили на этом.
А сколько было волнений! После пятой операции сняли наконец крышку бачка, и… полное разочарование. На желтой пленке лишь еле-еле проступали серые квадратики.
— Мастер! Оператор! — Андрюшка вложил в эти слова столько яду, что бедный Мишка едва удержался от слез. — Мы! Мы! — разорялся Андрюшка. — Экспозицию не могли определить!
— Обожди, — тыча пальцем в листок с наставлением, пытался остановить его Борька. — Сейчас второе проявление будет. Возможно, и появится…
— Дожидайся! Все! Пачка! Сошел с первого раунда!
А через десять минут уже Мишка орал на всю квартиру:
— Ага! Почернела! — И хохотал Андрюшке в лицо. — Сам ты пачка! Понял?
И вот проявление закончено. Не дыша, Борька аккуратно намотал мокрую пленку на барабан. Теперь надо ей высохнуть.
Барабан гоняли по очереди. Каждому хотелось покрутить гладенькую блестящую ручку. Быстро-быстро! Темная змейка пленки все бежит и бежит, словно ввинчиваясь во что-то.
Нет, хоть и много возни, но как зато интересно! Неужели дяде Косте не жалко будет продавать такую великолепную камеру? Они бы ни за что не продали! В самом деле, теперь они могли бы попробовать снять небольшой фильм. Комедию, например. Придумать что-нибудь смешное и снять.
— Как мне чуть зуб сегодня не выдрали, — засмеялся Димка.
— И про это можно… — Борька словно какой-то рубильник включил в себе — в глазах заметались черные пуговки зрачков. — Допустим, ты захотел уйти с урока, чтобы посмотреть по телевизору футбол. Вот и получилось: здоровый зуб тебе вырвали и матч не посмотрел. Только прибежал домой, а в телевизоре судья руки поднимает — встреча окончена. А назвать эту историю можно так: «Димка проигрывает со счетом 0:2».
— Ой, как хорошо! — воскликнула Валя Зайцева. — Я бы сыграла роль зубного врача. Надену халат, белую шапочку…
— А я? — протянула толстушка.
— Пошли делить медвежью шкуру! — фыркнул Андрюшка. — Может, тут и не получилось ничего. — Он кивнул на барабан с пленкой. — Кадрики вон, как горошинки. Что тут разглядишь!
Нет, разглядеть можно было. Вот какая-то малюсенькая фигурка. Кто это? Серега смотрел, смотрел, и вдруг понял: отец. И сразу фигурка отчего-то расплылась, помутнела. Серега отошел к темному окну и с минуту, неподвижный, стоял там. Скосив серые большие глаза, за ним внимательно наблюдала Сабина.
А ребята все крутили и крутили барабан. Надо спешить — скоро должен прийти дядя Костя. Уже десять часов.
Он постучал в дверь в начале одиннадцатого. Вошел как был — в берете и блестящем плаще с капельками дождя на плечах.
— Заждались? Ну, как пленка?.. О, да у вас отличная пленка! И уже высохла! Ну и мастера! Сейчас прокрутим или отложим до завтра? Уже поздно… Ну, ладно, ладно, так и быть, пять минут — не время. Натяните пока на стене простыню, а я схожу за проектором…
Кинопроектор инженер установил метрах в четырех от стены с натянутым полотном. Затаив дыхание, ребята смотрели, как он вставляет в аппарат пленку.
И Серега смотрел туда. Взгляд его был тревожный и растерянный. Сабина заметила, что на лбу у него возле виска блестят бусинки пота.
— Константин Петрович, — неожиданно проговорила Сабина, — вы тогда спросили, что мы снимали. В нашей школе у одной девочки отец стал часто выпивать. Она очень переживает от этого. Мы решили снять ее отца, а потом показать ему эти кадры. Может быть, это заставит его одуматься.
— Вот как! — Брови инженера черными уголками застыли вверху, он с интересом оглядел ребят — вот они, оказывается, какие! — А ведь мысль, кажется, отличная! — похвалил Константин Петрович. — Это кто же придумал?
Валя Зайцева потупила глаза и скромно ответила:
— Это не мы придумали. Так борются с пьянством в столице Мексики.
— Никогда не слышал. Любопытно… А ну, Миша, гаси свет.
Застрекотал кинопроектор, и на простыне появился белый прямоугольник. Константин Петрович отрегулировал резкость, и вдруг все ясно увидели круглые часы.
Мишка глазам своим не верил. Точно! Те самые часы, которые висели над проходной. Это он сам снял, сам! И как хорошо видно! Две минуты пятого! А на экране — уже новые кадры.
— Это рабочие со смены идут! — взволнованно сказал Мишка. — А сейчас… Смотрите, смотрите!..
Серега сразу узнал отца. А потом он уже не слышал, что говорил Мишка, что говорили другие ребята. Он только видел отца. Вот отец удаляется. Темнеет его сутуловатая спина, на голове — серый блин кепки. Вот он стоит. Мимо проезжает машина, идут люди. Он ни на кого не смотрит. Тень от козырька чернит лоб. Вид у отца усталый и мрачный. Вот кто-то подходит к нему. Да это же Кунцев! Он бывал у них. Выпивали вместе с отцом. Смеется. По карману себя ударил. Наверно, о получке говорит. Сейчас пойдут выпивать. Нет, отец даже не улыбнулся. Тоже что-то говорит. Он как больной. Кунцев куда-то пошел. Один, без отца. А вот и отец идет. Куда это он? А теперь сидит на лавочке. Руки между коленями висят. Нет, кажется не пьяный. Рядом старик читает газету. Теперь вместо старика женщина качает коляску. Вот улыбнулась ребенку. А отец положил голову на руки. Не видно: может быть, спит. Нет, достает папиросы. Теперь и женщины нет. Один сидит. А вот — идет. Его загородили чьи-то спины. И снова — отец. Все идет. А это мастерская химчистки. Правильно, вон и вывеска. Это рядом с их домами. И тут же в глаза ударил яркий свет пустого экрана. Стрекот прекратился.
— Отличная лента! — сказал Константин Петрович. — Только мне кажется, этот товарищ несколько подвел вас. Ручаюсь, что он был трезв, как постовой милиционер… А теперь по домам, ребятки! Наверняка попадет вам от родителей — половина одиннадцатого. Ну, живо, живо! Да и мне пора.
Когда инженер ушел, Андрюшка с пренебрежением сказал:
— Сняли, называется! Только пленку израсходовали!
— Чудило ты! — счастливо засмеялся Мишка. — Мы сначала тоже так думали. Даже снимать не хотели. А потом в голову нам ударило: это же здорово, что он не напился! Ведь деньги-то получил, а пить не стал. Сережа, скажи, раньше бывало так?
Серега повернулся к нему, медленно покачал головой.
— Да я-то знаю! — горячо сказал Димка. — Это уж у него как закон было — выпить с получки. А тут больше часа просидел на лавочке, все думал о чем-то.
— Может быть, директор успел отругать его? — сделала предположение Валя Галкина.
Из передней вышла Сабина — уже одетая, с портфелем в руке.
— Сережа, — тихо сказала она. — Как звать твоего отца?
— Иван Алексеевич. — Серега вздохнул. — А что?
— По-моему, он очень переживает… Как ты думаешь?
— Не знаю. — Серега опять вздохнул.
Глава 14. Шубина вызывают к директору
Только Иван Алексеевич разобрался в чертеже сложной детали, которую ему предстояло изготовлять, как у верстака появился мастер участка.
— Звонила сейчас секретарь директора, — сказал мастер. — Павел Семенович приглашает тебя зайти к нему.
— Это зачем же я понадобился? — с беспокойством спросил Шубин.
— Ничего не могу сказать. Иди, сам узнаешь.
— Не робей, Иван Алексеич, — засмеялся белозубый Колюха. — Пятница — день легкий. В прошлую пятницу наша футбольная команда выиграла.
Иван Алексеевич перестал интересоваться футболом года три назад. И ни в какую легкую пятницу он не верил. Тяжелое предчувствие давило его.
Он не ошибся. Уже по началу разговора понял: приятного не жди.
Павел Семенович, зорко посматривая на него из-за стола, спросил, как он живет, как ему работается. Шубин отвечал сдержанно, все время ожидая того главного, ради чего директор вызвал его к себе. И наконец дождался.
— Что у вас с сыном, Иван Алексеич? Где он?
У Шубина словно что-то оборвалось внутри: так и есть, директору все известно. Он взял в жесткую ладонь лицо, крепко зажмурился. Сказал глухо:
— Беда, товарищ директор, с сыном. Ушел из дому. Шестой день не ночует…
— Ну уж давайте, Иван Алексеич, рассказывайте все начистоту, — подождав, сказал Павел Семенович. — Почему ушел? Кто в этом виноват?
Как ни трудно было рассказывать, а пришлось. О том, что сильно выпивает в последние годы, что здоровье расшаталось, что сын от него совсем отдалился. И удивительное дело — от этого откровенного признания ему словно бы легче стало. И Павел Семенович, как видно, не собирался ни ругать его, ни возмущаться. С густой сединой в волосах и глубокими складками на умном, усталом лице, он слушал Шубина внимательно и даже сочувственно. Когда тот, опустив голову, замолк, директор придвинул к себе листок, где во время вчерашней беседы с пионерами сделал кое-какие заметки, и сказал:
— Вчера ко мне приходила целая делегация из школы. Товарищи вашего сына. Великолепные ребята! Так вот, после разговора с ними я, признаюсь откровенно, подумал, что вашей историей должна заняться заводская общественность. А теперь не знаю, как быть. Вижу, сами все понимаете. Так что будем делать, Иван Алексеич?
Шубин не сразу поднял голову.
— Известно, — тихо и с болью проговорил он, — пьянице веры мало. Но, Павел Семенович, это вы правильно сказали, что я понял. Вот вчера получка была. Ни грамма не взял в рот. Я сказал себе: нет! И не взял. У меня, Павел Семенович, печень совсем ни к черту. Э-э, что говорить! Вот чувствую будто старость наваливается. А какой я старик? Еще сорока нет. А Сережка — вот у меня где. — Иван Алексеевич прижал растопыренные пальцы к груди. — Как лягу — все о нем думки. Где он? Голодный, холодный? Каждый день жду…
— Иван Алексеич, — неожиданно перебил директор, — когда у вашего сына день рождения?
— В ноябре. Шестнадцатого числа.
Павел Семенович взял из стакана красный карандаш.
— Так и запишем: шестнадцатого ноября. Считайте, что я напросился на именины. Договорились?
— Господи! — опешил Иван Алексеевич. — Да мы с полным удовольствием. Милости просим.
— И прекрасно! Подарок за мной. Больше, Иван Алексеич, не задерживаю вас. Можете идти…
Оставшись один, директор, словно нашаливший мальчишка, довольно потер рука об руку и вызвал к себе секретаря.
— Раиса Гавриловна, вот вам листок. Позвоните в 62-ю школу и разыщите учительницу Елену Аркадьевну. Фамилию я не записал, но это ничего — там знают: классная руководительница 6-го класса «В». Мне необходимо с ней переговорить…
Колюха с нетерпением ожидал возвращения Шубина. Едва Иван Алексеевич подошел к верстаку, Колюха выставил все свои тридцать два жемчужных зуба.
— Как прошли переговоры на высшем уровне?
Шубин лишь слабо улыбнулся. Выдвинул ящик с инструментом.
— Ясно, — многозначительно заключил Колюха. — Коммюнике не будет, пресса хранит молчание… Ну, а все-таки, Иван Алексеич, зачем директор вызывал?
— О жизни, Коля, толковали. Все о ней.
Колюха не поверил.
— Шутите, Иван Алексеич.
— А что мне шутить? Вот на именины Павла Семеновича пригласил. У сына именины в ноябре. Хочешь, и тебя приглашу? Отчего не пригласить хорошего человека…
Весь день у Ивана Алексеевича не сходило с лица выражение задумчивости и какой-то тихой, светлой печали.
Он и дома сидел необычно мирный, весь ушедший в мысли.
— Клава, — сказал вечером жене. — Жизнь хочу повернуть свою. Заново повернуть… Пить брошу.
— Хорошо бы это, Ваня, — вздохнула Клавдия Васильевна. — Только не верится, Ваня. И раньше ведь обещал. Пройдет неделя, месяц…
— Да ты слушай! — с надрывом вскрикнул Иван Алексеевич. Уняв дрожь губ, медленно разжал стиснутые в кулак пальцы. — Помру я так. Понимаешь? Сгорает во мне что-то. Внутри. Лечиться начну. Неохота помирать-то. Не старик… И Сережки нет… Что ж не идет до сих пор? Именины его надо хорошо отпраздновать. Гости будут. Костюм ему куплю. Большой же парень — скоро тринадцать.
Клавдия Васильевна вытащила из кармана платок. Совсем глаза у нее в последние дни стали на мокром месте.
Из передней послышался стук.
— Не он ли? — Побледнев, Клавдия Васильевна кинулась к двери.
Перед ней стояла высокая, серьезная девочка.
Это была Сабина.
— Здравствуйте, — сказала она. — Я от Сережи…
— Наконец-то! Да где же он? Что с ним?..
— Дай сначала человеку войти, — появляясь в дверях, сказал Иван Алексеевич. — Раздень. Пригласи в комнату…
Рассказ девочки о том, что сын их здоров, сыт, живет в квартире своих друзей и даже не отстал в учебе — каждый день наравне с другими готовит уроки — успокоил Клавдию Васильевну. Хоть и написал Сережа, что хорошо ему, а сердце все равно болело. Где он? Не связался ли с хулиганами? И уж так горько было — ушел из родного дома, скитается где-то у чужих людей!
— Когда же домой-то думает вернуться? — слезным голосом спросила она. — Совсем извелись мы. День, ночь все о нем думаю да тоскую. И отец места себе не находит, — Клавдия Васильевна взглянула на мужа. — Вон как осунулся. Молчит, ходит, вздыхает. А я же понимаю, вижу: мучается. Поди, про себя-то двадцать раз повинился. Так ведь, Ваня, скажи? Повинился?
— Да не лезь ты мне в душу! — с досадой сказал Иван Алексеевич. — Повинился, повинился!.. Ну, повинился! Что я, каменный, на самом деле? Безо всяких чувств? Сын же он мне! Единственный. Родная кровь.
— Вот-вот! — довольная, что муж наконец сказал те слова, какие ей хотелось услышать, подхватила Клавдия Васильевна. — Ведь любит он Сережу, жалеет. Помню, третий год Сереженьке был. Оступился он как-то и упал с подоконника. Да неловко упал — на ручку. А косточка тоненькая, сломалась. Я в магазине была. Прихожу — Сереженька синий от крика, заходится. А Ваня держит его на руках и сам плачет. Слезы текут.
— Заплачешь, — стесненно улыбаясь, сказал Иван Алексеевич. — Я сначала-то не знал ничего. Ну, упал ребенок. Подхватил его с полу, чтобы успокоить, а он еще пуще кричит. Потом только заметил, что ручка у него совсем кривая. Тут, видно, и сдали нервы — сам заревел с перепугу. Ту, сломанную-то ручку я как здоровую брал. Крепко. Может, еще сильнее косточку повредил. Не знал же…
— А что дальше? — Сабина расширила глаза.
— Дальше вызвали скорую помощь. Целый месяц ручка в гипсе была. Пока не срослась косточка… Вот и все.
Иван Алексеевич вдруг замолчал и нахмурился. Все, что он сейчас рассказал, неожиданно поразило его. Как он любил тогда сына! А теперь? Вот неделю назад избил его, зверски избил, ни за что. До какого же скотства, страшного падения довело его пьянство! Человека сделало зверем.
Вот и эта девочка, наверное, думает о нем так. Ишь, какие глаза! Все понимает.
— За статьи ваши спасибо, — тихо сказал Иван Алексеевич. — Все прочитал. — И, помолчав, добавил: — Кое-чему научили. Да. Спасибо…
Эти немногие, скупные фразы почему-то окончательно убедили Сабину, что отныне здесь должен наступить мир. Может быть, потому, что ей очень хотелось этого. И, пожалуй, она правильно сделала, не положив в почтовый ящик того письма, которое написала Ивану Алексеевичу. В жизни все, оказывается, и проще и сложнее. И не будет она рассказывать о самом дорогом для нее человеке — о своем отце, погибшем шесть лет назад при испытании самолета. Не надо…
— Так не говорил Сережа, когда вернется? — снова спросила Клавдия Васильевна.
— Я не знаю, — ответила Сабина. — Но, по-моему, он очень скучает и с радостью придет домой. Я передам Сереже, что вы его ждете.
— Уж так, доченька, ждем, что и сказать не знаю как! — Клавдия Васильевна утерла платком глаза.
— Хорошо, я обязательно передам. Завтра же утром. А теперь я пойду.
— Далеко до дома-то? — спросил Иван Алексеевич.
— На Пушкинскую.
— Э-э, не рядом. Обожди-ка, вместе пойдем. Провожу тебя.
— Что вы! Не надо. Сама доберусь.
— А если кто обидит? Час поздний.
— Я не боюсь. Я сильная, — засмеялась Сабина. — Занимаюсь фехтованием. Мой папа когда-то был чемпионом города по фехтованию.
— Ну, одно дело — папа, другое — дочка. Клава, подай-ка нам зонтик. Вроде капает на улице.
Глава 15. Отчитывается третье звено
— Ленка, пойдем камни бросать в лужу! — сказал краснощекий карапуз и поправил на животе ружье.
— Не хочу бросать камни, — ответила курносая малышка. — Я делаю дом. Мне тетя еще даст конфету. Такая красивая тетя! Она сказала: «Как тебя звать, девочка?» Я сказала: «Лена». И она сказала: «Я тоже Лена. Ты молодец — такой хороший дом построила!» И дала конфету. Она пошла к большому Сереге домой. Вот! Она давно ушла. Я еще лучше сделаю дом!
Малышка похлопала лопаткой по крыше дома и оглянулась на подъезд.
— Тетя! Тетя! — радостно заулыбалась она.
Со ступенек спускалась Елена Аркадьевна. Она еще не подошла к песочному ящику, как вдруг зачем-то присела и загородила лицо рукой.
— Тетя, я еще лучше построила дом!.. Тетя, что вы делаете?
— Поправляю туфлю, — негромко ответила Елена Аркадьевна. Отставив руку, она украдкой взглянула в другую сторону двора. Там, к выходу на улицу, торопливо шагал Димка Окунев. Когда он скрылся за углом, Елена Аркадьевна подошла к девочке.
— Прекрасный дом! Замечательный! Ты вместе с этим мальчиком строила?
— Нет. Вовка хочет камни в лужу бросать.
— Зато сейчас Вова будет помогать тебе. Правда, Вова?
— Ага.
— Молодец! Вот вам по конфете.
А потом Елена Аркадьевна улыбнулась каким-то своим мыслям и пошла со двора на улицу.
Димки уже не было видно. Метров двести отшагал к тому времени. Он спешил к ребятам. Хотел раньше десяти прийти, но не получилось — уроки делал да в магазин пришлось сбегать. Ну, ничего, до воспитательного часа что-нибудь сумеют придумать. У Профессора голова здорово варит. А может, что-то уже и нафантазировал. Конечно, про то, как вырвали здоровый зуб, было бы интересно снять смешной фильм, но сколько вчера вечером ни прикидывали, а без звукового сопровождения не обойтись. Оказывается, в немом фильме нужен такой сюжет, чтобы все было понятно без слов.
Трудное это дело. Но все равно придумать что-то надо. Обидно: развели такие хорошие химикаты, в них десять катушек пленки можно обработать, а они только одну проявили. Впрочем, не в химикатах дело. Просто они загорелись этими съемками. Вчера твердо решили — будут снимать фильм. А почему не снимать? Кинокамера есть. Дядя Костя будто бы так сказал Мишке: «Раз столько любителей появилось, то камеру продавать не стану. Вместе будем пользоваться». Вот человек дядя Костя! Все бы взрослые такие были!
Два лестничных марша Димка одолел в шесть прыжков; условным стуком забарабанил в дверь.
Он ожидал увидеть привычные суету и шум, однако в квартире братьев было почему-то тихо. Лешка, открывший ему, молча кивнул на вешалку — раздевайся. Димка снял пальто, осторожно положил сумку и вошел в комнату. Как и обычно, звено было в полном сборе. Но на этот раз никто не кричал, не бегал. Все смотрели на Сабину и внимательно слушали ее.
— …зонтик взял, и мы пошли. Он всю дорогу молчал. Я не знала, о чем он думает, и тоже ничего не говорила. А когда мы подошли к дому и я собралась проститься, он сказал: «Передай Сереже, что я виноват перед ним. Очень виноват. Пусть возвращается скорей. Теперь все будет иначе». И знаешь, Сережа, — добавила Сабина, и глаза ее засияли, — я верю: теперь у вас все-все будет иначе!
Серега слушал, подавшись вперед. И было видно, как угол стола сильно упирается ему в грудь. И все же он не проронил ни слова. Все выжидающе смотрели на него.
Сабина не выдержала:
— А ты, Сережа, разве не веришь?
Он быстро и резко поднялся. Прошел к двери, потом к окну. На спине под рубахой проступали острые, неестественно поднятые лопатки — будто Серега стоял на студеном ветру и замерз. Но вот лопатки вместе с плечами медленно опустились, и когда Серега повернул к ребятам лицо — оно было совсем другое: виноватое и растерянное. Он шевельнул губами:
— Я схожу на часик к маме… Ладно?
Он еще спрашивает! Конечно, иди, беги, ведь она так волнуется! Ребята улыбались, довольно поглядывали друг на друга, потом Юра придумал пожимать руки, и через минуту ладони у всех мальчиков и девочек сделались красными от крепких рукопожатий.
Радость их была искренней и полной. Радовались за друга, радовались за себя. Не напрасно старались! Если это еще и не полная победа, то все же успех. И немалый!
Серега между тем надел пальто.
— Вы пока без меня сочиняйте, а я покажусь маме и приду. — Он потрогал место под глазом, улыбнулся. — Все прошло. И книжки возьму. Надоело сидеть. Вместе в школу пойдем.
Ушел Серега, и как-то сиротливо стало. То, бывало, когда ни придут — всегда видят его здесь. Теперь ушел…
Ну да ладно, что об этом думать-горевать! Ведь все хорошо кончилось. Теперь надо думать о фильме.
Димка надеялся, что у Профессора на этот счет появились какие-нибудь идеи, но Борька лишь хмурил высокий лоб, почесывал в затылке, щурил левый глаз, щурил — правый, а идеи все летели мимо его мудрой головы. Тогда начали вспоминать всякие истории и рассказы, вычитанные в книжках. Чего только не вспомнили! И все же остановиться на чем-то одном не могли. То события в пустыне происходят, то зимой, то наоборот — летом, да еще у реки, и герою надо бросаться в воду. А кто же сейчас, в октябре, полезет в воду!
Если бы, не Андрюшка, то неизвестно, сколько еще времени ломали бы они головы. Андрюшка сперва и сам не предполагал, что в его руках — ключ к интереснейшему сюжету фильма. Он вначале только и сказал: «Вот снять бы про то, как наших ребят в кусты загнали».
— А как это, загнали? — спросила Валя-толстенькая.
Андрюшка и начал рассказывать:
— Да очень просто. Весной наши ребята футбольные ворота во дворе сделали. Ну, думали: порядок! Потренируемся! А всего два дня и поиграли. Витька Филон мальца мячом сбил. Года три пацанку. Упал он и нос расквасил. А отец у него какой-то сумасшедший. Выбежал с топором и порубил ворота. Прямо бешеный! Мы на другой день просто так перепасовывались мячом, а он увидел из окна, выскочил, схватил мяч и шилом в него — пшш!
Андрюшка так здорово показал, как свирепый дядька всадил в мяч шило, что ребята засмеялись.
— Чего смешного! — сказал Андрюшка. — Житья потом не стало. Собрание жильцы устроили: постановили цветы во дворе сажать. Ну и насадили где только можно. Сидят по вечерам на скамейках и любуются: ах, как стало красиво! А я бы все эти цветы повыдергивал! В волейбол играть нельзя — как же, любимые их цветочки потопчем! В баскетбол и подавно нельзя. В бадминтон, в чижика — ни во что нельзя. Ну теперь ребята приспособились — в карты дуются. Сидят в кустах и жарят — в подкидного, в очко…
Тут уж не только Профессора, а почти всех ребят осенило: вот оно, то самое, чего они искали! Сколько здесь всяких ролей! И обиженных мальчишек, и «бешеного» дядьки, который с шилом в руках гоняется за мячом, и довольных жильцов, с умилением глядящих на кусты роз и хризантем.
Разумеется, сразу возникло множество вопросов. Кто будет играть взрослых? Может быть, самим играть — загримироваться под старичков, старушек и мамаш с детьми на руках? Как снять посадку цветов? И вообще, где вести съемки?
В спорах не заметили, как и время прошло. О времени напомнил Серега. Он явился порозовевший, с затаившейся в уголках губ улыбкой. Он старался скрыть улыбку, но это у него плохо получалось. Все равно было видно: человека переполняет радость.
— Ну, что? — мигом окружили его ребята.
Серега вновь попытался спрятать улыбку, да только понял, что с губами своими ему сейчас не справиться.
— Такую дыню купила — мм! Во рту тает! Четыре куска умял. На вечер, сказала, пирогов нам с отцом напечет… А вы почему не собираетесь?
И правда — до воспитательного часа всего двадцать пять минут осталось.
По дороге в школу, конечно, продолжали говорить о фильме, который задумали снимать. Отличный должен получиться фильм! И тема что надо! Даже Сергей Михалков порадовался бы такой теме для своего сатирического «Фитиля».
А вот и школа. Плотной, единой кучкой они входят в широкие двери.
Класс залит светом. Утром погода еще хмурилась, а сейчас светит солнце. Октябрьское. Невысокое. Лучи его уже достают до третьего ряда парт. И к ним — ребятам третьего звена — пришло солнце.
И сидят они, все одиннадцать человек, которых Елена Аркадьевна еще недавно готова была считать такими бестолковыми, сидят они сейчас довольные, радостные и очень уверенные в себе. И причина здесь не в солнце. Нет, совсем не в солнце. Это Елена Аркадьевна знает абсолютно точно.
— Ну, Сережа, — говорит она, — ты уже выздоровел?
Он еще рта не успел раскрыть, как и Борька, и звеньевая, и Мишка с Лешкой разом ответили:
— Да! Да, Елена Аркадьевна, он здоров! Уже все прошло!
— Так ты совсем-совсем здоров? — выразительно глядя на Шубина, переспросила учительница.
Он поднял на нее радостные глаза.
— Да, совсем здоров. Теперь все хорошо.
— Я очень рада за тебя… А сейчас давайте послушаем, как работали звенья, — стуча каблучками, Елена Аркадьевна прошла к окну. — Начинай, Пуговкин.
В первом звене, как и всегда, дела шли хорошо. Взамен шефства над малышами из детского сада, где объявили карантин, пионеры звена решили мастерить из шишек, желудей и веточек всевозможные фигурки людей и животных.
— Уже восемнадцать фигурок сделали! — похвастал Лерчик.
И второе звено не огорчило Елену Аркадьевну — побывали в картинной галерее, написали письмо немецким ученикам дрезденской школы — предложили обмениваться открытками и марками.
Классная руководительница перевела взгляд на ребят третьего ряда, чуть улыбнулась пухлыми губами.
— А вы свои дела по-прежнему держите в тайне?
— Это нечестно! — зашумели ребята из первого и второго звеньев. — Мы ничего не скрываем. Пусть и они расскажут.
Валя Галкина и Борька о чем-то пошептались.
— А мы и не думаем скрывать, — встав из-за парты, спокойно сказала звеньевая. — Если вы так интересуетесь — могу сообщить: на днях мы начинаем съемку художественного фильма.
Это и для Елены Аркадьевны явилось приятной неожиданностью: «Ай да ребята! Вот так бестолковые!».
А Лерчик Пуговкин от сильного волнения вдруг пустил петуха:
— Выдумываете все! У вас и аппарата нет!
— Не волнуйся! — засмеялся Мишка. — «Экран-3»! Новенький! С телевичком!
— А как будет называться фильм? — поинтересовались со второго ряда.
И на такой вопрос ответ был готов.
— «Во дворе воцарился покой», — невозмутимым голосом сказала Валя Галкина.
— А вы снимать не умеете!
— Еще как умеем!
— А где возьмете артистов?
— Будто сами не артисты!..
Елена Аркадьевна не спешила останавливать расшумевшихся ребят. Пусть поговорят, поволнуются. Очень хороший и дельный народ эти ребята!
На смуглых щеках Елены Аркадьевны светились маленькие, веселые ямочки. Они всякий раз появлялись, когда молоденькая учительница улыбалась и была чем-то довольна.
Староста класса (рассказ)
В первой четверти старостой нашего 6 «А» был Валька Черемухин. Вот жизнь была! Дежурные хотя и назначались, но только так, для виду. На переменках из класса все равно никто не выходил.
Каждый делал что хотел. Никаких тебе классных собраний, никаких проверок чистоты, никакого учета. Опоздаешь, например, на урок — никто и не узнает. Валька не выдаст…
А теперь порядки совсем другие. Валька Черемухин больше не староста. Переизбрали. Нина Сергеевна — наша новая классная руководительница — так и сказала о нем на собрании:
— Черемухин со своими обязанностями не справился. У него не хватило ни организаторских способностей, ни твердости, ни принципиальности.
Вообще она правильно это сказала. Но лично меня Валька как староста класса вполне устраивал. Здо́рово при нем было. Каких только номеров ни откалывали — все сходило с рук.
И вот что еще сказала Нина Сергеевна:
— Если мы хотим по-настоящему бороться за честь класса, за то, чтобы он стал лучшим в школе, нам надо в первую очередь избрать инициативного и серьезного старосту…
Избрали Любку Карпову. Если бы я знал, что Любка окажется такой язвой, то ни за что бы не поднял за нее руку.
Началось с цветов. Девчонки понатащили из дому кучу всяких цветов в горшках. Все подоконники уставили, будто это им ботанический сад. Ну ладно, цветы — чепуха, не мешают. Но на другой день на стенке появился список дежурных. Под линеечку написали, красиво. Я сразу узнал, что Томка Попова писала. Так старалась, будто ей за это пятерку поставят. Заголовок разноцветными карандашами раскрасила.
Первыми дежурили Томка Попова и Нелька Омельченко. Я в тот день так разозлился — чуть не отколотил их. Еще бы! Встали на дверях и никого за всю перемену в класс не пустили. А мне надо было задачу по геометрии списать. Я и ругался с ними и грозился — не пустили.
Я думал, что это дело с дежурством скоро поломается. Даже ребят подговаривал, чтобы из класса на переменах не выходили. Но ничего не вышло. Любка стояла на своем. Чуть что не ладится — идет к Нине Сергеевне жаловаться. А девчонки все за нее. И такие горластые стали. О том, чтобы опоздать к звонку или списать домашнее задание, или вообще, посмеяться на уроке — и думать было нечего. Прямо житья не стало от Любки. Отлупить ее, что ли? — думал я. Но побоялся. Взял тогда, пришел раз в школу вечером после второй смены, запер стулом в классе дверь и на обратной стороне крышки Любкиной парты вырезал перочинным ножом: «ЛЮБКА — ЯЗВА». Буквы получились большие, чуть не по кулаку, белые. Откуда ни посмотри — видно.
Шум тогда из-за этого едва не на всю школу был. Я утром на другой день нарочно попозднее пришел, к самому началу урока. Захожу в класс, а там около Любкиной парты — толпа. Все галдят, руками размахивают. Конечно, больше всех Томка Попова разоряется.
— Ах! — говорит Томка. — Если бы только узнать, какой дурак это вырезал! Ах! Что бы я с ним сделала!..
Это точно. Томка боевая! Да только ничего она не сделает. Попробуй-ка узнай, докажи, — кто вырезал.
Как ни в чем не бывало, я положил на место портфель и подошел к ребятам. Крышка парты была откинута, и буквы на черной краске так и бросались в глаза.
Томка подозрительно посмотрела на меня и сказала:
— Видал работку?
— Ого! — нарочно удивился я. — Это кто же постарался?
— А может, ты сам знаешь? — Томка продолжала подозрительно смотреть на меня.
Но я и глазом не моргнул.
— Откуда мне знать? Я только пришел.
Тут же вместе со всеми стояла и Любка Карпова. Мне даже немножко жалко сделалось Любку, когда я увидел ее. Побледнела, губы кусает, того гляди, заплачет. Девчонки наперебой успокаивали ее.
— Не переживай. Все равно узнаем…
— Правильно, Люба, не расстраивайся. Ведь тот, кто вырезал это, — сам дурак. Последний набитый дурак! Вредитель…
Приятного в таких разговорах было мало, и потому я спросил Любку, показав на парту:
— А вчера ничего не было?
Любка отрицательно покачала головой.
— Значит, кто-то из второй смены вырезал, — сказал я.
— Никогда не поверю, чтобы восьмиклассники такими глупостями занимались, — сказала Нелька Омельченко. — И потом на этом месте сидит никакая не Любка, а Светлана Потемкина. Отличница. И еще она в драмкружке…
После третьего урока в класс вошла Нина Сергеевна. Она сказала, чтобы мы все остались на своих местах.
— Мне очень обидно и неприятно, — начала она, — что в нашем классе произошел этот хулиганский поступок. Я уже не говорю о том, что кто-то из вас, изрезав парту, попортил школьное имущество. Я хочу сказать о другом. Тот, кто сделал это, оскорбил своего товарища. И оскорбил незаслуженно. Вы все знаете: Люба Карпова — замечательный товарищ, друг. И вот — эта оскорбительная надпись. Я хочу, чтобы тот, кто совершил этот поступок, набрался бы мужества, встал и честно во всем признался. Если он, конечно, настоящий и смелый человек, а не трус и тряпка.
Нина Сергеевна внимательно посмотрела на всех и добавила:
— Ну, я жду…
Тряпкой и трусом я себя никогда не считал, но встать перед всем классом и признаться, — нет, я этого сделать не мог. Да и не хотел. Хорошо сделано или плохо — что теперь об этом говорить. Я только одного боялся: вдруг Нина Сергеевна ста нет проверять, что у кого есть в карманах. А если найдет у меня перочинный ножик?.. Ну и что же — это еще не доказательство. А что, разве Сережка не мог бы вырезать такое же на парте у Любки? Мог бы. Он ведь тоже психует на нее. Вот позавчера разбил цветочный горшок, а Любка сказала, что если он не принесет новый, так она с девчонками пойдет к нему домой и обо всем расскажет родителям. Сережка испугался и принес. И Валька Черемухин, наверно, злится на Любку. Как же, недавно сам старостой был, а теперь она командует над ним.
Но Нина Сергеевна не стала никого обыскивать.
— Что же, — сказала она, — выходит, никто не виноват. Ну, еще подожду…
И опять сидел я, смотрел в парту и ждал, когда все это кончится.
Не знаю, сколько бы времени все это продолжалось, но вдруг Любка подняла руку.
— Ты что? — спросила Нина Сергеевна.
Любка встала, подергала себя за косу, покусала губы и, наконец, сказала:
— Если не хотят признаваться, так и не надо… Не надо… Кто вот это сделал, — она провела рукой по буквам, которые я вырезал, нахмурилась и сердито проговорила: — Кто это сделал, тот все равно когда-нибудь поймет, что я не такая. Вот.
И Любка села. Захлопнула крышку парты.
— Что ж, — сказала Нина Сергеевна, — пожалуй, ты права. Но мне кажется, что тот, кто вырезал эту недостойную надпись, уже сейчас раскаивается и, конечно, понимает, как ничтожен и некрасив его поступок.
А ведь Нина Сергеевна это правильно угадала. Но что́ толку — дело сделано, не поправишь.
Несколько дней после этого я чувствовал себя неважно. И, если честно признаться, ребятам в глаза прямо смотреть не мог. Все-таки очень это неприятно, когда подходит, например, ко мне Валька Черемухин и говорит:
— Ух, если бы знал я, кто на Любку написал, рожу бы набил!
А Сережка говорил мне так:
— И ведь, понимаешь, ходит, подлец, среди нас и молчит, не признается. А наверно, из-за него и на нас думают. И на меня, и на тебя. Ну и скотина!..
Да, вот как оно получилось. А еще хотел сначала похвастаться перед ребятами — смотрите, мол, какой я герой! А на деле выходит, что молчи и не заикайся никому.
И хоть бы парту Любка переменила! Не хочет. Один раз дежурные убирали класс и переставили ее парту в самый последний ряд. Так нет, опять на прежнее место перетащила.
— Я, — говорит, — не боюсь. Пусть будет стыдно тому, кто это вырезал…
А тем временем дела в нашем классе, как говорили на собраниях, шли в гору. В начале второй четверти восемь человек в классе были с двойками, а к концу четверти ни одного двоечника не осталось. Я тоже двойку по геометрии исправил. За подсказки стали здорово преследовать. Морозова по географии подсказывала, так ее потом в стенгазете такой изобразили, что все чуть со смеху не попадали, а она два дня с мокрыми глазами ходила и все клянчила, чтобы сняли газету. И вообще дисциплина в классе стала лучше, даже не сравнить с тем, что было при Вальке Черемухине.
А Нина Сергеевна каждый день, наверно, к кому-нибудь из учеников на дом ходила. Только и слышно: к нам вчера приходила, у нас была… Я тоже сижу однажды вечером — как раз ботинок себе подбивал — слышу: стучат. Открыл дверь, а это Нина Сергеевна. Отца не было — в вечернюю смену работал. Посидела она, расспросила, как с отцом живем, кто обед готовит, куда отдаем стирать белье. Думал, жалеть будет, а она ничего, только и сказала, когда уходила:
— А я, Костя, ленинградскую блокаду в войну пережила. Совсем еще девочкой была. Думали, не выживем. Но видишь — выжила. Ну, до свидания. Отцу привет передай.
О случае с Любкиной партой скоро совсем перестали вспоминать. Кто-то замазал буквы чернилами, и их почти не было видно. Я уже и сам редко вспоминал об этом. Но к Любке с тех пор стал относиться иначе. Девчонка она, если уж сказать по правде, неплохая.
Во-первых, справедливая. Кричать без толку не любит. Вообще, свойская, без всяких там штучек. И еще она красивая. Аккуратная всегда, белый кружевной воротничок, белые манжетки; косички тугие, золотистые, как проволока в катушке, блестят. У нее и лоб, и щеки, и подбородок с ямочкой — все блестит, будто она только из бани вышла.
Следить за чистотой и порядком было самое любимое ее дело. То, что в классе выдумали эту санитарную комиссию и проверку чистоты — это ее затея, я точно знаю. В комиссию выбрали Светку Соловьеву и Пашу Евдокимову. Ох, и попортила эта комиссия мне крови! Придешь утром, а Светка и Паша — тут как тут, раньше всех заявились. Важные, с красными крестами на рукавах. У Паши — специальная тетрадочка.
— Покажи, — говорят, руки… А ну-ка, что в ушах?.. Расстегни воротник…
Терпеть не мог я этих осмотров! Но с ними — со Светкой и Пашей — еще можно было ладить. Например, тише и безвредней Паши в классе у нас девочки не было. Да и Светка — не из самых занозистых. Меня, во всяком случае, понимала без лишних слов. Если уж очень начнет придираться — покажу ей кулак, она и успокаивается. А Паша и вовсе не скандалила. Скажет для порядка:
— Рубашку пора сменить… Уши вымой… — И поставит галочку в своей тетрадке.
Все бы так ничего шло, да только вдруг заболела Паша. И назначили тогда вместо нее Томку Попову.
Вот в первый же день после этого я и схлестнулся с ней. То всегда Светка подходила первая проверять чистоту, а тут Томка в самые главные начальники себя записала. Я еще и портфель не успел положить в парту, а Томка уже стоит возле меня и командует!
— Показывай руки!
— Что значит — показывай? Тоже командирша!
Но я все-таки стерпел: не стал с ней ругаться. Показал руки.
Чего она в них нашла? Руки как руки. Ну, может, не такие чистые, как у других, но ничего особенного. У меня всегда такие руки. Грязь под ногтями. Подумаешь, какой ужас! А горластая Томка расшумелась, будто я настоящий преступник. «Как тебе не стыдно с такими руками ходить! У тебя под каждым ногтем — миллион микробов!»
Но я и тут стерпел: ни слова не сказал. Но когда Томка посмотрела мою рубашку и закричала еще громче, что это безобразие — ходить с таким засаленным воротничком, что я неряха, грязнуля, то больше уж выдержать я не мог. Оттолкнул ее, обругал дурой и еще по затылку обещал стукнуть, если не замолчит. Я хотел выйти из класса в коридор, но Томка загородила мне дорогу.
— Дурой не называй! — закричала она. — Лучше посмотри на себя! Как не стыдно ходить таким грязнулей. Или, может быть, тебя за ручку отвести в баню…
Если бы Люба не подошла в ту минуту, я Томку наверняка треснул бы по башке.
— Что тут за шум? — спросила Люба.
— Да ты посмотри, какая у него рубашка! — Томка потянулась к моему воротнику, но я отбил ее руку.
— Видишь, еще и дерется! А какая под ногтями грязь! Два месяца, наверное, не стриг…
— Обожди, — перебила ее Люба и сказала мне: — Покажи, Костя, руки.
Она это сказала совсем просто, все равно как Нина Сергеевна, когда спрашивает у доски. И я послушался Любу.
Взяв мои руки, Люба осмотрела их, повернула ладонями кверху. Мне так неудобно сделалось. Еще и ребята кругом стоят. А руки у меня действительно грязные. То ли дело у Любы руки — чистые, гладкие, ноготки подстрижены. А пальцы у нее теплые и мягкие. Мне стыдно было, и отчего-то приятно. Потом Люба посмотрела мою рубашку и спокойно сказала:
— И чего ты, Тома, шум подняла? Ну, рубашка не особенно чистая. Правильно. Но не все же могут очень часто менять белье…
Я долго потом думал над ее словами. Почему она сказала о том, что не все могут часто менять белье? Неужели ей известно, что мы живем с отцом одни? Странно. Я никому никогда не рассказывал о нашей семье… Может быть, Нина Сергеевна что-нибудь говорила ей?..
Обо всем этом я узнал через два дня. А получилось это вот как.
После уроков ко мне подошла Люба и сказала:
— Займи, пожалуйста, в раздевалке мне очередь. Я на минутку в учительскую зайду.
Вообще-то, я никакой очереди не признаю — пусть девчонки да которые слабенькие стоят, но тут пришлось точно какому-нибудь маменькиному сыночку встать в очередь. Неудобно все-таки — как человека попросила.
Верно — через минуту пришла она.
— Занял? — спрашивает.
— Становись, — говорю.
— Спасибо.
Оделись мы. На ней — шубка серая, шарфик красный, шапочка вязаная — тоже красивая. Такая нарядная, даже стоять рядом неудобно. Я хотел вперед побежать, но Люба спросила меня — не знаю ли я, когда открывается центральный каток.
Так вместе и вышли из школы. Идем. Она рассказывает, как в прошлом году ей купили беговые коньки с ботинками, но они были немножко велики, а сейчас в самую пору… Я слушаю, поддакиваю, а сам все думаю, как бы от нее отделаться. Хорошо еще, что мы в раздевалке задержались и все наши ребята успели уйти.
На перекрестке Любе надо было сворачивать направо, но она почему-то замешкалась, остановилась. Потом сдунула снежинку с варежки и сказала:
— Знаешь, Костя, у меня задачник по алгебре пропал, а на завтра примеры заданы. Может, зайдем к тебе — я примеры спишу?..
Мне это сразу подозрительным показалось. Но не мог же я отказать! Пошли мы.
Люба все замечала кругом. И как снег красиво лежит на ветках. И как воробей подпрыгивает на одной лапке, потому что вторая у него замерзла или подбита. И что снежинки, которые летят сверху, будто тетрадь в косую линейку расчерчивают. И какой смешной вон тот дядька: он, наверно, целый день ходит по улицам, потому что на шапке у него уже маленький сугроб вырос.
Хоть я и смеялся вместе с Любой над дядькой с сугробом на шапке, но, по правде, больше думал о том, что в комнате у нас грязно, не прибрано. Кровать утром я не застелил, сковородку, кажется, забыл на столе… А если сказать, что отец ушел на работу и не оставил ключа?.. Нет, теперь поздно. Сразу поймет, что вру…
Наконец подошли к нашему дому. Я, когда отпирал замок, сказал Любе:
— Утром я заспался, понимаешь, убрать не успел.
Лучше бы, конечно, попросить Любу чуточку обождать около двери, а самому хотя бы немножко убрать в комнате, да только я боялся, что кто-нибудь пойдет с верхних этажей и увидит Любу. Но я все-таки напрасно не попросил ее обождать. После улицы, где было так светло, нарядно и все покрыто снегом, наша неприбранная комната прямо подвалом показалась.
Я и раздеваться не стал. Кое-как прикрыл быстренько кровать, взял со стола холодную сковородку, стакан с недопитым чаем, корку хлеба и унес на кухню. Там же и разделся. Вернулся в комнату. Люба стояла у двери, держала за спиной портфель и рассматривала картину, которую моя сестра Ирина вышила, — коричневый котенок с голубым бантом и зелеными глазами.
Вот стоит она, смотрит на картину, и я стою. «Сказать, чтобы села, что ли? — подумал я. — Или пальто, может, снимет…»
— Кто это такого симпатичного котенка вышил? — спросила Люба.
Об Ирине мне не хотелось говорить — еще начнет расспрашивать. Но не будешь же молчать, если вопрос задают. Я сказал. А Люба, как я и думал, сразу поинтересовалась:
— Она что, не живет с вами?
Вот ведь какие любопытные эти девчонки! Пришла примеры списать, а сама всякие ненужные разговоры заводит.
— Нет, — говорю, — не живет.
— Значит, ни мама твоя, ни сестра не живут с вами?
— А ты откуда все знаешь? — хмуро спросил я.
Тут Люба присела на стул и сняла варежки.
— Знаешь, Костя, задачник у меня никуда не пропадал. Я тебе на улице неправду сказала. Просто недавно Нина Сергеевна немножко рассказала мне про твою жизнь… Я же староста класса. Мне нужно знать.
Она замолчала и ждала, что я скажу на это. А что я скажу? Подумаешь, если староста класса, так ей все нужно знать! А зачем? Языком потом растрепать…
— Конечно, — вздохнула Люба, — если тебе неприятно об этом говорить, то не надо.
Она еще помолчала, подождала, а потом все-таки не утерпела — спросила:
— А твоя мама присылает вам письма?
Я вижу — не отвяжется она.
— Писала, — говорю, — в июне. — Со скуки я стал глядеть в окошко. На улице все падал снег… Да, зима. Декабрь… Значит, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь… Шесть месяцев…
— Костя, — вдруг проговорила Люба и отчего-то принялась рассматривать свою варежку, будто никогда ее не видела. — Костя, ты, пожалуйста, извини меня, но я хочу сказать тебе одну вещь… Я… Ну и другие девочки из нашего класса… могли бы взять… Только ты, пожалуйста, не обижайся. Хорошо? Мы могли бы взять… ну, шефство, что ли, над тобой. Я, правда, с девочками еще не говорила, но они, конечно, согласятся…
Я, видно, так покраснел, что Люба еще больше смутилась.
— Ты не думай, — быстро заговорила она, — что нам это трудно, ничуточки. Например, могли бы вымыть у вас пол. А я могу выстирать твои рубашки. Папа на октябрьские праздники купил стиральную машину с центрифугой. Так легко теперь стирать! Правда, Костя, возьми вот сейчас заверни в узелок свои рубашки, а я бы их выстирала и завтра же могла бы принести тебе. Хорошо?
Отчего мне было сердиться — не знаю. Но я рассердился.
— Ничего мне не надо, — сказал я и грубо добавил: — Ничего не надо!
Люба начала было опять говорить, что для нее это совсем пустяки — постирать рубашки, но я решительно и уж совсем грубо перебил:
— Не инвалиды мы и не калеки, и нечего вам лезть со своей помощью!
Люба тоже обиделась. Поджала губы, надела варежки и сказала:
— Пожалуйста, не навязываюсь. Я хотела по-товарищески, по-хорошему. Не хочешь — не надо. — Она взяла портфель и шагнула к двери.
Ох, до чего же дурной у меня характер! Как только Люба ушла, я сразу понял, что вел себя, как свинья, что меня отколотить за это мало.
Я был так противен себе, что решил весь день морить себя голодом. Часа через два здорово захотелось есть. Но я подумал: пусть, все равно ни крошки не возьму в рот. И еще я захотел сам выстирать свои рубашки. Поставил на газ ведро воды, нагрел ее, вылил в корыто и начал стирать. Я так долго мылил в воде рубахи, что пена в корыте вспухла до самого верха. Я разошелся: выстирал заодно пионерский галстук, трусы и носки. Когда все это прополоскал в чистой воде, выжал и развесил в кухне на веревке, было уже около пяти часов.
После работы я подобрел к себе. Разогрел суп, поджарил картошки, поел и уселся за уроки.
Утром я хотел встать пораньше, чтобы успеть погладить рубаху, но отец догадался об этом раньше меня. Выглаженная рубаха висела на спинке стула около моей кровати. На стуле лежал и пионерский галстук, гладкий, как бумага.
— Поспи еще немножко, — сказал отец.
А мне не хотелось спать. Я думал о Любе. Вот на этом стуле она сидела вчера, а ее варежки лежали на столе, как раз там, где чашка стоит. Интересно, неужели она сильно обиделась на меня? Ну, я дурак, это правильно. Но не мог же я согласиться, чтобы она стирала мои рубахи. Я ведь и сам могу. Вон, как новенькая. Теперь и руки у меня чистые. Действительно, после вчерашней стирки руки были белые, ногти прозрачные.
Потом я встал, вымыл лицо и шею, оделся, повязал галстук и постриг ногти. Отец удивился:
— О, ты у меня сегодня, как на праздник, вырядился.
На этот раз я и по улице шел не так, как всегда. Не спешил, портфелем не размахивал. Самому чудно было. В класс пришел рано. Но Томка уже была на месте. Когда она подошла ко мне со своей санитарной тетрадкой, то брови у нее смешно поднялись вверх, и она промычала: «М-м».
«Вот тебе и «м-м», — подумал я.
Через минуту я забыл о Томке. Ходил по классу, разговаривал с ребятами, а сам глаз не сводил с дверей — когда же придет Люба? Наконец она пришла. Розовая с мороза, веселая. Сначала я не глядел в ее сторону, только слушал, как она разговаривает. А потом, когда обернулся, то увидел, что и она на меня смотрит. Смотрит и улыбается. Я первый не решился бы подойти. А она подошла. Отвела меня к окну, где никого не было, и спросила:
— Ты не сердишься?
Вот тебе и раз! А я думал, что она на меня сердится!
— Нет, — говорю.
— Вот и хорошо.
Больше за весь день мы ни слова не сказали друг другу. Но все равно этот день был какой-то особенный. Мне нравилось, как Николай Максимович объяснял урок по физике, как Валя Черемухин решал у доски задачку, нравилось, что дежурные хорошо намочили тряпку, и она так чисто стирала написанное мелом, что доска блестела, как на солнце. Уроки мне показались короткими.
На другой день я выгладил штаны, галстук, начистил гуталином ботинки.
По расписанию я и Олег Корольков — мой сосед по парте — были в тот день дежурными. На переменке Олег ушел в учительскую за мелом, а я открыл окно, чтобы проветрить в классе. По улице шли люди, проезжали машины и автобусы. Из коридора слышались голоса, топот и смех ребят. И только в классе никого не было. Я пощупал землю в горшочках с цветами, поднял кусочек мела с полу, заметил в проходе между партами бумажку и от нечего делать пошел поднять ее. И тут я увидел… На откинутой крышке Любиной парты я увидел слова, которые вырезал когда-то перочинным ножиком: «ЛЮБКА — ЯЗВА».
Кажется, что здесь такого? Сколько раз я видел эти слова. И ничего. Ну, неприятно немного, и все. Отвернешься — и забудешь. А тут…
Я быстро опустил крышку — до того было противно.
Весь следующий урок я придумывал всякие планы, как избавить Любу от этой парты. Заменить ее парту чьей-нибудь другой? Не выйдет. Уже пробовали. Взять из соседнего класса? Тоже не выйдет. Все равно узнают, приволокут на место, а Любе еще и попасть может ни за что ни про что. Вот если бы с другого этажа взять… Так разве дотащишь один по лестнице…
И вдруг мне пришла блестящая мысль. Хорошо, парту заменить нельзя. И не надо. Зато можно сменить крышку. Отвернуть винты, и все в порядке! Привинчивай крышку к какой угодно парте. Эту — туда, а эту — сюда. Но опять сомнение взяло: а если все-таки поднимется шум? Откуда, скажут, такая крышка взялась? Начнутся разговоры… Нет, не годится…
Выход я все же нашел. Он оказался очень простым: надо самому сделать крышку. Как я раньше не додумался! Возьму доску, обстругаю ровно, закруглю один угол, покрашу — и готова крышка.
На переменке я поскорее выпроводил всех из класса. Олега послал хорошенько намочить тряпку и еще принести мела. Как только он ушел, я вынул линейку, смерил длину, ширину и толщину крышки Любиной парты. Потом вырвал из тетради чистый листок, приставил его к углу крышки, точно наметил — в каком месте проделать дырочки для винтов, обвел карандашом закругление.
Последний урок я сидел будто на иголках — все ждал, когда прозвенит звонок. Где взять доску, я знал. В соседнем с нами доме живет плотник дядя Сергей, у него и попрошу.
Но дяди Сергея дома не оказалось. Сын его Левка — самый хитрый и плаксивый мальчишка с нашего двора — сказал, что отец придет вечером. До вечера, понятное дело, я ждать не мог.
— Левка, — спрашиваю, — у вас доски есть?
— О! — говорит Левка. — У отца сколько хочешь досок!
— Ты бы, — говорю, — дал мне кусок доски.
— Это можно, — ответил Левка и повел меня в чулан. Там всяких досок и чурбаков целая гора была сложена. Я сразу выбрал подходящую доску.
— Вот эту, — говорю, — дашь?
— А ты мне что дашь? — спросил Левка.
Я пожал плечами. А Левка продолжал:
— Знаешь, сколько кубометр досок стоит? Думаешь, рубль, два? Как бы не так! Двадцать рублей за хорошие доски платят.
— Денег у меня нет, — сказал я.
— А что есть?
Я стал вспоминать: компас есть, цепь от велосипеда, шарикоподшипник…
— Цепь не надо, — сказал Левка. — А подшипник и компас принеси. Посмотрю.
Пришлось сходить домой. Жалко было шарикоподшипника. Новый, блестящий. Я был уверен, что Левка выберет его. Так и получилось. Левка покрутил подшипник, поморщился и положил его в карман. Потом осмотрел компас, опять поморщился.
— Мало за такую доску, — вздохнул он и стал поглаживать доску рукой. — Сухая, выдержанная! Эх, досочка!
— Ты что же, — испугался я, — и подшипник и компас берешь?
— Факт. Зато какую доску даю! — Левка постучал по ней согнутым пальцем. — Слышишь, колокол! Березка первый сорт!
Я пожалел, что связался с Левкой. Но делать было нечего — взял доску.
У отца в ящике с инструментом я отыскал рубанок, пилу, потом расчертил доску по мерке и принялся за работу. Прежде всего отпилил лишнюю часть доски. Затем взялся за рубанок. Стесывать пришлось много. Через пять минут я вспотел. Но чтобы отдохнуть — не хотел и думать. Стружки белые, курчавые, все лезут и лезут из рубанка. Красота! Глаз не оторвешь! Я засучил рукава, расстегнул ворот. Хорошо! Целый бы день так строгал. Не надоело бы! И точно: часа полтора работал и хоть бы сколько-нибудь надоело — ни чуточки! Но больше строгать было нельзя. И ширина и толщина — все тютелька в тютельку. Потом ровненько, как на листке было нарисовано, закруглил угол. Я долго еще возился с крышкой. Вырезал места для петель, буравил дырочки, шлифовал шкуркой. Начало темнеть, когда закончил работу. Крышка получилась на славу, совсем как настоящая. Оставалось только покрасить. Краски у нас не было, и я опять отправился к Левкиному отцу. Он был не такой хитрый и жадный, как Левка. Дядя Сергей налил в пузырек краски, сказал, как мазать, сушить.
Я, конечно, здорово перепачкался. Но выкрасил ровно, без пятен. Краска блестела, будто стекло.
Пришел отец. Убрать я еще не успел. В комнате стружек полно, краской пахнет. Но отец не заругался. Он почти никогда не ругает меня. Только спросил, что за вещь мастерю. Я сказал, что крышку для парты. Отец больше и спрашивать ничего не стал.
Я подмел стружки, сложил инструмент и пошел помогать отцу чистить картошку.
К утру краска хорошо высохла. Нисколько не прилипала. Я взял отвертку, спрятал крышку под пальто и отправился в школу. Так рано я никогда не ходил в школу. В раздевалке еще никого не было. Я быстро, чтобы не увидел кто-нибудь, поднялся на второй этаж, зашел в свой класс и запер дверь стулом.
Отвернуть шесть винтов оказалось делом нелегким. От волнения руки вспотели, отвертка срывалась. Наконец все-таки отвернул. Подошел к двери, прислушался. Никого не слышно. Не теряя времени, приложил свою крышку. Да, не ошибся — петли как раз пришлись на свои места. Дырочки немного косят, но ничего — закручу.
Вот один винт зашел, второй, третий. Работа уже подходила к концу, когда я услышал, что по коридору кто-то идет. Я замер. А если это кто-нибудь из нашего класса? Что тогда?.. Я не дышал от волнения. Ближе, ближе… Нет, прошли мимо. Руки у меня дрожали. Вставил винт, нажал отверткой, и вдруг что-то резануло по пальцу. Боли даже не почувствовал, хотя отвертка рассадила мясо чуть ли не до самого ногтя. Я крепко замотал палец платком, торопливо закрутил последние два винта. Все. Крышка на месте. Я затер ботинком капли крови на полу, схватил отвинченную крышку и стал искать, куда ее спрятать. Подходящего места не было. Тогда положил ее под пальто, вынул из дверной ручки стул и вышел в коридор. Огляделся. Никого. Я выбежал на улицу. Зайдя за угол, быстро сунул крышку в решетку подвального окна, куда летом ссыпают уголь.
Сразу сделалось легко и приятно. Получше перевязал палец и снова пошел в школу. Сдал пальто на вешалку. Минут десять погулял по первому этажу и только после этого не спеша отправился в свой класс. Там было уже человек пятнадцать. Одни листали учебники, другие стояли у окна и разговаривали. Томка и Света, как обычно, проверяли чистоту. Подошли ко мне. Уши посмотрели, шею. Но придраться было не к чему.
Зашло еще несколько человек. А новую крышку на Любиной парте никто не замечал. Мне это казалось удивительным. Ведь издали видно, что крышка новая. Просто, наверно, никому в голову не приходило как следует посмотреть на Любину парту. Интересно, сама она заметит или нет?
Скоро в дверях показалась Люба. Она подошла к своей парте, подняла крышку и… положила портфель. На крышку никакого внимания. Побежала с девчонками здороваться. И со мной поздоровалась. Но мне все равно было не по себе: вот, думаю, старался, старался и, выходит, напрасно. Что старая крышка, что новая — никому нет дела.
Но я ошибся. На первой же переменке о новой крышке заговорил весь класс. Сама Люба заметила новую крышку или Оля Сорокина, ее соседка, — не знаю. Только когда кончился урок, вижу я, рассматривают они крышку, поднимают ее, опускают. И обе пожимают плечами. Потом других девочек позвали.
— Парта наша. А крышка другая, — объясняла Оля Сорокина.
— Кто же это заменил?
— Сами гадаем.
И я подошел, тоже будто поглазеть — по какой такой причине народ собрался.
Все по-разному говорили:
— Это, наверно, школьный столяр сделал…
— Ага, так тебе из-за той надписи и будут менять!
— Кто же тогда?..
— Да-а, загадка египетской пирамиды.
— А может, кто вырезал, тот и сменил?..
— Это со второй смены ребята сделали…
Мне, признаться, очень хотелось сказать, что это я сделал такую замечательную крышку, что сам и привинтил ее, но я, конечно, промолчал, не подал и виду.
Целую переменку толковали о новой крышке, да так ни до чего и не договорились.
Я уже думал, что на этом дело и кончилось, и никто никогда не узнает правды о крышке. Но вышло иначе.
В тот же день меня в раздевалке окликнула Люба:
— Костя, обожди, вместе пойдем.
Я насторожился: чего ей нужно от меня? Неужели о крышке узнала? Хотя как она может узнать?
Люба заговорила о всяких пустяках — что интересное кино смотрела, на каток ходила, что скоро — Новый год. Я успокоился.
— Костя, — сказала Люба, — у нас дома будет елка. Я девочек приглашаю. Знаешь, я хочу, чтобы ты тоже пришел. Придешь?
Мне было так приятно это услышать, но, честное слово, я не знал, что ответить. Как-то неудобно.
— Приходи.
Я наконец решился и сказал, что приду.
Потом Люба помолчала, как-то странно посмотрела на меня и вдруг спросила:
— Ты крышку к парте утром заменил?
У меня портфель выпал из рук.
— Я все знаю, — проговорила Люба. — Под партой кровь была, а у тебя палец платком перевязан… Это же ты привинтил, правда, ты?
Что мне оставалось делать? Я кивнул.
— Вот видишь. И что те слова ты вырезал на парте, я тоже знала.
— Откуда ты узнала?
— Догадывалась. По тебе видела.
— Что же ты тогда приходила ко мне домой? — спросил я.
— Ну и что же.
— И на Новый год приглашаешь?..
— Ну и что же. Ведь ты понял, что я не такая, как ты написал. Правда же?
— Ну, допустим.
— А это самое главное. Так придешь на Новый год?
— Нет, ты в самом деле не смеешься?
— Глупый ты. Конечно, не смеюсь. Обязательно приходи… А палец сильно поранил?
— Чепуха.
— Все равно перевяжи чистым бинтом. И смотри, водой не промывай. Смажь йодом…
Мы расстались на углу улицы. Она прошла несколько шагов, затем обернулась и чуть-чуть помахала мне рукой.
Мороженое на двоих (рассказ)
Я тоже называл ее «жабой». Но это не потому, что у Томки был широкий рот, а так, за компанию, — ребята кричат: «Жаба! Жаба!», ну и я вслед за ними. Больше всех ее донимал Пашка. Ох, и тип он! Хвастун, мучитель, жадюга. Во время войны вот такие, наверно, в полицаи нанимались.
Сейчас мы с Пашкой лютые враги. А раньше врагами не были. Просто я не любил его. И боялся. Пашка ростом выше меня и года на полтора старше. А тех, кто был слабее его, он всегда притеснял и держал в страхе. Чуть что — уже кулаком под носом размахивает: «Схлопочешь по шее!»
Врагами мы стали из-за Томки. Раньше я к ней как относился? Сам не знаю. Никак. Ну, бегает девчонка во дворе. Большеротая, длинноногая. Косички с ленточками болтаются. Правда, бегала она здорово. Это мне нравилось. Когда в салки играли, то запятнать ее нелегко. Не то что, например, Жанну. Ту в два счета можно догнать. Совсем не умеет бегать. А может, боится свои банты растерять. Они у нее всегда такие наглаженные, красивые. И сама она ничего, красивая. Волосы вьются, а глаза, как нарисованные, — большущие, с загнутыми ресницами. Один раз она мне даже приснилась. Я тогда решил, что влюбился, и начал сочинять стихи (ведь в книгах все влюбленные сочиняют стихи). Но стихи у меня почему-то не получились. «Ну и ладно!» — подумал я. И все же мне было грустно: такая красивая девочка, а я не могу влюбиться.
А потом случилась та история с Томкой, Пашкой и воробьем, после которой Жанна у меня как-то совсем выскочила из головы.
Однажды Пашка появился во дворе с новой рогаткой. Стрельнуть Пашка никому не дал, только разрешил потрогать желтую резину.
— На целый километр бьет! — Пашка гордо выпятил губы.
Камешки и в самом деле залетали так высоко, что пропадали из виду.
— Теперь всех воробьев постреляю! — похвастал Пашка и стал смотреть на высокий тополь, что рос в углу нашего двора. — Во, как раз туда полетели. — Он погремел в кармане камешками и кошачьей походкой направился к тополю.
Воробьи сидели на самой верхушке, разглядеть их среди листьев было трудно, и я уже подумал: Пашке и до вечера не подстрелить воробья. Но я ошибся. Стая вдруг испуганно снялась с дерева, и тут же один из серых комочков начал круто снижаться к земле.
Пашка издал торжествующий вопль и кинулся к падавшей птице. И мы побежали туда.
— Во, какой я снайпер! Видали! — Пашка схватил подстреленного воробья. — Крыло перебил и ногу!
Действительно, перебитая лапка беспомощно висела, а на сгибе крыла виднелась кровь. Мне было жалко воробья. Вон как больно ему — клювик раскрывает. И другие ребята молча смотрели на подбитую птицу.
— Как же он теперь с одной лапкой? — чуть не плача, спросил первоклашка — Алик.
— Пожалел! Это же вредитель! Соображать надо!
— Все равно жалко.
— Сосунок! — Пашка фыркнул. — Вот как надо с ними. — Он положил воробья на кирпич и отступил на несколько шагов.
Мы еще не поняли, что Пашка собирается делать, он еще не успел натянуть резину и прицелиться, как вдруг откуда-то сбоку на него налетела Томка. Она выхватила у Пашки рогатку и так рванула новенькую резину, что только треск раздался. Пашка обалдело разинул рот. А когда бросился к Томке — было поздно. Она уже неслась к своему подъезду.
Через полчаса Томка смело вышла во двор и сама подошла к Пашке.
— Вот, получай! — Она с презреньем бросила к его ногам остатки недавнего грозного оружия. — Палач! А меня не вздумай тронуть — пойду в милицию и отцу твоему расскажу!
И Пашка не осмелился ее стукнуть. Лишь задохнулся от злости.
— У, жаба проклятая! Обожди у меня, жаба!..
Она больше не удостоила его взглядом. Увидела у меня в руках подбитого воробья и забыла о Пашке.
— Он еще живой? Дай посмотрю…
Она держала раненую птицу на ладони возле самого своего лица. Я видел, как побелела ее губа. На секунду мне подумалось, что она совсем откусит губу.
В ту ночь мне приснилась Томка. Быстрая, смуглая, в коротком платьице, она носилась по двору, а я бегал за ней и никак не мог догнать. Она дразнила меня, смеялась, успевала лизнуть мороженое и снова ловко увертывалась. Потом откуда-то взялся Пашка с палкой в руке. Он побежал Томке наперерез. Я испугался, закричал и от этого проснулся.
«Вот чудеса какие! — удивился я. — Сначала Жанна снилась, теперь — Томка». Из-за плотной гардины пробивались солнечные лучики, и в комнате было светло от них. «Еще недоставало опять стихи сочинять!» И только я себе это сказал — на ум пришло такое двустишье:
Живет в нашем доме веселая Томка Поет и смеется заливисто, звонко.«А ничего!» — похвалил я себя. И неожиданно сложил новые строчки:
Как ветер, несется она по двору. Какая ты, Томка? Никак не пойму.Во, ребус! Прошлый раз сколько ни грыз карандаш — ничего не мог сочинить о Жанне. А тут одна минута — и готово!
Последняя строка только что родившегося поэтического шедевра заставила меня задуматься. В самом деле, какая она, эта Томка? И во время завтрака она не выходила у меня из головы.
Я увидел Томку во дворе — играла с девочками в классы. Мне сразу вспомнился сон. Все в точности: и смеется так же, и мороженое облизывает языком. Я хотел было по обыкновению пробежать мимо девчонок и вроде бы случайно зафутболить их жестяную коробку, но в последнюю секунду не сделал этого — застеснялся, что ли. Шагнув к Томке, я не очень уверенно и каким-то не своим голосом спросил:
— Как там воробей? Живет?
— Пока живет, — вздохнула Томка. — Крыло мазью Вишневского помазала, а на лапку шину наложила.
— Думаешь, срастется?
— Не знаю…
Я бы еще остался поговорить с ней, но меня словно в спину кто-то толкал. Покраснев, я отошел, и долго потом думал — что это со мной происходит?
Три дня вот так мучился я. Целые две страницы исписал стихами. Когда был дома — то и дело высовывался из окна: что делает Томка? И во дворе глаз с нее не спускал. А как-то вышел на улицу, купил сливочный пломбир, и тут же вспомнил: Томка больше всего на свете любит мороженое. Я вернулся во двор и, не развертывая холодного кирпичика, с полчаса стоял у кустов акации. Я бы с радостью отдал мороженое Томке. Но как это сделать? Если бы она была одна. А то опять там куча девчонок. Мороженое совсем размякло в руке. Я поплелся домой и отдал его братишке. А сам вновь принялся за стихи.
Творческие муки мои вскоре нарушили голоса, доносившиеся со двора. Там девчонки и мальчишки играли в салки. Махнув рукой на поэзию, я выскочил за дверь и кубарем скатился с лестницы. Довольно киснуть! Я тоже хочу играть!
Чего-чего, а бегать я мастер! Любого догоню. Даже Томку. За ней я и помчался. Конечно, легче было бы осалить Жанну. Вот она, в каком-то шаге от меня. Но я пролетаю мимо. Догнать Томку, именно ее, — вот моя цель! До чего же она увертливая! Кажется, настиг уже, вот-вот достану рукой, а она вдруг вильнет вправо, влево — и опять на три-четыре метра я сзади. Нет, сейчас не проведешь! И скамейка тебе не поможет. Томка несется к скамейке, где сидит Пашка и что-то выжигает увеличительным стеклом. Казалось, Пашка занят своим делом и ни на кого не обращает внимания. Но недаром же он хитрюга и вредитель! Едва Томка поравнялась с ним, он чуть выставил ногу, и девчонка со всего размаху полетела на землю. Кровь бросилась мне в лицо. Я подскочил к Пашке.
— Ты за что ее?! — в бешенстве заорал я.
— Не твое дело! Не суйся! Девчачий защитник!
Я изо всей силы толкнул Пашку в грудь.
Это была жестокая драка. По всем статьям я не должен был бы продержаться и одной минуты. Но во мне кипела такая ярость, что я не сдавался. Только и Пашка психанул не на шутку — какой-то малец одолевает его! Изловчившись, Пашка сильно ударил меня в лицо. И тут же кругом испуганно закричали: «Кровь! Кровь!» А кто-то предостерегающе завопил: «Атас, дворник!»
Пашка тотчас юркнул в сторону.
Только тут я почувствовал боль и увидел на своей рубахе красные пятна. Нос у меня был разбит…
Дома я лег на кушетку и все время, пока не остановилось кровотечение, мужественно молчал. Я был доволен собой. Даже распухший, будто картошка, нос, лиловый синяк под глазом и запачканная рубаха мне были нипочем. Я дрался с самим Пашкой, который выше, сильнее и старше меня! И не поддался. Нисколечко!
«Теперь Томка узнает, какой я человек! Поймет, что на меня можно положиться!» — с гордостью думал я.
Хотя мама, отругавшая меня вечером, и запретила в таком виде выходить на улицу, я все же не утерпел и на другой день решил показаться во дворе. Мне очень хотелось взглянуть, какими благодарными глазами будет смотреть на меня Томка. Еще бы! Человек ради нее пролил кровь!
Но получилось невероятное. Томка не замечала меня. Я нарочно три раза прошелся недалеко от девчонок, прыгавших через веревку, и никакого внимания. Скользнула по мне равнодушным взглядом и отвернулась. Другие девчонки с уважением смотрели на мой синяк, красивая Жанна даже улыбнулась мне, а Томка хоть бы хны. Можно было подумать, будто мальчишки каждый день проливают из-за нее кровь и получают синяки.
Я оскорбился. Взбежав к себе домой на четвертый этаж, я мрачно уставился в потолок и, конечно же, принялся за стихи.
Как жестоко в тебе я ошибся! Сколько подлости в сердце твоем! Но поверь — суд правдивый свершится: Ты слезами зальешься потом.Сначала я хотел тут же запечатать стихи в конверт и передать их Томке. Но когда немного остыл, мне стало как-то не по себе от этих жестоких строк. Насчет подлости — это я, наверно, хватил лишку. И какой еще суд? Нет, не годится. Я разорвал листок.
Все же обида не утихала во мне. Я понял, что должен отомстить Томке. Обязательно! Такого не прощают. Но как отомстить? И день, и другой я ломал над этим голову. Однако ничего стоящего придумать не смог. «Ладно, — наконец решил я. — Забуду про нее. Навсегда. Лучше снова влюблюсь в Жанну. А почему бы и нет? Такая красивая. Разве сравнить с этой жабой!»
Не откладывая дела в долгий ящик, я вытащил из альбома открытку с видом на море и спустился во двор. Девчонки, как обычно, крутили свою веревку. Я минуту постоял в отдалении, наблюдая, как прыгает Томка. Косицы ее с красными ленточками трепыхались по сторонам. Может, и смешно было смотреть, как они трепыхаются, а мне вдруг сделалось грустно. Наверное оттого, что я решил навсегда забыть о Томке. Но хватит! Решено так решено! Где там Жанна? Ага, вон стоит, в очереди. Я крикнул:
— Жанна! Можешь подойти на минутку?
Я не ожидал, что Жанна так сразу отзовется на мою просьбу. А она тотчас выбежала из очереди и поспешила ко мне. Видно, после той знаменитой драки популярность моя даже среди девчонок намного возросла.
— Здравствуй! — улыбнулась Жанна. — Ты мне что-то хотел сказать?
Я достал из кармана открытку.
— У меня две таких. Может, поменяемся? Ты же собираешь открытки. Я тоже хочу собирать.
— Правда? — Жанна обрадовалась. — Вот хорошо! Эту открытку оставь себе. Такая у меня есть. Но я тебе могу с удовольствием подарить несколько штук…
Разговор у нас затянулся. Стали вспоминать последние кинофильмы. Потом Жанна рассказывала, как в Прибалтику ездила. Мы и по двору ходили, и на скамейке рядом сидели. Время от времени я украдкой посматривал на девчонок. И почему-то обязательно старался отыскать глазами Томку. Один раз заметил, что и она смотрит в нашу сторону. Правда, сразу же отвернулась. Это показалось мне подозрительным. «А-а, злишься! — мстительно подумал я. — Ну, обожди, сейчас еще не такое устрою, задавака!» Я поднялся с лавочки и тронул Жанну за руку:
— Давай походим?
Когда мы, прогуливаясь, не спеша проходили мимо девчонок, я нарочно принялся громко смеяться, чтобы Томка слышала. А через минуту оглянулся — Томки среди девочек не было. Я посмотрел в другую сторону и сразу увидел ее. Она торопливо направлялась в дальний угол двора, где росли кусты акации. Она шла как-то странно, чуть отвернув голову набок, словно у нее болела шея. Но это только так казалось: при чем тут шея, если минуту назад, как заведенная, прыгала через скакалку! Однако что же тогда с ней?
Жанна о чем-то спрашивала меня, но я никак не мог понять, что ей нужно. Вот бывает такое: все слышишь, что тебе говорят, а до сознания не доходит. Будто отскакивают слова.
— Так ты никогда не был на море?.. Да? Не был?..
Я наконец разобрал, о чем она спрашивает. Что-то ответил ей, а сам все размышлял: «Почему она так быстро шла? Что ей там надо? Бросила своих девчонок…»
Мы еще о чем-то говорили. Я отвечал невпопад. А потом не выдержал и оборвал Жанну на полуслове:
— Ты иди к девочкам… А мне нужно… Ну, понимаешь, нужно…
Жанна, наверное, оскорбилась. Еще бы! Только что так увлеченно разговаривали о всяких интересных вещах, и вдруг у меня какие-то дела. Даже не дослушал. Конечно, она должна была оскорбиться. Но я этого уже не видел. Я шел к тополю, где пять минут тому назад за поникшими от жары кустами акации скрылась Томка.
Чем ближе я подходил, тем нерешительнее делались шаги. Вот куст, другой… Неожиданно я услышал всхлипывание. Или показалось?.. Под ногой треснула веточка. Я вздрогнул. А когда поднял голову — на меня испуганно и сердито смотрели заплаканные Томкины глаза.
— Чего пришел? — сердито поджав губы, спросила она.
— Так… — Я оробел и совсем не знал, что ответить.
— Уходи отсюда!
Я молчал, не трогаясь с места.
— Кому сказала — уходи! Слышишь? Видеть тебя не хочу.
— Не уйду, — тихо и обреченно произнес я и виновато-виновато посмотрел на нее.
Она совсем как маленькая шмыгнула носом и обиженно сказала:
— Иди, гуляй. Пожалуйста! Смейся себе на здоровье! Сколько угодно.
Мне сразу стало легко. Я нащупал в кармане монету и улыбнулся.
— Том! У меня пятнадцать копеек есть. Идем, купим на двоих мороженое?
— Очень мне нужно твое мороженое! Подлиза несчастный!
— Нет, правда, идем? На сливочное хватит. Ты же любишь. Я знаю.
Она быстро и пытливо взглянула на меня. И тоже улыбнулась, чуть-чуть. Посмотрела и улыбнулась. Хорошо — так, не сердито.
— А синяк у тебя еще не прошел. Вон, под глазом, до сих пор немножечко видно. Сильно, наверно, болело, да?
Я небрежно сказал:
— Пустяки!
Томка, может быть, и не поверила мне, но спорить не стала.
— А знаешь, — оживилась она, — воробей у меня живет. Поправляется. Скоро летать будет. Только вот с ножкой плохо. Если не срастется, то буду держать у себя. Ведь пропадет, если выпустить его такого на улицу. Правда?
— Конечно, — согласился я. — С одной ногой не напрыгаешься. Сразу кошка сцапает… Ну, так идем, купим на двоих мороженое?
Томка кивнула.
— Идем.
Домой на воскресенье (рассказ)
Ботинки ребятам пришлось чистить второй раз. Растирая суконкой гладкий и блестящий, как бутылочное стекло, носок ботинка, Костя с обидой подумал: «Придирается! Никого не вспомнила, а меня — пожалуйста: «Ты, Чуриков, не жалей ваксы — и обувь будет целей и вид приличней». Только одного меня почему-то вспомнила. Будто другие очень уж хорошо почистили! И что толку чистить? Бесполезное дело: на дворе дождь, грязь, лужи. Не успеем из школы выйти, как испачкаются…
Когда ребята снова вошли в спальню, Екатерина Михайловна удовлетворенно сказала:
— Теперь совсем другой вид. — И улыбнулась: — Даже у Чурикова блестят.
Улыбка у воспитательницы была хорошая — добрая и спокойная, но Костя и на этот раз обиделся: «Опять меня склоняет. Всегда так».
— Ребята, — сказала Екатерина Михайловна, — вы покидаете школу почти на два дня. Я вас очень прошу: хорошо ведите себя, достойно, культурно. И обязательно помните о том, что ваши родители, друзья и знакомые в каждом из вас видят не только пионера и школьника, но прежде всего — воспитанника интерната. Дорожите этим почетным званием.
И тут Екатерина Михайловна опять взглянула на Костю.
— Особо обращаюсь к тебе, Чуриков. Впрочем, — печально вздохнула она, — мало верится, что ты прислушаешься к моему совету. Честью интернатовца ты, как видно, еще не научился дорожить.
Она еще что-то хотела сказать в назидание Косте, но, увидев его покрасневшее лицо, поспешила добавить:
— Не буду вас задерживать, ребята. Всего хорошего. До понедельника.
Напрасно Костя ворчал: ни к чему, мол, чистить ботинки — все равно испачкаются. Дождь как-то неожиданно прекратился, и даже солнышко выкатилось из-за косматых угрюмых туч. Да и не в дождике дело. Совсем не в дождике. Теперь от самых дверей школы до выхода на улицу можно было добраться без всяких осложнений. Это раньше, три дня назад, нелегко было добраться. А сейчас очень легко и просто. Потому что через весь школьный двор проложена дорожка. Прямая, аккуратная. Она насыпана из песка, сверху покрыта шлаком, а по бокам обложена кирпичами. Чудесная дорожка! Теперь в любой дождь по ней можно пройти, не замочив ног, до ворот школы, а там — улица, асфальтовый тротуар.
Из-за этой дорожки у Кости были неприятности. Сначала он работал вместе со всеми — носил песок, уминал деревянной трамбовкой шлак, а потом ему надоело, и он сказал Тоньке Грачевой — их бригадирше, что идет попить воды, хотя пить ему нисколечко не хотелось. В коридоре спального корпуса Костя увидел Леньку Зотова из пятого класса, которого знал еще до интерната, потому что жил с ним на одной улице. Ленька сидел на подоконнике и рисовал какой-то голубой шар.
— Что малюешь? — спросил Костя.
— Космическую мишень! — важно ответил Ленька. — Это Венера. Сейчас буду ракету на нее запускать.
Костя собирался было посмеяться над выдумкой пятиклашки, но ему вдруг и самому захотелось поиграть в космонавтов. Конечно, это интереснее, чем бухать трамбовкой.
— Пошли под лестницу, чтобы не мешали, — предложил Костя.
Там они укрепили на стенке мишень, сделали из ученических перышек ракеты с бумажными стабилизаторами и принялись пулять их в голубую Венеру.
Вроде и бросали недолго — Костя всего два раза попал в цель, как вдруг послышался голос Тоньки:
— А-а, вот где ты целый час пропадаешь! Все работают, а ты развлекаешься! Будет сказано! Будет!
Костя растерялся и чтобы скрыть это, сердито погрозил:
— Попробуй! Заработаешь по шее!
Тонька не побоялась заработать по шее и рассказала о нем воспитательнице. В тот же вечер Костя решил проучить Тоньку. Ох, лучше бы ему этого не делать! И ударить-то ее как следует не ударил, только так, чуть толкнул, а крику и шуму было — не хочется и вспоминать. Даже на общешкольной линейке не забыли его.
Вот какая неприятность вышла из-за этой дорожки. Знал бы наперед, так и спины бы не разгибал — все работал бы и работал. Да и не обидно было бы — замечательная получилась дорожка. Пожалуй, еще лучше асфальта: вода на ней не задерживается, словно в губку впитывается. С самого утра сегодня шпарил дождь, кругом слякоть и лужи, а дорожка сухая. До самых ворот дошли ребята, а ботинки нисколько не выпачкались — как новенькие блестят.
К остановке трамвай подошел почти пустой, а когда снова тронулся в путь, то в вагоне повернуться было негде — весь заполнили интернатовцы.
Костя без места, конечно, не остался. Он ухитрился первым вскочить на подножку и потому устроился лучше всех: у окошка, в середине вагона. Рядом сидел силач и добряк Митюха — друг Кости. Они и в классе сидели вместе, за одной партой. Несмотря на свою силу, Митюха наверняка остался бы без места, но Костя — на то и друг — позаботился о нем.
В вагоне ребята шумели, галдели. Отовсюду слышался смех. Хорошее было настроение у интернатовцев: радовались, что едут домой, что завтра воскресенье — день веселья, как поется в песенке из передачи «С добрым утром». Когда вагон сильно тряхнуло и все качнулись вперед, Митюха почувствовал, как в спину ему кто-то уперся острым локтем.
— Ого! — сказал Митюха басом. — Сила! Сто атмосфер давление.
— Ах, какие мы нежные! — послышался за спиной смех Тоньки Грачевой. — Ах, мы сейчас развалимся!
Черноглазая Тонька с откровенной насмешкой смотрела на плечистого Митюху, и от ее взгляда он, похоже было, смутился.
Костя с силой прижал его руку к скамейке: чего доброго Митюха вспомнит всякие там наставления воспитательницы насчет культуры и порядочности и вздумает уступить свое место этой горластой девчонке! Может быть, под насмешливым Тонькиным взглядом Митюхе в конце концов и пришла бы такая мысль в голову, но тут с противоположной скамейки поднялся Лева Тушин и, моргнув под стеклами очков близорукими глазами, неловко сказал:
— Садись, Тоня. Мне через три остановки все равно слезать.
От смущения и удовольствия насмешница Тонька порозовела и чуть жеманно сказала:
— Спасибо, Лева.
«Подумаешь, телячьи нежности, — поморщился Костя. — Спасибо! Глаза опустила. Можно подумать, что такая уж тихая девочка, паинька. А на самом деле вредная-превредная девчонка. Хуже воспитательницы… Эх, вообще жизнь. На линейке ругают, на совете отряда ругают, воспитательница без конца пилит и придирается. Тонька и та орет, командует. Думает, если у нее красивые глаза и выбрали в совет коллектива, то можно орать и приказывать. Отлупить бы ее опять, да как следует». Но Костя понимал, что отлупить Тоньку теперь уже не решится, и от этого ему еще больше стало жалко себя.
— Мить, а Мить, — подтолкнув приятеля в бок, тихо спросил Костя. — Тебе как, нравится в интернате?
— А чего, — отозвался Митюха, — ничего. Порядок. Кормят, сам видишь, — сила!
— Я не о кормежке. А вообще…
— И вообще порядок.
Костя махнул было рукой: что с ним разговаривать! Хоть на голову ему сядут — все равно будет говорить: порядок! Но уж очень Косте хотелось пожаловаться на свою горькую судьбу. И он не утерпел, вздохнул:
— А мне надоело. Ругают, придираются.
— Ну уж, придираются! — Митюха широко улыбнулся и подмигнул: — Будто сам не виноват!
— А я говорю — придираются! — упрямо сказал Костя. — Екатерина только и вспоминает: Чуриков да Чуриков!
Тонька, о чем-то говорившая с подружкой и, казалось, не обращавшая внимания на Митюху и Костю, вдруг обернулась к ним и, фыркнув, сказала:
— Ты странно, Чуриков, рассуждаешь! А кого Екатерине Михайловне еще вспоминать, как не тебя! Вставать вовремя не желаешь, на зарядку опаздываешь, дежурство несешь кое-как. Вот сегодня плохо заправил койку, опоздал на зарядку, а всему классу снижена оценка. А ведь еще и месяца в интернате не живешь. Если дальше так будет продолжаться, то знай, Чуриков, на совет коллектива вызовем.
— Да ладно, ладно, хватит! — скривив лицо, сказал Костя. — Я это все слышал. Сто раз слышал. И вообще, хоть сегодня оставьте меня в покое. — Он отвернулся и, глядя в окно, не проронил больше ни слова.
От трамвая домой Костя шел с Ленькой Зотовым. Ленька, видно, только что прочел какую-то книжку об исследованиях морских глубин. Он что-то заливал о батискафах, глубоководных океанских впадинах. Костя слушал его в пол-уха и думал о том, что уж завтра-то он наконец выспится вволю. Не раньше десяти встанет. А захочет — даже и до одиннадцати проваляется. А кто ему что скажет? Никто не скажет. Потому что воскресенье, и он дома, и никакая воспитательница не будет стоять над ним. Хорошо! И весь день ничего не будет делать. Только лежать, гулять, с ребятами шататься. Или пойдет и сразу три фильма посмотрит. Красота!
А у самого своего дома Костя уже окончательно забыл об интернатовских волнениях и неприятностях. Он завернул за угол и вошел во двор — еще мокрый и грязный от недавнего дождя, с холодными, блестевшими пятнами луж. И недалеко от парадного, как и всегда после непогоды, разлилась большущая лужа. Широкая и длинная, она морщилась под налетавшими порывами ветра. Костя не стал обходить лужу стороной, не стал и перебираться по накиданным обломкам кирпичей. Разбежался — и одним махом перелетел через лужу. Это был великолепный трехметровый прыжок! Костя точно опустился на сухое место. Его начищенные ботинки по-прежнему блестели.
Он скрылся в дверях подъезда, легко взбежал на четвертый этаж и позвонил. Три раза нажал кнопку звонка. Три раза — это им, Чуриковым. А если по ошибке нажать два раза, тогда откроет кто-нибудь из Молчановых: или старенькая бабушка с высохшим, печальным лицом, или Виктория Львовна — мать Гарика, или даже сам Гарик.
Костя позвонил точно три раза, и все же дверь открыл Гарик. Объяснялось это просто: Гарик стоял в двух шагах от входной двери и разговаривал по телефону. Увидев Костю, он небрежно приподнял в приветствии руку и сказал в трубку:
— Я позвоню через двадцать минут. А ты думай, Кеша, думай! Еще древние греки утверждали, что голова для того дана человеку…
Для чего именно, по мнению древних греков, дана человеку голова, Костя так и не расслышал, потому что в этот момент к нему с радостными воплями подбежали Вовка, Галка и Аленка.
Сестрички и братишка вцепились в Костю и ни за что не хотели отпускать от себя. Ему пришлось выслушать кучу школьных и детсадовских новостей, потом он должен был обязательно махать Вовкиной деревянной саблей и прикрываться его картонным щитом, разрисованным разноцветными карандашами. Потом Галка заставила брата пересмотреть ее тетрадки и посчитать все до одной четверки и пятерочки. А пятилетняя Аленка без конца показывала кошку, которую она сама вылепила из пластилина. Когда Костя неосторожно сказал, что кошка похожа на кровать с подушками, Аленка чуть, не заплакала от обиды и стала требовать, чтобы он слепил, настоящую кошку — красивую, с хвостом и усами. Тут Костя не выдержал и сбежал от них на кухню.
Там сидел Гарик. Сидел довольно странным образом. Развалясь в плетеном соломенном кресле и положа ноги на стол, он надувал толстые щеки и с силой выплевывал виноградные косточки — старался попасть в помойное ведро, стоявшее в углу.
— Здорово, старик! — небрежно сказал Гарик и отщипнул от кисти винограда ягоду. — Как там интернатовская житуха?
Костя и Гарик уже не один год жили в общей коммунальной квартире, но друзьями так и не стали. Скорее даже немного враждовали между собой. На это были свои причины. И главное не в том, что Гарик был года на два старше, нет, просто Гарик вечно что-то строил из себя, важничал, задирал нос и пытался командовать. А Костя терпеть этого не мог. Вот и сейчас он хмуро взглянул на Гарика и не стал рассказывать об «интернатовской житухе». А вместо этого спросил:
— Чего развалился, как буржуй?
— Элементарно, — сказал Гарик и с шумом плюнул косточками в угол. — Видал? — оживился он. — Точное попадание! А сижу элементарно, — повторил он. — Удобно и полезно для здоровья. Вся Америка так сидит. Еще древние греки утверждали, что это улучшает кровообращение.
— Откуда ты знаешь? — недоверчиво спросил Костя.
— Не помню, старик. Читал где-то… Так как, говоришь, житуха-то в интернате? Невеселая? Воспитывают, конечно, внушают, разъясняют, на всяких там собраниях и линейках пропесочивают? А?
Как раз подходящий момент пожаловаться на свою судьбу. Уж Гарик-то понял бы его! А Костя помолчал, похмурился и уклончиво ответил:
— Все бывает.
— Брось, старик, скромничать! Представляю, как зажали вас там. Тюрьма! Мои предки по случаю субботы уборку затеяли — и то приходится терпеть неудобства. Видишь, на кухне торчу. А вас, наверно, и убирать самих заставляют.
— А ты думал, на каждого по няньке! — невесело усмехнулся Костя.
— Да, старик, — снова выплюнув косточки, посочувствовал Гарик. — Житуха твоя невеселая. И встаете, наверно, по звоночку?
— В горн трубят.
— Чудовищно! И когда же поднимают?
— В семь ноль-ноль.
— Идиотизм! В век космоса, атома и кибернетики такое насилие над личностью. Чудовищно!
В передней зазвонил телефон, и Гарик поспешил туда.
— Придумал, говоришь? — донесся его довольный голос. — А ну, выкладывай…
Костя посмотрел на оставленную кисть винограда и подумал: «Сам жрет, а угостить не догадается!»
— Нет, старик, — снова послышалось из передней, — такая причина не годится. Эта отговорка с длинной бородой. Теперь даже дети этому не верят. Что-нибудь другое надо придумать, посвежей… Не можешь? Старик, я удивляюсь! Неужели последние извилины твоего мозга заросли? Скажи, например, что приехал дядя из Индии… Нет никакого дяди?.. Плохо… Ну, тогда сочини историю — как машина сбила на дороге женщину и ты в качестве свидетеля должен был идти в милицию… Что? И этого не сможешь рассказать? Ну, тогда дело твое кислое, Кеша. С твоим полетом фантазии, я вижу, придется тебе с нашими классными энтузиастами вкалывать на воскреснике. А жаль! Ведь завтра Лидочка как раз выходит на работу. Ты представляешь — коктейль с коньячком? Кеша, это колоссально! Но я верю, старик: ты еще что-нибудь придумаешь. Верно? И мы пойдем! Монету обязательно приготовь. Побольше… А я что скажу? За меня не волнуйся. Я применю свой старый, испытанный метод: целый день буду ухаживать за бедной больной мамочкой. Буду поить ее лекарством, ставить грелки и банки, побегу за врачом. Как видишь, элементарно, но действует безотказно. К тому же — записка, вещественное доказательство. Так что у меня все о’кей! А ты думай, Кеша, думай. Еще древние греки утверждали, что голова человеку дана в первую очередь для того, чтобы мыслить.
«Ловко закручивает!», — с насмешкой подумал Костя.
А Гарик тем временем толкнул ногой дверь и сказал:
— Маман! Ты завтра должна будешь заболеть! Да, да, и, пожалуйста, без возражений! Неужели тебе хочется, чтобы твой единственный, бледный, с таким слабеньким здоровьем сын, таскал какие-то пудовые, ржавые железяки и рвал об них одежду?
— Хорошо, хорошо, Гарик, — стоя на коленях и намазывая паркет желтой пастой, сказала Виктория Львовна. — Я напишу записку.
— А скоро вы кончите возиться? — спросил Гарик.
— Скоро, сынок. Потерпи еще немного.
— Ну, давайте! Минут десять обожду. — Гарик захлопнул дверь и, пройдя в кухню, внимательно посмотрел на Костю — на его блестевшие ботинки, отглаженные, со складочкой, брюки. — Старик, — сказал он, — если желаешь, могу взять тебя в компанию. Не пожалеешь. Возле кинотеатра «Заря» новое кафе открыли. Не видел?
— Нет.
— Колоссально! Модерн! Заходишь — все синее. Звезды. Парочки нарисованы, на коньках катаются. Снежок блестит. Так и кафе называется — «Снежок». Мороженое — какое желаешь! Десять сортов. И коктейли. Колоссально! С коньячком! Вообще-то нам не дают. Говорят: нет паспорта. Но там работает одна — Лидочка. Чудо! Глаза, волосы — блеск! Подмигнешь, и все. Только десять копеек переплачиваешь. Коктейль с коньячком. Колоссально!.. Можем взять в компанию. Если, конечно, белая монета имеется…
Тут снова зазвонил телефон, и Гарик бросился в переднюю. Через минуту он завопил:
— Старик! Ты — гений! Это именно то, что надо! Видишь, если как следует шевельнуть извилиной, то обязательно придумаешь. Еще древние греки авторитетно утверждали…
Косте до того вдруг тошно стало слышать визгливый, захлебывающийся голос Гарика, что он пнул ногой валявшуюся на полу виноградину и ушел к себе в комнату.
До прихода отца с работы Костя решил погулять во дворе.
Ничто, казалось, не изменилось здесь. Как и прежде, когда Костя еще не жил в интернате, ребята собирались под вечер большой компанией — играли в ножички, рассказывали всевозможные истории. Если бы во дворе не было грязно, кто-нибудь вынес бы волейбольный мяч. Но сегодня в мяч играть было нельзя; ребята столпились у турника.
Обычная знакомая картина. И все же Костя сейчас смотрел на это какими-то другими, новыми глазами. Словно глазами постороннего человека. После разговора с Гариком уже не хотелось ругать интернат и жаловаться на свою судьбу. А при виде расшатанного, прогнутого посредине турника ему вспомнился турник, установленный на спортивной площадке в интернате. Замечательный турник — прямой, гладкий, на упругих металлических растяжках! И ребята там есть такие, что любого из этих заткнут за пояс. Конечно! Разве здесь кто-нибудь подтянется двадцать раз? Никто. А там есть мастера. И склепочку и стойку делают. А один парень из девятого класса даже «солнце» крутит.
— Ну, а ты, Касьян, жимани! — подзадорил Костю шутник и весельчак Дима Губкин из шестнадцатой квартиры. — Покажи этим хлюпикам настоящую работу!
Показывать Косте особенно было нечего, но все же, ухватившись за перекладину, он по всем правилам, держа ноги стрункой и оттянув носки, подтянулся девять раз.
— Понятно?! — выпятив губы, комически тряхнул Дима головой. — Что значит интернат!
Польщенный такой оценкой, Костя небрежно повел плечом.
— Это что! У нас один парень солнце крутит…
— Эге! Заливай больше! — презрительно сморщился Васька-Брехун. Сам Васька врал на каждом шагу, поэтому и другим ни в чем не верил. — Если хочешь знать, — важно сказал он, — солнце только мастера спорта могут делать!
— Не веришь, так приходи к нам в интернат — посмотришь! — обиделся Костя. — Сам Григорий Алексеевич занимается с ним. Отдельно.
Васька фыркнул:
— Сам Григорий Алексеевич! Чемпион мира!
— Чемпион не чемпион, а третье место на республиканских соревнованиях по гимнастике занял! — с достоинством отпарировал Костя. — Наш физрук. Потапов фамилия. Не слышал? Мастер спорта, не как-нибудь!
Косте захотелось рассказать ребятам еще что-нибудь об интернате. Например, о мастерской, где стоят четыре токарных, строгальный и два фрезерных станка, но в эту минуту подбежала Светлана — сестра Димы. Она подбежала на секундочку — только взять у брата ключи. Пока Дима вытаскивал из кармана ключи, Костя смотрел на Светлану. И другие ребята смотрели на нее. Светлана была самой красивой девочкой во дворе. Это уже все ребята давно признали, и многие из них, глядя на ее большие, карие глаза и толстую косу, перекинутую через плечо, тайно вздыхали про себя.
«А у нашей Тоньки глаза даже красивей», — почему-то подумал Костя…
Вечером большая и шумная семья Чуриковых собралась за столом. Пили чай. Наверное потому, что домой на субботу и воскресенье пришел старший сын, на столе нарядно белела чистая накрахмаленная скатерть, в вазочках искрилось варенье сразу двух сортов — черничное и вишневое, а на круглом блюдце, дразня желтым кремом и шоколадными листочками, красовался торт.
Костя был в центре внимания. Румяный и веселый, он сидел рядом с матерью и рассказывал об интернате. И почему-то забылись неприятные разговоры с воспитательницей, выговор на линейке. Он вспоминал всякие забавные истории — как в спальню залетел воробей, как его друг Митюха поспорил с ребятами и весь урок просидел с яблоком во рту…
— Так, выходит, что тебе уже нравится в интернате? — спросил отец.
— Ничего, — ответил Костя. — Жить можно.
— Ну, а рано вставать? Ты прошлый раз жаловался.
Костя пожал плечами.
— Привыкаю. Вообще-то, вставать неохота. А зато как встанешь, умоешься да сделаешь зарядку — красота! Нам Григорий Алексеевич говорил, что зарядка — это основа основ. Если всегда делать зарядку, то здоровый будешь и никакие болезни не страшны. И проживешь долго. Может, до ста лет. А то и больше.
— А до двести можно? — спросила Галка.
— Кто его знает… — с сомнением сказал Костя и неожиданно подмигнул сестренке: — Давай попробуем?
— И я хочу! — пропищала Аленка.
Все весело рассмеялись, а Костя взял с буфета будильник, завел его и поставил беленькую стрелку на цифру «7».
— Подъем в семь ноль-ноль, — сказал он и посмотрел на Вовку и Галку. — Согласны?
— Подумаешь! — хмыкнул Вовка. — Пап, помнишь, мы на рыбалку в пять часов вставали?
— А ты? — спросил Костя сестренку.
— И двести лет проживу? — хитро улыбнулась она.
— Гарантирую! — щедро пообещал Костя.
— И я хочу! — снова запищала Аленка.
— Тогда слушайте и выполняйте! — распорядился Костя. — Сейчас — мыться и по кроватям! Предупреждаю: кто не захочет вставать — за уши буду тянуть!
Будильник затрещал ровно в семь. Не открывая глаз, Костя протянул руку и надавил кнопку — точно рот зажал будильнику. Стало тихо. Лишь слышалось сладкое посапывание ребятишек. Глаза упорно не хотели открываться. Костя чувствовал, что снова погружается в мягкую, приятную дрему… Минута, вторая… Засыпает… Засыпает? Костя испуганно открыл глаза. Вот бы здорово получилось! Наговорил, нахвастался, а сам бы уснул и провалялся неизвестно до какого времени! Костя взглянул на Вовкину кровать: уж не подсмеивается ли над ним братишка? Напрасные страхи — Вовка спал как убитый.
Костя сбросил с себя одеяло, подбежал к Вовке и затряс его.
— Эй, лежебока! Поднимайся!
На рыбалку Вовка готов был вскочить в любую рань, а вот делать зарядку и жить целых два века он почему-то не желал. Он мычал, стонал, зарывался лицом в подушку. Но Костя был неумолим.
Пока Костя воевал с братишкой, сестры уже встали.
Зарядка так зарядка! По всем правилам делать! Костя открыл форточку, проветрил комнату, а затем скомандовал:
— На зарядку — становись!
Когда отец заглянул к ним в комнату, то удивился и довольно прищелкнул языком:
— Ай да молодцы!
Он и во время завтрака все продолжал повторять:
— Вот молодцы-то! Аннушка, — обращаясь к жене, говорил он, — да посмотри, дети-то у нас какие! Великолепные же дети!
— Да, да, — счастливо улыбаясь, отвечала она.
От улыбок и похвал родителей Костину грудь распирала радость. А может, и оттого еще, что в окне голубело чистое небо. Этот воскресный свободный день обещал быть теплым, солнечным — замечательным днем!
После завтрака Костя собрал грязную посуду и сказал, обращаясь к Вовке и Галке:
— А теперь пошли мыть.
— Да зачем, Костенька? — пыталась остановить мама. — Я сама вымою посуду.
— Почему обязательно ты? Пусть привыкают к самообслуживанию.
— И я хочу! — сказала Аленка.
И опять все засмеялись: очень уж забавно у нее это получается.
— Ну обождите, хоть воды вам нагрею, — сдалась мама.
В интернате Косте уже дважды пришлось дежурить в столовой. Поэтому вымыть тарелки и чашки для него теперь не составляло никакого труда. Зато Вовку обучить этому оказалось делом нелегким. И чашку держит как-то неловко — того гляди кокнет, и мочалка в его руке слушается плохо. У маленькой Аленки и то лучше получалось.
В самый разгар работы дверь на кухню отворилась и на пороге показался Гарик. Лицо у него было заспанное, волосы торчали во все стороны. Он увидел Костю с тарелкой в руке, Вовку, который старательно мыл в тазу с водой вилки, и девочек — они вытирали полотенцем посуду. Гарик поморгал глазами, открыл рот и так с разинутым ртом стоял несколько секунд. Потом губы его растянулись в улыбке.
— Картина! Комбинат бытового обслуживания! А-га-га! Ну, старик, я вижу, ты даешь! Обломали тебя в интернате.
Костя положил тарелку на стол и, чуть побледнев, сказал:
— Ты куда идешь? Вон в то заведение? Так иди, иди. Посиди там.
Гарик зло сощурил глаза.
— А у тебя язычок! Старик, попридержи его. Очень советую.
— Хорошо, хорошо, — спокойно ответил Костя. — А ты иди, иди, пока не занято. Посиди. О древних греках что-нибудь вспомни.
Костя говорил спокойно. А в душе у него все кипело. Он долго потом ходил по комнате, брался за книжку и все время думал о Гарике. Ему хотелось поспорить с ним, поругаться. Он нарочно вышел на кухню и стал ждать — не покажется ли Гарик. Однако Гарик не показывался. Лишь через дверь Костя услышал его раздраженный голос: «Маман! А почему не почищены мои туфли?» Виктория Львовна что-то ответила, но Костя не расслышал.
Стоя у окна, он смотрел во двор. Там было красиво и нарядно. Солнце золотило редкие, оставшиеся на деревьях листья. А те, которые упали, тоже казались золотыми. Среди этого щедро разбросанного золота там и сям чистыми синими блюдцами светились лужи. Возле одной из них расхаживали два сытых голубя, пили воду.
Эта тихая мирная картина успокоила Костю, и он уже думал, что нечего ему поджидать Гарика. Зачем? Начихать на него — пусть себе живет, как хочет. Лучше пойти во двор. Вон и Дима уже вышел. В руке у него палка. Может быть, в чижика собрался играть? Сейчас сразимся!
Но едва Костя открыл дверь, как внизу, на лестнице, услышал громкий плач. Он по голосу узнал — Аленка. Что это с ней? Кто обидел?
Аленку никто не обижал. Она вошла в переднюю вся мокрая, перепачканная в грязи. Оказывается, хотела по кирпичикам перейти лужу, но поскользнулась и угодила в самую середину.
Это не Аленка рассказала, а другая девочка, которая видела, как она упала. Сама Аленка ничего не могла рассказывать — до того горько плакала. Слезы текли по ее щекам, она размазывала их кулаками, ревела во весь голос и тряслась от испуга и холода. С ее пальтишка струйками стекала вода, и Виктория Львовна, вышедшая на шум и плач, скорбно говорила:
— Бедное дитя! — И тут же озабоченно советовала Костиной матери: — Разденьте ее скорее, уведите. Я же только вчера вымыла пол. И такая уже грязь…
Аленку давно увели в комнату. Отец подтер тряпкой пол, и в передней опять стало чисто. Но Виктория Львовна, косясь на мокрый след, все продолжала ворчать. На сковородке у нее шумели и фыркали котлеты, и она, словно подражая им, тоже шумела и фыркала — что вот, мол, никто в квартире по-настоящему о чистоте не заботится, и если бы не она, то все бы давно заросло грязью…
Мать Гарика ворчала не себе под нос — нет, она говорила сердито, громко, — чтобы и бабушка, чистившая Гарику туфли, слышала ее, и соседские мальчики Костя и Вовка.
Костя выжимал над раковиной мокрое Аленкино пальто и, действительно, слышал все, что говорила Виктория Львовна. У него так и чесался язык возразить ей, даже поспорить.
И он возразил. Только позже. Когда Виктория Львовна, перемыв кости всем, кто жил в квартире, принялась за управдома:
— Его, бездельника, надо давно гнать в шею с работы! Бюрократ! Сколько раз говорили ему, чтобы засыпал лужу. Как об стену горох! И жалобы писали. Лично я два раза писала.
Вот тут Костя и не выдержал. Вспомнил, как они работали в интернате — насыпали дорожку, и сказал:
— А зачем обязательно писать? Надо собраться всем жильцам, взять лопаты и поработать часик.
Виктория Львовна даже не удостоила Костю взглядом. Сняла с плиты фырчащую сковородку и пошла к двери — кормить Гарика.
И тогда Костя, глядя ей вслед, решительно сказал:
— Вовка! Бери лопаты!..
Выйдя из подъезда, Костя внимательно осмотрел злополучную лужу, прикидывая в уме, — в каком месте лучше всего пересечь ее дорожкой. Пожалуй, где кирпичи набросаны, тут и перекрывать… Вообще, работки немало. Земли потаскать ой-ей-ей сколько надо! А где ее брать? Придется вон тот бугор раскапывать. Не близко — шагов двадцать… «Может, бросить эту затею, пока никто не увидел? — Костя огляделся кругом. — Что мне, больше всех надо?..»
— Ну, и что будем делать? — кисло спросил Вовка.
— Землю копать! Что, что! — отчего-то рассердился Костя и направился к бугру. Нет, раз уж вышел, придется делать. Да и Аленка опять может в воду свалиться. Такая дотошная! Везде лезет, все ей надо!
Земля была твердая. Он изо всей силы жал ногой на лопату, но та не поддавалась, не входила в утоптанный грунт. «Это только первую так трудно», — успокаивал себя Костя. И верно: второй раз лопата пошла легче. Костя ободрился и прикрикнул на братишку:
— Что стоишь — руки в брюки? Копай!
Так и начали они работать. Наберут лопату земли и несут к луже. Бултых в воду — и нет той земли. А лужа как была, так и стоит. Лишь круги по воде расходятся. Сколько этих лопат бросать надо? Сто, двести, тысячу?
— Экскаватор бы! — мечтательно сказал Вовка. — Он бы живо…
— Ага, шагающий! На четырнадцать кубов! — ехидно поддакнул Костя. — А мы бы из окошечка смотрели. Хорошо! Лучше давай, давай, нажимай на лопату.
Через несколько минут подошли ребята, игравшие в чижика. Сначала они подсмеивались над работавшими братьями. А Васька-Брехун даже сказал:
— Вот дураки-то! Охота мозоли натирать!
Но тут вышел отец Кости, а с ним — Галка и Аленка. У Аленки тоже была лопата. Только совсем маленькая, какой в песочнице играют. Отец взял у Вовки лопату, и работа сразу пошла веселей. В одном месте, куда бросали землю, лужа, словно испугавшись такого дружного натиска, чуть отступила, и на поверхности показался первый бугорок.
Дима, все шутивший и кричавший: «Внимание! Начался великий штурм Ангары!», вдруг побежал домой и через минуту примчался с лопатой. А скоро откуда-то появились носилки, лом, еще лопаты, и человек пятнадцать мальчишек и девчонок уже с увлечением долбили и копали землю, подносили ее к луже.
Лишь Васька долго не желал сдаваться. Хихикал, щелкал семечки, издевался над ребятами. Но те, занятые делом, не обращали на него внимания. Ваське стало скучно. Потом он куда-то исчез, и его не было минут двадцать. А когда снова показался во дворе, то все увидели: Васька везет на тачке кирпичи.
Подкатив тачку, он вывалил на землю кирпичи и сказал, презрительно усмехаясь:
— Строители! Что у вас за дорога получится! Опять дождем размоет. Вот, укладывайте кирпичи. Сейчас еще привезу, — и он снова покатил тачку.
Работали часа два. Работали с азартом. И вот готово — длинная лужа разрезана земляной насыпью. Поверх насыпи ровно и аккуратно уложены кирпичи. Получился красивый и прочный каменный мостик. Теперь сколько угодно можно бегать Аленке — не упадет в воду! И не только Аленке хорошо. Кто ни пойдет через новый мостик, всякий скажет ребятам спасибо.
Закончили работу. Забрав лопаты, ушел домой Костин отец. А ребята все не расходились. С гордостью посматривали на мостик, улыбались, хвастали водяными пузырями на ладонях.
В это время в дверях подъезда показался Гарик. Под клетчатым пиджаком у него был надет голубой джемпер, смоченные волосы гладко зачесаны набок. В острых носках безукоризненно начищенных туфель двумя огоньками отражалось солнце. Гарик увидел проложенную через лужу дорожку и удивленно поднял брови.
— Вот так сюрприз! — сказал он. — Колоссально! А ну, обновим сооружение!
Гарик уже был перед самым мостиком, как на его пути неожиданно выросла фигура Кости. Костя стоял, широко расставив ноги, и, похоже, не собирался сходить с места.
— Дай-ка пройти, — сказал Гарик.
— А эта дорога не для всех, — медленно, с холодным прищуром глаз проговорил Костя. И оглядел Гарика. Оглядел с головы до ног. И когда снова увидел его сияющие, начищенные бабушкой туфли, и рядом — свои, потускневшие, испачканные землей, то повторил с угрозой: — Не для всех дорога. Понял?
Гарик был выше и, без сомнения, сильнее Кости. Но Гарик был труслив. К тому же в нескольких шагах стояли ребята, и на их лицах без труда читалось, что в случае драки они будут держать отнюдь не его сторону. «Ситуация не в мою пользу», — смекнул Гарик.
— Может быть, все-таки дашь пройти? — вновь спросил он, еще надеясь спасти свою честь.
— А я говорю, сворачивай! — потребовал Костя.
— Хам! — с ненавистью выдавил Гарик и пошел в обход лужи. Потом обернулся и крикнул: — Я с тобой посчитаюсь! Ты это запомнишь.
— Иди, иди, — усмехаясь, сказал Костя. — Не забудь больной мамочке купить лекарство!
А Васька размахнулся и пустил вдогонку уходившему комок земли. Комок упал и рассыпался рядом с Гариком. Он пугливо оглянулся и увидел, что прямо в него летит еще комок. Гарик как-то боком отпрыгнул в сторону и чуть не упал. Ребята засмеялись.
Гарик втянул голову в, плечи и трусливо, словно заяц, побежал со двора.
Вслед ему громко и весело смеялись ребята.


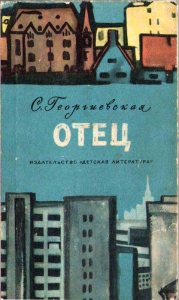
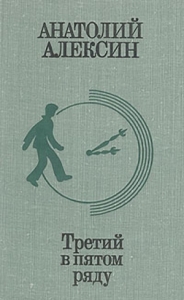





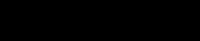

Комментарии к книге «Одиннадцать бестолковых», Владимир Андреевич Добряков
Всего 0 комментариев