Владимир БЕЛЯЕВ Старая крепость
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
Гимназистами мы стали совсем недавно.
Раньше все наши хлопцы учились в городском высшеначальном училище.
Желтые его стены и зеленый забор хорошо видны с Заречья.
Если на училищном дворе звонили, мы слышали звонок у себя, на Заречье. Схватишь книжки, пенал с карандашами – и айда бежать, чтобы вовремя поспеть на уроки.
И поспевали.
Мчишься по Крутому переулку, пролетаешь деревянный мост, потом вверх по скалистой тропинке – на Старый бульвар, и вот уже перед тобой училищные ворота.
Только-только успеешь вбежать в класс и сесть за парту – входит учитель с журналом.
Класс у нас был небольшой, но очень светлый, проходы между партами узкие, а потолки невысокие.
Три окна в нашем классе выходили к Старой крепости и два – на Заречье.
Надоест слушать учителя – можно в окна глядеть.
Взглянул направо – возвышается над скалами Старая крепость со всеми ее девятью башнями.
А налево посмотришь – там наше родное Заречье. Из окон училища можно разглядеть каждую его улочку, каждый дом.
Вот в Старой усадьбе мать Петьки вышла белье вешать: видно, как ветер пузырями надувает большие рубахи Петькиного отца – сапожника Маремухи.
А вот из Крутого переулка выехал ловить собак отец моего приятеля Юзика – кривоногий Стародомский. Видно, как подпрыгивает на камнях его черный продолговатый фургон – собачья тюрьма. Стародомский поворачивает свою тощую клячу вправо и едет мимо моего дома. Из нашей кухонной трубы вьется синий дымок. Это значит – тетка Марья Афанасьевна уже растопила плиту.
Интересно, что сегодня будет на обед? Молодая картошка с кислым молоком, мамалыга с узваром или сваренная в початках кукуруза?
«Вот если бы жареные вареники!» – мечтаю я. Жареные вареники с потрохами я люблю больше всего. Да разве можно сравнить с ними молодую картошку или гречневую кашу с молоком? Никогда!
Замечтался я как-то на уроке, глядя в окна на Заречье, и вдруг над самым ухом голос учителя:
– А ну, Манджура! Поди к доске – помоги Бобырю…
Медленно выхожу из-за парты, посматриваю на ребят, а что помогать – хоть убей не знаю.
Конопатый Сашка Бобырь, переминаясь с ноги на ногу, ждет меня у доски. Он даже нос выпачкал мелом.
Я подхожу к нему, беру мел и так, чтобы не заметил учитель, моргаю своему приятелю Юзику Стародомскому, по прозвищу Куница.
Куница, следя за учителем, складывает руки лодочкой и шепчет:
– Биссектриса! Биссектриса!
А что это за птица такая, биссектриса? Тоже, называется, подсказал!
Математик ровными, спокойными шагами уже подошел к доске.
– Ну что, юноша, задумался?
Но вдруг в эту самую минуту во дворе раздается звонок.
– Биссектриса, Аркадий Леонидович, это… – бойко начинаю я, но учитель уже не слушает меня и идет к двери.
«Ловко вывернулся, – думаю, – а то влепил бы единицу…»
Больше всех учителей в высшеначальном мы любили историка Валериана Дмитриевича Лазарева.
Был он невысокого роста, беловолосый, всегда ходил в зеленой толстовке с заплатанными на локтях рукавами, – нам он показался с первого взгляда самым обычным учителем, так себе – ни рыба ни мясо.
Когда Лазарев впервые пришел в класс, он, прежде чем заговорить с нами, долго кашлял, рылся в классном журнале и протирал свое пенсне.
– Ну, принес леший еще одного четырехглазого… – зашептал мне Юзик.
Мы уж и прозвище Лазареву собирались выдумать, но когда поближе с ним познакомились, сразу признали его и полюбили крепко, по-настоящему, как не любили до сих пор ни одного из учителей.
Где было видано раньше, чтобы учитель запросто гулял вместе с учениками по городу?
А Валериан Дмитриевич гулял.
Часто после уроков истории он собирал нас и, хитро щурясь, предлагал:
– Я сегодня в крепость после уроков иду. Кто хочет со мной?
Охотников находилось много. Кто откажется с Лазаревым туда пойти?
Валериан Дмитриевич знал в Старой крепости каждый камешек.
Однажды целое воскресенье, до самого вечера, провели мы с Валерианом Дмитриевичем в крепости. Много интересного порассказал он нам в этот день. От него мы тогда узнали, что самая маленькая башня называется Ружанка, а та, полуразрушенная, что стоит возле крепостных ворот, прозвана странным именем – Донна. А возле Донны над крепостью возвышается самая высокая из всех – Папская башня. Она стоит на широком четырехугольном фундаменте, в середине восьмигранная, а вверху, под крышей, круглая. Восемь темных бойниц глядят за город, на Заречье, и в глубь крепостного двора.
– Уже в далекой древности, – рассказывал нам Лазарев, – наш край славился своим богатством. Земля здесь очень хорошо родила, в степях росла такая высокая трава, что рога самого большого вола были незаметны издали. Часто забытая на поле соха в три-четыре дня закрывалась поростом густой, сочной травы. Пчел было столько, что все они не могли разместиться в дуплах деревьев и потому роились прямо в земле. Случалось, что из-под ног прохожего брызгали струи отличного меда. По всему побережью Днестра безо всякого присмотра рос вкусный дикий виноград, созревали самородные абрикосы, персики.
Особенно сладким казался наш край турецким султанам и соседним польским помещикам. Они рвались сюда изо всех сил, заводили тут свои угодья, хотели огнем и мечом покорить украинский народ.
Лазарев рассказал, что всего каких-нибудь сто лет назад в нашей Старой крепости была пересыльная тюрьма. В стенах разрушенного белого здания на крепостном дворе еще сохранились решетки. За ними сидели арестанты, которых по приказу царя отправляли в Сибирь на каторгу. В Папской башне при царе Николае Первом томился известный украинский повстанец Устин Кармелюк. Со своими побратимами он ловил проезжавших через Калиновский лес панов, исправников, попов, архиереев, отбирал у них деньги, лошадей и все отобранное раздавал бедным крестьянам. Крестьяне прятали Кармелюка в погребах, в копнах на поле, и никто из царских сыщиков долгое время не мог словить храброго повстанца. Он трижды убегал с далекой каторги. Его били, да как били! Спина Кармелюка выдержала больше четырех тысяч ударов шпицрутенами и батогами. Голодный, израненный, он каждый раз вырывался из тюрьмы и по морозной глухой тайге, неделями не видя куска черствого хлеба, пробирался к себе на родину – на Подолию.
– По одним только дорогам в Сибирь и обратно, – рассказывал нам Валериан Дмитриевич, – Кармелюк прошел около двадцати тысяч верст пешком. Недаром крестьяне верили, что Кармелюк свободно переплывет любое море, что он может разорвать любые кандалы, что нет на свете тюрьмы, из которой он не смог бы уйти.
Его посадил в Старую крепость здешний магнат, помещик Янчевский. Кармелюк бежал из этой мрачной каменной крепости среди бела дня. Он хотел поднять восстание против подольских магнатов, но в темную октябрьскую ночь 1835 года был убит одним из них – Рутковским.
Этот помещик Рутковский побоялся даже при последней встрече с Кармелюком посмотреть ему в глаза. Он стрелял из-за угла в спину Кармелюку.
– Когда отважный Кармелюк сидел в Папской башне, – рассказывал Валериан Дмитриевич, – он сочинил песню:
За Сибирью солнце всходит… Хлопцы, не зевайте: Кармелюк панов не любит - В лес за мной ступайте!.. Асессоры, исправники В погоне за мною… Что грехи мои в сравненье С ихнею виною! Зовут меня разбойником, Ведь я убиваю. Я ж богатых убиваю, Бедных награждаю. Отнимаю у богатых - Бедных наделяю; А как деньги разделю я - И греха не знаю.Круглая камера, в которой сидел когда-то Кармелюк, была засыпана мусором. Одно ее окно выходило во двор крепости, а другое, наполовину закрытое изогнутой решеткой, – на улицу.
Осмотрев оба этажа Папской башни, мы направились к широкой Черной башне. Когда мы вошли в нее, наш учитель велел нам лечь ничком на заплесневелые балки, а сам осторожно перебрался по перекладине в дальний темный угол.
– Считайте, – сказал он и поднял над вырубленным между балками отверстием голыш.
Не успел этот беленький круглый камешек промелькнуть перед нами и скрыться под деревянным настилом, как все шепотом забормотали:
– Один, два, три, четыре…
Было лишь слышно, как далеко внизу, под заплесневелыми балками, журчит ручей.
– Двенадцать! – едва успел прошептать я, как из глубины темного колодца донесся всплеск воды.
Эхо от него пролетело мимо нас вверх, под каменный свод башни.
– Так и есть, тридцать шесть аршин, – сказал Лазарев, осторожно пробираясь к нам по гнилой перекладине.
Когда мы вышли из затхлого полумрака на крепостной двор, Лазарев объяснил, откуда взялся в Черной башне этот глубокий колодец.
Его выкопали осажденные запорожцами турки.
В это же воскресенье возле самой Донны Куница под кустом шиповника нашел ржавый турецкий ятаган. Он и по сей день лежит в городском музее с выцветшей надписью: «Дар ученика высшеначального училища Юзефа Стародомского».
В одну из наших прогулок по крепости мы помогли Валериану Дмитриевичу выковырять из стены Папской башни круглое чугунное ядро. Оно гулко упало на землю и разломило пополам валявшуюся сосновую щепку.
На брезентовой курточке Сашки Бобыря мы донесли это чугунное ядро до самого дома Лазарева.
Вот тогда-то мы и узнали, что Валериан Дмитриевич живет по соседству с доктором Григоренко, в проулочке напротив докторской усадьбы.
В глубине небольшого дворика примостился его обмазанный глиной домик с деревянным крылечком. На крылечке, словно часовые, стояли, прислонившись к перилам, две безносые каменные бабы. Валериан Дмитриевич выкопал их за городом, на кургане около Нагорян.
По всему двору были разбросаны покрытые мхом могильные плиты, надтреснутые глиняные кувшины, бронзовые кресты и осколки камней с отпечатками листьев. С проулочка дворик Лазарева, похожий на старинное маленькое кладбище, был огорожен невысоким глиняным забором.
Мы бросили чугунное ядро наземь у самого крыльца, и когда стали прощаться с нашим учителем, он пообещал сводить нас в подземный ход, который начинается около крепости.
Мы условились пойти в подземный ход в следующее воскресенье. Куница взялся отыскать фонари, а Сашка Бобырь пообещал принести целую катушку телефонного провода.
Очень заманчива была для нас эта прогулка!
Об этом подземном ходе я впервые услышал от Куницы. Куница уверял, что подземный ход соединяет нашу крепость со старинным замком князя Сангушко, который раньше владел этим краем.
Тридцать верст тянется подземный ход в скалах, проходит под двумя быстрыми речками и кончается в не известной никому потайной комнате княжеского замка. А этот княжеский замок стоит в густом сосновом лесу, скрытый от людских глаз, на берегу широкого озера, в котором водятся жирные зеркальные карпы и золотые рыбки.
Я верил Кунице и представлял себе княжеский замок мрачным, загадочным, с тяжелыми решетками на окнах.
«Должно быть, – думал я, – в ясные, светлые ночи его зубчатые башни отражаются в голубом от лунного света озере, и, наверное, очень страшно, да и, пожалуй, невозможно купаться в этом озере по ночам».
Я с нетерпением ждал воскресенья.
Но пойти в подземный ход вместе с Лазаревым нам не удалось.
НОЧНОЙ ГОСТЬ
По городу прошел слух, что красные отступают и Петлюра с пилсудчиками подходит уже к Збручу. А потом на заборах забелели приказы, в которых говорилось, что Красная Армия временно оставляет город, перебрасывая свои части на деникинский фронт.
Накануне отступления, поздно вечером, к моему отцу пришел наш сосед Омелюстый. С ним был еще один человек, которого я не знал.
Я уже лежал в постели, закутанный до подбородка в байковое отцовское одеяло.
Отец сидел за столом и хорошо наточенным ножом резал «самкроше» из пачки прессованного желтого табака – бакуна.
На плечах у Омелюстого болтался рваный казацкий башлык, на лобастой голове чернела круглая барашковая кубанка, а карманы его зеленого френча были туго набиты бумагами. Спутник его, невысокий человек в пушистом заячьем треухе, шел сзади, медленно переставляя ноги, словно боялся оступиться.
Был он очень бледен, небрит, и на остром его подбородке и впалых щеках пробивались черные жесткие волосы. Перешагнув вслед за Омелюстым порог нашей спальни, незнакомец снял свою меховую шапку, тихо, чуть слышно поздоровался, сел на стул и расстегнул ватную солдатскую телогрейку.
– Поганое дело, Манджура, выручай, – сказал Омелюстый, снимая башлык и здороваясь с отцом. – Наши ночью отступают, а вот товарищ расхворался не вовремя. Нельзя ему ехать… Где б его тут пристроить в городе? Только так, чтобы никто не потревожил. А, Мирон?
– Ладно, потолкуем, – ответил отец. – Разденься сперва, чаю выпей.
Омелюстый вытащил из френча револьвер, переложил его в карман брюк, а френч вместе с кубанкой и башлыком бросил на корзинку у окна. Потом, присев к столу, он облокотился на него и, сжав виски длинными тонкими пальцами, медленно сказал:
– Ты думаешь, наши надолго уходят? Пустяки, скоро вернутся. Вот прогонят Деникина из Донбасса, а тогда и Подолию освободят.
Пока Омелюстый беседовал с отцом, Марья Афанасьевна приготовила больному гостю постель на широком кованом сундуке, а когда он улегся, покрыла его зимним ватным одеялом и другими теплыми вещами, какие только были в нашем доме. Она напоила больного чаем с сушеной малиной. Он лежал на спине под высокой грудой пропахшей нафталином одежды, прислушиваясь к разговору. Свет от лампы падал гостю в глаза, и он все время жмурился.
Вдруг он повернулся на бок, подмигнул мне и кивнул на стену. Я посмотрел на стену – ничего там не было. Тогда больной высунул из-под одеяла худую, длинную руку и начал шевелить вытянутыми пальцами.
По стене запрыгали тени.
Из этих смутных, расплывчатых теней стали возникать отчетливые фигуры. Сперва я различил голову лебедя с выгнутой шеей. Потом на белой стене, двигая ушами, запрыгал очень потешный заяц. А когда заяц исчез, большой рак, подползая к окну, зашевелил цепкой клешней. Не успел я наглядеться на рака, как в другом месте, около этажерки, появилась морда лающей собаки, очень похожей на пса наших соседей Гржибовских – Куцего. Вот собака высунула язык и стала тяжело дышать, точь-в-точь как дышат собаки в сильную жару.
Все фигурки появлялись и пропадали так быстро, что я не успевал даже заметить, как делает их этот чудной человек, укутанный теплой одеждой до самых ушей.
Показав последнюю фигурку, он опять хитро подмигнул мне, высунул язык, а потом снова лег на спину и закрыл глаза.
Я сразу решил, что он, должно быть, очень веселый и хороший человек, и мне захотелось, чтобы отец позволил ему остаться у нас, пока не возвратятся красные.
Ни отец, ни сосед не заметили тех штук, которые показал мне больной. Они все пили чай и разговаривали.
Под их тихий разговор я заснул. Проснулся я поздно и первым делом поглядел на сундук, где лежал вчера ночной гость.
Сундук по-прежнему стоял у стены, покрытый разноцветной дорожкой. Но постели и больного на нем не было.
На чистую блестящую клеенку обеденного стола падали солнечные лучи.
Вдруг где-то за Калиновским лесом грохнул выстрел.
Натягивая на ходу рубашку, я вбежал в кухню. Там тоже никого не было. Только на огороде, около забора, я нашел тетку Марью Афанасьевну. Она стояла на скамеечке и смотрела поверх забора на крепостной мост.
– Петлюровцы, – сказала, вздохнув, тетка и сошла на землю.
Я вскочил на скамейку, оттуда вскарабкался на забор и увидел скачущих от крепости в город всадников. Они мчались по мосту. Над решетчатыми перилами были видны вытянутые морды их гривастых коней.
– А где больной? – спросил я Марью Афанасьевну, когда мы вернулись на кухню.
– Больной? Какой больной? – удивилась она. – А я думала, ты спал. Больной, деточка, уехал с красными… Все уехали. Ты только помалкивай про больного.
– Как все? И отец?
– Нет, деточка, отец здесь, он пошел в типографию.
Тетка моя, Марья Афанасьевна, – женщина добрая и жалостливая. Сердится она редко и, когда я веду себя хорошо, называет меня «деточкой».
А я не люблю этого слова. Какой я деточка, когда мне скоро уже двенадцать!
Вот и сейчас я обозлился на тетку за эту самую «деточку» и не стал ее больше расспрашивать, а побежал в Старую усадьбу к Петьке Маремухе – смотреть оттуда, со скалы, как в город вступают петлюровцы.
А на следующий день, когда петлюровцы уже заняли город и вывесили на городской каланче свой желто-голубой флаг, мы с Юзиком Куницей увидели бегущего по Ларинке Ивана Омелюстого.
Его зеленый френч, надетый прямо на голое тело, был расстегнут. Омелюстый мчался по тротуару, чуть не сбивая с ног случайных прохожих и гулко стуча по гладким плитам коваными сапогами. За ним гнались два петлюровца в широких синих шароварах. Не останавливаясь, на бегу, стреляли в воздух из тяжелых маузеров.
Омелюстый тоже не останавливался и тоже стрелял из нагана вверх, через левое плечо, не целясь. У кафедрального собора к двум петлюровцам присоединились еще несколько черношлычников. Они гурьбой гнались за Омелюстым и палили без разбору кто куда.
По извилистым тропинкам над скалой Омелюстый промчался к Заречью. А петлюровцы, не зная дороги, поотстали. Спустившись вниз, Омелюстый перебежал по шатающейся кладочке на другой берег реки и оглянулся.
Размахивая маузерами, петлюровцы уже подбегали к берегу. Тогда Иван вскочил в башню Конецпольского, которая стояла на краю Заречья, у самого берега.
И не успели еще петлюровцы добежать до реки, как из круглой башни раздался первый выстрел Омелюстого. Второй пулей Омелюстый подстрелил прыгнувшего на дрожащую кладочку рослого петлюровца. Ноги петлюровца разъехались в стороны. Он покачнулся, взмахнул руками и грузно упал в быструю речку.
Мы с Куницей с гребня крутого Успенского спуска видели, как медленно поплыла вниз по течению кудлатая белая папаха петлюровца.
Петлюровцы залегли поодаль, в камнях под скалой. Пока двое из них вытаскивали из воды подстреленного, остальные успели снять со спин свои куцые австрийские карабины и стали палить через речку по башне, в которой спрятался Омелюстый. Никто из петлюровцев, видно, не решался перебежать речку по кладке. Глухое эхо раздавалось над рекой. Скоро на выстрелы стали сбегаться со всех сторон петлюровцы.
В самый разгар перестрелки около нас неожиданно вырос петлюровский сотник в отороченной белым каракулем венгерке.
– А ну, голопузые, марш отсюда! – строго прикрикнул на нас сотник и погрозил Кунице наганом.
Мы кинулись наутек.
Окольной дорогой, мимо Старого бульвара, мы возвращались к себе домой. Уже подбегая к Успенской церкви, мы услышали, как внизу, у реки, застрекотал пулемет. Видно, петлюровцы открыли пулеметный огонь по башне Конецпольского.
У церкви мы разошлись.
Я пошел домой, но у нас дома на кухонных дверях висел замок. Покрутился я несколько минут на огороде и, не вытерпев, побежал к Юзику: уж очень мне хотелось посмотреть, скольких петлюровцев перебил Омелюстый.
Удалось ли ему выбраться из башни Конецпольского? Как мы желали теперь Омелюстому удачи! Из простого, ничем особенно не примечательного соседа Омелюстый сразу вырос в наших глазах в грозного богатыря вроде повстанца Устина Кармелюка.
Куница в это время ел мамалыгу. Я предложил ему сбегать на Старый бульвар и оттуда, сверху, посмотреть, что делается у башни Конецпольского. Куница отломил мне кусок горячей мамалыги, и мы помчались. Но когда мы добежали до бульвара, у башни Конецпольского было уже тихо. Только у речки ходил взад и вперед петлюровский патруль да два каких-то незнакомых хлопца подбирали на берегу стреляные гильзы. Мы прогнали этих хлопцев и сами стали искать патроны в том месте, где только что была перестрелка.
Кунице посчастливилось. Около забора он нашел боевой австрийский патрон с тупой пулькой. Должно быть, впопыхах его обронили петлюровцы. А мне не повезло. Долго я бродил под скалой, где лежал убитый петлюровец, но, кроме одной лопнувшей гильзы, из которой кисло пахло порохом, ничего не нашел. Проклятые чужаки все подобрали.
На небе уже показались звезды, когда я вернулся домой. Отец почему-то был веселый. Застелив газетой край стола, он разбирал наш никелированный будильник и посвистывал.
– Тато, а его не могли в тюрьму бросить? – осторожно спросил я отца.
– Кого в тюрьму? – откликнулся отец.
– Ну, Омелюстого…
Отец усмехнулся в густые усы и пробурчал:
– Много ты знаешь…
Видно, ему-то было известно многое, но он попросту не хотел откровенничать с таким, как я, пацаном.
До прихода Петлюры мой отец работал наборщиком в уездной типографии. Когда петлюровцы заняли город, к отцу стали часто заходить знакомые типографские рабочие. Они говорили, что Петлюра привез с собой машины, чтобы на них печатать деньги. Машины эти установили в большом доме духовной семинарии на Семинарской улице. А под окнами семинарии взад и вперед зашагали чубатые солдаты в мохнатых шапках, с карабинами за спиной и нагайками отгоняли зевак.
Пятерых рабочих типографии взяли печатать петлюровские деньги. Один из них жаловался отцу, что во время работы за спиной у них стоят петлюровцы с ружьями, а после работы эти охранники обыскивают печатников, как воров.
Как-то поздно вечером к нам в дом пришел рябой низенький наборщик. Он и до этого бывал у нас. Тетка Марья Афанасьевна уже спала, а отец только собирался ложиться.
– Завтра нас с тобою, Мирон, заставят петлюровские деньги печатать. Я слышал, заведующий говорил в конторе, – угрюмо сказал моему отцу этот наборщик.
Отец молча выслушал наборщика. Потом сел за стол и долго смотрел на вздрагивающий огонек коптилки. Я следил за отцом и думал: «Ну, скажи хоть слово, ну, чего ты молчишь?»
Наконец низенький наборщик отважился и, тронув отца за плечо, спросил:
– Так что делать будем, а, Мирон?..
Отец вдруг сразу встал и громко, так, что даже пламя коптилки заколыхалось, ответил:
– Я им таких карбованцев напечатаю, что у самого Петлюры поперек горла станут! Я печатник, а не фальшивомонетчик!
И, сказав это, отец погрозил кулаком.
Утром отца в городе уже не было.
На следующий день за забором в усадьбе Гржибовских завизжала свинья.
– Опять кабана режут! – сказала тетка.
Наш сосед Гржибовский – колбасник.
За белым его домом выстроено несколько свиных хлевов. В них откармливаются на убой породистые йоркширские свиньи.
Гржибовский у себя в усадьбе круглый год ходит без фуражки. Его рыжие волосы всегда подстрижены ежиком.
Гржибовский – рослый, подтянутый, бороду стрижет тоже коротко, лопаточкой, и каждое воскресенье ходит в церковь. На всех Гржибовский смотрит как на своих приказчиков. Взгляд у него суровый, колючий. Когда он выходит на крыльцо своего белого дома и кричит хриплым басом: «Стаху сюда!» – становится страшно и за себя и за Стаха.
Однажды Гржибовский порол Стаха в садике широким лакированным ремнем с медной пряжкой.
Сквозь щели забора мы видели плотную спину Гржибовского, его жирный зад, обтянутый синими штанами, и прочно вросшие в траву ноги в юфтовых сапогах.
Между ног у Гржибовского была зажата голова Стаха. Глаза у Стаха вылезли на лоб, волосы были взъерошены, изо рта текла слюна, и он скороговоркой верещал:
– Ой, тату, тату, не буду, ой, не буду, прости, таточку, ой, больно, ой, не буду, прости!
А Гржибовский, словно не слыша криков сына, нагибал свою плотную спину в нанковом сюртуке. Раз за разом он взмахивал ремнем, резко бросал вниз руку и с оттяжкой бил Стаха. Он как бы дрова рубил – то, крякнув, ударит, то отшатнется, то снова ударит, и все похрапывал, покашливал.
Стах закусывал губы, высовывал язык и снова кричал:
– Ой, тату, тату, не буду!
Стах не знал, что мы видели, как отец порол его. Всякий раз он скрывал от нас побои.
При людях он хвалил отца, с гордостью говорил, что его отец самый богатый колбасник в городе, и хвастал, что в ярмарочные дни больше всего покупателей собирается у него в лавке на Подзамче.
В словах Стаха, конечно, была доля правды.
Гржибовский умел готовить превосходную колбасу. Заколов свинью, он запирался в мастерской, рубил из выпотрошенной свиной туши окорока, отбрасывал отдельно на студень голову и ножки, обрезал сало, а остальное мясо пускал в колбасу. Он знал, сколько надо подбросить перцу, сколько чесноку, и, приготовив фарш, набивал им прозрачные кишки сам, один. Когда колбаса была готова, он лез по лесенке на крышу. Бережно вынимая кольца колбасы из голубой эмалированной миски, Гржибовский нанизывал их на крючья и опускал в трубу. Затем Гржибовские разжигали печку. Едкий дым горящей соломы, запах коптящейся колбасы доносились и к нам во двор. В такие дни мы с Куницей подзывали Стаха к забору, чтобы выторговать у него кусок свежей колбасы.
Взамен мы предлагали Стаху цветные, пахнущие типографской краской афиши, программки опереток с изображением нарядных женщин и маленькие книжечки – жития святых с картинками. Все эти афиши и книжечки приносил мне отец из типографии.
Вначале мы договаривались, что на что будем менять, и божились не надувать друг друга.
После долгих переговоров Стах, хитро щуря свои раскосые глаза, вприпрыжку бежал к коптилке. Он выбирал удобную минуту, чтобы незаметно от отца сдернуть с задымленной полки кольцо колбасы.
Мы стояли у забора и нетерпеливо ждали его возвращения, покусывая от волнения горьковатые прутики сирени.
Утащив колбасу, Стах, веселый, довольный удачей, прибегал в палисадник и перебрасывал ее нам через забор.
Мы ловили ее, скользкую и упругую, как мяч, на лету. Взамен через щели в заборе просовывали Стаху пестрые афиши и книжечки.
Затем мы убегали на скамеечку к воротам и ели колбасу просто так – без хлеба. Острый запах чеснока щекотал нам ноздри. Капли сала падали на траву. Колбаса была теплая, румяная и вкусная, как окорок.
Теперь Гржибовский резал нового кабана.
Услышав визг, мы подбежали к забору и заглянули в щель.
На крыльце, где обычно курил свою трубку Гржибовский, согнувшись, стоял петлюровец и усердно чистил двумя мохнатыми щетками голенище высокого сапога. Начистив сапоги, он выпрямился и положил щетки на барьер крыльца.
Ведь это же Марко!
Ошибки быть не могло. Старший сын Гржибовского, Марко, или Курносый Марко, как его звала вся улица, стоял сейчас на крыльце в щеголеватом френче, затянутый в коричневые портупеи. Его начищенные сапоги ярко блестели.
Когда красные освободили город от войск атамана Скоропадского, Марко исчез из дому.
Он бежал от красных, а сейчас вот появился снова, нарядный и вылощенный, в мундире офицера петлюровской директории.
Ничего доброго появление молодого Гржибовского не предвещало…
ПРОЩАЙ, УЧИЛИЩЕ!
Однажды, вскоре после прихода петлюровцев, вместо математика к нам в класс вошел Валериан Дмитриевич Лазарев. Он поздоровался, протер платочком пенсне и, горбясь, зашагал от окна к печке. Он всегда любил, прежде чем начать урок, молча, как бы собираясь с мыслями, пройтись по классу. Вдруг Лазарев остановился, окинул нас усталым рассеянным взглядом и сказал:
– Будем прощаться, хлопчики. Жили мы с вами славно, не ссорились, а вот пришла пора расставаться. Училище наше закрывается, а вас переводят в гимназию. Добровольно они туда не могли набрать учеников, так на такой шаг решились… Сейчас можете идти домой, уроков больше не будет, а в понедельник извольте явиться в гимназию. Вы уже больше не высшеначальники, а гимназисты.
Мы были ошарашены. Какая гимназия? Почему мы гимназисты? Уж очень стало удивительно тихо. Первым нарушил эту тишину конопатый Сашка Бобырь.
– Валериан Дмитриевич, а наши учителя, а вы – тоже с нами? – выкрикнул он с задней парты, и мы, услышав его вопрос, насторожились.
Было видно, что Сашкин вопрос задел Валериана Дмитриевича за живое.
– Нет, хлопчики, мне на покой пора. С паном Петлюрой у нас разные дороги. Я в той гимназии ни к чему, – криво улыбнувшись, ответил Лазарев и, присев к столу, принялся без цели перелистывать классный журнал.
Тогда мы повскакивали из-за парт и окружили столик, за которым сидел Лазарев.
Валериан Дмитриевич молчал. Мы видели, что он расстроен, что ему тяжело разговаривать с нами, но все же мы стали приставать к нему с вопросами. Сашка Бобырь спрашивал Лазарева, будем ли мы носить форму, Куница – на каком языке будут учить в гимназии; каждый старался выведать у Валериана Дмитриевича самое главное и самое интересное для себя.
Особенно хотелось нам узнать, почему Лазарев не хочет переходить в гимназию. И когда мы его растравили вконец, он встал со стула, еще раз медленно протер пенсне и сказал:
– Я и сам не хочу покидать вас в середине учебного года, да что ж поделаешь? – Помолчав немного, он добавил: – Главное-то, хлопчики, в том, что они набирают в гимназию своих учителей, а я для них не гожусь.
– Почему не годитесь? – удивленно выкрикнул Куница.
– Я, хлопчики, не могу натравливать людей одной нации на людей другой так, как этого хотелось бы петлюровцам. По мне, был бы человек честным, полезным обществу, а то, на каком языке он говорит, – дело второстепенное.
Мне абсолютно безразлично: поляк, еврей, украинец или русский мой знакомый – была бы у него душа хорошая, настоящая, вот основное! И я всегда считал и считаю, что нельзя решать судьбу Украины в отрыве от будущего народов России… И никогда они мне не простят, что я первый рассказывал вам правду о Ленине…
Невесело расходились мы в этот день по домам. Было жалко покидать навсегда наше старое училище. Никто не знал, что нас ожидает в гимназии, какие там будут порядки, какие учителя.
– Это все Петлюра выдумал! – со злостью сказал Куница, когда мы с ним спускались по Старому бульвару к речке. – Вот холера, чтоб он подавился!
Я молчал. Конечно, прав был мой польский друг! Что говорить, никому не хотелось расставаться со старым училищем. Да и как мы будем учиться вместе с гимназистами?
Еще от старого режима сохранялись у них серые шинели с петлицами на воротнике, синие мундиры и форменные фуражки с серебряными пальмовыми веточками на околыше.
А когда пришли петлюровцы, многие гимназисты, особенно те, что записались в бойскауты, вместо пальмовых веточек стали носить на фуражках петлюровские гербы – золоченые, блестящие трезубцы. Иногда под трезубцы они подкладывали шелковые желто-голубые ленточки.
Мы издавна ненавидели этих панычей в форменных синих мундирах с белыми пуговицами и, едва завидев их, принимались орать во все горло:
– Синяя говядина! Синяя говядина!
Гимназисты тоже были мастера дразниться.
На медных пряжках у нас были выдавлены буквы «В.Н.У.», что означало «Высшеначальное училище». Отсюда и пошло – увидят гимназисты высшеначальников и давай кричать:
– Внучки! Внучки!
Ну и лупили же их за это наши зареченские ребята! То плетеными нагайками, то сложенными вдвое резиновыми трубками. А маленькие хлопцы стреляли в гимназистов из рогаток зелеными сливами, камешками, фасолью.
Жаль только, что к нам в Заречье, где жила преимущественно беднота, они редко заглядывали.
Почти все гимназисты жили на главных улицах города: на Киевской, Житомирской, за бульварами, а многие и около самой гимназии.
Наступил понедельник. Ох, и не хотелось в то ясное, солнечное утро в первый раз идти в незнакомую, чужую гимназию!
Еще издали, с балкона, когда мы с Петькой Маремухой и Куницей переходили площадь, кто-то из гимназистов закричал нам:
– Эй вы, мамалыжники, паны цыбульские! А воши свои на Заречье оставили?
Мы промолчали. Хмурые, насупленные, вошли мы в темный, холодный вестибюль гимназии. В тот день у нас, у новичков, никаких занятий не было. Делопроизводитель в учительской записал всех в большую книгу, а потом сказал:
– Теперь подождите в коридоре, скоро придет пан директор.
А директор засел в своем кабинете и долго к нам не выходил.
Мы слонялись по сводчатым коридорам, съезжали вниз по гладким перилам лестницы, а потом забрели в актовый зал.
Там, в огромном пустом зале, горбатый гимназический сторож Никифор снимал со стены портреты русских писателей.
Вместо писателей Никифор стал вставлять под стекло петлюровских министров, но министров оказалось, больше, чем писателей, – девятнадцать человек, и золоченых рам для них не хватило. Тогда Никифор постоял, поскреб затылок и заковылял в кабинет естествознания. Он притащил оттуда целую пачку застекленных картинок разных зверей и животных.
Но едва он принялся потрошить эти картинки, как в актовый зал вбежал рассвирепевший учитель природоведения Половьян.
Природовед поднял такой крик, что мы думали, он убьет горбатого Никифора. Половьян бегал вокруг стремянки и кричал:
– Что ты выдумал, изверг? Да ты с ума сошел! Я не отдам своего муравьеда! Ведь это кощунство! Такой муравьед на весь город один.
А Никифор только огрызнулся:
– Та видчепиться, пане учителю, чого вы тутечки галас знялы? Идите до директора.
Покружившись в актовом зале, Половьян убежал жаловаться директору, но тот только похвалил горбатого Никифора за его выдумку.
Сторож, хитро улыбаясь, стал выдирать из вишневого цвета рамок львов, тигров, носорогов, а с ними и половьяновского муравьеда.
– Ну, ты, изверг, вылезай, – сказал Никифор, вытаскивая муравьеда.
Сидя на паркетном полу, Никифор клещами выдергивал из рамки гвоздики, и фанерная крышечка выпадала сама. Никифор вынимал картинки, обтирал рамки влажной тряпкой и клал на стекло кого попало – то морского министра, то министра церковных дел, то хмурого усатого министра просвещения.
Когда все портреты были развешаны, сторож Никифор покропил водой паркетный пол актового зала и вымел в коридор весь мусор и паутину.
Вместе с нами он расставил перед сценой несколько длинных сосновых скамеек. Все высшеначальники собрались в актовый зал и сели на скамейки. Бородатый директор гимназии Прокопович вылез на сцену, откашлялся и, поставив правую ногу на суфлерскую будку, стал говорить речь.
Половину его слов мы не разобрали. Я запомнил только, что мы, «молодые сыны самостийной Украины», должны хорошо учиться в гимназии и заниматься в скаутских отрядах, чтобы, окончив учение, поступить в военные петлюровские школы.
Маремуха, Сашка Бобырь, Куница и я попали в один класс.
Первое время мы держались вместе и даже могли при случае дать сдачи любому гимназисту. Но потом Петька Маремуха стал все больше и больше подмазываться к ловкому и хвастливому гимназисту Котьке Григоренко.
Они, правда, и раньше, по Старой усадьбе, были знакомы друг с другом. Петькин отец, сапожник Маремуха, арендовал у доктора Григоренко флигель в Старой усадьбе, Котька иногда приезжал со своим отцом в Старую усадьбу и там познакомился с Петькой. Здесь, в гимназии, они встретились как старые знакомые, Котька вдобавок подкупил Маремуху архивной бумагой с орлами, и Петька Маремуха совсем раскис.
Отец Котьки был главный врач больницы. Он позволял своему сыну рыться в больничном архиве и выдирать из пахнущих лекарствами ведомостей чистые листы. Котька часто брал с собой в больничные подвалы и Маремуху – добывать чистую бумагу.
Маремуха не раз бывал у Котьки дома, на Житомирской улице, не раз они вместе ходили на речку ловить раков. Григоренко его и в бойскауты записал одним из первых.
А вскоре вслед за Маремухой под команду Котьки перекочевал и Сашка Бобырь. Он, дурень, похвастался однажды перед Котькой своим никелированным «бульдогом», а Котька и припугнул его, что скажет про этот револьвер петлюровским офицерам. Вот Сашка Бобырь с перепугу и стал также подлизываться к Котьке.
Остались неразлучными только мы с Куницей.
Обидной нам сперва показалась измена Маремухи и Сашки Бобыря, а потом мы бросили думать о них и еще крепче сдружились.
И до чего же скучно было учиться первое время в гимназии! Классы здесь хмурые, неприветливые, точно монастырские кельи. Да тут и в самом деле когда-то были кельи.
Раньше в этом доме был монастырь. В монастырских подвалах, слышал я, замуровывали живьем провинившихся монахов. Здание это много раз перестраивали, но все-таки оно и изнутри и снаружи походило на монастырь.
Гимназисты, которые и до нас учились в этом здании, чувствовали себя здесь хозяевами. Они позанимали лучшие места на первых партах, а нам, высшеначальникам, осталась одна «Камчатка».
А гимназические учителя нудные, злые, слова интересного не скажут, не пошутят, как, бывало, Лазарев в высшеначальном.
Не раз вспоминали мы Валериана Дмитриевича Лазарева, его интересные уроки по истории, прогулки с ним в Старую крепость.
Тут, в гимназии, запретили изучать русский язык, общую историю сразу отменили, а вместо нее стали мы учить историю одной только Украины. А учителем истории директор назначил петлюровского попа Кияницу.
Высокий, обросший рыжими волосами, в зеленой рясе, с тяжелым серебряным распятием на груди, он стал приходить в класс задолго до звонка. Мы еще по двору бегаем, а он уже тут как тут.
Кияница преподавал историю скучно, неинтересно. Часто посреди урока он вдруг останавливался, кряхтел, теребил свою рыжую бороду и лез за помощью в учебник Грушевского – старого украинского националиста. А когда надоедало рыться в этой толстой, тяжелой книге, он начинал задавать нам вопросы.
А однажды Кияница венчал адъютанта самого Петлюры Степана Скрипника и пришел в гимназию со свадьбы. От него пахло водкой. Кияница поднялся на второй этаж и двинулся прямо в директорскую за учебниками. Он прятал учебники в шкафу у директора. А в этот день директора вызвали в министерство просвещения, и он ушел, закрыв свой кабинет. Мы подсмотрели, как Кияница покрутился около директорской, заглянул в замочную скважину, потом крякнул с досады и, пошатываясь, вернулся в класс. Он долго хмыкал что-то непонятное под нос, совал длинные руки под кафедру, кашлял, а потом вдруг пробурчал:
– Ну-с, так… Да… Так… Сегодня, дети… сегодня мы вспомним, что я рассказывал вам о крепости Кодак… Крепость Кодак знаменита тем, что ее построили около Днепровских порогов… Кто построил крепость Кодак? Ну вот, как тебя, отрок? – И поп ткнул пальцем прямо в Маремуху.
Бедный Петька не ожидал такого каверзного вопроса. Он завертелся на скамейке, оглянулся, потом вскочил и, краснея, сказал:
– Маремуха!
– Маремуха? – удивился поп. – Ну-с, итак, объясни нам, отрок Маремуха, кто построил крепость Кодак.
В классе наступила тишина. Было слышно, как далеко за Тернопольским спуском проезжала подвода. Кто-то свистнул на Гимназической площади. Петька долго переминался с ноги на ногу и затем, зная, что больше всех гетманов поп любит изменника Мазепу, и желая подмазаться к учителю, собравшись с духом, выпалил:
– Мазепа!
– Брешешь, дурень! – оборвал Маремуху поп. – Мазепы тогда еще на свете не было… Крепость Кодак построил… построил… да, построил иудей Каплан, а наш славный рыцарь атаман Самойло Кошка сразу взял ее в плен…
– Нет, не Кошка! – дрожащим голосом на весь класс сказал Куница.
Поп насторожился, вскинул кверху голову и грозно спросил:
– Кто сказал – не Кошка? А ну, встань!
Куница встал и, опустив глаза вниз, бледный, взволнованный, глядя в чернильницу, тихо ответил:
– Я сказал.
Мне стало очень страшно за Юзика. Я ждал, что Кияница набросится на него с кулаками, изобьет его здесь же, у нас на глазах. Но поп, опираясь здоровенными своими лапами на кафедру, нараспев, басом сказал:
– А-а, это, значит, ты такой умник? Чудесно! Итак, ты утверждаешь, что я извращаю истину? Тогда выйди, голубчик, сюда и расскажи нам, кто же, по-твоему, построил крепость Кодак.
Поп думал, что Куница испугается и не ответит, но Куница выпрямился и, глядя попу прямо в глаза, твердо сказал:
– Крепость Кодак построил совсем не Каплан, а французский инженер Боплан, а в плен ее захватил никакой не Кошка, а гетман Сулима.
– Сулима? – переспросил поп и закашлялся.
Кашлял он долго, закрывая широким рукавом волосатый рот. В эту минуту в классе еще сильнее запахло водкой.
Накашлявшись вдоволь, красный, со слезящимися глазами Кияница спросил:
– Кто же это тебя научил такой ерунде?
– Валериан Дмитриевич научил, – смело сказал Юзик и добавил, объясняя: – Лазарев.
– Ваш Лазарев ничего не знает! – вспыхнул поп. – Ваш Лазарев богоотступник и шарлатан! Кацапский прислужник! Зараза большевистская.
– И то неправда! – сказал Куница. – Валериан Дмитриевич все знает.
– Что? – заорал поп. – Неправда? А ну, стань в угол, польское отродье! На кукурузу! На колени!
Даже стекла задрожали в эту минуту от крика Кияницы.
Бледный Юзик подождал немного, а потом тихо пошел к печке и стал там, в углу, на колени.
После этого случая мы еще больше возненавидели попа Кияницу.
ГОЛОС ТАРАСА
Очень здорово ехать на грохочущей подводе по знакомому городу в тот самый час, когда все приятели занимаются в скучных и пыльных классах. Если бы не эта поездка за барвинком, сидеть бы и нам теперь на уроке закона божия да заучивать наизусть «Отче наш».
А разве в такую погоду полезет в голову «Отче наш» или история попа Кияницы?
Куница тоже доволен.
– Я каждый день согласен ездить за барвинком – нехай освобождают от уроков. А ты?
– Спрашиваешь! – ответил я ему. И мне сразу стало очень грустно, что только на сегодня выпало нам такое счастье. А завтра…
– Петлюровцы! – толкнул меня Юзик.
Навстречу идет колонна петлюровцев. Их лица лоснятся от пота. Сбоку с хлыстиком в руке шагает сотник. Он хитрый, холера: солдат заставил надеть синие жупаны, белые каракулевые папахи с бархатными «китыцями», а сам идет в легоньком френче английского покроя, на голове у него летняя защитная фуражка с длинным козырьком, закрывающим лицо от солнца.
Возница сворачивает. Левые колеса уже катятся по тротуару – вот-вот мы зацепим осью дощатый забор министерства морских дел петлюровской директории.
Все равно тесно. Возница круто останавливает лошадь.
Колонна поравнялась с нами.
Сотник, пропустив солдат вперед, подбежал к вознице и, размахивая хлыстиком, закричал:
– Куда едешь, сучий сын? Не мог обождать там, на горе? Не видишь – казаки идут?
– Та я… – хотел было оправдаться возница, седой старик в соломенном капелюхе, но петлюровский сотник вдруг повернулся и, догоняя отряд, закричал:
– Отставить песню!..
И не успели затихнуть голоса петлюровцев, как сотник звонко скомандовал:
– Смирно!
Солдаты сразу пошли по команде «смирно», повернув головы налево. Вороненые дула карабинов перестали болтаться вразброд и заколыхались ровнее, но чего ради он скомандовал «смирно»? Ах, вот оно что!
На тротуаре появились два офицера-пилсудчика. Один из них – маленький, белокурый, другой, постарше, – краснолицый, с черными бакенбардами. Пилсудчики идут, разговаривая друг с другом, и не замечают поданной команды. Сотник остановился и смотрит на пилсудчиков в упор.
Не замечают.
Сотник снова командует на всю улицу:
– Смирно!
– Заметили.
Белокурый офицер толкнул краснолицего. Тот выпрямился, незаметно поправил пояс и зашагал, глядя на колонну.
Только когда первый ряд подошел к офицерам, оба ловко вскинули к лакированным козырькам конфедераток по два пальца. А сотник вытянулся так, словно хотел выскочить из своего френча, и, нежно ступая по мостовой, приставив руку к виску, прошел перед пилсудчиками, как на параде.
Мы ехали медленно рядом с офицерами по узенькой и кривой улице. Куница искоса разглядывал их расшитые позументами стоячие воротники. Офицеры шли улыбаясь, маленький, покрутив головой, сказал:
– Совершенно ненужное лакейство!
– Но чего пан поручик хочет? Он мужик и мужиком сгинет, – ответил белокурому офицер с бакенбардами и, вынув из кармана маленький, обшитый кружевами платочек, стал сморкаться, да так здорово, что бакенбарды, словно мыши, зашевелились на его румяных щеках.
Я понял, что пилсудчики смеются над петлюровским сотником, который дважды подавал команду «смирно», лишь бы только выслужиться перед ними.
У Гимназической площади пилсудчики повернули в проулочек к своему штабу, а мы с грохотом въехали на площадь.
Замощенная булыжником, она правильным квадратом расстилалась перед гимназией.
В гимназии было тихо.
Видно, еще шли уроки.
Не успела лошадь остановиться, как мы с Юзиком спрыгнули с подводы и побежали по каменной лестнице наверх, в учительскую.
Навстречу нам попался учитель украинского языка Георгий Авдеевич Подуст. Его на днях прислали в гимназию из губернской духовной семинарии.
Немолодой, в выцветшем мундире учителя духовной семинарии, Подуст быстро шел по скрипучему паркету и, заметив нас, отрывисто спросил:
– Принесли?
– Ага! – ответил Куница. – Полную подводу.
– Что?.. Подводу?.. Какую подводу? – удивленно смотрел на Куницу Подуст. – Я ничего не понимаю. Вас же за гвоздями посылали?
Я уже знал, что учитель Подуст очень рассеянный, все всегда путает, и сразу пояснил:
– Мы на кладбище за барвинком ездили, пане учитель. Привезли целую подводу барвинка!
– Ах, да! Совершенно точно! – захлопал ресницами Подуст. – Это Кулибаба за гвоздями побежал. А вы Кулибабу не встречали?
– Не встречали! – ответил Юзик.
И Подуст побежал дальше, но вдруг быстро вернулся и, взяв меня за пряжку пояса, спросил:
– Скажи, милый… Ты… Вот несчастье… Ну как твоя фамилия?
– Манджура! – ответил я и осторожно попятился. Всей гимназии было известно, что Подуст плюется, когда начинает говорить быстро.
– Да, да. Совершенно точно. Манджура! – обрадовался Подуст. – Скажи, какие именно стихотворения ты можешь декламировать?
– А что?
– Ну, не бойся. Тебя спрашивают.
– «Быки» могу Степана Руданского, а потом… Шевченко. Только я забыл трошки.
– Вот и прекрасно! – сказал Подуст и, отпустив мой пояс, потер руки. – В этом есть большой смысл: наша гимназия названа именем поэта Степана Руданского, а ты прочтешь на первом же торжественном вечере его стихи. Прекрасная идея! Лучше не придумать… Теперь слушай. Иди немедленно домой и учи все, что знаешь. Нет, пожалуй, не все, а так, приблизительно два-три стихотворения. Только знаешь… хорошо… выразительно!
Он закашлялся и потом, нагнувшись ко мне, прошептал:
– Хорошо учи. Чуешь? Возможно, сам батько Петлюра придет…
– А домой идти… сейчас?
– Да, да… и сразу же учи. А в гимназию придешь послезавтра. И я сам тебя проверю.
– А если пан инспектор спросит?
– Ничего. Я ему сообщу… Твоя фамилия?
– Манджура!
– Так, так, Манджура, совершенно точно. Будь спокоен, – пробормотал Подуст и сразу побежал в темный коридор.
– Эх ты, подлиза!.. – Куница хмуро посмотрел на меня и, передразнивая, добавил: – «Быки» могу… и потом Шевченко»! Нужно тебе очень декламировать. Выслуживаешься перед этим гадом! Поехали б лучше снова за барвинком.
Целый вечер я разгуливал по нашему огороду, между грядками, и бубнил себе под нос:
Вперед, бики! Бадилля зсохло, Самi валяться будяки, А чересло, лемиш новii… Чого ж ви стали? Гей, бики!– «Быки, быки!» – крикнула мне, выглянув из окна, тетка. – Ты мне со своими «быками» все огурцы потопчешь. Иди лучше на улицу!
– Ничего, тетя, не зачипайте! Я учусь декламировать стихотворение, – весело ответил я. – Меня, может, сам батько Петлюра приедет слушать. Если мне дадут награду, я и вам половину принесу!
Проклятые «Быки» меня здорово помучили. Смешно: такое легкое на вид стихотворение, а заучивать его вторично наизусть было гораздо труднее, чем те вирши Шевченко, которые я учил очень давно, еще в высшеначальном училище. Их я повторил раза три по «Кобзарю» – и все, а вот с «Быками» провозился долго. Все путалось, как только я начинал читать наизусть.
Сперва я читал, как созревает хлеб на полях и как текут молоко и мед по святой земле, а уже потом – как быки, вспахивая поле, ломают бурьяны и чертополох. А надо было читать как раз наоборот. Я уже пожалел даже, что вызвался учить именно эти стихи, про быков. Но тогда, пожалуй, Подуст не отпустил бы меня домой.
…Лишь к вечеру следующего дня я, наконец, заучил правильно стихотворение про быков и утром с легким сердцем пошел в гимназию к Подусту.
– Ага, Кулибаба! – радостно сказал Подуст. – Будешь… выжимать гири?
«Вот и старайся следующий раз для такого черта, а он даже не может запомнить меня», – подумал я и ответил:
– Я не Кулибаба, а Василий Манджура. Вы мне велели учить стихи.
– Манджура? Ну, не все одно – Кулибаба, Манджура?
Пряча в карман пенсне, Подуст предложил:
– Пойдем в актовый зал, прорепетируем!..
И только мы переступили порог актового зала, изо всех окон мне в глаза ударило солнце.
За те дни, пока я не ходил в гимназию, в актовом зале произошли перемены. Вблизи сцены из свежих сосновых досок выстроили высокую ложу. Через весь зал были протянуты две толстые гирлянды, сплетенные из привезенного нами барвинка. Вместе со стеблями барвинка в гирлянды вплели шелковые желто-голубые ленты. Гирлянды перекрещивались под сверкающей в солнечных лучах хрустальной люстрой. Крашенные масляной краской стены актового зала были хорошо вымыты и тоже блестели на солнце. Вверху, под лепными карнизами, висели портреты петлюровских министров, а у белой кафельной печки, перевитый вышитым рушником, виднелся на стене большой портрет Тараса Шевченко.
Подуст взобрался на суфлерскую будку и, сидя на ней, точно на седле, кивнул:
– Давай!
Было очень неловко декламировать в этом пустом солнечном зале на скользком паркете, но я откашлялся и начал с выражением:
Та гей, бики! Чого ж ви стали? Чи поле страшно заросло? Чи лемеша iржа поiла? Чи затупилось чересло?Я видел перед собой широкий, весь в мелких ямках, нос учителя, видел совсем близко зеленоватые близорукие глаза его, посыпанный перхотью и засаленный воротник его мундира.
Подуст в такт чтению притопывал ногой.
Не дождавшись, пока я кончу, он вскочил и чуть не опрокинул суфлерскую будку.
– Дуже гарно! Только чуть-чуть громче. Вирши Шевченко в таком же духе читаешь?
Я кивнул головой.
– И хорошо. Это будет коронный номер. Советую только тебе выпить сырое яйцо, перед тем как выйдешь на сцену, чтобы не сорвался голос. Не забудешь?
– А утиное можно?
– Это не играет роли – утиное или куриное. Важно, чтобы сырое было. Понял?
– Послушайте остальные, пане учитель…
– Ой! – вдруг ударил себя ладонью по лбу Подуст. – Меня же пан директор ждет. Я совсем забыл.
Тут же он спрыгнул на паркет и поскользнулся. Я его поддержал.
– Да, постой, как твоя фамилия?
Вынув карандаш и листок бумаги, щуря свои подслеповатые глаза, Подуст посмотрел на меня так, будто видел меня в первый раз.
– Манджура! – снова подсказал я и снова про себя обругал учителя.
– Чудесно. Итак, я записываю: ученик Манджура – декламация.
Записочку эту Подуст не потерял. Когда в день праздника я пришел в гимназию, меня встретил на лестнице Юзик и насмешливо сказал:
– Подумаешь, артист…
Он вынул из кармана розовую программку и протянул ее мне. Рядом со словом «декламация» в этой программке я нашел напечатанную настоящими типографскими буквами свою фамилию. Это было очень приятно.
– Петлюра будет! – наклоняясь ко мне, прошептал Куница.
– Правда?
– А вот смотри, уже караулит!
Мимо нас, высоко подняв голову и, видно, высматривая кого-то, прошел в хорошо выутюженном мундире директор гимназии Прокопович. Из петлицы мундира у него торчал букетик цветов иван-да-марьи. Директор нарочно посылал в соседний Должецкий лес гимназического сторожа Никифора за этими желто-синими цветами. Говорили, что Прокопович дружит с Петлюрой, а Подуст даже рассказывал, что наш директор скоро будет у атамана министром просвещения.
До начала вечера оставалось много времени.
Вдвоем с Куницей мы долго бродили по гимназическим коридорам, зашли в разукрашенный сосновыми ветками буфет, и там он угостил меня сельтерской водой с вкусным сиропом «Свежее сено». Взамен я разрешил ему залезть ко мне в карман и вытащить оттуда пригоршню жареной кукурузы. Мы грызли эти белые, лопнувшие на огне зернышки и следили, как высокий скаут Кулибаба, стоя с посохом на контроле, пускает в гимназию приглашенных гостей. Когда кто-нибудь пробегал мимо меня, я сторонился: боялся, что раздавят утиное яйцо, которое я принес с собой на вечер. Оно лежало в фуражке. Это яйцо сегодня снесла наша старая белая утка, и я тайком от тетки стащил его из гнезда.
Было непривычно гулять по коридору в тесном суконном мундирчике. Я одолжил его у зареченского хлопца Мишки Криворучко, которого еще при гетмане выгнали из гимназии за то, что он побил окна в доме помещика Язловецкого. Мундир жал под мышками, было жарко.
Чем больше собиралось в актовом зале народу, тем страшнее становилось мне. Ведь я никогда раньше не декламировал на таких вечерах. В классе у доски я читал наизусть вирши, но то были в классе, где сидели свои, знакомые, хлопцы из высшеначального.
Здесь же многих людей, особенно военных, я не знал. У меня сильно колотилось сердце и тяжелели ноги, когда мы с Куницей, прогуливаясь по коридору, подходили к дверям зрительного зала.
– Говорят, на Русских фольварках сегодня выключили электричество, чтобы у нас горело всю ночь. Слышал? – прошептал мне Юзик.
– Да? Нет, не слышал! – ответил я.
На Заречье, где жили мы, и вовсе никогда не было электричества. Стоило ли мне теперь из-за этого тревожиться? Зато я все чаще подумывал: а не сбежать ли мне отсюда, пока не поздно? Самое страшное – мне все больше и больше казалось, что я забыл стихи. Шевеля холодными губами, я шептал про себя строчки и с перепугу вовсе не понимал ничего. Чудилось, что это не я читаю, а что рядом со мной идет совсем незнакомый человек и нашептывает на ухо какие-то чужие и непонятные слова.
А тут еще Куница пристал. Заглянув мне в лицо, он засмеялся:
– Йой! Чего ты такой белый, Васька, словно тебя мелом вымазали?
– Откуда ты взял?
– Да, откуда, – засмеялся Куница. – Я знаю, ты боишься. Правда? А ну, признавайся!
– И совсем не страшно! – сказал я твердо, но тотчас предложил: – Юзик, а давай я тебе прежде прочту! Вот зайдем сюда! – И я кивнул головой на полуоткрытую дверь темного класса.
Юзик заглянул в класс, но, видно, ему не понравилось, что в классе совсем темно, и он сказал, грызя кукурузу:
– Нет, зачем здесь? Я тебя лучше в зале послушаю.
– А как объявлять лучше: вирш Шевченко или вирш Тараса Григорьевича Шевченко?
– Ну конечно, Тараса Григорьевича. Ведь так нам и Лазарев объяснял.
В эту минуту пронесся черноволосый восьмиклассник с повязкой распорядителя на рукаве и закричал на весь коридор:
– Артисты, на сцену!
– Иди! – И Юзик втолкнул меня в освещенный актовый зал.
По сцене бегали гимназисты, кто-то гремел гирями, выжимая их одной рукой. Пахло пудрой и нафталином. Я осторожно пробирался в глубь сцены, где было потемнее… Откуда ни возьмись, навстречу мне выскочил запорожец с седыми усами, в голубом кунтуше. Кривой ятаган висел у запорожца на боку. Я шарахнулся в сторону и чуть не полетел, споткнувшись о чугунную гирю. Яйцо запрыгало у меня в фуражке.
Запорожец засмеялся и крикнул басом:
– Ага, Васька, не узнаешь, а я тебе зараз голову срубаю! – Выхватив ятаган, он и в самом деле занес его над моей головой.
Узнав по голосу, что это не настоящий запорожец, а наш одноклассник, долговязый Володька Марценюк, я мигом схватил его за глотку.
– Это еще что за баловство? – послышалось сзади.
Я сразу отпустил запорожца. Возле нас стоял Подуст.
Я посмотрел на него и даже не поверил, что это Подуст. Из-под бархатного воротника его нового мундира торчал чистый крахмальный воротничок, редкие седые волосы были причесаны, даже пенсне он надел новое, парадное, с блестящей золоченой дужкой, которая, точно клешня рогача, впилась в красную, мясистую переносицу учителя. Прямо не верилось, что этот франт и есть наш старый, похожий на сельского дьячка учитель Подуст, которого мы все за его рассеянность прозвали Забудькой.
– Ага… Манджура! – сказал он мне весело и хитро подмигнул. – Ну, держись, держись, я тебя выпускаю первым во втором отделении.
В эту минуту на сцену вбежал черноволосый гимназист-распорядитель. Он бросился к Подусту и прошептал:
– Георгий Авдеевич! Головной атаман едут…
С улицы в открытые окна актового зала донеслось гудение машины.
Все, кто был на сцене, подбежали к занавесу. Но дырок на всех не хватило, а меня совсем оттеснили. Я быстро спрыгнул с подмостков и, отбежав шага два в сторону, остановился у глухой полотняной стенки, которая отделяла актовый зал от сцены. Я мигом достал карандаш и проколупал в полотне очень удобную дырку. Через эту дырку я увидел, как батько Петлюра со свитой вошел в зал. Навстречу ему выскочил Прокопович и, уронив палку, обнял атамана. Они поцеловались. Даже здесь, за сценой, было слышно, как кто-то из них смачно чмокнул мясистыми губами. Гимназисты вскочили со своих мест и заорали «слава».
Петлюра махнул им рукой, чтобы они садились, а сам направился дальше. Он прошел под самой сценой и сел в ложе, в каких-нибудь пяти шагах от меня. Очень было неприятно смотреть на него в упор, так и хотелось все время отвернуться, но я, пересиливая страх, смотрел.
Одетый в синий, наглухо застегнутый френч, Петлюра сидел в ложе на плюшевом кресле, заложив ногу на ногу. В руках он держал фуражку-«керенку» с золотым трезубцем на околышке. Волосы у Петлюры были зачесаны налево и лежали гладко: наверное, он смазал их репейным маслом.
Мне показалось, что я где-то видел Петлюру, но где – я сперва припомнить не мог, а вспомнил только после. На жестяной, выгоревшей от солнца вывеске у нашего зареченского парикмахера Новижена был нарисован вот такой же прилизанный, надменный мужчина.
Петлюра все время озирался по сторонам, один раз он даже нагнулся и незаметно посмотрел под мягкий пружинный стул, на котором сидел, и, увидев, что под стулом никого нет, уже спокойнее стал рассматривать портреты своих министров.
За плечами у батьки на деревянных перилах ложи сидел начальник контрразведки Чеботарев. Даже сами петлюровцы называли его Малютой Скуратовым. Чеботареву было скучно тут, в гимназии. Широкоплечий, с лицом, изрытым оспой, одетый в серую австрийскую форму, с тяжелым маузером на боку, Чеботарев позевывал – видно, ему очень хотелось уйти. Кроме Чеботарева, других петлюровских старшин в ложе не было.
Петлюру окружали офицеры-пилсудчики в нарядных голубоватых мундирах. Просторная ложа была сплошь забита ими. Среди пилсудчиков я вдруг заметил офицера с черными бакенбардами, которого мы с Маремухой видели несколько дней назад в городе. Он сидел на венском стуле рядом с атаманом и что-то вполголоса ему рассказывал. Петлюра заулыбался. Он вытащил из кармана длинный гребешок и осторожно так, словно боялся расцарапать кожу, стал зачесывать набок свои липкие маслянистые волосы. А пилсудчик с бакенбардами хлопнул себя по коленке и затем, круто повернувшись, вдруг поманил кого-то перчаткой. Кого он зовет? А, ксендза!
Высокий, худой, с гладко выбритыми запавшими щеками, согнувшись, он пробирался между рядами скамеек, и гимназисты, вставая один за другим, давали ему дорогу. На голове у ксендза была смешная бархатная шапочка. Осторожно забравшись в ложу, ксендз поклонился – сперва Петлюре, затем офицерам. Откуда ни возьмись со стулом в руках подскочил черноволосый распорядитель. Даже не посмотрев на него, ксендз ловко одной рукой поднял стул и сел. Сутана его распахнулась, и я увидел под ней хорошо начищенные сапоги с высокими голенищами. Ксендз снял шапочку, и выбритая кружочком на его голове тонзура заблестела под ярким светом люстры. «Наверное, это какой-нибудь знаменитый, особенный ксендз, – подумал я, – раз и Петлюра его знает».
В эту минуту в зале погас свет, и со сцены послышался голос директора гимназии Прокоповича.
То и дело запинаясь, директор густым басом говорил, как ему радостно на душе оттого, что в гимназию пришли такие дорогие гости, да еще в эти дни заключения военного союза с маршалом Пилсудским против большевиков.
Тут через дырку я увидел, что Петлюра и пилсудчики встали. Спрыгнул с перил ложи и Чеботарев, и доски заскрипели под ним. Повскакали со своих мест скауты, гимназисты стали кричать «слава», а оркестр громко заиграл «Ще не вмерла Украiна», и зайчики от поднятых медных труб музыкантов побежали в разные стороны полутемного зала.
Петлюра, как только заиграла музыка, надел фуражку и взял под козырек. Так же по команде «смирно» стояли в ложе польские офицеры. Перебирая четки, вытянулся вместе с ними и ксендз. Едва затихли последние звуки петлюровского гимна и все стали рассаживаться по местам, как директор гулко, словно в пустую бочку, закричал в актовый зал:
– За процветание нашей дорогой союзницы великой Речи Посполитой и ее маршала Юзефа Пилсудского – слава!
– Слава! Виват! – заорали вразброд гимназисты.
Кто-то крикнул «виват» даже и здесь, за сценой. Оркестр снова заиграл, только на этот раз уже польский гимн. В эту минуту меня взяли за шиворот. Я оглянулся. Сзади, с тесаком на ремне, одетый в бойскаутскую форму, стоял здоровенный Кулибаба. Вблизи он казался еще выше.
– А ну, дай посмотрю! – властно прошипел он.
– Только недолго! – попросил я и посторонился.
Но Кулибаба, видно, и не думал скоро уходить. Он смотрел в зал, слегка согнувшись и широко раздвинув свои голые до коленей, волосатые ноги. Тесак, как маятник, болтался на поясе Кулибабы. Мне надоело караулить дырку, и я пошел прочь.
Я не стал смотреть, как бойскауты-спортсмены выжимали гири и делали пирамиды, – эти штуки я видел не раз на гимназическом дворе. Я бродил в глубине сцены и только слышал, как там, за декорациями, раз за разом ухают, падая на пол, тяжелые гири.
Но вот живую картину я пропустить никак не мог. Пока со сцены убирали ковры и оттаскивали в сторону гири, я хорошо устроился у сигнального колокола. Отсюда сцена была видна гораздо лучше, чем из ложи, а самое главное – артисты бегали рядом, их при желании можно было тронуть рукой.
Занавес, звеня кольцами, раскрылся. На сцене, вокруг деревянного простого стола, сидели запорожцы. Сперва они молчали и даже не шевелились. Вдруг голый до пояса, рыжечубый запорожец затрясся, словно в падучей, откинулся назад и наотмашь ахнул кулаком по спине другого, тоже обнаженного до пояса, запорожца в папахе с красным верхом. Удар был очень сильный, бедный запорожец не выдержал и даже глухо крякнул на весь актовый зал. А в это время лысый, с седым чубчиком на лбу, старый запорожский вояка громко засмеялся и будто бы от смеха повалился на пивную бочку, что лежала около суфлерской будки. Пока этот лысый смеялся, изо всех углов к столу стали сбегаться с пиками, со свернутыми знаменами остальные запорожцы. Подбежав к столу, они наклонились над писарем, а писарь в черном камзоле с белым воротником что-то быстро зацарапал сухим гусиным пером по бумаге.
У меня под самым ухом звякнули в колокол.
И по этому сигналу артисты вдруг замерли на своих местах, где кто был, все стало очень похоже на картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Эта картина висела у нас в учительской. Прошла минута, другая, а запорожцы все сидели и стояли на сцене как вкопанные – мне даже надоело смотреть на них, а в зале стали кашлять.
Занавес задергивали очень медленно, и артисты не трогались с места до тех пор, пока обе его половинки не сошлись совсем.
Не успел я отойти от колокола, как ко мне, поправляя пенсне, подбежал Подуст.
– Приготовься, милый! Твоя очередь! – сказал он.
– Как, уже? Лучше я после…
– Ничего, не бойся! – подбодрил меня Подуст и одну за другой проверил все пуговицы на своем мундире. Затем он подошел к зеркалу и посмотрелся.
Пока Подуст прихорашивался, я осторожно вынул из фуражки утиное яйцо, разбил его и выпил тут же, на сцене. Яйцо было теплое, скользкое, очень противное.
Точно во сне, я услышал протяжные слова Подуста:
– Сейчас, панове, выступит с декламацией ученик пятого класса Украинской державной гимназии Василий Манджура!
Не помню, как я выбежал на сцену. Я остановился уже около самой рампы и чуть-чуть не раздавил ногой электрическую лампочку. Освещенные красноватым отблеском сцены, пристально смотрели на меня из первых рядов учителя и гимназисты. Я заметил в плетеном кресле в первом ряду бородатого директора гимназии Прокоповича. Он сидел, зажав ногами палку. Сбоку в темной ложе блестела гладко зачесанная голова Петлюры. В зале было очень тихо.
– Вирш подолянина Степана Руданского «Гей, бики!» – несмело начал я и, сразу отважившись, продолжал:
Та гей, бики! Чого ж ви стали? Чи поле страшно заросло? Чи лемеша iржа поiла? Чи затупилось чересло?Во всех углах зала, пугая меня, загрохотало эхо. Чтобы заглушить его, я еще громче спрашивал:
Чого ж ви стали? Гей, бики!Страшный и далекий зал слушал. Как большие косы, отбрасывая на стены длинные тени, свисали над публикой две гирлянды барвинка.
И вдруг я вспомнил кладбище: мы с Куницей рвем барвинок для торжественного вечера. Нам так спокойно меж могил! Высокие бересты и грабы почти сплошь закрывают памятники от солнца, изредка захлопает тугими крыльями вверху, в густой листве, горлица; потурчит немного да и улетит прочь, за реку, в лес, где посветлее и не так пустынно.
И мне захотелось убежать отсюда куда угодно, хоть на кладбище…
Но я видел пристальные взгляды учителей, они ждали, чтобы я читал дальше.
Вдруг в зале послышался стук шагов. Под самой сценой прошел к выходу Чеботарев. Мне сразу стало легче. Собрав последние силы, я закричал:
Та гей, бики! Зерно поспiэ, Обiллэ золотом поля. I потече iзнову медом I молоком свята земля. I все мине, що гiрко було, Настануть дивнii роки. Чого ж ви стали, моi дiти? Пора настала! Гей, бики!В ответ мне громко захлопали. Я сразу повернулся, но не успел забежать за кулисы, как меня остановил Подуст.
– Молодец! Чудесно! Читай еще!
Теперь, после похвалы учителя, мне было не так уж боязно. Я вернулся обратно к рампе, поклонился и объявил:
– «Когда мы были казаками». Вирш Тараса Шевченко!
В зале снова захлопали – видно, им в самом деле понравилась моя декламация, только директор Прокопович вдруг заерзал на своем скрипучем кресле, но я, не глядя на него, смело начал:
Когда мы были казаками, Еще до унии, тогда Как весело текли года! Поляков звали мы друзьями, Гордились вольными степями, В садах, как лилии, цвели Девчата, пели и любились… Сынами матери гордились, Сынами вольными… Росли…Тут я перевел дыхание, глотнул как можно больше воздуха и вдруг услышал шепот:
– Манджура! Манджура!
Я повернул голову.
Сбоку из-за холщовых декораций с перекошенным лицом на меня страшно смотрел учитель Подуст. Он делал мне какие-то знаки. Я решил, что, наверно, ошибся и какую-нибудь строку прочитал не так. Чтобы не заметили моей ошибки, я еще громче и быстрее продолжал:
…Росли сыны и веселили Глубокой старости лета… Покуда именем Христа Пришли ксендзы и запалили Наш тихий рай. И потекли Моря большие слез и крови, А сирых именем Христовым Страданьям крестным обрекли…Что такое? Теперь очень странно смотрел на меня и директор гимназии бородатый Прокопович. Он вдруг поднял палку и погрозил ею мне так, будто хотел прогнать меня со сцены. Потом он поднес руку к бороде и ладонью закрыл себе рот. Похоже было – ему не нравилось, как я читаю. И в ложе, где сидел Петлюра, зашумели. Сквозь полумрак зала я увидел, как один за другим поднимались со своих стульев пилсудчики, я слышал, как звенели их шпоры.
– Манджура! Манджура! – неслось из-за кулис.
Я совсем растерялся.
«А может, это все мне только кажется?» – подумал я.
И, чувствуя, как к лицу приливает кровь, чувствуя, как все сильнее тянет меня к себе зрительный зал, едва удерживаясь, чтобы не упасть туда, вниз, на скользкий паркет, я быстро прочитал:
Поникли головы казачьи, Как будто смятая трава. Украина плачет, стонет, плачет! Летит на землю голова За головой. Палач ликует, А ксендз безумным языком Кричит……На меня с визгом несся занавес.
И не успел я прочитать последних строк вирша, не успел даже отскочить назад, как обе половинки плотного суконного занавеса хлопнули меня по ушам.
Я бросился назад, и в ту же минуту меня со страшной силой, точно тяжелым свинцовым кастетом, ударили под глаз. На секунду все лампочки на сцене потухли, но потом зажглись с такой силой, будто яркие молнии закружились перед моим лицом. И в этом ослепительном свете, вспыхнувшем у меня перед глазами, я увидел бледное и злое лицо Подуста, его выставленные вперед костлявые кулаки.
Подуст хотел ударить меня вторично, но я быстро пригнулся, и кулак учителя пролетел у меня над головой. Я пустился к двери, но Подуст пересек мне дорогу. Его пенсне упало на пол. Мундир расстегнулся.
– Стой! Стой!.. Куда, сволочь?.. – хрипел Подуст и размахивал руками.
Уклоняясь от его ударов, я метался из одного угла в другой, я уже прямо ползал по полу. Горячие соленые слезы лились по лицу, застилали мне глаза. Еще немного, и я, совсем обессилев, грохнулся бы на пол. Но в эту минуту я услышал за спиной голос директора гимназии.
– Где он? – спросил директор, опираясь на буковую палку с серебряными монограммами.
– Вот, полюбуйтесь! – сказал бледный Подуст, тыча в меня пальцем и быстро застегивая мундир.
– Вы тоже хороши! – крикнул директор и подошел вплотную к Подусту. – Я же приказывал вам проверить программу… А вы… Это же позор, позор, вы понимаете? Так оскорбить наших союзников! Так оскорбить католическую церковь!
Прислушиваясь к словам директора, я решил, что меня бить не будут. Мне даже стало радостно, что из-за меня попало Подусту. «Так тебе и надо, черт очкастый, чтоб не дрался!» Но только я подумал это, утирая грязной ладонью слезы, как директор схватил меня за воротник и, повернув свою руку так, что воротник сразу стал меня душить, закричал:
– Мерзавец! Понимаешь, что ты обесславил нашу гимназию? Да еще в такой день! Об этом доложат Пилсудскому. О боже, боже! Понимаешь ты это или нет, байстрюк?
А что я мог сказать директору, когда я ничего не понимал?
Если я, допустим, сделал ошибку, так зачем же драться?
Я думал: «Кричи, кричи, а я буду молчать».
И молчал.
Директор оглянулся. Со всех сторон, из окон и дверей этой размалеванной под украинскую хату декорации, вытянув длинные худые шеи, глядели на нас перемазанные гримом запорожцы. Одни уже сняли усы и парики, другие еще были в париках.
Вдруг из зала приоткрыли занавес. Оттуда выглянул гимназист-распорядитель и с испугом прошептал:
– Пане директор, вас требуют!
Прокопович вздрогнул и, схватив меня за шиворот, приказал:
– Будешь извиняться! – и сразу же потащил к лесенке, ведущей в зал.
– Куда?.. Я не хочу… Пустите, пане директор… Пустите! Я же ничего не сделал…
– Ах ты злыдня… Ты еще издеваешься?.. Ты ничего не сделал? Да? – выкрикнул директор и сразу потянул меня за собой так, что я упал на колени и проехал на карачках по скользкому паркету несколько шагов.
Но даже извиниться мне не пришлось.
Не успел директор подтащить меня к ложе, как оттуда, звеня шпорами, спустился пилсудчик с черными бакенбардами. Следом за ним двинулись к нам Петлюра и его свита.
– Кто тебя научил, лайдак? – в упор выкрикнул офицер с бакенбардами.
Директор отпустил меня, и теперь я стоял свободный…
– Пся крев! Кто научил, я пытам? – снова повторил пилсудчик. От него сильно пахло табаком и духами.
– Никто, – ответил я, оглядываясь и думая, как бы удрать.
– Як то никто? Кто научил, мув! Ну? – И офицер поднял над моей головой кулак.
Я съежился. Еще сильнее заныла щека. Я вспомнил, как меня бил Подуст, как не дал он мне дочитать стихи Шевченко, и, всхлипывая, выпалил:
– Подуст научил!
– А-а, Подуст! Кто то таки ест Подуст? – Офицер пристально посмотрел на директора.
– Прошу прощения. Подуст – это наш преподаватель, вот он, кстати, здесь! – ответил директор, показывая на Георгия Авдеевича.
– Вы?
Пилсудчик сразу направился к Подусту.
– Это неправда! – застонал Подуст и попятился. – Это наглая клевета… Я не проходил с ними Шевченко… У них был недопущенный теперь в гимназию Лазарев. Возможно, это он…
– Що ж вы брешете, пане учитель! Вы ж мне наказували, щоб… – всхлипывая, закричал я, но тут рядом с офицером появился ксендз.
– Пшепрашам! – не обращая на меня внимания, сказал он тихо Подусту. – Пан его не учил. Я то розумем. Але ж як пан допустил его читать вирши тэго святотатца? Тэго одвечнэго врога косцьолу польскего и Ватикану?
– Я думал… – забормотал Подуст, – я думал, он «Садок вишневый» прочтет…
– «Думали, думали!..» – во весь голос закричал офицер, и щеки его налились кровью. – Чего вы нам морочите головы! То есть большевистска пропаганда… от цо! – И, обращаясь к директору, он со злостью добавил: – Прошу убедиться, портрет этого разбойника у вас на главном месте висит. Он научит ваших гимназистов, как убивать людей на большой дороге.
И все, кто был вокруг, задрали головы и стали смотреть под потолок, туда, где в тяжелой золоченой раме, покрытой вышитым украинским полотенцем, висел нарядный портрет Тараса Шевченко. Сердитый, большелобый, в распахнутом овчинном тулупе, в теплой смушковой шапке, нахмурив брови, он смотрел с портрета прямо на нас.
Петлюра, желая угодить пилсудчикам, шагнул к директору и резко, словно совершенно незнакомому человеку, крикнул ему, указывая на портрет:
– Снять!
И в ту же минуту несколько скаутов, обгоняя друг друга, бросились к стене. Первый из них с шумом придвинул к ней высокую лакированную парту. Кто-то взгромоздил на парту длинную скамейку. Сразу же на эту скамейку полез черноволосый распорядитель.
Поймав золоченую раму портрета, он изо всей силы дернул портрет вниз.
С треском лопнула веревка.
Как только портрет Шевченко стукнулся о край парты, его мигом схватили два скаута и поволокли в темный коридор.
На желтой стене зала, под лепными карнизами, торчал теперь только один большой крюк, и возле него колыхалась запорошенная пылью, потревоженная паутина.
– А с ним как быть? – показывая на меня, тихо спросил у офицера с бакенбардами директор Прокопович.
– С ним? – Пилсудчик презрительно пожал плечами. – Ну, если пан директор и сейчас нуждается в советниках, тогда мне только остается пожалеть ваших учеников!
Прокопович вздрогнул и залился краской. Он суетливо посмотрел на Подуста. Рядом с Подустом стоял, ухмыляясь, Кулибаба.
Прокопович поманил его палкой. Кулибаба, придерживая тесак, мигом подлетел к директору и козырнул на ходу Петлюре. Кивая на меня, директор приказал Кулибабе:
– До карцеру! И не выпускать до моего распоряжения! А вы, – сказал он перепуганному Подусту, – продолжайте вечер. Завтра поговорим.
Когда Кулибаба выводил меня в коридор, у выхода столпилось много гимназистов. Кто-то тыкал в меня пальцем. Я шел упираясь. Хотелось заползти далеко под парты, чтобы только меня не разглядывали, как обезьяну. Легче стало лишь в темном коридоре. Откуда ни возьмись, подбежал ко мне Куница и прошептал:
– Не журись, Василь, выручим!..
Кулибаба с ходу ударил Юзика ногой, и тот, отпрыгнув в темноту, заголосил оттуда на весь коридор:
Кулибаба, Кули-дед. Бабу просят на обед.Видя, что Кулибаба молчит, Юзик помчался вперед и, только мы поравнялись с темным классом, громко закричал оттуда:
– Эй ты, волосатый, иди сюда!
Кулибаба не останавливался.
Я понял, что Куница хочет спасти меня и нарочно дразнит Кулибабу. Куница думал, что Кулибаба бросится за ним, а я в это время смогу удрать.
– Боишься? Иди, иди сюда, балобошка, я тебе надаю! – кричал Куница, бегая позади нас.
Но Кулибаба оказался хитрее и меня таки не отпустил.
Карцер помещался в подвальном этаже гимназии, около дровяных сараев. Кулибаба втолкнул меня туда и сразу же, не зажигая света, на ощупь закрыл на висячий замок окованную жестью дверь.
В карцере было сыро, пахло осенним лесом, опенками, давно покинутыми вороньими гнездами. Хорошо еще, что на дворе светила полная луна. Ясный ее свет проникал в карцер сквозь решетчатое окошечко. Стекла в нем были наполовину разбиты, и я хорошо слышал, что делается в гимназии.
Вверху, в актовом зале, сдвигали парты.
Потом заиграл духовой оркестр. Начались танцы. Звуки краковяков, матчишей и вальсов долетали ко мне сюда. Я слышал, как шаркали по полу ноги танцующих. Кто-то, возможно, черноволосый распорядитель, во все горло кричал там, наверху:
– Адруат, панове! Авансе!
Было очень обидно сидеть здесь, в темном и сыром карцере, а самое главное – не знать, за что именно тебя посадили. А тут еще щека здорово болела, я чувствовал даже, как напухает глаз, – проклятый Подуст меня очень крепко ударил; я не знал раньше, что он может драться.
И мне так стало жалко, что нет у нас Лазарева, с которым нас разлучили пилсудчики. Да разве позволил бы он себе когда-нибудь ударить ученика? Ни за что на свете! Он и в угол никого не ставил, а не то чтоб драться. И я вспомнил вдруг все то, что рассказывал нам Лазарев о Шевченко. Как мучили его проклятые паны, как загнал его в далекую ссылку царь.
Наверное, много ночей просидел Шевченко вот так же, как я теперь, в сырости и холоде, за железной решеткой. И били, наверное, его не раз…
Вспомнилось, как Лазарев рассказывал, что Тарас Шевченко, путешествуя по Украине, заехал и в наш старинный город. Он жил здесь у народного учителя Петра Чуйкевича, записал от него песни про повстанца Устина Кармелюка, побывал в селе Вербка, где одна из гор названа крестьянами горой Кармелюка. Тарас Григорьевич ходил, должно быть, не раз в Старую крепость, осматривал башню, где томился Кармелюк, и холодные каменные ее стены напоминали поэту те тюремные камеры, где держали и его жандармы.
И мне стало приятно, что я пострадал за него. И вдруг показалось, что Шевченко смотрит на меня из темного угла карцера – добрый, усатый Тарас Григорьевич. Мне даже послышалось:
– Не журись, Василь…
А музыка в актовом зале все продолжала играть.
Сидя на каменном полу карцера, я снова и снова повторял стихотворение Шевченко «Когда мы были казаками».
Здесь-то уж никто не мешал мне прочесть его спокойно, до конца. И в сырой тишине подвала, отчеканивая каждое слово, я читал сам для себя:
Поникли головы казачьи, Как будто смятая трава. Украина плачет, стонет, плачет! Летит на землю голова За головой. Палач ликует, А ксендз безумным языком Кричит: «Te deum! Аллилуйя!» Вот так, поляк, мой друг и брат мой, Несытые ксендзы, магнаты Нас разлучили, развели; А мы теперь бы рядом шли. Дай казаку ты руку снова И сердце чистое подай! И снова именем Христовым Возобновим наш тихий рай.«Чего же они ко мне присипались? Такие хорошие стихи! И даже дочитать не дали. Быть может, если бы дочитал, все бы ясно стало и никто бы не ругался? А впрочем, кто знает. Холера их возьми, чего им надо…»
Я вспомнил при этом, сколько у меня есть друзей-поляков на Заречье. Как мы хорошо живем с ними! Взять хотя бы Юзика Стародомского – Куницу. Дома он говорит только по-польски со своими родителями. И всегда на польские праздники мазурками меня угощает. Но ведь он-то не обиделся на меня за это стихотворение?
Я прислонился к холодной стене карцера, и у меня за спиной что-то звякнуло. Нащупал ржавое кольцо, вдетое в железную скобу, замурованную в кирпич. Откуда она взялась здесь? А быть может, прикованные цепями к этому кольцу, сидели здесь когда-то провинившиеся монахи? Неприятно, жутко стало при одной мысли об этом, и я отодвинулся от стены.
В это время какая-то тень скользнула по двору, и я услышал знакомый шепот Куницы.
– Василь, ты жив? – шепнул Куница, прижимаясь лицом к разбитому окну.
– А чего мне сделается? – как можно спокойнее ответил я.
– Тебе не страшно там?
– Пустяки!
Куница схватился обеими руками за оконные решетки, попробовал их расшатать, но, видя, что они крепко сидят в метровой монастырской стене, пробормотал:
– Их и кувалдой не выбьешь… Слушай, Василь, наши хлопцы сложились у кого что было и пошли к Никифору. Дали ему хабара два карбованца. Он обещал, как только директор ляжет спать, выпустить тебя. А мы тебя подождем возле входа в кафедральный собор. Вместе домой пойдем. Згода?
– Спасибо, Юзю, – сказал я, тронутый участием хлопцев, – только подождите обязательно…
ПУСТОЙ УРОК
Сегодня у нас немецкий. Учителя мы ждем долго. Уже звонок давно прозвенел, а он все не идет.
Кунице надоело сидеть на парте. Он влез на подоконник и, не раздумывая, щелкнул никелированной задвижкой.
– Гляди, Юзи, Цузамен тебя заругает! Он боится сквозняков! – крикнул Петька Маремуха с задней парты. Куница только упрямо мотнул головой и молча, не отвечая Маремухе, потянул к себе кривую оконную ручку.
Коричневая замазка посыпалась на пол. Окно медленно, со скрипом раскрылось.
Все звуки и запахи свежего солнечного утра ворвались в наш пыльный класс: мы услышали за окнами веселые голоса скворцов. На кафедральном соборе глухо ворковали голуби, за площадью на Житомирской улице, отнимая у проезжего крестьянина мешок с овсом, громко ругались два петлюровца. Сперва нам казалось, что они, желая припугнуть крестьянина, начнут стрелять вверх, но проезжий отдал им мешок, и подвода быстро покатилась вниз, к реке.
Нас всех сразу потянуло к окнам, к городскому шуму.
По классу загуляли веселые сквозняки, засеребрилась пыль над пустыми партами. Комната сделалась просторнее, шире – словно стены ее раздвинулись. Запахло весной, полями, и еще сильнее захотелось убежать отсюда на волю. Я лег на подоконник рядом с Юзиком. Чтобы не упасть, я уцепился рукой за его кожаный пояс и до половины высунулся наружу.
На площади, против здания гимназии, высился мрачный, облезлый кафедральный собор. Еще с начала войны его не ремонтировали. С толстых закругленных стен осыпалась штукатурка, кое-где кирпичи по росли рыжеватым мхом. Высокие сводчатые двери были открыты. В соборе шла служба.
Петька Маремуха вдруг соскочил с подоконника и кинулся к печке. Он пошарил рукой в углу, вытащил оттуда мятого бумажного голубя, вернулся на подоконник и, приподнявшись на левом локте, выбросил голубя в открытое окно.
Плавно покачиваясь, голубь пролетел над каштанами и упал на мокрые еще от росы булыжники.
– Да разве так бросают, эх ты, сальтисон! Это не голубь, а ворона ободранная! Гляди, Петька, я сейчас до самого собора доброшу! – крикнул из соседнего окна Котька Григоренко.
Голова его тотчас же исчезла, и он спрыгнул с подоконника на пол.
Мы обернулись.
Подпрыгивая и на ходу одергивая новенькую курточку, Котька подбежал к своей парте, вытащил серый пушистый ранец и вытянул из него первую попавшуюся тетрадку.
Даже не поглядев, что это за тетрадка, Котька вырвал из нее чистые листы. Потом он сложил их конвертиками, быстро смастерил трех голубей, приладил им хвосты, загнул клювы и ловко вскочил на подоконник.
Нежным, плавным толчком выбросил он первого голубя. Голубь, мы сразу заметили, пошел тяжело, будто клюв у него был свинцовый. Дважды он неловко вильнул хвостом и, не долетев даже до Петькиного голубя, завертелся и штопором упал на землю.
«Эх ты, задавака!» – чуть было не крикнул я Котьке. Но в это время два других голубя уже вылетели из окна.
Эти летят лучше. Плавно покачиваясь, словно живые турманы, и рассекая толстыми клювами воздух, скользят они над пустой площадью и, наконец, потеряв силу, спускаются на землю у самого собора.
В это время позади нас хлопнула дверь, и в класс ворвался долговязый Володька Марценюк.
– Ур-ра, ребята! Немец не пришел! – размахивая классным журналом, закричал Володька. – Честное слово, не пришел, два урока пустых!
Два пустых урока! Вот это здорово!
До каникул остается всего несколько дней. На дворе – теплынь, скоро каштаны зацветут. Зареченские хлопцы уже давно бегают в гимназию босиком. Из щелей каменного забора на гимназическом дворе повыползали красные жучки – «солдатики». Целыми семьями греются они на солнце, неподвижные, отощавшие за зиму. Греются и только изредка усами шевелят. Во дворе хорошо, а в классах хмуро, пыльно, неприветливо. Так бы и выбежал туда, во двор, под яркое солнце, на теплые камни мостовой. Разве можно сидеть в классе в такую погоду?
Молодец Цузамен, что опять не пришел на урок… На прошлой неделе совсем низко над городом, тяжело урча, пролетел большой двухмоторный немецкий аэроплан. Весь серый, блестящий, с черными крестами на широких крыльях, он появился в небе совсем неожиданно и, описав два круга над Старой крепостью, опустился на зеленый луг за городом, около свечного завода. И не успел еще затихнуть дрожащий гул его моторов, как со всех улиц города туда, где сел аэроплан, побежали ребята. Мы с Петькой Маремухой поспели первыми. От нашего Заречья до этого луга рукой подать – только подняться вверх по Госпитальной до бойни, а там и свечной завод.
Пока мы бежали к аэроплану, летчики, в кожаных шлемах, в очках, уже вылезли из кабины. Разминаясь, они ходили по траве, и головы их были вровень с крыльями. Они были краснолицые, в желтых коротеньких куртках, в блестящих крагах, в коричневых штанах с пуговками у коленей.
Даже не взглянув на сбежавшуюся толпу, летчики стали вытаскивать из аэроплана какие-то продолговатые, обшитые фанерой и обтянутые блестящими жестяными полосками пакеты. Они укладывали эти пакеты на траву около аэроплана так осторожно, словно там была стеклянная посуда.
А вскоре на длинном малиновом автомобиле приехали петлюровские офицеры. Они откозыряли летчикам и первым делом отогнали нагайками от аэроплана ребят.
Мы с Петькой Маремухой полезли на забор свечного завода. Петька чуть не разодрал штаны о какой-то ржавый гвоздь. За спиной у нас было тихое, спокойное озеро, под самым забором шелестел тонкостволый камыш.
Бархатистые его метелочки щекотали нам ноги, а мы, сидя на заборе, разглядывали распластавшийся на лугу аэроплан. Вот уже петлюровцы погрузили в свою малиновую машину пакеты. В это время подкатила, гудя рожком, другая машина. В нее сели летчики и укатили с петлюровцами в город, оставив около аэроплана стражу и надев на оба пропеллера зеленые брезентовые чехлы. Несколько дней в городе только и было разговоров, что о немецком аэроплане.
На нем прилетел из Берлина бывший военный министр Центральной рады Порш. Не только в Киеве, но даже и в нашем маленьком городе все хорошо знали, что Порш – отчаянный жулик, что он украл в министерстве несколько миллионов, уехал в Германию и на эти деньги купил себе в Берлине, на самой главной улице, большой красивый дом. И вот теперь он вернулся на Украину важным нарядным гостем, чтобы проведать своего старого дружка Петлюру.
Вместе с Поршем на аэроплане прилетели немецкие инженеры. Они привезли Петлюре из Берлина отпечатанные там петлюровские деньги и должны были помочь ему печатать такие же деньги здесь, в денежной экспедиции, которую недавно открыли в здании духовной семинарии.
Нашего учителя немецкого языка, худого Оттерсбаха, по прозвищу Цузамен, приставили переводчиком к прилетевшим из Берлина немцам. Оттерсбах водил немцев по городу, показывал им крепостные башни, что-то объяснял, размахивая длинными, как жерди, худыми руками. Он целыми днями ходил с ними, с утра до позднего вечера.
Вот и сегодня он снова небось таскается со своими инженерами, потому и не пришел в гимназию.
Кто-то из ребят на радостях, что Цузамена не будет, застучал крышкой парты, словно застрочил из пулемета.
– Тише! – цыкнул на него дежурный. – Прокопович наверху шатается. Выкатывайтесь-ка лучше на улицу.
Мы выкатываемся. Вместе с нами и Марценюк. Веселое у него сегодня дежурство. Не надо бегать за мелом и мокрой тряпкой. Доска так и стоит со вчерашнего дня чистой, нетронутой.
На цыпочках, гуськом мы пробегаем по сырым коридорам. Во всех классах тихо. Там уже начались уроки. Через стеклянные двери видны головы ребят, повернутые, как подсолнухи, в одну сторону – к дубовым кафедрам, на которых восседают учителя. Голосов почти не слышно.
Сейчас гимназия, с ее узкими сводчатыми коридорами, полутемными нишами, кажется вымершей. А как страшно небось здесь ночью, когда сторож Никифор, закрыв на висячий замок парадные двери, уйдет к себе домой, во флигель? В классах тогда пусто, темно, каштановые ветви царапаются в окна, как совы. Закричишь в каком-нибудь углу, и вмиг ответят тебе все три пустых длинных коридора. Откликнутся нежилые классы, и пойдет по всему этому высокому, ободранному зданию такой крик, гул, скрежет, что и у самого отчаянного восьмиклассника с перепугу сердце лопнет.
По истертым мраморным ступенькам главной лестницы мы бежим в коридор первого этажа, а оттуда по черному ходу выскакиваем во двор.
Усеянная желтым песчаником футбольная площадка пуста и как будто поджидает нас. Гимназические уборщицы чисто вымели площадку, выщипали проросшую местами траву: сегодня вечером здесь первый скаутский парад.
– В чехарду или в пуговички? – закричал Марценюк, выбегая на середину двора.
– В цурки! В чижа!
– В сыщика и вора! – закричал Куница, вскарабкавшись на высокий пень около забора.
– Ну, опять в сыщика… – процедил сквозь зубы Котька Григоренко. – Побежали лучше в спортивный зал, я покажу, как разножку на брусьях делать!
Спортивный зал находился в бывшем хлебном амбаре возле доминиканского костела, в котором служил ксендз Шуман. На деревянном полу зала понаставлены турники, брусья и обтянутые желтой кожей кобылки. Там по вечерам занимаются петлюровские бойскауты. Их обучает гимнастике старый чех Вондра, чья грудь расписана фиолетовыми орлами, хвостатыми женщинами и страшными скелетами.
Котька Григоренко со своими бойскаутами тоже каждый вечер ходит на выучку к одноглазому Вондре.
Он ловко скачет там через самую длинную кобылку, на кольцах делает «жабку» и «крест», но лучше всего Котька кувыркается на турнике. Правда, вчера, делая «солнце», он сорвался с турника и, проехав несколько шагов по грязному полу спортивного зала, ободрал левую щеку до крови. Под левым глазом у него сейчас багровая ссадина. Даже нос от ушиба слегка подпух. Так ему, хвастуну, и надо! Пусть задается поменьше со своими фокусами. Наколачивать шишки каждый может.
– В сыщика и вора! В сыщика и вора! – закричал Петька Маремуха, искоса поглядывая на своего прилизанного дружка Котьку Григоренко.
Маремуха неуклюж, пожалуй, ниже всех нас, настоящий коротышка. Ему в спортивном зале и вовсе делать нечего. Зато «сыщики и воры» – его любимая игра.
– Ну, так что ж, хлопцы, давай в сыщика. Времени у нас много, – говорит Куница, чувствуя, что перевес на нашей стороне.
Кому ж быть сыщиком, кому вором?
Как всегда, нас рассудит палка. Тот, чья рука последней охватит суковатую верхушку палки, – сыщик.
Когда все перемерились, вышло, что я, Петька Маремуха, Володька Марценюк, Юзик Стародомский и еще несколько ребят – воры.
Сашка Бобырь, Котька Григоренко и другие, не попавшие в нашу компанию, – сыщики. Главным сыщиком они выбрали Котьку Григоренко.
Котька сперва отказался. Ему было обидно, что ребята не захотели пойти с ним в спортивный зал. Но, помедлив немного, он согласился.
Что ни говори, а быть атаманом сыщиков – почетное дело.
Ну, будет жара! Держись, воры!
Хоть и маменькин сынок Котька, хоть и водится он больше со своими приятелями-панычами, которые и раньше, при царе, учились в этой гимназии, но он ловкий, хитрый, пронырливый, знает все ходы и убежища. От него надо прятаться получше – того и гляди поймает!
Вслед за своим атаманом сыщики сняли пояса, свернули их в трубки, а потом растянули: получились самодельные револьверы.
Конопатый Сашка Бобырь потихоньку вытащил из кармана свой маленький блестящий «бульдог», опустил его дулом вниз и оглянулся. Он боялся, не следит ли за ним какой-нибудь петлюровец с улицы.
Под командой Котьки Григоренко сыщики уходят в подвал, побожившись не подглядывать, куда мы побежим.
Уговор такой: они считают до ста двадцати и дают из подвала первый свисток. Затем снова отсчитывают сто двадцать и свистят второй раз. И только после третьего свистка они имеют право искать нас.
– Чур-чура, не подглядывать! – закричал вдогонку сыщикам Петька Маремуха.
– И так всех переловим! – огрызнулся Сашка Бобырь и погрозил Маремухе револьвером.
Котька пропустил всех сыщиков в подвал и остановился у порога, раздвинув ноги. Его серая курточка распахнулась, синяя, с белыми кантами гимназическая фуражка съехала на затылок, из-под лакированного козырька выбивались черные волосы.
– Слушайте, вы, Куницыно племя, – торжественно сказал Котька, поправляя фуражку, – замрите здесь и ждите свистка. Если кто убежит до свистка, сразу выходит из игры. Поняли?
Мы поняли.
Переминаясь с ноги на ногу, мы стоим на площадке, около подвала. Наконец Котька нырнул туда к своей команде. Сейчас свистнет.
Но свистка все нет. Что же он так долго? Эдак все время зря уйдет.
И вот наконец из-под низких сводов подвала донесся к нам первый свисток.
Словно от толчка, мы срываемся с места и, подгоняя один другого, мчимся за каменные гимназические сараи.
БАШНЯ КОНЕЦПОЛЬСКОГО
Колокольная улица пролегала внизу, под высокой стеной гимназического двора.
Она совсем близко, рядом, а вот добраться до нее не так-то просто. Надо сперва выйти на площадь, обогнуть кафедральный собор, спуститься вниз по крутому Гимназическому переулку, и лишь тогда можно попасть на Колокольную.
По обеим ее сторонам стояли высокие телеграфные столбы. Один из них торчал у самого забора. Стоило взобраться на забор и протянуть руку – можно было дотронуться до белых изоляторов на верхушке этого столба.
Однажды Куница придумал: а что, если съехать вниз на Колокольную по столбу? Попробовали, не шатается ли он. Оказалось, столб вкопан крепко, гладко обструган: ладоней не занозишь.
Куница отважился съехать первым. С того дня телеграфный столб часто спасал нас и от ремней старшеклассников, и от бородатого Прокоповича.
Вот и сейчас мы подбежали к этому самому столбу.
Первым взобрался на стену Володька Марценюк. Протянув вперед руки, он припал к столбу грудью и быстро соскользнул вниз. Сразу же после него полез Петька Маремуха.
Петьке было страшно, но он храбрился.
Мы видели его побледневшее лицо, чуть вздрагивающие короткие ноги. Как бы он и вправду не сорвался! Однажды, когда мы вместе с ним карабкались на высокий дуб за ястребиными яйцами, от высоты у Маремухи закружилась голова и он чуть было не сорвался. «Вот и сейчас слетит, чего доброго, – подумал я. – Что мы с ним тогда делать будем?»
За сараями раздался протяжный второй свисток.
Маремуха припал животом к столбу и поехал наконец вниз.
Ну, как будто все обошлось благополучно.
Один за другим мы съезжали по гладкому столбу на Колокольную улицу.
Внизу нас поджидал Маремуха.
– Хлопцы, я с вами? – спросил Маремуха.
– Не надо, без тебя обойдемся! – отрезал Куница и повернулся ко мне. – Давай сюда! – прошептал он, кивая головой на узкую лазейку в кустах дерезы.
Оставив Петьку одного, мы перебежали улицу и нырнули с разбегу в колючие кусты. Согнувшись, мы пробирались над обрывом по извилистой, чуть заметной тропинке. Густые ветки дерезы переплелись, как проволочные заграждения. Под ногами чернели крючковатые корни кустарника, ржавые завитки жести.
Мы пробирались осторожно, чтобы не порезать босые ноги. Какая-то пестрая птичка выпорхнула у меня перед самым носом. Мы бежали молча, не оглядываясь. Ведь за спиной – погоня!
Вот и Турецкая лестница. Давно-давно – лет триста назад – построили ее турки. Лестница круто спускается по скалам вниз, к реке. А на другой стороне реки, у самого берега, видна одинокая полуразрушенная башня Конецпольского. Она стоит здесь особняком, на отлете, вдали от Старой крепости. С давних времен она стережет вход в город с севера, со стороны Заречья.
От подножия Турецкой лестницы, через реку, прямо к башне Конецпольского, переброшена дощатая кладка. Вот по этой самой кладке перебегал недавно, отстреливаясь от петлюровцев, наш сосед Омелюстый.
– Спрячемся в башне! – тяжело дыша, предложил Куница.
Я кивнул головой.
Спускаться по Турецкой лестнице – самое милое дело. По бокам ее, почти до самой реки, прочные дубовые перила. Сверху они гладкие, отполированные. Мы легли на перила и поехали вниз, пролет за пролетом, не успевая пересчитывать бегущие кверху выщербленные ступеньки. На воротнике у меня оборвалась пуговица, и живот зажгло так, будто горчичник прилепили.
Не оправляя сбившихся рубах, растрепанные, словно после драки, мы вскочили на узкую кладочку. Под ногами бурлила быстрая вода. Доски скрипели, гнулись, и вся кладка колыхалась под нами, как живая, будто с берега кто-то из озорства раскачивал ее…
Мы ворвались в каменную арку башни и сразу же по витой лестнице взбежали на второй этаж. Здесь-то нас не найдут!
Усталые, потные, мы упали прямо на траву. Куница сразу же подполз к единственной амбразуре. Она была похожа на перевернутую замочную скважину. Через амбразуру был хорошо виден противоположный берег реки с Турецкой лестницей и половина дощатой кладки, по которой мы только что пробежали.
Если бы сыщики пустились за нами по Турецкой лестнице, Юзик мог их сразу заметить, и у нас хватило бы времени спрятаться в другом месте.
В башне Конецпольского было тихо и прохладно. Мраморный, почти развалившийся камин белел в стене. Потолка над башней не было, он давно обвалился, лишь одна полусгнившая балка, как пушка, торчала из каменной стены. В этой толстой замшелой стене были выбиты три высокие просторные ниши. Должно быть, в них осажденные запорожцами паны Конецпольские складывали порох и тяжелые чугунные ядра. Весь пол второго этажа зарос сочной, густой травой. Трава под стеной была примята. Видно, здесь кто-то был. Уж не Омелюстого ли это следы остались в башне? Ну конечно же, Ивана! Ведь совсем недавно он палил отсюда по петлюровцам. Должно быть, он лежал у самой амбразуры с наганом в руке – вот так, как лежит сейчас Куница, – прижавшись животом к мягкой траве, широко раскинув ноги.
Ох, и ловко же Иван тогда подстрелил чубатого петлюровца! Видно, он хороший стрелок: из нагана на таком расстоянии не всякий попадет. Если тот раненый остался жив, то, наверное, долго будет помнить эту башню Конецпольского.
Неужели петлюровцам удалось поймать Омелюстого?
Но ведь даже там, в самом центре города, он сумел провести петлюровцев – неужели же здесь, на окраине Заречья, они смогли его схватить?
– Послушай! А я думаю, он все-таки удрал отсюда. Вот было бы здорово!
– Кто удрал? – спросил Юзик и повернулся лицом ко мне. – Ты про кого, Васька?
– Про Ивана… Помнишь, как он палил из этой бойницы по гайдамакам?
– Ах, ты про Ивана! – сказал Куница и вырвал из расщелины клок сочной травы. – Ну да, где им Омелюстого поймать… Он хитрый, как щука, десятерых петлюровцев проведет… Знаешь, я даже думаю – он далеко и не удрал, а живет себе потихоньку где-нибудь здесь, в городе, или в подземный ход забрался. Я вот позавчера шел мимо крепостного моста, присел там отдохнуть, а возле меня два мужика поили коней и про этот подземный ход говорили. Один божился, что в подземном ходе, под крепостью, тысячи две большевиков сидят. Он говорил, что большевики нарочно Петлюру в город пустили, чтобы ему назад дорогу перегородить. Вот будет темная-темная ночь – ни звездочки на небе, ни месяца, – тогда выйдут все большевики с фонарями из подземного хода и петлюровцев в плен поберут, а самого Петлюру с крепостного моста в водопад кинут.
– Так как же они там сидят? Есть-то им надо?
– Ну, у них там много разных запасов. Красные, прежде чем уйти из города, понавозили туда и сала, и фасоли, и пшена, и хлеба. Сидят под землей и кулеш варят.
– Постой! А дым-то куда?
– Дым? – Куница задумался. – А, наверное, они в крепостные башни дымоходы вывели, и через них наверх весь дым улетает.
«Ну уж это, по-моему сказки. Кто-нибудь из них врет – или мужик, или Куница».
– Ты правду говоришь?
– А то вру? – обиделся Куница и замолк.
ДЕРЕМСЯ!
Скоро мне наскучило сидеть в башне. Сыщиков не слышно. Может, они позабыли про нас. А что, если выбежать отсюда, спрятаться в другом месте?
– Юзик, – сказал я, – знаешь, мы не по правилу играем.
– Почему не по правилу?
– А вот почему. Ты ведь у нас атаман, ты должен командовать всеми ворами, а не прятаться здесь со мной.
– Нет, – ответил Куница, не глядя на меня. – Я должен скрываться. Простого вора сцапают – не велика беда, а если я попадусь в руки сыщикам, вся шайка развалится. А потом… – Куница замялся, – побожись, что никому не скажешь.
– Пусть меня гром побьет, пусть я провалюсь с этой башней в реку, пусть…
– Ладно, – оборвал меня Куница, – теперь слушай. Мой батько сегодня где-то под нашей гимназической стеной должен ловить собак. Их много там развелось. А я вовсе не хочу на него наскочить. Увидит, что я вместо занятий по улицам шляюсь, такую ижицу пропишет, что держись… Он злой теперь. Вчера кто-то оторвал у нас в сарае доску, и все собаки, каких батько на базаре поймал, разбежались…
Так вот оно в чем дело! Куница отца боится.
Отец Куницы ловит собак для хозяина городской живодерни Забодаева, а тот убивает их, сдирает шкуры, а собачье сало продает на мыловаренный завод. Отец Куницы часто разъезжает по городу на длинном фургоне, который тащит пегая жидкохвостая кляча.
Когда эта черная собачья тюрьма катится по улицам города, за ней с криками мчится целая толпа мальчишек. Пойманные собаки визжат, бросаются на решетку, пак шакалы в зверинце. А мальчишки, обгоняя друг друга, бегут за фургоном, выкрикивая:
– Гицель! Гицель!
Так в нашем городе зовут собаколовов.
Нередко и Юзика наши хлопцы дразнят этим обидным прозвищем. Тогда он злится и бросается на обидчиков с кулаками. Однажды он из-за этого подрался с Котькой Григоренко. Хорошо, что их вовремя успели разнять. Григоренко сейчас же побежал в директорскую жаловаться, но, к счастью Куницы, директора не было, и на этот раз все обошлось благополучно.
Зато на прошлой неделе, когда у нас в гимназии стали записывать в бойскауты, Котька припомнил старое и решил отплатить Кунице. Котька – скаутский звеньевод – сам записывал охотников. Сашка Бобырь посоветовал Кунице записаться, но Котька наотрез отказался принять Юзика в отряд.
– Твой отец гицель, а от тебя самого собачатиной несет. Ты нам не пара! – важно объяснил он Стародомскому и добавил: – К тому же ты поляк. Кошевой не разрешит тебя записать в скаутский украинский отряд!
– А мне плевать на вашего кошевого, – гордо сказал Юзик. – Я к вам и сам не пойду!
С той поры Куница еще больше возненавидел Котьку Григоренко.
– А знаешь, Юзик, – сказал я Кунице, – ведь сегодня вечером бойскауты собираются на гимназическом дворе. У них будет сбор перед походом. Может, поглядим?
– Чего я у них не видел? – вдруг обозлился Куница. – Ноги голые, на плечах какие-то поганые ленты, в руках палки. Вот погоди, придут красные, мы к ним в разведчики запишемся.
Служить в разведчиках у красных, помогать Советской власти была его давнишняя мечта. Он ждал возвращения большевиков, чтобы уехать в Киев: у него там дядька у красных служил, – дядька обещал пристроить Куницу в такую школу, где разведчиков обучают. Я, правда, хорошо не знал, есть ли такая школа, но Куница мне все уши прожужжал о ней.
«Оно бы, конечно, хорошо поступить туда, – думал я, – да у меня в Киеве никого нет, поступить мне в школу разведчиков вряд ли удастся».
Говорят, бойскауты скоро идут на учение в Нагорянский лес. А в Нагорянах живет мой дядька Авксентий, у которого сейчас скрывается отец. Самый главный скаутский начальник, курносый Марко Гржибовский, очень зол на моего отца.
Однажды мой отец заступился за старого Маремуху. Маремуха сделал Марко сапоги, а тому они не понравились. Марко стал придираться и ругать сапожника, а потом ударил его каблуком нового сапога по лицу. У старого Маремухи из носа пошла кровь. Мой отец схватил Марко за шиворот, вытолкал его из мастерской и спустил с крыльца вниз на мостовую.
– Выискался тоже гадючий заступник! – процедил с ненавистью Марко. – Погоди, погоди, будешь знать… Покажут тебе… Припомнишь…
Драться с моим отцом он побаивался: знал, что отец надает ему.
Сейчас Марко есаул, он всегда носит шпоры и большой маузер.
Я старался не попадаться на глаза Гржибовскому, когда он, звеня шпорами, проходил по коридорам в директорскую к бородатому Прокоповичу. Если бы Марко припомнил, что я сын того самого Мирона Манджуры, который вышвырнул его на улицу, кто знает – не засадил бы меня сразу в петлюровскую кутузку?
– Васька, слышишь? – вдруг дернул меня за рукав Куница и тотчас же прижался вплотную к амбразуре.
– Что такое, Юзик? Ну-ка, пусти!
Но Куница заслонил всю амбразуру.
– Погоди, не мешай, кажется, бегут сюда! – прошептал он.
И впрямь, через верхний пролом, что над башней, донеслись к нам чьи-то очень знакомые голоса. Говорили быстро и отрывисто.
Голоса приближались к башне справа, от заросшего берега реки, – обычно тут никто не ходил. Скалы в этом месте примыкали к реке, вода омывала их каменные подножия. Чтобы пройти здесь, надо было разуться и шлепать прямо по воде.
Вдруг среди этих голосов я узнал знакомую скороговорку Котьки Григоренко.
Эх, проворонили! Внизу, у самого подножия башни, захрустел щебень.
Куда бежать?
Выход из башни один, а сейчас возле него сыщики. Выглянешь – сразу сцапают.
Может, вылезть на стенку башни? Ну хорошо, а дальше куда? Вниз ведь не спрыгнешь – высоко, а сидеть без толку вверху, ворон пугать – стыдно.
– Идут сюда! Ложись, спрячься! – прошипел Юзик, отскакивая от амбразуры.
Круглая ободранная башня пуста, и спрятаться в ней решительно негде. Разве… в нишах?! Не раздумывая, мы оба бросились в эти темные просыревшие впадины и замерли там, словно святые на доминиканском костеле.
Но уже в нижнем этаже треснула под чьим-то каблуком щепка. Заскрипела деревянная лестница. Кто-то из сыщиков поднимался вверх.
Едва дыша, я еще плотнее прижался к холодным камням.
И вдруг меня оглушил злорадный крик Сашки Бобыря:
– Удавы, сюда! Они здесь!
Через несколько минут нас вывели на берег под руки. Сыщики окружили нас. Сашка Бобырь, то и дело щелкая незаряженным «бульдогом», шел сбоку. Не удрать было от проклятых сыщиков – догнали бы, да и удирать-то мы, по уговору, не имели права.
Эх, лучше бы мы спрятались на воле, в кустах за Колокольней или в подвале костела. А все Куница. Затащил меня сюда, в эту чертову башню, отца побоялся…
Проклятые сыщики! Как они вертелись вокруг нас, шумели, подсмеивались!
Но больше всех суетился Котька Григоренко. Он размахивал своим револьвером, две пуговицы на его форменной курточке были расстегнуты, фуражка заломлена на затылок, а хитрые, цвета густого чая глаза так и бегали от радости под черными бровями.
– Свяжите им руки! – вдруг приказал он.
– Не имеете права! – огрызнулся Куница. – Разбойникам никогда рук не вязали!
– Вы голодранцы, а не разбойники, а ты хорек, а не куница. Знаешь ты много, что можно, а что не можно, – с важным видом заявил Котька, застегивая курточку. – А ну, хлопцы, кому я сказал? Вяжите потуже, чтоб не задавались.
Сашка Бобырь засунул в карман оружие и подбежал к Юзику. Куница стал отбиваться, я бросился ему на помощь. Но в эту же минуту Котька Григоренко подбежал сзади и прыгнул ко мне на плечи.
– Пусти! – закричал я. – Пусти! – А сам, широко расставив ноги и тяжело переступая, старался подойти поближе к толстой акации, чтобы, откинувшись всем телом назад, ударить Григоренко о ствол дерева. – Пусти! – зло крикнул я.
Но Котька и слушать не хотел. Он висел у меня на плечах и хрипел, как волк. Я видел, как свирепо отбивается от сыщиков наш атаман Куница. Он цепкий, увертливый парень, даром что худой. Его азарт поддал и мне силы. Я рванулся к дереву, но в это время Котька Григоренко неожиданно подставил мне подножку, и я полетел вниз головой на колючий щебень.
Я не успел даже вырвать руки – их держал сзади Григоренко – и грохнулся прямо лицом и грудью на камни.
Острая боль обожгла лицо. На глаза навернулись слезы. Я больно ушиб себе о камень переносицу, даже в голове загудело, и рот сразу наполнился солоноватой кровью. А Котька Григоренко снова навалился на меня и стал заламывать мне руки.
Жгучая злоба внезапно заглушила боль.
Поднатужившись, я приподнялся на одно колено и, резко мотнув головой, отбросил Котьку в сторону. Хоть Котька и спортсмен, хоть он каждую переменку кирпичи выжимает, но я тоже не из слабеньких. Не успел он протянуть ко мне руки, чтобы снова схватить за шею, вскочив на обе ноги, потянул к себе его скользкий, вьющийся гадюкой лакированный ремень.
Заодно я локтем сшиб с Котькиной головы фуражку. Она, словно обруч, покатилась к речке.
– А-а-а, ты подножку ставить? Постой, я тебе дам, директорский подлиза! Я тебе покажу!.. – закричал я.
Мне удалось вырвать у Котьки ремень. Я сразу стал стегать Григоренко его же собственным ремнем то по спине, то по рукам. Но Котька как-то особенно, по-собачьи вывернулся и вдруг, на лету схватив мою руку, впился в нее зубами.
Пригнувшись, я ударил Котьку головой в грудь. Он потерял равновесие и полетел в речку.
Я не успел даже сообразить, как это все произошло. Густые брызги с шумом взлетели над рекой. Здесь, должно быть, глубоко, потому что Котька сразу скрылся под водой.
Мне стало страшно: а что, если он утонет? Но через секунду мокрая Котькина голова, как пробка, выскочила наружу. Котька махал руками, его растопыренные пальцы хватали воду – видно, с перепугу он позабыл, как плавают.
Захлебываясь, выпучив испуганные глаза, он хриплым голосом закричал:
– Караул! Спасите!
Сыщики бросились к нему.
Куница подмигнул мне.
Воспользовавшись замешательством сыщиков, мы пустились наутек.
У ДИРЕКТОРА
Вот и верхняя площадка Турецкой лестницы! Отсюда хорошо видна башня Конецпольского и то место, с которого я только что сбросил Григоренко в воду. Пока мы с Куницей взбежали наверх, сыщики уже вытащили Котьку из речки. Вон внизу он прыгает на одной ноге, весь черный, мокрый, – видно, в ухо ему вода попала. Рядом гурьбой толпятся сыщики.
– Ну, держись, Василь! Котька тебе этого не спустит!
– Думаешь, я сильно боюсь его? Я не такой боягуз, как Петька Маремуха, – у того Котька на голове ездит, и ничего. Ну, что он мне сделает, что? Пожалуется директору, да? Пускай! Ведь он первый меня затронул! Есть след, погляди? – И я показал Юзику разбитую переносицу.
– Есть, маленький, правда, но есть! И под губой кровь. Сотри!
– Да это из носа, я знаю! Директор спросит, я все расскажу: и как он подножку мне подставил, и как кровь из носа пустил. Пусть только наябедничает – плохо ему будет!
И мы помчались дальше, на Колокольную улицу.
Весь урок пения мне не сиделось на парте. Я ерзал, поглядывал на дверь: мне все чудились в коридоре директорские шаги. Всем классом мы разучивали к торжественному вечеру «Многая лета».
Учительница пения, худая пани Родлевская, с буклями на висках, в длинном черном платье, то и дело грозила камертоном, стучала им по кафедре, и, когда металлический звон проплывал по классу, Родлевская, вытянувшись на цыпочках, пищала:
– Начинайте, дети! Начинайте, дети! Ми-ми-ля-соль-фа-ми-ре-ми-фа-ре-ми-ми! Ради бога: ми-ми!
Володька Марценюк поет громко, так, что даже паутина дрожит около него в углу. Петька Маремуха тянет дискантом – тонко, жалобно, точно плачет или милостыню просит.
Маремуха такой толстый, а вот голос у него, как у маленькой девчонки.
А я совсем не пою, только рот раскрываю, чтобы не привязалась пани Родлевская. Не до пения мне сейчас! Какая же тут к черту «Многая лета», когда вот-вот позовут меня на головомойку к бородатому Прокоповичу!
Парта Котьки Григоренко свободна. Его в классе нет.
Еще до того как начался урок пения, сыщики и воры сбежались обратно в гимназию, и сразу разнесся слух о том, как я топил Котьку Григоренко. Ребята, сбившись в кучу около поленниц, перебивая друг друга, на все лады толковали о нашей драке.
Наконец во дворе появился и сам Котька. Весь какой-то общипанный, жалкий, с прилипшими ко лбу волосами, он был похож на мокрую курицу.
Я в это время искал около гимназических подвалов заячью капусту, чтобы залепить ранку на переносице. Увидев Котьку, мрачного, насупленного, я на миг позабыл о неизбежном вызове в директорскую. Ох, как мне было приятно, что я проучил этого задаваку, чистенького докторского сынка! За все я ему отомстил! И за Куницу, и за свой разбитый нос, и за наших разбойников.
Не глядя в нашу сторону, словно не замечая нас, Котька быстро прошел по черному ходу прямо к Прокоповичу и наследил по всему паркету. Тонкие, как ниточки, струйки воды, стекая с намокшей одежды, протянулись вслед за Котькой до самой директорской. Казалось, кто-то пронес по коридору воду в дырявом ведре.
Как только прозвенел звонок, Володька Марценюк побежал в директорскую за классным журналом для пани Родлевской. Он видел там Котьку и, вернувшись в класс, рассказал нам:
– Прокопович завернул его в ту материю – помните, что на флаги для вечера купили? Котька сидит в кресле, глаза красные, зубами стучит, а сам весь желто-голубой – прямо попугай. Увидел меня – отвернулся, разговаривать даже не стал. А Никифора директор послал к Котькину отцу!
«Паршивый маменькин сынок этот Котька, – думал я. – А еще задается, что спортсмен, что сильнее его в классе нет. Взять любого из наших зареченских ребят – все до поздней осени купаются. Прыгнешь иной раз в воду, а она холодная, даже круги перед глазами идут, – и ничего.
А этого задаваку толкнули на минуту в теплую воду, и он уже, бедняжка, продрог, раскис, дрожит, как щенок, – целый тарарам вокруг него. А еще атаман, скаутский начальник! Назвал своих скаутов «удавами»… У мамки бы на коленях ему сидеть!»
Обычно уроки пения у нас пролетали быстрее остальных. Разучили ноты, пропели несколько раз песню, и уже звонок заливается в коридоре. А в этот день время тянулось очень долго. Пани Родлевская надоела до тошноты. Она то приседала от волнения, то снова вытягивалась над кафедрой так, словно ее распинали: тощая, длинная, с круглым кадыком, выпирающим, словно галочье яйцо. Карамора длинноногая – так называли мы ее. Она и в самом деле была похожа на длинноногого тощего комара. Ребята говорили, что Родлевская закрашивает чернилами седые волосы.
Не вытерпев, я сказал пани Родлевской, что у меня пересохло в горле и что я хочу пить. Получив разрешение выйти из класса, выскочил в коридор. Ни души. Тихонько пробрался я по пустому коридору в актовый зал и через сцену вышел на балкон.
Густые каштановые ветви шелестели возле самой чугунной решетки.
Скоро уж зацветет каштан!
Скоро из зеленой листвы, как свечи на рождественской елке, подымутся и расцветут стройные, бледно-розовые цветы каштанов. Загудят над ними вечером майские жуки, будет обдувать эти цветы теплый летний ветер, унося с собою нежный запах.
Славно было бы заночевать в такую ночь тут, на балконе. Разложить бы здесь складную кровать, бросить подушку под голову, завернуться в одеяло и лежать долго-долго с закрытыми глазами и, засыпая, слушать, как умолкает там, за площадью, за кафедральным собором, уставший за день от петлюровских приказов настороженный город. Но тотчас же я вспомнил о длинных мрачных коридорах гимназии, и у меня сразу пропала всякая охота ночевать здесь.
Но ничего, вот отпустят на каникулы – поеду в Нагоряны, разыщу отца и каждую ночь буду спать там на свежем воздухе в стоге сена. Рядом отец заснет, а по другую сторону дядька Авксентий. Никакие петлюровцы тогда не будут мне страшны. Поскорее бы нас отпустили на каникулы… Вот только эта история с купаньем… А, чепуха! Я сумею выпутаться, не в таких переделках бывал.
Но что это?
Прямо из-за кафедрального собора на площадь выезжает пролетка. Она мчится сюда, к гимназии. Кто бы это мог быть? Неужели отец Котьки? Не иначе как он!
Ну да, это он. На нем вышитая рубашка, загорелая лысина блестит на солнце.
У самого крыльца гимназии Григоренко круто останавливает лошадь и, посапывая, вылезает из пролетки. Он привязывает лошадь к столбу и, вытащив из пролетки круглый черный сверток, скрывается в дверях подъезда.
Наверное, привез одежду своему Котьке. Боится, усатый черт, чтобы сынок не простудился. Бросил свою больницу и прикатил сюда.
Я стоял на балконе, скрытый каштановыми листьями. Возвращаться на урок теперь уже мне совсем не хотелось. Уж лучше подожду здесь до звонка. В журнале я отмечен, а память у этой караморы Родлевской плохая. Конечно, она уже позабыла, что отпустила меня из класса.
Раздался звонок. Зашумели в классах гимназисты. Я слышал их крики, говор, слышал, как захлопали крышки парт. А я все стоял и обдумывал, как бы мне безопаснее прошмыгнуть в класс, чтобы не заметили меня ни директор, ни Котька. Не хотелось попадаться им на глаза. Трудно даже передать, как не хотелось!
Внизу, под балконом, хлопает тяжелая дверь, и на тротуар выходят усатый доктор Григоренко, наш директор Прокопович и Котька. Горе-атаман уже переоделся в сухое платье, на нем тесный матросский костюмчик и шапочка с георгиевскими лентами. Должно быть, его отец схватил первое, что попалось под руку.
Котька оглядывается по сторонам, глядит на окна – не следят ли за ним ребята из классов, и потом, видимо успокоившись, поправляет бескозырку.
– Накажите, ради бога, этого выродка, Гедеон Аполлинариевич! Глядите, он вам всех гимназистов перетопит! – донесся снизу густой бас доктора.
– И не говорите! – загудел в ответ Гедеон Аполлинариевич. – Если бы вы знали, какая морока с этой зареченской шантрапой. Ужас! Ужас! Пригнали их ко мне из высшеначального, и все вверх дном пошло, воспитатели прямо с ног сбились. Никакой пользы от них самостийной Украине не будет – уверяю вас. Смолоду в лес смотрят. Я уже в министерстве просил, нельзя ли их в коммерческое перевести…
Усатый доктор, сочувственно покачивая головой, влезает в пролетку.
– Заходите к нам с супругой, Гедеон Аполлинариевич, милости просим! – приглашает он.
– Покорно благодарю, – поклонился Прокопович.
Доктор натянул вожжи. Конь подбросил дугу и, подавшись грудью вперед, тронул пролетку с места.
Директор постоял немного, высморкался в беленький платочек, поправил крахмальный воротничок и ушел.
И в ту же минуту раздался звонок. Перемена кончилась.
«Выродок – это про меня!» – выбегая в коридор, подумал я. Хорошее дело! Мне подножку подставили, я себе нос разбил, ушиб колено – и я же виноват, я выродок? Пускай вызовет и спросит – я скажу ему, кто выродок!
В конце последнего урока в класс входит сторож Никифор и, спросив разрешения у преподавателя, отрывистым, глухим голосом зовет меня к директору гимназии. Я не хочу подать виду, что испугался, и медленно, не торопясь, одну за другой собираю в стопку свои книжки и тетради.
В классе – тишина. Все смотрят на меня.
Учитель природоведения Половьян, широкоскулый, веснушчатый, в желтом чесучовом кителе, вытирает запачканные мелом пальцы с таким видом, будто ему нет никакого дела до меня.
Все наши зареченские хлопцы провожают меня сочувственными взглядами.
Я выхожу вслед за горбатым низеньким Никифором как герой, высоко подняв голову, хлопая себя по ляжкам тяжелой связкой книг. Пусть никто не думает, что я струсил.
– Опять нашкодил! Эх ты, шаромыжник! – укоризненно шепчет мне Никифор. – Мало тебе было того карцера?..
…Сутулый чернобородый Прокопович очень боялся всякой заразы. Круглый год зимой и летом он ходил в коричневых лайковых перчатках. Повсюду ему мерещились бактерии, но пуще всего на свете он боялся мух. Дома у него на всех этажах, подоконниках и даже на скамейке под яблоней были расставлены налитые сулемой стеклянные мухоловки.
Зная, чем можно досадить директору, Сашка Бобырь здорово наловчился ловить больших зеленых мух, которые залетали иногда к нам в класс и, стукаясь о стекла, жужжали, как шмели.
Поймает Сашка такую муху и на переменке тихонько через замочную скважину в кабинет Прокоповичу пустит.
Муха зажужжит в директорской, а Прокопович засуетится, как ошалелый: стулья двигает, окна открывает, горбатого Никифора на помощь зовет – муху выгонять.
А мы рады, что ему, бородатому, досадили…
Я с трудом открыл тяжелую, обитую войлоком и зеленой клеенкой дверь в директорскую.
Прокопович даже не взглянул на меня.
Он сидел в мягком кожаном кресле за длинным столом, уткнувшись бородой в кучу бумаг и положив на край стола руку в коричневой перчатке. Я остановился у порога, в тени. Очень не хотелось, чтобы директор узнал во мне того самого декламатора, что выступал на торжественном вечере.
В тяжелых позолоченных рамах развешаны портреты украинских гетманов. Их много здесь, под высоким потолком директорского кабинета.
Гетманы сжимают в руках тяжелые золотые булавы, отделанные драгоценными камнями: пышные страусовые перья развеваются над гетманскими шапками. Один только Мазепа нарисован без булавы. С непокрытой головой, в расстегнутом камзоле, похожий на переодетого ксендза, он глядит на директора хитрыми, злыми глазами, и мне вдруг кажется, что это не Прокопович, не директор нашей гимназии сидит за столом, а какой-то сошедший с портрета бородатый гетман. Сидит, злой, недовольный, словно старый сыч, нахохлился над бумагами и не замечает меня.
Прокопович раскрыл тяжелую черную книгу. Мне надоело ждать. Я тихонько кашлянул.
– Что нужно? – глухо, скрипучим голосом спросил директор, вскидывая длинную жесткую бороду.
– Меня… позвал… Никифор, – заикаясь, сказал я. От страха у меня запершило в горле.
– Фамилия?
– Василий…
– Я спрашиваю: фамилия?!
– Манджура… – пробормотал я невнятно и, закрывая лицо рукой, сделал вид, что утираю слезы.
– Ты хотел утопить Григоренко?
– Это не я… Он сам… Он первый повалил меня…
– Батько есть?
– Он в селе.
– А мать где?
– Померла…
– А с кем живешь? Кто у тебя там есть?
– Тетка, Марья Афанасьевна.
– Тетка? Мало того, что давеча ты опозорил нашу гимназию перед лицом самого головного атамана с этой идиотской декламацией, так сегодня еще чуть не утопил лучшего ученика вашего класса? Забирай свои книжки – и марш домой, к тетке. Чтобы ноги твоей больше здесь не было! Можешь передать тетке, что тебя выгнали из гимназии. Навсегда выгнали, понимаешь? Нам хулиганья не нужно!
И директорская борода снова опустилась в бумаги.
Озадаченный, я несколько минут молча стоял у покрытого сукном длинного стола.
«Вот так фунт! Он, наверное, думает, что я умолять его стану, на колени упаду? Не дождешься!»
Быстро схватил я дверную ручку и не заметил даже, как захлопнулась за мною тяжелая дверь директорской.
По длинному пустому коридору, по каменной лестнице я медленно спустился в вестибюль и вышел на улицу. На дворе было уже совсем жарко. Голуби глухо ворковали на соборной колокольне. Водовозная тележка с возницей на краешке пузатой бочки протарахтела мимо меня и скрылась за кафедральным собором.
Наверху, возле учительской, отрывисто зазвенел звонок.
Сейчас выбегут сюда хлопцы. Они станут допытываться: «Ну как, здорово попало?» А я что скажу? Что меня выгнали? Ну нет. И так тошно, а тут еще жалеть станут и, того и гляди, тетке разболтают. Уж лучше дать стрекача. И, зажав под мышкой связку книг, я побежал на Заречье.
КОГДА НАСТУПАЕТ ВЕЧЕР
Дома я долго не мог найти себе места.
Что же все-таки сказать Марье Афанасьевне?
Прошлой зимой, перед самым рождеством, мы с Куницей не пошли в училище, а забрались в лес за елками. Отец узнал про это и потом три дня бранил меня, даже, помню, Сашку Бобыря прогнал, когда тот пришел звать меня на коньках кататься.
Нет уж, никому не буду говорить, что меня выгнали из гимназии. И Марье Афанасьевне. И хлопцам. Даже Кунице не скажу, обидно все-таки. А если спросят, почему не занимаешься? Ну, тогда выдумаю что-нибудь. Скажу, у меня стригущий лишай и доктор Бык не велел приходить в класс, чтобы не заразил других учеников: и бояться будут, и поверят.
Ведь у Петьки Маремухи был стригущий лишай, и он, счастливец, сидел тогда две недели дома. Вот и расцарапаю я себе на животе стеклом ранку, скажу, что это лишай, буду мазать ее белой цинковой мазью и сидеть дома. А там и каникулы начнутся.
Решено – у меня лишай!
Но вечером в этот день я никак не мог успокоиться. Лишай лишаем, тетку обмануть будет нетрудно, а вот стоило подумать, что я уже больше не ученик, – и сразу начинало щемить сердце.
Больше всего было обидно, что меня выгнали из-за этого паршивца Котьки. Ох, как обидно! Жаль, что я его мало поколотил…
Дома никого не было. Покормив меня обедом, тетка ушла на огород пропалывать грядки.
А не пойти ли мне к Юзику? Но уже, должно быть, вернулся домой и отец Юзика. А мне не хотелось с ним встречаться. Уж очень он строгий, никогда не засмеется и не отвечает даже, когда говоришь ему: «Здравствуйте, пане Стародомский».
«Нет, к Юзику ходить не стоит, – решил я. – Так просто пойду погуляю один».
Скоро тихие сумерки спустятся на крутые улицы нашего города. Уже солнце, остывая, падает за Калиновский лес. Медленно и важно плетутся по узкому переулку к речке, на купанье, шоколадно-черные египетские гуси нашей соседки Лебединцевой. Гусей никто не гонит, – они сами, выйдя из подворотни, покачиваясь и выгнув шеи, бредут вниз.
Подымаясь по Турецкой улице, я услышал, как вверху на гимназическом дворе дробно застучал барабан. Подойдя ближе, я увидел, что возле глазка в каменной ограде столпились маленькие ребята. Приподнявшись на цыпочки, они заглядывали в глубь двора.
– Смотри, смотри, как маршировуют! – восхищенно закричал, путая слово, кто-то из них.
И вдруг среди этой детворы я заметил стриженый затылок Куницы. Вот так здорово! А я думал, Юзик сидит дома.
Я растолкал локтями сгрудившихся около забора ребят и, пробравшись к Юзику, хлопнул его по плечу.
Он вздрогнул и быстро обернулся, рассерженный, готовый к драке. Но, увидев меня, заметно смутился и промямлил что-то непонятное себе под нос.
– А ты зачем пришел сюда? Интересно тебе, что ли? – спросил я, кивая в сторону двора.
– А, ерунда такая, – с напускным безразличием ответил Куница, – ходят, «слава» кричат, а офицеры смотрят на них, как на обезьян в зверинце!
Совсем близко, за стеной, застучал барабан. Через глазок я увидел, как по гимназическому двору ровными рядами зашагали бойскауты. Они в новой форме: на них коротенькие, цвета хаки, штанишки до коленей и светло-зеленые рубахи с отложными воротничками. К левому плечу у каждого пришит пучок разноцветных ленточек, а на рукаве, пониже локтя, – желто-голубые нашивки. Бойскауты маршируют рядами по три человека и, подойдя к забору, сворачивают в сторону.
Поодаль, важничая, в новых желтеньких ботинках шагает «утопленник» – Котька Григоренко. На рукаве у него, повыше желто-голубой нашивки, вьется червяком малиновый шнур. Это значит, что Котька не простой скаут, а начальник. Мне ненавистны и натянутая походка этого барчука, и его самодовольный вид. Как только его слушаются Володька Марценюк и Сашка Бобырь? Ведь раньше они никогда не дружили с Котькой, дразнили его, а сейчас даже смотреть противно, как они из кожи лезут вон перед этим докторским сынком…
Подлизы несчастные – с ними даже здороваться не стоит…
Мальчишки загалдели у меня за спиной. Они совсем прижали нас с Куницей к забору, силясь разглядеть, что делается во дворе.
– Пойдем-ка, Юзик, лучше купаться! Я уже нагляделся. Хватит здесь стоять, – предложил я Кунице.
Куница согласился.
По знакомой извилистой тропинке, мимо улицы Понятовского, мы направились к речке.
– Ну, что тебе директор сказал сегодня? Небось попало здорово? – спросил Куница.
– А, пустяки. Сначала ругался, а потом, когда я ему рассказал, что Котька мне подножку подставил, замолчал и отпустил домой.
– Только и всего… А Петька Маремуха брехал, что тебя выгнали из гимназии. Мы ждали тебя, ждали, а ты как пошел, так и пропал. Я уже думал, не посадил ли тебя бородатый за Котьку в карцер.
– Ну, вот еще выдумали. Не выгнал, а грозился выгнать. А Маремуху я поколочу, если он брехать про меня будет…
Внизу уже заблестела речка.
– Купаться со скалы будем?
– Давай со скалы, – согласился Юзик.
Мы повернули вниз. За рекой показалась знакомая Старая крепость.
Весь ее двор засажен фруктовыми деревьями. Возле Папской башни растут низкие ветвистые яблони-скороспелки.
Сорвешь зрелое яблоко еще задолго до осени, потрясешь над ухом – слышно даже, как стучат внутри его черные твердые зернышки.
Скороспелки, когда созреют, делаются мягкими, нежными, зубы – только тронь такую кожуру – сами вопьются в нежно-розовую рассыпчатую мякоть яблока.
В крепости есть несколько шелковиц. Ягоды, которые созревают на этих деревьях, мы называем «морвой». Они черные и похожи на шишечки ольхи. Когда черная морва созреет, мы, забравшись в Папскую башню, швыряем оттуда сверху на деревья тяжелые камни. С шумом пробивая листву, камни летят вниз, задевают твердые ветви, ветви трясутся, а ягоды осыпаются.
Потом в густой траве, под сбитыми листьями, мы ищем мягкие, приторные, налитые черным соком ягоды. Мы едим их тут же, ползая на коленках под деревом, и долго после этого рты у нас синие, словно мы пили чернила.
Вот уже несколько дней, как на лотках городского базара появились первые черешни. Желтые, совсем прозрачные, желто-розовые, похожие на райские яблочки, и черные, блестящие, красящие губы ягоды доверху наполняют скрипучие лукошки торговок. Торговки звенят тарелками весов, переругиваются, отбивая друг у друга покупателей, и отвешивают черешни в бумажные кульки.
Как мы завидуем тем, кто свободно, не торгуясь, покупает целый фунт и, сплевывая на тротуар скользкие косточки, не торопясь проходит мимо нас!
Так, размышляя о черешнях, я спустился вслед за Юзиком к реке. Теперь крепость высилась над нами справа – высокая, мрачная. Я видел зыбкую ее тень, падающую на воду, и вспомнил о высоких толстостволых черешнях, которые росли во дворе крепости, за Папской башней. Листва у них прозрачная, редкая, а ягоды удивительно сладкие.
«Раз торговки продают черешню на базаре, – подумал я, раздеваясь, – значит, они уже поспели и в крепости».
Я сказал об этом Кунице.
– Ну, так что ж? Давай полезем завтра!
– А когда?
– После обеда.
– Нет, вечером нельзя, – сказал я, – там же снова будут стрелять петлюровцы.
За пороховыми погребами крепости петлюровцы устроили гарнизонное стрельбище. Ежедневно после обеда они отправляются туда на стрельбу, и до сумерек вся крепость трещит от пулеметных выстрелов. Пули с визгом летят как раз в ту стену, по которой надо взбираться до башни.
– Ну, а когда же? – хлопая себя по бедрам, спросил Куница. Он уже разделся и стоял передо мной голый, худощавый.
– Давай утречком, перед школой. Возьмем с собой тетради, чтобы домой за ними не бегать, я зайду за тобой, только ты гляди не проспи, – сказал я, совсем забыв, что мне завтра в гимназию не надо идти.
– Я-то не просплю, – ответил Куница, – но ведь утром сторож шатается по крепости. Как мы полезем на черешню?
– Да. Это верно.
Утром сторож обходит всю крепость, а вот попозже, как раз когда в гимназии начинаются уроки, сидит на скамейке у ворот. Тогда хоть ломай деревья – не услышит.
Сторож не любит, если ребята появляются в крепостном саду. Он заботливо оберегает каждое дерево, весной обмазывает известкой, окапывает вокруг деревьев землю и удобряет ее навозом. Когда фрукты созревают, он собирает их себе. Влезает на дерево по лестнице – даром что хромоногий – и обрывает ягоды, яблоки и даже маленькие кругленькие груши-дички.
– А, есть чего бояться! Ну, увидит, закричит. Подумаешь! Что мы, не сумеем удрать? Ведь не полезет же он за нами по крепостной стене, старый черт! Давай пошли утром, – решил я.
– Пошли! – сказал Куница. – Язда!
Мы оставляем на берегу одежду и пробираемся вверх, на скалу. Какой интерес купаться у берега, на мели, где купаются зареченские женщины? Не купанье, а стыд один! То ли дело вскарабкаться на скалу и оттуда с вытянутыми вперед руками броситься вниз головой в быструю воду. Теплые, нагретые за день скалы колют нам ноги, мелкие камешки осыпаются вниз и шуршат по кустам бледно-зеленой полыни.
Взобравшись на скалу, мы с Юзиком стоим на ней рядом.
Далеко, за плотиной, в воду ныряют утки. Они то и дело подбрасывают кверху свои толстые гузки и сверкают на зеленоватой глади устоявшейся воды красными лапками.
– Вода сегодня, должно быть, теплая-теплая! – говорит Куница и блаженно улыбается.
По мосту гулко проехала телега.
– Давай! – закричал я и, не дожидаясь ответа, с размаху бросился в воду.
Вынырнул на середине речки, ищу Куницу. Его нет ни на скале, ни на воде. Он, черт, хорошо ныряет. Я верчусь волчком на одном месте. Я боюсь, как бы Куница не нырнул под меня и не ухватил за ногу. Это очень неприятно, когда тебя под водой схватят за ногу скользкими руками. Куница пробкой выскочил из воды около самой плотины. Большие круги разбегаются в стороны. Как далеко он проплыл под водой! Мне столько не проплыть.
Мы ныряем вперегонки, достаем со дна кругленькие камешки и желтую глину, взбиваем брызги, чтобы увидеть радугу. Усталые, мы переворачиваемся на спину и лежим на воде без движения. Течение медленно сносит нас вниз к плотине. Вверху расстилается голубое, чуть порозовевшее на западе, прозрачное, без единой тучки, небо!
Завтра будет замечательная погода!
Поздно вечером, когда на дворе было совсем уже темно, я ушел в крольчатник, захватив с собой коптилку и спички.
При тусклом свете керосиновой коптилки я, сняв рубашку, несколько раз царапнул себя по животу толстым осколком пивной бутылки. Вскоре на коже проступили капли крови. Я поморщился от боли и вспомнил, как мне прививали оспу. Вот так же царапала меня ланцетом по руке докторша.
Я посмотрел на стекло. «Поцарапать разве еще? Довольно! – решил я. – Тетка близорукая, все равно не заметит».
Возвратившись в хату, я жалобным голосом объявил Марье Афанасьевне:
– Тетя, я завтра в школу не пойду – доктор запретил – у меня стригущий лишай, и я могу заразить учеников… Поглядите-ка!
Марья Афанасьевна отставила на край плиты горячий противень с жареной, вкусно пахнущей картошкой и, шевеля губами, посмотрела на мой живот.
– Ну что ж, не ходи, только смажь быстро йодом, – сказала она и отвернулась к плите, в которой завывал огонь.
Мне стало даже обидно: старался, старался, пустил кровь, ободрал кожу, а она глянула одним глазом и отвернулась как ни в чем не бывало! Хоть бы пожалела меня, так нет – жареная картошка ей дороже.
В СТАРОЙ КРЕПОСТИ
Проснулся я рано утром. Солнце еще не поднялось над крышей сарая. Я побежал в огород. Там из самой крайней грядки я одну за другой выдернул розоватые редиски и возвратился в дом. Тихо ступая по кухонному полу, я достал с полки початый теткой каравай хлеба, отрезал себе ноздреватую горбушку и, посыпав хлеб солью, присел на табуретку. Скоро на кухонном столике остались только хлебные крошки да срезанные острым ножом мокрые от ночной росы мохнатые листья редиски. Я уже собрался уходить, как из спальни, позевывая, вышла тетка.
– Ты чего ни свет ни заря поднялся? – спросила она, глядя на меня заспанными глазами.
– А я пойду к Юзику Стародомскому задачи по арифметике решать. Мне ведь в гимназию доктор запретил ходить, вот я дома с Юзиком и позанимаюсь.
– Какие еще задачи спозаранку? Людей будить. Врешь ты, наверное… – буркнула Марья Афанасьевна и мягкими шагами подошла ко мне. – А ну, покажи лишай! – приказала она.
Я осторожно, так, будто на теле у меня была опасная рана, оголил живот и показал покрасневшее место под первым ребром. Тетушка прищурила заспанные глаза и, чуть не прикоснувшись носом к моему мнимому лишаю, сказала:
– Ну, пустяки – он проходит… Затягивается уже.
– Какое там затягивается! – крикнул я и быстро опустил рубашку. – Это вам так кажется, а мне больно и чешется здорово. Ой, как чешется! – И обеими руками я стал быстро и ожесточенно, перед самым носом тетки, расчесывать свой живот.
– Да ты с ума сошел! Не чеши! Не чеши, тебе говорят, – испуганно замахала руками тетка, – расчешешь, а потом и чесотка пристанет. Перестань чесать! Иди лучше смажь цинковой мазью.
Я иду в спальню. С шумом открываю левый ящик комода, в котором тетка хранит свои лекарства.
Я окунаю мизинец в фарфоровую баночку с цинковой мазью. Потом, приподняв рубашку, густо смазываю свой мнимый лишай и наклеиваю круглый кусочек пластыря. Это затем, чтобы показать Кунице. Пусть рана выглядит пострашнее, тогда он расскажет о ней в классе, и никто даже не подумает, что меня исключили из гимназии.
– Выпей молока! Тут осталось вчерашнее, кипяченое! – закричала мне из кухни Марья Афанасьевна.
Она уже загремела кастрюлями и противнями.
– Не хочу, я наелся! – ответил я тетке и выбежал на улицу.
За высокими воротами во дворе у Куницы носится их злая мохнатая собака. Не успел я еще остановиться около забора, как она, почуяв чужого, яростно залаяла и кинулась к воротам. Проклятый пес – нельзя даже войти во двор. Отойдя на середину мостовой, я протяжно закричал:
– Юзик! Юзик! Хозь тутай!
Молчание. Только, свирепея, хрипит и давится под воротами пес.
Лишь бы на мой крик не вышел отец Куницы.
Но вот хлопают двери, и из палисадника, отогнав собаку, выбегает Юзик. Глаза у него припухли, лицо мятое, сонное, и на левой щеке краснеет отпечаток рубчика подушки.
– Ой, как ты рано, Василь! У нас еще все спят, – протирая глаза, бормочет Куница.
– Какое там рано! Мельница Орловского уже давно работает.
– А где твои книжки?
– А зачем мне они?
– Как зачем? Ты разве не пойдешь в гимназию?
– Не пойду. Доктор Бык запретил мне ходить в класс. У меня стригущий лишай, я заразный. – И я гордо хлопнул себя по животу.
– Какой лишай? Ты что выдумал?
– А вот – гляди. – И я, морщась, поднял рубашку.
Мазь растаяла и расползлась, желтенький кусочек пластыря съехал вниз и обнажил покрасневшее место.
Куница чмокнул губами, покачал головой и не то от сострадания, не то от испуга промычал что-то непонятное.
– Больно? – наконец спросил он.
– Не очень. Только щиплет и чешется здорово, а чесать нельзя.
– Постой, постой, а как же ты купался вчера?
– Купался. Ну и что ж с того? Зудило только немножко, я просто тебе ничего не сказал, думал, так пройдет. А зато ночью стало невтерпеж. Побежал я с теткой к доктору Быку. Пришли, а он спит. Мы его сразу разбудили. Посмотрел он на меня, головой покачал: «Плохо, говорит, дело». Мазью велел это место мазать и пластыри лепить. А в гимназию запретил ходить, пока не пройдет совсем, – не моргнув глазом соврал я Кунице и сам удивился, как это все гладко получается. Я уже сам начинал верить в свою рану и в доктора Быка.
– Бумажку тебе доктор дал для директора?
– А зачем мне бумажка, когда послезавтра каникулы начинаются?
– Так, может, ты и в крепость не полезешь?
– В крепость-то я пойду, ходить мне можно. Беги за книжками скорее.
– Ну, добже, я сейчас. – И Юзик убежал.
Солнце уже выползло из-за скал – веселое и румяное. Левая половина крепости, обращенная к городу, была освещена яркими утренними лучами. Мы обошли крепость с теневой стороны. Юзик спрятал за пазуху тетради и учебники: так ему будет удобнее взбираться.
– Только вниз не смотри, а то голова закружится, – посоветовал он мне.
Цепляясь за выступы квадратных камней, плотно прижимаясь к холодной мохнатой стене, мы осторожно вскарабкались до первого карниза.
– Ну, теперь пойдет веселее! Лишь бы не закружилась голова!
Юзик молодец. Он смело, не глядя себе под ноги, зашагал бочком по каменному карнизу.
Где-то внизу, под крепостью, белела извилистая проселочная дорога. Вот только что мы шли по ней, а отсюда, сверху, она казалась очень-очень далекой.
Я не могу не смотреть на дорогу, а гляну – страх берет: высоко.
– Эх, была не была!
Я повернулся к пропасти спиной и, почти прикасаясь губами к замшелой стене, затаив дыхание пошел по карнизу вслед за Куницей.
И вот наконец мы добрались до Папской башни. Вслед за Куницей я пролез через разломанную решетку внутрь башни. А теперь надо пробраться на крепостной двор. Туда ведет другое, выходящее внутрь крепостного двора окно.
Куница осторожно выглянул в это окно, но вдруг испуганно шарахнулся назад и приложил к губам палец.
Несколько секунд мы стоим молча.
Кого Куница увидел? Может, сторож уже прохаживается со своей тяжелой палкой по крепостному саду? Или хлопцы с Заречья опередили нас и сбивают камнями черешни? А может, еще хуже – петлюровцы приехали сюда учиться стрелять?
В это время я услышал чьи-то голоса, потом заржала лошадь и заглушила все. Опять разговаривают. Говорят громко внутри крепости. Но кто бы мог быть здесь в такую рань?
Не лучше ли, пока нас никто не заметил, выбраться из башни обратно к подножию крепости? Там уж нас никто не тронет.
Но Куница задумал другое.
Он лег на пыльный пол башни и знаками предложил и мне сделать то же самое. Медленно, ползком мы подобрались по усыпанному известкой полу к окну и, чуть-чуть приподняв головы, глянули вниз, во двор крепости.
Внизу, под самой высокой черешней, стоит черный фаэтон с поднятым верхом. Лакированные крылышки фаэтона блестят на солнце, и даже в тонких блестящих спицах колес играют солнечные лучи. В фаэтон запряжены две сытые гнедые лошади. Они встряхивают мордами и тянутся к траве. Нам слышно, как позвякивают их удила.
Поодаль, около Черной башни, к яблоне привязана запряженная в пролетку серая в пятнах лошадь. И лошадь и пролетка очень похожи на выезд доктора Григоренко. У него точно такой же масти лошадь и такая же низенькая двухместная пролетка с лакированной дугой над оглоблями.
Около фаэтона, под черешней, вполголоса беседуют три петлюровца в темно-коричневых жупанах, туго опоясанные ремнями, в желтых сапогах. Один из петлюровцев опирается на винтовку и как-то странно морщит лоб, а в стороне, в тени крепостной стены, стоят еще какие-то люди. Один из них – невысокий, в зеленой неподпоясанной рубахе, в потрепанных брюках, с непокрытой, коротко, под машинку остриженной головой. Он сразу же показался мне очень знакомым. Вот где только я его мог видеть? Он слегка сгорбился, лицо его обращено к нам – усталое, желтоватое, болезненное.
А напротив него стоит Марко Гржибовский. Он держит в руках какую-то бумагу: я слышу отрывистые негромкие звуки его голоса. Гржибовский читает эту бумагу неподпоясанному человеку. На широком ремне у Марко болтается большой револьвер в деревянной кобуре, с другого бока висит длинная сабля. А недалеко от Гржибовского стоит, прислонившись к зеленой яблоне, доктор Григоренко. «Так это его пролетка привязана около Черной башни!» На Григоренко вышитая рубаха и соломенная панама с голубой лентой. Должно быть, усатому, похожему на запорожца доктору очень скучно со всеми этими военными. Он поглядывает на ветви яблони и носком своего тупорылого австрийского ботинка лениво разрывает землю под яблоней.
Для чего только он приехал сюда с петлюровцами в такую рань?
Марко Гржибовский кончил читать.
На зеленом крепостном дворе, освещенном утренним солнцем, стало совсем тихо.
Даже петлюровцы около фаэтона притихли.
Марко медленно складывает белую бумагу вчетверо и прячет ее в верхний карман защитного английского френча. Поправив револьвер, он кричит что-то троим петлюровцам – те вытянулись, прижали к себе винтовки, и эхо от крика Гржибовского далеким отголоском пробегает по запущенному крепостному двору.
Петлюровцы, взяв ружья наперевес, тяжелыми, широкими шагами подходят к понурому, оборванному человеку.
Маленький криволицый петлюровец трогает его за плечо и кивает на бастионы.
Человек в зеленой рубахе устало поворачивается и шагает к бастиону. Только теперь я замечаю вырытую у самого ската бастиона, на зеленой лужайке, свежую продолговатую яму. Черный бугорок земли, как насыпь перед окопом, поднимается перед ней.
Куница больно толкает меня в бок. Чего он хочет?
Дойдя до черного бугорка, босой человек, как в забытьи, медленно, не торопясь, раздевается. Сначала он снимает верхнюю рубаху. Слабым движением руки он отбрасывает ее в сторону на густую траву и, полуприсев, снимает сорочку. Видно, ему тяжело стоять. Вот он разделся до пояса и стоит на траве под зеленым полукруглым бастионом, обнаженный, худой, с проступающими под кожей выпуклыми ребрами.
Я пристально смотрю на этого голого человека и все еще ничего не понимаю: зачем он стал раздеваться, не купаться же он собрался здесь, на крепостном дворе?
И лишь когда трое петлюровцев, прижав к плечам коричневые блестящие винтовки, застывают на месте, я вдруг соображаю, что происходит сейчас внизу. Я понимаю, для чего сюда приехали ранним утром петлюровцы, зачем привезли они с собой худого тяжелобольного человека.
Мне страшно, хочется закрыть глаза, убежать, не видеть того, что произойдет вот сейчас на наших глазах.
Но винтовки в руках петлюровцев выравниваются все прямее, трое солдат твердо стоят на раздвинутых ногах; чуть подавшись вперед, они целятся, прижимаясь лицом к полированным прикладам.
Голый понурый человек, собрав последние силы, вздрагивает, выпрямляется. На черной насыпи он сразу кажется высоким, тонким. И, подняв над головой кулак, он кричит припавшим к винтовкам петлюровцам:
– Меня вы убьете, но народ украинский вам не обмануть и не убить никогда, палачи! Да здравствует Советская Украина-а-а!
Ветер доносит к нам обрывки его хриплого, простуженного голоса.
И только тут я узнаю желтого, болезненного человека.
Да ведь это его в тот весенний слякотный вечер, когда отступали красные, привел в наш дом Иван Омелюстый! Это же его Марья Афанасьевна укладывала на кованом сундуке и поила чаем с сушеной малиной, а он, высунув из-под одеяла руку, стал показывать мне пальцами на освещенной стене разные забавные штуки. Ведь это он так страшно щелкал зубами, когда Иван толковал с моим отцом. Значит, он не ушел с красными; значит, тетка обманула меня. Я вскочил, высунулся в окно.
«Оставьте, пустите его, он очень болен, он никому ничего не сделал!» – хотел закричать я, но слова застряли у меня в горле, а Куница сразу же потянул меня вниз, и я упал на колени.
Курносый Марко Гржибовский взмахнул саблей.
Три винтовки почти одновременно подпрыгнули в руках петлюровцев. Отзвук ружейного залпа гулко прогремел в бастионах, в амбразурах черных пустых башен.
Потревоженные выстрелом галки взвились со своих гнезд и, каркая, закружились над крепостью. Казалось, весь город притих там, за крепостью, вслушиваясь в густое эхо выстрелов.
Голый человек так, как будто ему стало холодно, съежился, прижал к груди руки, нагнулся набок и потом медленно, медленно, словно засыпая, наклонил голову, повалился на землю, к вырытой у его ног черной продолговатой яме.
Тогда неторопливыми шагами, опираясь на суковатую изогнутую палку, к яме подошел доктор Григоренко. Положив на траву панаму с голубой лентой, он нагнулся и стал ощупывать упавшего. Григоренко запрокинул назад его голову, легко тронул глаза.
Потом он выпрямился, вытер руки о белый платочек, махнул рукой и что-то тихо сказал Гржибовскому.
Марко быстро подошел к насыпи и ногой столкнул убитого в яму.
Пока петлюровцы щелкали затворами и, выбрасывая в траву стреляные гильзы, разряжали винтовки, Марко Гржибовский и усатый Григоренко вдвоем подошли к докторской пролетке.
Гржибовский влез на ее облучок, так что пролетка сразу накренилась влево, и закричал:
– Сторож, сторож, иди-ка сюда!
На крик Марко пришел сторож в соломенном потрепанном капелюхе. Он шел медленно, прихрамывая, с опаской озираясь по сторонам. Подойдя к Гржибовскому, он снял капелюх и поклонился.
– Возьми-ка в экипаже заступ да быстро закопай вон ту могилу. Только как следует, хорошенько! Потом травой забросай. И никому не смей говорить о том, что видел. Понял? А не то… – И Гржибовский притронулся к револьверу. – А себе за работу, – добавил он милостиво, – вот его шмаття возьми.
Сторож достал из фаэтона заступ и подошел к яме. Не глядя в могилу, он торопливо стал подбирать черную, с клочьями зеленой травы землю и поспешно, неловкими бросками засыпал застреленного петлюровцами человека. Заступ дрожал у сторожа в руках. Видимо, впервые выпала на его долю такая страшная работа.
А Марко Гржибовский, словно кучер, уселся на облучке пролетки и, вынув из кармана серебряный портсигар, протянул его доктору. Крышка портсигара, щелкнув, взлетела кверху, они закурили. Голубой дым поднялся над пролеткой. Облокотившись на ее крыло, доктор показывал Марко рукой то на яблони, то на черешни. Потом он наклонился к подножию яблони и схватил горсть унавоженной рыхлой земли. Он поднес на ладони эту землю Гржибовскому, бережно растер ее в руках и затем, причмокнув губами, отшвырнул в сторону.
Наверное, он хвалил сторожа, хорошо ухаживающего за деревьями в крепости. А сторож уже засыпал яму землей и зеленым дерном. Раздумывая, он постоял минуту над могилой и потом быстро подобрал разбросанную на траве одежду убитого. С этими вещами в одной руке, с заступом в другой, хромая, он подошел к пролетке и снова поклонился Гржибовскому. Марко выплюнул окурок, спрыгнул на траву и, поправив фуражку, взял от сторожа вымазанный глиной заступ.
– Э-гей, хлопцы! – крикнул он петлюровцам и со всего размаха перебросил им заступ.
Те отскочили, а заступ, перевернувшись в воздухе, упал в траву около задних колес фаэтона.
Марко вместе с Григоренко уселись в пролетку.
Двое петлюровцев с винтовками в руках тоже полезли внутрь фаэтона, а третий, маленький, передав им свое ружье, вскарабкался на козлы и взял кнут.
Доктор Григоренко натянул вожжи, и его легкая пролетка первой выехала из крепости в открытые сторожем ворота.
Мягко покачиваясь на упругих рессорах и подпрыгивая, следом за ней покатился из крепости на улицу черный, с поднятым верхом казенный фаэтон. Сытые лошади, опутанные нарядной сбруей, махали хвостами.
Слышно было, как, сбегая вниз, к мосту, лошади звонко застучали копытами по голым камням мостовой.
Сторож закрыл ворота и вернулся обратно во двор.
Соломенная шляпа его лежала на бастионе около засыпанной могилы. Опираясь на суковатую ясеневую палку, с одеждой убитого под мышкой, сторож стоял среди крепостного двора угрюмый и нахмуренный.
– Васька, а не тот ли это большевик, которого поймали вчера в Старой усадьбе? – тихо, дрожащим голосом прошептал Куница, обдавая мое лицо горячим дыханием. – Я после купанья повстречал около Успенской церкви Сашку Бобыря, и он мне говорил, что из Старой усадьбы синежупанники под ружьями вели какого-то большевика. Может, это он самый? Ты не слыхал об этом?
Нет, я не слыхал. И если бы даже слыхал, мне трудно было бы разговаривать сейчас об этом.
Я видел его живым до этого всего лишь один раз. Я не знаю, кто он, как его зовут, есть ли у него семья, я ничего не знаю про него и не узнаю, наверно, пока не вернется из Нагорян мой отец, пока не вернется Советская власть.
Теперь этот человек сделался для меня родным и близким. Мне даже думать было тяжело, что он не подымется из этой черной ямы, не прищурится, взглянув на небо, от солнечного света, никогда не улыбнется и не придет в гости к моему отцу как давно знакомый, свой человек.
Куница снова толкнул меня.
– Васька, давай слезем к нему, а? – шепнул он, кивая вниз на сторожа.
Я повернулся к Юзику и увидел слезы на его глазах. Куница плакал. Ему было страшно оставаться здесь, в этой холодной полутемной башне, после всего, что мы увидели на крепостном дворе. И только я подумал об этом, как у меня самого перехватило дыхание и одна за другой крупные слезы закапали из глаз. Я крепко прижал ладони к лицу, перед глазами пошли зеленые круги, но все равно слезы текли все сильнее и сильнее. Я отвернулся в сторону и прижался лбом к холодной стене. Я видел перед собой в темноте падающего больного коммуниста, я слышал его последний, предсмертный, грозный и вещий крик:
– Да здравствует Советская Украина!
«Душегубы проклятые! Кого вы убили?» В эту минуту я поклялся, что отомщу за смерть убитого петлюровцами большевика. Пусть попадется мне ночью в Крутом переулке курносый Марко Гржибовский! Я сразу проломаю ему голову камнем. И от боли, от досады, что мы не смогли помешать Гржибовскому, когда он расстреливал нашего ночного гостя, я заревел еще сильнее.
– Не надо, Васька, ой, не надо! Ну, уйдем отсюда! Ну, прошу тебя!.. Ну, пошли вниз! – тоже всхлипывая и дергая меня за локоть, зашептал Куница.
И, не дожидаясь ответа, он высунулся из окна. Осторожно опустив ноги на крепостную стену, он смело пошел по ней, раздвигая ветки кустарника, преграждавшие ему дорогу. Услышав шум, сторож поднял голову. Он увидел идущего по стене Куницу, но не закричал, как обычно, и даже не двинулся с места.
Я вытер кулаком слезы и спустился во двор вслед за Куницей.
Спрыгнув со стены, мы оба, медленно ступая по мягкой траве, подошли к сторожу.
– Дядя, они убили того коммуниста, что в Старой усадьбе вчера поймали?.. Да, дядя? – спросил у сторожа Куница так, словно сторож был его старый, хороший знакомый.
– Почем я знаю? – глухо, настороженно ответил сторож. Он недоверчиво разглядывал нас.
Лицо у сторожа вблизи было совсем не такое уж страшное, каким казалось издали. Он, наверное, давно не стригся, голова у него была заросшая, волосы падали на загоревшие уши.
– А вы чьи будете?
Мы назвались.
Оказывается, сторож знает отца Юзика. Про моего он только слышал.
– Видели? – помолчав, все еще недоверчиво спросил нас сторож.
– Мы в башне сидели! – объяснил я.
– Того самого, – теперь уже более твердо сказал сторож. – Я вначале не понял, зачем они сюда едут. Открыл ворота и спрашиваю: целый день стрелять будете? А тот офицер глянул и смеется, ирод окаянный. И еще одежонку мне его дал. А зачем она мне, только грех на душу взял. – И сторож поглядел на вещи убитого.
Мы разглядывали зеленую, выпачканную известкой рубашку и рваную сорочку.
– Дядько, а вы нас пустите в крепость, мы цветов наломаем и принесем сюда, ему на могилу? – сказал Куница.
Сторож согласился.
– Только вечером приходите, – попросил он, – а то днем они тут упражняются – вон всю стену пулями поколупали…
Мы расстались со сторожем как свои люди.
Старик сам открыл нам ворота.
Мимо подземного хода, через крепостной мост мы пошли в город. Куница отправился в гимназию, где давно уже начался первый урок, а я – домой.
Расставаясь, мы условились, что сегодня вечером Куница зайдет ко мне и мы вместе пойдем рвать цветы для могилы этого убитого в крепости человека.
МАРЕМУХУ ВЫСЕКЛИ
Куница пришел ко мне засветло. Пронзительным свистом он вызвал меня на улицу. Я услышал свист и подбежал к дощатому забору.
– Заходи! – крикнул я Кунице. – Я сейчас, только накормлю крольчиху, а потом давай к Петьке сходим за цветами.
– Его дома нету, – хмуро сказал Куница, проходя со мной к раскрытым дверям крольчатника.
– А ты что – заходил к нему?
– Я и так знаю. Он прямо с уроков со своими голоногими в театр пошел.
– В театр? В самом деле?
– Конечно, в театр. Кончились уроки – их всех выстроили на площади и повели. С музыкой. А впереди Марко Гржибовский! – сердито объяснил Куница.
Войдя в крольчатник, Куница сразу наклонился ко мне и спросил:
– Васька, а зачем ты мне набрехал?
– Что набрехал? Когда?
– Будто не знаешь. Да вчера, когда купаться шли… И сегодня утром – про лишай. Ведь бородатый тебя выгнал, да?
– Откуда выгнал? Кто это выдумал? Никто меня не выгонял.
– Как никто? А приказ для чего вывесили?
– Какой приказ?
– А вот какой – на стенке около учительской висит. Приди почитай сам, если не веришь. Сегодня в большую перемену вывесили. А в приказе написано, что тебя за хулиганство выгнали из гимназии. Сам Прокопович подписал… Сегодня Сашка Бобырь был дежурным, он видел, как твою фамилию из классного журнала зелеными чернилами вымарали… Вот. А ты думал – я не узнаю, да? Набрехал-набрехал: «Меня доктор Бык освободил… Ночью с теткой побежали… Вот лишай, посмотри». А сам не знаешь, что доктор Бык уж вторую неделю арестованный сидит за то, что не дал петлюровцам обыск сделать в своей квартире. Мне сегодня ребята рассказали. А я вчера уши развесил, поверил тебе.
Куница замолчал и только постукивал пальцами по кроличьей клетке. Потом обиженным голосом сказал:
– Сегодня утром Котька стал хвастаться, что тебя прогнали, а я ему говорю: «Ничего не выгнали, он больной, а вот выздоровеет и второй раз тебя в речку кинет». А Котька как засмеется. «Больной, – закричал, – больной! Да он плачет сидит, что из гимназии вытурили». Тут, как назло, и приказ вывесили. Зачем ты мне наврал? Не стыдно тебе?
Мне в самом деле было стыдно. Я глупо сделал, что соврал Юзику про лишай и про директора. Кому-кому, но Кунице я мог бы доверить любую тайну. Это не Петька Маремуха. Тот трус и слова никогда не сдержит. А Куница – парень надежный.
Прошлой осенью я сорвал в училище водосточную трубу: хотел по ней влезть на крышу, а труба была ржавая, взяла да и упала. Куница стоял рядом. Потом долго, добрый месяц, заведующий во всех классах допытывался: «Кто сорвал трубу? Кто сорвал трубу?» И учителя тоже спрашивали, но Куница не выдал меня, и с той поры крепче стала наша дружба. Зря я не рассказал ему все, как было. А вот сейчас надо выпутываться.
– Знаешь, Юзик, я думал, все так обойдется. Попугал меня Прокопович, а потом простит…
– «Обойдется!» Жди! – ухмыльнулся Куница. – Вот если придут красные, тогда и простят тебя, а этот бородатый ни за что не простит. Ты еще не знаешь, какой он вредный. И зачем только нас перевели в эту гимназию? Кому это нужно?
– Кому? Петлюре. Он хочет на свою сторону нас переманить, чтобы, когда мы подрастем, за его директорию воевали. Черта лысого! Не дождется, душегуб проклятый!
В это время крольчиха застучала задними лапками по дну клетки.
– Ой, какой у тебя кролик здоровый! Самка, да? – вдруг изумился Юзик, заметив, в глубине клетки красные глаза моей крольчихи.
– Ага, самка, ангорская. Погляди, какая она жирная, полпуда будет… Трус, трус, трус!.. Иди сюда!.. – позвал я крольчиху, протягивая ей желтую морковку. Я был рад, что Куница так быстро перестал сердиться.
Тучная крольчиха выпрыгнула из глубины клетки и ткнулась в мою ладонь горячей мордой. Острыми зубами она схватила морковку и стала быстро грызть ее. На груди у крольчихи от волнения вздымалась белая пушистая шерсть, а на морде шевелились длинные, тонкие усы.
– Васька, а Васька! А какого голубя я сегодня поймал! – похвастался Куница. – Крылышки сиреневые, клювик маленький, как у чижа, лапки в перьях, со шпорами, а на грудке бант завивается. Ты же знаешь, банточные голуби очень породистые. Возьму за него на базаре карбованцев сто, не меньше. Боязно только продавать. А вдруг хозяин отыщется? И ты, гляди, молчи…
– Он сам к тебе сел или ты подманил?
– В том-то и штука, что подманил. Я вернулся из гимназии, набрал в карман кукурузы и полез на крышу. Голуби ведь у меня сейчас не в будке, где весной были, – будку тато секачом порубал, – а на чердаке того сарая, где он собак держит. Ну вот. Вылез я на крышу, отворил решетку, бросил им кукурузы – вдруг гляжу, над Старой усадьбой голубь кружит. И низко. Эх, думаю, попытаю счастья. А дома-то никого нет: тато Забодаеву собак сдает, а мама на базаре. Похватал я голубей да вверх – одного, другого. Аж перья полетели. Свистеть стал. А мой голубь, тот белый трубач, и без свиста – как махнул, как рванул и сразу над колокольней закружился. Ну, банточный к нему и пристал. Я быстренько с крыши на землю, сел в бурьяне под курятником, веревочка в руках и жду. Полетали они немного и сели рядом – мой и чужой. Мои-то голодные, с утра ничего не ели, ну и поскакали в голубятник, а чужой за ними. Я решетку хлоп – и готово! Банточный с ними сидит и уже около белой самицы вертится. Я к думаю теперь: а что, если ему крылья перекрасить? Из сиреневых в коричневые? Тогда и на базар можно…
– А зачем тебе его продавать? Оставь на развод. Чудак, не знаешь, что сделать? Перевяжи крыло шнурком, и не улетит.
– Я бы перевязал и приручил, да тато может заметить. А он мне строго-настрого наказал больше двух пар не держать. Я и боюсь: увидит пятого и всех продаст.
– А что? Жалко ему?
– А кормить чем? Кукуруза-то сейчас дорогая, и достать ее негде. Селяне на ярмарку теперь не ездят. Боятся, что петлюровцы все у них отберут.
– У вас своей разве нет?
– Да, есть, но мало – не уродила. Нам самим на мамалыгу не хватит.
За домом хлопнула калитка. К нам кто-то шел, должно быть к тетке. А она спит. Я оставил Куницу в крольчатнике, а сам побежал навстречу.
У крыльца я наткнулся на Петьку Маремуху.
Он был весь красный, взъерошенный и тяжело дышал. Видно, он бежал сюда и оттого запыхался.
– Ты дома? – радостно сказал Петька.
– Дома, – ответил я неприветливо. – А что, представление разве кончилось?
Мне было завидно, что Петька ходил в театр, смотрел представление.
– А ты… ты откуда знаешь, что я был в театре?
– Подумаешь, секрет! Все знают. И Куница!
– Куница?.. Он что – был в театре?
– Ну, в гимназии видел, как вас выводили. Чего ты пристал? Пойдем в сарай.
Юзик тоже встретил Маремуху неласково. Петька чувствовал себя неловко, он понимал, что мы не особенно расположены к нему. Он потоптался немного на месте, а потом, увидев крольчиху, суетливо, скороговоркой сказал:
– Ой, какой кроль! Где ты такого достал, Васька? Весной у вас другой по двору бегал. Правда? Этот красивее, целый баран, а не кроль!
Но напрасно вытанцовывал Петька перед моей крольчихой. Зря причмокивал он губами от восторга. Я и Куница прекрасно понимали, что Петька просто хотел подмазаться к нам. Все было напрасно. Одно из двух: либо с нами дружить, либо со скаутами голоногими в театр ходить. И мы делали вид, что не замечаем Маремуху.
Помолчав немного, Маремуха снова заговорил:
– Я не доглядел все представление. Еще одно действие осталось…
– Что ж так? Сидел бы уж там до конца. Зачем сюда притащился? – не вытерпел Куница и сурово оборвал Петьку: – Какие мы тебе товарищи? Панычи, скауты – твои товарищи. Котька Григоренко – твой товарищ. Иди к нему в гости. – И Юзик со злостью сунул в нос крольчихе морковную ботву.
– Ну их! Пусть они подавятся… Больше я к ним не пойду… – вздохнул Маремуха и вдруг, покраснев, сразу выпалил: – Они меня выпороли!
Мы насторожились.
Я с недоверием поглядел на взъерошенные волосы Петьки. Взволнованный, в зеленом скаутском костюмчике, он стоял перед нами и виновато заглядывал Юзику в глаза.
Кто бы мог его выпороть, такого подлизу? Не могло этого быть. И я, решив, что Петька врет, прямо сказал:
– Ты брешешь!
– Ей-богу! Пусть меня гром побьет! Слушайте, я вам расскажу все по порядку. Только никому не говорите, – попросил Петька, – ладно? Повели нас в театр. Под барабан. После второго звонка Бобырь ушел в залу, а я гуляю один. Ем яблоки, которые дал мне Сашка. Нехай, думаю, все усядутся, а я, как только свет в зале загасят, возьму и тоже сяду где-нибудь с краешку… Вот хожу по коридору и думаю: да тушите, черти, свет поскорее! А в это время кто-то хлоп меня по плечу. Я сначала думал – Сашка, хотел было ему сдачи дать. Оглянулся, смотрю – нет, это Жорж Гальчевский, – знаете, из седьмого класса бойскаут.
– Какой Жорж? Тот, что с крепостного моста в водопад прыгал? – спросил Юзик.
– Да нет. То Мацист прыгал. Того Жоржа Мацистом зовут. Ды ты же должен знать Гальчевского: он худой такой, костлявый, высокий, все с кастетом ходит. Приятель Кулибабы. Его отец – поп, служит в Преображенской церкви за Подзамчем. Ну вот, Гальчевский поймал меня за плечо и говорит: «А ты почему, шкет, тут вертишься?» – «Там душно очень, – говорю. – Пока не началось, я здесь воздухом подышу». – «А билет есть? Покажи-ка билет!» – вдруг потребовал Жорж. Стал я искать билет, ищу, ищу, то в один карман полезу, то за пазуху, то в другой карман, а сам все думаю: лишь бы свет поскорее потушили, он тогда отвяжется и побежит в залу на свое место. Но не тут-то было. Он стоял, ждал, а потом вдруг как толкнет меня сзади коленкой да как закричит: «Пошел вон отсюда, сопляк! Пока я здесь дежурным, ни один заяц у меня не пройдет!» Я споткнулся, чуть было не полетел, яблоки мои покатились к вешалке, я их догоняю, а Гальчевский еще кричит контролеру: «Не пускайте этого зайца обратно, чтобы духу его больше не было!» Я подобрал яблоки и бегом на галерку. Там у меня взяли билет и пропустили, слова не сказали. Вбегаю – уже темно. Нащупал свободное место на боковой скамейке у самого барьера, сел и грызу яблоко. Съел одно, взял другое, только надкусил, вижу, занавес подымается. Ну, думаю, доем потом. Только было хотел положить яблоко на барьер, а оно сорвалось да как полетит вниз… Ох, я и напугался! Уронил и даже глянуть вниз боюсь – страшно. Слышу только, выругался кто-то в партере и стулом заскрипел.
Потом тихо стало. А представление идет интересное такое, с запорожцами, с танцами и с музыкой. «Про що тырса шелестила» – так называется. Я засмотрелся и позабыл про яблоко.
Кончилось первое действие, зажгли свет, я сижу, не встаю, чтобы место не заняли, а сам высматриваю, где знакомые хлопцы сидят. Вдруг кто-то опять – цап меня за плечо. Обернулся я, гляжу – снова Жорж Гальчевский. «Ты яблоко на голову офицеру бросил?» – спрашивает. «Какому офицеру?» – «А вот погляди!» И схватил меня за шиворот да перегнул головой через барьер так, что я чуть было не упал вниз. А оттуда, снизу, из партера, ихний офицер рукой Жоржу машет и мне грозится. Тогда Гальчевский как закричит: «Пойдем к кошевому!» – и повел меня за кулисы. Там артисты бегают, пыльно, досок много навалено, темно, я чуть-чуть не упал – зацепился за какую-то веревку, а Гальчевский все меня толкает вперед. Хотел было я удрать – не вышло. Привел меня Жорж к самому Гржибовскому, а тот сегодня на сцене запорожца играл, весь вымазанный такой, и брови и нос – все в краске. Нос у него большой – нашлепку наклеил. Гальчевский козырнул ему и все про то яблоко рассказал, а меня он даже и не спросил, нарочно я или нечаянно. Тогда Марко Гржибовский сказал Гальчевскому: «Врезать ему пять шомполов», – и на меня головой кивнул. А Гальчевский мне сразу ка-ак даст! Ногой!
– И шомполами били? – все еще не веря Петьке, спросил я.
– А чем же еще? Конечно, шомполами!
– Где? Там же, за кулисами? – поинтересовался Куница.
– Ну вот еще… за кулисами… Просто вывели туда, за театр, где помойная яма, сняли рубашку и пять раз ударили. Вот погляди, еще знаки есть! – И Маремуха, задрав рубашку, показал нам свою спину. На его гладкой спине краснело пять неровных вздувшихся полос. Они легли почти рядышком, одна возле другой.
Куница решил проверить, не врет ли Маремуха, не нарисовал ли он эти полосы, чтобы разжалобить нас. Он послюнил палец и провел им по багровой полосе. Маремуха съежился и отскочил.
– А кто бил? – спросил я.
– Кто? Известно – Гальчевский. Марко ему приказал. Гальчевский бил, а Кулибаба и еще два скаута, я их совсем не знаю, держали. Один за руки, другой за голову. Потом я вырвался и побежал сюда, к вам… Ничего, он меня будет помнить… Я ему морду побью… Я не испугался его кастета…
– Кому морду побьешь? – спросил Куница.
– Гальчевскому… и кошевому… Марку… всем, всем побью… Ночью подслежу и буду бить…
– Да Гальчевский же тебя выпорет, как щенка. Нашелся тоже вояка! А у кошевого револьвер есть, он в тебя из револьвера пальнет. А потом, они ж твои начальники, зачем же их бить? – подтрунивая над Маремухой, сказал Куница.
– Я их не слушаюсь больше. Кто им дал право меня пороть? Я разве виноват, что яблоко само упало? Больше я к ним не пойду. Будь они прокляты со своей самостийной вместе… Поскорее бы красные возвращались…
– Ишь как запел, – отрезал Куница. – А сколько раз мы тебе говорили: подкупают петлюровцы таких, как ты, растяп своими цацками, формой да маисовой кашей. Американцы да англичане все это присылают нарочно – крупу да сахар, чтобы Петлюра здесь для них шпионов готовил, чтобы молодых хлопцев подкупал. А такие, как ты да Бобырь, словно та мышь на приманку, полезли к ним…
– Я теперь и сам понял, какие они подлецы, – огорченно протянул Маремуха.
– Понял, когда тебе ижицу шомполом прописали, – едко сказал Куница. – Мало тебе еще дали! И за компанию Бобыря жаль, что не выпороли.
Ох и вредный же Юзик, когда разозлится!
– Да оставь ты его, Юзик! – заступился я за Маремуху и сказал: – Эх, был бы ты, Петька, надежным парнем, кто знает, может, мы и приняли бы тебя в нашу компанию, дружить стали. А то не верю я тебе. Такому, как ты, даже ничего сказать нельзя. Сегодня ты с нами, а завтра к Котьке побежишь.
– Пусть меня гром убьет – не побегу! Я сердит на него, ничего вы не знаете!
Маремуха от волнения просунул в клетку пальцы. Крольчиха сразу подскочила и стала обнюхивать их.
– А шапка рыжая у тебя чья? Не Котькина разве? – строго напомнил Куница.
– Ну, это когда было… – вконец смутился Маремуха. – Мы первый год тогда жили в Старой усадьбе, моя мама понесла Котькиному отцу деньги за аренду, а Котькина мама подарила ей ту шапку. У меня ведь зимней не было. Я виноват?
– Твоя мама, Котькина мама… А вот ты Котькин подхалим – это мы все знаем. А ну поклянись, что больше не будешь с ним дружить, поклянись, что не пойдешь к скаутам, а мы тогда посмотрим, взять или не взять тебя в нашу компанию, – милостиво потребовал Куница.
– Возьмете? Да? – заерзал около клетки Маремуха. И вдруг неожиданно для нас обоих он сорвал с плеча пучок разноцветных ленточек и злобно швырнул его на землю. Ногтями он содрал с рукава скаутской гимнастерки желто-голубую нашивку и тоже бросил ее под ноги.
Он немного подумал, поглядел на землю и затем, как козел, сразу прыгнул обеими ногами на эти скаутские украшения и стал топтать их так, словно под ним были не ленты и нашивки, а настоящий, живой тарантул. Маремуха подпрыгивал, сопел от волнения и, устав, сказал торжественно:
– Вот!..
Мы молчали.
Чтобы окончательно доказать нам, что ему не жаль расставаться со своими голоногими скаутами, Петька топнул ногой еще раз и вдруг размашисто перекрестил свой живот.
– Вот крест святой, не буду дружить с Григоренко! Нужен он мне, подумаешь!
– А если ты с ним и в самом деле дружить не будешь, – сказал я, – растроганный клятвой Петьки и тем, что он растоптал скаутские цацки, – то мы возьмем тебя в Нагоряны. У меня там дядька, а у дядьки отец гостит. Мы сами, без скаутов, пойдем туда. Рыбу половим – там рыбы ой как много. И я вам Лисьи пещеры покажу. Хочешь?
– Ну конечно, хочу! – пуще прежнего засуетился Петька. – А я сетку возьму и удочку ту, длинную, с бамбуковым удилищем. Сеткой за один раз можно много рыбы наловить! А червяков, может, накопаем здесь? У нас на Старой усадьбе под камнями их много, жирные, длинные, – бери сколько хочешь.
– Только помни, Петька, если сболтнешь тетке, что меня выгнали из гимназии, – несдобровать тебе, смотри! Сброшу со скалы! И Куница поможет!
– Я сам тебя сброшу, задавака! – ответил, повеселев, Петька и уселся на клетку.
И тут я сразу простил ему все – и то, что он ластился к Григоренко, и то, что был скаутом. «Он вовсе не такой уж плохой парень, Петька», – подумал я и сказал:
– Слушай, Петро, мы сейчас собираемся в одно место. – И я рассказал обо всем Петьке.
– Зеленая рубашка? Худой такой? Рваные штаны? Да что ты говоришь! Его расстреляли? Не может быть! – сказав это, Петька мигом спрыгнул с клетки на землю.
Клетка зашаталась и чуть не упала. Петька был бледный и смотрел на нас широко открытыми, испуганными глазами.
– Нет, в самом деле? – спросил он.
– Убили, зарыли и следа не оставили! Тяжелобольного человека, который сопротивляться не мог. Еле-еле стоял. Вот что петлюровцы делают! Их всех надо покидать в водопад с крепостного моста, а Петлюру первым, и мотузок с камнем на шею привязать, чтоб не выплыл! – глухо сказал Куница.
– Постой, а ты откуда знаешь, что он в зеленой рубашке? Ты что – его видел? – спросил я у Петьки.
– Да он… я… я видел, как его вели… мимо нас… – пробормотал Петька.
– Значит, тот самый! – задумчиво сказал Куница. – Его у нас, в Старой усадьбе, поймали. Над скалой. Вчера вечером. И Сашка Бобырь тоже видел.
– Мы хотим сейчас могилу убрать. Пойдем с нами, Петька. А у тебя жасмина наломаем, – предложил я.
– Я пойду… А не поздно только? Может, завтра утречком?
– Утречком нельзя. Надо сейчас. Пошли! – твердо приказал Юзик и вышел первым из крольчатника.
КЛЯТВА
– Вы подождите здесь: я погляжу, кто дома, – сказал нам Маремуха, когда мы подошли к Старой усадьбе.
Мы уселись с Куницей на полусгнившее бревно.
Старая усадьба, в которой жила семья Маремухи, раскинулась у скалистого обрыва. Внизу текла речка. На другом ее берегу, тоже над обрывом, подымалась Старая крепость. Отсюда можно было хорошо разглядеть все крепостные башни и высокий мост. Раньше, много лет назад, этой Старой усадьбой владел помещик Мясковский.
Жил он бобылем с одним только старым лакеем. Незадолго перед смертью Мясковского дом, в котором он жил, сгорел, а после его смерти Старая усадьба перешла в наследство к двоюродному брату Мясковского – доктору Григоренко.
Видно, не очень она ему пригодилась. У Григоренко на Житомирской был собственный двухэтажный дом с большим фруктовым садом. В Старую усадьбу он не переселился. Доктор только сдал в аренду Петькиному отцу – сапожнику Маремухе – единственный уцелевший от пожара флигель. Маремуха должен был оберегать от потравы фруктовые деревья и ежегодно косить для Григоренко сено. Этим сеном доктор Григоренко кормит свою серую в яблоках лошадь.
– Идите сюда! – выскочив из флигеля, закричал Петька. – Батьки нет дома, он пошел в лавочку за дратвой.
Мы сразу почувствовали себя свободнее здесь и смело пошли за Петькой к растущим над скалой кустам жасмина.
– Ломайте побыстрее, а я тут покараулю! – сказал Маремуха, вскочив на высокий пенек.
Жасмин в Старой усадьбе растет замечательный.
Мы с Куницей тянем к себе упругие ветки и с хрустом обламываем их. Обломанные ветви отскакивают назад с шумом, задевая соседние кусты. Мы ломаем жасмин торопливо и безжалостно – будет беда, если отец Петьки застукает нас.
Но вот букеты наломаны. Мой букет тяжелый, он слегка влажен от первой вечерней росы. Чем бы его перевязать, чтобы не рассыпался? Ну да ладно, перевяжем, вот только выйдем из старой усадьбы.
С букетами в руках мы бредем по улице Понятовского.
Смеркается. Первые летучие мыши неслышно скользят у нас над головами.
– Подожди-ка, поглядим, что там, – остановил нас Куница у высшеначального училища.
На дощатом заборе нашего бывшего училища налеплен свежий еще не просохший петлюровский плакат.
– Когда же его здесь повесили? Я бежал – еще не было, – тихо сказал Маремуха.
Куница быстро оглянулся и, зацепив ногтями плохо приклеенный верхний уголок плаката, потянул его к себе.
– Раз! Два!
И не успели мы сообразить, в чем дело, серединки плаката как не бывало. Куница смял этот липкий, мокрый от клейстера кусок бумаги, швырнул его под забор и спокойно скомандовал:
– Пошли, хлопцы!..
Мы пошли, и я позавидовал смелости Куницы. Почему я сам не догадался сорвать плакат? «Трус! – ругал я себя. – Такой же трус, как и Петька. Ведь никого не было вокруг!»
Улица Понятовского круто повернула влево, и мы вышли на каменный крепостной мост. Доски на мосту были теплые и шершавые. Они скрипели у нас под босыми ногами. А внизу шумела вода. Она прорывалась у самого подножия моста сквозь пробитый тоннель и слетала на скалы ослепительно белым, день и ночь шумящим водопадом.
Находились в городе смельчаки: взберутся на перила моста и оттуда, сверху, «солдатиком» прыгают в кипящую под скалами воду.
Эх, и боязно, наверное, падать так, затаив дыхание слушать, как колотится сердце, и уже на полдороге встретиться с взлетающими вверх брызгами холодной воды!
Рассказывали, что давным-давно, перед тем как покинуть крепость, турки спрятали в железный сундук все свои богатства и потопили его в реке, под этим бурлящим водопадом. Уж много лет лежит сундук на дне, и никто не может поднять его, потому что самому лучшему пловцу не достать до дна – такая страшная глубина в этом месте.
Прошли мост. Вот и крепость. Отвесные, крутые ее стены вечером кажутся еще мрачнее, таинственнее. Недаром Петька Маремуха все чаще стал озираться по сторонам.
– Я один пойду к сторожу, а то он увидит нас втроем и перепугается. Подождите здесь! – приказал Куница.
Ждем его внизу, около подземного хода. Слышно, как стукнула дверь сторожки. Через несколько минут Куница подзывает нас к воротам крепости. Они высокие, окованные железом, настоящие крепостные ворота.
Старый хромоногий сторож сдержал свое слово. Он со звоном отомкнул висячий замок и, сняв его с засова, открыл нам калитку. Мы с Петькой вслед за Юзиком перешагнули порог.
Маремуха задел букетом засов, и ветка жасмина упала мне под ноги.
Тихо, крадучись, мы шли по мягкому подорожнику в глубь крепостного двора. Позади, как взводимый револьвер, щелкнул тяжелый замок. Это сторож, чтобы не было подозрения, снова закрыл на засов ворота.
Мы прошли мимо высоких черешен, низеньких, с подбеленными стволами яблонь, густых, ветвистых шелковиц.
– Здесь! – сказал Куница, показывая Маремухе на чуть заметный взрыхленный бугорок под самым бастионом. – Он стоял здесь, над ямой, а они – напротив и целились… А потом, когда он упал, подошел сюда доктор Григоренко и глаза ему потрогал. Мы вон из той башни все видели…
Маремуха молча глядел на могилу. Я развязал свой букет, и свежие, пахучие веточки одна за другой посыпались на перекопанную землю.
– Погоди! – отстранил мою руку Куница и неожиданно вынул из кармана смятый красный платок. – Я китайку принес. Такой китайкой запорожцы застилали могилы своих побратимов, – сказал он и, подобрав ветки рассыпанного жасмина, покрыл свежую могилу алой материей. Она была точно такого цвета, как знамя, которое днем и ночью развевалось над ратушей, когда провозгласили у нас Советскую власть.
Куница хорошо придумал.
– Петрусь! – тихо шепнул Куница Маремухе. – Иди к черной башне, принеси оттуда гладкую плиту. Быстро!
Но Петька покосился на темные башни и затоптался на месте. Видно, ему страшновато было идти туда, к Черной башне, через весь пустынный двор крепости.
– Я не донесу… У меня рука болит… Пусть Василь со мной пойдет, – забормотал Маремуха.
– Эх, ты… – со злостью ответил Куница. – Ну, тогда бегите вдвоем, а я здесь останусь.
Не проронив ни слова, мы подкрались к высокой башне. Острая, окруженная зубчатым венчиком, ее крыша ясно выделялась в предвечернем сумраке на синеватом небе. Я подумал: «А не закрыл ли нас в крепости сторож нарочно, чтобы выдать петлюровцам?» И мне стало жутко от одной этой мысли. Показалось, что крепостные стены зашевелились и придвигаются к нам все ближе и ближе. Вот-вот они окружат нас совсем.
– Эта? – дрожащим голосом спросил Петька, увидев под стеной башни прислоненную белую плиту.
– Она!..
Тяжелая!.. С трудом передвигая ноги, мы принесли плиту Кунице.
– Подвиньте на середину… – сказал он. – Да нет же, не опускайте совсем… Вот так, на весу держите. – И, подсунув под плиту руки, Куница расправил красный платок. – Надо все закрыть. Петька, подыми свой край чуть-чуть. Ладно, вот так хорошо… Опускайте!
Мы осторожно опустили каменную плиту на могильный бугорок. Я почувствовал, как она плотно прижала покрытую красной материей мягкую землю.
– Теперь давайте цветы, – прошептал Куница.
Развязав букеты, мы засыпали ветками могильную плиту. Могила стала еще выше.
Темнело. Желтый серп месяца висел над островерхой Черной башней.
Далеко, за Калиновским лесом, – должно быть, в Приворотье – протяжно пели унылую украинскую песню.
Крепость подымалась над городом, молчаливая, настороженная. Грохот тряской телеги, далекая печальная песня, тревожный лай собак на Заречье, быстрый стук копыт бегущего по Калиновской дороге коня – все было слышно здесь особенно громко. Глубокие окна крепостных башен и низкие бастионные входы усиливали эти звуки. Казалось, вся крепость дрожит, встревоженная ими. А там, за крепостным мостом, притаился засыпающий город и тоже вздрагивал от каждого звука: и от ржания запоздалой лошади, и от далекого выстрела, неожиданно врывающегося в эту вечернюю тишину.
В городе, наверно, уже давно зажгли огни. Но мы не видели их отсюда. Даже высшеначальное училище, которое стояло почти рядом, за мостом, было скрыто от нас высокой крепостной стеной. Прозрачное звездное небо раскинулось высоко над нами. Я видел нахмуренные лица Петьки и Куницы, озаренные светом молодого месяца.
Вдруг Юзик выпрямился, поднял голову и, повернувшись к могиле, сказал:
– А теперь, хлопцы, поклянемся, что будем стоять друг за друга, как брат за брата, и отомстим проклятым петлюровцам за этого человека! Давайте руки!
Молча мы протянули над могилой руки. Я цепко схватил чуть вспотевшую и вздрагивающую ладошку Маремухи, а Куница положил свою холодную ладонь поверх наших. Мы окружили могилу, как в хороводе, и большая тень от наших сомкнутых рук упала на траву бастиона далеко за могильной плитой.
– И в трудный час будем заступаться друг за друга! И будем помогать тем, кто борется за Советскую власть! Правда? Поклянитесь! – строго приказал Куница.
– Клянемся! – дрожащей скороговоркой почти выкрикнули мы, и тотчас же быстрое эхо испуганно повторило вслед за нами торжественные слова клятвы, которую наспех придумал Куница.
Я успокоился только на обратном пути, когда мы подошли к середине крепостного моста. Крепость осталась позади. Здесь, на воле, вдали от ее башен, было совсем не страшно. Даже Петька Маремуха повеселел и на ходу постукивал кулаком по перилам крепостного моста.
Но вот где-то за улицей Понятовского загудел автомобиль. Вслед за ним – другой. Далекий гул донесся сюда, заглушив шум водопада под крепостным мостом.
– Тише, хлопцы! – остановил нас Куница.
Мы прислушались. Автомобили гудели на горе за Старым бульваром.
– А то не в губернаторском саду, Юзик? – тихо спросил у Куницы Петька.
– Наверно, в губернаторском, – сказал Куница, и в эту же минуту в автомобильный гул ворвались какие-то посторонние резкие звуки. Словно там, наверху, сразу разломали пополам несколько досок.
– Стреляют! – прошептал Куница. – То они нарочно автомобили завели, чтобы не слышно было. Автомобили гудят под стенкой, на дворе, а они в подвале людей мордуют.
Куница говорил правду. Я тоже слышал немало об этих расстрелах. Ночью, чтобы заглушить выстрелы, петлюровцы заводят автомобили, днем они расстреливают людей под оркестр. Почти каждый будний день на сосновых скамейках под высокой стеной губернаторского сада рассаживаются с большими сияющими трубами петлюровские музыканты. Они приносят с собой из казармы легкие деревянные пюпитры и раскладывают на них нотные тетради. Под командой низенького капельмейстера музыканты без устали играют то быстрые польки, то громкие марши, то веселые краковяки.
А в это время за спиной у музыкантов, в низких подвалах желтого, с колоннами дома, в котором до революции жил губернатор, петлюровцы-черножупанники в присутствии начальника петлюровской контрразведки Чеботарева расстреливают арестованных большевиков.
– Сколько они людей замордовали!.. – тихо сказал Куница, прислушиваясь к далекому автомобильному шуму.
Я молча прикоснулся к перилам крепостного моста. Они были влажны от росы. Автомобили продолжали гудеть. Страшно было подумать, что всего в нескольких кварталах от нас, за каменной стеной губернаторского сада, один за другим падают на холодный пол застреленные черножупанниками люди.
А около остывающих трупов, весь в сером, в желтых лакированных крагах, стоит комендант черножупанников Драган. Кто знает, может, там и доктор Григоренко? И, может, Драган, как Марко Гржибовский, угощает усатого доктора душистыми заграничными папиросами, а тот, покурив, снова медленно ощупывает глаза и грудь у стынущих людей и, проверив, убиты ли они, вытирает чистым платочком свои розовые морщинистые пальцы…
Я невольно вспомнил своего отца, который прятался сейчас от петлюровцев там, в Нагорянах, у дядьки Авксентия.
Отец, коренастый, молчаливый, в синей сатиновой рубахе с расстегнутым воротом, возник в памяти. Я видел его так ясно, будто он стоял рядом со мной, с Куницей и Маремухой на мосту. Мне чудилось, что я трогаю его шершавую руку, что я заглядываю в его строгие глаза.
Как бы и его не поймали петлюровцы за то, что он не захотел печатать их петлюровские деньги. Ведь они и его могут расстрелять в губернаторском подвале, стоит только Марко Гржибовскому вспомнить, как мой отец выбросил его из мастерской Маремухи. От одной этой мысли я задрожал. Я очень любил своего отца, и мне еще сильнее захотелось повидать его, быть с ним вместе.
За крепостью задребезжала подвода. Едут сюда. Надо уходить. Но мне не хотелось в этот вечер так рано возвращаться к себе, на Заречье…
Пойти разве к губернаторскому дому? Но как проберешься туда, если Губернаторская площадь оцеплена? Патрули, наверное, стоят около доминиканского костела и никого не пускают на площадь.
А что, если махнуть сейчас прямо отсюда на Житомирскую, к Котькиному дому, да расквитаться с Котькой за то, что меня выгнали из гимназии? Он хвастает этим, подлиза, докторский сынок. Куница ведь врать не станет. Сейчас мне никакой Прокопович не страшен, пойду отлуплю Котьку, а хлопцы мне помогут; пусть жалуется кому хочет. И я предложил ребятам:
– Давайте, хлопцы, сейчас на Житомирскую, к Котьке. Отомстим Григоренкам за все! Шкоду сделаем…
– Какую шкоду? – деловито спросил Куница, подтягивая штаны.
– А там посмотрим. Может, Котька около дома, затащим его в кусты и надаем ему…
– Брось… И не думай даже… – засуетился Маремуха. – Он только крикнет, и мы пропали. Ты забыл разве, что у них на квартире живут два петлюровских офицера?
– Ну, ты известный боягуз, Петька! – сказал я Маремухе. – Ну, где ты видел, чтобы офицеры сейчас дома сидели? Да они с доктором, наверное, в губернаторских подвалах, а ты боишься. Давай пойдем, а, Юзик?
Куница стоял раздумывая.
– Так теперь поздно, Васька, домой уже надо, – опять заколебался Маремуха.
– А ты хочешь утром? Когда все видно? Тоже чудак! Пошли, – упрямо мотнув головой, решил Куница. – Ты что, даром клялся? Не бойся, никто нас не поймает. – И он взял Маремуху под руку.
– Хлопцы… Васька… Юзик, постой, да не тяни меня!.. – запрыгал, отбиваясь, Маремуха. – Вы ж ничего не знаете… На моего папу и так подозрение есть… Он побитый лежит… Я вам все расскажу… Я боялся говорить, а теперь скажу…
Куница отпустил Маремуху, а Петька с жаром выпалил:
– Тот человек, которого сегодня убили, у нас все время прятался!..
– Ты врешь! – перебил я Петьку. – Ты его и не знаешь.
– Я не знаю? Вот крест святой! – И Петька перекрестился. – Я знаю. Он восстание хотел поднять против Петлюры. Народ собирал для этого. Но тяжело заболел. Его к нам ночью привез Омелюстый. Он просил спрятать его, пока не выздоровеет. Оставил хлеба, денег, сахару кулек. Тато согласился. Мы его положили на печку. Мама печку занавеской закрыла, он там и лежал больной. У него лихорадка, наверное, была. Ух, страшенная. Через день его мучила. К вечеру он отходил, слезал с печки, чай с нами пил, а днем так его трясло – я думал, умирает. Мама не поспевала белье стирать. Выстирает ему рубашку, высушит, только он наденет – заколотит, затрясет его, враз рубашка мокрая от пота. Пил мало, а потел ой как здорово! Полез я как-то раз к нему за рубашкой, а он – цап револьвер из-под подушки и в меня нацелился. Не помню даже, как я слетел оттуда. Прямо на пол. Чего ты смотришь так, Васька, ей-богу!
Вот из-за этого револьвера его и взяли. Позавчера приехал к нам доктор Григоренко. Ходил по усадьбе, траву смотрел, выругал маму за то, что все черешни пооборваны на тех деревьях, что за флигелем, а потом зашел в комнату воды напиться. А больной лежал на печке. Не знаю, кашлянул он или ногой шевельнул, а может, застонал, вдруг Григоренко поднялся из-за стола, взял свою палку, отдернул занавеску – и к папе: «Кто здесь?» А больной поднялся, стал на колени, худой такой, зеленый, рубашка мокрая, и в доктора из нагана целит. Целит и шепчет что-то.
Григоренко сразу задернул занавеску и задом, задом вышел из комнаты, прыгнул в бричку и уехал. Папе даже слова не сказал. И шляпа его соломенная на столе осталась.
Доктор уехал, а папа сразу отнял у больного наган и стал одевать его. Как маленького. Штаны натягивает, а тот хоть бы ногой шевельнул, так ему плохо было. Бредил. Папа одел его, дал воды и с мамой разговаривает: куда бы его отвести? Пока они говорили, вбежали в хату к нам три петлюровца, враз связали этого больного человека и к папе: «Кого ховаешь? Москаля ховаешь, пес поганый!» И давай нагайкой хлестать. Ой как били. То по ногам, то по груди. Тато схватил стул, чтобы защищаться, тогда его один петлюровец по руке нагайкой как ударил, аж кровь выступила. Отняли стул и – наганом, наганом! У папы вся щека сейчас синяя-синяя, на спине синяки и рука распухла. Он лежит на кровати и ни с кем не разговаривает. А мама плачет и говорит: хорошо, что еще в тюрьму папу не забрали.
Мама боится, чтобы Григоренко не выгнал нас из Старой усадьбы. Где мы жить тогда будем? А ты меня на Житомирскую зовешь… А вдруг меня поймают? Пропали мы тогда совсем. – И Маремуха жалобно зашмыгал носом.
– Пойдем, Петька! Пойдем! – со злостью зашептал Куница. – Пойдем, отплатим этому гаду усатому и Котьке за все. Давай пошли!
– Хорошо… – вдруг решился Петька. – Хорошо…
И он затянул пояс.
ПОДЖИГАТЕЛИ
Усатый доктор Григоренко живет в нагорной части города, как раз посредине Житомирской улицы. Это самая лучшая улица. Она сплошь усажена по обочинам высокими тополями, кленами и желтой акацией.
Дом у Григоренко большой, двухэтажный, с башенками, похожий на маленький замок. Он стоит среди деревьев, в глубине двора, обнесенного с улицы прочной стальной оградой на гранитном фундаменте. Она очень высокая и склепана из стальных заостренных полос, похожих на широкие мечи. С улицы через просветы в ограде, обвитой плющом, можно увидеть, что делается во дворе Григоренко.
Многим из нас – и мне, и Кунице, и Сашке Бобырю – очень нравится стучать на бегу по этой ограде палкой. Каждому из нас, кто попадет на Житомирскую, трудно бывает удержаться, чтобы не подразнить усатого доктора.
Ох и здорово звенят эти мечи, если по ним провести палкой! Вся ограда дрожит, поет, а палка знай себе звонко отщелкивает все новые и новые удары. Повернешь с разбегу в переулок, и уж слышно, хлопнула позади дверь. Это выбежал на крыльцо рассерженный усатый доктор. Только ему нас не догнать. Куда там!
А еще лучше – нажать беленькую кнопку электрического звонка, которая прикреплена на каменном столбике у ворот. Над звонком прибита блестящая медная дощечка:
Доктор медицины
ИВАН ТАРАСОВИЧ ГРИГОРЕНКО
Прием от 8 до 10 вечера
Мы знали, что доктор любит сам выходить навстречу своим пациентам, и частенько вечерами подбирались к его калитке. Нажмем пуговку, а сами спрячемся за кусты напротив. Сядем на корточки и сидим затаив дыхание. Открывается в докторском доме дверь, и, попыхивая трубкой, выходит во двор сам хозяин.
Подойдет к железной калитке, а на тротуаре-то никого и нет, – ну, он и давай ругаться:
– От голодранцы! Ну, если схвачу кого, штаны сдеру!
А мы сидим тихонько под кустами, слышим его бас и радуемся.
Двор перед докторским домом всегда чисто выметен и посыпан желтеньким песочком. Днем по двору, подбирая зерна, ходят пестрые жирные цесарки и серые породистые куры – плимутроки.
Иногда на низеньком деревянном штакетнике, который отделяет григоренковский двор от его сада, прислуга выколачивает тяжелые персидские ковры. Пыль столбом подымается тогда над заборчиком и летит в сад, а испуганные куры бегают по двору и кудахчут. Но это летом. А вот ближе к зиме, когда подступают холода и приходит пора надевать зимнюю одежду, горничная доктора выволакивает из сундуков все теплые вещи.
Тяжелые касторовые пальто усатого доктора с высокими меховыми воротниками, бархатные и каракулевые манто его жены, сухопарой и злой пани Григоренко, маленькие суконные, подбитые ватой и отороченные белым барашком пальтишки Котьки и его серые форменные шинели – все это развешивается в такие дни на деревянном заборчике. А шинелей у Котьки три – одна старая, осталась еще со второго класса, и две совсем новые, шитые у портного Якова Гузарчика.
Повесит прислуга всю зимнюю одежду на заборчик и рядом пса на цепь сажает. А пес-то, пудель – кудрявый, уши висячие, – дурной такой: мы стоим, бывало, около забора, в щелки заглядываем, а он хоть бы тявкнул.
И все пальто, шубы, шинели, будто снегом, посыпаны нафталином. Запах от этого нафталина на всю Житомирскую. Идешь по аллее Нового бульвара и, если почуял запах нафталина, так и знай: у доктора в усадьбе зиму встречают.
Я ни разу не был в доме Григоренко, но Петька Маремуха рассказывал, что, кроме мраморной лестницы на второй этаж, есть еще и вторая, витая железная лестница, по ней можно забраться в маленькую комнатку, которая устроена в куполе самой высокой угловой башенки. В этой комнатке узкие, как в крепости, окна, и летом в ней бывает очень жарко. Недаром никто там не живет, только сушит в ней Григоренко груши и яблоки из своего сада и грибы. А сад в докторской усадьбе не маленький. Начинается он сразу же за низеньким деревянным штакетником и тянется вниз, к Новому бульвару. С проулка он тоже огорожен дощатым забором.
В саду между деревьями разбиты клумбы, на них цветут резеда, анютины глазки, желтые ноготки и душистый табак. А над клумбами на тонких круглых палках насажены стеклянные разноцветные шары. Что ни клумба, то другой шар. И каких только шаров нет! Темно-зеленые, красные, синие, оранжевые, голубые, ярко-желтые. Все они блестят, переливаются, и когда в ясный день луч солнца, пробившись сквозь густую листву сада, упадет на такой шар, он так и запылает, заискрится, а в шарах потемнее, как в зеркале, станут видны деревья, соседние клумбы и открытая веранда докторского дома.
Недавно, когда я с конопатым Сашкой Бобырем заходил к Лазареву, Сашка бросил через григоренковский забор камень и угодил в самый близкий светло-синий шар. Шар лопнул, точно электрическая лампочка.
Григоренко вместе с горничной гнался за нами до самого бульвара и остановился только перед канавой, через которую ему трудно было прыгнуть.
Ох и кричал же он тогда! Мы были уже у самой скалы, а все еще слышали его крики:
– Босота! Рвань голодная! Воры!
Мы подошли к докторскому саду со стороны Нового бульвара. Сквозь щели забора пробивался свет.
Мы подкрались к забору. Я первый прижался к щели между двумя досками и увидел освещенную веранду.
У доктора гости. И какие!
Около низенького каменного барьерчика на веранде стоял ломберный столик для карточной игры.
За столиком друг против друга расселись доктор, его жена, худая пани Григоренко, в темном блестящем платье, наш бородатый директор Прокопович – и кто, думали бы вы, четвертый? Рыжеволосый поп Кияница! Кого-кого, но Кияницу я никак не думал увидеть у Григоренко.
Возле застекленной двери, ведущей с веранды в дом, на высокой тумбочке горела тяжелая лампа под розовым абажуром.
Доктор с гостями играл в карты. Возле каждого – мелок: они записывали мелком, кто у кого сколько денег выиграл.
Поп Кияница сидел глубоко в кресле, протянув под столом свои длинные, обутые в скрипучие чеботы ноги. Он даже рясу расстегнул от волнения – видно, очень старался обыграть усатого доктора.
Прокопович сгреб со стола колоду карт. Записав что-то мелком на сукне, он перетасовал карты и ловко разбросал их одну за другой доктору, его жене и попу. Доктор Григоренко сложил свои карты веером. Я увидел, как сверкнуло на его толстом пальце обручальное кольцо. Он почесал картами нос, подмигнул сидящему сбоку попу и гулко, на всю веранду, пробасил:
– Пики!
А где же Котька? Ага, вот он где!
Через приоткрытую дверь я увидел, как он шнырял по гостиной в своей гимназической курточке. Мне было хорошо видна обтянутая красным плюшем мебель докторской гостиной: низенькие мягкие кресла, кушетка, маленький столик на бамбуковых ножках.
Котька взял с этажерки какую-то толстую книгу и сел на кушетку.
Прошла через гостиную горничная, неся перед собой тяжелый дымящийся самовар. Она понесла его в столовую. Скоро, наверное, туда же уйдет чаевничать доктор со своими гостями.
– Отойдем! – прошептал Куница и потянул меня за полу рубашки. Мы перешли на другую сторону проулка. Отсюда тоже можно было разглядеть, что делается на докторской веранде.
Вон, согнувшись над картами, сидит доктор, а наискосок от него трясет своей бородой Прокопович. Он опять что-то записывает мелком на сукне. Видно, снова выиграл. Какой он сейчас тихий, ласковый, а вчера орал на меня, ничего слушать не хотел. Ясно, он будет заступаться за Котьку, раз обыгрывает его отца.
Я следил за всей этой компанией и еще больше ненавидел Котькиного отца и его приятелей.
Ведь этими толстыми, мясистыми руками еще сегодня утром доктор Григоренко там, в крепости, трогал стынущие веки застреленного человека, которого он сам же выдал петлюровцам. Как он мог теперь шутить, спокойно смеяться, играть в карты?
Юзик Стародомский тоже, не отрываясь, глядел на веранду.
– Подождите меня тут, – вдруг, повернувшись к нам лицом, сказал он и, мигом перепрыгнув через глиняный лазаревский заборчик, исчез в темноте. Скоро Куница явился, держа в руках четыре квадратные черепицы. Я знаю, откуда их он выдрал: такими красными черепицами огорожены лазаревские клумбы.
– Бубны! – донеслось с веранды.
– Вот постойте, мы дадим вам сейчас бубны!
Одну черепицу Юзик протянул Маремухе, другую – мне.
Мы вышли на середину проулка: отсюда сподручнее бросать! Я видел покатую крышу и головы сидящих за ломберным столиком. Кто-то засмеялся. Должно быть, поп. Скрипнул стул. Зазвенела посудой горничная.
Я слышал стук своего сердца. Ноги у меня стали легкие-легкие.
– Бросаем? – заглянул мне в глаза Куница.
Отступать некуда. Кивнув головой, я размахнулся.
Куница бросил раньше меня. Рядом, совсем над ухом, засвистела его плитка.
Он послал вдогонку вторую – слышно было, как, пробивая листву старой яблони, все они с треском и звоном упали на веранду. Я видел – покачнулась и ярко вспыхнула лампа. Отсвет пламени длинной полосой пробежал по саду, точно погнался за кем-то. Должно быть, мы разбили стекло.
Женский крик: «Пожар! Горим!» – провожает нас. А мы не чувствуем под ногами ни круглых булыжников, ни проросшего в них влажного подорожника, задыхаясь и толкая друг друга, мчимся к заветной бульварной канаве.
Перепуганный Петька Маремуха подбежал к нам уже на бульваре.
По аллее бежать опасно: можно наткнуться на петлюровский патруль.
Мы свернули влево и осторожно, вытянув, как слепые, руки, ощупывая каждое встречное дерево, стали пробираться к скале.
И только под самой скалой, возле белой тропинки, которая, извиваясь вдоль обрыва, ведет к центру города, Куница остановил нас. Мы упали на траву.
Вокруг темно. Очень темно.
– Кто кричал «пожар»? – спросил у меня Маремуха.
Не отвечая, я думал: «Ну и кашу мы заварили! Теперь, если Петька выдаст нас, все пропало! А вдруг в самом деле от разбитой лампы загорелся дом Григоренко?»
Я очень ясно представил себе, как багровые языки огня, извиваясь, лижут стены докторского дома, потихоньку поджигают деревянную крышу веранды, пробираются через оконные рамы в дом… А вокруг бегают испуганные доктор с женой, Котька, Прокопович, поп в длинной рясе и швыряют в огонь что попало: вазоны с цветами, стеклянные шары, садовые лейки… Но унять огонь нельзя. Дом пылает все больше и яростнее. Трещат балки, крыша с грохотом валится вниз, и вместо красивого, похожего на маленький замок дома остается груда дымящихся развалин. А утром по всему городу нас, поджигателей, разыскивают вооруженные пикеты петлюровцев…
Отдышавшись, мы тихонько побрели в город. Вышли на Тернопольский спуск.
Всюду погашены огни.
Белая мостовая тянулась вверх, к Центральной площади. Пивная Менделя Баренбойма была закрыта длинной гофрированной железной шторой.
Тихо. Никого.
Лишь далеко за мостом стучали шаги какого-то запоздалого прохожего.
Я подумал: «А что, если пойти к городской ратуше?» Там, вверху, в будочке, день и ночь сидит дежурный. Если в городе пожар, он дает сигнал. Тогда сразу начинается суета, под ратушей открываются широкие двери пожарной команды, на улицу вылетают, стуча копытами, серые кони, запряженные в платформы с насосами и красными бочками. А на линейках мчатся пожарные с блестящими топориками.
Непременно надо подойти к ратуше. Если у Григоренко загорелась веранда, дежурный обязательно заметит огонь.
Мы делаем круг и подходим к ратуше. Двери пожарной команды закрыты.
Минут десять мы ждем у ратуши: вот-вот раздастся оттуда сверху: «Пожар! Горит!» Но там тихо.
Сидит в будочке над сонным городом одинокий пожарник, считает от скуки звезды и, должно быть, ничего, кроме крыш, мокрых от росы, да пустых уличек, не видит.
Большие стрелки на часах ратуши показывают пол-одиннадцатого. Ой, как поздно! Тетка, наверное, уже легла и калитку закрыла…
Калитка в самом деле была на замке. Во двор я попал, перебравшись через забор. Тетка открыла дверь и сразу же, спросив, где я был так поздно, легла снова спать.
А я долго не мог уснуть. Мне казалось: вот-вот придут за мной петлюровцы и потащат в тюрьму. А самое главное, ведь защищать-то меня будет некому. Вот если бы дома был отец – другое дело.
Но отец далеко.
Несколько лет назад, когда мы жили в другом городе, мой отец пил. И крепко пил. Запоем.
Его не выгоняли из типографии потому, что он умел набирать по-французски, по-гречески и по-итальянски. А как раз в те годы типография получила много работы из Одессы на разных языках.
– Без меня им не обойтись, – ухмылялся отец, рассказывая матери об этих заказах.
И в самом деле, заказы эти были доходные, хозяин на них хорошо наживался, и ему поневоле приходилось мириться с пьянством отца.
Я никогда не видел, чтобы отец пил дома.
Обычно он напивался до беспамятства где-то в городе, а потом, пьяный, бродил по улицам, толкая прохожих и опрокидывая уличные урны.
К нам домой хозяин типографии присылал посыльного. Не переступая порога, посыльный спрашивал:
– Манджура дома? Хозяин требует!
Мать сразу догадывалась, в чем дело. Набросив на худые плечи единственный, уцелевший от глаз отца оранжевый платок, она брала меня за руку.
Я знал, что сейчас мы пойдем искать отца, и радовался.
В пивных скверно пахло табачным дымом и квашеным ячменем, но зато было очень весело. Облокотившись на круглые мраморные столики, сидели в дыму на кругленьких бочках какие-то незнакомые люди и жадными, большими глотками пили покрытое белой пеной прозрачное пиво. Люди громко ругались, хлопали друг друга по плечам и швыряли на пол, прямо себе под ноги, красные, обсосанные клешни раков.
Если в пивных отца не было, мы шли в Александровский сад. Посыльный, сутулясь, шел рядом, и мать расспрашивала его, сколько денег получил отец и скоро ли опять будут выдавать жалованье.
За воротами парка, на песчаных площадках играли нарядные дети.
Они расхаживали возле скамеек в белых матросских костюмчиках и сандалиях. У девочек в косичках были бантики. Я знал, что этих детей приводили в парк их няньки. Они сидели тут же на скамейках, щелкали семечки и разговаривали друг с другом.
Дети катали вокруг клумб желтые обручи, прыгали через скакалки, мальчики рылись в кучах золотистого влажного песка. Возле них на песке валялись деревянные формочки – желтые, розовые, лиловые рюмочки и чашечки.
Я завидовал нарядным детям.
Мне казалось, что они каждый день едят те розовые пирожные, что выставлены на витрине кондитерской.
Мы проходили мимо игравших детей в глубь парка. И здесь мать отпускала мою руку и шла одна вперед.
Она то и дело нагибалась, заглядывая под кусты. Посыльный едва поспевал за нею. Я бежал позади, обрывая с веток зеленые стручки акаций, которыми набивал себе полные карманы. Я делал из стручков пищики.
Отец любил спать в парке сидя. Прислонится спиной к стволу дерева и спит, наклонив голову. А его замасленная кепка надвинута на глаза, и из кармана торчит горлышко бутылки.
Отца будили, он мычал и вертел головой. Его подымали, брали под руки, мать с одной стороны, посыльный с другой, и вели через весь город в типографию.
Я шел сзади, часто останавливался у афишных будок, разглядывая плакаты, подолгу стоял около витрин и вообще вел себя так, словно впереди меня шли чужие, незнакомые мне люди. Мне было стыдно за отца.
Особенно стыдно мне было, когда он вдруг ни с того ни с сего начинал петь.
Мать упрашивала его помолчать – ведь за пение его мог арестовать городовой, но отец не слушался и пел все громче одну и ту же жалобную и тоскливую песню:
Мы котелки с собой возьмем, Конвой пойдет за нами, И мы кандальный марш споем С горькими слезами…Подойдя к типографии, мы усаживались на ступеньках высокого каменного крыльца. Посыльный убегал к хозяину. А отец снова засыпал. Выходил хозяин – худенький, рыжий человек среднего роста – и останавливался на крыльце. Потом он шептал что-то на ухо посыльному. Посыльный убегал и возвращался с большим эмалированным кувшином, из которого через край на ступеньки лилась вода. Мать одну за другой стягивала с отца обе рубашки. Отец сидел на ступеньках со взъерошенными волосами, сонный, измученный, жалкий. Он поглядывал то на мать, то на хозяина и бормотал:
– Ну, уйдите, ироды. Вот, ей-богу! Ну, поспать дайте.
Мать отходила в сторону, а хозяин кивал посыльному. Тот поднимал кувшин, наклонял его и потихоньку лил на голову отца холодную воду.
Я видел, как струйки воды разбрызгиваются на отцовской лысине, и ежился.
«Чего ты ждешь? – шептал я про себя. – Встань, вырви из рук посыльного кувшин, ударь его по зубам и удирай!»
Но отец и не думал удирать. Он вяло растирал воду по лицу мокрой пятерней. Вода текла по его штанам, разливалась вокруг – каменные ступеньки лестницы чернели, словно после дождя. Кувшин наконец пустел. Тогда мать брала у меня рубашку и с трудом натягивала ее на влажное тело отца. Отец сидел смирно и, видно, уже больше спать не хотел. Его уводили в типографию, а мы шли домой.
Однажды мать забрала в типографии за отца получку и куда-то ушла. Отец возвратился домой сердитый. Увидев, что матери нет, он схватил с полочки будильник, завернул его в клеенку с нашего обеденного стола и, прихватив с комода кружевную скатерть, убежал из дому, оставив меня в комнате одного.
Мать вернулась к вечеру. Она связала в узел свои платья, мое белье и отвела меня к соседке.
– Поберегите моего сына и вещи, Анастасия Львовна, пока я вернусь, – сказала мать, отдавая соседке узел и деньги. – Я поеду в Одессу, к сестре, разузнаю, нельзя ли совсем переехать туда. В Одессе, говорят, есть доктор, который лечит людей от водки. Может, он вылечит и моего мужа – житья с ним нет.
Она попрощалась с Анастасией Львовной, поцеловала меня и ушла.
А через два дня мы узнали, что пароход «Меркурий», на котором мать уехала в Одессу, возле Очакова наскочил на германскую мину.
До поздней ночи кричали на Суворовской газетчики:
– Гибель «Меркурия»! Гибель «Меркурия»! Немецкие мины в Черном море.
Отец ходил на почту, посылал телеграммы то в Одессу, то в Очаков. Он все надеялся, что мать спаслась и не потонула вместе с другими.
Я долго не понимал, что случилось. Как и отец, в первые дни я был уверен, что мать жива, скоро вернется и мы поедем в Одессу, где живет доктор, который лечит всех людей от водки.
Недели через две после гибели «Меркурия» я спросил Анастасию Львовну:
– И капитан потонул?
– И капитан, – ответила она мне жалобным голосом, и я вдруг удивительно ясно представил себе, как посреди моря одиноко плавает белая фуражка-капитанка с черным околышем и золотым галуном, а сам капитан, пуская бульки, медленно идет ко дну.
…После смерти матери отец сделался хмур и неразговорчив. Он бросил пить водку, приходил с работы прямо домой и все молчал. Коренастый, белолобый, в длинной сатиновой рубахе, подпоясанной сыромятным ремешком, он все ходил молча от комода к подоконнику, задевая ногами стулья.
Я сидел в самом углу на топчане и следил оттуда за его широкими, упрямыми шагами, видел его сгорбленную спину, слышал гулкий стук его ботинок.
Мне казалось, что отец сумасшедший, что вот-вот он схватит стул, бросит его об стену, с грохотом опрокинет на пол комод, вышвырнет одну за другой в окно все глубокие тарелки, а потом закричит и возьмется за меня.
Но однажды отец пришел домой раньше, чем всегда. В руках у него было много свертков. Я сперва подумал, что это отец купил мне гостинцы, и обрадовался.
Но отец высыпал свертки на ободранный стол и сказал:
– Поедем, сынку, отсюда к Марье Афанасьевне. Раз такое дело стряслось, чего ж нам больше здесь оставаться?
Я знал, что Марья Афанасьевна, сестра отца, живет в городе, до которого надо ехать трое суток по железной дороге.
На следующий день мы уехали.
…Так, вспоминая о своем отце и о том, как мы переехали сюда, я заснул.
НАДО УДИРАТЬ!
Утром, когда я еще спал, ко мне прибежали Петька и Куница.
Куница был встревожен. Про Маремуху и говорить нечего.
– Мы удрали со второго урока! – сказал Куница.
– Котька Григоренко пришлет за тобой петлюровцев, и тебя посадят в тюрьму! – оглядываясь по сторонам, выпалил Маремуха.
– Погоди… Расскажи ему все сначала! – перебил Петьку Куница.
– Я был в уборной… с утра… Как пришел в гимназию… Слышу голос Котьки за перегородкой… Поглядел в щелочку, а там Жорж Гальчевский курит около стенки, а Котька ему рассказывает. Я встал на цыпочки и подслушиваю. «Ударили черепицей по лампе, керосин хлюпнул прямо на столик», – рассказывает Котька. Ага, думаю, это про вчерашнее. «Чуть дом не спалили. Хорошо, папа схватил горящий столик да швырнул в сад на клумбу…» Потом Гальчевский что-то у Котьки спросил, а что – я так и не расслышал, а Котька и говорит: «А за то, что его из гимназии выгнали!» Ага, думаю, разговор про тебя, Василь. А тут, как назло, кто-то вошел в уборную, они замолчали, я тогда выскочил в коридор – и к Юзику. Рассказал ему все, и вот мы со второго урока удрали, чтобы тебе сказать. Пение было. Родлевская ушла за нотами, а мы – к тебе.
– Тебя с Куницей не вспоминал?
– Меня? Нет! А что? – заволновался Маремуха.
– И не говорил, что делать будет?
– Больше я ничего не слыхал! – ответил Петька, потом вдруг подпрыгнул и радостно выкрикнул: – Да, я же тебе, Васька, самого главного не рассказал! У Кияницы вся ряса сгорела. И бороду свою рыжую он посмолил. Вот здорово! Правда!
Но и это меня не утешило.
«Дело худо, – думал я. – Если Котька подозревает, что это я бросил черепицу, то, конечно, он уже не одному Гальчевскому рассказал об этом».
– Ну… а ты что скажешь, Юзик? – спросил я Куницу.
– Я вот что думаю, – сказал Куница. – Все втроем мы должны удрать к красным. Они ведь уже совсем близко. А тут, в городе, нам оставаться нельзя.
Я впервые видел Куницу таким. Он разговаривал с нами как взрослый. Глаза его горели.
– Хорошо, Юзик! Пусть будет по-твоему, но как же мы это сделаем? – спросил я.
– Я же сказал: надо убежать к большевикам. Возьмем хлеба побольше и пойдем на Жмеринку. Большевики в Жмеринке. Поступим к ним в разведчики. Понятно?
– А родные?.. – спросил Маремуха. – Они не пустят…
– «Родные, родные»! Эх ты, нюня! Мамы испугался, да? А что, лучше будет, если из-под маминой юбки в тюрьму потащат? – закричал Куница.
– Постой, Юзик, не кричи, – сказал я Кунице. – А если красные еще не в Жмеринке? Где мы будем тогда искать большевиков? А ночевать где? Вдруг дождь? Только тише ты, не кричи, – тетка услышит.
– Наши в Жмеринке. Я тебе говорю! Я читал прокламацию партизанскую об этом! – уверенно сказал Куница.
– Пусть так. Но ведь до Жмеринки далеко! Как мы дойдем туда пешком?
– Юзик, послушай, – сказал я, – зайдем сперва в Нагоряны. Я очень хочу батьку повидать. Ведь Нагоряны по пути, там отдохнем. Оттуда и в Жмеринку ближе, а?
– Ладно! Но если идти, так теперь же! – решил Куница. – Долго не копаться.
– А что нам копаться? Вы бегите, собирайтесь, я только возьму перочинный ножик, рогатку и хлеб. Я вас буду ждать около Успенской церкви, в скверике!
Мы сразу же расстались.
Выпустив хлопцев на улицу, я побежал в комнату. Тетка была на огороде. Это хорошо – ничего не надо объяснять. Я схватил свои припасы и помчался к Успенской церкви. Через несколько минут с сеткой и бамбуковым удилищем туда прибежал Маремуха. В руках у него болталась беленькая жестяночка из-под консервов.
– На червей! – объяснил Петька.
Куница прибежал последним. Он держал в руках фляжку с водой и маленький сверток.
– Это хлеб с брынзой! – запыхавшись, объяснил он. – У тебя, Петька, большие карманы, на, возьми.
Петька сунул сверток в карман.
Куница взял у Петьки удилище, и мы тронулись в путь.
К вечеру, когда порозовевшее солнце спускалось за белые скалы, мы подходили уже к Нагорянам. За перевалом, где дорога круто сворачивала вниз, я узнал знакомую березовую рощу.
Ну да, это она, милая березовая роща! Здесь мы сделаем привал!
Высокие белостволые березы шуршат прозрачной глянцевитой листвой, сквозь нее просвечивает ясное небо. Внизу, в лощине, под глинистыми, осыпающимися склонами рощи журчит родник. Обнаженные коричневые корни берез омывает лесная вода.
Юзик Стародомский с размаху бросил в ручей камень. Раздался звонкий всплеск воды, и брызги упали в прибрежную траву.
– Хлопцы, полежим? – предложил Петька.
Пятнадцать верст не такая уж большая дорога, но у Петьки на спине намокла от пота рубашка. Он здорово устал.
– Только недолго! – предупредил я, опускаясь на мягкую траву.
Куница улегся рядом со мной. Длинное Петькино удилище он, точно пику, поставил под маленькой березкой.
Я перевернулся на спину и рассказал ребятам, как мы в прошлом году весной вместе с моим двоюродным братом Оськой пили здесь березовый сок. Сок был замечательный. Штопором перочинного ножа я продырявил тогда вязкую кору почти у корней вон той самой старой березы, что склонилась над родником. К пробуравленному отверстию я прикрепил желобок из белой жести, а Оська подставил коричневую бутылку. Не успели мы отойти, как из дерева в бутылку закапал чуть желтоватый березовый сок. Пока бутылка наполнялась соком, мы кувыркались, пугая зябликов, на мокрой еще лужайке, покрытой прошлогодней листвой, и фуражками ловили на первых весенних цветках мохнатых черно-красных шмелей.
Шмели жалобно гудели у нас в фуражках, мы осторожно убивали их сосновой щепочкой и, убив, доставали из шмелиных животов белый жидкий мед.
Мы запоминали, где какая птица начинает вить гнезда, чтобы потом прийти поглядеть на ее детенышей. Так, кувыркаясь и удивляя друг друга новыми находками, мы, наконец, усталые, вот как сейчас, упали в траву.
А потом, когда березового сока натекло в бутылку много, мы выпили его тут же, на поляне. Он булькал у нас в горле, чуть горьковатый первый сок весны! Облизываясь, мы следили друг за другом, чтобы, чего доброго, никто не отпил лишнего.
Как жаль, что сейчас нельзя было наточить соку из этих берез – весь сок давно уже ушел в листья, – а то мы напились бы его вдоволь.
– Да, это было бы здорово! – сказал Куница. – Ну ладно, пошли, что ли?
– Верно, пойдем, тут ведь пустяк осталось дойти, – согласился я.
Куница быстро вскочил на ноги, оставив после себя вмятину на лужайке.
Петька Маремуха встал нехотя, потягиваясь, как сытый кот. Он ленивый у нас, этот коротышка.
– Пойдем, пойдем, нечего потягиваться. Там отдохнешь. Ишь раззевался, – сказал Куница, и мы покинули березовую рощу.
В НАГОРЯНАХ
Далеко от главного Калиновского тракта, который ведет на Киев, около узенькой, но глубокой реки, на глухой проселочной дороге лежит село Нагоряны. Очень неровное, с крутыми пыльными улицами, это село раскинулось на буграх, над скалистыми обрывами.
Перевалив через Барсучий холм, мы увидели соломенные крыши нагорянских хат. Мой дядька Авксентий жил на окраине села, возле кладбища.
Около его хаты сохли на плетне глиняные, с почерневшими донышками горшки и мокрое потрепанное рядно. Три курицы рылись под крыльцом, вздымая облачка серой пыли.
– Подождите тут. Я схожу в хату, вызову дядю, – сказал я Маремухе и Кунице.
В последнюю минуту у меня екнуло сердце: а не влетит мне от дядьки за непрошеных гостей? Но не успел я переступить порог крыльца, как дядька Авксентий, услышав говор на дворе, появился на пороге сам. Рослый, в свисающих штанах, в холстинной сорочке, с недовязанным остроносым постолом в руках, он пошел нам навстречу. Лицо у дядьки Авксентия было смуглое и обветренное, все в морщинах.
– Ого, та це Василь! Откуда? Ну, здравствуй! Вот не ожидал! Счастливый день будет, если с вечера гостей встречаю. А хлопцы возле тына твои? – спросил дядька, пожимая шершавыми, жесткими пальцами мою руку.
– Мои, мои, дядя! Добрые вечер! Мы вот пришли к вам рыбу ловить…
– Ну что же, заходите, рыбы на всех хватит. Мы с Оськой вчера целый вечер лазили по воде, даже я застудился. Хриплю, слышишь как! Ну, чего ж вы на дворе стоите? Заходьте в хату.
– Дядя, а тато где? – осторожно спросил я, переступив порог.
Задымленная комната с широкой постелью в углу была пуста.
– Мирон?.. А его здесь нет… Мирон пошел с Оськой в Голутвинцы… Там ярмарка… – как-то нескладно ответил дядька.
Значит, мы разминулись с отцом? Ведь Голутвинцы под городом.
А может, он зайдет оттуда домой, в город? Вот будет жалко!
– Да садитесь, хлопцы! Ну, чего же вы стоите? – пригласил Авксентий. – Рассказывайте, что нового в городе. Как там петлюровцы поживают? У нас их тут мало. Проскочат один-другой по шляху, а в село заезжать боятся.
Я уселся на треногий стульчик и рассказал дядьке, как петлюровцы обыскивают жителей каждую ночь, как попы служат в кафедральном соборе молебны за здоровье Петлюры, рассказал я и о том, как закрыли наше училище… Петька Маремуха вместе с Куницей уселись на лавочке. Маремуха с любопытством оглядывал задымленную печь, набитую желтой соломой. Возле печи на полу лежала кучка сыромятных, покрытых шерстью ремешков, из которых дядька плел себе постолы.
Осмотрев комнату, Петька выглянул в окно, видно, побаиваясь, как бы не украли бамбуковое удилище и сетку. Зря боится – не утащат: здесь не город, все люди знакомые, все на примете. Хаты не закрывают.
Куница исподлобья поглядывал на дядьку. Потом тихонько дернул меня за локоть и прошептал:
– Про крепость расскажи… И про губернаторский дом. И про партизан, что листовки по ночам расклеивают на столбах.
– Хорошо, хорошо, не мешай! – отмахнулся я и торопливо рассказал дядьке о том, что мы видели в крепости.
Морщинистое лицо Авксентия нахмурилось. Об атамане Драгане и его черножупанниках я рассказать не успел. Дядька сразу поднялся и перебил меня:
– Вот что, хлопцы, я сейчас, пожалуй, схожу к одному человеку, у него хороший бредень есть. Договорюсь с ним, чтобы завтра с утра ловить рыбу всем разом. Он живет тут близенько.
Я увидел, как сразу заблестели от удовольствия глаза у Куницы и Маремухи. Хорошо, что я уговорил их зайти в Нагоряны. Понемногу я начинаю забывать о городе, о тяжелых воспоминаниях и волнениях, которые связаны с ним.
– Хлопцы, – сказал я, – как половим рыбу, в лес пойдем. Я покажу вам Лисьи пещеры!
– Куда, куда? В Лисьи пещеры? А где же они есть такие? – вдруг нахмурился дядька.
– Как – где? Вы же сами меня водили? Помните, прошлым летом?
– Я? Ну, да, верно… А я и позабыл… Ох какие непоседы! Не успели в гости прийти, а уж нечистая сила тащит вас в какие-то пещеры. Не ходите туда, ну вас! Гадюк теперь там развелось уйма! Еще ужалит какая!
– Ну, тогда мы пойдем на речку, к сломанному дубу, – нерешительно сказал я, про себя соображая, что от сломанного дуба к Лисьим пещерам рукой подать.
– На речку можно, – согласился дядька и надел свой соломенный капелюх.
У двери он обернулся и позвал меня:
– Василь! Поди-ка сюда!
Я вышел вслед за Авксентием во двор. Молча мы зашли в клуню. Меня сразу же обдало запахом сухого сена.
– Василь, – тихо и строго спросил дядька, – а кто эти хлопцы, что с тобой пришли? Ты их хорошо знаешь?
Смущенный строгим голосом Авксентия, я рассказал, кто такие мои приятели.
– Батько Маремухи живет в усадьбе Григоренко? – спросил дядька.
– Ну да! – обрадовавшись, подтвердил я.
– Он мне в позапрошлом году чеботы чинил, – вспомнил Авксентий. – А второй кто?
– А это Юзик Стародомский. Его отец собак ловит. Он возле Успенской церкви живет.
– Слухай, Василь! – сказал тогда Авксентий и взял меня за плечо. – Завтра я тебя поведу к батьке. Он никуда не уходил. Это я нарочно про ярмарку сказал. А ты никому не смей говорить, что батька в Нагорянах. А то сразу приедут петлюровцы и схватят его, да и меня вместе с ним. На меня они косятся с прошлого года, и до Мирона у них тоже дело есть. Приказ об аресте – понимаешь? Слух прошел, что это не без его участия листовки партизаны печатают. Понятно тебе? Я вам ничего не запрещаю, можешь водить хлопцев везде, завтра мы на рыбалку пойдем вместе, только обо всем молчок. Хлопцы-то знают, что батька здесь?
– Да, я говорил…
– И что у меня живет, тоже знают?
Я виновато молчал.
– Эх ты, шалопут. Все успел выболтать… – с укором сказал дядька.
– Да ведь мы… – с жаром сказал я и остановился. Хорошо бы, конечно, рассказать дядьке, что мы собрались к большевикам, но тогда надо рассказать и об исключении из гимназии. Нет, уж лучше помолчу.
– Ну? – Дядька опять строго посмотрел на меня. – Говори, чего замялся?
Стараясь избежать неприятного разговора, я промямлил:
– Мы… мы… – Потом выпалил: – Да мы сами ненавидим петлюровцев! Нам тоже сала за шкуру налили петлюровцы! Мы тоже ждем красных! Вы не бойтесь, дядя!
Лицо дядьки Авксентия сразу подобрело. Он улыбнулся. А я отважился и, вспомнив о хлопцах, которые дожидаются меня в хате, спросил:
– Дядя, а нельзя нам сегодня рыбу половить?
– Рыбу? Сегодня? Вот далась вам эта рыба. Ну ладно – рыба так рыба. Теперь, правда, время такое, что бомбы переводить жалко, ну да ладно – для гостей не пожалею. Видал, как рыбу бомбами глушат? Ну ничего, еще раз поглядишь! Только вот вы поморились, наверно, с дороги? Голодны небось?
– Нет, нет, мы ели дорогой…
– Ну, тогда подождите меня, я до соседа заскочу. Я быстро.
Я побежал в хату, предупредил хлопцев, что мы пойдем на рыбу. Пока дядька ходил в соседний двор, мы отдохнули с дороги в низенькой прохладной хате, а потом вышли на улицу. Я насилу уговорил Маремуху не брать сетку. Зачем она сдалась, когда одной бомбой можно наглушить втрое больше?
Вскоре с соседнего огорода вышел дядька, держа на ладонях две ржавые круглые бомбы.
Маремуха с опаской взглянул на них. Да и мы с Куницей шли рядом с дядькой не без волнения. «А вдруг он споткнется и упадет? – думал я. – Ведь бомбы тогда могут взорваться». Но дядька не собирался падать; держа в руках пустое ведро, он спокойно шагал под гору – широкоплечий, кряжистый. Бомбы он положил в карманы.
Место, куда привел нас дядька, было пустынное, тихое. Среди деревьев, над обрывистым берегом реки, зеленела небольшая полянка.
Нагоряны остались где-то позади, за лесом. Старые яворы, кривостволые дубы и целые заросли бузины отделяли нас от села. Внизу, под скалистым обрывом, текла река. С высоты, вода в речке казалась черной.
На берегу, усыпанном камнями, я увидел опрокинутую вверх дном лодку. Сбоку, где скалы обрывались не так круто, белела тропинка.
– Слухайте, хлопцы, – поглядев вниз, приказал дядька. – Я в речку не полезу, брошу бомбы, а рыбу вы уж сами будете ловить. А теперь марш отсюда! Прячьтесь вон за те деревья.
Мы побежали вверх по течению реки на бугор, поросший густым лесом. Прячась за высокий ясень, Маремуха крепко обнял его руками. Казалось, он собирается валить дерево. Куница присел на корточки за дубом и, высунув из-за ствола голову, следил за Авксентием. Стоящий на краю обрыва дядька был хорошо виден нам отсюда.
Отшвырнув в траву капелюх, дядька полез в карман, вынул бомбу и осторожно положил ее на траву около капелюха. Потом он достал вторую и, сразу выдернув из нее шпильку, бросил бомбу далеко на середину речки. Только бомба отлетела, как дядька упал на траву. Прижавшись к ней лицом, он лежал как убитый. Не успели разойтись и подкатиться к берегу вздрагивающие круги, как вдруг с самого дна тихой и спокойной речки вырвался ослепительный белый столб закипающей воды. Он взлетел почти на высоту обрыва, и, казалось мне, еще немного – и брызги этой белой воды упадут на лежащего ничком дядьку.
Гул от взрыва прокатился далеко за лесом. Чудилось, вот-вот повалятся на нас высокие дубы, а полянка с дядькой вместе рухнет с обрыва в реку.
Но не успело еще смолкнуть эхо от взрыва, как дядька не спеша, точно он отдыхал, поднялся и взял вторую бомбу.
Он долго выдергивал из нее шпильку – наверное, проволочка заржавела и не поддавалась, – а мне не терпелось. «Ну, ну, скорее, а то разорвет!» Наконец дядька освободил рычажок и швырнул бомбу вниз. Эта упала ближе, где-то у самого берега.
Взрыв второй бомбы показался нам уже не таким страшным. Подумаешь, я и сам бы мог бросить бомбу!
По крутой белой тропинке, цепляясь руками за камни, мы помчались вниз, к речке.
Дядька уселся на берегу и закурил, а мы мигом сорвали с себя одежду и полезли в воду.
Но дядька тоже не утерпел – он положил недокуренную цигарку на камешек и стал раздеваться; а потом легко перевернул лодку-плоскодонку, достал из-под нее куцее весло и, столкнув лодку на воду, с разбегу прыгнул на корму.
Авксентий сидел на корме, загребая узеньким веслом воду. Вихляя и покачиваясь, лодка выплыла на середину реки. Мы бросились за ней вдогонку. Каждому из нас хотелось доплыть первому туда, на середину реки, где белела всплывшая рыба. Больше всего было марен и линей.
Скользкие, покорные, словно неживые, рыбины то и дело выскакивали у меня из рук.
Я ловил их снова то под самым носом у Петьки, то у Куницы и швырял в лодку. Рыбины шлепались к волосатым ногам дядьки, блестящие, с серебристо-синей чешуей. Глаза у них были пьяные от страха.
Я кувыркался в пахнущей тиной воде, наотмашь хлопал по ней ладонями, кверху подлетали прозрачные брызги. Мне было очень радостно. Тогда я еще не понимал, что так глушить рыбу – преступление.
– Тише ты, шалопут, не брызгайся! – закричал мне дядька, которого я обдал водой.
Держа марену в зубах, Куница схватил у меня щуку и окуня и поплыл к лодке, шлепая по воде свисающими рыбьими хвостами.
Бросив дядьке добычу, Куница перевернулся на спину, оскалил на солнце зубы и, отдыхая, почти не шевелясь, медленно поплыл вниз.
Рыбы много. Собрав самую крупную в ведро, дядька выбросил мелкую обратно в реку.
– Нехай растет! – улыбнулся он, заметив, что мы с сожалением наблюдаем, как рыбы уплывают по течению. – Подрастет – опять словим. От меня еще ни одна рыба не убегала.
Мы возвратились в село с богатым уловом.
Жена дядьки, Оксана, быстро растопила печь. Она выпотрошила нашу рыбу и, вымыв ее, вываляв в муке, бросила на сковородку, в растопленное масло.
Поев как следует жареной рыбы – уху Оксана пообещала сварить завтра, – мы отправились в клуню, усталые и сытые.
– Василь, а у тебя дядька отчаянный, – ворочаясь рядом, прошептал Маремуха.
– Ловко он бомбу бросил, а? – с завистью вспомнил и Куница, зарываясь в сено.
– Ну, бомба – это что, вы бы посмотрели, как он из винтовки по зайцам палит! – обрадовавшись, что мой дядька понравился хлопцам, похвастал я. И, прежде чем заснуть, я долго рассказывал Петьке и Кунице все, что знал о дядьке Авксентии.
Зимой из обыкновенной русской винтовки, принесенной с фронта, дядька подшибал на полях длинноногих зайцев.
Как-то раз он при мне из этой самой винтовки подстрелил ширококрылого ястреба. Ястреб, который несколько минут назад, высматривая добычу, плавно кружился над деревьями, вдруг затрясся там, наверху, в небе, и, точно рваная серая тряпка, полетел вниз.
Падая, ястреб застрял в ветвях старого явора. Я уж было полез за ним на дерево. Но только я ухватился за первую ветку, как ястреб сорвался оттуда и, хлопая слабеющими крыльями, упал на покрытую прелыми листьями землю. Я с опаской ловил подстреленную птицу, а дядька хитро улыбался и скручивал цигарку…
В первый приход петлюровцев, прошлым летом, когда полицейские стали выкачивать по селам оружие, нагорянский поп, с которым Авксентий давно был не в ладах, донес петлюровцам, что у дядьки есть винтовка. Винтовку петлюровцы нашли в скале над хатой, а патроны – в пустой собачьей будке на дядькином дворе.
Сперва Авксентия выпороли на выгоне у сельской церкви, выпороли, как, смеясь, говорили петлюровцы, «на початок, щоб добрый був», а потом на реквизированной в этом же селе подводе повезли в город. По дороге, когда подвода проезжала Калиновским лесом, дядька Авксентий ударил одного из охранников своим тяжелым кулаком меж глаз и скрылся в лесной чаще.
Человек, который вез моего дядьку и его конвоиров в город, был наш знакомый, односельчанин Авксентия. В этот же день вечером он пришел к моей тетке и рассказал, как убежал Авксентий.
Петлюровцы, которые везли дядьку, не ожидали побега. Один из них дремал, а тот, кого дядька ударил в переносицу, закуривал папироску. От дядькиного удара все лицо у него залилось кровью, и нос вспух, как бульба. Возница говорил, что петлюровцы, не слезая с телеги, не целясь, наобум стреляли в лес, по деревьям.
А у нас в то время гостил сын дядьки, мой двоюродный брат Оська. Тетка ничего не сказала ему об этом происшествии. Только потом от односельчанина дядьки мы узнали, что Авксентий благополучно удрал от петлюровцев, что он жив-здоров, но живет не в селе, а прячется где-то в лесу.
Односельчанин передал нам от дядьки Авксентия подарок – кусок сотов с медом диких пчел. Бродя по лесу, нашел в дупле возле Лисьих пещер пчелиное гнездо, пчел выкурил дымом, а мед забрал.
Теперь о побеге узнал и Оська. Он очень гордился подвигом отца и этим медом.
– Василь! А Лисьи пещеры далеко отсюда? – толкнул меня Петька Маремуха.
– Близко. Ну ладно, давай спать, – сказал я. – Завтра утром я сведу вас туда. Посмотришь сам.
ЛИСЬИ ПЕЩЕРЫ
Мы спали очень долго, а когда проснулись, дядьки уже не было. Он пошел за солью на другой конец села. Мы позавтракали без него.
Надо хоть снаружи, пока дядьки нет дома, осмотреть Лисьи пещеры. Я веду ребят туда тропинкой, которая вьется по каменистому берегу реки.
Река чуть-чуть дымится. Жирные лягушки, услышав наши шаги, громко шлепаются одна за другой в воду. Скалы бросают тень на берег. Вдали видна обросшая доверху лесом Медная гора, за ней, у поворота реки, Барсучий холм и еще дальше – белеющие в зеленом лесу выщербленные ветрами «товтры» – известковые каменистые холмы. В этих «товтрах» скрыто немало ущелий и пещер, поэтому местные жители боятся забираться далеко в них и при случае обходят стороной. Многие из них верят, что в «товтрах» живет «нечистая сила»: она хватает человека, как только он переступит порог ущелья или пещеры, и тащит его дальше, под землю, в пекло. Мой дядька Авксентий, пожалуй, лучше всех нагорянских крестьян знает Лисьи пещеры. Верст за пять вокруг нет ни одной приметной щели в скалах, которая не была бы ему известна. А если камни возле такой щели задымлены, покрыты копотью, так и знай: выкурил отсюда мой дядька желтую пышнохвостую лисицу, выследив ее убежище по чуть заметному на белом снегу следу…
…На опушке леса, в орешнике, мы выломали длинные сучковатые палки и ободрали с них зеленые листья.
Мы пошли вверх по устланному прелыми листьями и сухим валежником дну оврага. Хворостинки похрустывали у нас под ногами. Мы шли втроем, отважные, храбрые путешественники.
Куница хоть и не знал дороги, но шел впереди, как атаман. Петька пыхтел рядом со мной. Он сопел – ему было тяжело карабкаться вверх по неровному дну оврага. Обомшелые деревья росли по обоим склонам оврага. Их густая листва закрывала солнце. Легкие, прозрачные папоротники дрожали у нас под ногами. Когда мы подошли почти вплотную к тому месту, где начинались Лисьи пещеры, я первый выскочил на ровную, усыпанную мелким щебнем полянку.
– Глядите, ничего не видно, правда? – гордо показал я ребятам на круглый, черный, местами обросший мхом камень, который лежал под скалой. Камень этот казался сброшенным откуда-то сверху, с Медной горы.
– Ну, а где же пещеры? – спросил Куница.
– А вот, гляди! – И я спрятался за камень.
Как огромная черная тыква, он прикрывал собою вход в подземелье. Теперь прямо передо мною в скале чернела трещина. Никто бы и не подумал, что здесь начинаются Лисьи пещеры. А на самом деле пройти в пещеры можно легко и свободно. Позади часто, тяжело дышал Маремуха. Ребята обошли камень и стояли у меня за спиной.
– Обязательно пойдем сюда! Сегодня же. Свечей достанем и пойдем! – сказал Куница. Он жадно глядел в трещину скалы.
– Чудак, где ты достанешь здесь свечей? – ответил я Кунице.
– Где?.. А в церкви. Здесь же есть церковь? Сегодня что у нас? Пятница. Эх, жаль, службы утром нет. Ну, просто у старосты попросим или купим.
Долго стоять перед входом в пещеру было страшновато. Слова дядьки о гадюках заставили меня насторожиться. Того и гляди, выползет какая из трещины…
Я предложил ребятам взобраться повыше. Мы влезли на круглый камень, закрывающий вход в пещеру, и уселись, как настоящие лесные разбойники, отдыхая и поглядывая по сторонам.
В лесу было очень тихо. Кое-где сквозь густую листву высоких ясеней пробивался косой солнечный луч, освещая радостным, золотистым светом сырой полумрак оврага. Вокруг было глухо и влажно, словно в погребе. На опушке, должно быть, солнце грело вовсю, а тут нам казалось, что уже наступил вечер.
Вдруг Маремуха дернул меня за ногу и кивнул на пещеры.
Что там такое? Гадюка?
Теперь и я услышал какой-то глухой звук, раздавшийся в подземелье.
Не то кто-то кашлянул там, не то камень оборвался и глухо упал на землю.
– Ты слышал? – шепнул я Кунице.
Куница сразу насторожился и лег на камень. Мы устроились рядом с Куницей.
В пещере снова кашлянули; на этот раз еще ближе. Может, это лает лисица, забавляясь со своими детенышами? Опять, где-то совсем близко, захрустел щебень. И вдруг из темной щели высунулась наружу чья-то рука, а затем появился человек.
От неожиданности я вздрогнул. Да ведь это же мой батько!
Он сильно оброс. У него отросли усы и борода, но я узнал его сразу и по синей сатиновой рубахе, и по знакомому широкому ремню на ней. Мне хотелось крикнуть ему: «Тато, татко! Я здесь!» Но крик застрял у меня в горле. А отец обернулся к нам спиной и крикнул в пещеру:
– Выходите, где вы там?
И тут из подземелья к черному камню выскочил Оська, а за ним вышел какой-то обросший бородой человек в резиновом плаще.
– Это свои! – выкрикнул я, толкая хлопцев, и мы кубарем скатились на землю. Я первый выскочил навстречу отцу, но сразу же шарахнулся в сторону.
Отец целился в меня из нагана, человек в резиновом плаще – тоже.
«Они сумасшедшие!» – подумал я и что было силы рванулся к оврагу.
– Васька! Василь! Погоди! – закричал мне вдогонку отец.
Я сразу остановился и с опаской поглядел назад.
Отец стоял, опустив наган. Это действительно был мой отец – молчаливый, угрюмый, почти никогда не улыбающийся. За поясом у него был сверток с газетами, отпечатанными на синей оберточной бумаге. Надо было сразу броситься к нему на шею, поцеловать его в густые, колючие усы, но я подошел к отцу, как к чужому, – медленно, неловкими шагами. Перепуганные Куница и Маремуха выглядывали из-за камня.
– Как ты попал сюда, Васька? – удивленно спросил отец, нагнувшись и целуя меня в лоб.
– Я из города… Мы зашли к дядьке Авксентию…
– Откуда ты знаешь эти пещеры?
– А меня прошлый год дядька Авксентий водил сюда…
– Дядька Авксентий? – переспросил отец и недовольно крякнул. Потом покачал головой и, заметив стоявших в отдалении хлопцев, спросил: – Это Маремуха, да? А второй кто? Я уж позабыл!
– Юзик Стародомский…
Оська подмигнул мне из-за спины отца.
– Это наши, зареченские… – вполголоса сказал отец обросшему человеку.
Тот вслед за отцом спрятал в карман револьвер. И вдруг… Что такое? Не может быть! Ведь это Омелюстый! Ну да, Иван Омелюстый, наш сосед, который тогда отстреливался от петлюровцев из башни Конецпольского. С перепугу я его сперва не узнал. Вот здорово! Значит, Иван жив? Но как он оброс! Видно, долго не брился.
– Дядя Иван, добрый день! – весело сказал я, протягивая соседу руку.
– Я же говорил Ваське, что вас не поймали, – сказал, подходя, Куница.
– Кто поймает? Кто меня может поймать? – насторожившись, спросил Омелюстый.
– А петлюровцы!.. Мы с Васькой тогда видели, как вы заскочили в башню. Помните? А тот чубатый хотел перебежать кладку, а вы в него выстрелили, и он упал прямо в речку!
– Ах да, вот ты про что, – сказал Иван и удивленно посмотрел на Куницу. – Ну, это когда было! Я уж позабыл. Да разве так ловят? Так, брат, ловить, знаешь, чур-чура – не считается.
– Дядя Иван, а вы знаете, что с тем человеком?
– С каким человеком?
– Ну, с больным. Помните, вы его ночью к нам приводили?
– Сергушин? – подсказал сосед.
– Я не знаю фамилию. Ну, тогда ночью вы с ним пришли.
– Да, да, Сергушин, – сказал Иван.
– Так его ж убили! Мы сами все видели. – И я рассказал, как поймали Сергушина, как расстреляли и как мы втроем убрали его могилу.
Отец и Омелюстый слушали мой рассказ очень внимательно. Отец посмотрел на меня чуть-чуть недоверчиво.
– Так вот оно что… – тихо сказал Омелюстый. – Я уже знаю, что его расстреляли, а вот как и где это случилось, от вас первых слышу.
– Дядя Омелюстый, а кто был этот человек? – заглядывая ему в глаза, спросил Маремуха.
– Которого расстреляли? Этот человек… Долго рассказывать… Знаете что, вот давайте подсобите нам сейчас, а потом, пожалуй, я вам расскажу.
– А что подсоблять?
– Вход в пещеру завалим.
– А мы хотели…
– Что хотели?
– Хотели пойти посмотреть пещеры, – объяснил Маремуха.
– Нечего вам в пещерах делать, – строго сказал Омелюстый. – Потом когда-нибудь я сам вас сведу всех. Не верите? Спросите вот Оську, сколько пещер я ему тут показал. Верно, Оська?
– Показали! – согласился Оська.
– Вот то-то же. А сегодня ходить туда нельзя! – сказал Иван и, оглядываясь, добавил: – Ну-ка, хлопчики, тащите камни из оврага, мы живо управимся.
Делать было нечего, пришлось таскать камни.
Пока мы таскали их, отец с Омелюстым заваливали этими камнями вход в пещеру.
Скоро от входа в пещеру осталась только маленькая щель.
– Фу! Заморился! – потирая руки, сказал Иван. – Пойдемте. Оська, фонарь не забудь!
Мы пошли по лужайке над оврагом. Лужайка поросла свежей, сочной травой. Тут хорошо полежать. Трава мягкая, душистая.
Отец прилег в стороне, под высоким явором. Омелюстый снял прорезиненный плащ и, сложив его вдвое, разостлал на траве. Он устроился на плаще и начал рассказ.
РАССКАЗ О НОЧНОМ ГОСТЕ
– В ту холодную ветреную зиму, когда окончилась война с немцами, через наш город повалили из германского плена русские солдаты. Пожалуй, ни в одном городе Украины их не было столько в этот год. Ведь около наших мест пролегала главная дорога с фронта.
Худые, в рваных солдатских шинелях, с ногами, обмотанными тряпьем, шли люди из-под Тернополя и Перемышля через наш крепостной мост на вокзал, чтобы поскорее сесть на поезд и ехать домой в глубь России.
А в ту зиму появилась в городе опасная болезнь – «испанка». Сотнями она уносила людей в могилу, и все очень боялись ее. С этой болезнью еще могли кое-как бороться те, у кого был дом, горячая пища, дрова.
Ну, а каково было тем, кто глубокой морозной ночью пробирался Калиновским лесом? Болезнь настигала их в пути. Измученный голодом, тяжелой дорогой, человек вдруг понимал, что дальше идти не может: все тело горит, ноги подкашиваются, и – самое страшное – не от кого ждать помощи в холодном, засыпанном снегом лесу. И часто случалось: человек присаживался на краю дороги, чтобы немного отдохнуть, но уж подняться не мог, коченел и умирал тихой, неслышной смертью в каких-нибудь пяти верстах от жилья.
Да и в городе было не лучше.
Люди валялись на тротуарах вдоль Житомирской, по Тернопольскому спуску и в сырых нетопленых залах духовной семинарии, куда их пускали обогреться гетманские чиновники. Я сам однажды видел, как со двора семинарии выехали одна за другой три подводы, заваленные трупами. На первых двух подводах мертвых еще кое-как прикрыли рогожными мешками, а на последнюю мешков, видно, не хватило, и возница сидел прямо на замерзших, посиневших трупах.
А как боялись одного только слова «пленный» на Житомирской улице!
Стоило такому человеку постучаться за помощью в дверь богатого дома на Житомирской, как мигом хозяева тушили свет, и дом замирал. А если он уж очень долго стучался, горничная, звякнув цепочкой, чуть-чуть приоткрывала дверь и кричала:
– Хозяев дома нету! Бог подаст!
Доктор Григоренко даже звонок у ворот снял и медную дощечку со своей фамилией. Он боялся, как бы, не дай бог, к нему не позвонил какой-нибудь измученный больной солдат.
А наши зареченцы хоть и бедные были, но нередко сами зазывали странников к себе – поесть горячего борща, отогреться у плиты, а то и просто переночевать на теплой печке.
Однажды на рассвете и к нам постучали, но слабенько так, чуть-чуть. Покойная мать моя проснулась и говорит:
– Иван, пойди спроси, кто там.
А я притворился, что не слышу, – очень уж хотелось мне спать. Тогда мама сама встала с постели. Она завернулась в одеяло, подошла к окну и стала дышать на замерзшее стекло.
Вдруг она отскочила – и к отцу:
– Ой, боже ж мой! Человека у нас под окнами убили!
Мы открыли не сразу. Сперва все оделись. Потом тихонько на кухню вышел отец. Он выглянул на улицу и увидел, что на обледеневших ступеньках нашего крыльца лежит человек. Никого больше вокруг не было.
Отважившись, мы открыли дверь на крыльцо и втащили человека к нам на кухню. Это был обыкновенный русский солдат, и упал он около нашего дома просто от голода и слабости.
Мать поставила греть воду, а отец притащил из кладовой большое деревянное корыто, мы с отцом осторожно раздели больного и посадили в корыто. Я поливал его теплой водой, а отец мыл.
Сколько мы воды на него потратили – не передать. Один за другим я брал с плиты казаны с теплой водой и опрокидывал их на голову больного. Он вскоре пришел в себя и только отфыркивался да глаза протирал. А я выносил грязную воду. Я выливал ее прямо с крыльца на улицу. Потом снег в этом месте почернел так, будто здесь грузили каменный уголь.
Все белье и одежду нашего гостя отец сложил в тючок и, перевязав бечевкой, вынес в курятник, на мороз. Это ему мама моя покойная так наказала:
– Человек нехай останется, а вшей его не надо. Пусть подохнут на морозе!
Звали больного Тимофей, а фамилия его была Сергушин. Он возвращался из германского плена к себе домой в Донбасс.
До войны Сергушин работал на Щербиновском руднике. У него под ресницами сохранились еще с той поры чуть заметные черные каемочки – такие каемочки, ребята, остаются почти у каждого шахтера, который долго рубит уголь.
Постлали мы нашему гостю в каморке за кухней, там он и лежал у нас.
В ту пору гетманская державная варта строго-настрого запрещала горожанам принимать к себе на жительство иногородних солдат, которые возвращались на родину. Гетман Скоропадский боялся, как бы среди них не оказались большевики.
Чтобы и к нам, чего доброго, не прицепились чиновники из гетманской варты, мы и слова никому не говорили про нашего больного. На что вот Мирон – наш сосед, – Омелюстый кивнул в сторону моего отца, – а и тот ничего не знал про Сергушина. Мы думали, что он недолго у нас погостит, но вышло по-иному.
Больше месяца пролежал он в темной каморке, а потом понемногу стал ходить по комнатам. Отец покойный, бывало, как заметит, что Сергушин вышел из каморки, – мигом к двери – и на ключ ее: отец боялся, как бы кто из заказчиков не заметил его.
А Сергушин пообвык в нашем доме и начал понемногу подсоблять отцу, который сапожничал.
Отец обтягивал колодку кожей, набивал подошву и отдавал Сергушину, а тот загонял деревянные шпильки. Ловко так приспособился – я и то не умел так. Наберет в рот пригоршню шпилек – и пошел выплевывать, словно шелуху от семечек, одну за другой. Выплюнул шпильку, сунул ее в дырочку, ударил молотком – нет шпильки, только маленькая квадратная шляпка из кожи торчит.
И брился он очень ловко: возьмет у отца обыкновенный сапожный нож и давай по оселку гонять. Водит, водит – иной раз добрый час. А наточит – нож, словно бритва, острый: хоть волос на лету руби. Потом, густо намылив бороду, так, что пена с нее падала на пол, он раза два проводил ножом по щекам – и волос как не бывало. Это его в окопах так бриться приучили. Побрившись, он пудрил лицо картофельной мукой, которую мать для киселя припасала. Иногда он садился у окошка и вполголоса пел свои шахтерские песни.
А развеселится – держись! Только поспевай смеяться. Он здорово умел показывать китайские тени. Ну и ловкие же у него были пальцы, прямо удивительно! Мы, бывало, плотно закроем ставни, а он внесет в свою каморку лампу, поставит ее на корзину и давай пальцами шевелить. И сразу на стене перед нами тени забегают. Чего только он не умел показывать: и собак, и кошек, и сову, даже рак у него получался как живой. А однажды обеими руками он показал нам, как дерутся два немецких солдата в касках. Мы со смеху чуть не поумирали. Сергушин часто вспоминал свой рудник. Трудная у него там была работа, отчаянная. Последние месяцы перед мобилизацией работал он запальщиком: рвал под землей динамитом камень, пробиваясь к чистому углю.
А я рассказывал Тимофею об училище, о том, какие у нас учителя, какая это нудная штука – итальянская бухгалтерия.
Однажды Тимофей слушал, слушал меня, а потом сказал:
– Брось ты, Ваня, к чертям это коммерческое, – все равно лавочника из тебя не выйдет, это я по тебе вижу. Парень ты молодой, здоровый, тебе на коне верхом скакать, а не за конторкой киснуть над той бухгалтерией. Сейчас, брат, другая коммерция нужна.
Ничего я не сказал в ответ Тимофею, потому что и без его слов коммерческое училище мне надоело хуже горькой редьки. Ведь это отец меня туда при старом режиме учиться послал. А сколько трудов это ему стоило, если б вы только знали! Три пары ботинок из самого лучшего бельгийского шевро он сшил совсем бесплатно директору коммерческого училища пану Курковскому. У каждого из членов педагогического совета отец побывал на дому и просил, чтобы меня приняли.
Выздоровел Тимофей совсем и уходить от нас собрался.
– Куда пойдешь, непоседа? – стал отговаривать его отец. – Из одной смерти насилу вылез, а сейчас другой захотел? И здесь, пока гетмана не прогонят, ты сможешь пользу принести не хуже, чем у себя в Донбассе.
Но, оставаясь у нас, Тимофей сказал отцу:
– Слушай, дружище, ты хошь не хошь, а я тебе помогать буду. Семья у вас не малая, а я без дела никогда не сидел. Подмастерье, правда, из меня плохой, но, думаю, подсоблю вам. Иначе не останусь.
Чтобы не обижать Сергушина, отец согласился. И с этого дня Тимофей стал помогать отцу.
Когда я возвращался из училища, он расспрашивал меня, что в городе, какие новости, что слышно из Советской России. Он просил меня доставать газеты, и я часто приносил их ему.
Как-то раз я сказал Сергушину, что в городе на столбах расклеен приказ о наступлении немцев на Петроград. Ну, он пристал ко мне: расскажи да расскажи, что написано в приказе. А я всего не запомнил. Вот и пришлось мне, как стемнело, бежать на базар за приказом. Долго, помню, я ходил около него: боялся, как бы не заметили гетманцы. Когда никого вокруг не было, я сорвал приказ со столба и притащил Сергушину. Тимофей похвалил меня за это, и с той поры я, выбирая удобные минуты, часто сдирал с заборов и со столбов разные гетманские приказы и объявления и приносил их Сергушину. Он все прочитывал и лучше моего отца знал, что делается в городе.
И вот однажды мама зовет его пить чай, а в каморке пусто. Мы туда-сюда, я на крыльцо выбежал – нет Сергушина. Пропал, словно нечистая сила его под землю утащила. Стало мне обидно: ушел, думаю, и не попрощался; хоть бы записку оставил. А мама даже сказала:
– Так всегда: сделаешь добро человеку, а он… – но не договорила. Отец посмотрел на нее нехорошо так, и она сразу замолчала.
А поздно ночью слышим, кто-то в кухонную дверь стучит. Отец подошел к двери, окликнул, оказалось – Тимофей. Ночью мы его не расспрашивали, а уж утром пристали: «Где это ты пропадал вчера?» Выдумывал он всякое, а правды нам так и не сказал. И вот с той ночи повадился он уходить в город. Однажды он вернулся домой на рассвете, запыхавшись, точно за ним кто-то гнался, и долго смотрел в окно.
– Сиди дома, Тимофей! Куда тебя носит по ночам? – рассердился как-то раз отец.
А мать добавила:
– Тоже мне гулянье по ночам, когда люди спят. Еще беду накличете на нашу голову. И кого вы не видели на улице? Пьяных гетманцев? Ведь знакомых-то у вас нет?
– Как знать, дорогуша, – шутил Тимофей, – знакомых найти нетрудно, я парень веселый, у меня весь свет знакомые!
И вот в одну ясную лунную ночь город неожиданно заняли красные. Рано утром, чуть только рассвело, Сергушин ушел из дому, – как всегда, без шапки, в отцовском сюртуке, в длинных штанах, в калошах на босу ногу.
Вернулся он вечером, и мы его не узнали. Он пришел в кожаной буденовке с красной звездой, в защитной гимнастерке, в сапогах из хорошего хрома. Из кобуры выглядывала рукоятка нагана. Сергушин отдал отцу его одежду и рассказал нам, что немцев и гетманцев из города выгнал Сумской полк и что в этом полку он отыскал много своих земляков.
– Землячков, землячков в городе – полно. То был я один, а сейчас весь Донбасс здесь! Коногоны, забойщики, откатчики – кого только нет! – радостно говорил он, и нам было весело вместе с ним.
Ушел от нас Сергушин поздно, а уходя, позвал меня с собою.
– Проводи ты меня, коммерсант, до церкви! – попросил он.
Я пошел… и больше не вернулся: Тимофей уговорил меня поступить к красным.
И в ту же ночь он устроил меня в Сумской полк. Его земляки-шахтеры сразу выдали мне обмундирование, карабин, саблю, а на рассвете почти всем полком мы ушли из города. Я даже не успел попрощаться с родными. Нас перебрасывали в другой уезд – добивать гетманцев.
Еще все спали, даже лавки на базаре были закрыты, когда мы верхом выехали по Гуменецкой улице на Калиновский тракт и запели веселую песню:
Оружьем на солнце сверкая, Под звуки лихих трубачей Шахтер за свободу вступает, Разбивши купцов-богачей.Что там скрывать, не сразу мне далась военная служба. После первого перехода от непривычки ездить верхом у меня так ломило ноги, что я едва ходил. Ведь до этого я никогда не ездил в настоящем кожаном седле.
Трудно справляться с лошадью – я не знал, как надо правильно надевать седло, и однажды надел его шиворот-навыворот, передней лукой к хвосту. Тимофей учил меня всему: и как затягивать подпруги, и как удобней, по ноге отпускать стремена…
А вскоре под Тарнорудой мы уж с ним вместе так лупцевали этих кайзеровских прислужников, что с них чубы в Збруч летели!
Подались мы дальше, за Житомир, и тут прошел по фронту слух, что Петлюра, заменивший к этому времени гетмана, захватил со своими войсками наш город.
Повернули мы обратно, на самого пана Петлюру, и, когда вместе с конницей Котовского отбили город назад, я узнал, что никого из моих родных нет в живых. Маму, потом отца с братом убили бандиты из отряда петлюровского генерала Омельяновича-Павленко. Когда красные отступали, мой отец забрал на складе воинского начальника две винтовки и спрятал их у нас дома, чтобы возвратить большевикам, как они вернутся. А петлюровцы, делая обыск, нашли их. Петлюровцев этих, говорят, привел к нашему дому Марко Гржибовский.
Недолго после этого пришлось мне оставаться в полку.
Меня и Сергушина, так как мы лучше остальных знали город, перевели в городской ревком. Я, вы помните, реквизировал оружие, а Сергушин перешел на работу в ревтрибунал. Он судил там саботажников, петлюровцев и тех, которые тайно помогали им. Вот тут-то я и узнал, куда он уходил от нас по ночам.
Однажды ночью Сергушин познакомился в городе с одной дивчиной. Вы ее, наверное, и не знаете – она жила далеко, возле станции: ее отец на вокзале служил. Кудревич некто. Сейчас ее в городе нет, она ушла с красными. Как они разговорились, как познакомились, да еще ночью, я не знаю. Знаю только, что эта дивчина много кое-чего интересного порассказала Сергушину о нашем городе. Ее мать стирала белье во многих богатых домах и знала, кто из буржуев помогал Петлюре. А дочка все это передавала Сергушину. И когда пришлось ему работать в ревтрибунале, он многое вспомнил из ее рассказов, и, видно, пригодились они ему здорово.
В ту недобрую пору, когда надо было отступать, наши побоялись увозить Сергушина с собой: был он тяжело болен. Простить себе не могу, что не сумели мы отправить Тимофея вместе с красными…
Но с паном Григоренко, хлопчики, мы еще встретимся! Если бы вы только знали, сколько людей он уже выдал, этот лысый катюга!
НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
– Дядя Иван, – первый нарушил молчание Маремуха, – а вы сами не боитесь, что вас поймают петлюровцы? Чего вы тут ждете? Удирайте в Жмеринку, верное слово!
– А что в Жмеринке? – улыбнулся Омелюстый.
– Как – что? Там же красные, – сказал Куница.
– И в Петрограде тоже красные, – ответил Омелюстый, – так что же, по-вашему, я и туда должен бежать? Уж лучше мы Красной Армии отсюда подсобим. А то если все отсюда побегут в Жмеринку, так кто же за Советскую власть из подполья бороться будет? Верно, Мирон?
– Ладно, ладно, нам с тобой идти пора! – уклончиво сказал мой отец.
Теперь он сидел хмурый, печальный, такой, как всегда. Видно, ему очень было жаль Сергушина. Помолчав, отец предложил:
– А не искупаться ли нам?
– Конечно, выкупаемся! – согласился Иван. – Пока подойдут люди из Чернокозинец, у нас добрых два часа.
– А они к пещерам не могут сразу прийти? – спросил отец. – Придут, а мы ушли.
– Нет, нет. Я объяснил Прокопу. Он приведет их к мельнице, – успокоил отца Иван и, обращаясь к нам, предложил: – Гайда купаться, хлопчики!
Целым отрядом мы спускаемся по оврагу к речке. Выйдя из лесу, подходим к мельничному саду. Он огорожен высоким плетнем. Стройные серебристые тополя растут в этом запущенном саду. Река здесь повернула влево, к мельнице помещика Тшилятковского.
Сквозь чащу сада слышен шум воды на мельничных колесах. Поскрипывают жернова в сером каменном здании мельницы. Ее стены видны сквозь просветы в деревьях. Там, в запруде, около мельницы, мы будем купаться. Лучшего места для купанья не отыскать. Дно в запруде чистое, песчаное, вода течет спокойно, а берег гладкий, отлогий, усыпанный сухим желтым песком.
Но что это? Какой-то странный дробный стук донесся к нам сверху. Похоже – кто-то колотит палкой по днищу пустого ведра. Захлебываясь, залаяли собаки.
Неужели это барабан стучит, там, на горе?
Отец с Омелюстым замерли на месте. Они прислушиваются. Теперь уже ясно, что это стучат в самый настоящий барабан. И вслед за барабанным треском из-за невысокой горки вдруг выплыло желто-голубое петлюровское знамя.
– Петлюры! – бросил мой отец Ивану Омелюстому. Потом наклонился ко мне и шепнул: – Вы нас тут не видели. Понятно? Оська остается с вами. Последите, куда они пойдут.
– Давай, Мирон, быстренько! – поторопил отца Омелюстый.
И сразу, не успели мы еще сообразить, в чем дело, отец и Иван перепрыгнули через плетень мельничного сада. Слышно было, как зашуршал бурьян под их быстрыми шагами. А мы, покинутые, остались на дороге одни в тени высокого явора.
Яркое желто-голубое знамя плывет на нас с горы. Мы уже различаем идущего впереди перед знаменем офицера. Вслед за ним под частую дробь барабана ровно шагают петлюровцы.
– Айда в сад! – решил Оська и подбежал к плетню. Теперь уже Оська был командиром.
Друг за другом мы полезли на высокий, шаткий плетень. Он колыхался под нами. Казалось, вот-вот хрустнут тонкие, оплетенные лозой колья, и мы полетим на землю. Но все обошлось благополучно. Один за другим мы спрыгнули с плетня в бурьян и присели на корточки. Через щели нам была хорошо видна пыльная проселочная дорога.
Барабан стучал совсем близко. Как только первый отряд подошел, я, чуть не вскрикнув от неожиданности, толкнул под бок Куницу.
– Ну и чудаки же мы! Да ведь это наши гимназические скауты!
Оська быстро вскочил.
– Вот так штука, – сказал он. – Ведь эти панычи могут ненароком полезть в Лисьи пещеры…
– А что в пещерах, Оська, что? – засуетился Маремуха.
– Не морочь голову! – строго огрызнулся мой брат и тотчас подбежал к стройному серебристому тополю, который рос у самого плетня. Оська взобрался на плетень, а потом, обхватив руками и ногами бледно-зеленый ствол дерева, словно кошка, полез вверх.
На соседней вербе чернела куча черного хвороста – воронье гнездо. В нем покаркивали молодые воронята. Старые вороны заметили Оську. Они встревожились и, захлопав тугими крыльями, взвились с вербы. Вороны закружились над деревом. Они думали, что Оська полез отбирать у них птенцов. Через минуту стая черного воронья, назойливо каркая, летала над мельничным садом.
Оська был едва заметен нам с земли. Лишь кое-где сквозь серебристую мягкую листву просвечивала его белая рубашка.
– Василь! Слышь, Васька! – вдруг закричал он мне с верхушки тополя.
Карканье ворон заглушило его крик.
– Я тут. Лезть к тебе, да? – задрав голову, ответил я.
– Беги в село! Найди моего батьку, пусть скажет Омелюстому: они остановились у сломанного дуба!..
– А хлопцы? – сложив руки у рта лодочкой, закричал я.
– Пусть остаются тут… И ты сюда возвращайся. Скажи: они могут найти Лисьи пещеры. Быстро!
Я успел только шепнуть Петьке и Кунице: «Сидите тихо!» – а сам, стремглав перепрыгнув через плетень, взбивая босыми ногами нагретую солнцем пыль, побежал вверх, на гору, в село.
Около кладбища я столкнулся с Авксентием. Он был чем-то взволнован и, видно, не рад был, что повстречал меня. У него в руках был желтый фанерный чемоданчик, а за плечами болтался двуствольный дробовик.
– Куда ты бегал? Скажи Оксане, пусть разогреет тебе рыбу, – рассеянно бросил он и сразу же пошел дальше по направлению к Медной горе.
– Дядько, послушайте! – догоняя Авксентия, закричал я.
Дядька остановился. Тогда я рассказал ему, что видел отца и Омелюстого, и передал слова Оськи.
– На мельницу побежали? – переспросил он. Подумав минуту, дядька тряхнул головой и сказал: – Ну ладно, я их побачу… Знаешь, Василь, сдается мне, петлюровцы удирают. Что-то больно их много на Калиновском шляху.
– Удирают, правда? – чуть не подпрыгнул я от радости.
– А что ж, зимовать им тут, по-твоему? Хватит, попанували, – со злостью ответил дядька.
Я мигом повернул обратно.
Надо побыстрее вернуться к хлопцам. Вот будет здорово, если дядька не врет. Лишь бы красные прижали Петлюру покрепче.
Одно мне непонятно: почему петлюровские бойскауты пришли сюда? Да еще вместе с кошевым Гржибовским. А может, они еще не знают, что Петлюра отступает? Наверное, не знают!
– Удирают, удирают! – напевая себе под нос, мчался я к ребятам.
Маремуха и Куница лежали за зарослями крапивы в мельничном саду. Заложив руки под голову, Юзик смотрел на верхушку тополя. Там виднелся Оська. Черные вороны, подозрительно вытянув шеи, покачиваясь на верхушках соседних деревьев, наблюдали за ним. Я перелез через плетень и закричал брату:
– Слезай!
Ребята вскочили.
– Ну как, нашел дядю? – спросил Маремуха.
Оська быстро спустился вниз. Он спрыгнул прямо в крапиву и побежал ко мне, на бегу одергивая рубаху.
– А что я знаю, Оська! Слушай! – И я передал брату то, что сказал Авксентий.
– А-а-а, вот что! – сразу загорелся Оська. – Ну, тогда мы им покажем! Слушайте-ка, хлопцы, давайте нападем сейчас на этих панычей! Нельзя их пускать в Лисьи пещеры, они шкоды там наделают…
– Да ведь их много! Они нас поймают! – заволновался Маремуха.
– А мы не одни будем, хлопцев сейчас покличем. Гайда в село! – скомандовал Оська.
Мы прибежали в село. Оська долго водил нас по кривым переулочкам, сзывая ребят. На его свист из-за плетней появлялись хлопцы. Никого из них я не знал.
– Гайда панычей бить! Капелюхи отбирать у них! – приглашал Оська.
Хлопцы понимали Оську с полуслова. Должно быть, не раз собирались они вместе, затевали драки, уходили в лес. У них здесь привольно – не то что у нас в городе.
Когда вокруг нас собралась целая ватага, Оська приказал:
– А сейчас все по домам. Тащите известку да бутылки. И пробок побольше. Собираемся на кладбище, у братской могилы. Быстрей!
Хлопцы поспешно разбежались по домам.
БОЙ У СЛОМАННОГО ДУБА
Братская могила огорожена железной решеткой. Здесь, под высоким дубовым крестом, похоронены двадцать пять нагорянских крестьян. Совсем недавно, в тысяча девятьсот восемнадцатом году, их расстрелял немецкий карательный отряд.
Это случилось после того, как немецкие оккупанты посадили на престол Украины гетмана Скоропадского.
Однажды под вечер, после душного июльского дня, в Нагоряны неожиданно вошел отряд германской пехоты в серых стальных касках.
Вскоре жители узнали, что кайзеровские солдаты пришли отбирать лошадей. Крестьяне наотрез отказались явиться со своими лошадьми к церкви, куда сгонял их немецкий унтер. Тогда солдаты, сняв с плеч тяжелые винтовки с плоскими блестящими тесаками, стали насильно сгонять крестьян на церковную площадь.
Оккупанты молча обходили дворы и выводили лошадей. Они не слушали, что говорил им хозяин, а просто давали ему в руки повод и приказывали вести лошадь, а если хозяин упрямился, подгоняли его прикладом.
Пригнанных к церковной ограде лошадей сразу же принялся осматривать ветеринарный фельдшер, рыжий усатый немец в серой фуражке-бескозырке. А немецкие солдаты тут же нагревали на походном кузнечном горне черное квадратное клеймо.
Если лошадь нравилась фельдшеру, солдаты ставили ей квадратное раскаленное клеймо на бедро, около хвоста, и затем отводили к лейтенанту – худому сердитому офицеру в лакированной остроконечной каске. Лейтенант, морщась от запаха паленой шерсти, выдавал хозяевам длинненькие синие квитанции.
Вместе с другими на площадь пригнали и Прокопа Декалюка – низенького молчаливого крестьянина, который жил около мельничной гати. К нему оккупанты пришли как раз в ту минуту, когда он собирался выехать в поле за снопами. Когда немецкий фельдшер стал щупать на площади его гнедого коня, Прокоп не утерпел и дал фельдшеру такого тумака, что с того сразу бескозырка слетела. Солдаты подскочили к Декалюку и стали крутить ему руки. Прокоп закричал:
– Помогите, люди добрые!
На помощь ему подбежали соседи, и вскоре на широком зеленом выгоне около нагорянской церкви разгорелся настоящий бой.
Озлобленные крестьяне не давали солдатам опомниться. Они били их чем попало: кнутовищами, поводьями, выдернутыми оглоблями.
Почуяв свободу, понеслись домой испуганные кони.
Придя в себя, солдаты стали стрелять из винтовок и быстро разогнали крестьян по домам.
Всю ночь до самого утра в селе стояла небывалая тишина. Немцы ушли из Нагорян в неизвестном направлении, и многим казалось, что все обошлось благополучно.
Но утром, как только рассвело, в Нагоряны на откормленных конях въехал эскадрон немецких драгун. Драгуны тихо проехали по главной улице и остановились у церкви.
Снова пригнали крестьян к церкви, но на этот раз уже без лошадей. Мужчин выстроили отдельно в два ряда. Немецкий фельдшер, лейтенант в очках и солдаты медленно прохаживались между рядами, опознавая среди выстроенных по ранжиру тех, кто расправлялся с ними вчера.
Отобрали двадцать пять человек, связали им руки и расстреляли их тут же, на глазах у всех, под каменной стеной сельской церкви.
Долго стоял над церковной площадью страшный крик. Срывая с себя пестрые платки, голосили жены убитых, плакали их дети, рыдали родственники. Они рвались к убитым, но тщетно: немецкие драгуны к самой церкви никого не подпускали. Прокопа Декалюка среди расстрелянных не оказалось. Он скрылся из села тотчас же после схватки с немцами, и долго о нем не было никаких вестей.
Солдаты караулили убитых до поздней ночи. А когда над притихшим селом взошла полная луна, они погрузили трупы на свои обозные двуколки, отвезли через плотину на правый берег реки и там зарыли. И только когда пришли красные, нагорянцы похоронили своих односельчан по-настоящему – здесь, вот в этой братской могиле.
Высокая ее насыпь еще свежа и не поросла травой. На дубовом кресте сверху донизу раскаленным гвоздем выцарапана надпись:
Тут спочивають
двадцать пять селян-незаможникiв,
яки загинули вид руки
проклятих ворогив Украини
нiмецьких окупантiв
Мы шли в глубь кладбища. Нас догоняли сельские ребята. Почти все они были в самодельных соломенных капелюхах, в домотканых полотняных рубахах, в таких же грубых штанах. Босоногие, загорелые, они прыгали по могилам и на ходу ловко со свистом сшибали длинными кнутами целые ветки волчьих ягод, боярышника и калины. Некоторые захватили с собой туго сплетенные нагайки.
Мы подошли к братской могиле уже целой армией. Нас было человек двадцать.
– Хлопцы, слушайте-ка, – сказал Оська. – Видали, по селу прошли петлюровские панычи? С флагом. Они сейчас отдыхают под Медной горой. Давайте отлупим их как следует!
– Отлупить-то можно, а вот если они сдачи дадут? Их ведь сила! – почесал затылок низенький смуглый паренек в рваном капелюхе. Вокруг руки он обмотал толстую, сплетенную из белых кусочков сыромятной кожи нагайку.
Оська хитро улыбнулся.
– «Сила!» – передразнил он. – «Сила!» А у тебя уже уши трясутся? Не бойся, мы поделаем бомбы и с бомбами на них! А ну, кто что принес, показывайте!
Хлопцы выложили из карманов старые пробки, запыленные водочные бутылки с цветными этикетками, белую известь. Известки принесли много – она есть в любой украинской хате.
Оська расхаживал среди хлопцев, словно на базаре. Те показывали свои припасы, а Оська перебирал их, иногда хмурился.
– У кого негашеная известь – сыпьте прямо в бутылки, – скомандовал он.
– А у меня гашеная, – вышел вперед худощавый хлопец и показал Оське целый мешочек белой толченой извести.
– Выбрось! – строго приказал Оська. – Гашеная нам не нужна. Глядите, хлопцы, только негашеной засыпайте, и чтоб бутылки сухие были. Понятно?
– А если паутина в бутылке? – спросил кто-то.
– Насыпай. Лишь бы не вода, а то враз разорвет, – объяснил Оська.
Рассевшись на могилах, хлопцы молча стали засыпать известью грязные бутылки.
У нас было только одно шило – в моем перочинном ноже. Мы поочередно просверлили этим шилом дырочки в заткнутых пробках. Оська раздал нам наспех выструганные, похожие на зубочистки гусиные перышки, и мы просунули их в пробки.
– Слушай, Оська, а ведь выпрет пробку, – нерешительно сказал Маремуха.
– А мы сейчас их проволокой прикрутим, – успокоил тот Маремуху и крикнул сыну Прокопа Декалюка – низенькому смуглому хлопцу в рваном капелюхе: – Михась! Сбегай-ка на тот край кладбища, знаешь, там над могилой попа Симашкевича жестяной венок висит. Нащипай-ка из него проволоки. Или нет… тащи-ка сюда весь венок!
Минуты через две Михась Декалюк возвратился, волоча по зеленым могилам тяжелый, с посеребренными листьями венок. Каждый листочек был примотан к железному обручу венка тонкой и мягкой проволокой.
Сразу же всей компанией мы стали потрошить венок. Серебряные листья дрожали под нашими быстрыми пальцами и один за другим падали в густую траву.
Прошло несколько минут, от венка остался только голый, ободранный обод, а листья, украшавшие его раньше, валялись вокруг на могилах.
Оська показал нам, как ловчей и крепче закрепить пробки, и мы притянули каждую пробку проволокой к горлышку бутылки.
Наконец, когда все приготовления были закончены, Оська скомандовал:
– А ну, скорее!
…К бойскаутам мы подбираемся с правого берега реки по густым, скрывающим нас от чужого глаза кустарникам. Оська послал вперед на разведку двоих ребят. Только мы подошли к повороту реки, разведчики замахали нам.
Перед нами, на другом берегу, открылся скаутский лагерь.
На большой лужайке, у сломанного дуба, бойскауты натянули зеленые брезентовые палатки. Между палатками разложены костры. Ярко горит собранный в лесу прошлогодний хворост. Дым густо клубится над кострами, подкуривая подвешенные над огнем австрийские котелки. В них варится вкусный кулеш из пшена, сала и картошки.
Вся лужайка освещена солнцем. А наш берег уже в тени. Мы спрятались под кустами возле брода; нас совсем не видно, хотя мы находимся очень близко от скаутского лагеря.
Пообедав, скауты собрались у кошевого знамени. Свернутое на древке, оно воткнуто в землю вблизи сломанного дуба. Вокруг знамени, с деревянным посохом на плече, медленно расхаживает Кулибаба. Из кустов, которые начинаются сразу же за сломанным дубом, вышел Марко Гржибовский. Он объяснил что-то скаутам, и мы увидели, как большая их группа – самые рослые – пошла за Гржибовским. Остальные чего-то дожидаются.
«Наверное, скауты затевают игру в «сыщика и вора», – решил я и обрадовался, что Гржибовский ушел из лагеря, захватив с собою маузер. Его скауты со своими посохами да кинжалами не так страшны. Но что, если они, скауты-воры, вздумают запрятаться в Лисьих пещерах?
– Хлопцы, слушайте, – тихо подозвал нас Оська.
Мы подползли к нему вплотную.
– Вот он и ты, Федька, – сказал Оська, показывая пальцем на двух сельских ребят, – возьмите закупоренные бутылки. Как только мы перейдем речку, вы проберитесь по берегу к тому месту, где пенек торчит. Тихонечко опустите в воду все бутылки. Только не все вместе – одну здесь, другую рядышком, а то побьются.
Потом Оська обратился к хлопцам, которые вызвались кидать бутылки «с руки»:
– Баночки для воды не потеряли?
Куница показал Оське белую консервную банку, долговязый хлопец – зеленую с отбитым горлышком бутылку, а Михась Декалюк протянул небольшой глиняный горшок.
– А сам я наберу сюда, – сказал Оська, размахивая ржавым солдатским котелком. – Закатайте штаны!
Все мы стали подвертывать штаны выше коленей.
Оставшиеся у сломанного дуба бойскауты все еще ничего не подозревали: они смотрели в ту сторону, куда ушел со своей группой Гржибовский.
Неожиданно сверху, с горы, послышался свисток. Должно быть, это сигнал кошевого. Ага, так и есть! Человек двадцать скаутов, те, кому выпало быть ворами, обгоняя друг друга, побежали в лес. Те, что остались у палаток, видно, не собираются покидать лагерь. Они сидят у знамени и разговаривают.
– Гайда, хлопцы! – позвал Оська.
Один за другим, легко раздвигая кустарник, мы спустились к реке и вошли в холодную воду.
Согнувшись, почти касаясь руками воды, мы перешли речку вброд шагах в пятидесяти ниже сломанного дуба. Дно здесь было каменистое, покрытое тиной и грязью, голыши скользили, ноги разъезжались, а тут еще быстрое течение толкало, сносило вниз.
Возле самого берега Оська, Куница, Михась Декалюк и долговязый хлопец зачерпнули в свои посудины воду.
Выскочив первым на берег, Оська отослал хлопцев утопить под скаутским лагерем закупоренные бутылки.
Хлопцы убежали. Мне показалось, что у них в руках самые настоящие бомбы.
Мы ждем их возвращения, переминаясь с ноги на ногу. Стоять на берегу очень неприятно. Каждую минуту нас могут заметить скауты: ведь мы у них под самым носом.
Хлопцы возвращаются обратно бегом. Еще издали они кивают головами. Готово! Вот-вот грохнет взрыв. Мы быстро подползаем к сломанному дубу.
Ох, как колотится от нетерпения сердце! Поскорее бы выбежать на освещенную солнцем лужайку, да закричать, да броситься врукопашную.
Коричневый, наполовину сгнивший ствол сломанного дуба виден сквозь кусты. Слышно, как разговаривают на лужайке скауты.
– Наливай! – приказал Кунице Оська.
Я посторонился: как бы в руках Куницы не разорвало бутылку. Рядом со мной из глиняного горшка лил воду в бутылку низенький смуглый Михась. Руки у него дрожали, вода то и дело брызгала на траву, и лишь половина ее, булькая, попадала в горлышко, растворяя задымившуюся уже известку.
Хлопцы быстро заткнули мокрые бутылки пробками.
– Кидай – и бежим! – прошептал Оська, и в эту же секунду за сломанным дубом, в реке, гулко, как настоящая бомба, разорвалась первая из потопленных бутылок.
Из-за кустов нам видно, как сразу забегали, засуетились на поляне голоногие скауты.
– Ур-а-а-а! – хрипло крикнул Оська и швырнул прямо на зеленые палатки свою бутылку. Вдогонку полетели и остальные. Куница, молодец, бросил свою дальше всех.
Бутылки падают на поляну и тотчас же одна за другой – не успевают скауты понять, в чем дело, – оглушительно рвутся. Брызгами разлетается мокрая, горячая известь.
Мы тоже кричим «ура». Звенящий пронзительный крик наш разносится над рекой. Мы опрокидываем на лету палатки и, скользя по мягкой траве поляны, подбегаем к скаутам. Я неожиданно столкнулся лицом к лицу с Котькой Григоренко. На щеке у него белеет известь. Видно, осколок нашей «бомбы» не миновал Котьку.
Достанется же тебе сейчас, змеиный командир! С разбегу, одним ударом кулака я швыряю его на палатку. Колышки захрустели, палатка мякнет, и Котька падает на землю. Он хочет ударить меня носком ботинка в живот, но я изворачиваюсь и, сорвав с него шляпу, бегу дальше.
Мы забрасываем в кусты легкие скаутские посохи, сбиваем на ходу котелки – кулеш с шипеньем льется в не успевший погаснуть жар костров.
– Флаги хватай, флаги! – хрипло кричит Оська, размахивая маленьким звеньевым флажком с львиной пастью посредине.
А у сломанного дуба идет жаркая схватка за кошевое знамя.
Два дюжих скаута, с кинжалами на поясах, тянут его к себе. Они уцепились за древко знамени и пятятся назад, в кусты. Несколько сельских хлопцев наседают на этих рослых скаутов. Они тузят их кулаками, стегают нагайками. С ними вместе и низенький Маремуха. Он вертится под ногами у скаутов, бьет их головой в живот, щиплет за ляжки. Кто-то из хлопцев – кажется, Михась Декалюк – прыгнул на шею Кулибабе и таскает его за волосы.
В это время в реке запоздало рвутся одна за другой еще две бутылки. Звук разрыва настолько силен, что кажется, будто с того берега палят из настоящих пушек.
Один из великовозрастных скаутов, растерявшись, отпустил древко и бросился в кусты. Другой, потеряв равновесие, полетел на землю, а Михась Декалюк кубарем покатился через него.
Древко знамени треснуло и сломалось. Золотая бахрома оторвалась от шелкового полотнища. Хлопцы кучей навалились на сваленного скаута. Они тузят его под бока, а он вертится вьюном на растерзанном знамени, но подняться не может.
В эту минуту к хлопцам подбежал Куница. Изловчившись, он одним рывком выдернул из-под скаута обломок древка с изодранным знаменем и побежал к реке.
– Удирай! Удирай! Догоняют! – закричал вдогонку Кунице Оська, заметив, что следом за Юзиком пустились двое скаутов-«удавов».
Вот чудаки, кого догнать захотели! Все равно теперь знамя наше. И мы помчались вслед за Куницей.
А вверху, на горе, скауты уже пересвистываются вовсю. Слышно, как хрустит хворост. Кто-то – наверное, сам Марко Гржибовский – пальнул из маузера. Видно, скауты, почуяв недоброе, несутся сюда.
Не оглядываясь, мы рванули через кусты, крепко сжимая в руках трофеи – скомканные скаутские шляпы, обломки посохов, звеньевые флажки.
Я не заметил даже, как мы перебежали обратно брод, как кто-то из нас поскользнулся и обдал бегущих брызгами воды. Скауты все еще пересвистываются под горой и на поляне около сломанного дуба.
Преследуемые этими свистками, мы мчимся все быстрее. В ушах еще отдаются скаутские крики, а перед глазами мелькают их испуганные лица, смятые палатки, погасшие костры.
Надо удирать что есть духу, пока они не успели опомниться.
Мы несемся, точно вперегонки, по узенькой лесной тропинке, задевая локтями ветки кустарника, обламывая сухой валежник. Останавливаемся только за Барсучьим холмом, когда уж нет сил бежать дальше.
За Барсучьим холмом тихо, свежо и спокойно. Хлопцы отдышались и поснимали капелюхи. Они обмахиваются ими: жарко! Оська расстегнул ворот сорочки. К его разгоряченной груди пробирается лесной прохладный воздух.
– Ох, и дал я этому пацюку! Всю чуприну ему повыдрал, – сказал Михась, отирая смуглой ладонью лоб.
– А вы видели, как я того, здорового, за ногу укусил? Когда б не я, он никогда знамя не отдал бы! – выкрикнул Маремуха.
– Что ты хвастаешься? Если б не Куница, знамя осталось бы у них, – ввязался и я в разговор. Мне хотелось сбить с Петьки гонор.
– Будет, хлопцы, не ссорьтесь. Все воевали добре, – сказал Оська. – Скажите-ка вот лучше, где нам флаги попрятать, а?
И в самом деле, куда девать флаги? Вот эти маленькие, со звериными и птичьими головами, можно запихнуть хоть за пазуху, а что с кошевым делать? Ведь оно широкое, хоть стол застилай. Идти с флагами в село никак нельзя. А вдруг мы напоремся на какого-нибудь петлюровца? Раздумывать много нет времени. Ведь из лесу вот-вот могут выскочить с острыми бебутами в руках взрослые скауты.
– Давайте спрячем в березовой роще, – предложил Оська.
В самом деле! Ведь никому и в голову не придет искать знамя там!
По узенькой меже, разделяющей два пшеничных поля, мы пошли вперед, в березовую рощу. Мы давим ногами голубые васильки, дикие, чуть распустившиеся маки, лиловый куколь. Межа густо заросла цветами и сорной травой. А вокруг, по обеим сторонам межи, колышется от ветра еще не окрепшая, но уже густая пшеница: пробежит полем ветер, и пройдет по ней едва заметная, неслышная зыбь.
В березовой роще совсем прохладно. Она раскинулась на пригорке, и ее обдувает со всех сторон ветер. Чуть слышно покачиваются ровные, стройные березы. В кустарнике заливается черноголовый жулан-сорокопут. Он поет громко, взволнованно, не слыша наших шагов.
Мы спустились в лощину, к ручейку. У самого берега Куница опустился на колени. Под корнями старой березы он обеими руками стал рыть яму. Земля здесь рыхлая, влажная, перемешанная с глиной – копать Юзику легко.
– Довольно! – скомандовал Оська и сунул в яму свернутое кошевое знамя.
Яма закопана. Теперь можно и по домам.
Когда мы шли в село, где-то далеко прокатился глухой раскат грома.
– Будет гроза, – заметил рыжий долговязый хлопец.
– Ну, выдумал! – удивился Маремуха. – Погляди, небо какое чистое.
– Это не гром, это красные стреляют, – уверенно сказал я.
– Откуда красные? Это гром, – повторил рыжий хлопец. – Вы, городские, небось никогда не слыхали настоящего грома. Вот увидите, будет дождь. Слышь, как вороны закаркали. Это к дождю.
Я промолчал. Пусть думает, что это гром. Поглядим, кто из нас будет прав.
Мы подходим к селу. Уже вечереет. Коровы возвратились с пастбища и, вытягивая шеи, мычат около ворот. Хозяйки пускают их во двор и принимаются доить. Слышно, как за плетнями то в одном, то в другом дворе молоко, точно дождь, стучит в донышки широких цинковых ведер. Почуяв вечер, уже суетятся, укладываясь спать, полусонные куры. Как незаметно подошли сумерки! Оська велит хлопцам собраться завтра после полудня в березовой роще.
– Будем делить добычу, – говорит он важно.
Хлопцы расходятся по хатам. Один из них вытащил из кармана скаутскую ковбойскую шляпу и, сняв свой простой соломенный капелюх, с опаской оглядываясь по сторонам, надел ее на голову. Я поглядел ему вслед. Сделав два шага, хлопец чего-то испугался, снял шляпу и опять засунул ее в карман. Трус. Как Маремуха. А я вот свою надену, и никто мне ничего не сделает. Я смело надел Котькину шляпу – она велика мне – и пошел за ребятами.
Но Оська увидел это и сразу насупился.
– Сними! – приказал он.
– Ну и сниму. Мне не жалко…
Вчетвером мы зашли в Оськин двор. Удилище и сетка Петьки Маремухи по-прежнему стояли под крыльцом. Оськина мать сидела на завалинке и, сжав коленями макотру, лущила в нее прошлогоднюю кукурузу. Она терла один початок о другой. Золотистые зерна кукурузы глухо падали в большую, глазурью раскрашенную макотру.
Авксентий, одетый в домотканую коричневую коротайку, стоял тут же. За плечами у него виднелся все тот же двуствольный дробовик. Он собирался уходить.
Увидев нас, он спросил:
– Где были, хлопцы?
– Мы панычей городских лупили, тато, – ответил Оська, вынимая из-за пазухи петлюровский флажок. – Ох, и дали мы им перцу!
– Каких панычей? Тех, что с барабаном? Юнкеров ихних?
– Ну да, ну да, – запрыгал Маремуха, – юнкеров. Мы им палатки оборвали все чисто, шляпы забрали, – вот у Василя шляпа есть. Покажи, Василь, шляпу.
– А где вы били юнкеров? – спросил Авксентий.
– Под Медной горой, около речки, – сказал Оська, хвастливо размахивая скаутским флажком.
– Они не юнкера. Они скауты. Юнкера – те в юнацких школах обучаются, а это гимназисты, их готовят на подмогу Петлюре, – хмуро поправил дядьку Куница.
Но тот сказал:
– Знаю, знаю! Шпионы петлюровские малолетние в тех отрядах готовятся. Значит, это вы пальбу там подняли? А я голову ломал: откуда такой переполох? Из чего же вы стреляли? Я никак не мог разобрать. Не то обрезы, не то бомбы…
– Ага, ага, бутылочные бомбы, – хитро улыбнулся Оська.
– Бутылочные бомбы… Врешь. Откуда они у вас? Где вы их взяли?
– Да не взяли, а сделали, – объяснил я Авксентию.
– Верное слово, сделали, – подхватил Оська. – Насыпали извести в бутылки – вот и бомба. А как они удирали, тато! Кто в кусты, кто куда. Они думали – то настоящие бомбы. Мы у них там все порасшвыряли, а Куница…
– А кто велел тебе нападать на них? – вдруг сурово перебил Оську дядька.
– А мы сами… – начал Оська.
– «Сами, сами»! А ты знаешь, как вы могли нашкодить? Хорошо, хлопцы успели повытаскивать все оружие из пещеры, а то довелось бы расхлебывать вашу кашу.
– Они ж за Петлюру! – удивленный словами дядьки, сказал Маремуха.
– Ну и что ж? А за них могли и нас похватать. Пускай бы шли своей дорогой.
– Не похватают! Красные ведь близко, – ответил я дядьке. – Вы же сами говорили.
– Кто его знает, – неуверенно сказал дядька, – то все бежали в город, а вот недавно через село на Жмеринку опять проскакало шестеро петлюровцев. Я сейчас пойду сам побачу, как там, на шляху, а вы здесь осторожненько…
– А мы с вами пойдем, дядя, – попросил я Авксентия.
– Э, нет, на шляху теперь неспокойно, а мне еще Мирона захватить надо. Заходите в хату, повечеряйте – и в клуню. Оксана, собери-ка хлопцам ухи да вареников, – сказал дядька на прощание жене и ушел по направлению к Калиновскому тракту.
После ужина, когда мы переходили из хаты в клуню, я увидел, как по небу к Нагорянам подползали густые багровые тучи. Неужели тот рыжий хлопец правду сказал, что будет дождь?
МЫ ПОКИДАЕМ СЕЛО
Ночью в самом деле пошел дождь. Удар тяжелого грома разбудил нас. Через распахнутые двери клуни было видно, как вспыхивала молния, освещая влажные листья яблонь и слив. С кладбища сразу потянуло сыростью. Зарывшись в сухое сено, я слышал, как ливень хлестал по листве, как крупные дождевые капли, падая наземь, задевали листочки кустарника, молодую завязь плодов на фруктовых деревьях и обвитый повиликой сгорбленный плетень усадьбы Авксентия.
И в этом ночном дожде, и в молнии, то и дело поджигающей зеленовато-синим пламенем густое, черное небо, и в тяжелых раскатах страшного ночного грома, сотрясающего мокрую землю, было одновременно что-то жуткое и веселое.
Разбуженный ночной грозой, я долго не мог заснуть. Я вспомнил, что случилось за последний день, и было мне от этого радостно и чуть-чуть тревожно. Теперь, думал я, обязательно должны прийти красные. Если они не придут, мы пропали. Ни Котька Григоренко, ни его приятели-скауты не спустят нам вчерашнего набега.
Каково-то им сейчас на поляне у сломанного дуба? Вряд ли они успели уйти оттуда. Намочит же их ливень! Колышки палаток сломаны, брезентовые полотнища забрызганы известкой – мы здорово разорили скаутский лагерь, укрыться им негде.
А Марко Гржибовский? Вот бесится небось, что мы у него знамя его шпионское утащили! Не удалось Гржибовскому обучить скаутов, как надо одной спичкой разжигать костер, не смогли они доиграть до конца в «сыщиков и воров», не поели свой кулеш. Не спас их ни святой Юрий, ни богородица. Зря они пели свою хвастливую песню, вступая в Нагоряны.
Поливай их, дождь, сильнее, крепче, пусть на всю жизнь запомнится им этот поход!
А вот мне да похрапывающим рядом Кунице, Оське и Маремухе хорошо. Никакой ливень не прошибет эту плотную, крепко сшитую соломенную крышу. Под нами чуть колючее, пахнущее лесными полянами и ромашкой сено.
Кусачие былинки щекочут уши и щеки, залезают в нос, но я лениво отстраняю их и, прижавшись к мягкому толстенькому Маремухе, обняв его левой рукой, усталый и довольный, крепко засыпаю под этот радостный, теплый дождь.
Просыпаемся мы поздно.
Тихое утро стоит в саду. Двор за плетнем уже весь освещен солнцем. Через открытую дверь клуни видно, как посвежела и еще ярче зазеленела листва на деревьях. Покрытая глазурью макотра блестит на плетне.
– Вставай, Петро! – толкнул я под бок Маремуху. А он еще глубже зарылся головой в сено.
Я пощекотал Маремуху под мышками, и тогда он вскочил на колени так быстро, что все сено в клуне зашевелилось.
– Вставай! Вставай! Сплюх!
А он, словно на морозе, стал быстро обеими ладонями растирать свои розовые уши.
– А знамя-то наше промокло – слышал, какой дождь ночью был? – потягиваясь со сна, сказал Оська.
– Не промокло, я его под корнями зарыл, – успокоил Оську Куница и, схватившись за балку, как на турнике, поднялся вверх. Из-под стропил посыпалась мелкая труха.
Во дворе громко заговорила с кем-то Оксана.
Мы вышли к ней и поздоровались. Какая-то пожилая сгорбленная женщина сразу же ушла, а Оксана тихо пожаловалась нам, что в селе «ой как неспокойно». Только и разговоров, что красные близко. Еще на рассвете селяне тайком от старосты угнали своих лошадей за Медную гору. Они боятся, что лошадей могут реквизировать для эвакуации петлюровцев. Поговаривают, что еще ночью петлюровские разъезды отняли всех коней в Островчанах.
– Беда мне с мужем, – сказала Оксана, – ушел, слова не сказал, хозяйство оставил, а я сама тут за все отвечай. Хотела запрятать в погреб кабанчика, а он вырвался, лежит на глине и кричит. Наверное, вывихнул ногу.
Она говорила с нами так, словно мы были приятели Авксентия. Мы сочувственно слушали ее жалобы, а сами думали: что же нам делать? Кабанчик кабанчиком, а вот как нам быть?
Ведь тут сейчас неинтересно. Авксентий хитрый. Ушел потихоньку к партизанам и оставил нас. А вдруг где-нибудь под городом уже начинается бой? А здесь ничего не увидишь. Но мы не маленькие. Мы сами знаем дорогу обратно.
Мы решили вернуться в город.
– Пойдем с нами, Оська, – предложил я и брату.
Но его мать крикнула:
– Никуда он не пойдет! Не смей ходить! Тато велел ему оставаться дома. Сиди здесь, Оська, хоть ты поможешь по хозяйству.
Оська кисло сморщился, но ослушаться не посмел.
Делать нечего. Пойдем одни. А жаль!
Мы попрощались с теткой, крепко пожали руку Оське и отправились в путь.
Лесной дорогой мы пошли в город.
Хорошо в лесу после дождя.
Простые лесные цветы пахнут особенно сильно. У дороги, где стелется барвинок, выглядывают из-под кустов синенькие колокольчики, лесные фиалки, иван-да-марья. В розовых цветках шиповника жужжат пчелы. А как здорово поют где-то вверху на деревьях невидимые снизу птицы! Весь лес дрожит от их звенящего пения.
На серой осине глухо трижды прокричала кукушка и затихла, должно быть услышав наши шаги. Мы шли по влажной тенистой дороге, то и дело пересекаемой обнаженными корнями деревьев. Мы перепрыгивали через лужи, ноги скользили и разъезжались в стороны.
Около березовой рощи я вспомнил, что Оська договаривался сегодня после полудня со здешними ребятами делить кошевое знамя. Ведь мы имеем право тоже получить по куску этой добычи, отнятой у наших врагов.
– Возьмем, хлопцы, свою долю? – кивнул я на лощину.
– А ну его, пускай Оська пользуется. Куда оно нам? – отмахнулся Куница.
– Возьмем, возьмем! Даром, что ли, дрались? – запрыгал Маремуха.
Ага, большинство на моей стороне. Мы сворачиваем к ручейку. Маремуха разрывает обеими руками землю. Я вытаскиваю знамя из-под березовой коряги и стряхиваю с него липкую глину. А все-таки дождь промочил знамя. Шелк намок и почернел. Ну, как же теперь его делить? Нас было человек двенадцать, – если порезать знамя на двенадцать равных кусочков, каждый получит по небольшому, величиной с носовой платок, куску шелка. А ведь сельские хлопцы похватали те куцые звеньевые знамена. Если бы не Куница, кто знает, это широкое кошевое знамя могло остаться у скаутов. Мы имеем полное право взять себе больше, чем остальные. А что, если распороть знамя пополам? Недолго думая, я достал из кармана перочинный нож и, сунув Маремухе край знамени, натянул свой конец и разрезал знамя пополам. Потом оторвал руками остатки бахромы и подал желтое полотнище Маремухе.
– А теперь как поделить? Кусок желтого и кусок голубого? Надо было иначе. Эх, ты! – покачал головой Куница.
– Зачем делить? Мы возьмем себе половину, вот и все, – успокоил я Куницу.
– Но ведь нас трое!
Ишь как запел! Минутку назад фыркал – «не надо», а теперь глаза загорелись.
– А мы жеребок бросим. Кто вытянет, тот получит весь кусок. Из него сорочка выйдет или скатерть. А платки-то нам зачем? Что мы, девчонки?
Куница задумался, а Петька Маремуха сразу перешел на мою сторону.
– Давай! – закричал он. – Желтое мы оставим, голубое себе возьмем. А я загадаю. На палочки или на камешки.
– Ну, иди загадывай… На палочки… – подумав и тряхнув головой, милостиво разрешил Куница.
Скомкав желтую полоску шелка, Петька засунул ее обратно в ямку под старой березой. Потом он убежал в кусты и возвратился оттуда с зажатыми в кулаке тремя палочками.
– Самая коротенькая – знамя! – объявил он.
Я потащил жребий первым. Маремуха боялся, что мы подсмотрим, и так зажал палочки, что приходилось вытаскивать их силой.
«Интересно, кому же достанется шелк?» – подумал я, разглядывая свою палочку. Кончики ее Петька обкусал зубами.
Вытащив жеребок вслед за мной, Куница потребовал:
– Покажи!
Петька раскрыл потную, дрожащую руку. Мы уложили на ней рядышком свои палочки, и оказалось, что самая коротенькая досталась Кунице.
– Получай, – не без сожаления отдал я ему мокрую полосу шелка.
Маремуха грустными глазами следил за тем, как Юзик, словно мокрое белье, выжал полотнище и засунул его себе за пазуху. Щелкнув языком, Куница весело полез по откосу лощины вверх, а мы, неудачники, вслед за ним.
Когда мы перевалили через Барсучий холм, я увидел на другой стороне реки ту самую поляну, где мы вчера дрались с петлюровскими панычами.
Поляна была пуста. Только выжженные кострами черные лысины, истоптанная трава да белые лужи известки напоминали о вчерашней схватке.
БЕГУТ ЧУБАТЫЕ
Шумный Калиновский шлях пролегает где-то в стороне. До самого города Куница ведет нас напрямик по заросшим полынью межам; мы минуем засеянные низенькой густой гречихой поля и одну за другой пересекаем поросшие травой безлюдные проселочные дороги.
– Сколько мы уже идем, так до вечера домой не доберемся, – едва поспевая за Куницей, пробурчал уставший, измученный Маремуха.
Бедному Петрусю сегодня досталось. Шутка ли сказать, сколько мы прошли, а еще ни разу не отдыхали.
– Ладно, Петро, не журись, – сказал Куница, – у кладбища отдохнем. Давай быстрей.
– Юзик, кладбище, кажется, скоро? Да? – не вытерпел я.
– Скоро, скоро. Видишь, липа на бугре покосилась? За ней и кладбище.
Юзик прав. Только мы поднялись на бугор, как сразу вдали зазеленели яворы кладбищенского сада. За ними белеет наш город.
На холмике у кладбища мы делаем привал. Хорошо после длинной дороги улечься на мягкой траве, под высоким тенистым явором и слушать, как где-то около самого уха в белых и розовых цветах клевера жужжат шмели.
Налево, за тюремными огородами, пересекая зеленые поля, тянется до самого горизонта белая полоска дороги. Она то идет прямая, ровная, то, встречая на своем пути зеленые курганы, петляет вокруг них причудливыми зигзагами, то пропадает совсем в темной чаще леса, то, вырвавшись из него, снова вьется по сенокосам, баштанам, полям – узенькая белая полоска покрытого мелким камнем шоссе. Это и есть Калиновский шлях – главный путь из нашего города на север.
Серая дорожная пыль клубится сейчас вдоль телеграфных столбов: в город одна за другой мчатся подводы, тачанки, экипажи. Их грохот доносится сюда через тюремные огороды и маленькую рощицу, отделяющие нас от Калиновского шляха.
Интересно, кто это едет: красные или все еще петлюровцы?
– Давай пошли! – поднял нас Куница.
Мы не посидели и двух минут, но тотчас вскакиваем и пускаемся дальше. Хорошо утоптанная тропинка ведет нас в город.
Миновали кладбище. Уже маячат вдали, на Житомирской, верхушки стройных серебристых тополей.
Вдруг Куница прыгнул через канаву, круто повернул на Тюремную.
– Куда ты, Юзька? – окликнул я его.
– Давай, давай, – торопит Куница.
Мы выбегаем на мостовую этой окраинной улицы.
Вот и тюрьма – огромное каменное здание, обнесенное с четырех сторон высоким кирпичным забором.
– Ох ты! – крикнув от неожиданности, сразу присел Маремуха.
За тюремной оградой зазвенело разбитое стекло.
– Окна бьют, – тихо сказал Куница, присев около меня на корточки.
И в эту самую минуту в каких-нибудь пятидесяти шагах от нас медленно распахнулись широкие, окованные железом тюремные ворота. Оттуда один за другим на тюремную площадь выскочили пятеро петлюровцев в черных коротких жупанах. Выбежали. Остановились. Вот первый из них, самый высокий, махнул рукой на кладбище. Мигом, вытянув винтовки, охранники перебегают улицу. Они перепрыгнули через кладбищенскую ограду и пропали среди мраморных крестов. Чуть шевельнулись и сразу же затихли густые кусты жимолости.
– Посмотри, посмотри! – приподнимаясь, шепчет Куница.
Из самой крайней, левой решетки верхнего этажа тюрьмы, пробив стекло, со звоном вылетел красный продолговатый кирпич. И вслед за этим то из одного, то из другого окна, словно по чьей-то команде, падают и разлетаются вдребезги грязные, запыленные оконные стекла.
Заключенные – все те, что были против Петлюры, – повисли на решетках. Они машут руками, что-то кричат, а что – не разберешь. А вот в окне второго этажа около водосточной трубы заклубилась белая известковая пыль. Ого! Из камеры по железной решетке бьют каким-то тяжелым куском железа. Глухие нетерпеливые удары разносятся на всю тюрьму. Еще немного – и выломают решетку.
Но с Куницей разве досмотришь?
– Гайда, хлопцы! – торопит он нас.
Нехотя мы побежали вслед за ним по Тюремной. Я бегу и оглядываюсь. Интересно бы посмотреть, как люди, брошенные Петлюрой в тюрьму, выломав решетки, выбегут на волю, как тот славный повстанец Кармелюк. Куница, заметив, что мы отстали, кричит:
– Давай быстрей, а то палить начнут!
Пожалуй, Куница прав. Ведь каждую минуту петлюровцы могут открыть огонь по взбунтовавшейся тюрьме. Куница свернул на Старопочтовую. По гладким каменным плитам ее тротуара очень приятно бежать босому – куда лучше, чем по колючему грунту. Но почему никого не видно на улице? Пусто, точно все жители вымерли.
Мы пробегаем мимо епархиального училища. Это желтое с монастырскими узкими окнами здание выходит главным своим фасадом на Старопочтовую. Здесь, в училище, стоит булавная сотня атамана Драгана.
А ну, посмотрим, у себя ли черножупанники? Что такое? Окна в училище раскрыты настежь. Около училищного подъезда валяются перевернутые табуретки, совсем новое цинковое ведро. Внутри училища тихо. Не слышно людских голосов. Вот так здорово – выходит, драгановцы улепетнули отсюда!
Вдруг за станцией хлопнул выстрел. За ним – другой. Куница сразу остановился.
– А что я говорил? – шепнул он.
Маремуха переменился в лице, побледнел.
– Может, спрячемся, а, Юзик? – осторожно попросил он.
– Новое дело! – огрызнулся Куница. – Куда ты спрячешься? Тут сейчас начнется такое… Вот слышишь?
Совсем близко, откуда-то со стороны губернаторского дома, зачастил пулемет. Дробь выстрелов пронеслась над тихим, притаившимся городом. Пулемет замолк, но тотчас же у вокзала один за другим захлопали ружейные выстрелы. Неужели это красные подошли так близко? Шальная, неизвестно откуда прилетевшая пуля взвизгнула вверху над крышей епархиального училища.
Куница молча побежал вниз. Мы – за ним вдогонку. Дело совсем плохо, если уж пули свистят над головой!
Мы чуть слышно шлепаем босыми ногами по каменным квадратикам тротуара, а выстрелы теперь звучат еще громче, совсем рядом. До Семинарской оставалось несколько шагов, как вдруг Куница метнулся в сторону, шепнув:
– Назад, возле аптеки люди!
Маремуха сразу припал к стене серого двухэтажного дома, а я заскочил в подъезд парадного. Кто, интересно, там? Может, повернуть обратно? Еще подстрелят.
Но Куница крадется вперед.
– Посмотрим давай тихонько! – предложил он.
Гуськом пробираемся вдоль стены этого серого дома до его угловой водосточной трубы. Тут, сразу же за углом, начинается густой подстриженный садик. Вслед за Куницей мы нырнули в него и уже оттуда, из-за кустов акации, выглянули на улицу.
Огромное стекло лучшей городской аптеки Модеста Тарпани разбито. Еще несколько дней назад за этим толстым бемским стеклом стояли на подоконнике пузатые бутылки с прозрачной розовой водой, а вверху на стекле белели буквы:
АПТЕКА
Модеста Тарпани
Ни пузатых бутылок с розовой водой, ни белой надписи, ни бемского стекла теперь не видно. Вдребезги разбитое окно похоже на огромную квадратную дверь с очень высоким порогом. Тротуар аптеки усыпан осколками. А внутри, у прилавков, на блестящем кафельном полу, хозяйничают петлюровцы. Вот один из них, чубатый, в сбитой на затылок папахе, вскочил прямо на застекленную стойку с душистым мылом и парфюмерией. Стекло треснуло под его сапогом, а нога петлюровца ушла в глубь стойки. Вслед за чубатым петлюровцем на стойку лезут его приятели. Они ногами выбивают зеркальные стекла в шкафах, где стоят в банках с латинскими надписями всякие лекарства.
– Горилку шукай, Остап, горилку! – кричит один из них чубатому петлюровцу. Соскочив со стойки на пол, чубатый бежит в глубь аптеки и выволакивает оттуда высокого седого старика в белом халате.
Мы его знаем. Это провизор Дулемберг. Он упирается и не хочет идти, но чубатый петлюровец с силой тянет старика за руку и вышвыривает его из аптеки прямо на улицу.
– Молись богу! – приказывает провизору чубатый и сует ему в ухо дуло нагана.
Я отвернулся. Страшно. Что они сделают с ним? Но в эту минуту из аптеки закричали:
– Подожди, не стреляй, Остап!
Одну за другой петлюровцы вынесли из аптеки пузатые бутылки с белыми этикетками. Бандиты поставили их прямо на мостовую и заставили провизора пробовать лекарства.
И вот, стоя на коленях, седой Дулемберг дрожащими руками открывает стеклянные пробки. Из каждой бутылки он отсыпает на ладонь капельку лекарства и прикасается к ней языком. Некоторые бутылки провизор сразу отодвигает в сторону и глухо говорит:
– Не буду. Яд.
Тогда петлюровцы хватают их за горлышко и бьют об стену. Бутылки разлетаются на куски. Ручьи лекарств текут с тротуара на мостовую. Запахло духами, туалетным мылом и больницей.
Бутылки с лекарствами, которые Дулемберг полизал языком, грабители погрузили в походную двуколку.
Нам было очень жалко стоящего на коленях посреди мостовой седого провизора, но помочь ему мы ничем не могли. Чувствуя, что навсегда покидают этот город, петлюровцы совсем озверели. Теперь им все равно. Стоит только выбежать из-за кустов на улицу, где гуляют их стреноженные кони, как сразу этот чубатый выпалит в нас из своего нагана.
Старый испуганный Дулемберг, точно в церкви, стоял на коленях перед разграбленной аптекой. Старик ждал, что ему еще прикажут, и боязливо морщился.
Из аптеки на улицу выскочил низенький петлюровец в синем жупане. Подбежав к Дулембергу, он протянул ему большую зеленую банку. Аптекарь отсыпал из этой банки горсть порошка шоколадного цвета и, лизнув его языком, глухо сказал:
– Лакрица. Сладкое.
Тогда все остальные петлюровцы обступили низенького синежупанника, а он насыпал каждому в ладонь по пригоршне этого коричневого порошка. Петлюровцы глотали лакрицу, точно сахарную пудру, и облизывались.
– А ну, катись. Наводи порядок! – вдруг со всего размаха ударил Дулемберга ногой в спину чубатый петлюровец и, сунув за пояс наган, побежал к двуколке.
Дулемберг полетел грудью на мостовую. Его седая борода попала в лужу разлитых лекарств. Он осторожно поднялся и, вытирая руки о белый халат, медленными шагами, словно в чужой, незнакомый дом, пошел в разоренную аптеку.
Мостовая сразу опустела. Только вдали неслась к центру города нагруженная аптекарскими бутылками двуколка и звенели копыта догоняющих ее коней.
За лесом ухнула пушка. Снаряд просвистел над нами и тяжело разорвался где-то около губернаторского дома.
Мы побежали дальше, к духовной семинарии, по совершенно пустой, безлюдной улице.
Тут было еще страшнее. Со всех сторон нас окружали молчаливые дома с закрытыми ставнями. Наверное, хозяева этих домов с утра засели в подвалах и боялись нос показать на улицу. Только одни собаки бегали по опустевшим дворам. Они лаяли и визжали, когда по небу, со свистом рассекая воздух, пролетали снаряды. Да и мы тогда, нечего греха таить, тоже ежились, приседали, и каждый думал про себя:
«Разорвись подальше! Ну, подальше! Только не здесь».
У духовной семинарии петлюровских часовых уже не видно.
Это серое здание пусто, как и епархиальное училище, в нем не слышно гула машин, которые печатали здесь деньги, не видно людей в окнах, а обе половинки железных ворот, ведущих в семинарский двор, раскрыты, словно только что туда проехала подвода.
…Чем ближе мы подходили к Заречью, тем громче и сильнее доносились стук колес, скрип телег, ржание коней. И когда открылась перед нами на скалах по ту сторону реки старинная черная крепость, мы увидели тучи пыли, клубящиеся над крепостным мостом.
Мост сплошь забит подводами и бричками убегающих петлюровцев. Со всех улиц города они устремились сюда, чтобы, проскочив через мост, выехать на ведущий к Збручу Усатовский шлях.
Около Турецкой лестницы, прямо на улице, валяется целый куль белой пшеничной муки. Странное дело – его никто не стережет, никто не подбирает.
Мы перебежали дощатую кладку и полезли по скалам на Старый бульвар. С высокой, обросшей мхом и дикими желтыми цветами скалы была хорошо видна вся эта улица Понятовского, запруженная войсками.
Квадратные серые конфедератки легионеров Пилсудского смешались с меховыми папахами чубатых петлюровцев. Легионеры обгоняют друг друга. Белая пена хлопьями слетает с морд вспотевших, испуганных лошадей.
На верхнем конце улицы Понятовского возвышаются серые стены доминиканского костела. Высокие черные двери его и калитка, ведущая на погост с улицы, плотно закрыты. На костельном погосте – пусто. Ни одного человека. Высеченные из серого камня католические святые стоят на крыше костела со скорбными лицами.
Помнится, ранней весной, когда вместе с петлюровцами в город пришли легионеры Пилсудского, весь вечер звенели над этим доминиканским костелом маленькие колокольчики и польский бискуп служил в честь какого-то высокого тощего генерала торжественный молебен.
Жалобно играл тогда под высокими сводами костела орган, легионеры важно звенели шпорами на паркетном полу, и местные пани в старинных ротондах, в черных с блестками пелеринках, в длинных с воланами шелковых платьях то и дело приподнимались с дубовых скамеек и вслед за бискупом торопливо крестили свои строгие, покрытые вуалями лбы.
Сейчас не видно ни бискупа в высокой, похожей на кокошник, тяжелой шапке, ни чопорных тетушек в траурных мантильях и с зонтиками в руках. Не слышно и колокольного звона над доминиканским костелом.
На тротуар под костельной стеной выбежал из строя низенький, одетый в серое легионер. На левой ноге у него размоталась обмотка и тянется за ним по дороге. Солдат останавливается, со злостью срывает обмотку с ноги, швыряет ее на костельный забор и пускается бежать дальше. Долго еще видно, как вдоль улицы по тротуару мелькает белый краешек его кальсон.
Он боится отстать и, должно быть, проклинает своего усатого маршала, пославшего его на Украину.
– А зачем они бумаги столько увозят? Вот чудаки, погляди, – сказал Куница.
По улице Понятовского к мосту спускается крестьянская телега, доверху забросанная синими и коричневыми папками с бумагой. Наверное, это дела какого-то петлюровского министерства. Вот одна из папок соскользнула с подводы и упала на мостовую. Белые листы рассыпались по камням. Их тут же смяли копытами лошади, запряженные в блестящий офицерский фаэтон.
– Побежали – подберем, а? – предложил Маремуха.
Трус, трус, а иногда лезет с такими советами, что смешно становится. Вот и сейчас.
Меня даже зло взяло.
– Куда ты, сазан, побежишь? – закричал я Петьке. – Да тебя сразу же отхлещут нагайками – ты же знаешь, какие они теперь злые! Как осы.
Маремуха обиженно отвернулся. В это время откуда ни возьмись к нам подбежал конопатый Сашка Бобырь.
– Здорово, хлопцы! – закричал он нам и потом спросил у Куницы: – Котьку не видел случайно?
– А вот еще один перебежчик! – зло сказал Куница прямо в лицо Бобырю. – Ну, где твои разлюбезные скауты? Чего же ты с их кошевыми за границу не бежишь?
– Да я что… Вы думаете, я на самом деле за Петлюру, хлопцы?.. Жить нам было не с чего, а там завтраки даром давали, ну я и записался… – жалобным голосом протянул Бобырь.
– Записался, чтобы, когда подвырастешь, офицером ихним стать? Бедноту убивать, да? А вот мы же не записались! – донимал его Куница.
– Ну, вы… – Сашка замялся, – вам родные помогли это понять. Вот у Василя отец давно с коммунистами дружит, а у тебя, Юзик, дядя в Киеве – сознательный моряк. Письма писал, кому помогать надо. А меня мама сама подговорила, чтобы я из-за той каши пошел…
Видно, тронутый чистосердечным признанием Сашки, Куница спросил мягче:
– Вы вчера ночью пришли?
– Ага, ночью. Только собрались – приехал гонец и привез приказ возвращаться в город. Около кладбища нас ливень захватил, все промокли, гром, молния, лужи кругом – никто ничего не видит. Тогда Гржибовский закричал: «Разойдись!» – и мы побежали кто куда. А я, видишь, простудился, даже насморк схватил! – шмыгая носом, рассказывал Сашка Бобырь.
– Выходит, плохой поход получился? – с ехидством заметил Маремуха.
– И не говори. Знал бы раньше – не пошел бы. Гляди, опять кавалерия… И с флажками все…
Да, Сашка не ошибся. Это едет новый отряд польских уланов. На пиках у них болтаются маленькие бело-красные флажки с белыми коронованными орлами. Всадники сидят в кожаных седлах как-то неуверенно, словно под ними чужие лошади. Уланы пришпоривают лошадей, хлещут их нагайками. Неожиданно над круглой Папской башней рвется шрапнель. Мы видим ее дымок – белый, распустившийся над встревоженным городом, словно маленькое круглое облачко.
Хриплые крики и брань раздаются у моста. Стегая длинной нагайкой свою гнедую лошадь, какой-то улан нечаянно рассек желто-голубое полотнище на древке у едущего рядом петлюровца.
– Куда ты прешь, нечистая сила?! – обозленно закричал на улана чубатый петлюровец.
Около нас послышалось: «Бегом! Бегом!»
– Бежим на Заречье! – толкнул я Маремуху и Куницу.
И мы, оставив Бобыря, удираем со Старого бульвара.
– В Старую усадьбу!.. Спрячемся в погребе… Оттуда все видно будет… – едва поспевая за нами, задыхаясь, пробубнил Маремуха.
Миновав Успенскую церковь, по узенькому Крутому переулку мы повернули к Петькиному дому. Через кусты и бурьяны бросились к Старой усадьбе. А снаряды над городом рвались все чаще. Они падали уже на Усатовском шляхе, пересекая дорогу отступающим петлюровцам.
Неожиданно за флигелем сапожника Маремухи мы натолкнулись на моего отца. С ним еще какой-то парень в соломенном капелюхе. Вот так штука! Как отец попал сюда?
Вдвоем с парнем отец вытащил из бурьяна совсем новенький, смазанный маслом пулемет и, согнувшись, потащил его за хобот на дорожку. Парень в крестьянской одежде помогал отцу, приподнимая пулемет за надульник.
Мы даже спрятаться не успели от неожиданности. Отец заметил нас и сердито закричал:
– Убирайтесь отсюда, шалопуты!
А в это время из-за кустов послышался знакомый голос Омелюстого:
– Мирон, дай-ка Прокопу ленты с патронами.
Отец, позабыв про нас, побежал в бурьян. За патронами от Ивана прибежал Прокоп Декалюк. Я видел его однажды в Нагорянах и хорошо запомнил. За ним следом выскочил дядька Авксентий в своей коричневой коротайке. Ого, да сколько их тут?!
– А это что за гоп-компания? – кивнул в нашу сторону низенький смуглый, похожий на цыгана Прокоп Декалюк.
Отец подал ему две зеленые плоские коробки с пулеметными лентами и, шагнув на тропинку, совсем разозлившись, закричал:
– Марш домой, кому я говорю?!
Как бы не так! Чего мы не видели дома?
Заметив, что отец обернулся к Авксентию, мы все мигом бросились в открытый погреб и залегли там, у самого входа, на заплесневелых каменных ступеньках. Отсюда нам чудесно видна и крепость на высокой скале, и крепостной мост, запруженный уланами и петлюровцами.
Отец вынес из бурьяна полное ведро воды и протянул его Авксентию. Дядька схватил ведро и пустился в кусты к Омелюстому, куда парень в соломенном капелюхе уже тащил пулемет. Немного погодя за Авксентием в кусты побежал отец.
А на крепостном мосту петлюровцы. Их кони встают на дыбы, наезжают друг на друга. Даже здесь слышно, как скрипит и трясется деревянный настил крепостного моста.
«Ага, запрыгали, гады чубатые. Так вам и надо. Будете знать, как людей расстреливать!» – чуть не закричал я от радости.
И в эту же минуту за кустами послышалась частая скороговорка пулемета. От дрожащих и гулких пулеметных выстрелов сразу заложило уши.
Вот так здорово! Они стреляют отсюда, из Старой усадьбы, прямо в упор по крепостному мосту, по удирающим в Польшу петлюровцам, по их хозяевам – легионерам Пилсудского.
Эх, и вовремя пришли сюда с нагорянскими партизанами мой отец и Омелюстый!
Какой-то раненый петлюровец полетел через перила крепостного моста вниз, в реку. Казалось, вот-вот рухнут в водопад эти шаткие перила: ведь сзади напирали последние части петлюровцев; они давили своих же – узкий деревянный настил не мог вместить всех въезжающих на него, а тут еще сбоку, из Старой усадьбы, все время стрекотал пулемет, и из его куцего, вздрагивающего дула вместе с огнем вырывался туда, на мост, целый град метких горячих пуль.
Лежа животами на холодных, сырых камнях, мы ерзали от волнения. Как мы завидовали старшим! Как мне хотелось быть на месте Омелюстого! Если бы я умел стрелять из пулемета, я обязательно лежал бы с ними там, за кустами.
Так и подмывало выскочить из погреба, закричать «ура», подбежать к пулемету и хоть поглядеть, как он стреляет!
Но громкий звук пулеметных выстрелов, заглушая и шум ветра, и далекие разрывы снарядов, и шепот Петьки Маремухи, все же пугал нас.
Мы оставались в погребе до тех пор, пока по крепостному мосту, горбясь, не пробежали отставшие петлюровцы. Перепрыгивая через трупы людей и лошадей и теряя на ходу карабины и кудлатые папахи, петлюровцы, не глядя на раненых, позабыв обо всем, бежали к окопам, чтобы там, за узеньким мелководным Збручем, укрыться от быстрых конников Котовского.
НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ
Не успела еще затихнуть орудийная канонада, как на крепостной мост ворвалась разведка красных. Вздымая пыль, пролетели разведчики мимо крепости, и долго было слышно, как цокали под скалой, по ту сторону реки, звонкие копыта их быстрых коней.
Немного погодя, вслед за разведчиками, с выдернутыми из ножен клинками, на рысях подъехал к мосту большой кавалерийский отряд.
Всадники в буденовках, в каракулевых кубанках заполнили весь мост. Мы видели из Старой усадьбы ровный, необычайно спокойный бег их усталых коней. Пятерками всадники проезжали по мосту: казалось, им конца-краю не будет.
Вперемежку с красными знаменами блестели над головами у седоков поднятые вверх сабли.
Изредка в конном строю громыхали зеленые пулеметные тачанки.
Вырвавшись с узкого моста на просторный Усатовский шлях, кони, почуяв волю, несли всадников вперед. Отряд за отрядом мчались вдогонку за Петлюрой. Конники, видно, хотели настигнуть его еще у границы, наступить ему на пятки, дать петлюровцам отведать своих отточенных клинков.
Вслед за конницей от вокзала и со стороны Калиновского тракта в город вступили пехота, артиллерия и обозы красных.
Мы побежали в город.
Уже за церковным сквером навстречу стали попадаться запыленные тачанки красных. Тачанок было много. На них, задрав кверху тупорылые дула, подпрыгивали износившиеся, пятнистые от облезшей краски боевые пулеметы. Красноармейцы в выцветших, полинялых гимнастерках, поглядывая с тачанок по сторонам, пели:
Вечор поздно я стояла у ворот, Вдруг по улице советский полк идет…По Успенскому спуску, грохоча и подскакивая на выбоинах, потянулись орудия и походные кухни с задымленными трубами.
Город постепенно начинает оживать. На улицах появляются жители, с каждой минутой их все больше и больше становится на городских тротуарах. Уже многие горожане идут рядом с красноармейскими тачанками, заговаривают с бойцами, стараясь перекричать грохот и шум.
Усталые улыбающиеся красноармейцы с любопытством рассматривают крутые, изогнутые улицы, огороженные каменными барьерами обрывы, старинные шляхетские дома с узенькими, как бойницы, окнами, нашу крепость на высокой скале с ее зубчатыми сторожевыми башнями.
Вечерело. Отца не было. Он наскоро поел холодного борща и, не поговорив даже как следует с теткой, убежал вслед за Омелюстым на Губернаторскую площадь.
Военно-революционный комитет там собирал митинг.
А я, сидя на топчане, рассказывал тетке, как мы гостили в Нагорянах.
Неожиданно открылась дверь, и к нам в кухню вошел низенький белобрысый красноармеец. Он громко поздоровался и спросил:
– Нельзя ли будет разместиться у вас, хозяюшка?
– Ой, голубчик, да у нас только две комнатки и вот еще кухня… – испуганно сказала тетка, отходя от плиты на свет.
– Вот горе-то! – вздохнул красноармеец. – А я было нацелился начальника нашего к вам поставить…
– А начальник ваш семейный или холостой? – осторожно спросила тетка.
– Что вы, мамаша, – сразу обрадовался красноармеец, – откуда ж ему семейным быть, когда у нас семьи дома остались? Холостой, конечно, холостой!
Немного помедлив, тетка согласилась уступить этому неизвестному начальнику свою комнатушку с единственным выходящим в сад окном.
И на следующий день в тетушкиной комнатке поселился красный командир Нестор Варнаевич Полевой – очень высокий, широколицый, с выпущенной из-под козырька зеленой буденовки прядью волос. Он – начальник конной разведки того самого пятьсот тридцать шестого полка, который вместе с конницей Котовского выгнал из города улан и петлюровцев.
На походной двуколке ему привезли складную железную кровать с проволочной сеткой и полосатый матрац. Полевой сам втащил эту кровать в тетушкину комнату, положил на нее матрац, а Марья Афанасьевна застелила его чистой простыней.
Кровать Полевой покрыл своим ворсистым серым одеялом. Нагнув широкую спину, он ловко запрятал лишние края одеяла между матрацем и проволочной сеткой. В этот же день к нам пришел телефонист и установил на этажерке желтый полевой телефон. Он протянул через форточку в сад, а там по веткам деревьев, потом на улицу и по столбам до самого епархиального училища, где разместился полк нашего квартиранта, черный блестящий провод.
Вечером Полевой уже заговорил по телефону, и нам в спальне было слышно, как, повертев ручку аппарата, он гулко спросил:
– Штаб полка? Дайте начальника штаба.
В крольчатнике нашем тоже перемены. Клетку с ангорской крольчихой вынесли под забор к Гржибовским. У них тихо, даже Куцый весь день сидит на привязи и не так лает, а колбасник Гржибовский ходит по своему двору хмурый, злой – видно, он жалеет своего Марко, который удрал с петлюровцами.
Клетку с крольчихой мы поставили под забор Гржибовского вот почему: у Полевого есть конь Резвый, коричневый, гладкий, с белой лысиной на лбу. Ординарец Полевого, красноармеец Кожухарь, поставил Резвого к нам в крольчатник, а с ним заодно и свою кобылу Психею. Кожухарь поселился по соседству, у Лебединцевой, а там держать лошадь негде.
…Отец по целым дням не бывает дома. С первых же дней после прихода красных он печатает в типографии на плотной синей бумаге газету «Красная граница». После работы нередко дежурит в ревкоме или ходит по ночам с винтовкой по городу.
Прошло две недели.
Давно уже осыпался каштановый цвет на деревьях около заколоченной на лето гимназии. Отцвели уже липы возле Успенской церкви. Распустились цветки белой акации в аллеях Нового бульвара, а на огородах зацвел картофель. Это значит, что скоро тетушка на обед для нас будет готовить обсыпанную укропом и политую сметаной вареную молодую картошку. Все больше твердеют, наливаются соком маленькие плоды на широких ветвях старой, дуплистой груши. Неслышно проходит лето, и шаг его отмечается появлением на базаре первых ранних яблок, красной смородины, запоздалых, изъеденных птицами темно-малиновых вишен.
Мне кажется, что большевики уже давно в городе, что красный флаг на куполе епархиального училища висит с зимы, а Нестор Варнаевич живет у нас и того раньше.
Оказывается, Нестор Полевой давно в наших краях за Советскую власть борется!
Кожухарь рассказал нам мимоходом, что еще в ноябре 1918 года, когда большая часть Украины находилась под властью петлюровской директории, Полевой вместе с такими же, как он, сторонниками Ленина провозгласили недалеко от нас, в уездном городе Летичеве, под руководством большевика Луки Панасюка, Летичевскую советскую республику.
Правда, просуществовала она недолго.
Уже на второй день рождества того же года на Летичев внезапно налетела банда атамана Волынца. Пришлось вожакам первой советской республики на Подолии перейти в подполье, ну, а Нестор Полевой пробрался через линию фронта к красным.
Я крепко привязался к ординарцу Полевого – Кожухарю. Хоть живет он не в нашем доме, но у нас бывает чаще Полевого. Того все время вызывают по телефону в полк. Не раз, услышав среди ночи телефонный звонок, Полевой вскакивает с постели и затем, переговорив по телефону, надолго уезжает из дому. В окрестных лесах пошаливают бандиты, и конная разведка часто гоняется за ними по незнакомым оврагам, по широким лесным просекам.
У Кожухаря дела меньше. Полевой редко берет его с собой на операции. Кожухарь в свободное время отсиживается у нас, чистит крольчатник, ухаживает за своей Психеей и помогает по хозяйству Марье Афанасьевне.
Иногда тетка стирает им обоим – Полевому и Кожухарю – белье. Тогда Кожухарь вместе с ней возится у плиты, носит воду, ловко выкручивает мокрые рубашки и полотенца, а потом, отдыхая на топчане, рассказывает тетке всякие небылицы.
Ее Кожухарь называет только по отчеству – Афанасьевна. Меня он сразу прозвал Махамузом.
– Почему Махамуз? – спросил я, не понимая, что значит это слово.
– А вот так, – загадочно улыбнулся Кожухарь, – такие Махамузы бывают.
– Какие такие?
– А вот такие… именно.
Так и пошло – Махамуз: «Если меня будут спрашивать, Махамуз, скажи: пошел на базар, скоро вернусь», «Кусай семечки, Махамуз!», «Лошадь не хочешь выкупать, Махамуз?»
Я не обижаюсь. Пускай буду Махамуз, все равно. Больше всего, конечно, мне нравится купать лошадей. Иной раз мы едем на купанье вместе: я на Резвом, Кожухарь на Психее.
Едем вниз по Крутому переулку. Чем ближе к речке, тем круче и извилистей становится спуск, лошади осторожно ступают вниз, и тогда я ощущаю под собой не лошадиную спину, а какую-то странную пустоту. По неволе хватаешься обеими руками за шелковистую гриву Резвого.
А Кожухарь – хоть бы что! Сидит, прищурив глаза, на грустной Психее, не шелохнется даже и только изредка в такт движению лошади покачивает головой. Бронзовый, прокопченный солнцем, с вечно прищуренными улыбающимися глазами, он кажется мне необычайно веселым, разбитным, а главное – смелым парнем.
На поворотах, когда лошади боками сталкиваются одна с другой, мне приятно ощущать коленом или щиколоткой ногу Кожухаря.
Хорошо голому сидеть верхом на лошади и, натянув поводья, посылать ее вперед в воду. Сперва нехотя, пофыркивая, а затем все смелее и смелее ступает она в реку, вытянув морду, поводя ушами и нащупывая дно. А когда дно становится глубже и вода заливает лошадиный круп, лошадь сжимается, вздрагивает и, оторвавшись от дна, легко пускается вплавь. Сидишь на мокрой ее спине, ноги сносит назад вода, хвост лошадиный стелется позади, сидишь и, только легонько дергая поводьями, направляешь лошадь, куда тебе надо. А потом, когда она устанет, выводишь ее на мелкое. Мокрая, лоснящаяся лошадь фыркает, припадает мордой к быстрой воде, а ты, взобравшись на ее скользкий круп, вытянув ноги и изогнувшись, прыгаешь в воду – туда, где глубоко.
Лошади, стоя в реке, обмахиваются хвостами, кусаются, весело ржут, а мы с Кожухарем уплываем на тот берег.
Теперь я реже встречаюсь с хлопцами. Куница не был у меня уже целую неделю. Петька Маремуха, которого я встретил недавно около Успенской церкви, сказал, что Юзик собирается в Киев к своему дядьке – он хочет поступить в морскую школу.
Как-то утром Маремуха прибежал к нам в хату и с таинственным видом позвал меня. Мы пошли на огород, где уже наливались соком круглые тетушкины помидоры, и Петька тихо сказал мне:
– Знаешь, кто у нас поселился? Угадай!
Я долго угадывал, называя фамилии всех знакомых военных, которые приходили к Полевому и Кожухарю, и мне даже стало досадно, что теперь и Петька будет купать лошадей, но догадаться, кто их квартирант, я не мог. Тогда Маремуха сам выпалил:
– Знаешь кто? Доктор Григоренко! Никогда бы не догадался, правда?
– Ну да! Бреши! Очень нужно доктору с вами жить, когда у него такой большой дом на Житомирской.
– Тот дом уже не его! – объяснил Петька.
– А чей же?
– Я знаю чей! Дом у него реквизировали большевики. Кто в нем жить будет – неизвестно. А доктор с нами живет. Он вчера приехал к нам и привез папе два мешка белой муки. Знаешь, куличи пекут из такой? И денег не взял. Попросил только, чтобы папа пустил его в хату. Мы потеснились и пустили. Он обещал за это больше с нас денег за аренду не брать. А вещей понавозил полно! Всю ночь перевозил вещи, а папа ему помогал. И еще знаешь… – замялся Маремуха, – он подарил маме платяной шкаф. «Все равно, говорит, мне он ни к чему, а вам пригодится…»
– Куда же он все вещи девал?
– А на чердак. Мы боимся даже: вдруг потолок обвалится? И в погребе еще есть…
– И твой папа ему помогал?
– Ну… он его попросил. Папа сперва не хотел, а потом…
– «Попросил, попросил»!.. – передразнил я Петьку. – Твой папа и ты вместе с ним – подлизы. Когда твоего папу побили петлюровцы, ты что говорил про доктора? А сейчас он вам подарил шкаф да муку – вот вы и раскисли.
– Ничего подобного… – вспыхнул Маремуха. – Мой папа добрый, ну и что, раз человек его попросил. Дом-то не наш, а Григоренко.
– И Котька живет у вас? – спросил я.
– Нет, Котька уехал в Кременчуг, – помолчав, ответил Маремуха. – Там его мамы сестра живет.
– А, не говори, куда там уехал… Спрятался, наверное, где-нибудь здесь, а ты сказать не хочешь, чтобы я его не отыскал. Жалеешь своего паныча. Помнишь, как бумагу ему таскал?
– Таскал, ну и что же? А сейчас не стану… Пойдем к Кунице?
К Юзику я не пошел. Зато вечером, когда уже смеркалось, я отправился в Старую усадьбу.
Надо проверить, правду ли рассказал Петька. По крутым склонам Старой усадьбы стелется в зарослях можжевельника и волчьих ягод чуть заметная тропка. Я прошел по ней до самых кустов жасмина и неслышно раздвинул их. В трех шагах от меня белеет Маремухин флигель. В комнатах уже зажгли свет, но кто в них есть – не видно, потому что окна затянуты темными занавесками. Напротив флигеля, заваленная свежим сеном, стоит докторская пролетка. Передние ее колеса въехали на заросшую бурьяном клумбу. За флигелем заржала лошадь. В сенцах флигеля стукнула щеколда, и на пороге появился в белой рубахе сам доктор Григоренко. Он подошел к пролетке, взял оттуда охапку сена и понес ее за флигель – своей лошади.
«Значит, Петька не соврал! Что же теперь делать? Надо рассказать Кунице, какой сосед появился у нас в Старой усадьбе», – подумал я и побежал к Юзику. По дороге, возле забора Лебединцевой, я увидел Омелюстого. Курчавый, в светлой рубахе с распахнутым воротом, он нес под мышкой пачку бумаг.
– Ты куда, Василь? – остановил меня Омелюстый.
– А я к Кунице.
– Вот и хорошо. Вы мне как раз оба нужны. Тащи его сюда, сходим сейчас вместе в крепость. Я подожду вас на крылечке.
– Да ведь поздно сейчас, дядя Иван, сторож не откроет.
– Ничего, откроет, – успокоил меня Омелюстый. – Не задерживайтесь, гляди! Я вас давно ищу…
Делать нечего. Я побежал за Куницей и с ним вместе возвратился к Ивану Омелюстому. Сосед уже поджидал нас, сидя на лесенке. В руках у него было полотенце.
– На обратном пути выкупаюсь, – объяснил он. – Нет времени даже в баню сходить, хоть в речке помоюсь.
– Комары покусают. Вечером на речке комаров много, – сказал Куница.
– Меня комары не любят. Я костлявый! – за смеялся сосед.
Но чем ближе мы подходили к Старой крепости, тем молчаливее становился Омелюстый. На мосту он сложил вчетверо полотенце и спрятал его в карман. Подойдя с нами к сторожке, он смело постучал в крайний ставень.
Сторож вышел из сторожки и, выставив вперед свою сучковатую палку, хмуро поглядел на нас.
– Открой-ка ворота! – сурово приказал Омелюстый.
Сторож убрал палку и попятился.
– А вы кто такие будете? – боязливо и глухо спросил он.
– Я из ревкома. Мальчиков этих помнишь? – показал на меня с Куницей Омелюстый.
– Дядя, помните, мы сюда цветы носили тому человеку… – напомнил Куница.
– Ага, ага, – закивал старик головой, – теперь признал! – Хромая, он подошел к нам. – Только я, товарищ начальник, ни в чем не виноватый, верное мое слово. Они мне его одежду дали, я до нее и не дотронулся. Она в башне так и осталась, – пробормотал сторож.
– Да чего ты суетишься, старый? Никто тебя не винит, – тихо ответил наш сосед. – Могила-то цела? Не разорили ее эти бандиты?
– Цела, цела, батюшка, – забормотал сторож, открывая ворота, – только я ее бурьяном забросал, а то, думаю, кто ж его знает: увидит какой петлюровец ту плиту – что тогда?
Сторож сказал правду.
Еще издали, обогнув Папскую башню, мы заметили у подножия бастиона темную кучу бурьяна. Мы с Куницей первые бросились к ней и быстро очистили могилу от кустиков колючего перекати-поля, не просохшей еще лебеды, мелкого подорожника и полыни. На желтом суглинке, посреди увядшей травы, сразу обнажилась та самая квадратная плита, которую мы притащили сюда вместе с Петькой Маремухой.
Веточки жасмина уже засохли. Сторож начисто их смел.
– Здесь и закопали! – сказал Куница.
Опустив голову, Омелюстый печально смотрел на могильную плиту. Постояв так молча несколько минут, он внезапно выпрямился и тихо, сквозь зубы, сказал:
– Какого человека загубили… панские наймиты… Сколько добра он мог бы еще принести Украине!
Потом он круто повернулся к сторожу и приказал ему:
– Ты, старик, присмотришь еще немного за могилой. Мы тут памятник поставим.
Сторож молча кивнул головой.
– А вы из какой башни смотрели? – повернулся к нам Омелюстый.
– А вот из той крайней, высокой… Видите окно большое? – показал я на Папскую башню.
– Оттуда? – удивился Омелюстый. – И как только вас не заметили, прямо удивительно… Ну, ваше счастье, ребята.
– Да я уж и то, товарищ начальник, думал, как они туда забрались… Какая нечистая сила их туда понесла?
– Ладно, ладно, будет тебе, нечистая сила… – криво улыбнувшись, сказал сосед. – Пойдемте-ка домой, хлопцы, старику спать пора.
По дороге из крепости к мосту, у самого подземного хода, мы встретили часового. С винтовкой наперевес он медленно прохаживался вдоль крепостной стены.
– Что он – мост охраняет? – тихо спросил Куница у Омелюстого, когда мы прошли мимо.
– От бандитов! – ответил Омелюстый. – Ты вот спать уляжешься, а он всю ночь будет ходить здесь, чтобы в город бандиты не заскочили. Понятно?
– Понятно! – откликнулся Куница.
– А если понятно, то бегите, басурманы, домой. Вам спать пора, – сказал он и, заметив, что нам не очень-то хочется покидать его, добавил: – Ну ничего, ничего, ступайте. Завтра сами выкупаетесь.
– Пойдем, Юзька! – с обидой в голосе позвал я Куницу.
Раз он не хочет, чтобы мы вместе с ним купались, не надо. Мне обидно, что Омелюстый считает нас маленькими. «Спать пора»! Тоже выдумал!.. Куница, оглядываясь, пошел за мной по пятам. Белая рубашка соседа смутно маячила возле самого берега. Видно, он уже стал раздеваться.
Через неделю в Старую крепость из города с красными знаменами, с венками, обвитыми траурными лентами, пришли военные и рабочие – члены местных профсоюзов: печатники, коммунальники, железнодорожники.
Смеркалось. Погода стояла пасмурная, осенняя. Совсем непохоже было, что на дворе июль. Тучи, мрачные, черные, плыли по небу на запад. Холодный ветер рвал тугие полотнища знамен, поднимая с земли пыль, сухую траву.
Мы с Куницей вошли в Старую крепость последними, позади колонны.
Нашей могильной плиты уже не было. У подножия зеленого бастиона, над могилой Сергушина, подымался гладкий простой памятник из серого мрамора. Посредине памятника не очень четкими буквами была выбита надпись:
Борцу за Советскую Украину.
первому председателю
Военно-революционного трибунала
ТИМОФЕЮ СЕРГУШИНУ,
погибшему
от руки петлюровских бандитов
Памятник обнесен железной свежевыкрашенной решеткой. Около нее, нахмурившись, без фуражки, стоит курчавый Омелюстый. Он держит под руку молодую невысокую девушку в синей косыночке. Девушка плачет. Пряди ее темных каштановых волос выбились из-под косынки и падают на мокрые от слез глаза. Кто она? Сестра, знакомая или чужая, вспоминающая свое собственное горе? А может, это та самая девушка, с которой познакомился Сергушин, когда по ночам, разыскивая друзей, смело бродил по занятому врагами городу?
Среди военных, рядом с нашим квартирантом Полевым, сняв засаленную кепку, стоит мой отец. Около башни рабочие – типографщики, мукомолы с мельницы Орловского, рабочие электростанции. Среди служащих городской больницы я узнал провизора Дулемберга; он облокотился на палку, седой, сухопарый.
На бастион взобрался командир пятьсот тридцать шестого полка. Коренастый, в светло-зеленом казакине, он несколько минут молча стоял, держа в руках форменную фуражку с вогнутым козырьком. Потом стал говорить. Над притихшей толпой очень ясно прозвучали его первые отрывистые, жесткие слова.
Командир говорил, что донецкий шахтер Сергушин погиб за дело Советской власти от руки петлюровцев. Он рассказывал, как еще при гетмане Скоропадском Сергушин из подполья вел борьбу с оккупантами Украины, собирая вокруг себя и воспитывая самых лучших людей нашего города. Командир вспоминал о жертвах, принесенных рабочим классом ради счастливого будущего трудящихся. Он призывал всех отомстить за смерть Сергушина.
Порывистый северный ветер то и дело подхватывал речь командира и то заглушал отдельные слова и фразы, то, наоборот, проносил их по всему двору, над седыми обомшелыми башнями.
Мы с Куницей краем уха улавливали обрывки горячей командирской речи, и все яснее в нашей памяти всплывало то недавнее солнечное утро, когда здесь, под этим вот бастионом, враги Украины расстреливали Сергушина.
Я вспоминал, как пришел он к нам тогда, зимой, в своей стеганой солдатской кацавейке, в пушистом заячьем треухе – поздний и нежданный ночной гость. Казалось, это было вчера.
И сундук, на котором он лежал в ту ночь, стоит все там же, у окна. Еще цела керосиновая лампа, при неясном, мигающем свете которой он показывал мне на стене такие потешные фигурки.
Вот, как сейчас вижу, подходит к своей постели тетка. Тихо шаркая войлочными туфлями, она несет нашему гостю большую кружку горячего чая, настоянного на сушеной малине. Сергушин благодарит тетку и, высунув из-под вороха одежды худую, тонкую руку, берет чашку.
Рука дрожит – вот-вот горячий чай расплещется прямо на одеяло. Наблюдая за гостем со своей постели, я про себя ругаю тетку – не могла подвинуть к сундуку стул, что ли? Но все обходится благополучно. Отпив несколько глотков, Сергушин осторожно ставит чашку на подоконник, за кружевную занавеску. Кружка дымится на подоконнике, точно непогашенная папироса.
Заметив, что я слежу за ним, Сергушин вдруг ни с того ни с сего хитро подмигивает мне. А потом на стене появляются забавные тени. Они то подпрыгивают к самому потолку, то становятся маленькими-маленькими – точно мыши. Никогда я не забуду взгляда Сергушина – простого, веселого, чуть хитроватого…
Речи окончены. К памятнику осторожно кладут принесенные венки. Они сплошь покрыли посыпанный желтым песочком могильный бугорок. Несколько венков какая-то пожилая женщина повесила на железную ограду. Черно-красные траурные ленты развеваются на ветру.
Толпа, плотно окружавшая могилу, редеет, расступается, и теперь, украшенная венками, она становится видна отовсюду, даже от подножия Папской башни. Красноармейцы подняли винтовки. Щелкнули затворы. Кто-то из командиров подал команду. Огненные пучки пламени взлетели вверх, к сумрачному, туманному небу, гулкое эхо прокатилось по крепости и вмиг унеслось налетевшим ветром далеко-далеко, на Заречье.
От ружейных залпов и от грустной, торжественной песни «Вы жертвою пали в борьбе роковой» стало еще печальнее – так, будто на землю выпал сырой, до костей пронизывающий осенний дождь.
МЕНЯ ВЫЗЫВАЮТ В ЧЕКА
Прошла неделя после открытия памятника Сергушину.
Однажды спозаранку Марья Афанасьевна разбудила меня.
– Вставай, к тебе Петька пришел!
Какая нелегкая принесла Петьку в такое время? В окна брызжет раннее солнце, оно выглядывает из-за крыши крольчатника.
Постель отца гладко застлана, на столе стоит недопитая чашка чаю. Видно, отец недавно ушел из дому.
Сонный, неумытый, я выбегаю во двор. Петька ожидает меня у калитки. У него какой-то странный, встревоженный вид.
– Ну, чего надо? Ты бы еще ночью прилез!
– Василь, знаешь, доктора арестовали! И Григоренчиху тоже! – выпалил в ответ Маремуха.
– Когда?
– Да сегодня! Вот только-только, на рассвете. А знаешь как? Доктор услышал, что к нам стучат, прибежал к папе в одних кальсонах и давай его будить. «Спрячь меня, ради бога, спрячь!» А потом, когда увидел, что папа отворять пошел, в погреб запрятался. Не в тот, что во дворе, а в наш маленький, который под кухней. Мама там с вечера на лесенке поставила кислое молоко, так он в темноте все крынки поколотил. А те с винтовками вошли, зажгли лампу, полезли за ним в погреб. Он упирался, не хотел сам вылезать. Его вытащили, будто кабана. До чего он грязный был! Кальсоны в глине, руки в простокваше, даже ухо выпачкал.
– Вещи взяли?
– Ничего! Горничная ихняя куда-то убежала, – наверное, боится, что и ее арестуют. А вещи у нас остались – все чисто: и ковры, и шкафы, и кровати – все у нас. И коняка. Я ее теперь поить буду.
– И все это ваше будет, да?
– Наше, – Петька помедлил. – Нет, заберут, наверное, в клуб, что на Житомирской. Туда же все реквизированное свозят – диваны, зеркала. Там театр показывать будут и туманные картины, и все даром… А знаешь, Васька, – вдруг спохватился Маремуха, – это, наверное, мой папа все рассказал про доктора! Вчера утром к нам пришел Омелюстый. Он в дом не заходил, а попросил, чтобы я тихонько вызвал ему папу. Я вызвал, и они долго в кустах над скалой сидели, потом папа с Омелюстым куда-то пошел. А вернулся и уж больше с доктором не говорил. Вот я и думаю: папа, наверное, рассказал про него в суде, правда?
– Ребята, а где здесь Манджура живет? – послышалось в эту минуту рядом.
Я даже отпрыгнул в сторону. Около калитки стоял красноармеец – молодой веснушчатый парень. Он был подпоясан солдатским ремнем с двуглавым орлом на медной пряжке. Под мышкой у красноармейца была зажата тетрадка, а в руках он держал тоненький синий конверт.
– Папы дома нет! Он в типографии.
– В типографии? А кто же пакет примет?
– Я сейчас позову тетю. Подождите.
– Погоди! – скоро окликнул меня красноармеец. – «Тетю, тетю»! А сам-то ты грамотный?
Я утвердительно кивнул головой.
– Сын его?
– Да.
– Ну, вот видишь, – улыбнулся красноармеец. – Распишись, только поаккуратней, – приказал он, подавая мне раскрытую книжку. – Ищи-ка тут Василия Манджуру, а рядом крестик. Возле крестика и распишись.
– Василия? Да ведь папу зовут Мирон! – ответил я.
– Мирон?.. Мирон?.. – озабоченно протянул красноармеец, но тотчас же, тряхнув головой, решил: – Ничего, какая разница: Мирон, Василий? Это наш писарь опять напутал. Расписывайся.
Прижав к колену книжку, я написал свою фамилию. У меня дрожала рука. Второе «а» я написал косо и залез на соседнюю клетку. Красноармеец взял обратно разносную книгу, отдал мне конверт и пошел прочь.
Петька Маремуха сразу потребовал:
– А ну, покажи!
Усевшись на крылечке, мы стали разглядывать этот тоненький конверт, в который была вложена какая-то бумажка. Она прощупывалась пальцами.
На конверте крупными буквами было написано:
«Здесь, Заречье, Крутой переулок, дом 3, Василию Мироновичу Манджуре».
– Васька, ведь это тебе письмо! Открой, – сказал Маремуха.
Петька прав! Меня зовут Василий, а по отчеству Миронович. Но ведь я ни от кого никогда не получал еще писем. Кто бы это мог писать мне?
– Нет, это, наверное, ошибка, – медленно ответил я Петьке. – Я покажу папе, пускай он разберется.
– Вот чудак! Боягуз! – еще больше засуетился Петька. – Ну, разорви конверт, что тебе стоит?
Теперь мне уже просто хотелось подразнить Петьку.
– Тебе какое дело? Мое письмо: хочу – открою, хочу – нет.
Петька обиделся.
– Я давно знаю, что ты не товарищ! – тихо протянул он.
– Я не товарищ? Да? Ну, тогда убирайся! Ищи своего Котьку! Уезжай к нему в Кременчуг! – набросился я на Маремуху.
Петька, вконец обиженный, встал, зашмыгал носом и, не сказав ни слова, поплелся к калитке.
Мне стало совестно: я ни за что ни про что обидел его. Он хороший хлопец, что ни говори! Догнать разве? Да ну, не стоит. Все равно до вечера забудется.
Но что же в конверте?
Я осторожно разорвал конверт и достал сложенную вдвое беленькую бумажку. Когда я читал ее, буквы, напечатанные на машинке, прыгали у меня перед глазами:
Гр. В.М.Манджура!
Уездная Чрезвычайная комиссия вызывает Вас на 5 августа к 10 часам утра к следователю т. Кудревич (Семинарская улица, № 2, комната 12, 2-й этаж). За неявку ответите по закону.
Комендант ЧК ОстапенкоПисьмо прислано из того большого двухэтажного дома на Семинарской улице, в котором помещается Чрезвычайная комиссия. Окна нижнего этажа в этом доме затянуты решетками. В палисаднике растут высокие серебристые тополя, и тень от них по утрам падает на Семинарскую улицу. Круглые сутки вокруг этого здания ходят часовые в буденовках. Я знаю, что за железными решетками сидят, дожидаясь суда, два петлюровских министра, графиня Рогаль-Пионтковская, владелец водяной мельницы Овшия Орловский и много петлюровских офицеров. Когда ушел Петлюра, эти офицеры остались здесь, в нашем уезде, и поступили на службу украинскими попами в автокефальную церковь. Они поддерживали связь с теми бандитами, которые грабят людей на одиннадцатой версте за городом.
Но зачем я нужен Чрезвычайной комиссии? Может, хотят принять меня в юные разведчики, чтобы я помогал ловить петлюровцев по селам? А в самом деле? Приду я завтра туда, дадут мне коня и кожаное седло, дадут две бомбы, винтовку и скажут: «Поезжай!» Что, не поеду? Конечно, поеду! Не смогу разве ловить этих петлюровских офицеров? Еще как смогу! Ведь в отряде Чека есть хлопец чуть-чуть постарше меня. Он часто пролетает галопом по улицам и даже на мосту, где нельзя ездить быстро, несется как сумасшедший. Этот хлопец носит черную каракулевую кубанку с красным верхом и кожаную куртку, перепоясанную портупеями. Ему выдали маузер в деревянной кобуре, и он, пуская лошадь рысью, всегда поддерживает его рукой. Куница мне говорил, что всю семью этого мальчика порубали в Проскурове бандиты из шайки Тютюнника, только он один уцелел и убежал к большевикам.
Как мы завидуем этому мальчику, когда он, не глядя на прохожих, пришпоривая своего пятнистого коня, прижавшись грудью к луке седла, скачет по Житомирской к себе, в Чрезвычайную комиссию! Кто бы из мальчишек ни шел в эту минуту по улице, каждый обязательно остановится и долго-долго глядит ему вслед.
Все знают этого паренька у нас в городе. Вот бы мне поступить к нему в помощники! Да я бы каждого его слова слушался, лишь бы можно было мне скакать с ним вдвоем где-нибудь в поле, знать, что нас дожидаются в городе, как настоящих красноармейцев. Только вряд ли возьмут меня на такую службу. Ведь этот парень, наверное, и в боях бывал, и с петлюровцами воевал – его все знают…
Мне хотелось догнать Петьку, показать ему повестку, похвастаться перед ним, трусишкой.
Или, может, побежать к Юзику? Нет, не стоит. Потерплю лучше до завтра, а потом расскажу все.
Как медленно тянется время!
К счастью, я вспомнил, что Кожухарь как-то просил меня поискать японских патронов. У его приятеля в штабе полка есть большой, разламывающийся надвое револьвер – «смит-вессон». А к этому «смит-вессону» очень хорошо подходят японские винтовочные патроны.
– Вот разыщи – постреляем! – пообещал Кожухарь.
Надо поискать. Ведь у меня где-то на чердаке запрятана обойма этих японских патронов из красной меди, с тоненькими пульками и плоскими аккуратными капсулями.
Где только они?
Я полез на чердак и долго искал там патроны в душном, пыльном полумраке. Но обойма где-то затерялась. Я так и не смог ее найти, и это было очень жалко. Потом я долго кормил заячьей капустой крольчиху, потом побежал на огород поглядеть, как дозревают тяжелые, сочные помидоры. До самого вечера я никак не мог найти себе места. Хотелось, чтобы поскорее проходило время.
Вечером из типографии пришел отец. Я сразу бросился к нему и, протягивая повестку, сказал:
– Посмотри, тато, что мне прислали!
Он осторожно поднес ее к глазам и стал читать. Я, выжидая, смотрел на отца. Отец был в черной нанковой блузе, от него пахло типографской краской.
– Ну что ж, – отдавая мне повестку, сказал отец, – иди, если зовут.
Потом, немного помолчав, улыбнулся и добавил:
– Это тебя Омелюстый все сватает.
– Куда сватает, папа?
– Вот погоди, все узнаешь! – загадочно улыбнулся отец, подходя к умывальнику. – А самое главное – не бойся, говори только правду. Там справедливые люди работают. Товарища Дзержинского ученики.
Слова отца меня немного успокоили. Но все равно время тянулось очень медленно. Лег спать я с петухами, но заснуть долго не мог. Я прислушивался к ровному, спокойному храпу отца и все обдумывал его слова. Куда же меня сватает Омелюстый? Зачем меня вызывают на Семинарскую? Кто такой этот Кудревич, который будет меня завтра допрашивать?
Утром я сорвался с постели первым. Отец и тетка еще спали. Тихонько я выбежал во двор и, ополоснув холодной водой лицо, вышел на улицу.
Дорогой я ощупывал запрятанную в карман повестку. На улице было тихо и прохладно. Над забором, увитым «кручеными панычами», жужжали мухи. Который теперь час? Кто его знает: быть может, шесть, а быть может, девять. Летом солнце всходит очень рано, и доверять ему опасно.
На крепостном мосту ходил часовой. С винтовкой в руках, в шинели, он медленно прохаживался вдоль перил. Он еще охранял город от бандитов. А вдруг в самом деле когда-нибудь бандиты попытаются ворваться в город?
Ведь они прячутся недалеко отсюда – в соседних лесах, но особенно их много на одиннадцатой версте. В этом месте Калиновское шоссе окружено густым, дремучим лесом с глухими оврагами и лощинами. Этими оврагами бандиты часто подкрадываются до самого шоссе и грабят проезжих крестьян, убивают коммунистов и даже нападают на красноармейцев. Они могут в любую ночь обогнуть город со стороны крепости и, убив часового, ворваться в центр. Недаром каждую ночь ревком и комитеты бедноты снаряжают дежурства жителей. Жителям выдают в ревкоме винтовки и патроны, они ходят с ними по улицам города.
На зеленом заборе высшеначального училища развешаны кожаные седла. Дощатые ворота распахнуты. Во дворе дымится походная кухня. Под самым крыльцом на траве сохнет белье. На Губернаторской площади пусто. Напротив губернаторского дома виднеется убранный еловыми ветвями деревянный помост. С этого помоста во время революционных митингов говорят речи.
Минуя Губернаторскую площадь, узеньким проулочком я подошел к типографии. Она была еще закрыта. На ступеньках крыльца сидел сторож. Часовые стрелки на ратуше показывали половину восьмого. Мне оставалось ждать еще два с половиной часа. «Пойти разве домой? Нет, домой все равно не пойду», – решил я и медленно, не спеша пошел дальше по Тернопольскому спуску, на Новый бульвар. Навстречу все чаще и чаще стали попадаться одинокие прохожие. Проехала телега с пятью красноармейцами. В руках они держали ружья. Обгоняя телегу, галопом проскакал всадник, одетый в черное, с полевым биноклем на груди.
Как мне хотелось повстречать сейчас кого-нибудь из знакомых хлопцев! Если бы они только знали, куда я шел! Я бы, пожалуй, показал им синий конверт или краешек повестки, где на машинке напечатана моя фамилия. Но, как на грех, никого из знакомых не было видно.
Чтобы побыстрее шло время, я останавливался перед каждым магазином, разглядывал восковые женские головы в парикмахерской Мрочко, выцветшие портреты в фотографии Токарева, вязаные жакеты за окнами магазина Самуила Фишмана на Ларинке. Потом свернул на бульвар.
Здесь, в аллеях Нового бульвара, совсем прохладно. Где-то вверху, в кленовой листве, щебечут птицы, воздух чистый, дышать легко и приятно. Вон под кустами местечко, где мы отдыхали тогда, ночью, после налета на григоренковский дом. Ведь это было совсем недавно, а уж все позабылось, и кажется, с той ночи добрый год прошел.
Долго я еще слонялся по тенистым аллеям Нового бульвара, а потом свернул на самую крайнюю тропинку над скалой. С этой тропинки хорошо видна поднимающаяся над крышами серая вышка ратуши, а на ней – позолоченный циферблат городских часов. Слышно, как отбивают они – глухо, протяжно – сперва четверти, а потом целые часы.
Когда большая часовая стрелка подползла к половине десятого, я еще раз ощупал повестку и смело пошел вверх, к Семинарской улице. Но странное дело: с каждым шагом я волновался все больше и больше.
Хоть и стыдно сознаться в этом, но я чего-то побаивался. Будь бы еще кто-нибудь со мной – Куница, Сашка Бобырь или хоть Петька Маремуха, – да я сам первый потащил бы их вперед. А одному было страшновато.
Сквозь деревья на углу Семинарской уже забелело здание Чрезвычайной комиссии.
Я быстро перебежал улицу и, поравнявшись с часовым, молча протянул ему повестку.
– Зайди в здание. Вторая дверь наверху, – спокойно сказал часовой.
В просторном вестибюле, у коричневой доски с дверными ключами, сидели красноармейцы. Они сразу, как только я вошел, обернулись в мою сторону.
– Где… здесь… комната… двенадцать?.. – запинаясь, спросил я. И в эту минуту среди красноармейцев я узнал посыльного – молодого веснушчатого парня, который приносил мне вчера письмо. Он тоже узнал меня, улыбнулся и вышел навстречу.
– Пришел, говоришь? Дай-ка повестку, так уж и быть – проведу по знакомству. Тебе в двенадцатую?
Я подал ему измятый конверт и попробовал тоже улыбнуться, но улыбка у меня получилась кривая.
Прочитав повестку, посыльный сказал:
– Пойдем, парень!
Проводив меня на второй этаж, он сказал, показывая на скамью у дверей какой-то комнаты:
– Сиди тут и дожидайся! Вызовут!
После его ухода я заметил, что в конце этой удобной, с выгнутой спинкой, лакированной скамьи сидел еще какой-то хлопец. Я обернулся к нему и едва не закричал от радости.
– Юзик, и тебя вызвали?
Мне сразу стало веселее.
– Вызвали! – смущенно протянул Куница. – А зачем – не знаю.
– А я тоже не знаю! – едва успел сказать я, как открылась обитая клеенкой дверь двенадцатой комнаты и на пороге появилась девушка в высоких зашнурованных ботинках. Где-то я ее уже видел.
– Заходите, ребята! – пригласила она.
– Мне… к Кудревич! – опешив, сказал я.
– Знаю. Кудревич – это я! – чуть улыбнувшись, объявила девушка. – Проходите быстрей да усаживайтесь!
Очень светлая, продолговатая комната. Три окна ее выходят прямо на Семинарскую. Сквозь стекла видны верхушки серебристых тополей, растущих перед зданием в палисаднике. Около самой двери на стене висит большая карта, а сбоку стоит шкаф. Видно, эта девушка – большой начальник, раз у нее есть в этом доме своя отдельная комната, почти такая же, как кабинет директора гимназии Прокоповича.
Мы осторожно уселись на стулья у затянутого зеленым сукном письменного стола. Стол совсем чистый, будто только что купленный, – ни одной бумажки на нем не видно.
– Ну, как живете, ребята? – спросила девушка и, шумно придвинув к себе кресло, села за письменный стол, наискосок от нас.
Она немного скуластая, но красивая. Смуглый румянец заливает ее щеки. Глаза у нее карие, спокойные, ровно подстриженные каштановые волосы заложены за уши. А уши маленькие, розовые. Они совсем не оттопыриваются, как, например, у Куницы. Лицо у Кудревич доброе, веселое. Не ее ли это держал под руку Омелюстый у могилы Сергушина?
– Ну, что же вы, рассказывайте, – продолжала девушка. – Что у вас тут в городе творилось, когда наших не было?
– Да мы… уходили из города… – медленно, запинаясь, ответил Куница.
– Куда?
– А в Нагоряны!
– Это возле Думанова?
– Ага!
– Долго вы там были?
– Да нет, недолго, дня два, – помог я Кунице.
– А остальное время жили в городе, так? – спросила Кудревич.
– Остальное время жили в городе, – повторил ее слова Куница.
– Гуляли по городу, дрались, в крепость ходили, правда? – прищурив глаза, спросила девушка.
– В крепость ходили! – согласился Куница. – Пришли, а там человека того петлюровцы убивали.
– Какого человека?
– Ну… какого! – вдруг заволновался Куница. – Вы будто не знаете. А того, что доктор Григоренко выдал петлюровцам, Сергушина. Ему ж памятник в крепости поставили. То мы могилу его показали. Вы Омелюстого знаете? Вот спросите у него. Да, да, вы знаете… – вдруг смешался Куница, заметив, что девушка улыбнулась. – А зачем вы тогда спрашиваете? – протянул он обидчиво и замолк.
– Да, я все знаю, – спокойно и уже не улыбаясь ответила Кудревич. – Ну, вот что. Я сейчас при вас поговорю с одним типом, а вы послушайте…
Кудревич поднялась и сразу ушла, но не успели мы перекинуться друг с другом парой слов, как она возвратилась вдвоем с доктором Григоренко. Искоса глянув на нас, доктор присел на стул напротив следователя. Он держится так, будто ему совсем безразлично, о чем будет спрашивать Кудревич. Григоренко оброс бородой. У него мешки под глазами. Пояска на рубашке нет, и коричневые его туфли не зашнурованы.
– Я возвращаюсь к старому вопросу, – доставая из стола папку с бумагами, сказала Кудревич. – Я думаю, что вы наконец расскажете, каким образом, выдав этим наймитам Антанты Сергушина, вы стали свидетелем и участником его расстрела?
– Я никого не выдавал… И свидетелем не был… Это клевета… Чистая клевета… – пробормотал доктор.
– Скажите, – не слушая Григоренко, снова спросила Кудревич, – вы, должно быть, хорошо знакомы с Гржибовским? Приятели с ним, так? Чем вы объясните, что он обратился за помощью именно к вам?
– Какой Гржибовский? Какая крепость? Что вы, барышня, в самом деле, выдумываете? – сказал доктор, чуть приподнимаясь со стула.
– А кстати, доктор, я про крепость вас сейчас совсем и не спрашиваю! – улыбнулась Кудревич.
– Да, конечно, сейчас не спрашиваете, зато раньше спрашивали! – быстро вывернулся доктор и даже стулом заскрипел.
– Значит, в крепости вы тоже не были?
– Да господь с вами, какая крепость? Конечно, не был. Я живу на другом краю города, мало мне дела, чтобы в крепость ходить, – шевеля усами, ответил доктор.
– Как же вы, дядя, не были, когда туда на своей коняке приезжали? И землю щупали, – неожиданно вмешался в разговор Куница.
Доктор хмуро, с презрением глянул на Куницу и отвернулся к следователю.
– Погоди, паренек! – остановила Куницу Кудревич и снова посмотрела на доктора.
– Значит, вы и сегодня утверждаете, что никогда ни с кем в Старой крепости не бывали и с Марком Степановичем Гржибовским незнакомы? Так я вас понимаю?
– Так! – облегченно вздохнул доктор.
– Ну хорошо, – согласилась Кудревич и захлопнула папку с бумагами.
Доктор вынул из кармана грязный, измятый платок и вытер им свои жесткие усы. А Кудревич, выйдя из-за стола, быстрыми шагами, чуть покачиваясь на высоких каблуках, подошла к шкафу. Она приподнялась на носках и, открыв его, достала с верхней полки завернутый в газету сверток. Затем подошла к доктору и развернула перед ним на столе этот тючок.
Да ведь это одежда убитого Сергушина!
– Эта вещь вам тоже незнакома? – спросила Кудревич доктора, вешая на спинке свободного стула выпачканную известкой зеленую рубашку Сергушина.
– Незнакома, а что? – встрепенулся Григоренко.
– Да нет, я просто так спросила! – снова усаживаясь в кресло, сказала Кудревич, внимательно рассматривая доктора.
Он ерзал на стуле.
– Послушайте, мадемуазель, я вам уже однажды говорил и сейчас повторяю, – неожиданно скороговоркой забормотал доктор, – я никогда в жизни не уважал Петлюру, я всегда говорил, что это выскочка, авантюрист и мошенник…
– Да оставьте, – перебила его Кудревич. – Сейчас вы его называете авантюристом, а когда он был в городе, вы приютили у себя офицеров из его булавной сотни – Догу и Кривенюка? А какую речь вы произнесли о петлюровской директории, когда город заняли петлюровцы? Помните? А кто адрес Петлюре подносил на Губернаторской площади во время молебна? А сейчас вы мне объясняете, кто такой Петлюра? Да мы и без вас знаем, кто он. Такой же наемник мировой буржуазии и Пилсудского, как все эти коновальцы, огиенки и прочая националистическая шваль. Служат тому, кто больше заплатит. Расскажи-ка ты, паренек, как было дело, – внезапно обратилась ко мне Кудревич.
Я оторопел и сперва молчал. Но потом, сбиваясь и путая слова, стал рассказывать, как петлюровцы убивали Сергушина. Я заодно передал Кудревич и Петькин рассказ о том, как доктор Григоренко обнаружил Сергушина во флигеле сапожника Маремухи.
Кудревич кивнула головой. Видно было, что все это она и без нас хорошо знала и что лишний раз слушала мой рассказ только затем, чтобы заставить сознаться доктора. А Григоренко, когда я говорил, все ерзал на стуле и глухо покашливал, точно напугать меня хотел, чтобы я все не рассказывал.
– А после того как они выстрелили, доктор того человека ощупал и руки платочком вытер! – помог мне Куница.
– Да что ты брешешь, босяк! – неожиданно вскочил доктор, но тотчас же, спохватившись, снова грузно опустился на стул. – Вы издеваетесь надо мной, мадемуазель! Я Львовский университет кончил, я – доктор медицины, а вы мне здесь очные ставки со всякой босотой устраиваете! Да это выродки – мало ли кто вам что наговорит. Я не был…
– Сами вы выродок… и… брехун! – вдруг, блеснув глазами, зло перебил доктора Куница, но Кудревич в ту же минуту осадила его.
– Тише! – сказала она. – Нужно будет – спрошу.
– Я и говорю… Дайте им волю – они и про вас наговорят, – обрадовался доктор. – А я вам сейчас объясню, почему они про меня выдумывают. У меня сад есть. Знаете… груши, яблоки всякие. Как осень – прямо мука одна, только и гляди, как бы не пообрывали. И все такие шаромыжники, а я им пощады не даю. Как поймаю, сразу – к родителям. Ну, а они, конечно, злятся на меня. Да вы их побольше еще соберите, они могут вам сказать, что я вор, разбойник…
– Погодите! – оборвала доктора Кудревич и крикнула: – Товарищ Довгалюк!
Из коридора в комнату вошел красноармеец с винтовкой.
– Внизу, в свидетельской, дожидается гражданин Блажко. Приведите его сюда! – попросила часового девушка.
Красноармеец, стукнув прикладом, ушел.
– А вы, ребята, свободны, – сказала нам Кудревич. – Давайте ваши повестки, я отмечу.
Уже внизу, у выхода, мы столкнулись со сторожем Старой крепости. Вот оно что! Так это и есть Блажко. Он держал в руках такую же, как и наши, повестку и, прихрамывая, шел нам навстречу. Сторож нас не узнал.
На улице Куница возмущенно сказал:
– Ты смотри, вражина, как отпирается!
– А ты ему хорошо сказал, что он брехун. Пусть знает!
Мы вошли на Новый бульвар с чувством большого облегчения, чуть усталые и взволнованные. Вокруг хорошо пели птицы. То здесь, то там на утоптанных глинистых аллеях искрились желтые пятна солнца. Спешили куда-то по своим делам суетливые прохожие. Мы побрели вслед за ними.
…Сегодня с самого утра льет проливной дождь. Струи дождя стучат по железной крыше. Вода гремит в водосточных трубах и разливается по всему двору мутными пенящимися лужами. По окнам, извиваясь, бегут прозрачные струйки. В комнатах так темно, будто наступил вечер.
В эту пору со двора ко мне на кухню вдруг ввалился Куница – весь мокрый, блестящий от дождя.
– Васька, я уезжаю!
Я изумленно уставился на Куницу.
– Куда?
– В Киев! К дядьке! На, читай!
И с этими словами Куница протянул мне влажное, слегка помятое письмо. Пишет его дядя – тот самый, о котором не раз рассказывал мне Куница. Он плавает старшим механиком на днепровском пароходе «Дельфин». Дядя зовет Куницу к себе в Киев. Он обещает устроить его в школу моряков. Пока я, усевшись на топчане, читал письмо, Куница ждал. В мокрых его волосах блестели, как росинки, крупные капли воды. Тонкие струйки ее стекали по щекам Куницы.
– Когда едешь?
– Послезавтра. Мама уже пирожки печет на дорогу, – усаживаясь около меня, с гордостью говорит он.
Осторожно смахнув с письма дождевую каплю, Куница спрятал письмо в карман штанов. Я следил за его движениями, и мне стало почему-то очень грустно. Вот Куница уедет в большой город, а мы с Петькой Маремухой останемся здесь одни. Распалась наша компания. Вдвоем уже будет не то. Разве Петька сможет заменить Куницу? Никогда. С ним даже в Старую крепость – и то не полезешь… Эх, жалко, что Куница уезжает.
А он, точно угадывая мои мысли, сказал:
– Вот я выучусь в морской школе на капитана, тогда приезжай ко мне, я тебя бесплатно на пароходе покатаю!
– Да, покатаешь… Когда это еще будет… – с горечью ответил я.
– Когда? Ну, когда… Очень скоро… – утешил меня Куница, но говорил он это неуверенно. Видно, он чувствовал, что расстается со мной надолго.
Дождь как будто перестает. Проясняется.
Юзик подошел к окну. Он провел пальцем по заплывшему стеклу и, не глядя на меня, сказал:
– А хочешь, попрошу дядю, он тебя устроит в школу. Поедешь в Киев, будем жить вместе…
– Да, устроит… Он меня и не знает…
– Ничего… Устроит… – так же нерешительно протянул Куница.
Теперь мне стало совсем ясно, что он сам не верит своим обещаниям.
– Васька, хочешь, я тебе турманов своих подарю? Банточных! – вдруг предложил Куница. – Они хорошие, ты не думай, они тебе таких молодых еще выведут?
– Подари!
– Конечно! Ты будешь Петькиных голубей подманивать. Приходи завтра после обеда…
– Приду, только смотри – никому не отдавай.
– Ну, что ты! – возмутился Куница. – А писать мне будешь? Я тебе оставлю дядькин адрес.
Я записал новый, киевский, адрес Юзика и мы расстались с ним до завтра.
…Наступил день отъезда Куницы. Вечером вместе с Маремухой мы отправились к Юзику домой.
У ворот усадьбы Стародомских топчется запряженная в линейку их тощая лошадь. Чтобы отвезти Юзика к поезду, его отец снял с линейки черный фургон – собачью тюрьму.
– Давай, тато, скорей. Опоздаем, – раздался за воротами голос Куницы, и он выбежал на улицу.
Куница одет по-праздничному. На нем голубая шелковая рубашка, сшитая из куска скаутского знамени – из того самого куска, который достался ему по жребию. Ворот рубахи наглухо застегнут; новенькие перламутровые пуговки так и переливаются на голубом шелке. На Кунице какие-то особенные серые брюки, чуть ли не из настоящей шерсти, на ногах деревянные сандали. Я никогда не видел Юзика таким нарядным, гладко причесанным. Ишь нарядился, прямо франт!
– Ну вот… сейчас поедем, – увидев нас, тихо сказал Куница. Видно, ему было не по себе в этом наряде – он стыдился и своей новой рубашки, и новых штанов.
– Это все твои вещи? – спросил Маремуха, показывая на маленькую плетеную корзинку.
– Ага, мои! Тут белье, пирожки… – устанавливая корзинку на линейке, сказал Юзик.
Вышел кривоногий Стародомский с кнутом в руках.
– Тато, можно, чтобы хлопцы тоже с нами поехали? – попросил Куница. – Они пришли провожать меня.
– Ладно, садитесь, – разрешил Стародомский. И пока он расправлял поводья, мы уселись на линейку.
– А твоя мама не поедет? – шепнул Маремуха.
– У мамы ноги опухли, ревматизм, – сказал Куница.
Линейка трогается.
Мы едем к вокзалу. Тощая лошадка хорошо бежит. Линейка так дребезжит и подпрыгивает на камнях, что нам трудно разговаривать друг с другом. Лишь за городом, выехав на мягкую и ровную проселочную дорогу, мы заговорили, и Куница напомнил мне:
– Так гляди же, пиши!
– А к нам сегодня Григоренчиха с Котькой за вещами прибежала. Ее выпустили, а доктор сидит! А может, его уже расстреляли? – прошептал Маремуха, поглядывая на Куницыного отца.
– С Котькой? А откуда взялся Котька? – насторожился Куница.
– Из Кременчуга приехал. Наверное, горничная ему написала про все, вот он и вернулся, – объяснил Маремуха.
– И у вас живет, да? – насупившись, спросил Куница.
– Нет, что ты! Он не у нас. Он у Прокоповича живет, у директора. Прокопович их взял к себе на квартиру, – ответил Петька.
– Вы смотрите не поддавайтесь Котьке! – сказал Куница. – Он сейчас подмазываться к вам будет.
Но вот показался вокзал. Нам уже виден хвост поезда, который повезет Куницу в Киев.
Эх, счастливый Юзька, уезжает! Хорошо, наверное, жить в Киеве! Ведь Киев большой, красивый город, в нем много трамваев и совсем рядом протекает Днепр. Я бы с удовольствием поехал с Куницей вместе.
У железной ограды вокзального палисадника Стародомский осадил лошадь и, соскочив с облучка, привязал поводья к стволу клена. Через маленький грязный зал мы вышли на перрон. Посадка уже началась. В окнах вагонов видны люди.
– Давай-ка сюда, Юзьку! – показал Стародомский сыну на предпоследний вагон, в котором было не так много народу. – Этот до самого Киева пойдет? – на всякий случай спросил он у стоящего в тамбуре красноармейца.
– До Киева, отец, до Киева, – ответил красноармеец, поправляя пояс.
– А ты, служивый, в самый Киев едешь? – осторожно спросил у красноармейца Стародомский.
– Я – дальше, в Брянск. В Киеве у меня только пересадка, – охотно объяснил красноармеец.
– Сделай такую милость, присмотри по дороге за моим сынком! – попросил Стародомский. – Он у меня в первый раз по железной колее едет.
– Ладно, не пропадет. У меня рядом полка свободная, – сказал красноармеец.
И вот Куница в вагоне. Через окно видно, как белеет на верхней полке его корзинка. Он расстегнул воротник рубашки и высунулся к нам. А мы стоим на перроне рядом с низеньким отцом Куницы. Тяжело бывает провожать знакомых, видеть перед собой мелькающие вагоны отходящего поезда, еще тяжелее провожать друга, товарища, с которым прожито столько веселых и тревожных дней…
А когда загудел в последний раз паровоз и поезд тронулся, я, глядя на уходящие вагоны, почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Квадратик последнего вагона становится все меньше и меньше, стихает далекий стук колес, расходятся с перрона люди, и вскоре пассажирский поезд, увозящий Куницу, исчезает за поворотом в желтеющем широком поле.
ОДИННАДЦАТАЯ ВЕРСТА
На другой день после отъезда Куницы Маремуха принес мне лобзик. Еще вчера я просил его об этом. Я хотел лобзиком пропилить дырку в стенке крольчатника, чтобы устроить там турманам настоящую голубятню. Я уже и досок припас для нее и гвоздей. Прежде чем приняться за работу, я предложил Петьке поесть вместе со мной. Тетка ушла на речку полоскать белье и оставила мне в глиняной миске гречневой каши с молоком. Вооружившись деревянными ложками, мы с Петькой сели за стол и принялись за кашу. В это время из своей комнатки к нам на кухню вышел Полевой.
– Тише! Ложки поломаете! – засмеялся он, остановившись у порога.
Петька Маремуха сразу присмирел и отложил ложку.
– Слушайте, молодцы, кто из вас знает дорогу в Нагоряны? – вдруг спросил нас Полевой.
– Я знаю. А что?
– Хорошо знаешь? – пытливо посмотрел на меня Нестор Варнаевич. Широкоплечий, лохматый, он стоял в дверях, загородив собой весь проход. Ворот его гимнастерки был расстегнут, на груди алели три остроконечные красные полоски – их звали «разговорами».
– А как же? Хорошо знаю! У меня там дядька живет, – сказал я, предчувствуя какое-то интересное дело.
– Мне надо за фуражом съездить, – медленно объяснил Полевой. – Хочешь прокатиться со мной?
Еще бы! Как не хотеть! Но я спокойно, безразличным тоном ответил:
– Верхом поедем или как?
– Нет. На бричке. Наши лошади останутся здесь.
– А Петьке можно? – показал я на Маремуху.
Он, бедняга, жалобно, с тоской смотрел на Полевого. А тот, поглядев на Маремуху, сказал:
– Ну что ж, хорошо, езжайте вдвоем!
Петька чуть не подпрыгнул от радости. Подумать только, какое счастье: проехать столько верст на казенных лошадях, да еще вместе с красноармейским командиром!
И вот после обеда мы прибежали к Полевому в епархиальное училище.
У бревенчатой конюшни во дворе училища мы увидели запряженную парой сытых лошадей желтую полковую бричку. Полевой стоял у входа в конюшню. Он внимательно следил, как маленький белобрысый красноармеец запрягал лошадей в забрызганную грязью подводу. На плечах у Полевого была длиннополая кавалерийская шинель, а на голове – барашковая с малиновым верхом кубанка. Увидев нас, Полевой строго спросил:
– Не оделись почему?
– Так сегодня же не холодно, дядя Полевой! – удивленно ответил я.
– Да, не холодно. Ночью в поле очень холодно. Бегите-ка домой и возьмите пальто. Только побыстрее – одна нога здесь, другая там!
Что делать? Ведь бричку уже запрягли. Пока мы добежим до Успенской церкви, ездовой приготовит и подводу. Разве станут они дожидаться нас? Возьмут и покатят сами в Нагоряны. Нет, бежать домой за пальто никак нельзя.
– Нестор Варнаевич, у нас нет пальто! Мы так поедем! И не простудимся, честное слово, не простудимся! – сказал я.
– Ах вы лентяи, лентяи, – покачал головой наш квартирант. – Неохота бежать? Правда? Ну ладно! – И, запахнув шинель, он ушел в конюшню. Немного погодя он вынес оттуда потрепанную и обсыпанную соломенной трухой кавказскую бурку с приподнятыми плечами.
– Это моя собственная, старинная, – сказал Полевой. – Ездила когда-то со мной в обозе. Я уж не думал, что будет нужна, а сейчас пригодится. Ею еще пять таких пацанов, как вы, закутать можно. Ну, залезайте в бричку, живо.
Я уселся рядом с Полевым, а Петька полез на облучок к Кожухарю. Свернутая черная бурка лежала у ног Полевого. От нее пахло лошадиным потом. Полевой уложил на бурку две винтовки с ремнями и несколько обойм русских патронов с белыми острыми пулями.
– Поехали! – приказал он Кожухарю.
Тот подобрал вожжи и чмокнул губами; лошади тронулись, и мы выехали со двора епархиального училища прямо на Успенский спуск. Дорога предстоит немалая, ехать будет хорошо. Бричка весело подпрыгивает по булыжникам мостовой. Низенькие пожелтевшие липы, пестро размалеванные вывески парикмахерских, деревянные будочки медников, жестянщиков мелькают по обеим сторонам дороги.
Вот мы проехали дворик Стародомских. Как жалко, что Куница уехал в Киев. Подождал бы еще денька два – мы бы и его захватили сегодня в Нагоряны.
Мимо нас в новых буденовках проходит рота курсантов военно-политических курсов. Ротой командует Антон Бринский, сутулый командир-стажер в темно-коричневой гимнастерке. Курсанты поют:
Гей, нумо, хлопцi, ви комсомольцi, Треба нам в спiлку єднаться! Пану гладкому, богу старому Годi вже нам покоряться! В Чорному морi панство топили, Гади й в Парижi дрижали… Рейдом зарвались глибоко в Польшу, Чули: «Дайош!» – пiд Варшавой…Я знаю эту песню. Ее всегда поют комсомольцы.
Мы проезжаем Успенский базар. Дощатые, обитые жестью рундуки закрыты на тяжелые засовы. Мальчишки с завистью поглядывают на нас. Как мы гордимся тем, что едем на полковой бричке вместе с командиром Полевым! Смотрите, смотрите! А вот вас не возьмут на бричку, как бы вы ни просились!
Бричка взбирается на гору. Мы выезжаем на Житомирскую улицу. Вдоль нее тянутся рядами молодые акации, каштановые деревья и высокие грабы. А вот и усадьба доктора Григоренко! Над резными дубовыми дверями докторского дома колышется белый флаг с красным крестом посредине. Теперь здесь помещается дивизионный лазарет. На столбе у ворот можно заметить светленькое пятно: оно напоминает прохожим, что когда-то здесь висела медная дощечка с фамилией Котькиного отца.
Бричка въезжает на Тюремную улицу. Влево от нас белеет тюрьма. Перед нашими глазами расстилается широкое поле с уходящим к горизонту Калиновским трактом. Мы уже за городом. Где-то за высокими подсолнухами кричит «пить-пилить» запоздалый перепел. Пахнет чебрецом, мятой и полынью.
Полевой закуривает трубку. Синий дымок вьется над бричкой и сразу же уносится вольным полевым ветром.
До нагорянского кладбища оставалось совсем немного – каких-нибудь полверсты, как вдруг у нашей брички лопнула задняя ось. Полевой спрыгнул на землю. Он осмотрел лопнувшую ось, и, крякнув с досады, достал из брички свою шинель, винтовки, патроны, черную бурку и бросил их на траву.
– Вот петрушка приключилась, будь ты неладна! – с сердцем произнес Кожухарь.
Подвода, которая ехала сзади, догнала нас. Белобрысый красноармеец спрыгнул с облучка и подошел к Кожухарю. Вдвоем они ощупывают ось, советуются.
Из села нам навстречу идет сутулый крестьянин в коричневой свитке. Поравнявшись с нами, он снимает шапку и кланяется.
– Добрый день!
– Здравствуй, папаша, – ответил Нестор Варнаевич. – Скажи, где тут кузница?
– Кузня? А вон, за церквою, на горбку!
– А Манджура в селе сейчас? Вы его знаете? – спросил я у старика.
– Авксентий? В сели, в сели. Вин у нас голова сельрады!
– Кто, кто? – заинтересовался Полевой. – Манджура? Он что, председатель сельсовета?
– Эгеж! – подтвердил крестьянин.
– Твой дядя? – тихо спросил у меня Полевой.
Я кивнул головой.
– Хорошо я, значит, сделал, что взял тебя, – улыбнулся Полевой. – Давай тогда искать твоего дядьку. – И, подойдя к Кожухарю, Нестор Варнаевич приказал: – Вот тебе, Феофан, винтовка, патроны. Езжай полегонечку к кузнице. Как-нибудь дотащишься. А потом шпарь в город один – мы на подводе доедем… Ну, садитесь, ребята.
Миновав кладбище, мы заезжаем прямо во двор к Авксентию. Дядьки нет дома, и Оська мчится за ним в сельсовет.
Авксентий радостно встречает нас. Я знакомлю его с Полевым.
В хате дядька рассказывает:
– А в селе у нас новостей, новостей! Староста наш прежний, Сигорский, удрал с петлюровцами, пес поганый. Мельницу водяную у помещика Тшилятковского мы отобрали. Главный мельник у нас теперь Прокоп Декалюк – вы ж его, наверное, знаете? А я, кто я – как бы вы думали? – смеется дядька. – Такая шишка, не дай бог! Я голова сельрады! Верное слово! Был сход – беднота меня и выбрала. «Ты, говорят, Авксентий, пострадал от петлюровцев, так будь теперь у нас за главного». Ясное дело, куркули ой как недовольны. Знают, лихо им в бок, что я покажу им бенефис. Они уж мне записки бросали: «Не загибай, Авксентий, – подожжем!» Так я и испугался! Одно плохо, что они с бандитами снюхались, а те немалую шкоду могут селу сделать. Их же много теперь по лесам шляется.
Тем временем жена Авксентия ставит на стол миску с борщом и каравай хлеба. За едой Нестор Варнаевич договаривается с дядькой о поставке фуража.
– К четвергу подготовлю тебе десяток возов, а сейчас дам подводу, – обещает Авксентий.
Оксана разостлала на столе вышитое полотенце. Она приносит в подоле яблоки-цыганки и высыпает их на стол. Яблоки твердые и чуть продолговатые.
– Ну, как, племянничек, много ты стекол побил за это время? – спрашивает Авксентий, видя, как я уплетаю вместе с Маремухой яблоки.
– Он – герой, дорогу нам сюда показал, – хвалит меня Полевой. – Мы вот его скоро в комсомол определим, пусть только подрастет немного.
Темнеет. В горницу входит Оксана, шлепая по глиняному полу босыми ногами. Она зажигает коптилку.
– О, да мы заговорились! – сказал Полевой. – Ну, спасибо, хозяин, за яблоки да за сено. В четверг я пришлю к вам обоз. – И, встав из-за стола, он протянул руку Авксентию.
Пока мы прощались, Полевой надел шинель и туго застегнул ее на все крючки. Потом перебросил через плечо ремень своего тяжелого маузера. На дворе уже прохладно. Хорошо, что Полевой захватил для нас бурку.
Мы еще раз попрощались с Оксаной, с Оськой и Авксентием и полезли за Полевым на самый верх подводы. Легли животами на мягкое, упругое сено и укрылись буркой. Полевой улегся рядом с нами на сено – большой, широкоплечий, от него здорово пахнет табаком.
Ездовой – низенький красноармеец – примостился с винтовкой в руках где-то внизу, на облучке; он почти закрыт нависающей над ним копной сухого сена. Нам видно только, как дрожат внизу туго натянутые им вожжи. Лошади, почуяв дорогу домой, упрямо мотают головами, – крепкие постромки то и дело трут их шелковистую кожу.
Мы глядим вперед на дорогу, по которой, подскакивая и качаясь, едет наша подвода.
За березовой балкой всходит луна. Чем дальше мы едем, тем сильнее голубоватый свет заливает окрестности.
Когда мы выезжаем с проселочной дороги на ровное шоссе, Полевой легко поворачивается на бок и вынимает из кобуры свой маузер. Щелкает предохранитель.
Вдоль шоссейной дороги тянется частый сосняк. Все реже и реже мелькают случайные просеки, полянки. Чем ближе мы подъезжаем к городу, тем гуще становится лес. Теперь плотная стена деревьев уже окружает с обеих сторон Калиновский тракт. Где-то здесь бродит банда Мамалыги.
Вдруг, когда мы, перевалив через бугор, спускаемся вниз, из придорожной канавы, наперерез нам, выскакивают три человека.
Кто это? Неужели бандиты? Ну да, бандиты!
– Сто-ой, холер-ра!..
Это закричал бандит, изо всей силы ухватив под уздцы наших лошадей. Испуганные кони, захрапев, подмяли бандита и круто повернули в сторону.
Подвода стала поперек дороги. От неожиданного поворота я чуть не слетел вниз.
– А ну, слезай, холера тебе в живот! – скомандовал ездовому бандит, остановивший лошадей. Два других медленно, опустив револьверы, подходят к лошадям. Они, наверное, думают, что ездовой на телеге один.
– Тащи его оттуда, паскуду! – хрипло выругавшись, потребовал один из бандитов.
И в эту минуту около нас хлопнул сухой, резкий выстрел. Маремуха от испуга схватил меня обеими руками за плечи.
Выстрелил Полевой. Он чуть приподнялся над сеном. Его каракулевая кубанка слетела. Почти к глазам прижав длинный маузер, он стреляет по бандитам. Видно, как из тонкого ствола маузера вылетают остренькие лучики огня. Кто-то из бандитов, крикнув, тяжело повалился. Остальные два метнулись в сторону. Вот они с размаху, один за другим, перепрыгнули канаву и пропали в лесу. Внизу, под нами, грохнул выстрел. Это пальнул из винтовки по убегающим бандитам ездовой. Эхо прокатилось над безмолвной листвой и замерло.
Как тихо стало сразу вокруг. Слышно только, как слева от нас, в лесу, куда убежали бандиты, трещит валежник. Кажется, будто какой-то полуночный встревоженный зверь, меняя свое логово, мчится среди деревьев. Внизу, под колесами, застонал подстреленный Полевым бандит.
– Погоди, Степан, не стреляй, – громко, но совершенно спокойно приказал ездовому Полевой.
Потом с маузером в руке он спрыгнул на землю.
– Гляди по сторонам! – тихо приказал ездовому Полевой, а сам подошел к бандиту.
Нам с Петькой стало жутко оставаться на подводе.
– Слезем, а, Петька? – шепнул я Маремухе, кивая на дорогу.
Тихонько, цепляясь руками за веревку, мы спрыгнули на шоссе и подошли к Полевому. Он опустился на корточки перед подстреленным бандитом и обыскивает его. Страшно, но и мне хочется посмотреть на бандита. Пересиливая страх, я наклонился.
Бандит уже не шевелится. Его лицо залито кровью. Левая рука запрокинута далеко назад, точно он хочет схватить камень.
Я вздрогнул… Нет… не может быть… я ошибся…
Я наклонился к бандиту совсем близко, и снова мурашки забегали у меня по коже. Бандит очень похож на Марко Гржибовского.
– Петя, это не Марко? – толкнул я под бок Маремуху.
Петька тоже наклонился к бандиту, но тотчас же отпрянул.
– Марко!.. – испуганно прошептал он и попятился от трупа.
Ну конечно, это Марко, широколобый, курносый Марко, сын колбасника пана Гржибовского. Это его упрямый лоб, его крутая шея. Да ведь и френч-то на нем, кажется, тот самый, английского покроя, с высоким стоячим воротником, в котором мы видели Гржибовского последний раз в Нагорянах.
– Дядя Полевой! Это Марко Гржибовский! Мы его знаем! – сказал я нашему квартиранту.
Но Полевой вместо ответа строго приказал:
– А ну, пошли на сено! Без вас разберутся!
Он, видимо, не хотел, чтобы мы смотрели на убитого. Мы отошли в сторону и только было собрались лезть вверх, на сено, как в эту минуту за перевалом громко застучали колеса какой-то подводы.
Едут к нам.
А что, если это спешат на выручку приятели Марко Гржибовского? Мы с Петькой сразу запрятались в тень, под сено. Мне кажется, что лес подкрадывается к нам со всех сторон, с голенастыми своими соснами, с ветвистой ольхой, с низеньким кустарником. Лошадиный топот и дребезжание колес раздаются все громче. Внезапно из-за бугра вылетает запряженная парой коней бричка и, не доехав шагов пяти до нашей подводы, останавливается.
– Кожухарь, ты? – негромко окликнул Полевой, подняв навстречу маузер.
– Товарищ начальник, я тебя малость не признал, – радостно откликнулся с брички Кожухарь и, спрыгнув на землю с винтовкой в руке, побежал к Полевому, но, чуть не наступив на руку Марко, отпрыгнул и растерянно протянул: – Э-э, да у вас тут… – но не договорил. Он с изумлением стал разглядывать освещенное луной мертвое лицо Гржибовского.
– Ладно, поехали! – коротко распорядился Полевой и спрятал маузер в деревянную кобуру.
И вот через несколько минут мы едем дальше, к городу. Мы с Петькой лежим на сене, едва дыша, не шевелясь. Я пристально вглядываюсь в лесную чащобу. Теперь мне кажется, что из-за каждого ольхового ствола выглядывает бандит. Тень деревьев хорошо скрывает бандитов, а мы, наоборот, освещены луной и видны отовсюду отлично. Зачем только ездовой так быстро гонит лошадей? Ехал бы потише! Ведь подковы так звонко цокают по камням!
Стук лошадиных подков и громыхание колес разносятся эхом по всему лесу. Наверное, услышав этот грохот, приятели Марко Гржибовского – страшные волосатые бандиты – уже подползают к дороге, чтобы отомстить нам. В руках у них бомбы, обрезы. В этом дремучем лесу они хозяева – каждая тропа им знакома.
Но вот заискрились за лесом далекие огни епархиального училища. Уже близок город. Там стоит полк Полевого, там живет мой отец. В городе горят на улицах электрические фонари, а на мосту возле крепости стоит часовой. Если бандиты погонятся за нами, он не пустит их в город. На радостях я крепко прижался к Петьке Маремухе. А хорошо ехать здесь, на сене! Теплая бурка греет нас, как одеяло. Мы все ближе подъезжаем к городу. А впереди нашей подводы, на желтой бричке, мой приятель Кожухарь везет в уездную Чрезвычайную комиссию труп Марко Гржибовского.
РАДОСТНАЯ ОСЕНЬ
Занятия в школе начинаются поздней осенью. Уже облетают с деревьев последние желтые листья. Многие зареченские хозяйки ворохами собирают их в мешки на Новом бульваре. Будет чем зимой растапливать плиту и кормить коз.
Над балконом нашей бывшей гимназии, за голыми ветвями каштановых деревьев, краснеет новая вывеска:
Перша Трудова школа
имени
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
С гимназией покончено навсегда! Я пришел в класс как старый знакомый: заново составляли классный журнал, и меня вместе со всеми моими товарищами вписали туда. Новостей в нашей школе уйма! Скоро, говорят, будет выбран ученический комитет.
Пани Родлевская – учительница пения – ходит по коридору скучная-скучная. Не придется уж, видно, ей, караморе, больше разучивать с нами «Ще не вмерла…». А новые наши песни петь она еще не научилась. Ее перевели в соседний класс. Говорят, что, когда ученики называют ее «товарищ учительница», она морщится так, будто ей наступили на платье. Вместо Родлевской в учителя пения нам дали Чибисова – того самого, который раньше преподавал в высшеначальном училище. Чибисов очень худой и носит дымчатые очки. Так он учитель ничего, смирный, не кричит, когда, случается, разгуляешься на его уроке, – беда вот только, что каждый день после уроков он ходит в кафедральный собор. Чибисов – регент: он командует на клиросе соборными певчими. Он весь прокоптился в церковном дыму, от него за версту, словно от попа, пахнет ладаном и палеными свечами. Учитель украинского языка Георгий Авдеевич Подуст бежал за границу вместе со своими дружками – петлюровцами.
А вот природовед Половьян доволен! Он бегает по лестницам как угорелый. Он сам снял в актовом зале портреты всех петлюровских министров, выдрал из рамок и водворил на их место под стекло старые фотографии своих животных, и в первую очередь портрет знаменитого муравьеда.
Тощего Цузамена что-то не видать. Я слышал, он все болеет – видно, соскучился по своим немцам. А может быть, он просто боится большевиков? Но самая главная и радостная новость, особенно для нас, прежних высшеначальников, это та, что заведующим нашей трудовой школы назначен Валериан Дмитриевич Лазарев.
В первый же день занятий он собрал нас в актовом зале и сказал:
– Вы не смейтесь, ребята, что я плохо говорю по-украински. Я хоть и украинец, но учился в русском университете – тогда царь не разрешал студентам заниматься на их родном украинском языке. Конечно, я кое-какие слова перезабыл. Но сейчас-то мы с вами живем в Советской Украине, где большинство населения говорит по-украински. Вот и в нашей советской трудовой школе будут учить наш родной украинский язык, чтобы знать его хорошо. Давайте, хлопчики, жить дружно, не ссориться. Война окончилась, и теперь мы сможем учиться спокойно. Наша школа названа именем великого украинского поэта Тараса Шевченко. Не забывайте никогда его мудрые, простые слова:
Учiтесь, читайте.
I чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Мы рады были услышать после долгого перерыва мягкий, спокойный голос любимого учителя, да и те, которые его увидели впервые, тоже встретили Лазарева хорошо. Он всем понравился.
В субботу, через три дня после собрания в актовом зале, мы с Петькой встретили Валериана Дмитриевича возле учительской. Я отважился и спросил:
– Валериан Дмитриевич! А когда вы нас в подземный ход поведете?
– В какой подземный ход? – удивился Лазарев.
Тут выскочил Петька Маремуха и, запинаясь, объяснил:
– А помните, Валериан Дмитриевич, вы нам обещали, еще как Петлюры не было?
– Погодите… погодите… Мы собирались в подземный ход возле Старой крепости?
– Ага, ага! – закричал Петька Маремуха.
– Ну что ж, можно и сходить.
– Правда, Валериан Дмитриевич?! – даже не поверил я сначала.
А Петька Маремуха протянул:
– А как же мы туда пойдем, раз у нас фонаря нет?
Валериан Дмитриевич улыбнулся.
– Это в самом деле закавыка. Ну, хорошо, я велю Никифору раздобыть фонарь.
Пока шел последний урок, наш старый знакомый сторож Никифор разыскал на складе фонарь и налил его казенным, школьным керосином.
Не успел замолкнуть звонок, не успел природовед Половьян захлопнуть классный журнал, как я вырвался из класса в коридор. Следом за мной пустился Петька и, позабыв, что из соседних классов еще не вышли учителя, заорал на весь этаж:
– Васька, подожди, Васька!
На полу около дверей в учительскую стоял старый, поржавевший фонарь «летучая мышь».
Я, не раздумывая долго, схватил его. Когда подбежал Маремуха, он сморщился от огорчения, но потом, поразмыслив, сказал небрежно:
– Подумаешь, надо мне руки керосином пачкать…
Из учительской, в фуражке, с клубком шпагата под мышкой, вышел Валериан Дмитриевич.
Из-под чесучовой куртки у него выглядывала вышитая украинская рубашка, а на бархатном околышке форменной фуражки виднелась дырка от вынутой кокарды.
– Уже собрались? – спросил Валериан Дмитриевич, оглядывая нас, и подал Маремухе клубок шпагата. – Неси!
Петька, гордый доверием Лазарева, быстро метнулся к лестнице.
На улице Петька посмотрел на Лазарева и спросил:
– А где ваша кокарда?
Лазарев быстро ощупал фуражку и растерянно сказал:
– Потерял!
И стал искать кокарду на земле.
Тут я заметил, что он улыбается. «Ладно, ладно, – подумал я, – не проведешь!» Маремуха тоже понял, что директор шутит, и протянул:
– Нет, в самом деле, Валериан Дмитриевич?
Лазарев улыбнулся и сказал:
– А вы дотошные. Все заметите. Ну, снял ее, не нужна больше.
– А вы ее… выкинули? – осторожно спросил Петька.
– Да нет, валяется где-то дома.
Петька помолчал, пошмыгал носом, а потом вдруг, заглядывая в глаза Лазареву, дрожащим голосом попросил:
– Подарите ее мне, Валериан Дмитриевич.
– Кокарду? А зачем она тебе? Царская?
– А так… я всякие значки собираю…
«Ну и попрошайка! – подумал я про Петьку. – И не стыдно?»
– Ну что ж, подарю, – сказал Лазарев.
– Правда? Ну, вот спасибо! – сказал Петька и расцвел весь от радости.
Через несколько минут, когда мы спускались на крепостной мост, Петька, довольный, сказал:
– А знаете, Валериан Дмитриевич, трусливые люди боятся этого подземного хода. А я – ни капельки! Мы вот ходили летом с Васькой в Нагоряны. Там есть такие здоровенные Лисьи пещеры. Мы все их облазили – и ничего!
«Ну, что ж ты врешь? – чуть не закричал я. – Ведь мы не были в самих Лисьих пещерах!»
Но Петька сам сообразил, что на радостях заврался. Он покраснел, застыдился и глянул на меня такими жалобными глазами, что мне стало жаль его. Я решил не выдавать Петьку. «Вот хвастун! – подумал я. – Ни капельки не боится, а? Посмотрим, как-то ты запоешь там, в подземном ходе?»
Подземный ход начинался у обрыва, под высокой стеной.
Снаружи он был похож на самый обыкновенный вход в погреб. Куда-то вниз вели белые каменные ступеньки, наполовину засыпанные мусором и навозом. Прямо на груде мусора, посреди входа, вырос большой куст ядовитого болиголова. Оттуда, из подземного хода, донесся к нам тяжелый запах плесени, гнилого дерева.
Не сказав ни слова, Валериан Дмитриевич вынул из кармана спичечный коробок, чиркнул спичкой и, заслоняя от ветра ладонью ее огонек, зажег фонарь. В фонаре вспыхнула и сразу же погасла паутина, и ровный язычок пламени, почти незаметный здесь, на улице, потянулся вверх и стал гореть спокойно, как в комнате.
– Теперь привяжи шпагат, – скомандовал Лазарев Маремухе.
Петька стал на колени и, высунув от волнения кончик языка, привязал шпагат к столбику, который торчал около самой дороги.
– Ну что ж, тронулись.
С этими словами Лазарев первый шагнул в подземный ход. Через минуту его белая спина пропала в темноте. Спускаясь по ступенькам вслед за Лазаревым, я заметил, что часовой в серой папахе машет нам на прощанье рукой. Я поднял руку, чтобы и ему помахать тоже, но тут меня подтолкнул Петька, и я очутился в темноте, едва разгоняемой светом фонаря. Не успели мы пройти несколько шагов, как подземный ход круто повернул вправо, под Старую крепость, и светлое отверстие выхода скрылось из виду.
Сколько мы шли – не знаю. Но шли долго. Нас окружали со всех сторон покрытые плесенью камни. Подземный ход был похож на узенький коридор. Идти надо было согнувшись. Я шел следом за Валерианом Дмитриевичем и почти ничего, кроме белой его спины, не видел. Где-то совсем рядом, разматывая клубок шпагата, посапывал Маремуха.
– Осторожно. А ну, посвети! – сказал Лазарев.
Я с ходу ткнулся фонарем прямо в его спину. Поднял фонарь и посветил. Сбоку, из стены, так, будто их вымыло подземной рекой, вывалились камни. Они лежали перед нами, местами пересыпанные глиной и песком. Откуда-то снизу потянуло сыростью.
– Тише, ребята! – сказал Лазарев и отнял у меня фонарь.
Я сперва даже растерялся. Как же я буду теперь без фонаря? А что, если этот ход выведет нас прямо в колодец Черной башни и мы бултыхнемся в быструю подземную реку?
Но Лазарев, держа фонарь перед собой, стал смело перебираться через груду камней. Вот он перелез, остановился и посветил мне. Огонь фонаря ослепил глаза, ноги разъезжались в разные стороны, я почти ощупью прошел по неровному, сыпучему грунту и остановился около Валериана Дмитриевича. Дальше мы пошли рядом. После завала ход стал шире и чище. А земля под ногами пошла тверже, словно ее нарочно утрамбовали.
Я решил, что теперь уже ничто не помешает нам двигаться вперед, как вдруг Лазарев снова остановился.
Глухая деревянная перегородка преграждала путь. Кто-то нарочно и, по-видимому, очень давно заколотил подземный ход досками. Толстые широкие доски покрылись плесенью, а сбоку, там, где они были прибиты к столбу, вырос на них целый куст поганок.
– Вот тебе и фунт изюму! – сказал Лазарев, оглядывая перегородку. Он повернулся к нам, прищурился и, хитро улыбаясь, спросил: – Повернем, значит, обратно?
– А туда? – сказал я, показывая на перегородку.
– Туда как же? Видишь, перегорожено.
Наступило молчание.
Назад идти не хотелось. Стоило спускаться сюда, чтобы, встретив на пути преграду, повернуть обратно.
Я подскочил к перегородке, просунул обе руки в щель между скользкими досками и, упираясь ногами в нижнюю доску, сильно потянул перегородку на себя. Не успел я опомниться, как лежал уже на земле. Доски от старости прогнили, и потому я совсем легко отодрал верхнюю, а нижнюю продавил в подземный ход. Ноги мои были теперь по ту сторону перегородки, а скользкая, сырая доска лежала на груди.
«А вдруг меня кто-нибудь потащит за ноги к себе с другой стороны подземного хода?» – подумал я и вскочил.
– Ты, Манджура, настоящий богатырь, – похвалил меня Лазарев.
Мы без особого труда оторвали еще одну доску и пролезли друг за другом через перегородку.
Теперь мы шли по настоящему подземелью, где, возможно, уж много лет никто не ходил.
Я шел, довольный тем, что пробил перегородку. Если бы не я, мы и в самом деле повернули бы обратно. Будет чего порассказать хлопцам в школе. Даже сам Лазарев назвал меня богатырем. А это что-нибудь да значит!
Идти было легко, приятно – под ногами лежала не то пыль, не то труха. Ноги неслышно ступали по ней. Вдруг у меня под ногой что-то хрустнуло и зазвенело.
– Валериан!.. – выкрикнул я и не договорил.
Лазарев сразу же опустил фонарь, и я увидел под старой холодной стеной чьи-то кости и рядом с ними белый, уткнувшийся глазными впадинами в землю круглый череп.
– Что такое, Васька? А? – прошептал Маремуха, наваливаясь на меня сзади.
Я не ответил Маремухе. Мне стало страшно. Теперь я пожалел, что мы пошли сюда, в этот проклятый подземный ход. Он лежал длинный и узкий, этот скелет, вытянув перед собою обе руки. Между ними, точно круглый булыжник, белел череп. Лазарев смело нагнулся и поднял с земли зазвеневшую цепь. Я увидел кандалы. Белые кости рук высыпались из круглых кандальных очков на землю.
– Кто это? – чужим, придавленным голосом спросил Маремуха.
– Кто это? – спокойно повторил Лазарев, позванивая кандалами и поднося их почти к самому лицу. – Трудно сказать. Можно только догадываться… Давайте подумаем…
В подземном ходе стало очень тихо. Фонарь горел мигая. Неровные отблески прыгали по стенам. В тишине подземелья было ясно слышно дыхание каждого из нас.
– Давайте подумаем, – медленно повторил Лазарев. – Когда уманский полковник Гонта вместе с Максимом Железняком поднял против своих магнатов восстание, известное в истории под названием Колиивщины, паны подавили это восстание и стали ловить казаков Гонты. Здесь, в нашей Старой крепости, тоже сидели перед смертью пойманные панскими гайдуками казаки. Кто знает – может, этот человек и есть один из них?
Помолчав немного, Лазарев добавил:
– А возможно, этот кандальник – один из друзей славного повстанца Кармелюка. Бедняга погиб здесь не так давно. Я сужу по кандалам. Им лет полтораста, не больше. Во всяком случае, человек этот не был паном, иначе не стал бы он умирать здесь в кандалах…
Я нагнулся и только хотел тронуть череп, как Маремуха заголосил:
– Не надо, Васька, не надо!.. – и шарахнулся в сторону.
– Не надо трогать! Оставь! – строго сказал мне Лазарев.
…Я представил себе, как умирал здесь, в подземелье, этот неизвестный человек. Наверно, он долго бился своими закованными руками о перегородку и так и не мог ее разломать… Он несколько раз брел назад, к тюремному замку, затем снова поворачивал обратно, искал другого выхода из подземелья, пока наконец, обессиленный, измученный пытками, не упал навсегда на эту сырую землю.
Конечно, он приятель Кармелюка! Ведь только Кармелюк и его друзья могли решиться удрать из этой страшной крепости. Наверное, вот этот человек вместе с Кармелюком подстерегал на гористых дорогах Подолии панов, мстил им за издевательства над бедным людом. Может быть, вместе с Кармелюком этот человек скрывался в густых подольских лесах и где-либо на привале, в глухом, неизвестном панам байраке, пел вполголоса, в тихую звездную ночь, песню храброго Кармелюка:
Вбогi люди, вбогi люди, Скрiзь вас, люди, бачу, Як згадаю вашу муку, Сам не раз заплачу. Кажуть люди, що щасливий, Я з того смiюся, Бо не знають, як я часом Сльозами заллюся. Куди пiду, подивлюся - Скрiзь багач панує, У розкошах превеликих I днує й ночує.И, наверное, когда кончалась эта грустная, протяжная песня, наступал рассвет, и звезды одна за другой гасли в небе. Тогда, при отблесках потухающего костра, товарищи Кармелюка, собирая оружие и готовясь выступать, затягивали новую, смелую песню:
Гайда, хлопцi, гайда, хлопцi, I я буду з вами! Нападемо ми на панство Темними шляхами!И, должно быть, первый, кто запел эту песню, был сам Устин Кармелюк. Я вспомнил все то, что рассказывал нам Лазарев об Устине Кармелюке, и увидел его в предрассветном лесу, в полумраке глухого оврага, рослого, плечистого, запахивающего коричневую чумарку из домотканого крестьянского сукна; я увидел грозное и смелое лицо его с клеймом, выжженным раскаленным железом на широком лбу. Я увидел, как Устин Кармелюк, подпоясавшись, нахлобучивает папаху, берет в одну руку старинный курковый пистоль, в другую – суковатую палку и говорит своим друзьям:
– Рушаймо, хлопци! Почастуемо панив!
…Так, думая о Кармелюке, я шел за Лазаревым дальше по подземному ходу.
Рядом посапывал напуганный Маремуха.
Я протянул руку и нащупал клубок шпагата, который он держал перед собой. Шпагата оставалось совсем мало. А что, если мы здесь заблудимся?
Я хотел попросить Валериана Дмитриевича повернуть обратно, но не решился. «Хорошо еще, что красноармеец заметил, как мы пошли сюда, – подумал я, – в случае чего, он пришлет нам на выручку своих товарищей».
– Стойте! – сказал Лазарев и поднял руку.
Размахивая фонарем, он осторожно вошел в небольшой зал. Вправо в стену уходила черная квадратная дыра, а в левом углу зала чернели две щели. Лазарев повернул налево, и когда мы с ним подошли к щелям, то увидели, что продолжение хода здесь. Правда, ход был заложен большим квадратным камнем, но Лазарев сильно надавил камень одной рукой, и эта огромная глыба гранита повернулась на железной оси и стала поперек. Теперь по обе стороны каменной двери чернели высокие и узкие щели. В каждую из них мог пролезть человек. Лазарев молча передал фонарь Петьке, а сам, опираясь руками о камень, заглянул вглубь. Петька светил фонарем.
– Предположим, что сюда идет главный ход. Ну хорошо, а что ж это такое? – И с этими словами Лазарев подошел к маленькой квадратной дырке, что чернела в стороне под самым потолком. Мы двинулись за Валерианом Дмитриевичем, и я споткнулся о камень.
– А ну, посвети! – шепнул я Маремухе.
Маремуха вытянул руку с фонарем так, словно на земле лежал новый череп. Он успокоился, лишь хорошо разглядев, что под ногами у меня обыкновенный квадратный камень. Наверное, им-то и была заслонена черная дырка, в которую заглядывал сейчас, приподнявшись на цыпочки, Лазарев. Вдруг Лазарев просунул в дырку руку и стал один за другим отваливать камни. Тяжело ухая, камни падали на землю, и полукруглый свод подземной залы трясся при каждом таком ударе. Лазарев смело отваливал камни, и за ними открывалась черная пустота. Когда дыра стала большой и круглой, Лазарев, кивая на черную впадину, сказал:
– Сюда пойти, по-моему, интереснее. Как вы думаете, а, ребята?
Мы молчали и, по правде сказать, думали только, как бы побыстрее выбраться отсюда на волю, на солнце, на свежий осенний воздух. Не дождавшись ответа, Лазарев махнул рукой в сторону входа, загороженного камнем, добавил:
– Главный-то путь, разумеется, там. Но туда мы пойти всегда успеем. Давайте лучше заглянем в потайное отделение.
И Валериан Дмитриевич, взяв фонарь у Петьки, шагнул к выломанной в стене дыре. Мы полезли за ним.
Идти сейчас было гораздо хуже, чем раньше.
Из земли то и дело высовывались острые камни, дорога пошла в гору. Но не успели мы сделать и пятидесяти шагов, как подъем кончился, и мы стали куда-то спускаться. И чем дальше мы шли, тем круче был спуск и уже становился подземный ход. Вдвоем тут протиснуться было невозможно. Лазарев шел впереди, позванивая кандалами и размахивая фонарем. Но потом он стал идти медленнее, ощупывая стены свободной рукой. Ноги так и скользили вниз, я тоже упирался руками о скользкие стены, чтобы не подбить Лазарева. Ноги все чаще нащупывали мокрую землю. Снизу тянуло сыростью.
– Валериан Дмитриевич! Подождите! – крикнул я, и голос мой сразу же замолк в этом сыром, затхлом воздухе. За шиворот капнула вода. По стенам журчали ручейки. Я уже шел по воде, и мне почудилось кваканье лягушек. Но вот откуда-то сверху повеяло свежим ветром. Я сделал несколько шагов и почувствовал, что ход снова пошел вверх. Тут было суше. Воды как не бывало.
– Подожди, Васька! Не так быстро! – взмолился, догоняя меня, Маремуха.
– Ну, давай скорей! – цыкнул я на Петьку, и мы стали карабкаться все вверх и вверх, пока я снова не натолкнулся на Лазарева.
Он стоял, согнувшись, и освещал засыпанную мелким щебнем стену.
Подземный ход кончился.
– Вот закавыка. Тупик! – сказал нам озадаченный Валериан Дмитриевич!
И впрямь было похоже, что здесь тупик, но воздух здесь был чистый, свежий.
– Подержи, Манджура, – сказал Лазарев, протягивая мне фонарь. – А ну-ка, попробуем! – И Валериан Дмитриевич изо всей силы ударил ногой в стенку.
И сразу же нога его ушла в мягкий сыпучий грунт, а когда Лазарев вытащил ногу обратно, мы увидели круглую дыру, а за ней – солнечный свет.
Руками мы быстро разгребли землю и, когда нора стала широкой, посторонились, чтобы дать дорогу Лазареву. Я вылез из подземного хода последним и сперва даже не мог сообразить, где мы находимся. Рядом с норой, окруженной кустами, поднималась высокая зубчатая стена какой-то башни. В двух шагах от башни начинался обрыв; далеко внизу, в скалистых берегах, текла блестевшая под солнцем река. И, только взглянув налево и увидев там, на холме, обращенную к нам тыльной своей стороной Старую крепость, я понял, что мы попали в предместье Татариски, версты за полторы от нашего Заречья.
– Я думал, что мы в Калиновском лесу выйдем, а тут смотри как близенько! – с огорчением сказал Маремуха и добавил: – Надо было в тот ход идти.
– Ну, давай пойдем! – вызвался я. – Полезли назад?
– Нет, что ты! – испугался Маремуха. – Уже поздно.
И, словно побаиваясь, чтобы я не потащил его обратно в эту черную дыру, Петька отошел в сторону, к высокой сторожевой башне.
– Валериан Дмитриевич! Валериан Дмитриевич! – вдруг закричал он. – Смотрите, тут что-то написано!
– Где написано? – спросил Лазарев, подходя к Петьке.
– А вот, смотрите! – показал Петька, задирая голову вверх.
Над входом в сторожевую башню, в каменной стене, белела узенькая мраморная плиточка. На ней была высечена надпись: «Felix regnum quod tempore pacis, tractat bella».
– Это поляки написали, правда, Валериан Дмитриевич? – радостно выкрикнул Маремуха.
– Написано по-латыни, – сказал Лазарев. – Надписи этой лет двести пятьдесят. Только вот как ее перевести? Постойте… – И Лазарев зашевелил губами, шепча про себя какие-то слова.
Мы, выжидая, смотрели на него. Наконец Лазарев сказал:
– Ну вот, приблизительно здесь написано так: «Счастливо то государство, которое во время мира готовится к войне».
В эту минуту я еще больше стал уважать Лазарева. Петька Маремуха смотрел Лазареву прямо в рот. Видно, Петьке было очень приятно, что он первый заметил и показал Валериану Дмитриевичу эту беленькую плиточку. А Лазарев поглядел вокруг, подобрал с земли кандалы и сказал:
– Ну, так вот – давайте, хлопчики, по домам! Нагулялись мы с вами сегодня – пора и честь знать.
– А мы еще пойдем сюда? – спросил я.
– Обязательно! – пообещал Лазарев. – Соберем побольше охотников да в воскресенье на целый день в поход пойдем. Помните, как в крепость с вами тогда ходили?
– В высшеначальном, да? – подсказал Маремуха.
Мы проводили Лазарева до самого бульвара, там попрощались и пошли к себе на Заречье обедать. Возле Старой усадьбы мы бросили жребий, кому послезавтра нести в школу фонарь. Вышло, что фонарь понесет Маремуха.
А я, довольный сегодняшней прогулкой, побежал домой с пустыми руками.
Из Нагорян к нам в город переехал учиться Оська. Часто во время переменок мы выбегаем с ним на площадь за каштанами. Мы отыскиваем их в кучах пожелтевших листьев, набираем полные карманы – и айда обратно, на третий этаж. Очень приятно швырять каштаны с балкона через площадь – они летят, точно пули. Петро Маремуха наловчился и добрасывает их до самого кафедрального собора, однажды даже Прокоповичу каштаном в спину угодил. Его, нашего старого бородатого директора, мы видим часто. Он пошел в попы и служит в соборе. Смешным показался он нам, когда мы увидели его в первый раз в длинной зеленой рясе с тяжелым серебряным распятием на груди. Теперь, как только попадется Прокопович на глаза, мы поднимаем крик:
– Мухолов! Мухолов!
Позанимались мы спокойно недели три и уже не думали, что в нашу школу будут записывать еще учеников, как вдруг в классе появился Котька Григоренко.
Я даже вздрогнул, когда увидел его в дверях нашего класса. У нас начался урок. Природовед Половьян прикалывал к доске рисунки скелета мамонта. Котька осторожно, на цыпочках, чтобы не заметил Половьян, пробрался в конец класса. Он бесшумно уселся там на заднюю парту. Весь урок меня подмывало обернуться, посмотреть хоть искоса, что делает Котька, но я сдерживал себя: ведь мы же враги!
На большой перемене Котька уже освоился и чувствовал себя так, будто и не уходил отсюда на каникулы. Он вымазал мелом всю доску, рисуя на ней хату под соломенной крышей, прыгнул несколько раз через парту, выменял у Яшки Тиктора за два карандаша австрийский патрон. Со мной и Маремухой Котька не разговаривал. А на другой день к нам на парту, как только окончился третий урок, подсел конопатый Сашка Бобырь.
– Хлопцы, помогите! – прошептал он, оглядываясь на соседей.
– А что? – спросил Оська.
– Хлопцы, слушайте, – взмолился Бобырь, – у Котьки есть мой «бульдог». Он принес его в класс. Я подсмотрел, он показывал Тиктору. Хлопцы, я вам за то дам дроби, у меня есть целый фунт дроби. Только помогите, хлопцы!
– А где же Котька? – спросил, вставая, Маремуха. Его глаза загорелись. Он вышел из-за парты.
– Наверх побежал, наверх! – с волнением ответил Бобырь.
Он так волновался, что даже его веснушки побагровели.
Мы нашли Котьку в конце пустого коридора третьего этажа. Он шел из уборной к нам навстречу, заложив руки в карманы.
– Котька, послушай! – дрожащим голосом остановил его Сашка Бобырь.
– Чего тебе? – насторожился Котька.
– Котька, отдай «бульдог»! – сказал Бобырь.
– «Бульдог»? – встревожился Котька. – У меня его нет!
– Не обманывай, есть! – прохрипел Бобырь. – Он у тебя в кармане.
И в ту же минуту Котька прыгнул назад к окну. Наперерез ему бросился Петро и закричал:
– Хватай его за ноги!
Хорошее дело – хватай за ноги! Но ведь это не так просто, как думает Петрусь. Котька размахивает ногами так быстро и сильно, что подойти к нему невозможно. Спиной он отталкивает Маремуху, но тот крепко сжал Котькины руки и не отпускает. Григоренко кряхтит от злости, мотает головой, но вырваться не может.
– Да ну, хватай! Дай ему леща! Что вы боитесь! – подбодрил нас Петрусь.
В эту минуту мне удалось поймать Григоренко за ногу. Я крепко ухватил его за ботинок и потянул изо всей силы к себе. Бобырь понатужился и швырнул Котьку на пол, под самую печь, к ногам Маремухи. Теперь Григоренко нам не страшен. Сейчас мы его обыщем!
– Пустите, сам отдам, – сквозь зубы прохрипел Котька.
– Отдашь? – сидя верхом на Котькиных плечах, недоверчиво переспросил Бобырь.
– Отдам… Ей-богу, отдам, – пообещал Григоренко.
– А ну, пустите его, хлопцы! – приказал Бобырь и вскочил на ноги.
Не очень охотно мы выполнили это приказание. Помятый, взъерошенный Котька, не глядя на нас, медленно поднялся и отряхнул со штанов пыль. Потом он полез в карман и неторопливо вытащил «бульдог». Это был очень хороший револьвер – новенький, блестящий: видно, из него стреляли очень мало.
Бобырь даже облизнулся.
– Ну, дай сюда, – попросил он, протягивая свою длинную худую руку.
– Дать? Что дать? Что ты хочешь?.. – крепко сжимая рукоятку «бульдога», удивленно спросил Котька.
– Револьвер! – простонал Бобырь и протянул навстречу другую руку.
– Револьвер? А, дудки! – И с этими словами Котька, размахнувшись, вышвырнул его в открытое окно. – Нате! – злобно прошипел он, и в эту минуту внизу, на площади, хлопнул револьверный выстрел.
Вот так штука! Это, видно, выстрелил, ударившись о камни, Сашкин «бульдог». Мы присели. А вдруг пулей убило кого-нибудь на площади? Маремуха попятился к лестнице. А Котька, одернув рубашку, злобно улыбнулся и спросил:
– Получили? Фигу с маком?
Только сейчас мы пришли в себя, поняли, как ловко обманул нас Григоренко.
– Ты… ты… к папе захотел? – выкрикнул, заикаясь, побледневший Сашка Бобырь.
– Подожди! – остановил Бобыря Петька. – Побежали на балкон, посмотрим!
Мы помчались по коридору.
– Он что у тебя – самовзвод? – догоняя Бобыря, с сочувствием спросил я.
– Ну да, самовзвод… – жалобно ответил Сашка.
Мы осторожно выглянули с балкона на улицу. На площади пусто.
Желтые листья валяются на камнях. На самом углу гимназии, под тем окном, из которого только что выбросил револьвер Григоренко, стоит какой-то красноармеец и смотрит вверх, на третий этаж, где ветер качает обе половинки открытого окна.
Постояв немного под окном, красноармеец сунул револьвер в карман и медленно, то и дело оглядываясь, пошел прочь.
Сашка с тоской следил за каждым его шагом. Никогда уже не видать ему своего «бульдога». Да и мы все с сожалением смотрели вслед красноармейцу, а я подумал даже: «Не побежать ли за ним вдогонку?» Мне казалось, что, если бы как следует попросить красноармейца, он бы отдал нам оружие. Зачем он ему, этот маленький пустяковый револьвер с мягкими свинцовыми пульками? Ведь, наверное, у красноармейца есть наган. Но пока я думал так, красноармеец скрылся за кафедральным собором. Бежать было поздно.
Уже в классе Котька Григоренко, отойдя к учительской кафедре, погрозил:
– Мы еще с вами поквитаемся! Погодите…
– Ладно, ладно. Еще захотел? Гадюка петлюровская! – со злостью ответил Маремуха.
В класс вошел с нотами под мышкой Чибисов, и Котька, озираясь, сел за парту.
Вскоре после этого случая от Яшки Тиктора мы узнали, что во второй трудовой школе на Тернопольском спуске в старших классах изучают какой-то новый, не знакомый нам предмет – политграмоту…
– Это про политику, наверное, – важно объяснил Бобырь.
– Откуда ты знаешь? – недоверчиво спросил Маремуха.
– Вот и знаю… я все знаю… – запрыгал Сашка. – Мой старший брат посещает комсомольскую ячейку у печатников, он мне говорил такое самое слово.
– А почему у нас нет этой… как, Яшка? – спросил Маремуха.
– Политграмоты, – подсказал Тиктор.
– Почему нет? А разве ты не знаешь почему? – ответил Бобырь. – Учителя не хотят, вот почему! Разве у них политика на уме? Вот пойдем пожалуемся…
– Куда ты пойдешь, куда? – затоптался около Сашки Маремуха. За это лето он почернел и даже немного подрос.
– А в тот красный дом, что за Новым бульваром! – смело предложил Бобырь. – Мой брат говорил, что в том доме все начальники жалобы от людей принимают.
– Ну, в красный дом… – испугался Маремуха. – Зачем туда? Надо у Лазарева просить…
– Чудак, – сказал я, – Лазареву самому трудно нам помочь. Он пока один, а этих гадов, вроде Родлевской, много. Они его и так заедают.
На следующий день после уроков мы возвращались к себе домой на Заречье. У меня на душе было легко и радостно – уроки нам задали пустяковые, на дворе стояла хорошая погода. Ярко светило солнце, оно заливало весь наш старинный город своими ясными лучами, освещая сухие, чуть синеватые плиты тротуаров, отражаясь в лужицах воды, не просохшей еще после ночного случайного дождя.
Я щурился, глядя на солнце, и думал: как бы хорошо было, если бы круглый год стояло лето! А ведь скоро наступит зима, начнется она с легких заморозков, крыши по утрам будут седые, завянет зеленая трава на огороде, упадет, мертвая, на землю, а потом пойдут морозы один другого сильнее, и река вдруг остановится под Старой крепостью. Бросишь бабку, она запрыгает по льду, заскользит и даже следа не оставит: таким гладким, скользким, прозрачным будет первый, еще очень тонкий лед.
Но тут же я представил себе, как хорошо будет бегать утром, на первой перемене, по школьному двору да проламывать затянутые с ночи тонкой коркой льда лужицы.
Это очень приятно, когда в ясное, морозное утро ноги будто сами несут тебя по мерзлым кочкам! Попадешь с разгона носком в такую лужицу – лед с хрустом проломится, зазвенит, а ты уж помчался дальше, и подошвы сухие. А потом как хорошо после переменки, с холода, вбежать в светлый класс да, пока не вошел учитель, прижаться животом к теплой, чуть-чуть пахнущей краской натопленной печке! И мне стало совсем не жалко, что уходит осень и скоро наступит зима. Это даже лучше. Наточу свои «нурмисы»…
Но вот впереди раздался сильный и дрожащий голос Сашки Бобыря.
Сашка вдруг запел:
Мы дети тех, кто выступал На бой с Центральной радой, Кто паровоз свой оставлял, Идя на баррикады…Пел Сашка плохо, по-козлиному, совсем не так, как пели эту песню красноармейцы, что стояли в епархиальном училище. Я хотел было крикнуть Сашке, чтобы он замолчал, как вдруг с ним вместе запел и Маремуха.
Наш паровоз, вперед лети! В Коммуне остановка, Другого нет у нас пути, В руках у нас винтовка, -пели они уже вдвоем, маршируя по круглым булыжникам.
Теперь было трудно удержаться и мне. Мы пошли прямо посреди мостовой, как настоящие военные. Шли и пели:
И много есть у нас ребят, Что шли с отцами вместе, Кто подавал патрон, снаряд, Горя единой местью…Прохожие останавливались и глядели нам вслед. А мы не обращали на них никакого внимания. Кто нам мог что сделать? Кто мог нам запретить петь? Так, с веселой песней, мы вышли на Новый бульвар. Но вместе идти по узенькой тропинке было трудно. Мы пошли гуськом, и песня сразу оборвалась. Здесь было совсем как в лесу: просторно, много голых деревьев, а вокруг ни одного камешка, только холмы да канавы.
Ветер гнал желтые, сухие листья. Ноги вязли в них, даже когда шли по тропинке. Вдруг Бобырь с разбегу прыгнул в засыпанную листьями канаву. Он растянулся там, как жаба.
– Вот мягко, хлопцы, поглядите! – барахтаясь, кликнул он нас.
Мы, как в воду, бросаемся за ним в канаву, разрываем листья, подбрасываем их горстями кверху, осыпаем золотым дождем друг друга. Они летят над нами, как огромные красноватые бабочки, и, виляя кривыми хвостиками, устало падают на пожелтевшую землю.
Наконец мы покидаем Новый бульвар и выходим на улицу.
– Ты про этот дом говорил, Сашка? – спросил Маремуха, показывая пальцем на красный двухэтажный дом, который стоял рядом с почтой.
– Про этот, про этот, – заволновался Бобырь. – Вот сюда и надо бы пойти.
– А у меня в этом доме знакомый служит, – похвастался Петька.
– Ну, не бреши… знакомый, – ответил я Маремухе.
– Что – не бреши? – окрысился Петька. – А Омелюстый не тут работает? Ты что, забыл?
А ведь Петька прав! Омелюстый действительно тут работает. Мне и отец говорил об этом. Сейчас Омелюстый живет где-то в городе, в общежитии горсовета, и мы встречаем его очень редко.
– Тогда давай пойдем к Омелюстому, – сразу решил Бобырь. – Вот сейчас. Пошли!
– Нет, зачем сейчас, – полез на попятный Маремуха. – Потом пойдем… после.
– Ага, ага! – обрадовался Бобырь. – Никого у тебя в этом доме, наверное, нет. И ты наврал нам про знакомого.
– Я наврал, а? Тогда пойдем… Вот увидишь! – закипятился Петька и шагнул в сторону кирпичного дома.
На коричневых дубовых дверях этого дома прикреплена картонная надпись:
ПОВIТОВИЙ КОМIТЕТ
КОМУНIСТИЧНОI ПАРТII
(БIЛЬШОВИКIВ) УКРАIНИ,
ПОВIТОВИЙ КОМIТЕТ
КОМУНIСТИЧНОI СПIЛКИ
МОЛОДI УКРАIНИ
– Ну, заходим? – прочитав эту надпись, нерешительно спросил у всех Маремуха.
Сашка Бобырь молча толкнул его первого в широкую дверь. Но Маремуха уперся руками в косяк.
– Ну, иди, иди, чего же ты? – сказал я. – Назад только раки лезут.
Гулко захлопнулась за нами тяжелая дверь.
Мы подымаемся по узкой мраморной лестнице, а направо, в глубь первого этажа, уходит полутемный коридор. Куда идти?
Пойдем лучше по коридору.
В дальнем его углу стучит пишущая машинка. Мы делаем несколько шагов в полутьме и останавливаемся у какой-то двери. За ней слышен чей-то громкий голос. Неожиданно дверь открывается, и в коридор выходит наш бывший сосед Омелюстый. Он в высоких брезентовых сапогах, в вышитой косоворотке, в синих брюках галифе.
– Вы чего здесь, мальчики? – удивленно оглядывая нашу компанию, спрашивает Омелюстый.
– А это мы, дядя Омелюстый… Здравствуйте! – И, отстраняя хлопцев, я первый подхожу к Омелюстому.
– Васька? А я тебя не узнал. Ну, заходите, раз в гости пришли, – приглашает Омелюстый.
И мы входим следом за нашим соседом в большую комнату с изразцовым камином.
В комнате, сидя на столах, беседуют какие-то люди. Увидев нас, они замолкают. В комнате очень накурено. Голубые облачка дыма плывут к потолку. У камина, прижавшись друг к дружке, стоят три винтовки.
– Вот делегация пришла, – смеется Омелюстый.
– А чем угощать будешь? – отзывается на его слова лысый коренастый старик в защитной гимнастерке. – Ты бы хоть бубликов для них принес.
– А где я их достану? – разводя руками, говорит Омелюстый и приглашает: – Садитесь, ребята, на подоконник.
Я рассказываю Омелюстому о нашей школе, об учкоме. Он внимательно слушает меня и только изредка почесывает подбородок.
– Директор-то у нас хороший, но вот новый учитель пения Чибисов в церкви поет, в бога верит! – вмешался в разговор Петька Маремуха.
– Да погоди ты, – огрызнулся я. – Вот Родлевская совсем не признает учком. Она говорит, что в учкоме одни нахалы. И наврала, что во французском нет слова «товарищ»…
– А нам нужна политграмота… Во второй школе есть, почему у нас нету? – вдруг храбро выпалил Сашка.
Омелюстый улыбнулся. Засмеялись и его товарищи, сидящие на письменных столах, а один из них вынул из кармана тетрадочку, записал в нее что-то.
– Ладно, хлопчики, все будет: и политграмота, и учителя хорошие, и завтраки, и грифельные доски. Погодите только немного, – обещает Омелюстый, потирая лоб. – Сейчас всем нам много надо учиться. Вот я тоже собираюсь в совпартшколу поступать.
Уже когда мы уходим, я отзываю Омелюстого в сторону.
– А нас вызывали в Чека. Вы Кудревич знаете?
– Знаю, Васька, знаю, – подмигнул мне Омелюстый и посоветовал: – Не болтай только много!
Ровно через неделю после второй перемены в нашем классе появился высокий паренек в простой коричневой рубашке, в грубых зеленых брюках, в тяжелых военных ботинках на лосевой подошве. Мы бегали по классу и, увидев вошедшего, остановились: кто у доски, кто у печки, а Маремуха застыл на кафедре.
– Садитесь, – неожиданно предложил нам этот молодой паренек. – Садитесь, – повторил он и откашлялся.
Мы, недоумевая, как попало усаживаемся за парты.
– Ребята, – хрипло говорит молодой паренек и опять кашляет. – Товарищи… Давайте познакомимся. Моя фамилия Панченко, меня прислал к вам уком комсомола. А впрочем, можете звать меня запросто: товарищ Дмитрий. Заниматься я буду с вами политграмотой. Вы знаете, что такое политграмота?
В классе тихо. Что ответить? Мы с удивлением разглядываем нашего нового, не похожего на остальных и какого-то уж очень скромного преподавателя.



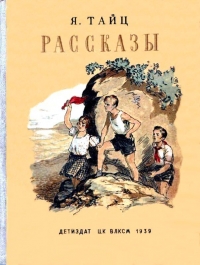
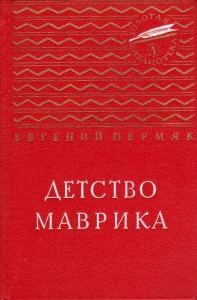







Комментарии к книге «Старая крепость», Владимир Павлович Беляев
Всего 0 комментариев