Марк Твен ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА перевод Корнея Чуковского
Глава I ТОМ ИГРАЕТ, СРАЖАЕТСЯ, ПРЯЧЕТСЯ
— Том!
Нет ответа.
— Том!
Нет ответа.
— Куда же он запропастился, этот мальчишка?.. Том!
Нет ответа.
Старушка спустила очки на кончик носа и оглядела комнату поверх очков; потом вздёрнула очки на лоб и глянула из-под них: она редко смотрела сквозь очки, если ей приходилось искать такую мелочь, как мальчишка, потому что это были её парадные очки, гордость её сердца: она носила их только «для важности»; на самом же деле они были ей совсем не нужны; с таким же успехом она могла бы глядеть сквозь печные заслонки. В первую минуту она как будто растерялась и сказала не очень сердито, но всё же довольно громко, чтобы мебель могла её слышать:
— Ну, попадись только! Я тебя…
Не досказав своей мысли, старуха нагнулась и стала тыкать щёткой под кровать, всякий раз останавливаясь, так как у неё не хватало дыхания. Из-под кровати она не извлекла ничего, кроме кошки.
— В жизни своей не видела такого мальчишки!
Она подошла к открытой двери и, став на пороге, зорко вглядывалась в свой огород — заросшие сорняком помидоры. Тома не было и там. Тогда она возвысила голос, чтоб было слышно дальше, и крикнула:
— То-о-ом!
Позади послышался лёгкий шорох. Она оглянулась и в ту же секунду схватила за край куртки мальчишку, который собирался улизнуть.
— Ну конечно! И как это я могла забыть про чулан! Что ты там делал?
— Ничего.
— Ничего! Погляди на свои руки. И погляди на свой рот. Чем это ты выпачкал губы?
— Не знаю, тётя!
— А я знаю. Это — варенье, вот что это такое. Сорок раз я говорила тебе: не смей трогать варенье, не то я с тебя шкуру спущу! Дай-ка сюда этот прут.
Розга взметнулась в воздухе — опасность была неминуемая.
— Ай! Тётя! Что это у вас за спиной!
Старуха испуганно повернулась на каблуках и поспешила подобрать свои юбки, чтобы уберечь себя от грозной беды, а мальчик в ту же секунду пустился бежать, вскарабкался на высокий дощатый забор — и был таков!
Тётя Полли остолбенела на миг, а потом стала добродушно смеяться.
— Ну и мальчишка! Казалось бы, пора мне привыкнуть к его фокусам. Или мало он выкидывал со мной всяких штук? Могла бы на этот раз быть умнее. Но, видно, нет хуже дурака, чем старый дурень. Недаром говорится, что старого пса новым штукам не выучишь. Впрочем, господи боже ты мой, у этого мальчишки и штуки все разные: что ни день, то другая — разве тут догадаешься, что у него на уме? Он будто знает, сколько он может мучить меня, покуда я не выйду из терпения. Он знает, что стоит ему на минуту сбить меня с толку или рассмешить, и вот уж руки у меня опускаются, и я не в силах отхлестать его розгой. Не исполняю я своего долга, что верно, то верно, да простит меня бог. «Кто обходится без розги, тот губит ребёнка», говорит священное писание.[1] Я же, грешная, балую его, и за это достанется нам на том свете — и мне, и ему. Знаю, что он сущий бесёнок, но что же мне делать? Ведь он сын моей покойной сестры, бедный малый, и у меня духу не хватает пороть сироту. Всякий раз, как я дам ему увильнуть от побоев, меня так мучает совесть, что и сказать не умею, а выпорю — моё старое сердце прямо разрывается на части. Верно, верно сказано в писании: век человеческий краток и полон скорбей. Так оно и есть! Сегодня он не пошёл в школу: будет лодырничать до самого вечера, и мой долг наказать его, и я выполню мой долг — заставлю его завтра работать. Это, конечно, жестоко, так как завтра у всех мальчиков праздник, но ничего не поделаешь, больше всего на свете он ненавидит трудиться. Спустить ему на этот раз я не вправе, не то я окончательно сгублю малыша.
Том и в самом деле не ходил нынче в школу и очень весело провёл время. Он еле успел воротиться домой, чтобы до ужина помочь негритёнку Джиму напилить на завтра дров и наколоть щепок или, говоря более точно, рассказать ему о своих приключениях, пока тот исполнял три четверти всей работы. Младший брат Тома, Сид (не родной брат, а сводный), к этому времени уже сделал всё, что ему было приказано (собрал и отнёс все щепки), потому что это был послушный тихоня: не проказничал и не доставлял неприятностей старшим.
Пока Том уплетал свой ужин, пользуясь всяким удобным случаем, чтобы стянуть кусок сахару, тётя Полли задавала ему разные вопросы, полные глубокого лукавства, надеясь, что он попадёт в расставленные ею ловушки и проболтается. Как и все простодушные люди, она не без гордости считала себя тонким дипломатом и видела в своих наивнейших замыслах чудеса ехидного коварства.
— Том, — сказала она, — в школе сегодня небось было жарко?
— Да, 'м.[2]
— Очень жарко, не правда ли?
— Да, 'м.
— И неужто не захотелось тебе, Том, искупаться в реке?
Тому почудилось что-то недоброе — тень подозрения и страха коснулась его души. Он пытливо посмотрел в лицо тёти Полли, но оно ничего не сказало ему. И он ответил:
— Нет, 'м… не особенно.
Тётя Полли протянула руку и потрогала у Тома рубашку.
— Даже не вспотел, — сказала она.
И она самодовольно подумала, как ловко удалось ей обнаружить, что рубашка у Тома сухая; никому и в голову не пришло, какая хитрость была у неё на уме. Том, однако, уже успел сообразить, куда ветер дует, и предупредил дальнейшие расспросы:
— Мы подставляли голову под насос — освежиться. У меня волосы до сих пор мокрые. Видите?
Тёте Полли стало обидно: как могла она упустить такую важную косвенную улику! Но тотчас же новая мысль осенила её.
— Том, ведь, чтобы подставить голову под насос, тебе не пришлось распарывать воротник рубашки в том месте, где я зашила его? Ну-ка, расстегни куртку!
Тревога сбежала у Тома с лица. Он распахнул куртку. Воротник рубашки был крепко зашит.
— Ну хорошо, хорошо. Тебя ведь никогда не поймёшь. Я была уверена, что ты и в школу не ходил, и купался. Ладно, я не сержусь на тебя: ты хоть и порядочный плут, но всё же оказался лучше, чем можно подумать.
Ей было немного досадно, что её хитрость не привела ни к чему, и в то же время приятно, что Том хоть на этот раз оказался пай-мальчиком.
Но тут вмешался Сид.
— Что-то мне помнится, — сказал он, — будто вы зашивали ему воротник белой ниткой, а здесь, поглядите, чёрная!
— Да, конечно, я зашила белой!.. Том!..
Но Том не стал дожидаться продолжения беседы. Убегая из комнаты, он тихо сказал:
— Ну и вздую же я тебя, Сидди!
Укрывшись в надёжном месте, он осмотрел две большие иголки, заткнутые за отворот куртки и обмотанные нитками. В одну была вдета белая нитка, а в другую — чёрная.
— Она и не заметила бы, если б не Сид. Чёрт возьми! То она зашивала белой ниткой, то чёрной. Уж шила бы какой-нибудь одной, а то поневоле собьёшься… А Сида я всё-таки вздую — будет ему хороший урок!
Том не был Примерным Мальчиком, каким мог бы гордиться весь город. Зато он отлично знал, кто был примерным мальчиком, и ненавидел его.
Впрочем, через две минуты — и даже скорее — он позабыл все невзгоды. Не потому, что они были для него менее тяжки и горьки, чем невзгоды, обычно мучающие взрослых людей, но потому, что в эту минуту им овладела новая могучая страсть и вытеснила у него из головы все тревоги. Точно так же и взрослые люди способны забывать свои горести, едва только их увлечёт какое-нибудь новое дело. Том в настоящее время увлёкся одной драгоценной новинкой: у знакомого негра он перенял особую манеру свистеть, и ему давно уже хотелось поупражняться в этом искусстве на воле, чтобы никто не мешал. Негр свистел по-птичьи. У него получалась певучая трель, прерываемая короткими паузами, для чего нужно было часто-часто дотрагиваться языком до нёба. Читатель, вероятно, помнит, как это делается, — если только он когда-нибудь был мальчишкой. Настойчивость и усердие помогли Тому быстро овладеть всей техникой этого дела. Он весело зашагал по улице, и рот его был полон сладкой музыки, а душа была полна благодарности. Он чувствовал себя как астроном, открывший в небе новую планету, только радость его была непосредственнее, полнее и глубже.
Летом вечера долгие. Было ещё светло. Вдруг Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомец, мальчишка чуть побольше его. Всякое новое лицо любого пола и возраста всегда привлекало внимание жителей убогого городишки Санкт-Петербурга.[3] К тому же на мальчике был нарядный костюм — нарядный костюм в будний день! Это было прямо поразительно. Очень изящная шляпа; аккуратно застёгнутая синяя суконная куртка, новая и чистая, и точно такие же брюки. На ногах у него были башмаки, даром, что сегодня ещё только пятница. У него был даже галстук — очень яркая лента. Вообще он имел вид городского щёголя, и это взбесило Тома. Чем больше Том глядел на это дивное диво, тем обтёрханнее казался ему его собственный жалкий костюм и тем выше задирал он нос, показывая, как ему противны такие франтовские наряды. Оба мальчика встретились в полном молчании. Стоило одному сделать шаг, делал шаг и другой, — но только в сторону, вбок, по кругу. Лицо к лицу и глаза в глаза — так они передвигались очень долго. Наконец Том сказал:
— Хочешь, я тебя вздую!
— Попробуй!
— А вот и вздую!
— А вот и не вздуешь!
— Захочу и вздую!
— Нет, не вздуешь!
— Нет, вздую!
— Нет, не вздуешь!
— Вздую!
— Не вздуешь!
Тягостное молчание. Наконец Том говорит:
— Как тебя зовут?
— А тебе какое дело?
— Вот я покажу тебе, какое мне дело!
— Ну, покажи. Отчего не показываешь?
— Скажи ещё два слава — и покажу.
— Два слова! Два слова! Два слова! Вот тебе! Ну!
— Ишь какой ловкий! Да если бы я захотел, я одною рукою мог бы задать тебе перцу, а другую пусть привяжут — мне за спину.
— Почему ж не задашь? Ведь ты говоришь, что можешь.
— И задам, если будешь ко мне приставать!
— Ай-яй-яй! Видали мы таких!
— Думаешь, как расфуфырился, так уж и важная птица! Ой, какая шляпа!
— Не нравится? Сбей-ка её у меня с головы, вот и получишь от меня на орехи.
— Врёшь!
— Сам ты врёшь!
— Только стращает, а сам трус!
— Ладно, проваливай!
— Эй ты, слушай: если ты не уймёшься, я расшибу тебе голову!
— Как же, расшибёшь! Ой-ой-ой!
— И расшибу!
— Чего же ты ждёшь? Пугаешь, пугаешь, а на деле нет ничего? Боишься, значит?
— И не думаю.
— Нет, боишься!
— Нет, не боюсь!
— Нет, боишься!
Снова молчание. Пожирают друг друга глазами, топчутся на месте и делают новый круг. Наконец они стоят плечом к плечу. Том говорит:
— Убирайся отсюда!
— Сам убирайся!
— Не желаю.
— И я не желаю.
Так они стоят лицом к лицу, каждый выставил ногу вперёд под одним и тем же углом. С ненавистью глядя друг на друга, они начинают что есть силы толкаться. Но победа не даётся ни тому, ни другому. Толкаются они долго. Разгорячённые, красные, они понемногу ослабляют свой натиск, хотя каждый по-прежнему остаётся настороже… И тогда Том говорит:
— Ты трус и щенок! Вот я скажу моему старшему брату — он одним мизинцем отколотит тебя. Я ему скажу — он отколотит!
— Очень я боюсь твоего старшего брата! У меня у самого есть брат, ещё старше, и он может швырнуть твоего вон через тот забор. (Оба брата — чистейшая выдумка.)
— Врёшь!
— Мало ли что ты скажешь!
Том большим пальцем ноги проводит в пыли черту и говорит:
— Посмей только переступить через эту черту! Я дам тебе такую взбучку, что ты с места не встанешь! Горе тому, кто перейдёт за эту черту!
Чужой мальчик тотчас же спешит перейти за черту:
— Ну посмотрим, как ты вздуешь меня.
— Отстань! Говорю тебе: лучше отстань!
— Да ведь ты говорил, что поколотишь меня. Отчего ж не колотишь?
— Чёрт меня возьми, если не поколочу за два цента!
Чужой мальчик вынимает из кармана два больших медяка и с усмешкой протягивает Тому.
Том ударяет его по руке, и медяки летят на землю. Через минуту оба мальчика катаются в пыли, сцепившись, как два кота. Они дёргают друг друга за волосы, за куртки, за штаны, они щиплют и царапают друг другу носы, покрывая себя пылью и славой. Наконец неопределённая масса принимает отчётливые очертания, и в дыму сражения становится видно, что Том сидит верхом на враге и молотит его кулаками.
— Проси пощады! — требует он.
Но мальчик старается высвободиться и громко ревёт — больше от злости.
— Проси пощады! — И молотьба продолжается.
Наконец чужой мальчик невнятно бормочет: «Довольно!» — и Том, отпуская его, говорит:
— Это тебе наука. В другой раз гляди, с кем связываешься.
Чужой мальчик побрёл прочь, стряхивая с костюмчика пыль, всхлипывая, шмыгая носом, время от времени оборачиваясь, качая головой и грозя жестоко разделаться с Томом «в следующий раз, когда поймает его». Том отвечал насмешками и направился к дому, гордый своей победой. Но едва он повернулся спиной к незнакомцу, тот запустил в него камнем и угодил между лопатками, а сам кинулся бежать, как антилопа. Том гнался за предателем до самого дома и таким образом узнал, где тот живёт. Он постоял немного у калитки, вызывая врага на бой, но враг только строил ему рожи в окне, а выйти не пожелал. Наконец появилась мамаша врага, обозвала Тома гадким, испорченным, грубым мальчишкой и велела убираться прочь.
Том ушёл, но, уходя, пригрозил, что будет бродить поблизости и задаст её сыночку как следует.
Домой он вернулся поздно и, осторожно влезая в окно, обнаружил, что попал в засаду: перед ним стояла тётка; и, когда она увидела, что сталось с его курткой и штанами, её решимость превратить его праздник в каторжную работу стала тверда, как алмаз.
Глава II ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МАЛЯР
Наступила суббота. Летняя природа сияла — свежая, кипящая жизнью. В каждом сердце звенела песня, а если сердце было молодое, песня изливалась из уст. Радость была на каждом лице, каждый шагал упруго и бодро. Белые акации стояли в цвету и наполняли воздух ароматом. Кардифская гора, возвышавшаяся над городом, покрылась зеленью. Издали она казалась Обетованной землёй — чудесной, безмятежной, заманчивой.
Том вышел на улицу с ведром извёстки и длинной кистью. Он окинул взглядом забор, и радость в одно мгновенье улетела у него из души, и там — воцарилась тоска. Тридцать ярдов[4] деревянного забора в девять футов вышины! Жизнь показалась ему бессмыслицей, существование — тяжёлою ношею. Со вздохом обмакнул он кисть в извёстку, провёл ею по верхней доске, потом проделал то же самое снова и остановился: как ничтожна белая полоска по сравнению с огромным пространством некрашеного забора! В отчаянии он опустился на землю под деревом. Из ворот выбежал вприпрыжку Джим. В руке у него было жестяное ведро.
Он напевал песенку «Девушки Буффало». Ходить за водой к городскому насосу Том всегда считал неприятным занятием, но сейчас он взглянул на это дело иначе. Он вспомнил, что у насоса всегда собирается много народу: белые, мулаты,[5] чернокожие; мальчишки и девчонки в ожидании своей очереди сидят, отдыхают, ведут меновую торговлю игрушками, ссорятся, дерутся, балуются. Он вспомнил также, что хотя до насоса было не более полутораста шагов, Джим никогда не возвращался домой раньше чем через час, да и то почти всегда приходилось бегать за ним.
— Слушай-ка, Джим, — сказал Том, — хочешь, побели тут немножко, а за водою сбегаю я.
Джим покачал головой и сказал:
— Не могу, масса[6] Том! Старая хозяйка велела, чтобы я шёл прямо к насосу и ни с кем не останавливался по пути. Она говорит: «Я уж знаю, говорит, что масса Том будет звать тебя белить забор, так ты его не слушай, а иди своей дорогой». Она говорит: «Я сама, говорит, пойду смотреть, как он будет белить».
— А ты её не слушай! Мало ли что она говорит, Джим! Давай сюда ведро, я мигом сбегаю. Она и не узнает.
— Ой, боюсь, масса Том, боюсь старой миссис! Она мне голову оторвёт, ей-богу, оторвёт!
— Она! Да она пальцем никого не тронет, разве что стукнет напёрстком по голове — вот и всё! Кто же на это обращает внимание? Говорит она, правда, очень злые слова, ну, да ведь от слов не больно, если только она при этом не плачет. Джим, я дам тебе шарик. Я дам тебе мой белый алебастровый шарик.
Джим начал колебаться.
— Белый шарик, Джим, отличный белый шарик!
— Так-то оно так, вещь отличная! А только всё-таки, масса Том, я крепко боюсь старой миссис.
— И к тому же, если ты захочешь, я покажу тебе мой волдырь на ноге.
Джим был всего только человек и не мог не поддаться такому соблазну. Он поставил ведро на землю, взял алебастровый шарик и, пылая любопытством, смотрел, как Том разбинтовывает палец ноги, но через минуту уже мчался по улице с ведром в руке и мучительной болью в затылке, между тем как Том принялся деятельно мазать забор, а тётушка покидала поле битвы с туфлёй в руке и торжеством во взоре.
Но энергии хватило у Тома ненадолго. Он вспомнил, как весело собирался провести этот день, и на сердце у него стало ещё тяжелее. Скоро другие мальчики, свободные от всяких трудов, выбегут на улицу гулять и резвиться. У них, конечно, затеяны разные весёлые игры, и все они будут издеваться над ним за то, что ему приходится так тяжко работать. Самая мысль об этом жгла его, как огонь. Он вынул из карманов свои сокровища и стал рассматривать их: обломки игрушек, шарики и тому подобная рухлядь; всей этой дребедени, пожалуй, достаточно, чтобы оплатить три-четыре минуты чужого труда, но, конечно, за неё не купишь и получаса свободы! Он снова убрал своё жалкое имущество в карман и отказался от мысли о подкупе. Никто из мальчишек не станет работать за такую нищенскую плату. И вдруг в эту чёрную минуту отчаяния на Тома снизошло вдохновение! Именно вдохновение, не меньше — блестящая, гениальная мысль.
Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вот вдали показался Бен Роджерс, тот самый мальчишка, насмешек которого он боялся больше всего. Бен не шёл, а прыгал, скакал и приплясывал — верный знак, что на душе у него легко и что он многого ждёт от предстоящего дня. Он грыз яблоко и время от времени издавал протяжный мелодический свист, за которым следовали звуки на самых низких нотах: «дин-дон-дон, дин-дон-дон», так как Бен изображал пароход. Подойдя ближе, он убавил скорость, стал посреди улицы и принялся, не торопясь, заворачивать, осторожно, с надлежащею важностью, потому что представлял собою «Большую Миссури», сидящую в воде на девять футов. Он был и пароход, и капитан, и сигнальный колокол в одно и то же время, так что ему приходилось воображать, будто он стоит на своём собственном мостике, отдаёт себе команду и сам же выполняет её.
— Стоп, машина, сэр! Динь-дилинь, динь-дилинь-динь!
Пароход медленно сошёл с середины дороги, и стал приближаться к тротуару.
— Задний ход! Дилинь-дилинь-динь!
Обе его руки вытянулись и крепко прижались к бокам.
— Задний ход! Право руля! Тш, дилинь-линь! Чшш-чшш-чшш!
Правая рука величаво описывала большие круги, потому что она представляла собой колесо в сорок футов.
— Лево на борт! Лево руля! Дилинь-динь-динь! Чшш-чшш-чшш!
Теперь левая рука начала описывать такие же круги.
— Стоп, правый борт! Дилинь-динь-динь! Стоп, левый борт! Вперёд и направо! Стоп! — Малый ход! Динь дилинь! Чуу-чуу-у! Отдай конец! Да живей, пошевеливайся! Эй, ты, на берегу! Чего стоишь! Принимай канат! Носовой швартов![7] Накидывай петлю на столб! Задний швартов! А теперь отпусти! Машина остановлена, сэр! Дилинь-динь-динь! Шт! шт! шт! (Машина выпускала пары.)
Том продолжал работать, не обращая на пароход никакого внимания. Бен уставился на него и через минуту сказал:
— Ага! Попался!
Ответа не было. Том глазами художника созерцал свой последний мазок, потом осторожно провёл кистью опять и вновь откинулся назад — полюбовался. Бен подошёл, и встал рядом. У Тома слюнки потекли при виде яблока, но он как ни в чём не бывало упорно продолжал свою работу. Бен сказал:
— Что, брат, заставляют работать?
Том круто повернулся к нему:
— А, это ты, Бен! Я и не заметил.
— Слушай-ка, я иду купаться… да, купаться! Небось и тебе хочется, а? Но тебе, конечно, нельзя, придётся работать. Ну конечно, ещё бы!
Том посмотрел на него и сказал:
— Что ты называешь работой?
— А разве это не работа?
Том снова принялся белить забор и ответил небрежно:
— Может, работа, а может, и нет. Я знаю только одно: Тому Сойеру она по душе.
— Да что ты? Уж не хочешь ли ты сказать, что для тебя это занятие — приятное?
Кисть продолжала гулять по забору.
— Приятное? А что же в нём такого неприятного? Разве мальчикам каждый день достаётся белить заборы?
Дело представилось в новом свете. Бен перестал грызть яблоко. Том с упоением художника водил кистью взад и вперёд, отступал на несколько шагов, чтобы полюбоваться эффектом, там и сям добавлял штришок и снова критически осматривал сделанное, а Бен следил за каждым его движением, увлекаясь всё больше и больше. Наконец сказал:
— Слушай, Том, дай и мне побелить немножко!
Том задумался и, казалось, был готов согласиться, но в последнюю минуту передумал:
— Нет, нет, Бен… Всё равно ничего не выйдет. Видишь ли, тётя Полли ужасно привередлива насчёт этого забора: он ведь выходит на улицу. Будь это та сторона, что во двор, другое дело, но тут она страшно строга — надо белить очень и очень старательно. Из тысячи… даже, пожалуй, из двух тысяч мальчиков найдётся только один, кто сумел бы выбелить его как следует.
— Да что ты? Вот никогда бы не подумал. Дай мне только попробовать… ну хоть немножечко. Будь я на твоём месте, я б тебе дал. А, Том?
— Бен, я бы с радостью, честное слово, но тётя Полли… Вот Джим тоже хотел, да она не позволила. Просился и Сид — не пустила. Теперь ты понимаешь, как мне трудно доверить эту работу тебе? Если ты начнёшь белить, да вдруг что-нибудь выйдет не так…
— Вздор! Я буду стараться не хуже тебя. Мне бы только попробовать! Слушай: я дам тебе серединку вот этого яблока.
— Ладно! Впрочем, нет, Бен, лучше не надо… боюсь я…
— Я дам тебе всё яблоко — всё, что осталось.
Том вручил ему кисть с видимой неохотой, но с тайным восторгом в душе. И пока бывший пароход «Большая Миссури» трудился и потел на припёке, отставной художник сидел рядом в холодке на каком-то бочонке, болтал ногами, грыз яблоко и расставлял сети для других простаков. В простаках недостатка не было: мальчишки то и дело подходили к забору — подходили зубоскалить, а оставались белить. К тому времени, как Бен выбился из сил, Том уже продал вторую очередь Билли Фишеру за совсем нового бумажного змея; а когда и Фишер устал, его сменил Джонни Миллер, внеся в виде платы дохлую крысу на длинной верёвочке, чтобы удобнее было эту крысу вертеть, — и так далее, и так далее, час за часом. К полудню Том из жалкого бедняка, каким он был утром, превратился в богача, буквально утопающего в роскоши. Кроме вещей, о которых мы сейчас говорили, у него оказались двенадцать алебастровых шариков, обломок зубной «гуделки»,[8] осколок синей бутылки, чтобы глядеть сквозь него, пушка, сделанная из катушки для ниток, ключ, который ничего не хотел отпирать, кусок мела, стеклянная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головастиков, шесть хлопушек, одноглазый котёнок, медная дверная ручка, собачий ошейник — без собаки, — рукоятка ножа, четыре апельсиновые корки и старая, сломанная оконная рама.
Том приятно и весело провёл время в большой компании, ничего не делая, а на заборе оказалось целых три слоя извёстки! Если бы извёстка не кончилась, он разорил бы всех мальчиков этого города.
Том сказал себе, что, в сущности, жизнь не так уж пуста и ничтожна. Сам того не ведая, он открыл великий закон, управляющий поступками людей, а именно: для того чтобы человек или мальчик страстно захотел обладать какой-нибудь вещью, пусть эта вещь достанется ему возможно труднее. Если бы он был таким же великим мудрецом, как и автор этой книги, он понял бы, что Работа есть то, что мы обязаны делать, а Игра есть то, что мы не обязаны делать. И это помогло бы ему уразуметь, почему изготовлять бумажные цветы или, например, вертеть мельницу — работа, а сбивать кегли и восходить на Монблан[9] —удовольствие. В Англии есть богачи-джентльмены, которые в летние дни управляют четвёркой, везущей омнибус за двадцать — тридцать миль, только потому, что это благородное занятие стоит им значительных денег; но, если бы им предложили жалованье за тот же нелёгкий труд, развлечение стало бы работой, и они сейчас же отказались бы от неё.
Некоторое время Том не двигался с места; он размышлял над той существенной переменой, какая произошла в его жизни, а потом направил свои стопы в главный штаб — рапортовать об окончании работы.
Глава III ЗАНЯТ ВОЙНОЙ И ЛЮБОВЬЮ
Том предстал перед тётей Полли, сидевшей у открытого окошка в уютной задней комнате, которая была одновременно и спальней, и гостиной, и столовой, и кабинетом.
Благодатный летний воздух, безмятежная тишина, запах цветов и убаюкивающее жужжание пчёл произвели на неё своё действие: она клевала носом над вязанием, ибо единственной её собеседницей была кошка, да и та дремала у неё на коленях. Для безопасности очки были подняты вверх и покоились на её сединах.
Она была твёрдо уверена, что Том, конечно, уже давно убежал, и теперь удивилась, как это у него хватает храбрости являться к ней за суровой расправой.
Том вошёл и опросил:
— А теперь, тётя, можно пойти поиграть?
— Как! Уже? Сколько же ты сделал?
— Всё, тётя!
— Том, не лги! Я этого не выношу.
— Я не лгу, тётя. Всё готово.
Тётя Полли не поверила. Она пошла посмотреть своими глазами. Она была бы рада, если бы слова Тома оказались правдой хотя бы на двадцать процентов. Когда же она убедилась, что весь забор выбелен, и не только выбелен, но и покрыт несколькими густыми слоями извёстки и даже по земле вдоль забора проведена белая полоса, её изумлению не было границ.
— Ну, знаешь, — сказала она, — вот уж никогда не подумала бы… Надо отдать тебе справедливость, Том, ты можешь работать, когда захочешь. — Тут она сочла нужным смягчить комплимент и добавила: — Только очень уж редко тебе этого хочется. Это тоже надо сказать. Ну, иди играй. И смотри не забудь воротиться домой. Не то у меня расправа короткая!
Тётя Полли была в таком восхищении от его великого подвига, что повела его в чулан, выбрала и вручила ему лучшее яблоко, сопровождая подарок небольшой назидательной проповедью о том, что всякий предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда, кажется нам слаще и милее.
Как раз в ту минуту, когда она заканчивала речь подходящим текстом из евангелия, Тому удалось стянуть пряник.
Он выскочил во двор и увидел Сида. Сид только что стал подниматься по лестнице. Лестница была снаружи дома и вела в задние комнаты второго этажа. Под рукой у Тома оказались очень удобные комья земли, и в одно мгновение воздух наполнился ими. Они бешеным градом осыпали Сида. Прежде чем тётя Полли пришла в себя и подоспела на выручку, шесть или семь комьев уже попали в цель, а Том перемахнул через забор и скрылся. Существовала, конечно, калитка, но у Тома обычно не было времени добежать до неё. Теперь, когда он рассчитался с предателем Сидом, указавшим тёте Полли на чёрную нитку, в душе у него воцарился покой.
Том обогнул улицу и юркнул в пыльный закоулок, проходивший у задней стены тёткиного коровника. Скоро он очутился вне всякой опасности. Тут ему нечего было бояться, что его поймают и накажут. Он направился к городской площади, к тому месту, где, по предварительному уговору, уже сошлись для сражения две армии. Одной из них командовал Том, другой — его закадычный приятель Джо Га́рпер. Оба великих военачальника не снисходили до того, чтобы лично сражаться друг с другом, — это больше пристало мелкоте; они руководили сражением, стоя рядом на горке и отдавая приказы через своих адъютантов. После долгого и жестокого боя армия Тома одержала победу. Оба войска сосчитали убитых, обменялись пленными, договорились о том, из-за чего произойдёт у них новая война, и назначили день следующей решающей битвы. Затем обе армии выстроились в шеренгу и церемониальным маршем покинули поле сражения, а Том направился домой один.
Проходя мимо дома, где жил Джефф Тэчер, он увидел в саду какую-то новую девочку — прелестное голубоглазое создание с золотистыми волосами, заплетёнными в две длинные косички, в белом летнем платьице и вышитых панталончиках. Герой, только что увенчанный славой, был сражён без единого выстрела. Некая Эмми Ло́ренс тотчас же исчезла из его сердца, не оставив там даже следа. А он-то воображал, что любит Эмми Лоренс без памяти, обожает её! Оказывается, это было лишь мимолётное увлечение, не больше. Несколько месяцев он добивался её любви. Всего неделю назад она призналась, что любит его. В течение этих семи кратких дней он с гордостью считал себя счастливейшим мальчиком в мире, и вот в одно мгновенье она ушла из его сердца, как случайная гостья, приходившая на минуту с визитом.
С набожным восторгом взирал он украдкой на этого нового ангела, пока не убедился, что ангел заметил его. Тогда он сделал вид, будто не подозревает о присутствии девочки, и начал «фигурять» перед ней, выкидывая (как принято среди мальчуганов) разные нелепые штуки, чтобы вызвать её восхищение. Несколько времени проделывал он все эти затейливо-вздорные фокусы. Вдруг посреди какого-то опасного акробатического трюка глянул в ту сторону и увидел, что девочка повернулась к нему спиной и направляется к дому. Том подошёл ближе и уныло облокотился на забор; ему так хотелось, чтобы она побыла в саду ещё немного… Она действительно чуть-чуть задержалась на ступеньках, но затем шагнула прямо к двери. Том тяжело вздохнул, когда её нога коснулась порога, и вдруг всё его лицо просияло: прежде чем скрыться за дверью, девочка оглянулась и бросила через забор цветок маргаритки.
Том обежал вокруг цветка, а затем в двух шагах от него приставил ладонь к глазам и начал пристально вглядываться в дальний конец улицы, будто там происходит что-то интересное. Потом поднял с земли соломинку и поставил её себе на нос, стараясь, чтобы она сохранила равновесие, для чего закинул голову далеко назад. Балансируя, он всё ближе и ближе подходил к цветку; наконец наступил на него босою ногою, захватил его гибкими пальцами, поскакал на одной ноге и скоро скрылся за углом, унося с собой своё сокровище.
Но скрылся он всего лишь на минуту, пока расстёгивал куртку и прятал цветок на груди, поближе к сердцу или, быть может, к желудку, так как был не особенно силён в анатомии и не слишком разбирался в подобных вещах.
Затем он вернулся и до самого вечера околачивался у забора, по-прежнему выделывая разные штуки. Девочка не показывалась; но Том тешил себя надеждой, что она стоит где-нибудь у окошка и видит, как он усердствует ради неё. В конце концов он неохотно поплёлся домой, и его бедная голова была полна фантастических грёз.
За ужином он всё время был так возбуждён, что его тётка дивилась: что такое стряслось с ребёнком? Получив хороший нагоняй за то, что кидал в Сида комками земли, Том, по-видимому, не огорчился нисколько.
Он попробовал было стянуть кусок сахару из-под носа у тётки и получил за это по рукам, но опять-таки не обиделся и только сказал:
— Тётя, ведь не бьёте вы Сида, когда он таскает сахар!
— Сид не мучит людей, как ты. Если за тобой не следить, ты не вылезал бы из сахарницы.
Но вот тётка ушла на кухню, и Сид, счастливый своей безнаказанностью, тотчас же потянулся к сахарнице, как бы издеваясь над Томом. Это было прямо нестерпимо! Но сахарница выскользнула у Сида из пальцев, упала на пол и разбилась. Том был в восторге, в таком восторге, что удержал свой язык и даже не вскрикнул от радости. Он решил не говорить ни слова, даже когда войдёт тётка, а сидеть тихо и смирно, пока она не опросит, кто это сделал. Вот тогда он расскажет всё, — и весело ему будет глядеть, как она расправится со своим примерным любимчиком. Что может быть приятнее этого! Он был так переполнен злорадством, что едва мог хранить молчание, когда воротилась тётка и встала над осколками сахарницы, меча молнии гнева поверх очков. Том сказал себе: «Вот оно, начинается!..» Но в следующую минуту он уже лежал на полу! Властная рука занеслась над ним снова, чтобы снова ударить его, когда он со слезами воскликнул:
— Постойте! Постойте! За что же вы бьёте меня? Ведь разбил её Сид!
Тётя Полли остановилась в смущении. Том ждал, что она сейчас пожалеет его и тем загладит свою вину перед ним. Но едва к ней вернулся дар слова, она только и сказала ему:
— Гм! Ну, всё-таки, по-моему, тебе досталось недаром. Уж наверно, ты выкинул какую-нибудь новую штуку, пока меня не было в комнате.
Тут её упрекнула совесть. Ей очень захотелось сказать мальчугану что-нибудь задушевное, ласковое, но она побоялась, что, если она станет нежничать с ним, он, пожалуй, подумает, будто она признала себя виноватой, а этого не допускала дисциплина. Так что она не сказала ни слова и с тяжёлым сердцем занялась обычной работой. Том дулся в углу и растравлял свои раны. Он знал, что в душе она стоит перед ним на коленях, и это сознание доставляло ему мрачную радость. Он решил не замечать заискиваний с её стороны и не показывать ей, что он видит её душевные муки. Он знал, что время от времени она обращает на него горестный взгляд и что в глазах её слёзы, но не желал обращать на это никакого внимания. Он представлял себе, как он лежит больной, умирающий, а тётка наклонилась над ним и заклинает его, чтобы он сказал ей хоть слово прощения; но он поворачивается лицом к стене и умирает, не сказав этого слова. Каково-то ей будет тогда? Он представлял себе, как его приносят домой мёртвым: его только что вытащили из реки, кудри его намокли, и его страдающее сердце успокоилось навеки. Как она бросится на его мёртвое тело, и её слёзы польются дождём, и её губы будут молить господа бога, чтобы он вернул ей её мальчика, которого она никогда, никогда не станет наказывать зря! Но он по-прежнему будет лежать бледный, холодный, без признаков жизни — несчастный маленький страдалец, муки которого прекратились навек! Он так расстроил себя этими скорбными бреднями, что слёзы буквально душили его, ему приходилось глотать их. Всё туманилось перед ним из-за слёз. Всякий раз, когда ему приходилось мигнуть, в его глазах скоплялось столько влаги, что она изобильно текла у него по лицу и капала с кончика носа. И ему было так приятно услаждать свою душу печалью, что он не мог допустить, чтобы в неё вторгались какие-нибудь житейские радости. Всякое наслаждение только раздражало его — такой святой казалась ему его скорбь. Поэтому, когда в комнату влетела, приплясывая, его двоюродная сестра Мери, счастливая, что наконец воротилась домой после долгой отлучки, длившейся целую вечность — то есть неделю, — он, мрачный и пасмурный, встал и вышел из одной двери, в то время как песни и солнце входили вместе с Мери в другую.
Он бродил вдали от тех мест, где обычно собирались мальчишки. Его манили уединённые уголки, такие же печальные, как его сердце. Бревенчатый плот на реке показался ему привлекательным; он сел на самый край, созерцая унылую водную ширь и мечтая о том, как хорошо было бы утонуть в одно мгновенье, даже не почувствовав этого и не подвергая себя никаким неудобствам. Потом он вспомнил о своём цветке, достал его из-под куртки — уже увядший и смятый, — и это ещё более усилило его сладкую скорбь. Он стал спрашивать себя, пожалела бы его она, если бы знала, какая тяжесть у него на душе? Заплакала бы она и захотела бы обвить его шею руками и утешить его? Или она отвернулась бы от него равнодушно, как теперь отвернулся от него пустой и холодный свет?
Мысль об этом наполнила его такой приятной тоской, что он стал перетряхивать её на все лады, покуда она не истрепалась до нитки. Наконец он встал со вздохом и ушёл в темноту.
В половине десятого — или в десять часов — он очутился на безлюдной улице, где жила Обожаемая Незнакомка; он приостановился на миг и прислушался — ни звука. В окне второго этажа тусклая свеча озаряла занавеску… Не эта ли комната осчастливлена светлым присутствием его Незнакомки? Он перелез через изгородь, тихонько пробрался сквозь кусты и встал под самым окном. Долго он смотрел на это окно с умилением, потом лёг на спину, сложив на груди руки и держа в них свой бедный, увядший цветок. Вот так он хотел бы умереть — брошенный в этот мир равнодушных сердец: под открытым небом, не зная, куда приклонить бесприютную голову; ничья дружеская рука не сотрёт смертного пота у него со лба, ничьё любящее лицо не склонится над ним с состраданием в часы его последней агонии. Таким она увидит его завтра, когда выглянет из этого окна, любуясь весёлым рассветом, — и неужели из её глаз не упадёт ни единой слезинки на его безжизненное, бедное тело, неужели из её груди не вырвется ни единого слабого вздоха при виде этой юной блистательной жизни, так грубо растоптанной, так рано подкошенной смертью?
Окно распахнулось. Визгливый голос служанки осквернил священное безмолвие ночи, и целый поток воды окатил останки распростёртого мученика!
Фыркая и встряхиваясь, ошеломлённый герой вскочил на ноги. Вскоре в воздухе подобно снаряду просвистел некий летящий предмет, послышалось негромкое ругательство, раздался звон разбитого стекла, и небольшая, еле заметная тень перелетела через забор и скрылась во мраке.
Когда Том, уже раздевшись, обозревал свою промокшую одежду при свете сального огарка, проснулся Сид. Быть может, и было у него смутное желание высказать несколько замечаний по поводу недавних обид, но он сразу передумал и лежал очень тихо, так как в глазах Тома он заметил угрозу.
Том улёгся, не утруждая себя вечерней молитвой, и Сид про себя отметил это упущение.
Глава IV «КОЗЫРЯНИЕ» В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
Солнце встало над безмятежной землёй и своим ярким сиянием благословляло мирный городок. После завтрака тётя Полли совершила обычное семейное богослужение; оно начиналось молитвой, воздвигнутой на прочном фундаменте библейских цитат, которые она кое-как скрепила жидким цементом своих собственных домыслов. С этой вершины, как с вершины Синая, ею была возвещена суровая заповедь закона Моисеева.
Затем Том препоясал, так сказать, свои чресла[10] и принялся набивать себе голову стихами из библии. Сид уже давным-давно приготовил урок. Том напрягал все свои душевные силы, чтобы удержать в памяти полдесятка стихов. Он нарочно выбрал отрывок из нагорной проповеди, потому что там были самые короткие строки, какие он нашёл во всём евангелии. К концу получаса он получил только смутное представление о своём уроке, не больше, потому что в это время его ум бороздил все поля человеческой мысли, а руки находились в непрестанном движении, рассеянно блуждая там и сям. Мери взяла у него книгу и стала спрашивать урок, а он старался ощупью найти свою дорогу в тумане.
— Блаженные нищие духом… з… э…
— Нищие…
— Да… нищие… блаженны нищие… э… э…
— Духом…
— Духом; блаженны нищие духом… ибо… они…
— Ибо их… Ибо их…
— Ибо их… Блаженны нищие духом, ибо их… есть царствие небесное. Блаженные плачущие, ибо они… они…
— У-Т-Е…
— Ибо они… э…
— У-Т-Е…
— Ибо они УТЕ… Ну, хоть убей — не знаю, что они сделают!
— Утеш…
— О, утеш… Ибо они утеш… ибо они утеш… э… э… Блаженны плачущие, ибо, ибо… Что же они сделают? Отчего ты не подскажешь мне, Мери? Отчего ты такая бессовестная!
— Ах, Том! Несчастный ты, тупоголовый мальчишка! Я и не думаю дразнить тебя! Нет-нет! Просто тебе надо пойти и выучить всё как следует. Не теряй терпения, Том, в конце концов дело наладится, и, если ты выучишь этот урок, я подарю тебе одну очень, очень хорошую вещь. Будь умник, ступай, займись.
— Ладно… Что же это будет такое, Мери? Скажи, что это будет такое?
— Уж об этом не беспокойся, Том. Если я сказала хорошую вещь — значит, хорошую.
— Знаю, Мери, знаю. Ладно, пойду, подзубрю!
Действительно, он принялся очень усердно зубрить; под двойным напором любопытства и ожидаемой выгоды урок был блистательно выучен. За это Мери подарила ему новенький нож фирмы Барлоу, стоимостью в двенадцать с половиною центов, и судорога восторга, которую Том испытал, потрясла всю его душу. Хотя нож оказался тупой, но ведь то был «всамделишный» нож фирмы Барлоу, и в этом было нечто необычайно величественное. Откуда мальчишки Запада взяли, что у кого-нибудь будет охота подделывать такие дрянные ножи и что от подделки они станут ещё хуже, это великая тайна, которая, можно думать, останется вовеки неразгаданной. Всё же Тому удалось изрезать этим ножом весь буфет, и он уже собирался было приняться за комод, да его позвали одеваться, так как пора было идти в воскресную школу.
Мери дала ему жестяной таз, полный воды, и кусок мыла; он вышел за дверь, поставил таз на скамеечку, затем обмакнул мыло в воду и положил его на прежнее место; затем засучил рукава, осторожно вылил воду на землю, вошёл в кухню и принялся что есть силы тереть себе лицо полотенцем, висевшим за дверью. Но Мери отняла у него полотенце.
— Как тебе не стыдно, Том! — воскликнула она. — Разве можно быть таким скверным мальчишкой! Ведь от воды тебе не будет вреда.
Том был немного сконфужен. Снова таз наполнили водой. На этот раз Том некоторое время стоял над ним, набираясь храбрости, наконец глубоко вдохнул в себя воздух и стал умываться. Когда он вторично вошёл в кухню с закрытыми глазами, ощупью отыскивая полотенце, вода и мыльная пена, стекавшие у него с лица, не позволяли сомневаться в его добросовестности. И всё же, когда он вынырнул из-под полотенца, результаты оказались не слишком блестящие, так как чистое пространство, славно маска, занимало только часть его лица, ото лба до подбородка; выше и ниже этих границ тянулась обширная, не орошённая водой территория, вверху поднимавшаяся на лоб, а внизу ложившаяся тёмной полосой вокруг шеи. Мери энергично взялась за него, и после этого он стал человеком, ничем не отличавшимся от других бледнолицых: мокрые волосы были гладко причёсаны щёткой, коротенькие кудряшки расположены с красивой симметричностью. (Он тотчас же стал тайком распрямлять свои локоны, и это стоило ему немалых трудов; он крепко прижимал их к голове, так как был уверен, что локоны делают его похожим на девчонку; они составляли несчастье всей его жизни.) Затем Мери достала для Тома костюм, вот уже два года надевавшийся им только в воскресные дни. Костюм назывался «тот, другой», — и это даёт нам возможность судить о богатстве его гардероба. Когда он оделся, Мери оправила его, застегнула куртку на все пуговицы, отвернула на плечи широкий воротник рубашки, почистила щёткой его платье и наконец увенчала его пёстрой соломенной шляпой. Теперь у него стал приличный и в то же время страдальческий вид. Он действительно тяжко страдал: опрятность и нарядность костюма раздражали его. Он надеялся, что Мери забудет о его башмаках, но надежда оказалась обманчивой: Мери тщательно намазала их, как было принято, салом и принесла ему. Тут он потерял терпение и начал роптать, почему его всегда заставляют делать то, что он не хочет. Но Мери ласково попросила его:
— Ну, пожалуйста, Том… будь умницей.
И он, ворча, натянул башмаки. Мери оделась быстро, и все трое отправились в воскресную школу, которую Том ненавидел всем сердцем, а Сид и Мери любили.
Занятия в воскресной школе длились от девяти до половины одиннадцатого; затем начиналась церковная служба. Мери и Сид всегда добровольно оставались послушать проповедь священника, Том также оставался, — но цели у него были более серьёзные.
На церковных скамьях могло разместиться около трёхсот человек; скамьи были с высокими спинками без подушек, здание маленькое, неказистое, и на крыше торчало нечто вроде узкого ящика из сосновых досок — колокольня. В дверях Том отстал от своих и обратился к одному из приятелей, тоже одетому в воскресный костюм:
— Послушай-ка, Билли, есть у тебя жёлтый билетик?
— Есть.
— Что возьмёшь за него?
— А что дашь?
— Кусок лакрицы[11] и рыболовный крючок.
— Покажи.
Том показал. Вещи были в полном порядке; имущество перешло из рук в руки. Затем Том променял два белых шарика на три красных билетика и ещё отдал несколько безделушек — за пару синих. Он подстерегал входящих мальчиков и скупал у них билетики разных цветов. Это продолжалось десять — пятнадцать минут. Затем он вошёл в церковь вместе с гурьбой опрятно одетых и шумных детей, уселся на своё место и тотчас же затеял ссору с первым попавшимся мальчиком. Вмешался учитель, серьёзный, пожилой человек; но едва только учитель отвернулся, Том дёрнул за волосы сидевшего на скамье впереди и, прежде чем тот успел оглянуться, уткнул нос в книгу. Через минуту он уже колол булавкой другого, так как ему захотелось услышать, как этот другой крикнет «ай!» — и снова получил от учителя выговор. Впрочем, и весь класс был, как на подбор, озорной, беспокойный, шумливый. Когда мальчишки стали отвечать урок, оказалось, что никто не знает стихов как следует, и учителю приходилось всё время подсказывать. Но, как бы там ни было, они с грехом пополам добрались до конца урока, и каждый получил свою награду — маленький синий билетик с текстом из библии: синий билетик был платой за два библейских стиха, выученных наизусть. Десять синих билетиков равнялись одному красному и могли быть обменены на него; десять красных равнялись одному жёлтому; а за десять жёлтых директор школы выдавал ученику библию в очень простом переплёте. (Стоила эта библия при тогдашней дешевизне всего сорок центов.) У многих ли из моих читателей хватило бы сил и терпения заучить наизусть две тысячи стихов, хотя бы в награду им была обещана роскошная библия с рисунками Доре́?[12] А вот Мери заработала таким манером две библии — ценой двухлетнего неустанного труда. А один мальчуган из немецкой семьи даже четыре или пять. Однажды он отхватил подряд, без запинки, три тысячи стихов; но такое напряжение умственных способностей оказалось слишком велико, и с этого дня он сделался идиотом — большое несчастье для школы, так как прежде в торжественных случаях, при публике, директор обыкновенно вызывал этого мальчика «трепать языком» (по выражению Тома). Из прочих учеников только старшие берегли свои билетики и предавались унылой зубрёжке в течение долгого времени, чтобы заработать библию, — так что выдача этого приза была редким и достопримечательным событием. Ученик, получивший библию, делался в этот день знаменитостью. Мудрено ли, что сердца других школьников, по крайней мере на две недели, загорались желанием идти по его стопам! Возможно, что умственный желудок Тома никогда и не стремился к такой пище, но нельзя сомневаться, что всё его существо давно уже жаждало славы и блеска, связанных с получением библии.
Ровно в назначенный час директор появился на кафедре. В руке у него был закрытый молитвенник. Его указательный палец был вложен между страницами книги. Директор потребовал, чтобы его слова были выслушаны с сугубым вниманием. Когда директор воскресной школы произносит свою обычную краткую речь, молитвенник у него в руке так же неизбежен, как ноты в руке певца, который стоит на концертной эстраде и поёт своё соло, — но для чего это нужно, нельзя догадаться, ибо ни в молитвенник, ни в ноты ни один из этих мучеников никогда не заглядывает.
Директор был плюгавый человечек лет тридцати пяти, стриженый, рыжий, с козлиной бородкой; верхние края его туго накрахмаленного стоячего воротничка доходили ему чуть не до ушей, а острые концы загибались вперёд наравне с углами его рта, изображая собою забор, вынуждавший его смотреть только прямо или поворачиваться всем своим туловищем, когда нужно было глянуть куда-нибудь вбок. Опорой его подбородку служил широчайший галстук, никак не меньше банкового билета, окаймлённый по краям бахромой; носки его сапог были по тогдашней моде круто загнуты кверху, словно полозья саней, — эффект, которого молодые люди в то время достигали упорным трудом и терпением, сидя по целым часам у стены и прижимая к ней носки своей обуви. Лицо у мистера Уо́лтерса было глубоко серьёзное, сердце было чистое, искреннее: к священным предметам и местам он питал такие благоговейные чувства и так отделял всё святое от грубо-житейского, что всякий раз, когда случалось ему выступать в воскресной школе, в его голосе незаметно для него самого появлялись особые ноты, которые совершенно отсутствовали в будние дни. Свою речь он начал такими словами:
— Теперь, детки, я просил бы вас минуты две-три сидеть как можно тише, прямее и слушать меня возможно внимательнее. Вот так! Так и должны вести себя все благонравные дети. Я замечаю, что одна маленькая девочка смотрит в окно; боюсь, что ей чудится, будто я сижу там, на ветке, и говорю свою речь каким-нибудь пташкам. (Одобрительное хихиканье.) Я хочу сказать вам, как отрадно мне видеть перед собою столько весёлых и чистеньких личиков, собранных в этих священных стенах, дабы поучиться добру.
И так далее, и тому подобное. Приводить остальное нет надобности. Вся речь директора была составлена по готовому образцу, который никогда не меняется, — следовательно, она известна всем нам. Последнюю треть этой речи подчас омрачали бои, возобновлявшиеся между озорными мальчишками. Было немало и других развлечений. Дети ёрзали, шушукались, и их разнузданность порою дохлёстывала даже до подножия таких одиноких, непоколебимых утёсов, как Мери и Сид. Но все разговоры умолкли, как только голос директора стал понижаться, и конец его речи был встречен взрывом немой благодарности.
В значительной мере шушукание было вызвано одним обстоятельством, более или менее редкостным, — появлением гостей: вошёл адвокат Тэчер в сопровождении какого-то дряхлого старца. Вслед за ними появились джентльмен средних лет, очень внушительный, с седеющей шевелюрой, и величавая дама — несомненно, его жена. Дама вела за руку девочку, Тому всё время не сиделось на месте, он был раздражён и взволнован. Кроме того, его мучили угрызения совести: он не смел встретиться глазами с Эмми Лоренс, не мог выдержать её неясный взгляд. Но когда он увидел вошедшую девочку, его душа исполнилась блаженства. Он мгновенно начал «козырять» что мόчи: тузить мальчишек, дёргать их за волосы, корчить рожи — словом, упражняться во всех искусствах, которыми можно очаровать девочку и заслужить её одобрение. К его восторгу примешивалась одна неприятность: воспоминание о том унижении, которое ему пришлось испытать в саду под окошком ангела; но память об этом событии была начертана, так сказать, на зыбком песке. Потоки блаженства, которое испытывал Том, смывали её, не оставляя следа.
Гостей усадили на самом почётном месте, и как только мистер Уолтерс окончил свою речь, он представил посетителей школьникам.
Мужчина средних лет оказался весьма важной особой — не более, не менее, как окружным судьёй. Такого важного сановника дети ещё никогда не видали; глядя на него, они спрашивали себя с любопытством, из какого материала он сделан, и не то жаждали услышать, как он рычит, не то боялись, как бы он не зарычал. Он прибыл из Константинополя, лежавшего в двенадцати милях отсюда; следовательно, путешествовал и видел свет; он собственными глазами видел здание окружного суда, на котором, как говорят, цинковая крыша. О благоговении, вызываемом подобными мыслями, свидетельствовала тишина во всём классе и целая вереница внимательных глаз. То был великий судья Тэчер, родной брат адвоката, проживавшего здесь, в городке. Джефф Тэчер, школьник, тотчас же вышел вперёд — чтобы, на зависть всей школе, показать, как близко он знаком с великим человеком. Если бы он мог слышать перешёптыванья своих товарищей, они были бы для него сладчайшей музыкой.
— Смотри-ка, Джим, он идёт туда! Да гляди же! Никак, он хочет пожать ему руку?.. Смотри! Честное слово, пожимает! Здоровается! Ого-го-го! Тебе небось хотелось бы быть на месте Джеффа?
Мистер Уолтерс «козырял» по-своему, суетливо выказывая своё усердие и свою расторопность: его советы, распоряжения, приказы так и сыпались на каждого, на кого он мог их обрушить, Библиотекарь тоже «козырял», бегая взад и вперёд с целыми охапками книг, страшно при этом усердствуя, шумя, суетясь. Молоденькие учительницы «козыряли» по-своему, нежно склоняясь над детьми, — которых они незадолго до этого дёргали за уши, — с улыбкой грозя хорошеньким пальчиком непослушным и ласково гладя по головке послушных. Молодые учителя «козыряли», проявляя свою власть замечаниями, выговорами и внедрением похвальной дисциплины. Почти всем учителям обоего пола вдруг понадобилось что-то в книжном шкафу, который стоял на виду — рядом с кафедрой. Они то и дело подбегали к нему (с очень озабоченным видом). Девочки, в свою очередь, «козыряли» на разные лады, а мальчики «козыряли» с таким усердием, что воздух был полон воинственных звуков и шариков жёваной бумаги. А над всем этим высилась фигура великого человека, восседавшего в кресле, озаряя школу горделивой судейской улыбкой и, так сказать, греясь в лучах собственного величия, ибо и он «козырял» на свой лад.
Одного только не хватало мистеру Уолтерсу для полного блаженства: он жаждал показать своим высоким гостям чудо прилежания и вручить какому-нибудь школьнику библию. Но хотя кое-кто из учащихся и скопил несколько жёлтых билетиков, этого было мало: мистер Уолтерс уже опросил всех лучших учеников. Ах, он отдал бы весь мир, чтобы снова вернуть рассудок мальчугану из немецкой семьи!
И вот в ту минуту, когда его надежда угасла, выступает вперёд Том Сойер и предъявляет целую кучу билетиков: девять жёлтых, девять красных и десять синих, и требует себе в награду библию! Это был удар грома среди ясного неба. Мистер Уолтерс давно уже махнул рукою на Сойера и был уверен, что не видать ему библии в ближайшие десять лет. Но против фактов идти невозможно: вот чеки с казённой печатью, и по ним необходимо платить. Тома возвели на помост, где восседали судья и другие избранники, и само начальство возвестило великую новость. Это было нечто поразительное. За последние десять лет школа не видывала такого сюрприза; потрясение, вызванное им, было так глубоко, что новый герой как бы сразу поднялся на одну высоту со знаменитым судьёю, и школа созерцала теперь два чуда вместо одного. Все мальчики сгорали от зависти, и больше всего мучились те, которые лишь теперь уразумели, что они сами помогли Тому добиться такого ужасного успеха, продав ему столько билетиков за те сокровища, которые он приобрёл во время побелки забора. Они презирали себя за то, что их так легко одурачил этот коварный пройдоха, этот змей-обольститель.
Директор вручил Тому библию со всей торжественностью, на какую был способен в ту минуту, но его речь была не слишком горяча — смутное чувство подсказывало бедняге, что здесь кроется какая-то тёмная тайна: было бы сущей нелепостью предположить, что этот мальчишка скопил в амбарах своей памяти две тысячи снопов библейской мудрости, когда у него не хватает ума и на дюжину.
Эмми Лоренс сияла от счастья и гордости. Она принимала все меры, чтобы Том заметил её радость, но он не смотрел на неё. Это показалось ей странным; потом она немного встревожилась; потом в её душу вошло подозрение — вошло и ушло и вошло опять; она стала присматриваться — беглый взгляд сказал ей очень много, и сердце её разбилось, она ревновала, сердилась, плакала и ненавидела весь свет. И больше всех Тома… да, Тома (она была уверена в этом).
Тома представили судье, но несчастный едва смел дышать, язык его прилип к гортани, и сердце его трепетало — частью от страха перед грозным величием этого человека, но главным образом потому, что это был её отец. Том готов был пасть перед ним на колени и поклониться ему, — если бы тут было темно. Судья положил Тому руку на голову, назвал его славным мальчиком и спросил, как его зовут. Том запнулся, разинул рот и наконец произнёс:
— Том.
— О нет, не Том, а…
— Томас.
— Вот это так. Я знал, что твоё имя, пожалуй, немного длиннее. Хорошо, хорошо! Но всё же у тебя, конечно, есть и фамилия; ты мне её скажешь, не правда ли?
— Скажи джентльмену свою фамилию, Томас, — вмешался Уолтерс, — и, когда говоришь со старшими, не забывай прибавлять «сэр». Надо уметь держать себя в обществе.
— Томас Сойер… сэр.
— Ну вот! Умница! Славный мальчик. Хороший мальчуган, молодчина! Две тысячи стихов — это много, очень, очень много! И ты никогда не пожалеешь, что взял на себя труд выучить их, ибо знание важнее всего на свете. Оно-то и делает человека великим и благородным. Ты сам когда-нибудь, Томас, будешь великим и благородным человеком; и тогда ты оглянешься на пройденный путь и скажешь: «Всем этим я обязан бесценной воскресной школе, которую посещал в детстве, всем этим я обязан моим дорогим наставникам, которые научили меня трудиться над книгами; всем этим я обязан доброму директору, который поощрял меня, и лелеял меня, и дал мне чудесную библию, красивую элегантную библию, чтобы у меня была собственная библия и чтобы она всегда была при мне; и всё это оттого, что меня так отлично воспитывали». Вот что ты скажешь, Томас, — и ты, конечно, никаких денег не взял бы за эти две тысячи библейских стихов. Никаких, никогда! А теперь не согласишься ли ты сказать мне и вот этой даме что-нибудь из выученного тобой, — я знаю, ты не откажешься, потому что мы гордимся детьми, которые любят учиться. Ты, конечно, знаешь имена всех двенадцати апостолов?.. Ещё бы! Не скажешь ли ты нам, как звали двух первых?
Том дёргал себя за пуговицу и тупо смотрел на судью. Потом вспыхнул, опустил глаза. У мистера Уолтерса упало сердце. «Ведь мальчишка не в состоянии ответить на самый простой вопрос, — сказал он себе, — зачем только судья спрашивает его?» Но всё же он счёл своим долгом вмешаться.
— Отвечай же джентльмену, Томас, — не бойся!
Том переминался с ноги на ногу.
— Мне-то ты ответишь непременно, — вмешалась дама. — Первых двух учеников Христа звали…
— Давид и Голиаф![13]
Опустим завесу жалости над концом этой сцены.
Глава V ЖУК-КУСАКА И ЕГО ЖЕРТВА
Около половины одиннадцатого зазвонил надтреснутый колокол маленькой церкви, и прихожане стали собираться к утренней проповеди. Ученики воскресной школы разбрелись в разные стороны по церковному зданию, усаживаясь на те же скамьи, где сидели их родители, чтобы всё время быть под надзором старших. Вот пришла тётя Полли; Том, Сид и Мери уселись возле неё, причём Тома посадили поближе к проходу, подальше от раскрытого окна, чтобы он не развлекался соблазнительными летними зрелищами. Молящиеся мало-помалу заполнили все пределы. Вот старый бедняк почтмейстер, видавший некогда лучшие дни; вот мэр и его супруга, — ибо в числе прочих ненужностей в городке был и мэр; вот мировой судья; вот вдова Дуглас, красивая, нарядная женщина лет сорока, добрая, богатая, щедрая: её дом на холме был не дом, а дворец, единственный дворец в городке; к тому же это был гостеприимный дворец, где устраивались самые роскошные пиршества, какими мог похвастать Санкт-Петербург. Вот скрюченный и досточтимый майор Уорд и его супруга. Вот адвокат Риверсон, новая знаменитость, приехавшая в эти места издалека; вот местная красавица, а за нею целый полк очаровательных дев, разодетых в батисты и ленты; вот юные клерки;[14] все, сколько их есть в городке, стоят в притворе полукруглой стеной — напомаженные обожатели прекрасного пола, — стоят и, идиотски улыбаясь, сосут свои трости, покуда не пропустят сквозь строй всех девиц до последней. Наконец после всех пришёл Вилли Меферсон, Примерный Ребёнок, так заботливо охранявший свою маменьку, будто та была хрустальная. Он всегда сопровождал её в церковь, и все пожилые дамы говорили о нём с восхищением. А мальчики — все до единого — ненавидели его за то, что он такой благовоспитанный, а главное, за то, что его благонравием постоянно «тычут им в нос». Каждое воскресенье у него из заднего кармана, будто случайно, торчал кончик белого носового платка (так было и теперь). У Тома носового платка никогда не водилось, и мальчиков, обладавших платками, он считал презренными франтами.
Когда вся церковь наполнилась народом, колокол зазвонил ещё раз, чтобы предупредить запоздавших, и затем на церковь снизошла торжественная тишина, прерываемая только хихиканьем и шушуканьем певчих на хорах. Певчие всегда хихикают и шушукаются во время церковной службы. В одной церкви я видел певчих, которые вели себя более пристойно, но где это было, не помню. С тех пор прошло много лет, и я позабыл все подробности; кажется, это было где-то на чужой стороне.
Священник назвал гимн, который предстояло прочесть, и стал читать его — с завыванием, излюбленным в здешних краях. Начинал он на средних нотах и, постепенно карабкался вверх, взбирался на большую высоту, делал сильное ударение на верхнем слове и затем вдруг летел вниз головой, словно в воду с трамплина.
Священника считали превосходным чтецом. На церковных собраниях его все просили декламировать стихи, и, когда он кончал декламацию, дамы воздевали руки к небу и тотчас же беспомощно роняли их на колени, закатывали глаза и трясли головами, как бы желая сказать: «Никакие слова не выразят наших восторгов: это слишком прекрасно, слишком прекрасно для нашей бренной земли».
После того как гимн был спет, достопочтенный мистер Спрэг превратился в местный листок объявлений и стал подробно сообщать о предстоящих религиозных беседах, собраниях и прочих вещах, пока прихожанам не стало казаться, что этот длиннейший перечень дотянется до Страшного суда, — дикий обычай, который и поныне сохранился в Америке, даже в больших городах, несмотря на то, что в стране издаётся уйма всевозможных газет. Подобные вещи случаются часто: чем бессмысленнее какой-нибудь закоренелый обычай, тем труднее положить ему конец.
Потом священник приступил к молитве. То была хорошая молитва, великодушная, щедрая, не брезгавшая никакими мелочами; никого не позабыла она: она молилась и об этой церкви, и о маленьких детях этой церкви, и о других церквах, имеющихся здесь в городке; и о самом городке; и об округе; и о штате, и о чиновниках штата, и о Соединённых Штатах; и о церквах Соединённых Штатов; и о Конгрессе,[15] и о президенте; и о членах правительства; и о бедных мореходах, претерпевающих жестокие бури; и об угнетённых народах, стонущих под игом европейских монархов и восточных тиранов; и о просвещённых светом евангельской истины, но не имеющих глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать; и о язычниках далёких морских островов, — и заканчивалось всё это горячей мольбой, чтобы слова, которые окажет священник, дошли до престола всевышнего и были подобны зерну, упавшему на плодородную почву, и дали богатую жатву добра. Аминь.
Послышалось шуршание юбок — прихожане, стоявшие во время молитвы, снова уселись на скамьи. Мальчик, биография которого излагается на этих страницах, не слишком наслаждался молитвой — он лишь терпел её как неизбежную скуку, насколько у него хватало сил. Ему не сиделось на месте: он не вдумывался в содержание молитвы, а лишь подсчитывал пункты, которые были упомянуты в ней, для чего ему не нужно было вслушиваться, так как он издавна привык к этой знакомой дороге, которая была постоянным маршрутом священника. Но стоило священнику прибавить к своей обычной молитве хоть слово, как ухо Тома тотчас замечало прибавку, и вся его душа возмущалась; он считал удлинение молитвы бесчестным поступком, мошенничеством. Во время богослужения на спинку передней скамьи села муха. Эта муха положительно истерзала его: она спокойно тёрла свои передние лапки, охватывала ими голову и полировала её так усердно, что голова чуть не отрывалась от тела и видна была тоненькая ниточка шеи; потом задними лапками она чистила и скоблила крылья и разглаживала их, словно фалды фрака, чтоб они плотнее прилегли к её телу; весь свой туалет она совершала так спокойно и медленно, словно знала, что ей ничто не угрожает. Да и в самом деле ей ничто не угрожало, потому что, хотя у Тома чесались руки сцапать муху, он не решался на это во время молитвы, так как был уверен, что он погубит свою душу на веки веков. Но лишь только священник произнёс последние слова, рука Тома сама собой прокралась вперёд, и в ту минуту, когда прозвучало «аминь», муха очутилась в плену. Но тётка заметила этот манёвр и заставила выпустить муху.
Священник произнёс цитату из библии и монотонным гудящим голосом начал проповедь, до того скучную, что вскоре многие уже клевали носами, несмотря на то что речь шла и о вечном огне, и о кипящей сере, а число избранных, которым уготовано было вечное блаженство, сводилось к столь маленькой цифре, что такую горсточку праведников, пожалуй, и не стоило спасать. Том сосчитал страницы проповеди: выйдя из церкви, он всегда мог сказать, сколько в проповеди было страниц, но зато её содержание ускользало от него совершенно. Впрочем, на этот раз кое-что заинтересовало его. Священник изобразил величественную потрясающую картину: как праведники всего мира соберутся в раю, и лев ляжет рядом с ягнёнком, и крошечный ребёнок поведёт их за собой. Пафос и мораль этого зрелища нисколько не тронули Тома; его поразила только та важная роль, которая выпадет на долю ребёнка перед лицом народов всей земли; глаза у него засияли, и он сказал себе, что и сам не прочь быть этим ребёнком, если, конечно, лев ручной.
Но тут опять пошли сухие рассуждения, и муки Тома возобновились. Вдруг он вспомнил, какое у него в кармане сокровище, и поспешил достать его оттуда. Это был большой чёрный жук с громадными, страшными челюстями — «жук-кусака», как называл его Том. Жук был спрятан в коробочку из-под пистонов. Когда Том открыл коробочку, жук первым долгом впился ему в палец. Понятное дело, жук был отброшен прочь и очутился в проходе между церковными скамьями, а укушенный палец Том тотчас же сунул в рот. Жук упал на спину и беспомощно барахтался, не умея перевернуться. Том смотрел на него и жаждал схватить его снова, но жук был далеко. Зато теперь он послужил развлечением для многих других, не интересовавшихся проповедью. Тут в церковь забрёл пудель, тоскующий, томный, разомлевший от летней жары; ему надоело сидеть взаперти, он жаждал новых впечатлений. Чуть только он увидел жука, его уныло опущенный хвост тотчас поднялся и завилял. Пудель осмотрел свою добычу, обошёл вокруг неё, обнюхал с опаской издали; обошёл ещё раз; потом стал смелее, приблизился и ещё раз нюхнул, потам оскалил зубы, хотел схватить жука — и промахнулся; повторил попытку ещё и ещё; видимо, это развлечение полюбилось ему; он лёг на живот, так что жук очутился у него между передними лапами, и продолжал свои опыты. Потом ему это надоело, потом он стал равнодушным, рассеянным, начал клевать носом; мало-помалу голова его поникла на грудь, и нижняя челюсть коснулась врага, который вцепился в неё. Пудель отчаянно взвизгнул, мотнул головой, жук отлетел в сторону на два шага и опять упал на спину. Те, что сидели поблизости, тряслись от беззвучного смеха; многие лица скрылись за веерами и носовыми платками, а Том был безмерно счастлив. У пуделя был глупый вид — должно быть, он и чувствовал себя одураченным, но в то же время сердце его щемила обида, и оно жаждало мести. Поэтому он подкрался к жуку и осторожно возобновил атаку: наскакивал на жука со всех сторон, едва не касаясь его передними лапами, лязгал на него зубами и мотал головой так, что хлопали уши. Но в конце концов и это ему надоело; тогда он попробовал развлечься мухой, но в ней не было ничего интересного; походил за муравьём, приникая носом к самому полу, но и это быстро наскучило ему; он зевнул, вздохнул, совершенно позабыл о жуке и преспокойно уселся на него! Раздался безумный визг, пудель помчался по проходу и, не переставая визжать, заметался по церкви; перед самым алтарём перебежал к противоположному проходу, стрелой пронёсся к дверям, от дверей — назад; он вопил на всю церковь, и чем больше метался, тем сильнее росла его боль; наконец собака превратилась в какую-то обросшую шерстью комету, кружившуюся со скоростью и блеском светового луча. Кончилось тем, что обезумевший страдалец метнулся в сторону и вскочил на колени к своему хозяину, а тот вышвырнул его в окно; вой, полный мучительной скорби, слышался всё тише и тише и наконец замер вдали.
К этому времени все в церкви сидели с пунцовыми лицами, задыхаясь от подавленного смеха. Даже проповедь немного застопорилась. И хотя она тотчас же двинулась дальше, но спотыкалась и хромала на каждом шагу, так что нечего было и думать о её моральном воздействии. Прячась за спинки церковных скамеек, прихожане встречали заглушёнными взрывами нечестивого хохота самые торжественные и мрачные фразы, как будто злосчастный священник необыкновенно удачно острил.
Все вздохнули с облегчением, когда эта пытка кончилась и было сказано последнее «аминь».
Том Сойер шёл домой весёлый; он думал про себя, что и церковная служба может быть иной раз не очень скучна, если только внести в неё некоторое разнообразие. Одно омрачало его радость: хотя ему и было приятно, что пудель поиграл с его жуком, но зачем же негодный щенок унёс этого жука навсегда? Право же, это нечестно.
Глава VI ТОМ ЗНАКОМИТСЯ С БЕККИ
Проснувшись утром в понедельник, Том почувствовал себя очень несчастным. Он всегда чувствовал себя несчастным в понедельник утром, так как этим днём начиналась новая неделя долгих терзаний в школе. Ему даже хотелось тогда, чтобы в жизни совсем не было воскресений, так как после краткой свободы возвращение в темницу ещё тяжелее.
Том лежал и думал. Вдруг ему пришло в голову, что хорошо было бы заболеть; тогда он останется дома и не пойдёт в школу. Надежда слабая, но почему не попробовать! Он исследовал свой организм. Нигде не болело, и он снова ощупал себя. На этот раз ему показалось, что у него начинается резь в животе, и он обрадовался, надеясь, что боли усилятся. Но боли, напротив, вскоре ослабели и мало-помалу исчезли. Том стал думать дальше. И вдруг обнаружил, что у него шатается зуб. Это была большая удача; он уже собирался застонать для начала, но тут же сообразил, что, если он заикнётся о зубе, тётка немедленно выдернет зуб, — а это больно. Поэтому он решил, что зуб лучше оставить про запас и поискать чего-нибудь другого. Некоторое время ничего не подвёртывалось; затем он вспомнил, как доктор рассказывал об одной болезни, уложившей пациента в кровать на две или три недели и грозившей ему потерей пальца. Мальчик со страстной надеждой высунул из-под простыни ногу и начал исследовать больной палец. У него не было ни малейшего представления о том, каковы признаки этой болезни. Однако попробовать всё-таки стоило, и он принялся усердно стонать.
Но Сид спал и не замечал стонов.
Том застонал громче, и понемногу ему стало казаться, что палец у него действительно болит.
Сид не проявлял никаких признаков жизни.
Том даже запыхался от усилий. Он отдохнул немного, потом набрал воздуху и испустил целый ряд чрезвычайно удачных стонов.
Сид продолжал храпеть.
Том вышел из себя. Он сказал: «Сид! Сид!» — и стал легонько трясти спящего. Это подействовало, и Том опять застонал. Сид зевнул, потянулся, приподнялся на локте, фыркнул и уставился на Тома. Том продолжал стонать.
Сид сказал:
— Том! Слушай-ка, Том!
Ответа не было.
— Ты слышишь, Том? Том! Что с тобою, Том?
Сид, в свою очередь, тряхнул брата, тревожно вглядываясь ему в лицо. Том простонал:
— Оставь меня, Сид! Не тряси!
— Да что с тобою, Том? Я пойду и позову тётю.
— Нет, не надо, Может быть, это скоро пройдёт. Никого не зови.
— Нет-нет, надо позвать! Да не стони так ужасно!.. Давно это с тобою?
— Несколько часов. Ой! Ради бога, не ворочайся, Сид! Ты просто погубишь меня.
— Отчего ты раньше не разбудил меня, Том? Ой, Том, перестань стонать! Меня прямо мороз продирает по коже от твоих стонов. Что у тебя болит?
— Я всё тебе прощаю, Сид!.. (Стон.) Всё, в чём ты передо мной виноват. Когда меня не станет…
— Том, неужели ты и вправду умираешь? Том, не умирай… пожалуйста! Может быть…
— Я всех прощаю, Сид. (Стон.) Скажи им об этом, Сид. А одноглазого котёнка и оконную раму отдай, Сид, той девочке, что недавно приехала в город, и скажи ей…
Но Сид схватил одежду — и за дверь. Теперь Том на самом деле страдал, — так чудесно работало его воображение, — и стоны его звучали вполне естественно.
Сид сбежал по лестнице и крикнул:
— Ой, тётя Полли, идите скорей! Том умирает!
— Умирает?
— Да! Да! Чего же вы ждёте? Идите скорей!
— Вздор! Не верю!
Но всё же она что есть духу взбежала наверх. Сид и Мери — за нею. Лицо у неё было бледное, губы дрожали. Добежав до постели Тома, она едва могла выговорить:
— Том! Том! Что с тобой?
— Ой, тётя, я…
— Что с тобою, что с тобою, дитя?
— Ой, тётя, у меня на пальце гангрена![16]
Тётя Полли упала на стул и сперва засмеялась, потом заплакала, потом и засмеялась и заплакала сразу.
Это привело её в себя, и она сказала:
— Ну и напугал же ты меня, Том! А теперь довольно: прекрати свои фокусы, и чтобы этого больше не было!
Стоны замолкли, и боль в пальце мгновенно прошла. Том почувствовал себя в нелепом положении.
— Право же, тётя Полли, мне казалось, что палец у меня совсем омертвел, и мне было так больно, что я даже забыл про свой зуб.
— Зуб? А с зубом у тебя что?
— Шатается и страшно болит, прямо нестерпимо…
— Ну, будет, будет, не вздумай только хныкать опять! Открой-ка рот!.. Да, зуб действительно шатается, но от этого ты не умрёшь… Мери, принеси шёлковую нитку и горящую головню из кухни.
— Тётечка, не вырывайте, не надо, не рвите его — он уже больше не болит! Провалиться мне на этом месте, если он хоть чуточку болит! Тётечка, пожалуйста, не надо! Я и так всё равно пойду в школу…
— Пойдёшь в школу? Так вот оно что! Ты только для того и поднял всю эту кутерьму, чтобы увильнуть от занятий и удрать на реку ловить рыбу! Ах, Том, Том, я так тебя люблю, а ты, словно нарочно, надрываешь моё старое сердце своими безобразными выходками!
Тем временем подоспели орудия для удаления зуба. Тётя Полли сделала петлю на конце нитки, надела её на больной зуб и крепко затянула, а другой конец привязала к столбику кровати; затем схватила пылающую головню и ткнула её чуть не в самую физиономию мальчика. Миг — и зуб повис на нитке, привязанной к столбику.
Но за всякое испытание человеку даётся награда. Когда Том после завтрака отправился в школу, все товарищи, с которыми он встречался на улице, завидовали ему, так как пустота, образовавшаяся в верхнем ряду его зубов, позволяла ему плевать совершенно новым, замечательным способом. Вокруг него собралась целая свита мальчишек, заинтересованных этим зрелищем; один из них, порезавший себе палец и до сих пор служивший предметом общего внимания и поклонения, сразу утратил всех до одного своих приверженцев, и слава его мгновенно померкла. Это страшно огорчило его, и он объявил с напускным презрением, что плевать, как Том Сойер, — пустяковое дело, но другой мальчик ответил на это: «Зелен виноград!» — и развенчанный герой удалился с позором.
Вскоре после этого Том повстречался с юным парией[17] Гекльберри Финном, сыном местного пьяницы. Все матери в городе от всего сердца ненавидели Гекльберри и в то же время боялись его, потому что он был ленивый, невоспитанный, скверный мальчишка, не признававший никаких обязательных правил. И ещё потому, что их дети — все до одного — души в нём не чаяли, любили водиться с ним, хотя это было запрещено, и жаждали подражать ему во всём. Том, как и все прочие мальчишки из почтенных семейств, завидовал отверженному Гекльберри, и ему также было строго-настрого запрещено иметь дело с этим оборванцем. Конечно, именно по этой причине Том не упускал случая поиграть с ним. Гекльберри одевался в обноски с плеча взрослых людей; одежда его была испещрена разноцветными пятнами и так изодрана, что лохмотья развевались по ветру. Шляпа его представляла собою развалину обширных размеров; от её полей свешивался вниз длинный обрывок в виде полумесяца; пиджак, в те редкие дни, когда Гек напяливал его на себя, доходил ему чуть не до пят, так что задние пуговицы помещались значительно ниже спины; штаны висели на одной подтяжке и сзади болтались пустым мешком, а внизу были украшены бахромой и волочились по грязи, если Гек не засучивал их.
Гекльберри был вольная птица, бродил где вздумается. В хорошую погоду он ночевал на ступеньках чужого крыльца, а в дождливую — в пустых бочках. Ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь, он никого не должен был слушаться, над ним не было господина. Он мог удить рыбу или купаться, когда и где ему было угодно, и сидеть в воде, сколько заблагорассудится. Никто не запрещал ему драться. Он мог не ложиться спать хоть до утра. Весной он первый из всех мальчиков начинал ходить босиком, а осенью обувался последним. Ему не надо было ни мыться, ни надевать чистое платье, а ругаться он умел удивительно. Словом, у него было всё, что делает жизнь прекрасной. Так думали в Санкт-Петербурге все изнурённые, скованные по рукам и ногам «хорошо воспитанные» мальчики из почтенных семейств.
Том приветствовал романтического бродягу:
— Эй, Гекльберри! Здравствуй!
— Здравствуй и ты, если хочешь…
— Что это у тебя?
— Дохлая кошка.
— Дай-ка, Гек, посмотреть!.. Ишь ты, окоченела совсем. Где ты её достал?
— Купил у одного мальчишки.
— Что дал?
— Синий билетик да бычий пузырь… Пузырь я достал на бойне.
— А где ты взял синий билетик?
— Купил у Бена Роджерса две недели назад… дал ему палку для обруча.
— Слушай-ка, Гек, дохлые кошки — на что они надобны?
— Как — на что? А бородавки сводить.
— Разве? Я знаю средство почище.
— А вот и, не знаешь! Какое?
— Гнилая вода.
— Гнилая вода? Ничего она не стоит, твоя гнилая вода!
— Ничего не стоит? А ты пробовал?
— Я-то не пробовал. Но Боб Та́ннер — он пробовал.
— А кто тебе об этом сказал?
— Он сказал Джеффу Тэчеру, а Джефф сказал Джонни Бе́йкеру, а Джонни сказал Джиму Хо́ллису, а Джим сказал Бену Роджерсу, а Бен сказал одному негру, а негр сказал мне. Вот и знаю.
— Ну, так что же из этого? Все они врут. По крайней мере, все, кроме негра, его я не знаю. Но я ещё не видывал негра, который не врал бы. Всё это пустая болтовня! Теперь ты мне окажи, Гек, как сводил бородавки Боб Таннер?
— Да так: взял и сунул руку в гнилой пень, где скопилась дождевая вода.
— Днём?
— Ну конечно.
— Лицом ко пню?
— А то как же?
— И при этом говорил что-нибудь?
— Как будто ничего не говорил… Но кто его знает? Не знаю.
— Ага! Ещё бы ты захотел свести бородавки гнилой водой, когда ты берёшься за дело, как самый бестолковый дуралей! Из таких глупостей, разумеется, толку не будет. Надо пойти одному в чащу леса, заприметить местечко, где есть такой пень, и ровно в полночь стать к нему спиною, сунуть в него руку и сказать:
Ячмень, ячмень да гниль-вода, индейская еда, Все бородавки у меня возьмите навсегда!А потом надо закрыть глаза и скоро-скоро отойти ровно на одиннадцать шагов и три раза повернуться на месте, а по дороге домой не сказать никому ни слова. Если скажешь, — пропало: колдовство не подействует.
— Да, похоже, что это правильный способ, только Боб Таннер… он сводил бородавки, не так.
— Да уж наверно не так! Потому-то у него тьма бородавок, он самый бородавчатый из всех ребят в нашем городе. А если бы он знал, как действовать гнилой водой, на нём не было бы теперь ни одной бородавки. Я сам их тысячи свёл этой песней, — да, Гек, со своих собственных рук. У меня их было очень много, потому что я часто возился с лягушками. Иногда я вывожу их бобом.
— Да, это средство верное. Я и сам его пробовал.
— А! как?
— Берёшь боб и разрезаешь его на две части, потом режешь свою бородавку ножом, чтобы достать каплю крови, и мажешь этой кровью одну половину боба, а потом выкапываешь ямку и зарываешь эту половину в землю… около полуночи на перекрёстке дорог, в новолунье, а вторую половину сжигаешь. Дело в том, что та половина, на которой есть кровь, будет тянуть и тянуть к себе вторую половину, а кровь тем временем притянет к себе бородавку, и бородавка очень скоро сойдёт.
— Верно, Гек, верно, хотя было бы ещё лучше, если бы, закапывая в ямку половину боба, ты при этом приговаривал так: «В землю боб — бородавка долой; теперь навсегда я расстанусь с тобой!» Так было бы ещё сильнее. Так сводит бородавки Джо Га́рпер, а уж он бывалый! Где только не был. — доезжал чуть не до Кунвиля… Ну, а как же ты сводишь их дохлыми кошками?
— А вот как. Возьми кошку и ступай с ней на кладбище незадолго до полуночи — к свежей могиле, где похоронен какой-нибудь плохой человек, и вот в полночь явится чёрт, а может, два и три; но ты их не увидишь, только услышишь, будто ветер шумит, а может, и услышишь ихний разговор. И когда они потащат покойника, ты брось им вслед кошку и скажи: «Чёрт за мертвецом, кот за чёртом, бородавки за котом, — тут и дело с концом, все трое долой от меня!» От этого всякая бородавка сойдёт.
— Похоже на то. Сам-то ты когда-нибудь пробовал, Гек?
— Нет. Но мне сказывала старуха Гопкинс.
— Ну, так это верно: говорят, она ведьма.
— «Говорят»! Я наверняка знаю. Она напустила порчу на отца. Отец мне сам рассказывал. Раз он идёт и видит, что она на него напускает порчу. Он взял камень да в неё, — еле увернулась. И что же ты думаешь: в ту самую ночь он скатился во сне с навеса, пьяный, и сломал себе руку.
— Боже мой, страсти какие! А как же он догадался, что это она напустила порчу?
— Для отца это — плёвое дело. Он говорит: если ведьма пялит на тебя свои глазищи, ясно — она колдует. Хуже всего, если она при этом бормочет; это значит — она читает «Отче наш»[18] навыворот, задом наперёд, — понимаешь?
— Слушай-ка, Гек, ты когда будешь пробовать кошку?
— Нынче ночью. Я так думаю, черти наверняка придут в эту ночь за старым грешником Ви́льямсом.
— Да ведь его ещё в субботу похоронили, Гек! Они, поди, уж утащили его в субботнюю ночь!
— Глупости! До полуночи они не могли утащить его, а в полночь настало воскресенье. В воскресенье черти не очень-то бродят по земле.
— Верно, верно. Я и не подумал… Возьмёшь меня с собой?
— Конечно, если ты не боишься.
— Боюсь! Ну вот ещё! Ты не забудешь мяукнуть?
— Не забуду… И если тебе можно выйти, ты сам мяукни в ответ. А то в прошлый раз я мяукал, мяукал, пока старик Гейс не стал швырять в меня камнями, да ещё приговаривает: «Чёрт бы побрал эту кошку!» Я выбил ему стекло кирпичом, — только ты смотри не болтай.
— Ладно. В ту ночь я не мог промяукать в ответ: за мной следила тётка; но нынче непременно мяукну… Слушай, Гек, что это у тебя?
— Так, пустяки — просто клещ.
— Где ты его нашёл?
— В лесу.
— Что возьмёшь за него?
— Не знаю. Неохота его продавать.
— Ну и не надо! Да и клещ-то крохотный.
— Ну, ещё бы! Чужого клеща всегда норовят обругать. А для меня и этот хорош.
— Клещей в лесу пропасть. Я сам мог бы набрать их тысячу, если бы захотел.
— За чем же дело стало? Что же не идёшь набирать?.. Ага! Сам знаешь, что не найдёшь ничего. Этот клещ очень ранний. Первый клещ, какой попался мне нынче весной.
— Слушай, Гек, я дам тебе за него свой зуб.
— Покажи.
Том достал бумажку и осторожно развернул её. Гекльберри сумрачно глянул на зуб. Искушение было сильнее. Наконец он спросил:
— Настоящий?
Том вздёрнул верхнюю губу и показал пустоту меж зубами.
— Ну ладно, — сказал Гекльберри. — Значит, по рукам!
Том положил клеща в коробочку из-под пистонов, ещё недавно служившую тюрьмой для жука, и мальчики расстались, причём каждый чувствовал, что стал богаче.
Дойдя до школы — небольшого бревенчатого дома, стоявшего в стороне от всех прочих зданий, — Том зашагал очень быстро, словно добросовестно спешил на урок. Он повесил шляпу на колышек и с деловитой торопливостью устремился к своей скамье. Учитель, восседая, как на троне, на высоком плетёном кресле, мирно дремал, убаюканный мерным жужжанием класса. Появление Тома разбудило его.
— Томас Сойер!
Том знал, что, когда учитель зовёт его полным именем, это не предвещает ничего хорошего.
— Да, сэр?
— Подите сюда!.. Ну, сэр, а сегодня почему вы изволили опоздать?
Том хотел было соврать что-нибудь, но в эту минуту в глаза ему бросились золотистые косы, которые он сразу узнал благодаря электрическому току любви. Он увидел, что единственное свободное место на той половине класса, где сидели девочки, было рядом с ней, и моментально ответил:
— Я остановился на улице поболтать с Гекльберри Финном.
Учитель окаменел от изумления: он растерянно уставился на Тома. Гудение в классе смолкло. Школьники спрашивали себя, не сошёл ли с ума этот отчаянный малый. Наконец учитель сказал:
— Что… что ты сделал?
— Остановился на улице поболтать с Гекльберри Финном!
Ошибиться в значении этих слов было невозможно.
— Томас Сойер, это самое поразительное признание, какое я когда-либо слыхал. За такую вину линейки мало. Снимите куртку!
Рука учителя трудилась, пока не устала. Пук розог стал значительно тоньше. Затем последовал приказ:
— Теперь, сэр, ступайте и садитесь с девочками! И пусть это послужит вам уроком.
Ученики захихикали. Это как будто сконфузило Тома. Но на самом деле его смущение было вызвано другим обстоятельством: он благоговел перед неведомым ему божеством и мучительно радовался своей великой удаче. Он присел на краешек сосновой скамьи.
Девочка вздёрнула нос и отодвинулась. Все кругом шептались, перемигивались, подталкивали друг друга, но Том сидел смирно, облокотившись на длинную низкую парту, и, по-видимому, прилежно читал. На него перестали обращать внимание; класс опять наполнился унылым гудением. Мало-помалу мальчик начал поглядывать исподтишка на соседку. Та заметила, надула губы и на целую минуту отвернулась. Когда же она глянула украдкой в его сторону, перед нею лежал персик. Девочка отодвинула персик. Том мягким движением снова придвинул его. Она опять оттолкнула персик, но уже без всякой враждебности. Том терпеливо положил персик на прежнее место, и она уже не отодвигала его.
Том нацарапал на грифельной доске: «Пожалуйста, возьмите, — у меня есть ещё». Девочка посмотрела на доску, но лицо её осталось равнодушным. Тогда он начал рисовать на доске, прикрывая свой рисунок левой рукой. Девочка на первых порах притворялась, будто не обращает внимания, но затем еле заметными признаками стало обнаруживаться её любопытство. Мальчик продолжал рисовать, будто ничего не замечая. Девочка сделала было попытку подглядеть исподтишка, что он рисует, но Том опять-таки и виду не подал, что замечает её любопытство. Наконец она сдалась и попросила нерешительным шёпотом:
— Дайте посмотреть!
Том открыл часть карикатурно-нелепого дома с двумя фасадами и трубой, из которой выходил дым в виде штопора. Девочка так увлеклась рисованием Тома, что позабыла обо всём на свете. Когда Том кончил, она бросила взгляд на рисунок и прошептала:
— Какая прелесть! Нарисуйте человечка!
Художник поставил во дворе перед домом человека, похожего на подъёмный кран, и такого высокого, что для него не составило бы никакого труда перешагнуть через дом. Но девочка была не слишком требовательна. Она осталась довольна чудовищем и прошептала:
— Какой красивый! Теперь нарисуйте меня.
Том нарисовал песочные часы, увенчанные круглой луной, приделал к ним тонкие соломинки ручек и ножек и вооружил растопыренные пальчики громаднейшим веером.
— Ах, как хорошо! — сказала девочка. — Хотела бы я так рисовать!
— Это нетрудно. Я вас научу.
— В самом деле? Когда?
— На большой перемене. Вы ходите домой обедать?
— Если вы останетесь, и я останусь.
— Ладно. Вот здорово! Как вас зовут?
— Бекки Тэчер. А вас? Впрочем, знаю, — Томас Сойер.
— Меня называют так, когда хотят высечь. Когда я веду себя хорошо, меня зовут Том. Вы зовите меня Том. Ладно?
— Ладно.
Том опять начал писать на доске, пряча написанное от Бекки. Но теперь она перестала стесняться и попросила показать, что там такое.
Том отговаривался:
— Право же, тут нет ничего!
— Нет, есть!
— Нет, нету; да вам и смотреть-то не хочется.
— Нет, хочется! Правда, хочется. Пожалуйста, покажите!
— Вы кому-нибудь скажете.
— Не скажу, честное-пречестное-распречестное слово, не скажу!
— Никому, ни одной живой душе? До самой смерти?
— Никому не скажу. Покажите же!
— Да ведь вам вовсе не хочется…
— Ах, так! Ну, так я всё равно посмотрю!
И своей маленькой ручкой она схватила его руку; началась борьба, Том делал вид, будто серьёзно сопротивляется, но мало-помалу отводил руку в сторону, и наконец открылись слова: «Я вас люблю!»
— Гадкий! — И девочка больно ударила его по руке, однако покраснела, и было видно, что ей очень приятно.
В то же мгновение Том почувствовал, что чья-то рука неотвратимо и медленно стискивает его ухо и тянет кверху всё выше и выше. Таким способом он был препровождён через весь класс на своё обычное место под перекрёстное хихиканье всей детворы, после чего в течение нескольких страшных минут учитель простоял над ним, не сказав ни единого слова, а затем так же безмолвно направился к своему трону. Но хотя ухо у Тома продолжало гореть от боли, в сердце его было ликование.
Когда класс успокоился, Том самым добросовестным образом попытался углубиться в занятия, но в голове у него был ужасный сумбур. На уроке чтения он сбивался и путал слова, на уроке географии превращал озёра в горы, горы в реки, а реки в материки, так что вся вселенная вернулась в состояние первобытного хаоса. Потом во время диктовки он так исковеркал самые простые слова, что у него отобрали оловянную медаль за правописание, которой он вот уже несколько месяцев так чванился перед всеми товарищами.
Глава VII ГОНКИ КЛЕЩА И РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ
Чем больше старался Том приковать своё внимание к учебнику, тем больше разбегались его мысли. Наконец он вздохнул и, зевая, прекратил напрасные потуги. Ему казалось, что большая перемена никогда не наступит. Было очень душно, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Из всех усыпительных дней это был самый усыпительный. Монотонное бормотание двадцати пяти школьников, зубривших уроки, убаюкивало душу, как гудение пчёл. Там, вдали, в пламенном сиянии солнца мерцали нежно-зелёные склоны Кардифской горы, окутанные дымкой зноя и окрашенные далью в пурпурные тона. Высоко в небе лениво парили одинокие птицы; кроме них, не было видно ни одного живого существа, если не считать двух-трёх коров, да и те спали. Сердце Тома жаждало свободы. Найти бы хоть что-нибудь интересное, чтобы убить это нудное время! Он пошарил у себя в кармане, и вдруг лицо его озарилось восторгом, и он бессознательно возблагодарил небеса за счастье, которое они даровали ему. Украдкой достал он из кармана коробочку, вынул оттуда клеща и — положил на длинную плоскую парту. Клещ, должно быть, тоже просиял от восторга и тоже возблагодарил небеса, но радость его была преждевременна, потому что, как только он вздумал уйти, Том булавкой повернул его назад и заставил двинуться в другом направлении.
Рядом с Томом сидел его друг и приятель, угнетаемый такой же тоской, какая только что угнетала Тома; он с глубочайшей признательностью ухватился за представившееся ему развлечение. Приятеля звали Джо Гарпер. Мальчики дружили всю неделю, но то субботам воевали, как враги. Джо вытащил из-за отворота куртки булавку и стал помогать приятелю муштровать арестованного клеща. Оба чем дальше, тем больше увлекались этим спортом. Наконец Том объявил, что они только мешают друг другу и ни один не получает в полной мере того удовольствия, какое можно извлечь из клеща. Он положил на парту грифельную доску Джо Гарпера и провёл посредине черту сверху донизу.
— Вот, — сказал он, — уговор такой: пока клещ будет на твоей стороне, гоняй его сколько угодно, а я трогать не буду; но если ты упустишь его и он уйдёт ко мне, на мою половину, тогда уж гонять буду я.
— Ладно. Начинай! Пускай его!
Клещ очень скоро убежал от Тома и пересёк экватор. Тогда за него взялся Джо. Затем клещ повернул и вскоре очутился во владениях Тома. Эти переходы повторялись довольно часто. Пока один мальчик гонял клеща, совершенно поглощённый этим интересным занятием, другой с не меньшим увлечением следил за ним. Оба склонили головы над доской, и их души умерли для всего остального. Под конец счастье, по-видимому, окончательно перешло на сторону Джо. Клещ, возбуждённый и взволнованный не меньше самих мальчиков, кидался то туда, то сюда, но каждый раз, когда победа была, так сказать, в руках Тома и пальцы его рвались к насекомому, булавка Джо ловко преграждала клещу путь и тот оставался во владениях Джо. Тому стало наконец невтерпёж. Искушение было слишком сильно. Он протянул руку и стал подталкивать клеща в свою сторону. Джо мгновенно вышел из себя:
— Том, не смей его трогать!
— Я хочу только немножко подхлестнуть его, Джо!
— Это нечестно, сэр, оставьте его в покое!
— Эх ты, да я только чуть-чуть…
— Оставьте клеща: в покое, говорят вам!
— А вот не оставлю!
— Ты не имеешь права: он на моей стороне.
— Да клещ-то чей, Джо Гарпер?
— Мне всё равно, чей бы он ни был… он на моей стороне, и ты не смей его трогать!
— Как так — не смей! Клещ мой, и я волен делать с ним всё, что хочу!
Вдруг страшный удар обрушился на плечи Тома. Точно такой же достался и Джо. В продолжение двух минут учитель усерднейшим образом выколачивал пыль из их курток; вся школа ликовала и радовалась. Приятели были слишком поглощены своей забавой и не заметили, что незадолго перед тем в классе внезапно водворилась тишина, так как учитель подошёл к ним на цыпочках и наклонился над ними. Довольно долго он следил за их игрой, прежде чем со своей стороны внёс в неё некоторое разнообразие.
Когда, наконец, пробило двенадцать и наступила большая перемена, Том подбежал к Бекки Тэчер и прошептал ей на ухо:
— Надень шляпку, будто уходишь домой, а когда дойдёшь до угла, улизни от других, поверни в переулок и возвращайся сюда. Я пойду по другой дороге, тоже убегу от своих и очень скоро буду здесь.
Таким образом, Том вышел из школы с одной группой школьников, а Бекки — с другой. Вскоре они встретились в дальнем конце переулка и вернулись в опустевшую школу. Они уселись рядом, положив перед собою грифельную доску. Том дал Бекки грифель и, водя её рукой, создал ещё один удивительный домик. Когда интерес к искусству чуть-чуть ослабел, они принялись болтать. Том был безмерно счастлив.
— Любишь ты крыс? — опросил он.
— Ой, ненавижу!
— И я тоже… когда они живые. Но я говорю про дохлых, — вертеть их на верёвочке над головой.
— Нет, я крыс вообще не очень люблю. А вот что я люблю — так это жевать резинку.
— Ещё бы! Жалко, что у меня её нет.
— В самом деле? У меня есть немножко. Я дам тебе пожевать, только ты потом отдай.
Это им обоим понравилось, и они стали жевать по очереди, болтая ногами от избытка удовольствия.
— Была ты когда-нибудь в цирке?
— Да, и папа обещал взять меня туда ещё раз, если я буду хорошая.
— А я был в цирке три или даже четыре раза — много раз! Там куда веселее, чем в церкви: всё время представляют что-нибудь. Я, когда вырасту, поступлю клоуном в цирк.
— Правда? Вот хорошо! Они все такие разноцветные, милые…
— Да-да, и при этом кучу денег загребают… Бен Роджерс говорит: по доллару в день… Слушай-ка, Бекки, была ты когда-нибудь помолвлена?
— А что это такое?
— Ну, помолвлена, чтобы выйти замуж?
— Нет.
— А хотела бы?
— Пожалуй… Не знаю. А как это делается?
— Как? Да никак. Ты просто говоришь мальчику, что никогда ни за кого не выйдешь замуж, только за него, — понимаешь, никогда, никогда, никогда! — и потом вы целуетесь. Вот и всё. Это каждый может сделать!
— Целуемся? А для чего целоваться?
— Ну, для того, чтобы… ну, так принято… Все это делают.
— Все?
— Ну да, все влюблённые. Ты помнишь, что я написал на доске?
— Д-да.
— Что же?
— Не скажу.
— Так, может, я скажу тебе?.
— Д-да… только когда-нибудь в другой раз.
— Нет, теперь.
— Нет, не теперь — завтра.
— Нет-нет, теперь, Бекки! Ну, пожалуйста! Я потихоньку, я шепну тебе на ухо.
Видя, что Бекки колеблется, Том принял молчание за согласие, обнял девочку за талию, приложил губы к самому её уху и повторил свои прежние слова. Потом сказал:
— Теперь ты мне шепни то же самое.
Она долго отнекивалась и наконец попросила:
— Отвернись, чтобы не видеть меня, — и тогда я скажу. Только ты никому не рассказывай, — слышишь, Том! Никому. Не расскажешь? Правда?
— Нет-нет, я никому не скажу, будь покойна. Ну, Бекки?
Он отвернулся, а она так близко наклонилась к его уху, что от её дыхания стали трепетать его кудри, и прошептала застенчиво:
— Я вас… люблю!
Потом вскочила и принялась бегать вокруг скамеек и парт, спасаясь от Тома, который гонялся за ней; потом забилась в угол и закрыла лицо белым передничком. Том схватил её за шею и стал уговаривать:
— Ну, Бекки, теперь уж всё кончено, — только поцеловаться. Тут нет ничего страшного, это пустяки. Ну, пожалуйста, Бекки!
Он дёргал её за передник и за руки.
Мало-помалу она сдалась, опустила руки и подставила ему лицо, раскрасневшееся от долгой борьбы; а Том поцеловал её в алые губы и сказал:
— Ну, вот и всё, Бекки. Теперь уж ты никого не должна любить, только меня, и ни за кого, кроме меня, не выходить замуж, никогда, никогда и во веки веков! Ты обещаешь?
— Да, я никого не буду любить, Том, только тебя одного и ни за кого другого не пойду замуж. И ты, смотри, ни на ком не женись, только на мне!
— Само собой. Конечно. Такой уговор! И по дороге в школу или из школы ты должна идти со мной, — если за нами не будут следить, — и в танцах выбирай меня, а я буду выбирать тебя. Так всегда делают жених и невеста.
— Ах, как хорошо! Никогда не слыхала об этом.
— Это ужасно весело! Вот мы с Эмми Лоренс…
Бекки Тэчер широко раскрыла глаза, и Том понял, что сделал промах. Он остановился в смущении.
— О Том! Так я уже не первая… У тебя уже была невеста…
Девочка заплакала…
— Перестань, Бекки! Я больше не люблю её.
— Нет, любишь, любишь! Ты сам знаешь, что любишь.
Том пытался было обнять её за шею, но Бекки оттолкнула его, повернулась лицом к стене и продолжала рыдать. Том начал уговаривать её, называл ласковыми именами и повторял свою попытку, но она опять оттолкнула его. Тогда в нём проснулась гордость. Он направился к двери и решительными шагами вышел на улицу. Смущённый и расстроенный, он встал неподалёку от школы, взглядывая поминутно на дверь, в надежде, что Бекки одумается и выйдет вслед за ним на крыльцо. Но она не выходила. Ему стало очень грустно: а ведь, пожалуй, он и в самом деле виноват. Ему было трудно заставить себя сделать первый шаг к примирению, но он поборол свою гордость и вошёл в класс… Бекки всё ещё стояла в углу и плакала, повернувшись лицом к стене. У Тома защемило сердце, он подошёл к ней и постоял немного, не зная, с чего начать.
— Бекки, — проговорил он несмело, — я люблю только тебя, а других я и знать не хочу.
Никакого ответа. Одни рыдания.
— Бекки (просительным голосом), Бекки! Ну скажи что-нибудь…
Опять рыдания.
Тогда Том вытащил самую лучшую свою драгоценность — медную шишечку от каминной решётки — и, протянув её так, чтобы Бекки могла увидеть её, сказал:
— Ну, Бекки… ну, возьми же! Дарю.
Она оттолкнула его руку, шишечка упала и покатилась по полу.
Тогда Том вышел на улицу и решил уйти куда глаза глядят и в этот день не возвращаться в школу. Бекки вдруг заподозрила что-то неладное. Она бросилась к двери — Тома не было видно. Она обежала вокруг дома, надеясь найти его на площадке для игр, но его не было и там. Тогда она стала кричать:
— Том, вернись! Том!
Она чутко прислушивалась, но никто не откликнулся. Кругом была тишина и пустыня. Она села и снова заплакала: она чувствовала себя виноватой. Между тем снова — начали собираться школьники; надо было затаить своё горе, утихомирить своё разбитое сердце и взвалить — на себя бремя долгого, томительного, тоскливого дня. У неё ещё не было подруги, и ей не с кем было поделиться своим горем.
Глава VIII БУДУЩИЙ ХРАБРЫЙ ПИРАТ
Том сначала колесил по переулкам, сворачивая то вправо, то влево, и в конце концов оставил далеко позади ту дорогу, по которой ученики обычно возвращаются в школу. А потом побрёл в гору — понуро и медленно. По пути он раза два или три перешёл вброд небольшой ручеёк, так как среди мальчишек существует поверье, будто таким образом они заметают за собою следы и ставят погоню в тупик. Через полчаса он уже миновал богатую усадьбу вдовы Дуглас, стоявшую на вершине Кардифской горы. Школа еле виднелась внизу — там, позади, в долине. Путник углубился в густой лес, пошёл, пренебрегая тропинками, в самую чащу и уселся на мху под развесистым дубом.
Здесь, в лесу, было тихо и душно. В мёртвом полуденном зное умолкло даже пение птиц. Природа погрузилась в дремоту, её сон по временам нарушался лишь стуком дятла, доносившимся издали. И от этого стука лесная тишина казалась ещё более глубокой, а тоска одиночества — ещё более гнетущей. Сердце Тома терзала печаль, которая была в полной гармонии с окружавшей его природой. Он долго сидел в задумчивости, упёршись локтями в колени и положив подбородок на руки. Ему казалось, что жизнь в лучшем случае — суета и страдание, и он готов был завидовать Джимми Годжесу, который недавно скончался. «Как хорошо, — думал он, — лежать в могиле, спать и видеть разные сны, во веки веков, и пусть ветер шепчет о чём-то в ветвях, пусть ласкает траву и цветы на могиле, а тебя ничто не беспокоит, и ты ни о чём не горюешь, никогда, во веки веков». Ах, если бы у него были хорошие отметки в воскресной школе, он, пожалуй, был бы рад умереть и покончить с постылой жизнью… А эта девочка… ну, что он ей сделал? Ничего. Он желал ей добра. А она прогнала его, как собаку, — прямо, как собаку. Когда-нибудь она пожалеет об этом, но, может быть, будет поздно. Ах, если б он мог умереть не навсегда, а на время!
Но в молодости сердца эластичны и, как их ни сожми, расправляются быстро. Тома незаметно захватили опять помыслы здешнего мира. Что, если он сию минуту пойдёт куда глаза глядят и таинственно исчезнет для всех? Что, если он уйдёт далеко-далеко, в неведомые страны, за моря, и никогда не вернётся? Каково-то почувствует себя Бекки тогда!.. Он вспомнил, как собирался сделаться клоуном в цирке, но теперь ему было гадко подумать об этом, ибо шутовство и паясничество и цветное трико в обтяжку показались ему унизительными в такое мгновение, когда его душа воспарила к туманным и величавым высотам романтики. Нет, он пойдёт в солдаты и вернётся домой через много лет, покрытый ранами и славой. Или, ещё лучше, уйдёт к индейцам, будет охотиться с ними на буйволов, блуждать по тропе войны, средь высоких гор и бездорожных прерий Дальнего Запада, и когда-нибудь вернётся домой великим индейским вождём и в сонное летнее утро, ощетинившись перьями, размалёванный, страшный, ввалится прямо в воскресную школу с диким воинственным кличем, от которого кровь стынет в жилах. Вот выпучат глаза его товарищи! Вот будут ему завидовать! Но нет, есть на свете ещё более великолепное поприще. Он будет пиратом! Да-да! Теперь он ясно видел перед собой своё будущее, озарённое неописуемым блеском. Его имя будет греметь во всём мире, заставляя людей содрогаться от ужаса. Как гордо будет он носиться по бурным морям на длинном, низком чёрном корабле «Демон бури», с чёрным зловещим флагом, развевающимся на носу корабля! И, достигнув вершины славы, он нежданно-негаданно появится в своём старом родном городишке и войдёт в церковь, загорелый, обветренный, в чёрном бархатном камзоле и в таких же штанах, с алой перевязью, в высоких ботфортах, а за поясом у него будут торчать пистолеты, сбоку — нож, заржавевший от пролитой крови, на голове у него будет мягкая шляпа с опущенными книзу полями, с развевающимися перьями, в руке — чёрное развёрнутое знамя, а на знамени — череп и скрещённые кости. И с каким восторгом, с каким упоением он услышит, как шепчутся вокруг: «Это Том Сойер, пират! Чёрный Мститель Испанских морей!»
Да, решено! Он окончательно избрал свою дорогу, он убежит из дому и начнёт новую жизнь. Завтра же утром он отправится в путь. Чтобы быть готовым к утру, необходимо приняться за дело сейчас же. Нужно собрать всё своё богатство. Неподалёку лежало трухлявое дерево. Том подошёл к нему и начал карманным ножом «Барлоу» копать землю под одним из его концов. Скоро нож наткнулся на какой-то деревянный предмет, и Том по звуку распознал, что внутри пустота. Он сунул туда руку и торжественно произнёс заклинание:
— Чего тут не было, приди! А что тут есть, останься!
Он соскоблил верхний слой земли, и внизу оказалась тонкая сосновая дощечка. Он поднял дощечку — под нею открылся аккуратно сделанный тайник для сокровищ, дно и стены которого были выложены такими же дощечками. В тайнике лежал алебастровый шарик. Изумлению Тома не было границ. Он со смущённым видом почесал затылок:
— Эге-ге! Вот так штука!
Он с досадой отшвырнул шарик и принялся размышлять. Дело в том, что его обмануло поверье, которое он и его товарищи принимали за непреложную истину. Если зароешь шарик, произнося над ним необходимые заклинания, и в течение двух недель не будешь трогать его, а потом откроешь тайник с тем заклинанием, которое сейчас было произнесено, то вместо одного шарика ты найдёшь все, какие были когда-либо потеряны тобою, как бы далеко ни лежали они друг от друга. Но чуда не произошло, это ясно, и всё, во что верил Том, было подорвано в корне. Он столько раз слышал об удачных попытках такого рода и никогда не слыхал о неудачных. Ему не пришло в голову, что он и сам пробовал этот способ не раз, а потом никогда не мог найти места, где был закопан шарик. Он долго раздумывал и наконец решил, что тут вмешалась какая-то ведьма и разрушила чары. Но ему хотелось окончательно убедиться в этом, и, выискав чистенькое песчаное местечко, в центре которого было углубление в виде воронки, он лёг на землю, прильнул губами к самой ямке и проговорил:
Бук-букашка, расскажи мне, что хочу я знать. Бук-букашка, расскажи мне, что хочу я знать.Песок зашевелился, оттуда на мгновение выполз чёрный жучок и тотчас же испуганно юркнул обратно.
— Ага, не говорит! Значит, тут и вправду не обошлось без ведьмы. Я так и знал.
Тому хорошо было известно, что с ведьмами тягаться никому не под силу, и он приуныл. Потом ему пришло в голову, что не худо бы найти хоть тот шарик, который он только что бросил, и он принялся терпеливо искать его, но ничего не нашёл. Он вернулся к своему тайнику и встал на то самое место, с которого только что бросил шарик, потом вынул из кармана другой и бросил его в том же направлении:
— Брат, поди сыщи брата!
Он заметил, где остановился шарик, и стал искать там, но не нашёл. Должно быть, второй шарик или не докатился, или залетел слишком далеко. Он попробовал ещё раз, другой, третий и наконец добился успеха: оба шарика лежали на расстоянии фута друг от друга.
В эту минуту с зелёной опушки донёсся слабый звук игрушечной жестяной трубы. Том быстро сбросил с себя куртку и штаны, опоясался одной из подтяжек, разрыл кучу хвороста за гнилым деревом, вытащил оттуда самодельный лук, стрелу, деревянный меч, а также жестяную трубу, мигом вооружился и в одной развевающейся рубашке помчался навстречу врагу. Под большим вязом он протрубил ответный сигнал, потом стал пробираться на цыпочках, насторожённо оглядываясь по сторонам, и негромко скомандовал воображаемому отряду:
— Стой, молодцы! Останься в засаде, пока не затрублю!
Появился Джо Гарпер в такой же лёгкой одежде и тоже вооружённый с головы до пят. Том окликнул его:
— Стой! Кто смеет ходить по Шервудскому лесу без моего разрешения?
— Гай Ги́сборн не нуждается ни в чьём разрешении! Кто ты, который… который…
— «…смеет обращаться ко мне с такой дерзкой речью?» — поспешно подсказал ему Том, так как оба они говорили на память «по книге».
— …который смеет обращаться ко мне с такой дерзкой речью?..
— Кто я? Я — Робин Гуд,[19] в чём очень скоро убедится твой презренный труп.
— Так это ты, знаменитый разбойник! Воистину я буду рад померяться с тобою мечом за обладание дорогами этого весёлого леса. Защищайся!
Они выхватили деревянные мечи, бросили остальное оружие на землю, стали в боевую позицию, нога к ноге, и начался серьёзный поединок: по всем правилам искусства: два удара вверх и два вниз. Наконец Том сказал:
— Ну, драться так драться! Поддай жару!
Они так усердно «поддали жару», что оба запыхались и вспотели.
— Падай же! Падай! — крикнул Том. — Почему ты не падаешь?
— Не стану я падать! Сам падай — тебе ведь хуже моего приходится.
— Ну так что же? Это ничего не значит. Мне падать не полагается. В книге ведь не так — там сказано: «И он одним ловким ударом в спину поразил насмерть злосчастного Гая Гисборна». Ты должен повернуться и подставить мне спину, чтобы я мог ударить тебя.
Против такого авторитета возражать не приходилось: Джо повернулся, принял удар и упал.
— А теперь… — сказал Джо, поднимаясь на ноги, — теперь дай мне убить тебя — это будет по совести.
— Да ведь так нельзя, этого в книге нет!
— Ну, это нечестно! Это, по-моему, подлость!
— Ну ладно, Джо, — ведь ты можешь быть монахом Таком или сыном мельника Мачем и пристукнуть меня дубинкой по голове. Или, хочешь, я буду шериф нотингемский, а ты Робин Гуд на одну минутку, и ты убьёшь меня.
Это удовлетворило Джо Гарпера, и игра продолжалась. Затем Том опять сделался Робином Гудом и, по вине вероломной монахини, плохо ухаживавшей за его запущенной раной, смертельно ослабел от потери крови, после чего Джо, изображавший собой целую толпу рыдающих разбойников, с грустью оттащил его прочь, вложил лук в его ослабевшие руки, и Том сказал: «Где упадёт эта стрела, там и похороните бедного Робина Гуда, под деревом в зелёной дубраве». Затем он пустил стрелу, откинулся назад и упал бы мёртвым, но кругом оказалась крапива, и он вскочил с неподобающей покойнику прытью.
Мальчики оделись, спрятали доспехи и пошли прочь, сокрушаясь, что теперь нет разбойников, и спрашивая себя, чем могла бы современная цивилизация восполнить такой пробел. Оба утверждали, что предпочли бы лучше сделаться на один год разбойниками Шервудского леса, чем президентами Соединённых Штатов на всю жизнь.
Глава IX ТРАГЕДИЯ НА КЛАДБИЩЕ
В этот вечер Тома с Сидом, как всегда, в половине десятого послали спать. Они прочли молитву на сон грядущий, и Сид скоро уснул. Но Том не спал, с тревожным нетерпением ожидая сигнала. В тот миг, когда ему показалось, что уже недалеко до рассвета, он услышал, как часы бьют десять. Было от чего прийти в отчаяние. Он не мог даже вертеться на постели, как того требовали его возбуждённые нервы, потому что боялся разбудить Сида. Он лежал смирно и напряжённо вглядывался в темноту. Кругом стояла удручающая тишина. Понемногу из этого безмолвия стали выделяться маленькие, еле заметные звуки. Прежде всего — тиканье часов. Таинственное потрескивание старых балок. Слабый скрип ступеней. Ясно: по дому бродили духи. Из комнаты тёти Полли доносился глухой мерный храп. Затем началась несносная трескотня сверчка, а где именно стрекочет сверчок — этого не может определить никакая человеческая мудрость. Затем — в стене у изголовья кровати зловещее тик-тик жука-точильщика. Том вздрогнул: это означало, что чьи-то дни сочтены. Затем прозвучал в ночном воздухе отдалённый собачий вой, и тотчас же, ещё дальше, слабее, завыла другая собака. Том переживал мучительные минуты. Наконец он проникся убеждением, что время исчезло и началась вечность. Против воли он стал погружаться в дремоту. Часы пробили одиннадцать — он не слыхал. Вдруг, смешанное с бесформенными видениями сна, послышалось унылое мяуканье кошки. Где-то неподалёку открылось окно, и этот шум разбудил Тома. Раздался крик: «Брысь, проклятая!» — и о стену тёткиного дровяного сарая со звоном разбилась пустая бутылка. Том вскочил как встрёпанный, мигом оделся, вылез из окна, пополз на четвереньках по крыше, раза два тихонько мяукнул в ответ, потом перескочил на крышу дровяного сарая и оттуда спрыгнул на землю. Гекльберри Финн ждал его внизу с дохлой кошкой в руках. Мальчики двинулись в путь и скоро исчезли во мраке. Через полчаса они уже пробирались в высокой траве кладбища.
Кладбище было старинное, западного типа. Расположенное на холме городка, оно было обнесено ветхим дощатым забором, который; местами повалился внутрь, а местами наружу, но нигде не стоял прямо. Всё кладбище заросло травой и сорняками. Старые могилы осели. Ни один надгробный камень не стоял на своём месте, над могилами возвышались сгнившие доски с закруглением наверху, источенные червями и клонившиеся к земле, ища опоры и не находя её. На всех досках когда-то было начертано: «Вечная память такому-то», но буквы на большинстве из них так стёрлись, что теперь их нельзя было прочесть и при дневном свете.
Тихий ветер стонал в ветвях, и Тому со страху мерещилось, что это души умерших жалуются, — зачем люди тревожат их покой. Приятели говорили мало и только шёпотом: время и место, тишина и торжественность действовали на них угнетающе. Они нашли свежую могильную насыпь, которую искали, и притаились под тремя большими вязами, в нескольких шагах от неё.
Ждали они, как им показалось, довольно долго. Вдали кричала сова, и это был единственный звук, нарушавший мёртвую тишину. Мысли Тома становились, всё мрачнее, и он решил прогнать их разговором.
— Как ты думаешь, Гекки, — начал он шёпотом, — нравится покойникам, что мы пришли сюда?
Гекльберри шепнул в ответ:
— Кто их знает, не знаю! А жутко здесь… Правда?
— Ещё бы!
Наступило долгое молчание; оба мальчика задумались над тем, как относятся покойники к их посещению. Затем Том шепнул:
— Слушай-ка, Гекки, как ты думаешь, старикашка Вильямс слышит, что мы говорим?
— Конечно, слышит. По крайней мере, душа его слышит.
Снова молчание.
— Жалко, — сказал Том, — что я назвал его просто Вильямс, а не мистер Вильямс. Но ведь я не хотел его обидеть. Его все называют старикашкой.
— Надо быть осторожнее, когда говоришь о покойниках, Том.
Это отбило у Тома охоту продолжать разговор. Вдруг он схватил товарища за руку:
— Тсс!
— Что там такое, Том?
И оба прижались друг к другу. Сердца у них сильно стучали.
— Тсс! Вот опять! Неужели не слышишь?
— Ага! Наконец-то и ты услыхал.
— Господи, Том, они идут! Они идут! Это они! Что нам делать?
— Не знаю. Ты думаешь, они нас увидят?
— Ох, Том, ведь они; видят в темноте, как кошки. И зачем только я пошёл!
— Да ты не бойся… Может, они нас не тронут. Ведь мы ничего плохого не делаем. Если мы будем сидеть тихо-тихо, может, они нас и не заметят.
— Ладно. Попробую… Боже, я весь дрожу!
— Тсс! Слушай.
Мальчики, еле дыша, ещё крепче прижались друг к другу. С другого конца кладбища до них донеслись приглушённые голоса.
— Смотри! Смотри! — шепнул Том. — Что это там такое?
— Это адский огонь! Ой, как страшно!
Во мраке появились какие-то смутные фигуры. Перед ними качался старинный жестяной фонарь, рассыпая по земле, как веснушки, бесчисленные искорки света.
— Это дьяволы, теперь уж наверняка! — шепнул Гекльберри и вздрогнул. — Целых три! Ну, мы пропали! Ты можешь прочесть молитву?
— Попробую… Да ты не бойся — они нас не тронут. «Боже, на сон грядущий спаси и помилуй меня…»
— Тсс!
— В чём дело, Гек?
— Это люди! По крайней мере, один из них. У него голос Меффа По́ттера.
— Быть не может!
— Уж я его знаю! Ты притаись, не дыши. Он нас и не увидит: он пьян, как всегда, — пьянчужка.
— Ладно. Я буду тихо… Остановились. Ищут чего-то… Не могут найти. Вот опять сюда… Ишь, как бегут! Опять ближе… Опять дальше… А теперь — ой, как близко! И прямо сюда. Слушай-ка, Гек, я и другой голос узнал — это Индеец Джо!
— И в самом деле, проклятый метис![20] Уж лучше бы черти, ей-богу! И чего им тут нужно, хотел бы я знать…
Шёпот оборвался, так как три человека дошли до могилы и остановились невдалеке от того места, где спрятались мальчики.
— Здесь, — сказал третий и поднял фонарь так, что на его лицо упал свет. Это оказался молодой доктор Ро́бинсон.
Поттер и Индеец Джо несли носилки с верёвкой и двумя лопатами. Они опустили свою ношу на землю и начали разрывать могилу. Доктор поставил фонарь в головах могилы, а сам сел на землю, прислонившись к одному из вязов. Он был так близко, что мальчики могли бы дотронуться до него.
— Скорей, скорей! — сказал он негромко. — Каждую минуту может взойти луна.
Они что-то проворчали в ответ и продолжали копать. Некоторое время был слышен лишь скрежет лопат, отбрасывающих в сторону мелкие камешки и комья земли, — звук однообразный и унылый. Наконец раздался глухой стук о дерево: лопата наткнулась на гроб, и через несколько минут копавшие подняли его наверх. Теми же лопатами они сбросили крышку, вытащили тело и бесцеремонно бросили его на землю.[21] В эту минуту луна вышла из-за туч и осветила бледное лицо мертвеца. Придвинули носилки, положили на них труп, покрыли одеялом и привязали верёвкой. Поттер вынул большой складной нож, отрезал болтавшийся конец верёвки и сказал:
— Вот, костоправ, мы и кончили это грязное дело. Подавайте нам ещё пятёрку, а не то он останется тут.
— Правильно! — сказал Индеец Джо.
— Что это значит? Позвольте! — возразил доктор. — Вы ведь потребовали деньги вперёд, и я заплатил вам сполна.
— Заплатить-то вы заплатили, но у нас с вами есть и другие счёты, — сказал Джо, подходя к доктору. (Доктор встал на ноги.) — Пять лет назад я пришёл на кухню вашего папаши, а вы меня выгнали в шею. Я просил, чтобы мне дали поесть, а меня вытолкали, как воришку и жулика. А когда я поклялся, что отплачу вам за это, хотя бы через сто лет, ваш папаша посадил меня в тюрьму за бродяжничество. Вы думали, я забыл? Нет, недаром во мне индейская кровь! Теперь вы у меня в руках, и мы с вами сочтёмся, так и знайте!
Он с угрозой поднёс кулак к самой физиономии доктора. Тот неожиданно размахнулся и одним ударом свалил негодяя на землю. Поттер выронил нож и закричал:
— Эй, вы! Я товарища бить не позволю!
И кинулся на доктора. Они схватились врукопашную и стали наносить друг другу удары, топча траву и взрывая землю каблуками. Индеец Джо вскочил на ноги; глаза его горели ненавистью; он схватил брошенный Поттером нож и, крадучись, словно кошка, весь изогнувшись, стал бегать вокруг, выжидая удобного момента, чтобы нанести удар. Вдруг доктор, вырвавшись из объятий противника, схватил тяжёлую доску с могилы Вильямса и так сильно ударил ею Поттера, что тот повалился на землю; в то же мгновение метис изловчился и вонзил нож по самую рукоятку в грудь молодому человеку. Тот покачнулся и упал на Поттера, заливая его своей кровью. В это время на луну набежали тучи и покрыли мраком эту страшную сцену. Перепуганные мальчики бросились бежать в темноте без оглядки.
Когда луна опять показалась из-за туч, Индеец Джо в глубокой задумчивости стоял над двумя телами. Доктор пробормотал что-то невнятное, раза два вздохнул и затих.
— Ну вот, чёрт тебя возьми, мы и свели наши счёты! — негромко сказал метис.
И он обобрал убитого. Потом вложил злополучный нож в раскрытую правую руку Поттера и уселся на пустом гробу. Прошло три, четыре, пять минут. Поттер зашевелился и начал стонать. Он сжал в руке нож, поднёс его к глазам, вздрогнул и уронил на землю; потом поднялся и сел, оттолкнув от себя тело убитого доктора; посмотрел на него, бессмысленно огляделся вокруг и встретил взгляд метиса.
— Боже мой! Как же это случилось, Джо?
— Скверное дело! — сказал тот, не двигаясь с места. — За что это ты его?
— Я? Я тут ни при чём.
— Ладно, рассказывай! Этим беде не поможешь!
Поттер побледнел и весь дрожал.
— Я думал, у меня хмель прошёл. Не следовало мне пить нынче вечером. До сих пор шумит в голове — хуже, чем когда мы шли сюда… Я как в тумане — ничего не помню. Скажи мне, Джо, по совести, скажи, старый друг, неужто это я его укокошил? Ведь я не хотел убивать, у меня и в помыслах этого не было, — клянусь душой и честью, Джо! Скажи мне, как это вышло, Джо? Как ужасно! Такой молодой… такие надежды подавал…
— Вы двое сцепились; он хвать тебя доской по башке; ты так и повалился. Потом встал, как полоумный, весь дрожишь и шатаешься, и вдруг выхватил нож да и пырнул его в тот самый момент, как он нанёс тебе новый удар. Ну, уж после этого ты как упал, так и не шевельнулся, словно деревянный чурбан.
— Ох, я сам не понимал, что делаю! Провалиться мне на месте, если вру! Это всё от водки — пьяный был, — ну и распалился вдобавок… Да я и ножом-то владеть не умею, Джо. Драться случалось, не спорю, но только без ножа, на кулачках. Это тебе всякий скажет… Джо, не выдавай меня! Дай слово, что не выдашь меня, Джо! Я всегда тебя любил, Джо, всегда стоял за тебя. Ты ведь помнишь, не правда ли? Ты никому не скажешь, Джо?
Несчастный упал перед убийцей на колени и сложил руки с мольбой. Тот глядел на него равнодушно и тупо.
— Ладно, Мефф Поттер, ты всегда поступал со мною по чести, по совести, и я не стану тебя выдавать. Будь спокоен, моё слово верное. Тут и говорить больше не о чем.
— Джо, ты — ангел, ей-богу! Буду благословлять тебя до последнего вздоха…
И Поттер заплакал.
— Ну, хватит! Не время хныкать! Ступай вон той дорогой, а я — этой. Да смотри не оставляй за собою улик!
Поттер пустился рысцой, потом прибавил ходу и побежал что есть духу.
Глядя ему вслед, метис пробормотал:
— Если у него и вправду отшибло память от удара и выпивки, он не скоро вспомнит о ноже. А и вспомнит, побоится вернуться на кладбище — куриная душонка, слюнтяй.
Прошло две-три минуты, и на убитого, на труп, завёрнутый в одеяло, на гроб без крышки, на разрытую могилу глядел только месяц с неба. Вокруг снова была тишина.
Глава X ВОЙ СОБАКИ ПРОРОЧИТ БЕДУ
Мальчики бежали к городку со всех ног. Они онемели от ужаса. По временам они тревожно оглядывались, словно опасаясь погони. Всякий пень, встававший у них на пути, казался им живым человеком, врагом, при виде которого у них захватывало дух. Когда они бежали мимо деревянных домишек, — стоявших на окраине города, сторожевые псы проснулись и залаяли. От этого лая у мальчиков словно выросли крылья.
— Только бы добежать до старой кожевни, — прошептал Том, едва переводя дыхание. — Я больше не могу…
Гекльберри ничего не ответил: он задыхался от быстрого бега. Мальчики, не отрывая глаз, глядели на старую кожевню, куда им так хотелось попасть, и напрягли последние силы. Наконец они добежали до неё, и ворвавшись — плечом к плечу — в открытую дверь, сейчас же упали на пол, под защиту полумрака, царившего в заброшенном здании. Они были счастливы, но страшно устали. Мало-помалу они отдышались, и Том проговорил тихим голосом:
— Гекльберри, как ты думаешь, что из всего этого выйдет?
— Если доктор Робинсон умрёт, думаю, выйдет виселица.
— Да не может быть!
— Уж это наверное, Том.
Том задумался и через минуту спросил:
— Кто же донесёт? Мы?
— Что ты? Да как это можно? Ведь если случится такое, да Индейца Джо не повесят, он нас тогда прикончит, верно тебе говорю! Тогда уж нам смерти не миновать. И это так же верно, как то, что мы сейчас лежим на полу.
— Я и сам так думаю, Гек.
— Если уж кому доносить, то пускай Мефф Поттер — доносит; пожалуй, у него на это глупости хватит. Вечно пьян…
Том помолчал; он снова задумался. Наконец сказал еле слышно:
— Гек, а ведь Меффу Поттеру ничего не известно… Как же он может донести об убийстве?
— То есть как это так — неизвестно?
— Очень просто: ведь Индеец Джо всадил в доктора нож как, раз в ту минуту, когда доктор ударил Поттера могильной доской. Где ему было видеть? Где ему было узнать об убийстве?
— Чёрт возьми, а ведь правда, Том!
— И потом, ты подумай, — может быть, от этого удара Поттер и совсем окочурился.
— Нет, Том, это вряд ли. Ведь он был выпивши. Я это сразу заметил. Да он и всегда ходил выпивши. А… когда мой отец нахлещется, его можно треснуть по голове чем угодно… хоть церковью, ему ничего не сделается, честное слово! Он и сам говорил сколько раз! Значит, и Мефф Поттер такой же. Вот если бы Поттер был трезвый, он, пожалуй, от такого угощения и помер бы… кто его знает…
Снова наступила тишина; Том опять погрузился в свои мысли.
— Гекки, ты уверен, что не проговоришься? — наконец спросил он.
— Хочешь не хочешь, Том, а нам надо помалкивать. Сам понимаешь, — этот дьявол метис… Если мы донесём, а его не повесят, он утопит нас обоих, как котят… И знаешь что, Том! Давай-ка мы дадим друг другу клятву, что будем держать язык за зубами. Это будет вернее всего.
— Правильно, Гек. Это самое лучшее. Поднимем руки и поклянёмся, что мы…
— Э, нет, это не годится для такого дела… Это хорошо в обыкновенных делах, в пустяках, особенно с девчонками, потому что они в конце концов всё равно проболтаются, чуть попадутся; но в таком большом деле надо, чтобы договор был писаный. И кровью.
Том всей душой одобрил эту мысль. Она была и таинственна, и мрачна, и страшна, и вполне гармонировала со всеми событиями, с окружающей обстановкой, с ночной порой. Он поднял с полу чистую сосновую дощечку, блестевшую в лунном свете, вытащил из кармана кусок «красной охры», сел так, чтоб свет падал на дощечку, и с трудом нацарапал следующие строки, причём каждой чёрточке, которая шла сверху вниз, он помогал языком, зажимая его между зубами и отпуская его при каждой чёрточке, которая шла снизу вверх:
Гекльберри пришёл в восторг от того, что Том умеет так ловко писать и так красиво выражаться. Он вытащил из отворота своей куртки булавку и хотел уже уколоть себе палец, но Том остановил его:
— Погоди! Булавка-то медная. На ней может быть ярь-медянка.
— Ярь-медянка? А это что за штука?
— Яд такой. Попробуй проглотить — увидишь.
Том размотал нитку с одной из своих иголок, и оба мальчика по очереди укололи себе большие пальцы и выдавили по капле крови.
Проделав это несколько раз и пользуясь мизинцем вместо пера, Том вывел внизу начальные буквы своего имени, затем научил Гекльберри, как писать Г. и Ф., и клятва была принесена. Они торжественно, с разными церемониями и заклинаниями, зарыли дощечку возле самой стены, считая, что теперь оковы, связывающие их языки, уже навеки замкнуты на ключ, а самый ключ заброшен далеко-далеко.
Сквозь большой пролом в другом конце полуразрушенного здания прокралась какая-то фигура, но мальчики не заметили её.
— Том, — прошептал Гекльберри, — ты уверен, что после этого мы уже не проболтаемся… никогда?
— Разумеется, уверен. Что бы ни случилось, теперь мы — молчок. А иначе мы тут же упадём мёртвыми на месте. Разве ты забыл?
— Да… в самом деле… конечно.
Ещё некоторое время они продолжали шептаться. Вдруг невдалеке за стеной, — всего в каких-нибудь десяти шагах, уныло и протяжно завыла собака. Мальчики в безумном ужасе прижались друг к другу.
— Кому это она воет? — еле дыша, прошептал Гекльберри. — Тебе или мне?
— Не знаю… посмотри в щёлку! Да живее!
— Нет, ты посмотри!
— Не могу… не могу я, Гек!
— Ну же, Том… Слышишь, она опять!
— Господи, как я рад! — прошептал Том. — Я узнаю её… по голосу: это Булл Харбисон.[22]
— Ну, слава богу! Знаешь, я прямо насмерть перепугался — я думал, это собака бродячая.
Собака завыла снова. У мальчиков опять упало сердце.
— Ох, нет! Это не она, — прошептал Гекльберри. — Погляди-ка, Том!
Том, трепеща от страха, приложил глаза к щёлке и еле слышно промолвил:
— Ой, Гек, это бродячая собака!
— Смотри, Том, смотри поскорее: на кого она воет?
— Должно быть, на нас обоих, Гек. Ведь мы рядом, совсем близко друг к дружке…
— Ох, Том, мы пропали! Уж я знаю, куда попаду. Я был такой грешник, такой скверный мальчишка…
— А я? Так мне и надо! Вот что значит не ходить в школу и делать, чего не велят… Я мог бы стать таким же хорошим, как Сид, если б только постарался как следует, да нет, не старался, нет, нет… Ну, если только я спасусь от беды, на этот раз, я буду дневать и ночевать в воскресной школе.
Том начал тихонько всхлипывать.
— Это ты-то скверный? — И Гекльберри тоже захныкал. — Ты, Том Сойер, чёрт возьми, сущий ангел в сравнении со мной! О боже, боже, хотел бы я хоть вполовину быть таким «скверным», как ты!
Том проглотил слёзы и шепнул:
— Смотри, Гекки, смотри! Она стоит к нам задом!
Гек посмотрел, и сердце его наполнилось радостью.
— Да, задом… Вот здорово! Она так и раньше стояла?
— Ну да, а я, дурак, не заметил. Вот хорошо! Но на кого она воет?
Вой прекратился. Том навострил уши.
— Тс! Что это? — шепнул он.
— Вроде как бы хрюкает свинья… Нет, Том, это кто-то храпит…
— Верно! Где же он храпит, Гек?
— По-моему, в том конце. Храп как будто идёт оттуда. Там ночевал иногда отец вместе со свиньями, но это не он. Он, бывало, так захрапит, что держись — с ног сшибёт! К тому же, я думаю, ему уже не вернуться в наш город.
Жажда приключений снова ожила в мальчиках.
— Гек, ты пойдёшь поглядеть, если я пойду впереди?
— Неохота мне, Том. А вдруг там Индеец Джо?
Том оробел. Но искушение было слишком сильно, и мальчики решили пойти посмотреть, уговорившись тотчас же повернуть и дать тягу, если только храп прекратится. На цыпочках, один за другим, они стали подкрадываться к спящему. Не доходя нескольких шагов, Том наступил на какую-то палку; она сломалась и громко хрустнула. Спящий застонал, повернулся, и его лицо попало в полосу лунного света. Это был Мефф Поттер. У мальчиков кровь застыла в жилах, и они ужасно оробели, когда спящий пошевелился; но теперь все их страхи рассеялись. Они тихонько прошмыгнули сквозь пролом, прошли вместе несколько шагов и уже были готовы разойтись, как вдруг в ночной тишине снова раздался зловещий протяжный вой. Они оглянулись и увидели незнакомую собаку, стоявшую в двух шагах от того места, где лежал Поттер; её морда была обращена к нему, а нос был поднят к небу.
— Так это она на него, — в один голос воскликнули мальчики.
— А знаешь, Том? Говорят, около дома Джонни Миллера выла бродячая собака как раз в полночь, уже недели две тому назад, — и козодой[23] влетел к нему в комнату, сел на перила лестницы и запел в тот же вечер, а до сих пор никто у них в доме не умер.
— Да, я знаю. Ну, так что ж из того? Ведь Греси Миллер в ту же субботу упала в камин и страшно обожглась.
— Да, но она не умерла. И не только не умерла, а, наоборот, поправляется.
— Ладно, погоди, увидишь, что будет. Её дело пропащее, всё равно как и Меффа Поттера. Так говорят негры, а уж они эти дела понимают.
И мальчики расстались в раздумье.
Когда Том влезал в окно своей спальни, ночь подходила к концу. Раздеваясь, он принял все меры, чтобы не шуметь, и, засыпая, поздравил себя с тем, что никто не узнал о его смелых проделках. Ему и в голову не приходило, что тихо храпевший Сид на самом деле не спал, и не спал уже около часа.
Когда Том открыл глаза, Сид успел уже одеться и уйти. Час был поздний: и воздух, и солнечный свет ясно говорили об этом. Том был поражён. Почему его не разбудили, почему не растормошили, как всегда? Эта мысль наполнила его дурными предчувствиями. В пять минут он оделся и сошёл вниз, хотя его клонило ко сну и он чувствовал во всём теле усталость. Семья ещё сидела за столом, но завтрак уже кончился. Никто не сказал Тому ни одного слова упрёка, но все глаза были отвращены от него, и в комнате стояла такая торжественная тишина, что сердце преступника пронзил леденящий холод. Он сел и старался казаться весёлым. Напрасный труд — никакого отклика! Никто даже не улыбнулся, и он тоже погрузился в молчание, и сердце его сжала тоска.
После завтрака тётка отвела его в сторону, и Том почти повеселел, так как его осенила надежда, что дело ограничится розгами; но вышло не так. Тётя Полли стала плакать и жаловаться. Она спросила, как у него хватило духу разбить её старое сердце, и в конце концов сказала ему, что теперь он может делать всё, что угодно: губить себя, покрывать позором её седины, свести её в могилу, — всё равно исправлять его бесполезно; она уж и пытаться не станет. Это было хуже, чем тысяча розог, и сердце у Тома заныло ещё больше, чем тело. Он тоже плакал, просил прощения, снова и снова обещал исправиться и наконец был отпущен, но чувствовал, что простили его не совсем и что прежнего доверия к нему нет.
Он ушёл прочь и был так несчастен, что даже не испытывал желания отомстить Сиду, и тот совершенно напрасно поспешил улизнуть от него через заднюю калитку. Том приплёлся в школу печальный и мрачный и вместе с Джо Гарпером подставил спину под розги за то, что вчера не явился в школу. Во время экзекуции у него был вид человека, душа которого удручена более тягостным горем и совершенно не чувствительна к таким пустякам. Вернувшись на своё место, он облокотился на парту и, подпирая подбородок руками, уставился в стену каменным взглядом, выражавшим страдание, дошедшее до последних пределов. Под локтем он почувствовал какой-то твёрдый предмет. Том долго не глядел на него. Наконец уныло переменил положение и со вздохом взял этот предмет. Он был завёрнут в бумагу. Том развернул её. Глубокий, протяжный, огромный вздох вырвался у него из груди — и сердце его разбилось. То была его медная шишечка от каминной решётки!
Последняя соломинка сломала спину верблюда.
Глава XI ТОМ ИСПЫТЫВАЕТ МУКИ СОВЕСТИ
Около полудня весь город был внезапно взбудоражен ужасной новостью. Не надо было и телеграфа, о котором в ту пору не мечтали, — весть эта переходила от человека к человеку, от толпы к толпе, от дома к дому с почти телеграфной быстротой. Разумеется, учитель отпустил школьников домой: весь город счёл бы странным, если бы учитель не догадался об этом.
Возле убитого нашли окровавленный нож, и, как рассказывали, кто-то признал, что нож принадлежит Меффу Поттеру. Говорили также, что ночью, часов около двух, один запоздалый горожанин, возвращаясь домой, видел, как Поттер умывался в ручье, и что Поттер, завидя его, тотчас же куда-то исчез, — обстоятельство подозрительное, в особенности умыванье: оно было делом весьма необычным для Поттера. Говорили также, что уже обшарили весь город, разыскивая «убийцу» (обыватели всегда очень быстро находят улики и выносят приговоры), но нигде не могли его найти. По всем направлениям разосланы верховые, и шериф[24] «уверен», что преступника поймают до ночи.
Весь город устремился на кладбище. Том забыл о своём разбитом сердце и присоединился к толпе — не потому, что у него было такое желание, он предпочёл бы оказаться за тысячу миль, — но его влекла туда роковая, необъяснимая сила. Придя на это страшное место, он легко проскользнул вперёд и снова увидел то же мрачное зрелище. Ему казалось, что с тех пор, как он был здесь, прошла целая вечность. Кто-то ущипнул его за руку. Он оглянулся и встретился глазами с Гекльберри. Тотчас же оба стали смотреть в разные стороны, тревожно вопрошая себя, не заметил ли кто, как они переглянулись друг с другом. Но все были заняты разговорами и не отрывали глаз от ужасного зрелища.
«Бедный малый!», «Несчастный молодой человек!», «Вот урок похитителям трупов!», «Не миновать Меффу Поттеру виселицы, если его удастся поймать!» — слышалось со всех сторон.
А священник сказал:
— Так судил господь, тут десница всевышнего.
Том содрогнулся с головы до ног, так как взор его упал на неподвижное лицо Индейца Джо. В это мгновение толпа забурлила и подалась назад. Послышались крики:
— Это он, он! Он идёт сюда сам!
— Кто, кто? — завопили двадцать голосов.
— Мефф Поттер!
— Смотрите, остановился… Следите за ним — он хочет уйти. Держите его, не пускайте!
Зеваки, сидевшие на деревьях над головой Тома, сообщили, что Мефф Поттер и не думает уходить — он только смущён и не знает, что делать.
— Бесстыдная наглость! — заметил один из зрителей. — Пришёл, чтобы тихо и мирно полюбоваться своим злодеянием… не ожидал, что здесь будет народ.
Толпа расступилась, и к могиле торжественно приблизился шериф, ведя Поттера за руку. Лицо несчастного сильно осунулось, и его глаза выражали мучительный страх. Когда он увидел убитого, он затрясся, словно его хватил паралич, закрыл лицо руками и заплакал.
— Не я это сделал, друзья мои, — говорил он рыдая, — даю вам честное слово, не я…
— Кто же тебя обвиняет? — загремел чей-то голос. Стрела попала в цель. Поттер поднял голову и осмотрелся вокруг с горькой безнадёжностью во взоре. Он увидел Индейца Джо и воскликнул:
— Ну, Индеец Джо! Ты же обещал, что никогда…
— Это ваш нож? — И шериф поднёс к самому его лицу орудие убийства.
Поттер упал бы, если бы его не подхватили и не усадили тихонько на землю. Потом он сказал:
— Что-то говорило — мне, что если я не вернусь сюда и не найду… — Он вздрогнул и, безнадёжно махнув рукой, промолвил: — Скажи им, Джо, скажи им, — теперь уж нечего…
Гекльберри и Том онемели от ужаса и, не отрывая глаз, глядели на бессердечного лгуна, когда он повёл свой хладнокровный рассказ об убийстве. Каждую минуту они ожидали, что вот-вот с безоблачного неба на его голову низвергнется молния, и дивились, почему так медлит божья кара. Когда же он и по окончании рассказа остался цел и невредим, у них возникло робкое желание нарушить клятву и спасти жизнь несправедливо обвинённому Поттеру, но это желание увяло и скоро совсем исчезло, потому что им сделалась ясно, что этот негодяй Джо продал душу дьяволу, а с дьяволом шутки плохи: только сунься в его дела — и сгинешь на веки веков.
Кто-то спросил Поттера:
— Почему же ты не убежал? Зачем пришёл сюда?
— Я не мог иначе… не мог! — простонал Поттер. — Я и хотел убежать, но сами ноги привели меня сюда!
И он зарыдал опять.
Через несколько минут на следствии Индеец Джо столь же спокойно повторил своё показание под присягой, и мальчики, видя, что небесные молнии так-таки не поразили его, окончательно убедились, что Джо продал себя сатане. Он вдруг сделался в их глазах самым интересным, хотя и самым страшным существом на земле, и они не могли отвести от его лица зачарованных глаз.
Про себя они решили следить за ним по ночам, когда представится случай, в надежде как-нибудь хоть мельком увидеть его ужасного повелителя — дьявола.
Индеец Джо помог поднять с земли тело убитого и уложить в повозку, чтобы увезти его прочь. В толпе пробежал трепет: все стали шептать, что как раз в эту минуту из раны просочились капли крови.[25] Мальчики подумали было, что эта счастливая случайность укажет толпе истинного убийцу, но им пришлось разочароваться, потому что многие тут же сказали:
— Всё это потому, что Мефф Поттер стоял в трёх шагах от убитого.
Страшная тайна и угрызения совести целую неделю не давали Тому спать по ночам, и однажды утром во время завтрака Сид сказал:
— Том, ты так вертишься и так много болтаешь во сне, что я из-за тебя не мог уснуть…
Том побледнел и потупил глаза.
— Это дурной знак, — серьёзно сказала тётя Полли. — Что у тебя на уме, Том?
— Ничего! Ничего особенного!
Однако рука мальчика дрогнула так, что он пролил на скатерть свой кофе.
— И мелешь ты всё такой вздор, — продолжал Сид. — Нынче ночью ты, например, зарядил: «Это кровь, это кровь, вот что это такое!» И опять, и опять, без конца. А потом: «Не мучьте меня так, — я скажу». Скажешь? Что такое ты скажешь?
Всё поплыло перед Томом. Трудно сказать, чем бы это могло кончиться, но, к счастью, тревожное выражение сошло с лица тёти Полли, и она, сама того не зная, пришла Тому на выручку. Она сказала:
— Ох! Это всё из-за того страшного убийства. Мне и самой оно снится чуть ли не каждую ночь. Иногда я даже вижу во сне, что убийца — я.
Мери сказала, что то же самое бывает и с ней. Сид, по-видимому, удовлетворился этим объяснением. Том поспешил уйти под первым благовидным предлогом и после этого целую неделю, притворяясь, что у него болят зубы, стягивал себе челюсть на ночь платком. Он не знал, что Сид нарочно не спит по ночам и нередко, ослабив его повязку и приподнявшись на локте, прислушивается к его словам и потом опять поправляет повязку. Душевная тревога Тома мало-помалу улеглась; зубная боль надоела ему и была отменена. Если Сид и вывел какие-либо заключения из отрывистых слов, произносимых его братом во сне, он оставил их при себе.
Тому казалось, что его товарищи никогда не перестанут производить следствие над дохлыми кошками, — эта забава всякий раз напоминала ему о страшном событии. Сид подглядел, что в этой игре Том никогда не выступает в качестве главного следователя, хотя до сих пор Том очень любил, чтобы во всех играх первые роли предоставлялись ему. Сид точно так же подметил, что Том уклоняется и от роли свидетеля; в этом тоже была какая-то странность. Не ускользнуло от Сида и то обстоятельство, что Тому вообще эти игры противны и что он уклоняется от них при малейшей возможности. Сид ломал себе голову над этими загадками, но не говорил ничего. Впрочем, подобные игры в конце концов вышли из моды и перестали терзать совесть Тома.
В это печальное время Том чуть не каждый день, улучив удобную минуту, пробирался к маленькому решётчатому оконцу тюрьмы, в которой был заключён «убийца», и контрабандой приносил ему разные лакомства, какие удавалось добыть. Тюрьмой было невзрачное кирпичное зданьице, которое стояло у болота, на краю городка. Сторожа при ней не полагалось, да в ней и заключённых почти никогда не бывало. Эти маленькие подарки значительно успокаивали совесть Тома.
У обитателей городка было сильное желание наказать Индейца Джо за похищение трупов: вымазать его дёгтем, вывалять в перьях и вывезти из города верхом на шесте. Но он внушал такой страх, что не находилось никого, кто решился бы взять на себя в этом деле почин, а потому оно не состоялось. На обоих допросах метис начинал свой рассказ прямо с драки, не упоминая о предварительном похищении трупа; поэтому сочтено было за лучшее до поры до времени не привлекать его к суду.
Глава XII КОТ И «БОЛЕУТОЛИТЕЛЬ»
У Тома появились новые большие тревоги: Бекки Тэчер перестала ходить в школу. Эти-то тревоги и отвлекли его ум от мучительной тайны, волновавшей его. Том несколько дней пытался разжечь в себе гордость и выбросить Бекки из головы, но это ему не удавалось. Он начал бродить по вечерам вокруг её дома и чувствовал себя очень несчастным. Она заболела. Что, если она умрёт? Эта мысль удручала его. Он перестал интересоваться военными стычками, и даже морские пираты уже не увлекали его. Очарование жизни исчезло, осталась одна тоска. Он забросил обруч и палку: они не давали ему былых наслаждений. Его тётка встревожилась и стала его лечить, пробуя на нём всевозможные средства.
Она принадлежала к числу тех людей, которые страстно увлекаются всякими патентованными снадобьями и новоизобрётенными лечебными методами. Без устали проделывала она всевозможные медицинские опыты. Как только в этой области появлялось что-нибудь свежее, она жаждала испробовать новинку — не на себе, потому что никогда не хворала, но на первом, кто попадался ей под руку. Она выписывала все медицинские журнальчики, жульнические брошюрки френологов,[26] и величавое невежество, наполнявшее их, было для неё слаще мёда. Их бредни о вентиляции комнат и о том, как нужно ложиться в постель, и как подниматься с постели, и что есть, и что пить, и сколько нужно делать моциону, и какое поддерживать в себе состояние духа, и какую одежду носить, — всё это было для неё непререкаемой истиной, и она никогда не замечала, что журналы, полученные в нынешнем месяце, ниспровергают всё то, что сами же рекомендовали в прошлом. Она была честна и простодушна — и потому легко становилась их жертвой. Она собирала все шарлатанские журналы и все шарлатанские снадобья и, говоря фигурально, вооружённая смертью, мчалась на бледном коне, «а за нею все силы ада». Она очень удивилась бы, если бы узнала, что для своих страждущих соседей она не ангел-целитель и не «ханаанский бальзам».[27]
В то время только что входило в моду водолечение, и удручённое состояние Тома подвернулось как раз кстати. Тётка поднимала его с постели чуть свет, уводила в дровяной сарай, окатывала целым ливнем холодной воды и растирала полотенцем, жёстким, как скребница; потом обвёртывала его мокрой простынёй и укрывала одеялами, чтобы довести его до седьмого пота, и несчастный потел так, что, по его собственному выражению, «у него все жёлтые пятна души выступали наружу сквозь поры».
Несмотря на всё это, мальчик бледнел и хирел, и вид у него был очень печальный. Тётка присоединила к прежнему лечению горячие ванны, «сидячие» ванны, души и обливания. Но мальчик оставался унылым, как погребальные дроги. Чтобы помочь воде, тётка стала кормить его жидкой овсянкой и облепила нарывными пластырями. Кроме того, она ежедневно наполняла его, словно кувшин, всевозможными шарлатанскими снадобьями.
Понемногу Том стал вполне равнодушен ко всем пыткам. Это равнодушие вселило в сердце старухи тревогу. Необходимо было во что бы то ни стало вывести Тома из такого бесчувствия. Как раз в это время она впервые услыхала о новом лекарстве, «болеутолителе», и тотчас же выписала это лекарство в огромном количестве. Отведала его и обрадовалась: то был настоящий огонь в жидком виде. Оно бросила водолечение, отказалась от всяких лекарств и возложила все надежды на новое снадобье. Она дала Тому выпить полную чайную ложку и с замиранием сердца стала ждать результатов. Тревога её моментально прошла и душа успокоилась, ибо «равнодушие» Тома, несомненно, в одну секунду исчезло. Если бы она посадила его на горячие угли, он не мог бы стать более оживлённым и пылким.
Том почувствовал, что пора на самом деле проснуться от спячки. Такая жизнь вполне соответствовала его горестному настроению, но в ней было слишком много разнообразия и слишком мало пищи для души. Он стал придумывать всевозможные способы избавиться от этого бедствия и наконец напал на мысль притвориться, будто «болеутолитель» пришёлся ему по вкусу: он стал так часто просить новую порцию снадобья, что тётке это надоело, и она сказала, чтоб он сам принимал его, когда вздумается, а её оставил в покое. Будь это Сид, к её радости не примешивалось бы никакой тревоги, но, так как дело касалось Тома, она стала потихоньку наблюдать за бутылкой. Лекарства действительно становилось всё меньше, но ей и в голову не приходило, что Том лечит не себя, а щель в полу гостиной.
Однажды, когда он лечил таким образом щель, к нему подошёл тёткин рыжий кот, замурлыкал и, жадно поглядывая на чайную ложку, попросил, чтобы ему дали попробовать.
— Ой, Питер, не проси, если тебе не хочется!
Питер дал понять, что ему хочется.
— Смотри не ошибись… пожалеешь…
Питер выразил уверенность, что ошибки здесь нет никакой.
— Ну, если ты просишь, я дам, я не жадный, но только смотри: не понравится — пеняй на себя.
Питер согласился на эти условия. Том раскрыл ему рот и влил туда ложку «болеутолителя». Питер подскочил вверх на два ярда, затем издал воинственный клич и заметался кругами по комнате, налетая на мебель, опрокидывая цветочные горшки и поднимая страшный кавардак. Затем он встал на задние лапы и заплясал на полу в припадке безумной радости, закинув голову и вопя на весь дом о своём безмятежном блаженстве. Затем он опять заметался по комнате, неся на своём пути разрушение и хаос. Тётя Полли вошла как раз в ту минуту, когда он, перекувыркнувшись несколько раз в воздухе, исполнил свой заключительный номер: крикнул во всё горло «ура» и выскочил в окно, увлекая за собой остальные горшки. Старая леди окаменела от изумления, оглядывая комнату поверх очков, а Том катался по полу, изнемогая от смеха.
— Что такое с нашим котом?
— Не знаю, тётя, — едва мог пролепетать Том.
— В жизни своей не видала подобных чудес! С чего это он так ошалел?
— Право же, не знаю, тётя Полли. Кошки всегда кувыркаются, когда у них какая-нибудь радость.
— Неужели?
В голосе тёти Полли было что-то такое, что заставило Тома насторожиться.
— Да, 'м. То есть я так думаю.
— Ты так думаешь?
— Да, 'м.
Старушка нагнулась. Том с интересом и тревогой следил за её движениями, но слишком поздно догадался, к чему она клонит. Из-под полога кровати торчала улика — чайная ложка. Тётя Полли вытащила её оттуда и потрясла над его головой. Том вздрогнул и опустил глаза. Тётя Полли подняла его с полу за обычную рукоятку — за ухо — и больно стукнула по голове напёрстком.
— Ну, сэр, извольте объяснить, за что вы так мучаете бессловесную тварь?
— Я дал ему лекарство из жалости… потому что у него нет тётки.
— Нет тётки! Что за вздор ты городишь, глупец! При чём здесь тётка?
— Как — при чём! Будь у него тётка, она выжгла бы ему все потроха, припекла бы ему все кишки без пощады… Она не поглядела бы, что он кот, а не мальчик!..
Тётя Полли ощутила угрызения совести. Её лечение представилось ей в новом свете: то, что было жестокостью по отношению к коту, могло быть жестокостью и по отношению к ребёнку. Сердце её стало смягчаться, и она устыдилась. Слёзы выступили у неё на глазах, и, положив руку на голову Тома, она мягко сказала:
— Я ведь старалась для твоей же пользы, Том. И это принесло тебе пользу.
Том серьёзно посмотрел ей в лицо. Только углы его рта вздрагивали еле заметной усмешкой.
— Я знаю, тётя, что вы желали мне добра, да и я Питеру тоже. Это принесло ему пользу. Я никогда ещё не видывал, чтобы он так лихо танцевал…
— Ну, будет, будет, Том, не раздражай меня снова. Веди себя хорошенько, будь умницей… и больше тебе не будет лекарств.
Том пришёл в школу до начала урока. Все заметили, что такие необычайные случаи повторяются за последнее время каждый день. И сегодня, как всегда в эти дни, вместо того чтобы играть с товарищами, мальчик околачивался на школьном дворе, у ворот. Отказываясь от игр, он объяснял, что ему нездоровится, и вид у него действительно был очень болезненный. Он притворялся, что смотрит по сторонам, но на самом деле всё время смотрел на дорогу. Как только вдали показался Джефф Тэчер, Том просиял, но через минуту лицо его сделалось снова печальным. Когда Джефф вошёл в ворота, Том подбежал к нему, всячески стараясь навести его на разговор о Бекки, но тот был туповат и не понял его намёков. Том всё ждал и ждал, проникаясь надеждой всякий раз, как вдали показывалось развевающееся платьице, и всем сердцем ненавидел ту, кому принадлежало оно, как только убеждался, что она не Бекки. Наконец платьица перестали показываться, и Том окончательно приуныл. Грустный и задумчивый, он вошёл в пустой класс и уселся на своё место — страдать. В это время у ворот мелькнуло ещё одно платье, и у Тома ёкнуло сердце. Миг — и он уже был во дворе, неистовствуя, как индеец: он кричал, хохотал, гонялся за мальчишками, прыгал через забор с опасностью для жизни, кувыркался, ходил на голове — словом, совершал всевозможные геройские подвиги, всё время при этом поглядывая в сторону Бекки — смотрит ли она? Но она, казалось, не обращала на всё это никакого внимания и ни разу не посмотрела в его сторону. Неужели она не замечает его? Он стал совершать свои подвиги поближе к ней. Он носился вокруг неё с боевыми криками, сорвал с кого-то кепку и забросил её на крышу, врезался в толпу мальчишек, расшвырял их о разные стороны, растянулся на земле перед самым носом у Бекки и чуть не сбил её с ног. Она отвернулась, вздёрнула нос и сказала:
— Пф! Некоторые воображают, что они интереснее всех… и всегда петушатся…
Щёки у Тома вспыхнули. Он поднялся с земли и, понурый, раздавленный, медленно побрёл прочь.
Глава XIII ШАЙКА ПИРАТОВ ПОДНИМАЕТ ПАРУСА
Том принял твёрдое, бесповоротное решение. В душе у него был мрак безнадёжности. Он говорил себе, что он одинок, всеми покинут, что никто в мире не любит его. Потом, когда люди узнают, до чего они довели его, может быть, они раскаются и пожалеют о нём. Он старался быть хорошим и делать добро, но ему не хотели помочь. Если уж им надо непременно избавиться от него — что ж, он уйдёт, и пусть бранят его сколько хотят. Сделайте одолжение, браните! Разве одинокий, всеми брошенный мальчик имеет какое-нибудь право роптать? Он не хотел, но приходится. Они сами вынудили его стать на путь преступлений. Иного выбора у него нет.
Он дошёл уже почти до конца Лугового переулка, и звон школьного колокола, сзывавшего в классы, еле долетел до него. Том всхлипнул при мысли, что никогда-никогда больше не услышит хорошо знакомого звона. Это было тяжко, но что же делать — его заставляют. Его, бесприютного, гонят блуждать по пустынному миру — и тут ничего не поделаешь. Но он прощает им всем… да, прощает. Тут его всхлипывания стали сильнее и чаще.
Как раз в эту минуту он повстречался со своим лучшим другом Джо Гарпером. У того тоже были заплаканные глаза, и в душе, очевидно, созрел великий и мрачный план. Несомненно, они представляли собой «две души, окрылённые единой мечтой». Том, вытирая глаза рукавом, поведал о своём решении уйти из дому, где так жестоко обращаются с ним и где он ни в ком не встречает сочувствия, — уйти и никогда не возвращаться. В заключение он выразил надежду, что Джо не забудет его.
Но тут обнаружилось, что Джо и сам собирался просить своего друга о том же и давно уже ищет его. Мать отстегала Джо за то, что он будто бы выпил какие-то сливки, а он не пробовал их и даже в глаза не видал. Очевидно, он ей надоел, и она хочет от него отвязаться. Если так, ему ничего не остаётся, как исполнить её желание: он надеется, что она будет счастлива и никогда не пожалеет о том, что выгнала своего бедного мальчика к равнодушным и бесчувственным людям, чтобы он страдал и умер.
Оба страдальца шли рядом, поверяя свои скорби друг другу. Они уговорились стоять друг за друга, как братья, и никогда не расставаться, пока смерть не избавит их от мук. Затем они принялись излагать свои планы. Джо хотел бы уйти в отшельники, жить в уединённой пещере, питаясь сухими корками, и умереть от холода, нужды и душевных терзаний, но, выслушав Тома, признал, что преступная жизнь имеет свои преимущества, и согласился сделаться пиратом.
В трёх милях от Санкт-Петербурга, там, где река Миссисипи достигает более мили ширины, есть длинный, узкий, поросший деревьями остров с песчаной отмелью у верхнего конца — вполне подходящее — место для изгнанников. Остров был необитаем и лежал ближе к противоположному берегу, поросшему густым, дремучим лесом, где тоже не было, ни одного человека. Потому-то они и решили поселиться на этом острове — острове Джексона. Им и в голову не пришло спросить себя, кто будет жертвами их пиратских набегов. Затем они разыскали Гекльберри Финна, и он охотно присоединился к их шайке; Геку было всё равно, какую карьеру избрать, он был к этому вполне равнодушен. Они расстались, уговорившись встретиться на берегу реки, в уединённом месте на две мили выше городка, в свой излюбленный час, то есть в полночь. Там, у берега, был виден небольшой бревенчатый плот, который они решили похитить. Условлено было, что каждый захватит с собой удочки и рыболовные крючки, а также съестные припасы, те, какие удастся украсть — по возможности, самым загадочным и таинственным образом, как и подобает разбойникам. Ещё до вечера каждый из них успел с наслаждением распространить среди товарищей весть, что скоро в городе «кое-что услышат». Все, кому был дан этот туманный намёк, получили также приказ «держать язык за зубами и ждать».
Около полуночи Том явился с варёным окороком и ещё кое-какой провизией и притаился в густой заросли на невысокой круче у самого берега. С кручи было видно то место, где они должны были встретиться. Было тихо, сияли звёзды. Могучая река покоилась внизу, как спящий океан. Том прислушался — ни звука. Тогда он тихо, протяжно свистнул. Снизу донёсся ответный свист. Том свистнул ещё два раза, и ему снова ответили. Потом чей-то приглушённый голос спросил:
— Кто идёт?
— Том Сойер, Чёрный Мститель Испанских морей. Назовите ваши имена!
— Гек Финн, Кровавая Рука, и Джо Гарпер, Гроза Океанов.
Эти прозвища Том позаимствовал из своих излюбленных книг.
— Ладно. Скажите пароль!
В ночной тишине два хриплых голоса одновременно произнесли одно и то же ужасное слово:
— «Кровь»!
Том швырнул сверху свой окорок и сам скатился вслед за ним, разодрав и кожу и одежду. С кручи можно было спуститься по отличной, очень удобной тропинке, бегущей вдоль берега, но она, к сожалению, была лишена тех опасностей, которые так ценят пираты. Гроза Океанов раздобыл огромный кусок свиной грудинки и еле дотащил его до места. Финн Кровавая Рука стянул где-то сковороду и целую пачку полусырых табачных листьев, а также несколько стеблей маиса, чтобы заменить ими трубки, хотя, кроме него, ни один из пиратов не курил и не жевал табаку. Чёрный Мститель Испанских морей объявил, что нечего и думать пускаться в путь без огня. Это была благоразумная мысль: спички в таких отдалённых местах были в те времена ещё малоизвестны. В ста шагах выше по течению мальчики увидели костёр, догорающий на большом плоту, подкрались к нему и стащили головню. Из этого они устроили целое приключение: поминутно «цыкали» друг на друга и прикладывали пальцы к губам, призывая к безмолвию, хватались руками за воображаемые рукоятки кинжалов и зловещим шёпотом приказывали, если только «враг» шевельнётся, «всадить ему нож по самую рукоятку», потому что «мёртвый не выдаст». Мальчуганы отлично знали, что плотовщики ушли в город и либо шатаются по лавкам, либо пьянствуют, — всё же им не было бы никакого оправдания, если бы они вели себя не так, как полагается заправским пиратам.
Затем они двинулись в путь. Том командовал. Гек работал кормовым веслом. Джо — носовым. Том стоял на середине корабля. Мрачно нахмурив брови, скрестив руки на груди, он командовал негромким, суровым шёпотом:
— Круче к ветру!.. Уваливай под ветер!
— Есть, сэр!
— Так держать!
— Есть, сэр!
— Держи на румб![28]
— Есть держать на румб, сэр!
Так как мальчики ровно и спокойно гребли к середине реки, все эти приказания отдавались «для виду» и ничего, собственно, не означали.
— Какие подняты на корабле паруса?
— Нижние, марсели, и бом-кливера, сэр!
— Поднять бом-брамсели! Живо! Десяток матросов на форстень-стаксели! Пошевеливайся!
— Есть, сэр!
— Распусти грот-брамсель! Шкоты и брасы! Поживей, молодцы!
— Есть, сэр!
— Клади руль под ветер! Лево на борт! Будь наготове, чтобы встретить врага! Лево руля! Ну, молодцы! Навались дружней! Так держать!
— Есть, сэр!
Плот миновал середину реки, мальчики направили его по течению и положили вёсла. Уровень воды в реке был невысок, так что течение оказалось не особенно сильное: две или три мили в час. Минут сорок мальчики плыли в глубоком молчании. Как раз в это время они проходили мимо своего городка, который был теперь так далеко. Городок мирно спал. Только по двум-трём мерцающим огонькам можно было угадать, где он лежит — над широким туманным простором воды, усеянной алмазами звёзд. Спящим жителям и в голову не приходило, какое великое событие совершается в эту минуту. Чёрный Мститель Испанских морей всё ещё стоял неподвижно, скрестив на груди руки и «глядя в последний раз» на то место, где некогда он знал столько радостей, а потом изведал столько мук. Ему страшно хотелось, чтобы она увидела, как он несётся по бурным волнам и безбоязненно глядит в лицо смерти, идя навстречу гибели с мрачной улыбкой. Тому не потребовалось большого усилия фантазии, чтобы вообразить, будто с острова Джексона не видать городка, будто сам он далеко-далеко и «в последний раз» глядит на родные места, с разбитым и в то же время торжествующим сердцем… Остальные пираты тоже навеки прощались с родными местами, так что их чуть было не пронесло мимо острова; но они вовремя заметили опасность и предупредили её. Около двух часов ночи плот сел на песчаную отмель ярдах в двухстах от верхней оконечности острова, и они долго ходили взад и вперёд по колено в воде, пока не перетаскали туда всю добычу. На плоту был старый парус; они сняли его и натянули между кустами вместо навеса, чтобы укрыть провиант; сами они в хорошую погоду будут спать под открытым небом — как и подобает разбойникам.
Они развели костёр около упавшего дерева в мрачной чаще леса, шагах в двадцати — тридцати от опушки, поджарили себе на сковороде немного свинины на ужин и съели половину всего запаса кукурузных лепёшек. Ах, какое великое счастье — пировать на приволье, в девственном лесу, на неисследованном и необитаемом острове, вдали от людского жилья! Никогда не вернутся они к цивилизованной жизни. Вспыхивающий огонь освещал их лица, и бросал красноватый отблеск на деревья — эту колоннаду их лесного храма, — на глянцевитые листья и на гирлянды дикого винограда. Когда были съедены последние кусочки грудинки и последние ломти кукурузных лепёшек, мальчики в приятнейшем расположении духа растянулись на траве. Правда, они могли бы найти более прохладное место, но лежать у костра в лесу так увлекательно, так романтично!
— Ну, разве не славно? — воскликнул Джо.
— Чудесно! — отозвался Том.
— Что сказали бы другие ребята, если бы увидели нас?
— Что? Да они прямо умерли бы от зависти! Правда, Гекки?
— Уж это так! — отвечал Гекльберри. — Не знаю, как другие, а я доволен. Лучшего мне не надо. Не каждый день случается набивать себе досыта брюхо, и, кроме того, сюда уж никто не придёт и не даст тебе по шее ни за что ни про что. И не обругает тебя.
— Такая жизнь как раз по мне, — объявил Том. — Не надо вставать рано утром, не надо ходить в школу, не надо умываться и проделывать всю эту чушь. Видишь ли, Джо, покуда пират на берегу, ему куда легче живётся, чем отшельнику: никакой работы, сиди сложа руки. Отшельник обязан всё время молиться. И живёт он в одиночку, без компании.
— Это верно, — сказал Джо. — Прежде я об этом не думал, а теперь, когда я сделался пиратом, я и сам вижу, что разбойничать куда веселее.
— Видишь ли, — объяснил ему Том, — теперь отшельники не в таком почёте, как прежде, а к пирату люди всегда относятся с большим уважением. Отшельники должны непременно носить жёсткое рубище, посыпать себе голову пеплом, спать на голых камнях, стоять под дождём и…
— А зачем они посыпают себе голову пеплом, — перебил его Гек, — и зачем наряжаются в рубище?
— Не знаю… Такой уж порядок. Если ты отшельник, хочешь не хочешь, а должен проделывать все эти штуки. И тебе пришлось бы, если бы ты пошёл в отшельники.
— Ну нет! Шалишь! — сказал Гек.
— А что бы ты сделал?
— Не знаю… Сказал бы: не хочу — и конец.
— Нет, Гек, тебя и слушать не будут. Такое правило. И как бы ты нарушил его?
— А я бы убежал, вот и всё.
— И был бы не отшельник, а олух! Осрамился бы на всю жизнь!
Кровавая Рука ничего не ответил, так как нашёл себе более интересное дело. Он уже выдолбил из кукурузного початка трубку, а теперь приладил к ней широкий стебель и, набив её доверху табачными листьями, как раз в ту минуту прикладывал к ней уголёк из костра. Выпустив облако ароматного дыма, он почувствовал себя на вершинах блаженства. Остальные пираты, глядя на него, испытывали жгучую зависть и тайно решили усвоить как можно скорее этот великолепный порок.
Гек опять обратился к Тому:
— А что же они делают, пираты?
— О! Пираты живут очень весело: берут в плен корабли и сжигают их, и забирают себе золото, и закапывают его в землю на своём острове в каком-нибудь страшном месте, где его стерегут привидения и всякая нечисть. А матросов и пассажиров они убивают — заставляют их пройтись по доске…[29]
— А женщин увозят к себе на остров, — вставил Джо. — Женщин они не убивают.
— Да, — поддержал его Том, — женщин они не убивают. Они благородные люди. И потом, женщины всегда красавицы.
— И какая на них одежда роскошная — вся в золоте, в серебре, в брильянтах! — восторженно прибавил Джо.
— На ком? — спросил Гек.
— На пиратах.
Гек Финн безнадёжным взором оглядел свой собственный наряд.
— Костюм у меня не пиратский, — сказал он с глубокой печалью, — но у меня только этот и есть.
Мальчики утешили его, говоря, что красивого костюма ему ждать недолго: как только они начнут свои набеги, у них будет и золото, и платье, и всё. А для начала годятся и его лохмотья, хотя обыкновенно богатые пираты, начиная свои похождения, предварительно запасаются соответствующим гардеробом.
Мало-помалу разговор прекратился: у маленьких беглецов слипались глаза, их одолевала дремота. Трубка выскользнула из пальцев Кровавой Руки, и он заснул сном усталого праведника. Гроза Океанов и Чёрный Мститель уснули не так скоро. Молитву на сон грядущий они прочитали про себя и лёжа, так как некому было заставить их стать на колени и прочитать её вслух. Говоря откровенно, они решили было и совсем не молиться, но боялись, что небо ниспошлёт на их головы специальную молнию, которая истребит их на месте. Вскоре они стали засыпать. Но как раз в эту минуту в их души прокралась непрошеная, неотвязная гостья, которая называется совестью. Они начали смутно опасаться, что, убежав из дому, поступили, пожалуй, не совсем хорошо; потом они вспомнили об украденном мясе, и тут начались настоящие муки. Они пытались успокоить совесть, напоминая ей, что им и прежде случалось десятки раз похищать из кладовой то конфеты, то яблоко, но совесть находила эти доводы слабыми и не хотела умолкать. Под конец им стало казаться, что стянуть леденец или яблоко — это пустая проделка, но взять чужой окорок, чужую свинину и тому подобные ценности — это уже настоящая кража, против которой и в библии есть особая заповедь. Поэтому они решили в душе, что, пока они останутся пиратами, они не запятнают себя таким преступлением, как кража. Тогда совесть согласилась заключить перемирие, и эти непоследовательные пираты тихо и спокойно уснули.
Глава XIV ЛАГЕРЬ СЧАСТЛИВЫХ ПИРАТОВ
Проснувшись поутру, Том долго не мог сообразить, где он. Он сел, протёр глаза и осмотрелся — лишь тогда он пришёл в себя. Был прохладный серый рассвет. Глубокое безмолвие леса было проникнуто восхитительным чувством покоя. Ни один листок не шевелился, ни один звук не нарушал раздумья великой Природы. На листьях и травах бусинками блестела роса. Белый слой пепла лежал на костре, и тонкий синий дымок поднимался прямо над ним. Джо и Гек ещё спали.
Далеко в глубине леса крикнула какая-то птица; отозвалась другая; где-то застучал дятел. По мере того как белела холодная серая мгла, звуки росли и множились — везде проявлялась жизнь. Чудеса Природы, стряхивающей с себя сон и принимающейся за работу, развёртывались перед глазами глубоко задумавшегося мальчика. Маленькая зелёная гусеница проползла по мокрому от росы листу. Время от времени она приподнимала над листом две трети своего тела, как будто принюхиваясь, а затем ползла дальше.
— Снимает мерку, — сказал Том.
Когда гусеница приблизилась к нему, он замер и стал неподвижен, как камень, и в его душе то поднималась надежда, то падала, в зависимости от того, направлялась ли гусеница прямо к нему или выказывала намерение двинуться по другому пути. Когда гусеница остановилась, и на несколько мучительных мгновений приподняла своё согнутое крючком туловище, раздумывая, в какую сторону ей двинуться дальше, и наконец переползла к Тому на ногу и пустилась путешествовать по ней, его сердце наполнилось радостью, ибо это значило, что у него будет новый костюм — о, конечно, раззолоченный, блестящий пиратский мундир! Откуда ни возьмись, появилась целая процессия муравьёв, и все они принялись за работу; один стал отважно бороться с мёртвым пауком и, хотя тот был впятеро больше, поволок его верх по дереву.
Бурая божья коровка, вся в пятнышках, взобралась на головокружительную высоту травяного стебля. Том наклонился над ней и сказал:
Божья коровка, лети-ка домой, — В твоём доме пожар, твои детки одни.Божья коровка сейчас же послушалась, полетела спасать малышей, и Том не увидел в этом ничего удивительного: ему было издавна известно, что божьи коровки всегда легкомысленно верят, если им скажешь, что у них в доме пожар; он уже не раз обманывал их, пользуясь их простотой и наивностью. Затем, бодро толкая перед собой свой шар, появился навозный жук, и Том тронул его пальцем, чтобы поглядеть, как он прижмёт лапки к телу и притворится мёртвым. К этому времени птицы распелись вовсю как безумные. Дрозд, северный пересмешник, уселся па дереве над самой головой Тома и с большим удовольствием принялся передразнивать трели своих пернатых соседей. Как голубой огонёк, промелькнула в воздухе крикливая сойка, села на ветку в двух шагах от мальчика, склонила головку набок и с жадным любопытством уставилась на незнакомых пришельцев. Быстро пробежали друг за другом серая белка и другой зверёк, покрупнее, лисьей породы. Они по временам останавливались и садились на задние лапки, чтобы глянуть и фыркнуть па нежданных гостей, потому что эти лесные зверушки, по всей вероятности, никогда раньше не видали человека и не знали, бояться его или нет. Теперь уже вся Природа проснулась и начала шевелиться. Длинные копья солнечных лучей там и сям пронизали густую листву. Откуда-то выпорхнуло несколько бабочек.
Том растолкал остальных пиратов; все они с громким криком помчались к реке, мигом сбросили с себя всю одежду — и давай гоняться друг за дружкой, играть в чехарду в неглубокой прозрачной воде, окружающей белую песчаную отмель. Их нисколько не тянуло туда, в городок, ещё спавший вдали, за величавой пустыней воды. Ночью, плот смыло; он был унесён либо прихотливым течением, либо незначительным подъёмом воды, но мальчикам это даже доставило радость: теперь было похоже на то, что мост между ними и цивилизованным миром сожжён.
Они вернулись в лагерь удивительно свежие, счастливые и страшно голодные; скоро походный костёр запылал у них снова. Гек нашёл неподалёку источник чистой холодной воды, мальчики смастерили себе чашки из широких дубовых и ореховых листьев и решили, что вода, подслащённая чарами дикого леса, весьма недурно заменяет им кофе. Джо стал нарезать к завтраку ветчину. Но Том и Гек попросили его повременить с этим делом: они побежали к реке, к одному местечку, обещающему неплохую добычу, и забросили удочки. Добыча не заставила себя долго ждать. Джо не успел ещё потерять терпение, как они вернулись к костру, таща превосходного карпа, двух окуней, маленького сома — словом, достаточно провизии, чтобы накормить целую семью. Они поджарили рыбу вместе с грудинкой и были поражены: никогда ещё рыба не казалась им такой вкусной. Они не знали, что чем скорее изжаришь пресноводную рыбу, тем она приятнее на вкус, и не думали о том, какой прекрасной приправой к еде служит сон в лесу, беготня на открытом воздухе, купанье и в значительной степени — голод.
Позавтракав, они улеглись в тени, подождали, пока Гек выкурит трубочку, а затем отправились в глубь леса на разведку. Они весело шагали через гниющий валежник, продираясь сквозь заросли, между стволами могучих лесных королей, с венценосных вершин которых свисали до самой земли длинные виноградные плети как знаки их царственной власти. Время от времени в чаще попадались прогалины, очень уютные, устланные коврами травы и сверкавшие цветами, как драгоценными камнями.
В пути многое доставляло им радость, но ничего необыкновенного они не нашли. Они установили, что остров имеет около трёх миль в длину и четверть мили в ширину и что он отделяется от ближайшего берега узким проливом, шириной в какие-нибудь двести ярдов. Купались они чуть, не каждый час и потому вернулись в лагерь уже под вечер. Они были слишком голодны и не стали тратить время на рыбную ловлю, но превосходно пообедали холодной ветчиной, а затем улеглись в тени поболтать. Их беседа скоро начала прерываться, а потом и совсем замерла. Чувство одиночества, тишина, и торжественность леса понемногу оказывали на них своё действие. Они задумались. Их охватила какая-то смутная тоска. Вскоре она приняла более определённую форму первых проблесков тоски по дому. Даже Финн Кровавая Рука и тот начал с грустью мечтать о чужих ступеньках и пустых бочках. Но каждый устыдился своей слабости, и ни у кого не хватило отваги высказать свою мысль вслух.
С некоторых пор до них издалека доносился какой-то особенный звук, но они — не замечали его, как мы иногда не замечаем тиканья часов. Однако таинственный звук мало-помалу стал громче, и не заметить его было нельзя. Мальчики вздрогнули, переглянулись и стали прислушиваться. Наступило долгое молчание, глубокое, ничем не нарушаемое. Затем они услышали глухое и мрачное «бум!»
— Что это? — спросил Джо еле слышно.
— Не знаю! — шёпотом отозвался Том.
— Это не гром, — сказал Гекльберри в испуге, — потому что гром, он…
— Замолчите! — крикнул Том. — И слушайте.
Они подождали с минуту, которая показалась им вечностью, и затем торжественную тишь опять нарушило глухое «бум!»
— Идём посмотрим!
Все трое вскочили и побежали к берегу, туда, откуда был виден городок. Раздвинув кусты, они стали вглядываться вдаль. Посередине реки, на милю ниже Санкт-Петербурга, плыл по течению небольшой пароход, обычно служивший паромом. Было видно, что на его широкой палубе толпится народ. Вокруг пароходика шныряло множество лодок, но мальчики не могли разобрать, что делают сидящие в них люди.
Внезапно у борта парохода взвился столб белого дыма; когда этот дым превратился в безмятежное облако, до слуха зрителей донёсся тот же унылый звук.
— Теперь я знаю, в чём дело! — воскликнул Том. — Кто-то утонул!
— Верно, — заметил Гек. — То же самое было и прошлым летом, когда утоп Билли Тернер; тогда тоже стреляли из пушки над водой — от этого утопленники всплывают наверх. Да! А ещё возьмут ковриги хлеба, наложат в них живого серебра[30] и пустят по воде: где лежит тот, что утоп, там хлеб и остановится.
— Да, я слыхал об этом, — сказал Джо. — Не понимаю, отчего это хлеб останавливается?
— Тут, по-моему, дело не в хлебе, а в том, какие над, ним слова говорят, когда пускают его по воде, — сказал Том.
— Ничего не говорят, — возразил Гек. — Я видал: не говорят ничего.
— Странно!.. — сказал Том. — А может, потихоньку говорят… про себя — чтобы никто не слыхал. Ну конечно! Об этом можно было сразу догадаться.
Мальчики согласились, что Том совершенно прав, так как трудно допустить, чтобы какой-то ничего не смыслящий кусок хлеба без всяких: магических слов, произнесённых над ним, мог действовать так разумно, когда его посылают по такому важному делу.
— Чёрт возьми! Хотел бы я теперь быть на той стороне! — сказал Джо.
— И я тоже, — отозвался Гек. — Страсть хочется знать, кто это там утоп!
Мальчики глядели вдаль и прислушивались. Вдруг в уме у Тома сверкнула догадка:
— Я знаю, кто утонул. Мы!
В тот же миг они почувствовали себя героями. Какое торжество, какое счастье! Их ищут, их оплакивают; из-за них сердца надрываются от горя; из-за них проливаются слёзы; люди вспоминают о том, как они были жестоки к этим бедным погибшим мальчикам, мучаются поздним раскаянием, угрызениями совести. И как чудесно, что о них говорит целый город, им завидуют все мальчики — завидуют их ослепительной славе.
Это лучше всего. Из-за одного этого, в конце концов, стоило сделаться пиратами.
С наступлением сумерек пароходик занялся своей обычной работой, и лодки исчезли. Пираты вернулись в лагерь. Они ликовали. Они гордились той почётной известностью, которая выпала на их долю. Им было лестно, что они причинили всему городу столько хлопот. Они наловили рыбы, приготовили ужин и съели его, а потом стали гадать, что теперь говорят и думают о них в городке, и при этом рисовали себе такие картины общего горя, на которые им было очень приятно смотреть. Но когда тени ночи окутали их, разговор понемногу умолк; все трое пристально смотрели в огонь, а мысли их, видимо, блуждали далеко-далеко. Возбуждение теперь улеглось, и Том и Джо не могли не вспомнить о некоторых близких им людях, которым вряд ли было так же весело от этой забавной проделки. Явились кое-какие сомнения. У обоих стало на душе неспокойно, оба почувствовали себя несчастными и два-три раза невольно вздохнули. В конце концов Джо робко осмелился спросить у товарищей, как отнеслись бы они к мысли о возвращении в цивилизованный мир… конечно, не сейчас, но…
Том осыпал его злыми насмешками. Гек, которого никак нельзя было обвинить, что его тянет к родному очагу, встал на сторону Тома, и поколебавшийся Джо поспешил «объяснить», что, в сущности, он пошутил. Джо был рад, когда его простили, оставив на нём только лёгкую тень подозрения, будто он малодушно скучает по дому. На этот раз бунт был подавлен — до поры до времени.
Мрак ночи сгущался. Гек всё чаще клевал носом и наконец захрапел; за ним и Джо. Том некоторое время лежал неподвижно, опираясь на локоть и пристально вглядываясь в лица товарищей. Потом он тихонько встал на колени и начал при мерцающем свете костра шарить в траве. Найдя несколько свернувшихся в трубку широких кусков тонкой белой коры платана, он долго рассматривал каждый кусок и наконец выбрал два подходящих; затем, стоя на коленях возле костра, он с трудом нацарапал на каждом куске несколько строк своей «красной охрой». Один из них он свернул по-прежнему трубкой и сунул в карман, а другой положил в шляпу Джо, немножко отодвинув её от её владельца. Кроме того, он положил в шляпу несколько сокровищ, бесценных для каждого школьника, в том числе кусок мела, резиновый мяч, три рыболовных крючка и один из тех шариков, которые называются «взаправду хрустальными». Затем осторожно, на цыпочках он стал пробираться между деревьями. Когда же почувствовал, что товарищи остались далеко позади и не услышат его шагов, пустился что есть духу бежать прямо к отмели.
Глава XV ТОМ УКРАДКОЙ ПОСЕЩАЕТ РОДНОЙ ДОМ
Через несколько минут Том уже шагал по отмели вброд, направляясь к иллинойсскому берегу. Он прошёл полдороги, и лишь тогда река дошла ему до пояса; дальше нельзя было идти вброд, потому что мешало течение. До противоположного берега оставалось всего какая-нибудь сотня ярдов, и Том, не задумываясь, пустился вплавь. Он плыл против течения, забирая наискосок, но его сносило вниз гораздо быстрее, чем он ожидал. Всё-таки в конце концов он приблизился к берегу, поплыл вдоль него, отыскал подходящее низкое место и вылез из воды. Ощупав карман куртки, он убедился, что кора не пропала, и пошёл дальше по прибрежному лесу. С его одежды потоками сбегала вода. Ещё не было десяти часов, когда он вышел из леса на открытое место — против самого города — и увидел, что у высокого берега, в тени деревьев, стоит пароходик. Всё было тихо под мерцавшими звёздами. Том неслышно спустился с кручи, напряжённо глядя по сторонам, соскользнул в воду, проплыл несколько шагов и пробрался в ялик, который был привязан к корме пароходика. Он улёгся на дно, под скамейки, и с замиранием сердца стал ждать.
Вскоре ударил надтреснутый колокол, и чей-то голос скомандовал: «Отчаливай!» Через минуту нос челнока подбросило волной, которую подняли колёса пароходика, и путешествие началось. Том был счастлив своей удачей; он знал, что это последний рейс и что дальше пароходик никуда не пойдёт. Прошло двенадцать или пятнадцать томительно долгих минут. Колёса перестали работать. Том вылез из ялика и в темноте поплыл к берегу. Чтобы не наткнуться на случайных прохожих, он проплыл лишних полсотни ярдов и вышел на берег ниже, чем ему было нужно.
Тут он сразу же пустился бежать, выбирая самые пустынные переулки, и вскоре очутился у тёткиного забора на задворках. Он перелез через забор, подкрался к флигелю и заглянул в окно гостиной, так как там горел свет. В комнате сидели тётя Полли, Сид, Мери, мать Джо Гарпера и о чём-то разговаривали. Они расположились у кровати. Кровать была между ними и дверью. Том подошёл к двери и начал осторожно поднимать щеколду; затем тихонько толкнул дверь; она скрипнула; он продолжал осторожно нажимать, вздрагивая всякий раз, когда раздавался скрип; наконец, как ему показалось, перед ним раскрылась такая широкая щель, что он мог протиснуться сквозь неё на коленях; он просунул голову и осторожно пополз.
— Отчего это пламя свечи так запрыгало? — сказала тётя Полли. (Том пополз быстрее.) — Должно быть, дверь не закрыта. Ну да, конечно. С некоторых пор тут творятся престранные вещи. Поди закрой дверь, Сид!
Том как раз вовремя нырнул под кровать. Он дал себе время отдышаться и затем подполз так близко, что, пожалуй, мог бы дотронуться до тёткиной ноги.
— Так вот, я говорю, — продолжала тётя Полли, — что он был вовсе не злой, а только озорник, ветрогон — то, что называется сорвиголова. Но что с него взыщешь? Сущий жеребёнок. А зла он никогда никому не желал. И сердце у него было золотое. Добрее мальчугана я не знала…
И она заплакала.
— И мой Джо был такой же: шалит, балуется, как будто в нём тысяча бесов, а добрый, ласковый, лучше не надо! Господи, прости меня, грешную! Ведь я задала ему трёпку за сливки, а у самой из головы вон, что сама же я эти сливки выплеснула, потому что они прокисли!.. И только подумать, что я никогда больше не увижу его тут, на земле, — бедного, обиженного мальчика, никогда, никогда, никогда!
И миссис Гарпер зарыдала так, словно сердце у неё вот-вот разорвётся.
— Я надеюсь, что Тому теперь хорошо в небесах, — сказал Сид. — Но если бы он вёл себя немножко лучше… тут, на земле…
— Сид! (Том почувствовал, как сердито загорелись у тётки глаза, хоть и не мог её видеть.) Не смей говорить дурно о моём Томе, когда его нет в живых! Да, сударь, теперь о нём позаботится бог, а вы не беспокойтесь, пожалуйста… Ох, миссис Гарпер, уж и не знаю, как я это переживу! Просто и представить себе не могу! Он всегда был для меня утешением, хотя часто терзал моё старое сердце.
— Бог дал, бог и взял. Благословенно будь имя господне! Но это так тяжко, так тяжко! Не дальше как в прошлую субботу мой Джо подходит ко мне и как бабахнет пистоном под самым моим носом! Я в ту же минуту так оттолкнула его, что он упал. Не знала я тогда, что он скоро… Ах, сделай он это теперь, я расцеловала бы и благословила его…
— Да, да, да, я отлично понимаю ваши чувства, миссис Гарпер, отлично понимаю! Не дальше как вчера перед обедом мой Том напоил кота «болеутолителем», так что кот чуть не перевернул весь дом. И я, прости меня, господи, стукнула Тома по голове напёрстком. Бедный мой мальчик, несчастный, погибший малыш! Зато теперь уже кончились все его муки. И последние его слова, что я услышала от него, были словами упрёка…
Но это воспоминание оказалось слишком тяжким для старухи, и она горько заплакала. Том тоже стал всхлипывать, — впрочем, ему было жалко не столько других, сколько себя. Он слышал, как плакала Мери, время от времени поминая его ласковым словом. И в конце концов он возгордился: никогда он не думал, что он такой замечательный мальчик. Всё-таки горе тётки очень взволновало его; ему хотелось выскочить из-под кровати и сразу осчастливить её; такие театральные эффекты были ему всегда по душе. Но он не поддался искушению и продолжал лежать смирно, прислушиваясь к дальнейшему разговору.
Из отдельных фраз он узнал, как объясняют их исчезновение: сначала думали, что они утонули во время купанья; затем хватились, что нет плота; затем кто-то из мальчиков вспомнил, как Том и Джо заявляли, что в городе о них «скоро услышат». Тогда местные мудрецы, пораскинув умом, решили, что мальчики уплыли на плоту и скоро объявятся в ближайшем городишке вниз по течению; но около полудня плот нашли прибитым к миссурийскому берегу в пяти-шести милях от города и тогда все надежды рухнули: мальчики, несомненно, утонули — иначе голод пригнал бы их домой к ночи, а пожалуй, и раньше. А тела их не были найдены лишь потому, что катастрофа, как полагали, произошла на самой середине реки, — иначе они добрались бы до берега, так как плавали все трое отлично. Сегодня среда. Если тела не найдутся до воскресного утра, значит, никакой надежды уже нет, и в воскресенье, во время обедни, их будут отпевать как умерших. Том вздрогнул.
Миссис Гарпер, рыдая простилась со всеми и направилась было к двери. Но тут обе осиротевшие женщины, под влиянием внезапного порыва, кинулись друг другу в объятия и, прежде чем расстаться, поплакали всласть. Тётя Полли гораздо нежней, чем всегда, поцеловала на ночь Сида и Мери. Сид всхлипнул, а Мери ушла вся в слезах.
Тётя Полли упала на колени и стала молиться о Томе. В её словах и в её дрожавшем голосе чувствовалась такая безмерная любовь, её молитва была так горяча и трогательна, что Том опять залился слезами.
Мальчику ещё долго пришлось лежать тихо и смирно после того, как тётя Полли улеглась; по временам у неё вырывались какие-то печальные возгласы, она всё время беспокойно ворочалась, металась из стороны в сторону. Наконец она затихла и лишь изредка стонала во сне. Том выполз, медленно и осторожно встал на ноги и, заслонив рукою свечу, долго смотрел на спящую. Сердце его было переполнено жалостью к ней. Он вытащил из кармана кору и положил возле свечки, но потом приостановился, размышляя. Ему пришла в голову счастливая мысль, и лицо его просияло. Он сунул кору в карман, наклонился над тёткой и поцеловал её в поблёкшие губы, а, затем неслышно вышел вон, закрыв за собой дверь на щеколду.
Он дошёл до пристани, где обыкновенно стоял пароходик, и, не увидев никого на берегу, смело взошёл на судно. Он знал, что на пароходике никого нет, кроме сторожа, а тот имел обыкновение забираться в каюту и спать непробудным сном. Том отвязал челнок от кормы, неслышно спустился в него и начал грести вверх по реке. Проехав с милю, он приналёг на вёсла, пересёк реку и причалил как раз там, где следовало, потому что это дело было для него привычное. Ему очень хотелось завладеть челноком — ведь челнок тоже до некоторой степени судно и, следовательно, законная добыча пирата, — но он знал, что челнок будут повсюду искать, а это может навести на след беглецов. Поэтому он просто прыгнул на берег и вошёл в лес.
В лесу он хорошенько отдохнул, мучительно стараясь побороть сон, и потом поплёлся к лагерю. Ночь была на исходе, а когда он дошёл до отмели, уже совсем рассвело. Он посидел ещё немного и лишь тогда, когда солнце, высоко поднявшись, позолотило могучую реку великолепным огнём, бросился в воду опять. Немного погодя он, весь мокрый, добрался до лагеря как раз в ту минуту, когда Джо говорил:
— Нет, Гек, Том человек надёжный. Он вернётся. Верно тебе говорю. Он не удерёт. Он знает, что это стыд для пирата. А пиратская честь ему дороже всего. Он затевает какую-то новую штуку. Но какую, хотел бы я знать!
— Ну, а вещи всё-таки — наши?
— Наши, Гек, но не совсем. В письме сказано, чтобы мы взяли их, если он не вернётся к завтраку.
— А он тут как тут! — воскликнул Том, торжественно появляясь перед ними. Это был редкий театральный эффект.
Скоро они устроили обильный завтрак из ветчины и рыбы и принялись его уничтожать, а тем временем Том рассказал (не без прикрас) свои похождения. Когда рассказ был выслушан до конца, мальчишки ещё больше заважничали и стали чувствовать себя великими героями. Том прилёг в тени, чтобы выспаться до полудня, а прочие пираты отправились удить рыбу и исследовать остров.
Глава XVI ПЕРВЫЕ ТРУБКИ: —«Я ПОТЕРЯЛ НОЖИК»
После обеда вся разбойничья шайка двинулась на песчаную отмель за черепашьими яйцами. Мальчики тыкали палками в песок и, найдя мягкое местечко, опускались на колени и начинали рыть руками. Из иной ямки добывали сразу по пяти-шести десятков яиц. Яйца были совершенно круглые, белые, чуть поменьше грецкого ореха. В этот вечер у пиратов был роскошный ужин — они объедались яичницей; так же великолепно пировали они на следующее утро, в пятницу.
После завтрака они прыгали и скакали на отмели, с громкими криками гоняясь друг за другом, сбрасывая с себя на бегу одежду, а потом, голые, мчались далеко-далеко, к мелководью, продолжая бесноваться и там. Сильное течение порою сбивало их с ног, но от этого им становилось ещё веселее. Они нагибались все вместе к воде и брызгали друг в друга, причём каждый подкрадывался к врагу осторожно, отвернув лицо, чтобы самого не забрызгали. Затем они вступали врукопашную тут же, в воде, пока победитель не окунал остальных с головой. Кончалось тем, что оказывались под водою все трое. Все трое превращались в клубок белеющих рук и ног, и когда снова появлялись над гладью реки, то и пыхтели, и фыркали, смеялись и отплёвывались, и жадно хватали воздух.
Выбившись из сил, они выбегали на пляж, кидались врастяжку на сухой, раскалённый песок и закапывались в него, а затем снова бросались в воду, и всё начиналось сначала. Наконец им пришло в голову, что их кожа смахивает на трико телесного цвета; они начертили на песке круг и устроили цирк, в котором было целых три клоуна, так как ни один не хотел уступить другому эту завидную роль.
Затем они достали свои шарики и стали играть в «подкидалку», в «тянуху», в «тепки», пока и эта забава не наскучила им. Тогда Гек и Джо снова пошли купаться, а Том не рискнул и остался на берегу, так как обнаружил, что, когда он сбрасывал штаны, у него развязался шнурок, которым к его лодыжке была привязана трещотка гремучей змеи. Он никак не мог понять, почему с ним не сделалась судорога, раз на нём не было этого волшебного талисмана. Он так и не отважился войти в воду, покуда не нашёл своей трещотки, а тем временем его товарищи уже устали и вышли полежать на берегу. Мало-помалу они разошлись кто куда, разомлели от скуки, и каждый с тоской смотрел в ту сторону, где дремал под солнцем родной городок. Том бессознательно писал на песке большим пальцем ноги слово «Бекки». Потом он спохватился, стёр написанное и выбранил себя за свою слабость, но не мог удержаться и снова написал это имя, потом снова стёр и, чтобы спастись от искушения, кликнул товарищей.
Но Джо упал духом почти безнадёжно. Он так тосковал по дому, что у него уже не было сил выносить эти муки. Каждую минуту он готов был заплакать. Гек тоже приуныл. Том был подавлен, но изо всех сил старался скрыть свою печаль. У него была тайна, которую до поры до времени он не хотел открывать товарищам; но, если ему не удастся стряхнуть с них мятежную тоску, он, так и быть, откроет им эту тайну теперь же. И с напускной весёлостью он сказал:
— Бьюсь об заклад, что на этом острове и до нас побывали пираты! Давайте обойдём его ещё раз. Здесь, наверно, где-нибудь зарыто сокровище. Что вы скажете, если мы наткнёмся на полусгнивший сундук, набитый золотом и серебром? А?
Но это вызвало лишь слабый восторг, да и тот в ту же минуту потух без единого отклика.
Том сделал ещё два-три заманчивых предложения, но все его попытки были напрасны. Джо уныло тыкал палкой в песок, и вид у него был самый мрачный. Наконец он сказал:
— Ох, ребята, бросим-ка эту затею! Я хочу домой. Здесь очень скучно.
— Да нет же, Джо, ты привыкнешь, — уговаривал Том. — Ты подумай, какая здесь рыбная ловля!
— Не надо мне твоей рыбы… Хочу домой!
— Но, Джо, где ты сыщешь другое такое купанье?
— А на что мне твоё купанье? Теперь мне на него наплевать, когда никто не запрещает купаться. Я иду домой, как хотите…
— Фу, какой стыд! Малюточка! К мамаше захотел!
— Ну да, к мамаше! И тебе захотелось бы, если бы у тебя была мать. И я такой же малюточка, как ты.
Джо готов был заплакать.
— Ну хорошо, пусть наша плаксивая деточка отправляется домой, к своей мамаше, мы её отпустим, не правда ли, Гек? Бедненький, он по мамаше соскучился! Ну что ж! Пусть идёт! Тебе ведь нравится здесь, не правда ли, Гек? Мы с тобой останемся, а?
Гек сказал: «Д-а-а», но в его голосе не чувствовалось особенной радости.
— Больше я не стану с тобой разговаривать! Я с тобой в ссоре на всю жизнь! — объявил Джо, вставая. — Так и знай!
Он угрюмо отошёл и стал одеваться.
— Велика важность! — отозвался Том. — Пожалуйста! Плакать не станем. Ступай домой, и пусть над тобой все смеются. Хорош пират, нечего сказать! Гек и я — не такие плаксы, как ты. Мы останемся здесь, — правда, Гек? Пусть идёт, если хочет. Обойдёмся и без него.
Несмотря на своё напускное хладнокровие, Том в душе был встревожен и с волнением смотрел, как насупленный Джо продолжал одеваться. Ещё более беспокоил его вид Гека, жадно следившего за сборами Джо. В молчании Гека Том чувствовал что-то зловещее. Джо оделся и, не прощаясь, пошёл вброд по направлению к иллинойсскому берегу. У Тома упало сердце. Он посмотрел на Гека. Тот не выдержал этого взгляда и опустил глаза.
— Мне бы тоже хотелось уйти, Том, — сказал он наконец. — Как-то скучно здесь стало, а теперь будет ещё скучнее. Пойдём-ка и мы с тобой, Том!
— Не пойду. Можете все уходить, если вам угодно, а я остаюсь.
— Том, я бы лучше пошёл…
— Ну и ступай, кто тебя держит?
Гек начал собирать свою одежду, разбросанную на песке.
— Шёл бы и ты с нами, Том! — уговаривал он. — Право, подумай хорошенько. Мы подождём тебя на берегу.
— Долго же вам придётся ждать!
Гек уныло поплёлся прочь. Том стоял и смотрел ему вслед, испытывая сильнейшее желание отбросить в сторону всякую гордость и пойти с ними. Он надеялся, что мальчики вот-вот остановятся, но они продолжали брести по колено в воде. Чувство страшного одиночества охватило Тома. Он окончательно подавил в себе гордость и бросился догонять друзей.
— Стойте! Стойте! Мне надо вам что-то сказать!
Те остановились и обернулись к Тому. Нагнав их, Том открыл им свою великую тайну. Они слушали сурово и враждебно, но потом сообразили, к чему он ведёт, очень обрадовались и испустили громкий воинственный клич. Они в один голос признали, что его выдумка — чудо и что, если бы он сообщил о ней раньше, они и не подумали бы уходить.
Том пробормотал какое-то объяснение, но на самом деле он боялся, что даже эта тайна не в силах удержать их надолго, и приберёг её в виде последнего средства.
Мальчики весело вернулись в лагерь и с величайшей охотой принялись за прежние игры, всё время болтая об удивительной выдумке Тома и восхищаясь его изобретательностью. После вкусного обеда, состоявшего из рыбы и яичницы, Том сказал, что теперь ему хочется научиться курить. Джо ухватился за эту мысль и объявил, что он тоже не прочь. Гек сделал трубки и набил их табаком. До сих пор оба новичка курили только сигары из виноградных листьев, но такие сигары щипали язык, и считались недостойными мужчин.
Они растянулись на земле, опираясь на локти, и начали очень осторожно, с опаской втягивать в себя дым. Дым был неприятен на вкус, и их немного тошнило, но всё же Том заявил:
— Да это совсем легко! Знай я это раньше, я уж давно научился бы.
— И я тоже, — подхватил Джо. — Плёвое дело!
— Сколько раз я, бывало, смотрю, как курят другие, и думаю: «Вот бы и мне научиться! Да нет, думаю, это мне не под силу», — сказал Том.
— И я тоже. Правда, Гек? Ведь ты слышал это от меня? Вот пусть Гек скажет.
— Да-да, сколько раз, — сказал Гек.
— Ну, и я тоже ему говорил сотни раз. Однажды это было возле бойни. Помнишь, Гек? Там были ещё Боб Таннер, Джонни Миллер и Джефф Тэчер. Ты помнишь, Гек, что я сказал?
— Ещё бы, — ответил Гек. — Это было в тот день, как я потерял белый шарик… Нет, не в тот день, а накануне.
— Ага, я говорил! — сказал Том. — Гек помнит.
— Я думаю, что я мог бы курить такую трубку весь день, — сказал Джо. — Меня ничуть не тошнит.
— И меня тоже! — сказал Том. — Я мог бы курить весь день, но держу пари, что Джефф Тэчер не мог бы.
— Джефф Тэчер! Куда ему! Он от двух затяжек свалится. Пусть только попробует! Увидит, что это такое!
— Само собой, не сумеет, и Джонни Миллер тоже. Хотелось бы мне посмотреть, как Джонни Миллер справится со всей этой штукой.
— Куда ему! — сказал Джо. — Он, бедняга, ни на что не способен. Одна затяжка — и он свалится с ног.
— Верно, Джо. Слушай-ка: если бы наши ребята могли увидеть нас теперь!
— Вот было бы здорово!
— Но, чур, никому ни слова! А когда-нибудь, когда все будут в сборе, я подойду к тебе и скажу: «Джо, есть у тебя трубка? Покурить охота». А ты ответишь как ни в чём не бывало: «Да, есть моя старая трубка и другая есть, только табак у меня не очень хорош». А я скажу: «Ну, это всё равно, был бы крепок». И тогда ты вытащишь трубки, и мы оба преспокойно закурим. Пускай полюбуются!
— Вот здорово, Том! Я бы хотел, чтобы это было сейчас.
— И я! Мы им скажем, что научились курить, когда были пиратами, — то-то будут завидовать нам!
— Ещё бы! Наверняка позавидуют!
Разговор продолжался, но вскоре он начал чуть-чуть увядать, прерываться. Паузы стали длиннее. Пираты сплёвывали всё чаще и чаще. Все поры во рту у мальчишек превратились в фонтаны: они едва успевали очищать подвалы у себя под языком, чтобы предотвратить наводнение. Несмотря на все их усилия, им заливало горло, и каждый раз после этого начинало ужасно тошнить. Оба сильно побледнели, и вид у них был очень жалкий. У Джо выпала трубка из ослабевших пальцев, у Тома тоже. Фонтаны так и били что есть силы, и насосы работали вовсю. Наконец Джо выговорил расслабленным голосом:
— Я потерял ножик… Пойду поищу…
Том дрожащими губами произнёс, запинаясь:
— Я помогу тебе. Ты иди в эту сторону, а я туда… к ручью… Нет, Гек, ты не ходи за нами, мы сами найдём.
Гек снова уселся на место и прождал целый час. Потом он соскучился и пошёл разыскивать товарищей. Он нашёл их в лесу далеко друг от друга; оба были бледны и спали крепким сном. Но что-то подсказало ему, что теперь им полегчало, а если и случилось им пережить несколько неприятных минут, то теперь уже всё позади.
За ужином в тот вечер оба смиренно молчали, и, когда Гек после ужина, набив трубку для себя, захотел набить и для них, оба в один голос сказали: «Не надо», так как они чувствуют себя очень неважно, — должно быть, съели какую-нибудь дрянь за обедом.
Около полуночи Джо проснулся и разбудил товарищей. В воздухе была духота, которая предвещала недоброе. Мальчики всё теснее прижимались к огню, как бы ища у него дружеской помощи, хотя ночь была горяча и удушлива. Они сидели молча в напряжённом ожидании. Царила торжественная тишина. Позади костра всё было проглочено чёрной тьмою. Вдруг дрожащая вспышка тускло озарила листву и исчезла. Потом сверкнула другая, немного ярче. И ещё, и ещё. Потом в ветвях деревьев пронёсся чуть слышный стон: мальчики почувствовали у себя на щеках чьё-то беглое дыхание и затрепетали при мысли, что это пронёсся Дух Ночи. Затем стало тихо. И вдруг опять какой-то призрачный блеск превратил ночь в день и с необычайной отчётливостью озарил каждую травинку, что росла у их ног. Озарил он и три бледных, перепуганных лица. По небу сверху вниз прокатился, спотыкаясь, рокочущий гром и понемногу умолк, угрюмо ворча в отдалении. Струя холодного воздуха зашевелила все листья, подхватила золу костра и разметала её снежными хлопьями. Снова яростный огонь осветил весь окрестный лес, и в ту же секунду раздался громовой удар: будто прямо над головой у мальчишек раскололись вершины деревьев. Среди наступившей тьмы пираты в ужасе прижались друг к другу. По листьям застучали редкие крупные капли дождя.
— Скорее в палатку! — скомандовал Том.
Они бросились бежать врассыпную, спотыкаясь о корни деревьев и путаясь в диком винограде. Буйный, взбесившийся ветер с неистовым воем пронёсся в лесу, и всё заголосило вслед за ним. Ослепительные молнии одна за другой сверкали почти непрерывно, раскаты грома не смолкали ни на миг. Хлынул неистовый ливень, и нараставший ураган гнал его над землёй сплошным водопадом.
Мальчики что-то кричали друг другу, но воющий ветер и громовые раскаты совсем заглушали их крик. Наконец они один за другим кое-как добрались до палатки и забились под неё, перепуганные, мокрые, продрогшие; с их одежды ручьями струилась вода, но их утешало хоть то, что они терпят беду все вместе. Разговаривать они не могли бы, даже если бы буря не заглушала их голосов, — так яростно хлопал над ними старый парус. Гроза всё усиливалась; наконец порыв ветра сорвал парус со всех его привязей и унёс прочь. — Мальчики схватились за руки и, поминутно спотыкаясь и набивая себе синяки, бросились бежать под защиту огромного дуба, стоявшего на берегу. Теперь битва была в полном разгаре. При непрерывном сверкании молний всё вырисовывалось с необычайной ясностью, отчётливо, без теней: гнущиеся деревья, бушующая река, вся белая от пены, крутые бегущие гребни, смутные очертания высоких утёсов на другом берегу, видневшихся сквозь гущу тумана и косую завесу дождя. То и дело какой-нибудь лесной великан, побеждённый в бою, с треском валился на землю, ломая молодые деревья; неослабевающие раскаты грома превратились в оглушительные взрывы, резкие, сухие, невыразимо ужасные. Под конец гроза напрягла все свои силы и забушевала над островом с такой небывалой яростью, что, казалось, она разнесёт его в клочья, сожжёт его, зальёт водой по самые верхушки деревьев и до смерти оглушит всякое живое существо — и всё это в одну секунду, мгновенно. То была страшная ночь для бесприютных детей.
Но наконец бой утих, враждовавшие войска принялись отступать, их угрозы и проклятья звучали всё глуше и глуше, и мало-помалу на земле водворился прежний мир. Мальчики вернулись в свой лагерь, порядком напуганные, но оказалось, что им всё-таки повезло и им следует радоваться, так как в большой платан, под которым они всегда ночевали, ударила ночью молния, и они все трое погибли бы, если бы остались под ним.
Всё в лагере было залито водой, в том числе и костёр, ибо они были беспечны, как и всякие мальчики этого возраста, и не приняли мер, чтобы укрыть его от потоков дождя. Это было очень неприятно: все трое промокли до костей и дрожали от холода. Они красноречиво выражали своё огорчение, но потом заметили, что огонь пробрался далеко под большое бревно и всё ещё тлеет снизу (в том месте, где оно выгнулось вверх и не касалось земли), и таким образом небольшая частица костра, величиной с ладошку, была спасена от потопа. Мальчики принялись за дело: стали терпеливо подкладывать щепочки и обломки коры, сохранившиеся сухими под лежачими стволами деревьев. В конце концов им удалось умилостивить огонь, он разгорелся опять. Они навалили больших веток, огонь заревел, как горн, и они опять повеселели. Подсушив над огнём варёный окорок, они отлично поужинали, а затем уселись у костра и до самого рассвета толковали о своём ночном приключении, хвастливо приукрашая его, спать всё равно было негде, потому что кругом не осталось ни одного сухого местечка.
С первыми лучами солнца мальчиков стала одолевать дремота; они отправились на песчаную отмель и легли спать. Вскоре солнце порядком прижгло их, они поднялись и хмуро начали готовить себе завтрак. После еды они чувствовали себя как заржавленные: руки и ноги у них еле двигались, и им снова захотелось домой. Том подметил эти тревожные признаки и делал всё, что мог, чтобы развлечь пиратов. Но их не соблазняли ни алебастровые шарики, ни цирк, ни купанье. Он напомнил им об их великой тайне, и ему удалось вызвать проблеск веселья. Покуда это веселье не успело рассеяться, Том поспешил заинтересовать их новой выдумкой. Он — предложил им забыть на время, что они пираты, и сделаться для разнообразия индейцами. Эта мысль показалась им заманчивой: они мигом разделись и, разрисовав себя с ног до головы чёрной грязью, стали полосатыми, как зебры. После этого они двинулись в лес, чтобы напасть на английских поселенцев, причём, конечно, каждый был вождём.
Мало-помалу они разделились на три враждующих племени. Испуская страшные воинственные кличи, они выскакивали из засады и кидались друг на друга, убивая и скальпируя неприятеля целыми тысячами. Это был кровопролитный день, и они остались им очень довольны.
К ужину они собрались в лагере, голодные и счастливые. Но тут возникло небольшое затруднение: враждующие индейцы должны были тотчас же заключить между собой мир, иначе они не могли преломить хлеба дружбы; но как же можно заключить мир, не выкурив трубки мира? Где же это слыхано, чтобы мир заключался без трубки? Двое индейцев даже чуть-чуть пожалели, что не остались на всю жизнь пиратами. Но иного выбора не было, и, волей-неволей принуждая себя казаться весёлыми, они потребовали трубку, и каждый затянулся по очереди, как полагается. В конце концов они даже обрадовались, что стали индейцами, так как всё-таки кое-что выиграли: оказалось, они уже могут немного курить, не чувствуя потребности идти разыскивать потерянный ножик. Правда, их — мутило и теперь, но не так мучительно, как прежде. Они поспешили воспользоваться таким благоприятным обстоятельством. После ужина они осторожно повторили свой опыт, и на этот раз он увенчался успехом, так что вечер прошёл очень весело. Они были так горды и счастливы своим новым достижением, словно им удалось содрать кожу и скальпы с шести индейских племён. Оставим же их покуда в покое: пусть курят, болтают и хвастаются. До поры до времени мы можем обойтись и без них.
Глава XVII ПИРАТЫ ПРИСУТСТВУЮТ НА СОБСТВЕННЫХ ПОХОРОНАХ
Совсем не так весело было в маленьком городе в тот тихий субботний вечер. Тётя Полли, Мери, Сид и вся семья миссис Гарпер со скорбью, обливаясь слезами, надела глубокий траур. В городке всегда было не слишком-то шумно, но теперь в нём царила небывалая тишина. Жители занимались своими обычными делами кое-как, с рассеянным видом, мало разговаривали и часто вздыхали. Даже детям субботний отдых, казалось, был в тягость. Игры у них не клеились и понемногу прекращались сами собой.
К концу дня Бекки Тэчер грустно бродила одна по опустелому школьному двору и чувствовала себя очень несчастной. Там не нашлось ничего, что могло бы её утешить.
«Ох, если бы у меня была хоть та медная шишечка! — думала она. — Ничего у меня не осталось на память о нём…»
Бекки подавила рыдания.
Вдруг она остановилась и сказала себе:
— Это как раз тут и было… О, если бы тот разговор повторился опять, я ни за что, ни за что на свете не сказала бы ему того, что сказала! Но его нет, и я никогда, никогда, никогда не увижу его!
Эта мысль окончательно сразила её, и она удалилась в слезах. Потом пришла целая ватага ребят, школьных товарищей Тома и Джо, и все, глядя через забор и понизив голос из уважения к погибшим, вспоминали, как Том сделал то-то и то-то — в последний раз, когда они видели его, — и что сказал Джо, причём в любом, самом незначительном слове им чудилось зловещее пророчество. И каждый в точности указывал место, где стояли погибшие мальчики, и прибавлял при этом: «А я стоял вот так, как сейчас стою, а он — как ты стоишь, совсем близко, и он улыбнулся вот так, и на меня вдруг точно что-то нашло — так вдруг жутко стало, понимаете? Ну, тогда я, конечно, ничего не знал, а теперь вижу, в чём дело!»
Поднялся спор о том, кто в последний раз видел погибших живыми; многие приписывали эту печальную честь себе, причём слова их более или менее опровергались показаниями прочих свидетелей; когда же, наконец, было дознано, кто последний видел покойных и разговаривал с ними, эти счастливцы преисполнились важности, а все остальные глазели на них, разинув рты, и завидовали. Один бедный малый, не найдя ничего лучшего, объявил не без гордости:
— А меня Том Сойер здорово отколотил как-то раз!
Но его попытка покрыть себя славой не увенчалась успехом. Ведь то же могли сказать о себе чуть не все остальные мальчишки, так что лавры его оказались дешёвыми. Школьники разошлись, продолжая благоговейно вспоминать о погибших героях.
На другое утро, когда кончился урок в воскресной школе, церковный колокол зазвонил не так, как всегда, а медленно и очень печально. Эти плачущие, похоронные звуки, казалось, вполне подходили к тихой задумчивости, которая царила в природе в то тихое воскресное утро. Горожане стали собираться в церкви, останавливаясь на паперти, чтобы шёпотом потолковать о печальном событии. Но в самой церкви уже никто не шушукался. Тишину нарушало лишь унылое шуршание платьев, когда женщины пробирались к своим скамьям. Никто не мог припомнить, чтобы маленькая церковь была когда-нибудь так полна. И какое наступило напряжённое, полное ожидания безмолвие, когда в церковь вошла тётя Полли, за нею Мери и Сид, за ними семейство Гарперов — все в глубочайшем трауре… Молящиеся, как один человек, — в том числе и старый священник, — почтительно встали и стояли до тех пор, пока осиротелые родственники погибших усаживались на передней скамье. Затем опять наступило многозначительное молчание, прерываемое лишь глухими рыданиями, а потом священник простёр руки и начал молиться. Пропели трогательный гимн, за которым последовал текст: «Я есмь воскресение и жизнь».
Затем началась проповедь, и священник в горячей речи стал превозносить погибших мальчиков; он изобразил их такими добрыми, даровитыми, умными, что в церкви не осталось ни одного человека, который не почувствовал бы угрызений совести; каждый спрашивал себя: как же могло случиться, что он не заметил великих достоинств этих несчастных детей и видел только их недостатки?
Священник рассказал несколько умилительных случаев из их жизни: у мальчиков, оказывается, был нежный, великодушный характер; слушатели легко могли теперь убедиться, как благородны и прекрасны были поступки необыкновенных детей, и вспоминали со скорбью, что, покуда эти дети были живы, те же самые поступки казались такими озорными проделками, за которые надо было выпороть хорошим ремнём. Речь священника становилась всё трогательнее, публика всё больше умилялась, и наконец все единодушно присоединились к рыданиям родственников, и сам священник, не сдержав своих чувств, прослезился на кафедре.
На хорах послышался шум, на который никто не обратил внимания; через минуту скрипнула входная дверь. Священник отнял платок от залитых слезами глаз и… остолбенел! Сначала одна пара глаз, потом другая последовала за взглядом священника, а потом все присутствующие, охваченные единым порывом, поднялись со своих мест и в изумлении глядели, как три утопленника маршируют по среднему проходу между скамьями: впереди Том, за ним Джо, а сзади смущённый, растерянный Гек, в обвислых лохмотьях. Они всё время сидели на пустых хорах, слушая надгробную речь о самих себе!
Тётя Полли, Мери, и Гарперы кинулись к своим воскресшим любимцам, душили их поцелуями и благодарили господа бога за их спасение, а бедный Гек стоял сконфуженный, не зная, что ему делать и куда деваться от стольких неприязненных взглядов. Он озирался по сторонам и уже хотел было улизнуть, когда Том схватил его и сказал тёте Полли:
— Это никуда не годится! Кто-нибудь должен же обрадоваться Геку!
— И обрадуются, непременно обрадуются! Я первая очень рада, что вижу его, бедного сиротку!
И тётя Полли принялась осыпать мальчика ласками, которые ещё сильнее смутили его.
Вдруг священник изо всех сил закричал:
— Восхвалим господа за все его щедроты и милости! От всего сердца воспоём ему славу!
И все запели. Весело звучал старинный благодарственный гимн, потрясая стропила церкви, — и Том Сойер, морской пират, оглядываясь на завидовавших ему сверстников, сознавал в душе, что это лучшая минута его жизни.
Расходясь по домам, прихожане говорили друг другу, что хотя их и обманули бесстыдно, но они, пожалуй, готовы снова очутиться в дураках, лишь бы ещё раз услышать благодарственный гимн, исполненный с таким одушевлением.
В этот день Том получил столько тумаков и поцелуев, — в зависимости от изменчивого настроения тёти Полли, — что хватило бы на целый год, и едва ли он мог бы сказать, в чём сильнее выражалась тёткина любовь к нему и благодарность богу — в поцелуях или в тумаках.
Глава XVIII ТОМ РАССКАЗЫВАЕТ СВОЙ ВЕЩИЙ СОН
В этом и заключалась великая тайна Тома: он задумал вернуться домой вместе со своими пиратами и присутствовать на собственных похоронах. В субботу вечером добрались они верхом на бревне до миссурийского берега, выбрались на сушу в пяти-шести милях ниже своего городка, переночевали в соседнем лесу, чуть свет пробрались задворками к церкви и окончательно выспались на церковных хорах, среди хаоса поломанных скамеек…
В понедельник утром, за завтраком, и тётя Полли, и Мери были чрезвычайно добры к Тому и с любовью выполняли все его желания. Разговоров за столом было много — гораздо больше, чем всегда. И тётя Полли, между прочим, сказала:
— Видишь ли, Том, может быть, это и забавно — заставить всех мучиться чуть не целую неделю, лишь бы только вам, мальчишкам, было весело, но мне очень грустно, что у тебя такое недоброе сердце и что ты способен причинить мне такие страдания. Если ты мог переплыть реку на бревне, чтобы присутствовать на своих собственных похоронах, ты мог заглянуть и домой, чтобы подать мне какой-нибудь знак, что ты не умер, а просто сбежал.
— Да, это ты мог бы сделать, Том, — сказала Мери, — и, я уверена, ты так и поступил бы, если бы это пришло тебе в голову.
— Правда, Том? — спросила тётя Полли, и по её лицу было видно, что ей очень хотелось, чтобы это было именно так. — Ну скажи, прислал бы ты нам весточку, если бы это пришло тебе в голову?
— Н… не знаю… Ведь это испортило бы всю нашу игру.
— Ах, Том, а я-то надеялась, что ты хоть настолько любишь меня! — сказала тётя Полли с таким огорчением, что Том поневоле смутился. — Мне бы дорого было, если бы ты хоть подумал об этом, не говорю уже — сделал…
— Ну, тётушка, это ещё не беда, — вступилась Мери. — Том ведь такой сумасшедший; он всегда впопыхах, ему некогда думать.
— Тем хуже! А вот Сид подумал бы. Сид пришёл бы и сказал, что он жив. Ах, Том, когда-нибудь, оглянувшись назад, ты пожалеешь, что так мало думал обо мне, когда это ничего тебе не стоило… пожалеешь, но будет поздно.
— Ну, полно, тётя, ведь вы же знаете, что я вас люблю, — сказал Том.
— Пожалуй, знала бы, если бы твои слова подтверждались поступками.
— Я, право, тётя, очень жалею, что не подумал об этом, — сказал Том, и в голосе его прозвучало раскаяние. — Зато я, по крайней мере, видел вас во сне, — это ведь тоже чего-нибудь стоит.
— Положим, это не много, — ведь и кошка иногда видит сны, — но всё-таки это лучше, чем ничего. Что же тебе снилось?
— А вот что. В среду вечером я видел во сне, будто вы сидите возле кровати… вон там, а Сид у ящика для дров, а рядом с ним будто бы Мери…
— Что же, мы так и сидели. Мы всегда так сидим. Я рада, что ты хоть чуточку, хоть во сне вспомнил о нас.
— Потом мне снилось, что здесь была мама Джо Гарпера.
— А ведь она и вправду была! Что же тебе снилось ещё?
— Много чего! Но теперь уже всё перепуталось.
— Ну, попробуй вспомнить! Неужто не можешь?
— Ещё мне снилось, что будто бы ветер… да, ветер задул…
— Припомни, Том! Ветер задул… что же он задул?
Том крепко прижал пальцы ко лбу и после минуты тревожного ожидания воскликнул:
— Вспомнил! Вспомнил! Ветер задул свечу.
— Господи помилуй! Дальше, Том, дальше!
— Погодите, дайте припомнить… Ах, да! Вы вроде сказали, что вам кажется, будто эта дверь…
— Дальше, Том!
— Погодите, дайте мне подумать минутку, одну минутку! Да, вы сказали, что вам кажется, будто дверь приоткрылась…
— Да ведь я именно так и сказала… Помнишь, Мери? Ну, что же дальше?
— Потом… потом… Ну, я не знаю, но мне кажется, будто вы послали Сида, чтобы он… чтобы он…
— Ну? Ну? Куда я послала Сида? Куда? Куда?
— Вы послали его, вы… да, вы послали его… закрыть дверь.
— Боже мой! Никогда не слыхала ничего подобного! Вот и не верь после этого снам! Сейчас же побегу рассказать обо всём Си́рини Гарпер. Посмотрим, будет ли она после этого болтать всякий вздор о нелепости суеверий. Рассказывай же, Том, что было дальше!
— Теперь, тётя, у меня всё прояснилось! Потом вы сказали, что я не злой, а только… озорник и сорвиголова и что с меня взыскивать всё равно, что… как это вы сказали? — с жеребёнка, что ли…
— Да-да, я именно так и сказала! Ах ты господи! Ну, что же дальше, Том?
— Потом вы заплакали.
— Верно, верно, заплакала! И не в первый раз. А потом?
— Потом и миссис Гарпер заплакала и стала говорить, что Джо тоже хороший… и как ей жалко, что она отхлестала его за сливки, которые сама же и выплеснула….
— Том, дух божий снизошёл на тебя! Это был вещий, пророческий сон! Господи боже мой! Рассказывай дальше!
— Потом Сид сказал… он сказал…
— Я, кажется, ничего не говорил, — сказал Сид.
— Нет, Сид, ты говорил, — сказала Мери.
— Замолчите, не мешайте Тому! Ну, Том, что же он сказал?
— Он сказал, что надеется, что на небе мне будет лучше, чем тут, на земле. Но если бы я сам был получше…
— Вы слышите? Это его подлинные слова.
— И вы велели ему замолчать.
— Ещё бы! Конечно, велела. Нет, здесь, несомненно, был ангел. Где-нибудь здесь был ангел!
— Потом миссис Гарпер стала говорить про Джо, как он хлопнул пистоном под самым её носом, а вы ей рассказали про Питера и про «болеутолитель».
— Верно! Верно!
— Потом вы долго рассказывали, что из-за нас обыскали всю реку и что отпевать нас будут в воскресенье, а потом вы с миссис Гарпер стали обниматься и плакать, а потом она ушла…
— Именно, именно так! Это так же верно, как и то, что я сижу сейчас — на этом месте! Если бы ты сам всё видел своими глазами, ты не мог бы рассказать вернее. А потом что было? Ну, Том!
— Потом вы, кажется, молились за меня, и я видел вас и слышал каждое ваше слово. А потом вы легли спать, и мне стало вас так жалко, что я взял и написал на куске коры: «Мы не умерли, мы только убежали и стали пиратами», и положил кору возле свечки, а вы в это время спали, и лицо у вас во сне было такое доброе-доброе, что я подошёл, нагнулся и поцеловал вас прямо в губы.
— Правда, Том, правда? Ну, за это я тебе всё прощаю!
И она так сильно сжала мальчика в объятиях, что он почувствовал себя последним негодяем.
— Всё это, конечно, прекрасно… хотя это был всего-навсего сон, — заметил Сид про себя, но достаточно громко.
— Молчи, Сид! Человек делает во сне то же самое, что он сделал бы наяву… Вот тебе самое большое яблоко, Том! Я берегла его на тот случай, если ты когда-нибудь вернёшься домой. И ступай поскорее в школу… Благодарение господу богу, что он сжалился надо мною и возвратил мне тебя, ибо он милосерден и долготерпелив к тем, кто верует в него и блюдёт его заповеди, хотя я и недостойна его благодати… Впрочем, — если бы одним лишь достойным он даровал свои милости, мало нашлось бы людей, которые сейчас улыбались бы тут, на земле, и после кончины имели бы право на вечное успокоение в раю. Ну, ступайте же, Сид, Мери, Том, уходите скорее — некогда мне растабарывать с вами!
Дети отправились в школу, а старушка поспешила к миссис Гарпер рассказать ей про вещий сон Тома и сокрушить таким образом её неверие в чудеса. Сид не счёл нужным высказывать то, что он думал, когда уходил из дому. А думал он вот что:
«Тут что-то не так. Разве можно видеть такой длинный и складный сон — без единой ошибки?»
Каким героем теперь сделался Том! Он не шалил и не прыгал, но шествовал важно, с достоинством, как подобает пирату, сознающему, что на него устремлены все взгляды. И действительно, это было так: он старался делать вид, что не замечает ни взглядов толпы, ни её перешёптываний, но и то и другое доставляло ему величайшее наслаждение. Малыши бегали за ним по пятам, гордясь тем, что их видят в одной компании с ним, и что он терпит их возле себя, — словно он барабанщик во главе процессии или слон во главе зверинца, входящего в город. Его сверстники делали вид, будто они и не знают, что он убегал из дому, но в глубине души их терзала зависть. Они отдали бы всё на свете за его тёмный загар и за его блестящую известность. Но Том не расстался бы ни с тем, ни с другим даже в том случае, если бы ему предложили взамен целый цирк.
В школе ученики так носились с ним и с Джо Гарпером и в их взглядах выражалось такое красноречивое восхищение героями, что те невыносимо заважничали. Они начали рассказывать свои похождения жадно внимавшим слушателям, но именно только начали: с такой богатой фантазией, какой обладали они, можно было изобретать без конца всё новые и новые подвиги! Когда же они извлекли свои трубки и принялись с самым невозмутимым видом попыхивать ими, они достигли вершины почёта.
Том решил, что теперь он может обойтись без Бекки Тэчер. С него довольно славы. Он будет жить ради славы. Теперь, когда он так знаменит, Бекки, пожалуй, и пожелает мириться. Ну и пусть! Она увидит, что он может быть так же холоден и равнодушен, как иные… Но вот и она. Том сделал вид, что не замечает её. Он отошёл в сторону, присоединился к кучке мальчиков и девочек и начал разговаривать с ними. Скоро Том увидел, что Бекки весело бегает взад и вперёд с пылающим лицом и прыгающими глазами, притворяясь, будто совершенно поглощена погоней за подругами, и взвизгивая от радости каждый раз, как ей удаётся поймать одну из них. Но в то же время он заметил, что она норовит поймать тех, кто поближе к нему, а чуть поймает, исподтишка поглядит на него. Это льстило его злобному тщеславию и, вместо того чтобы смягчить его сердце, придавало ему ещё больше самодовольства и спеси и заставляло ещё сильнее скрывать, что он видит её. Тогда она перестала гоняться за девочками и начала нерешительно расхаживать неподалёку, время от времени вздыхая и украдкой бросая на Тома печальные взгляды. Вдруг она заметила, что Том чаще всех обращается к Эмми Лоренс. Мучительная тоска охватила её. Она взволновалась, встревожилась и сделала попытку уйти. Но вместо этого её непослушные ноги подвели её вплотную к той группе, где стояли Эмми и Том. Она остановилась совсем близко и с притворной весёлостью обратилась к одной из подруг:
— Какая ты гадкая, Мери Остин! Почему ты не была в воскресной школе?
— Я была. Разве ты не видела?
— Нет, вот странно… Где же ты сидела?
— Как всегда, в классе мисс Питерс. А я тебя видела.
— В самом деле? Забавно, что я тебя не заметила. Я хотела сказать тебе о пикнике.
— Вот интересно! Кто устраивает?
— Моя мама… для меня.
— Ах, как хорошо! А мне она позволит прийти?
— Ну конечно. Пикник — мой. Кого хочу, того и приглашаю. И тебя приглашу непременно, ещё бы!
— Ах, какая ты милая! Когда же это будет?
— Скоро. Может быть, на каникулах.
— Вот весело будет! Ты позовёшь всех девочек и мальчиков?
— Да, всех моих друзей… и тех, кто хотел бы со мною дружить.
Она украдкой посмотрела на Тома, но Том в это время рассказывал Эмми Лоренс про страшную бурю на острове и про то, как молния «разбила большущий платан «в мелкие щепки» как раз в ту минуту, когда он стоял «в трёх шагах»».
— А мне можно прийти на пикник? — спросила Греси Миллер.
— Да.
— А мне? — спросила Салли Роджерс.
— Да.
— И мне тоже? — спросила Сюзи Гарпер. — И Джо можно?
— Да.
Все задавали один и тот же вопрос и, получив утвердительный ответ, радостно хлопали в ладоши, так что в конце концов напросились на приглашение все, кроме Тома и Эмми.
Но тут Том равнодушно отошёл прочь, не прерывая разговора, и увёл с собой Эмми. У Бекки дрожали губы, слёзы выступили у неё на глазах, но она скрыла огорчение под напускной весёлостью и продолжала болтать. Однако у неё пропал всякий интерес к пикнику да, и ко всему остальному. Она поспешила отделаться от окружавших её подруг, ушла в укромное местечко и «выплакалась всласть», как выражаются женщины, а потом сидела там, оскорблённая, мрачная, пока не раздался звонок. Тогда она встала, взор её засверкал местью, — она тряхнула косичками и сказала, что теперь она знает, что делать.
На перемене Том продолжал ухаживать за Эмми Лоренс, упиваясь своим торжеством. Гуляя с нею, он всё время старался найти Бекки, чтобы и дальше терзать её сердце. Наконец он отыскал её — и всё его счастье мгновенно потухло: она сидела на скамейке за школьным домом у задней стены вместе с Альфредом Темплем; оба рассматривали книгу с картинками и были так поглощены этим занятием, что, казалось, не замечали ничего остального. Головами они касались друг друга. В жилах Тома заклокотала жгучая ревность. Он буквально возненавидел себя: как он мог отвергнуть тот путь примирения, который сама Бекки предложила ему! Он называл себя дураком и другими нелестными прозвищами, какие только мог придумать в тот миг. Ему хотелось плакать от злости. Они прошли дальше. Эмми продолжала весело болтать, потому что сердце её радостно пело, но у Тома словно отнялся язык. Он не слушал её и, когда она останавливалась в ожидании ответа, бормотал бессвязно «да-да», порой совсем невпопад. При этом он всё время лавировал так, чтобы снова и снова проходить мимо задней стены и омрачать свои взоры этим возмутительным зрелищем. Его тянуло туда против воли. И какую ярость вызывало в нём то, что Бекки (так казалось ему) не обращала на него никакого внимания! Но она видела его и чувствовала, что выигрывает сражение, и была рада, что он испытывает те же муки, какие только что испытала она.
Весёлая болтовня Эмми стала для него невыносимой. Том намекал ей, что у него есть дела, что ему нужно кое-где побывать, что он и без того опоздал, но напрасно — девочка щебетала, как птица. «Ах, — думал Том, — провались ты сквозь землю! Неужто я никогда от тебя не избавлюсь?» Наконец он объявил, что ему необходимо уйти — и возможно скорее. Эмми простодушно сказала, что после уроков будет ждать его тут же, поблизости, и за это он возненавидел её.
«И хоть бы кто другой, — говорил он себе, скрежеща зубами, — только бы не этот франтик из Сен-Луи, воображающий, что он так шикарно одет и что у него такой аристократический вид! Ну, погоди! Я вздул тебя в первый же день, чуть ты приехал в наш город, и вздую тебя опять. Погоди, мистер, уже я доберусь до тебя! Я хвачу тебя, вот этак…» И Том стал делать такие движения, словно он беспощадно избивает врага: махал кулаками, лягался, наносил воздуху удар за ударом. «Вот тебе! Вот тебе! Что, получил? Просишь пощады? Ну ладно! Ступай, и пусть это тебе будет наукой!» Воображаемая драка завершилась полной победой Тома.
Наступило двенадцать часов. Он убежал домой. Ему было совестно видеть, как благодарна и счастлива Эмми, и, кроме того, страдания ревности дошли у него до последних пределов. Бекки снова принялась рассматривать картинки с Альфредом, но время шло, а Том не приходил, чтобы мучиться, и это омрачало её торжество. Картинки наскучили ей, она стала молчаливой, рассеянной, потом загрустила. Два или три раза она настораживалась, заслышав чьи-то шаги, но надежды её были напрасны: Том не появлялся. Под конец она почувствовала себя очень несчастной и жалела, что завела свою месть так далеко. Бедняга Альфред, заметив, что ей, неизвестно почему, стало с ним очень скучно, то и дело твердил: «Вот ещё хорошенькая картинка! Смотри!» Девочка наконец потеряла терпение и крикнула: «Ах, отстань от меня! Надоели твои картинки!» Расплакалась, встала и ушла. Альфред бросился за ней, стараясь утешить её, но она сказала:
— Оставь меня в покое, пожалуйста! Уходи! Я тебя ненавижу!
Мальчик стоял в замешательстве, не понимая, что он ей сделал: ведь она обещала, что всю большую перемену будет смотреть с ним картинки, и вдруг в слезах ушла. Альфред грустно поплёлся в опустевшую школу. Он был оскорблён и разгневан. Ему было нетрудно угадать, в чём дело: девочка разговаривала с ним только для того, чтобы подразнить Тома Сойера. При этой мысли его ненависть к Тому, конечно, ничуть не уменьшилась. Ему хотелось придумать какой-нибудь способ так насолить врагу, чтоб самому остаться вне опасности. В это время ему попался на глаза учебник Тома. Вот удобный случай! Он с радостью раскрыл книжку на той странице, где был заданный урок, и залил всю страницу чернилами. Бекки как раз в эту минуту заглянула со двора в окно и увидела, что он делает, но скрылась поскорее, незамеченная. Она побежала домой; ей хотелось разыскать Тома и рассказать ему про книгу. Том обрадуется, будет ей благодарен, и все неприятности кончатся. Но на полдороге она передумала: ей вспомнилось, как обошёлся с ней Том, когда она говорила о своём пикнике. Это воспоминание вызвало у неё мучительный стыд и обожгло её словно огнём. «Так Тому и надо», — решила она. Пусть его высекут за испорченную книгу — ей всё равно: она ненавидит его и будет ненавидеть всю жизнь.
Глава XIX ЖЕСТОКИЕ СЛОВА: «Я НЕ ПОДУМАЛ»
Том пришёл домой нахмуренный, мрачный, и первые же слова, какие он услышал от тётки, показали ему, что здесь его горе не встретит сочувствия.
— Том, я с тебя шкуру спущу!
— Тётушка, что я сделал?
— И ты ещё спрашиваешь! Я, как старая дура, иду к Сирини Гарпер и думаю, что она вслед за мною поверит всей этой чуши насчёт твоего чудесного сна, и здравствуйте! Оказывается, её Джо рассказал ей, что ты просто-напросто прокрался в тот вечер сюда и подслушал наш разговор. Не знаю, Том, что может выйти из мальчика, который так бессовестно лжёт! Мне больно подумать, что ты дал мне пойти к Сирини Гарпер, чтобы все смеялись надо мной, как над дурой, — и даже не попытался меня удержать!
Теперь вся эта история представилась Тому в ином освещении. До сих пор его утренняя проделка казалась ему очень милой и ловко придуманной шуткой. Теперь же она сразу потускнела, стала ничтожной и жалкой.
Он повесил голову и в первую минуту не знал, что ответить; потом сказал:
— Тётя, мне жалко, что я это сделал… но я как-то не подумал.
— Ах, милый мой, ты никогда не думаешь! Ты никогда ни о чём не думаешь, только о себе и своих удовольствиях. Небось тебе пришло в голову явиться сюда с Джексонова острова ночью, чтобы посмеяться над нашим несчастьем! Пришло в голову морочить меня россказнями о том, что ты видел во сне, а вот пожалеть нас, избавить от горя, — об этом ты не подумал!
— Тётя, я теперь понимаю, что это было мерзко, но я не хотел сделать подлость, даю вам честное слово. Да и, кроме того… тогда вечером… я приходил совсем не для того, чтобы смеяться над вами.
— А для чего же?
— Я хотел сказать вам, чтобы вы не беспокоились о нас… что мы не утонули.
— Том, Том! Я возблагодарила бы господа бога в самой горячей молитве, если бы только могла поверить, что тебе пришла в голову такая добрая мысль, но ты сам знаешь, что этого не было… и я знаю, Том.
— Было, было! Даю вам честное слово, что было! Не сойти мне с этого места, было!
— Ах, Том, не лги… не выдумывай… Это во сто раз хуже.
— Это, тётя, не ложь, это правда. Мне хотелось, чтобы вы не горевали, вот я и пришёл тогда вечером.
— Я отдала бы всё на свете, чтобы поверить тебе: это искупило бы все твои грехи. Если бы это было так, я даже не жалела бы о том, что ты убежал из дому и натворил столько бед… Но нет, всё неправда… Иначе ты непременно сказал бы мне, для чего ты пришёл.
— Видите ли, когда вы стали говорить, что нас будут отпевать, как покойников, мне вдруг представилось, как будет чудесно, если мы проберёмся в церковь и спрячемся там на хорах… и, конечно, мне очень захотелось, чтоб так оно и было. Поэтому я сунул кору обратно в карман и не сказал ни словечка.
— Какую кору?
— А ту, где я написал вам, что мы ушли в пираты. Я так теперь жалею, что вы не проснулись, когда я вас поцеловал! Ужасно жалею — честное слово!
Суровые складки на лице тёти Полли разгладились, и в глазах её засияла внезапная нежность.
— А ты правда поцеловал меня, Том?
— Ну да, поцеловал.
— И это верно?
— Ещё бы!
— Почему же ты меня поцеловал, Том?
— Потому что я вас так любил в ту минуту, и вы стонали во сне, и мне было очень вас жалко.
Это, пожалуй, было похоже на правду. Старушка сказала с дрожью в голосе, которой она не могла скрыть:
— Поцелуй меня ещё раз, Том! И… ступай в школу, и… не приставай ко мне больше.
Едва только он ушёл, тётя Полли побежала в чулан и вытащила рваную куртку, которую он носил во время своих разбойничьих подвигов. Взяв куртку в руки, она вдруг остановилась и сказала себе:
— Нет, лучше не надо! Бедный мальчик! Я уверена, что он солгал… но то была святая ложь, святая — потому что ею он думал утешить меня. Я надеюсь… я знаю, что господь простит ему, потому что он солгал по доброте. Но мне не хотелось бы убедиться, что это ложь, и я не стану смотреть!
Она отложила куртку и с минуту раздумывала; дважды она протягивала к ней руку и дважды отдёргивала; наконец решилась, подкрепив себя мыслью: «Это добрая, добрая ложь, — я не позволю себе огорчаться». И она сунула руку в карман. Через минуту она уже читала строки, написанные Томом на куске коры, и говорила сквозь слёзы:
— Теперь я могла бы простить ему хоть миллион грехов!
Глава XX ТОМ ЖЕРТВУЕТ СОБОЙ РАДИ БЕККИ
В поцелуе тёти Полли было что-то такое, отчего все горести Тома рассеялись, и на душе у него стало опять хорошо и легко. Он пошёл в школу, и ему посчастливилось: в самом начале Лугового переулка он встретился с Бекки Тэчер. Том всегда действовал под влиянием минуты. Он, не задумываясь, подбежал к Бекки и одним духом сказал:
— Сегодня, Бекки, я вёл себя очень скверно и жалею об этом! Больше не буду никогда-никогда, до самой смерти! Давай помиримся… хочешь?
Девочка остановилась и презрительно посмотрела ему в лицо:
— Я была бы вам очень благодарна, мистер Томас Сойер, если бы вы оставили меня в покое. Больше я с вами не разговариваю.
Она вздёрнула нос и прошла мимо. Том был так ошеломлён, что даже не нашёлся ответить: «А мне наплевать… Недотрога!» А потом уже было поздно. Поэтому он ничего не сказал, но в душе у него вспыхнула злоба. Уныло поплёлся он по школьному двору и всё время жалел, что Бекки не мальчик, — вот бы здорово он её вздул! В это время она как раз прошла мимо, и он сказал ей какую-то колкость. Она ответила тем же, и таким образом они окончательно стали врагами. Разгневанная Бекки еле могла дождаться, когда же начнутся уроки, — так ей хотелось, чтобы Тома поскорее высекли за испорченный учебник. Если и было у неё мимолётное желание выдать Альфреда Темпля, теперь оно совершенно исчезло после тех оскорбительных слов, которые только что крикнул ей Том.
Бедная! Она не знала, что её тоже подстерегает беда.
Учитель этой школы, мистер Доббинс, дожил до зрелого возраста и чувствовал себя неудачником. Смолоду мечтал он о том, чтобы сделаться доктором, но из-за бедности принуждён был довольствоваться скромной долей школьного учителя в этом захолустном городишке. Каждый день, сидя в классе, он вынимал из ящика стола какую-то таинственную книгу и урывками, в те промежутки, когда ученики не отвечали уроков, погружался в чтение. Эта книга хранилась у него всегда под замком. Не было школьника, который не сгорал бы желанием заглянуть в эту книгу, но случая не представлялось никогда. Что это за книга? У каждой девочки, у каждого мальчика были свои догадки, но догадок было много, а дознаться до правды не представлялось никакой возможности. И вот Бекки, проходя мимо учительского стола, стоявшего неподалёку от двери, заметила, что в замке торчит ключ! Можно ли было пропустить такой редкостный случай? Она оглянулась — вокруг ни души. Через минуту она уже держала книгу в руках. Заглавие «Анатомия», сочинение профессора такого-то, ничего ей не объяснило, и она принялась перелистывать книгу. На первой же странице ей попалась красиво нарисованная и раскрашенная фигура голого человека. В эту минуту на страницу упала чья-то тень: в дверях показался Том Сойер и краем глаза глянул на картинку. Бекки торопливо захлопнула книгу, но при этом нечаянно разорвала картинку до середины. Она сунула книгу в ящик, повернула ключ и разревелась от стыда и досады.
— Том Сойер! Вас только и хватает, что на всякие пакости! Какая подлость — встать за спиной и подглядывать!
— Откуда же я знал, что ты тут на что-то глядишь?
— Стыдитесь, Том Сойер! Вы, конечно, наябедничаете на меня и… Что мне делать? Что же мне делать? Меня высекут, уж это наверное, а меня в школе ещё ни разу не секли… — Она топнула ногой и прибавила: — Ну и жалуйтесь, у вас подлости хватит! Я тоже кое-что знаю. И это скоро случится. Погодите — увидите! Гадкий, гадкий, гадкий!
Она зарыдала опять и бросилась вон из комнаты. Том остался на месте, ошарашенный её нападением. Потом он сказал себе:
— Что за глупый народ — девчонки! Никогда не секли в школе! Велика важность, что высекут! Все они — ужасные трусихи и — неженки. Понятно, я не стану фискалить и ни слова не скажу старику Доббинсу про эту дурёху… Я могу расквитаться с ней как-нибудь по-другому, без подлости. Но она всё равно попадётся. Доббинс спросит, кто разорвал его книгу. Никто не ответит. Тогда он начнёт, как всегда, перебирать всех по очереди; спросит первого, спросит второго и, когда дойдёт до виноватой, сразу узнает, что это она, даже если она будет молчать. У девчонок всё можно узнать по лицу — выдержки у них никакой. Ну и высекут её… наверняка… Попалась теперь Бекки Тэчер, от розги ей не уйти!
Подумав немного, Том прибавил:
— Что ж, поделом! Ведь она была бы рада, если бы в такую беду попал я, — пусть побывает в моей шкуре сама!
И он побежал во двор и присоединился к толпе сорванцов, затеявших какую-то игру. Через несколько минут пришёл учитель и начался урок. Том не особенно интересовался занятиями. Он поминутно смотрел в ту сторону, где сидели девочки, и лицо Бекки внушало ему беспокойство. Вспоминая её поведение, он не имел ни малейшей охоты жалеть её — и всё же не мог подавить в себе жалость, не мог вызвать в себе злорадство. Но вот через некоторое время учитель увидел в книге Тома пятно, и всё внимание мальчика было поглощено его собственным делом. Бекки на мгновение вышла из своего мрачного оцепенения и обнаружила большой интерес к происходящей перед нею расправе. Она знала, что все уверения Тома, будто он не обливал своей книги чернилами, всё равно не помогут ему. Так и случилось. За то, что он отрицал свою вину, его наказали больнее. Бекки думала, что она будет рада, и пыталась уверить себя, что действительно радуется, но это было не так-то легко. Когда дело дошло до розги, Бекки захотелось встать и сказать, что во всём виноват Альфред Темпль, но она сделала над собой усилие и заставила себя сидеть смирно. «Ведь Том, — размышляла Бекки, — наверняка наябедничает, что это я разорвала картинку. Так вот же, не скажу ни слова! Даже если бы надо было спасти ему жизнь!»
Том получил свою порцию розог и вернулся на место, не чувствуя большого огорчения. Он думал, что, может быть, и вправду как-нибудь нечаянно во время драки с товарищами опрокинул чернильницу на книгу. Так что отрицал он свою вину только для формы, только оттого, что таков был обычай, и он лишь из принципа твердил о своей правоте.
Прошёл целый час. Учитель сидел на троне и клевал носом. От гуденья школьников, зубривших уроки, самый воздух стал какой-то сонный. Мистер Доббинс выпрямился, зевнул, отпер ящик стола и нерешительно потянулся за книгой, словно не зная, взять её или оставить в столе. Большинство учеников смотрели на это весьма равнодушно, но среди них было двое таких, которые напряжённо следили за каждым движением учителя. Несколько минут мистер Доббинс рассеянно нащупывал книгу, затем вынул её и уселся поудобнее в кресле, готовясь читать. Том бросил взгляд на Бекки. У неё был беззащитный, беспомощный вид, точно у затравленного кролика, в которого прицелился охотник. Том моментально забыл свою ссору с ней. Скорее на помощь! Надо сейчас же что-нибудь предпринять, сейчас же, не теряя ни секунды! Но самая неотвратимость беды мешала ему изобрести что-нибудь. Великолепно! Блестящая мысль! Он подбежит, схватит книгу, выскочит в дверь — и был таков! Но он чуточку поколебался, и удобный момент был упущен: учитель уже открыл книгу. Если бы можно было вернуть этот миг!
«Слишком поздно, теперь для Бекки уже нет никакого спасения».
Ещё минута, и учитель обвёл глазами школу. Все глаза под его взглядом опустились. В этом взгляде было что-то такое, отчего даже невиновные затрепетали в испуге. Наступила пауза; она тянулась так долго, что можно было сосчитать до десяти. Учитель всё больше распалялся гневом. Наконец он спросил:
— Кто разорвал эту книгу?
Ни звука. Можно было бы услышать, как упала булавка. Все молчали.
Учитель впивался глазами в одно лицо за другим, ища виновного.
— Бенджамен Роджерс, ты разорвал эту книгу?
Нет, не он. И опять тишина.
— Джозеф Гарпер, ты?
Нет, не он. Тревога Тома с каждым мигом росла. Эти вопросы и ответы были для него медленной пыткой. Учитель оглядел ряды мальчиков, подумал немного и обратился к девочкам:
— Эмми Лоренс?
Та отрицательно мотнула головой.
— Греси Миллер? То же самое.
— Сюзен Гарпер, это сделала ты?
Нет, не она. Теперь очередь дошла до Бекки Тэчер. Том дрожал с головы до ног; положение казалось ему безнадёжным.
— Ребекка Тэчер (Том взглянул на её лицо: оно побелело, от страха), ты разорвала… нет, гляди мне в глаза… (она с мольбой подняла руки) ты разорвала эту книгу?
Тут в уме у Тома молнией пронеслась внезапная мысль. Он вскочил на ноги и громко крикнул:
— Это сделал я!
Вся школа в недоумении поглядела на безумца, совершающего такой невероятный поступок. Том, постояв минуту, собрал свои растерянные мысли и выступил вперёд, чтобы принять наказание. Изумление, благодарность, восторженная любовь, засветившаяся в глазах бедной Бекки, вознаградили бы его и за сотню таких наказаний. Увлечённый величием собственного подвига, он без единого крика перенёс самые жестокие удары, какие когда-либо наносил мистер Доббинс, и так же равнодушно принял дополнительную кару — приказ остаться в школе на два часа после уроков. Он знал, кто будет ждать его там, у ворот, когда его заточение кончится, и потому не считал двухчасовую скуку слишком тяжкой…
В этот вечер, отправляясь спать, Том тщательно и долго обдумывал, как он отомстит Альфреду Темплю. Бекки, в припадке стыда и раскаяния, поведала ему обо всём, не скрывая и своего ужасного предательства. Но даже планы мщения скоро уступили место более приятным мечтам, и, засыпая, он всё ещё слышал последнее восклицание Бекки: «Том, как мог ты быть таким великодушным!»
Глава XXI КРАСНОРЕЧИЕ — И ПОЗОЛОЧЁННЫЙ КУПОЛ УЧИТЕЛЯ
Приближались каникулы. Учитель, всегда строгий, стал ещё строже и требовательнее: ему хотелось, чтобы школа могла щегольнуть на экзаменах перед посторонними зрителями. Розги и линейка редко лежали теперь без работы — по крайней мере, в младших классах. Только юноши и девицы лет восемнадцати — двадцати были избавлены от телесного наказания. А бил мистер Доббинс больно, мускулы у него были здоровые, так как до старости ему было далеко, хотя он и прятал под париком обширную сияющую лысину. По мере приближения великого дня вся таившаяся в нём склонность к мучительству стала пробиваться наружу: он, казалось, находил злобное наслаждение в том, чтобы карать за самые ничтожные проступки. Мудрено ли, что младшие школьники целые дни трепетали и мучились, а по ночам строили планы жестокого мщения! Они не упускали случая устроить учителю какую-нибудь пакость. Но силы были неравные, и он всегда оказывался победителем. За каждой удавшейся местью следовала такая грозная и страшная расправа, что мальчики всегда покидали поле битвы с большими потерями. Наконец они устроили заговор и придумали план, обещавший им блестящую победу. Они столковались с учеником живописца, малевавшего вывески: посвятили его в свою тайну и просили оказать им помощь. Тот пришёл в восторг, и не удивительно: учитель столовался в доме его отца, и у мальчика было много причин ненавидеть злого педагога. Как нарочно, жена учителя собралась куда-то в гости к своим деревенским знакомым и должна была уехать через несколько дней. Значит, ничто не могло помешать задуманной мести. Перед всяким великим событием учитель любил подкрепляться спиртными напитками, и ученик живописца обещал, что накануне экзамена, как только педагог охмелеет и уснёт в своём кресле, он «сделает всю эту штуку», а потом разбудит его и препроводит в школу.
Но вот наступил этот замечательный день. К восьми часам вечера здание школы было ярко освещено и украшено венками, гирляндами из листьев и цветов. Учитель, как на троне, сидел в большом кресле на высоком помосте. Сзади находилась доска. Было видно, что он изрядно нагрузился вином. Три ряда боковых скамеек, справа и слева, да шесть рядов посредине были заняты местными сановниками и родителями учеников. Налево, за скамьями взрослых, на широкой временной платформе сидели школьники, которые должны были отвечать на экзамене: ряды мальчиков, так чисто умытых и одетых, что они чувствовали себя словно связанными; ряды неуклюжих подростков; белоснежные ряды девочек и взрослых девиц, разряженных в батист и кисею и, видимо, ни на минуту не забывавших, что у них голые руки, что на них старинные бабушкины побрякушки, розовые и синие банты и цветы в волосах. Остальные места занимали школьники, не участвовавшие в испытаниях.
Началось с того, что встал какой-то крошечный мальчик и робким голоском пролепетал:
О, вам, я знаю, непривычно, Чтоб говорил малыш публично… —и т. д., сопровождая свою декламацию мучительно аккуратными, судорожными жестами, словно машина — машина, в которой что-то немного испортилось. Тем не менее он благополучно добрёл до конца и, жестоко испуганный, был награждён дружными аплодисментами, отвесил свой механический поклон и удалился.
Сконфуженная маленькая девочка просюсюкала «У Мери был ягнёнок» и т. д., сделала реверанс, внушающий острую жалость, получила свою порцию рукоплесканий и, пунцовая от счастья, уселась на место.
Затем очень самоуверенно вышел вперёд Том Сойер и начал декламировать неугасимое, неистребимое «Дайте мне волю иль дайте мне смерть!» с великолепной свирепостью и бешеной жестикуляцией, но, дойдя до половины, запнулся. Тут его охватило смущение, он почувствовал страх перед публикой; ноги подкашивались, в горле что-то давило; он не мог произнести ни слова. Правда, слушатели отнеслись к нему с явным сочувствием, но все они молчали, и их молчание было для него даже более тягостно, чем их сочувствие. Учитель мрачно нахмурился, и это довершило катастрофу. Том ещё немного побарахтался и вернулся на своё место уничтоженным. Были слабые хлопки, но они замерли в самом начале.
Далее следовало: «Мальчик стоял на пылающей палубе», а также «Ассирияне шли, как на стадо волки» и другие перлы декламации. Затем наступила очередь новых состязаний: чтение вслух и диктант. Жидкий латинский класс не без успеха продекламировал стишки. Затем юные леди должны были самолично читать свои собственные сочинения. Это было гвоздём всей программы.
Каждая по очереди выходила к самому краю платформы, откашливалась, подносила к глазам свою рукопись (перевязанную хорошенькой ленточкой) и начинала читать, старательно соблюдая «выражение» и знаки препинания. Темы сочинений были те же, какие в подобных случаях разрабатывали мамаши, бабушки и прабабушки этих девиц и вообще все предки по женской линии, начиная с крестовых походов: «Дружба», «Воспоминание о былом», «Промысел божий в истории»; «Царство мечты», «Польза культуры», «Формы политического устройства государства», «Меланхолия», «Любовь к родителям», «Сердечные склонности» и т. д. и т. д.
Главной особенностью всех этих сочинений была тщательно взлелеянная меланхолия. Вторая особенность — целые потоки всяких нарядных и красивых словечек. Третья особенность — притянутые за уши излюбленные обороты и фразы, которые от частого употребления истрепались до последних пределов. А самое заметное (и самое зловредное) качество всех этих рукописей — навязчивая и невыносимая мораль, которая всегда неизменно помахивала на последней странице своим куцым хвостом. Какова бы ни была тема, нужно было какой угодно ценой выжать из своих мозгов нравоучение, над которым всякий религиозный и высоконравственный ум мог бы поразмыслить не без пользы. Фальшь этой морали очевидна для всякого, но это не мешает ей и по нынешний день процветать в наших школах; возможно, что они останутся в моде, покуда существует земля. Нет такой школы во всей нашей стране, где юные девицы не считали бы своим долгом заканчивать свои сочинения религиозной проповедью. И чем распущеннее какая-нибудь великовозрастная школьница, чем меньше в ней религиозного чувства, тем набожнее, длиннее и строже мораль её классных сочинений. Впрочем, довольно об этом, ибо суровая правда приходится по вкусу не многим.
Лучше вернёмся к экзаменам. Первое прочитанное сочинение носило заглавие: «Такова ли должна быть Жизнь?»[31]
Может быть, у читателя хватит терпения вынести хотя бы краткий отрывок:
На обычных тропах бытия с каким радостным волнением предвкушают юные умы какое-нибудь долгожданное празднество. Воображение рисует им картины веселья, окрашенные в розовый цвет. В мечтах сластолюбивая поклонница моды видит себя в самом центре ликующей и восхищённой толпы. Её изящная фигура, облечённая в белоснежные ткани, кружится в упоении весёлого танца; у неё самая лёгкая поступь, и глаза её сияют ярче всех в этой празднично-ликующей толпе. В таких сладостных грёзах время быстро проносится мимо, и приходит желанный час, когда она может вступить в тот рай, о котором так пылко мечтала. Какими волшебными представляются ей все очарования этого нового мира! Каждое новое видение соблазняет её всё более и более. Но вскоре она обнаруживает, что под этой блестящей поверхностью всё — тлен и суета. Лесть, которая так услаждала её душу, теперь лишь раздражает её слух; пышные бальные залы потеряли свою привлекательность, и с разрушенным здоровьем и с удручённым сердцем она уходит оттуда, унося непоколебимую уверенность, что никакие земные утехи не могут утолить её духовную жажду!
И так далее и так далее. Чтение всё время сопровождалось одобрительным гулом; слышались тихие возгласы: «Как мило!», «Как красноречиво!», «Как верно!» и т. д. И когда вся эта канитель завершилась удручающе пошлой моралью, все восторженно захлопали в ладоши.
Потом встала хрупкая, печальная дева, с интересной бледностью лица, происходящей от пилюль и несварения желудка, и прочитала «поэму».
Я приведу из этой поэмы лишь две строфы:
ПРОЩАНИЕ МИССУРИЙСКОЙ ДЕВЫ С АЛАБАМОЙ[32]
Алабама, прощай! И хоть ты мне мила, Но с тобою пора мне расстаться. О, печальные мысли во мне ты зажгла, И в душе моей скорби гнездятся. По твоим я блуждала цветистым лесам, Над струями твоей Таллапусы, И внимала Талласси бурливым волнам Над зелёными склонами Кусы. И, прощаясь с тобой, не стыжусь я рыдать, Мне не стыдно тоскою терзаться, Не чужбину судьба мне велит покидать, Не с чужими должна я расстаться, — В этом штате я знала уют и привет, Алабама моя дорогая! И была б у меня бессердечная tete,[33] Не любила бы если б тебя я!Мало кому из слушателей было известно, что такое tete, но тем не менее поэма понравилась.
Потом появилась смуглая, черноглазая, черноволосая девица, выдержала эффектную паузу, сделала трагическое лицо и начала нараспев:
ВИДЕНИЕ
Темна была бурная ночь. Вокруг небесного престола не мерцала ни единая звёздочка; но глухие раскаты грома постоянно раздавались в ушах, а бешеная молния бушевала, пируя, в облачных чертогах небес, словно она презирала ту власть, которой укротил её бешенство знаменитый Франклин![34] Даже буйные ветры единодушно решили покинуть свои тайные убежища и неистовствовали, как бы пытаясь придать ещё более ужаса этой потрясающей сцене.
В эту годину мрака и отчаяния душа моя жаждала участия души человеческой, — вот ко мне явилась она —
Мой лучший друг, мой идеал, наставница моя, Развеяла мою печаль, утешила меня.Она шествовала, как одно из тех небесных созданий, какие являются в грёзах юным романтическим душам на осиянных дорогах эдема,[35] царица красоты, не украшенная никакими драгоценностями, только собственной непревзойдённой прелестью. Так тиха и беззвучна была её нежная поступь, что, если бы не магический трепет, внушённый мне её прикосновением, она прошла бы мимо, незамеченная, подобно другим красавицам, не выставляющая свою красу напоказ. Печать неразгаданной скорби лежала у неё на лице, как заледенелые слёзы на белоснежном одеянии Декабря, когда она указала перстом на борьбу враждующих стихий и приказала мне обратить мою мысль на тех двоих, что присутствуют здесь.
Этот кошмар занимал десять страниц и заканчивался необыкновенно суровой проповедью, сулившей такие ужасные кары тем, кто не принадлежит к пресвитерианской церкви, что его удостоили высшей награды. Мэр города, вручая автору награду, произнёс горячую речь; по его словам, он «никогда не слыхал ничего красноречивее» и «сам Дэниэл Уэбстер[36] мог бы гордиться подобным шедевром ораторского искусства».
Тут нужно указать мимоходом, что число сочинений, где фигурировало слово «пленительный» и где разные житейские передряги именовались «страницей жизни», было нисколько не ниже обычного.
Учитель, размякший и подобревший от выпивки, отодвинул кресло и, повернувшись спиной к публике, начал рисовать на доске карту Америки, чтобы проэкзаменовать учеников по географии. Но нетвёрдая рука плохо слушалась его, и по классу пронеслось сдержанное хихиканье. Хорошо понимая, в чём дело, он старался поправиться: стирал нарисованное и чертил снова, но выходило ещё хуже, и хихиканье раздавалось громче. Он сосредоточил всё внимание на работе и решил не обращать никакого внимания на смех. Он чувствовал, что все взоры устремлены на него, и думал, что дело идёт на лад. Но хихиканье в классе не умолкало, а наоборот, заметно усиливалось. И неудивительно! Как раз над головой учителя в потолке был чердачный люк, и — вдруг из этого люка появилась кошка на верёвке, причём голова её была туго стянута тряпкой, чтобы она не мяукала. Медленно спускаясь всё ниже и ниже, она изгибалась всем телом, тянулась вверх и старалась поймать когтями верёвку, но ловила только воздух. Хихиканье становилось громче, кошка была уже в каких-нибудь шести дюймах от поглощённого своим делом учителя… ниже, ниже, ещё немножко ниже… и вдруг она отчаянно вцепилась когтями в парик и вместе со своим трофеем моментально была вознесена на чердак. И вокруг голого черепа мистера Доббинса неожиданно распространилось сияние, так как сын живописца позолотил ему лысину!
После этого собрание разошлось. Мальчики были отомщены. Наступили каникулы.
Глава XXII ГЕК ФИНН ЦИТИРУЕТ БИБЛИЮ
Том вступил в Новое общество — «Юных друзей трезвости», так как членам этого общества выдавали шикарные «знаки отличия». С него было взято обещание никогда не курить, не жевать табаку, не ругаться скверными словами. После этого он открыл одну новую истину: если хочешь, чтобы человек что-нибудь сделал, пусть даст зарок, что не станет делать этого во веки веков. Вернейший способ! Тому тотчас же мучительно захотелось и ругаться, и пьянствовать. Это желание росло, и только надежда, что скоро может представиться случай покрасоваться перед публикой в пунцовом шарфе, удерживало его, а то он непременно ушёл бы из общества. Приближалось Четвёртое июля;[37] впрочем, на третьи сутки после того, как он пробыл в веригах трезвости, он перестал о нём думать и возложил все свои надежды на старого мирового судью Фрезера, который лежал при смерти; вероятно, судье будут устроены пышные похороны, так как судья важная персона. И тогда, на его погребении, можно будет щеголять пунцовым шарфом. Три дня подряд Том проявлял глубокий интерес к состоянию здоровья судьи и с душевным волнением справлялся, как он себя чувствует.
Иногда надежды Тома поднимались на такую высоту, что он дерзновенно вынимал, из комода свои знаки отличия и примерял их перед зеркалом. Но судья чувствовал себя то лучше, то хуже. Наконец разнёсся слух, что ему сильно полегчало, а потом — что он и совсем поправляется. Том был так возмущён, будто над ним насмеялись. Он тотчас же вышел из общества. И что же? Ночью судье стало хуже, и он умер. Том решил, что после этого никому невозможно верить. Похороны были — роскошные. Юные члены общества трезвости так важно шагали в процессии, что их бывший товарищ чуть не лопнул от зависти. Зато теперь Том был вольная птица — это тоже чего-нибудь стоило! Он мог пьянствовать и ругаться сколько душе угодно. Но странное дело! Теперь ему уже не хотелось. Именно потому, что не было никакого запрета, все его греховные желания исчезли и потеряли свою привлекательность.
Вскоре Том с удивлением заметил, что каникулы, о которых он столько мечтал, становятся ему как будто в тягость.
Он начал было вести дневник, но за три дня не случилось никаких происшествий, и он бросил.
Но вот в городок приехал негритянский оркестр и произвёл на всех большое впечатление. Том и Джо Гарпер собрали свой оркестр из ребят и были счастливы целых два дня.
Даже пресловутое Четвёртое июля прошло неудачно: лил дождь, процессия не состоялась, а величайший человек в мире (так, по крайней мере, думал Том), мистер Бентом, настоящий сенатор Соединённых Штатов, принёс ему сплошное разочарование, ибо оказался отнюдь не великаном двадцати пяти футов росту, а самым заурядным человечком.
Приехал цирк. Мальчики три дня после того давали цирковые представления в палатке из дырявых ковров, взимая за вход с мальчиков по три булавки, а с девочек по две; но потом и это надоело.
Затем явились гипнотизёр[38] и френолог, и после их отъезда стало ещё скучнее.
Иногда устраивались вечеринки для мальчиков и девочек, (Но они бывали так редко и доставляли так много веселья, что промежутки между ними ощущались, как боль.
Бекки Тэчер уехала на лето с родителями в свой родной городок Константинополь, и с её отъездом померкла вся радость жизни.
Страшная тайна убийства была для Тома непреодолимым страданием. Она, словно язва, терзала его упорной, неутихающей болью.
Потом пришла корь.
В течение двух долгих недель Том провалялся в постели, как узник, умерший для мира и для всех человеческих дел. Болезнь была тяжёлая, ничто не интересовало его. Когда он наконец встал на ноги и в первый раз поплёлся, шатаясь, по городу, он везде нашёл перемену к худшему. В городке началось возрождение религии, и все стали толковать о «божественном» — не только взрослые, но даже малые дети. Том прошёл весь город из конца в конец, страстно надеясь увидеть хоть одного грешника, но и тут его ждало разочарование. Он пошёл к Джо Гарперу, но тот изучал евангелие, и Том, грустный, поспешил уйти от этого унылого зрелища. Он стал разыскивать Бена Роджерса, но оказалось, что Бен посещает беднейших жителей и при этом таскает с собою корзину, полную религиозных брошюрок. Когда он наконец разыскал Джима Холлиса, тот стал уверять, что небо послало Тому корь для того, чтобы он покаялся в своих прегрешениях. Каждая новая встреча прибавляла ещё одну тонну к той тяжести, которая душила его; в полном отчаянии он кинулся искать пристанища в объятиях Гекльберри Финна, но и тот встретил его текстом из библии. Этого Том не выдержал: сердце его разорвалось; он еле добрёл до дома и упал на кровать, чувствуя, что во всём городе он — единственный грешник, обречённый на вечные муки в аду.
Ночью разразилась страшная буря с проливным, дождём, зловещими раскатами грома и ослепительными молниями.
Том закутался в одеяло с головой и в ужасе ждал своей гибели: у него не было ни тени сомнения, что вся эта суматоха затеяна из-за него. Он был уверен, — что своими грехами истощил долготерпение господа бога и теперь ему не будет пощады. Если бы кто-нибудь вздумал выдвинуть артиллерию против ничтожной букашки, Том счёл бы это напрасной тратой сил и снарядов, но он вовсе не находил странным, что небеса соорудили дорогостоящую грозу, чтобы сокрушить такую букашку, как он.
Мало-помалу гроза стала затихать и прошла, не выполнив своей главной задачи. Первым побуждением мальчика было возблагодарить господа бога и мгновенно исправиться, вторым — подождать ещё немножко, так как не похоже на то, чтобы гроза разразилась опять.
На следующий день снова пришлось приглашать докторов: болезнь Тома возобновилась. Три недели, в течение которых Том пролежал на спине, показались ему на этот раз целой вечностью. Когда наконец он вышел из дому, он даже не радовался, что смерть пощадила его. Он помнил, каким одиноким и бесприютным был он в последнее время. Он лениво побрёл по улицам и увидел, что Джим Холлис вместе с другими мальчишками судит кошку за убийство птички. Жертва кошки находилась тут же. Дальше в укромном закоулке сидели Джо Гарпер и Гекльберри Финн и уплетали краденую дыню. Бедняги! К ним, как недавно к Тому, вернулась их недавняя болезнь.
Глава XXIII СПАСЕНИЕ МЕФФА ПОТТЕРА
Наконец сонная атмосфера всколыхнулась — и очень сильно: назначен был день суда над убийцей. В городке только об этом и говорили. Том не знал, куда деваться от разговоров. При каждом намёке на убийство сердце у него так и вздрагивало. Нечистая совесть внушала ему, что такие разговоры ведутся при нём неспроста, что ему расставляют сети. Правда, он не давал себе ясного отчёта, как могут заподозрить его в том, что он знает хоть что-нибудь об этом убийстве, но всё же городские кривотолки не могли не тревожить его. Его то и дело бросало в озноб. Он увёл Гека в укромное место, чтобы поговорить по душам. Нужно же хоть на короткое время дать волю языку и разделить с товарищем по несчастью своё тяжёлое бремя! К тому же он хотел убедиться, что Гек не проговорился.
— Гек, ты кому-нибудь говорил насчёт этого?
— Насчёт чего?
— Сам знаешь…
— Понятно, нет.
— Ни слова?
— Ни единого словечка, провались я на этом месте! А почему ты спрашиваешь?
— Да так, я боялся.
— Ну, Том Сойер, нам и двух дней не прожить бы, если бы мы проболтались. Ты ведь сам знаешь.
Тому стало немного легче. Помолчав, он спросил:
— Гек, тебя никто не может заставить проговориться?
— Меня? Ну уж нет! Разве только мне захочется, чтобы этот дьявол метис утопил меня в реке, — тогда, пожалуй…
— Значит, всё в порядке. Я так думаю, что, пока мы держим язык на привязи, никто нас не тронет. А всё-таки давай поклянёмся опять. Так будет вернее!
— Ладно.
И они опять дали друг другу торжественную и страшную клятву.
— А что говорят, Гек? Я столько наслушался разных историй.
— Что говорят? Да всё одно: Мефф Поттер, Мефф Поттер, Мефф Поттер. Меня даже в пот кидает — прямо ушёл бы и спрятался.
— Вот-вот! И со мной то же самое. А ведь его дело пропащее! Ему крышка. Тебе его не бывает жалко… иногда?
— Очень часто… да, очень часто. Правда, он человек непутёвый, но ведь и зла никому не делал. Никому никогда. Наловит немного рыбки — было бы на что выпить, а потом слоняется без дела… Так ведь, господи, все мы такие! Ну, не все, а многие: папаша, например, и тому подобные. А всё-таки он вроде добрый: даёт мне раз половину своей рыбы, а её только и хватило бы, что на него одного. А сколько раз он заступался за меня, выручал из беды!
— Мне он чинил бумажных змеев и привязывал крючки к моим удочкам. Очень было бы здорово, если б мы помогли ему убежать из тюрьмы!
— Ишь куда хватил! Как же мы ему поможем? Да и какой ему от этого прок? Убежит, а его поймают.
— Д-да, это так… Это верно. Но мне прямо слышать противно, что его ругают, как чёрта, а он совсем ни в чём не виноват.
— И мне тоже, Том. Понимаешь, я слыхал… говорят, что он самый кровожадный злодей во всём штате, и дивятся, как это его до сих пор не повесили!
— Да-да, я своими ушами слышал, что если он будет отпущен на волю, его повесят по закону Линча.[39]
— Так и сделают: повесят.
Мальчики ещё долго толковали о Поттере, но от этого им не сделалось легче.
Когда стемнело, они стали околачиваться возле маленькой уединённой тюрьмы, питая смутную надежду, что какой-нибудь неожиданный случай сразу выведет их из всех затруднений. Но ничего такого не случилось: по-видимому, ни ангелы, ни добрые феи не заинтересовались злосчастным узником.
Одно они могли сделать, и делали уже несколько раз: просунули Поттеру сквозь решётку немного табаку и несколько спичек. Его поместили в нижнем этаже, а сторожей не было.
Его благодарность за такие дары и прежде смущала их совесть. А в этот раз она кольнула их ещё больнее. Они почувствовали себя последними трусами и предателями, когда Поттер сказал им:
— Спасибо вам за вашу доброту, ребятки! Никто во всём городе не жалеет меня, только вы одни. И я этого не забуду, нет-нет! Я часто говорю себе: ведь я всем малышам чинил бумажных змеев и всякую штуку и показывал, где лучше ловится рыба, со всеми был вроде как товарищ, но все отвернулись от старого Меффа — теперь, когда Мефф в беде… А Том не отвернулся, и Гек не отвернулся… нет, они не забыли его… и он не забудет их… Да, ребятки, я сделал страшное дело: пьян я был, не в своём уме… в этом-то вся причина… А теперь меня, того гляди, повесят… И правильно… правильно… Это лучше всего. Честное слово, лучше! Ну, да что толковать об этом! Не стоит нагонять на вас тоску, на моих лучших друзей. Я только вот что хочу вам сказать: если не хотите попасть за решётку, не пейте этого проклятого вина… Станьте немного в сторонке, к западу… Вот так. Человеку в такой беде первое утешение видеть лица друзей, а ко мне сюда никто не ходит, только вы. Добрые лица друзей… добрые лица друзей… Влезьте один другому на спину, чтобы я мог до вас дотянуться… Вот так. Ну, теперь пожмите-ка мне руку, — ваши-то руки пролезут в решётку, а моя чересчур велика. Маленькие ручонки и слабые, а всё-таки они здорово помогли Меффу Поттеру, и помогли бы ещё больше, если бы только могли!
Том ушёл домой совсем несчастный, и сны, которые он видел в ту ночь, были полны всяких ужасов. На другой день и на третий день он с утра до вечера вертелся у здания суда. Какая-то неодолимая сила влекла его внутрь, но он принуждал себя остаться на улице. То же самое испытывал и Гек. Они старательно избегали друг друга. Время от времени и тот и другой уходили куда-нибудь подальше, но те же зловещие чары снова тянули их к прежнему месту. Когда из зала суда на улицу выходил какой-нибудь зевака, Том с жадностью ловил каждое слово, но вести были печальные: бедный Поттер всё больше запутывался в беспощадных сетях правосудия. Под конец второго дня городские толки свелись к одному: что все показания Индейца Джо подтвердились, и что, не может быть ни малейших сомнений, какой приговор будет вынесен Поттеру.
Том вернулся домой поздно вечером — и к постели добрался через окошко. Он был сильно взволнован и долго не мог заснуть. На другой день весь город толпился с утра у судебного здания, так как это был решающий день. Народу набилась полная зала — и мужчин и женщин. Наконец долгожданные присяжные вошли гуськом и заняли свои места. Через несколько минут ввели Поттера, бледного, запуганного, жалкого; вся его фигура выражала отчаяние. Он был закован в цепи; его усадили так, чтобы все любопытные могли глазеть на него. На таком же видном месте сидел Индеец Джо, невозмутимый, как всегда. Снова наступило молчание, затем вышел судья, и шериф объявил заседание открытым. Как всегда, члены суда стали шушукаться между собой и собирать какие-то бумаги. Эта мелочная возня и всякие другие проволочки создавали торжественную атмосферу тревожного, напряжённого ожидания.
Вызвали свидетеля, видевшего, как Мефф Поттер умывался у ручья рано утром в тот день, когда было обнаружено убийство. Свидетель показал, что, завидев его, Мефф Поттер тотчас же пустился бежать. Предложив ещё несколько вопросов, прокурор сказал защитнику:
— Теперь ваша очередь: допросите свидетеля.
Подсудимый поднял глаза, но опустил их опять, когда услышал, что защитник ответил:
— У меня вопросов к свидетелю нет.
Следующий свидетель показал, что он нашёл нож возле трупа убитого.
Опять прокурор сказал, обращаясь к защитнику:
— Вы можете допросить свидетеля.
И защитник опять ответил:
— У меня вопросов к свидетелю нет.
Третий свидетель показал под присягой, что часто видел этот нож в руках у Поттера.
И опять прокурор обратился к защитнику:
— Вы можете допросить свидетеля.
Защитник Поттера отказался допрашивать и этого свидетеля.
На лицах у присутствующих появилось выражение досады. Что за странный защитник! Неужели он не сделает ни малейшего усилия, чтобы спасти своего клиента от петли?
Несколько свидетелей показали, что Поттер, приведённый на место убийства, был очень смущён. Сразу было видно по его поведению, что он-то и есть преступник. И этих свидетелей адвокат отпустил, не подвергая их перекрёстному допросу.
Каждая мельчайшая подробность прискорбных событий, происходивших в то памятное утро на кладбище, была досконально изложена свидетелями, но защитник Меффа Поттера даже не попытался допрашивать ни одного из них. Публика была возмущена и так громко роптала, что судья сделал ей строгое внушение.
После этого встал прокурор и сказал:
— Вполне надёжные свидетели установили под присягой тот факт, что это страшное преступление совершил не кто иной, как несчастный, сидевший ныне на скамье подсудимых. Больше мне нечего прибавить: обвинение вполне доказано.
Бедный Поттер застонал и закрыл лицо руками, тихонько раскачиваясь взад и вперёд. В зале суда воцарилось тягостное молчание. Даже мужчины были взволнованы, а женщины рыдали.
Тогда поднялся защитник и сказал, обращаясь к судье:
— Достопочтенный сэр! В начале судебного заседания я заявил о моём намерении доказать, что мой клиент совершил это страшное убийство в бессознательном состоянии, в беспамятстве, под влиянием спиртных напитков. Но я изменил своё намерение и не буду ходатайствовать о снисхождении присяжных… — И он обратился к приставу: — Вызовите Томаса Сойера!
На лицах у всех, не исключая самого Поттера, выразилось изумление. Все глаза с любопытством уставились на Тома, который подошёл к судейскому столу. У мальчика был растерянный вид, потому что он ужасно испугался. Его привели к присяге.
— Томас Сойер, где вы были семнадцатого июня, около полуночи?
Том глянул на железное лицо Индейца Джо, и его язык прилип к гортани. Слушатели затаили дыхание, но голос не повиновался Тому. Однако через несколько мгновений мальчик чуть-чуть овладел собой, так что некоторые сидевшие в зале расслышали его тихий ответ:
— На кладбище.
— Пожалуйста, громче. Не бойтесь. Итак, вы были…
— На кладбище.
Презрительная улыбка мелькнула на лице Индейца Джо.
— Не находились ли вы где-нибудь поблизости от могилы Горса?
— Да, сэр.
— Пожалуйста, чуточку громче. Как близко вы были от могилы?
— Так же близко, как теперь от вас.
— Вы спрятались или стояли на виду?
— Спрятался.
— Где?
— За вязами, рядом с могилой.
Индеец Джо чуть заметно вздрогнул.
— С вами был ещё кто-нибудь?
— Да, сэр, я пошёл туда с…
— Остановитесь, погодите. Нет надобности называть сейчас вашего спутника. В своё время мы допросим и его… Вы что-нибудь принесли с собой на кладбище?
Том колебался. Он был, видимо, сконфужен.
— Говорите, не бойтесь, мой друг, — истина всегда достопочтенна. Что же вы принесли туда?
— Только… дохлую кошку.
По зале пронеслась струя веселья. Судья позвонил в колокольчик.
— Мы представим суду скелет этой кошки. А теперь, мой друг, расскажите нам всё, что вы видели, расскажите, как умеете, всё без утайки и не бойтесь ничего.
Том начал — сперва нерешительно, потом понемногу увлёкся; речь его полилась живее; скоро в зале суда раздавался один только его голос, остальные звуки затихли, слушатели с разинутыми ртами, затаив дыхание, ловили каждое его слово, не замечая времени, — так они были увлечены и потрясены его жутким рассказом. Общее волнение достигло предела, когда Том дошёл до сцены убийства:
— А когда доктор хватил Меффа Поттера доской по голове и тот упал, Индеец Джо кинулся на него с ножом и…
Трах! Быстрее молнии метис вскочил на окно, оттолкнул пытавшихся удержать его и был таков!
Глава XXIV БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ ДНИ — И УЖАСНЫЕ НОЧИ
Том ещё раз сделался знаменитым героем. Взрослые опять баловали его, а дети завидовали ему. Он стяжал себе бессмертную славу: местная газетка расхвалила его до небес. Некоторые даже предсказывали, что быть ему президентом, если его до той поры не повесят.
Как водится, легковерная, переменчивая публика раскрыла свои объятия Меффу Поттеру и ласкала его с такой же горячностью, с какой только что бранила и оскорбляла его. В данном случае это рисует людей с самой лучшей стороны, и, значит, порицать их за это не следует.
Дни Тома были днями торжества и веселья, но его ночи были исполнены ужаса. Индеец Джо постоянно омрачал его сны и грозил ему жестокой расправой. Никакие соблазны не могли выманить мальчика из дому после заката.
Бедный Гек находился в таком же состоянии тревоги и страха, так как вечером накануне суда Том рассказал всю историю защитнику Поттера, и Гек страшно боялся, что его причастность к этому делу выйдет наружу, хотя бегство метиса и избавило Гека от горькой — необходимости давать показания в суде. Кроме того, он упросил адвоката держать его дело в секрете. Но с тех пор как совесть погнала Тома поздно вечером в дом адвоката и принудила его, несмотря на все страшные клятвы, рассказать о тайне, которую он обязался хранить, Гек утратил веру в человечество.
Днём, слушая, как благодарит его Мефф Поттер, Том был рад, что сказал об этом деле всю правду, но по ночам он жалел, что не держал язык за зубами. То он боялся, что Индейца Джо никогда не поймают, то боялся, что его поймают.
Он чувствовал, что вздохнёт спокойно лишь тогда, когда увидит этого человека мёртвым.
Обыскали всю округу, предложили награду за поимку метиса, но так и не нашли его. Из Сен-Луи выписали чудо-всезнайку, сыщика, внушающего почтительный страх. Тот пошарил, понюхал, покачал головой с самым глубокомысленным видом и достиг такого же поразительного успеха, какой обычно выпадает на долю всех представителей этой профессии, а именно: он объявил, что «напал на след». Но ведь «след» повесить за убийство нельзя, и потому после отъезда сыщика Том по-прежнему чувствовал себя в страшной опасности.
Но дни проходили, и с каждым днём бремя тревоги, угнетавшее Тома, становилось всё легче и легче.
Глава XXV ПОИСКИ КЛАДА
В жизни каждого нормального мальчика наступает пора, когда он испытывает безумное желание пойти куда-нибудь и порыться в земле, чтобы выкопать спрятанный клад. Это желание в один прекрасный день охватило и Тома. Он пытался разыскать Джо Гарпера, но безуспешно. Затем он стал искать Бена Роджерса, но тот ушёл удить рыбу. Наконец он наткнулся на Гека Финна. Гек Кровавая Рука — вот самый подходящий товарищ! Том увёл его в такое местечко, где никто не мог их подслушать, и там открыл ему свои тайные планы. Гек согласился. Гек всегда был согласен принять участие в любом предприятии, обещавшем развлечение и не требовавшем денежных затрат, потому что времени у него было так много, что он не знал, куда его девать, и, конечно, поговорка «Время — деньги» была неприменима к нему.
— Где же мы будем копать? — спросил Гек.
— О, повсюду, в разных местах!
— Разве клады зарыты повсюду?
— Конечно, нет, Гек. Их зарывают порой на каком-нибудь острове, порой в гнилом сундуке, под самым концом какой-нибудь ветки старого, засохшего дерева, как раз в том месте, куда тень от неё падает в полночь; но всего чаще их закапывают в подполе домов, где водятся привидения.
— Кто же их зарывает?
— Понятно, разбойники. А ты думал — кто? Начальницы воскресных училищ?
— Не знаю. Будь это мой клад, я не стал бы его зарывать — я тратил бы все свои деньги и жил бы в своё удовольствие.
— Я тоже. Но разбойники денег не тратят: они всегда зарывают их в землю.
— Что же, они потом не приходят за ними?
— Нет, они всё время мечтают прийти, но потом обыкновенно забывают приметы или возьмут да умрут. И вот клад лежит себе да полёживает и покрывается ржавчиной. А потом кто-нибудь найдёт старую, пожелтевшую бумагу, в которой указано, по каким приметам искать. Да и бумагу-то эту нужно разбирать целую неделю, если не больше, потому что в ней всё закорючки да ироглифы.[40]
— Иро… что?
— И-ро-глифы… разные картинки… каракульки, которые с первого взгляда как будто ничего и не значат.
— И у тебя есть такая бумага, Том?
— Нет.
— Как же ты узнаешь приметы?
— Мне и не нужно примет. Клады всегда закапываются под таким домом, где водится нечистая сила, или на острове, или под сухим деревом, у которого одна какая-нибудь ветка длиннее всех прочих. На острове Джексона мы уже пытались искать и можем попытаться ещё раз когда-нибудь после. Старый дом с привидениями есть у ручья за Стилл-Хауз, а там сухих деревьев сколько хочешь.
— И под каждым деревом клад?
— Ишь чего захотел! Конечно, нет!
— Так как же ты узнаешь, под каким копать?
— Будем копать под всеми.
— Ну, Том, ведь этак мы проищем всё лето!
— Что за беда! Зато представь себе, что мы найдём медный котёл с целой сотней замечательных долларов, покрытых ржавчиной, или полусгнивший сундук, полный брильянтов. Что ты тогда скажешь?
У Гека загорелись глаза:
— Вот это здорово! Этого мне хватит на всю мою жизнь. Только на что мне брильянты? Ты подай мне мою сотню долларов, а брильянтов мне и даром не надо.
— Ладно! Уж я-то брильянтов не брошу, можешь быть спокоен. Некоторые из них стоят по двадцати долларов штука. И нет ни одного, который стоил бы дешевле доллара.
— Будто?
— Честное слово, спроси кого хочешь. Ты разве никогда не видел брильянтов, Гек?
— Насколько я помню, нет.
— Но у королей целые горы брильянтов.
— Так ведь я не знаком с королями.
— Где ж тебе! Вот если бы ты очутился в Европе, ты увидел бы целую кучу королей. Там они так и кишат, так и прыгают…
— Прыгают?
— Ах ты чудак! Ну, зачем же им прыгать?
— Но ведь ты сам сказал: они прыгают.
— Глупости! Я только хотел сказать, что в Европе их сколько угодно. И, конечно, они не прыгают, зачем бы им прыгать? Поглядел бы ты на них, там их тьма-тьмущая — вот таких, как тот горбатый Ричард…[41]
— Ричард? А как его фамилия?
— Никакой у него фамилии нет. У королей одни лишь имена.
— Ну, что ты!
— Правду тебе говорю.
— Если так, не хотел бы я быть королём. Может, им и нравится, чтобы их звали, как негров, одним только именем, мне же это совсем не по вкусу. Но погоди, где же мы будем копать?
— Не знаю. Разве начать с того старого дерева, там, на пригорке, за ручьём?
— Ладно.
Они достали сломанную кирку и лопату и отправились в путь. Идти надо было три мили. На место они пришли, задыхаясь, изнемогая от зноя, и улеглись в тени ближайшего вяза отдохнуть и покурить.
— До чего хорошо! — сказал Том.
— Угу!
— Слушай-ка, Гек, если мы выроем клад, что ты сделаешь со своей половиной?
— Я? Каждый день буду покупать пирожок и стакан содовой воды, буду ходить в каждый цирк, какой приедет в наш город. Уж я знаю, что мне делать, чтобы весело прожить!
— Неужто ты ничего не отложишь в запас?
— Откладывать? Это к чему же?
— А к тому, чтобы хватило и на будущий год.
— Ну, это зря. Если я не истрачу всех денег, в наш город как-нибудь вернётся мой батька и наложит на них свою лапу. А уж после него не поживишься! Будь покоен, очистит всё!.. А ты что сделаешь со своей долей, Том?
— Куплю барабан, взаправдашнюю саблю, красный галстук, бульдога-щенка и женюсь.
— Женишься?
— Ну да.
— Том, ты… ты не в своём уме!
— Погоди — увидишь.
— Ничего глупее ты не мог выдумать, Том. Возьми хоть бы моего отца с матерью — ведь они дрались с утра до вечера. Этого мне никогда не забыть!
— Вздор! На которой я женюсь, та драться не станет.
— А по мне, они все одинаковые. Нет, Том, ты подумай хорошенько! Я тебе говорю — подумай. Как зовут девчонку?
— Она вовсе не девчонка, а девочка.
— Ну, это-то всё равно. Одни говорят: девочка, другие — девчонка; кто как хочет, так и говорит. И то и другое правильно. А как её зовут, Том?
— Когда-нибудь скажу, не теперь.
— Ладно, как знаешь. Только, если ты женишься, я останусь один-одинёшенек.
— Ну вот ещё! Переедешь к нам, и будешь жить у меня… А теперь довольно валяться — давай копать!
Они трудились, обливаясь потом, около получаса, но ничего не нашли; проработали ещё с полчаса, и опять никаких результатов. Наконец Гек сказал:
— Клады всегда зарывают так глубоко?
— Нет, не всегда — иногда! И не все. Мы, должно быть, не там копаем.
Выбрали другое местечко и снова принялись за работу. Теперь она шла не так быстро, но всё же кое-как подвигалась вперёд. Одно время оба рыли молча, затем Гек перестал копать, опёрся на лопату, вытер рукавом со лба крупные капли пота и сказал:
— Где мы будем копать потом, когда покончим с этой ямой?
— Я думаю, не попробовать ли старое дерево за домом вдовы на Кардифской горе?
— Что ж, место подходящее. А только как ты думаешь, Том, вдова не отберёт у нас клада? Ведь это её земля.
— Отобрать у нас клад! Пусть попробует! Нет уж, клад такое дело: кто его нашёл, тот и бери. А в чьей он земле, всё равно.
Гек успокоился. Они продолжали копать, но через некоторое время Гек сказал:
— Чёрт возьми, мы опять не на том месте копаем! Ты как думаешь, Том?
— Странно, Гек, ужасно странно, — я не понимаю… Случается, что и ведьмы мешают. По-моему, тут пакостят ведьмы.
— Ну вот ещё! Что за ведьмы? Разве у них есть сила днём?
— Верно, верно! Я и не подумал. А, теперь я понимаю, в чём дело! Вот дураки мы с тобой! Ведь надо сначала найти, куда тень от самой длинной ветки падает ровно в полночь, там и копать.
— Ах, чтоб его! Значит, всё это время мы работали как идиоты зря! А теперь, чёрт возьми, придётся ещё раз идти сюда ночью. Такую ужасную даль! Тебе можно будет выбраться из дому?
— Уж я выберусь. И потом, надо покончить сегодня же ночью, иначе, если кто увидит наши ямы, сейчас же догадается, что мы тут делали, и сам выроет клад.
— Ну что ж! Я опять приду к тебе под окно и мяукну.
— Ладно. Спрячем кирку и лопату в кустах…
Ночью, около двенадцати, мальчики пришли к тому же дереву и, усевшись в тени, стали ждать. Место было дикое, а время такое, которое издавна считается страшным. Черти шептались в шумящей листве, привидения прятались в каждом тёмном углу, издали глухо доносился собачий лай, сова отзывалась на него зловещими криками. Торжественность обстановки подавляла мальчиков, и они почти не разговаривали. Наконец они решили, что полночь уже наступила, заметили, куда падает тень, и принялись копать.
Их окрыляла надежда: работать стало куда интереснее, а усердие их возросло. Яма становилась всё глубже и глубже, и каждый раз, как кирка ударялась обо что-нибудь твёрдое, у них замирали сердца, но каждый раз их ждало новое разочарование. То был либо корень, либо камень.
Наконец Том сказал:
— Опять не то место, Гек. Опять мы работаем зря.
— Как — не то? Мы не могли ошибиться. Мы начали как раз там, куда упала тень.
— Знаю, но не в этом дело.
— А в чём же?
— А в том, что мы определили время наугад. Может, тогда было слишком рано или слишком поздно.
Гек выронил лопату.
— Верно… В том-то и штука. Ну, значит, это дело придётся оставить. Ведь точного времени нам всё равно никогда не узнать. И потом, очень уж страшно, когда кругом кишат ведьмы и черти. Так и кажется, что кто-то стоит за спиной, а я боюсь оглянуться, потому что, может, другие стоят впереди и только того и ждут, чтобы я оглянулся. У меня всё время мороз продирает по коже.
— И мне жутковато, Гек. Когда зарывают под деревом деньги, в ту же яму почти всегда кладут мертвеца, чтобы он приглядывал за ними.
— Господи помилуй!
— Да-да, кладут, — мне говорили об этом не раз.
— Ну, знаешь, Том, неохота мне возиться с мертвецами. Уж с ними всегда попадёшь в беду.
— Мне тоже неохота ворошить их, Гек. Вдруг тот, что здесь лежит, высунет свой череп и что-нибудь скажет!
— Да ну тебя, Том! Очень страшно!
— Ещё бы, Гек, я прямо сам не свой!..
— Слушай, Том, бросим-ка это место. Попытаем счастья где-нибудь ещё.
— Пожалуй, так будет лучше, — сказал Том.
— Куда же нам идти?
Том подумал немного и сказал:
— Вот туда, в тот дом, где привидения.
— Ну его! Не люблю привидений, Том. Они ещё хуже покойников. Покойник, может, и заговорит иногда, но не шатается вокруг тебя в саване и не заглядывает тебе прямо в лицо, не скрежещет зубами, как все эти привидения и призраки. Мне такой шутки не вынести, Том, да и никто не вынесет.
— Да, но ведь привидения шатаются только по ночам; днём они копать не помешают.
— Так-то оно так, но тебе ли не знать, что люди в этот дом и днём не заходят, не то что ночью!
— Люди вообще не любят ходить в те места, где кого-нибудь зарезали или убили. Но ведь в том доме и ночью ничего не видать — только голубой огонёк мелькнёт иногда из окошка, а настоящих привидений там нету.
— Ну, Том, если ты где увидишь голубой огонёк, можешь ручаться, что тут и привидение недалеко. Это уж само собой понятно: только привидениям они и нужны.
— Так-то оно так, но всё-таки они днём не разгуливают. Чего же нам бояться?
— Ладно, покопаем и там, если хочешь, только всё-таки опасно.
В это время они спускались с горы. Внизу посреди долины, ярко освещённый луной, одиноко стоял заколдованный дом; забор вокруг него давно исчез; даже ступеньки крыльца заросли сорной травой; труба обрушилась; в окнах не было стёкол, угол крыши провалился. Мальчики долго разглядывали издали покинутый дом, почти уверенные, что вот-вот в окне мелькнёт голубой огонёк; разговаривая шёпотом, как и следует разговаривать ночью в таком заколдованном месте, они свернули направо, сделали большой крюк, чтобы не проходить мимо страшного дома, и вернулись домой через лес, по другому склону Кардифской горы.
Глава XXVI СУНДУЧОК С ЗОЛОТОМ ПОХИЩЕН НАСТОЯЩИМИ РАЗБОЙНИКАМИ
На другой день, около полудня, мальчики опять пришли к сухому дереву взять кирку и лопату. Тому не терпелось отправиться в дом с привидениями. Гек тоже стремился туда, хотя, по правде говоря, не слишком ретиво.
— Слушай-ка, Том, — начал он, — ты знаешь, какой нынче день?
Мысленно пересчитав дни, Том испуганно взглянул на товарища:
— Ой-ой-ой! А я и не подумал, Гек.
— Я тоже не подумал, а сейчас меня словно ударило: ведь нынче у нас пятница.
— Чёрт возьми! Вот как надо быть осторожным, Гек! Нам, пожалуй, не уйти бы от беды, если б мы начали такое дело в пятницу.
— Нет, не пожалуй, а наверняка. Есть, может быть, счастливые дни, но, уж конечно, не пятница.
— Это всякому дурню известно. Не ты первый открыл это, Гек.
— Разве я говорю, что я первый? Да и не в одной пятнице дело. Мне сегодня ночью снился такой нехороший сон… крысы.
— Крысы — уж это наверняка к беде. Что же, они дрались?
— Нет.
— Ну, это ещё хорошо, Гек! Если крысы не дерутся, это значит беда либо будет, либо нет. Нужно только держать ухо востро — и авось не попадёмся. Оставим это дело: сегодня мы больше копать не будем, давай лучше играть. Ты знаешь Робина Гуда, Гек?
— Нет. А кто такой Робин Гуд?
— Один из величайших людей, когда-либо живших в Англии… ну, самый, самый лучший! Разбойник.
— Ишь ты, вот бы мне так! Кого же он грабил?
— Только епископов, да шерифов, да богачей, да королей. Бедных никогда не обижал. Бедных он любил и всегда делился с ними по совести.
— Вот, должно быть, хороший он был человек!
— Ещё бы! Он был лучше и благороднее всех на земле. Теперь таких людей уже нет — правду тебе говорю! Привяжи Робину Гуду руку за спину — он другой рукой вздует кого хочешь… А из своего тисового лука[42] он попадал за полторы мили в десятицентовую монетку.
— А что такое тисовый лук?
— Не знаю. Какой-то такой лук, особенный… И если Робин Гуд попадал не в середину монетки, а в край, он садился и плакал. И, конечно, ругался. Так вот мы будем играть в Робина Гуда. Это игра — первый сорт! Я тебя научу.
— Ладно.
Они до вечера играли в Робина Гуда, время от времени кидая жадные взгляды на заколдованный дом и обмениваясь мыслями о том, что будут они делать здесь завтра. Когда солнце начало опускаться к западу, они пошли домой, пересекая длинные тени деревьев, и скоро скрылись в лесу на Кардифской горе.
В субботу, вскоре после полудня, мальчики опять пришли к сухому дереву. Сперва они покурили и поболтали в тени, потом немного повозились в своей яме — без особой надежды на успех. Они были бы рады сейчас же уйти, но, по словам Тома, нередко бывает, что люди бросают копать, когда до клада остаётся всего пять-шесть дюймов, не больше, а затем приходит другой, копнёт разок лопатой — и готово: берёт себе всё сокровище. Но и на этот раз их усилия не увенчались успехом. Вскинув свои инструменты на плечо, мальчики ушли, сознавая, что они не шутили с судьбой, но добросовестно сделали всё, что требуется от искателей клада.
И вот наконец они подошли к дому, где живут привидения. Мёртвая тишина, царившая под палящим солнцем, показалась им зловещей и жуткой. Было что-то гнетущее в пустоте и заброшенности этого дома. Мальчики не сразу осмелились войти. Они тихонько подкрались к двери и, дрожа, заглянули внутрь. Перед ними была комната, заросшая густою травой, без пола, без штукатурки, с полуразвалившейся печью; окна без стёкол, разрушенная лестница; повсюду висели лохмотья старой паутины. Они бесшумно вошли, и сердца у них усиленно бились. Разговаривали они шёпотом, чутко прислушиваясь к малейшему шуму, напрягая мускулы, готовые, в случае чего, мгновенно обратиться в бегство.
Но мало-помалу они попривыкли, и страх сменился у них любопытством. С интересом осматривали они всё окружающее, восхищаясь своей собственной смелостью и в то же время удивляясь ей. Потом им захотелось заглянуть и наверх. Это означало некоторым образом отрезать себе отступление, но они стали подзадоривать друг друга, и, конечно, результат был один: они бросили в угол кирку и лопату и вскоре оказались на втором этаже. Там было такое же запустение. В одном углу они нашли чулан, суливший им какую-то тайну, но в чулане ничего не оказалось. Теперь они совсем приободрились и вполне овладели собой. Они уже хотели спуститься вниз и начать работу, как вдруг…
— Ш-ш! — произнёс Том.
— Что это? — прошептал Гек, бледнея от страха. — Ш-ш!.. Там… ты слышишь?
— Да. Ой, давай убежим!
— Тише! Не дыши! Подходят к двери…
Мальчики растянулись на полу, стараясь разглядеть что-нибудь сквозь щели в половицах и замирая от страха.
— Вот остановились… Нет… идут… Пришли. Тише, Гек, ни звука! Ох, и зачем я пошёл сюда!
Вошли двое. Оба мальчика сразу подумали:
«Ага, это глухонемой старик, испанец. Его в последнее время видели в городке раза два или три, а другого мы никогда не видали».
«Другой» был нечёсаный, грязный, оборванный, с очень неприятным лицом. «Испанец» был закутан в плащ. Такие плащи обычно носят в Америке испанцы. У него были косматые седые бакенбарды: из-под его сомбреро[43] спускались длинные седые волосы, глаза были прикрыты зелёными очками. Когда они вошли, «другой» говорил что-то «испанцу» тихим голосом. Оба сели рядом на землю, лицом к двери, спиной к стене, и говоривший продолжал свой рассказ. Теперь он держался уже чуть посмелее и стал говорить более внятно.
— Нет, — сказал он, — я всё обдумал, и мне это дело не нравится. Опасное.
— Опасное! — проворчал «глухонемой испанец», к великому удивлению мальчиков. — Эх ты, размазня!
При звуке этого голоса они вздрогнули и разинули рты. То был голос Индейца Джо! Наступило молчание. Затем Джо сказал:
— Уж на что было опасно последнее дельце, однако сошло же с рук.
— Нет, тут большая разница. То — далеко, вверх по реке, и никакого другого жилья по соседству. А раз дело провалилось, никто даже не узнает, что там работали мы.
— Куда опаснее приходить сюда днём: стоит только глянуть на нас, чтобы заподозрить худое!
— Знаю, знаю! Но ведь не было другого подходящего места, где мы могли бы укрыться после того дурацкого дела. Мне вообще неохота оставаться в этой хибарке. Я ещё вчера хотел выбраться, да нечего было и думать уйти незаметно, пока эти проклятые мальчишки копошились там, на горе, и весь дом был у них на виду.
«Проклятые мальчишки» снова затрепетали от страха, услышав эти слова. Какое счастье, что они побоялись начинать своё дело в пятницу и решили отложить его на день! В глубине души они жалели, что не отложили его на целый год.
Бродяги достали что-то съестное и начали завтракать. После долгого раздумья Индеец Джо сказал:
— Слушай, малый, ступай-ка ты вверх по реке… назад в свои места, и жди от меня вестей. А я рискну — пойду ещё раз в городок поглядеть. «Опасное» дело мы сварганим потом, когда я хорошенько всё выведаю и дождусь более удобной минуты. А потом в Техас! Смоемся туда оба!
На том и порешили. Вскоре и тот и другой стали зевать во весь рот, и метис сказал:
— Смерть спать хочется! Теперь твой черёд сторожить.
Он улёгся в высокой траве на полу и вскоре захрапел. Товарищ раза два толкнул его; храп умолк. А затем и стороживший стал клевать носом: голова его опускалась всё ниже и ниже. Теперь уже храпели оба.
Мальчики с облегчением перевели дух.
— Ну, теперь или никогда! — шепнул Том. — Идём!
— Не могу, — сказал Гек. — Если проснутся, я прямо умру!
Том уговаривал, Гек упирался. Наконец Том медленно и осторожно поднялся с пола и пошёл один. Но при первом же его шаге расхлябанные половицы так страшно заскрипели, что он присел на месте, полумёртвый от страха. Пробовать ещё раз он не стал. Минуты ползли нестерпимо медленно; мальчики лежали на полу, и им казалось, что время кончилось и даже вечность успела уже поседеть. Поэтому они очень обрадовались, когда увидели, что солнце наконец-то садится.
Один из спящих перестал храпеть. Индеец Джо приподнялся, сел, Огляделся вокруг, посмотрел на товарища, который спал, свесив голову на колени, угрюмо усмехнулся, потом толкнул его ногой и сказал:
— Вставай! Вот так сторож!.. Впрочем, ладно… Ничего не случилось.
— Да неужто я уснул?
— Так, немножко. Ну, брат, пора нам в путь. А что мы сделаем с нашим добром?
— Уж и не знаю. Оставить разве тут, как всегда? Ведь пока мы не соберёмся на юг, оно нам не понадобится. А таскать на себе шестьсот пятьдесят серебром — дело нелёгкое.
— Ладно… можно будет прийти ещё раз…
— Лучше всего ночью… как ходили всё время… так будет вернее.
— Да, но вот что, дружище: ведь мне, может быть, ещё не скоро представится случай обделать то дельце… мало ли что может случиться… денежки же у нас припрятаны плохо. Давай-ка мы лучше закопаем их… да поглубже.
— Правильно, — отозвался товарищ Индейца Джо и, перейдя через всю комнату, встал на колени, приподнял одну из внутренних плит очага и вытащил оттуда мешок, в котором что-то приятно зазвенело. Он вынул из мешка долларов тридцать для себя и столько же для метиса и передал ему весь мешок; тот стоял на коленях в углу и копал землю кривым ножом.
Мальчики вмиг позабыли все свои страхи и горести. Они жадными глазами следили за каждым движением бродяг. Экая удача! Такого богатства они и вообразить не могли. Шестьсот долларов! Этого достаточно, чтобы сделать богачами полдюжины мальчиков! Клад сам давался в руки без всяких хлопот. Им уже не придётся копать наугад, не зная наверное, там ли они копают, где нужно. Мальчики поминутно подталкивали друг друга локтями, и каждый понимал, что эти толчки означают: «Теперь ты небось рад, что мы забрались сюда?»
Нож метиса ударился обо что-то твёрдое.
— Эге! — сказал он.
— Что там такое? — спросил товарищ.
— Прогнившая доска… Нет, кажется, сундучок. Иди-ка сюда, помоги вытащить! Посмотрим, какого чёрта он тут… Погоди, не надо, — я пробил в нём дыру.
Он сунул руку в ящик и, вытащив её, сказал:
— Слушай-ка, да тут деньги!
Оба наклонились над пригоршней монет. Золото! Мальчики наверху были потрясены не меньше, чем сами бродяги, и испытывали такую же радость.
Товарищ Индейца Джо сказал:
— Тут нечего мешкать. Скорей за работу! Я только что видел там в углу, в траве, за печкой, заржавленную старую кирку.
Он побежал и принёс инструменты, оставленные мальчиками. Индеец Джо взял кирку, критически осмотрел её, покачал головой, что-то пробормотал про себя и принялся за работу.
Скоро сундук был вытащен. Он оказался не очень большим, весь окован железом и когда-то, пока годы не подточили его, был, должно быть, замечательно прочен.
Несколько минут бродяги в блаженном безмолвии созерцали сокровище.
— Ого-го, да здесь тысячи долларов, дружище! — сказал Индеец Джо.
— Говорят, в этих местах одно лето работала шайка Маррела, — заметил незнакомец.
— Знаю, — сказал Индеец Джо. — Похоже, что они и запрятали.
— Теперь тебе незачем затевать то дело.
Метис нахмурился.
— Ты меня не знаешь, — сказал он. — Да и о деле тебе известно не всё. Тут суть не в грабеже, а в мести — и в его глазах блеснуло злое пламя. — Мне будет нужна твоя помощь… А когда покончим это дело, тогда и в Техас! Ступай домой к своей Нэнси, к своим малышам и жди от меня вестей.
— Ладно, будь по-твоему. А с этим что мы сделаем? Опять закопаем?
— Да… (Наверху восторг и ликование.) Нет, клянусь великим Сахемом,[44] нет! (Глубокая скорбь наверху.) Я и забыл: ведь на кирке была свежая земля. (Мальчикам чуть не сделалось дурно от ужаса.) Откуда тут взялись эти кирка и лопата? Откуда на них свежая земля? Какие люди принесли их сюда и куда они девались, эти люди? Слыхал ты что-нибудь? Видел ты кого-нибудь? Как! Зарыть эти деньги опять, чтобы кто-нибудь пришёл, увидел, что земля разрыта, и выкопал их? Нет, этого не будет, нет-нет! Мы перенесём их ко мне в берлогу.
— Верно! Я об этом и не подумал! В которую? Номер первый?
— Нет, номер второй, под крестом. Первая не годится, чересчур на виду.
— Ладно. Уже темнеет, скоро можно будет отправляться.
Индеец Джо поднялся на ноги, подошёл к одному окну, потом к другому и осторожно выглянул наружу.
— Кто мог принести сюда эту кирку и лопату? — спросил он. — Как ты думаешь, уж не спрятались ли они там наверху?
У мальчиков захватило дух. Индеец Джо положил руку на нож, на минуту остановился в раздумье и потом направился к лестнице. Мальчики вспомнили о чулане, но не в силах были тронуться с места. Ступени лестницы заскрипели под тяжёлыми шагами метиса.
Леденящий ужас вывел мальчиков из оцепенения и пробудил в них решимость. Они хотели кинуться в чулан, как вдруг раздался треск гнилых подломившихся досок, и Индеец Джо свалился вниз вместе с обломками лестницы. Он вскочил на ноги со страшным ругательством, а его товарищ сказал:
— И чего было лезть? Сидят, ну и пусть сидят, — нам-то какое дело? Вздумают спрыгнуть сюда и убиться до смерти, — пожалуйста, милости просим! Через четверть часа, когда станет темно, пусть гонятся за нами по пятам — я и на это согласен. А по-моему, если и увидели нас, они наверняка решили, что мы дьяволы, или привидения, или ещё какая-нибудь чертовщина. Небось и сейчас ещё бегут без оглядки…
Джо поворчал немного, потом согласился с товарищем, что надо, не тратя времени, воспользоваться скудными остатками дня и собираться в путь. Вскоре они выскользнули из дому под покровом сгустившихся сумерек и направились к реке, унося с собой драгоценный сундучок.
Том и Гек встали еле живые, зато вздохнули с облегчением. Они долго смотрели им вслед сквозь широкие просветы между брёвнами. Пойти за ними? Ну нет! Уж и то хорошо, что удалось благополучно спуститься на землю, не сломав себе шеи, и направиться в город по другой дороге, через гору. По пути они мало разговаривали, так как бранили себя за то, что допустили оплошность: надо же было им притащить сюда кирку и лопату! Не будь этого, Индеец Джо никогда не подумал бы, что ему угрожает опасность. Он закопал бы серебро вместе с золотом до той поры, когда ему удастся осуществить свою «месть», а затем вернулся бы, и оказалось бы, к его великому горю, что сокровища и след простыл! Какая досада! И как это их угораздило притащить сюда кирку и лопату.
Они решили следить за «испанцем», когда тот снова появится в городе и станет искать случая, чтобы привести в исполнение свою жестокую месть. Может быть, таким образом им удастся узнать, где находится «номер второй». Вдруг у Тома мелькнула страшная мысль:
— Месть! А что, Гек, если это он хочет отомстить нам?
— Ох, не говори! — сказал Гек, замирая от страха.
Они долго толковали об этом и, пока дошли до города, решили, что метис мог иметь в виду и кого-нибудь другого или, по крайней мере, одного только Тома, так как только Том выступал против него на суде.
Мало, мало утешения доставила Тому мысль, что опасность грозит лишь ему одному! Он находил, что в компании было бы, пожалуй, приятнее.
Глава XXVII ДРОЖАТ И ВЫСЛЕЖИВАЮТ
Приключения этого дня терзали Тома всю ночь. Его сны были мучительны. Четыре раза он протягивал руку к сокровищу, и четыре раза оно исчезало, как только он пробуждался и начинал сознавать печальную действительность. Под утро, лёжа в постели и припоминая подробности великого приключения, он заметил, что оно представляется ему удивительно неясным, далёким, будто всё это случилось в другом мире или очень давно. Ему пришло в голову, что, может быть, всё приключение просто приснилось ему. Слишком уж много было там золота — такого множества наяву не бывает. Том никогда не видел даже пяти-десяти долларов зараз и, как всякий мальчик из небогатой семьи, воображал, что разговоры о «сотнях» и «тысячах» — одни разговоры, не больше, а на самом деле таких огромных денег и не бывает на свете. Он не мог себе ни на минуту представить, чтобы кто-нибудь на самом деле обладал такой большой суммой, как сто долларов чистой монетой. Если исследовать его представления о кладах, оказалось бы, что эти клады состоят из горсточки медных монет и из целой кучи туманных, великолепных, неосязаемых, недосягаемых долларов.
Но чем больше он думал, тем яснее и резче обрисовывались в его памяти подробности его приключения, и в конце концов он пришёл к мысли, что, пожалуй, это и не было сном. Следовало бы поскорее проверить и выяснить. Он наскоро позавтракал и отправился разыскивать Гека.
Гек сидел на планшире[45] барки, меланхолично болтая ногами в воде, и вид у него был очень унылый. Том решил не расспрашивать Гека. Пусть Гек сам заговорит о вчерашнем. Если не заговорит, значит, Том и вправду видел всё это во сне.
— Здорово, Гек!
— Здорово!
Минута молчания.
— Эх, Том, если бы мы оставили эту проклятую кирку и лопату под деревом, деньги были бы в наших руках! Жалость-то какая, а!
— Так, значит, это был не сон… нет, не сон! А я, пожалуй, даже хотел бы, чтобы это был сон. Честное слово, хотел бы!
— Какой там сон?
— Да я про это, про вчерашнее. Я уж было подумал, что мне всё приснилось.
— «Приснилось»! Не обломись под ним лестница, он бы тебе показал, какой это сон! Мне тоже всю ночь снилось, как этот чёрт, одноглазый испанец, гонялся за мною, чтобы ему провалиться сквозь землю!
— Нет, ему не надо проваливаться. Мы должны найти его и выследить деньги.
— Никогда нам его не найти. Такая удача бывает только раз: упустил — и пропало! Кончено. И знаешь: меня так и трясёт лихорадка, только я подумаю, что могу встретиться с ним!
— И меня тоже. А всё-таки я хотел бы его увидать и выследить, где у него номер второй.
— Номер второй? В том-то и дело. Я уже думал об этом, но ни до чего не додумался. Как по-твоему, что это такое?
— Не знаю. Что-то уж очень хитро… Слушай-ка, Гек, может быть, это номер дома?
— Пожалуй, и так. Да нет… конечно, нет. Где же в нашем городишке номера на домах?
— И правда. Дай-ка мне подумать… Знаешь, а может быть, это номер комнаты… где-нибудь в таверне?[46]
— Похоже на то! Ведь у нас только две таверны, так что проверить нетрудно.
— Подожди здесь, Гек. Я скоро вернусь.
И Том исчез. Он избегал показываться на улицах в обществе Гека. Он вернулся через полчаса. В лучшей таверне, куда он зашёл сначала, номер второй давно уже занимал один молодой адвокат. Он и сейчас живёт в этом номере. В таверне похуже номер второй был какой-то таинственный. Хозяйский сынишка рассказал Тому, что этот номер всё время заперт и что никто не входит туда и не выходит оттуда, кроме как ночной порой. Он не знал причины этой странности; она заинтересовала его, но не слишком, и недолго думая он решил, что во втором номере водятся привидения и черти. Между прочим, он заприметил, что прошлой ночью там был свет.
— Вот что я узнал, Гек. Наверно, это и есть тот номер, который нам нужен.
— Должно быть, так и есть, Том. Что же нам делать?
— Погоди, дай подумать.
Том думал долго и наконец сказал:
— Вот что надо сделать. Задняя дверь этого второго номера выходит в маленький переулок между таверной и старым кирпичным складом. Постарайся добыть как можно больше ключей, а я стащу все тёткины, и в первую же тёмную ночь мы попробуем открыть эту дверь. И не забудь выслеживать Индейца Джо — ведь, помнишь, он говорил, что придёт поглядеть, подходящее ли теперь время для мести. Как только увидишь его, ступай за ним следом, и, если он не войдёт в номер второй, значит, мы не угадали.
— Господи!.. Как же я пойду за ним один?
— Да ведь это ночью. Он, может быть, и не увидит тебя, а если увидит, ничего не подумает.
— Ну, если в тёмную ночь, я, пожалуй, пойду. Не знаю, не знаю… попробую…
— Если будет темно, и я пойду за ним, Гек. Он может решить, что задуманная месть не налаживается, да и явится сюда за деньгами.
— Правильно, Том, правильно! Я буду следить за ним, буду, честное слово!
— Вот это дело! Только смотри не оплошай, Гек. А уж я не подведу, будь покоен!
Глава XXVIII В БЕРЛОГЕ ИНДЕЙЦА ДЖО
В тот же вечер Том и Гек вышли на опасную работу. До девяти часов они слонялись у таверны. Один наблюдал издали за входной дверью, другой — за дверью, выходившей в переулок. В переулке никто не показывался; никто, похожий на «испанца», не входил в таверну и не выходил из неё. Ночь обещала быть ясной, и Том отправился домой, условившись с приятелем, что, если потемнеет, тот придёт под окно и мяукнет; тогда Том вылезет к нему из окна, и они пойдут пробовать ключи. Но по-прежнему было светло, и около двенадцати Гек покинул свой наблюдательный пост и отправился спать в пустую бочку из-под сахара.
Во вторник мальчикам опять не повезло. В среду тоже. Но в четверг ночь обещала быть тёмной. Том вовремя сбежал из дому, запасшись старым тёткиным жестяным фонарём и большим полотенцем, — чтобы прикрыть фонарь, если понадобится. Фонарь он спрятал в бочке, где ночевал Гек, и оба стали на стражу. За час до полуночи таверну закрыли и потушили огни (единственные в окрестности). «Испанец» так и не появился. Никто не входил в переулок и не выходил из него. Обстоятельства складывались благоприятно. Ночь была чёрная, и тишина нарушалась только отдалёнными я редкими раскатами грома.
Том достал фонарь, засветил его в бочке, тщательно обернул полотенцем, и оба смельчака во мраке подкрались к таверне. Гек остался на часах, а Том ощупью пробрался в переулок. Потом наступила пора тревожного ожидания, и Геку сделалось так тяжело, словно его — придавила гора. Он уже начал желать, чтобы перед ним во тьме блеснул свет; правда, это испугало бы его, но, по крайней мере, служило бы доказательством, что Том ещё жив. Прошло, казалось, несколько часов с тех пор, как Том исчез. «Конечно, ему сделалось дурно. А может быть, он умер. Может быть, сердце у него разорвалось от волнения и ужаса». Встревоженный Гек подходил всё ближе и ближе к переулку, пугая себя разными страхами и ежеминутно ожидая, что вот-вот разразится катастрофа, которая отнимет у него последнее дыхание. Отнимать, впрочем, оставалось немного: он еле дышал, а сердце у него колотилось так сильно, что могло разорваться на части.
Вдруг блеснул фонарь, и мимо промчался Том.
— Беги! — шепнул он. — Беги что есть силы!
Повторять было незачем: первого слова оказалось вполне достаточно. Прежде чем Том повторил это слово, Гек уже мчался со скоростью тридцати или сорока миль в час. Мальчики ни разу не остановились, пока не достигли сарая заброшенной бойни в нижней части города. Не успели они укрыться в нём, как разразилась гроза, хлынул дождь. Отдышавшись немного, Том начал рассказывать:
— Ох, и страшно же было, Гек! Я попробовал два ключа, старался действовать как можно тише, но поднялся такой скрежет, что я еле дышал от страха. Ключ ни за что не хотел поворачиваться. Вдруг я, сам не замечая, что делаю, схватился за ручку и дверь распахнулась! Она не была заперта! Я вбегаю туда, сбрасываю полотенце и…
— Что?.. Что же ты увидел, Том?
— Гек, я чуть было не наступил на руку Индейца Джо!
— Не может быть!
— Да! Лежит на полу и спит как убитый, раскинув руки, всё с тем же пластырем на глазу.
— Господи, что же ты сделал? Он проснулся?
— Нет, не шелохнулся. Пьян, должно быть. Я схватил полотенце — и бежать!
— Вот уж я бы не подумал о полотенце, ей-богу!
— А я поневоле подумал: мне бы; влетело от тётки, если бы я потерял полотенце.
— Слушай, Том, а сундучок ты видел?
— Гек, у меня не было времени глядеть по сторонам. Ничего я не видел — ни сундучка, ни креста. Ничего, только бутылку и жестяную кружку на полу возле Индейца Джо. И ещё я видел в комнате два бочонка и множество бутылок. Теперь ты понимаешь, какой там водится дух.
— Какой же?
— Спиртной! Может быть, во всех тавернах общества трезвости имеется такая комната с «духом»? Как ты думаешь, Гек?
— Пожалуй, что и так. Подумать только!.. Слушай-ка, Том, а ведь теперь самое время взять сундучок, если Индеец Джо лежит пьяный.
— Что ж! Поди попробуй!..
Гек вздрогнул:
— Нет… неохота…
— И мне неохота, Гек. Рядом с ним всего одна бутылка. Этого мало. Будь три — другое дело. Тогда он был бы достаточно пьян, и я, пожалуй, пошёл бы…
Наступило долгое молчание. Оба мальчика глубоко задумались. Затем Том сказал:
— Знаешь что, Гек, не будем и пробовать, пока не узнаем наверное, что Индейца Джо в этой комнате нет. А то очень уж страшно. Если мы будем следить за ним каждую ночь, когда-нибудь мы наверняка увидим, как он выходит на улицу, и тогда быстрее молнии подцепим его сундучок.
— Ладно, согласен. Я готов сторожить нынче ночью и каждую ночь до самого утра, только остальную работу ты уж возьми на себя.
— Ладно, возьму. От тебя же требуется только одно: в случае чего, ты рысью пробежишь по Гупер-стрит и мяукнешь у меня под окном. А если я буду крепко спать, бросишь горсть песку мне в окно, и я тотчас же выбегу.
— Ладно! Договорились.
— Ну, Гек, гроза прошла, я побегу домой. Скоро начнёт светать — часа через два взойдёт солнце. Ты там пока посторожи — ладно?
— Хорошо! Уж если я обещал, будь покоен. Целый год буду бродить по ночам около этой таверны. Весь день буду спать, а всю ночь сторожить.
— Это правильно. А где ты будешь спать?
— На сеновале у Бена Роджерса. Он ничего, позволяет. Их негр, дядя Джек, тоже не гонит меня. Я таскаю воду для Джека, когда ему требуется. Иной раз попросишь у него есть — он даёт, когда сам не сидит без хлеба. Замечательно добрый негр! Любит меня за то, что я никогда не задираю нос перед ним, перед негром. Случается, я даже ем вместе с н и м. Только ты, пожалуйста, никому не рассказывай. Мало ли чего не сделаешь с голоду! Натворишь такого, что и не снится тебе, когда у тебя сытый желудок.
— Ну, если днём я обойдусь без тебя, Гек, я не стану тебя будить… Незачем тормошить тебя зря. А ночью в любое время, чуть что заметишь, сейчас же ко мне — и мяукни.
Глава XXIX ГЕК СПАСАЕТ ВДОВУ ДУГЛАС
Первое, что Том услыхал утром в пятницу, была радостная весть: семейство судьи Тэчера вернулось вчера вечером в город. На время Индеец Джо и сокровище отступили для него на второй план, и первое место в его мыслях заняла Бекки. Они встретились и чудесно провели время, бегая вместе с другими школьниками наперегонки, играя в прятки. В конце дня Том, к довершению всех радостей, узнал ещё одну приятную новость: Бекки так замучила свою мать, приставая к ней с просьбами назначить на завтра день давно обещанного пикника, что та наконец согласилась. Девочка не помнила себя от восторга. Том тоже был очень счастлив. Ещё до заката солнца были разосланы приглашения, и детвора всего города стала лихорадочно готовиться к празднику, заранее предвкушая удовольствие. Том был так возбуждён, что не спал до глубокой ночи, и всё надеялся, что Гек вот-вот мяукнет у него под окном и что ему удастся тотчас же раздобыть сокровище, чтобы завтра поразить им Бекки и всех участников пикника. Но надежда его не оправдалась: в эту ночь сигнала не было.
Пришло утро, и часам к десяти весёлая, неугомонная компания собралась в доме судьи Тэчера. Все приготовления были закончены. Взрослые не имели тогда обыкновения омрачать пикники своим присутствием. Считалось, что дети будут в безопасности под крылышком нескольких девиц лет восемнадцати и юношей лет двадцати трёх. Для пикника был нанят старый пароходик, обычно служивший паромом, и скоро вся весёлая толпа двинулась по главной улице, нагружённая корзинами с провизией. Сид был болен и не мог участвовать в общем веселье; Мери осталась дома, чтоб ему не было скучно.
Миссис Тэчер на прощание сказала Бекки:
— Раньше ночи тебе не вернуться домой. Пожалуй, тебе лучше будет переночевать у какой-нибудь подруги, что живёт неподалёку от пристани.
— Я, мамочка, пойду ночевать к Сюзи Гарпер.
— Отлично! Будь же умницей и веди себя там хорошо!
Когда они вышли, Том сказал Бекки:
— Слушай-ка, знаешь, что мы сделаем? Чем идти к Джо Гарперу, мы взберёмся на гору и переночуем у вдовы Дуглас. У неё будет сливочное мороженое. У неё чуть не каждый день мороженое — целые горы! Она очень нам обрадуется, честное слово!
— Вот будет весело!
Потом Бекки на секунду задумалась и спросила:
— Но что скажет мама?
— А откуда она узнает.
Девочка опять подумала и решительно выговорила:
— Это, собственно, нехорошо… но…
— Ну, какое там «но»? Вздор! Мама твоя не узнает… Да и что тут дурного? Ей ведь нужно, чтобы с тобой ничего не случилось. Она и сама послала бы тебя туда, если б это пришло ей в голову. Верно тебе говорю!
Радушное гостеприимство вдовы Дуглас оказалось соблазнительной приманкой. Мечта о мороженом и уговоры Тома восторжествовали над колебаниями девочки. Было решено никому не говорить об этой вечерней программе. Но тут Тому пришло в голову, что Гек как раз нынче ночью может прийти к нему под окно, и эта мысль чуть было не испортила ему предстоящего праздника. Всё же он не мог отказаться от намерения попировать у вдовы. «Да и зачем отказываться? — рассуждал он сам с собой. — В прошлую ночь не было сигнала, почему же в нынешнюю будет?» Нынче вечером Тома наверняка ожидает веселье, а клад будет ли, нет ли, — ещё неизвестно! Как и всякий мальчишка, он без дальних размышлений решил уступить более сильному соблазну — и прогнал от себя на весь день мысль о сундучке с деньгами.
В трёх милях от городка вниз по течению пароходик остановился против поросшей лесом долины и причалил к берегу. Толпа хлынула на берег, и скоро лесные дали и скалистые вершины холмов огласились криками и смехом. Были испробованы все разнообразные способы выбиться из сил и хорошенько вспотеть. Наконец весёлая компания, вооружившись колоссальным аппетитом, сбежалась к своей стоянке и стала жадно истреблять привезённые вкусные яства. За пиршеством последовал освежительный отдых: все уселись в тени развесистых дубов и принялись разговаривать. Немного погодя раздался крик:
— Кто хочет в пещеру?
Оказалось, хотят все. Достали пачки свечей и тотчас же всей оравой начали карабкаться на гору. Вход в пещеру был довольно высоко на склоне. Он напоминал букву «А». Массивная дубовая дверь была открыта.
Вошли в небольшую прихожую, холодную, как погреб. Сама природа воздвигла её стены из крепкого известняка, покрытого каплями сырости, словно холодным потом. Стоять в этой чёрной тьме и смотреть на зелёную долину, залитую солнцем, — тут была и поэзия и тайна. Но скоро впечатление ослабело, все стали озорничать и баловаться, как прежде. Чуть только кто-нибудь зажигал свечу, все гурьбой бросались на него, начиналась борьба, владелец свечи храбро защищался, но свечу очень скоро выбивали у него из рук или просто тушили. Во мраке раздавались взрывы хохота, и возня начиналась снова. Впрочем, всему на свете бывает конец. Мало-помалу процессия стала спускаться гуськом по крутому склону главной галереи. Вереница мерцающих огней тускло озарила скалистые стены чуть не до самого верху, где они соединялись в виде свода на высоте шестидесяти футов. Этот главный ход был не шире восьми или десяти футов. На каждом шагу и влево и вправо от него ответвлялись боковые, ещё более узкие ходы, ибо пещера Мак-Дугала была не что иное, как обширный лабиринт извилистых и кривых коридоров, сходившихся и снова расходившихся, но не имевших выхода. Говорили, что в этой путанице трещин, расселин и пропастей можно было бродить дни и ночи и всё же не найти выхода, можно было спускаться всё глубже и глубже и всюду находить одно и то же — лабиринт под лабиринтом, и не было им конца. Ни один человек не мог похвалиться, что «знает» пещеру. Узнать её было невозможно. Большинство молодых людей знали в ней только малый участок; дальше никто заходить не отваживался. Том Сойер знал пещеру не хуже и не лучше других.
Процессия прошла около трёх четвертей мили по главной галерее, а затем отдельные пары и группы стали сворачивать в боковые ходы, бегать по мрачным коридорам, неожиданно налетая друг на друга в тех местах, где коридоры сходились. Здесь можно было потерять друг друга из виду на целые полчаса, не уходя за пределы «известной» части пещеры.
Мало-помалу одна группа за другой выбегала к выходу; запыхавшиеся, весёлые, закапанные с ног до головы свечным салом, вымазанные глиной, все были в полном восторге от удачно проведённого дня. С изумлением обнаружили, что в разгаре веселья никто не заметил, как идёт время и надвигается вечер. Пароходный колокол звонил уже полчаса, призывая пассажиров обратно. Звон показался таким романтическим: он достойно завершал этот радостный день, полный необыкновенных приключений. Все были очень довольны. Когда нагруженный буйной ватагой пароходик снова отчалил от берега и побежал по реке, никто, кроме капитана, не пожалел о потерянном времени.
Гек уже был на своём посту, когда пароходные огни, мерцая, проплыли мимо пристани. С пароходика до него не доносилось ни малейшего шума: молодёжь присмирела и стихла, как это всегда бывает с людьми, утомлёнными до смерти. Сначала Гек удивился немного, что это за судно и почему оно не остановилось у пристани, но потом забыл о нём и сосредоточил все свои мысли на предстоящей задаче. Ночь становилась облачной и тёмной. Пробило десять, стук колёс умолк. Разбросанные кое-где огоньки гасли один за другим, исчезли последние пешеходы. Городок погрузился в дремоту, и маленький сторож остался наедине с тишиной и призраками. Пробило одиннадцать. В таверне погасли огни. Теперь мрак был повсюду. Гек ждал, как ему казалось, мучительно долго, но ничего не случилось. В душу его закралось сомненье. К чему всё это? В самом деле, к чему? Не лучше ли махнуть на всё рукой и уйти спать?
Вдруг до его слуха донёсся какой-то шум. Он мгновенно насторожился. Дверь, выходившая в переулок, тихо закрылась. Гек бросился к углу кирпичного склада. Через минуту мимо него прошмыгнули два человека; у одного как будто было что-то под мышкой. Должно быть, сундучок! Значит, они хотят унести сокровище куда-то в другое место. Что же теперь делать? Позвать Тома? Это было бы глупо: они за это время успеют уйти с сундучком, а потом и следов не отыщешь. Нет, он пойдёт за ними и выследит их, — в такую темень где им заметить его! Гек вышел из засады и пошёл за ними, неслышно, как кошка, ступая босыми ногами и держась поодаль, но на таком расстоянии, чтобы бродяги не могли скрыться из виду.
Сначала они шагали по улице, которая шла вдоль реки, миновали три квартала, свернули на Кардифскую гору. По этой тропинке они, и стали взбираться. На склоне горы, как раз на полдороге, они миновали усадьбу старика валлийца и, не замедляя шага, поднимались всё выше и выше. «Ага, — подумал Гек, — они хотят закопать деньги в старой каменоломне». Но и там они не остановились. Они шли выше, к вершине горы; потом свернули на узкую тропку, вьющуюся между кустами сумаха[47] и сразу пропали во тьме. Гек зашагал быстрее, и ему удалось подойти к ним довольно близко, так как видеть его они не могли. Сначала он бежал рысью, потом немного замедлил шаг, боясь, как бы в темноте не наткнуться на них, прошёл ещё немного, потом остановился совсем. Прислушался — ни звука; только и слышно, как стучит его сердце. Сверху, с горы, до него донеслось уханье совы — звук, не предвещающий добра. Но шагов не слышно. Чёрт возьми! Неужто всё пропало? Гек уже собирался дать тягу, как вдруг в трёх шагах от него кто-то кашлянул. Сердце у Гека ушло в пятки, но он пересилил страх и остался на месте, трясясь всем телом, словно все двенадцать лихорадок напали на него зараз; он чувствовал сильную слабость и боялся, что вот-вот упадёт. Теперь ему стало ясно, где он находится: он стоит у забора, окружающего усадьбу вдовы Дуглас, в пяти шагах от перелаза.
«Ладно, — подумал он, — пусть закапывают здесь — будет легко отыскать».
Затем послышался тихий голос — голос Индейца Джо:
— Чёрт бы её побрал! У неё, кажется, гости, — в окнах огни, хоть и поздно.
— Никаких огней я не вижу.
Это был голос того незнакомца, которого они видели в заколдованном доме. Сердце у Гека похолодело от ужаса: так вот кому они собираются мстить! Первой мыслью его было пуститься наутёк. Потом он вспомнил, что вдова Дуглас нередко бывала добра к нему, а эти люди, быть может, идут убивать её. Значит, надо поскорее предупредить вдову Дуглас. Но нет, у него не хватает духу, да и никогда не хватит: ведь они могут заметить его и схватить. Всё это и ещё многое другое пронеслось у него в голове, прежде чем Индеец Джо успел ответить на последние слова незнакомца.
— Тебе кусты заслоняют свет. Подвинься сюда… Вот так. Теперь видишь?
— Да. У неё и в самом деле гости. Не лучше ли бросить это дело?
— Бросить, когда я навсегда уезжаю отсюда! Бросить, когда, может быть, другого такого случая вовек не представится! Говорю тебе ещё раз: мне её денег не надо — можешь взять их себе. Но её муж обидел меня… не раз обижал… он был судья и посадил меня в тюрьму за бродяжничество. Но это не всё, нет, не всё! Это только самая малая часть. Он велел меня высечь! Да, высечь плетьми перед самой тюрьмой, как негра! И весь город видел мой позор. Высек меня, понимаешь? Он перехитрил меня, умер, но я расквитаюсь с ней!
— Не убивай её! Слышишь? Не надо!
— Убить её? Разве я говорил, что убью? Его я убил бы, будь он здесь, но не её. Если хочешь отомстить женщине, незачем её убивать. Изуродуй её, вот и всё! Вырежь ей ноздри, обруби уши, как свинье!
— Боже, да ведь это…
— Тебя не спрашивают! Лучше помалкивай! Целее будешь. Я привяжу её к кровати. А помрёт от потери крови — тут уж вина не моя. Плакать не стану, пускай околеет! Ты, приятель, поможешь мне по дружбе — затем ты сюда и пришёл; одному мне, пожалуй, не справиться. А струсишь — я прикончу тебя! Понимаешь? А придётся убить тебя — я убью и её, и тогда уж никто не узнает, чьих рук это дело!
— Ну что ж! Делать так делать. Чем скорее, тем лучше… меня всего так и трясёт.
— Сейчас? При гостях? Ох, гляди у меня, ты что-то лукавишь! Нет, мы подождём, пока в доме потушат огни. Спешить некуда.
Гек почувствовал, что теперь должна наступить тишина, ещё более жуткая, чем этот разговор, о кровавом злодействе. Поэтому он затаил дыхание и робко шагнул назад, осторожно нащупывая ногой, куда бы её поставить, для чего ему пришлось балансировать вправо и влево на другой ноге, и при этом он так пошатнулся, что чуть не упал. С такими же предосторожностями и с таким же риском он сделал ещё шаг назад, потом ещё и ещё.
Вдруг у него под ногой хрустнул сучок. Гек затаил дыхание и остановился, прислушиваясь. Ни звука, глубокая тишина. Обрадованный, он осторожно повернулся между двумя сплошными рядами кустов, как поворачивается корабль в узком проливе, и быстро, но бесшумно зашагал прочь. Добравшись до каменоломни, он почувствовал себя в безопасности и пустился бежать со всех ног. Всё ниже и ниже под гору, и вот наконец он добежал до усадьбы валлийца и принялся барабанить в его дверь кулаками. Из окон высунулись головы старика фермера и его двух дюжих сыновей.
— Что за шум? Кто там стучит?
— Впустите скорее!
— Кто ты такой?
— Гекльберри Финн.
— Чего надо?
— Я вам всё скажу…
— Гекльберри Финн! Вот так здорово! Не такое это имя, чтобы перед ним раскрывались все двери. Но всё-таки, ребята, впустите его. Посмотрим, какая случилась беда.
— Пожалуйста, только: никому не говорите, что это я вам сказал, — таковы были первые слова Гека, когда ему отперли дверь, — не то мне несдобровать! Меня убьют! Но вдова жалела меня иногда, и я хочу вам рассказать всё как есть. И расскажу, если вы обещаете никому не говорить, что это я…
— Честное слово, у него есть что сказать, это он неспроста! — воскликнул старик. — Ну, малый, выкладывай, что знаешь, мы никому… ни за что!
Через три минуты старик и его сыновья, захватив с собой надёжное оружие, были уже на вершине холма и, взведя курки, тихонько пробирались по тропинке между кустами сумаха.
Гек довёл их до этого места, но дальше не пошёл. Он притаился за большим камнем и начал прислушиваться.
Наступала томительная, тревожная тишина. Вдруг послышался треск выстрелов и чей-то крик. Гек не ждал продолжения. Он вскочил на ноги и помчался вниз без оглядки.
Глава XXX ТОМ И БЕККИ В ПЕЩЕРЕ
В воскресенье утром, чуть только стала заниматься заря, Гек в потёмках взобрался на гору и тихонько постучался к старику валлийцу. Все обитатели дома спали, но спали тревожным сном, потому что не успели ещё успокоиться после ночных треволнений. Из окна спросили:
— Кто там?
Гек негромко ответил испуганным голосом:
— Пожалуйста, впустите! Это всего только я, Гек Финн.
— Перед этим именем, мальчик, дверь нашего дома всегда открыта и днём и ночью. Добро пожаловать!
Странно прозвучали эти слова в ушах маленького бродяги. Никогда ещё он не слыхал таких приятных речей. Он даже и припомнить не мог, чтобы кто-нибудь сказал ему: «Добро пожаловать!» Дверь тотчас отперли. Гека усадили на стул, а старик и его молодцы-сыновья стали торопливо одеваться.
— Ну, дружок, я думаю, ты здорово голоден. Завтрак будет скоро готов, чуть только взойдёт солнце, — и горячий завтрак, будь покоен! А я и мои мальчики думали, что ты переночуешь у нас.
— Я страсть перепугался, — объяснил Гек, — и дал стрекача. Как вы начали палить из пистолетов, я побежал что есть духу и целых три мили бежал без передышки. А теперь я пришёл разузнать насчёт этого дела, и нарочно до свету, чтобы не наткнуться на них, на чертей, даже если они уже мёртвые.
— Бедняга, тебе худо пришлось в эту ночь: вид у тебя очень измученный. Ну не беда! Вот постель; как позавтракаешь, так и ложись… Нет, милый, они не убиты, — и это нам очень досадно. Видишь, как оно вышло. По твоему описанию мы знали, где их захватить; подкрались к ним близко-близко, — ведь на этой тропинке между кустами сумаха темно, как в погребе. Остановились так шагах, должно быть, в пятнадцати, и вдруг… — что ты думаешь? — вдруг я чувствую, что вот-вот чихну. Экая, ей-богу, беда! Я и так и сяк, всё стараюсь сдержаться, но ничего не поделаешь — чихнул-таки что есть мочи. А шёл я впереди, держа пистолет наготове. Только я чихнул, мошенники юркнули с тропинки в кусты, в кустах захрустели ветки, а я кричу своим: «Пали, ребята!» И стреляю туда, где хрустело. Мальчики тоже. Но негодяи пустились наутёк через лес. Мы за ними. Мне сдаётся, что мы промахнулись. Перед тем как пуститься бежать, они тоже выпустили в нас по заряду, но пули просвистели, не сделав вреда. Едва только затихли их шаги, мы прекратили погоню, сбежали с горы и подняли на ноги полицейских. Те собрали людей и оцепили берег; а как только рассветёт, шериф сделает облаву в лесу. Мои мальчики тоже пойдут. Хорошо бы нам знать, каковы эти разбойники с виду, — нам было бы легче искать. Но ведь ты, пожалуй, и не рассмотрел их в потёмках?
— Нет, я заприметил их в городе и пошёл вслед за ними.
— Отлично! Так говори, говори же, дружок, какие они из себя?
— Один из них старый глухонемой испанец, которого видели в нашем городе раз или два, а другой — такой жалкий оборванец, этакая мерзкая рожа…
— Довольно, милый… Мы знаем обоих. Встретили их как-то в лесу; они шатались у дома вдовы, а как завидели нас — наутёк!.. Ну, ребята, живо к шерифу, позавтракать успеете и завтра!
Сыновья валлийца сейчас же ушли. Когда они направились к двери, Гек кинулся за ними и крикнул:
— Пожалуйста, ни слова о том, что я видел их!
— Ладно. Не хочешь — не скажем. Но ведь тебя только похвалили бы за это.
— Ой, нет-нет! Ради бога, ни слова!
Когда молодые люди ушли, старик обратился к Геку:
— Они не скажут, и я не окажу. Но почему ты не хочешь, чтобы об этом узнали?
Гек не стал вдаваться в объяснения, но только твердил, что он слишком уж много знает об одном из этих людей и не хочет, чтобы тот знал, что он знает, и что если тот узнает, то непременно убьёт его.
Старик ещё раз обещал хранить тайну, но спросил:
— Как это тебе пришло в голову следить за ними, дружок? Подозрительны они тебе показались, что ли?
Гек молчал, придумывая подходящий ответ. И наконец сказал:
— Видите ли, я ведь тоже бродяга — по крайней мере, так все говорят, и я не могу ничего возразить против этого. Вот я иной раз и не сплю по ночам, всё хожу по улицам да думаю, как бы начать жить по-другому. Так было и в прошлую ночь. Уснуть я не мог, ну и бродил по улице, раздумывая об этих делах. А была уже полночь. Прохожу мимо старого кирпичного склада, что рядом с таверной «Трезвость», стал у стены и думаю… И вдруг вижу — бегут мимо эти два человека и что-то несут под мышкой. Я так и решил, что краденое. Один курил, и другой захотел прикурить — вот они и остановились в двух шагах от меня. Сигары осветили их лица, и я признал в высоком глухонемого испанца — седые бакенбарды и пластырь на глазу. А другой был этот насупленный дьявол в лохмотьях.
— Неужели при свете сигары ты мог разглядеть его лохмотья?
Гек на минуту смутился.
— Уж не знаю, но, должно быть, разглядел…
— Ну, и что ж? Они пошли, а ты…
— А я за ними… да… Так оно и вышло. Хотелось узнать, что они такое затевают. Я проследил их до самого забора вдовы — до перелаза… Там я стал в темноте и слушаю: тот, в лохмотьях, заступается за вдову, а испанец божится, что изуродует ей всё лицо… Ну, да ведь это я рассказал и вам и вашим обоим…
— Как! Глухонемой говорил?
Гек снова сделал страшную ошибку. Он всячески старался, чтобы старику даже и в голову не могло прийти, кто такой этот «испанец», но его язык как будто поставил себе специальной задачей устраивать ему всякие каверзы. Гек несколько раз пытался загладить свою оплошность, но старик не сводил с него глаз, и он делал промах за промахом. Наконец валлиец сказал:
— Слушай, милый, меня ты не бойся. Я ни за что на свете не трону волоска на твоей голове. Нет, я буду защищать тебя… да, защищать! Этот испанец не глухонемой. Ты нечаянно проговорился, и теперь уж ничего не поделаешь. Ты что-то знаешь об этом испанце и не хочешь сказать. Доверься мне, скажи. И будь покоен — я тебя не выдам.
Гек посмотрел в честные глаза старика, потом нагнулся и шепнул ему на ухо:
— Это не испанец, это Индеец Джо!
Валлиец чуть не свалился со стула.
— Ну, теперь дело ясное, теперь я понимаю. Когда ты говорил про обрубленные уши и вырезанные ноздри, я был уверен, что ты это сам выдумал, для красоты, потому что белые люди таким манером не мстят. Но индеец! Это, конечно, совсем другое дело.
За завтраком беседа продолжалась, и, между прочим, старик сказал, что, перед тем как уйти, он с сыновьями зажёг фонарь и осмотрел перелаз на заборе и землю вокруг перелаза, нет ли где пятен крови. Пятен они не нашли, но захватили большой узел с…
— С чем?
Если бы слова были молнией, и тогда они не быстрее сорвались бы с побелевших губ Гека. Глаза у него округлились, дыхание перехватило, и он уставился на старика в ожидании ответа. Валлиец, в свою очередь, смотрел на него три секунды… пять секунд… десять… и потом ответил:
— Узел с воровским инструментом… Но что с тобой?
Гек откинулся на спинку кресла, редко, но глубоко дыша, чувствуя несказанную радость. Валлиец серьёзно, с любопытством смотрел на него и через некоторое время сказал:
— Да, связку воровских инструментов. Это как будто очень тебя успокоило? Но чего ты боялся? Что же, по-твоему, мы должны были найти?
Гек был прижат к стене. Старик не сводил с него испытывающих глаз. Мальчик отдал бы всё на свете, чтобы придумать подходящий ответ, но ему ничего не приходило в голову, а пытливый взгляд старика всё глубже проникал ему в душу. Ответ подвернулся нелепый, но взвешивать слова было некогда, и Гек еле слышно пролепетал наудачу:
— Я думал, что вы нашли… учебники для воскресной школы.
Бедный мальчик был слишком подавлен и не мог улыбнуться, но старик расхохотался так громко и весело, что у него заколыхалось всё тело, и в конце концов, нахохотавшись вдоволь, объяснил, что такой здоровый смех — это всё равно, что деньги в кармане, потому что он избавляет от расходов на доктора.
— Бедняга! — прибавил он. — Ты такой замученный и бледный… тебе, должно быть, сильно нездоровится. Оттого ты и мелешь чушь. Ну, да не беда, всё пройдёт. Отдохнёшь, выспишься… как рукой снимет.
Геку досадно было думать, что он оказался таким простофилей и навлёк на себя подозрение своей неуместной тревогой — ведь понял же он из разговора злодеев, там, у перелаза, что в узле, который они несли из харчевни, не было никакого сокровища. Впрочем, это была только догадка, наверняка он этого её знал. Вот почему упоминание о находке так взволновало его.
Но в общем, он был даже рад, что произошёл этот случай. Теперь он наверное знал, что в найденном узле нет сокровища. Значит, всё превосходно и ничего не потеряно. Да, дела как будто складываются очень неплохо: сундучок, должно быть, до сих пор остаётся в номере втором, обоих негодяев поймают сегодня же и посадят в тюрьму, а нынче ночью он и Том без хлопот, никого не боясь, пойдут и захватят всё золото.
Только что они кончили завтракать, как в дверь постучали. Гек поспешно спрятался, так как совсем не желал, чтобы кто-нибудь мог подумать, что он имеет хоть какое-нибудь отношение к ночному событию. Валлиец ввёл в комнату несколько леди и джентльменов, в том числе и вдову Дуглас, и заметил, что на горе там и сям мелькают группы горожан, спешивших поглядеть на место происшествия. Следовательно, — новость уже стала известна.
Валлийцу пришлось рассказать посетителям историю этой ночи. Вдова стала благодарить его за то, что он спас ей жизнь.
— Ни слова, сударыня! Есть другой человек, которому вы, быть может, ещё больше обязаны, чем мне и моим сыновьям, но он не позволяет мне назвать его имя. Нам и в голову не пришло бы пойти к тому месту, если бы не он.
Разумеется, слова эти возбудили такое любопытство, что даже главное событие отступило на задний план. Но валлиец только разжёг любопытство гостей и не выдал им тайны. Благодаря этому их любопытство скоро передалось всему городу. Когда гости узнали остальные подробности, вдова сказала:
— Я уснула, читая в кровати, и всё время спокойно спала. Почему вы не пришли и не разбудили меня?
— Решили, что не стоит, — ответил валлиец. — Думали так: негодяи едва ли вернутся — ведь они остались без инструментов и не могли взломать дверь. Зачем же было будить вас? Чтобы напугать до смерти? Кроме того, три моих негра до утра простояли на страже возле вашего дома. Вот только сейчас воротились.
Пришли новые посетители, и в течение двух часов старик только и делал, что повторял свой рассказ.
В это утро по случаю каникул в воскресной школе не было обычных занятий, но всё-таки все спозаранку собрались в церковь. Повсюду только и говорили, что о страшном ночном событии. Все уже знали, что полиция до сих пор не напала на след злоумышленников. По окончании проповеди жена судьи Тэчера нагнала миссис Гарпер, двинувшуюся вместе с толпою к выходу, и сказала:
— Что же, моя Бекки так и проспит у вас весь день? Впрочем, я знала, что она до смерти устанет…
— Ваша Бекки?
— Да. (Испуганный взгляд.) Разве она не ночевала у вас?
— Нет.
Миссис Тэчер побледнела и опустилась на церковную скамью. Как раз в это время мимо проходила тётя Полли, о чём-то оживлённо беседуя с приятельницей.
— Здравствуйте, миссис Тэчер! — сказала тётя Полли. — Доброго утра, миссис Гарлер! А у меня мальчишка опять потерялся. Должно быть, эту ночь он спал у вас… или у вас… а теперь боится прийти в церковь — знает, что ему будет хорошая взбучка.
Миссис Тэчер слабо покачала головой и ещё больше побледнела.
— У нас его не было, — сказала миссис Гарпер, тоже начиная беспокоиться.
Лицо тёти Полли выразило явную тревогу.
— Джо Гарпер, ты видел нынче утром моего Тома? — спросила она.
— Нет.
— А когда ты видел его в последний раз?
Джо попытался припомнить, но не мог сказать наверняка. Выходившие из церкви стали останавливаться. В толпе начались перешёптывания. Тень беспокойства появилась на каждом лице. Детей и младших учителей засыпали вопросами. Оказалось, никто не заметил, были ли Том и Бекки на пароходике когда все возвращались домой: было ведь очень темно; никому и в голову не пришло проверить, все ли в сборе. Наконец один юноша брякнул, что, возможно, они остались в пещере. Миссис Тэчер упала в обморок. Тётя Полли зарыдала, ломая руки.
Тревожная весть переходила из уст в уста, от толпы к толпе, из улицы в улицу. Через пять минут уже трезвонили во все колокола и весь город был на ногах! Происшествие на Кардифской горе мгновенно показалось ничтожным, грабители были сразу забыты. Седлали лошадей, отвязывали лодки. Послали за пароходиком. Не прошло и получаса с момента страшного открытия, как около двухсот человек направились уже и по реке, и по суше к пещере.
Весь городок казался вымершим — так он опустел. Весь день женщины навещали тётю Полли и миссис Тэчер, пытаясь утешить их; плакали вместе с ними, и это было лучше всяких слов.
Всю томительную ночь городок ожидал известий, но когда наконец забрезжило утро, из пещеры было получено только несколько слов: «Пришлите ещё свечей и провизии». Миссис Тэчер чуть не обезумела от горя, тётя Полли — тоже. Судья Тэчер то и дело присылал из пещеры сказать, чтобы они не теряли надежды, но его слова, не приносили им утешения.
На другой день, на рассвете, старик валлиец вернулся домой, весь испачканный свечным салом и глиной и еле держась на ногах. Он нашёл Гека в той самой постели, куда его уложили вчера. Мальчик был в бреду, и метался в горячке. Все врачи были в пещере, так что за больным взялась ходить вдова Дуглас, говоря, что она сделает для него всё, что возможно, так как, хорош он или плох, он всё-таки создание божье — не бросать же его без призора. Валлиец сказал, что у Гека есть свои добрые качества, и вдова согласилась с ним:
— Вы совершенно правы. То, что создано господом богом, имеет на себе его печать. Каждое творение его рук не может быть без божьей благодати.
К полудню в городок начали возвращаться отдельные группы до смерти усталых людей, но те горожане, у которых осталось хоть немного энергии, всё ещё продолжали поиски. Нового узнали только то, что в пещере обшарены все дальние галереи, куда никто не заглядывал раньше; что будут осмотрены все расселины, все закоулки, что в лабиринте коридоров там и сям мелькают вдали огоньки и что по мрачным переходам то и делю перекатывается глухое эхо отдалённых криков и пистолетных выстрелов. В одном месте, далеко от той части пещеры, которую обычно посещают туристы, нашли имена «Бекки и Том», выведенные на камне копотью свечи, и тут же валялся запачканный салом обрывок ленточки. Миссис Тэчер узнала ленточку я разрыдалась над ней. Она говорила, что это последняя память о её погибшем ребёнке. Ничто не может быть драгоценнее, потому что это — последний предмет, с которым Бекки рассталась, перед тем как её застигла ужасная смерть. Иные рассказывали, что во время поисков замечали вдали какой-то мерцающий свет и человек двадцать с криком радости кидались в ту сторону, пробуждая громкое эхо, но, увы, их радость была преждевременной: они находили не детей, а кого-нибудь из своих.
Так прошли три страшных дня и три страшные ночи. Тоскливо тянулись часы. Весь город впал наконец в какое-то безнадёжное оцепенение. У каждого работа валилась из рук. Даже случайно сделанное открытие, что владелец таверны «Трезвость» тайно торгует спиртными напитками, при всей своей чудовищности, не взволновало почти никого. Когда больной Гек на некоторое время пришёл в себя, он завёл разговор о таверне и наконец спросил, смутно опасаясь услышать ужасную весть, не нашли ли чего-нибудь в таверне «Трезвость» за время его болезни.
— Нашли, — ответила вдова.
Гек дико взглянул на неё и подскочил на кровати.
— Что? Что такое нашли?
— Крепкие напитки. Водку… И таверна теперь закрыта… Ложись, дитя моё. Как ты меня напугал!
— Скажите мне только одно, только одно слово. Пожалуйста! Кто нашёл? Том Сойер?
Вдова залилась слезами.
— Тише, тише, мой милый, я уже сказала: тебе нельзя так много говорить. Ты очень, очень болен.
«Так, значит, кроме водки, ничего не нашли, потому что, если бы нашли деньги, это вызвало бы страшный переполох во всём городе. Значит, сокровище исчезло на веки веков, навсегда… Но она-то о чём плачет? Странное дело! Кажется, о чём бы ей плакать?»
Эти мысли смутно шевелились в уме Гека и так утомили его, что он заснул.
«Ну вот он и спит, бедняжка, — говорила себе вдова. — „Том Сойер нашёл!“ Поди теперь найди Тома Сойера! Уж мало осталось таких, у кого хватает упорства и сил искать твоего Тома Сойера».
Глава XXXI НАШЛИСЬ И ПОТЕРЯЛИСЬ ОПЯТЬ
Вернёмся теперь к Тому и Бекки и посмотрим, что делали они на пикнике. Сперва они бродили по мрачным боковым коридорам, осматривая вместе со всеми уже знакомые им чудеса пещеры, носившие несколько вычурные названия, как например: «Гостиная», «Собор», «Дворец Аладдина» и прочее. Потом все стали играть в прятки, и Том и Бекки усердно принимали участие в этой весёлой игре, но в конце концов она немного наскучила им; они пошли вдвоём по извилистой галерее, высоко держа свечи и разбирая путаницу чисел, имён, адресов и изречений, которыми были расписаны скалистые стены (копотью свечей). Продолжая идти вперёд и болтая, они не заметили, как очутились в такой части пещеры, где на стенах уже не было надписей. Они вывели копотью свои имена под нависшим камнем и пошли дальше. Вскоре они набрели на небольшой ручеёк, который, переливаясь через выступ скалы и принося с собой известковый осадок, в течение многих столетий образовал из блестящего прочного камня кудрявую, кружевную Ниагару. Худенький Том легко протиснулся сквозь узкую расселину за водопадом и озарил её свечой, чтобы доставить удовольствие Бекки. Тут он заметил, что водопад прикрывает собою крутые ступеньки, нечто вроде естественной лестницы, заключённой в узкую щель между двумя каменными стенами. Им в тот же миг овладела честолюбивая жажда открытий. Бекки откликнулась на его призыв, и они, оставив копотью знак на камне, чтобы не сбиться с пути, отправились делать открытия. Они долго шли по извилистому коридору, забираясь всё глубже и глубже в тайники подземелья, сделали ещё одну пометку и свернули в сторону в поисках новых чудес, о которых можно было бы рассказать там, наверху. В одном месте они нашли просторную пещеру, где с потолка спускалось множество блестящих сталактитов[48] длиной и толщиной с человеческую ногу. Они обошли эту пещеру кругом, любуясь и восхищаясь её красотой. В пещеру вело много коридоров; они пошли по одному из них и вскоре увидели чудесный родник, дно которого было выложено сверкающими, как иней, кристаллами. Родник протекал в самом центре какой-то высокой пещеры; её стены подпирались рядами фантастических колонн, создавшихся благодаря слиянию больших сталактитов со сталагмитами в результате многовекового падения капель воды. Под сводами этой пещеры огромными гирляндами висели летучие мыши, по нескольку тысяч в каждой. Свет вспугнул их, они ринулись вниз — сотни и сотни летучих мышей — и с резким писком стали бешено кидаться на свечи. Том знал их повадки и хорошо понимал, какой опасностью грозят эти твари. Он схватил Бекки за руку и вбежал вместе с нею в первый попавшийся коридор. И хорошо сделал, так как одна из летучих мышей потушила крылом свечу Бекки — в ту самую минуту, как Бекки выходила из пещеры. Летучие мыши долго гнались за детьми, но беглецы поминутно сворачивали в новые и новые коридоры, попадавшиеся на пути, и таким образом наконец-то избавились от этих зловредных тварей. Вскоре Том увидел подземное озеро, туманные очертания которого исчезали вдали во мраке. Тому захотелось пойти исследовать его берега, но он решил, что лучше будет сначала присесть отдохнуть. Тут в первый раз мёртвая тишина подземелья наложила на душу детей свою влажную, липкую руку.
— Ой, — сказала Бекки, — я и не заметила… Ведь, кажется, уже очень давно не слышно ничьих голосов?
— Ещё бы, Бекки! Подумай сама — мы глубоко под ними; я даже не знаю, куда мы зашли, — к северу, к югу или к востоку. Здесь мы и не можем их слышать.
Бекки встревожилась:
— А давно мы уже тут, внизу, Том? Лучше бы нам вернуться.
— Да, пожалуй, это будет лучше всего. Пожалуй…
— А ты можешь найти дорогу, Том? Здесь такие кривые ходы, у меня: всё в голове перепуталось.
— По-моему, я мог бы найти, не будь этих летучих мышей. Задуют они наши свечи, — ну, что мы тогда станем делать! Давай поищем другую дорогу, чтобы не проходить мимо них.
— Хорошо, но только бы нам не заблудиться. Это был бы такой ужас!
И девочка вздрогнула при одной мысли о грозной опасности.
Они свернули в какой-то коридор и долго шли молча, вглядываясь в каждый переход, не покажется ли он знакомым; но нет, это были неизвестные места. Каждый раз, когда Том исследовал новый ход, Бекки наблюдала за выражением его лица, надеясь уловить какой-нибудь утешительный признак, и каждый раз Том беззаботно твердил ей:
— Это ещё не тот, но ты не беспокойся, пожалуйста, в своё время найдём и его.
Однако с каждой новой неудачей он всё больше падал духом и вскоре начал сворачивать направо и налево наобум, как попало, в отчаянной надежде найти наконец ту дорогу, которая была им нужна. Он по-прежнему говорил: «Всё отлично», но на сердце у него была такая свинцовая тяжесть, что голос его утратил былую беспечность, как будто он говорил не «всё отлично», а «всё пропало». Бекки в смертельном страхе прижималась к нему, всеми силами стараясь удержать слёзы, но они текли и текли. Наконец она сказала:
— Том, ничего, что летучие мыши, — вернёмся той же самой дорогой. А так мы всё больше и больше запутываемся.
Том остановился.
— Прислушайся! — сказал он.
Глубокая тишина. Такая глубокая, что они слышали своё дыхание. Том крикнул. Голос его долго отдавался под пустыми сводами и замер вдали слабым звуком, похожим на чей-то насмешливый хохот.
— Ой, Том, не надо, это так страшно! — сказала Бекки.
— Страшно-то страшно, но всё же лучше кричать, Бекки: быть может, они услышат нас.
И он крикнул ещё раз.
В этом «быть может» было ещё больше леденящего ужаса, чем в том дьявольском хохоте: тут слышалось признание, что уже не осталось надежды. Дети стояли тихо и вслушивались, но никто не откликнулся. Том повернул назад и ускорил шаги. Но какая-то нерешительность во всех его движениях и взглядах выдала Бекки другую страшную истину: он не мог найти дорогу и назад, к той пещере, где были летучие мыши.
— О, Том, почему ты не делал пометок?
— Бекки, я такой идиот! Мне и в голову не приходило, что нам придётся возвращаться тем путём. Я не могу найти дорогу. У меня всё спуталось…
— Том, Том, мы пропали! Пропали! Нам никогда, никогда не выбраться из этого ужасного места! О, зачем мы ушли от других!
Она упала на землю и так бурно зарыдала, что Том пришёл в отчаяние: ему казалось, что она сейчас умрёт или сойдёт с ума. Он сел рядом с ней и обнял её. Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему, изливая весь свой ужас, все свои запоздалые сожаления, а далёкое эхо превращало её рыдания в язвительный хохот. Том умолял её собраться с духом, не терять надежды, но она говорила, что это ей не под силу. Тогда он стал упрекать и бранить себя за то, что принёс ей такое несчастье, и это подействовало лучше всего. Она сказала, что попытается взять себя в руки, встанет и пойдёт за ним, куда бы он ни повёл её, только пусть он не говорит таких слов, потому что она и сама виновата ничуть не меньше его.
И они пошли наудачу, бесцельно… просто затем, чтобы идти, не сидеть на месте, — ведь больше они ничего не могли сделать. Вскоре надежда как будто опять воскресла в их сердцах — не потому, что для этого была какая-нибудь причина, а потому, что таково уж свойство надежды: она возрождается снова и снова, пока человек ещё молод и не привык терпеть неудачи.
Немного погодя Том взял у Бекки свечу и задул её. Такая бережливость означала очень многое: слова были не нужны. Бекки поняла, что это значит, и опять упала духом. Она знала, что у Тома есть целая свеча и ещё три или четыре огарка в кармане, — и всё же он счёл нужным экономить.
Мало-помалу усталость начала предъявлять свои права; дети пытались не обращать на неё внимания, потому что им делалось страшно при мысли, что они будут сидеть тут, — когда каждая минута так дорога; двигаясь в каком бы то ни было направлении, хоть наобум, они всё же шли куда-то, и, может быть, к выходу, но сесть — это значило обречь себя на смерть и ускорить её приближение.
Наконец утомлённые ноги Бекки отказались служить. Она села. Том примостился рядом, и они стали говорить о доме, об оставленных друзьях, об удобных постелях и, главное, о солнечном свете. Бекки плакала. Том старался придумать что-нибудь такое, чтобы успокоить её, но все его успокоительные речи уже потеряли силу, оттого что он столько раз повторял их, и зазвучали жестокой насмешкой. Бекки до того изнемогла, что в конце концов стала дремать и заснула. Том был рад. Он сидел, вглядывался в её осунувшееся лицо и видел как мало-помалу под влиянием приятных снов оно приняло обычное спокойное выражение, на губах у неё заиграла улыбка, да так и осталась надолго. Безмятежность её лица немного успокоила Тома, и боль его мало-помалу утихла. Мысли его ушли в прошлое и стали блуждать среди дремотных воспоминаний. Он так погрузился в эти воспоминания, что и не заметил, как Бекки проснулась и тихонько засмеялась. Но смех тотчас же замер у неё на губах, и за ним последовал стон.
— О, как я могла уснуть! Я хотела бы никогда, никогда не просыпаться!.. Нет-нет, Том, я сказала неправду! Не смотри на меня так! Этого я больше никогда не скажу!
— Я рад, что ты поспала, Бекки: теперь ты отдохнула, и мы найдём дорогу, вот увидишь!
— Попробуем, Том, но я видела во сне такую прекрасную страну! Мне кажется, мы скоро там будем.
— Может, будем, а может, нет. Ну, Бекки, гляди веселее! Пойдём-ка и поищем опять.
Они встали и пошли рука об руку, но уже без всякой надежды. Они пытались сообразить, сколько времени находятся в пещере: им казалось — несколько дней, а быть может, недель, между тем этого, очевидно, не могло быть, так как свечи у них ещё не сгорели.
Так прошло много времени, а сколько — они и сами не знали. Том сказал, что надо идти тихо-тихо и прислушиваться, не каплет ли где вода, — нужно найти источник. Вскоре они в самом деле нашли ручеёк, и Том заявил, что пора сделать новый привал. Хотя оба они смертельно устали, Бекки сказала, что она могла бы пройти ещё немножечко. К её удивлению, Том отказался, — нельзя было понять почему. Они сели. Том взял кусочек глины и прилепил свечу к стене. На них снова нахлынули невесёлые мысли, и некоторое время они не произносили ни слова. Бекки первая нарушила молчание:
— Том, я ужасно хочу есть.
Том вытащил что-то из кармана.
— Помнишь? — спросил он.
Бекки слабо улыбнулась:
— Это наш свадебный пирог, Том.
— Да… Я хотел бы, чтобы он был величиной с бочонок, потому что больше у нас ничего нет.
— Я спрятала его на пикнике, хотела положить под подушку, чтобы мы увидели друг друга во сне… Так всегда поступают большие.[49] Но это будет наш последний…
Бекки не договорила.
Том разделил пирог на две части. Бекки съела свою долю с аппетитом, а Том едва дотронулся до своей. Холодной воды было вдоволь — нашлось, чем закончить пир. Немного погодя Бекки предложила идти дальше. Том ничего не ответил и, помолчав, сказал:
— Бекки, можешь ты спокойно выслушать, что я тебе скажу?
Бекки побледнела, она сказала, что, кажется, может.
— Так вот что, Бекки: нам надо остаться здесь, где есть вода для питья… Это наш последний огарок.
Бекки дала волю слезам. Том утешал её как мог, но напрасно. Наконец она сказала:
— Том!
— Что, Бекки?
— Они хватятся нас и пойдут искать!
— Ещё бы! Разумеется, пойдут.
— Может быть, они уже теперь ищут нас, Том?
— Может, и теперь. Это вернее всего.
— Когда же они заметили, что нас нет? Как ты думаешь, Том?
— Думаю — когда вернулись на пароход.
— Том, тогда, пожалуй, было уж очень темно. Разве они увидели, что мы не пришли?
— Не знаю, но, во всяком случае, твоя мама сразу подняла тревогу, когда все остальные вернулись домой.
На лице у Бекки появилось выражение испуга, и Том по её глазам догадался, что сделал промах. Ведь Бекки должна была провести эту ночь у подруги, и дома её не ждали. Дети смолкли и задумались. Вдруг Бекки снова разразилась рыданиями, и Том понял, что ей, как и ему, пришла в голову страшная мысль: воскресное утро может наполовину пройти, и только тогда миссис Тэчер узнает, что Бекки не ночевала у миссис Гарпер.
Дети не сводили глаз с последнего огарка свечи, следя за тем, как он тихо и безжалостно тает. Наконец осталось только полдюйма фитиля; слабый огонёк поднялся, упал, вскарабкался по тонкой струйке дыма, задержался одну секунду на её верхнем конце, — и потом воцарился ужас беспросветного мрака.
Сколько времени прошло, прежде чем Бекки мало-помалу заметила, что она плачет в объятиях Тома, ни один из них сказать не мог. Они знали одно: что через очень долгий, как им казалось, промежуток времени оба сбросили с себя мёртвое оцепенение сна и снова вернулись к сознанию постигшего их несчастья. Том сказал, что сейчас воскресенье, а быть может, даже понедельник. Он пытался втянуть Бекки в разговор, но она была слишком придавлена горем; все её надежды рухнули. Том уверял, что их отсутствие должны были заметить уже давным-давно и теперь, наверно, их ищут. Он будет кричать во всё горло — авось кто-нибудь услышит и придёт. Он крикнул; но в темноте отдалённое эхо прозвучало так страшно, что он больше не пытался кричать.
Часы шли, и голод опять начал терзать бедных узников. У Тома сохранился кусочек от доставшейся ему половинки пирога; они разделили его и съели, но от этого стали как будто ещё голоднее. Жалкая кроха только раздразнила аппетит.
Через некоторое время Том сказал:
— Ш-ш!.. Ты слышала?
Оба затаили дыхание и стали прислушиваться. Кто-то как будто кричал — далеко-далеко. Том тотчас же откликнулся и, взяв Бекки за руку, стал ощупью пробираться, по коридору в ту сторону, откуда донёсся крик. Потом он опять прислушался: звук раздался опять и как будто немного ближе.
— Это они! — сказал Том. — Идут сюда! Идём, Бекки, не бойся, теперь всё хорошо!
Радость пленников дошла до восторга, но бежать они не могли, так как на каждом шагу попадались провалы и надо было двигаться с опаской. Вскоре они остановились перед одним таким провалом — и не могли сделать ни шагу вперёд. Яма могла иметь и три фута и сто футов глубины — всё равно перейти через неё было невозможно. Том лёг на живот и перегнулся вниз сколько мог. Никакого дна. Нужно стоять и ждать, пока за ними придут. Они прислушались, но крики звучали всё глуше и дальше… Ещё минута — и они смолкли совсем. Какая жалость, какая тоска! Том кричал, пока не охрип, — но никто не откликался. Всё же он обнадёживал Бекки, но прошла целая вечность тревожного ожидания, а звуков больше не было слышно.
Дети ощупью добрались до своего ручейка. Томительно потянулись часы. Они снова уснули и проснулись голодные, убитые горем. Том был уверен, что теперь уже вторник.
Вдруг его осенило. Поблизости было несколько боковых коридоров. Не лучше ли исследовать их, чем томиться тягостным бездельем? Он вынул из кармана бечёвку от бумажного змея, привязал её к выступу скалы и двинулся в путь вместе с Бекки, разматывая клубок на ходу. Но приблизительно через двадцать шагов коридор оборвался; он оканчивался пропастью. Том стал на колени и начал исследовать стену, ведущую вниз, а потом, насколько мог вытянуть руку, принялся ощупывать ту, которая была за углом, потом потянулся немного вправо и в это мгновение в каких-нибудь двадцати ярдах из-за края утёса высунулась чья-то рука со свечой! Том радостно вскрикнул, но вслед за рукой выдвинулся и весь человек — Индеец Джо. Том оцепенел, не мог двинуть ни рукой, ни ногой и страшно обрадовался, когда «испанец» в ту же минуту пустился бежать и вскоре пропал из виду. Тому показалось очень странным как это Джо не узнал его голоса, не кинулся на него и не убил за показание в суде; но, должно быть, эхо изменило его голос. «Всё дело, конечно, в этом», — говорил себе мальчик. От перенесённого страха каждый мускул в его теле ослабел, и он сказал себе, что, если у него хватит сил вернуться к источнику, он там и останется и уже никуда не пойдёт, чтобы снова не наткнуться на Индейца Джо. Он скрыл от Бекки, что видел его. Он сказал, что крикнул просто так, наудачу.
Но голод и безвыходность положения в конце концов оказались сильнее всяких страхов. Тоскуя, сидели они у источника, потом заснули и спали долго — и проснулись с другими чувствами. Муки голода стали гораздо сильнее. Том считал, что теперь уже среда или четверг… может быть, даже пятница или суббота; значит, люди уже потеряли надежду и перестали искать их. Он предложил исследовать другой коридор. Он готов был рискнуть чем угодно, даже встреча с Индейцем Джо больше не пугала его. Но Бекки была очень слаба. Она как бы оцепенела от горя, её ничем нельзя было расшевелить. Она говорила, что останется тут, где сидит, и будет ждать смерти; смерть уже недалека. Пусть Том возьмёт бечёвку и идёт, если хочет, но она умоляет его возвращаться почаще, чтобы поговорить с ней, и берёт с него слово, что, когда настанет страшная минута, он будет сидеть тут, поблизости, и держать её за руку, пока не придёт конец.
Том поцеловал её, чувствуя в горле комок, и сделал вид, что не теряет надежды либо найти выход из пещеры, либо встретиться с теми, кто их ищет. Он взял в руку бечёвку от змея и ощупью пополз на четвереньках по одному из коридоров, терзаемый мучительным голодом и предчувствием близкой гибели.
Глава XXXII «ВЫХОДИТЕ! НАШЛИСЬ!»
Вторник близился к концу. Надвигались вечерние сумерки. Городок Санкт-Петербург всё ещё оплакивал погибших детей. Их так и не нашли. За них молились прихожане в церкви; немало возносилось к небу и одиноких молитв, идущих от самого сердца, а из пещеры по-прежнему не было добрых вестей. Многие горожане оставили поиски и вернулись к своим повседневным занятиям, решив, что детей уже не удастся найти. Миссис Тэчер была очень больна и почти непрерывно бредила. Видевшие её говорили, что просто сердце у них разрывается, когда она зовёт свою дочь, поднимает голову и целую минуту прислушивается, а потом с тяжёлым стоном опускает её на подушки. Тётя Полли впала в глубокую тоску, и её седые волосы совсем побелели. Во вторник вечером весь городок отошёл ко сну мрачный: уже ни на что не надеялись.
Среди ночи на городской колокольне неожиданно поднялся безумный трезвон, и в один миг улицы наполнились ошалелыми полуодетыми людьми, которые неистово кричали: «Выходите! Выходите! Нашлись! Нашлись!» — били в железные сковороды и трубили в рожки. Всё население толпой побежало к реке навстречу Тому и Бекки. Они ехали в открытой коляске, которую с криком везли горожане. Толпа окружила коляску, присоединилась к процессии, торжественно пошла, по главной улице и, не переставая, орала «ура».
Всюду сияли огни. Спать уже не ложился никто. Ещё никогда городок не переживал такой замечательной ночи. За первые полчаса в доме судьи Тэчера перебывали чуть не все горожане. Они по очереди, один за другим, целовали спасённых детей, жали руку миссис Тэчер, пытались что-то сказать, но не могли — и затопили весь дом потоками радостных слёз.
Тётя Полли была совершенно счастлива. Почти так же ликовала миссис Тэчер. Ей недоставало только одного: чтобы гонец, отправленный в пещеру, сообщил её мужу, что дети нашлись. Том лежал на диване и рассказывал взволнованным слушателям необычайную историю своих приключений, украшая её поразительно эффектными выдумками. В заключение он рассказал, как он оставил Бекки одну и отправился на разведку, как он исследовал две галереи на всю длину бечёвки, как пошёл по третьей и, когда клубок бечёвки размотался у него весь до конца, хотел было вернуться, но вдруг увидел вдали какой-то проблеск, вроде как бы дневной свет; как он бросил бечёвку и стал ощупью пробираться туда, потом просунул голову и плечи в небольшое отверстие и увидел, что перед ним катит волны широкая Миссисипи! Подумать только, что, будь это ночью, он не увидел бы проблеска света и ему не пришло бы в голову дойти до конца галереи! Затем он рассказал, как он вернулся к Бекки и сообщил ей радостную весть, а она попросила его, чтобы он не приставал к ней с пустяками, потому что у неё уже нет сил, она чувствует, что скоро умрёт, и рада этому. По его словам, он долго уговаривал её и наконец убедил, и она чуть с ума не сошла от счастья, когда, пробравшись ощупью к тому месту, своими глазами увидела голубую полоску дневного света; он рассказал, как он протиснулся через отверстие и помог Бекки; как они сели на землю и заплакали от радости, как мимо проезжали какие-то люди на лодке, и Том окликнул их и сказал им: «Мы только что из пещеры, и нам до смерти хочется есть»; как эти люди сперва не поверили, потому что, — говорили они, — этого никак не может быть: «Пещера не здесь, а в пяти милях отсюда, там, вверх по реке, в долине», затем всё же взяли их в лодку, отвезли в какой-то дом, накормили ужином, дали им отдохнуть и через два-три часа после того, как стемнело, отвезли их домой.
Ещё до рассвета судью Тэчера и горсточку людей, помогавших ему в поисках, разыскали в пещере по тем длинным бечёвкам, которыми они обвязались, отправляясь туда, и сообщили им великую новость.
Для Тома и Бекки не могли пройти даром три дня и три ночи блужданий в пещере и голода, и в этом они скоро убедились. Всю среду и весь четверг они пролежали в постели, и казалось, что с каждым часом они всё больше устают и слабеют. Том в четверг начал понемногу вставать, в пятницу пошёл бродить по городу и в субботу был почти здоров; но Бекки до самого воскресенья не выходила из комнаты, а выйдя, имела такой вид будто перенесла изнурительную болезнь.
Том, узнав, что Гек лежит в постели, ещё в пятницу отправился навестить больного, но его не пустили. Тоже случилось и в субботу, и в воскресенье. Потом его стали пускать каждый день, но при этом строго-настрого запретили рассказывать о приключениях в пещере и вообще касаться волнующих тем. Вдова Дуглас всё время присутствовала при их разговорах и следила, чтобы Том не нарушил запрета. О событиях на Кардифской горе Том уже знал от своих домашних. Точно так же; рассказали ему, что тело одного из бродяг найдено было в реке близ пароходной пристани: по всей вероятности, тот утонул, пытаясь спастись от погони.
Недели через две после освобождения из пещеры Том отправился навестить Гека, который за это время набрался уже достаточно сил и мог вести какие угодно разговоры без вреда для здоровья. А у Тома было что порассказать Геку. Дом судьи Тэчера был по дороге, и мальчик зашёл повидаться с Бекки. Судья и его знакомые втянули Тома в разговор, и кто-то в шутку спросил, не хочется ли ему ещё раз побывать в пещере. Том ответил, что он не прочь хоть сейчас.
— Я нисколько не сомневаюсь, Том, что и кроме тебя найдётся немало охотников пробраться в пещеру, — сказал судья, — но мы приняли меры. В этом подземелье уже никто никогда не заблудится.
— Почему?
— Потому что я ещё две недели назад распорядился обшить всю дверь листовым железом и запереть её на три замка. А ключи у меня.
Том побелел, как полотно.
— Что с тобой, мальчик?.. Эй, кто-нибудь! Стакан воды!
Принесли воду и прыснули Тому в лицо.
— Ну вот, теперь всё прошло. Что же это было с тобой, Том?
— Ох, судья, там, в пещере, Индеец Джо!
Глава XXXIII ГИБЕЛЬ ИНДЕЙЦА ДЖО
В пять минут новость разнеслась по всему городку, и тотчас же около десятка лодок, нагружённых людьми, направилось к пещере Мак-Дугала, а вскоре за ними последовал и пароходик, битком набитый пассажирами. Том Сойер сидел в одной лодке с судьёй Тэчером.
Как только открыли дверь, глазам прибывших представилось в смутном полумраке подземелья печальное зрелище. У самого входа лежал мёртвый Индеец Джо, прижавшись лицом к дверной щели, как будто его тоскующий взор до последней минуты не мог оторваться от света и радости вольного мира. Том был взволнован, потому что по опыту знал, какие страдания должен был вытерпеть этот несчастный. В нём пробудилась жалость, но в то же время он испытывал огромное облегчение, так как с этой минуты почувствовал себя в безопасности; лишь теперь по-настоящему понял, каким тяжким бременем лежал у него на душе вечный страх с того дня, когда он обличил на суде этого свирепого убийцу.
Кривой нож Индейца Джо валялся тут же, сломанный пополам. Толстая нижняя перекладина двери была вся изрезана этим ножом, но скучный, тяжёлый труд не мог привести ни к чему, так как снаружи скала образовывала порог, и нож был бессилен сладить с твёрдым камнем. Пострадал не камень, а нож. Но даже не будь этой каменной преграды, труд метиса всё равно пропал бы даром, так как, если бы ему и посчастливилось как-нибудь вырезать перекладину, он не мог бы протиснуться под дверью — и он знал это. Он кромсал бревно лишь для того, чтобы чем-нибудь занять свой измученный ум. Обычно в расселинах стен неподалёку от входа всегда торчало с полдесятка сальных огарков, оставленных туристами; теперь не было ни одного. Узник отыскал их и съел. Он ухитрился поймать несколько летучих мышей и тоже съел их, оставив одни когти. Несчастный погиб голодной смертью. Невдалеке медленно вырастал из земли сталагмит, образованный в течение веков крохотными каплями воды, которые падали с висевшего над ним сталактита. Узник отломал верхушку сталагмита и положил на него камень, в котором выдолбил ямку для собирания драгоценных капель, падавших на неё каждые три минуты с мрачной регулярностью маятника. В двадцать четыре часа набиралась таким образом десертная ложка. Эта капля падала, когда пирамиды были ещё новыми зданиями; когда разрушали Трою; когда было положено основание Риму; когда распинали Христа; когда Вильгельм Завоеватель создавал Британскую империю; когда Колумб отправлялся в море; когда была ещё животрепещущей новостью Лексингтонская битва.[50] Капля падает и теперь, и будет падать, когда все события, о которых я сейчас говорил, потонут в мгле преданий и будут поглощены чёрной ночью забвения. Неужели всё в мире имеет свою цель и свой смысл? Неужели эта капля терпеливо падала в течение пяти тысяч лет только для того, чтобы в своё время утолить жажду этой человеческой букашки? И есть ли у неё иная важная цель, которую ей предстоит осуществить в течение следующих десяти тысячелетий? Всё это праздные вопросы. Много, много лет прошло с того времени, как злополучный метис выдолбил ямку в камне, но и до сих пор всякий турист, пришедший полюбоваться чудесами пещеры Мак-Дугала, дольше всего пялит глаза на этот печальный камень и на эти неторопливо падающие капли воды. Среди достопримечательностей пещеры «Чаша Индейца Джо» занимает первое место. Даже «Дворец Аладдина» не может соперничать с нею.
Индейца Джо похоронили невдалеке от входа в пещеру; на эти похороны съехался народ в лодках и фургонах из всех соседних городишек, из деревушек и ферм на семь миль в окружности. Люди привезли с собой детей, а также еду и выпивку, и говорили потом, что похороны метиса доставили им почти столько же удовольствия, сколько они получили бы, если бы им удалось посмотреть, как его вздёрнут на виселицу.
Похороны положили конец одному начинанию, которое с каждым днём всё росло: собирались подать губернатору штата прошение, чтобы он помиловал Индейца Джо. Под решением было множество подписей. По этому поводу состоялось изрядное количество митингов, где произносились горячие речи и проливались обильные слёзы. Был избран комитет безмозглых дам, которые должны были пойти к губернатору в глубоком трауре, разжалобить его своими рыданиями и умолять, чтобы он стал милосердным ослом и попрал ногами свой долг. Индеец Джо обвинялся в убийстве пяти жителей города, но что же из этого? Будь он самим сатаной, нашлось бы достаточное число слабовольных людишек, готовых подписаться под петицией о его помиловании и капнуть на неё одну слезу из своих многоводных запасов.
На другое утро после похорон Том увёл Гека в укромное место, чтобы обсудить с ним одно очень важное дело. К этому времени Гек уже знал от валлийца и вдовы Дуглас все подробности о приключениях Тома. Но, но словам Тома, была одна вещь, которой они не сказали ему; о ней-то он и хотел завести разговор. Лицо Гека омрачилось.
— Я знаю, в чём дело, — сказал Гек. — Ты был в номере втором и не нашёл там ничего… Только виски. Мне никто не говорил, что ты ходил туда, но я сам догадался, чуть только услыхал про виски. Я сразу сообразил, что денег ты не достал, иначе ты нашёл бы способ пробраться но мне и сообщить эту новость. Кому-кому, а мне ты сказал бы. Том, я так и чувствовал, что нам не дастся в руки этот клад.
— Что ты, Гек! Это не я донёс на хозяина таверны. Ты ведь знаешь, что в субботу, когда я уехал на пикник, таверна была открыта. Разве не помнишь? Ты должен был караулить около неё в ту ночь.
— Ещё бы! Но знаешь, мне теперь кажется, что это было давно-давно, чуть ли не год назад. Это было в ту ночь, когда я шёл по пятам Индейца Джо и выследил его до самого дома вдовы…
— Так это ты его выследил?
— Да. Только об этом ни слова! У него, наверно, остались товарищи. Очень мне нужно, чтобы они разозлились и в отместку наделали мне каких-нибудь пакостей! Ведь если б не я, он преспокойно удрал бы в Техас.
И Гек под строжайшим секретом рассказал все свои приключения. Том до сих пор слыхал только часть этих приключений — ту, которая касалась валлийца.
— Понимаешь, — закончил Гек, возвращаясь к главной теме разговора, — те, кто таскал виски из второго номера, вытащили оттуда и деньги. Во всяком случае, наше дело пропащее, Том.
— Гек, эти деньги никогда и не бывали во втором номере!
— Что? — Гек испытывающим взглядом впился в лицо товарища. — Том, ты опять напал на след этих денег?
— Гек, они в пещере!
У Гека загорелись глаза:
— Повтори, что ты сказал, Том!
— Деньги в пещере!
— Том, скажи по-честному: ты серьёзно говоришь или шутишь?
— Серьёзно, Гек… Я никогда за всю свою жизнь не говорил так серьёзно. Хочешь пойти со мной и помочь мне достать эти деньги?
— Ещё бы! Конечно, пойду! То есть если мы можем пробраться туда по каким-нибудь меткам, а то как бы нам не заблудиться…
— Гек, мы смело можем пробраться туда, решительно ничем не рискуя.
— Вот здорово! Но почему ты думаешь, что деньги…
— Погоди, Гек, сам увидишь. Если мы не найдём денег, я тебе отдам свой барабан и всё, что у меня есть. Ей-богу, отдам!
— Ладно, идёт. Когда, ты говоришь, надо идти?
— Да хоть сейчас, если хочешь. У тебя силы хватит?
— А это далеко от входа? Я уже дня три на ногах, но больше мили мне никак не пройти, Том. Да-да, я чувствую: мне никак не пройти.
— Всякому другому пришлось бы идти миль пять, но я поведу тебя самым коротким путём, которого, кроме меня, никто не знает. Я свезу тебя в лодке, Гек, подвезу к самому входу… буду грести туда и обратно, — тебе и пальцем шевельнуть не придётся.
— Едем сейчас, Том!
— Ладно! Нам нужно захватить хлеба и мяса, да трубки, да пару пустых мешков, да две-три бечёвки от бумажного змея, да ещё несколько этих новоизобретённых штучек, которые называются спичками. Сколько раз я жалел, что их у меня не было там, в пещере!
Вскоре после полудня мальчики взяли взаймы у одного горожанина его маленький ялик, пользуясь тем, что горожанина не было дома, и сразу двинулись в путь. Миновав главный вход в пещеру и проехав ещё несколько миль, Том сказал:
— Видишь тот крутой откос, что идёт вниз от пещеры? Откос кажется гладким и ровным: ни домов, ни лесных складов, одни кусты, да и те похожи друг на дружку. Но вон там, где оползень, видишь, белеется? Это и есть моя примета. Ну, давай выходить!
Они вышли на берег.
— Вот отсюда, где мы стоим, Гек, ты мог бы без труда дотронуться удочкой до той дыры, через которую я вылез из пещеры. Попробуй-ка отыщи её.
Гек обшарил всё кругом и ничего не нашёл. Том с гордостью вошёл в самую чащу сумаха.
— Вот она! Полюбуйся-ка, Гек! Лучшая лазейка во всех здешних местах. Только смотри никому ни гугу! Уж сколько времени я собираюсь в разбойники, да не было этакой лазейки, а идти кружным путём такая скука! Теперь эта лазейка — наша, о ней никому ни слова. Мы в неё не пустим никого, только Джо Гарпера да Бена Роджерса, — потому что ведь надобно, чтобы у нас была шайка, а если вдвоём, так это уж какие разбойники! Шайка Тома Сойера — здорово звучит. Гек, не правда ли?
— Ещё бы! А кого мы будем грабить?
— Да кого придётся. Будем устраивать засады и нападать на проезжих — так всегда поступают разбойники.
— И будем убивать своих пленников?
— Нет, не всегда. Лучше держать их в пещере, пока не уплатят выкупа!
— А что это такое — выкуп?
— Деньги. Ты приказываешь пленнику собрать у своих друзей сколько может, и если в течение года друзья не дадут выкупа, тогда ты убиваешь его. Такое у разбойников правило. Но женщин нельзя убивать. Их просто запирают на замок, а убивать их нельзя. Женщины всегда красавицы и богачки, и при этом страшные трусихи. Ты берёшь у них часы и всё такое, но говорить надо с ними учтиво, сняв шляпу. Разбойники — самый вежливый народ на земле, это ты прочтёшь в каждой книге. Ну, женщины через несколько дней непременно в тебя влюбляются. Посидят в пещере недельку-другую, а потом, смотришь, и перестали плакать, а потом ты уже не можешь от них отвязаться. Гонишь их прочь, они повертятся — и обратно. Так во всех книгах написано.
— Да ведь это чудесно, Том! Это, пожалуй, даже лучше, чем быть пиратом.
— Ещё бы! Куда лучше! Ближе к дому, и цирк недалеко, и вообще…
К этому времени всё было готово, и мальчики влезли в пещеру. Том шёл впереди. Они дошли до другого конца галереи, прикрепили там свои бечёвки и двинулись дальше. Через несколько шагов они очутились у источника, и Том почувствовал, как холодная дрожь пробегает у него по всему телу. Он показал Геку остаток фитиля на кучке глины возле самой стены и описал, как они с Бекки следили за угасающим пламенем.
Мало-помалу они понизили голос до шёпота: тишина и тьма действовали на них угнетающе. Они продолжали свой путь, вскоре свернули в другой коридор и всё шли, пока не добрались до площадки, которая обрывалась пропастью. При свечах обнаружилось, что это вовсе не бездна, а крутой глинистый склон глубиной в двадцать-тридцать футов, не больше.
— Теперь я покажу тебе одну штуку, Гек, — шепнул Том.
Он поднял свечу повыше и сказал:
— Загляни-ка за угол; как можно дальше. Видишь, там… на большом камне… выведено копотью свечи.
— Том, так это же крест!
— Понимаешь теперь, где номер второй? Под крестом — ага! Понял? Тут-то я и видел Индейца Джо со свечой в руке.
Гек долго глядел на таинственный знак, а потом сказал дрожащим голосом:
— Том, давай уйдём!
— Как! И оставим сокровище?
— Да… оставим. Дух Индейца Джо наверняка бродит где-нибудь тут, поблизости.
— Нет, Гек, нет! Если он и бродит, так в том месте, где Джо умер, — у входа в пещеру, в пяти милях отсюда.
— Нет, Том, дух Индейца Джо не там. Он как раз возле денег, деньги стережёт. Уж я знаю обычаи духов, да и тебе они тоже известны.
Том начал опасаться, что Гек, пожалуй, прав и смутный страх закрался к нему в сердце. Вдруг его осенило:
— Экие мы дураки с тобой оба! Ведь не станет же дух Индейца Джо бродить в тех местах, где крест!
Довод оказался убедительным и произвёл большое впечатление.
— Верно, Том. Я и не подумал. Ты прав. Наше счастье, что тут крест. Опустимся же и попробуем найти сундучок.
Том полез первый и по пути высекал в глиняном обрыве неровные ступеньки. Гек следовал за ним. Из той пещеры, где стояла большая скала, выходило четыре галереи. Мальчики осмотрели три галереи и ничего не нашли. В той, что была поближе к основанию скалы, оказался глубокий тайник; там были постланы одеяла, валялись старая подтяжка, шкурка от окорока и дочиста обглоданные куриные кости. Но сундука там не было. Мальчики тщательно обшарили всё, но ничего не нашли. Наконец Том сказал:
— Он говорил: «под крестом». Это и есть под крестом. Не совсем, но довольно близко. Не может же сундук быть под самой скалой — ведь она вросла в землю.
Они снова принялись за поиски. Шарили долго и наконец, огорчённые неудачей, в изнеможении опустились на землю. Гек ничего не мог придумать. Вдруг Том после долгого молчания сказал:
— Посмотри-ка, Гек. С одной стороны скалы земля закапана свечным салом и видны следы чьих-то ног, а с другой стороны чисто и гладко. Почему бы это так? Бьюсь об заклад, что деньги всё же под скалой! Попробую там покопать.
— Это ты неплохо придумал! — с живостью подхватил Гек.
Том вытащил свой нож, «настоящий Барлоу»; не успел он прокопать и четырёх дюймов, как наткнулся на что-то деревянное.
— Ого! Гек, ты слышишь?
Гек тоже стал усердно копать, выгребая глину руками. Вскоре показались какие-то доски, они были тотчас же отброшены прочь. Под ними открылась расселина, которая вела под скалу. Том заглянул внутрь и просунул свечу как можно дальше, но так и не увидел, где кончается эта нора. Он сказал, что пойдёт поглядит. Согнувшись в три погибели, Том пролез сквозь узкое отверстие. Извилистый ход шёл всё глубже и глубже. Том пробирался впереди, Гек — за ним. Они свернули сперва вправо, потом влево. Том прошёл ещё один короткий поворот и вдруг воскликнул:
— Что это, Гек, смотри!
Это был тот самый сундучок, наполненный золотом. Стоял себе в уютной пещерке; тут же рядом мальчики увидели пустой бочонок из-под пороха, два ружья в кожаных чехлах, две-три пары старых мокасин, кожаный ремень и разную рухлядь, которая от сырости промокла насквозь.
— Наконец-то вот оно! — сказал Гек, запуская руку в груду потускневших монет. — Ну, Том, теперь мы с тобой богачи!
— Гек, я знал наверняка, что этот сундук будет наш. Просто не верится, но всё же он в наших руках. Однако не время болтать! Надо сейчас же унести эти деньга. Постой-ка — могу ли я поднять сундучок?
Сундучок весил фунтов пятьдесят. Том приподнял его, но нести не мог: очень тяжело и неудобно.
— Я так и думал, — сказал Том. Помнишь, когда они подняли этот сундук там, в заколдованном доме, я видел, что им тяжело. Хорошо, что я не забыл прихватить с собой мешки.
Вскоре деньги были пересыпаны в мешки. Мальчики потащили их наверх к той скале, что была помечена крестом.
— Давай перенесём эти ружья и всё остальное, — предложил Гек.
— Нет, Гек, оставим их там. Они будут очень кстати, когда мы начнём разбойничать. Мы там и будем держать эти вещи и там же будем устраивать оргии. Это удивительно подходящее местечко для оргий.
— А что это за оргии?
— Не знаю… но у разбойников всегда бывают оргии — значит, и нам придётся устраивать оргии. Ну, идём же, Гек, мы и то здесь засиделись слишком долго. По-моему, час теперь поздний, да и проголодался я сильно. В лодке мы поедим и покурим.
Вскоре они вышли в заросли сумаха. Осторожно осмотревшись кругом, убедились, что на берегу никого нет, и вскоре уже сидели в своём ялике, уплетали еду и курили.
Когда солнце стало склоняться к горизонту, они оттолкнулись от берега и пустились в обратный путь. Том работал вёслами, держась поближе к берегу всё время, пока длились вечерние сумерки, и весело болтал с Геком. Вскоре после наступления темноты ялик причалил к берегу.
— Вот что, Гек, — сказал Том, — спрячем-ка деньги у вдовы Дуглас на чердаке её дровяного сарая; утром я приду, мы их сосчитаем и поделим, а потом приищем для них безопасное местечко в лесу. Ты пока останься здесь и стереги, а я сбегаю за тележкой Бенни Тэйлора. Мигом вернусь.
Он исчез и вскоре вернулся с тележкой. Мальчики положили в неё два мешка, прикрыли их старым тряпьём и стали взбираться на гору, таща за собой свой груз. Добрели до домика валлийца и остановились отдохнуть. Только собрались они двинуться дальше, как на пороге появился хозяин:
— Эй, кто тут?
— Гек и Том Сойер.
— Отлично! Ступайте со мной, мальчуганы, мы вас давно поджидаем. Ну, марш вперёд! Рысью! А я повезу тележку. Однако не мешало бы ей быть немного полегче. Что у вас тут? Кирпичи или железный лом?
— Железный лом.
— Я так и думал. Наши мальчишки готовы, как дурни, собирать, не жалея времени, всякую железную рухлядь, за которую им дадут в кузнице центов пять или шесть, а работать небось не желают, хотя бы им дали вдвое. Но так уж устроены люди! Ну, марш, торопитесь, не мешкайте!
Мальчики захотели узнать, из-за чего им надо торопиться.
— Не скажу. Увидите, когда придём к миссис Дуглас.
Гек привык к несправедливым обвинениям и потому не без опаски сказал:
— Право же, мистер Джонс, мы ничего худого не сделали.
Валлиец расхохотался:
— Не знаю, Гек, не знаю, дружок! Насчёт этого нам ничего не известно. Да ведь вы и вдова как будто друзья…
— Она всегда была добра ко мне, это верно.
— Ну, вот видишь! Так чего ты боишься?
Гек, не отличавшийся быстротой соображения, не успел ещё подыскать ответ, когда его вместе с Томом втолкнули в гостиную миссис Дуглас. Мистер Джонс оставил тележку за дверью и вошёл вслед за ними.
Гостиная была ярко освещена, и в ней собрались все именитые жители города. Здесь были Тэчеры, Гарперы, Роджерсы, тётя Полли, Сид, Мери, священник, редактор местной газеты и ещё множество народу, все разодетые по-праздничному.
Вдова встретила мальчиков так ласково, как редко встречают гостей, явившихся в такой грязной одежде: мальчики были закапаны свечным салом, измазаны глиной.
Тётя Полли вся побагровела от стыда, нахмурилась и погрозила Тому.
Но никто не страдал и вполовину так сильно, как сами мальчики.
— Том ещё не заходил домой, — пояснил мистер Джонс, — и я думал, что он не найдётся, но потом столкнулся с ним и с Геком у самой моей двери и сейчас же привёл их сюда.
— И отлично сделали, — сказала вдова. — Идите за мной, мальчики!
Она привела их в спальню.
— Вымойтесь и переоденьтесь, — сказала она. — Здесь два новых костюма, рубашки, носки — всё, что требуется. Это, собственно, для Гека… Нет-нет, Гек, не благодари! Один куплен мистером Джонсом, другой купила я. Но они годятся вам обоим. Одевайтесь же, мы подождём. А как будете готовы, приходите вниз.
И она ушла.
Глава XXXIV ЗОЛОТОЙ ПОТОК
— Том, — сказал Гек, — можно удрать через это окно, если только найдётся верёвка. Окно невысоко от земли.
— Вздор! Чего нам удирать?
— Ну, знаешь, не привык я к такой компании. Это мне, ей-богу, не под силу. Не пойду я туда, Том!
— Пустяки, ничего не значит. А вот я так ни капельки не волнуюсь. И тебя не дам в обиду, будь спокоен.
Появился Сид.
— Том, — сказал он, — тётя весь день поджидала тебя. Мери приготовила тебе воскресный костюм; все беспокоились, куда ты пропал… Слушай, а откуда у вас на штанах свечное сало и глина?
— Мистер Сидди, советую вам не соваться в чужие дела… И что это они вздумали праздновать?
— Просто у вдовы сегодня гости, она ведь часто устраивает у себя вечеринки. Сегодня — в честь валлийца и его сыновей за то, что они в ту ночь спасли её от смерти. И, знаешь, я могу рассказать тебе ещё кое-что, — если тебе интересно.
— Ну?
— Вот что: сегодня вечером старый мистер Джонс собирается всех удивить, но я подслушал его секрет, когда он говорил о нём тёте, и думаю, что теперь это уж совсем не секрет. Все знают… вдова тоже… хоть и притворяется, будто не знает. Понятно, мистеру Джонсу надо было привести сюда Гека. Без Гека весь секрет провалился бы.
— Да в чём же секрет?
— А в том, что это Гек выследил грабителей до усадьбы вдовы. Мистер Джонс воображает, что он преподнесёт всем необыкновенный сюрприз, а на деле ничего у него не получится.
Сид весело хихикнул.
— Сид, это ты разболтал?
— Не всё ли равно, кто? Кто-то сказал — и кончено.
— Сид, в целом городе есть только один человек, способный на такую низость, — это ты! Будь ты на месте Гека, ты позорно улизнул бы с горы и даже не заикнулся бы про этих грабителей. Ты только и способен на подлости и терпеть не можешь, чтобы хвалили других за какое-нибудь хорошее дело. Вот тебе! Получай! А благодарности не нужно, как говорит вдова. — Том дал Сиду хорошую затрещину и выпроводил его пинками за дверь. — Теперь убирайся! И ступай наябедничай тёте, если хочешь, чтобы завтра тебя вздули опять!
Через несколько минут гости вдовы уже сидели за столом и ужинали; для детей были накрыты маленькие столики, по обычаю тех мест и тех времён.
Улучив подходящий момент, мистер Джонс произнёс свою краткую речь. Он поблагодарил вдову за честь, оказанную ему и его сыновьям, но в то же время объяснил, что тут есть ещё одно лицо, скромность которого…
И так далее, и так далее, и так далее. Мистер Джонс был опытным мастером театральных эффектов. Он с большим сценическим искусством раскрыл перед слушателями тайну участия Гека во всём этом деле, но интерес к рассказу мистера Джонса был уже сильно подорван, и удивление публики выразилось отнюдь не так шумно, как могло быть при других обстоятельствах. Тем не менее вдова очень удачно притворилась, будто она страшно удивлена, и осыпала Гека такими хвалами и такими изъявлениями своей благодарности, что несчастный почти позабыл о тех муках, которые доставлял ему новый костюм, ибо он испытывал теперь ещё горшие муки — оттого, что все глядели на него и хвалили его.
Вдова тут же объявила, что она решила взять Гека к себе в дом и дать ему приличное воспитание, а затем, когда у неё будут свободные деньги, она поможет ему начать какое-нибудь маленькое торговое дело.
Тут пришла очередь Тома. Он сказал:
— Гек в этом не нуждается. Гек и сам богатый человек.
Только соблюдение светских приличий помешало собравшимся встретить эту милую шутку дружным смехом, показывающим, что они вполне оценили всё остроумие Тома. Но и молчание вышло довольно неловким. Том поспешил нарушить его:
— У Гека есть деньги. Вы, может, не поверите, но их у него целая куча. Не смейтесь, пожалуйста, я вам сейчас покажу. Погодите минутку!
Том выбежал из комнаты. Все с недоумением и любопытством переглядывались и вопросительно смотрели на Гека, но тот молчал как убитый.
— Сид, что такое с Томом? — спросила тётя Полли. — Он… Нет, никогда не знаешь, чего ждать от этого мальчишки! Я за всю свою жизнь…
Тётя Полли не докончила фразы, так как вошёл Том, сгибаясь под тяжестью мешков. Он высыпал на стол кучу золотых монет и воскликнул:
— Вот! Что я вам говорил? Половина — Гека, другая — моя!
При виде такого множества золота у зрителей захватило дух. С минуту никто не мог выговорить ни слова, все глядели на стол и молчали. Затем в один голос потребовали объяснения. Том охотно согласился. Рассказ был длинный, но такой увлекательный! Все слушали как зачарованные, никто не смел вставить ни слова. Когда Том кончил, мистер Джонс сказал:
— А я-то воображал, что приготовил для вас хороший сюрприз! Но не могу не признать, что по сравнению с этим мой сюрприз — жалкий пустяк.
Деньги сосчитали. Оказалось, что их немногим больше двенадцати тысяч долларов. Такой суммы зараз не видал никто из присутствующих, хотя тут было немало гостей, имущество которых стоило гораздо дороже.
Глава XXXV БЛАГОВОСПИТАННЫЙ ГЕК ВСТУПАЕТ В РАЗБОЙНИЧЬЮ ШАЙКУ
Читатель без труда поймёт, что неожиданное богатство, доставшееся Тому и Геку, вызвало большой переполох в убогом городишке Санкт-Петербурге. Такая громадная сумма, да ещё золотом, — это было похоже на чудо. О находке столько толковали, на неё глядели с такой жадностью и так громко восхищались ею, что многие граждане прямо-таки спятили от пережитых потрясений. В Санкт-Петербурге и окрестных городишках каждый дом с привидениями был разобран по брёвнышку, доска за доской. В каждом таком доме разворотили фундамент, отыскивая зарытые клады, — и не мальчики, а взрослые мужчины, люди степенные, совсем не мечтатели. Где бы ни появились Том с Геком, за ними ухаживали, ими восхищались, на них таращили глаза, как на диво. Мальчики были не в силах припомнить, чтобы когда-нибудь в прежнее время их словам придавали хоть малейшее значение, а теперь всякое их словечко подхватывалось и повторялось на все лады, как премудрость. В каждом их поступке видели что-то замечательное. Они как будто совсем потеряли способность действовать и говорить, как обыкновенные мальчики. Люди стали рыться в их прошлой жизни и обнаружили, что они обладают талантами, ставящими их выше заурядных детей. Местная газетка напечатала их биографии.
Вдова Дуглас положила деньги Гека в банк из шести процентов годовых, а судья Тэчер, по просьбе тёти Полли, поступил точно так же с деньгами Тома. Теперь у каждого мальчика был огромный доход: по доллару каждый день и даже в воскресенье полдоллара — ровно столько, сколько получал священник, вернее — сколько ему было обещано, потому что на самом деле ему никогда не удавалось собрать эту сумму со своих прихожан. В то доброе старое время стол и квартира для мальчика стоили всего лишь доллар с четвертью за целую неделю, включая сюда расходы на ученье, на одежду, на стирку и прочее.
Судья Тэчер проникся большим уважением к Тому. Он говорил, что обыкновенному мальчику никогда не удалось бы вывести его дочь из пещеры. Когда Бекки по секрету рассказала отцу, как Том спас её от розги, приняв на себя её вину, судья был заметно тронут. Когда же она стала просить, чтобы отец не судил Тома строго за ужасную ложь, благодаря которой розга досталась ему, а не ей, судья в порыве восторга объявил, что то была самоотверженная, благородная, великодушная ложь, ложь, которая достойна того, чтобы высоко поднять голову и шагать плечом к плечу с прославленной Правдой Джорджа Вашингтона — той Правдой, которую он сказал про топор.[51] Бекки тогда же подумала, что никогда ещё отец не был таким величавым и важным, как в ту минуту, когда, шагая по комнате, он топнул ногой и произнёс эти чудесные слова. Она сейчас же побежала к Тому и рассказала ему всё.
Судья Тэчер утверждал, что из Тома со временем выйдет либо великий полководец, либо великий юрист. Он говорил, что похлопочет о том, чтобы мальчика приняли в Национальную военную академию; затем пусть он прослушает курс юридических наук в лучшем учебном заведении страны и таким образом подготовится к любой из этих профессий, а быть может, к обеим сразу.
Богатство, доставшееся Геку Финну, и покровительство вдовы Дуглас ввели Гека в светское общество — вернее, втянули туда, втиснули насильно, и Гек невыносимо страдал. Слуги вдовы умывали его, чистили ему платье, причёсывали его гребнем и щёткой, каждую ночь укладывали его на отвратительно чистые простыни, где не было ни единого грязного пятнышка, которое он мог бы прижать к своему сердцу, как лучшего друга. Ему приходилось есть при помощи ножа и вилки; приходилось — пользоваться салфетками, тарелками, чашками; приходилось учиться по книжке; приходилось посещать церковь; приходилось разговаривать так благопристойно и чинно, что слова стали казаться ему очень невкусными; куда бы он ни повернулся, оковы и барьеры цивилизации держали его в плену. Он чувствовал себя связанным по рукам и ногам.
Три недели он мужественно терпел эти муки, но наконец не выдержал и в один прекрасный день исчез. Миссис Дуглас в великой тревоге двое суток искала его повсюду. Его искали во всех закоулках, обшарили реку, надеясь выудить его мёртвое тело. Наконец на третьи сутки рано утром Тому Сойеру пришла мудрая мысль обследовать пустые бочки за покинутой бойней, и в одной из них он нашёл беглеца. Гек только что проснулся, позавтракал объедками, которые ему удалось где-то подцепить, и теперь блаженствовал с трубкой в зубах. Он был немыт, нечесан и одет в своё прежнее ветхое рубище, которое делало его таким живописным в те дни, когда он был ещё свободен и счастлив. Том вытащил его из бочки, рассказал ему, сколько причинил он хлопот, и потребовал, чтобы он воротился домой. Лицо Гека сразу утратило выражение спокойного счастья и сделалось очень печальным.
— Брось этот разговор! — сказал он. — Ведь я пробовал, да ничего не выходит! Не для меня это всё… Не привык я. Вдова добрая, обращается со мной хорошо, но не вынести мне этих порядков! Изволь каждое утро вставать в один и тот же час; хочешь не хочешь, ступай умываться; потом тебе зверски царапают голову гребнем; она не позволяет мне спать в дровяном сарае. А эта проклятая одёжа! Она меня душит, Том. Как будто и воздух сквозь неё не проходит, и такая она — чёрт бы её побрал! — франтовская: ни сесть, ни лечь, ни на земле поваляться. А с погребов я не скатывался вот уже целую вечность. Потом иди в церковь, сиди там и хлопай ушами — ненавижу нудные проповеди! — даже мух нельзя в церкви ловить, даже табаку нельзя пожевать. И всё воскресенье носи башмаки, а снимать их не смей. Вдова и ест по звонку, и ложится в постель по звонку, и встаёт по звонку… И такие ужасные порядки во всём — никакому человеку не вытерпеть.
— Да ведь все так живут, Гек.
— Ах, Том, какое мне до этого дело! Я — не все, мне это невтерпёж. Связан по рукам и ногам — прямо смерть. А еда там даётся мне слишком легко — даже нет интереса набивать ею брюхо. А захочется рыбку поудить — проси позволения; поплавать — проси позволения. Кажется, скоро и дохнуть без спросу нельзя будет. Потом, изволь выражаться так вежливо, что и говорить пропадает охота. Я и так уже убегаю каждый день на чердак — выругаться хорошенько, чтобы отвести душу, — не то я бы помер, ей-богу! Вдова не позволяет курить, не позволяет кричать, нельзя ни зевать, ни потягиваться, и почёсываться не смей… — Тут он выкрикнул с особой обидой и болью: — И всё время она молится, Том! Молится — чтоб ей пусто было! — с утра до вечера. Никогда не видал такой женщины!.. Я не мог не удрать от неё… да, я иначе не мог. К тому же скоро откроется школа, мне пришлось бы ходить и туда, а этого я прямо не выдержу! Оказывается, Том, быть богатым вовсе не такое весёлое дело. Богатство — тоска и забота, тоска и забота… Только и думаешь, как бы скорей околеть. А вот эта рвань — она по мне, и эта бочка — по мне, и я с ними век не расстанусь. Том, ни за что не стряслась бы надо мною такая беда, если б не эти проклятые деньги! И возьми ты мою долю себе и пользуйся ею как хочешь, а мне выдавай центов по десять — и то не часто, потому что я терпеть не могу даровщинки. Только то и приятно, что трудно достать. И поди попроси хорошенько вдову, чтоб она оставила меня в покое.
— Гек, ты же знаешь, что денег твоих я не возьму… Это было бы нечестно… И к тому же, если ты ещё немного потерпишь, вот увидишь сам — тебе эта жизнь понравится.
— Понравится? Понравится мне сидеть на раскалённой плите, если я посижу на ней подольше?.. Нет, Том, не хочу быть богатым, не желаю жить в гнусных и душных домах! Я люблю этот лес, эту реку, эти бочки — от них я никуда не уйду. Ведь чёрт бы его побрал! — как раз теперь, когда у нас есть пещера, и ружья, и всё, что надо для того, чтоб разбойничать, нужно же было подвернуться этим дурацким деньгам и всё испортить!
Том поспешил воспользоваться удобным случаем:
— Послушай-ка, Гек, никакое богатство не помешает мне уйти в разбойники.
— Да что ты говоришь! Ей-богу, правда?
— Такая же правда, как то, что я сижу здесь. Но тебя нельзя будет принять в шайку, Гек, если ты останешься таким оборванцем.
Радость Гека мгновенно угасла.
— Нельзя будет принять меня в шайку разбойников? Принял же ты меня в шайку пиратов!
— Да, но то совсем другое дело. Разбойники — не чета пиратам. Почти во всех странах разбойники принадлежат к самому высшему обществу — всё больше графы да герцоги.
— Но послушай, Том! Ты всегда был мне другом: ты примешь меня в шайку, ведь правда, Том? Примешь? Правда?
— Гек, я-то, конечно, принял бы, но что скажут люди? Они скажут: «Шайка Тома Сойера! Брр! Шайка, подумаешь! Какие-то оборванцы!» Оборванец — это они будут говорить про тебя. Тебе небось это будет не очень приятно — и мне, конечно, тоже.
Гек с минуту молчал: в душе у него происходила борьба.
— Хорошо, — сказал он наконец. — Я снова вернусь к вдове Дуглас и постараюсь прожить у неё… ну, хоть месяц. Авось и привыкну. Только ты уж возьми меня в шайку, Том!
— Ладно, Гек, по рукам! Пойдём, старина, и я упрошу вдову, чтобы она не слишком прижимала тебя.
— Правда упросишь, Том? Правда?.. Вот хорошо! Если она не будет притеснять меня в главном, я буду курить потихоньку и ругаться тоже потихоньку и как-нибудь перетерплю… Когда же ты соберёшь свою шайку и начнёшь заниматься разбоем?
— Скоро. Мы, может быть, сегодня же вечером соберёмся все вместе и устроим посвящение.
— Устроим что?
— Посвящение.
— Это ещё что за штука?
— Это значит, что мы все поклянёмся стоять друг за дружку и никогда не выдавать секретов шайки, даже если нас будут резать на куски; что мы убьём всякого, кто обидит кого-нибудь из нашей шайки, и не только его, но и всех его родичей.
— Вот это здорово, Том!
— Ещё бы не здорово! А клятву нужно приносить непременно в полночь, в самом глухом, в самом страшном месте, какое только можно отыскать. Лучше всего в доме, где водится нечистая сила. Впрочем, нынче все такие дома разворочены…
— Это не беда, лишь бы в полночь.
— Да. А клятву мы будем приносить на гробу и расписываться кровью.
— Вот это дело! В миллион раз шикарнее, чем быть пиратам. Уж так и быть, Том, я буду жить у вдовы, хоть бы мне пришлось околеть! А если сделаюсь знаменитым разбойником и все заговорят обо мне, она сама будет гордиться и чваниться, что в — своё время пригрела меня.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наша летопись окончена. Так как в ней изложена биография мальчика, она должна остановиться именно здесь; если бы она двинулась дальше, она превратилась бы в биографию мужчины. Когда пишешь роман о взрослых, точно знаешь, где остановиться, — на свадьбе; но когда пишешь о детях, приходится ставить последнюю точку там, где тебе удобнее.
Большинство героев этой книги здравствуют и посейчас; они преуспевают и счастливы. Может быть, когда-нибудь после я сочту небесполезным снова заняться историей изображённых в этой книге детей и погляжу, какие вышли из них мужчины и женщины; поэтому я поступил бы весьма неразумно, если бы сообщил вам теперь об их нынешней жизни.
Примечания
1
Священным писанием христиане считают библию — книгу, где собрано много легенд о боге и всевозможных «святых», а также евангелие — книгу о «сыне божьем» Иисусе Христе. Во многих странах евангелие входит в состав библии.
(обратно)2
«М» — первая и последняя буква слова «мэдм», которое употребляется в Англии и в Америке при почтительном обращении к женщине.
(обратно)3
Американцы часто дают своим маленьким городам громкие названия столиц. У них есть несколько Парижей, три или четыре Иерусалима, Константинополь и т. д. Город, изображаемый в этой книге, они назвали именем тогдашней русской столицы.
(обратно)4
Ярд — английская мера длины, равна 0,91 метра; в футе 0,3 метра.
(обратно)5
Мулаты — потомки от смешанных браков белых и негров.
(обратно)6
Масса — испорченное английское слово «мастэр», то есть барчук, молодой господин. Так прислуга называет господских детей.
(обратно)7
Швартов — канат, которым корабли причаливают к сваям пристани.
(обратно)8
«Гуделка» — крохотный музыкальный инструмент со стальным язычком; его держат зубами; играют на нём, ударяя пальцем по концу язычка.
(обратно)9
Монблан — гора в Швейцарии.
(обратно)10
Библейское выражение «препоясать чресла» (то есть опоясать бёдра) означает: приготовиться к битве, так как в древности мечи прикреплялись к поясам.
(обратно)11
Лакрица — сладкий затвердевший сок солодового корня.
(обратно)12
Поль Гюстав Доре (1833–1883) — известный французский художник, иллюстратор.
(обратно)13
На самом деле, то указанию библии, Давид был пастух, убивший силача Голиафа. Первыми учениками Христа евангелие называет Петра и Андрея.
(обратно)14
Клерк — писец, конторщик, мелкий чиновник.
(обратно)15
Конгресс — американский парламент.
(обратно)16
Гангрена — страшная болезнь: омертвение части тела.
(обратно)17
Пария — отверженный и бесправный человек.
(обратно)18
«Отче наш» — название молитвы…
(обратно)19
Робин Гуд — знаменитый герой старинных английских рассказов и песен. Том Сойер начитался историй о его разбойничьих подвигах; самые занимательные из этих историй — встречи Робина Гуда с Рыцарем Гаем Гисборном и монахом Таком.
(обратно)20
Метисы — люди смешанной крови: дети белых и индейцев.
(обратно)21
В те времена вследствие религиозных суеверий медикам запрещали изучать анатомию на человеческих трупах. Поэтому врачи и студенты принуждены были нанимать гробокопателей, которые тайно добывали для них из могил свежепогребённые трупы.
(обратно)22
Если бы у мистера Харбисона был раб, по имени Булл, Том сказал бы о нём «Булл Харбисона», но если имя Булл принадлежало сыну или псу этого господина, каждого из них называли Булл Харбисон. (Примеч. Марка Твена.)
(обратно)23
Козодой — полуночная птица.
(обратно)24
Шериф — должностное лицо, исполняющее в округе обязанности судьи или полицейского.
(обратно)25
Существует старинное поверье, что, если к трупу убитого приблизится убийца, раны на теле убитого начнут кровоточить.
(обратно)26
Френологи — мнимые учёные, утверждавшие, что каждая выпуклость на черепе человека выражает его душевные качества.
(обратно)27
«Ханаанский бальзам» — легендарное лечебное средство, якобы исцеляющее от всех болезней.
(обратно)28
Румб — каждое из тридцати двух делений на круге компаса.
(обратно)29
Пираты завязывали пленным глаза и заставляли их пройти над морем по узкой доске. Обычно пленные срывались с доски и тонули.
(обратно)30
Живое серебро — ртуть.
(обратно)31
Сочинения, которые цитируются здесь, заимствованы без изменений из книжки, напечатанной под заглавием «Проза и поэзия одной дамы, живущей на Западе», так как в них точнейшим образом выдержан стиль, свойственный сочинениям школьниц, и никакая подделка не могла бы сравниться с ними. (Примеч. Марка Твена.)
(обратно)32
Алабама — один из североамериканских штатов.
(обратно)33
La tete (франц.) — голова.
(обратно)34
Бенджамин Франклин (1706–1790) — североамериканский политический деятель и учёный. Изобретатель громоотвода.
(обратно)35
Эдем — райский сад.
(обратно)36
Дэниэл Уэбстер (1782–1852) — политический деятель США, знаменитый оратор.
(обратно)37
Четвёртое июля — праздник в Соединённых Штатах Америки: годовщина «Декларации американской независимости» (1776 год).
(обратно)38
Гипнотизёром называется человек, могущий усыплять людей искусственным способом и подчинять их своей воле. В Америке гипнотизированием нередко занимались шарлатаны, показывавшие своё искусство за деньги.
(обратно)39
Расправа без суда. Линчевание применялось и применяется в Америке главным образом к неграм.
(обратно)40
Том хотел сказать «иероглифы» — знаки древних египетских надписей, высеченные на камнях; эти знаки изображали зверей, птиц и т. д. Иероглифами часто называют строки, которые трудно прочесть.
(обратно)41
Горбатый Ричард — английский король Ричард III (1483–1485).
(обратно)42
Тис — дерево. В старину из него изготовлялись самые крепкие луки.
(обратно)43
Сомбреро — мексиканская шляпа с большими полями.
(обратно)44
Сахемами в Северной Америке назывались главные вожди некоторых индейских племён.
(обратно)45
Планшир — верхний край корабельного борта.
(обратно)46
Таверна — харчевня (чаще всего с постоялым двором). На Юге Соединённых Штатов тавернами называют небольшие гостиницы.
(обратно)47
Сумах — желтник, невысокое деревце с очень густой листвой.
(обратно)48
Сталактиты — затвердевшие массы извести, спускающиеся с потолка некоторых пещер наподобие больших сосулек. Навстречу им с пола пещеры поднимается такая же масса в виде известковых конусов — сталагмитов.
(обратно)49
В некоторых странах суеверные девушки кладут кусок свадебного пирога под подушку, чтобы им приснился жених.
(обратно)50
Здесь перечисляются различные события древней и новой истории: падение Трои (XII век до н. э.), основание Рима (753 год до н. э.), открытие Америки Колумбом (1492 год) и т. д. Лексингтонская битва (под городом Лексингтоном в Америке) была первым боевым столкновением американцев с англичанами в войне за независимость (1775 год).
(обратно)51
Джордж Вашингтон (1732–1799) — первый президент Соединённых Штатов Америки. Во всех американских учебниках он изображается как один из самых правдивых людей на Земле. Существует легендарный рассказ, будто когда он шестилетним ребёнком поцарапал топориком кору вишнёвого дерева в саду своего отца, то, не боясь наказания, сам признался в своей вине.
(обратно)




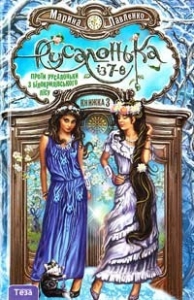

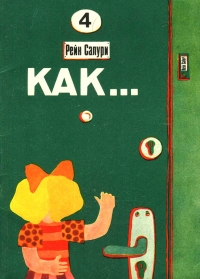




Комментарии к книге «Приключения Тома Сойера», Марк Твен
Всего 0 комментариев