Юрий Германович Вебер Разгаданный секрет
ОТ АВТОРА
Завод…
Всякий раз, как вступаешь на территорию большого завода, неизменное чувство подъема и какого-то волнения возникает при виде этой широко раскинувшейся картины производства.
Асфальтовые дороги растекаются в разные стороны. Обширные здания стоят величаво, с окнами почти во всю стену, со сводами стеклянных крыш. Это заводские корпуса. Там, за этими стенами, под стеклянными крышами, размещаются производственные цехи, службы, заводские лаборатории, конструкторские бюро… Глухо доносится оттуда какой-то шум, слышен металлический всплеск, отдельные удары. Идет работа. Заводская работа.
Она бесконечно разнообразна, эта заводская работа. Очень несхожи между собой разные заводские профессии, и различен труд работающих здесь людей. Один берет деталь для обработки лишь с помощью подъемного крана, другой захватывает деталь пинцетом и мудрит над ней, как часовщик, с лупой в глазу. Один облачается для работы в толстый брезент и темные очки, защищаясь от жгучего, расплавленного металла, другой засучивает рукава халата, чтобы даже краем материи не поцарапать нежной поверхности своего изделия. Один занимает свое место в ряду весело стрекочущих станков, другой - в тихом уединении за железной оградой, где происходит почти немая работа по закалке токами высокой частоты…
Заводские профессии бывают «тяжелые» и «горячие», «тонкие» и «чистые». Для одной требуется больше силы и смелости, а в другой главное - это терпение и расчет. Но все это заводские профессии.
Какая же лучше? Какая интереснее?
Чем ближе узнаёшь людей завода, их труд и особенности этого труда, тем яснее становится простая истина: нет неинтересных профессий. Каждая работа таит что-то свое, особенное, что может захватить человека, дать ему удовлетворение и радость. В каждой работе можно открыть что-то новое, такое, чего никогда еще не было и что никому не приходило в голову. Наблюдательность и выдумка могут все повернуть иначе, сделать любую вещь и работу над ней более совершенными. Придумывать, создавать - для этого на заводе простор необъятный.
Юные читатели! Вероятно, многим из вас придется работать на заводе или на фабрике. На вашу долю выпадет развивать наше производство, открывать новое в технике, в труде. И как ни малой или будничной может показаться сначала кому-нибудь его работа, пусть помнит он, что нет в труде такого малого, над чем не стоило бы подумать, к чему не стоило бы приложить свою сноровку.
Бывает «труден первый шаг и скучен первый путь». Но кто сумеет преодолеть эти первые трудности, к тому вместе с опытом и знанием приходят мастерство, радость новых открытий, большой интерес к своей работе.
Мне хочется рассказать вам одну историю, которая произошла в нашей заводской жизни. Я узнал о ней, познакомившись близко с людьми большого завода - участниками и свидетелями описываемых событий. Это история с маленькими металлическими пластинками, которые называют часто попросту и коротко: «плитки». Пожалуй, вы не обратили бы на них внимания, увидев их впервые где-нибудь в цехе или в лаборатории. А между тем за внешней простотой плиток кроется целая эпоха в развитии нашей техники.
Я сохранил подлинную обстановку, подлинные имена действующих лиц и стремился в изображении их дел, их поступков следовать возможно вернее тому, что было в действительности. Думается, что эти люди, простые люди нашего производства, и дело, которое они совершили, заслуживают того, чтобы об этом узнал читатель.
КЛЮЧИ ТОЧНОСТИ За двойной стеной
Плитки!
На заводе это простое, короткое слово произносят с каким-то особенным выражением. Завод выпускает измерительные инструменты высокой точности, чувствительные приборы, замысловатые контрольные автоматы, и все же в этом мире самой изысканной техники так называемые плитки пользуются репутацией исключительной.
- Вы были на участке плиток? - спросят у вас и при этом обязательно покажут пальцем куда-то вверх, будто вы должны были побывать на седьмом небе.
И действительно, подымаясь на верхний этаж заводского корпуса, туда, где находится участок плиток, вы совершаете восхождение на вершину современной измерительной техники.
Участок защищен двойными стенами от общего движения и шума цеховой жизни, и никто из посетителей не может проникнуть за эти стены, пока не будет дано распоряжение директора завода: пропустите!
Пройдя первые двери, вы попадаете еще не на самый участок, а в то помещение, которое здесь называют в шутку «санпропускник». Здесь вам предлагают надеть чистый белый халат и знакомят с правилами производственной гигиены. Старший мастер, Виктор Иванович Дунец, терпеливо объясняет мне, чего я не должен делать. Я не должен касаться машин и приспособлений. Я не должен брать руками эти самые плитки, которые здесь увижу. Я не должен близко наклоняться к рабочим местам и дышать на плитки… Целый кодекс правил поведения на участке!
А он был там, этот участок, за второй перегородкой, за стеклом и манил к себе своей строгой непонятностью. Там было много света, выкрашенные светлой краской машины, люди в белых халатах. Я открыл дверь и ступил на чисто выметенный, протертый цементный пол. Остановился и прислушался.
Каждое производство отличается своей музыкой работы. Тяжелый грохот кузницы. Гудение печей в термических цехах. Жужжанье токарной обработки… А тут, на участке плиток, сразу поражало именно отсутствие привычных цеховых звуков. Почти полная тишина. Только тихий металлический шелест мягко плыл над светлыми машинами. И люди здесь говорили негромко, невольно понижая голос, как обычно говорят в музеях или в библиотеках, чтобы не нарушить царящей в таких местах атмосферы несколько торжественной сосредоточенности. Еще бы! Здесь, на участке, совершается один из самых тонких, сложных процессов, какие только знает наука обработки металлов: процесс рождения точнейших мер длины.
Вот они лежат на столах машин, эти плиточки, сверкающие зеркалом тонкой отделки. Простой прямоугольной формы, как маленькие стальные кирпичики или пластинки. Самый скромный вид.
Старший мастер Виктор Иванович берет осторожно одну из них и, держа в растопыренных пальцах, произносит многозначительно:
- Концевая мера! Инструмент высшей точности!
В поисках единицы измерения
Чтобы понять смысл слов Виктора Ивановича, нам надо на время оставить этот цех московского завода и перенестись в другой город - в Ленинград, в ту его часть, где на широком проспекте, за оградой, в отдалении от уличного шума стоят в молчаливой тишине массивные здания, одетые, точно в шубу, в тяжелую каменную облицовку. Часовая башня с круглой шапкой как бы стережет царящий здесь строгий, незыблемый покой. Это одно из интереснейших научных учреждений страны - Всесоюзный институт метрологии имени Д. И. Менделеева. Великий Менделеев был во главе этой ученой палаты, когда создавал для России подлинно научную систему точных единых измерений. Теперь эта палата превратилась в крупнейший исследовательский центр, который стоит на страже непогрешимости всех мер и весов, обращающихся в нашей жизни.
Здесь хранится самое точное время. Самый точный вес. Самые точные показатели температуры. Единицы света, электричества, магнетизма, радиоактивности…
Здесь хранится и основная единица длины - метр.
Единица длины! Долго и мучительно искала ее наука.
Не такую случайную, зыбкую меру, как старинные локоть, фут (нога), пядь, дюйм (сустав пальца), а меру вполне устойчивую, заложенную в самой природе. Земля, вращаясь вокруг оси, повторяет свои сутки по строгому закону; отсюда единица времени - секунда. Вода замерзает и кипит при определенной температуре; отсюда постоянный ее показатель - градус. Всякая окружность путем деления ее на триста шестьдесят частей дает нам математически точную меру углов - угловой градус. Ну, а мера длины? Где ее природная основа?
Конец XVIII века. Время Великой французской буржуазной революции. Наступая на феодальную раздробленность в стране, деятели революции пожелали покончить и с раздробленностью мер и весов. Тогда-то ученые в своих поисках и обратились к величине земного шара, к тому, что считалось в природе неизменным. «Наша грешная планета должна дать непогрешимую меру длины», - выразился один из ораторов того времени.
Так появился первый метр - одна сорокамиллионная часть земного меридиана. Платино-иридиевый стержень, покоящийся в футляре, на подстилке из красного бархата. Семь лет самых кропотливых измерений и вычислений ушло на то, чтобы определить эту метрическую единицу длины. «На все времена для всех народов», - как гласил текст на учрежденной по этому случаю медали.
Но спустя некоторое время повторные измерения меридиана не подтвердили совершенной точности метра. Во второй раз он получился чуть меньше. На какую-то ничтожную, десятитысячную долю, но отклонение все же было. Может, в этом виновата наша Земля, оказавшаяся не такой уж неизменной, или неточность приборов, а может, и сама чрезмерно сложная, громоздкая процедура измерения.
Ничего лучшего предложить наука все же не могла. Тем более что другая попытка установить естественную меру длины, предпринятая в Англии, оказалась еще менее утешительной. Англичане стремились обставить свой опыт наиболее строго: мерой длины должна была стать длина маятника, который совершал бы на широте Лондона, в вакууме, на уровне моря одно колебание в секунду. Но по этому рецепту сами же англичане не в состоянии были получить двух одинаковых результатов.
Так «земной метр» и остался принятой единицей длины. Пусть это не одна сорокамиллионная меридиана, не та естественная, природная мера, о которой мечталось, а всего лишь условное расстояние между двумя штриховыми отметками на платино-иридиевом стержне, но что поделать! Точность научного исследования пришлось заменить добрым согласием: считать этот стержень по-прежнему метром. Важно только сохранить его неизменным.
Стержень торжественно поместили в Международном бюро мер и весов, близ Парижа, в глубоком подземелье, и присвоили ему высокий титул: «международный метр-прототип». А его точные копии, метры-близнецы, были развезены в специально охраняемых вагонах по разным странам. С тех пор и поселился в нашей менделеевской палате один из метров-близнецов, известный под названием «метр 28», - платино-иридиевый стержень с штриховыми отметками по концам.
Он лежит, этот стержень, в здании на одном из ленинградских проспектов, наивозможно изолированный от влияний окружающего мира. Он лежит в особой бронированной комнате с двойными шлюзованными дверями, в комнате, где пол не связан со стенами, чтобы предохранить его от сотрясений, где всегда поддерживается строго постоянная температура и где нет окон, сквозь которые мог бы просочиться снаружи солнечный луч и нарушить установленное температурное равновесие. Он лежит, этот стержень, укутанный в бархат, в деревянном футляре.
А футляр заключен в латунный цилиндр. А цилиндр заперт в несгораемом шкафу на три разных замка, ключи от которых хранятся у трех сотрудников института.
И все это для того, чтобы сохранить неприкосновенность метра, неизменной его длину, чтобы расстояние между его ограничивающими штрихами всегда было одинаковым и всегда точнейшим образом равнялось расстоянию между штрихами на международном прототипе, лежащем в подземелье близ Парижа. Исключительная бережность здесь неудивительна. Ведь «метр 28» - наш государственный эталон, по которому, в свою очередь, равняются все орудия и средства линейного измерения - и шкалы точнейших приборов, и портновский сантиметр, и рабочие инструменты, и линейка школьника.
И все же почти каждое десятилетие приходится осуществлять «очную ставку», сверяя государственный эталон с международным прототипом. А это значит извлечь стержень из покойного убежища и, нарушив весь привычный образ его существования, везти неженку, не переносящего даже солнечного света, в далекое путешествие- за тысячи километров, во французский город. Это значит ощущать все-таки зависимость своей первичной меры от меры другой, находящейся где-то далеко, не у себя дома.
Так было до тех пор, пока новейшая физика не открыла наконец возможности привести меру длины к действительно природной основе - к такой основе, которая была бы всегда постоянна и получить которую можно без особого труда в любое время в любом месте. Световая волна - вот что стало такой основой. В тонком эксперименте был найден способ измерять ее длину. Для этой цели физики использовали явление интерференции света, при которой всякий сдвиг в ходе светового луча на полволны ясно и наглядно дает о себе знать темными полосами на фоне хорошо отшлифованной стеклянной пластины. А это уже масштаб, по которому можно вычислять, мерить. Явление интерференции, известное еще со времен Ньютона, подчинилось в руках современной физики задачам точного измерения.
Физикам удалось сравнить длину метра с длиной световой волны и выразить соотношение между ними точным числом. И в наиболее чистом, убедительном виде сумела произвести это сравнение советский ученый-оптик Мария Федоровна Романова со своими сотрудниками. Красный цвет паров металла кадмия служил в этих опытах источником волн - красная заря новой метрологии. Более полутора миллионов этих крошечных волн уложилось в одном метре. А если говорить точнее, то 1 553 164,13. Число это постоянно. Длина световой волны всюду оказывается одинаковой. По желанию ее всегда можно получить, не выходя из лаборатории. И ошибка между двумя результатами будет меньше даже одной двухмиллионной - степень точности, о которой говорят, что «точнее и не нужно».
Так над метром-прототипом, с его условными штриховыми отметками, появился контролер - световой эталон. Незыблемый, непогрешимый.
Но как же передать от него меру длины по всей бесконечно разветвленной цепи средств измерения - всем инструментам, приборам, рабочим калибрам? От метра-прототипа передача размера происходит по принципу «от штриха до штриха». Сначала это длина между двумя штрихами на стержне прототипа, и на стержнях государственных эталонов, и на стержнях-свидетелях. А потом на образцовых мерах эта длина делится также штрихами на более мелкие промежутки - на сантиметры, миллиметры. И от них передается всем шкалам и линейкам, по которым отсчет также ведут от штриха до штриха. Потому и меры эти названы штриховыми.
Совсем иначе передается размер от световой волны. В том же Всесоюзном институте метрологии, где покоится «метр 28», в соседней лаборатории, вам покажут хорошенькую аккуратную шкатулку: «Вот здесь хранятся передатчики светового эталона». Вы открываете крышку- и что же! Там, в шкатулке, в бархатных гнездышках, лежат такие же плитки, какие мы только что видели в цехе московского завода «Калибр».
В мире микронов
Плитки - так говорят на заводе ради простоты. У плиток есть и свое высокоученое название: плоско-параллельные концевые меры длины. В этом несколько громоздком термине запечатлен как бы сгусток их замечательных свойств.
Плитки - плоские. Каждая их сторона безукоризненно плоская. Настолько плоская, насколько вообще при современных средствах возможно приблизиться к идеальной. геометрической плоскости. А противоположные стороны между собой строго параллельны. Хорошая плитка не может отклониться от этого условия даже на десятую долю микрона. Именно эта плоско-параллельность и делает плитку той превосходной пластиной, которую можно измерить с помощью интерференции световых волн. Плоско-параллельность позволяет плитке стать передатчиком светового эталона. И эта же плоско-параллельность держит строго приданный плитке размер.
Каждая плитка имеет свой определенный размер. Он заключен между ее противоположными, параллельными плоскостями, от одной стороны до другой, от конца до конца. Поэтому плитки и называются концевыми мерами длины. Ими мерят так же, как и концевым инструментом. Ну, скажем, как калибром-пробкой, вставляя ее в отверстие изделия, или как калибром-скобой, обнимая ее концами вал. От конца до конца. Этим они и отличаются от мер штриховых, от шкал и линеек, где размер заключен от штриха до штриха.
А говоря попросту, размер плитки - это ее толщина. Бывают плитки размером всего в полмиллиметра: совсем тоненькая пластинка. Другие плитки - всё толще и толще. Есть плитки и в сто миллиметров и даже больше - этакий маленький стальной кирпичик. Здесь уж толщина становится такой большой, что хочется назвать ее высотой, хотя по геометрии это одно и то же.
Одна плитка отличается от другой на целый миллиметр, другая - на половину, третья - на сотую долю миллиметра. А есть плитки, размер которых выражен в тысячных долях миллиметра, в микронах. Так плитки ведут наши измерения к микронной точности.
Разумеется, плиток в микрон или в несколько микронов не делают. Да это и невозможно. Стальная пластинка такой толщины перестает практически существовать. Микронные размеры прибавляют к более крупным плиткам. Скажем, плитка в один миллиметр и плюс еще один микрон. Или плюс еще два микрона… Микроны тут едут сверх, как добавочные пассажиры.
Рассказывая о плитках, мы все время будем иметь дело с подобной величиной: микрон, доли микрона.
Микрон! Как его представить? Вероятно, все знают, что микрон - тысячная часть миллиметра. Но пока это только голое математическое понятие. А что реальное стоит за ним для наших ощущений, для людей, которым в работе с плитками приходится непрестанно следить за микронами?
Микрон нельзя увидеть. Попробуйте мысленно разделить расстояние между самыми малыми черточками на линейке, обозначающими миллиметр, еще на тысячу частей. Это даже нельзя вообразить.
Микрон нельзя нащупать. Даже самые чувствительные пальцы не могут обнаружить возвышение в несколько микронов.
Тончайшая паутинка - это уже более десятка микронов. Кусок золота, расплющенный до толщины одного микрона, становится прозрачным, как стекло.
Так будем помнить об этой неуловимости микронов, как бы часто ни мелькали они в нашем рассказе. Пусть не примелькаются! Недаром старший мастер Виктор Иванович Дунец с такой откровенной гордостью назвал плитки «инструментом высшей точности».
Но как же мерить, если каждая плитка имеет только один свой размер? Мерить-то приходится самые разные величины. Сколько же понадобится плиток, если держать их на любой случай! Но этого и не нужно. Плитки можно складывать одну с другой, как две арифметические величины. Плитку на плитку, словно кирпичики. Так и получается богатейшая гамма всевозможных размеров.
Один инженер произвел кропотливый математический подсчет: он вывел, что из набора в сотню плиток можно составить до двухсот тысяч различных размеров. И не забудем опять: с микронной точностью!
Тогда - другой вопрос. Хорошо сказать - «складывать, как кирпичики». Но это же неудобно. Чтобы верно измерять, надо орудовать инструментом свободно. Стопку плиток надо передвигать, поднимать, наклонять… Все же рассыплется. Что же это за инструмент?
Вот тут-то мы и встречаемся с одной из самых любопытных загадок маленькой плитки.
«Молекулярный клей»
Виктор Иванович выбирает из ящичка несколько плиток и легким, скользящим движением накладывает, надвигает одну на другую. Их уже целый столбик.
- Тридцать четыре миллиметра семнадцать сотых и плюс еще пять тысячных - пять микронов, - говорит он, протягивая мне столбик. - Можете пользоваться. Хотите, наберем другую величину, по заказу.
Принимая плитки, я боюсь сделать лишнее движение, чтобы не поколебать их хрупкую пирамиду. Но Виктор Иванович вдруг хватает меня за кисть и резко поворачивает ее вниз. Мгновенный ужас охватывает меня: сейчас все полетит, рухнет на пол…
Но нет, все остается на месте. Столбик в целости, и плитки спокойно висят «вверх ногами», как будто их что-то с силой притянуло друг к другу.
- Они магнитные?
Старший мастер смотрит на меня с сожалением.
- Но как же они держатся?
…Еще недавно наука сама стояла в тупике перед этим вопросом. В самом деле, что заставляет плитки тесно притираться друг к другу, словно склеиваться?
Пытались дать такое объяснение: будто плитки скрепляет между собой сила атмосферного давления. Они, мол, такие плоские, такие гладкие, что при соприкосновении между ними не остается воздуха, и окружающая атмосфера прижимает их друг к другу, как знаменитые «магдебургские полушария».
Но когда удалось произвести опытную проверку, оказалось, что сила сцепления плиток намного превосходит то, что могло бы дать атмосферное давление…
- Попробуйте разнять, - предложил мне Виктор Иванович.
Я долго возился, прежде чем сумел случайно сдвинуть верхнюю плиточку. Не оторвать, а сдвинуть!
Надо, оказывается, приложить усилие до пятидесяти килограммов на каждый квадратный сантиметр, чтобы преодолеть взаимную связь между плитками. Ясно, что атмосфера с ее килограммовым давлением на квадратный сантиметр тут ни при чем.
Но что же все-таки держит?
Возникло другое объяснение, более тонкое. Плоские поверхности плиток входят в такой тесный, совершенный контакт, что молекулы металла одной плитки сцепляются с молекулами металла другой, образуя как бы общую структуру. Но и эта гипотеза оказалась несостоятельной.
Опять простой опыт опроверг самые хитрые рассуждения. Плитки попробовали протереть кусочком ваты, смоченной в эфире. И вдруг произошло превращение: плитки потеряли способность сцепляться. Они перестали испытывать взаимную симпатию. Малейший наклон - и плитки, скользя, рассыпались.
Но стоило только подержать плитки на воздухе или провести по ним ладонью, как вновь к ним возвращалось прежнее свойство. Они опять притирались, склеивались. Сущий фокус!
Но этот фокус все объяснил. На поверхность плиток обычно оседают частицы влаги или жира - из воздуха, от рук, от полотенца, которым эти плитки протирают, даже от простой гигроскопической ваты. Частицы эти образуют поверхностный молекулярный слой, тончайшую пленку, И тут вступают в действие скрытые могучие силы внутреннего сцепления между молекулами металлической поверхности и молекулами жидкой пленки. Эта прослойка, как своеобразный «молекулярный клей», схватывает, крепко связывает плитки между собой.
Ваткой, смоченной в эфире, мы снимаем этот слой, и сцепление разрушается. А проводя, скажем, ладонью, мы опять смазываем плитки жиром, который всегда имеется на нашей коже. И плитки вновь обретают дар сцепления.
Дар этот редкий и дается не просто. Есть, например, американские плитки Хока. В них посередине сделана дырочка. И чтобы составить из таких плиток единый блок, приходится насаживать их одну за другой на тонкий стержень. Совсем как шашлык!
Только самая тщательная, строгая отделка, безукоризненная плоскостность рождают это изумительное свойство плиток, при котором они могут сами собой прочно слипаться друг с другом.
Но опять вопрос. Нам предлагают складывать плитки по кирпичикам, чтобы набирать нужный размер. А разве такой способ складывания не вступает в прямое противоречие с той высокой микронной точностью, ради которой и придуманы эти плитки? Ведь как тесно их ни прижимай, все равно между ними должны оставаться какие-то просветы, щелочки.
Да, казалось бы, противоречие. Но дело выручается качеством плиток: их строжайше плоской, гладкой поверхностью. Между такими поверхностями промежуточная пленка становится невообразимо тонкой. Выражаясь ученым языком, она «порядка двойного радиуса сферы действия молекулярных сил». Это значит, что толщина пленки не превышает пяти миллимикрон. Пять тысячных микрона! Надо оценить все «великое ничтожество» такой щелочки. Даже в самых точных измерениях с помощью плиток она не может играть никакой практической роли. Любой их столбик можно вполне считать как бы сделанным из одного куска стали. Так они себя и ведут каждый раз, как цельный, неразрывный инструмент.
Складывая плитки друг с другом, как кирпичики (на каждой указан ее размер), можно составить любую величину. Каждый такой столбик слипшихся плиток представляет нужный отрезок длины. Его можно рассыпать и составить столбик другой длины. Не надо ничего ни отмеривать, ни отсчитывать на глазок, как это делается по штриховым мерам, по линейкам. В каждой плитке, в каждом столбике нужная длина заключена строго от конца до конца, ничего лишнего. Это очень удобно. Столбик плиток можно поставить, например, под щупалец измерительного прибора и установить таким образом совершенно точно показания его стрелки. Столбик плиток можно заложить в установочное приспособление станка и настроить его работу на очень высокую точность. Столбик можно зажать между губками или плоскостями любого измерительного инструмента и проверить его точность. Со столбиком можно сравнивать и длину разных изделий… Самое широкое применение.
Вот почему этим маленьким плиткам доверяется нести непогрешимость светового эталона, осуществлять передачу единой меры длины по всей цепочке нашей работы. Плитки несут эту меру и в науку, и в промышленность, и на стол исследователя, и на станок рабочего. Современный точный контроль множества изделий невозможен без измерительных плиток. Почти все измерения на производстве, в науке ведут свое начало от этих блестящих, зеркальных пластинок.
Плитки, плитки… Без них невозможно даже представить сейчас работу передового производства. На предприятиях образцовый набор плиток хранится как особая ценность, ибо плитки эти связывают измерения в цехах одного предприятия с измерениями в цехах других предприятий. Плитки позволяют соблюдать единую для всех систему измерений во всех звеньях работы - от высших научных учреждений до любого рабочего места в цехе. Они кладут основу той великолепной согласованности в работе миллионов людей, какая открывается нам за техническим термином «стандартизация и взаимозаменяемость деталей». Ведь только при соблюдении всюду необходимой точности возможно изготовлять в тысячах и миллионах одинаковые детали. И так изготовлять, чтобы они подходили друг к другу в совершенном согласии.
А точность эту несут измерительные плитки. «Ключи точности», как их называют.
Вот почему об этих плитках даже здесь, на заводе «Калибр», говорят с таким уважением. И, вступая на участок, защищенный двойными стенами, мы уже подготовлены, чтобы посмотреть заинтересованным взглядом на то, что там происходит.
«Плавающие» резцы
Стальные пластинки закладываются рядами в станок между двумя толстыми чугунными плитами, и осторожный механизм мягко водит их туда и обратно, туда и обратно… Побывав в одном станке, пластинки переходят на другой, затем на третий… Передаются со станков на стол контролера и опять на станок, подвергаясь всякий раз доскональному осмотру. Цепочка последовательных операций.
А мне кажется, что с пластинками как будто ничего и не происходит. Нигде не видно стружки, которая говорила бы о снятии металла. Пластинки остаются на вид все той же формы и величины. Разве только под конец они сверкают больше зеркальным блеском.
Со стороны ничего и не заметишь. И только облаченные в белые халаты работники участка, вооруженные чувствительной аппаратурой и длительным опытом, улавливают происходящие при этих операциях микроскопические перемены.
Здесь, в этом светлом, тихом помещении, на бесшумных станках совершается особый, редкий по своей деликатности процесс: процесс доводки плиток.
Плитки проходят немалый путь по цехам завода. Их заготовки нарезаются из стальных полос или выдавливаются на точных штампах. Их закаляют в пламенных печах. Их подвергают искусственному старению, обрабатывая холодом. Их шлифуют с большой точностью. А затем производят еще зачистку. Потом подвергают на особых электроустановках размагничиванию… Словом, всячески обхаживают и отделывают. Плитки получают строгую форму, аккуратный, блестящий вид, какой редко имеют даже вполне готовые изделия.
И все же они остаются просто хорошенькими пластинками, пока не пройдут на этом участке последний, завершающий процесс - доводку. Только здесь, в процессе доводки, они приобретают те свойства, какие делают их мерой длины, - размеры микронной точности, плоско-параллельность и ту высшую чистоту поверхности, которая сообщает им чудесную способность притираться друг к другу.
Их гладят, гладят и гладят. Гладят осторожно и расчетливо. Гладят вот на этих тихих станках, между чугунными плитами-притирами. Гладят на разные лады…
Так и доводят.
Этот процесс очень мало похож на то, что обычно представляет собой обработка металла. Что там токарное точение, строгание или фрезеровка! Но даже самая тонкая шлифовка - вещь грубая в сравнении с доводкой. Никакой шлифовальный круг не в состоянии снять слой металла меньше одного микрона. А для плиток этот микрон - целая гора. Десятые и сотые доли микрона приходится считать здесь, на рабочих местах участка плиток. И только нежнейшее скольжение плиток по поверхности чугунного притира, только спокойное, ласковое поглаживание, какое происходит при доводке, и может открыть доступ к этим десятым и сотым долям микрона.
И все же при доводке происходит резание металла. Для точения или строгания нужен резец - острый, ощутимый зуб. Для фрезеровки берется ряд зубьев-резцов, расположенных по диску. Шлифовка производится с помощью круга, на поверхности которого заложены острые зерна абразивного материала - сотни мельчайших резцов. У доводки свои «резцы». Но они совсем необычные, очень странные, эти резцы. О них заботятся, чтобы были они и острыми и как бы мягкими одновременно, чтобы они резали так, как будто гладят. И чтобы каждый «резец» был настолько ничтожно мал, словно он сам по себе и не существует.
Это целое искусство - приготовить такой резец. Минерал корунд размалывают в тончайший порошок. Пудра! Она совсем мягкая на ощупь. Но каждая ее крупинка - это скопище невидимых кристалликов с острыми гранями. Это тоже резцы. Их уколы мы не чувствуем, мы для этого слишком толстокожи. А вот плитка с ее микронной чувствительностью почувствует, да еще как!
Но такой пудрой нельзя еще прикасаться к поверхности плиток. Крупинки в ней разные - и покрупней и помельче. А нежнейшее, легкое поглаживание, какое требуется плиткам, осуществимо лишь тогда, когда резцы будут возможно более одинаковые, однородные. Надо, чтобы все они вместе оказывали ровное действие на поверхность плитки. Резцы-зернышки приходится сортировать. Их возгоняют в воздушной или водяной струе. Самые мелкие и легкие крупинки уносятся струей вперед, вверх. Те, что побольше и тяжелее, оседают позади. Так они и распределяются сами собой по сортам. Их и забирают однородными колониями.
Но даже и эти однородные резцы надо еще разбавить. Щепотку зернышек микропорошка взбалтывают в сосуде с бензином. И держат так до тех пор, пока месяца через два не образуется тончайшая мутная взвесь - эмульсия. Всего полграмма корундовых зернышек засыпают в литр бензина. Ничтожнейшая концентрация! И все же в одном кубическом сантиметре эмульсии оказывается около шестнадцати миллионов кристалликов - этих микроскопических резцов. Вот только теперь, в таком разбавленном состоянии, их и решаются допустить к тончайшему процессу доводки плиток.
Эти «плавающие» резцы должны действовать еще по возможности мягче, ровнее. Несколько капель эмульсии аккуратно размазывают по гладкой чугунной плите-притиру. Наши микроскопические резцы разбегаются по всей его поверхности. А затем их втирают в эту чугунную поверхность, чтобы они не торчали, не высовывались. Да еще смазывают стеарином. Да еще смачивают керосином. Чтобы было глаже, возможно глаже. Плиту протирают тщательно и нежно кусочком ваты. Проведите ладонью - и вам покажется, будто это крышка полированного стола. В гладкой, лоснящейся поверхности можно увидеть свое отражение.
А ведь такой притир с утопленными в нем кристалликами - это режущий инструмент для доводки. Два притира - верхний и нижний - и служат теми гладильными досками, между которыми скользят в станке маленькие слитки. Удивительное сочетание: гладкое резание! Но уж такова особенность этого процесса.
Скользят плиточки туда и обратно, туда и обратно, и под ласковым прикосновением тысяч невидимых резцов слетают с плиток постепенно, как бы от дуновения, невидимые пылинки металла. Десятые и сотые доли микрона. Теоретически это стружка. А практически - ничего не видно. Только какие-то мутные разводы появляются на поверхности притиров. Туман, пыльца.
Но дело тут еще сложнее. Наш ученый - академик Илья Васильевич Гребенщиков впервые проник в суть явлений, происходящих при доводке, и вскрыл тайны этого удивительного производственного процесса. Доводка - это не простое резание, хотя бы и самое микроскопическое. Не просто механическое отрывание крупиц метал-ла. Доводка касается таких тончайших поверхностных слоев, лежащих на границе металла с внешней средой, что между ними все время совершается взаимодействие атомов и молекул. Едва слетает с плитки микронная частица и на поверхности металла обнажается какая-нибудь точка, как на эту точку немедленно оседают из воздуха атомы кислорода, образуя пленку, тонкую до предела, но крепкую, как панцирь. На нее вновь наступают наши кристаллики-резцы, запрятанные в доводочном притире. Им приходят на помощь молекулы смазочных веществ - стеарина, керосина. Академик Петр Александрович Ребиндер открыл картину их действия. Они атакуют молекулы поверхностной пленки, расшатывают, расталкивают их, проникают в их промежутки, в любую трещинку, и пленочка становится мягче, податливей, раздаваясь под уколами резцов. И еще микронная пылинка слетает с металла. А на обнаженное место опять набрасываются атомы кислорода. И вновь вступают в действие частицы смазочных веществ. Борьба возобновляется…
Вот какие ожесточенные молекулярные сражения разыгрываются на поверхности плиток во время, казалось бы, самой спокойной, невозмутимой работы доводочных станков. Миллионы молекул сталкиваются друг с другом, хотя поле сражения часто не превышает здесь булавочного острия.
Так процесс доводки становится не только процессом механическим, но и процессом химическим. Сложный, своеобразный, удивительный процесс.
Этим процессом управляют люди в белых халатах - рабочие и мастера. Осторожно и расчетливо вводят они в действие необыкновенные микроскопически малые «плавающие» резцы, которые совершают в станках на поверхности металла свою поразительно тонкую, едва уловимую работу.
Тихий шелест плывет по участку.
По ступеням высшей точности
Все здесь, на участке плиток, подчинено обхождению с микронами, с их десятыми и сотыми долями. Люди здесь привыкают не бояться запретов строгой области бесконечно малых, невидимых величин. Люди научились распознавать в своей текущей работе эти величины, улавливать их, управлять ими.
- Микроны-то у нас в программу впряжены, - заметил без тени преувеличения Виктор Иванович.
И действительно, не следует забывать, что все эти операции чрезвычайной тонкости ведут здесь не ради одного изучения или опыта, а в условиях производства - с массовым выпуском измерительных плиток, по жесткому плану, с ежедневным графиком. Здесь уже требуется ловить десятые и сотые доли микрона наверняка. Осторожно приходится обращать плитку в меру длины. Ступенька за ступенькой подходить к ее окончательному виду - к ее точной геометрии, к высшей чистоте поверхности.
Сначала ее проглаживают наиболее крупными кристалликами-резцами - размером в несколько микронов,- заставляя плитку ходить под ними помногу раз. Но это считается здесь топорной работой, и операция так и называется: «грубая доводка», хотя вся «грубость» заключается в том, что с плитки за сотню проходов сметаются всего лишь считанные микроны.
Затем плитка переходит на соседний станок, где ее поглаживают резцами помельче и смазки берут поменьше. Плитка совершает уже не сотню, а только три - четыре десятка проходов между притирами. И вот еще несколько микронов слетело с ее поверхности.
Шаг за шагом, со станка на станок процесс доводки становится все тоньше, все деликатнее. Наконец резцы на притирах берутся столь мелкими, что каждый из них едва ли превышает один микрон. Да и то нм разрешается пройтись по плитке всего лишь несколько раз. Ведь на этой стадии приходится учитывать каждую десятую микрона, снимаемую с поверхности плиток.
И все же это не конец. Все это считается здесь только предварительной доводкой. Плиткам предстоит пройти еще самую последнюю ступень, наиболее ответственную и решающую, - ступень окончательной доводки.
Я стою возле станка, где завершается вся цепь процесса, и ожидаю того, что должно окончательно превратить стальную пластинку в плоско-параллельную концевую меру длины. Невысокая женщина в чистом халате и белой косынке - доводчица Прасковья Евтеевна Петрыкина, - видимо, нисколько не разделяя моего нетерпения, спокойно и деловито подготавливает этот последний аккорд микронной симфонии.
Она проводит каким-то брусочком по поверхности притира. Хотя в притире утоплены самые что ни на есть мельчайшие из всех разбавленных кристалликов-резцов, но для этой, последней операции даже они чересчур угловаты и остры. Вот Прасковья Евтеевна и притупляет их брусочком твердого минерала. А затем тщательно, каким-то особенно плавным, круговым движением, которое мне приходилось наблюдать только у опытных стекольщиков и полировщиков дерева, она протирает всю поверхность притира туго свернутой марлей. Никакой смазки тут больше не полагается. Поглаживание плиток пойдет почти всухую, и только ничтожные молекулы графита, содержащегося в самом чугуне притира, будут оказывать то смазывающее действие, которое здесь допустимо.
Поверхность притира блестит, как зеркало. В этом-то зеркале и заключается тот совершенный «гладкий резец», который чуть тронет сейчас плиточки на прощанье в таком нежном, мимолетном прикосновении, что эта операция получила свое неофициальное название «воздушный поцелуй».
Тщательно протирая каждую плиточку полотенцем, Прасковья Евтеевна закладывает их в обойму станка. Всего шестнадцать штук. Если раньше, на грубой и предварительной доводке, можно было закладывать в станок сразу штук до семидесяти, то теперь, напоследок, больше шестнадцати нельзя. Теперь за каждой плиточкой особая, чрезвычайная слежка. Теперь и ходы плиток между притирами туда и обратно совершаются совсем осторожно, медленно. И количество ходов - раз - два, и обчелся. Мягче, мягче, деликатнее - об этом главная забота.
Едва слышно шелестит станок в работе, мягко пощелкивая при переменах движения. Прибирая свой рабочий столик, Прасковья Евтеевна поглядывает на станок. Смотреть, собственно, нечего: в нем все закрыто, и плитки ходят там, внутри, между притирами. Но по тому, как Прасковья Евтеевна слегка наклонила голову, я догадываюсь, что она не столько смотрит, сколько слушает. Она считает про себя ходы и в то же время как бы прислушивается к тому, что там, в станке, происходит.
Ей приходится часто останавливать станок и проверять плитки. Любой лишний проход может смахнуть в последний момент как раз ту десятую дольку микрона, которую смахивать уже и не следует. Приходится проверять.
А проверить плитку - это значит вынуть ее из станка, протереть ваткой с бензином, потом сухим, свежим полотенцем, удалить чистой куньей щеточкой приставшие волокна и только после всего этого перенести плитку на поверочные стекла. Там ее нужно аккуратно, плотно притереть на полированной стеклянной пластине рядом с другой плиткой, которая точнейшим образом выверена в измерительной лаборатории и служит эталоном. А сверху наложить вторую стеклянную пластину и особым нажимом на ее край создать между пластинами тонкий воздушный клин. Тогда возникает явление интерференции. И световые волны, по-разному отражаясь от разных точек на поверхности плиток, дают, как на экране, наглядную картину этой поверхности в виде ряда радужных полосок. Изысканный физический метод, бывший некогда лишь уделом «чистой науки», переселился теперь на производство, в цех, к станку, чтобы служить средством рабочего контроля. Технический метод интерференции - так он называется. Его создали советские ученые, сотрудники Института метрологии.
Прасковья Евтеевна им вполне владеет, уверенно читая смысл возникающей перед ней световой картины. По характеру радужных линий, по их форме судит она о том, насколько поверхность плитки приближается к идеально геометрической плоскости. Сравнивая изгибы и высоту полосок, она видит те десятые дольки микронов, судьбу которых ей ежеминутно приходится решать, управляя станком окончательной доводки.
Но вот какая трудность стоит все время перед ней. Будешь проверять плиточки редко - станок снимет больше, чем надо, и нужные доли уйдут безвозвратно. Будешь проверять слишком часто, предупреждая каждый ход станка, - какая же будет производительность? Правда, здесь все предельно точно рассчитано: и рецептура подготовки доводочного зеркала на притирах, и давление притира на плитки, и путь плиток туда и обратно, и число ходов… Но десятая микрона - это все же такая величина, которая всегда может легко проскользнуть. Недаром Прасковья Евтеевна так настороженно прислушивается к станку. Она как бы подслушивает, угадывает тот момент, когда следует остановиться и проверить плитки. И почти всегда такая остановка происходит на границе, у которой можно уже твердо сказать: еще один - два прохода - и стоп! Плитка готова. В этом тонком расчете и рождается высокая производительность.
«Ощущение плитки», - говорят иногда на участке. Мне, конечно, хотелось узнать, что же это такое: опыт, внимание, особая способность или любовь к делу, в котором техника так удивительно соседствует с искусством? Я спросил Петрыкину:
- Вы здесь давно?
- Скоро двадцать лет, - ответила она, рассматривая зеркало готовой плитки. - Я тут выросла с ними, - добавила она, указывая на плитки, и осторожно опустила одну из них в ванночку для промывки, где на дне лежала ватная подстилка, чтобы плиткам было удобнее, мягче. - Всякое тут бывало, - продолжала Прасковья Евтеевна задумчиво: - и страхи поначалу и слезы… А теперь вот видите, как у нас устроено. - И она окинула взглядом участок, как бы проверяя, какое он должен произвести впечатление на постороннего.
В светлом помещении, за светлыми машинами-станками, поглощенные таинством доводки, стояли люди в белых халатах, белых передниках, и под легкий металлический шелест скользящих плиток, как под тихий аккомпанемент, мерно текла тонкая, деликатная работа.
Плюс-минус полградуса
Нет такой мелочи, которая не имела бы здесь, на участке плиток, своего существенного значения. Не бывает здесь такого пустяка, которым можно было бы пренебречь. Пылинка, осевшая на поверхность плитки, может вывести ее из строя. Если вытереть готовую плитку не свежим льняным полотенцем, а полотенцем, побывавшим в стирке, плитка - под угрозой порчи от остатков мыла и волокон махрящегося полотенца. На каждом шагу может что-нибудь подстерегать.
Много требуется здесь, чтобы соблюсти нужную точность работы. Но не меньше приходится думать и о том, как бы охранить эту точность, уберечь ее от непрошенных влияний. Как же уберечь?
Возвести двойные стенки, вставить в окна двойные переплеты, чтобы преградить сюда доступ пыли и шуму; уложить фундамент под станками, чтобы не было сотрясений; одеть людей и станки во все белое, светлое, чтобы строже поддерживать чистоту… Все это необходимо, но всего этого недостаточно. Остается еще человек, который делает плитки, проверяет плитки и неизбежно своим присутствием влияет на них. Остается природа за этими стенами и окнами, которая вовсе не считается с тем, что плиткам нужно и не нужно, и в неотвратимой смене времен года, дня и ночи, дождя и солнца также стремится оказать на плитки свое влияние.
- Вам, может, чудно будет, сколько нам хотя бы вот это доставляет хлопот, - сказал Виктор Иванович, кивнув на стену.
Там висел большой термометр с такими крупными делениями, что отовсюду их можно легко разглядеть, отсчитывая не только целые градусы, но и доли градуса.
- Температура! - многозначительно погрозил пальцем Виктор Иванович. - Нам полагается двадцать градусов. Во всякое время. Зимой и летом. Не вообще двадцать, а плюс двадцать градусов точно, по Цельсию. Иначе к плиткам и не подходи.
Я еще раз взглянул на большой термометр. Столбик ртути стоял у цифры «20».
Все точные меры длины отнесены к этой температуре - в этом залог единства их показаний. Государственный стержень-эталон, хранящийся в подвале Института метрологии, считается метром только при двадцати градусах Цельсия. Шкалы точных приборов верны только при этой температуре. Плитки держат свою микронную точность только при двадцати градусах Цельсия.
Достаточно температуре на участке отклониться на два - три градуса, как доводку плиток постигает настоящее бедствие: нарушается плоскостность. Брак! Стоит плиткам в их движении между притирами хоть немного нагреться, как коэффициент теплового расширения поглощает все микронные доли, которые старались уловить здесь с такой великой тщательностью.
Забота о температуре никогда не оставляет здесь ни одного человека. Среди круговорота капризных требований процесса старший мастер Виктор Иванович не забывает то и дело поглядывать на большой термометр. Контролер, прежде чем начать проверку плиток между операциями, проверяет раньше всего температуру. Любая доводчица, не сходя с места, может видеть, сколько там, на большом термометре. Если ртутный столбик сдвинется хотя бы на полградуса, на участке бьют тревогу. Даже в государственном стандарте записан этот предельный допуск в температуре: плюс-минус полградуса.
- Это еще что! - утешил Виктор Иванович. - Хотите посмотреть, что такое температурный режим, так зайдите туда, в наш отдел контроля. Вот там строгость! - И он указал на цеховую перегородку, где как раз в тот момент открылось небольшое окошечко и чья-то рука, облаченная в белое, приняла коробочку с плитками и исчезла. Окошечко вновь захлопнулось.
С предосторожностями еще большими, чем раньше. провели меня через двойную систему дверей в помещение контроля.
Здесь было очень тихо. За аккуратными лабораторными столиками, поставленными один за другим в два ровных ряда, сидели перед удивительно аккуратными приборами девушки в белейших подкрахмаленных халатах и сосредоточенно занимались своим аккуратнейшим делом. А их щепетильной важности занятие в чинном спокойствии охраняла и держала под своим присмотром степенная женщина с пристальным, внимательным взглядом - старший контролер Ольга Николаевна.
На этих столиках готовые плитки подвергаются доскональному исследованию. Их проверяют по всем статьям - на плоскостность, на чистоту поверхности, проверяют степень точности размеров. Здесь они получают свой первый производственный аттестат. Отклонение в одну - две десятые микрона уже переводит плиточку из высшего класса точности в более низкий. Всякий свой приговор контролер отмечает особым значком на листочке папиросной бумаги, в который здесь бережно пеленают каждую плитку в отдельности.
Это большая ответственность - вынести приговор плитке. Поэтому ее тщательно сравнивают с другой такой же плиткой, но уже аттестованной по более высокому разряду и утвержденной специальным метрологическим учреждением как плитка-эталон. Поэтому и средства измерения здесь, на контроле, еще более тонкие, ответственные, чем на участке. И приемы еще деликатней.
Здесь плитки измеряются с помощью чрезвычайно точного и совершенного оптического прибора - интерферометра Уверского. Изобретатель его, инженер завода Иосиф Тимофеевич Уверский, заставил световую волну так «ощупывать» предметы, чтобы картина интерференции сразу переводилась на шкалу. Наблюдатель прямо как по линейке отсчитывает микронные доли с точностью до двух сотых микрона. А опытный глаз может подметить вполне точно еще половинку. Так на приборе улавливается каждая сотая микрона - величина, существующая где-то на грани мира молекул. В него почти и заглядывают девушки-контролеры, когда проверяют плитки на этом интерферометре, напоминающем по виду сочетание фотоувеличителя с микроскопом.
Вот тут-то я и почувствовал, что значит температурный режим. Конечно, уже при входе мне бросился в глаза такой же большой термометр на стене, как и на участке доводки. И ртутный столбик все так же показывал ровно двадцать градусов. Все здесь приравнивается к этой температуре - и воздух в помещении и обстановка на контрольном столике.
Я потянулся было к столику поближе, но Ольга Николаевна меня предупредила:
- Осторожно! Не нарушьте температуру!
И действительно, мое приближение было равносильно тому, что к прибору и плиткам подносят источник тепла в тридцать семь градусов. Здесь обо всем приходится думать. Попробуйте положить плитку на прибор и едва коснуться ее пальцем - на экране прибора тотчас же произойдет изменение световой картины: плитка уже увеличилась в своих размерах.
Строгость, осмотрительность прежде всего.
Здесь избегают брать плитки непосредственно рукой.
Их захватывают деревянным пинцетом, а на руки надевают резиновые пальцы. И все же плитку нельзя допустить сразу к самому прибору. Ее выдерживают сначала на вспомогательной площадке, чтобы окончательно выравнялась температура. И лишь затем пододвигают уже на вторую, измерительную площадку, под самый щупалец прибора. Двигать нужно опять-таки не рукой, а специальным движком, в котором плитка покоится, как в люльке.
Теперь как будто все влияния устранены. Можно мерить? Нет, еще не совсем. Остается еще сам наблюдатель-контролер, который сидит перед столиком, излучая тепло в тридцать семь градусов, дышит, наклоняется к прибору, заглядывая в окуляр микроскопа. Надо оградить результат измерения и от этого вмешательства. Между человеком и прибором ставится защитный прозрачный экран. Сквозь него можно видеть, но тепловых лучей он не пропускает.
Вот теперь, пожалуйста, измеряйте. Ловите на плитках десятые и сотые доли микрона.
Но в окна цеха - в эти огромные стекла во всю стену - стучится погода. То белая зима с ледяным дыханием. То жаркое лето. И опять - влияние на плитки. Зимой охранять их от проникновения холода все-таки легче. По стенам участка толстыми змеями извиваются трубы, образуя причудливый узор. По ним течет горячая вода. И внимательные регуляторы держат все время приток воды таким, чтобы ртутный столбик на большом термометре не сходил с деления «20».
Но лето! Мы говорим: «Ах, как хорошо! Жарко, можно прогреться». А для маленьких чувствительных плиток это почти солнечный удар. Недаром помещение для участка плиток выбирается так, чтобы окна его выходили на север, но только не на юг, не на солнечную сторону. И даже от косых, последних лучей солнца здесь прибегают к защите, задергивая окна легкими шелковистыми шторами.
Но этого мало. Мощная система вентиляции проложена по всему участку. Широкие трубы отсасывают воздух плохой, перегретый, а другие трубы подают воздух свежий, проточный, образующий перед окнами охлаждающую подушку. К тому же еще и по изогнутым трубам отопления течет холодная вода. Так во всем помещении создается как бы свой, замкнутый микроклимат. Двадцать градусов по Цельсию - не больше, не меньше.
Здесь это называют - «температурный режим».
И все же в сильную жару выпадают такие дни, когда работать с плитками лучше всего только во второй половине ночи.
Остывает воздух, остывает камень, асфальт. Окружающие здания перестают быть печками, излучающими набранную от солнца теплоту. И тогда, в эти тихие часы, приходят сюда девушки-контролеры, надевают белоснежные халаты и садятся за столики. Кто-нибудь откроет верхнюю раму в окне, и все почувствуют нежный, волнующий запах зелени. За окном раскинулся заводской сад. Настоящий большой сад с тенистыми аллеями, цветниками. Его создавали сами рабочие завода. Взращивая деревья и цветы вокруг заводских корпусов, они, конечно, думали о том, как это будет красиво, как это хорошо для настроения и здоровья. Но была мысль еще и о том, что есть у них на заводе такие дорогие, любимые изделия, которые тоже по-своему нуждаются в этой благодатной свежести.
С той же мыслью работают и девушки, отдавая плиткам свой ночной труд в дни жаркой страды. Тихо. Работают почти безмолвно. Только изредка кто-нибудь скажет фразу вполголоса, обращаясь к Ольге Николаевне. В такой час как-то и не получается иначе и не хочется громким разговором спугнуть точность своей работы.
С аттестатом в жизнь
Плитка за плиткой снимаются с приборов и, получая на папиросной бумажке свой первый аттестат, отправляются на раскладку. На другой день я увидел их уже покрытыми слоем смазки и разложенными в футлярах по ячейкам, как в сотах улья. Полный набор в восемьдесят семь штук, из которых можно составить по желанию тысячи и тысячи самых различных размеров с микронной точностью. В этих желтых коробочках-футлярах плитки покинут участок, покинут завод и, пройдя еще более строгий экзамен в лаборатории представителя Института мер и измерительных приборов, получат уже аттестат окончательный и вместе с ним право называться плоско-параллельными концевыми мерами длины.
Они идут, эти маленькие плитки, в широкую жизнь - в промышленность, в науку, - неся на себе постоянство и непогрешимость светового эталона. Они входят как кирпичики в самую основу, фундамент нашего стройного здания единой системы измерений, давая нам возможность поднимать все выше и выше точность нашей работы, точность техники, общий класс точности наших пятилеток.
* * *
Ну вот, кажется, можно было бы и распроститься с этим удивительным участком. Проводив меня до дверей, старший мастер пожал мне руку и сказал как бы между прочим:
- Так-то мы и живем сейчас. А было… Знаете ли, как все это доставалось…
Странно! То слова работницы о страхе и слезах, то это замечание мастера. Я попросил объяснений. И то, что я услышал, заставило меня вернуться на участок и взглянуть заново на все, что там совершается.
Я рассчитывал покинуть участок, а оказывается, настоящее-то знакомство с ним только начиналось. Мне пришлось узнать еще о его делах. Узнать также и жизнь, судьбу людей, которые пустились на это дело с плитками, как на открытие неизвестной земли. Немало испытаний выпало на долю этих простых людей завода, стремившихся разгадать тайны плиток точности, раскрыть секреты их производства.
Об этом и будет рассказано дальше.
РАЗГАДАННЫЙ СЕКРЕТ
1928 год. Памятный всем год: начало первой пятилетки. Время больших начинаний и больших надежд. Гигантское движение людей, перемены миллионов человеческих судеб.
По-разному, каждый по-своему, вступают в этот год герои нашего повествования.
Молодой слесарь Дмитрий Семенов работает в цехе одного из ленинградских заводов на Выборгской стороне. Он окончил школу фабзавуча, поездил по городам, по разным заводам, испробовал несколько специальностей. Работа ему удается, но душа ищет чего-то еще, «самого интересного». И он жадно приглядывается к окружающему.
Кадровый, потомственный пролетарий Николай Васильевич Кушников, искусный мастер и зачинатель инструментального дела в стране, занят устройством одной производственной артели. Он думает о развитии начатого дела. Артель называется «Красный инструментальщик».
Его сын, Леонид Кушников, - студент Ленинградского политехнического института. Он встречает этот год на скамье третьего курса. Кажется, он нашел свое призвание: он будет инженером-механиком.
Есть и другие герои нашего рассказа - неизвестные еще юноши и девушки в разных селах и городах. Они собирают котомки, чтобы, оставив дом и свое детство, пуститься в жизнь - туда, где властно и громко раздается зов пятилетки.
Все они действуют еще раздельно, многие даже не знают друг друга. Но события жизни соединят их вместе, и судьба их окажется тесно связанной с судьбой и делом этих маленьких плиток, которые мы называем ключами точности.
Вот как это произошло.
Флигель на Петроградской стороне
В зимний день двадцать восьмого года, когда снежная метель гуляла по проспектам и набережным Ленинграда, слесарь Дмитрий Семенов, разыскав на Петроградской стороне небольшой флигель внутри двора, постучался в дверь с надписью «Красный инструментальщик».
Он увидел внутри самую скромную обстановку: простые деревянные верстаки, тиски, несколько обыкновенных станочков.
- Мне бы Кушникова, Николая Васильевича, - спросил он сдержанно и сам стал в ожидании, словно уперся на месте, малорослый, лобастый, с упорным взглядом глубоко посаженных глаз.
- А-а, пришел, искатель! - встретил его Кушников, мягко пожимая руку. - Ну, пойдем, покажу…
Они познакомились недавно. Кушников встретил Семенова на одном из заводов и сразу обратил на него внимание. В манере молодого слесаря обращаться с металлом было нечто такое, что заставило подумать: «Может выйти толк». А «толк», по убеждению Николая Васильевича, - это и значило стать инструментальщиком.
В те дни старый мастер особенно присматривался к молодым: кто бы из них подошел к настоящему делу?
- Ну как? Пойдешь к нам в артель? - предложил он однажды Семенову.
- В артель? - переспросил Семенов. - Надо посмотреть. - А сердце у самого так и запрыгало.
Имя Кушникова было известно среди питерских металлистов, особенно в заводских слесарно-лекальных мастерских: «Кушников? О, это человек! Первый кудесник в лекальном деле…» Ходили слухи и про его артель. «Могучая кучка», - говорили о ней несколько таинственно.
Теперь Семенов увидел все это сам.
В комнатах бывшего жилого флигеля за простыми верстаками сидели мастеровые, уже в летах, серьезные, сосредоточенные, и, нахохлившись, как дятлы, корпели над тонкой работой. Здесь делали измерительный инструмент - разные линейки, скобы, угольники, сложные инструменты со шкалами, профильные шаблоны…
Семенову они попадались и раньше - он пользовался ими, чтобы верно определить, измерить свою работу. Он знал, как дорожат таким инструментом на производстве: ведь без него человек все равно что слепой! Но толь-ко сейчас он увидел, что значит изготовить такой инструмент.
Точность! Необычайная точность руководила здесь всем. Строгий расчет, осмотрительность, проверенная четкость приемов - скупая, но властная красота открылась молодому слесарю за этими простыми верстаками.
Не ему напоминать, как трудно обработать какую-нибудь деталь с точностью, ну, скажем, в половину или четверть миллиметра. Он наплакался не раз, ловя эту скользкую, незаметную частичку. А тут, оказывается, она просто не в счет. Тут за верстаками шла своя игра, тонкая, легчайшая, рассчитанная на сотые доли. «Сотка», - говорил с легкой небрежностью Николай Васильевич. Тут ответственные части инструментов подвергались такой отделке, что металл становился гладким, как полированное стекло.
«Так вот оно как!» - думал Семенов, глядя с завистью на этих людей, которые способны совсем вручную - простым молотком, напильником или шлифовальным брусочком - производить такие тонкости. И вспомнилось выражение: «могучая кучка».
Их было человек десять - ядро артели. Повидавшие виды мастера, лекальщики, знатоки инструментального дела. Еще не так давно они работали по разным местам, в одиночку. В царской России не было инструментальной промышленности, все было привозное. И редкий опыт русских мастеров ютился случайно в отдельных уголках - где-нибудь в цехе или в комнатушке кустарной мастерской. Там, в одиночестве, в отрыве друг от друга, пробивались к мастерству отдельные таланты, создавая подручные средства точного измерения - калибры, шаблоны, капризно-сложные контрольные лекала. Пробовали там иногда воспроизвести по-своему из куска металла маленькое чудо точности - измерительный инструмент.
Теперь они собрались в артель, старые товарищи по ремеслу. Они решили объединить свой разрозненный опыт, чтобы вместе, общими силами постараться заложить новое дело: производство собственного инструмента для собственной, советской промышленности. Страна растет, грандиозное строительство поднимается повсюду. Но надо помнить, что среди гигантов индустрии - великанов новой техники - занимает свое место и такой, казалось бы, скромный, невидный предмет, как рабочий инструмент точного измерения.
Конечно, немногое могла сделать одна артель в сравнении с тем, что десятилетиями завозилось из-за границы. Но в этом флигеле внутри ленинградского двора пробивались ростки будущего. В терпеливых усилиях небольшой группки простых мастеровых людей ясно проглядывала жажда освобождения от чужой зависимости.
Члены артели понимали свое дело как государственное. Никто здесь не извлекал для себя никакой частной прибыли, все доходы шли на расширение производства. Это было простое рабочее товарищество, и собравшиеся здесь по собственному почину мастеровые люди, довольствуясь самым скромным заработком, терпя часто сильную нужду, стремились в труде своем открыть для страны истоки нового богатства - богатства инструментально-измерительной техники.
Николай Васильевич и Семенов были уже на втором этаже, когда старый мастер остановился перед самой отдаленной комнатой:
- Ну, посмотрим еще кое-чего… - и зачем-то откашлялся.
Странно и непонятно. Что здесь, собственно, делают? Семенов недоумевал: что за работу ведут здесь эти четыре человека, затворившись в дальней комнате? Припудрив гладкую чугунную доску мелким, как пыль, порошком, они принимаются осторожно водить по этой доске маленькой металлической пластинкой. Водят медленно, плавно, туда и обратно, совершая рукой однообразные движения. Часто ставят пластинку на измерительный прибор, похожий на микроскоп, и, прильнув к зрительной трубке, что-то там внимательно рассматривают.
Чем дальше, тем все яснее, как начищенная, становилась поверхность пластинки и тем еще осторожнее, еще легче были движения руки. Наконец пластинка превращалась в чистейшее зеркало: она ярко блестела, переливаясь на свету. Тогда она, видимо, считалась готовой, и ее откладывали в сторону, рядышком с другими. Там были пластинки и тоньше и толще, но все они были чрезвычайно аккуратны и все поражали глаз своим безукоризненным зеркальным блеском. Их хотелось потрогать, провести пальцем по сверкающей глади металла. Никогда еще не встречал Семенов такой совершенной отделки.
Но что же это за пластинки? Для чего они?
- Плитки Иогансона, - произнес с каким-то особенным выражением Николай Васильевич.
Семенов недоуменно взглянул на него.
- Самый точный инструмент, точнее нет, - сказал старый мастер. - От этих плиток идут все наши измерения. Умницы-плитки…
Николай Васильевич посвятил молодого слесаря в секреты маленьких плиток. Каждая плитка делается строго определенной толщины: это ее размер. Делается так точно, что размер можно довести вплоть до одной тысячной доли миллиметра, то есть до одного микрона. Ведь зерна порошка, рассыпанные по чугунной плите, - все равно что мельчайшие, микроскопические резцы. И когда по ним мягко, осторожно гладят плиткой, они снимают с нее самые тончайшие слои металла, ничтожные, невидимые частички. Это и приводит к микронной точности и дает металлу такую гладкость, что он становится зеркалом.
Но зеркало нужно плиткам не для красоты. В зеркале таится их самое изумительное свойство.
Николай Васильевич взял со стола несколько плиток и каким-то особым, скользящим движением наложил их друг на друга. Все плитки слиплись между собой, и так прочно, так плотно, что как бы образовали один кусок металла. Их можно было разнять и опять сложить, и они опять плотно слипались. Словно какая-то таинственная сила влекла их друг к другу и удерживала вместе. Так можно складывать между собой самые разные плитки, составляя из них какой угодно размер. Плитки становятся удобным наборным инструментом - инструментом высшей точности.
Но если нет зеркала на поверхности плиток, то вся сила их сцепления пропадает. Они рассыпаются, и нет больше инструмента.
Зеркало! Это значит, что поверхность металла отглажена до невообразимо совершенной степени. Трудно даже представить себе это.
- Сколько же тут снимать надо? - сдавленным голосом спросил Семенов.
- Десятые и, пожалуй, сотые доли, если хочешь получить хорошую плитку, - ответил Кушников.
- Сотые доли? Миллиметра?
- Нет, микрона. Сотые микрона, - улыбнулся мастер.
Семенов невольно зажмурился. Он словно заглянул в такие глубины, в такую бездну неуловимо ничтожных величин, что голова пошла кругом.
Ему приходилось слышать: микрон - это тысячная часть миллиметра. Но это было для него только смутным понятием, за которым ничего определенного ему не представлялось, - ну, скажем, так же, как молекулы или межзвездные расстояния, равные миллионам световых лет,, о чем им рассказывали в школе фабзавуча. Он никогда не имел дела с микронной величиной. Микрон нельзя увидеть, нельзя нащупать. Микрон лежит за пределами наших чувств. Что же такое микрон? Пыльца, ничто…
А вот люди, которые сидят за этими столами и водят плиткой по чугунной доске, совершают своей рукой такую работу, что ее приходится считать не то что на микроны, но даже на десятые, на сотые доли микрона. И только чувствительный оптический прибор, похожий на микроскоп, может уследить за теми ничтожно малыми частичками металла, какие здесь ухитряются снимать.
Было чему подивиться здесь молодому слесарю - и невиданной тонкости работы и даже обличию занятых здесь людей. Один сидел в халате, строгий и важный, как аптекарь над своими порошками. На другом была какая-то особая, высоко застегнутая жилетка. А еще один, сухощавый старичок, восседал по-барски за своим столом, в рубашке с туго накрахмаленным пристежным нагрудником, какие надевали раньше только по случаю большого праздника. Всем своим видом и этой белой пристежной манишкой старичок давал знать: я не просто работаю, я совершаю…
Семенов стоял, застыв перед столами. И глядел, глядел… Наклонив крупную, лобастую голову, словно упершись, он напряженно, с каким-то выражением любопытства и недоверчивости и почти страха следил, не отрываясь, следил за тем, что совершали на его глазах эти мастера. Перед ним было чудо, колдовство! Казалось, ничто не может оторвать его сейчас от созерцания этой картины.
А мастер Николай Васильевич и не спешил с молодым гостем. Пусть посмотрит!
Наконец Семенов тронул опасливо блестящую поверхность одной из пластинок:
- Как вы назвали?
- Плитки Иогансона.
Семенов молча мотнул головой и вдруг глухо спросил, не глядя на мастера:
- А я мог бы?.. Вот здесь… - и запнулся на слове.
Николай Васильевич слегка прищурился. Кажется, он не ошибся в молодом слесаре. Но сдержанно ответил:
- Попробуй. Только смотри, тут сладкого не жди.
Тайны чудесного зеркала
Дмитрий Семенов остался в артели. Ему отвели место в той самой отдаленной комнате, где правил мир микронных величин. Там молодой слесарь, согнувшись за столом над чугунной доской, припудренной мелким порошком, и начал пробовать свои силы в строжайшем искусстве доводки измерительных плиток.
Плитки, эти маленькие блестящие пластинки, поглотили его с головой, тревожили, теребили воображение. Все, что он узнавал о них, было так необычно, странно: их исключительно точные размеры, их удивительное свойство слипаться друг с другом. И зеркало тончайшей отделки… Нет ничего более точного, что мог бы изготовить из металла человек, чем эти плитки. Драгоценные ключи точности.
Но вот какую узнал он про них историю.
Лет за двадцать до того, как развертываются события нашего повествования, один шведский инженер, по имени Иогансон, сумел изготовить такие плитки. Он нашел возможность дать своим плиткам производственное применение. Оказалось, что устанавливать с помощью плиток точную меру длины гораздо удобнее и вернее, чем по старым, штриховым образцам метра. Плитки получили всеобщее признание.
Никто не знал, каким образом находчивый швед изготовил эти плитки. И вскоре самая широкая реклама новой монопольной фирмы, владеющей техническим секретом, внедрила в литературу, в научный язык, в умы людей звучное название - «плитки Иогансона».
Все стремились приобрести набор таких плиток, из которых можно составлять тысячи и тысячи различных размеров с микронной точностью. Все повторяли с восторгом: «Плитки Иогансона!» Даже позднее, когда еще две или три наиболее удачливые фирмы в Европе добились выпуска подобных же измерительных плиток, все равно их продолжали называть плитками Иогансона.
В царскую Россию их продавали на вес золота. Маленькие плитки должны были играть роль ключиков, которыми можно было бы открывать или замыкать по чужому желанию русское точное производство. Тяжелая дань зависимости.
«А как же у нас, разве не пробовали?» - дознавался Семенов.
Нет, один человек все-таки решился: Николай Васильевич Кушников. Но это было уже позднее, в советское время, когда рабочие люди стали иначе думать об интересах своей страны. В начале 20-х годов Николай Васильевич обосновался в городке Коврове, на пулеметном заводе. Он уже был опытным лекальщиком, изобретателем и рационализатором, автором нескольких инструментов собственной конструкции. Но, возможно, он и не рискнул бы взяться за плитки, если бы не некоторые обстоятельства.
На заводе работал крупный ученый-оружейник профессор Федоров. Работал знаменитый мастер-конструктор Василий Дегтярев. Они создавали тогда новое оружие - пистолет-пулемет, или автомат, как теперь называют. Кушников помогал им точным инструментом. Для всех деталей автомата разработал он образцовые лекала, эти тончайшие слепки с каждой детали, без которых невозможно никакое массовое производство. Смелые решения, опыты, опыты…
В непрерывных исканиях рождалось новое оружие. Тогда-то, захваченный духом технической смелости, и решился Кушников на свой особый опыт.
В поздний тихий час, когда замирала жизнь на заводе, сидел он у себя в углу мастерской под одинокой лампой и, вооружившись старомодным пенсне, вел упорную молчаливую борьбу с тайнами маленьких плиток. Он пробовал разные способы тончайшей отделки, искал, как получить чудодейственное зеркало.
Несколько лет длилось медленное движение к цели. Казалось, этому не будет конца. Но вот однажды Николай Васильевич позвал к себе заводских товарищей и выложил перед ними полный набор свеженьких, играющих зеркальным блеском плиток. На них не было латинской надписи «Иогансон». Плитки были свободны от иностранного клейма. Их сделал Николай Васильевич, сделал сам, по собственному способу, пользуясь лишь исключительным искусством своей руки. Заводские товарищи разглядывали блестящий ряд зеркальных пластинок и словно не верили: «Да вправду ли все это?».
Плитки отправили в Ленинград на экзамен. Повез их молодой Леонид Кушников, ученик Ковровского техникума. Была осень двадцать четвертого года, весьма памятная всем ленинградцам. С моря неделю подряд дул свирепый ветер, и темная, грозно вздувшаяся Нева, словно повернув вспять, вышла из берегов, хлынула на набережные и проспекты. Застигнутый наводнением, пробирался юный посланец по затопленным кварталам. Сидя в лодке, высоко держал он над головой драгоценную коробочку, чтобы спасти от воды первый русский набор маленьких эталонов длины. Он доставил набор в высшее научное учреждение - в Палату мер и весов, - и плитки Кушникова подверглись там строжайшему испытанию.
Палата нашла, что эти плитки - без всяких громких марок - не уступают лучшим иностранным образцам.
И вот теперь, когда образовалась артель во флигеле ленинградского двора, здесь, в отдаленной комнате, пытались повторить опыт Кушникова. Взялись за это четверо мастеров, самых, что называется, стреляных. Особенно выделялся один - старичок себе на уме, ворчун, но которого, несмотря на внешнюю суровость, все запросто звали «дядя Вася». Слава его укрепилась на том, что был он способен делать фигурные шаблоны и лекала самого капризного профиля. Но плитки не так-то просто поддавались даже такой ловкой руке. Микронные частицы требовали от руки какой-то высшей чувствительности. Достаточно ошибиться на несколько десятых микрона, чтобы плитка по своей точности отошла в грубый класс или же совсем в негодные. Еще сложнее оказывалось с зеркалом. Его блеск часто обманчив: плитки блестят, но не слипаются - значит, опять на их поверхности какая-то микроскопическая неурядица. Дядя Вася бормотал страшные проклятья, задыхался от злости, воюя с плитками.
Николай Васильевич показывал приемы, как доводить плитку. Показывал то, что он нашел сам в долгие ковровские вечера. Но это был скорее результат его собственного, неповторимого чутья, чем какой-либо выработанной, твердой системы. Трудно было передать другим то, что принадлежало только искусству редкого таланта. Когда он садился сам за чугунный притир, получалась превосходная плитка. А садился другой за тот же притир - и выходило грубо, очень грубо.
И все же здесь, в артели, был совершен важный шаг: плитки перестали казаться чем-то таким, что пугало, отталкивало своей таинственной неприступностью. Мастеровые люди проникли в первые слои микронных глубин.
Давно ли любая царапина на зеркальной поверхности плитки ставила в тупик: плитка теряла способность слипаться с другими, а что делать - неизвестно. Выписывать новый набор? Просить у Иогансона? Теперь появилась возможность восстанавливать плитки, возвращать их как-то к жизни. Выравнивали размеры, подчищали зеркало. Занятие это уже обозначалось вполне обычным, прозаическим словом «ремонт».
Вместе с тем здесь все время производили пробы: пробовали делать новые плитки. Пусть пока низшего класса, годные только для менее точных измерений, но плитки собственные, свои.
Каждый, кто сидел здесь за столиком, прекрасно понимал, что бы это значило, если бы удалось найти какой-то верный, вполне надежный способ вызывать на плитках то самое безукоризненное зеркало. И здесь, в отдаленной комнате старого петербургского флигеля, простые мастеровые люди трудились не покладая рук, искали и снова искали это волшебное зеркало, чтобы осветить им завтрашний день новой советской техники.
В первый же день, как только Семенов занял место в этой комнате за столом, Николай Васильевич, посвящая его в порядок работы, предупредил:
- Тут тебе по-всякому может повернуться. Иной раз затоскуешь, начнешь сомневаться… Но помни: тут волшебства нет, все в наших руках.
И стал показывать, как надо водить рукой, чтобы снимать с плитки тончайшие, микронные слои.
Дядя Вася косился в их сторону, сердито ерзая на табурете. А когда Николай Васильевич отошел, старик кивнул ему вслед и шепотом с ревностью сказал:
- Учитель!
Учитель
Когда, случается, Николая Васильевича нет в комнате, Семенов все время как-то это ощущает. Кажется, что и плитки делаются менее послушными и рука будто деревенеет. Он невольно ждет - мастер должен вот-вот войти, и тогда все примет свою правильную, ясную окраску.
В трудную минуту он оглядывается на угол. Там, за столом, сутулится Николай Васильевич над тонкой работой - весь спокойствие, уверенность.
Семенов чувствует: мастер поднялся, подошел мягким, чуть слышным шагом, остановился сзади. Поглаживая короткую щеточку усов, глядит через плечо: как ты, новичок, справляешься? Уже этого бывает достаточно, чтобы рука с плиткой стала ходить легче, уверенней.
Или мастер садится рядом и, надев старомодное пенсне, показывает и показывает, производя на глазах у Семенова чудесную игру доводки.
Николай Васильевич сосредоточенно тих во время работы. Он и объясняет всегда тихим, ровным голосом, словно остерегаясь ненужным шумом спугнуть капризное равновесие микронов.
В артели к его тихому голосу все прислушивались. И не только выдающееся мастерство было тому причиной.
Опыт большой жизни стоял за словами Николая Васильевича.
Он начинал в Туле, в городе кузнецов, оружейников, где родился легендарный Левша, подковавший блоху, и где поколения русских, мастеров возвышали искусство тонкой обработки металлов. Его первым учителем на Тульском оружейном заводе был старый слесарь, который рассказал ему, что именно на этом заводе еще в петровские времена впервые стали готовить точный контрольный инструмент - рабочие лекала. От обычаев родной Тулы, от первого своего учителя навсегда сохранил Николай Кушников веру в высокое назначение своей профессии.
А потом он отправился учиться жизни.
По разным городам России странствовал молодой рабочий Кушников в поисках счастья и применения своего труда. На разных заводах - металлургических, орудийных, машиностроительных - приобретал он опыт и знание жизни. И снова Тула, где бегал он когда-то мальчонкой в залатанных штанах, гонял голубей. Снова Тульский оружейный завод, где впервые познал он муки и радости работы высокой точности.
Он вернулся в родные места уже возмужалым, двадцатипятилетним слесарем-лекальщиком, уверенным в своем ремесле, человеком, имеющим свои убеждения. Вернее сказать, не вернулся - его прислали под конвоем. Он испытал уже не раз мрак тюремной одиночки, куда бросала его царская охранка за участие в забастовках. А после того, как 9 января 1905 года, в день «кровавого воскресенья» в Петербурге, он вел колонну рабочих Выборгского района к Зимнему дворцу, был признан опасным для столицы и «выслан этапным порядком по месту рождения».
Но Николай Кушников ни от чего не отступил. Он становится одним из организаторов первой политической демонстрации Тульского оружейного завода, когда десять тысяч рабочих выходят на улицы Тулы с революционными лозунгами я пением «Варшавянки». Он стоит в цепочке рабочих-дружинников, которая стала наперерез озверелой толпе черной сотни, идущей громить рабочие кварталы. Он выступает одним из организаторов первого профессионального союза тульских металлистов; в его членском билете почетная дата: год вступления - 1905-й. Его избирают уполномоченным от Тульского завода по выборам во вторую Государственную думу. И когда в ночь на 19 января 1907 года полиция вновь арестовывает его, вся рабочая Тула поднимается на защиту своего представителя, добиваясь его освобождения.
После разгрома революции - снова странствия по городам, работа на разных частных и казенных заводах. Даже «волчий билет», запрещающий жительство в пятидесяти двух губерниях, не мог преградить молодому слесарю доступ в лекальные мастерские - так незаурядно было его искусство за рабочим верстаком, его уменье в тонкой обработке металлов.
Северные горизонты влекут к себе Николая Кушникова - туда, где у широкой невской воды гудят большие заводы, где живет, трудится славный питерский пролетариат. Кушников снова попадает в Петербург.
Мрачное время реакции. По заводам рыщут сыскные агенты. Казалось, нет больше -выхода для вольной мысли. Но вот на Сампсониевском проспекте в Петербурге, в одном из доходных домов-громадин, открылось общество под скромным названием: «Общество образования». Сюда приходили рабочие, иногда с женами и детьми, слушали общедоступные лекции, затевали самодеятельные вечера. Здесь учились грамоте.
Общество, по уставу, должно было заниматься только просвещением, не преследуя никаких политических целей. Но… на уроках арифметики вдруг предлагалась задача: сколько прибыли получил фабрикант и сколько осталось на долю рабочих? Или во время загородной экскурсии «по обозрению достопримечательностей» вдруг где-нибудь на лесной поляне раздавалась речь агитатора-большевика. Председателем комиссии по устройству таких экскурсий был рабочий-металлист, член подпольных большевистских комитетов Николай Михайлович Шверник. А казначеем - слесарь Кушников.
И еще была одна встреча тех дней, которая оставила глубокий след в жизни Кушникова. Работал он тогда на Петербургском орудийном заводе. В их инструментальной мастерской появился новый слесарь - лет сорока, с маленькой бородкой, с умным прищуром внимательных глаз. Постепенно Кушников узнал не только профессиональную сноровку нового пришельца, но и то, что этот скромный рабочий в сатиновой косоворотке и потертом пиджачке - видный революционер. Он был уже тогда руководителем большевистской организации Выборгского района, сотрудником только что начавшей выходить «Правды». Звали его Михаил Иванович Калинин.
Так началось их знакомство. Им приходилось встречаться еще не раз и при особых обстоятельствах в дни первой мировой войны в доме N 49 по Симбирской улице, где помещалась одна лекально-инструментальная мастерская. Она была необычной, эта мастерская. Ею управляли сами рабочие, объединившись на товарищеских началах. В ней нашел себе прибежище в качестве мастера и Михаил Иванович. Он скрывался от ссылки и по паспорту для полиции значился неким «Лорбергом». Но Кушпиков-то хорошо знал, кто был на самом деле этот мастер.
Однажды в хмурый петербургский вечер на квартиру Кушниковых на рабочей окраине, соблюдая все правила предосторожности, зашел Михаил Иванович. Завязалась беседа. И этот человек, преследуемый царскими ищейками, в час самой жестокой реакции и военного угара горячо и убежденно говорил о необходимости борьбы, о близком революционном подъеме. Говорил о том времени, когда люди труда начнут строить свое государство и какой долг ляжет тогда на каждого опытного, знающего свое дело человека.
Грянула революция. И Николай Васильевич Кушников понял свой долг. Он старается поставить инструментальное дело для советской промышленности. Много работает сам на разных заводах, где требуются точные измерения. И всюду оставляет после себя хоть маленькое, но живое зерно лекального производства. Он создает инструменты собственной конструкции, которые могли бы заменить привозные. Наконец вот эта артель, «Красный инструментальщик»…
Уже пожилой человек, которого начинает посещать нездоровье, он думает и о том, кто будет наследовать опыт старых мастеров-одиночек. Он зовет в артель молодых, ищет охотников пуститься в изучение сложного ремесла. И не один только Дмитрий Семенов смотрит с чувством благодарности на его склоненную голову, ожидает приближения мягкой, чуть слышной походки. Учитель!..
Одна тысяча движений
Семенов сидит за своим столом и старательно водит плиткой по чугунной глади притира.
Пальцы правой руки, легко касаясь плитки, чуть прижимают ее к притиру. А кисть, совершая плавные, медленные движения, водит туда и обратно, туда и обратно. Вперед-назад, вперед-назад…
Неощутимо шуршит под плиткой тончайшая пыльца доводочного порошка.
Пять-шесть движений - и Семенов, повернув плитку, ведет ее другим концом. Еще несколько проходов - и опять поворот. И так через каждые пять-шесть движений.
То потрет на одном участке притира, то на другом. Хотя плита притира и кажется совершенно гладкой, ровной, но Семенов уже знает ее непостоянство. В одном месте она как будто жестче, в другом - мягче. Есть на ней и невидимые впадинки и невидимые бугорки. И измерительная плитка все это остро чувствует, отдавая постепенно при трении микронные частички металла.
А еще надо управлять все время работой пальцев, регулировать их давление. То прижать посильнее, чтобы снять слой потолще, то совсем ослабить прикосновение, совершая только легчайший мазок по притиру. Целая игра на обостренной чувствительности.
Туда и обратно, туда и обратно… Рука качается, как маятник. Он тщательно повторяет приемы, с которыми познакомил его Николай Васильевич.
Плитка переносится на другой притир, где еще глаже поверхность и еще тоньше порошок, и Семенов, совсем облегчая давление пальцев, пытается произвести окончательную отделку. Счет идет уже на десятые и сотые доли микрона. Недотрешь плитку - останется грубоватая поверхность, не будет чистого зеркала. А перетрешь - тоже нехорошо: стоит в погоне за чистотой снять лишний слой, как размер плитки безвозвратно утерян. Или вместо ровной плоскости окажутся на поверхности плитки скосы и уклоны. Зеркало-то есть, но оно «кривое зеркало». И все это зависит от десятых и сотых долей микрона. Недаром доводчики говорят: «Не все то плитка, что блестит».
Семенов гладит и гладит, гладит и гладит… Он так поглощен этой кропотливой процедурой, что не замечает, как Николай Васильевич, повернувшись в его сторону, внимательно следит за ним, посматривая поверх пенсне.
Дмитрий Семенов явно делает успехи. Взявшись за доводку плиток, с жадной настойчивостью постигает он это мало кому доступное искусство. У него чуткие пальцы настоящего лекальщика, уменье тонко рассчитывать. А главное - это упрямое желание все понять, до всего докопаться.
Но почему в последнее время он так задумчив? Именно сейчас, когда очевидно наступает мастерство, у него какой-то насупленный, недовольный вид. Что ему не нравится?
И действительно, странное, противоречивое чувство стало одолевать Семенова. Радость овладения сложным ремеслом сменилась вдруг каким-то глухим ощущением неудовлетворенности. И чем дальше, тем более росло это беспокойное чувство.
Семенов доводил плитку, а в голове ворочалась назойливая мысль: «Сколько приходится делать этих однообразных движений рукой, прежде чем получишь чистое зеркало! За тысячу - это наверное. Тысячу раз туда и обратно, вперед-назад… Тысячу монотонных, как маятник, движений».
Раньше, когда он смотрел на работу Кушникова и других мастеров, он, конечно, видел эту беспредельную терпеливость в доводке плиток. Но восхищение перед редкостным искусством затмевало все остальное. Теперь он сам испытывал все собственной рукой, проникая в смысл таинственных манипуляций. И теперь эта тысяча движений стала рисоваться ему в ином свете.
Сколько эта тысяча движений требует от человека внимания, непрерывно настороженного внимания! Выдержки, такой выдержки, что сиди и сиди, когда не раз хочется все бросить, вскочить и отколоть этакое коленце, чтобы хоть чем-нибудь прервать бесконечное, однообразное мотание руки. И сколько поглощается времени! Ведь даже опытный лекальщик не в состоянии довести за целый день более трех-четырех плиток. Николай Васильевич говорит, как нужны сейчас эти точные пластинки промышленности, стране. А много ли тут успеешь?
Везде вот только и слышно: новая техника, машины, станки… А что же здесь? Все рукой да рукой. Разве нельзя как-нибудь?.. И возникшая мысль чуть не сбила его с правильного темпа движений.
Мысль эта стала возвращаться не раз. Едва он принимался водить плиткой по притиру, как начинал думать о том же. Но он боялся ее даже высказать.
- Что у тебя, нелады какие? - спросил наконец Николай Васильевич, когда они остались как-то в комнате вдвоем. - Все хмуришься.
Мастер ожидал услышать что угодно, любое признание. Но то, что сказал тогда Семенов, было слишком неожиданным, невероятным.
- Думаю, надо это перестроить, - кивнул он на плитку с притиром. - Вместо руки механизм какой-нибудь. Станок, что ли…
- Ого! - произнес только Николай Васильевич, проведя пальцем по щеточке усов.
Он долго, пристально глядел на молодого слесаря поверх пенсне. О чем же мог думать сейчас старый мастер, который именно рукой, одухотворенной игрой пальцев, открыл возможность вторгаться в мир микронных величин? Рождение плитки - плод редкого искусства. К нему лишь ощупью немногие едва только начали подступать. А тут явился молодец и уже замахивается на самую основу этого искусства, на то, что выношено, выстрадано годами. И ждет ответа, ждет с упрямой крестьянской неторопливостью, набычив свою лобастую голову.
- С этим шутить не надо, - проговорил наконец сухо Николай Васильевич. - Сказать только: «нужно механизировать» - желающие всегда найдутся. Встречали мы таких-то! А что ты, собственно, предлагаешь?..
Семёнов молчал. И Николай Васильевич, желая смягчить строгость своего ответа, добавил:
- Не знаю я, можно ли вообще это осуществить.
Может, когда-нибудь… Но если бы кто-нибудь действительно сумел, придумал - о, тогда… Да что и говорить!..
- Хвастать мне, конечно, нечем. Но только я это не в шутку, - заметил Семенов, обидчиво поджав губы.
Уроки одной ошибки
А в самом деле, что он может предложить? Механизировать доводку плиток?.. Но чем заменить движения руки?.. Вопросы эти неотступно преследовали Семенова.
Первым желанием было немедленно что-нибудь смастерить, испробовать практически. Скажем, какой-нибудь рычаг, который, как механическая рука, водил бы плитку туда и обратно по притиру. Нечто вроде рычага-«метелки» на переднем стекле автомобиля.
Но он обуздал свое нетерпение. В его жизни был уже случай… На одной из работ вскоре же после окончания фабзавуча приходилось ему помногу раз завертывать и отвертывать на деталях маленькие винты. Занятие довольно утомительное. И он решил соорудить такую отвертку с каким-нибудь заводом, чтобы она сама, механически, могла завинчивать и отвинчивать. Он долго возился над ее конструкцией и, когда сделал наконец, был очень горд своим изобретением. А потом зашел как-то в магазин инструментов - и что же? На прилавке была выставлена механическая отвертка фабричного производства. Она была гораздо более простого и надежного устройства, чем та, которую он так долго изобретал.
Урок этот Семенов запомнил твердо. Нет ничего горше в изобретательстве, как открыть уже давно открытое.
Поэтому он начал сейчас с разведки. Присматривался, расспрашивал… Может, кто-нибудь уже пытался? Может, за границей, откуда идут плитки, что-нибудь имеется?
Он пробовал искать в книгах, в журналах. Но в них было полное молчание.
Он решился обратиться с тем же вопросом к молодому Кушникову. Студент Леонид считался в артели серьезным «мужем науки». Он был близок к делу отца, проходил в артели производственную практику, давал желающим уроки черчения, проявляя явную склонность находить для всего закономерности и теоретические обоснования. Очень аккуратный и вежливый, он всегда был готов дать ученый совет. Но, увы, наука совсем еще не касалась тех вещей, какие волновали Семенова.
Он брал плитки Иогансона и, вооружившись сильной лупой, внимательно обследовал отделку их поверхностей, края, торцы. Трогает ли их какой-нибудь механизм? Но немые плитки крепко хранили чужой секрет.
- А ты, оказывается, вон какой - упрямый! - сказал ему Николай Васильевич, и в тоне мастера Семенову почудилась нотка одобрения.
Это заставило его еще упорнее продолжать свои поиски.
Да, он был упрям, этот бывший крестьянский парень. Упрям тем упрямством, которое еще в мальчишеские годы заставляло его вцепляться в ручки сохи и, несмотря на малую силенку, на усталость, вести борозду до конца. Вот так же уцепился он сейчас за свою идею, за эти плитки. Придя домой, в большую мрачную комнату в старой барской квартире на Васильевском острове, он и здесь не расставался с мыслями о плитках. И часто, к удивлению жильцов, машинально повторял в воздухе все изученные движения рукой, пытаясь угадать, как можно переложить их на механизм.
Иногда вдруг охватывало сомнение. Как мало он все же знает, как мало умеет! Простой слесарь, в сущности недоучка, а задумал такое… Тебе ли под стать? Вот начальная мысль - механическая рука-рычаг - казалась ему превосходной. Он примеривал ее по-всякому. Но все пришлось отбросить. Простое копирование руки, очевидно, было ложным. А студент Леонид Кушников, узнав об этом, доказал ему то же самое сразу на листе бумаги, разложив схему рычага по формулам механики.
Семенов отдавал себе отчет, как придется ему расплачиваться за недостаток знаний, каким напряжением. Но отступать не собирался. Он уже не мог не думать о плитках, не искать разгадки тысячи движений.
В те дни он был хмур, нелюдим. Часто ссорился с милой девушкой Шурой. Конечно, по пустякам. «Характер показываешь!» - упрекала она. А он с упрямой обидчивостью уходил и шагал один вдоль Невы, досадуя на себя, на нее, на весь свет. Никто его не понимает!
Николай Васильевич видел: поиски Семенова действительно серьезны. Но чем помочь ему?
- Знаешь, - сказал мастер, - у нас в кладовой лежит одна машинка. Жимки. Посмотри…
…Присев на корточки, Семенов тряпкой обтирал этот странный запыленный предмет: две толстые чугунные плиты-притиры, прижатые друг к другу болтами. Между ними проложен широкий металлический лист. Все это напоминает простой конторский пресс. Это и есть жимки.
Их пытались одно время приспособить для обработки плиток. Плитки закладывали, как в обойму, в отверстия листа, сжимали между чугунными притирами и тащили лист за рукоятку: вперед-назад, как попало. При каждом движении оба притира, сдобренные мелким порошком, счищали с поверхности плиток слой металла. Очень заманчиво: обрабатывается одновременно несколько плиток сразу с двух сторон.
Но из этой механизации что-то ничего не получилось. Даже самая предварительная, грубая доводка на жимках не пошла. Да и в самом деле, через два-три прохода плитки становились тоньше и начинали проскакивать между притирами вхолостую. Снятие металла прекращалось. Значит, развинчивай все сооружение, устанавливай верхнюю плиту заново, опуская ее на какую-то дольку миллиметра, и снова зажимай. Да еще следи при этом, чтобы сохранить между притирами строгую параллельность. А через два-три прохода опять перестройка, еще на дольку миллиметра… И так непрерывная канитель. Проще взять плитку в руку и елозить по притиру без всяких механических затей.
Жимки были сданы в кладовую - увы! - вместе с надеждой механизировать сложный, капризный процесс. Многие в артели даже забыли, что существует такая машина, которую неизвестно даже кто придумал…
Семенов вытащил ее на свет и, обтерев пыль, поставил перед своим столом.
- Музей устраиваешь! - фыркнул дядя Вася.
Молодой слесарь не ответил на ироническое замечание. Он подолгу смотрел на жимки и думал: в чем корень этой ошибки?
Два притира - это хорошо, остроумно. Вот пример, как можно подойти к задаче совсем по-другому, чем просто подражать руке в виде рычага, идея, которой он уже переболел и отбросил.
А раз так, то должны быть какие-то салазки, чтобы протаскивать на них плитки между досками. Лист с гнездами или что-нибудь в этом роде - принцип верный.
Так в чем же дело? Все как будто правильно, а механизация потерпела провал.
Но нет, оставался еще один момент: крепление притиров. Их жестко зажимали болтами, чтобы сохранить вполне точное расстояние и параллельность. Так жестко, что вначале плитки шли с трудом, со скрежетом и визгом. Но потом всякий раз, как надо было менять расстояние, то же крепление причиняло столько хлопот! Крепление тормозило всю работу.
Что же получается? Крепление и необходимо и в то же время вредно. Заколдованный круг! И неизвестно, как к нему подступиться. Семенов напрасно бился над этим противоречием: нужно ненужное крепление. Как тут быть? До него уже сделали вывод: послали жимки пылиться в кладовую. Значит, отвергнуть систему двух притиров? Но она ему определенно нравилась. Он чувствовал, что в этих притирах кроется какая-то истина, но по-настоящему еще не раскрытая. Мешает крепление. В чужой ошибке пытался он найти нужный для себя урок.
Ясно: крепление не должно быть жестким. Но каким же оно должно тогда быть? А этого никто ему не мог сказать. Вольно же загадывать себе такие загадки!
Все теперь стало вращаться для него вокруг этих двух притиров. Они не выходили из головы. Семенов даже пробовал посвятить в их тайну свою Шурочку. Она слушала внимательно, а потом вдруг сказала:
- Ой, смотри, как ты похудел! Не жалеешь себя…
Он обижался, что Шура плохо разделяла его мечтания. И уходил к товарищам - толковать, спорить о тех же притирах.
Вокруг такие события, страна шумит исполинской стройкой, всюду волнующие разговоры и новые слова - «Днепрострой», «Тракторострой», «Кузбасс», «Магнитка», - из деревни пишут, что идет коллективизация, с трудностями, сопротивлением кулаков, с убийствами из-за угла… А тут ходит человек и бредит какими-то чугунными плитами.
Нет, он не прятался от жизни, от великих перемен, совершающихся вокруг. Он помнил, какую роль в больших событиях играют маленькие плитки точности. И если бы ему удалось… От одной мысли об этом он готов был снова и снова ломать голову над проблемой двух притиров.
Поплавок
Он любил встречать этот рассветный час воскресного утра на берегу спокойной речки. Над розовой водой чуть стелется парок. Первый луч солнца пробивает теплую дорожку в утреннем холодке. Тишина. Там, где-то за спиной, в мглистой дымке, спит еще каменный великан - Ленинград.
В такой час, глядя на поплавок закинутой удочки, как-то особенно хорошо думается, и мысли складываются такие же простые, ясные, как это утро. И многое из того, что кажется обычно таким запутанным, приобретает вдруг понятный смысл. Недаром рыболовы - люди, склонные к размышлению.
Потянувший ветерок разводит на воде легкую рябь. Ряд за рядом бегут по поверхности блестки крохотных гребешков, словно металлические плиточки. Семенов смотрит на поплавок - любимый самодельный поплавок: плоский кусочек пробки. И видит, как тот свободно пляшет на этих гребешках. Если гребешок побольше, то и поплавок он поднимает выше. А мелкий гребешок трогает его чуть заметно.
Бегут блестки-гребешки ряд за рядом. И в такт приплясыванию поплавка Семенов невольно покачивает рукой. Знакомое ощущение. Да и верно! Почти так же приходится играть кистью руки, когда доводишь плиточки, проглаживая их на притире. Ведь, строго говоря, каждая металлическая поверхность, даже самая гладкая на вид, имеет все же неровности, гребешки. У обычных металлических изделий они возвышаются холмиками высотой в доли миллиметра. А на зеркале плиток они в тысячу раз меньше, но все же это тоже гребешки. Доводка в том и состоит, чтобы осторожно снимать эти микроскопически ничтожные гребешки - сначала высотой в микроны, а по-том все меньше и меньше, в десятые и сотые доли микрона.
Когда ведешь плитку по притиру, она, собственно, и скользит на своих гребешках, которые то побольше, то поменьше, и рука невольно мягко пружинит.
А если плитки протаскивать, скажем, в жимках, что тогда? Гребешки плиток бегут под чугунной плитой металлической рябью - вот так же, как вода под этим поплавком.
Хотя нет, не так же! Верхний притир в жимках закрепляется твердо и не может вот так свободно приплясывать, то поднимаясь, то чуть опускаясь, в зависимости от высоты гребешков. А почему не может? Разве обязательно его делать неподвижным?
Семенов так погружен в размышления, что не замечает, как поплавок дергается уже по-настоящему. Клюет! Но он этого не видит. Он ловит мелькнувшую догадку.
Верхняя плита! Верхний притир! Его вовсе не следует наглухо крепить. Напротив, пусть свободно лежит на плитках. Пусть пружинит на металлических невидимых волнах, как этот поплавок. Притир должен как бы плавать на микронах. Тогда не будет разрывов между ним и плитками, как только сработается их поверхность. И не надо заботиться о том, чтобы то и дело передвигать притир все ниже и ниже, на какие-то трудно уловимые ступеньки. Притир сам будет опускаться, прижимаясь все время своей тяжестью к плиткам, плавая на их наиболее высоких гребешках и понемножку стирая их все ниже и ниже. Она начнет «чувствовать», эта чугунная массивная плита, казалось бы, такая неподатливая, мертвая.
Вот в чем стоит подражать человеческой руке. Воплотить в механизм ее гибкость, чувствительность, способность мягко пружинить. И к этому открывает путь притир-поплавок.
В уме уже складывается схема. Плитки протаскиваются между двумя притирами. Нижний покоится твердо, он как подставка. А верхний притир подвешен, словно на удочке, он свободно играет, как рука. Это и будет главный чувствительный орган механизма.
Тогда плитки потекут серебристым потоком, как эта речка. Потекут с его, семеновского, механизма в подарок стране, пятилетке. Интересно, что скажет тогда господин Иогансон!
Пока переживал он радость счастливой находки, ветерок на реке разыгрался сильнее. Выше, круче побежали водяные гребешки. Поплавок стал на них заметно покачиваться, как челнок на волнах, и усиленный бег гребешков увлекал его за собой, относил в сторону.
Семенов насторожился. А ведь так, пожалуй, не годится. Верхний притир должен, как поплавок, мягко пружинить, но никакой качки или сноса в сторону быть не должно. Доводка плиток слишком деликатный процесс, чтобы допустить столь грубые смещения. Притир должен плавать совсем спокойно, не выходя из равновесия. А какое же спокойствие, когда плитки хлынут волнами под притиром, волна за волной? Унесет, закачает…
Вот если бы природа была так любезна, что ветер задул бы вдруг слева и справа с одинаковой силой. Тогда поплавок остался бы на месте, его не уносило бы прочь. Но такого в природе не бывает, и тут она ему, Семенову, ничего уже не подскажет. А в механизме? В механизме он обязан это равновесие обязательно как-то осуществить. Это еще придется обдумать, но главное он ухватил: идея поплавка. Она все сразу осветила - путеводный огонек в его блужданиях.
…В то утро рыбная ловля, конечно, не удалась. Семенов вытянул леску, осторожно снял с крючка трепыхавшуюся рыбешку и бросил ее в реку: «На, живи!» Ему надо скорее в город. Кого-нибудь увидеть, кому-нибудь из близких рассказать, что он придумал!
К Николаю Васильевичу неудобно домой в воскресный день. Тогда к кому же? Конечно же, к ней, к Шурочке!..
Они долго катались на лодке вокруг островов, плыли на стрелку. И Дмитрий, часто бросая весла, все рассказывал, представляя на ладонях, как должны ходить плитки между притирами и как верхний пружинит на микронах.
Шурочка смотрела на него счастливыми, смеющимися глазами и на все его рассуждения отвечала:
- Ой, дурень! Ну не дурень ли!..
И обдавала брызгами, весело искрящимися на солнце. А он уже ни на что не обижался.
…На другой день, когда Николай Васильевич узнал от Семенова о его идее поплавка, он ответил не сразу. Переложил на столе инструмент, принадлежности для ручной доводки, смахнул пылинку и вздохнул:
- Это, знаешь, так удивительно, твой поплавок, ни на что не похоже! Трудно на взгляд поверить. Но ты держись, веди до конца, даже если я начну тебя отговаривать, - улыбнулся мастер. - Сам понимаешь: если ты окажешься прав, то все это станет ненужным. - Он кивнул на свой стол. - А расставаться с этим нелегко. - И в его голосе послышалась грустная нотка. - Так что держись!
Пока была только голая идея. Ее надо облечь в конструкцию, ввести в какой-то механизм. И первое, что возникало: с какой же силой должен лечь верхний притир на плитки? Если этого не знаешь, то нельзя использовать и самую идею поплавка. Можно сделать притир настолько массивным и он так прижмет плитки, что их и не сдвинешь. А сделаешь притир слишком легким - снятие металла прекратится. Где же она, эта золотая середина?
Никто этого не знал. Семенов сам стал исследователем, вторгаясь с опытом в те стороны доводки, которые считались до сих пор лишь уделом неуловимых ощущений. Но теперь он понимал, что именно необходимо примеривать по человеческой руке. Все зависит от правильного нажима.
Часами можно было видеть его за странным занятием. Перед ним стояли торговые весы. И вот, положив на одну из чашек обычный притир, он начинал вести доводку плиток рукой, по всем правилам тонкого искусства. А гирьками на другой чашке уравновешивал давление пальцев на плитку. В зыбком, доморощенном опыте пытался он перевести чудодейственную работу руки на цифру, на язык граммов и килограммов.
И он нашел примерный вес, каким должен обладать его притир-поплавок.
Стала складываться постепенно и реальная схема его устройства. Поплавок не просто кладется на плитки, а подвешивается на этаком хоботе, коромысле, как на удочке. Можно ввести еще легкую пружину. Все для того, чтобы придать поплавку чуткую эластичность руки. Конечно, сама подвеска не решала еще задачи равновесия. Она не могла предохранить притир-поплавок от качки, которой так боялся Семенов. Равновесие должно достигаться само собой, естественно. А как?..
Хотя он и понимал, что здесь таится еще уязвимое место, но великая надежда всех изобретателей уже вселилась в его сердце, стучала нетерпеливо. Все должны оценить, одобрить его первую находку.
Схему поплавка увидел молодой Кушников.
- Красивое решение! - не удержался он, глядя на неказистый, грубый набросок. И не нашел, чтобы в этой идее было какое-нибудь прегрешение против науки.
Леонид Кушников заканчивал в то время институтский дипломный проект, и его мнение звучало для Семенова авторитетно. Отец и сын - строгие ценители - как будто признали поплавок. Семенову казалось, что вот оно, изобретение. Оно существует, дорога перед ним открыта.
Если бы он только знал, как сильно ошибался!
Русская кадриль
То, что Семенов придумал способ механизировать доводку плиток, стало постепенно известно всем членам артели. Но, против его ожиданий, это известие не вызвало всеобщего восторга. Лишь близкие его дружки - двое братьев Ильиных - выразили тотчас свое безоговорочное восхищение. Они вместе с ним учились в школе фабзавуча, он привлек их потом в артель, и уже по долгу дружбы считали они обязательным поддержать «своего». Большинство же мастеровых отнеслись к его изобретательству настороженно. За что взялся - за плитки! Да тут сам черт ногу сломает! Бывали уже тут механизаторы-то, а что толку? И, оказывается, не так уж мало людей помнили о жимках, но помнили главным образом, какая постигла их неудача.
Семенов ждал, что скажет та комната, где сидели старые мастера, художники доводки. Как примет «могучая кучка»? А комната молчала. Но это не было молчанием безразличия. Постепенно он стал ощущать, как от некоторых ее обитателей, наиболее коренных, повеяло глухим неодобрением. И первым выразил его дядя Вася.
- Эге! - заметил он однажды в присутствии Семенова. - Хотят руку, живое творение, пружинкой заменить. Скоро заводную скрипку объявят…
Он возбужденно поднял руку, будто заклиная, расправил пальцы - желтоватые, натруженные, но чуткие, как у музыканта, пальцы лекальщика. И, вероятно, сказал бы еще что-нибудь более ядовитое, если бы не встретил пристальный, укоризненный взгляд Николая Васильевича. Знакомый всем взгляд поверх пенсне, который действовал часто сильнее самого громкого слова.
Но вскоре дядя Вася опять бросал какое-нибудь замечание насчет мечтателей и фантазеров. А окружающие поддерживали его обидной ухмылкой.
Семенов мрачнел. Пытаясь доказать свою правоту, вынимал тетрадный листок с рисунком поплавка-притира.
- Бумага, она все терпит, - не унимался дядя Вася.
В его усмешках сквозило не только неверие, но и затаенная тревога. Трудно было вот таким, как дядя Вася, отрешиться от всего сложившегося опыта и вдруг поверить, что их мудреное, почти таинственное рукоделие действительно можно перевести на механизм. Как поверишь? Против себя? А что же будет с их редким мастерством, с тем особым положением, какое оно давало? Столько было вложено лет упорного труда в это рукоделие, столько рабочего таланта, души. Неужели же от всего отказаться, если и впрямь грянет эта механическая музыка?
Странно, а все-таки сомнения, насмешки, которые слышал Семенов вокруг, оказывали ему даже услугу: они заставляли полнее и лучше продумывать подробности будущего механизма. В спорах отстаивал Семенов свою идею, стараясь найти в ее подкрепление новые доказательства.
Вы говорите, механизм не может повторить все движения руки? Все - не может. Но необходимые для доводки, строго необходимые - и может и должен. Даже больше: механизм не будет никогда делать лишних движений.
Вы пугаете, что нельзя водить плитки все время по одному месту на притире? И что доводчик всегда потрет рукой то в одном месте, то в другом? Ну что ж, значит, и у меня они должны примерно так же прогуливаться между притирами, с «вариациями». Только более строго, а не как попало. Плитки можно пустить так, чтобы они двигались и вперед и вбок одновременно. Двойной ход заставит их выписывать между притирами сложные узоры, «зигзаги». Прогулка пойдет по широкой площади. Это вам почище, чем рука!
Он выдвигал и главный козырь: производительность. Сколько сразу можно получить плиток на таком механизме? Штук по двадцать, по тридцать. А не то что елозить по одной, как вручную. Казалось бы, неоспоримое преимущество. Но…
И тут он услышал в возражениях именно то, что его самого немало смущало.
- Как же притир твой удержится, когда одним махом пойдет столько плиток? - спросил один из мастеров.
- Лавина! - подхватил другой. - Она и не такое своротит, не то что твой поплавок.
«Ишь, хитрюги, заметили!» - подумал Семенов и сумрачно сказал:
- Это дело второе…
Но он прекрасно понимал, что дело это не «второе», а самое сейчас первостепенное, неотложное. В него сейчас упирается вся идея поплавка. Равновесие! Как сохранить спокойное положение поплавка на волнах множества плиток? Ведь еще тогда, на речке, в первый день находки, он об этом задумался, но пока не мог нащупать решение. Откладывать больше нельзя. Вот и другие тоже заметили. Задача равновесия… У него все рассчитано на предельную тонкость, чувствительность, все плавает и легко колышется, «сплошной зефир», как выразился дядя Вася. И вдруг масса плиток хлынет сразу под притиром, как металлический прибой. Туг начнется такая качка, что ни о какой микронной деликатности и не думай.
Как же быть? Главное преимущество механизма - высокая производительность - и вдруг оказывается под сомнением! Масса плиток подрывает всю тонкость действия поплавка. Новый тупик!
Как устранить вредное влияние движущейся массы плиток? Разве можно сделать так, чтобы эта масса и была и в то же время чтобы она не чувствовалась? Семенов отчаянно искал выход из этого тупика. Приходившие в голову варианты приносили только разочарование. Все как будто уже окончательно запуталось.
А тут еще в жизни Семенова наступили такие события, которые отвлекли его от бесконечной возни с плитками. И он, махнув на свои изобретательские страдания, решил убежать от них пока подальше.
…Это была веселая помолвка. На жениховском месте сидел Дмитрий, важный, с достоинством, одетый по-городскому. А рядом, как вы сами догадываетесь, - его Шурочка, объявленная невестой.
Он нарочно взял отпуск и приехал справить помолвку к родителям, в деревню, подальше от всяких забот. К тому же интересно было посмотреть, что же это такое -колхоз, один из первых в их Калининской области.
В избу набилось много людей, и старых и молодых. Было немало выпито, наговорено всякого горячего вздора. Шум, гомон, потешная толчея - все как полагается по такому случаю. Голова шла кругом. Молодой Семенов уже повеселел, распахнулся. Он и думать позабыл о своих ленинградских делах, о плитках и чугунных притирах. «Эх! Я по ягоду ходил, я молодочку водил!..»
А когда оставаться в избе стало уже невмоготу, всей гурьбой высыпали на улицу. Двинулись на луг, затеяли игры, танцы. В здешних местах любимый танец - русская кадриль. Все становятся рядами и рядами же пляшут. Ряд за рядом сходятся и расходятся. Рядами идут сквозь ряды.
Дмитрий Семенов, счастливый, разомлевший, стоял возле гармониста, притопывая в такт ногой, и глядел, как плетется под саратовские переборы сложная фигура танца. Искал глазами среди танцующих свою Шурочку.
Парни и девушки, построившись гуськом в несколько рядов, пошли навстречу друг другу. А поравнявшись, вступили в интервалы, образуя подвижной сетчатый узор. Потом повернули - одни налево, другие направо - и ста-ли одновременно расходиться в разные стороны, повернулись и снова пошли навстречу друг другу.
Семенов глядел. Встречное движение. Проход сквозь ряды. Развод по сторонам. Большая толпа танцующих все время равномерно расходилась, растекалась в разные стороны…
И вдруг! Кто бы мог сказать, что испытал в ту минуту он, блаженно улыбающийся жених? Какая мысль мгновенно захватила его?
Нашел! Он нашел! Наконец-то он догадался, как должны они ходить… плиточки, дорогие мои, неразлучные! Танцуйте, танцуйте русскую кадриль!
И Дмитрий вдруг сам, сорвавшись с места, ринулся в толпу танцующих и, разрывая ряды, пустился в неистовый, ликующий пляс.
На другой день, укрывшись ото всех за сараем, он сосредоточенно царапал палкой по земле. Опять схема. Движение плиток в его механизме. Они идут между притирами не сразу всей массой в одну сторону, а совершают сложный фигурный танец. Они идут рядами навстречу друг другу и расходятся в разные стороны: один ряд в одну сторону, а другой - в противоположную; один ряд в одну, другой - в противоположную… Движение сквозь ряды. И вместе с тем происходит поперечное движение. Плитки скользят не только вдоль притиров, но и поперек, расходясь рядами вправо и влево и снова сближаясь. Плитки танцуют кадриль!
Вот оно, решение, которое должно спасти его идею. Не будет вредного действия плотной массы плиток, ударяющей сразу в одну сторону. Не будет ни качки, ни перекосов. Толпа плиток разойдется в разные стороны, распределяясь все время равномерно по всей поверхности притиров. И верхний притир-поплавок будет невозмутимо покоиться на этой широкой глади плиток, лишь слегка пружиня на микронах. Ничто не угрожает его равновесию.
И вся работа механизма станет мягкой, точной, как требуется при самой строгой доводке. А в работе будет штук двадцать - тридцать плиток одновременно. Пусть-ка сравнится с этим одинокая рука!
Это была очень счастливая находка. Самая работа станка - движение плиток в нем по разным направлениям - должна была создавать необходимую точность, строгую дозировку в снятии ничтожных крупиц металла. Только самые верхние гребешки, ровно столько, сколько необходимо. Ничего лишнего. Этакая естественная саморегулировка. Вот какой будет его станок. Станок как бы с собственным осязанием.
Следует подумать, конечно, как осуществить механически такую «кадриль». Один сплошной лист с гнездами для протаскивания плиток между притирами, как это было в старых жимках, уже не годится. Тут нужны какие-то независимые друг от друга обоймы с плитками. Быть может, несколько узких стальных лент, способных двигаться в разных направлениях… Но это уже детали. А сейчас надо закрепить основную схему движения, определить его закономерность. И в уме уже складывается строгая формула, выраженная скупым техническим языком: «Движение в двух взаимно перпендикулярных встречных возвратно-поступательных направлениях…»
Он почувствовал, что ему скучно оставаться дольше в деревне, что ему надо в Ленинград, за свой стол в комнате артели.
И прежде всего рассказать Николаю Васильевичу…
Первая проба
В Ленинграде его ждали перемены. Николай Васильевич расстался с артелью. Затевалось новое, важное дело: постройка одного крупного московского завода. Там нужен был опыт и талант старого инструментальщика, и Николай Васильевич вошел в группу организаторов и проектировщиков нового завода. Потянулся туда же и молодой инженер Леонид Кушников.
Сама артель переживала серьезные дни. Скромное начинание нескольких мастеровых людей разрасталось уже с целое предприятие. Стало тесно в комнатах бывшего жилого флигеля, запрятанного где-то в глубине старого питерского двора. Стало тесно в первоначальных артельных рамках. Приспело время выходить на более широкую арену. Артель перебралась со всем своим имуществом, с испытанными кадрами в настоящее заводское помещение. Вот тогда-то, передав свое детище в руки большой промышленности, Николай Васильевич обошел в последний раз своих старых товарищей за верстаками и сдержанно, избегая громких слов, с каждым попрощался. Ушел Николай Васильевич…
И Семенов вдруг почувствовал, что он остался один со своим изобретением. Как-то теперь все повернется?
Жизнь артели потекла на новый, заводской лад. Уже не по комнатам, а по цехам распределялось теперь изготовление инструмента. Прибавилось народа, прибавилось оборудования. Появилась большая контора, отделы, службы и, увы, неизбежно вместе с этим - кабинеты всевозможных начальников. Завелись новые порядки. Большая вывеска на железной сетке над главными воротами извещала: «Ленинградский завод «Красный инструментальщик». Завод измерительных инструментов.
Инструменты эти с мало еще кому известной маркой «КИ» упорно добивались признания, ложились на витрины выставок и прилавки магазинов, пробивая брешь в сомкнутой стене инструментов-иностранцев. Простые на вид угольники. Замысловатые угломеры. Губастые штангенциркули. Раздвижные скобы…
Но плитки! С плитками, с этими ключиками точности, было труднее всего. Что могли дать единичные экземпляры, выходившие из-под рук нескольких редких искусников? Всюду еще у истоков точных измерений - в промышленности, в науке - господствовали привозные плитки: шведские, немецкие, французские, английские… Плитки Иогансона.
Когда же, как не сейчас, нужно было бы решительно сдвинуть производство плиток, повести его на фабричный лад? И есть уже готовая идея. Семенов думал, что настал наконец-то его час. Надо представить теперь только свое изобретение в наглядном, убедительном виде.
Листы, листы бумаги. Клочки черновых набросков. И снова листы - страницы, вырезанные из какого-то старого альбома. Бумажный ворох грозил затопить… Непривычное это для него дело - анатомировать на бумаге сердце будущего механизма, переводить живое действие в скелет строгих линий. Семенов не владел искусством чертежа. Он просто старался возможно аккуратней нарисовать то, что стояло так ярко в его воображении: и чуткий притир-поплавок, и сложное движение плиток - «русская кадриль»… Он пытался изобразить, как все это ладно, красиво получается. Теперь-то уж убедятся! Пусть инженеры, пришедшие на завод, поймут, оценят, что здесь заключено.
Много недель заняло у него это рисование, и на альбомных листах стали постепенно проглядывать черты связной, основательной конструкции. Это уже но простое приспособление, а настоящий станок. Станок для механической доводки плиток. Берегись-ка, господин Иогансон! Видишь, что придумал русский слесарь Дмитрий Семенов!
Он так ясно чувствовал, понимал каждую линию на рисунке, что ему казалось порой: он видит, как все это вдруг оживает, начинает двигаться… Станок работает. И до слуха долетает дивный шелест плиток, скользящих между притирами. Счастливая минута!
Но… в бюро изобретательства отклонили предложение Семенова.
Слишком необычно, слишком ни на что не похоже. Трудно поверить, чтобы этакая фантазия, разрисованная тут на листах старенького альбома, могла представить весь процесс, в тайны которого проникают лишь немногие избранники. И как это, чтобы чугунная плита плавала на микронах? Чудеса! Или чудачество?
Люди основательных знаний, технические консультанты, смотревшие семеновский проект, оказались вдруг не в состоянии понять то, что подсказывал изобретателю его здравый смысл. Одни не могли понять. Другие, быть может, и не хотели понимать. Их изощренный взгляд, равнодушно пробегая по альбомным листам, выносил холодный приговор: «Сомнительно», «Мало обосновано», «Практически неосуществимо».
Когда он вернулся домой с папкой альбомных листов, по его лицу и по тому, как он тяжело опустился на стул, Шурочка, теперь супруга Александра Кирилловна, сразу догадалась, что произошло. Отклонили! Не признали!
- Брось, Митя… - пробовала она утешать.
А он вскипел, раскричался… Но, излив наружу боль, стал думать спокойнее, трезво. Его рисунки инженеров не убедили. Но как же ему все-таки доказать реальность своего замысла? На ладошках, что ли, как пробовал он когда-то объяснять Шурочке, катаясь по Неве в то далекое и счастливое воскресное утро?
Ну хорошо! Он представит новое доказательство.
Комната Семеновых стала наполняться всевозможной деревянной рухлядью. Он тащил домой старые доски, бруски, чурбаки… Александра Кирилловна с ужасом смотрела на это странное семейное обзаведение.
А Семенов принялся строгать, точить, выпиливать. Он решил соорудить модель. Небольшую действующую модель, самую простую, из дерева. Она должна только продемонстрировать, что его идея - не пустой вымысел, не бумажная затея и что движения, как он задумал, осуществить вообще возможно. Пусть хоть на простой деревянной доске эти люди убедятся, как надо понимать «поплавок».
Осуществить это простое оказалось не так просто. Семенов сам рассчитывал каждый узел модели, сам долбил каждую деталь. Дни и недели текли в кропотливой, медленной работе. Запах деревянной стружки душистым ароматом стоял в комнате.
Поплавок обрастал постепенно очень сложным передаточным устройством. Надо было создать восемь разных движений - и встречных, и возвратно-поступательных, чтобы ленты с плитками ползли туда и обратно, и движение сквозь ряды. И еще два движения в поперечном направлении, чтобы плиточки могли выделывать по поверхности притиров замысловатые фигуры танца. И все это чтобы действовало закономерно, строго согласованно между собой. Как ни изворачивался изобретатель, а конструкция разрасталась в хитрое сплетение всевозможных реек, шестерен, рычагов, эксцентриков… Непролазная чаща!
Заводские приятели заходили посмотреть на «Митин экспонат». Особенно два брата Ильиных - Иван и Николай - были частыми гостями. Их все пленяло в изобретении товарища, и даже сложность системы передач должна была служить доказательством его необычайной мудрости. Казалось бы, действительно: чем сложнее, тем солиднее.
Семенов и сам поддался на это легкое обольщение конструкторской молодости. Лестно все-таки сознавать: «Вон чего я соорудил!» Он не замечал, какая опасность подстерегает его в этой сети передаточных звеньев. Внимание было слишком поглощено тем, чтобы выявить свое самое дорогое - поплавок и «танец» плиток. Иногда, правда, одолевало сомнение: как-то покажет себя со всеми этими колесиками и рычагами передач вся модель? Пойдет ли?
И, представьте, пошла!
Вставлена наконец в сложную цепь последняя деталь. Семенов, взявшись за рукоятку ходового вала, закрутил его наподобие шарманки. И вдруг вся эта деревянная музыка пришла в движение, медленно, со скрипом и вздохами заиграла. Между двумя гладко обструганными досками заерзали пары длинных салазок и, повинуясь сложной механике, принялись выписывать хитрые фигуры. Верхняя доска свободно приплясывает наподобие поплавка. Воображение изобретателя легко дополняет, как в салазках станка лежат уже не простые пробные дощечки, а настоящие плитки, стальные капризные пластинки…
Он все крутит и крутит, и перед восхищенным взором братьев Ильиных, перед изумленной супругой Александрой Кирилловной разыгрывается в деревянной миниатюре никем еще не виданный процесс - механическая доводка плиток.
Кто же теперь устоит перед таким доказательством?
Гибель надежды
Семенов вносит в кабинет бюро изобретательства свою модель. Ставит на стол. И перед всем сборищем инженеров-консультантов «заводит шарманку». Она играет свою деревянную мелодию доводки.
На лицах зрителей по-разному отражается впечатление. Вопросительно поднятая бровь. Внимательный, изучающий взгляд. Чуть прищуренная усмешка… А в общем одно: недоумение. Большинство не знают, как отнестись к тому, что показывает им изобретатель. Как будто все это движется, щелкает, скрипит. Но отражает ли это действительный процесс работы?
Никто из ученых-специалистов не представляет себе еще основ доводки плиток. Темная вода! Но, по привычке, живет боязливое почтение к той сверхъестественной точности, какая при этом необходима. А разве может служить подобием столь нежной операции такая грубая, скрипучая вещь, на которой, как старый шарманщик, играет одержимый изобретатель?
Консультанты обратили внимание на некоторые частности, на несовершенство передачи. А идея поплавка, эта выношенная, взлелеянная мечта изобретателя, их как-то не воодушевила.
- Как же решим, товарищи? - спросил председательствующий, предлагая этим вопросом решать дело другим.
- Недоработанный вариант,-уклончиво заметил один.
- Может, рассмотреть на следующей стадии? - неопределенно вставил другой.
И консультанты решили так, как часто и решают в подобных случаях: оттянуть время. Вот если бы была настоящая модель, из металла, с настоящими чугунными притирами, тогда, возможно, вопрос стал бы по-иному. Изобретатель уже имеет опыт моделирования, в его способностях не следует сомневаться.
Семенов не почувствовал подслащенной пилюли. Он с жадностью ухватился за вскользь брошенное замечание, не подозревая, на какой путь его толкают. Модель из металла! Построить такой пробный станочек, чтобы тот мог в самом деле отделать хоть несколько плиток и показать всю истинную точность, деликатность своего существа.
Он уже не помнил тех трудностей, мучений, какие доставила ему деревянная модель, и не хотел видеть, что его ожидает с постройкой настоящего станка. Он видел только возможность осуществления своей мечты, признания своего изобретения.
Заводская помощь? Производственные средства? На это нечего было и рассчитывать. Изобретение еще не приняли, не одобрили, и кто бы взял на себя ответственность за исход рискованного эксперимента?
Семенов взял все на себя. Ну что же, если иначе нельзя, он построит станок сам, собственными силами. Нет, это не только упрямство или отчаяние. Это еще и убежденность. Копаясь над деревянной моделью, он еще раз так строго все обдумал, что будущий станок казался ему теперь яснее, ближе, чем когда бы то ни было. Надо только не пожалеть сделать последнее усилие. Он не виноват, что другие чего-то не понимают. Скрипучая деревянная модель говорила ему, что принцип его верен, что он не должен отступать. И, опьяненный этой верой, приступает он к постройке станка.
К нему пришли братья Ильины, Иван и Николай.
- А-а, болельщики! - встретил их Семенов. - Но знаете, смотреть пока нечего. Я только еще начинаю прикидывать, с какого конца взяться.
- Мы не смотреть, - коротко сказал Николай. - Если примешь, останемся, - и положил на табурет узелок, в котором звякнул рабочий инструмент.
Семенов был так растроган предложением помощи, что даже и не благодарил.
Верные товарищи! Они верили в его правоту слепо и бескорыстно.
Им не нужно было ни посулов, ни обещаний. Все было и так понятно: выгод пока что не предвидится никаких, а трудностей хоть отбавляй.
Трудности начали одолевать с первых же шагов. И проектировочное бюро, и заготовительный отдел, и производственная работа - все, что обычно в заводских условиях распределено по разным службам, между работниками различных профессий и квалификации, все это совместилось в комнате Семенова на Васильевском острове в лице трех слесарей.
Сделать станок по деревянной модели - это вовсе не значит повторить все то же самое, но только в металле. Здесь другие возможности и другие требования самого материала. Здесь другие точности, другие скорости, другие законы трения, сцепления и прочего. Здесь все надо особо взвесить и рассчитать. А Семенов даже не знал, как к некоторым расчетам подступиться. Или как изготовить фигурный вал, или шестерню нужной геометрии, когда нет для этого самого необходимого? На каждом шагу десятки всевозможных задач, непредвиденных препятствий.
Приходилось выискивать уже готовые детали, чтобы приспособить их как-нибудь к станку. Подрезать, подтачивать. Но невообразимо многое надо было делать заново. А какое же тут оборудование, в этом комнатном заводике? Тиски, пилочки, да всякий подручный инструмент.
И все же они ухитрялись что-то мастерить. Создавая станок, который должен заменить ручной труд, они сами творили его простым ручным трудом. Старый, дедовский способ. И чего это им стоило! Семенов три недели безуспешно пытался нарезать многозаходный винт. Николай Ильин уже второй месяц корпит над одной парой салазок. И все это в те часы, когда уже давно спит ночной Ленинград и когда наконец с серым рассветом стучится к ним Александра Кирилловна: «Пора и вам угомониться!»
Все беднее становилось в доме Семенова. Все скудные сбережения уже давно ухнули на станок. Все получки почти целиком проваливаются туда же, в это бездонное, непомерно разбухшее дело. Что можно было продать из дома, уже продано. От чего можно было отказаться - во всем уже себе отказано. Купить ли крайне нужную деталь или позволить что-то для новорожденного Витьки? Такие вопросы приходилось решать супругам, потихоньку притворив дверь, чтобы не услышали помощники - братья Ильины, работавшие за перегородкой.
Александра Кирилловна отчаянным шепотом защищала интересы Витьки: ведь маленький столько требует! Семенов таким же шепотом отстаивал интересы изобретения. Она умолкала, горько, презрительно скривив рот. А он терзался потом: разве он плохой отец? В эти минуты молчания ловил он на себе ее преследующий, требовательный взгляд.
- Потерпи, скоро, скоро… - бормотал он виновато и спешил укрыться за перегородку.
Наконец наступил момент, когда Семенов положил напильник на стол и сказал решительно:
- Прятаться нечего. Кого обманываем? Себя же…
Да, надо было сознаться, что у них не хватает больше
сил. И не может хватить. Упорствовать дальше было бы безумием. Хорошо еще, что у Семенова хватило мужества самому об этом сказать.
Братья Ильины стали молча собираться, слова утешения были бы ни к чему. Они закатали в тряпочки свой немудреный инструмент и, пожав Семенову на прощанье руку, тихо вышли из комнаты, словно ощущая себя в чем-то виноватыми. Впервые за долгие месяцы они не сказали: «До завтра».
Он остался один среди развала брошенной работы.
За перегородкой прекратился всякий стук живого дела. Тяжелая, давящая тишина. И в этой установившейся вдруг тишине Семенов услышал, как сильно плачет его маленький Витька, заболевший в холодной, плохо топленной квартире.
Неизвестно, сколько он так сидел, обхватив голову руками. Вдруг он встал, откинул ногой попавшуюся на полу деталь и подошел к углу, где хранилась его деревянная модель. Взял топор, посмотрел мгновение на модель и ударил по ее верхней доске. Он рубил, кромсал то, что собирал с такой любовью, вкладывая в эти деревяшки самые свои лучшие надежды. Все равно это теперь никому не нужно, бесполезно. (А Витька плачет…) И он стал кидать обломки один за другим в печку, в печку…
Жадный огонь охватил сухое дерево. Семенов остановившимся взглядом смотрел на гудящее, мятущееся пламя… Можешь радоваться, господин Иогансон! Гляди, какой конец тому, что задумал русский слесарь!
Александра Кирилловна поняла, вернее - чутьем угадала, что произошло. «Тише, тише, мой мальчик! - пыталась унять она шепотом раскричавшегося малыша. - Папа там…» Она старалась ступать беззвучно по комнате, не греметь вещами, как бывает, когда в доме случилось что-нибудь нехорошее. И все не решалась войти к мужу за перегородку. Только изредка заглядывала потихоньку в приоткрытую дверь: что с Митей? Он все сидел и сидел, уставившись перед собой…
Звонок у наружной двери вывел его из оцепенения. Семенов пошел отворить.
В лестничной полутьме стоял, отряхиваясь от мокрого весеннего снега, низкорослый человек с чемоданчиком в руке и спрашивал удивительно знакомым, вежливым тоном:
- Дмитрий Семенович Семенов здесь живет?
Кто же это? Неужели… И мгновенно подкативший к горлу комок не дал Семенову ответить.
Да, это был он, молодой Кушников, Леонид Николаевич. Все такой же аккуратный, предупредительный и только чуть посолидневший.
- А я привез вам новости из Москвы, - сказал он, входя в комнату, и остановился в недоумении перед остатками разбитой модели.
На страже секретов
Ранней весной тридцать первого года в Москве, на одном из окраинных пустырей, в мерзлую еще землю ударила лопата.
И звонкий стук ее слился с общим шумом новостроек - гигантской музыкой тех дней. По планам пятилетки, на месте старого пустыря началось сооружение большого завода.
Завод контрольно-измерительных инструментов, задуманный как рассадник высокой точности в стране, строился по последнему слову техники. Новейшее оборудование; передовая организация труда; массовый выпуск продукции. Завод, способный освободить промышленность от господства иностранных инструментальных фирм. Его и назвали в честь наиболее распространенного рабочего инструмента - «Калибр».
Вот какое дело увлекло отца и сына Кушниковых, ради которого распрощались они с товарищами из ленинградской артели.
Два поколения встретились в проектировочных группах нового завода. «Старики», накопившие в одиночестве мелкой кустарной работы крупицы драгоценного мастерства. «Молодые», охваченные жаром новейших идей крупного, объединенного производства. Искусство и наука, практика и расчет тесно переплелись в их взаимных усилиях создать новое, небывалое еще предприятие.
Но как строить? Как рассчитывать? Неизвестность подстерегала на каждом шагу. Кое-что подсказывал, конечно, опыт «Красного инструментальщика». Но размах задуманного предприятия, невиданные нигде масштабы заставляли иначе подходить и к конструкции инструментов и к способам их изготовления. Почти все надо было создавать заново. Проекты завода пришлось начинать с установления самой системы точностей, какие требуются в разных отраслях, для каждой из тысяч и тысяч всевозможных деталей. А потом уже думать, каким же должен быть инструмент, чтобы мерить, проверять эти детали с нужной точностью? А потом - как же его делать, этот инструмент?
Здесь, в горячке ударной стройки, в наскоро сколоченном бараке, где размещалось техническое бюро будущего завода, складывалась та особая наука современного производства, которую можно назвать наукой о стандартизации и взаимозаменяемости деталей. Наука, требующая строгой технической дисциплины и высокой точности работы.
Смелый опыт был предпринят на подмосковной строительной площадке. За ним следили из-за рубежа, пристально, настороженно. Русские хотят полной самостоятельности, взялись за производство точного инструмента. Что-то у них получится?
Бессмысленно было бы твердить все те же старые пророчества о крахе «большевистских фантазий», когда на порогах Днепра встал уже бетонный колосс Днепрогэса, когда в Москве и Горьком выросли уже автомобильные гиганты, когда задымила первая печь Магнитки, а в степи, у Волги, возникло чудо Сталинградского тракторного… Но все же производство точного измерительного инструмента - дело совсем особенное, тонкое. Тут требуется высокая культура, строжайшая техническая дисциплина. А где тонко, там и рвется.
Немалое место в этих чужих расчетах занимали маленькие пластинки с зеркальным блеском - плитки Иогансона. Уж что-что, а секрета их промышленного изготовления русским не разгадать. Ключи точности должны по-прежнему остаться в руках «европейского, цивилизованного мира». Плитки Иогансона - тайное тайных капиталистического производства.
…Шведский город Эскильстуна. «Город инструментов и приборов», - как значится в экономических справочниках. В этом городе молчаливо стоит серое здание с большими окнами и с маленькой медной табличкой у входа: «С. Е. Иогансон». Никто не знает толком, что происходит в этом доме, который построил предприимчивый инженер для своих плиток. Доступ туда тщательно оберегается. Редкий посетитель, попавший внутрь, видит только ряды запертых дверей вдоль длинных коридоров. Там, за дверями, и совершается таинственный технологический процесс, за раскрытие которого многие короли промышленности не пожалели бы горы золота.
Весь процесс раздроблен по отдельным комнатам. У каждой двери свой ключ, и работники одной комнаты не могут попасть в другую. Они не знают, что делают их соседи за стеной. Только несколько наиболее приближенных к хозяину специалистов знают производство в целом. Но их молчание хорошо оплачивается. Четырнадцать лет инженер Иогансон искал свой способ изготовления плиток, как ищет старатель золотоносный источник, и пусть теперь кто посмеет подступиться! «Плитки - это я!» - говорит Иогансон.
Перед тем как на подмосковном пустыре начали расти цехи «Калибра», в Швецию, в город Эскильстуна, господину Иогансону пришел из Советского Союза запрос: «Можно ли приобрести у вас заводской способ изготовления плиток? На каких условиях?»
Гордый швед не пожелал даже вступить в переговоры. Он не любит большевиков и предпочитает Форда, который уже не один год соблазняет его богатствами Америки. А для русских у Иогансона условие только одно: если будете хорошо себя вести, плитки вам будут продаваться. Серый дом в Эскильстуне требовал полнейшей капитуляции.
Организаторы «Калибра» обратились по другому адресу.
…Немецкий город Иена. «Крупный центр оптикомеханической промышленности», - как значится в справочниках.
Там на улице, над рядами старых лип, высятся железобетонные многоэтажные корпуса, где раскинула свое производство фирма Цейс, известная точной оптикой.
Конкурент Иогансона. Гораздо позднее, но с не меньшей строгостью здесь тоже поставили фабричное производство измерительных плиток.
Вместе с плитками немцы переняли у Иогансона и режим чрезвычайной скрытности, доведя его до совершенства. Где-то в центре одного из заводских корпусов какие-то особо изолированные помещения… Далеко не все служащие фирмы могли даже догадаться, что там такое. И был там уже совсем запретный угол: комната, где происходила наиболее ответственная, решающая операция в производстве плиток - окончательное наведение зеркала.
У Цейса советских представителей приняли весьма любезно. Любезно пригласили подняться на лифте, любезно проводили в выставочный зал. Там в отличнейшем виде, при самом выгодном освещении, демонстрировалась вся продукция фирмы.
Отделение измерительных плиток. Плитки всевозможных размеров, в разных наборах, рядами, веером разворачивались перед взорами гостей, сверкали зеркалом ослепительной отделки. Глаза разбегались перед этим блеском стального великолепия.
- А можно ли посмотреть, как они изготовляются?
Этого вопроса любезные хозяева даже не расслышали.
Когда воображение гостей было достаточно поражено, их опять пригласили в лифт и, минуя производство, провели в дирекцию.
В своем холодно-строгом кабинете директор фирмы повел весьма учтивый, но чисто деловой разговор.
- Гости видели продукцию? Им понравилось?
- Да. Но мы хотели бы получить технологию. Советский Союз готов заплатить.
- Заплатить? - подхватил директор. - А вы знаете, мы подсчитывали. Получается круглая сумма - пятнадцать миллионов.
Пятнадцать миллионов? - переспросил представитель «Калибра».
- Совершенно верно, - подтвердил директор. - Золотом пятнадцать миллионов. - Но тут же улыбнулся и, махнув пухлой ручкой, добавил: - О нет, не думайте! Это только теоретические подсчеты. Секрет плиток не продается. Мы, разумеется, готовы отпускать вам известное количество наборов. По мере возможности. По золотой валюте.
- Но это же совсем не то, что нам необходимо. Нам нужно собственное производство.
Директор сочувственно развел пухлыми ручками:
- Как угодно, господа. Очень сожалею… Все знают, что фирма Цейс делает отличные плитки. Но никто не знает как. Нам пытались подражать, но…
- Спасибо за совет, - сказал представитель «Калибра», поднимаясь с кресла. - Если так, мы вынуждены как-нибудь пробовать сами. Тогда посмотрим.
- Посмотрим, - согласился немец.
В дебрях неисследованного процесса
Молодого инженера Леонида Кушникова, участника одной из проектировочных групп будущего «Калибра», вызвали в Высший Совет Народного Хозяйства.
- Понимаете, какое положение, - сказали ему. - Нас просто за горло берут плитки Иогансона. Вы ведь, кажется, кое-что видали? Опыт вашего отца, артель…
- Приходилось, - коротко ответил молодой инженер.
- Так вот, Леонид Николаевич. Производство плиток должно быть на «Калибре». Крупное производство, на весь Союз. Можем мы или не можем, а оно должно быть. Мы хотим вам дать одно поручение…
Кушников ждал, к чему все это клонится.
- Надо попытаться… ну, как бы вам сказать… снять секреты. Найти твердые научные основы, разработать технологию. Словом, ставить дело по-инженерному… Возьметесь?
Кушников раздумывал. Он понимал, что ему предлагают.
- Так что же? Вам полная свобода действий. Только найдите. Найдите, на что можно было бы опереться.
- Постараюсь, - сдержанно ответил он.
Молодой инженер стал вдруг перед глухой, неисследованной областью, как стоит иногда путешественник перед неизвестной землей и думает: что он там найдет и с чем вернется?
Был опыт отца - несколько наборов плиток, созданных в терпеливом труде. Был еще опыт трех - четырех мастеров с «Красного инструментальщика». Но этот опыт надо было объяснить. Объяснить вполне научно все, что происходит, когда рука доводчика водит плиткой по притиру с рассыпанным порошком. Ведь даже сами мастера доводки не могут сказать, почему именно у них так получается. Чутье? Удача? Кто знает…
Молодому инженеру предстояла задача: переложить капризное искусство на какие-то более твердые, закономерные основы. Только тогда можно и думать о постановке настоящего, заводского производства.
Он решил подступать к своей задаче постепенно, методически. Время не ждало - на строительной площадке уже укладывали фундаменты цехов. Но он приучился считать, что продуманность действий - это и есть истинная быстрота, - привычка, вероятно унаследованная от отца, от лучших лекальщиков, в работе которых строгий предварительный расчет решает половину дела.
Он намечает широкую программу действий. Все, что касается плиток, должно быть проверено, изучено, долж-но получить объяснение. В его аккуратно разлинованной тетради множество вопросов. На них нет еще ответов. Он сам должен найти ответы, сделать выводы - из собственных наблюдений, из расспросов, из намеков, проскальзывающих в специальной литературе. «Снять секреты». Вот уж где его склонность находить всему «теоретические обоснования» может быть полностью удовлетворена!
С этим планом, как с компасом в руках, вступает он в дебри неисследованного процесса.
Итак, сначала по плану: «Плитки как эталоны длины».
Леонид Кушников отправляется в тот самый тихий, заповедный угол на загородном проспекте Ленинграда, куда он еще юношей в дни страшного наводнения отвозил первый отцовский набор плиток, - во Всесоюзный институт метрологии. Он входит в этот храм мер и весов, где в бетонных глубоких камерах, в бронированных комнатах за двойными шлюзованными дверями хранятся и проверяются самое точное время, самый точный вес, единицы длины, электричества, показатели температуры… И где в особой лаборатории тончайшими методами испытывают свойства маленьких пластинок, называемых плитками Иогансона. Здесь-то, в лаборатории, и приступает инженер Кушников к начальному этапу своих исследований.
В сущности, это учеба, самая добросовестная, кропотливая учеба. Он учится науке точных измерений, учится понимать плитку как метролог, выражая ее свойства в точных научных формулах и понятиях, - ее зеркальную поверхность, ее безукоризненную плоскостность, ее способность слипаться с другими плитками при плотном контакте.
В его тетради, в графе ответов, постепенно появляются записи.
«Плитки измеряются световой волной - наиболее точная природная единица длины. Постоянна всюду, при всех условиях. Плитки - носители светового эталона».
«Длина волны дневного света - 0,6 микрона».
«Зеркало плитки: неровности на поверхности металла не должны превышать длины световой волны».
«Сцепление плиток. Происходит сцепление молекул. Щелочка между плитками, вероятно, не превышает пяти тысячных микрона. 0,005 микрона! Практически - один кусок металла. Условие: отделка поверхности до сотых долей микрона…»
Световая волна о многом ему рассказала.
Дальше по плану - исследование процесса доводки. Здесь неизвестно даже, с чего начать, за что ухватиться.
Но вот какая догадка мелькает у молодого инженера. Немецкая фирма Цейс известна своими работами по оптике, тонкой шлифовкой стекол. И эта фирма открывает после Иогансона секрет изготовления измерительных плиток. Что это - случайность? Или возможно какое-то родство в методах производства? В самом деле, в обоих случаях - та же чрезвычайная гладкость, зеркальность… Разве это не должно навести на некоторые сравнения?
За ответом идет молодой Кушников в Государственный оптический институт (ГОИ). Он не рассчитывает получить готовые объяснения. Нет, он сам становится в ряды сотрудников института и, проделывая всю черновую работу лабораторных опытов, проходит школу химии и физики оптического стекла, пытаясь выведать при этом нужные ответы. А потом еще едет на оптический завод и там, надев спецовку, становится за шлифовальный станок, собственными руками постигает производственные приемы искушенных полировщиков стекла.
Он видит - стекло шлифуют тонкими абразивными порошками, снимая с его поверхности микронные бугорки; стекло полируют до отменного блеска особой пудрой, втертой в смоляной круг. И он все ищет, примеривает: что бы можно было извлечь отсюда для производства плиток?
Эти поиски приводят инженера Кушникова к дверям одной из лабораторий Оптического института, где написано на табличке: «Академик И. В. Гребенщиков».
Илья Васильевич Гребенщиков, химик, крупный оптик, занят опытами по своему последнему исследованию. Ученый не очень расположен в самый разгар напряженной работы заниматься беседой с посторонним посетителем. Каждую минуту за опытным столиком, в чашках и тиглях, может совершиться решающая реакция. Утомленные от постоянного обращения со стеклами и микроскопом глаза академика, чуть прикрытые тяжелыми веками, рассеянно глядят куда-то мимо скромного визитера, примостившегося на кончике стула.
Но то, что начинает рассказывать молодой инженер о плитках, о поисках секрета их производства, заставляет почтенного академика проникнуться вниманием. Тень утомления сходит с его взора, и в нем уже сверкает искра живого интереса.
- Я вас понимаю, - говорит ученый. - Лет пятнадцать назад я с моими товарищами был примерно в таком же положении. Мы искали секрет оптического стекла. И тогда перед нами также захлопнулись за границей все двери. Но мы все же нашли, сами, без чужих одолжений. - И луч воспоминаний пробегает по его серьезному лицу. - Но дело не в прошлом, - продолжает он, поднимаясь. - Мне кажется, мы можем сейчас друг другу помочь…
Он берет гостя под локоть и ведет в глубь лаборатории, где за опытным столиком завершается его последнее исследование. Ученый создает свою новую теорию - теорию полировки металла. И идет он к ней именно от методов обработки оптического стекла.
Перед молодым инженером открывается завеса. Вот она, кажется, возможность, которую он так ищет! Научно обоснованный подход к обработке плиток.
Академик, в свою очередь, нуждается в практических подтверждениях своей теории. Что же еще лучше может подтвердить, чем зеркальная поверхность на плитках Иогансона? А этот молодой человек повидал кое-что с плитками, знает опыт выдающихся мастеров.
Так завязывается их знакомство.
Молодой гость очень аккуратен, обходителен в обращении. Но если ему что-нибудь неясно, он неизменно с вежливой настойчивостью возвращается к этому еще и еще раз, просит объяснений. И академик, угадывая за этой деликатной манерой скрытый жар стремления к цели, охотно разделяет с ним часы поисков и размышлений.
В рабочей тетради Леонида Кушникова появляется новая запись:
«Теория И. В. Гребенщикова. Полировка - не только механический процесс, то есть срезание бугорков с поверхности стекла или металла. Полировка - это и процесс химический. Атомы полировочной пудры вступают в химическое взаимодействие с наружным, наиболее твердым слоем металла, разрушают его и подготовляют почву для процесса резания, для снятия металлических частиц».
Следующая запись:
«Подбирая порошок для доводки плиток, надо думать не только о величине и твердости его зернышек. Важен также их химический состав».
Расставаясь с Оптическим институтом, Леонид Кушников выносит оттуда не только сумму нужных знаний. Он увозит с собой, осторожно прижимая, как драгоценный подарок, маленькую баночку с темно-зеленой мазью. Это специальная паста, составленная по рецепту академика Гребенщикова для зеркальной доводки металлов,-«паста ГОИ». Она должна облегчить и доступ к зеркалу плиток.
Остается еще одно исследование по плану: свойства притиров. Эти гладкие чугунные притиры, на которых производится доводка плиток, имеют также свои загадки.
Казалось бы, два одинаковых притира, оба из чугуна, а на одном плитки получаются, на другом же - никак. А почему? Старые доводчики говорят, что у каждого притира свой «характер».
И Кушников опять стучится в двери науки - в Институт металлов. Он ставит опыты, проникая в строение разных чугунов, примеривает их к условиям доводки. После долгих недель изысканий он записывает в тетрадь:
«Материал притира должен быть мягче, чем материал плиток».
А потом еще:
«Лучший вид чугуна для притиров - перлитный».
…Все дальше ступает молодой инженер в своих розысках. Шаг за шагом сквозь дебри неизвестности. И все больше и больше записей появляется в его тетради: ответы на поставленные вопросы.
Быть или не быть?
В деревянном бараке на строительной площадке, в одной из комнат второго этажа, где размещалось техническое бюро завода, происходило не совсем обычное совещание. Помимо особо приглашенных, никто более туда не допускался. И дежурный вахтер, занявший позицию у двери, останавливал всех грозным шепотом: «Не велено».
В комнате перед небольшим кругом собравшихся стоял Леонид Кушников и, разложив аккуратно на канцелярском столе плитки, фотографии, таблицы, свою тетрадь с вопросами и ответами, делал доклад руководству завода о результатах долгих розысков и исследований. Он обстоятельно освещал каждый этап работы: задача, исходные данные, опыты и наблюдения, выводы. Некоторые подробности пояснял схемой или формулой па грифельной доске ученического типа, поставленной тут же на стол и прислоненной прямо к стенке. На столе в качестве вещественного доказательства стояла и маленькая баночка с темно-зеленой пастой - подарок академика Гребенщикова.
Доклад излагался тихим, ровным голосом, без эффектных выражений, можно сказать - даже буднично. Но, несмотря на всю скромность обстановки и скупую сдержанность самого докладчика, в комнате дарило напряженное внимание. Все понимали, что должно сегодня здесь решиться.
В окна барака смотрели уже поднявшиеся в лесах стены заводских корпусов. Скоро в эти стены войдет цеховая жизнь, откроется производство измерительных инструментов. А плитки? Сегодня по докладу инженера Кушникова и надо было решить: быть на «Калибре» своему собственному производству плиток или не быть? Или опять идти на поклон?
- Как видите, - заключил докладчик, - данные науки позволяют более уверенно подойти к проблеме плиток.
- Все еще проблема? - насторожился директор. - Ка проблемах мы ставить производство не можем.
- Мы не лабораторию открываем, а цех! - жестко бросил главный инженер.
Леонид Кушников перебирал машинально свои записи на столе. Кто же мог ответить более определенно, чем он?
- Так как же, можно ставить производство? Плитки будут? - спросил директор.
- Надо постараться, - сдержанно ответил докладчик.
- Нам надо наверняка! Представляете, если там, за границей, узнают, что мы взялись, но ничего не вышло? Нас тогда совсем… - И директор выразительно схватил пальцами свое горло.
- Разумеется. Надо постараться, - вежливо повторил докладчик. - Но мне думается, что первое время цех будет неизбежно и лабораторией, - поклонился он в сторону главного инженера.
- Как думаешь, Николай Васильевич? - обратился директор вдруг к Кушникову-отцу, невольно смягчая тон,
И все обернулись туда, где сидел старый мастер.
Николай Васильевич провел нервно рукой по щеточке усов и, глядя чуть исподлобья, сказал негромко:
- Волков бояться - в лес не ходить. Кто же за нас пойдет?
- А как с людьми, с кадрами? - спросил директор.
- Да-а, кадры… - покачал головой мастер. - Откуда же их взять, готовенькими-то? Видно, придется цеху и тут принять на себя. Стать школой…
Выступали затем технологи, выступали конструкторы. Разные доводы были у них - то в пользу собственного производства плиток, то против. И, откровенно говоря, большинству присутствующих было неясно: можно все-таки приняться за такое новое дело или надо еще подождать, разобраться еще основательней? Перед ними стоял совсем молодой инженер, почти юноша, который едва только что-то нащупал, какие-то первые теоретические подходы. Все требует проверки, опыта.
Но ждать… Как ждать?
На совещании было решено: пойти все-таки на риск. Открыть на заводе специальный цех по производству плиток. Как его назвать? Подумали и решили: цех эталонов. Ведь плитки - это и есть точнейшие эталоны длины.
Начальником цеха был назначен инженер Леонид Николаевич Кушников. Старшим мастером-инструктором - мастер Николай Васильевич Кушников.
После совещания, когда все стали расходиться, отец и сын вышли из барака вместе. На обширной заводской территории кипел муравейник стройки. Стук, трескотня, выкрики людей, веселый перезвон сотен молотков…
Кушников-отец присел на ящик из-под стекла. Приятно пригревало яркое апрельское солнце. В воздухе стояла та волнующая весенняя свежесть, когда идет таяние снегов и кое-где чернеет уже первый клочок пробуждающейся земли. И от этого воздуха и от движения стройки поднималось такое чувство радости, ожидания, уверенности в том, что предстоит делать завтра…
Но это чувство не снимало забот.
- Как думаешь, товарищ начальник? - спросил отец. - Ведь директор-то прав: кадры!
Они стали перебирать, кого бы можно было привлечь сейчас же в новый цех. Кто знает обращение с плитками? Кто мог бы обучать других? Придется готовить не двоих - троих, а десятки людей, чтобы развернуть широкое производство. Цех-школа.
И оба подумали об одном и том же.
- Семенов? - сказал сын.
- Дмитрий Семенов, конечно, - сказал отец.
- А помнишь его идею станка?
- Ну как же! Говорят, он что-то пробовал, но на «Красном инструментальщике» не признали. А он обидчивый, ушел оттуда. И что с ним - неизвестно.
- Может, у нас здесь… Придет время - попробуем. Теперь положение другое, - заметил Кушников-младший, окидывая взглядом стройку.
Отец задумчиво кивнул в ответ и сказал:
- Поедешь в Ленинград, постарайся разыскать Семенова. Уговори приехать сюда.
…Вот тогда-то Леонид Николаевич прямо с вокзала, с чемоданчиком в руке, и явился к Семенову, в его холодную, грустную квартиру. Но уговаривать не пришлось.
- Мне тут все равно не оставаться, - ответил Семенов, выслушав рассказ Леонида Николаевича, и покосился на груду деталей неоконченного станка. - В Москву так в Москву!
Тяжесть азбучных истин
В жаркий июльский полдень тридцать второго года состоялся торжественный пуск завода. Молодая работница токарь Строганова перерезала алую ленточку, и сотни людей, обступивших готовые корпуса «Калибра», прокричали в его честь громкое «ура». В добрый путь!
В просторные цехи, пронизанные светом, вошла армия рабочих - токари, фрезеровщики, шлифовщики, кузнецы и литейщики, слесари и механики… Всё сплошь молодежь, многие из тех, кто еще недавно строил, возводил эти стены. Стали за новенькие изящные станки, у замысловатого машинного оборудования и принялись осваивать сложное дело инструментального производства.
Под стеклянной крышей в одном из корпусов приютился и цех эталонов - с неказистым своим имуществом, с чугунными притирами и с приемами ручного труда. Человек пятнадцать сидели здесь за длинными верстаками, друг против друга, как за обеденным столом. Кто же они, эти кадры, призванные осуществить смелый, необычайный опыт? Да простые парнишки и девчонки с косичками, только что пришедшие сюда прямо со стройки завода, из «дворового цеха», где они едва научились исполнять самую грубую, черную работу. А теперь им предстояло овладеть одним из самых тонких, деликатных процессов - доводкой измерительных плиток.
Леонид Николаевич с тревогой посматривал на их чересчур юные лица, на их пальцы, неловкие, огрубелые. Как много еще потребуется, чтобы придать этим пальцам нужную гибкость, легкость в движениях и ту особую чувствительность к игре на микронах, без которой не может быть хорошего доводчика. И сколько их, юношей и девушек, вообще окажутся способными воспринять науку труднейшего ремесла?
Цех эталонов был одновременно и школой и исследовательской лабораторией. Все, что нашел Леонид Кушников в своих розысках - все теоретические основы, записанные в его тетради, - надо было ввести теперь в практику доводки, создать технологию массового производства. Положить искусство на опоры науки.
Приехал Дмитрий Семенович Семенов и тотчас, не теряя времени, окунулся с головой в дела и заботы нового цеха. Беспокойной деятельностью желал он словно заглушить то, что лежало камнем на его душе. Пришел в цех и Демидов Михаил Пахомович - коммунист, опытный лекальщик, из тульских мастеровых. И все они вместе с отцом и сыном Кушниковыми, независимо от должности - мастер ли, инструктор ли, начальник или «зам», - все принялись одолевать трудности нового дела. Сами разрабатывали и проверяли разные способы доводки - «научную технологию», как выражался Леонид Николаевич. Сами терли плитки на чугунных притирах, чтобы найти, исходя из этой технологии, наиболее лучшие, доступные рабочие приемы. Сами учились и сами учили других.
Цех пока не работал на программу, не выпускал продукцию. Он только «портил». Но цех готовился, учился.
Начинать приходилось с азбучных истин. Доводка плиток - это прежде всего аккуратность, чистота. Не то что сор или грязь, но даже пылинка может повредить безукоризненное зеркало плитки. А как привить это щепетильное чувство чистоты молодым, которые привыкли на стройке к тому, что работать - значит загрязниться?
Мыть тщательно руки, прежде чем прикоснуться к плиткам, протереть бензином - это еще далеко не всё. Руки у всех на виду. Но вот однажды Леонид Николаевич заглянул под длинный верстак и вдруг, выпрямившись, с ужасом спросил: «Что это такое?» У многих под ногами хрустел песок, лежали комочки глины. Люди прошли по заводскому двору - и вот, пожалуйте! Леонид Николаевич созвал по этому поводу весь цех и говорил о песочке на полу, как о происшествии чрезвычайном.
Дотошный начальник! Ничего не пропустит. И обязательно укажет: вот какая оплошность! Вежливо, деликатно, но укажет. Он никогда не повышал голоса, даже когда и полагалось бы сердиться. Но молодежь побаивалась получать от него замечания: его неумолимая вежливость пугала.
Он ввел для всех доводчиков белые халаты и говорил: «По вашему халату я буду судить о чистоте рабочего места». А после истории с песочком под верстаками завел еще правило: всем при входе переобуваться в мягкие тапочки. «Ой, как в музее!» - воскликнула Тося Семенецкая, большая любительница изящных искусств.
Доводка плиток требует внимания, осмотрительности на каждом шагу. Как взять плиточку за края? Чем протереть ее блестящую поверхность? Как положить плитку на стол, на притир, в ящичек? Ко всему - внимание.
И еще, конечно, усидчивость. Большая нужна усидчивость. Ведь гладить плиткой по притиру приходится часами. Гладить, по возможности не отрываясь, чтобы не нарушить плавного течения доводки. Как музыкант не прерывает мелодии на полуфразе, так и хороший доводчик стремится «проиграть» весь процесс от начала до конца, до последнего снятого микрона. Недаром и процесс назван глаголом, выражающим предельное терпение: доводить. А каково это молодым?
Понятливый парнишка Сергей Гвоздев, ничего не скажешь. Он, пожалуй, быстрее других научился правильно водить рукой. А вот до конца выдержать не может: не хватает терпения. То вскочит зачем-то, то повернется к соседу. Тося Семенецкая далеко не столь расторопна, но умеет заставлять себя. И берет над ним верх. Страдает, сильно страдает от этого мужское самолюбие Сережи, но что поделаешь! Увы, у него нет усидчивости доводчика!
Мастер Семенов не раз останавливал парнишку: «Сиди, сиди, чего егозишь!» Но сам в душе прекрасно понимал, как это бывает трудно, невыносимо. Он помнил по себе: сидишь, сидишь за притиром, трешь и трешь плитку, и вдруг охватит такое страшное нетерпение, желание немедленно вскочить, подвигаться и неизвестно еще что, но только бросить это бесконечное, монотонное движение рукой. Собственно, это чувство протеста и заставило его там, в Ленинграде, задуматься впервые: а нельзя ли освободиться от этой страшной прикованности, механизировать доводку?
Механизация! Его мечта о станке! Он горько усмехнулся. Больно даже подумать об этом. Приехав в Москву, он избегал всяких разговоров о своем несчастном изобретении. А жизнь как будто твердит опять, толкает на старые мысли: «Смотри, как трудно человеку делать это вручную!»
Вот и сейчас. Сидели девушки за верстаком, тихо, чинно, занимаясь плитками. И вдруг не вытерпели, застрекотали, поднимая разом беспричинное веселье. Просто так, оттого что трудно сидеть, не отрываясь, и гладить, гладить…
На шум оборачивается Николай Васильевич, сидящий за отдельным верстаком. Не сходя с места, молча смотрит он на расходившуюся молодежь своим особенным взглядом поверх пенсне. И девушки конфузливо умолкают.
В цехе постепенно все узнали, какую жизнь прожил старый мастер и что он сделал для дела, которым они сейчас занимаются. Когда Николай Васильевич показывал ученикам, как надо работать, и, положив чуть согнутые пальцы на ребро плитки, начинал легко и плавно водить ею по чугунной глади притира, очарованная минута наступала в цехе. Затаив дыхание, следили пареньки и девушки за каждым движением мягкой, бледной руки, творящей чудеса. Под ее ласковым прикосновением невидимо, неслышно слетали с нежной поверхности плитки ничтожные пылинки металла - микроны и дольки микронов.
Начальник цеха Леонид Николаевич вводил науку в производство плиток - и разные составы смазок, и способы подготовки чугунной поверхности притиров, и проверку плиток методом преломления световой волны… Но что касается руки, которая ведет всю «игру», здесь по-прежнему властвовала еще неуловимая стихия. Чутье, талант… И здесь всегда подстерегает что-нибудь неожиданное.
Пришла с другими из «дворового цеха» и бывшая каменщица Катя Михайлова. Худенькая, с длинными, тонкими руками и с серьезным не по возрасту лицом. Еще на стройке она отличалась своей положительностью, была бригадиром. И здесь, в цехе эталонов, за верстаком, ее сразу можно было отметить: вся - внимание, старательная. В движениях ее рук какая-то многообещающая собранность. Словом, все качества доводчицы.
Так и оказалось. Катя медленно, но твердо усваивала первые премудрости доводки плиток. Она усердно терла и терла… Ее длинные пальцы приобрели уже такую чуткость, что могли уверенно снимать микроны. Даже первые проблески зеркала стали появляться у нее на плитках.
Катя в этом искусстве подошла наконец к той границе, когда рука должна снимать последние десятые, сотые микрона, а на поверхности плитки начинает играть идеальное зеркало. Это ступень окончательной доводки.
И вот тут, у самой решающей границы, с Катей что-то случалось. Ее рука словно теряла вдруг приобретенную чувствительность и водила «вслепую». Снимет чуть лишнее, какую-то ничтожную дольку - и плитка уже испорчена.
- Легче, легче пружинь, - советовал ей Николай Васильевич.
Катя бралась за новую плитку, пробовала еще и еще раз. Но как только подступала к той же окончательной ступени, так опять срыв где-то на последних движениях. Окончательная доводка стала перед ней завороженным порогом. Катя уже чувствовала: стоит ей приблизиться к этому порогу, как она сама не своя. Рука дрожит, холодеет.
В такие минуты Катя вдруг останавливалась и, опустив низко голову, глотала, шмыгая носом, горькую слезу.
Она ходила советоваться к Демидову, который заведовал в цехе кадрами. Как быть?
- Это психология, - говорил Михаил Пахомович. -
Психология тебя подводит. Доводчик должен справляться и с ней.
Катя возвращалась на место и, сжав губы, с отчаянной решимостью на лице принималась одолевать собственную психологию. И снова терла, терла…
Цех боролся с трудностями, боролся за новое производство, за свое существование.
Леонида Николаевича часто спрашивали в дирекции:
- Ну как, налаживается?
- Пока еще трудно сказать, - осторожно отвечал Кушников.
Цех все еще не давал никакой продукции. И нелегко было понять, существует ли действительно такой участок производства или это одна видимость?
Причуды и капризы
В цех пришло солидное пополнение - первая группа выпускников специальной школы фабзавуча. Это были уже люди с повадками настоящих работников, с пониманием значения собственной профессии, хотя каждому из них не стукнуло еще и полных семнадцати.
- Фамилия? - спрашивал Михаил Пахомович.
- Дунец. Виктор Дунец, - бойко отрапортовал быстроглазый мальчуган, явно не знающий, куда девать свои длинные, беспокойные руки.
- Специальность?
- Слесарь-лекальщик, - ответил он с достоинством.
- Фамилия?
- Алексей Ватутин.
- Специальность?
- Слесарь-лекальщик.
И так каждый произносил значительно: «слесарь-лекальщик». Это значит - их учили самым тонким приемам работы по металлу, обращению с точными инструментами. Специалисты! Они и посматривали на остальную молодежь из «дворового цеха» несколько свысока.
Но едва им пришлось сесть за общий верстак, как настроение их резко изменилось. Правда, они знали кое-что из лекального дела, им не надо было объяснять многие азбучные истины. Но плитки… Плитки привели их в смущение. Никто и понятия еще не имел ни в какой школе о том, что увидели они тут, в цехе нового завода.
- Товарищи лекальщики! - обратился к новичкам Михаил Пахомович, тая в усах усмешку. - Вам предоставляется возможность пополнить у нас свое образование, немного подучиться…
Выпускники переглянулись: ну и попали! Столько они уже учились, мечтали, что вот сейчас они придут, возьмутся за работу, будут двигать производство, как им говорили. А тут, оказывается, опять грызи гранит науки!
- Сколько же нам еще? - деловито справился Виктор Дунец.
- Кто как сумеет, - обнадежил Пахомыч. - У нас определенного курса нет.
И вот они сидят вместе с другими, «необразованными», и вместе с ними стараются так же водить рукой туда и обратно, туда и обратно, повторяя те бесконечные осторожные движения, какими так легко, казалось бы, владеют Николай Васильевич или Дмитрий Семенов. Час за часом тереть и тереть. День за днем тереть и тереть. И все время убеждаться, что ничего не умеешь делать и делаешь даже хуже, чем эти «необразованные». Нелегкое испытание для профессиональной гордости новоиспеченных лекальщиков.
Плитки вдруг обнаруживали странные причуды. Виктор Дунец и Алексей Ватутин сидели рядом. У них были одинаковые притиры, оба пользовались одинаковыми приемами движения рукой. Но у одного на поверхности плиток часто получались почему-то горбинки, у другого же, напротив, - плитки выходили с впадиной.
Они сами не замечали, как это получалось, но световая волна на оптических поверочных стеклах тотчас ловила искривление.
Но почему же все-таки у одного горбинки, а у другого впадины? Леонид Николаевич учинил по этому поводу целый научный розыск. Решительно все на рабочих местах Дунца и Ватутина подверглось доскональному исследованию: притиры, смазка, приемы движения, даже поза каждого за верстаком… Но ничего не давало хоть какого-нибудь намека. Решили, наконец, обследовать руки.
И что же оказалось? У одного руки были всегда разгорячены, у другого, напротив, холодные, как ледышки. Вообще, явление довольно обычное: люди все разные, и руки у них разные - у кого холодней, у кого горячей. Что ж тут такого? Но для доводки плиток это имело, оказывается, значение. Температура пальцев влияла на равномерное снятие микронных частиц. Если плитка чересчур разогрета, ее поверхность выходит горбом. А у холодной плитки легко появляются впадины.
- Черная магия! - удивлялся Дунец, вертя перед собой свои худые руки, будто впервые их увидел. - Ну и работка!
Или - что такое? До обеда получалось как будто ничего, довольно сносно. Но сходят ребята в столовую - и все расклеивается. Путаница в размерах, ошибки на целые микроны.
Опять расследование, и опять вывод: температурное влияние. Человек поел и разогрелся. А плитки тотчас это чувствуют. Более теплая рука, более теплое дыхание, более теплое излучение от тела. И столь незначащий как будто разогрев уже мешает правильной доводке. Кто думает о том, что вот сейчас, с обедом, он поглотил столько-то единиц тепла - калорий? Но плитки заставили в цехе задуматься и об этом.
А Семенову все эти происшествия опять назойливо напоминали: «Смотри, вот еще доказательство. Рука человека, живая, теплая рука, совсем уж не такой подходящий инструмент, чтобы двигать ею плитки по притиру. Вернее, совсем неподходящий».
Он мрачнел, пытался отогнать непрошенные мысли. С изобретением все покончено. Да и кому сейчас до этого? Цех едва дышал под тяжестью трудностей и неудач.
Неизвестно, каких еще капризов можно было ожидать от сложного, своенравного процесса. Капризы и невзгоды обрушивались вдруг.
Народу в цехе прибавилось, стало тесно в длинном, узком помещении под стеклянной крышей. Цех перебрался в новый корпус. Просторные, светлые комнаты, большие окна на две стороны - что, казалось бы, лучше? И действительно, поначалу все были очень довольны.
Но вдруг наступила жара. Солнце, целый день глядевшее в эти широкие, открытые окна, вливало в комнаты потоки знойных лучей. Окна выходили на юг и частью на восток, и никто этому раньше не придавал особого значения. А теперь вдруг оказалось, что производство плиток зависит и от того, куда выходят окна.
20 градусов - вот тот уровень, при котором размеры плиток и показания приборов считаются правильными. Но температура в цехе угрожающе поднималась: 26… 27… 29… Плюс двадцать девять градусов! Леонид Николаевич с немым отчаянием смотрел, как ползет в термометре вверх ртутный столбик. 30!..
Старший контролер цеха Ольга Николаевна, раскрасневшаяся от жары и гнева, подняла из-за столиков своих девушек, и они вспугнутой стайкой, в белоснежных халатах, с коробочками плиток и приборами в руках, метались по этажам заводского корпуса в поисках хоть какого-нибудь более прохладного местечка. Только укрывшись в подвале, смогли они произвести нужные измерения.
А молодые доводчики, оставшиеся за верстаками, не знали, что делать: бросить ли работу или продолжать доводку на авось? Расширение металла от жары сбивало все тонкие расчеты. Ну что за проклятая работа!
Леонид Николаевич объявил по цеху аварийное положение. Все были призваны на борьбу с жарой, против солнца. Окна были плотно закрыты. На них стали навешивать белые полотнища. Но это мало помогало. Принялись опрыскивать полотнища водой, а затем - пол и стены, чтобы хоть как-нибудь охладить атмосферу. Но пришли люди из заводской лаборатории, принесли приборы, определяющие влажность воздуха, стали рассматривать плитки под лупой… И сказали, что опрыскивать все вокруг рабочих мест нельзя: от чрезмерной влажности на нежной поверхности плиток появляются крапинки ржавчины.
Тогда по цеху был опять объявлен аврал. Ухватились за последнее средство. Снаружи над окнами провели длинные трубы со множеством мелких отверстий и пустили холодную воду. И вот за окнами закапала, потекла вода - пошел искусственный дождь. И так целый день струилась снаружи водяная завеса, умеряя рвущийся к плиткам жар.
И все же в такие дни работа шла впустую. Сплошной брак. Люди терли, терли, изощрялись, а законы теплового расширения не хотели считаться с их отчаянными усилиями.
Леонид Николаевич ходил в дирекцию, доказывал, что в цехе надо строить особую систему охлаждающей вентиляции. Плитки требуют искусственного климата. А ему отвечали: цех все только требует, но сам пока ничего не дает. Сколько месяцев уже прошло, а тридцать человек сделали всего два набора плиток. И то пробных, и то почти самого низкого класса. Третий класс! Остальное - брак, кусочки испорченного металла. Уж не думает ли цех эталонов выходить с такими «достижениями» против плиток Иогансона?
Леонид Николаевич вежливо напоминал:
- Еще полгода назад мы не имели даже и этого, третьего класса.
- Время не ждет! - отвечали ему.
Увы, это было справедливо. Страна нуждалась в средствах точного измерения. Новые заводы, новые отрасли техники - невозможно без «ключей точности». И нужда эта с каждым днем все острее. А как думает ответить на нее цех эталонов?
Леонид Николаевич возвращался в цех, а его встречал с расстроенным лицом Михаил Пахомович.
- Что, опять уходят? - догадывался Леонид Николаевич.
- Уходят… - сокрушенно кивал Пахомыч.
Многие из новичков не выдерживали. Их раздражала, пугала неуверенность: какой еще каприз появится у этих плиток? И кто послабее, решал бежать. Приходили к Пахомычу и требовали расчет.
Но хуже было то, что среди других росло глухое недовольство. И однажды, в один из тяжелых дней, когда как-то ничего не ладилось за верстаками, все прорвалось наружу.
Началось с того, что один из новичков, испортив каким-то неловким движением очередную плитку, вскочил, громко стукнул по верстаку и, чуть не плача, разразился криком. Он не может больше, не может! Точка, хватит! Что, его сюда за провинность, что ли, усадили?
Глядя на него, вскочил другой, потом еще… Так и пошло. Один заражал другого. Вот и Виктор Дунец замахал руками. А за ним вступил в общий шум и Алексей Ватутин… Все наперебой кричали. Почему другие ребята из фабзавуча пошли в цехи? Там действительно работа. Там и проявляют себя и зарабатывают. А тут что? Все без толку. Одно мученье…
Комсорг Ваня Громов надрывался, стараясь перекричать других: «Слушайте, ребята!..» Но его голос тонул в общем шуме. И было непонятно: что он, кричит со всеми вместе или хочет остановить их? Михаил Пахомович поспешил за Леонидом Николаевичем, который ушел зачем-то в заводоуправление. Галдеж разрастался.
Все это время за разыгравшейся сценой молча, неподвижно наблюдал со своего места в отдалении Николай Васильевич. Но вот он поднялся из-за верстака. Медленно, не торопясь, вышел на середину и стал у всех на виду. Невысокий, сутуловатый, уже стареющий человек, с тяжестью лет и долгой трудовой жизнью за плечами. Он не пытался поднять голос, не останавливал жестом. Он просто стоял и ждал, поглаживая пальцем по щеточке усов.
Крикуны, увидя перед собой мастера, стали затихать. Что он скажет им? А он и не спешил сказать. Снял пенсне и. протирая его платочком, как бы задумался. И взгляд мастера стал странно глубоким, устремленным куда-то в себя.
- Как же вам не стыдно? - произнес он наконец очень тихо. - Вы будто гимназистки… Были в наше время такие сахарные барышни. Их учили, учили, а они только хныкали. А вот нас, рабочих людей, никто не учил. Мы всё горбом добывали - и профессию и мастерство.
Вот как было-то… - Он надел пенсне, и оттого взгляд его стал сразу острее, строже. -• Что же вы, забыли рабочую честь? Вам такое дело доверили! Плитки! Да ведь это на весь мир редкость. А вы тут расхныкались… Гимназистки! - бросил он презрительно и, повернувшись, пошел к своему верстаку, чуть шаркая в наступившей тишине.
Когда Леонид Николаевич, обеспокоенный известием о поднявшемся «бунте», прибежал, запыхавшись, в цех, все сидели по местам, занимаясь как-то особенно сосредоточенно своей работой. Новички усердно гладили и гладили плитки, не поднимая головы, избегая даже встречаться взглядами.
- Ну как? Останемся? - шепнул Ватутин соседу.
- А то как же! - высокомерно ответил Дунец. - Что мы, гимназистки, что ли?
Точность - ноль двенадцать сотых
Вероятно, всегда так бывает: сначала не выходит, не выходит, а потом и начинает что-то выходить.
Старший контролер Ольга Николаевна стала реже являться гневным видением в дверях участка плиток, как бывало в дни сплошного брака. Раза два она уже благосклонно сказала:
- Сегодня у нас удача. Четыре плитки второго класса! Значит, кто-то из молодых перешагнул через микроскопический порожек и выдержал точность обработки в десятые доли микрона.
Постепенно еще и еще набралось плиток второго класса. И цех мог представить несколько наборов. Вот, пожалуйста, готовая продукция. Скромно, небогато, и плиточки годились далеко не для самых точных измерений.
Но все же это была первая настоящая продукция. Даже такой судья, как Палата мер и весов, признал, что наборы можно допустить к обращению. Плитки, эти концевые меры длины, с четко прорисованной буквой «К» («Калибр») вышли в свет. Цех заявил о своем существовании.
Как ни малой была еще эта удача, но многих из новичков она сильно приободрила. Не такое уж темное, оказывается, дело-то.
Пожалуй, самым недовольным оставался все-таки начальник цеха, Леонид Николаевич. Всегда самый вежливый и всегда самый недовольный. Он нарочно сказал громко в присутствии молодых:
- Иогансон и Цейс делают плитки первого класса. Высший класс!..
- А кто это Иогансон? - спросил тихо Ватутин у соседа.
- Известно кто, буржуй! - авторитетно ответил Дунец. - А вот ты комсомолец, а не можешь.
Ватутин насупился и молча продолжал водить рукой.
Через несколько дней Ольга Николаевна появилась в дверях, раскрасневшаяся от волнения. Двумя пальцами держала она маленькую плитку.
- Смотрите, кто это сделал… - голос ее дрогнул.
Все насторожились. Напорол, что ли, кто-то? Ох, сейчас будет буря!
Но Ольга Николаевна произнесла вдруг:
- Да вы понимаете, товарищи! Это же плитка… Точность - ноль двенадцать сотых микрона. Двенадцать сотых! - повторила она восторженно. - Плитка первого масса - вот что это такое, товарищи!..
Молодежь кинулась смотреть на замечательную плитку. Но кто же ее сделал?
Ольга Николаевна раздвинула толпу и подошла к верстаку, где остался сидеть Алексей Ватутин, бледный, как-то нелепо улыбающийся.
- Он! Это он! - воскликнула Ольга Николаевна, размахивая в подтверждение папиросной бумажкой, в которую рабочий заворачивает плитки и ставит свою пометку.
Ватутин еще с утра сделал эту плитку. Положил ее на поверочное оптическое стекло… и обомлел. Радужные полоски на стекле, эти сигналы световой волны, показывали: высший класс точности. Ватутин не посмел поверить. Не говоря никому, даже своему другу Виктору, он сдал плитку вместе с другими на контроль и с замиранием сердца ждал, что там обнаружат. И вот, действительно, - первый класс. Сама Ольга Николаевна это подтверждает.
С каждой минутой Алексей Ватутин, забывая о своем смущении, преисполнялся великой гордостью. Взяв из рук Ольги Николаевны плитку и стараясь держать ее так же, как заправский доводчик - в растопыренных пальцах, принялся сам всем показывать. Конечно, своему соседу, Виктору, и Тосе Семенецкой, и Паше Петрыкиной - словом, тем, кто тоже мог понимать в этом толк. Смотрел плитку Михаил Пахомович и отечески похлопал Алексея по плечу. Смотрел и Дмитрий Семенов… Словом, торжество!
Но вот Алексей подошел к Николаю Васильевичу, протянул плитку с видом победителя… и оробел. И все стоявшие вокруг притихли.
Старый мастер поправил пенсне, наклонил лампочку поближе. И долго, внимательно, ссутулившись над освещенным пятном на верстаке, разглядывал плитку. Алексей в нетерпении одергивал зачем-то свой куцый пиджачок.
- Хорошо. Настоящая плитка, - сказал наконец Кушников.
Но, увидя, как парень сразу просиял, добавил серьезно:
- Попытайся еще сделать такую. Если не случайно это у тебя получилось - значит, ты… того… доподлинно лекальщик.
Окрыленный успехом, Ватутин уверенно взялся за новую плитку. Тщательно, со всей осмотрительностью доводил ее. Потратил чуть не целый день. Но… увы! На этот раз первого класса все же не получилось. Световая волна уловила погрешность в две десятых микрона, и неподкупная Ольга Николаевна зачислила плитку во второй класс.
Ватутин взял другую плитку. И опять первого класса не получилось.
«Не получилось!» - прокатился тревожный шепоток по рядам молодежи.
- А то как же! Вы думали, это так просто? - объяснял уверенно Виктор Дунец.
Ватутин перепортил уже десяток плиток. Хотя эта «порча» заключалась в том, что плитки выходили второго и третьего класса - недавняя еще мечта всего цеха. Но нужно было получить именно первого класса. Очень нужно именно сейчас.
И все же он добился своего на одиннадцатой плитке. Ольга Николаевна опять возникла в дверях, чтобы сообщить известие: первый класс! Точность - ноль двенадцать сотых.
И опять Николай Васильевич, осмотрев плитку, посоветовал Алексею:
- Попробуй повторить.
«А-а! В меня не верят? Ну ладно!»
Ватутин сел с оскорбленным видом за верстак, испортил сгоряча одну плитку, на этот раз всерьез испортил, безвозвратно. Но потом сразу дал две подряд первого класса. А потом еще…
- Да-а, ты действительно можешь, - согласился теперь Николай Васильевич и так взглянул на Алексея, что тот все ему «простил».
Молодежь горячо переживала успех Ватутина.
- Смотри, а все-таки добился!
- А то как же! Очень просто, - невозмутимо подтвердил Виктор Дунец.
Он шутил, балагурил, а сам ревниво следил за соседом. И что-то все мудрил над своим притиром, многозначительно приговаривая: «Ну, теперь посмотрим…»
Через несколько дней он заявился лично в контрольную и, протягивая Ольге Николаевне плитку, спросил небрежно:
- А как эта железка вам понравится?
Ну конечно, и у него оказалась плитка первого класса. Точность - ноль двенадцать сотых микрона.
В тот же вечер женская часть цеха обсуждала создавшееся положение.
- Девушки! - говорила, округляя глаза, Тося Семенецкая. - Наши парни совсем задрали нос. А мы что же, девушки?
…В следующем месяце цех выпустил особый набор. В желтой коробочке, на бархатной подкладке, лежали рядами, по росту, блестящие, зеркальные пластинки. Плитки, сделанные разными руками - и юношей и девушек, - но все первого класса. Первый набор первого класса.
Чья-то озорная рука успела написать на крышке мелом: «Господину Иогансону от комсомольцев цеха эталонов». За что Леонидом Николаевичем было прочитано всем строгое внушение. Начальник не боялся, конечно, что надпись может вызвать международный конфликт, но он с ужасом представлял, что могло бы случиться, если бы крошки мела попали на зеркало плиток.
А «герой первого класса» Алексей Ватутин приобрел за последнее время заметную солидность. Он завел очки, ссылаясь на то, что «при нашей профессии иначе никак невозможно». В заводском парке, где в обеденный перерыв собиралась молодежь, от него уже не раз слышали как бы вскользь брошенное замечание: «Мы, лекальщики…»
Однажды вечером…
В тот вечер они долго не расходились спать. Оба Кушниковых и Дмитрий Семенов сидели за чайным столом, обсуждали положение цеха. Так уж получалось: сколько ни обсуждали днем на заводе, в цехе, а здесь, за вечерним чаем, опять назойливо лезли те же вопросы, самые беспокойные, настойчивые.
Они жили все вместе. Николай Васильевич приютил Семенова в своей комнате в заводском доме, пока тот сам не обзаведется квартирой и не перевезет семью. И трудно было отделить то, что происходило в цехе в служебное время, от того, что обсуждалось и задумывалось здесь, в комнате заводского дома, за общим вечерним столом.
А сегодня особенно было о чем поговорить.
Завод стал регулярно выпускать наборы измерительных плиток. И первого класса и второго - для разных отраслей. Все больше желтых коробочек уходило из заводских ворот в необъятное море промышленности. Плитки с четко прорисованной буквой «К» определенно получили признание. Казалось бы, можно только радоваться. То, за что бились почти два года, наконец свершилось.
Но вот какое положение… Чем больше плиток начал выпускать завод, тем больше стало ощущаться, как мало этого, ничтожно мало для страны. Узнав о плитках с буквой «К» - о плитках, которые не надо выписывать откуда-то из-за границы, а можно получить у себя, в Москве, - все, словно сговорившись, бросились за ними. Заводы, институты, лаборатории… И цех почувствовал, что такое работать на всю страну. Океанище!
- Сегодня был у директора, - сказал Леонид Николаевич, взглянув на Семенова. - Видел на столе… Вот такая гора. Телеграммы, заявки. И всё о плитках. Пишут: «Мы - ударная стройка, нам полагается в первую очередь». И другие считают, что им тоже в первую очередь…
- Да, а вот как цех будет справляться? - задумчиво произнес Николай Васильевич.
- Директор меня о том же спрашивал.
Молодой Кушников рассказывал еще, сколько ему как начальнику цеху приходится выслушивать. Цех, мол, стал на ноги, извольте теперь пошевеливаться.
Семенов молчал, помешивая ложечкой чай.
- Руки! Руки нужны, - вздохнул Николай Васильевич.
- Где же взять эти умные руки? - покачал головой сын. - Михаил Пахомович с ног сбился, разыскивая охотников. А нам, знаете ли, посади еще сто человек за верстаки - все равно будет мало, не справимся, - и снова поглядел пристально на Семенова.
Тот сосредоточенно рассматривал что-то у себя в стакане.
Отец с сыном переглянулись, и Николай Васильевич, слегка откашлявшись, мягко произнес:
- Слушай, Дмитрий Семенович! - И этим неожиданным обращением по имени и отчеству как бы подчеркнул важность разговора. - Ты же видишь, каково нам с плитками. А молчишь. Не сейчас, а все время молчишь.
Семенов вопросительно поднял голову.
- Что мы можем всё рукой да рукой? - продолжал старый Кушников. - А ты себя словно в сторонку поставил. Как же будет?
- Вы насчет чего? - нахмурился Семенов.
- Сам догадываешься, насчет чего. Механизация доводки. - И мастер скользнул ладонями навстречу друг другу. - Твоя идея…
- Это дело конченое, - дернулся Семенов. - Я уже говорил: отрезать и забыть…
- Почему конченое? - спросил Леонид Николаевич.
Семенов нехорошо усмехнулся:
- Да что, право! Придумал человек… А ему в нос ткнули - чушь, мол, гороховая… Спасибо, вразумили!
- Ага, значит, обиделся? - уколол Николай Васильевич.- На весь свет, на рабочий класс. Пусть теперь о нас не Семенов, а господин Иогансон думает!
Упоминание об Иогансоне вывело Семенова из напускного равнодушия.
- А что? - вспыхнул он. - Кто мне теперь поверит? За мной слава такая: горе-изобретатель! Кто же рискнет мою «чушь» строить? А один я не могу. Не могу? - с тоской и болью выкрикнул он, резко отодвинув стакан.
- А может, кто-нибудь и рискнет. Послушай лучше, что тебе начальник скажет, - кивнул Кушников на сына.
У Леонида Николаевича был сегодня с директором основательный разговор. Что же делать дальше? Как развивать производство плиток? Ведь малая производительность ручной доводки грозит просто катастрофой. И Леонид Николаевич поставил вопрос о семеновском изобретении. Раньше директор только отмахивался: что там заниматься далекими мечтаниями, когда цех еле дышит и путается еще с азбукой доводки! Но сегодня директор задумался над словами Кушникова.
- Ну что ж, покажите, что у вас там за чудо такое. Чертеж, схему…
Это был очень серьезный сдвиг. Директор не любил бросать слова на ветер. Надо хоть что-нибудь предъявить, что могло бы дать представление о принципе изобретения. Как думает Дмитрий Семенович?
При последнем вопросе Семенов, шагавший уже туда и обратно по комнате, остановился и, не поднимая упрямо опущенной лобастой головы, молча уставился в пол.
- Скажу вам честно, - продолжал Леонид Николаевич. - Я не знаю, что из всего этого еще получится. Как примут вашу идею директор, технический совет… Но время сейчас за вас, Дмитрий Семенович. Мы с отцом верим, будем отстаивать. Но вы должны сами решиться. Еще раз решиться. Пойти на все, что потребует изобретение. (Семенов молчал.) В конце концов это ваш интерес…
- И долг… - вставил Николай Васильевич.
Семенов принялся опять шагать туда и обратно по комнате.
Но вот он подошел к кровати, нагнулся и вытащил из-под нее свой дорожный сундучок. Подняв крышку, он порылся в вещах. На самом дне лежал толстый сложенный лист бумаги. Лист, вырванный когда-то из альбома для рисования. Сжигая свою модель в день краха там, в Ленинграде, разорвав все свои бумаги, он оставил зачем-то этот лист. И, сам ни во что не веря, сунул его, не зная зачем, в сундучок - так, на память. В Москве он ни разу его не доставал, словно и в самом деле забыл о нем, лежащем там, на дне, под ворохом вещей.
Он присел на кровать и тут же, над сундучком, медленно развернул лист, стал расправлять на коленях. Знакомые линии. Квадраты притиров. Верхний подвешен, как поплавок. Длинные ленты с плиточками в гнездах. Стрелки, обозначающие встречное движение… Основная схема его станка. Тот самый торопливый набросок, который он сделал в дни своей помолвки, когда пришла решающая находка и когда было столько надежд.
Семенов обхватил голову руками и смотрел, смотрел на лист…
В тот вечер еще поздно горел свет в одной из комнат заводского дома.
Поплавок в действии
Как ни заманчиво выглядел семеновский проект, все же это было так ново, так необычно, что как-то не укладывалось сразу в сознании даже благожелательно настроенных людей. На совещании у директора технические руководители завода тотчас согласились, что предложение крайне соблазнительно, оно сулит целый переворот… если, конечно, оно осуществимо. Доводка плиток - такой процесс, что тут заранее ручаться нельзя. А идея поплавка - оригинально, смело.
Но как раз эта идея и вызвала наибольшие сомнения. Слишком уж тонкий расчет - заставить тяжелую чугунную плиту плавать на микронах. «Захотят» ли плитки подчиниться такому режиму? И в этом выражении «захотят ли?» невольно сквозила прежняя неуверенность перед капризами сложного процесса.
- Опять сомнения! - нервничал Семенов.
- А ты как думал? Что инженеры встретят тебя аплодисментами? - усмехнулся Николай Васильевич. - Но ты учти: сомнения сомнениям рознь. Леонид прав: время теперь за тебя. Теперь само производство, плитки подталкивают, оказывают давление на умы-то. И чем обижаться, ты лучше пораскинь, как проверить твой поплавок.
Как же, действительно, проверить? Строить еще раз деревянную модель? Нет, это невозможно. Это все равно, что ворошить пепел, прах. Да и он помнил, что деревяшки в свое время никого не убедили.
Надо что-то более реальное - такое, что могло бы практически доказать его правоту. Создать в натуральном виде самое сердце механизма - поплавок. Не в деревяшках, а сразу в металле, с настоящими притирами и плитками.
Опять ходит Семенов озабоченный, погруженный в свои мысли. Как же проверить?
И в памяти всплывает то нехитрое устройство, которое когда-то помогло Семенову нащупать первую тропку к своему изобретению. Жимки! Жимки в ленинградской артели. Два зажатых чугунных притира, между которыми пробовали производить начальную обдирку плиток. Совсем простое приспособление, без всяких сложностей большого механизма.
А что, если он сделает для пробы нечто похожее? Такое же простое, но только по-своему.
Семенов впервые почувствовал, что это значит, когда завод действительно принимает участие в изобретении. По его наброску ремонтно-механический цех довольно быстро соорудил пробную установку. Это и похоже и не похоже на старые ленинградские жимки. Да, как будто те же два чугунных притира, между которыми протаскивается обойма. Но только верхний притир уже не зажимается гайками, а висит, свободно опускаясь на плитки. В том-то и вся соль! Он, как рука, на весу прижимает сверху плитки. И, как живая рука, обладает способностью чутко пружинить. Сначала он касается плиток наиболее выступающих. А затем, по мере снятия лишних частичек металла, ложится равномерно на все плитки и, равномерно нажимая на них, доводит до нужного размера и чистоты. Это и есть поплавок Семенова, плавающий на микронах.
Нет, это не мертвые, неподвижные жимки. Это живая вещь, одухотворенная мыслью изобретателя. И рабочие дали уже ей свое прозвище: «таскалка».
Сам изобретатель первым пробует ее в действии. Он берется за рукоятку и тащит обойму с плитками (с настоящими плитками!) сначала на себя, потом обратно. Опять на себя, опять обратно… Сразу два десятка плиток скользят между притирами, и с каждым движением с поверхности плиток слетают крупицы металла.
Тащить обойму не так-то легко, даже хорошо смазав стеарином и керосином. Притиры держат плитки в крепких объятиях и, словно нехотя, с сердитым чмоканьем и шуршанием, уступают силе тяги. Такое ощущение, будто все там прилипает. И только упругость верхнего притира, лежащего свободно, позволяет совершать эти движения мягко, без резких толчков. Поплавок Семенова действует.
Пробовали «таскалку» и мастера и начальник цеха. «Таскалка» собирала вокруг себя совещания инженеров. Директор пришел посмотреть диковинку и собственноручно, довольно покрякивая, протащил несколько раз туда и обратно.
Все убедились, что поплавок Семенова - не фантазия, не пустой вымысел, а вполне практическое решение. Поплавок работал.
Но точность! Какая же может быть при этом точность обработки? Ведь точность для плиток - все. Способен ли поплавок осуществить столь нежное касание, чтобы смахивать под конец лишь десятые и сотые доли микрона?
Как раз этой нежности человеческой руки «таскалке» и не хватало. Бугорочки металла меньше микрона она уже не чувствовала. А ведь только там, у границ сотых долей микрона, и появляется зеркало, только там, у этих границ, приобретает поверхность плитки чудесное свойство сцепления.
В чем же причина? Грубость пробной конструкции? Или недостаток самого поплавка? Может, и в самом деле чугунный притир даже на весу не в состоянии заменить полностью чувствительность руки?
Семенов сразу почувствовал, как стали на него поглядывать: одни с недоверием, другие вопросительно. Что же теперь скажет изобретатель?
Нет, нет! Семенов отчаянно отбивался от сомнений. В «таскалке» не мог еще проявиться весь его замысел. Обойму с плитками приходится протаскивать вручную. Рука невольно дергает, тянет неравномерно, преодолевая сопротивление. А он задумал, чтобы эту тягу давал сильный, неутомимый механизм. Механизм будет водить плитки плавно, в строгом ритме - первое условие точности.
И еще не раскрыт главный козырь: сложное движение плиток. В «таскалке» все плитки разом, общей толпой, ползут в одну сторону. А в станке должна быть такая умная, расчетливая передача, чтобы сообщать плиткам движение сложное: и вдоль, и поперек, и навстречу друг другу. Он заставит плитки танцевать русскую кадриль! Вот тогда и посмотрим, какая будет точность. Только дайте возможность сделать станок. Испытать идею как следует, полностью.
Семенов понимал, что, отстаивая свое изобретение, ему придется вести упорную, напряженную борьбу за точность, за эти десятые и сотые доли микрона, осторожно и настойчиво двигаясь к желанной цели. А пока что он стоял от нее еще далеко, за сотни микронных расстояний!
Но дайте только ему возможность сделать станок…
Изобретатель раздумывал над несовершенством своего первого создания. В дирекции спорили о постройке станка. А «таскалка» тем временем заняла свое место в цехе. Произошло это как-то незаметно, само собой. Многие с удовольствием на ней упражнялись. То один потащит за рукоятку, то другой. И постепенно навострились счищать с плиток первые, более толстые слои. Как будто явно опытное приспособление, назначенное лишь для проверки технической идеи, а стало вдруг в цехе необходимым орудием производства. Зачем долго тереть рукой, когда то же самое можно сделать на этой игрушке за несколько проходов? Сразу первые микроны долой. Да еще сразу с двадцати плиток.
Не дожидаясь никаких «высоких» утверждений, рабочие сами определили судьбу «таскалки». И в цехе на одной из начальных операций, там, где на грубой доводке медленно, почти беззвучно елозили десятки настороженных рук, - там задиристо и шумно заиграла музыка механической работы.
Это работала «таскалка».
- Слышишь, а? - спрашивал Николай Васильевич, кивая на непривычные для цеха звуки. И какая-то грусть воспоминаний легкой тенью ложилась на лицо старого мастера.
- Слышу, - улыбался Семенов. - Поет, что будет завтра.
Леонид Николаевич приглашал в цех инженеров полюбоваться на новшество в производственном процессе. Он считал это веским аргументом в пользу дальнейших опытов и постройки станка.
А тут еще приехали товарищи из Ленинграда. Увидели работу «таскалки» - и запросили к себе. Хоть два, хоть один экземпляр. И вскоре в стенах «Красного инструментальщика», на участке плиток, зашумели те же новые звуки. Приспособление вернулось на старое место своего первого рождения. Но в каком неузнаваемом, обогащенном виде! Семенов сторицей отдал свой долг ленинградцам.
…Маленькую заметку увидел он в те дни в одном из журналов: «Производство плиток Иогансона в Англии». Британская физическая лаборатория. Она славится своей ученостью и инструментами точного измерения. Но в заметке упоминалось, что доводка плиток совершается там вручную.
Значит, он не опоздал со своим изобретением. Но надо осуществить замысел, осуществить до конца. Дайте ему только возможность построить станок! А там, в дирекции, все еще спорят и спорят…
Запутанный узел
Ну, кажется, решили! - сказал Леонид Николаевич, войдя в комнату и не успев еще снять пальто. - Станок будем строить…
Семенов, сидевший с Николаем Васильевичем за вечерним чаем, судорожно глотнул, но тотчас, приняв равнодушный вид, сварливо заметил:
- Давно пора бы!
От всех забот у него явно портился характер.
…Он никак не мог к этому привыкнуть. Он уже больше не мечтатель-одиночка, вынужденный по-кустарному копошиться в своей домашней норке. Он теперь заводской изобретатель. За ним стоит вся техническая сила большого производства. Конструкторская помощь, чертежное бюро, обширные цехи - от кузницы и литейной до участков зуборезных и винторезных автоматов.
А он все еще озирался часто на прошлый горький опыт, когда все приходилось делать самому, собственными руками, и все рассчитывать по бедности. Он был готов пойти даже на уступки, лишь бы увидеть наконец свое изобретение действительно существующим - свой станок.
Началось проектирование станка - генеральный экзамен изобретению. Встал вопрос: какую избрать общую основную конструкцию? На что, так сказать, опереть весь механизм?
Работник технического отдела, которому было поручено заниматься станком, предложил готовить конструкцию сварную. Сшить из металлических листов нечто вроде опорной коробки, заключить туда узлы станка - и готово.
- Просто, легко! - убеждал он. - И затраты не столь уж большие… в случае чего.
Семенов сразу понял, что тот хочет сказать этим «в случае чего». Сомневаются: то ли выйдет вообще со станком, то ли нет. Не верят. Все еще не верят…
Сварная конструкция? Нет, ему представлялось другое. Ведь механизм, такой тонко чувствующий, капризно-деликатный, должен покоиться на чем-то более основательном. Литое, массивное тело станка - вот что должно охранять его нежную работу. А сварная конструкция - это что-то слишком легкое, зыбкое. Как с этим согласиться?
Он это понимал и все же не стал особенно спорить. Конечно, лучше бы конструкция литая. Но если уж так настаивают, то пусть…
- Может, для пробы и сварная ничего? - сказал он примирительно.
- Как? - удивился конструктор Деминов. - И это вы? Соглашаетесь?
Иван Александрович Деминов - человек спокойный, сдержанный, и спорщиком его назвать никак нельзя. Он не принадлежал к разряду тех конструкторов, которые хотят непременно переиначить в изобретении все по-своему и настоять именно на этом своем. Но тут он решительно восстал против намерений представить пробный станок в каком-то предварительном, облегченном виде.
- Избушка на курьих ножках! - презрительно пожимал он плечами.
Конструктор упорно отвергал предложение технического отдела. Он не мог понять, почему вдруг изобретатель пошел так легко на уступки. Такой чуткий техник, этот Семенов, и вдруг соглашается, и на что! Еще недавно сам говорил, что ему хотелось бы создать для станка мощную, литую основу, а теперь сам же идет против себя. «Может, для пробы и сварная ничего?» - этой фразы Иван Александрович не мог простить изобретателю.
- Сдаете позиции? - уколол он.
- Не знаю, чего вы хотите достичь своим упорством! - ответил раздраженно Семенов. - Задержать постройку станка?..
Это было уж слишком. Кажется, назревал разрыв с конструктором.
Неизвестно, чем бы кончилась их размолвка, если бы не один случай. Зашел Семенов в механический цех завода. Ряды станков - токарные, строгальные, долбежные, автоматы, полуавтоматы… Следуя по рядам, Семенов, по привычке, всматривался в этот шумный калейдоскоп механических движений. И вдруг в одном ряду, возле колонны, бросился ему в глаза небольшой, аккуратный станочек. С громким визгом производил он обдирку плоских деталей.
Ба-а! Сварная конструкция! Семенов так и замер перед станочком. Этакое легкое, изящное сооружение.
Станина, сваренная из тонких листов. Уж не такую ли коробочку думают использовать для его станка?
Семенов не отрывал от станины жадного, упорного взгляда. И чем больше он смотрел, тем мрачнее становилось его лицо.
- Можно? - спросил он у рабочего, прикладывая ладонь к станине.
- Что, слушаешь? - спросил рабочий.
Семенов стоял, не отнимая ладони, опустив голову. Тонкая жилка вздулась на его лбу. Он весь как бы прильнул, настороженно прислушиваясь к тому, что там происходит в станочке. Мелкая, частая дрожь передавалась от станины по руке, пронизывала все тело и словно тревожным стуком отдавалась в сердце.
- Это погубит плитки, - произнес он вдруг вслух, отвечая своим мыслям. И, оставив в недоумении рабочего, зашагал вон из цеха.
«Нельзя уступать. Нельзя уступать…» - стучало в голове с каждым шагом. Если делать сварную конструкцию, все может погибнуть. Дрожь легкой станины сметет все расчеты на десятые и сотые доли микрона. Для плиток такая дрожь - словно землетрясение. Нельзя уступать! Как бы ни хотелось ему, чтобы все было поскорее, он не должен соглашаться на облегчение конструкции. Это - смерть! Он понял, ощутил это сейчас всем сердцем. И как он мог, как смел допустить такую слабость, малодушие! Хотел уступить, искал оправдания в том, что так легче, скорее сделать. И затеял даже эту глупую ссору с конструктором…
Он быстро прошел прямо к Ивану Александровичу, в большой зал конструкторского бюро. Там, остановившись перед столиком конструктора, нагнув низко голову, словно борясь сам с собой, признался сразу, без долгих предисловий. Признался Ивану Александровичу, что он, Семенов, был неправ. Пытался объяснить.
- Знаете ли… Как бы сказать? Боюсь я, вот что!.. - выпалил он неожиданно.
Он боится, что иначе постройка станка покажется слишком дорогой, сложной. Что вдруг откажутся делать. Литая, основательная конструкция… Он ведь знает, на собственном горбу испытал, как это трудно. Он помнит, как у себя, на ленинградской квартире…
Иван Александрович порывисто поднялся из-за стола и, не дав Семенову договорить, обнял его за плечи:
- Дмитрий Семенович, дорогой… Забудьте вы об этом. Забудьте! Что вам теперь бояться, сковывать себя? Посмотри-ка, - показал он в окно, где виднелись корпуса цехов. - Такая сила! Неужели станок не одолеем?
С того дня они, изобретатель и конструктор, стали лучше понимать друг друга и как-то незаметно перешли на «ты». Теперь они уже вместе твердо отстаивали необходимость литой конструкции. Семенов не шел больше ни на какие уступки, даже когда работник технического отдела пригрозил ему, что постройка станка может затянуться.
- Пугаете? - жестко обрезал он. - Не выйдет!
И покинул отдел с самым боевым видом.
Но тотчас кинулся к Кушниковым, не скрывая перед ними тревоги: может затянуться… И тогда Леонид Николаевич как начальник цеха снова зачастил в дирекцию, чтобы не затянулось.
Станок задавал еще множество задач самого запутанного свойства. То трудно было решить конструктивно какую-нибудь деталь, то не клеился целый узел. Все время надо было создавать, придумывать, изворачиваться.
Но самым тяжелым оказалось вдруг то, о чем Семенов менее всего беспокоился: механизм передач, проблема восьми движений. Восемь разных движений должны совершать обоймы с плитками, чтобы выделывать между притирами все те сложные фигуры «кадрили», какие задумал для них Семенов. Усилия здесь должны быть большими, а «танец» плиток плавным, очень плавным, прямо как скольжение по паркету. Ведь плавность - это точность работы.
Знаменитое нагромождение шестерен, реек и рычагов, которое сложилось еще в самом начале и которым так гордился тогда изобретатель, теперь оказалось вдруг под сомнением.
- Не кажется ли тебе, что здесь будет много лишних промежуточных усилий? - осторожно спросил Деминов, постукивая карандашом по чертежу.
Семенов согласно кивнул. Он и сам теперь совсем иначе взглянул на эту сложную передаточную сеть. Иван Александрович выразился слишком деликатно. А говоря попросту, все это громоздко, неповоротливо. И главное - опять грозит нарушить плавность работы. К опасности толчков, сотрясений Семенов относился теперь с особой настороженностью.
Раньше ему казалось, что устройство передаточного механизма - это дело второстепенное, чисто техническое. Все мысли были заняты поплавком, движением плиток. О передачах он еще успеет подумать, если… если когда-нибудь начнется постройка станка.
И вот постройка началась, а механизм передач оставался неясным. В системе реек и рычагов уже ничто его не привлекало. Здесь надо что-то другое. Пожалуй, совсем другое. А вот что именно?
Это «другое» не находилось. Прошла не одна неделя, месяц, второй… А он ничего еще не мог придумать. Сочетание строгих противоречивых требований - сила, сложное движение, плавность - разрушало все варианты. Нет, не получается.
И надо же, чтобы под самый конец - и такая осечка!
Семенов бродил мрачный, нелюдимый, как в самые черные дни былых неудач.
Вечером, когда уже все расходились по постелям и
Семенов, лежа в темноте, докуривал последнюю папироску, Николай Васильевич спрашивал вполголоса:
- Ну? Как сегодня?
- Все так же. Ничего не придумал, - слышалось из темноты. - Запутался!
И долго еще тлела в темноте, изредка вспыхивая, красная точка папиросы.
…А тут как раз обнаружились обстоятельства, которые окончательно взбудоражили изобретателя.
Следы на металле
Леонид Николаевич отправился путешествовать по загранице. Поехала группа работников «Калибра» посмотреть, что там нового в области точного измерительного инструмента.
Париж, Лондон, Иена… Лучшие иностранные заводы, институты. Солидные марки, солидные имена, широко известные по технической литературе. Все напоминает приезжим: Европа!
Но путешественники уже не те, что были лет семь назад, когда и «Калибр» и советская точная индустрия существовали еще только в замыслах и когда приходилось чувствовать себя учениками. Иные времена - иной взгляд на вещи. Появилась возможность не только изучать, но и сравнивать. Сравнивать с тем, что поднялось у себя дома, в стране, почти за две пятилетки. Сравнивать с опытом собственного завода.
Производство плиток было по-прежнему закрыто для русских гостей. Но директора фирм охотно демонстрировали у себя в приемных кабинетах свою новую продукцию, осторожно обходя вопрос о способах ее изготовления и осторожно касаясь способов изготовления в России.
Существование инструмента с советской маркой «К» располагало директоров к внимательности. Этот молодой русский, скромно одетый, со скромными манерами, обладал своим знанием плиток.
Поездка была поучительной. В Англии веселый толстый директор фирмы «Ковентригейч» показал как последнее достижение плитку типа Иогансона. Леонид Николаевич взял аккуратно плиточку и профессиональным жестом поиграл на свету зеркальной поверхностью.
- Здесь, кажется, небольшие царапинки, - вежливо заметил он, указывая мизинцем.
Поиграл другой плиткой и опять отметил: царапинки.
- Это пустяки. - снисходительно улыбнулся директор. - Лучше и не делают. Наши плитки общепризнаны…
- Да, конечно… - вежливо согласился Кушников и подумал, какой бы шум подняла на «Калибре» старший контролер Ольга Николаевна из-за таких царапин.
А затем еще любопытное наблюдение.
У Цейса, в Иене, разговор завязался вокруг вопросов весьма специальных. Немецкая фирма была озабочена переходом на новый вид отделки. Директор доказывал Леониду Николаевичу, сколь заманчивые преимущества имели бы плитки, поверхность которых отделана не абсолютно зеркальной, как стекло, а штриховой - мельчайшими, микроскопическими штрихами. И в доказательство раскладывал перед гостем новые, пока что опытные экземпляры плиток. Директор, конечно, не говорил, как они пытаются это делать, но очень подчеркивал, как это трудно, чрезвычайно трудно. Леонид Николаевич, кивая головой, вежливо соглашался. В его цехе уже несколько месяцев как перешли на штриховую отделку, и это действительно было трудно.
Перебирая разложенные перед ним плитки, Леонид Николаевич так одной из них залюбовался, так долго вертел в руках, то поднося к глазам, то отодвигая на расстояние, что директор любезно предложил:
- Я могу вам подарить. Вы покажете ее вашим владельцам.
- Благодарю вас, - ответил Леонид Николаевич, укладывая плитку в бархатный футлярчик. - Я покажу ее рабочим.
…Вернувшись в Москву, Леонид Николаевич показал тотчас немецкую плитку Семенову.
- Вы ничего интересного не замечаете? - спросил он предостерегающе.
Семенов внимательно осмотрел плитку, провел пальцем по краям (ага, по краям!), затем взял лупу и очень пристально опять исследовал края. Под сильным увеличением с обеих сторон плитки явно проступили две симметричные вмятины. Вмятины… Откуда они?
- Механизм? - спросил Леонид Николаевич.
- Механизм, - подтвердил Семенов.
Ничтожные вмятинки говорили им о многом. Плитку, видимо, зажимали в какое-то приспособление. А зачем? Ручной способ этого не требует. Вывод очевидный: немцы пытаются механизировать процесс доводки.
Эти следы на металле, следы чужих поисков подействовали как брошенный вызов. А что же он, Семенов, со своим станком? Все уже готово, почти готово, а он запутался в последнем звене с передаточным механизмом. Не может решить задачу: сила - сложное движение - плавность. Плохо думаешь, Семенов! Смотри, как бы другие за тебя не постарались!
И он ожесточенно, почти с яростью терзал свою мысль, свое воображение. Все в те дни вертелось для него вокруг механики движений, передач.
В кабине лифта
В те дни в заводской технической библиотеке, за крайним столиком в углу, можно было видеть вечно склоненную крупную, лобастую с залысинами голову Семенова. Одну за другой перелистывал он книги, перебирал журналы. И прежде всего иллюстрации, чертежи привлекали его внимание. Толстые учебники, отдельные статьи, альбомы конструкций - и все с одной целью, с одной надеждой: нет ли чего-нибудь подходящего для узла передач его станка? Теперь все от этого зависело.
Длинной вереницей проходили перед ним разные схемы передач. Зубчатые, цепные, червячные, фрикционные… И он все последовательно отвергал. Они не годились ему для решения главной задачи - плавности. Новые книги, новые чертежи… Передача гидравлическая, передача карданная, передача кулисная… Сколько людей изощрялось в том, чтобы передать механизмам, машинам, станкам силу движения, чтобы переводить движение из одного вида в другой! И все это ему не годилось. Крайняя нежность, деликатность его станка-поплавка требовали какого-то особого подхода. Но какого же?
Он видел, между прочим, в книгах и альбомах самые простые, известные еще испокон веков передачи, - например, ременную. Бесконечный ремень, обегающий два колеса, - сколько он уже потрудился для человечества!
Или блок, через который передается на канатах движение. Первые простейшие механизмы.
Семенов уже убедился, что лучшее решение в технике - это простейшее решение. Простота стала привлекать его все больше и больше. Блок, ремень… Не кроется ли в них какой-нибудь ответ? Мысль эта мелькала иногда, но как-то отступала затем перед более совершенными достижениями техники. Семенов чувствовал; где-то он близок здесь к нужному решению. Схватить бы только!
Необходим был какой-то последний толчок, чтобы вдруг все прояснилось. И кто знает, когда и где дается такой толчок… А случилось это так.
Семенов попал случайно в большой дом. Где-то здесь должен жить один из давнишних знакомых. Лифт поднимает его на верхний этаж. Он стоит в кабине и почти не ощущает медленного, спокойного подъема. Хороший, плавный ход. Плавный?! Знакомый ожог радостного волнения мгновенно охватывает его. Плавный ход лифта! Сила плюс плавность…
Он видит перед собой уже не зеркало в кабине и не кнопки с указателями этажей, а чистую схему движения.
Большой блок. Через него перекинут канат. На одном конце - кабина с человеком. На другом конце - тяжелый груз, создающий противовес. Кабина поднимается, груз опускается. Кабина опускается, груз поднимается. Система, находящаяся в спокойном равновесии. Мотор мягко двигает ее туда и обратно, туда и обратно. И только одно слово верно выражает это движение: плавность!
Да ведь это же и есть то самое, что видел он тогда в книгах и альбомах, о чем думал, но что не смог сразу раскусить! Блок! Простейший и верный подъемный механизм… Эх, и покатаемся!
Семенов забыл, зачем попал в этот дом, куда поднимался. Он нажимает разные кнопки и, к ужасу дежурной лифтерши, ездит вверх и вниз, катается по этажам. Туда и обратно, туда и обратно…
Через два дня он показал конструктору Ивану Александровичу свое новое решение передаточного механизма.
Разглядев нарисованную схему, спокойный, уравновешенный Деминов не мог сдержать прилива чувств:
- Ах ты, черт хитрющий! Да знаешь ли, что ты придумал? Да ведь это… - И конструктор вконец разволновался.
Семенов перенес на передачу станка систему лифта. Теперь все получалось удивительно просто. Вместо громоздкой сети промежуточных механизмов, вместо всяких шестерен, реек и рычагов в станке оставалось всего лишь несколько тросов, перекинутых через ролики. Они и поведут ленты с плитками. Мягко, плавно, как на лифте. Никаких толкающих усилий, никаких рывков. Плитки смогут тихо, ровно танцевать свой скользящий «танец».
Теперь быстрее строить станок, наверстывать упущенное! Теперь он, Семенов, готов вступить в состязание с любым Цейсом, с любым Иогансоном.
С новой надеждой смотрел он на цехи завода, на всю эту широко раскинувшуюся панораму суровой и строгой красоты. Здесь должно наконец родиться, выйти из горнила производства его изобретение, его станок.
Снова надежды. Снова мучительно нетерпеливое ожидание.
Двадцать восемь в остатке
И вот станок готов.
На массивном, литом основании покоится чугунная плита - нижний притир. Над ней висит на хоботе, как по-плавок на удочке, другая плита - верхний притир. Между ними протянуты стальные ленты. А в лентах, в гнездышках, заложены плитки. Тридцать две штуки. Поплавку можно придать еще с помощью пружины и винта добавочный нажим; манометр сбоку станка показывает силу давления. Все это напоминает какой-то странный, большой пресс.
Вокруг только что рожденной машины столпились инженеры, мастера. И хотя Семенов не раз уже опробовал вместе с конструктором Деминовым исправность механизма, все равно он с волнением нажимает пусковую кнопку.
Глухо взвыл мотор. Передаточный механизм, спрятанный в массивном основании, мягко потянул стальные ленты. Они разошлись в разные стороны. Легкий щелчок переключателя движения - и ленты пошли обратно, навстречу друг другу. Кадриль началась!
Тихо, почти беззвучно управлял «лифт Семенова» скольжением плиток, и только нежный металлический шелест напоминал окружающим, какая деликатная работа совершается между притирами. Там, между притирами, при каждом движении лент с поверхности плиток слетают тончайшие, невидимые пылинки металла. Заветные дольки микронов.
Семенов перевел рычажок скорости, и ленты с плитками с усиленным шелестом заскользили проворней. Быстрей, как под дуновением ветра, пошло опадение микронной листвы.
Рука не участвовала больше в этом процессе. Чудо совершилось. Тайное искусство, «черная магия», подчинилось законам механики.
В кольце зрителей, чуть подавшись вперед, стоял Николай Васильевич. Старый Кушников, первый волшебник этого искусства, открывший многим дорогу ручного мастерства, пристально вглядывался в работу станка, в его равномерные машинные взмахи. Взгляд мастера был строгий, изучающий.
Дмитрий Семенов застыл перед станком в напряженной позе. Растерянная, смущенная улыбка чуть кривила его лицо. Он видит наконец то, о чем думал, страдал, грезил долгие месяцы и годы. Он слышит наяву настоящую, дивную музыку механической доводки.
Люди мечтают о счастье. А что же это такое… что испытывает в подобные минуты изобретатель перед своим творением?
Счетчик показывал, что плитки пробежали туда и обратно уже более восьмидесяти раз. Процесс подходит к концу. Еще несколько двойных ходов. Стоп. Проверка размеров и чистоты зеркала. Еще несколько ходов. Стоп. Проверка. Еще последние взмахи лент. И готовые плитки снимают со станка.
Их несут на контроль, на этот раз несут в ту отдельную застекленную комнатку, в дальний заповедный угол, который молодежь называет здесь по-особому: «страшный суд». Там сидит самый придирчивый, непримиримый человек в цехе - контрольный мастер Надежда Васильевна Щербакова. Ей принадлежит право последнего приговора над плитками. Сколько жестоких осуждений, сколько нотаций о чистоте и точности произносил ее нежный, слегка певучий голос! Даже Леонид Николаевич избегал опровергать ее суровые определения.
И вот, затворившись с Ольгой Николаевной, Надежда Васильевна проверяет на точнейших приборах эти плитки, снятые только что с семеновского станка.
Все ждут, не расходясь, пока закончится в закрытой комнате сложная, как хирургия, контрольная операция. Как медленно тянутся минуты!
Наконец в дверях появляется в белоснежном халате и, как всегда, с несколько загадочной улыбкой Надежда Васильевна. За ней - Ольга Николаевна. Они объявляют в напряженной тишине: точность плиток выдержана в пределах ноль четыре десятых микрона.
Четыре десятых! Иначе говоря, сорок сотых микрона. При первом же опыте - и сразу такая точность. Это уже не грубая «таскалка», это настоящий доводочный станок, обладающий высокой нежностью работы. До точности первого класса, до заветного зеркала, остается всего каких-нибудь двадцать восемь сотых микрона. Сущие пустяки. Не всякая, даже опытная, рука может подвести к такой границе, чтобы оставалось всего лишь двадцать восемь сотых. Молодец станок!
В помещение, где производилось испытание, сбежался чуть ли не весь цех эталонов. Всем хотелось взглянуть на механическое чудо. Каждый стремился протиснуться к изобретателю, поздравить с победой.
Виктор Дунец говорил что-то громко и авторитетно от имени молодежи, заключив для вескости своим обычным: «А то как же!»
Алексей Ватутин, скрывая юношеский взгляд за стеклами роговых очков, пожал солидно руку, молчаливо показывая, что к числу молодых он себя уж никак не причисляет и что они-то с Семеновым, взрослые, и так, без слов, понимают друг друга.
Немало шумных поздравлений было вечером за столом у Кушниковых. Поздравляли и самого Семенова и супругу его Александру Кирилловну, приехавшую с сынишкой из Ленинграда. Произносились тосты: «За нашего изобретателя», «За того, кто Иогансону на пятки наступил»..,
Семенов с легкой, довольной усмешкой принимал горячие изъявления радости друзей. Но иногда он вдруг задумывался среди общего шума и смотрел в одну точку отсутствующим взглядом.
- О чем это ты? - тихо спросил Николай Васильевич.
Семенов неопределенно улыбнулся, но на повторный вопрос так же тихо, склонясь поближе к мастеру, ответил:
- Арифметикой занимаюсь…
Он взял спичку с обуглившейся головкой и стал писать на бумажной салфетке. Станок дал точность в четыре десятых микрона. А надо двенадцать сотых. Четыре десятых минус двенадцать сотых - в остатке двадцать восемь сотых. Двадцать восемь сотых микрона!
Семенов жирно подчеркнул последнюю цифру, сломал спичку и, постучав по своей арифметике пальцем, сказал:
- Двадцать восемь! Их надо пройти до первого класса. А я их еще не прошел.
- Подожди, будем еще испытывать, - заметил Николай Васильевич.
- Это верно. Но все-таки, знаете, что-то здесь сосет… - И Семенов ткнул себя в грудь.
Увы, предчувствие его не обмануло. И на втором, и на третьем испытаниях, и на всех последующих станок прекрасно отделывал плитки с точностью до полумикрона, даже до четырех десятых. Чуть-чуть не до конца. Но последние двадцать восемь сотых микрона оставались для станка неуловимыми. Это последнее «чуть-чуть» должна была снимать человеческая рука. И тогда получалась превосходная, первоклассная плитка, против которой ни Ольга Николаевна, ни Надежда Васильевна не могли ничего возразить.
Но разве об этом мечтал Семенов? А тут вот оказываются неуловимые двадцать восемь…
Удивительно, сколько можно ломать иногда голову над каким-нибудь числом. 28… Ведь все возможности станка использованы. В полной мере осуществлен поплавок. А остается 28. Плавная, лифтовая передача. Все равно остается 28. Встречное движение плиток, кадриль. И все-таки 28. Упрямое число отвергало все его ухищрения.
Но можно было взглянуть на то, что сделал Семенов, и несколько иначе. Станок его уже сейчас позволял механизировать три четверти всего процесса. Всю так называемую предварительную доводку, включая и ту операцию, где шумела «таскалка». А ведь это целый переворот.
Такой взгляд и отстаивал Леонид Николаевич. Со всей своей вежливой настойчивостью он доказывал в дирекции, что нужно строить еще два - три станка и ставить их на производство.
Ему приходилось выслушивать мнения:
- Ах, эта ваша семеновская затея! Все равно приходится доканчивать рукой. И стоило огород городить!
- Стоило, - с твердой вежливостью отвечал Леонид Николаевич.
…Прошел год. Картина цеха заметно изменилась. Все-таки еще три станка изготовили по семеновскому образцу. Их поставили всей четверкой вместе, в рабочий ряд, и они защелкали, зашелестели, дружно обкатывая плитки. Теперь они, эти станки, стали в цехе как бы центром производства.
Верстаки потеснились в сторонку, прижались к стенам. За верстаками теперь подбирали как бы только остатки.
Станки выполняли огромную долю работы. Они заменили множество человеческих рук. Никогда еще цех не выпускал такого количества плиток, хорошо отделанных, почти доведенных до конца. Почти до конца…
Машинная сила привлекала к себе людей. Особенно молодые горели этим желанием: оторваться от верстака, от томительного рукоделья и стать, распрямившись в полный рост, за станок, где человек свободно, независимо ведет, направляет умный, ладный механизм. Пробовали свои способности за станком и Виктор Дунец, и Тося Семенецкая, и Паша Петрыкица… Они входили в тонкости механической доводки, но никому не удавалось перешагнуть последний барьер точности в двадцать восемь сотых микрона.
Постепенно все как-то свыклись с тем, что, видимо, так и нужно: станок выполняет почти всю работу, а потом только немножко доводит рука. Последний лоск.
Семенов был очень занят практическим освоением станков. Обучал желающих, подправлял в механизме разные мелкие детали. И за всем этим как будто меньше стала теребить его мысль о цифре в двадцать восемь сотых. Не было уже той боли и остроты. Он даже склонен был прислушиваться к похвалам: как ловко справляются его станочки со всей процедурой предварительной доводки!
И вдруг он поймал себя на страшной мысли. Неужели и он успокоился, примирился? Предал свою собственную идею! Мечтал о полной победе механизма над рукой, а под конец уступил, стал утешаться половинным успехом!
Вся картина перемен в цехе приобрела для него другую окраску. Станки выполняют подавляющую часть работы. Но эта часть - наиболее простая, грубая. За верстаками подбирают только остатки. Но в этих «остатках» и заключается весь фокус доводки. Там, в погоне за последними частицами, рука наводит идеальное зеркало, решающие штрихи. И пройти эти ничтожные двадцать во-семь сотых куда трудней, чем все предыдущие «микронные версты». Там все еще властвует неповторимая нежность руки, которая держит в своих пальцах весь процесс, как на замке.
Нет, он не может с этим согласиться. Он не забыл изобретательского долга. Его станок получит нежность окончательной доводки. Должен получить.
И снова начались для Семенова дни и ночи беспокойных раздумий, поиски «секрета нежности». Снова число «двадцать восемь» дразнило воображение.
Решающий опыт
Они заперлись в отдельной угловой комнате, рядом с цехом, и колдовали там с утра до вечера над станком - Дмитрий Семенов и Алексей Ватутин.
Началось с того, что Ватутин подошел однажды в заводском саду к одиноко сидевшему на скамейке изобретателю и, поправив для значительности очки, неожиданно проговорил:
- А что, если станок проверить как следует? По всем швам…
Семенов с удивлением взглянул на молодого слесаря. Вот уж не ожидал именно от него такого предложения!
Алексей Ватутин уже вырос за это время из разряда просто способных пареньков. Он вошел в тот круг цеховых людей, в ряды лекальщиков, про которых на заводе говорят: «О, этот - чистокровный!» Его уменье тонко рассчитывать и отделывать любую фигурную деталь стало широко известным. Плитки, выходящие из-под рук Ватутина, отличались безупречным зеркалом. «Хотите на заказ? Сниму один микрон», - предлагал он в шутку. Брал плитку и, не отрываясь, сразу, за несколько движений, без всяких поправок, снимал ровно один микрон. «Хотите полмикрона?» - и снимал опять сразу точно пять десятых. «У меня такая чувствительность в пальцах», - объяснял он непосвященным. А на самом- деле это был строгий расчет, анализ всех составных элементов: и качества притира, и дозы смазки, и количества движений, и нажима на плитку рукой. «Второй Кушников», - говорил о своем приятеле Виктор Дунец.
Алексей Ватутин не работал па семеновском станке. Он по-своему любил верстак, любил творить именно рукой тонкое художество окончательной доводки. Охота за последними дольками микрона его страстно увлекала. Но он знал станок, обшаривал его не раз, просто так, из любопытства. И всегда с улыбочкой, будто хотел сказать: «А все-таки до руки-то не хватает!»
«Вот такой-то мне сейчас и нужен, дотошный критик», - подумал Семенов и ответил:
- Попробуем.
И они с Ватутиным быстро договорились.
- Опять эксперименты? - возразили в дирекции. - Ну, знаете ли…
Многие действительно примирились с тем, что станок исчерпал свои возможности: позволил механизировать три четверти процесса, ну и хорошо. А что там немножко доделывают рукой - беда небольшая. Не одни плитки так. Немало деталей на производстве приходится вот так же после всех станков «причесывать» еще вручную, чтобы навести окончательный глянец. Чего же тут и со станком зря мудрить!
А какой довод мог выставить сейчас Семенов? Раньше, когда он добивался проведения опытов, у него была определенная идея, реальный проект, разрисованный на бумаге. А теперь что? Одно желание еще раз что-то попробовать, смутная надежда. Он говорил:
- Возможно, придется исследовать режим работы.
Исследовать режим! Это звучало расплывчато, неубедительно.
Не было Леонида Николаевича с его вежливой «пробивной силой». Леонид Николаевич уехал в Ленинград, на «Красный инструментальщик», развивать там производство плиток. Новый начальник цеха, Михаил Пахомович Демидов, должен был один обивать официальные пороги. Добрый, миролюбивый Пахомыч! Он возвращался в цех иногда с таким лицом, что Семенов спрашивал:
- Что случилось?
- Ничего особенного, - бурчал Пахомыч. - Пришлось поспорить.
В конце концов он все же переспорил. Ему разрешили провести в цехе еще один эксперимент. Но разрешили в виде уступки: пусть там раз навсегда убедятся, что окончательная доводка станку не по зубам.
Узнав об этом, Семенов только молча покривился. Он понял, что ему предоставляется последняя возможность приспособить станок к окончательной доводке.
С тех пор он и затворился с Ватутиным в угловой комнате, водворив туда станок. Никто больше в комнату не допускался. Даже Виктор Дунец должен был спасовать перед закрытой дверью, несмотря на всю силу приятельских отношений.
Здесь, в этой комнате, предстояло совершить такое тонкое, до мелочей, расследование, что надо было отгородить его, изолировать от всех посторонних влияний. «Опыт в чистом виде», - назвал Семенов. Несмотря на летнее время, окна были наглухо закупорены, чтобы не проникала пыль. Светлые шторы - от солнца.
Они решили исследовать именно режим работы на станке. Постараться найти условия, при которых можно получить самую высокую точность. И продвигаться по порядку, от элемента к элементу - давление поплавка, обработка поверхности притиров, форма притиров… Каждый раз брать что-нибудь одно и не двигаться дальше, пока не станет ясно, как же это влияет на точность.
- Ну, начнем, пожалуй, - неловко пошутил Семенов, стараясь скрыть волнение, и, нагнувшись над тетрадью испытаний, проставил первую отметку: «5 июля. Давление верхнего притира».
Началась упорная, напряженная и вместе с тем почти неслышная, невидная борьба. Борьба за точность. Борьба, разгорающаяся в мире ничтожно малых величин.
«6 июля. Давление верхнего притира».
«7 июля. Давление верхнего притира».
«10 июля. Давление верхнего притира»…
Изо дня в день. Опыт за опытом. Продвижение микроскопическими шажками. То какой-то застой, возврат к началу - и снова попытки продвинуться. Каждое новое условие проверяется в работе, на плитках: даст ли это возможность перешагнуть через барьер в двадцать восемь сотых микрона? «0,28» - написано жирно красным карандашом на обложке тетради, как главная тема испытаний, как задача.
Но вот запись:
«21 июля. Давление верхнего притира. Давление установлено в 1,4 килограмма. Точность обработки - 0,31 микрона».
Не 0,40, как было вначале, а 0,31.
Ватутин поднял усталое лицо от зеркальной глади притира и проговорил:
- Девять сотых, кажется, отвоевали.
Девять сотых микрона за полмесяца. Первый скачок через барьер.
До нужной цели, до точности первого класса, оставалось все же достаточно: девятнадцать сотых.
Потом начались записи: «жесткость притира», «жесткость притира»… Дни перевалили уже в август. Только на четвертом числе появились долгожданные слова:
«4 августа. Притир взят наибольшей жесткости. Точность обработки - 0,25 микрона».
Еще шесть сотых захвачены в упорной борьбе.
До цели остается тринадцать сотых. Но эти тринадцать не хотели никак поддаваться. По тетради нервно царапал семеновский карандаш: «Результатов не дало», «Результатов не дало»… И через несколько дней опять тот же вывод: «Расчет не подтвердился».
Все словно замерло на точности в 0,25. А надо было 0,12 микрона - непременное требование первого класса. Упрямый, неодолимый остаток в тринадцать сотых. «Я не суеверный, - говорил Ватутин, - но тринадцать - роковое число».
А календарь отсчитывал неумолимо: вторая неделя августа, третья неделя… В эти дни неудач, сомнений и тревог Семенов вполне мог оценить характер своего помощника. Ватутин только ожесточался в сети трудностей, весь как-то подбираясь, и, пригнувшись еще ближе к станку, к его притирам, остро, колюче всматривался в работу. Вот она, выдержка лекальщика!
На третьей неделе бесплодных поисков вдруг наметился какой-то сдвиг с мертвой точки. Робкий, едва ощутимый. Они изменили немного дозу смазки, и световая волна на поверочных стеклах стала не очень уверенно, но все-таки отмечать выигрыш в две - три сотых микрона.
Семенов поставил в тетрадке только две сотых: для верности. Можно считать, до цели остается одиннадцать. Только одиннадцать шажков в сотую долю микрона.
Но чем дальше, тем двигаться труднее - слишком уж тонкая началась материя. «Хоть на молекулы считай!» - едко усмехался Ватутин.
Но нельзя останавливаться. Надо двигаться вперед, во чтобы то ни стало вперед, к цели, пока хоть что-то самое малое удалось опять нащупать и пока это малое не ускользнуло.
Сама природа будто восстала против них, стремясь сорвать опыты. В тетрадке беспрерывная запись: «Наружная температура +32°, +33°». И так каждый день в самые решающие недели. Атмосфера в комнате становилась такой, что и плитки и приборы, чувствительные к температуре, начинали фальшивить. А какой же может быть тогда разговор о сотых долях микрона!
Приостановить опыты? Но тогда все пойдет насмарку н все придется потом начинать сначала.
Семенов и Ватутин ходили в палатки, торгующие мороженым, просили уступить им кусочки сухого льда. А затем спешили на завод и раскладывали их по комнате, вокруг станка. Маленькие дымящиеся айсберги хоть на короткие часы насыщали воздух легкой, прозрачной свежестью. Точность опытов в самые решающие дни была спасена.
Испытание продолжалось.
«27 августа. Новый способ перекладывания плиток. Через двадцать ходов плитки перекладываются в другие гнезда через одну. Точность - 0,18».
До цели остается всего шесть сотых.
«2 сентября. Новый способ перекладывания. Точность - 0,16».
Остается четыре сотых. Четыре сотых микрона! Еще усилие…
Семенов чувствует: наступает предел. Каждый нерв натянут, как струна. Струна может лопнуть. Но он думает не о себе, он думает о товарище: как Ватутин? Дотянет ли? Выдержит ли напряжение бесконечной мелкой ловли невидимых частиц?
Алексей крепится, молчит, но все чаще снимает очки и, болезненно щурясь, протирает их подолгу платочком, будто этим хочет восстановить уставшее зрение. В ответ на беспокойный взгляд Семенова он тихо говорит осипшим голосом:
- Попробуем еще раз, - и снова утыкается в станок.
…На третий месяц испытаний дверь угловой комнаты однажды широко распахнулась, и Дмитрий Семенов быстрым шагом прошел к начальнику цеха. Тотчас вместе с ним протопал обратно Михаил Пахомович. Туда же, в комнату, проследовал чуть шаркающей походкой и старый Кушников.
- Ноль десять… - смог только произнести дрогнувшим голосом Дмитрий Семенов, когда все остановились перед станком.
Ноль десять! И все невольно теснее подступили к станку, где на открытом столе лежали готовенькие плитки.
Это уже третья партия, которую снимает сегодня Ватутин, и во всех трех партиях большинство плиток таких, что об этом кричит, поет сама запись в тетради: «…Точность обработки- 0,11 микрона». «…Точность обработки- 0,10 микрона».
В комнате стало тихо, очень тихо. Все стоящие здесь понимают без слов, что это значит. На станке освоена окончательная доводка. Станок показывал высшую точность- 0,10! Точнее, чем рука. Станок Семенова победил.
Великая минута для изобретателя. Десять лет исканий, десять лет надежд и мук, десять лет борьбы за свою мечту… И вот она, осуществленная мечта! Полностью, бесповоротно.
А что же сам изобретатель? Как встречает свою великую минуту?
Семенов стоял, чуть опираясь рукой на станок, выслушивал поздравления и похвалы товарищей. Слабая, рассеянная улыбка играла на его осунувшемся лице.
Вдруг он провел ладонью по щеке и, подмигнув Ватутину, заметил:
- Кажется, не мешает побриться.
Он подошел к окну, раздвинул шторы. Светлый луч скользнул в комнату и, упав на зеркало маленькой плитки, отразился веселым зайчиком.
История не повторяется
1952 год
На завод приехали китайские делегаты. Члены промышленных комитетов, мастера, рабочие. Люди Народного Китая!
В скромных синих куртках военного покроя китайские гости выглядели почти по-солдатски, с солдатской решительностью на смуглых, обветренных лицах.
После всех жестоких битв им предстояло провести еще одну, труднейшую: построить на своей освобожденной, истерзанной и великой, как океан, земле новую жизнь. Счетная линейка и рабочий инструмент служили им теперь оружием.
«Пятилетка!» - говорили китайские делегаты, и слово это звучало в их устах с такой же надеждой, как и двадцать с лишним лет назад для первых строителей советской индустрии. Народ Китая приступил к созданию первого пятилетнего плана строительства.
Гости шли по цехам завода., ко всему внимательные, с записными книжками в руках. Они хотели узнать русский опыт, учиться новой технике, новой организации работ.
На верхнем этаже заводского корпуса подошли они к участку, который стоял как бы в стороне от всех, отгороженный двойными стенами. Участок измерительных плиток.
- Можно войти? - спросили гости.
- А то как же! - ответил старший мастер участка Виктор Иванович Дунец. - Эти стены не от друзей, а от пыли. Секретов тут больше нет. Прошу, товарищи!
В светлом, просторном помещении с большими окнами во всю стену стояли рядами станки, аккуратные, светлые, чем-то похожие на подвешенные винтовые прессы. Люди в белых халатах спокойно, не торопясь управляли их работой. И по участку тихо плыла неповторимая механическая музыка: мягкий шелест плиток, скользящих между притирами.
Перед глазами гостей открылось уникальное производство, созданное желанием и упорством простых заводских людей. Производство, которое перешагнуло через все иностранные секреты и отменило одну из самых цепких мировых монополий: под натиском плиток, стекающих с этих станков, рухнуло господство господина Иогансона.
Не увидеть больше на участке ни длинных верстаков, ни согнутых фигур за ними, прикованных к бесконечному рукоделью. Ручная доводка здесь исчезла совсем. Ее целиком заменили «станки конструкции Д. С. Семенова», - как стали писать в учебниках и технических трудах.
Станки выдержали все испытания. Они превратили кустарное ремесло в передовое массовое производство. И те же люди, которые бились когда-то вручную над тем, чтобы изготовить в день хотя бы три - четыре плитки, - те же люди достигли на станках невероятных результатов.
- Наши отличницы… Петрыкина, Семенецкая… - представил китайским гостям старший мастер. - Они снимают со станка по триста плиток за смену.
- Триста?! - повторили с изумлением гости и записали цифру в блокноты.
Станки прошли испытания войны. Они проделали долгий путь эвакуации на Восток. В морозы и снегопад рабочие укрывали их собственной одеждой. А на новом месте, где завод расположился в здании бывшего театра, им пришлось ютиться около директорской ложи, в тесном, маленьком фойе. Мокрые простыни над станками защищали от невыносимого уральского лета их капризную, деликатную работу.
Они выдержали и самые серьезные сравнения. Когда открылось наконец то, что придумали заграничные механизаторы доводки, можно было сличить свое и чужое. Семеновский поплавок оказался непревзойденным…
Петрыкина и Семенецкая, снимая готовые плитки со станка, осторожно протирали их ваткой с бензином, затем полотенцем. Зеркало тонкой отделки сверкало на свету чистым блеском.
Гости склонились над плитками. Вот они, заветные плитки, несущие на себе непогрешимую меру длины! Как нужны они сейчас, эти «ключи точности», там, в родном Китае!
Там страна у порога первой пятилетки. Перестройка хозяйства, новые заводы… Растет свое, китайское, промышленное производство, растут культура и точность работы. А «ключи точности» в чужих руках - плитки японские, плитки американские… Плитки старого, колониального режима. Как же сбросить с себя эти маленькие стальные оковы? Как познать самим секреты высшей точности?
Разве не та же загадка возникла перед людьми Китая, какая стояла когда-то и перед советской техникой, перед героями нашего повествования на заре пятилеток? Разве история не повторяется?
Нет, история не повторяется!
Старший мастер Виктор Иванович Дунец громко предупредил:
- Сейчас пройдем по всем ступенькам, как идет технология! Вы всё увидите, товарищи.
И он повел гостей по линии станков.
- Если что непонятно, прошу спрашивать, - был слышен его звонкий, возбужденный голос.
Слушая объяснения русского мастера, гости осторожно, с каким-то почтительным вниманием вникали в существо удивительного процесса. И столбики иероглифов росли и росли в их записных книжках.

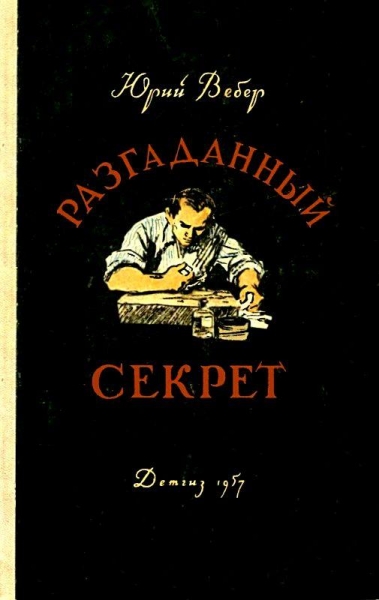









Комментарии к книге «Разгаданный секрет», Юрий Германович Вебер
Всего 0 комментариев